ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Аляска была продана США за 7200000 долларов. Так дешево?.. Да нет! — гораздо дешевле, если сосчитать, сколько человеческих жизней, сколько сил стоила она России! А, пожалуй, и не так дешево, если принять в расчет, сколько кроме этих 7200000 долларов рассовало американское правительство по карманам разных «влиятельных» особ, стоявших на разных ступенях царского трона.
В истории русского капитализма вопрос об Аляске — одна из интереснейших страниц.
В течение полутора столетий тянулись к Аляске жадные руки русских авантюристов. Эти руки шарили по далеким холодным берегам полуострова, но только поверху, не вторгаясь в недра Аляски.
Русские люди гнались за драгоценными мехами, но не знали того, что Аляска хранит в себе огромные запасы золота.
Потом руки отдельных хищников соединились — образовалась компания финансистов под названием «Российско-Американская компания». С этого времени хищничество приняло широкий и организованный характер: зверей избивали беспощадно, туземцев теснили, душили, сознательно вели их к гибели, к вырождению.
Но и «Компания» не знала о существовании золота на Аляске или, точнее, не подозревала об его количестве.
Однако более умелые хищники, и самые предприимчивые из них — американцы, разнюхали об аляскинском золоте, но сумели долго держать эту тайну Аляски про себя и в то же время повели такую политику, которая должна была вытеснить Россию с американского материка.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Детство и юность
— Урра!.. Делавары!.. Попал! Принят! — орал Илья Маклецов, увидев на Старопонтонной своих двух приятелей, босоногих мальчишек.
— Вре?! — воскликнул один из его приятелей, Тишка, который вообще был скептиком.
— Здорово! — заорал радостно второй, обладавший натурой восторженной. Он сразу поверил, что их товарищ, Ильюшка Маклецов, выдержал вступительные экзамены в Морской корпус — попал в список «принятых»… Ильюшка понесся ураганом по Старопонтонной, завернул в Якорный переулок и подбежал к маленькому деревянному домику за № 23… На домике была железная, уже проржавевшая дощечка, на которой с трудом можно было прочесть: «Сей дом принадлежит вдове штурмана дальнего плавания. Андрея Ивановича Маклецова, Марии Кузьминишне Маклецовой».
Ильюшка ворвался в калитку и сразу попал в объятия лохматого Пирата, который с радостным визгом и лаем кинулся к нему на грудь.
— Попал, Пиратушка!.. Ей богу, попал!.. Поздравь! — вопил Илья, целуя Пирата в морду… И вдруг он оттолкнул Пирата и замер… Сияющее радостное лицо мальчика сразу омрачилось… Он заметил, что в их садике какая-то тряпка, висевшая на заборе, вдруг, при его появлении на дворе, словно сорвалась куда-то вниз и исчезла в соседнем саду.
— Ленка! Опять ты черемуху ломаешь? Вот погоди, я тебя! — завопил он яростно, забыв все на свете… Дело в том, что соседская девчонка, Ленка Мишурина, постоянно таскала черемуху из сада Маклецовых. Крала и яблоки «белый налив», который доверчиво протягивал свои ветви через забор из сада Маклецовых в соседний садик Мишуриных. Несмотря на постоянную, многолетнюю борьбу Ильи с Ленкой, упорная девчонка не унималась… Не мешали ей даже острые гвозди, наколоченные на заборе Маклецовых остриями вверх.
— Я тебе покажу! — грозился кулаком Ильюшка, подбежав к забору и заглядывая в соседний сад.
— Покажешь! Фига тебе! — кричала издали бедовая Ленка. Она была недовольна быстрым и неожиданным возвращением Ильи…
— А вот и посмотришь! — зловеще крикнул Илья.
И в тот же вечер Ленка ревела над своим любимым белым котом Маркизом, который стараниями Ильи был превращен в «бенгальского тигра» — вымазан охрой весь и с головы до конца хвоста разрисован черными полосами!
…А на другой день — величественный зал Морского корпуса… Бесконечно длинные ряды кадетов и гардемаринов с ружьями. Посреди зала стоят они, «новички», в тесных новеньких мундирчиках, в белых штанах со штрипками… Стоят навытяжку… Дохнуть боятся… И гремят, ревут, заливаются трубы, фанфары и морские рожки… Блестящая толпа многочисленного начальства, в крестах и звездах, с лентами через плечо, в расшитых золотом черных мундирах… Во главе — старенький адмирал Телятев, начальник Корпуса… Он что-то говорит новичкам, а что, — сам черт не разберет!.. Шамкает что-то…
…В утомленную голову Ильи вдруг полезли мысли о Гавани.
Двенадцать часов сейчас.
Там, в Гавани, сейчас ребята играют в городки, а он с бритой головешкой, задыхаясь в тесном мундирчике, стоит, проглотив аршин, круто повернув шею, выпучив глаза на какие-то неведомые ему черные мундиры, расшитые золотом…
Лезет другая назойливая мысль…
…Ленка бессовестно ломает черемуху, сидя верхом на заборе (там место есть одно, без гвоздей… эх, забыл! Надо было набить!)…
…К прошлому нет возврата. Как все это прошлое далеко, далеко!
…Новые товарищи. Чужие лица. Стройный породистый князь Холмский, этот еще ничего!.. Носа не задирает. Кажись, простой… А вот князь Чибисов да еще не просто Чибисов, а Чибисов-Долгоухий!.. Или граф Потатуев — оба дрянь!.. Форсунишки!.. Барон фон-Фрейшютц… Длинный, белобрысый и надменный… Сволочь!.. В Гавань бы его заманить!.. Ну хоть бы на полчаса… Вот бы «делавары» ему шею наковывряли!.. Все сынки генералов, адмиралов. Все фамилии, бьющие в нос славой отцов и дедов!
Но кроме них, этих баловней фортуны, конечно есть и свои. Дети так сказать «морской демократии», обер-офицерские дети. Их даже больше, чем аристократов. Сыновья лейтенантов и даже штурманов — этих скромных безвестных тружеников моря, которых в случае их смерти просто вычеркивают из списков и которым никаких памятников никогда не ставят…
Илья был штурманским сыном, то есть принадлежал в Корпусе к самой низшей социальной категории, и потому держался в стороне от аристократов… Те подкатывали к Корпусу на собственных рысаках, разговаривали друг с другом по-французски, по-английски, а Илья и его «братия» плелись пешком, иностранных языков не знали, да и по-русски-то говорили иногда на гаванском диалекте.
Ротный командир Ильи, лейтенант Калугин, по-видимому, был большой стервец. Кривляка, всегда надушенный и припомаженный, влюбленный в самого себя, он постоянно зорко всматривался в лица кадетов, — все смотрел вокруг себя, не смеется ли кто. Это был его «пунктик». Всякий смех он принимал на свой счет, — над ним, де, смеются. И за каждую даже беглую улыбку посылал воспитанников в карцер, а то и на «барабан», то есть под розги к боцману Дудке, специалисту по экзекуциям.
Конечно, князья и графы этим унизительным наказаниям не подвергались. Калугин, скрепя сердце, разрешал им не только улыбаться, но и смеяться (и как злоупотребляли этим правом сиятельные!), но тем горше приходилось детям скромных обер-офицерских чинов!
Розги в Морском корпусе (как и во всех прочих учебных заведениях тогдашнего времени) процветали вовсю.
Даже курьезы происходили.
Одного кадета, как раз из роты Ильи, выдрали три раза в течение часа. Читал молитву, соврал что-то: слово или пропустил, или переставил — выдрали. Заставили повторить молитву. Опять, бедняга, соврал, и опять на том же месте. Выпороли еще раз! В третий раз читает — опять та же история! Еще раз впрыснули! И каждый раз все солонее!..
Старый адмирал, директор Корпуса, добряк, но вовсе выживший из ума, подарил кадетам коньки, по десяти пар на роту. Кажись, катайся вовсю? Нацепили коньки. Пошли вензеля на льду вырисовывать. А ротные командиры тут как тут! Всех, кто катался, приказали выпороть, потому, де, катанье на коньках регламентом Корпуса не предусмотрено. Иди к директору, жалуйся!
Преподаватели были из рук вон плохи — заставляли все «брать на зубок» — от «энтих до энтих». И если кадет вставлял в ответ свои слова или менял порядок слов, ответ его признавался неудовлетворительным, а в результате — порка и оставление без отпуска!
— Ты, брат, завирайся! Главное, ты не умничай! Не глупей тебя люди книги писали. Говори, как в книге, — ворчал Марк Фомич Гарковенко, учитель истории, колотя серебряной табакеркой по маковке отвечавшего.
Этот Гарковенко, по крайней мере, различия не делал — барабанил своей табакеркой не только «демократов», но и «аристократов» (последних, кажется, даже с особым удовольствием).
Маклецов учился из первых. Отставной капитан 2-го ранга Тихон Кириллыч Смагин, проживавший в Гавани, друг их дома, сумел хорошо подготовить Илью к Корпусу. Поэтому Илья на первом курсе знал больше, чем требовалось, и в первый год пребывания в Корпусе почти и не учился. Тем сильнее налег он на чтение, — накинулся на разные путешествия, особенно на морские и по преимуществу в северные моря, — его с детства тянуло туда, где безвестной смертью погиб его бедный отец.
Однажды во время урока истории он зачитался путешествиями капитана Кука. Вдруг табакерка Гарковенко пребольно ударила его по черепу.
— Ты это что? Это что у тебя? Покажь-ка!..
Растерявшись, Илья схватился за голову (этот черт Гарковенко умел ударить в самые чувствительные места) и пролепетал:
— Ка… Ка… питана Ку… Кук!..
— Ка-ка? Ку-кук? Хо, хо! — загрохотал Гарковенко, а вслед за ним весь класс.
— Ка-ка! Ку-кук!
— Ну и будь отныне «кукуком», — радостно воскликнул преподаватель.
Так и стал Илья Маклецов в Корпусе «капитаном Кукуком», или попросту: «Ку-куком». Это прозвище так и осталось за ним до окончания курса.
В первый же отпуск Илья вернулся в родную Гавань совсем другим человеком — словно за одну неделю его переродил Морской корпус. К Пирату отнесся свысока-покровительственно и даже ругнул его за то, что он обмазал мордой форменные белые штаны. Увидев на заборе Ленку, доламывающую последнюю черемуху, он отвернулся и ничего не сказал, будто не видел. Только по сердцу злость царапнула…
В Корпусе «капитан Кукук» был на хорошем счету и потому редко попадал на «барабан» (а все же вначале несколько раз налетел!). Все свободное время сидел он с книгами или внимательно изучал Морской музей при Корпусе. Там собраны были великолепные модели морских военных судов, много было картин, изображающих знаменитые морские баталии, много было портретов разных адмиралов и капитанов, прославивших свое имя. Но особенно интересовали Илью манекены, одетые в меховые костюмы инородцев далекого севера — камчадалы, алеуты, чукчи — все в рост человека. Они стояли перед Ильей жутко неподвижные в своих узорчатых мехах и смотрели безучастно куда-то в пространство своими стеклянными глазами. Из этих манекенов у Ильи был один любимец — кенаец с Аляски, с широким желтым лицом и косыми узенькими монгольскими глазами… Почему-то около него «капитан Кукук» стоял всегда особенно долго…
…В корпусе Илья держался в стороне от товарищей даже своего круга. Только с князем Вадимом Холмским он как-то сблизился, но и то не по своему желанию — князь, по-видимому, сам упорно искал с ним сближения.
Странный был юноша, этот богач, аристократ, князь, Рюрикович по крови. Ему противна была спесь юношей его круга, которые в обращении с товарищами низшего происхождения всегда старались дать им почувствовать свое сословное превосходство.
Всякая такая выходка «сиятельных» всегда больно задевала князя Холмского, и он, словно в пику им, тянулся к товарищам, в жилах которых не было ни капли «голубой крови».
Если не было у них этой крови, то была сила духа, был ясный разум и было знание жизни — и это сознавал Вадим Холмский.
Он мало интересовался морскими науками — к путешествиям был равнодушен, у него рано появились какие-то книги, которые он читал тайком от товарищей и умел их прятать. И никто в Корпусе не знал, что читает Вадим.
Первые места в Корпусе занимали, конечно, княжичи, графчики, барончики, адмиральские сынки — все фавориты ротных командиров. Благородные зады сиятельных были освобождены раз навсегда от порки, и высшие баллы сыпались на них, как из рога изобилия. Обер-офицерские сыновья каждый балл брали с бою, и все-таки к ним придирались все: и преподаватели, и ротные.
Илья со всеми был ровен и мягок и от всех был равно далек. С первого курса он почувствовал себя как-то старше других. Большинство его товарищей еще были мальчишки, а у него была уже определенная цель жизни — плавать у берегов Камчатки и Аляски, бороться со льдами Северного Ледовитого океана. Эта ребяческая мечта, с которой он пришел в Корпус, благодаря чтению, с годами выросла и укрепилась. Товарищи его мечтали о сверкающей лазури Средиземного моря, а «капитана Кукука» кенаец из корпусного Музея, подмигивая ему косыми глазами, звал к себе на далекий север, обещая раскрыть нераскрытые тайны вечно холодного неприветного моря.
Князь Вадим Холмский сумел победить строптивое сердце Ильи. Между ними завязалась дружба, но странная: она долго ограничивалась стенами Корпуса, в гости к сиятельному товарищу в его барский особняк на Английской набережной Илья не шел, и в Гавань к себе его не приглашал.
…Шли годы… Не шли, а летели!.. Мать Ильи на глазах старела — тяжело переживала она потерю мужа! На их домике прибавилось плесени на фундаменте… Крыша словно стала прогибаться. Самый домик как будто понемногу вростал в землю… Ленка уже перестала воровать черемуху и яблоки… «Капитан Кукук» перестал ее третировать, — стал звать, как все — Леной, даже изредка Леночкой… Прошло еще года два, и однажды он назвал ее Еленой Павловной. И оба почему-то вдруг покраснели. С «ты» они перешли на «вы». Детство кончилось, наступила юность…
Однажды осенью он, улыбаясь, преподнес ей целый ворох спелой черемухи. Елена Павловна покраснела и засмеялась, взяла этот огромный пук, сказала: «Мерси» и прибавила: «Вы, Илья Андреевич, сделались любезнее и добрее. Куда девалась ваша скупость?»… Помолчала и задумчиво прибавила: «Знаете, а я все еще люблю эту черемуху. Быть может, потому, что в детстве было так трудно и так опасно добывать ее из вашего сада?». Оба засмеялись и задумались…
…Илья уже гардемарин. Только что вернулся из плавания… Высокий, серьезный, с лицом умным, энергичным и резко очерченным. Он стоял около Елены и держал ее за руку.
Она — красивая стройная девушка, с лицом строгим, даже грустным…
Они говорили о будущем, которое свяжет их молодые жизни в одну. В их отношениях не было мятежной страсти, не было глупой влюбленности — было взаимное уважение, была безграничная дружба, скрепленная ясным сознанием, что у обоих одна цель жизни.
…Как за эти шесть лет много изменилось в Гавани! Старый будочник Евстигней растерял последние зубы, — уже не говорил, а шипел. Теперь он вскакивал, когда мимо будки проходил Илья, вскакивал и нелепо салютовал блестящему гардемарину своей неповоротливой, непослушной алебардой. А шесть лет назад он раз здорово надрал Илье уши, — грозился даже крапивой выпороть.
Его товарищи «индейцы» устроились кто куда — кто в фельдшерском училище, кто в мореходных классах… Говорили уже хриплым басом, обзавелись трубками и свирепо смолили махорку.
Таинственные подарки
За эти годы произошло одно важное происшествие: мать Елены перестала получать и без того редкие письма от своего мужа, который плавал на дальнем Востоке на судах Российско-Американской компании штурманом на шхуне «Тюлень». В последних письмах Павел Кузьмич писал жене, что скоро приедет в Гавань, выйдет в отставку, будет жить на пенсию… Писал еще как-то неопределенно, что де слава Богу, вернется «со средствами». И вдруг… зловещее молчание! Год прошел, другой… нет вестей!
Отправилась Марфа Петровна в правление Российско-Американской компании справиться, в чем дело. Там ее огорошили известием, что де со шхуной «Тюлень» произошло несчастье: часть экипажа пропала без вести. По предположению секретаря, в числе пропавших приходится считать и штурмана Мишурина, так как о нем никаких сведений нет.
— Мы производим еще следствие, — добавил секретарь безучастным голосом, глядя куда-то в сторону. — Российско-Американская компания не жалеет средств на спасение своих служащих… О последующем вы, сударыня, не извольте беспокоиться, — вы будете уведомлены своевременно. Имею честь!
Ничего она больше так и не узнала, только ей стали выдавать вместо половинного жалования мужа пенсию в «усиленном размере» — на 10 рублей в месяц больше обычного.
Марфа Петровна Мишурина потеряла голову: вдова она или нет? Панихиды ей служить или молебны?
И вот однажды утром в будни, когда гаванские улицы почти безлюдны, так как все жители заняты делом, кто в городе на службе, кто в огороде копается, кто хлопочет по хозяйству, кто рыбку удит на взморье, у домика Мишуриных остановилась «гитара»… С нее соскочил какой-то господин почтенной наружности с седыми бакенбардами и поспешно вошел в домик, стукнулся лбом о косяк и спросил, здесь ли обитает Мишурина Марфа Петровна. Не говоря больше ни слова, вручил ей какой-то пакет, вышел из дома, сел на свою «гитару» и укатил.
В конверте оказались тысяча рублей и записка, никем не подписанная, в которой было сказано, что штурман Мишурин жив и находится в плену. Кроме того, в записке была просьба не доискиваться, кто послал деньги. Марфа Петровна отслужила благодарственный молебен и спрятала деньги в перину.
Прошел год… И ровно в тот же день повторилась та же история: опять задребезжала «гитара», опять тот же почтенный господин соскочил с нее, вошел в дом Мишуриной, опять треснулся головой о тот же косяк, передал Марфе конверт с одной тысячей рублей и также быстро исчез. Опять Мишурина отслужила молебен за здоровье плавающих, путешествующих и плененных вообще, а за раба Павла в частности, и запрятала новую тысячу в ту же перину. «Леночке на приданое», сказала она со вздохом.
Никому в Гавани она об этих таинственных ежегодных подарках не сказала, кроме соседки Маклецовой Марии Кузьминишны. Только ей и рассказала. Хороший человек была Маклецова, сердечный и спокойный. Горе своего преждевременного вдовства несла безропотно, и всю свою неизрасходованную любовь перенесла на единственного сына Илью. Обеих женщин-соседок связывали и сходство характеров и судьба их мужей — и тот и другой были моряками, служили в Российско-Американской компании, плавали в Беринговом море, и там, вдали от семьи, где-то далеко боролись и погибали во льдах и снегах… С одинаковой покорностью годами ждали их возвращения жены, оставленные в Гавани, и обе покорно склоняли свои головы перед злыми прихотями капризной судьбы.
Ничего не подозревая о тысячах, лежащих в перине, Елена знала от матери, что ее отец жив. И вот к мечтам Ильи плавать во льдах Берингова моря присоединилась упорная мечта Елены — отправиться на поиски отца… Молодые люди решили обвенчаться и ехать вдвоем на поиски Мишурина. Илья надеялся устроиться на службу в Восточно-Сибирскую флотилию, а затем перейти на службу в Российско-Американскую компанию.
Так детская любовь к Северному морю, тяга к безвестной могиле отца теперь в глазах Ильи укрепилась определенным стремлением дорогой его сердцу девушки, — отыскать отца, вырвать его из лап каких-то неизвестных хищников.
Вадим Холмский
Гардемарина князя Вадима Холмского тоже тревожили мечты, но совсем другие. Они, однако, с такой же силой овладели его умом и сердцем и так же наполнили все его существование.
Он начитался сочинений Сен-Симона, Фурье и бредил картинами будущего человеческого благополучия. Он верил, что придет время, когда не будет знатных и богатых, когда все будут равны…
И вот на дому у него, в его уютном кабинете, в отдельном флигеле стали собираться по субботним вечерам такие же мечтатели, как он сам. Восторженные речи… Горящие глаза… Бестолковое махание руками и всклокоченные волосы… И совершенное недоумение старого княжеского камердинера Фрола Саввича, который был приставлен к молодому княжичу, жил при нем «на покое». Старик в молодом князе души не чаял — называл его «мой князенька». В субботнем галдеже старик ровно ничего не понимал, даже как будто боялся каждой субботы… «Безчиние какое-то, сброд какой-то толкается, — ворчал он. — Орут, галдят, а мой князенька больше всех. Ох, не к добру это! Не княжеское дело с естакой рванью якшаться…» — крутил головой старик, однако из любви к своему «князеньке» никому ни слова о странных субботних собраниях не сказывал.
Пробовал, было, Вадим затянуть и Илью в свой кружок. Побывал Илья раз, два — и перестал ходить — не понравилось ему общество: какие-то крикуны дурачливые! Не понравились и речи. Социальные утопии показались ему несбыточными, не по душе пришлись. Но дружба с Вадимом за эти годы гардемаринства выросла и окрепла. Разные были они люди, а что-то связывало их. Несколько раз запросто побывал Илья у Вадима, но в дни свободные от заседаний кружка.
Побывал и Вадим в Гавани и очаровал обеих старух — Маклецову и Мишурину. Их шершавые трудовые руки поцеловал неожиданно для них, чем обеих поверг в совершенное смущение. От перепуга после княжеского поцелуя стали фартуком руки обтирать. Елене он тоже по душе пришелся. Пил чай с малиновым вареньем, ел с аппетитом сдобные булки домашнего печенья.
Но особенно поразил он сердце гаванских девиц, чиновничьих дочерей.
В Гавани все знают. Когда Вадима ждали к Маклецовым, местные барышни откуда-то уже пронюхали, что к Маклецову Ильюшке приедет товарищ «настоящий князь» и притом «хорошенький, как андел». Сейчас же принарядились в шуршащие накрахмаленные ситцевые платья, на шейки одели праздничные косынки, разноцветными бантиками и ленточками себя приукрасили, надушились духами — кто «резедой», кто «гвоздикой», кто «жасмином» — и все столпились на углу Якорного переулка и Старопонтонной. Ждали. И сердечки у них стучали: тук-тук! Когда же показалась вдали коляска князя (Рысак! Серый в яблоках! А кучер! Мать честная, что за кучер! Бегемот, а не кучер!), все взвизгнули и разбежались, за заборами попрятались и смотрели на князя в заборные дырочки. Из всей толпы на улице удержались немногие, похрабрее которые. Те, обнявшись парочками, троечками, стали прогуливаться по Якорному переулку, заглядывая в окна дома Маклецовой. «Галан», «Манифик», «Миловзор», «Душоночек» — так определили наружность Вадима гаванские барышни.
На широкий простор жизни!
Между тем подошло и «производство»: гардемарины превратились в мичманов. Мичманский мундир, черный с золотым шитьем. Кортик на боку, а по праздникам — палаш! На голове треугольная шляпа с черным султаном.
Теперь для Гавани окончательно куда-то в небытие провалился Ильюшка, исчез и Илья Маклецов, сперва кадет, потом гардемарин, и на их место вдруг откуда-то взялся Илья Андреевич Маклецов, мичман императорского российского флота, жених Елены Павловны Мишуриной…
— И что он в ней нашел? — недоумевали гаванские барышни, делая кислые гримаски. — Худая и вовсе без авантажа…
На Английской набережной в доме князя Холмского отпраздновали «производство». Отец Вадима открыл для молодежи все свои хоромы. Вадим пригласил всех — весь свой курс. Огромный зал, весь сплошь в зеркалах до потолка, залит был светом бесчисленных свечей, блистал позолотой… Вдоль всего зала протянулся огромный стол. Ужин был изысканно-великолепный… Лучшие повара столиц показали свое искусство (старый князь был гастрономом). Вин — бесконечное количество, и все лучших заграничных фирм! Фрукты, ликеры! Шампанское без счета… Лакеи в изящных фраках и в черных шелковых чулках и бальных туфельках, бесшумно скользящие по сверкающему узорному паркету!
Собрались все — весь Корпус, от князей, графов и баронов до последних по рангу сыновей штурманов дальнего плавания. И кончилось все свинством. «Сиятельные» первые напились и распоясались: раздались пошлые, пьяные, хвастливые речи, обидные для товарищей «париев». Хозяин пиршества Вадим, бледный, с туго сжатыми губами молчал и кипел негодованием. Илья ушел одним из первых, унося в душе большую горечь обиды. Вадим его провожал, пожал ему руку крепко-крепко и сказал:
— Прости, друг! Не думал я, что они — такие свиньи! Извини! — И в голосе его задрожали слезы обиды и гнева.
— Ну, полно, Вадим. Ты тут при чем? — сказал Илья.
Они крепко поцеловались.
— Придешь в четверг на мою помолвку, в мою идиллическую Гавань, которая тебе так нравится? Мать Елены настаивает, чтоб до нашей свадьбы была еще помолвка. Обычай де такой. Мы с Еленой уступили. Придешь?
— Обязательно, — отвечал Вадим, улыбаясь.
Российско-Американская компания
В четверг назначена была помолвка Ильи и Елены, а в среду состоялось годичное заседание пайщиков Российско-Американской компании.
Программа заседания была выработана такая:
1) Слово его высокопреосвященства Олимпия, архиепископа иркутского, камчатского и аляскинского, почетного председателя Общества распространения православной религии среди инородцев Сибири и Северной Америки.
2) Доклад председателя Российско-Американской компании адмирала Е. В. Бывалова-Закронштадского: «Общий взгляд на состояние дел Российско-Американской компании».
3) Доклад секретаря правления Российско-Американской компании: «Подробный отчет о финансовом состоянии компании» (доходы и расходы компании).
Архиепископ Олимпий открыл заседание кратким молением о ниспослании благодати на все дела и предприятия компании. Иеродиакон Уриил утробным басом провозгласил многолетие всем членам и пайщикам компании и в заключение проревел моление о «благорастворении воздухов и изобилии плодов земных» (под «плодами» в данном случае подразумевались звериные шкуры). Певчие архиерейские спели концерт на тему «Многая лета». Затем архиепископ, не желая утруждать присутствующих, прочел по бумажке своим елейным голосом самый краткий ряд цифр, свидетельствующих о том, что в истекшем году в далекой Аляске апостольствовали во славу церкви 23 миссионера, из коих 6 восприяли мученический венец от оспы, хлада и прочих уважительных причин (между прочим от белой горячки, о чем владыка умолчал). В лоно церкви за истекший год принято 233 языческие души, из коих 77 мужского пола, 68 — женского и 87 малолетних отроков и отроковиц. Затем владыка с тяжким воздыханием сообщил о прискорбном факте существования конкуренции церквей в деле распространения христианства: миссионеры католические и протестантские всеми способами сманивают не только язычников-туземцев, но и тех, кто уже вступил в лоно православной церкви, — спаивают спиртом, дают порох и ружья, прельщают суетными дарами — бисером многоцветным, стеклярусом, медными телесными украшениями, и пр., и пр. Для усиления миссионерского дела в Аляске, а также для успешной борьбы с миссионерами других вероисповеданий архиепископ испрашивал ассигновку в 5000 рублей.
5000 рублей были отпущены без споров, единогласно, но не только без всякого воодушевления, но даже с ироническими улыбочками и с некоторым двусмысленным покряхтыванием.
Потом на кафедру взошел адмирал Ермолай Бенедиктович князь Бывалов-Закронштадский и начал свою речь так:
— Ваши императорские высочества, ваши сиятельства, ваши высокопревосходительства и превосходительства, милостивые государыни и государи!
Все это он выговорил довольно бойко и уверенно. Но дальше речь его пошла хуже. Пыхтя и запинаясь, он прежде всего сообщил, что валовой доход за год равняется 120% на сторублевый пай. По залу пронесся радостный вздох, вырвавшийся из многих грудей. Раздался одинокий возглас какого-то несдержанного энтузиаста: «Ого!.. Здорово!». Восклицание вызвало шипение некоторой части публики. Сконфуженный энтузиаст смолк и стал выражать свой восторг сперва тем, что радостно потирал свои колени, а потом стал тереть колени соседей.
Адмирал продолжал:
— К прискорбию моему… ээ… должен предупредить, что… эээ… что в предстоящем году предстоят… эээ… особые расходы и кроме того… эээ… вообще доходы компании находятся… эээ… под угрозой (тревога в зале), усиливается конкуренция… Со стороны американских и английских промышленных компаний конкуренция… эээ… эта, — тянул адмирал, — к прискорбию нашему, принимает формы… эээ… совсем недопустимые. Не только, так сказать, на коммерческой почве… но дело доходит даже до вооруженных столкновений. Туземцев вооружают ружьями. Порох дают… эээ… восстанавливают против агентов компании. Были случаи посылки в наши воды корсаров, которые… эээ… вступают в открытые столкновения с судами Российско-Американской компании и… тово… этого топят даже!..
В зале началось движение. Заговорили вслух. Резко выделилось негодующее восклицание:
— Какая наглость!
С другого конца зала отозвался чей-то генеральский бас:
— Проучить мерзавцев!
У владыки засверкали гневом заплывшие глазки и правая ручка сжалась в кулачок. Он вдруг вспомнил Самсона, который ослиной челюстью перебил тьму нечестивых филистимлян.
Свой доклад адмирал закончил просьбой разрешить правлению взять из доходов компании 200000 рублей на усиление «боевых средств» компании и, кроме того, открыть кредит по этой же статье на 20000 рублей на случай экстренных нужд.
Оба предложения были приняты без возражения, но с явным неудовольствием.
После некоторого колебания опять просил слово владыка, который заявил, что в виду новых фактов, сообщенных досточтимым председателем, он обращается с ходатайством увеличить отпущенный кредит на распространение православия с 5000 рублей до… ну… хотя бы… 10000 рублей.
Раздались сдержанные протесты, кто-то, по-видимому, от чистого сердца воскликнул: «Ого!». Но встал какой-то штатский сановник (по-видимому, синодский) и стал доказывать, что культурные нации всегда порабощают некультурные, и при том главным образом с помощью религии, а потому денег жалеть на дела религиозной пропаганды нельзя.
— Всегда, — скрипел он своим сухим деревянным голосом, не допускающим возражения, — всегда впереди идет священник с крестом, за ним — купец с товарами и спиртом, а за ними и воин с мечом!
В зале проворчали и отпустили 10000 рублей.
Потом на кафедру впорхнул изящный молодой человек, секретарь правления, камер-юнкер двора граф Благово-Плохово и прочел подробный доклад о добыче и убытках за истекший год. Добыто столько-то бобров, столько-то соболей, столько-то чернобурых лисиц.
Все эти цифры, говорящие о беспощадном избиении зверей в лесах и льдах далекой русской Америки, ласкали слух собравшихся пайщиков компании. У многих даже глаза заблестели, щеки лосниться стали… Улыбались… Бобровые воротники, шапки, собольи манто, шубы на чернобурых лисицах! Увлеченные обольстительными картинами, пайщики плохо слушали скорбные цифры потерь компании. Столько-то из служащих умерло от оспы… столько-то убито туземцами, пропало без вести, убито в боях с пиратами… Это так скучно и неинтересно!..
Оживились и стали вслушиваться, когда дело дошло до жалованья служащих. Решительно восстали и отклонили предложение правления увеличить жалованье. Общая сумма прибавок — 34 — 40 рублей на человека показалась чудовищной, неимоверной, вызвала негодование! Отклонили…
Еще больше неудовольствия вызвал вопрос о повышении пенсий старым служащим, их вдовам и сиротам.
Но тогда с трудом встал совсем ветхий адмирал Загибин (у компании за какие-то услуги на пенсии состоял), влез на кафедру, кашляя и перхая, и стал доказывать, что увеличить пенсию надо, так как служба на севере — служба трудная. Он сам плавал. Знает… Вот нос отморозил (и адмирал показал всем пальцем на свой сизый нос). Потом он стал рассказывать о трудностях охоты на китов. Потом… потом он говорил, говорил что-то и никак не мог остановиться. Под конец в зале перестали слушать старика. Начались разговоры вслух. Звонки председателя. Наконец, адмирал закашлялся, закашлялся… потом махнул рукой и поплелся на место.
Однако прибавка пенсии прошла. «На мороженый нос», — сострил кто-то довольно громко. Постановлено было увеличить ее кругом по два рубля на человека и предоставить правлению распределение этой прибавки по своему усмотрению, — «по заслугам» пенсионеров.
Кто-то пожелал узнать, на какую сумму в год выдается пенсий. Оказалось на 80910 рублей…
— Многовато! — сказал вопрошавший, тяжко вздохнув.
Архиепископ тоже недовольно покрутил головой.
— Не умирают… Не хотят, — сострил краснощекий генерал Бутыркин, и сам первый захохотал.
— Мы живучи… Мы проморожены, — прохрипел адмирал Загибин.
В конце своего доклада секретарь сообщил, что за всеми расходами пайщики получат за истекший год дивиденда 25 рублей на сто.
После колоссальных цифр произведенных расходов никто, по-видимому, не ожидал такой высокой цифры дохода, и поэтому зал огласился шумными аплодисментами. Единогласно принято было чье-то предложение благодарить правление. Аплодисменты и крики: «Спасибо!» Шум и радостный гвалт. Заседание закрыли, и веселая толпа полилась рекой по широкой лестнице вниз. Поделилась на группы — сговаривались, куда поехать подзакусить и выпить за процветание Российско-Американской компании. Прекрасное, здоровое коммерческое предприятие!.. И патриотическое и выгодное!..
Закрытое заседание
Но не все торопились уйти — задержалось человек шесть. Из разных углов зала сошлись и стали таинственно шептаться… Дождались, пока утих последний шум, долетавший снизу из шинельной. Как заговорщики, сгрудились теснее, и адмирал Суходольский предложил всем шестерым ехать к нему на квартиру.
— Есть серьезный разговор, — сказал он.
На квартире адмирала собрались в его кабинете. Он приказал вестовому подать чаю, потом запретил ему входить в кабинет, «Никого не принимать!» — сказал он.
Когда чай, печенье и графин рома были принесены, адмирал сам проводил вестового, собственноручно запер на ключ обе двери и вполголоса стал говорить:
— Я буду краток, господа. Вот в чем дело. Оттуда (адмирал махнул рукой куда-то на запад) я получил предложение задерживать во что бы то ни стало нашу колонизацию в Америке. Угрожают репрессиями и укоряют нас в бездействии… Это первое. А второе, — он еще понизил голос, — нам предлагают… одну, по-видимому, очень выгодную комбинацию. — Все придвинулись ближе к адмиралу и насторожились. — Оказывается, есть основание думать, что Аляска — второе… Эльдорадо!.. Там найдены следы золота!..
— Золота!? Золота?! — зашипели на разные лады сидевшие вокруг. И глаза у всех загорелись огнем алчности.
— Совершенно конфиденциально, — предупредил адмирал и поднял указательный палец и даже посмотрел поверх гостей на двери… Кое-кто из сидевших тоже с тревогой обернулся.
— Нам предлагают паи в обществе, в предприятии по добыче золота, организуемом пока негласно в Нью-Йорке. Но дело вот в чем: общество это не может приступить к работе, к изысканиям, пока… пока в Аляске будет хозяйничать Российско-Американская компания. Конечно, мы не сможем сразу сорвать всю работу компании, но нам предложено постепенно парализовать ее активность. Мы должны всеми мерами стремиться к тому, чтобы интересы к деятельности компании постепенно падали, чтобы правительству нашему в конце концов н а д о е л о возиться с этой Аляской. Вот, например, дурак Мериносов, — эту фамилию морского министра адмирал произнес с ненавистью, — хочет осенью послать туда к берегам Аляски целую эскадру. О н и, конечно, это уже знают и негодуют, — о н и считают это в ы з о в о м. — Адмирал понизил голос. — Мне пишут, что в крайнем случае они еще допускают посылку о д н о г о судна. — Адмирал криво усмехнулся. — Вот вам первая задача: не допустить посылки эскадры. Это — п р и к а з о т т у д а. Это — первая услуга, которой от нас требуют и которая будет о п л а ч е н а. Вы знаете прекрасно, что к обещаниям о т т у д а надо относиться с полным доверием…
— Мериносова надо заставить взять… абшид… отставка, — сухо сказал вице-адмирал барон фон-Фрейшютц.
— Но кого на его место? — воскликнул адмирал Суходольский.
— Ну… хоть вас? — процедил сквозь зубы барон и уставил в Суходольского свои бесцветные, немигающие глаза.
— Нет, нет! Только не меня… Увольте, барон! — воскликнул Суходольский. — Я против ответственных постов. Вот если бы вас, барон?
— О! Я тоже против ответственных постов, — сухо ответил барон.
— Нам нужен министр не из н а ш и х, — сказал какой-то штатский сановник, протирая золотые очки, — но такой… знаете… чтобы в наших руках был.
Помолвка в Галерной гавани
Илья, Елена и мать Ильи были против помолвки, но Марфа Петровна настояла.
— Люди осудят, — говорила она. — Обычаев старых нельзя ломать! Вы вон поженитесь, — говорила она Илье и дочери, — да и улетите, а нам с Марьей Кузьминишной с людьми жить. Хоть соседей, да позовем. Деньги, слава. Богу, имеются, — хвастливо добавила она.
Помолвку решили устроить в домике Марфы Петровны (побольше в нем места было). Кроме тех почетных гостей, которые присутствовали у Маклецовых на обеде по случаю производства Ильи, Марфа Петровна пригласила еще надворного советника Петра Петровича Козырева, столоначальника в каком-то департаменте, Ульяну Петровну Пышкину с двумя дочерьми — Любинькой и Машенькой. На случай, ежели будут танцы, позвала Марфа Петровна и трех кавалеров, самых элегантных гаванских молодых чиновников: Кожебякина, Алтынова и Левкоева.
Все они когда-то были теми «презренными собаками-сиуксами». Жан Кожебякин был в свое время вождем «сиуксов» — тем самым «Кровавым клювом», которому ловким ударом когда-то разбили его «клюв» в кровь на «острове Мести». Теперь это был длинный зеленый чиновник со впалой грудью и лошадиным профилем, большой сердцеед в Гавани и лучший танцор (один сезон он даже за плату в Шато де Флер отплясывал). Между прочими в числе его достоинств следует отметить, что он не прочь был «пофранцузить», то есть загнуть при случае французские словечки. У него была сестрица, засидевшаяся в девицах, но еще не потерявшая надежд. Ее звали мамзель Агат (попросту Агафьей Ивановной). Она тоже была приглашена.
Весело было у Мишуриных. Вадим сумел овладеть сердцами всех гостей — был так внимателен к старым чинодралам, надворным советникам, что те от его почтительности совсем растаяли. «Примерный молодой человек, его сиятельство», — отозвался о нем Петр Петрович и даже подозвал легкомысленного Кожебякина и прочел ему короткую нотацию, поставив в пример скромность поведения князя Холмского.
Вадим до того был любезен с девицами, что те млели от восхищения.
— Душка и ангел, — вот блистательный аттестат, выданный гаванскими девицами князю Холмскому.
Зная, что князь будет на помолвке, они даже альбомы свои принесли в надежде, что он напишет на память стишки какие-нибудь.
И он всем написал что-то очень чувствительное.
Ох, эти альбомы гаванских девиц! Чего-чего в них не написали гаванские кавалеры! Но в особенности отличались сами девицы: вместо «взор грустный» писали: «взор гнусный», вместо «роз душистые кусты» — «раздушистые кусты».
В любинькином альбоме Жан Кожебякин четким канцелярским почерком намахал «экспромт»:
«Желаю вам я счастия земного,
Когда вы будете жена, —
И на штыке у часового
Горит полнощная луна!»
В альбом Машеньке тот же поэт размахнулся таким четверостишием:
«Взял листок и написал —
Верст сто тысяч отмахал!
И нигде не отдыхал!
Все о вас, Мари, мечтал!»
Вадим не претендовал на такое самостоятельное творчество — он хорошо знал Карамзина, Жуковского, оттуда и взял стишки для альбома, добросовестно отметив, откуда взяты его стихи.
С молодыми чиновниками Вадим исправно пил разноцветные настойки и своим простым свободным обращением совсем покорил их чернильные души. «Добрый малый», «Простыня-парень» — вот как характеризовали Вадима юные «рыцари гусиного пера».
Устроилась кадриль. Дирижировал, конечно, Кожебякин. Мамзель Агат Кожебякина оказалась без кавалера. Брат ее, заметив, что она сидит, надувшись, подлетел к ней и заговорил с ней «по-французски», озираясь победоносно на Вадима.
— Ма сер!
— Ке? — бросила она недовольно, обмахиваясь веером.
— Пуркуа нон дансе?
— Кавалер нон вуле, — отвечала вызывающе мамзель Агат, передернув сухими плечами.
Сказала нарочито громко и кинула «гнусный» взгляд на Вадима, который стоял около попа протоиерея и покорно слушал тягучую, но, по мнению попа, весьма для молодых людей назидательную речь. Князь поймал красноречивый взгляд тоскующей Агаты и протанцевал с ней кадриль, не имея даже визави.
Но «душой вечера» был Жан Кожебякин. Развязность его — результат публичного воспитания в Шато де Флер — довела его до самых рискованных фокусов ногами, или, как он сам называл эти фокусы, — «кренделей». Девицы хихикали, повизгивали, когда его длинные ноги, облаченные в клетчатые брюки, взлетали вверх. Молодые чиновники ржали и апплодировали. Вадим хохотал и искренне веселился. Илья хмурился и в то же время не мог сдержать улыбки. Петр Петрович Козырев, начальник Кожебякина, хотя и восхищался ловкостью подчиненного, но в то же время явно беспокоился и говорил протоиерею:
— Того и гляди брюки лопнут.
На что протоиерей отвечал успокоительно:
— Господь милостив, авось выдержат!
Восхищенная успехами брата, который в этот день, можно сказать, превзошел самого себя, Агат обратилась к Вадиму, указывая на брата:
— Биен дансе?
И Вадим, стараясь соблюсти гаванский прононс, отвечал:
— Тре бьен.
— Э же? — спросила она кокетливо.
— Осси, — отвечал Вадим.
После танцев был ужин. И здесь, за столом, Жан Кожебякин завладел общим вниманием: девицам направо и налево говорил комплименты, угощал Петра Петровича и старых дам, рассказывал анекдоты, произносил спичи, один остроумнее другого. Очаровал всех. Затмил князя. Под конец ужина предался детским воспоминаниям, рассказал, как под предводительством Ильи «делавары» украли у купавшихся «сиуксов» лодку и штаны. При слове «штаны» Устинья Прокловна зашипела и стала рассказчику глазами показывать на барышень, но Кожебякин несся уже дальше — повествовал о своем носе, разбитом в бою. Кончил свои воспоминания он патетическим обращением к Илье:
— Где же ваши «делавары», Илья Андреевич? Все на дно спустились, да там и пребывают! А мы, «сиуксы», — он сделал красивое движение рукой от своей груди к двум другим чиновникам, — мы, «сиуксы», в люди вышли.
После ужина сплясали еще польку-трамблян под аккомпанемент хоровой песни «Что танцуешь, Катенька» — и разошлись…
…Светало. И на бледном предутреннем небе уже меркла, склоняясь к горизонту, большая круглая луна. Гости разбрелись. Матери улеглись спать, утомленные суматохой. Илья же, Елена и Вадим долго еще сидели на скамеечке у ворот дома. Сидели до тех пор, пока розовым золотом не покрылась бледная лазурь неба. Они говорили о том, что ждет их в жизни. Для Ильи и Елены все было ясно: свадьба и служба на Дальнем Востоке, у берегов Камчатки и Аляски. Илья поедет морем, — ему обещали кругосветное плавание в этом году, причем эскадра зайдет в Берингово море, там он сойдет на другое судно. Елена приедет к нему сухим путем, через всю Сибирь, в город Охотск. А дальше, что бог даст!..
Вадим слушал их бодрые речи, в которых все было так ясно, и грустно молчал, — у него в будущем не было ничего определенного — ничего, кроме сознания, что жить так, как живут его родители и люди его круга, нельзя, и так жить он не станет. Он ненавидел монархический строй, презирал жизнь аристократии, особенно придворной. Крепостное право, на котором держалась вся тогдашняя жизнь, возмущало его до глубины души. Фантазия рисовала перед ним великолепный замок будущего человеческого счастья, основанного на началах свободы, равенства и братства. Но где пути к этому замку? Как до него добраться? И доберется ли он, князь Холмский? Вот какие мысли и сомнения волновали Вадима и грустью обволакивали его юношескую душу.
Судьба по-своему распорядилась его фантазиями и мечтами. По доносу одного из самых усердных и самых красноречивых посетителей его суббот в квартире его был произведен обыск, сам Вадим был арестован, — и «в виде особой милости и в воздаяние заслуг его отца перед престолом и отечеством» мичман князь Вадим Холмский был только разжалован в рядовые матросы и определен на службу в дальневосточную флотилию «впредь до усмотрения». Предварительно до этого решения Вадим отсидел две недели в Петропавловской крепости.
На свадьбе Ильи не он был шафером. Эту почетную обязанность с успехом исполнил Жан Кожебякин.
На другой день после помолвки около домика Марфы Петровны остановилась карета. Из кареты выскочил господин, на этот раз с деревянным сундуком в руках. Он вошел к Марфе Петровне, вручил ей сундучок и пакет и поспешно скрылся. В пакете было письмо, которое подтверждало прежние сообщения, что ее муж жив и, кроме того, было сказано, что сундучок, доставленный ей, принадлежит ее мужу и все, что в нем находится, — тоже его собственность.
Марфа Петровна дрожащими руками вскрыла сундучок и нашла там белье мужа, кое-что из его одежды, две книги, какие-то морские инструменты и больше ничего.
Посылка этих старых, по-видимому, никому ненужных вещей совершенно сбила с толку Марфу Петровну. Почему у кого-то в Петербурге оказались вещи ее мужа, который сидит на Аляске?.. Что обозначает присылка этих вещей?.. Наконец, к т о этот таинственный незнакомец, который знает какие-то т а й н ы об ее муже?.. Почему о н (а Марфа Петровна была уверена, что это все о н) посылает ей ежегодно крупные деньги?.. Марфа Петровна растерялась совершенно.
— Главное надо узнать, к т о прислал сундук, — сказал Илья. — Он, наверное, знает какие-нибудь подробности о Павле Ефимовиче. Может быть, знает точно, где он. Это нам с Леной знать необходимо!
— Но как это узнать — вот вопрос!
— А Кузьмич? — воскликнула Елена. — Может быть, он возьмется?
— В самом деле, — сказал Илья. — Надо обратиться к нему!
— Ну, конечно, к нему! — воскликнули в один голос Марья Кузьминишна и Марфа Петровна.
Гаванский следопыт
Замечательный был человек этот Кузьмич, исконный гаванский обыватель.
Виду был он, правда, неказистого, — на крысу немного смахивал. И голова потешная: бороденка клочками, с боков вихрастая, а посреди — плешина.
Глаза у него были острые, пронзительные, можно сказать, всякого он насквозь видел, без различия пола и возраста. Голос словно придушенный, хриплый такой. Руки всегда в работе: то сапоги чинит, то кому-нибудь на штаны заплатку ставит, то табак трет, то лёску крутит… Сидит день-деньской на скамеечке у ворот и по сторонам все зыркает. Работать работает, а сам нет-нет да и зыркнет. А то и в землю смотрит, в грязь…
— Эге, — скажет и носом этак многозначительно шмыгнет, — а у Ивана-то Петровича каблук сбился, — (это он по следу узнал. Всех соседей следы знал. Такой примечательный был)!
— А вот это, — говорит, — Павлушка, должно, в кабак подрал. Гм… гм… сидит еще там. Подождем.
— Ну и почему это вы, Аким Кузьмич, все это знаете? — бывало спросят его.
— А по следу, — отвечает, — у всякого человека след свой, а поступь разная бывает… Душа евонная в поступи и скажется. Коли ты с благоговением в храм божий идешь, то след твой чистый будет, не сумнительный какой, ясный, от носка до каблука ровный и торопки в нем нет. А коли ты в кабак бежишь, след твой совсем ненормальный выходит. Вишь?.. Смотри… Бежал человек… павлушкин след… и скривил его… во! Озирался, значит, жена не видит ли. Опять же из кабака след совсем другой будет. Конечно, это опять же, смотря сколько человек в себя пропустит. А уж во всяком случае ровности не будет… и упор больше на каблук будет. Потому носок не держит пьяного. Да и линия ломаная выходит всему следу… потому его в стороны бросает.
Проходит мимо Кузьмича Иван Петрович.
— Здрасьте, Иван Петрович!
— Ну, здрасьте.
— Позвольте, — говорит Кузьмич, — я вам каблучок освежу, а то обувь спортите.
— Какой тебе черт нашептал, что у меня каблук сбился? Ах ты, хрыч старый!
— А это, — говорит Кузьмич, — мой секрет! — а сам подхихикивает. — Зайти за сапожком? К утру готов будет.
…Возвращается из кабака Павлушка… Идет гордо, прямую диверсию изо всех сил соблюдает.
Увидал Кузьмича, бодрости еще больше напускает, будто ничего… дескать м и м о кабака шел… А сам что-то к сердцу прижимает (косушку под пальто пронести хотел. Да куды, к черту, мимо Кузьмича пронесешь!)
— А, Павел Андреевич! — Кузьмич ему. — Ну, как там в Капернауме дела? (А Капернаумом в Гавани кабак прозывался).
— А мне и ни к чему, — отвечает Павлушка этак равнодушно, а у самого глаза бегают и голос словно прерывается, — я там сегодня не был.
— Не были? — ехидничает Кузьмич. — Хе-хе… Нут-ка угостите шкаликом. А то неровен час супруга о вашем вояже осведомится.
Скрипнет зубами Павлушка и угостит.
— Опять, молодой человек, на свиданье к Серафиме Петровне стремитесь? — останавливает Кузьмич пробегающего во все лопатки мимо чиновника Эраста Капитоныча («купидонычем» его в Гавани звали. Уж очень ухажор был).
«Купидоныч» останавливается и даже рот разевает от изумления.
— Удивляетесь моему всеведению? — усмехается Кузьмич. — По следку вашему узнал. От любовного жару на носок уж оченно упираете. На бегу, можно сказать, землю роете. Обратите сами внимание… Не след, а колдобинки какие-то-с! Опять же бергамотным маслицем от вас разит. Напомадились. Хе-хе! И галстучек вон небесного цвета.
Купидоныч возвращается к Кузьмичу, присаживается и нежно говорит ему:
— Ты, Кузьмич, ужо зайди. Штаны там возьмешь. Заплату надо поставить. Зад просидел.
…Боялись Кузьмича в Гавани все, у кого совесть была нечиста. Дамы особенно на него злобствовали, ворчали:
«И что это за чума проклятая, старик этот несчастный! Жить не дает».
И сколько раз эти дамы даже кое-кого подговаривали, чтобы Кузьмичу шею намять как следует. Да Кузьмич умел с такими «бойцами» разговаривать и так дело оборачивал, что всегда уходили они от него, хвост поджавши.
И при всем том скучал Кузьмич в Гавани до ужасти. Все-то он про всех знал. Всех-то насквозь понимал. Для него в Гавани круговорота подходящего не было! И друзей-то у него настоящих здесь не было. Из страха его кормили да в «Капернауме» поили. Старые бабы колдуном его считали, лопотали, что с чертом де Кузьмич ведается. Только, конечно, ерунда все это было. Просто такой уж у него талант был, глаз такой примечательный. Простой, обыкновенный человек тысячу раз мимо забора пройдет и ничегошеньки не приметит, а Кузьмич посмотрит.
— Эге, — скажет и носом шмыгнет (привычка такая уж у него была), — эге, гвоздь-то на заборе скривился… А вчера ровно стоял (все, черт старый, помнил). — Ммм, — мычит, — а это что? — и тащит с гвоздя кусок нанковой материи приличного цвета. Ясно, от мужских панталон модного рисунка!
— Чьи бы это штаны? — Думает, думает, припоминает, припоминает и вспомнит: — Володькины! Ей-богу, Володьки Свистоплясова!.. Гм… А почему Володька Свистоплясов через забор лазил? — И пойдет, и пойдет… Тьфу!.. даже самому, под конец, тяжко сделается. А с Володьки за починку штанов сдерет.
…Вот к этому Кузьмичу и обратилась Марфа Петровна за помощью. К себе его пригласила, графинчик водочки воздвигла со всеми принадлежностями: селедочку там с гарниром, редисочки в сметанке, груздочков поставила. Ну, одно слово все, как следует, и чай с крендельками.
Пришел Кузьмич, взором все окинул, носом шмыгнул этак многозначительно, а сам думает: «Дело сурьезное. Целкачом пахнет». Однако виду не показал. Видит — Илья с Еленой являются.
— Здравствуйте, — говорит Илья, и обе руки Кузьмичу протянул.
Кузьмич, конечно, руки ему пожал и говорит:
— Здрасьте, гордость наша гаванская, краса гаванских палестин! Скоро плавать вокруг света отправитесь? Слышал я, что вы уж на ходу, так сказать?
— Скоро, скоро! — ответил Илья, улыбаясь.
— Милости прошу, Петр Кузьмич, к столу. Закусите, чем бог послал.
Марфа Петровна так ласково приглашала, что Кузьмич стал изумляться все больше и больше: к почету он приучен не был.
«Чего она меня так обхаживает? — думает. — В чем дело? — в догадках путается. — Этак по милости господней, пожалуй, и трешницу с них сорву», — думает.
Закусил, чаю выпил. Ждет, в чем дело. Приготовился, табаку нюхнул. Носом шмыгнул. Все, как следует.
— Вот в чем дело, — тянет Марфа Петровна. — Совет ваш нужен и помощь. Дело выходит казусное.
— Внимаю, — говорит Кузьмич и голову набок скривил (всегда так слушал, ежели что важное было). А потом и говорит: — Ежели дело сурьезное, лучше бы с глазу на глаз?
— Ничего, — говорит Марфа Петровна, — все свои!
«Нну, — думает Кузьмич, — коли здесь столько народу интерес имеют, сорву и красненькую».
И рассказала ему Марфа Петровна все, как было: как карета приезжала, как из кареты господин вынес сундучок ее покойного мужа, ей вручил и укатил. Рассказала и про то, как в письме сказано было, что муж ее Павел Ефимыч жив и в плену томится.
Перекрестился Кузьмич, — знал он Павла Ефимыча прекрасно.
— Ну, и слава богу, что жив, — говорит. — Где же он?
— Вот мы и думаем, — говорит Марфа Петровна, — что тот, кто сундук прислал, должен это знать… В Америке, говорят, а где в точности — не знаем. Вот мы к вам, Петр Кузьмич, и обратились…
— Это что же? — говорит Кузьмич, — мне что ли в Америку ехать — супруга вашего искать? — Увольте, — говорит, — ни за какие коврижки не поеду!..
— Об этом мы вас и не просим, — говорит Марфа Петровна, — а вот вы узнайте, к т о сундук прислал. Может, через него узнать можно все доподлинно.
Посмотрел на нее Кузьмич и говорит:
— За это дело возьмусь. Но, — говорит, — предваряю: должен все знать, как на духу… Писем не присылали ли вам каких раньше? или посылок? — спросил, а сам смотрит в глаза ей в упор.
Замялась Марфа Петровна, потом под взором его и вовсе смутилась.
— А коли не хотите сказать, — говорит Кузьмич, а сам встает, — так я за это дело и браться не могу. — За шапку взялся. — За хлеб, за соль благодарствую, а помогать, — говорит, — извините, не берусь. До свиданья вам.
Повертелась, повертелась Марфа Петровна, однако все рассказала. Тут и Илья с Еленой в первый раз узнали, что Марфа Петровна два раза по тысяче рублей получала от неизвестных.
Задумался Кузьмич, а потом и говорит:
— А покажите-ка мне все записки и конверты, что у вас сохранились… Сохранили, чай?
Оказывается, все сохранила Марфа Петровна. Похвалил ее Кузьмич.
Взял конверты, старые с последним стал сравнивать. Мычит… носом шмыгает… Понюхал даже… Записки прочел.
— Почерк, — говорит, — меняли. Только узнать возможно… Та же рука… женская. По записке, видать, женщина хорошая, в вас участие принимает. И сундук, должно, от них же.
Расспросил Марфу Петровну насчет того, как тот господин из себя выглядел, который письма привозил и сундучок.
— Письма все седой привозил, а сундучок рыжий привез, — говорит Марфа Петровна. — Румяный такой… а росту одинакового.
— Ну, в парике, значит, и подкрасившись, — ответил Кузьмич. — Дело известное. Не надуешь.
Посидел, подумал, на Марфу Петровну посмотрел и говорит:
— Ну, что ж? За дело ваше возьмусь. Только дело ваше казусное… Сколько же с вас за хлопоты взять? — Сказал и смотрит. Ждет.
А Марфа Петровна опять растерялась.
— Да уж, право, я и не знаю.
— Катеньку, — меньше нельзя, — бабахнул Кузьмич и сам словно струхнул: уж очень сумму значительную ахнул.
Марфа Петровна руками всплеснула:
— Да, что ты, — говорит, — побойся бога!
— Меньше, — говорит, — нельзя. Потому дело ваше тысячное и хлопот с ним немало будет. Может, недели две сплошь повозиться придется. Да-с.
Марфа Петровна, конечно, думала, что дешевле будет стоить. Думала, на красненькой отъехать. На Илью смотрит, что тот скажет.
— Хорошо… Согласны, — говорит Илья, — действуй!
— Вы-то согласны, — говорит Кузьмич, — а вон хозяйка-то помалкивает. Как она?
— Да уж согласна, — говорит Марфа Петровна и рукой только махнула, известно, жаль ей сотни-то.
— Ну, коли и вы согласны, так значит все в порядке, — сказал Кузьмич. — Можно и за дело приниматься. Что в сундучке-то? Чай, смотрели?
— Да пустяковина разная, — ответила Марфа Петровна, — барахло всякое.
— Ну, ладно, — говорит Кузьмич. — Оставим сундук до завтра. На солнечном свету надо смотреть, а то при коптилке как тут разберешь? Да и работать на свежую голову лучше, а я три рюмочки пропустил. Завтра утром зайду.
— А вот насчет кареты… что скажете? Собственная?
— Наемная.
— Ну, а номер какой?
— Да не к чему было. Не посмотрели.
— Эх, вы! Ну, а лошади?
— Разноцветные. Одна белая, другая вороная.
— Гм… Ну, а карета какого цвета?
— Да синеватая такая, побитая.
— Ну, а извозчик?
— Да обыкновенный, борода рыжая…
Кузьмич помолчал.
— Ну, а кто еще, окромя вас, карету видал?
— Да ребятишки соседские вертелись. Ванька да Сонька Доброписцевы.
— А-а! вот это хорошо!.. Ну-с, покедова, досвиданьица. До завтрева, значит.
Пошел Кузьмич домой, по дороге к будочнику Евстигнею Акимычу Громову завернул.
Будочник у будки сидел и смеялся так, что слезы у старого по мохнатым щекам текли. Алебарду свою ржавую наземь кинул. Сам сидит, а между ног у него головенка Петькина торчит, — зажал Петьку коленками и заскорузлыми пальцами своими нюхательный табак Петьке в нос сует. Петька благим матом орет, ногами дрыгает, головенкой вертит!.. А Евстигней только крепче его коленками тискает:
— Вре… сукин сын… Не уйдешь, — хрипит.
— Дяденька, пусти! — орет Петька благим матом.
— Пусти? А зачем в мою курицу камнями лукал! Попался озорник! Нна!.. Нюхай, паршивец!
Петька ревел, чихал. Слезы, сопли, табак, — все это смешалось на его физиономии в какую-то омерзительную слякоть.
Подошел Кузьмич, посмотрел, укоризненно покачал головой и говорит Громову:
— Эх, ты, старый барбос… Чего ты над ребенком озоруешь?.. А еще будочник!.. Страж благочиния!.. Для порядка поставлен.
Евстигней устыдился и выпустил Петьку. Дал ему на прощанье леща по заду.
— Вот это правильно, — одобрил Кузьмич. — Вот это по закону! На то и зад сотворен… А в глаза дрянь сыпать — это безобразие.
Петька отбежал на приличную дистанцию и принялся чихать.
— Спичка в нос! — флегматично пожелал ему Евстигней. Петька издали показал будочнику грязный кукиш.
Кузьмич уселся рядом с Евстигнеем. Оба закурили трубки, и скоро облака сизого махорочного дыма покрыли обоих.
— Карету, вчерась к обеду приезжала, видал, чай? — спросил Кузьмич.
— Ну, видал, — ответил, не торопясь, Евстигней.
— Номер помнишь? — спросил Кузьмич.
— Не к чему было — не смотрел, — ответил тот.
— Ээх, ты! Тетерка ты, а не будочник! — сказал Кузьмич и сплюнул.
— Сам ты — тетерка, — отвечал Евстигней спокойно.
Помолчали.
— Какая из себя карета была?
— Старая… Зеленая.
— Може, синяя? — спросил Кузьмич.
— А, може, и синяя. Что синяя, что зеленая — это все одно. Разницы нет! — протянул Евстигней, выпуская клуб дыма.
— Эх, ты — тюря! — с презрением сказал Кузьмич. — Тысяча цветов синего есть, да тысяча зеленого.
— Разговаривай, тожа… тысяча! — Евстигней даже усмехнулся. — Тысяча!
— Куда карета поехала? — спросил Кузьмич.
— Ваньку Доброписцева спроси, он сзади прицепимшись ехал!
Кузьмич искренне обрадовался.
— А, Ванька! Вот это хорошо, — говорит, — Ваньку и спросим. Ну, прощай, кум, — обратился Кузьмич к Евстигнею, — тебе, брат, не будочником быть, а чучелом на огороде торчать!
— Поговори еще, — равнодушно ответил Евстигней. — Я те дам!
Кузьмич отправился искать Ваньку.
Испугался Ванька, когда его Кузьмич за шиворот схватил и к себе потянул. Шкодлив был Ванька, а потому всегда за собой вину чувствовал.
Стал его Кузьмич насчет кареты выспрашивать — молчит, быком смотрит.
Успокоил его Кузьмич, даже грош ему дал. Наконец, добился своего — все, что мог, вымотал у мальца.
Ну, да. Ванька висел «прицепимшись»… Номера не посмотрел, — не к чему было. А вот пукет на карете сзади нарисован был, так он, Ванька, пока ехал, куском стекла весь пукет испоганил — всю краску соскреб.
— Молодчага! — обрадовался Кузьмич и еще грош Ваньке дал.
— …А карета ехала по Большому по 17-й линии. Тут Ваньку какой-то извозчик кнутом полоснул, ну, он тогда от кареты отцепился и домой побег. Вот и все.
Утром пришел Кузьмич «на работу» к Марфе Петровне.
На всякий случай у ворот постоял — на следы кареты посмотрел. Видит, правая лошадь с одной ноги подкову потеряла. Стоит Кузьмич, на землю смотрит. Нагнулся, в травке пошарил, нет ли, мол, там чего. И что бы вы думали?.. Публика собираться стала. Чиновница Авдотья Петровна Лысухина остановилась. Инвалид Сидорыч приковылял, тоже стал смотреть.
— Ты это что, Кузьмич? аль деньги оборонил? — спрашивают.
— Тьфу! ну и народ в Гавани! — Кузьмич даже обозлился.
— Пуговица от брюк отскочила, — говорит. — Ищу вот!
Еще кое-кто подполз, тоже стали смотреть. Инвалид даже в крапиву залез, шарит, — не верит, что пуговица.
Ушел Кузьмич во двор к Марфе Петровне. А там его уж ждали. Стал орудовать. Командует: «Стол тащите! Вот сюда его… на солнышко!» Притащили стол. Сундучок вытащили. Что в сундуке было, все на стол высыпали…
Начал с сундука. Вертел, вертел… Наконец, обратил внимание на то, что в одном углу нацарапана цифра 1, в другом — 8, в третьем — 1, в четвертом — 9. На крышке сундучка нашел еще рисунок: какой-то домик, будто на горке, и крест около.
В подкладке жилета нашел трубочку из бумаги. И на бумажке опять 1819. А в морских книгах буквы некоторые подчеркнуты словно.
Взял Кузьмич трубочку бумажную и две книги, домой их понес. Велел сундучок припрятать и все, что в нем, — тоже.
…Дня через два приходит Кузьмич, туча тучей.
— Ну, что? — спрашивает Илья.
— Ерунда вышла. Бился, бился, все подчеркнутые буквы выписал, под них цифру 1819 подставил так и эдак. И навыворот ставил: 9181. Чепуха выходит! Тарабарщина какая-то. И Кузьмич протянул Илье бумажку.
Илья прочел:
«Шестьдесят пять двенадцать девять сто пятьдесят сорок пять Юноа никханат норд крест сюд три».
— Счет какой-то, что ли цыганский? — говорит Кузьмич.
Ничего не сказал ему Илья, задумался над бумажкой. Потом вдруг вскочил, по лбу себя треснул. Побежал домой, карту Северной Америки притащил и по ней пальцем стал тыкать, долготу и широту искать.
— Или здесь, — говорит, а сам на других смотрит, — или здесь, или 45, или 40 и 5. Как читать?
Никто ничего не понимает. Во все глаза смотрят, куда палец Ильи уперт. А там, на карте, — место пустое: ни горы, ни города нет! Пусто, белая бумага! Вот оказия!
Кузьмич и говорит:
— Ну, верно, на энтом месте и найдете либо Павла Ефимыча, либо клад какой! Поезжайте, авось, что и найдете. Ну, а я насчет каретки отправлюсь.
Неделю пропадал Кузьмич. Явился наконец, даже с лица спал. Однако ухмыляется и радостно носом шмыгает.
— Узнал! Все кареты питерские пересмотрел, со всеми извозчиками знакомство свел. Потрудился, одно слово!.. Те, что деньги вам посылают и сундучок, живут на Сергиевской, в доме № 19, кв. 4, а по фамилии Неведомские… Сам-то был морской капитан в отставке…
— Капитан Неведомский! — воскликнула Марфа Петровна. — Да ведь это — командир моего мужа! «Тюленем» командовал.
— Может, и он, — сказал Кузьмич, — только он померши… недели две, как померши… А осталась супруга его и сын. Взрослый… служит уже… Ее звать Валентина Иванов на, а сына — Владимир Анатольевич.
— Ну да! так и есть! капитана-то звали Анатолием, кажись, Павловичем, что ли?
Наступило молчание. Первая заговорила Марфа Петровна:
— Ну, что ж теперь делать?
— А вот, что делать, — сказал Кузьмич. — По справкам, люди они душевные. Коли хотите спокойно свои деньги получить, сколько там вам назначено, сидите спокойно, молчком, будто ничего не знаете. А коли узнать что хотите (может, они и знают), то ехать надо для разговоров обязательно. Хотите, и я с вами поеду? …От меня не отвертятся! Потому я сам крючковат. Так прямо в лоб им и вдарить. Авось, что и узнаем. А вообче ехать вам одной не годится, потому здесь как хотите, а, — Кузьмич понизил голос, — у г о л о в щ и н о й пахнет. Носом чую, — добавил он и так при этом носом дернул, что Марфа Петровна даже вздрогнула.
…В ближайшее же воскресенье Марфа Петровна и Кузьмич стояли у дверей, на которых сверкала медная дощечка с надписью: «А н а т о л и й П а в л о в и ч Н е в е д о м с к и й».
Кузьмич решительно дернул ручку звонка. Камердинер раскрыл дверь.
— Валентину Ивановну Неведомскую надобно видеть, — сказал важно Кузьмич. Он на этот торжественный случай даже у Петра Петровича его новый виц-мундир выпросил, в бане помылся, побрился, словом, вид имел авантажный.
— По какому делу? — сухо спросил камердинер. — Ежели по бедности…
— По делу личному и не терпящему отлагательства, — продолжал свою линию Кузьмич.
— Как доложить? — спросил камердинер.
— Доложите Аким Кузьмич Дерунов… с сродственницей. Так и скажите: Дерунов, мол.
Камердинер не ввел их в переднюю. Дверь перед носом захлопнул.
— Он? — спросил Кузьмич.
— Он самый, — заговорила Марфа Петровна. — И рост, и баки, и голос…
Камердинер открыл двери и ввел молча Марфу Петровну и Кузьмича в переднюю. Хотел Марфе Петровне помочь салоп снять, да она законфузилась, — не далась — сама из салопа вылезла, сама и на вешалку повесила… Вошли в гостиную. Не очень чтоб большая комната была, однако убрана великолепно. Мебель мягкая. Ковры на полу… На стенах картины. Вазы в углах наставлены китайские.
Сидит Марфа Петровна еле жива, на самом кончике кресла. А Кузьмич даже развалился этак вальяжно. Храбрость напускает.
Вошла седая дама, вся в черном, бледная; грустно так на вошедших посмотрела и спрашивает:
— Что угодно? Я — Валентина Ивановна Неведомская.
Кузьмич подскочил и рекомендуется:
— Дерунов Аким Кузьмич, а это — сродственница моя, — г о с п о ж а М и ш у р и н а. Вашего покойного супруга штурмана, без вести пропавшего, супруга, — говорит, а сам глазами хозяйку ест.
Как только дама фамилию Мишуриной услыхала, сразу в лице переменилась и даже обе руки вперед протянула, будто для самозащиты. Потом собой овладела, лицо приветливое сделала и даже улыбнулась будто.
— Чем могу вам служить? — спрашивает.
— Ну, Марфа Петровна, расскажите, в чем наше дело, — говорит Кузьмич.
— Дело наше в том, — говорит Марфа Петровна, — что я от вас, сударыня, недавно сундучок получила моего мужа.
Хозяйка опять смутилась и даже перебила Марфу Петровну:
— Позвольте!.. при чем же здесь я? Никакого сундучка я не посылала.
Растерялась Марфа Петровна, на Кузьмича смотрит — не знает, что дальше говорить.
Кузьмич видит, дело плохо, сам вмешался, говорит:
— Сударыня, мы доподлинно знаем, что и деньги, две тысячи, и сундук посланы вами. Да вы не беспокойтесь… Мы люди смирные, очень вам за все благодарны, а главное пришли узнать о судьбе мужа Марфы Петровны. В ваших письмах неоднократно вы утверждали, что он де жив. Теперь вещи его в ваших руках оказались. Ясно, что вы о супруге Марфы Петровны знаете больше, чем она сама… Сударыня, мы знаем, что вы потеряли супруга своего недели две назад. Войдите же в положение женщины — она перед вами, — Кузьмич показал на Марфу Петровну, — которая ч е т ы р е г о д а не знает ничего о муже! — И Кузьмич из кармана платок красный вытянул и к глазам приложил.
Во время речи Кузьмича хозяйка медленно подымалась, крепко держась за кресла обеими руками, словно, упасть боялась. Пока Кузьмич глаза вытирал, она уже стояла, без кровинки в лице, без движения, как статуя мраморная, смотрела куда-то поверх Кузьмича и Марфы Петровны.
Когда Кузьмич комедию с красным платком окончил и в карман его засунул, заговорила она, заговорила холодно, бесстрастно так:
— Тут есть тайна, — сказала она, — тайна, которую я не могу вам открыть… потому, что я сама ничего не знаю. Мой покойный муж унес ее с собой в могилу… Одно могу сказать, эта тайна, по-видимому, очень мучила моего мужа… может быть, ускорила его смерть!.. Почему-то мой муж считал себя в долгу перед вами и вашей семьей, и по его желанию я посылала вам деньги. Он считал, что этот долг равняется 6000 рублям. Я вам выслала 2000 — остается вам дополучить 4000. Если желаете, я могу внести эти 4000 в течение ближайшей недели, и тогда денежные отношения наши будут закончены.
Что касается до сундука, то он все время был у моего мужа. П о ч е м у, я этого не знаю. Перед смертью он распорядился о пересылке его к вам. Вот все, что я знаю.
Марфа Петровна поднялась. Но Кузьмич удержал ее:
— Конечно, сударыня, Валентина Ивановна! В таком случае, ежели тайна унесена вашим супругом, так сказать, в другой, горний мир, нам, прозябающим пока в земной юдоли, делать больше нечего. Но вот… позвольте вас задержать. Во-первых, конечно, нам желательно получить 4000, как вы изволили сказать, в течение ближайшей недели — это первое. А второе, не можете ли вы сказать, эта цифра в 6000 рублей какими документами установлена или так… на глаз… произвольно?
Неведомская ответила сухо:
— Деньги я пришлю вам в течение недели, а на ваш вопрос могу только сказать: ничего больше не знаю. Муж сказал — 6000 рублей, вот и все.
«Пиковые короли» за работой
Вопрос о посылке эскадры в «сферах» запутался. Ловко с разных сторон насели на министра Мериносова — пришлось ему отказаться от «блестящей» мысли устроить мировую демонстрацию.
Вместо эскадры решено было послать один фрегат. Выбирали, выбирали и выбрали самый старый — давно его из списка судов собирались вычеркнуть. Затянулось дело и с назначением командира. Мериносов предлагал своего любимца Накатова, другая партия проводила Налетова, третья — немецкая — Зиммеля. Волны интриг докатились до Зимнего дворца. Великие князья втянулись в эти вопросы, друг с другом поругались, лезли к императору. Надоели тому.
…Вице-адмирал барон Отто фон Фрейшютц позвал своего сына, мичмана, в кабинет, закрыл тщательно двери и сказал по-немецки:
— Карл! ты всегда был хорошим сыном. Я всегда был доволен тобой. До сих пор ты с честью нес высокое звание барона. Теперь на тебя возлагают поручение, которое может иметь большое значение для всей нашей фамилии и для всего нашего рода. Карл! ты знаешь, что наша фамилия бедна. Это великое ее несчастье. Чтобы поднять ее на должную высоту, надо иметь много денег. Я уже стар. Что можно было сделать для нашей фамилии, я все сделал в течение всей моей жизни. Теперь очередь за тобой. — Он помолчал. — Я должен открыть тебе одну тайну. Это тайна не только для твоих ближайших друзей, но и для твоей матери, для твоего брата и сестер… Существует общество в Америке… с е к р е т н о е… Носит оно странное название — «Коронка в пиках до валета». Члены его разделяются на четыре категории: т у з ы, к о р о л и, д а м ы и в а л е т ы. Члены рассеяны по всему миру, имеются и в С.-Петербурге. Между прочим… и я — член этого общества. Узнаем мы друг друга, показывая одну из фигурных карт пиковой коронки. Лозунг общества: «Коронка в пиках». Что касается цели общества и способов достижения этой цели — это тебя мало касается. Помни одно мудрое правило: цель оправдывает средства. Твоя цель — благополучие рода баронов фон Фрейшютц, а какими средствами оно будет достигнуто — это неважно. Ты вступаешь в наш союз в чине «валета». Вот тебе и соответствующая карта, — и барон вручил сыну игральную карту с изображением пикового валета. — Возьми ее и носи всегда с собой. В трудные случаи жизни она может тебе помочь… Исполняй все, что прикажут тебе пиковые тузы или короли. Дамы в нашей игре стоят в одном ранге с валетами, — старый барон засмеялся. — Но все же помни: пиковые дамы это — твои союзники в игре. В кругосветное плавание отправляется фрегат… Ты пойдешь на нем… т е б я п о с ы л а е т «К о р о н к а в п и к а х». Нам нужен на фрегате с в о й. Помни, что это авантюра с посылкой военного фрегата н а м невыгодна и, кроме того, нам опасен капитан Накатов. Надо все это скомпрометировать. Но разумеется… тонко! Карл! это не будет веселая прогулка. Предстоят опасности, может быть, и смертельные. Но я полагаю, что ты достаточно ловок и умен и потому сумеешь вовремя избегнуть их.
Барон помолчал и потом спросил:
— У тебя есть какие-нибудь вопросы… или сомнения?
— Никаких, — ответил сын.
И старый Отто фон Фрейшютц поцеловал в лоб Карла фон Фрейшютца, и разговор отца с сыном на этом кончился.
— А, Орест Павлович! Здравствуйте! Садитесь. Закуривайте, — покровительственно, но с оттенком дружественности, говорил адмирал Суходольский, протягивая руку вошедшему в его кабинет капитану 1-го ранга Накатову. — Садитесь, садитесь! Рассказывайте, как дела. Вы что же, назначены командиром «Дианы»? Плывете в Берингово море?
— Почти назначен, ваше превосходительство! Морской министр, по-видимому, этого хочет, — ответил Накатов, не скрывая своего удовольствия.
Адмирал сидел за своим письменным столом. Перед ним на столе лежали четыре карты: пиковый туз, король, дама и валет. Адмирал как будто рассеянно слушал Накатова и постукивал углом указательного пальца по физиономии пикового короля.
Молчал.
Молчал и капитан Накатов. Стал чувствовать себя неловко… Наконец адмирал поднял на него свои усталые, бесцветные глаза, и легкая улыбка прозмеилась по его сжатым губам… Он опять заговорил:
— Ну, и что же? вы были бы рады, если бы это назначение состоялось?
— Конечно, ваше превосходительство! — воскликнул капитан Накатов.
Ему почему-то показалось, что адмирал Суходольский, вообще к нему благоволивший, сейчас скажет: «Ну и отлично! я постараюсь это назначение вам устроить».
Но адмирал сказал совсем другое:
— Ну, а я вас с этим назначением не поздравляю!..
Капитан Накатов сделал изумленное лицо.
— Я бы на вашем месте, — продолжал адмирал, — отказался. Вы, голубчик, и так на виду… Вас ценят… Вы можете быть командиром царской яхты. Это можно было бы устроить, — и адмирал пытливо взглянул на гостя.
Накатов смешался. Он понял, что у адмирала Суходольского имеется другой кандидат на место командира «Дианы». Что тут делать? Влетел!..
— Опасная и бесполезная авантюра, — цедил сквозь зубы адмирал Суходольский, смотря куда-то в сторону. — Я говорю не о кругосветном плавании, — добавил он, — а об этом плавании к берегам Камчатки и Аляски. А особенно нелепы и опасны те специальные поручения, которые вам будут даны… Кстати, вы слышали последнюю новость? Эскадра не пойдет. Пойдет один ваш фрегат, и при том, — адмирал понизил голос, — самый дрянной из существующих. Невелика честь и радость командовать таким судном, которое от первой бури развалится.
И адмирал Суходольский стал усиленно стучать пальцем по голове пикового короля.
— Но… я уже дал согласие, — растерянно говорил Накатов. — Мне сейчас уже нет возможности отказаться… Вот если бы вы, ваше превосходительство, оказали давление на адмирала Мериносова, чтоб он сам…
— Я с Мериносовым не имею отношений, — сухо прервал Накатова адмирал. — Да и вообще… скоро с ним никто не будет иметь отношений — он висит на волоске… Император очень недоволен его глупой затеей… с этой эскадрой.
Накатов сидел как на иголках.
Адмирал посмотрел на него, усмехнулся и сказал:
— Впрочем, это ваше дело. Но я бы не взял этого поручения. Я отказался бы…
— Почему вы, ваше превосходительство, раньше не сказали мне ни слова?! — простонал Накатов.
Адмирал встал, пожал плечами и сказал:
— Я сам недавно узнал!..
Он протянул руку Накатову и сказал:
— Привет вашей тетушке. Она ведь тоже, кажется, против вашего плавания? И супруге привет. Такая чудесная женщина, и бросать ее на три года! Удивляюсь вам! — он покачал головой.
— Ну… до свиданья! — Накатов распрощался.
— Может, еще передумаете? Советую! — крикнул вслед уходящему Накатову. Потом вперился глазами в пиковую коронку, лежавшую перед ним на столе.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В путь-дорогу!
21 октября 1828 г. фрегат «Диана» отходил от Кронштадта в кругосветное плавание.
Маршрут пути был установлен следующий: Портсмут, о. Мадера, мыс Доброй Надежды, Мельбурн, Гонконг, Нагасаки, Охотск, Петропавловск, Сан-Франциско, мыс Горн, Рио-де-Жанейро, Портсмут и Кронштадт. Плавание было рассчитано на три года. Целью этого плавания было утверждение русского владычества на берегах Америки. Кроме того, плавание вокруг света должно было быть школой для молодых офицеров. Поэтому на палубе «Дианы» Илья встретил довольно много своих товарищей по выпуску. По преимуществу, впрочем, в это плавание попали те, у кого была хорошая протекция. Так в командном составе оказались граф Олег Потатуев, князь Борис Чибисов-Долгоухий, барон Карл фон Фрейшютц… Илья попал на фрегат, так как по его просьбе он был назначен в состав дальневосточной флотилии и обязан был в Охотске перебраться на борт шхуны «Алеут»… В числе 400 человек нижних чинов «Дианы» рядовым матросом зачислен был и «разжалованный мичман» князь Вадим Холмский, который должен был «ревностной службой» в дальневосточной флотилии добиться возвращения себе офицерского звания, «утраченного по легкомыслию», как сказано было в «милостивом» приговоре военно-морского суда. Кроме того, на «Диане» плыли и посторонние лица: до Мельбурна — русский консул с супругой и миссионер отец Спиридоний — в Аляску для распространения там православия.
…Наступил торжественный и трогательный момент прощания отплывающих с друзьями и родственниками, явившимися на проводы. Погода была мерзкая: моросил холодный дождь, кружились редкие снежинки… Тем не менее моряков провожать собралось очень много всякой публики… Палуба пестрела платками, шляпками, зонтами, военными и штатскими головными уборами.
Мичманы-аристократы были окружены цветником разодетых дам и девиц. Около них сверкали генеральские и адмиральские мундиры. Видны были кресты, звезды, ленты через плечо…
Илья держался в стороне от этой шумной толпы. Он тихо и грустно разговаривал с женой, матерью и тещей. Все были серьезны и молчаливы. Марья Кузьминична была само воплощение горя! Она оставалась надолго — на три года — одна; свое единственное сокровище она отдавала морю, тому ненасытному морю, которое пожрало когда-то и ее отца и ее мужа!
На самом носу фрегата, вдали от всех, стоял «матрос» — князь Холмский. Его провожал только старый камердинер Фрол Саввич. Родители на проводы не приехали — не хотели «срамиться» — и дочерей не пустили.
Старый Фрол топтался около Вадима, гладил его дрожащей рукой и сквозь слезы говорил только: «Князенька… милый князенька!.. Господь тебя спаси и помилуй»… (Старик считал себя виновником «гибели» Вадима — не донес вовремя!) Вадим стоял бледный и неподвижный и смотрел сухими глазами в туманную сырую даль, в которой тонули церковь Кронштадта, дома и грозные укрепления фортов.
Но вот наступил и час отплытия.
— Очистить палубу! — раздалась команда с мостика.
Соловьями застрекотали в ответ на эту команду боцманские дудки, и палуба вдруг до избытка переполнилась публикой — все выползли из разных углов, — из кают… Отовсюду вылезли люди разных полов, возрастов и социальных положений. Все это вдруг смешалось в одну толпу, все вдруг заговорило. Послышались одиночные рыдания, раздались истеричные крики. Боцманские дудки не могли покрыть гомона этих взбудораженных голосов. Бабы голосили уже во всю глотку.
Старый Фрол торопливо крестил Вадима, и тот вдруг прижал старика к груди и прильнул влажными устами к его седой, трясущейся голове.
Марья Кузьминична, крепившаяся все время, не уронившая ни одной слезы, вдруг на груди Ильи потеряла сознание без крика, без слез… Ее подхватили Елена и Марфа Петровна. Еще один момент… и пестрая струя провожавших полилась по трапам вниз, в катера, в лодки, которые держались у левого борта.
— Все наверх! — скомандовал командир вахтенному офицеру.
— Свистать всех наверх, с якоря сниматься! — скомандовал вахтенный.
Опять зарокотали дудки, и по палубе суетливо забегали теперь уже одни матросы.
— На шпиль! — скомандовал старший офицер. — Гребные суда — к подъему! Трап — к подъему! Крепить орудия! — Слова команды следовали одно за другим.
И вот «Диана» освободилась от всех связей с родной землей, и ровно через четыре минуты она как-то сразу вся сверху донизу оделась в свое белоснежное парусное одеяние и, слегка наклонившись, тронулась с места стоянки. Кронштадт и бесчисленные лодки с провожавшими куда-то вдруг стали отодвигаться, уменьшаться и постепенно тонуть в сером промозглом тумане.
Прощальный салют из судовых орудий. Ответный — с верков форта, и церемония прощания окончилась.
— Ну, и погода! Собака, а не погода!.. Пойду в кают-компанию, — и старший офицер Степан Степанович Гнедой, толстенький старый холостяк, покатился в кают-компанию, потирая на ходу озябшие руки.
…По серому небу низко неслись рваные тучи. В снастях фрегата завывал резкий упорный норд-ост, кренивший «Диану» на левый борт. За Кронштадтом начало покачивать, и белые зайчики забегали по грязным взбудораженным волнам Финского залива. Палуба опустела: кто побежал переодеваться (промокли все под дождем еще в Кронштадте), кто в кают-компанию погреться. Оставшиеся на палубе, облеклись в дождевики и зюйд-вестки.
На капитанском мостике маячили только три фигуры — командира, вахтенного и старого штурмана Ивана Ивановича Рулева, который напрягал все свое зрение, чтобы сквозь густую сеть мелкого дождя как-нибудь не пропустить маяки.
Прошли Толбухин маяк и сразу попали в безбрежное море тумана. Ветер заметно крепчал, и старый корпус «Дианы» под напором волн стал поскрипывать и вздрагивать.
— Вперед смотреть! — раздалась команда с мостика.
— Есть смотреть! — донеслось откуда-то издалека, с самого носа. У бушприта в особых корзинках сидели караульные, которые должны были смотреть вперед и следить за встречными судами.
Пассажиры «Дианы»
«Диану» стало покачивать основательно. Вдруг на палубу выбежал из своей каюты консул, плывший в Мельбурн. Бледный подбежал он к капитанскому мостику и стал неистово кричать:
— Господин командир! Господин командир! Бросьте якорь, моей жене дурно!
Командир сперва не понял его, но, поняв, сердито отвернулся.
Консул кинулся к борту, нагнулся над водами Финского залива, и через минуту, зеленый, убежал в каюту. И на смену ему на пустой палубе появились две мрачные фигуры в рясах. Судовой иеромонах Паисий вывел на чистый воздух своего сотоварища Спиридония, которого от качки стало «травить» в каюте. Спиридоний в первый раз плавал в море и потому почувствовал себя дурно сразу же за Кронштадтом. В душной каюте, иллюминаторы которой были задраены, он скоро совсем раскис и с ужасом заметил, что качка выворачивает его кишки. Паисий, уже побывавший в море, вывел его на воздух, но здесь Спиридония постигла новая беда — он не смог устоять на месте, его стало мотать: побежит к одному борту, потом вдруг дерет к другому. Стал Паисий гоняться за ним, но изловить не мог. Между тем Спиридоний поскользнулся и грохнулся на палубу. Теперь он уже не бегал, а попросту катался по склизкой палубе — от борта к борту. Стукнется головой об один борт — заорет: «За що? Господи! за що?!» (украинец был) — и катится к другому борту. Треснется об этот борт — опять заорет: «За що?! за що?!».
С капитанского мостика смотрели с любопытством на эту сценку и даже с некоторым злорадством, особенно старший штурман. Все были недовольны присутствием этого лишнего пассажира: суеверные моряки побаивались, что обилие священных особ на корабле может ему принести несчастие — испортит весь «вояж». К тому же Спиридоний не вызывал никаких симпатий. Носились слухи, что его послали просвещать аляскинских туземцев не потому, что он был красноречив или знал туземные языки, а потому, что он проштрафился — уличен был в поступках, «не соответствующих монашескому званию». Но это бы еще ничего! А просто «равноапостольный» (так прозвали его мичмана) всем успел надоесть: забрался на «Диану» за неделю до отхода и для практики в апостольном деле стал надоедать всем усердными попытками насадить нравственность и благочестие, особенно среди морской молодежи. Они, впрочем, открыли способ отделываться от назойливого монаха: надо было поднести ему стакан мадеры или показать какой-нибудь пикантный рисуночек, и он тогда успокаивался.
Совсем иначе держал себя на корабле Паисий. Это был хмурый монах, который уже сделал два кругосветных путешествия. За все это время он ни разу не сошел на берег — все в своей каюте сидел. Отправит все богослужения — и марш к себе в каюту, а дверь — на ключ! Пообедает в кают-компании и опять к себе! Когда молодые мичмана приставали было к нему с предложением сойти на берег и посмотреть на хорошеньких туземок, Паисий хмурился, отмахивался и говорил:
— Голые! соблазн! — и замыкался в свою каюту.
Оба предыдущих плавания оканчивались тем, что под конец он окончательно спивался, но это не мешало ему справлять все положенное по уставу службы. Лучшего иеромонаха и не требовалось для военного корабля — никому под ноги он не попадался. Наоборот, «равноапостольный» Спиридоний лип ко всем и всюду нос совал, надоедал!
Появление Спиридония на фрегате причинило огорчение и Паисию: Спиридоний был помещен в его каюте, и, конечно, вследствие этого совершенно нарушил весь тот режим, который был дорог Паисию. Прежде всего Паисий не мог теперь наслаждаться одиночеством: половина путешествия (до Аляски) была для него отравлена присутствием в его каюте назойливого Спиридония. И характеры у обоих священнослужителей были совсем различные. Однако из человеколюбия Паисий постарался скрыть свое недовольство и стал возиться со Спиридонием, как только «Диана» отошла от Кронштадта и того стало укачивать. Наконец ему стало невмоготу, и он вывел страдающего собрата на палубу, где и предоставил его в жертву своенравной игре стихий.
Спиридоний катался по мокрой палубе и вопил о помощи. Паисий обратился к вахтенному. Тогда, по распоряжению начальства, матросы изловили Спиридония, привязали («гайтовали») к грот-мачте, голову прикрыли зюйд-весткой, на плечи возложили дождевик. В общем получилось такое чучело, что матросы фыркали, пробегая мимо «великомученика».
На следующий день по просьбе Паисия страдальца перевели в лазарет к великому неудовольствию доктора и в особенности мрачного фельдшера Зворыкина… «Весь лазарет батька изгадил», — жаловались друг другу огорченные эскулапы.
Между тем море разбушевалось не на шутку. Белые зайцы носились по волнам, как безумные… Ветер из «свежего» превратился в «штормовой»… Фрегат стонал и грузно переваливался с волны на волну. Берегов не было видно. Не видно было и маяков — мешал частый дождь. Старый штурман не спал вторые сутки и волновался, не сходя с мостика.
На траверзе Ревеля вода сделалась зеленой — сказалась близость настоящего моря. Но буря не стихала. «Диана» резала волны, зарывалась носом в пену. Она шла без брамселей и лиселей с зарифленными парусами. Время от времени с капитанского мостика в рупор кричали: «Вперед смотреть!» — и в ответ с носа отдавалось: «Есть, смотреть».
…У берегов Дании сделалось теплее, но погода все еще была «свежей». Одно утешение — дождь перестал, и сквозь серые тучи время от времени стали проглядывать клочки голубого неба. Изредка прорывался даже луч солнца, и тогда на душе делалось отраднее.
Но здесь, в проливах, идти при свежем ветре было особенно трудно: приходилось лавировать от камней одного берега до камней другого. И, кроме того, каждую минуту можно было столкнуться со встречным судном. А их в проливе было немало.
— Купец наваливается, ваше высокоблагородие! — то и дело орал командиру в его каюту вахтенный матрос. И командир бросал все, бежал на мостик. Начиналась ругань с «купцом» на всевозможных языках. Эта отборная ругань в рупор и без рупора иногда, казалось, покрывала рев ветра и моря. Потом корабли благополучно расходились, и страсти на капитанском мостике утихали до новой встречи.
В Немецком море ветер не стих, но переменился — сделался противным. Чтобы добраться до Портсмута, пришлось десять дней болтаться в море, лавировать, то подходя к самому берегу Англии, то уходя чуть ли не к берегам Голландии.
— Завтра утром, надо думать, дойдем до Портсмута, — сказал наконец штурман Иван Иванович. — Отоспимся. Тяжелый был переход, черт возьми!
У берегов Англии
Раннее утро. Еле брезжит рассвет. На баке бьют две склянки (пять часов) — время, когда встает вся команда. Боцман прикладывает руку к околышу фуражки, одетой на затылок, и торопливо спрашивает вахтенного начальника:
— Прикажете будить команду, ваше благородие?
— Буди, — говорит вахтенный, для проверки поглядывая на свои часы.
Долгий протяжный свист дудки и отчаянный крик: «Вставать! Койки убрать! Живваа!».
Через десять минут вся команда, умытая и одетая в рабочие рубахи, стоит уже во фронт и хором подхватывает словам молитвы. После молитвы — завтрак — каша, с сухарями чай. Потом начинается генеральная чистка палубы. Боцмана и унтер-офицеры поощряют матросов крепкими и замысловатыми ругательствами, а иной раз и зуботычинами. Матросы скребут палубу камнями, скребками, голяками, песком… Метут, обливают палубу водой из парусиновых ведер и из брандсбойтов. После уборки палубы берутся за такелаж, за орудия. Подтягивают ослабевшие снасти, закрепляют веревки… Толченым кирпичом, пемзой, тряпками чистят на корабле все медные части, а также и орудия, все должно гореть, как огонь!
Среди этой толпы суетящихся матросов, боцманов и унтер-офицеров катается с одного конца фрегата до другого кругленький старший офицер Степан Степанович Гнедой. Добрый он человек, но так и лезет всюду с кулаками! Любит драться! Считает это принципиально необходимым. Сегодня он волнуется особенно. Еще бы! «Диана» входит в английский порт, пройдет мимо военных английских судов!.. Там во все глаза будут смотреть, в каком порядке русское судно! Поэтому на такой экзамен «Диана» должна явиться в полном блеске: реи должны быть вытянуты, как стрелы, паруса натянуты. Надо молодцом стать на якорь! Надо паруса спустить не более как в четыре минуты. С шиком чтоб!
— Это что? — с ужасом, выпучив глаза, не кричит, а хрипит Степан Степаныч, показывая унтер-офицеру на палубу…
— Пятно, ваше высокоблагородие! — отвечает с трепетом унтер-офицер, на всякий случай отводя свою усатую физиономию подальше от кулаков недовольного начальства.
— Выскоблить!! Чтоб его не было! — орет старший офицер и вдруг закидывает голову кверху: показалось, что какой-то «конец» не закреплен — болтается! Так и есть, болтается!
— Что ээто? Что ээто? — не своим голосом вопит Степан Степаныч и в полном отчаянии хватается за голову. — Уморить меня хотите?! Черти! Дьяволы! Позор! Посрамление! Англичанам на посмех! Марш наверх! Закрепить конец! — и он хватает первого попавшегося матроса за шиворот. — Марш наверх, ссукин сын! Мерз… — до конца он, однако, не доругался, так как оказалось, что за ворот он держит… князя Холмского. Тот босиком, в грязной рабочей куртке, как раз около него тер палубу шваброй.
Увидев, кого он зацепил, Степан Степаныч совершенно растерялся и даже нечаянно первый руку к козырьку приложил.
— Извиняюсь, князь, — сконфуженно пробормотал он.
— Я — рядовой, ваше высокородие, — отвечал Вадим, вытягиваясь перед начальством и отдавая честь у козырька, — а потому вы вправе меня не только называть сукиным сыном, но и по зубам бить, — и, сделав поворот налево-кругом, он полез на ванты к проклятому «концу».
Этот эпизод совсем испортил и без того дурное настроение старшего офицера. Он посмотрел растерянно вслед Вадиму и вполголоса выругался по-матросски, крепко и заковыристо. Боцман крякнул и из сочувствия к начальству сказал:
— Есть, ваше высокоблагородие!
— Черт их возьми, — ворчал старший офицер, отходя в сторону, — сажают на судно этих графчиков, да князьков, да еще разжалованных! Сегодня он — разжалованный, а завтра тетенька припадет «ко стопам» — и адмиралом будет! Всю тебе жизнь испортит!
Положение Вадима на фрегате было действительно странное. «Официально» командиру было приказано обращаться с разжалованным мичманом строго, как с «политическим преступником», и следить за ним неусыпно. «Неофициально» сам министр и кучка дам из высшего света просили его быть с Вадимом «помягче», «поласковее». Сиятельные товарищи избегали его, как зачумленного, и фыркали при встрече. Боцмана били по зубам всех под ряд, но, дойдя до Вадима, почтительно опускали свои мохнатые кулаки. Матросы держались от Вадима в стороне, — одни были настроены определенно враждебно, так как он против царя бунтовал, — другие, недовольные царскими порядками на суше и на море, хмуро всматривались в Вадима и не могли решить, свой он человек или чужой, «всурьез» он бунтарил или блажил так — «от жиру».
Илья пытался было удержать с ним старые дружественные отношения, заговаривал с ним несколько раз, но Вадим вытягивался перед ним во фронт и отвечал односложно: «Есть, ваше благородие» или «Никак нет». И этим обрывал все попытки Ильи. Кроме того, командир как-то вызвал Илью и сделал ему выговор за попытки разговаривать с разжалованным. Только Спиридоний безбоязненно лез к Вадиму с назидательными беседами на тему о вреде суемудрия, о великом значении православия и самодержавия. Вадим холодно-почтительно выслушивал все эти нравоучения и отвечал монаху свое неизменное: «есть, ваше преподобие», «слушаюсь», «так точно».
Но вот фрегат убран. Команда сняла свои рабочие костюмы и приоделась.
— На флаг! — командует вахтенный.
Все смолкает… Ждут… Сигнальщик стоит с минутной склянкой. Старший офицер с часами в руках следит за минутной стрелкой. Песок пересыпается из одной половины банки в другую.
— Флаг поднят!
Все обнажают головы. На мачту быстро взлетает белый флаг с синим андреевским крестом. Командир торжественно принимает рапорты, обходит фронт, здоровается с командой… Церемония кончилась. И так происходит каждое утро. Потом все расходятся. День начался.
Портсмут
«Диана» легко и плавно входит в широкую гавань, проходит мимо строя могучих британских кораблей: фрегатов, корветов. Пушечные салюты. Салюты флагами.
— Пошел все наверх! На якорь становиться! — раздается команда. Пронзительный свист боцманских дудок, и тяжелый якорь бухается в воду, подымая на сажень ленивый всплеск воды.
Как по мановению волшебного жезла на «Диане» вдруг падают все паруса. Чисто стали! Лихо! У начальства отлегло от сердца. Команда — и та радостно ухмыляется.
— Лихо! Молодцы! — радостно твердит направо и налево старший офицер, — не подгадили! Спасибо!
Через некоторое время фрегат пустеет: кто может, съезжает на берег. Командир первый отваливает в щегольском вельботе, приодевшись в парадную форму, — он отправляется с официальными визитами. Потом отваливают катера с офицерами в штатских костюмах — едут «развлечься». В одном из катеров торчит Спиридоний. Он тоже в «мирском одеянии». На нем какой-то сюртук, уморительные клетчатые брюки. Косичка тщательно запрятана под широкополую шляпу.
Стремится на берег и команда после трудного перехода «освежиться» в портовых кабаках и притонах. Скоро на «Диане» остаются только вахтенные, дежурные, словом, все занятые делом.
Паисий не выходит из своей каюты. В открытый иллюминатор он хмуро смотрит на шумную гавань, на лодки, парусные и весельные, которые поминутно мелькают мимо борта.
На баке стоит Илья. К нему подходит Вадим и, бросив вокруг себя осторожный взгляд, убедившись, что ни-кто за ним не следит, его не слушает, заговаривает с Ильей:
— Как мне тяжело! Если бы ты мог себе представить, Илья! В крепости было легче. Кончится мое плавание бедой!
Илья пробует успокоить друга.
— Знаешь, — говорит Вадим, — не страшна матросская куртка, не страшны матросские щи и каша (хотя, знаешь, мерзостью кормить начали!) — страшно бесправие и несправедливость. Бьют матросов — зубы вышибают, синяки под глаза ставят! Не только боцмана, а всякий фендрик, вроде Чибисова или вроде этой немецкой миноги, нашего барона, — и те подымают на них свою подлую руку… Но почему м е н я не бьют? Ведь я же матрос! В крепости было лучше, — я, по крайней мере, этих безобразий не видел! Ты знаешь, что я придумал. Я сбегу с корабля или… утоплюсь!.. Я так жить не могу!
— Вадим!.. Вадим! — ответил ему Илья и обнял его. — Полно ребячиться! Во-первых, не все дерутся. Я, например, лейтенант Стругов, мичман Левицкий. Да мало ли! И верь мне, таких скоро будет большинство! Береги себя для лучшего будущего… Может, скоро наступит время, когда в таких, как ты, будет нужда!
— Знаешь, Илья, — заговорил опять Вадим, — попроси ты у командира, чтоб он меня к тебе вестовым назначил!
Илья выпучил глаза.
— Тебя? Ко мне… вестовым?!. Да ты в уме?
— Нет, серьезно. Если это выйдет, я хоть часть дня смогу проводить у тебя в каюте… подальше от всей этой дряни. А я тебе буду служить исправно. Ты не беспокойся! И сапоги чистить буду и брюки!..
Илья задумался… — Попробую, — сказал он, — едва ли впрочем удастся: намедни мне командир голову намылил за то, что я с тобой разговаривал.
— Спаси меня, Илья! — продолжал Вадим.
— Ну, ладно… Успокойся — попробую, — сказал Илья с улыбкой и добавил: — а между прочим вот что: я сейчас напишу письма своим и отправлю их, пиши и ты — я отправлю.
— Кому писать? — грустно промолвил Вадим. — Родные и друзья — все отвернулись от меня. Разве старику Фролу?
— Ну, хотя бы ему!
Илья отправился в каюту писать письма своим, Вадим — старому Фролу.
«Милые мои, — писал Илья. — Вот я и в Англии, в Портсмуте… Мы рассчитывали прийти гораздо раньше, да задержала непогода. Начиная с Кронштадта и до самых берегов Англии нас все время трепало. Теперь завязнем в Портсмуте недели на две: течь показалась — надо чиниться. Наш фрегат оказался совсем старым, негодным судном. Странно, что такое судно, говорят, уже назначенное на слом, отправили в кругосветное путешествие! Нас ждут обязательные бури (так говорит наш старый штурман, с которым я очень подружился, знает покойного отца) в Бискайском заливе, в Индийском океане и, быть может, у берегов Японии. Поэтому надо своевременно исправить все грехи „Дианы“. Что сказать вам о людях, которые на два года заперты со мною в старую деревянную коробку, носящую красивое имя „Диана“? Командир — сухой эгоист, неприветливый и почти всегда не в духе. Хороший служака, но никем не любим, и, кажется, сам никого не любит. Но дело знает. К сожалению, с матросами излишне крут: почти каждый день у нас на баке производится порка матросов. Это отвратительно. Матросы называют его „палачом“. Ужасное прозвище! Старший офицер Степан Степанович Гнедой — кубышка по фигуре — не ходит, а катается по палубе, всегда куда-то торопится и суетится. Отчаянно дерется — „чистит зубы“ матросам и притом еще философствует: „Нельзя, — говорит, — не бить, — на бое матушка Россия держится! Везде, — говорит, — всеобщая лупка идет. В деревнях мужиков дерут, в казармах — солдат, в школах — учеников, во всех школах: в корпусах, в гимназиях, в семинариях духовных. В семьях — детей лупцуют. Меня отец драл, как Сидорову козу, отца дед лупцевал и так далее до Адама. „Бамбуковое, — говорит, — положение (слово „бамбуковый“ — его любимое. Так его «бамбуком“ мы и называем, а матросы «мордобоем“ зовут). К чести его надо прибавить, что после мордобоя он сам, по-видимому, мучается и часто, избив матроса, потом на другой день дает ему двойную порцию водки или даже извиняется. Хотя он и драчун, но матросы к нему относятся добродушно. Терпелив русский народ! Конечно, при таких командирах, боцмана и унтер-офицеры — чистые звери! Боюсь, что наше плавание не окончится благополучно: среди матросов есть люди далеко не мирные и ропщут на телесные наказания, а также и на кормежку. Она из рук вон плоха!
Положение Вадима, по-моему, отчаянное: тоскует, похудел, осунулся, а в глазах огоньки… Боюсь, чтоб не натворил чего.
Сиятельные товарищи наши оказались такой дрянью, что и говорить о них не хочется, особенно по-свински держатся по отношению к Вадиму.
Ну, что сказать вам о прочих пассажирах «Дианы»? Плывет с нами уморительная собачонка-дворняжка, любимица матросов и предмет ненависти командира. Матросы выучили ее разным штукам. Например, крикнут: «Палач идет!» — и Кудлашка стремглав бежит прятаться.
Следующей достопримечательностью нашего фрегата является миссионер Спиридоний, посланный на Аляску насаждать православие. Дрянь человечишка! Говорят, сослан на Аляску за озорство, за пьянство и женолюбие. Кроме того, до Мельбурна идет с нами русский консул с женой. Но это совсем люди бесцветные, по крайней мере — он. Сиятельные находят, что «она» — ничего, и собираются ухаживать за ней, когда погода будет лучше, потому что пока ее тошнит (а ее тошнит с Кронштадта), они на свои чары не надеются.
Ждите следующего письма с острова Мадера и потом с мыса Доброй Надежды, а сами пишите в Охотск, где я надеюсь найти кучу ваших писем и встретить милую Лену… Сейчас съезжаю на берег. Решил купить английские карты Аляски, а также сочинение Фенимора Купера на английском языке. Буду для практики читать и вспоминать свое детство, а также учиться по Куперу жизни в американских пустынях. Ведь придется и мне в Аляске быть следопытом и зверобоем и заводить друзей вроде куперовских Ункаса и Чингак-хока! Ну, до свиданья, мои хорошие. Будьте здоровы и спокойны. Вадим вам кланяется.
Ваш Илья».
Вадим писал старому Фролу:
«Дорогой друг, Фрол Саввич!
Добрались мы до Англии. Пишу тебе из Портсмута. Шли долго, потому что задерживал свежий и противный ветер. Чувствую я себя прекрасно. Начальство со мной любезно. С командой лажу. Еда хорошая. Скажи нашим, чтоб не беспокоились. Возможно, что мне скоро вернут мой чин. Целую тебя крепко и благодарю за подарки, которые ты мне тайком сунул в Кронштадте.
Твой Вадим Холмский».
К вечеру город, порт и суда, стоявшие на якорях, расцветились огоньками. Красивое было зрелище! Огоньки дрожали и змеились в сонной воде. Шум города стихал, и тем отчетливее в ночной тиши раздавалось перезванивание склянок на дремлющих судах. Время от времени тишину нарушали мерные удары весел — то военные катера возвращались на свои суда из города…
«Шалость» Чибисова
Много хлопот было в эту ночь тем, кто оказался на вахте: катера приходили перегруженные пьяными матросами. Некоторых приходилось подымать на веревках. И офицеры тоже явились сильно навеселе. Скандал вышел со Спиридонием. Князь Чибисов напоил его «в доску». На фрегат его подняли при помощи веревок, и, по приказу Чибисова, пьяные матросы «для протрезвления» его преподобия подтянули его высоко на рею. Чибисов и его друзья похохотали над висящим монахом, потом пошли в кают-компанию, да и забыли об его существовании. Вахтенный, занятый приемкой пьяных матросов, не заметил проделки Чибисова, и «равноапостольный» Спиридоний висел на рее, висел, качался, качался, пока предутренний ветерок не привел его в чувство. Пришел Спиридоний в сознание — и неописуемый ужас овладел им — он увидел под ногами бездну, а себя связанным по ногам и рукам высоко «на воздусях»… И вот он заорал — так заорал, что отчаянный крик его разбудил всю дремавшую гавань. Вахтенный на «Диане», не разобрав, откуда несется вопль, пробил тревогу: «человек за бортом». Стали спускать катер… Тревога с «Дианы» передалась на соседние английские суда, и те спустили катера, чтоб спасать тонувшего. Когда разобрали наконец, что вопли несутся не снизу, а сверху, скандал получился грандиозный.
Разбудили старшего офицера, потом командира. Командир от ярости потерял дар человеческой речи — испускал какой-то зудящий звук «зззз!» Хотел приказать произвести порку: но к о г о п о р о т ь? князя Чибисова? или Спиридония? или обоих?
Старший офицер в остервенении бил дежурного боцмана по зубам.
Боцман лупил вахтенных матросов.
— Позор! Посрамление! Бамбуковое положение! — с пеной у рта ревел Степан Степаныч, бросаясь направо и налево в поисках, кого еще смазать кулаком.
Спиридония отправили в лазарет, князя Чибисова — под арест.
На следующий день рано утром репортеры местных газет стали осаждать фрегат, желая добиться интервью с командиром. Их интересовал вопрос, правда ли что в истекшую ночь на фрегате «Диана» был повешен матрос. Репортеров приняли невежливо, чуть с трапа их не спустили. В отместку за это в утренних газетах появились громовые статьи, в которых выражалось негодование на то, что русские вешают матросов не в открытом море, — что допустимо, — а в английском порту, что совершенно противно английским законам и нравам.
Командир в полной форме отправился объясняться по этому казусному делу к коменданту порта, к русскому консулу и в редакцию газет. В следующем номере местных газет появились заметки под заглавием: «Забавы русских морских офицеров». Конечно, это прискорбное событие отравило все радости пребывания русских моряков в Портсмуте. Даже матросы перестали пользоваться береговыми удовольствиями, над ними стали потешаться в кабачках, а уличные мальчишки бегали за ними следом, вытянув шею, выпучив глаза и высунув язык, хрипя и имитируя таким образом умирающих от удушения.
В виду всех этих неприятных осложнений командир решил идти чиниться в Брест и всячески сократить срок пребывания в Портсмуте. Но перед уходом нужно было получить какой-то груз. И это несколько задержало отплытие.
Однажды ночью на палубу «Дианы» с великим трудом с подошедшей барки перегрузили какие-то огромные ящики. Никто из офицеров не знал, что в ящиках заключается, и командир почему-то не позволил их раскрывать. Так они и стояли на палубе «Дианы», прикрепленные цепями к бортам.
Вместо двух недель «Диана» простояла в Портсмуте пять дней и направилась к берегам Франции.
На фрегате все были мрачны — от капитана до последнего матроса Еремки Пирогова, который за воровство приставлен был убирать «гальюны».
Капитан Накатов ходил по рубке, нервно ломал свои тонкие пальцы, и они хрустели у него, как ореховая скорлупа на матросских зубах.
Капитан Накатов был на хорошем счету у начальства. Любимец министра Мериносова, он умел ладить и со всеми другими влиятельными особами в Адмиралтействе.
Он имел все основания мечтать о блестящей карьере и имел на то права, так как был отличным служакой и великолепно знал свое дело. Исполнительный до педантизма, он был требователен к себе и к другим. И за это его многие из подчиненных не любили.
Назначение на «Диану» совершенно сбило его с позиции. После разговора с адмиралом Суходольским, после полученных противоречивых советов от разного начальства, от сослуживцев и от знакомых, он понял, что, согласившись на это назначение, сделал крупную ошибку. Он понял, что его патрон Мериносов не прочен, что при дворе действуют какие-то закулисные интриги. И результат этих интриг был ему очевиден: вместо эскадры новейших и лучших кораблей, как это предполагалось ранее, отправлена была старая развалина, уже предназначенная на слом. Команда на ней подобрана, как нарочно, самая неудачная — из береговых экипажей или с мелких каботажных судов. Их еще надо было учить.
Еще было время отказаться от назначения, но капитан Накатов был упрям и самолюбив и рьяно взялся за дело. За месяц до отхода «Дианы» он энергично принялся за ремонт старого судна и за обучение команды. Но с раздражением своим он справиться не мог и все это раздражение перенес на «Диану» и на матросов. С офицерами был сух и неприветлив, с низшими чинами — суров и жесток.
Понятно, что скандал в Портсмуте обострил его озлобленность. Оттого так хрустели его тонкие пальцы, когда он вспоминал о происшедшем в Портсмуте.
Степан СтепанЫч Гнедой тоже находился в ажиатации: вытирал фуляром лысину, которая у него в минуты волнения всегда отчаянно потела, и повторял вполголоса: «Дда!.. бамбуковое, можно сказать, положение! Отличились!.. В газеты попали!»
Старый штурман, веривший в приметы, ворчал: «То ли еще будет! Напустили на фрегат монахов, баб, штафирок, князьков да графчиков… Тьфу!»
Князь Чибисов сидел под арестом и злобствовал почему-то на одного Спиридония. «Изведу мерзавца, — говорил он. — Из-за этого сукина сына в Париж не попаду». (Долгая остановка в Бресте сулила возможность побывать в Париже).
Спиридоний после всех пережитых треволнений окончательно решил, что все его страдания — дело рук сатаны. Он предвидел еще много всяких испытаний и недоумевал, «за що» так возгневался на него господь. Ломал свою голову над вопросом, какова же в конце концов будет его карьера, попадет ли он в великомученики или просто в мученики, рангом ниже! «Где нам в великомученики, — хрипел он, — рылом не вышли! Где уж тут?!. Связей нет! Другие вон и хуже меня делов наделали, да в лаврах сидят, а меня вон — в миссионеры! Да еще куда?!»
И желая облегчить работу будущему сочинителю его жития, Спиридоний засел за свою автобиографию. Красивым уставом вывел заглавие: «Искушения и муки отца нашего Спиридония, страстотерпца и воина христова». И стал писать. Благо не качало.
От Бреста до Мадеры
В Брест добрались благополучно.
Стояли в Бресте долго, и счастливцы (в том числе барон и граф) сумели слетать на почтовых в Париж и там пожуировать. Князь Чибисов от досады обгрыз все свои холеные полированные ногти.
Наконец отплыли от Бреста.
Как и предсказывал старый штурман, в Бискайском заливе тряхнуло основательно.
При ясном небе вдруг заревел безумный ветер, застонал в снастях… Залились соловьями боцманские дудки.
— Пошел все наверх! третий риф брать! — раздалась команда.
Матросы, как муравьи, поползли по вантам, по реям, и «Диана» вдруг оголилась.
Океан вспенился, забурлил… Голубые прозрачные волны живыми горами заходили вокруг фрегата. То громадная многосаженная стена встанет за кормой, и «Диана», словно спасаясь от нее, летит стремглав куда-то в прозрачную пенистую бездну, то вдруг «Диана» станет на дыбы, упрется носом в синее небо и лезет куда-то вверх. Казалось порой — вот-вот опрокинется навзничь!
Как только началась качка, Спиридоний сам вылез на палубу, еле-еле дополз до грот-мачты (облюбовал себе крюк на мачте) и, накрепко привязав себя «вервием», предался во власть морской болезни.
— Эк тебя выворачивает, — отплевывались пробегавшие мимо матросы. — Убирай потом за тобой!
Промучились двое суток, и потом все стихло. Опять «Диана» украсилась всеми парусами и с попутным ветром понеслась к острову Мадера.
Спиридоний убрался в каюту и принялся за свое «житие».
Матросы весело хохотали, вспоминая события прошедшей ночи, и потешались над Ванькой Фомичевым, у которого на лбу торчал огромный синий желвак: из койки ночью вывалился и башкой треснулся об пол. Потеха!
Южное солнце палило вовсю. Офицеры надели белые кители, матросы — белые рубахи. Радостно было смотреть на синее небо, на голубые прозрачные волны, кипевшие пеной у носа и бортов «Дианы».
Мадера
Берег!.. Берег!.. Мадера видна!
И кто был на палубе, — все впились глазами вперед. Там, на краю горизонта, виднелась синяя тучка. Она все темнела и по мере приближения «Дианы» заострялась в горные вершины. Наконец глаз стал различать дым и огонь на одной одинокой вершине. «Вулкан! Да еще действующий!». Облака лежали на других горах, как легкая вата. Солнце словно заигрывало с горами — освещало то одну сторону, то другую. Сторона, на которую падал солнечный луч, вдруг загоралась изумрудами горных лесов. У подошвы гор начинали виднеться полосы виноградников. Еще ниже раскинулся городок… Стали видны крыши домов, остроконечные шпили церквей…
«Диана» бросила якорь в маленьком уютном заливчике, и сейчас же со всех сторон полетели к ней лодки и катера. Приход большого военного корабля, очевидно, был событием в этом городишке. Подъехал в шлюпке и русский консул, испанец, не знавший ни слова по-русски, пригласил к себе обедать всех, кто пожелает.
«Диана» тихо покачивалась на бирюзовых прозрачных волнах, а перед ней стояли величественной стеной почти отвесные горы. С них несся на «Диану» густой аромат хвои — это благоухали горные сосны, кипарисы. К смолистому запаху примешивался едкий запах мирт, маслин… Кроме того, пахло и ананасом, и розой, и словно пряностями какими-то — не то гвоздикой, не то корицей. Странные, сложные ароматы юга ласково дышали на гостей, приплывших издалека, с холодного неприветного севера. Даже Спиридоний блаженствовал, сидя на солнышке и ласково поглаживая себя по утробе.
— Блаадать! — говорил он, щурясь от яркого солнца.
Мрачный штурман криво ухмылялся, глядя на горы, на сверкающий яркими красками городок, на суету лодок, в которых галдящие испанцы, негры, мулаты предлагали купить ананасов, бананов, винограду. Голые ребята ныряли в прозрачную воду за брошенными монетами. Только верный себе Паисий не вышел из каюты и, стоя у иллюминатора, бесстрастными глазами смотрел на всю эту радостную суету юга… Из другого иллюминатора выглядывало злобное лицо Чибисова-Долгоухова, который отсиживал последнюю неделю своего ареста.
Вадим стоял у борта и всей грудью вдыхал ароматный воздух Мадеры, но ему было грустно: он на все время плавания был оставлен «без берега».
В городе оказалось гораздо хуже, чем на палубе «Дианы», — там было душно, жарко и пыльно. Огромные перистые пальмы, украшавшие набережную, по-видимому, изнывали от засухи. Покрытые пылью, они казались серыми. От каменных горных громад несло жаром, как из духовой печки. Сразу захотелось пить, пить, есть мороженое!
Тем не менее жара и духота нисколько не отражалась на жизни города: по набережной носились местные жители: испанцы, португальцы, негры. Неслись, галдели, махали руками… Вся эта толпа, по-видимому, крайне занятых людей при виде проходивших русских моряков останавливалась и долго смотрела им вслед. Некоторые, очевидно, даже забывали все свои спешные дела и, бросив все, шли следом за русским.
И воздух в городе был несравненно хуже. Берег был загрязнен отбросами. Из ресторанов несло перегорелым плохим оливковым маслом. Но главное — жара! Невыносимая жара! И это в ноябре месяце!
Если люди бегали и суетились по панелям, то улицы поражали малой подвижностью. Извозчиков здесь не было. Не желающих идти пешком носили в носилках. Иногда кое-кто проезжал верхом на осле. Чаще всего на улицах попадались медлительные быки, которые тащили повозки, нагруженные всяким грузом, преимущественно бочками, пустыми или с вином.
Илья и несколько офицеров не поехали на парадный обед к консулу, а предпочли прогулку в горы. На эту мысль их натолкнули носильщики паланкинов и погонщики ослов, которые обступили офицеров жадной, назойливой толпой. Они что-то кричали, показывали руками на вершину горы, тащили офицеров в паланкины, к ослам.
Ишумов и Львов не знали, как убить время не берегу, и потому безропотно «возлегли» на потертый матрас пестрого паланкина. Илья, Васильев и Островский «ехать на людях» не захотели и предпочли отправиться на ослах. Паланкины и ослы крупной рысью понеслись в гору, носильщики паланкинов и погонщики ослов бежали, не переводя дух, на ходу отирая рукавами потные лбы.
Дорога извивалась мимо фруктовых садов и виноградников. Илья не пожалел, что избрал путешествие на осле. Доверившись всецело погонщику, он свободно наслаждался видами, а лежавшие в паланкинах отчаянно ругались: и видеть было плохо — мешали грязные занавески, и к тому же ни сесть, ни повернуться было нельзя. Стоило сделать движение, и рука носильщика решительно укладывала пассажира в прежнее положение. Носильщикам трудно было нести вертевшихся пассажиров.
До вершины не добрались и остановились на полпути на площадке, поросшей сосновым лесом. Перед глазами расстилался синий океан, на горизонте виднелся какой-то остров, внизу пестрел городок, утопая в зелени, кругом толпились горы — зеленые, серые, синие, нежно-голубые вдали. Тишина была изумительная, и только в кустах звенели бесчисленные цикады.
— А вон наша «Диана»! — воскликнул мичман Львов. — Смотрите, словно игрушка…
Сверху было видно всю палубу фрегата. В подзорную трубу Ишумов разглядел, что у борта стоит какая-то женщина в белом.
— Да это ведь наш «равноапостольный» в белом подряснике…
Отдохнув, спустились в какую-то харчевню, перекусили там и отправились в обратный путь. В городе выпили кофе, перепробовали все фрукты, какие только продавались, и вернулись на фрегат.
Каждый катер, приходивший с берега, был нагружен бутылками и даже ящиками с мадерой. Все возвращались веселые, а многие и «шибко навеселе». У Спиридония тоже оказался в объятиях ящичек с мадерой. На иронические взгляды офицеров, их бесцеремонный смех и остроты он смиренно отвечал:
— Для укрепления здравия… По предписанию доктора… Лечебное. К тому же духовным особам, плавающим и путешествующим и болящим, уставом разрешено пользование вином и елеем!
— Вот бы вы, батюшка, и пили бы елей, — сказал кто-то из офицеров, а нам бы, грешным, вино отдали? А?
Привезли с берега еще уморительную обезьянку Изабеллу, но матросы ее переименовали в «Дуньку». Она сейчас же прицепилась к Кудлашке и стала тянуть его за хвост. Хотел он ее хватить зубами, но получил линьком по шее и, оскорбленный, запрятался куда-то в темный угол, а Дунька с кокосовым орехом под мышкой уселась на самой высокой рее.
Офицеры, обедавшие у консула, вернулись тоже в самом благодушном настроении. Даже командир улыбался. Таким веселым никто еще его не видал.
— Илья, — сказал Вадим, — по-моему, сейчас самый подходящий момент. Попроси его, чтобы он меня назначил твоим вестовым.
Илья посмотрел на Вадима.
— Ты все еще держишь в голове эту дикую мысль?.. Ну, да ладно, попробую!
Илья, однако, не решился говорить с самим командиром и отправился с этой просьбой к старшему офицеру. Тот после консульского обеда был сильно «под мухой», и потому долго не мог понять, в чем дело, но когда понял, то выпучил на Илью свои пьяные глаза и стал протестовать:
— Что вы, мамочка!.. Да вы не рехнулись ли? К н я з я к вам в е с т о в ы м? Да это вы что? Да нешто он станет ваши портки чистить? Грязный ходить будете! Ишь ты, фита какая! К н я з я ему в в е с т о в ы е. Вы, мамочка, пойдите проспитесь. Намадерились не в меру.
Однако Илья убедил его, что это просьба самого князя и что исполнение ее во многих отношениях будет удобно не только для князя…
Степан Степаныч понял наконец и даже обрадовался.
— Правильно! — согласился он, — меньше будет на глаза попадаться! Хорошо придумано! Пусть лучше у вас в каюте сидит! — И он направился к командиру, слегка пошатываясь и подпевая:
«Видно сразу, что мадеры
Я надрызгался без меры».
Командир быстрее его понял удобство такого назначения, и Вадим впервые за все время плавания почувствовал себя счастливым человеком. Он сейчас же завалился на койку Ильи с томиком Купера, а Илья уселся у столика и стал записывать в свой дневник впечатления дня. В открытый иллюминатор дышал теплый морской ветерок.
Спиридоний подружился с местным аббатом и возвращался каждый вечер сильно «намадеренный». Он уверял всех, что если бы «Диана» простояла здесь еще хотя бы с неделю, он бы этого аббата отучил от католической ереси и превратил бы в православного попа. К тому дело шло! Офицеры смеялись и сомневались, что он проводит время у аббата.
За это время стоянки у благодатной Мадеры офицеры рассмотрели как следует свою консульшу. Она оказалась премилой и веселой хохотушкой. Открыли также, что супруг ее — страшный ревнивец. Решили дружно, общими силами «накаливать» консула. Даже Спиридоний преподнес ей розу.
На следующий день решили сделать большую поездку в глубь острова, чтобы посмотреть действующий вулкан. Добрались на ослах до подножия горы и, передохнув, начали подниматься в гору. Взбираться было нелегко: крутые склоны горы были усыпаны пеплом и изборождены застывшими потоками лавы. Но привычные ослы преодолели трудный путь, и скоро путники добрались до свежих потоков лавы, грозно сползавших по склону горы.
Чтобы добраться до кратера, пришлось оставить ослов и довериться проводникам. Те надели на шею лямки с веревками, которыми были привязаны путники. Опираясь на толстые палки с железными наконечниками, проводники тащили путников до самой вершины.
Наконец подошли к самому потоку лавы, которая медленно выползала из бокового кратера. Вулкан ревел, выкидывая снопы огня, а потоки лавы рычали, уничтожая все на своем пути. Трава, кусты, целые деревья трещали и воспламенялись, когда их касалась расплавленная масса. Камни лопались с жалобным звуком. Над потоком стояли густые облака дыма.
Чем выше подымались к кратеру, тем удушливее делалась жара. Кратер имел в диаметре до двухсот футов. Лава поднялась до самых его краев, и в том месте, куда подошли путники, покрылась корой — по ней можно было ходить. Но на другом краю кратера лава еще кипела, из недр вулкана вылетали огромные раскаленные потоки, слышались взрывы, потрясавшие гору до основания. Блестящие раскаленные камни взлетали высоко в небо. Вспышки гигантского пламени бросали отблески на море, все озарялось фантастическим светом, а в пурпуровом море вдруг появились островки. Это был незабываемый огненный фейерверк.
Рано утром с восходом солнца «Диана» отправилась дальше. Ее провожал на лодках почти весь город.
В тропиках
Утро было чудное. Слегка накренившись, на всех парусах понеслась «Диана» в море, и скоро гостеприимный город стал тонуть в нежной розовой мгле.
На небе стояли легкие опаловые тучки, слегка позолоченные по краям утренним солнцем. Дул ровный теплый пассат — самый приятный ветер для парусных судов. У всех было радостно на душе, и невольно хотелось забыть, что там, на родине, в эти декабрьские дни и холодно, и темно, и белый саван покрывает землю, и завывают вьюги…
Проходили экватор, и с разрешения командира, матросы отпраздновали по морскому обычаю это знаменательное событие. Но праздник был омрачен тем, что командир, вопреки всем морским обычаям, не принял личного участия — поручил свою роль старшему офицеру, а сам заперся в каюте. Матросы были этим обижены, однако от праздника не отказались.
И вот все, кроме командира и Паисия, собрались на палубе. Впереди стояли «новички», т. е. те, кто в первый раз пересекали экватор. В этой группе впереди всех стоял Спиридоний, терзаемый бесом любопытства.
Сидя на лифте от пушки, изображавшей царскую колесницу, с грохотом прикатил с бака на шканцы, где собралась вся публика, царь морей Нептун. Он был в вывороченном тулупе, с длинной бородой из пакли, с короной из папки на голове и с огромным трезубцем в руках. Его везли четыре матроса, вымазанные сажей (морские кони). Около Нептуна торжественно шествовали пестро раскрашенные полуголые матросы, прикрытые простынями, с бумажными венками на головах. Это была свита морского царя — тритоны, наяды, нереиды… Рядом с царем шел матрос, наряженный бабой. Он изображал супругу морского царя — Амфитриту.
Колесница остановилась. Нептун сошел с нее и, стукнув трезубцем о палубу, грубым басом вопросил:
— Какой державы вы люди? Откуда и куда идете? И много ли вас на судне офицеров и команды?
Старший офицер на все эти вопросы отвечал толково и обстоятельно:
— Мы русской державы люди. Идем из Кронштадта на Дальний Восток, а потом обратно в Кронштадт. Офицеров у нас 32 человека, а команды 400.
Нептун вдруг замялся. Среди зрителей-матросов и участников игры почувствовалось какое-то напряжение. Послышался чей-то нетерпеливый голос:
«Ну, валяй! Чего стал?»
Но Нептун вдруг потерял свою торжественность и стал барабанить скороговоркой:
— Российские, значит, люди? Наслышаны мы о них в подводном нашем царстве и готовы вам помочь! Угодно ли вам, господин капитан («Старший офицер — не капитан», — крикнул кто-то из матросов), попутных ветров? Ответствуйте.
«Капитан» таких ветров конечно пожелал.
Тогда Нептун спросил, что предпочитает капитан для новичков-офицеров: крещенье водой или выкуп в виде бочки рома? «Капитан» предпочел выкуп и вдруг спросил:
— Да разве Нептун пьет?
Этот вопрос не входил в программу представления, и потому Нептуну пришлось отвечать «отсебятину».
— Точно так, вышескородье, балуется помалости, — ответил морской царь, сойдя с высокого штиля на матросскую речь.
После этой импровизации Нептун опять вошел в роль и торжественно заявил:
— Жалую вас, славные российские люди, попутным ветром и благополучным плаванием. Быть по сему. Урра!
Все прокричали «ура».
Затем началось обливание новичков из брандсбойта. Больше всех пострадал Спиридоний. Супруга морского царя облапила его и разыграла сцену страсти. Морской царь возгорелся ревностью и в ярости чуть не проткнул трезубцем пузо Спиридонию. Затем по его приказу «равноапостольного» купали в бадье… Насилу вырвался Спиридоний из рук «царской» свиты.
Затем, ударив трезубцем по палубе, Нептун воссел на свою колесницу, и она с грохотом покатилась обратно на бак.
…Нептун разоблачался на баке, а группа матросов, его окружавшая, ругала его вовсю. Оказывается, готовилась демонстрация против командира. Нептун должен был спросить старшего офицера, кто командир фрегата, должен был выразить негодование, почему командир сам не вышел встречать царя морей, должен был высказать даже угрозы. На такую импровизацию матрос Васенко, игравший Нептуна, однако, не отважился — струхнул. И теперь его обкладывали все те, кто особенно бил недоволен командиром, кто мечтал хоть на чем-нибудь сорвать свою досаду.
…«Диана» плыла к югу, и с каждым днем жара делалась невыносимее. Попутный ветер совсем не освежал, казалось воздух остановился — не движется! Океан блестел, как расплавленное золото, и лениво колыхал свои гладкие, словно жирные, волны. На небе не было ни облачка, и беспощадные лучи солнца падали отвесно. Летучие рыбки, залетавшие на корабль, моментально засыпали на раскаленной палубе и засыхали. Казалось, мозги плавились. Яркий свет солнца слепил глаза. Растянутый тент не спасал. В каютах не было воздуха. Даже Паисий не вытерпел, вылез из своей «келии» (так он называл свою каюту). Только ночью еще можно было дышать. Поэтому все спали на палубе: и матросы, и офицеры, и консул со своей консульшей. Но и то спалось плохо. Уж очень хороши, сказочно хороши были эти ночи под тропиками!.. Темно-синее небо было густо усеяно огромными неведомыми звездами. Оно искрилось, дрожало разноцветными огоньками. Море горело голубоватым фосфорическим светом. Как падучие звезды, носились в море рыбы, оставляя за собой длинные хвосты медленно погасающего огня.
На палубе в разных углах шли тихие предсонные беседы. В одной группе белобрысый матросик Федька Рыбаков рассказывал тихим тенором нараспев давно всем известную сказку об Иване-царевиче, сером волке и Царь-девице. И бородатые матросы слушали, не спуская глаз с рассказчика, и жадно ловили каждое слово. В другой группе делились воспоминаниями о деревне, об оставленных женах и детях. Старший боцман в назидание молодежи рассказывал, как прежде драли во флоте.
— Куда теперь! Теперь, братцы мои, не порка, а банька! — говорил он.
В другой группе шли разговоры о разных чудесных случаях — о встречах с лешим, домовым… рассказчики божились, что не врут, — либо от родной бабки слышали, либо от тетки.
Господа офицеры лениво болтали на шканцах, попыхивая папиросами. И беседа их не была так разнообразна и колоритна, как беседа матросов. Оживленно говорил только князь Чибисов, выпущенный наконец из-под ареста. Он сидел в кругу своих друзей и вслух мечтал о том, как организовать с ними охоту на жирафов во время остановки у мыса Доброй Надежды. Илья говорил с Ишумовым о морозах и льдах Камчатки, и для всех, изнемогавших от жары, этот разговор был приятен, как порция хорошего мороженого.
Спиридоний шмыгал от группы к группе. Здесь постоит, послушает, там постоит, — всем интересуется. Иногда слово, другое для поощрения сам вставит… Иногда по пути остановится — созерцанию предается, Ломоносова вспомнит, продекламирует с чувством:
Открылась бездна звезд полна,
Звездам числа нет, бездне — дна!
Вздохнет из недр умиленной души и потом сейчас ж предастся своему суетному любопытству — слушать других побежит… Наткнулся в потемках на Дуньку-обезьянку, на хвост ей наступил… Завизжала, уцепилась за подрясник, здорово самого Спиридония перепугала, — за черта ее принял! Он только что звезды считал, о божием величии размышлял — и вдруг эта чертова образина — под ноги! Обозлился монах да каблуком ее в бок! Избалованная обезьяна совсем на это разобиделась и стала рвать ему подрясник, да и сорвала сзади полподрясника. Хорошо еще, что темно было. Обеими руками прикрыл Спиридоний наготу свою и торопливо шмыгнул в каюту.
На «Диане» неспокойно
А жара не унималась. Мало того — стал стихать ветер. Наступил штиль — катастрофа для парусного судна. Шли по узлу, по полтора, иногда и вовсе останавливались. И тогда паруса беспомощно обвисали на реях.
Проходил день, другой… прошла неделя — фрегат лениво покачивался на месте. Около трех недель проболтались таким образом. А солнце пекло все так же неумолимо, и море сверкало все так же нестерпимо для глаз. Питьевая вода испортилась. От жары стали дохнуть куры, утки… Отправился на тот свет боровок Кузька, несмотря на все старания доктора и фельдшера спасти общего любимца. В бочках стала загнивать и без того неважная солонина. Все изнывали от жары.
И вот замолкло пианино в кают-компании. Замерли залихватские цыганские песни. Уже не распевались трогательные романсы и оперные арии. Охрипли от жары тенора и баритоны. Перестали даже мадеру пить. Аппетит пропал… Эх, мороженого бы, да льду нет!..
Нервы у всех напрягались с каждым днем все более и более. Начались взаимные придирки, даже резкости… Как-то все вдруг надоели друг другу.
Матросы бездельничали и хмурые слонялись по палубе, лениво и неохотно отдавая честь.
Командир нервничал, обрывал офицеров и «подтягивал» раскисшую от жары дисциплину. Его возмущало, что матрссы, спасаясь от жары, старались снимать с себя все, чуть ли не до штанов включительно. Бездельные, полураздетые, томясь от жажды и голода, отказывались есть солонину… — потеряли всякий вид, выправку, выдержку…
Участились порки на баке. Вместе с этим с каждым днем росло общее недовольство среди нижних чинов. Назревал бунт.
Боцмана, конечно, первые почувствовали близость надвигающейся грозы и сообщили свои опасения старшему офицеру, который на это ответил свое: «Бамбуковое, черт возьми, положение!» — и не смог решиться сказать командиру, с которым у него отношения в это время тоже несколько испортились. Степан Степаныч только приказал боцманам наблюдать за матросами и докладывать ему.
И вот боцман Гогуля однажды отвел Спиридония в сторону и конфиденциально шепнул ему:
— Батя, ты бы… того… посматривал бы за матросиками… Что-то в кучках шушукаются… Послушай при случае, о чем калякают. Дело, батя, серьезное.
Для Спиридония такое поручение было и лестно и интересно. Подслушивать и сплетничать — это была его стихия. Любопытство его не знало границ. Только обезьяна Дунька не уступала ему в этом отношении… И вот однажды ночью, приютясь за ящиком с мусором, он услыхал голос Павлушки Стахеева, одного из самых задорных матросов.
— И ничего не будет, — говорил Стахеев, — ей-богу! На «Смелом» в 1803 году то же было. Рот заткнули тряпкой, руки назад и — в море. А вахтенного офицера пристращали так, что тот ни гу-гу! Так и сказали: слово пикнешь — жив не будешь! Ну и доложили, упал, мол, за борт ночью. Вытащить, мол, не успели. Чисто было сделано.
— А ревизора Требушкина как же? Ведь это он гнилым мясом кормит. Его бы тоже, — раздался из кучки матросов, окружавших Павлушку, чей-то неуверенный голос.
— Палача сбудем вперед, потом и его в оборот возьмем во как! Он без палача у нас шелковый будет.
— Ну, как, ребята, по рукам?
— Может, подождать? — робко заметил кто-то.
— Чего еще ждать? Тюря!.. И то шкура на плечах еле держится — вся в лохмотьях.
— Са порт! Чего разговаривать? Собаке — собачья смерть! — сказал чухонец, вестовой барона.
В это время Спиридоний, сидя за ящиком, вдруг чихнул. Заговорщики всполошились, кинулись к нему и вытащили.
— Подслушивать?!. Подглядывать?!. — зашипели все окружившие его матросы. И с перепугу Спиридонию показалось, что у всех у них глаза загорелись, как у голодных волков в зимнюю ночь.
Монах был ни жив ни мертв. Он разевал рот, хотел что-нибудь солгать в свое оправдание, но только лязгал зубами — ни одного слова сказать не мог! Еще момент — и «равноапостольный» полетел за борт. Тут только во время полета разверзлись уста его, и он огласил Атлантический океан душераздирающим воплем.
— Человек за бортом! — закричал вахтенный, стоявший на мостике.
Началась суматоха на фрегате: бросали круги тонувшему, опустили фонари к самой воде, спустили шлюпку и наконец выудили Спиридония.
Вытащили утопленика, рассмотрели его… И все стали хохотать; даже те хохотали, кто его кидал за борт, — уж очень он был смешон после ночного купания в океане!
— Что это вы, отец Спиридоний, купаться вздумали по ночам? И акул не боитесь? — спросил его вахтенный офицер. Спиридоний почувствовал, как кто-то из матросов дал ему тумака в бок.
— Купался!.. купался!.. Ей-богу, купался! — Забарабанил монах, отряхиваясь, как пудель. — Уж очень жарко, ваше благородие.
— Верно рому перехватил с Паисием! — решил вахтенный.
Так это мнение и установилось: напился де батька до чертиков, да за борт и сиганул. Спиридоний этого не отрицал: «Грешен, грешен» — говорил он. После купания Спиридония бунтарское настроение на фрегате вдруг улеглось. Мысль бросить в море командира как-то сама собой замерла.
А тут вдруг потянул ветерок, сперва легкий, потом посвежее. Опять надулись паруса, и «Диана» всей своей белоснежной грудью понеслась к югу, и чем ближе подходила она к мысу Доброй Надежды, к южной оконечности Африки, тем становилось все свежее. После нестерпимой жары тропиков показалось даже как-будто и холодновато. Как-то все подтянулись.
Командир заметно присмирел и больше сидел в своей каюте, причем старательно запирал ее на ключ. Ревизор Требушкин торжественно вывалил в море всю гнилую солонину и перевел матросов на кашу с маслом.
Продвинулись еще дальше на юг, и скоро все стали чувствовать себя, как в Финском заливе: серое небо, моросящий дождь…
Стояла ранняя весна, и потому погода была неустойчивая, как на севере.
Мыс Доброй Надежды
«Диана» бросила якорь в Фельсбейском заливе, в Саймонской бухте. Отсюда было 36 верст до Капштадта. Так как предстояла длительная остановка, то начались поездки в Капштадт. Уступая просьбе Ильи, командир отпустил под его ответственность на берег и Вадима. Когда Вадим ступил на твердую почву, его лицо даже просветлело… С октября по март — пять месяцев — все время просидел он на фрегате. Теперь даже отучился ходить по твердой почве — качало!..
Он был так счастлив, что сказал Илье:
— Знаешь… если бы я не был отпущен за твоею ответственностью, я, кажется, сбежал бы! Тут бы и остался. До чего мне надоела наша «Диана»!
Илья нанял коляску и с Вадимом покатил в Капштадт. Дорога сначала шла по берегу у самого подножия черных отвесных утесов, мимо рыбачьих поселков. Затем утесы стали вырастать и вместе с тем отходить мили на три от берега… Пейзаж принял более мягкий характер: потянулись фруктовые сады, домики фермеров, виллы, одна красивее другой… Дорога оживилась — стали мелькать красивые коляски, кабриолеты, фуры с товарами… По мере приближения к Капштадту все отчетливее и яснее стали выступать вдали три горные громады: массивы, венчающие собой южную оконечность Африки, три горы — Столовая, Львиная и Чертов пик — все очень странной фантастической формы.
Между тем погода разгулялась. Серые тучи сгрудились около гор. Небеса очистились, и ласковое солнце заливало все своим светом. Даже мрачные горы как будто посветлели и оживились: на их черных склонах засверкали отдельные куски малахитовой зелени. Издали эти пятна казались какой-то плесенью, на самом же деле это были могучие вековые леса.
Илья с Вадимом пообедали в голландской гостинице, осмотрели ботанический сад и долго бродили по Капштадту.
Погода опять стала хмуриться, и с гор поползли вниз засевшие там тучи, поползли, как куски ваты. Пришлось отказаться от поездки на Львиную гору и вернуться на фрегат.
С мыса Доброй Надежды отправлялись последние письма на родину. Следующая отправка должна была быть уже только в Охотске. Поэтому все уселись за писание писем. Даже Спиридоний сочинил некую «эпистолию» «умилительную», как он сам говорил, хитро подмигивая офицерам. Он заключил ее в розовый конверт и сам лично свез на почту, так никто и не узнал, кому была адресована «эпистолия».
В ожидании бурь Индийского океана старушку «Диану» стали тщательно готовить к этим новым испытаниям: опять закрепляли мачты, подтягивали реи, опять подправляли обшивку, заново проконопатили некоторые места корпуса. Наконец вскрыли таинственные ящики, погруженные в Портсмуте, — оказались три пушки какой-то новой невиданной конструкции. Их длинные дула говорили о том, что они, по-видимому, обладают особой дальнобойностью. Пушки установили на палубе так, чтобы в поле их обстрела попадало по возможности больше пространства.
Незадолго до отплытия «Дианы» вернулась компания сиятельных охотников. Нарочно на берегу не побрились, не почистились, чтобы показать всем, насколько они одичали в джунглях Африки. Обросшие, загорелые и ободранные, они принесли с собой массу впечатлений и кучу охотничьих рассказов. С кем только они не схватывались за эти две недели: и со львами-то, и с тиграми-то, и с удавами, и на слонов охотились, и на бегемотов! Были у них даже кровавые схватки с черными людоедами, — чуть было на зубы к ним не попали! Особенно увлекательно врал князь Чибисов.
На всех парусах вышла «Диана» из залива и направилась теперь на запад, в новый океан — Индийский.
Старик штурман озабоченно бегал к барометру и только покручивал седой головой. Матрос Агафонов, побывавший уже в этом океане, пугал новичков своими рассказами. Все как-то подтянулись и озабоченно смотрели вперед.
Между тем ветер крепчал. «Диана» неслась на марселях в четыре рифа. Консул с консульшей на всякий случай заперлись в каюте. Спиридоний, перепуганный общими ожиданиями чего-то ужасного, запасся «вервием» и уселся около грот-мачты, чтобы быть готовым здесь встретить бурю, и даже ведерко около поставил. «Вот сюда, вот к этому крюку, в случае чего», — просил он матросов, тыкая пальцем в излюбленный крюк.
В Индийском океане
Прибежал штурман и без всякого этикета, увидя командира, закричал:
— Ураган идет! Через полчаса! Барометр падает!
— Все наверх! — скомандовал командир.
— Все наверх! — крикнул старший офицер.
Застрекотали боцманские гудки, и по вантам, по реям суетливо забегали белые рубашки матросов.
— Спустить брам-стеньги! — орал старший офицер. Закрепить марселя! Поставить штормовые триселя, штормовую бизань!
Минуты через четыре-пять все мачты «Дианы» оголились. Только несколько малых штормовых парусов тревожно полоскались на снастях. Все невольно обратили взоры вперед. Навстречу «Диане» ползла какая-то зловещая мгла.
— Вот оно! Вот! — говорили старые матросы. У всех сжались сердца. Ждали…
— Привяжите меня, братцы! — вопил Спиридоний, протягивая направо и налево свое «вервие». Спиридония привязали уже без шуток и смеха.
Мгла приближалась. «Диана» еле двигалась вперед. Прошло пять минут… шесть… десять… Целая вечность! И вдруг как-то сразу мгла покрыла собой «Диану», словно шапкой всех накрыла. Среди белого света вдруг наступила кромешная тьма. С ужасным ревом налетел ветер, стал рвать с голов фуражки, злобно трепал все, что было плохо привязано. «Диана» задрожала всем своим корпусом, жалобно заскрипела и вдруг легла почти на бок. Крик ужаса вырвался из многих грудей. Слишком внезапен был этот налет. Океан сразу закипел вокруг. Во тьме слабо видна была одна пена, она крутилась вокруг «Дианы», крутилась на палубе.
Сразу сорвало две шлюпки. Холодящий ужас, ужас перед лицом неизбежной смерти спустился на всех. И в эту жуткую минуту прозвучал в рупор по всему фрегату, покрыв рев урагана, спокойный голос командира:
— Держись крепче, ребята!.. Не робей, молодцы!..
И сразу у многих ужас сменился каким-то величавым спокойствием. Только Спиридоний орал, как недорезанный подсвинок.
Боцман Гогуля загнул крепкое слово, и без рупора оно разнеслось по фрегату, и это тоже подействовало успокаивающе: боцман ругается — ну, значит, живы еще!
С час времени крутило «Диану»… Вдруг фок-мачта стала наклоняться, и стали лопаться снасти. Потом мачта с грохотом легла на борт.
— Фок рубить!.. снасти рубить! — раздалась команда, и матросы, хватаясь за что попало, поползли к упавшей мачте с топорами. Ее с трудом сбросили в море за борт, а с нею вместе и матроса Петренку, который запутался в веревках. Зазевался парень! Только и успел крикнуть: «Прощай, братцы».
Ураган крепчал. «Диана» перестала слушаться руля. Ее повернуло бортом к волне… Теперь волны свободно перекатывались по палубе, ломали в щепки и уносили все, что не могло противостоять их ярости.
Бледный, как смерть, стоял на мостике командир, с ним старший офицер, штурман и вахтенный. Стояли, вцепившись обеими руками за поручни.
— Ребята! — крикнул вдруг старик унтер-офицер Молов, — ребята! вниз! рубахи одеть чистые!.. перед смертью!.. «Матросскую правилу исполнить!» Матросы дрогнули, и часть их оторвалась от леера.
— Ни с места! — крикнул командир в рупор. — Держись, ребята!
— Господи! Микола милостивый! Вот страсти! — воскликнул в ужасе новичок матросик Иванцов, попавший на «Диану», можно сказать, прямо от сохи.
Вдруг налетел вал, оторвал его руки от леера и понес его с собой… С тоской смотрели ему вслед глаза товарищей-матросов. Нет!.. Уцелел!.. Ухватился обеими руками за пушку, застыл на ней… Врос в нее… Уцелел…
«Диана» опять легла на борт и долго не могла встать — ураган не позволял ей подняться! Несколько секунд… может быть минут, может часов лежала на борту… Никто сосчитать времени не мог. Конец? Нет!.. Выпрямилась и сейчас же легла на другой борт.
Но вот ураган стал стихать. Слышно было, как рев его удалялся куда-то дальше, и мгла стала рассеиваться, редеть. Быстро просветлело небо, и сквозь темные низкие тучи прорвался луч солнца.
Море ревело по-прежнему. «Диану» все так же бросало из стороны в сторону. И волны по-прежнему перекатывались по палубе, унося все, что еще не было унесено. И смерть все так же угрожала всем. Но теперь над головой уже сияло небо, а проклятая мгла темным облаком висела где-то далеко над горизонтом. Черные, как сажа, волны, теперь озаренные, пронизанные солнечными лучами, вдруг сделались прозрачными и нежно-голубыми. Над их серебряными коронами заиграли многочисленные радуги. Радуги бегали, скакали над пеной, словно гонялись одна за другой… И на душе у всех сделалось радостно и светло.
…На всех парусах с ровным ветром неслась «Диана» на запад. Но взбешенный ураганом океан долго не мог успокоиться — высокие, с пятиэтажный дом, волны гуляли по его безбрежному простору. «Диана» тяжко, медленно кряхтя, как старуха, взбиралась на эти прозрачные синие горы, задерживалась ненадолго на шипящих пеной гребнях, бросалась стремглав куда-то вниз, а потом упорно взбиралась опять вверх. Ее трюм был полон воды, — воду выкачивали днем и ночью. Грот-мачта держалась только на вантах.
Отслужили панихиду по утонувшему матросу. Вспоминали его. Славный был матросик! Как жена-то в Кронштадте ревела!.. Чуяла, сердешная!.. И ребятенок остался!.. Эх!..
Потом стали вспоминать пережитую тревогу. И то, что было несколько дней назад ужасным, теперь стало казаться только смешным… Вспоминали, какая у кого была физиономия. Хохотали над Чириковым, который умудрился во время бури потерять штаны, и алчный океан унес их. Ему все пригодится.
За несколько дней до прибытия к берегам Австралии, консул с консульшей уже уложились. Надоело им плавание невообразимо. Все приставали к штурману: «Скоро ли приедем в Мельбурн?».
Наконец на горизонте голубым туманом обрисовались берега Австралии.
Мельбурн
Все оживились, вооружились подзорными трубами и стали всматриваться в далекий берег, медленно выраставший из воды и темневший по мере приближения к нему.
Только что бросили якорь в гавани Мельбурна, только что командир отвалил на своем вельботе делать визиты, — сейчас же отвалили от борта «Дианы» и консул с консульшей.
В Мельбурне царила тревога: обыватели собирались группами на улицах, в кофейнях и рассуждали о чем-то с жаром, с жестикуляциями… Продавцы газет бегали и выкрикивали что-то. Газеты расхватывались, читались сейчас же вслух. Оказалось, что «Диана» подошла к Австралии как раз в тот момент, когда там восстала большая группа каторжан, работавших на разных фермах. Это восстание вызвало несколько туземных племен к вооруженному выступлению против белых. Каторжники соединились с черными, сорганизовали их и стали действовать заодно. И вот газеты вопили на разные лады, развивая одну тему: «Угроза европейской цивилизации! Угроза христианству!» — и звали всех идти в «крестовый поход» против «насильников и преступников». Дикари отказываются принимать дары высокой культуры, морали и религии. Дикари должны уступить более высокой культуре. Таков закон жизни — хищные животные исчезают там, где высокая культура пускает свои корни, и так далее.
Особенно волновались в Мельбурне те, у кого в глубине материка были золотые прииски, угольные копи, у кого в далеких джунглях, сидя за высокими заборами, сейчас отстреливались родичи и компаньоны, осажденные мятежниками. Да и уцелели ли они?.. Волновались и те, кто только что приехал в Австралию с надеждой обогатиться, набить карманы и скорее убраться прочь. Вот почему все мельбурнцы единогласно решили, что «во имя высокой культуры» надо переловить и перевешать каторжан и перебить побольше туземцев. Войсками австралийское правительство не было богато, и потому вся надежда была на волонтеров. Денег было сколько угодно: местные банки пришли на помощь, открыв щедро кредиты на подавление восстания. В церквях священники, в соборе сам епископ говорили пламенные речи о необходимости борьбы за спасение креста и его служителей.
Записавшиеся волонтеры расхаживали в походной форме, лихо покручивали усы и победоносно посматривали по сторонам. На днях назначено было выступление первого отряда.
Но не зевали и инсургенты — они по всем портовым городам разослали своих эмиссаров — вербовали беглых матросов и всяких авантюристов, скупали оружие. Полиция ловила этих эмиссаров, особенно гонялась за одним из самых ловких и увертливых. В газетах даже приметы его были напечатаны. Это был один из вождей и главных организаторов восстания, ирландец Джеральд Броун, осужденный за участие в восстании против Англии и сосланный в Австралию на каторжные работы. Он бежал с фермы, куда был послан в качестве работника, к туземцам, там прижился, женился и повел исподволь тайную пропаганду среди товарищей-каторжан и среди туземцев. Благодаря золоту, найденному туземцами в горах, он заблаговременно сделал хороший запас оружия, закупил военные припасы. И вот час настал. Восстание вспыхнуло и притом в таких размерах, которых никто не предвидел.
И дрогнули сердца банкиров, финансистов, держателей акций и облигаций. Вести о восстании долетали до Англии, до Америки. Катастрофически стали падать австралийские бумаги, стали лопаться предприятия. Вот почему вопили в газетах о том, что европейская культура и христианство в опасности. «Крестовый поход! Крестоносцы будут хорошо оплачены! Будут вооружены ружьями лучших систем, разрывными пулями!»
В такой серьезный момент «Диана» бросила свой якорь в гавани Мельбурна. Израненная ураганом, без фока, с расшатанным гротом, с переломанным такелажем, с трюмом, полным воды, вошла старушка «Диана» в порт в надежде отдохнуть и основательно починиться, оправиться, почиститься… Стоянка предстояла месяца на два, в зависимости от окончания ремонта. Надо было разоружиться, чтобы войти в док. На все это надо было время. И вот оказалось, что из-за восстания ремонт не налаживается.
Командир ходил злой и с хрустом ломал пальцы. Старший офицер чесал с остервенением затылок и повторял: «Бамбуковое положение, черт возьми!» Только молодые офицеры были довольны — решили взять отпуска по очереди недели на две: посмотреть Австралию… да еще в такой интересный момент! К тому же охота на кенгуру, на казуаров! Об этом особенно мечтали мичманы-аристократы, мечтали вслух, а, собравшись в каюте Чибисова, говорили о другом — о приятной возможности «поохотиться на людей», на «мятежную сволочь»!
Таких охотников во славу «культуры» и «креста» оказалось на фрегате человек шесть, и все они, воспользовавшись двухнедельным отпуском, примкнули к первому же карательному отряду, отправляемому вовнутрь страны.
Вадим жадно проглатывал газеты — он умел читать между строк и без труда понял, что газеты лгут, что вся австралийская история вызвана авантюрами капиталистов, их алчностью и бессердечием. Все симпатии Вадима были на стороне восставших. Вот почему всякий раз, когда Илья брал его с собою на берег, он обычно слонялся по кабачкам, тавернам, темным притонам и жадно прислушивался к тем толкам, которые будоражили людей социального «дна». В их речах чуялась ему настоящая правда. Для русского князя-романтика в этом подполье австралийского города нашлось много увлекательного. Он услышал здесь пламенные речи тайных эмиссаров, защитников свободы; он увидел здесь переодетых сыщиков, раза два сам попадал в полицейские облавы и засады. Однажды он еле унес ноги от перекрестного огня: стреляла полиция и стреляли в нее.
В этих кабачках Вадим несколько раз встречал высокого, чернобородого парня, который, казалось, более наблюдал, чем действовал. Но по некоторым признакам именно он и дирижировал всей подпольной работой.
Несколько раз Вадим ловил на себе его упорный взгляд, несколько раз и незнакомец вдруг оборачивался, чувствуя на себе взгляд Вадима.
Наконец познакомились и разговорились. Сразу завязалась дружба. Открытое честное лицо Вадима, его глаза, смотрящие прямо и выдерживающие стойко всякий испытующий взгляд, его явное сочувствие к восставшим, — все это располагало к доверию, и таинственный незнакомец как-то сообщил Вадиму, что он — один из руководителей восстания, что его ищет мельбурнская полиция. Он стал усиленно звать Вадима в ряды инсургентов. Вадим отказался, но, надо признаться, не без колебаний, скрепя сердце. Тогда незнакомец предложил ему поездку в глубь материка. Это предложение увлекло Вадима, и он принялся уговарить Илью поехать с ним.
В недрах Австралии
И вот, в тот самый день, когда рано утром из города выступил первый эшелон волонтеров, когда горожане восторженными криками провожали доблестных защитников «культуры» и «креста», когда в городе на всех домах веяли знамена и флаги, на площадях гремели оркестры, — Илья и Вадим, незамеченные никем, вышли из опустевшей гавани и направились берегом к западу. Скоро и город и гавань остались далеко за ними. Путники торопились — до прилива они должны были дойти к назначенному пункту, где их, по условию, ждал проводник.
Они шли по мелкому прибрежному гравию, по грудам морских водорослей. Справа от них тянулись черные отвесные скалы, слева шумел прибой. Огромные пенистые валы обрушивались на пологий берег и разбивались в какую-то ворчащую кучу живой ваты, которая, шипя, ползла к ногам Ильи и Вадима. Каждый вал нес облако водяной соленой пыли, которая на мгновение застилала все влажным туманом.
В назначенном месте около одинокой кривой сосны, росшей на утесе, Илья и Вадим встретили хмурого старика, который пытливо посмотрел на них. Вадим сказал ему условный пароль: «либерти» — старик, сняв широкополую шляпу, протянул путникам жесткую мозолистую руку, потом, не сказав ни слова, жестом пригласил следовать за ним. С легкостью, не соответствующей его возрасту, поднялся он на вершину утеса и остановился в ожидании Ильи и Вадима, которые еле ползли по крутой тропке. Обломки острых кремней осыпались под их ногами. Держаться было не за что: стена голых черных скал была почти отвесна, и никакой растительности, кроме мха, на ней не было.
Когда Илья и Вадим взобрались наконец на вершину утеса, они увидели перед собой огромную холмистую степь. Впереди на краю горизонта синей лентой тянулась полоса леса, а за лесом, еще дальше, голубел хребет каких-то гор.
— Горы Монга-чапа, — сказал старик-проводник, указывая рукой на далекий хребет. — Там центр нашего восстания, — добавил он и замолчал.
Откуда-то из-за груды скал, из пещер он вывел трех оседланных лошадей. Все трое крупной рысью отправились к синевшему вдали лесу. Чем более удалялись они от океана, тем чувствительнее делался зной. Степь была покрыта скудной сухой травой. Между чахлыми кустиками цветущей мимозы только кактусы да алоэ выделялись своим ростом.
Неподвижный воздух дрожал от зноя и звенел от массы мелких мошек, москитов и песочных мух, размером менее булавочной головки. Все эти насекомые реяли тучами вокруг трех всадников, лезли им в глаза, в рот, в нос!
— Алмазная змея! — сказал вдруг проводник и, сразу, затянув поводья, остановил лошадь. — Чуть не попались.
Илья и Вадим тоже остановились.
Саженях в трех от них на солнцепеке лежал отвратительный клубок змеиного тела, сверкавший всеми цветами радуги. Точно разноцветными камнями, была усыпана эта действительно алмазная змея из породы удавов. Ее огромная голова, увенчанная сверкающими блестками, держалась высоко на массивной шее. Змея увидела всадников и следила за каждым их движением злыми, неподвижными глазами.
Вадим вытащил пистолет. Но проводник остановил его и сказал:
— Не стоит возиться! Объедем ее. — Объехав змею, отправились дальше. Ехали несколько часов.
Въехали в лес. Странное впечатление произвел этот лес на Илью и Вадима. Перед их глазами была колоннада высочайших деревьев: баобабы, эвкалипты, гигантские пихты, кедры уносились куда-то вверх, застилая порой небо и солнце своей непроницаемой листвой. Стволы их перепутаны были нежными, змеевидными лианами, которые легко и грациозно перебрасывали свои ветви с одного дерева на другое. Внизу у подножия ствола росли пальмы и огромные кусты папоротников. Стаи розовых попугаев с резкими криками носились по лесу, гоняясь за огромными бабочками.
Иногда яркие лучи солнца прорывались сквозь чащу древесных вершин, и тогда эти освещенные клочки леса горели яркими изумрудами и малахитами сырой и свежей зелени.
Теплый, как бы тепличный воздух был насыщен ароматами: пахло какой-то смолой, эвкалиптом, мускусом, розмарином. Трудно было определить истинную природу этого сладкого, приторного, пряного запаха.
Вдруг по лесу раздался резкий хрип, переходящий в кашель. Этот внезапный крик покрыл собой все звуки леса и заставил вздрогнуть Илью и Вадима. Они даже лошадей остановили.
— Ничего! — успокоил их проводник, — это сорока наша… австралийская, «смеющаяся сорока»! У вас, в Европе, они, помнится, стрекочут, а здесь у нас — смеются! — Он помолчал и добавил: — а я помню еще тех сорок, ваших… Я тогда мальчишкой был.
— А здесь, в Австралии, вы давно? — спросил Вадим.
— Давно! Уже сорок лет. В пожизненной каторге я, — добавил он, вскинув острый взгляд на Вадима. — Вот теперь на свободе. Посмотрим, надолго ли…
Впереди между стволами вдруг блеснуло голубое зеркало воды.
— Озеро? — спросил Вадим.
— Река, — ответил старик.
Подъехали к берегу и остановились.
Тихо, почти неподвижно среди лесной чащи протекала небольшая река, иногда совсем скрываясь в темной чаще, иногда вырываясь на лужайку, озаренную солнцем.
Движения воды в этой реке почти не было заметно — река казалась озером, почти болотом.
Всадники подъехали тихо и вспугнули стаю розовых цапель, которые лениво бродили по воде.
Старик остановил свою лошадь, приложил обе руки ко рту в виде рупора и вдруг каркнул. Так каркнул, что Илья и Вадим от неожиданности еле усидели на лошадях. Лес отозвался эхом и тревожными криками разных птиц. Старик подождал, к чему-то прислушался. Потом каркнул еще раз. И откуда-то издалека раздалось ответное карканье.
— Придет туземец, — сказал старик, — он поведет вас дальше. Тут идти будет опасно. Будут капканы, западни, да еще с отравленными стрелами. Я не берусь вести вас. Он проведет вас к нашему Броуну, а я вернусь в Мельбурн.
И, пожав руки Илье и Вадиму, старик-каторжник повернул коня в обратную сторону и поскакал галопом.
Всадники остались одни в девственном лесу, в этом странном лесу, где не было ни одного знакомого дерева, где птицы кричали, как звери, и звери щебетали и свистели, как птицы, где все дышало такими ароматами, от которых кружилась голова… Нервы у обоих были напряжены. Каждый новый неожиданный звук заставлял их вздрагивать и хвататься за ружья.
— Вадим, — заговорил Илья, — кажется, я сделал глупость, что послушал тебя. Куда мы с тобой попали? И куда мы еще попадем?.. Оказывается — к Броуну. Да ведь это — главный вождь восстания!.. Мы можем вляпаться в такую историю, что во всю жизнь не расхлебаем. А все твои фантазии.
— Не ворчи, дружище, — ответил, смеясь, Вадим. — Пока все идет великолепно, а главное интересно! Старый каторжник, сказочно-диковинный лес, да еще в гостях у вожака восстания! Чудесно!
Вдруг без малейшего шума, даже без шелеста листьев раздвинулась густая поросль папоротников, и откуда-то из темной глуби вынырнул стройный темнокожий туземец, по-видимому, юноша. Лицо его было вымазано белой и красной красками. Глаза были обведены огромными черными кругами, словно глядели из чудовищных очков.
Видя, что всадники схватились за ружья, туземец замахал обеими руками и испустил какие-то гортанные звуки, в которых не было ничего угрожающего. Илья и Вадим поняли, что это и есть их новый проводник. За ухом у него, в густой шапке волос, торчало перо цапли. На левой руке был браслет из мелких и острых зубов какого-то зверя. На шее болталось что-то вроде медали — не то плоский круглый камень, не то бляха из какого-то металла. Нос, уши, нижняя губа были проткнуты палочками, кольцами… На бедра были одеты короткие кожаные штаны. В левой руке он держал копье и пучок стрел. На спине у него висел лук. Легкий и гибкий, он выскользнул из зеленой чащи и стоял перед путешественниками точно изваяние, вылитое из шоколада. С большим трудом на его страшно размалеванном лице рассмотрели путешественники добродушную улыбку и в огромных глазах его распознали что-то даже ласковое.
— Гоон-Кира, — сказал шоколадный юноша, показывая на себя и расплываясь в улыбке. Потом он проделал руками что-то мудреное: и махал ими, и к сердцу прикладывал, и к ушам, и к глазам.
Илья и Вадим растерянно кланялись ему и протягивали свои руки. Но на рукопожатие юноша почему-то не пошел.
Потом он произнес какую-то речь на своем удивительном языке, полуптичьем, полузверином. Вадим отвечал ему по-русски и тоже приложил руку к сердцу. Илья хмурился и делался все молчаливее.
Гоон-Кира жестом пригласил всадников спуститься в реку. Отправились вниз по течению, причем проводник шел в воде иногда по пояс, иногда по щиколотку. Река оказалась мелкой, и дно, сверх ожидания, довольно твердым. Когда река скрывалась в чаще непроходимого леса, на путников спускалась ночь — не видно было ни солнца ни неба. В этой сырой пряной мгле дышалось особенно тяжело. Когда же река вырывалась на простор света и деревья отходили куда-то в сторону, дышалось легче. Солнце заливало все своими палящими лучами, и вода реки вдруг делалась прозрачной. Видно было, как из-под лошадиных копыт бросались в сторону стаи каких-то невиданных рыб. Как маленькие змеи, пестрыми лентами извивались угри. Обеспокоенные путниками, вырывались из воды летучие рыбы, мелькали в солнечных лучах, как яркие медные блики, и снова падали в воду.
Это своеобразное путешествие по реке к какой-то неведомой цели было в высшей степени интересно, по крайней мере для Вадима. Он в первый раз за все время плавания наслаждался свободой. Но Илья хмурился все более и более. Давно уже куперовские настроения покинули его, остались в Гавани. Теперь он мучился мыслью, что пустился в авантюру, которая может иметь дурные последствия.
— Ссс! — вдруг зашипел Гоон-Кира, показывая пальцем вперед.
Всадники остановили лошадей и устремили напряженные взгляды в ту сторону, куда указывал палец дикаря.
— Нага-нага! — прошептал дикарь, накладывая стрелу на тетиву лука.
По реке плыло какое-то диковинное животное. Маленькая отвратительная голова с огромным широким утиным клювом торчала над водой. Тело было в воде.
Дикарь нацелился, натянул тетиву. И вдруг откуда-то сверху, с ветвей эвкалипта, бросилась в воду змея какой-то странной формы. Она накинулась на плывущее животное и моментально покрыло его своим отвратительным красно-бурым волосатым телом.
— Вапа-ненди! — крикнул дикарь и на миг задержал стрелу.
Но миг прошел… И с легким свистом стрела сорвалась с лука Гоон-Киры и вонзилась в тело змеи. Столб воды поднялся на том месте. Еще одна стрела тихо свистнула в том же направлении. И как пантера, огромным прыжком бросился Гоон-Кира с огромным ножом туда, где разыгрывалось последнее действие кровавой драмы.
Дикарь наносил удары ножом, и около него вода окрасилась кровью. После минутной возни Гоон-Кира испустил ликующий крик, и путешественники увидели в его руках огромный комок двух сцепившихся невиданных зверей.
Вапа-ненди так впилась в тело нага-нага, что даже смерть не могла вырвать у нее добычи. Пришлось отдирать силой. Брюхо змеи было грязно-желтого цвета и все было покрыто противными присосками. Ни головы, ни хвоста у этого мерзкого волосатого животного не было видно.
Гоон-Кира ликовал. Он шумно выражал свой восторг: подплясывал, причмокивал… Окровавленными руками он любовно гладил обоих зверей.
Потом он забрал свою, очевидно, очень вкусную, добычу, и путники отправились дальше.
Ехали рекой еще часа два. Тревожно поглядывали на ветви деревьев, змеившиеся над их головами, — высматривали, не сидит ли там в ветвях еще какая-нибудь омерзительная вапа-неди, очевидно опасная не только для нага-нага, но и для людей и для лошадей.
Наконец выбрались на берег и углубились в лес, более мелкий и поэтому залитый светом. Здесь, в этих джунглях, начались те капканы и западни, о которых говорил старый проводник.
Гоон-Кира пошел тихо, озираясь по сторонам, внимательно всматриваясь вперед, часто останавливаясь… Иногда он сворачивал с тропы и вел путников в обход, минуя некоторые места.
Вдруг откуда-то издалека стали слышаться глухие удары, сначала редкие, потом частые.
Гоон-Кира радостно засмеялся и, показывая рукой в сторону, откуда доносились звуки, стал что-то объяснять. В его длинной речи Вадим уловил одно слово, которое тот повторял особенно часто: «красс» (деревня).
— Красс? — переспросил Вадим.
— Красе! — радостно залопотал дикарь, полагая, что наконец иностранцы его поняли и общий язык найден.
Лагерь инсургентов
Добрались до большого села. Там царило оживление: оглушающе громко в тихом вечернем воздухе гремел огромный барабан, сзывавший, очевидно, не только местных жителей, но и других окрестных сел. Женщины суетились около костров, и приторный запах жареного мяса заглушал собой все другие запахи этого вечера. Голые ребятишки толпились около шипящей в огне говядины и алчно смотрели на лакомство. В центре селения, у какой-то большой постройки, сидели старшины и вожди. Их было много, — очевидно, здесь собрались представители разных племен и, вероятно, ждали еще кого-то, так как барабан все еще гремел неустанно, без передышки.
— Монгалунки! Ногарнуки! Иготаки! — твердил Гоон-Кира, показывая пальцем на сидящих. Он очевидно называл племена, к которым принадлежали сидевшие вожди. Среди этих страшных черных лиц, раскрашенных в самые разнообразные краски, был только один европеец. К нему и подвел Гоон-Кира путешественников. Появление их прервало горячую речь какого-то черного вождя. Он как раз в этот момент дошел до высшей степени пафоса: потрясал копьем, грозил кому-то кулаками, выкрикивал какие-то неистовые слова. Сидевший с дикарями европеец встал, подошел к Илье и Вадиму и протянул им руку.
— Добро пожаловать, — сказал он. — Броун Джеральд, — отрекомендовался он. Мы с вами уже знакомы, — сказал он Вадиму, и Вадим в нем признал своего мельбурнского знакомого. Только теперь он был без черной бороды.
— Посидите, — сказал Броун, — я сейчас занят. Мы разрешаем важный вопрос жизни и смерти — обдумываем, как ответить на посылку карательного отряда из Мельбурна.
Совещание продолжалось. Возбуждение черных ораторов все росло. У некоторых глаза, казалось, готовы были вырваться из орбит и горели огнем ярости. Зубы скрипели и щелкали, ноги и руки выделывали какие-то судорожные движения. Жутко было смотреть на этот своеобразный «военный совет» австралийских вождей.
В конце заговорил Броун. Его спокойную речь слушали со вниманием, даже с благоговением. Конец ее был встречен кликами ярости. Даже для незнающих языка было понятно, что борьба с белыми угнетателями на этом совете была решена беспощадная.
После совещания Броун пригласил путешественников в общество вождей. Встреча была вежливая, но сухая, сдержанная.
— Ну, где хотите ночевать? — спросил Броун Илью и Вадима, — здесь или в моем лагере, в обществе белых каторжников?.. Советую здесь, так как утром будет охота на кенгуру и казуаров. Заготовляем провизию для войны, — добавил он. — Впрочем, пойдем лучше ко мне. Я утром вас разбужу, и на охоту вы поспеете.
Илья и Вадим пошли за ним и через полчаса очутились в лагере белых.
Многие уже спали у потухающих костров, другие сидели и вели беседу вполголоса.
Какие все мрачные лица! Молодые и старые, но все озлобленные, решительные!
Броун усадил гостей около одного костра и угостил их жареным мясом.
— Кенгуру, — сказал он, — нравится?
После долгой, с утра до вечера, поездки верхом нежное сочное мясо обоим показалось восхитительным.
Броун рассказал им на сон грядущий свою историю. Еще мальчиком провинился он у себя на родине, в Ирландии. Был страшный голод. От голода вымирали села. Он с товарищами взломал амбар одного лорда, который выгодно торговал мукой и ни одной горсти не давал даром. Джеральд был пойман, избит и посажен в тюрьму. После отсидки он вышел на свободу. Остался один, как перст: отец, мать и сестра умерли голодной смертью. Джеральд избил того лорда. Опять тюрьма! А там и пошло. Он сделался непримиримым врагом всех лордов, баронов и баронетов, всех тех, кто губит нищих и голодных и набивает мошну. На фабрику поступил — повел пропаганду. Арестовали… сопротивлялся. Чуть не убил полисмена — и вот на каторге уже несколько лет… И все мы такие, — сказал он, показывая на спящий лагерь каторжан.
Броун рекомендовал спать на открытом воздухе.
— Только вот этих опасайтесь, — сказал он, показывая рукой на какие-то безобразные темные тряпки, которые быстро, почти бесшумно кружились над погасающими кострами.
— А что это? — спросил Илья.
— Вампиры, — ответил Броун. — Умереть от их укуса нельзя, но крови могут много выкачать.
Тишина опустилась на лагерь. Небо горело и переливалось незнакомыми созвездиями. Светящиеся жучки живыми искрами бороздили в разных направлениях ночную тьму. Где-то вдали завывали дикие собаки. На горизонте тревожно дрожали в разных местах зарева горящих ферм.
Вадим спал крепко. Илья сидел и думал. Глядел на незнакомое ласковое небо, на эти тревожные алые пятна далеких пожарищ. Потом усталая голова его склонилась на грудь. Он сам незаметно для себя опустился на шкуру и погрузился в сон.
Он проснулся от какого-то укола в шею в том месте, где бьется пульс артерии. Проснулся сразу, но сначала со сна ничего понять не мог: к его шее прильнуло что-то черное и огромное…
— Вампир! — мелькнуло в голове Ильи.
Он сразу вскочил на ноги и обеими руками отодрал от себя вампира, который успел пристроиться у него на груди и уже вонзил свои зубы в его шею.
Заснуть больше Илья не мог.
Небо бледнело на востоке. Звезды меркли, и предрассветный ветерок дышал нежной прохладой. Илья стал смотреть вокруг. Лагерь был расположен на возвышенности, и отсюда далеко были видны леса и степные равнины. На горизонте, в разных местах, курились дымки вечерних пожаров.
Но вот восток заалел, и бесцветный пейзаж вдруг стал оживать — порозовел, зазолотился… Природа проснулась. Ночные голоса, таинственные и мрачные, сменились теперь радостными звуками сияющего дня.
Скоро весь лагерь белых был на ногах. Опять запылали костры. Готовился утренний завтрак.
— Ну, добрый день! Как спали? — добродушно приветствовал Илью и Вадима Броун. — Ну, как же охота? Хотите, я велю вас проводить? Еще успеете.
Но как раз в это самое время из кустов выскочил туземец и, подбежав к Броуну, начал что-то оживленно говорить ему, махая рукой в сторону пожарищ.
— Ну, друзья, — сказал Броун, обращаясь к путешественникам. — Сегодня охоты на зверей не будет — будет охота на белых! Сейчас мы выступаем. Оказывается эти дураки-волонтеры разделились, и авангард их зарвался слишком вперед. Вот будет потеха! Хотите принять участие? Мы их перещелкаем до одного!
Илья решительно отказался. Вадим промолчал.
Через несколько мгновений каторжники с винтовками в руках уже сидели на конях, и по данному сигналу все галопом помчались куда-то в чащу кустов. Еще мгновение, и вслед за ними в том же направлении, стремглав пробежали чернокожие воины, вооруженные копьями, ружьями, бумерангами. Огромными прыжками пронеслись мимо путешественников эти жуткие черные фигуры с ужасными раскрашенными лицами. И сколько их!
Кроме Ильи и Вадима в лагере осталось лишь несколько человек. Все напряженно смотрели туда, где скрылись в кустах воины, конные и пешие и, затая дыхание, слушали.
Через какие-нибудь полчаса где-то далеко раздался взрыв выстрелов. Эхо отозвалось в горах и прокатилось по равнине.
Потом стали раздаваться отдельные одиночные выстрелы, и вдруг все смолкло.
Еще одна «шалость» князя Чибисова
Приблизительно через час вернулись победители, возбужденные битвой, опьяненные легкой победой. Дикари шли, подплясывая и распевая во всю глотку свои победные песни. Они несли с собой нескольких убитых и раненых, гнали пленных.
— Там, кажется, один из ваших — из русских офицеров, — сказал сухо Броун, показывая на раненых. — Ранен.
— Как из наших? — удивился Вадим.
— Он говорит, что русский, — сказал Броун.
Вадим догнал дикарей, которые уже скрылись в кустах, глянул в лицо одного из раненых…
— Чибисов! — воскликнул он вне себя от удивления.
Князь Чибисов (это был он!) на это восклицание не ответил, — он был без сознания. Голень правой ноги была перебита ниже колена и болталась на одних сухожилиях.
— Илья, — закричал Вадим, — ведь это Чибисов! Он без сознания! Истекает кровью!.. Мистер Броун, надо ему помочь. Он умрет!
— Тем лучше для него, — сказал Броун. — Все равно его ждет смерть… и мучительная. Их всех подвергнут утонченным пыткам. Таков здесь обычай, закон страны!..
— Спасите его! — закричал Вадим. — Ну, ради нашей дружбы!
Броун засмеялся.
— Какая между нами дружба! — сказал он, — так, мимолетная симпатия! Но он сам виноват! Он более виноват, чем все эти волонтеры, — те защищают себя, свое имущество, а он, ваш товарищ, чего он сунулся? Зачем он стрелял в нас?.. Он убил одного туземца. За это и получил бумерангом по ноге.
Вадим и Илья, однако, упросили Броуна вступиться за несчастного Чибисова, и после горячих споров дикари уступили.
Чибисов, бледный, без кровинки в лице, с закрытыми глазами, с слабым пульсом, лежал на шкуре кенгуру, а Илья и Вадим завязывали в лубки его перерезанную бумерангом голень.
— Надо его везти в Мельбурн, но как? — сказал Илья.
— До шоссе везите на лошади, — сказал Броун, — а там где-нибудь на ферме найдете тележку. До шоссе я вам дам провожатого, а лошадей отдадите в Мельбурне, в кабачке «Три якоря». Знаете? — обратился Броун к Вадиму.
Тот утвердительно кивнул головой.
— Да воды по дороге не пейте, — прибавил Броун, — все речки, все колодцы отравлены. С собой воды возьмите, — и, сухо простившись, Броун отвернулся от наших путников.
Князь Чибисов черной стеной встал между Броуном и его новыми друзьями.
С трудом посадив Чибисова верхом на лошадь и придерживая его с обеих сторон, двинулись в путь. Впереди шел вожатый.
Ободранные и растерзанные, пробрались наконец путешественники через колючие ветви кустарников до шоссейной дороги. И лица и руки у них были в крови.
Вожатый мрачно простился с ними, не говоря ни слова, махнул рукой в сторону Мельбурна и скрылся в кустах.
Тяжел был этот путь. Брели пешком еле-еле, стараясь не трясти раненого, поддерживая его с обеих сторон. Знойное солнце безжалостно пекло их головы. Вадим надел свою шляпу на голову Чибисова, сам же на свою набросил носовой платок — другого ничего не было Казалось, что мозги плавятся от солнечных лучей. В глазах было зелено. Томила нестерпимая жажда. Чибисов время от времени как будто приходил в себя, стонал и шептал: «Пить… пить…» и потом опять терял сознание. Взятая с собой вода скоро была выпита. Отдыхали часто в тени придорожных деревьев и потом опять пускались в путь. Торопились…
Наконец добрались до фермы, которая уцелела от пожара. За высоким частоколом, окружавшим ферму, стояли лагерем главные силы волонтеров. Сидели за высокой стеной и притом все в самом дурном расположении духа. Еще бы, весь авангард был уничтожен, только двое-трое спаслись бегством и принесли печальную весть о поражении. Волонтеры приостановили движение вперед, послали за помощью в Мельбурн и в ожидании ее сидели хмурые, молчаливые…
Появление путников вызвало переполох. Караульные, не разобрав в чем дело, стали было палить из ружей. Волонтеры тоже сделали залп. С трудом успокоились, и путники под сильным конвоем были введены за ограду фермы. Шериф сам допрашивал их, стараясь в незнакомых чертах их лиц отыскать знакомые ему черты беглых каторжников. За оградой фермы наши путешественники встретились с графом Потатуевым и бароном Фрейшютц. Встреча во всех отношениях была неприятная для обеих групп. Шериф допрашивал Илью и Вадима, как они могли очутиться в лагере инсургентов? Не принимали ли они участия в происшедшей битве? Граф и барон, скрепя сердце, поручились за товарищей — дали свое «честное слово», графское и баронское.
Чибисова надо было спешно везти в Мельбурн, — оставаться на ферме не имело смысла, да и удовольствия было мало. Хозяин фермы, скватер Симсон, грузный мужчина с красным широким лицом и воловьей шеей, пользуясь присутствием на ферме военных сил, производил расправы с черными рабами. Он драл их в амбаре и время от времени, выходил на двор «передохнуть», «взять воздух»: он страдал одышкой. Глаза у него от возбуждения были красны, в руках у него был окровавленный бич, сплетенный из толстых ремней. Передохнув, он опять отправлялся в амбар, и оттуда опять неслись вопли и стенания его жертв.
На нервы волонтеров эти крики не оказывали никакого впечатления, напротив, как будто даже поднимали их настроение. По крайней мере некоторые пытались даже острить.
Шериф делал вид, что он ничего не видит и ничего не слышит.
С трудом упросили Симсона продать какую-нибудь таратайку с лошадью. Посадили в нее Чибисова. Вадим сел с ним рядом, Илья — верхом на лошадь. После долгих колебаний с ними отправились и граф, и барон.
Ехали молча… Илье и Вадиму противно было разговаривать с «карателями», а граф и барон серьезно заподозрили Илью и особенно, по-видимому, Вадима в том, что они были заодно с «мятежной сволочью».
Хотя они и спасли Чибисова, но все же на всю жизнь в глазах их «сиятельств», будущих сановников и адмиралов, были скомпрометированы.
Ночевали в какой-то пустой заброшенной ферме и до восхода солнца опять тронулись в путь. Наконец добрались до Мельбурна.
Там уже не было ликования. Весть о первом поражении долетела до города. Свезли Чибисова на «Диану». Граф доложил командиру, что князь свалился с лошади на охоте, догоняя кенгуру. Этому рассказу графа командир явно не поверил. Да и доктор Арфаксадский покрутил головой, когда увидел ногу Чибисова и услышал рассказ о падении с лошади.
— Какое тут падение с лошади? — сказал он. — Ему топором голень перетяпали! Что с ногой будет, не знаю. Пожалуй, отнять придется. Мазурку уже танцевать не будете, ваше сиятельство. Ау!..
По совету Арфаксадского поместили Чибисова в городскую больницу, вверив судьбу его ноги лучшим врачам города.
Между тем ремонт «Дианы» шел убийственно медленно. Словно какие-то посторонние враждебные силы мешали. Была даже попытка поджечь фрегат. Кто поджигал — свои или чужие, — так и не выяснилось.
Командир рвал и метал и опять принялся за наказания. Старший офицер Степан Степаныч в бессильной злобе бегал с одного конца палубы в другой, поминутно твердя свое «бамбуковое положение», «бамбук — дело».
Спиридоний слонялся на палубе, стараясь не попадаться на глаза разъяренному начальству.
Матросы бродили по палубе хмурые и зло переругивались друг с другом. Партиями съезжали на берег и возвращались зверски пьяные. Боцмана Гогулю напоили на берегу и избили — «проучили» так, что пришлось его положить в лазарет.
Придя в себя, он, однако, не выдал никого:
— С американцами подрался, ваше высокоблагородие, — рапортовал он старшему офицеру. — Боксом, ваше высокоблагородие били. Они, известно, сукины дети, все в нос да в глазы лупят!
Боцман прекрасно понял, что его «проучили» свои, что над ним, верным и усердным исполнителем приказаний командира, был учинен матросами своеобразный суд Линча.
Вокруг Австралии
Старый штурман все еще ругал консульшу. Почему-то он обвинял ее в том, что «Диана» попала в Мельбурн, — он привык ходить обычным путем, Малаккским проливом, Зондским морем, а теперь придется огибать Австралию с востока, островами, где всегда можно было напороться на рифы.
— Я того фарватера не знаю! Там коралловых рифов не оберешься! Того и гляди напорешься! Кто этим путем ходит? Тьфу! — ворчал старик.
По его настоянию решили курс держать как можно дальше от материка. Обогнули Полинезийские острова, но и то плавание оказалось очень трудным. Поминутно с капитанской рубки раздавался крик вахтенного «Смотри вперед!», — и с носу часто кричали: «Остров!..» «Риф!..», и тогда на «Диане» начинался переполох, — меняли курс, спускали одни паруса, подымали другие. Особенно беспокойно было ночью. Хорошо еще, что ночи были лунные, словно днем, все было далеко видно.
Попадались навстречу какие-то подозрительные суда, — полушхуны, полуяхты… Они крейсировали от острова к острову, по-видимому занимались не то торговлей и меной, не то разбоем. Такие суда видел Илья еще в Мельбурнской гавани, и там ему объяснили, что владельцы их — полупираты, полукупцы. Некоторые из них имеют на островах плантации кофе, каучука, кокосовых орехов, другие занимаются ловлей жемчуга, или куплей его, третьи нападают на туземцев, увозят их в рабство и продают на соседние острова, четвертые занимаются всем понемногу, а в общем все они авантюристы, для которых жизнь — копейка. Они готовы отправить на тот свет кого угодно, но зато и сами часто попадают на жаркое местным гастрономам — людоедам.
От самого Мельбурна одна такая быстроходная яхточка шла упорно за «Дианой», словно следя за ней. Как легкая ласточка, она быстро реяла вокруг грузного фрегата, — то мелькала совсем близко, то уходила далеко в сторону… Иногда ее стройный рангоут совсем скрывался за горизонтом, иногда белым пятном она маячила где-то вдали, на лазури спокойного океана, а иногда она вдруг направлялась к фрегату и резала ему нос. Этот странный спутник надоедал, раздражал…
— Дернуть бы из орудия! — говорили офицеры.
— Какого черта он вьется?.. Явно следит за нами! Но для чего? Почему? — Вот вопросы, которые волновали всех на фрегате.
В подзорную трубу рассмотрели и состав экипажа этой назойливой яхты. Он состоял из черных, однако, командовали яхтой, очевидно, двое белых.
Опять начала мучить томительная тропическая жара. Опять стали портиться припасы и вода. Опять глухой ропот начал расти в темных углах матросской палубы.
— Вода испортилась, — сказал командир старшему офицеру. — Придется доставать воду по дороге на одном из этих Соломоновых островов.
От такого решения старый штурман пришел в ярость.
— Да мы там угробим «Диану»! — заворчал он. — У этих проклятых островов и дно не меряно! Карт нет!
Но без воды обойтись было невозможно, особенно в такую жару. К тому же командир был упрям и решений своих менять не любил. Решили выбрать залив поудобнее и поискать речной воды.
Подошли к группе Соломоновых островов. Шли осторожно. Впереди медленно идущей «Дианы» шел вельбот, измерявший фарватер. Этим занимался озабоченный штурман.
Прошли несколько островов. В трубу были ясно видны пальмовые рощи, песчаные дюны, блестевшие на солнце, пена морского прибоя, а дальше, в глубине островов, как далекий мираж, синели хребты далеких гор.
Соломоновы острова
Остановились недалеко от большого острова, бросили якорь в глубоком заливе. Подошли так близко, что берег был виден невооруженным глазом. Видно было какое-то селение на берегу и как будто устье реки, впадающей в океан. Эта река и привлекла особенное внимание командира — можно было набрать пресной воды.
Как только остановились, так пахнуло с берега, как из парфюмерного магазина, сладким пряным ароматом душистых трав, тропических цветов и деревьев…
По приказу командира на два вельбота погрузили пустые бочки и посадили десятка два матросов. Под командой Ильи вельботы направились к берегу. Туземцы столпились как раз у устья реки. На «Диане» все напряженно следили за всем, что происходило на острове.
Вельботы подошли к реке. Туземцы угрожающе махали копьями — видимо запрещали продвигаться далее. Илья попробовал воду. У моря она оказалась илистой, и к тому же с большой примесью морской воды.
— Придется, братцы, подняться выше по реке, — сказал Илья, — здесь вода ни к черту!
— Есть, ваше благородие, — отвечал боцман. — Да пройдем ли? Не сесть бы на мель? Особливо как взад с грузом пойдем.
— Попробуем, — сказал Илья.
Вельботы осторожно вошли в устье реки и пошли вверх по течению.
Туземцы с обоих берегов жадно следили за каждым движением плывших по реке. Поняв, что вельботы идут вверх по реке, они заорали что-то радостное и перестали угрожать копьями.
Вельботы вошли в лес. По обоим берегам реки он стоял темной стеной. Вошли, словно в погреб, темный и душный. Запахло гнилью, болотом, но не северным, а горячим, едко-ароматным болотом тропиков.
— Неладно, ваше благородие. Здесь в лесу эти черти могут нас голыми руками взять, — проворчал боцман Гогуля.
— Ваше благородие… эво родничок! — крикнул с другого вельбота Федорчук, — верно, вода сладкая!
Действительно, на левом берегу из леса в реку несся поток пенящейся воды… Вельботы подошли к нему вплотную. Десять матросов Илья высадил на берег и расставил цепью вокруг, вельботы поставил рядом и за бочками спрятал еще десяток матросов — следить за правым берегом. Гребцы стали наполнять бочки водой.
Через несколько мгновений лес наполнился таинственными шорохами. Еще мгновение, — и из лесной чащи в матросов полетели стрелы и копья. Хуже всего пришлось тем, кто были в цепи. Они не видели своих врагов, скрытых в лесной чаще. От стрел приходилось прятаться за стволы деревьев.
Илья приказал стрелять. Звуки выстрелов долетели до «Дианы». Там началась тревога, и минуты через две-три от борта уже отваливал на шлюпках десант человек в сто. А еще через минуту-другую борт «Дианы», обращенный к берегу, вдруг окутался клубами белого дыма, по борту сверкнули огни, и тихий залив задрожал от пушечного залпа: «Диана» обстреливала убогую деревню туземцев. Некоторые хижины запылали…
Барон фон Фрейшютц рвался карать и мстить… Он упросил командира дать ему матросов, чтобы разнести дотла деревню. Командир согласился, и барон понесся на катере к берегу.
Между тем десант высадился и побежал к лесу, но лес оказался болотистый, дорог в нем не было. Сразу стали увязать в вонючую трясину. Кроме того, продираться сквозь чащу не было возможности, — тем более, что из кустов летели стрелы, дротики, копья, с деревьев падали кокосовые орехи, а сам враг оставался невидим.
— Держись берега! — крикнул старший офицер.
С великим трудом добрался десант до вельботов. Началось сражение с невидимым врагом. К счастью, обстрел деревни с «Дианы» отвлек значительную часть туземцев — побежали спасать жен и детей… Напоролись на барона с его командой… Стремительного нападения разъяренных туземцев барон не ожидал, — пришлось ему «отступать в порядке» к шлюпкам (попросту: лупить во все лопатки). Барон отошел на шлюпках от берега, но ждал дальнейших событий. Между тем пожар делал свое дело. Почти вся деревня пылала. Туземцы убегали из деревни толпами в лесную чащу. Убедившись, что деревня опустела, барон опять вошел в нее со своим отрядом. Собственноручно пристрелил он какого-то полупомешанного старика и ворвался в одну хижину, которая еще не пострадала от огня.
— Donner wetter! — воскликнул барон и отшатнулся. В хижине оказался склад высушенных прокопченных человеческих голов! Одни из них стояли в ряд на полках, другие тихо качались на веревках, привязанные к потолку.
— Kolossal! — продолжал изумляться барон.
Потом, победив отвращение, он стал всматриваться в эти ужасные вялые, почерневшие головы и убедился, что между ними немало европейских голов.
На одной сохранились даже большие рыжие усы и борода… Сморщенное лицо было сурово и огромный лоб обращал на себя особое внимание… Была голова и белой женщины. В ее высохших ушах болтались изумрудные серьги и длинные золотистые волосы мягкими волнами спускались вниз. Были головы, очевидно, очень старые. «Быть может, голова самого Лаперуза? — подумал барон, — ведь он погиб как раз здесь, на этих Соломоновых островах».
Барон колебался одно мгновение, а потом вдруг жадно набросился на эти головы и стал их совать в мешок (запасливый барон в карательную экспедицию отправился с мешком). «В Рижский музей их подарю», — оправдывал он сам перед собой свое странное хищничество. Захватил в хижине еще какую-то циновку, пачку копий и стрел, какой-то молоток, и с этой богатой добычей (для музея) отвалил от берега, гордый победой.
По реке спускались вельботы с бочками. От берега шли шлюпки с десантом.
Между тем на самой «Диане» оказалось неблагополучно. В то время как общее внимание было направлено на то, что происходило на берегу и все стояли у левого борта, вдруг «Диану» стало сносить к берегу сперва тихо, потом все быстрее. Первым заметил это старый штурман.
— Сносит! — заорал он. — Якоря сдали!
Занесли запасный якорь и выяснилось, что якорный канат кем-то был перерезан. В подзорную трубу увидели черневшую вдали лодку, которая изо всех сил утекала по направлению к той подозрительной яхте, которая от самого Мельбурна так упорно преследовала «Диану».
По приказу командира шлюпку обстреляли и даже сделали три выстрела по яхте. Когда дым от выстрелов рассеялся, ни шлюпки, ни яхты уже не было видно.
Среди команды Ильи и десанта оказались и убитые и раненые. Убитых было трое и двадцать шесть человек раненых. У самого Ильи стрелой была прострелена мякоть левой руки выше локтя.
Убитых похоронили по морскому обычаю в море, зашив их в белые парусиновые мешки, к ногам привязав ядра… Жутко было смотреть, как, стоя, опускались в прозрачной голубой воде белые фигуры и как оживленно шныряли между ними отвратительные акулы.
— Эх, ребят зря сгубили да перекалечили сколько! — ворчал старый штурман вслух, не обращаясь ни к кому в частности. — А все от того, что старших не слушают!
…Шли осторожно, напряженно смотрели вперед, беспокойно шарили подзорными трубами по сторонам.
Мимо «Дианы» тихо проплывали сказочно-красивые, голубые, синие, сине-зеленые пятна островов.
— У-у, проклятые! — грозил им кулаком старый штурман. По-прежнему попадались навстречу подозрительные яхты-шхуны, а иногда пироги, нагруженные туземцами. Две такие пироги близко подошли к фрегату и некоторое время сопровождали его…
Барон пустил в них из охотничьего ружья два заряда крупной утиной дроби, и пироги, испустив рев ярости, отстали от фрегата.
Жара по-прежнему стояла убийственная. Страшно было сделать глубокий вдох, — словно горячий влажный пар врывался в легкие, обжигал их, проникал во все поры тела и выходил наружу потоками пота…
Гонконг
А вот и Гонконг! Взяли лоцмана. Влез мрачный и суровый метис, полукитаец-полуевропеец. С обычными предосторожностями вошли в гавань. Прошли мимо красивого корвета. Весь черный, с узкой белой каймой по всему борту, он стоял на якорях почти в открытом море, далеко от входа в гавань. Изящные линии его корпуса, легкость и стройность оснастки привлекли общее внимание не только офицеров «Дианы», но и матросов.
— Чертовски красив! — воскликнул экспансивный Степан Степаныч. — Ходок, должно быть, великолепный!
— Красив, — задумчиво сказал командир, не отводя своей трубы от корвета. — Трудно определить только, военный он, или коммерческий. Флага нет. Палуба пуста. Даже нет караульных. А пушки, по-видимому, есть, хотя почему-то замаскированы.
Между офицерами возник спор. Одни доказывали, что это военное судно, другие стояли на том, что это судно коммерческое, но предназначенное очевидно для каких-то специальных целей, потому вооруженное и быстроходное.
— Контрабандист, наверно, — сказал кто-то.
— Может торгует невольниками? — высказал догадку Ишумов.
— Уж не корсар ли? — со смехом высказал кто-то предположение.
Старый штурман свирепо смотрел из-под нависших седых бровей на красивое черное судно и только неодобрительно покряхтывал.
Лоцман, поровнявшись с корветом, для чего-то махнул красным платком. Штурман свирепо покосился на него.
— И стоит-то, как вор, — на открытом рейде. До него и ядром из форта, пожалуй, не достать! На отлете стоит. Самая воровская повадка. В пять минут улизнуть может, — ворчал штурман.
Если на палубе таинственного корвета не было совсем никаких признаков жизни, то на купеческих кораблях, мимо которых шла «Диана», жизнь кипела вовсю: грузились, разгружались, орали и ругались на всех языках, суетились с тюками, с ящиками… Подошли к той части гавани, где стояли военные суда, — два английских фрегата и датский корвет. Бросили якорь.
Командир отправился на своем вельботе с визитами к губернатору Гонконга, к командиру порта, к командирам военных судов. Свободная команда и офицеры съехали на берег.
Илья с перевязанной рукой шел по набережной Гонконга, опираясь на руку Вадима. Вошли в какой-то ресторан — выбрали почище. После легкой закуски Илья взялся за английские газеты, а Вадим отправился бродить по городу. Незаметно он прошел портовую часть города, грязную, суетливую, с торговыми конторами, складами, пробился сквозь толпу крикливых полуголых грузчиков, матросов разных национальностей и разной степени опьянения, и вышел в китайский квартал. Он поразил Вадима своей невообразимой грязью, тошнотворной вонью и теснотой. Потом он попал в европейскую часть города, поднялся на возвышенность, господствующую над городом. Здесь потянулись виллы и сады. Миновал он и эту часть города и очутился на каменистой горке, у подножия утеса.
Там он сел на камень и задумался. Он смотрел на гавань, лежавшую, казалось, у его ног, на рейд, на безбрежный простор океана. Среди игрушечных судов, теснившихся в гавани, он стал искать свою «Диану». А! Вот она!.. Какая маленькая! А вот и черный красавец-корвет!.. Его еле видно.
Интересный незнакомец
Он задумался и не слышал, как подошел к нему и остановился около высокий человек, весь закутанный черным плащом.
— Добрый день, сэр! — заговорил незнакомец звучным сочным баритоном, бесцеремонно усаживаясь рядом с Вадимом.
Появление его было так неожиданно, что Вадим даже вздрогнул и не сразу ответил на его приветствие.
— Добрый день, — ответил он, пристально вглядываясь в лицо незнакомца.
Тот снял свою широкую шляпу и стал вытирать лоб шелковым платком.
— Жарко, — сказал он.
Он был красив. Высокий лоб, орлиный тонкий нос, выразительные глаза, то холодные, то насмешливые, длинные вьющиеся кудри, спускавшиеся на белый широкий воротник. Вадим вдруг вспомнил портрет корсара в иллюстрированном издании сочинений Байрона. Даже улыбнулся нечаянно.
Незнакомец поймал эту улыбку и слегка нахмурился.
— Вы простите мою улыбку, — сказал Вадим. — Но в чертах вашего лица я увидел черты другого лица — черты, любимые мною.
— Чьи это черты? — быстро спросил незнакомец.
— Байроновского Корсара, — ответил Вадим.
— А вы знаете эту поэму? — спросил незнакомец с удивлением, и глаза его засверкали.
— Наизусть, — ответил Вадим, — одно из замечательнейших произведений Байрона.
Незнакомец вдруг вскочил и стал декламировать:
С беспечными волнами в синем море
Душа и мысль свободны на просторе,
Пока есть буря, пенится волна,
Везде наш дом, родимая страна!
Вадим перебил его, тоже вскочил и стал продолжать:
Вот наше царство! Безгранично, ясно!
Наш флаг — наш скипетр, — все ему подвластно!
Жизнь — буйный вихрь. Досуг сменяет труд,
Утехи вслед одна другой бегут!
— Браво! Браво! — закричал незнакомец. — Браво, русский матрос!.. К чему только этот маскарад? Зачем матросская куртка тому, кто знает Байрона? По когтям познается лев.
Вадим не ответил на это замечание незнакомца и продолжал декламировать:
Взор его блестел под бровью темной…
…Он загорел, но царственно и смело
Из-под кудрей чернеющих белело
Чело. Изгиб губы изобличал
Величье дум, хотя б он их скрывал!..
…Кто б выдержал, не дрогнув, силу взгляда
Могучего и гордого Конрада?..
— Ваш портрет, — добавил Вадим, и оба расхохотались.
— У нас родственные души, — сказал незнакомец и протянул Вадиму руку, белую, холеную, но сильную. Почему-то Вадим с удовольствием пожал ее.
— Вильям Уильдер, — отрекомендовался незнакомец.
— Вадим Холмский, — ответил Вадим.
— Судя по вашей руке — вы действительно матрос и по костюму — тоже, а вот по речам, по лицу, вы… не матрос, — сказал Уильдер, пытливо всматриваясь в Вадима.
Непонятный прилив доверия вдруг заставил Вадима рассказать Уильдеру свою историю.
Уильдер слушал его с ясным сочувствием и не спускал с него своих глаз. Между тем воспоминания взволновали Вадима, и голос его стал дрожать, когда он договаривал конец своей истории. Он кончил и поник головой.
Уильдер дружески похлопал его по плечу.
— Мужайтесь, милый юноша! Жизнь вся еще впереди! За вашу откровенность я отплачу вам той же монетой. Ведь вы с «Дианы», — с этого русского фрегата, который пришел сегодня?
— Да, с «Дианы», — ответил Вадим, недоумевая, к чему клонит речь Уильдер.
— Так вот, что я вам скажу, — продолжал тот, — уходите-ка вы с вашей «Дианы»!
Вадим с недоумением посмотрел на собеседника и даже не нашелся, что спросить его.
— Это судно о б р е ч е н н о е… Оно не дойдет до Аляски.
— Почему? — еле выговорил Вадим.
— Потому что есть силы, которые сильнее вашего императора, сильнее пушек вашей «Дианы» и вашей храбрости, в которой я не сомневаюсь, — галантно добавил Уильдер.
— Вы, русские, — продолжал он, — хотите прибрать Аляску к своим рукам, а к о е-к о м у ваши намерения не нравятся и потому нам поручено пустить вашу «Диану» ко дну… и мы ее пустим. Олл райт!
— Кому это не нравятся планы завоевания Аляски? И кто это м ы, которые пустят «Диану» ко дну? — спросил Вадим, и глаза его загорелись гневом.
— Союзу английских и американских торговых компаний, которые имеют свои виды на Аляску, — сказал Уильдер. — А м ы, которым поручено потопить вашу «Диану», это те, кто нанят временно на службу этим союзом. Мы — это свободные властители морей и океанов.
Мы — это те,
Чье сердце любит реять в океане,
В безумии восторга утопать,
Безбрежность волн душою постигать!
Кто ищет сам вокруг себя сражений…
В опасности — отраду наслаждений…
— Как сказал ваш и мой любимый поэт, — и Уильдер засмеялся. В смехе его на этот раз не было добродушия, — что-то холодное, «сатанинское» почудилось Вадиму.
— Вы действительно корсар? — вдруг спросил он.
— Хотя бы и так, — ответил Уильдер и вдруг, став в позу, отрекомендовался: — честь имею представиться: командир «Черного коршуна», — того чудесного корвета, который стоит на якоре у входа в гавань; Надеюсь, заметили его?.. Клянусь честью, чудесное судно! Смею заверить… Не чета вашей «Диане».
— Простите, сэр, — сказал холодно Вадим, — мне почему-то кажется, что в вашей шутливой речи есть много серьезного. По долгу службы я должен сейчас же донести о всем слышанном своему командиру.
— Пожалуйста, — ответил Уильдер. — Я думаю, что теперь, когда «Диана» уже в Гонконге, все, что я сказал, — уже не секрет. Теперь это дело уже р е ш е н н о е. «Судьбы свершился приговор», — вам нет возврата! Только, юноша, не советую вам торопиться с донесением. Из вашего рассказа видно, что вы и так скомпрометированы в политическом отношении. Теперь вы себя скомпрометируете еще связями с к о р с а р о м. «От кого вы слышали?» — спросит вас командир. Что вы ответите, — от корсара?.. Ха-ха! Что о вас подумает ваш строгий командир?
Уильдер засмеялся и потом еще раз хлопнул по плечу Вадима.
— Вы мне нравитесь, милый князь! И знаете, ваша жизнь напоминает мне мою. Я — тоже бывший офицер флота его величества короля Великобритании… и тоже, как и вы, нахожусь в ссоре с его величеством и с бывшей родиной, с прежними друзьями и даже с родными. И тем не менее чувствую себя прекрасно… Ненавижу подлое человечество!
— Но как с этой ненавистью связать то, что вы н а н и м а е т е с ь на службу к капиталистам? — резко оборвал его Вадим.
— Я завтра же могу быть врагом этих самых капиталистов! — воскликнул Уильдер, по-видимому, задетый за живое словами Вадима. — А если я сейчас «нанялся», то просто потому, что я должен платить своему экипажу, — это раз, — а, главное, уж очень мне захотелось испытать свои силы в борьбе с настоящим, хотя и плохим, военным судном. Признаюсь, это — редкий случай. Жирные трусы, неповоротливые «купцы» мне надоели. Хочется хорошего, настоящего боя. Размяться надо. — Уильдер воодушевился, его глаза горели. Опять что-то «сатанинское» почувствовал Вадим в его речах, в его лице.
— Мой совет вам, — корсар помолчал, потом заговорил опять. — Бросьте вы «Диану» и переходите ко мне на палубу «Черного коршуна». Там вы найдете все, что надо для молодого человека, любящего свободу. А эту развалину, — он махнул рукой в сторону «Дианы», — давно пора пустить на слом! Ведь она скоро сама развалится. И с такими негодными средствами, вы, русские, хотите бороться с нашими капиталистами! Мерзавцы они… это верно! Но широта захвата у них поразительная! Это мне в них нравится. Они знают все, что говорится и делается в С.-Петербурге, — знают, какое судно куда будет послано. Ведь о н и выбрали вашу «Диану»!.. Ха-ха!.. Знают ваш маршрут, число пушек на вашем фрегате, число экипажа, — знают даже характер вашего командира. Все знают! Против вашей «Дианы» снаряжена целая эскадра, не только мой «Коршун». Слежка за вами началась с мыса Доброй Надежды. В Мельбурне мы мешали вам чиниться, мы даже подожгли ваш фрегат. На Соломоновых островах мы организовали нападение туземцев. Яхточку, помните, которая шла все время за вами? Это н а ш а!.. Ха-ха! Хорошо организовано?.. Признайтесь. Ну, а что будет с вами после Гонконга — этого я вам не скажу, — это пока секрет, — так закончил свою речь Уильдер.
Вадим был подавлен всем, что он услышал.
— Но зачем вам уничтожать «Диану». Какой в этом для вас интерес? — спросил он.
— Во-первых, один из пунктов инструкции, вам данной, — борьба с корсарами и с каперами, которые нападают на суда Российско-Американской компании, — следовательно, мы должны уничтожить вашу «Диану», хотя бы из чувства самосохранения… А, во-вторых, это сделать необходимо для острастки вашего правительства. Оно каждый год будет посылать суда, а мы каждый год будем их топить. Надоест — и отступятся от Аляски! А это и требуется нашим капиталистам. Черт бы их подрал! Ловкие ребята!
Наступил момент молчания. Уильдер наслаждался, наблюдая за тем впечатлением, которое он произвел на Вадима.
— Ну, что же, милый князь? — прервал он наконец молчание. — Переходите на службу ко мне? У меня как раз свободно место старшего лейтенанта. Карьера, клянусь честью корсара, блестящая. Из матросов да прямо в старшие лейтенанты! Будем вместе мечтать, проклинать человечество и декламировать Байрона. Идет? — По рукам?
Вадим задумался. Вся горечь пережитых обид вдруг мутным клубком поднялась и ударила ему в голову. Душой его овладел прежний романтизм — жажда свободы, ненависть к условностям и предрассудкам. С особой силой он почувствовал, что между ним, разжалованным мичманом, и толпой князей, графов, продажных генералов и адмиралов, офицеров и матросов обреченной «Дианы» лежит бездонная пропасть.
Уильдер внимательно наблюдал за лицом Вадима, и казалось, жадно читал все его мысли.
Но Вадим вдруг справился с чарами мечты и даже головой встряхнул, чтобы прогнать дьявольское наваждение.
— Н е т! — решительно воскликнул он. — Нет! Вы предлагаете мне личную свободу, а я хочу, чтобы не я один, а в с е были свободны, чтоб все были счастливы! Ради такого о б щ е г о счастья я готов голову положить! А гордое одиночество положительно мне не по душе!
— Фантазии!.. Утопии! — покачав головой, ответил Уильдер. Он был недоволен. — Как вы упрямы, русские! Фантазеры! В вас совсем не развито чувство личности! Что такое в с е? Толпа, чернь, плевка не стоющая! — он помолчал. — Ну, не хотите идти ко мне, так д о с в и д а н и я! Постараюсь, чтоб вы хоть не по своей воле, да попали ко мне! Надеюсь, мы скоро встретимся опять. И я тогда сумею доказать вам, что питаю к вам истинно дружеские чувства. Д о с в и д а н и я! — И, быстро повернувшись, Уильдер пошел вниз с горы и завернул в сторону.
Вадим долго не мог собрать своих мыслей. Он растерянно смотрел то на «обреченную» «Диану», которая мирно отдыхала в порту, то на «Черного коршуна», который, казалось, вот-вот готов был раскинуть свои мощные крылья и ринуться в свободную безграничную, даль океана навстречу бурям и ветрам.
…Вадим быстро спустился с горы, пробежал опять через вонючий китайский квартал, пробился сквозь суетливую толпу портовой публики и направился к ресторану, в котором он оставил Илью. Тот уже все газеты перечитал и беспокоился, не видя Вадима. Сидел и ждал.
Наконец они встретились. На Вадиме не было лица.
— В чем дело? Что случилось? — тревожно спросил его Илья.
— Потом… потом, не здесь! — ответил Вадим.
Они пошли к катеру.
По дороге в одном кабачке они видели драку матросов, — вернее побоище. Группа каких-то матросов самого зверского вида жестоко избивала русских матросов с «Дианы», избивала всеми способами: и английским, и американским, и китайским.
Портовая полиция в эти «матросские дела» никогда не вмешивалась.
Илья и Вадим отправились собирать подмогу «своим». Отыскали группу матросов с «Дианы» и повели их на помощь. Появление свежих сил быстро решило судьбу побоища, и мрачные матросы оставили место боя, унося раненых товарищей и изрыгая потоки ругани и проклятий. Они угрожали, что скоро разделаются с «Дианой», потопят ее и прочее. Все это пьяное бахвальство на Илью не произвело никакого впечатления, но Вадим отнесся к этим угрозам серьезно.
Барон и граф еле доплелись до катера — до чертиков накурились опиума! Не забыли и друга, — привезли опиума князю Чибисову, а также и трубку. Накурился и он до одурения. Дали курнуть и любопытному Спиридонию. И сами были не рады — он вообразил себя на том свете, в аду, и по этому поводу орал на весь фрегат, — каялся в своих грехах и призывал на помощь всех угодников и угодниц. Паисий кипел злобой на беспутного собрата, анафемствовал по его адресу, сидя в каюте и яростно растирал ему оба уха.
Вадим заперся в каюте с Ильей и рассказал ему все, что слышал от корсара.
Илья решился предупредить командира. Он сказал, что случайно слышал разговор в ресторане. Командир отнесся к его сообщению критически.
— Кабацкая болтовня! Пьяное бахвальство! — пренебрежительно процедил он сквозь зубы, однако взял свою подзорную трубу и почему-то стал с особым вниманием рассматривать черный корвет. Потом отвел трубу в сторону и стал глядеть на китайские джонки, которые в несколько рядов стояли у набережной Гонконга.
— Обратите внимание, Илья Андреевич, лучше на этих китайцев: они, по-моему, опаснее черного корвета. Все это — рыбаки, но при удобном случае они — опасные пираты!.. Эти косоглазые дьяволы два года назад на моих глазах как муравьи облепили одного голландского «купца» и в несколько минут разграбили все судно, подожгли его и рассеялись в разные стороны. Мы и помочь не успели. Надо ночью посматривать, — не наделали бы они пакостей. Сегодня ваша вахта?
— С полуночи моя, — ответил Илья.
Командир замолчал и опять уставился трубой на корвет.
…Утром на рассвете отошли от Гонконга. На мостике стоял сам командир, и Илья заметил, как под спокойной наружностью его скрывалась игра взбудораженных нервов. Он был подвижнее обычного, поминутно переводил трубу от корвета на китайские джонки, которые сотнями выходили из гавани в открытое море. Иногда острый взор командира упирался в безобразное лицо старого лоцмана-китайца. Его лицо, неподвижное, как маска, ничего не говорящие узкие глаза, — все внушало к нему недоверие. Даже матросы косились на этого китайца.
«Диана» подвигалась к черному корвету. Вдруг Илья заметил, что с подветренной стороны корвета выкинут кабельтов, который преграждает «Диане» путь. Но лоцман словно не замечал этого и вел «Диану» прямо. Илья, забыв всякий этикет, схватил командира за рукав, и показал ему рукой.
— Марселя на стеньги! Живо, ребята! Обрасопить все реи с носа до кормы! — руля налево! — закричал командир.
И голос его был так громок, так решителен, что старший офицер не счел нужным повторять его команды, и только боцман проревел на весь фрегат слова командира. Матросы мигом полетели по вантам.
Лоцман побледнел и вдруг заговорил на ломаном английском языке. Он в резкой форме выразил протест. Пока корабль находится в бухте, никто не имеет права вмешиваться в командование им. — Лоцман ведет корабль, — сказал он.
— Спустить мерзавца в шлюпку! — заорал командир, указывая на лоцмана.
— Есть! — ответили с удовольствием матросы, и моментально лоцман оказался в дюжих объятиях матросов, которые вынесли его на руках с мостика и довольно неделикатно спустили в шлюпку, привязанную у веревочного трапа. «Диана» остановилась, потом повернула в сторону свой нос, изменила курс и понеслась влево от черного корвета, прямо в гущу китайских джонок. Там произошел переполох: раздались крики, повисла в воздухе какая-то китайская ругань. Однако дело обошлось без всяких катастроф. «Диана» благополучно вышла из гавани в открытое море…
Нагасаки
«Диана» держала курс на Японию. В Шанхай решено было не заходить. Там, как узнал командир, порт был закрыт по случаю каких-то местных беспорядков… Из японских портов тогда для иностранных судов открыт был только один — Нагасаки, — и то исключительно для голландских. Поэтому командир «Дианы» шел в Японию без особой уверенности, удастся ли ему остановиться даже и в Нагасаки.
Он не сходил с мостика: то оглядывался назад, на китайский берег, на Гонконг, тонущий в синей дали, то тревожно всматривался вперед. Над тяжелым свинцовым морем, там, впереди, вырастала грозовая туча.
Эта туча расширялась и все выше подымала свои зловещие трепаные вершины. Над поверхностью моря потянулся во все стороны плотный, серовато-синий туман. Ветер крепчал, и в натянутых снастях начался тот вой, который был верным признаком приближающегося урагана, или, как его здесь называли, — «тайфуна». Встревоженный штурман потребовал спуска всех парусов, кроме штормовых. И вдруг из тумана, несущегося по тревожно-гудящему морю, вырисовался стройный силуэт черного корвета. На всех парусах пронесся он мимо «Дианы» — в каких-нибудь двух кабельтовых от нее — и быстро потонул в тумане.
Появление этого таинственного корабля на фоне свинцовых туч из густой тьмы было эффектно. Исчезновение его было жутко. Он как-то расплылся в тумане.
Старый штурман даже перекрестился.
— Что это вы, Иван Иванович? — недовольно заметил ему командир. — Что вы, не узнали? Это тот корвет, который стоял в Гонконге.
Штурман ничего не ответил ему, но близ стоящим почудилось, будто старик процедил сквозь зубы: «не к добру».
Унтер-офицер, старый Хомичев, тонувший кажется во всех морях, почему-то стал рассказывать новичкам о «летучем голландце».
Наконец налетел тайфун — трепал и мотал «Диану» в течение получаса, и быстро пролетел мимо. Сорвал шлюпку, вырвал кусок борта, и этим ограничились потери «Дианы».
Подошли к Нагасаки. Стали на якорь у самого входа в залив, — дальше продвинуться не пустили японцы, которые вышли на лодках навстречу фрегату и загородили дорогу. В лодках были, по-видимому, какие-то чиновники. Они махали угрожающе руками и что-то верещали на своем птичьем языке.
Вынуждены были остановиться около какого-то форта. Форт был устроен на отвесном утесе, подножие которого омывалось прибоем. С верхов глядели на «Диану» многочисленные орудия. Командир хотел ехать на вельботе к берегу, но лодки решительно преградили ему путь. Тем не менее он попробовал пробиться. Заметив его упорство, японцы стали подавать в форт какие-то знаки, и там вдруг началось необыкновенное оживление, — на «Диану» стали наводить огромные пушки. И вдруг одна пушка сорвалась с утеса и увлекла за собой артиллериста. Оба, и пушка и артиллерист, упали в море, и — о чудо! Пушка поплыла! И артиллерист не расставался с ней, — плыл к берегу, держась за нее. Пушка оказалась… деревянной! На «Диане» раздался гомерический хохот. Даже Спиридоний, присевший было за ящик, спасая свою жизнь от грозных орудий, стал хохотать до слез…
Тем не менее командир до берега так и не добрался, — он помнил историю капитана Головнина, который попал в плен к японцам тоже за свою настойчивость и с трудом от них выбрался.
На другой день к фрегату пристали лодки с какими-то японскими чиновниками и переводчиками, которые кое-как лопотали по-голландски. Чиновники были вежливы до приторности — приседали на корточки, били себя ладонями по обеим ляжкам, улыбались сладко и говорили приятные, цветистые комплименты, но решительно не соглашались, до получения разрешения из Иеддо, допустить кого бы то ни было на берег. Ни воды, ни припасов без этого разрешения тоже дать не хотели. Они объяснили, между прочим, командиру, что если кто-нибудь из фрегата сойдет на берег «до получения разрешения из Иеддо», то им, чиновникам, придется сделать самим себе «харакири», то есть вскрыть ножом брюхо. Таков закон! Ничего не поделаешь! Этот последний аргумент показался командиру самым убедительным, и он, послав японских чиновников ко всем чертям, решился уйти из Нагасаки.
Вечер накануне отхода «Дианы» был теплый и тихий. Заходящее солнце наложило на все фиолетово-лиловые краски: зеленый фиорд, горы, вода, небо с легкими облаками, «Диана» и все, кто был на ней, вдруг окрасились в нежно-лиловый цвет, словно окутались в какую-то лиловую кисею. С берега тянуло запахом сосны и каких-то цветов. Лодки, шнырявшие днем и ночью вокруг «Дианы», засверкали разноцветными бумажными фонариками. На берегу в Нагасаки тоже зажглись огоньки…
На заре пошли к Сахалину.
— Ну, теперь, братцы, готовьтесь к питерской погоде, — как будто даже с удовольствием возгласил штурман.
Действительно, чем более продвигалась «Диана» к Сахалину, тем заметнее портилась погода и падала температура. Еще северные берега Японии были видны, а уже пришлось надеть бушлаты и пальто. В кают-компании затопилась печка, на столе появились бутылки с ромом и коньяком.
У берегов Сахалина
В холодное серое утро пришли к Сахалину и остановились в пустынной Дуйской бухте. Моросил мелкий осенний дождь, и промозглая сырость заволакивала далекий неприветливый берег. Оттуда, с берега, доносился отдаленный рев прибоя у гряды прибрежных скал и подводных камней. Упорный ветер дул с моря и разводил в заливе довольно крупную зыбь.
— Хуже стоянки и не выдумать! — ворчал старый штурман.
— Грунт каменистый, — сказал он командиру, — засвежеет, может якоря сорвать и на камни выкинуть.
Командир посмотрел в серую туманную даль открытого моря, повернулся к берегу, прислушиваясь к реву бурунов, и ничего не ответил.
Он послал баркас за водой и припасами в маленькое селение на берегу бухты. Там был острог для ссыльных каторжан.
— Как вернется баркас, снимемся, — сказал он штурману. — Чего в этой дыре сидеть?
— Следите за якорной цепью, — сказал он вахтенному. Потом заглянул на барометр и отправился греться в свою каюту.
Старший офицер остался на мостике с вахтенным и штурманом и озабоченно слушал его мрачные разглагольствования. Опасения штурмана передались и ему.
— Бамбуковое положение, ей богу! Уходить надо отсюда! И чего те там копаются? Вывесить что ли позывные?
— Копаются, сукины дети, долго ли воды набрать?
С разрешения командира были вывешены позывные.
— Позывных, ваше высокоблагородие, с берега видать не будет! Эва, какая мразь в атмосферах, — сказал боцман. — Лучше на катере кого за ними послать, поторопить.
— Пошли, Евсеич, — сказал старший офицер.
Катер быстро отвалил от борта и исчез в тумане.
Командир опять появился на мостике и тревожно смотрел на небо. Теперь оно все сплошь закрылось черными рваными тучами. Они быстро неслись с моря к берегу.
— Баркас идет и катер тоже! — крикнул сигнальщик.
Но вдруг налетел шквал и сразу развел большую волну в заливе. Яростно взвыли буруны на каменной прибрежной гряде. «Диана» дрогнула на своих цепях.
Налетел еще шквал…
— Шторм будет, — мрачно сказал штурман. — Дождались! Как мы теперь из этой дыры выберемся? Ей богу, не знаю!
…Еще один удар ветра, и якорная цепь вдруг зазвенела, как гигантская гитарная струна.
С трудом выгребали против ветра маленький баркас и катер… Их заливало.
Теперь все море ревело и кипело в узком заливе. Волны, как бешеные, метались от одного берега к другому, сбиваясь в клубы пены.
Температура сразу упала. Вместо моросящего дождя понеслась снежная крупа. Колючими иглами впивалась она в лицо, руки…
Сохраняя спокойствие, командир стоял на мостике с рупором в руке. Он ждал момента, чтоб ринуться навстречу этому ледяному ревущему ветру, но он не мог уйти без лодок, которые выбивались из сил в борьбе с волнами.
Вдруг «Диана» вздрогнула всем корпусом… Раздался резкий лязг и крик со шканцев:
— Цепи лопнули!
И сразу «Диану» потащило к берегу. Забросили запасной якорь. В этот момент к борту пристали баркас и катер.
На минуту, другую «Диана» задержалась, но скоро лопнула и эта новая цепь…
Тогда «Диану» повернуло бортом и понесло на камни. Крик ужаса огласил палубу. Смерть глянула всем в глаза! Надежды на спасение не было, и предсмертная тоска охватила самые смелые сердца. Офицеры, кто в чем, выскочили из кают-компании. Один матрос вдруг захохотал и бросился в кипящую пену, — с ума сошел от ужаса. Старые матросы кинулись в кубрик надевать белые рубахи, — к смерти приготовиться! Офицеры и матросы, все в куче, как стадо испуганных баранов, столпились на палубе около грот-мачты, и только на мостике, крепко держась за поручни, стоял прямо командир, а рядом с ним хмурый старый штурман. Спиридоний держал в объятиях какую-то бочку, выпучил глаза и лязгал зубами, — должно быть, молился.
И вдруг командир вспомнил, что еще утром он заметил с левой стороны бухты небольшой залив, который с бухтой соединялся узким проходом между каменными грядами. Берега этого заливчика были песчаные. «Авось туда проскочу? — мелькнула мысль в его голове. — Рискну!»
— Паруса ставить! — закричал он не своим голосом. — Марсовые к вантам! Живо!
С опасностью для жизни матросы полезли на реи. Цепко держась ногами, они отвязывали марсель, вязали рифы… Они работали на страшной высоте. Ледяной вихрь отрывал их от веревок. От боковой качки реи «Дианы» и матросы, вместе с реями, иногда уходили в ледяную воду. Но они руками, ногами, зубами цеплялись за паруса, за веревки, рвали ногти до крови, развязывая мокрые замерзшие концы.
«Диана» боком неслась к берегу. Волны перекатывались через нее. Уже раза два киль фрегата чиркал о подводные камни. Но паруса были поставлены, и «Диана» с марселями в четыре рифа вдруг рванулась вперед и, накренившись, бортом черпая воду, понеслась в сторону того прохода, который должен был ее привести в другой залив. Она удачно влетела в узкий пролив — сам командир стоял у руля — и врезалась в прибрежный песок.
Крики «ура», вопли безмерной радости огласили залив. Спасена была жизнь! Спасена была и «Диана»! Успокоится море. Придет прилив, и на заносных якорях можно будет сняться с берега и уйти из этой проклятой дыры.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Секретная инструкция
«Диана» на всех парусах неслась по Охотскому морю. Погода стояла сырая, промозглая, «петербургская». Серые облака, словно клочки грязной ваты, ползли по морю. Но ветер дул ровный, без порывов, и фрегат легко делал свои законные десять узлов.
Но вот вдали, в сером тумане, стал вырисовываться скучный, однообразный берег, по-видимому, пологий у моря, а далее медленно, постепенно повышающийся и покрытый лесом.
Штурман стоял на мостике, смотрел в свою трубу и что-то усердно ловил впереди. Наконец он оторвался от трубы и сказал отрывисто: «Охотск». Подошли к берегу, но не решились особенно приближаться. Остановились. Пушкой вызвали лоцмана. Гулко раскатился выстрел над серым, спокойным морем. Командир пригласил всех офицеров к себе в каюту, и через несколько минут капитанская каюта на корме фрегата была полна офицерами.
— Господа, прошу садиться, — сказал командир. — Кто желает, курите!
Когда все расселись, он взял со стола конверт, запечатанный пятью сургучными печатями, и сказал:
— По приказанию его высокопревосходительства господина морского министра я распечатываю этот конверт для сообщения его содержания всем вам. Приказано вскрыть его при входе в порт Охотска — вот надпись на конверте.
— Итак, господа, первый этап нашего плавания окончен. Поздравляю вас!.. — Все, слегка приподнявшись, ответили полупоклоном на это поздравление. Он торжественно вскрыл конверт и прочел:
«Инструкция касательно плавания и службы фрегата „Диана“ в водах Берингова моря и Тихого океана.
Пар. 1. По приходе в Охотск взять полный груз припасов и пополнить запасы огнестрельных снарядов.
Пар. 2. Командир «Дианы» берет на себя главное командование над шхунами «Алеут» и «Камчадал», а равно и над всеми судами Российско-Американской компании, для чего должен войти в непосредственные сношения с начальниками портов в Охотске и Петропавловске, с командирами перечисленных судов, а также с начальником российских колоний на Американском побережье.
Пар. 3. Озаботиться приведением в полный порядок перечисленных судов, для чего укомплектовать их опытным воинским составом из экипажа «Дианы», не останавливаясь перед устранением со службы лиц, состоящих в списках команды «Алеута» и «Камчадала», и не удовлетворяющих требованиям служебной инструкции.
Пар. 4. Главным местом стоянки эскадры, состоящей из фрегата «Диана» и шхун «Алеут» и «Камчадал», считать порт Петропавловск-на-Камчатке. На полуострове Аляска избрать место стоянки, наиболее удобное в морском, военном и коммерческом отношениях. Озаботиться постройкой на полуострове Аляска фортов, редутов, гаваней, а также доков для починки судов.
Пар. 5. Основной задачей эскадры, организованной под командованием вашим, является защита интересов российского флага на Дальнем Востоке. Сия защита должна выразиться в неустанной борьбе с теми иностранными коммерческими компаниями и союзами, кои вредят интересам Российско-Американской компании, не стесняясь в выборе средств, а именно: организовывают корсарские нападения на суда Российско-Американской компании, снабжают туземцев огнестрельным оружием и припасами, разоряют фактории, организуемые Российско-Американской компанией, ведут хищническую охоту на пушных зверей в пределах территории, находящейся в управлении Российско-Американской компании, и прочее, и прочее.
Пар. 6. Ввиду распространения торговых операций Российско-Американской компании по берегам Тихого океана от Сан-Франциско до Сандвичевых островов и далее — до берегов Китая, эскадра должна в указанных пределах взять на себя защиту торговых интересов означенной компании.
Пар. 7. Желательно, но не обязательно для эскадры в указанных пределах открытие новых земель и присоединение их к владениям короны российской, однако, без возбуждения каких бы то ни было международных конфликтов и осложнений.
Пар. 8. Означенная инструкция имеет силу до присылки новой инструкции… Прибытие в воды Берингова моря новых судов, на смену «Дианы», будет иметь место не ранее, как по истечении года.
Командир прочел подписи, скрепляющие инструкцию, и обвел всех присутствующих внимательным взором. Ему хотелось знать, какое впечатление на офицеров произведет прочитанная инструкция. По-видимому, она произвела впечатление самое неблагоприятное. Никто не сказал ни слова, но физиономии у многих вытянулись.
Недовольство выразилось вслух, когда офицеры вышли на палубу. Особенно негодовали князь Чибисов и граф Потатуев.
— Вот те и Сан-Франциско! — горячился князь.
— Вот те и Южная Америка! — воскликнул граф. — Целый год болтаться в тумане и сырости, чтоб строить доки и форты! — волновался князь.
— Конвоировать «купцов», чтоб их черт передрал! — вопил граф.
— Драться с разбойниками! Мерси! — тоном выше взял князь.
Барон все время молчал.
Князь и граф решили из Охотска же, не откладывая в дальний ящик, писать слезницы всем своим сиятельным родичам в Петербург, чтобы те устроили им перевод в Средиземноморскую эскадру.
— То ли дело Испания! Италия! Алжир! Египет!
— Ну, а ты, барон, присоединяешься к нам? — спросил князь барона Фрейшютца, который так-таки ничем и не выразил своего неудовольствия по поводу прочитанной инструкции.
— Я остаюсь здесь, — сухо ответил барон своим друзьям.
— Это почему? — изумился князь.
— По соображениям высшей политики, — загадочно ответил барон и засмеялся.
Князь и граф пристали к нему, чтобы он раскрыл им свои «соображения», но не добились от него никаких объяснений.
По-видимому, один Илья был совершенно удовлетворен всем тем, что он услышал, — ведь все это совпадало с его планами и намерениями.
Он стоял у борта и смотрел на плоский песчаный берег, который медленно приближался к «Диане». Из туманной дали стали вырисовываться домики, рассеянные по берегу, две-три церковки, что-то вроде небольшой крепости на холме, да на открытом рейде стоящие суда… Жалкий, убогий Вид!
Но сердце Ильи рвалось навстречу этому серому, скучному городку. Ведь там на берегу должна его ждать милая Елена!.. Но там ли она?.. Доехала ли она до Охотска? Или… Мало ли, что могло произойти в пути!.. Ведь через всю Сибирь… Одна!.. Одна, правда, окрыленная любовью к нему и к отцу! Жив ли он?
Эти мысли как-то перебивались другими. Илья был поражен тем, что гонконгский корсар, оказывается, знал содержание той секретной инструкции, которую так торжественно только что прочел командир. Значит там… в Петербурге… в Адмиралтействе… сидят какие-то изменники, которые продают «секреты»! И кому? Американским купцам! Какая низость!.. Илья поделился своим негодованием с Вадимом.
По указанию лоцмана остановились. Бросили якорь верстах в пяти от берега. Дальше идти было опасно, — слишком было мелко.
Охотск
Вельбот командира отвалил от борта. С ним на берег поехали Илья и Вадим. Прошли мимо стоящих на рейде ближе к городу «Алеута» и «Камчадала». Внимательным, острым взглядом впился командир в эти «военные суда», поступившие с сегодняшнего дня под его команду, и отвернулся с негодованием. Прекрасные по конструкции, легкие и стройные, с чудесным такелажем, по-видимому, превосходные ходоки, они были запущены до последней степени. Даже реи не были выравнены!.. Паруса были привязаны кое-как. Казалось, никакой вахты на судах не было. Эти шхуны совсем не производили впечатления военных судов. Лениво болтались на вантах розовые матросские рубахи и белые портки, да какая-то баба из-под руки посмотрела на проходивший мимо командирский вельбот.
— Придется нам, Илья Андреевич, повозиться с этими судами, — сказал командир, обращаясь к Илье. — Особенно вам.
— Почему именно мне? — удивился Илья.
— Потому что я назначаю вас командиром одной из этих шхун. Выбирайте любую.
Илья поклонился командиру, и краска радости залила его лицо.
— Постараюсь оправдать ваше доверие, — сказал он.
— А другим я наметил Ишумова, — сказал командир. — Как ваше мнение?
— Прекрасный выбор, — быстро ответил Илья.
— Возни будет много с этими судами. Весь экипаж придется перетряхнуть… избалованны, видимо, очень, а, с другой стороны, видно, что к плаванию здешнему более приучены, чем наши с «Дианы». Ну, там посмотрим.
Вельбот долго выискивал место, где было поудобнее привалить.
Наконец боцман заметил небольшую пристань, где уже стояла группа человеческих фигур и махала руками, платками, зонтами.
Илья и Вадим впивались глазами в эту группу. Вадим первый увидал Елену и показал Илье.
— Лена! — крикнул Илья, и от этого крика, вырвавшегося из самого его сердца, командир даже скривился.
— Не подозревал, что вы так экспансивны, Илья Андреевич, — не без едкости процедил он сквозь зубы.
Но на этот раз его замечание пропало зря, тем более что и с пристани раздался радостный женский крик:
— Илья, Вадим! — и из группы стоявших выделилась вперед стройная фигура Елены.
Еще момент, и для Ильи и Елены перестали существовать и Охотск, и строгий командир «Дианы», и небольшая кучка ротозеев, стоявших на пристани… все все…
Встреча «командующего эскадрой» в Охотске вышла совсем неудачной: только какой-то щипаный, полупьяный старик-стражник стал перед ним во фронт, вытянулся на цыпочках, держа растопыренную грязную лапу у продырявленного кивера, — видимо, все усилия прилагал к тому, чтобы не качаться.
На все вопросы командира, где начальник города, начальник команды, порта, где пристав, — он отвечал неизменно одно:
— Так что, ваше высокородие, на именинах у Ван Ваныча… ик… (и он в этих случаях прикрывал рукой рот). Супруга ихняя значит с анделом.
— Кто это Иван Иванович? — спросил командир.
— Так что… городничий здешний… А супруга евонная Агафья Семеновна.
Положение командира оказалось затруднительным, хоть обратно на «Диану» уплывай!
— Ну, а командиры «Алеута» и «Камчадала», они где?
— И они… ик… и они там… с анделом… Все у Ван Ваныча! А матросы, те по кабакам отпущены. Потому у нас севодни праздник… И люмиация будет. Во как!
— Проводи меня в городское управление, — сказал командир.
— Это куды такое? — не понял стражник.
— Ну, в канцелярию что ли к городничему… как она у вас там называется?
— Заперто все. И сторож в кабаке… присутствия нет! — в словах стражника вдруг послышался тон недовольства. «Привязался, анафема! Из-за него из кабака прибежал, а он тут с пустяками лезет», — видимо, тоскливо думал старый стражник.
Но упорный командир стоял на своем. Привели из кабака сторожа, открыли канцелярию… Командир уселся и стал ждать.
— Илья Андреевич, — сказал он Илье, — пожалуйста, отложите на время сердечные излияния и приведите ко мне сюда хоть этого Ивана Ивановича. Сходите к нему, стражник вас проводит. А я с супругой вашей вас здесь подожду.
У «Ван Ваныча» дым стоял коромыслом! Гости уже закусили, порядочно хватили и теперь рушили огромный именинный пирог. От избытка чувств все — и кавалеры, и дамы — орали такими зверскими голосами, что разобрать отдельные фразы в этом пьяном гвалте не было возможности.
Илья со стражником вошли прямо в столовую. На них никто ровно не обратил никакого внимания. Стражник недоумевал, что ему дальше делать, и виновато сморкнулся в ладонь, которую потом аккуратно вытер о штаны.
— Гуляют!.. Здорово! — проорал он, наклоняясь к уху Ильи. — Должно, мухоморовки хвативши, от ее завсегда орут все.
— Который здесь Иван Иванович? — прокричал ему в ухо Илья.
— А вон… рыжий… с плешью который, — проорал в ответ стражник. — На краю сидит… и жена евонная с ним… Агафья Семеновна!..
Илья с трудом продрался сквозь толпу пьяных гостей до Ивана Иваныча и принялся кричать ему в ухо:
— Иван Иваныч! — даже за плечо его потряс. Не помогло. Наконец, супруга Ван Ваныча, именинница, виновница торжества, услышала вопли Ильи, повернула к нему свою красную, лоснящуюся от пота физиономию и с недоумением стала смотреть на него, очевидно, стараясь припомнить, кто перед ней.
Илья стал ей объяснять, кто он и почему он беспокоит Иван Иваныча. Но он сам не слышал своего голоса и наконец бросил все объяснения.
— Ван Ваныч, — стала трясти своего супруга именинница.
Иван Иванович в это время увлекся спором с соседом о контрабанде, какая она бывает «правильная» и какая — «неправильная».
— Ван Ваныч! — упорно настаивала именинница. — К тебе.
— Ну тя к чертовой матери! — отозвался, наконец, Ван Ваныч, адресуясь к супруге.
— К тебе офицер морской! Да ты посмотри, дурак ты этакий!.. Анафема пьяная! — и она повернула пьяную рожу мужа в сторону Ильи.
— А, ну его, ко псам! — завтра пусть придет! Сегодня нет присутствия… К лешему!
— Конечно, гони по шеям, — посоветовал сосед Ван Ваныча.
Но Илье не понравилась такая перспектива, и он, желая предупредить соответствующее распоряжение Ивана Иваныча, набрал в легкие воздуха и изо всех сил, как в бурю с капитанского мостика, проорал:
— По приказу начальника эскадры явился просить вас немедленно явиться в городское управление для получения распоряжений высшего начальства! — «Как жаль, что не захватил рупора!» — подумал он невольно.
Иван Иваныч дико посмотрел на Илью и свирепо буркнул жене:
— Агафья, дай огуречного рассолу, — встал и, качаясь, вышел из столовой куда-то во внутренние апартаменты. Гости не заметили отсутствия хозяина, и гвалт не умолкал.
— Обязательно «мухоморка», — говорил сам с собой стражник и даже уронил на пол каплю слюны.
В городское управление пришли втроем: Илья, стражник и Иван Иваныч Насосов, городничий города Охотска. Он был мрачен. Его мучила отрыжка. Волосы торчали мокрыми вихрами, — очевидно, перед выходом поливал голову водой.
Красноречие покинуло Ван Ваныча, когда он предстал перед командиром, — на вопросы он отвечал каким-то мычанием. Когда ему вручили список тех лиц, которых желательно завтра видеть, он наконец заговорил:
— Завтра?.. Никак невозможно!.. Все пьяны, в разных градусах. Завтра все опохмеляться будут… день тоже неприсутственный. Послезавтра ежели?
Заговорил командир относительно распоряжений свыше, но к ним городничий отнесся с критикой, — он икнул и сказал: «ерунда».
— То есть, как это ерунда? — вспыхнул командир.
— Ничего с эстого не выдет, — мрачно ответил скептик городничий, — народ здесь пьяный, вольный народ. Одно слово: варнак народ.
На эту тему командир не счел возможным продолжать разговор и на прощание спросил:
— А командиры «Алеута» и «Камчадала» где обретаются? Может, вы знаете?
— Как не знать, — ответил городничий, — у меня пьют.
— Передайте им, чтоб завтра в двенадцать часов они явились ко мне на фрегат.
— А опохмеляться как же? — развел руками городничий.
— Ровно в двенадцать часов! — резко повторил командир.
— Передам, — отвечал Ван Ваныч и безнадежно махнул рукой. Потом вдруг по его пьяной роже пробежала какая-то мысль… Он вдруг ухмыльнулся, постарался сделать умильное лицо и сказал: — Может, соблаговолите… ко мне на пирог… жена именинница. Святой Агапии сегодня.
Командир сухо поблагодарил и отправился на пристань в сопровождении стражника.
Городничий постоял, почесал в затылке и поплелся домой, покручивая головой.
Илья пошел с Еленой на ее квартиру. Стражник занимал по дороге командира разговорами:
— Севодни даром выпивают, — сообщил он, указывая рукой на кабак, откуда неслись дикие крики, — Ван Ваныч спирту казенного отпустил. Лиминация будет! Здорово!.. Я вам, ваше высокородие, больше не надобен? Уж я по бегу!
Командир отпустил его, и он крупной рысью подрал в кабак.
…Илья сидел с Еленой на подоконнике в ее квартире и держал ее за руку. Они сидели и говорили, говорили и спрашивали друг друга, и рассказывали, она о своем путешествии через всю Сибирь, он — о своем плавании.
…А город Охотск ликовал: у дома Ван Ваныча запылали плошки… С «Алеута» выпустили несколько ракет.
Мимо окошка, на котором сидел Илья с Еленой, прошел, выписывая кренделя по ухабистой улице, один из гостей Ван Ваныча и пел на весь город:
— Нашему Ван Ванычу слава!
— Нашему городничему Насосову слава!
Потом, спустя некоторое время, вдруг неистово заорал:
— И нашей городничихе Агафье Семеновне слава!
…На следующий день на палубу «Дианы» с большим опозданием против указанного срока, но зато вдвоем явились командиры «Алеута» и «Камчадала». И они сами, и матросы их катера вызвали на «Диане» смех команды. Все они походили более на старых моржей, чем на военных моряков. На товарищеские вопросы любопытных матросов с «Дианы» они ответили мычанием, на шутки — грозно ворчали. Командиры их тоже не отличались склонностью к разговорам и особой любезностью. Не глядя по сторонам, набычившись, они прогрохотали своими сапожищами по палубе «Дианы» в капитанскую каюту.
Строгий, застегнутый на все пуговицы, с часами в руках (намек на опоздание) встретил их командир «Дианы», но этот холодный официальный прием на обоих никакого впечатления не произвел.
Командир назвал себя и старшего офицера.
— Антип Сморжов, штурман дальнего плавания, — отрекомендовался сиплым басом командир «Алеута».
— Касьян Моргунов, штурман дальнего плавания, — как далекое эхо, тоном ниже отозвался командир «Камчадала».
— Прошу садиться, — сказал командир. Оба сели, — сели так плотно, что капитанские кресла жалобно застонали под их грузными телами.
— Трещит, — проворчал Сморжов, оглядывая кресла с некоторой тревогой.
— Ничаво, — успокоил его Моргунов. — Сел — и сиди!
Дальше пошли сплошные недоразумения.
Оба искренне удивились, когда командир заявил им, что их шхуны входят в состав «эскадры»… Едва ли они даже поняли, что такое «эскадра». Посмотрели друг на друга с некоторым недоумением.
Когда командир заговорил о ловле контрабанды, оба уже явно встревожились и, выпучив рачьи глаза, пошевелили усами. Очевидно, на этот раз поняли и остались недовольны. Командир заговорил о борьбе с корсарами… Тут оба сразу заерзали на креслах так, что те застонали под ними.
— Ну уж! — сказал Сморжов.
— Да уж! — поддержал его Моргунов.
— Это дело неподходячее, — сказал Сморжов. — Он мне — кум. С чего мне с ним стражаться?
— И мне кум, — отозвался Моргунов.
— Кто ваш кум? — спросил командир. Он даже растерялся…
— Да Мансаров Илья Фомич, шлюпом «Сошествие святого духа на апостолов» командует.
— Да разве он… корсар? — спросил командир.
Оказалось, произошла путаница: командир говорил о «корсарах», а им послышалось «Мансаров».
Успокоились и стали доказывать, что Мансаров — прекрасный человек и общий благодетель в Охотске: привозит без пошлины ром бочками, шелк из Японии. Доставляет все в Охотск и распродает сам и даром дарит.
Командир не знал, о чем еще разговаривать с ними, — приказал приготовить обе шхуны к смотру на следующий день и отпустил своих новых подчиненных. Оба облегченно вздохнули и встали вместе с креслами, отодрали их от своих седалищ, сделали сапожищами такой поворот «налево кругом», что в каюте задребезжал капитанский хрусталь и, рявкнув: «Счастливо оставаться», тяжко отдуваясь, вышли на палубу.
Растерянный командир долго смотрел им вслед. Старший офицер стоял около, тоже смотрел вслед уходящим и говорил:
— Бамбуковое положение, черт возьми! Ну и эскадра!
Смотр произвел на командира потрясающее впечатление: палуба на обеих шхунах не была даже вымыта. На марсе «Алеута» все еще сушились портки. Пушки были грязны, и в дуле одной из них оказалась пустая бутылка. Матросы, выстроенные во «фрунт», производили впечатление команды второразрядного пиратского судна. За матросами выстроились их жены с ребятами разного возраста.
— Ноевы ковчеги какие-то, — рычал командир, окончив «смотр». Делились впечатлениями… В кают-компании «Дианы» стоял неумолкаемый хохот…
Свидание с местными властями в городе тоже вышло неудачным: начальника колоний в городе не оказалось, — не то он был в Петропавловске, не то на Аляске.
С городничим и с чинами полиции сговориться было тоже нелегко: напугались, когда командир заговорил о контрабанде.
— Что вы, что вы! — стал вдруг оправдываться городничий, — какая у нас контрабанда? Живем тихо, — бурчал он, — можно сказать, на краю света. Солим грибы, да бруснику мочим — вот и вся наша жисть!
— Именно, — подтвердил Огурцов, — еще морошку мочим, вот и все. Чего тут? Жисть наша, как на ладошке… Чего тут!
Если полицейские власти явно не сочувствовали распоряжениям свыше, то начальник воинской команды, старый поручик Фома Гвоздь, верный присяге, которую дал еще лет пятьдесят назад, всей душою шел навстречу всем пожеланиям высшего начальства: и контрабандистов готов был вешать, и корсаров готов был расстреливать. («Только вы их, мерзавцев, доставьте, — прибавлял он, — а уж мы их!») Усердие его дошло до того, что под конец он стал бить себя в грудь и уверял командира, что ради начальства никого не пожалеет: жену пришибет, сам себя расстреляет.
Готов был на все услуги и брандмейстер Пампушка, который сам явился представиться командиру.
Каждый день стоянки в Охотске приносил командиру огорчение за огорчением. Отправилась часть команды на берег «в баньке попариться» — вернулись в доску пьяные. Видно было, что не до бани дошли, а до первого кабака.
Съехали на берег господа офицеры, — вернулись отравленные настойкой из мухоморов: местные чиновники угостили… В объятиях офицеры на фрегат везли банки с моченой брусникой и морошкой — скромные «сувениры» охотских дам. Многие своих банок не довезли — раздавили в могучих объятиях и кителя перемарали. Вид был безобразный.
У матросов вдруг появились целые четверти «мухоморки». Доктор Арфаксадский терял голову: на борту от моченых ягод появилась дизентерия и холерина, а от «мухоморки» — эпидемия бешенства. Захворал, между прочим, фельдшер Зворыкин, — покушался клистиром доктора зарезать. Искусился как-то на «мухоморку» даже Степан Степаныч — «из любопытства» — попробовал и занемог на двое суток.
Несчастье постигло в Охотске и Спиридония. Отправился представиться преосвященному. Был сначала владыкою обласкан и утешен, а на следующий день на фрегат преосвященный прислал приказ Спиридонию: «Причислить миссионера отца Спиридония Аримафейского к миссии на остров Каталакшу и за непристойное поведение наложить на него эпитимию: пасти на острове двух коров и единого козла миссии принадлежащих, донде же не исправится».
В неистовство пришел Спиридоний от такого поручения, всем жаловался и громко роптал:
— Черт их раздери! — вопил, — что я козлов у себя в России пасти не мог? На кой ляд меня на край света угнали, чтоб столь похабное дело мне поручать?
И во всем этом происшествии усмотрел он новые козни дьявольские и в «книгу живота» своего внес еще одну страницу.
В Петропавловск!
По приказу командира «эскадра» в одно прекрасное утро снялась с якоря и отправилась в Петропавловск.
«Алеут» и «Камчадал» бойко шли впереди «Дианы».
Командир сидел в своей каюте. К нему вошел смущенный старший офицер и доложил: «Парус»!
— Ну, Степан Степанович, и что ж с того, что парус? Мало ли здесь парусов попадается навстречу? Что ж вы мне о каждом будете докладывать? — Командир был не в духе.
— О каждом, Орест Павлович, конечно, нет, но… это, по-видимому, идет тот черный корвет, который стоял в Гонконге!
— Что? Да вы в своем уме? Быть не может! — командир вскочил, как ошпаренный, и выбежал на палубу. Схватив трубу, он впился глазами в горизонт, где вдали видны были очертания знакомого судна.
— Черт возьми!.. Или мне чудится? — воскликнул командир… — По-моему… с корвета сигнализируют?
С полчаса шел таинственный корвет тем же курсом, что и «эскадра», потом свернул на восток и скрылся за горами какого-то большого острова.
…На горизонте стали вырисовываться грозные массивы Камчатских гор. Черные, увенчанные снегом, они вырастали из воды и скоро мрачной неприступной стеной стали перед «эскадрой», которою командовал капитан Накатов.
«Эскадра» шла вдоль этих неприветливых берегов долго, потом свернула на восток и на северо-восток, и трое суток тянулись все те же горы, утесы и скалы и все с тем же глухим ропотом разбивалась об них пена морского прибоя… Иногда утесы словно раздвигались, и видны были водные проходы в недрах каменных высот.
— Словно в Норвегии фиорды, — сказал кто-то из офицеров.
Вот и Петропавловск! Стоянка тоже неважная, но все же лучше, чем в Охотске. Залив больше, — можно укрыться от ветра и волн. Укрепления на прибрежных высотах закрывают вход в залив. И город, по-видимому, больше Охотска. По низкому берегу широко раскинулись одноэтажные домики (однако ж были видны и двухэтажные, даже как будто и каменные). Сейчас же за городом вздымались горы, покрытые лесом, а на верхушках — снегом. Пейзаж не из веселых. На рейде стояла шхуна, как оказалось, принадлежащая Российско-Американской компании и носившая странное название «Сошествие святого духа на апостолов» — очевидно, та самая, командир которой носил такую мудреную фамилию, что ее легко было спутать со словом «корсар».
Дальше пошло все так же, или почти так же, как и в Охотске. Разница была в том, что Петропавловск был своевременно предупрежден: командиры «Алеута» и «Камчадала» на заре съехали на берег и взбаламутили всех своих «кумовьев» и «кумушек» в городе. Начальник колонии вдруг куда-то скрылся, городничий захворал, прочие успели спеться…
Ретивый командир, впрочем, изловил заведующего канцелярией по делам колоний и имел с ним пространный разговор. Заведующий канцелярией со всеми проектами командира соглашался, все меры, им предложенные, вполне одобрил, от прочтенной инструкции пришел в совершенный восторг, и только когда разговор окончился и командир уже выходил из канцелярии, лицо заведующего свело судорогой злобы и в глазах его вспыхнули огни ненависти. Командир увидел эту метаморфозу в зеркале, висевшем в прихожей, и быстро обернулся, остановился и долго пристально в упор рассматривал хамелеона-заведующего.
На следующий день командир осматривал шхуну «Сошествие святого духа», пригласив с собой начальника таможни. Обнаружилось, что шхуна до отказа гружена контрабандой. По приказу командира груз был запечатан печатями, судовые книги тоже. С начальником воинской команды побывал командир на «Алеуте» и «Камчадале» и в двадцать четыре часа велел очистить обе шхуны как от начальства, так и от всей команды с бабами и ребятами.
— Куды же я их дену? — с отчаяния взвыл городничий Ельпидифор Никифорыч Еловых, глядя на живописный лагерь выселенных со шхун и расположившихся в порту под открытым небом. Там стоял плач и скрежет зубовный.
Командир распорядился часть оставить в Петропавловске, часть отправить в Охотск, в гарнизоны, а более молодых решил везти в Аляску для усиления там крепостной обороны… И ругали же за это распоряжение командира все в городе!..
Через двадцать четыре часа командиром «Алеута» оказался Илья, командиром «Камчадала» — лейтенант Ишумов. На каждую шхуну из экипажа «Дианы» перевели по сорок человек. Началась чистка обеих шхун.
На «Сошествии святого духа» вся команда была тоже сменена. Контрабанда свезена на берег и сложена в таможенный склад. Двери склада были запечатаны чуть не сорока печатями, — строгий командир «Дианы» не заметил одного: задняя стена таможенного пакгауза легко разбиралась!..
На рейде чинились и чистились. В городе царила паника. Решительные меры рьяного командира перевернули вверх дном годами установленный порядок жизни. В городе шушукались, шептались, совещались…
Отыскался вдруг начальник колоний. Явился к командиру, имел с ним длительный разговор с глазу на глаз. Он был, очевидно, воробей стреляный и с командиром говорил более чем свободно, — дал ему понять, что в чужой де монастырь со своим уставом не лазят, что инструкция де есть только инструкция, и что ломать жизнь по инструкциям нельзя и прочее, и прочее. Командир слушал все эти речи, скрестив руки по-наполеоновски на груди и не спуская глаз с оратора. Поощренный таким вниманием, начальник колонии вдруг вынул из кармана игральную карту с изображением пикового валета, повертел ее в руках и спрятал в карман, убедившись по выражению лица собеседника, что эта операция с валетом на него, кроме недоумения, никакого впечатления не произвела.
Тогда начальник колоний переменил тактику, он предложил командиру взятку, правда, в весьма деликатной форме. Командир показал ему рукой на дверь и провожать его не пошел. На этом их деловой разговор окончился.
Командир «Сошествия святого духа», очевидно, подученный друзьями, вдруг стал вести себя задорно, — стал отрицать наличность контрабанды на его судне, утверждал, что его шхуна была гружена одной пенькой. В таможенном складе действительно вместо груза, вывезенного со шкуны, оказалась пенька. Протокол, составленный на борту «Сошествия», пропал бесследно. Чиновники петропавловские вдруг обнаглели, стали отрицать то, что показывали накануне.
Командир торопил всех с окончанием необходимых работ, чтобы вырваться из этого города и отправиться на Аляску.
Илья свел знакомство на берегу с одним старым отставным матросом Федосеевым. Подошел к нему, когда тот сидел с удочкой в порту и таскал окуней. Разговорились. Старик оказался старожилом петропавловским, знавал отца Ильи и помнил его тестя.
Илья затащил его в ресторацию и стал расспрашивать. Об отце Ильи Федосеев отозвался так:
— Правильный был человек, царство ему небесное! Нешто нынче в нашей жисти анафемской такие люди жить могут?
О тесте он знал больше, но разговаривать о нем почему-то стеснялся… В плену он, слыхать! Жив ли, нет ли — не знаю!
— А почему его так долго в плену держат? — спросил Илья.
— А почему, я энтого не знаю, — ответил Федосеев, понизив голос и озираясь. — Должно, так надо, потому и держат! Скажи спасибо, что не придушили, — прибавил он.
Илья налил старику рому. Выпил с удовольствием.
— Коли держат, — заговорил он, — значит надо так! Зря кормить не будут. Американы эти, — он еще понизил голос и стал шептать, хотя вблизи около них никого не было, — у-у продувной народ! Одно слово — каторжный!.. Ты не смотри на то, что ты в Петропавловске сидишь: они уж каждое твое слово знают! Потому (он наклонился совсем к уху Ильи) наши все у них на откупу! Ей-богу! Вот капитан энтот Неведомский, Павла Кузьмича тестя твоего командир, так ведь он и судно свое и команду всю им выдал, отступного взял, да и сиганул отсюда. А люди за него сиди в остроге! Сволочь такая!
Ром начал действовать.
— Наши русаки, конечно, тоже народ сволочной! Ну а супротив американов где им!.. Наш народ слабый: за водку отца родного продаст, — это известно! Ну а те и пользуются слабостью… Здесь, батюшка Илья Андреич, здесь у нас все продано, все куплено, заложено и перезаложено. Начальник колоний, скажем… — И вдруг Федосеев споткнулся. — Да может ты из и х н и х? — вдруг тревожно спросил он Илью. — Я тут разоврался с тобой. А ты может с и х компании?
Как ни уверял его Илья, что он с н и м и никакого дела не имеет, однако, старик больше ни слова не сказал, — сухо поблагодарил за угощение и пошел к своим окуням.
Встречался Илья с Федосеевым не раз и от него узнал, что тот знает Берингово море, как свои пять пальцев, что кроме него еще можно в Петропавловске найти с пяток таких же старых матросов, опытных мореходов, которые все не у дела, — неугодны оказались начальству и теперь живут только тем, что или окуней на уду таскают, либо рябцев петлями в лесу ловят, либо грибы-ягоды собирают.
Илья убедил командира, что эти отставные «старые морские волки» весьма могут пригодиться «эскадре» во время плавания по Берингову морю. Все они были приняты на службу. По просьбе Ильи, Федосеев попал к нему, на борт «Алеута».
Федосеев подружился с Ильей, очень заинтересовался его намерениями отыскать и выручить тестя. Узнав, что Елена с этими же намерениями о д н а приехала из России, он даже прослезился — тронут был.
На борту «Алеута» в каюте Ильи Федосеев оказался словоохотливее, но все же чего-то не договаривал.
— Да скажи ты мне, Федосеев, — приставал к нему Илья, — что у вас тут за чертовщина? Понять невозможно.
— Эх, ваше благородие, такая здесь чертовщина, что кто супротив ее идет, тому и головы не сносить! Кажись, и батюшка ваш — покойник из-за энтого самого головушку сложил. «Утонул», — говорят. Знаем мы, как здесь «тонут». Бежать отсюда надо — вот что! Вот и вы смотрите в оба, как бы и вам самим тут не увязнуть. Одно слово: игра здесь самая фальшивая.
Попробовал Илья поговорить с командиром по этому поводу «по душам», высказать ему свои тревоги и опасения, но тот и слушать не захотел:
— Все у вас в голове заговоры да корсары! Романтик вы, Илья Андреевич! Просто здесь все спились и проворовались. Перевешать здесь надо всех! Протухли людишки. Вот вы лучше поторопите-ка своих-то… За вами остановка!
Дело в том, что одно из дальнобойных орудий, по приказанию командира, перегрузили на «Алеута» и поставили посередь палубы так, чтобы поле обстрела было шире. Благодаря этому дальнобойному орудию маленький «Алеут» оказывался сильнее многих крупных судов, еще не вооруженных пушками нового типа. Теперь на «Алеуте» возились с установкой пушки.
Хотя командир определенно благоволил к Илье, — ценил в нем человека не только исполнительного и серьезного, но и заинтересованного и сочувствующего всем заданиям, тем не менее на просьбу Ильи позволить Елене плыть на «Алеуте», — согласия своего не дал.
— Из принципа не могу, Илья Андреич! Только что всех женщин я выставил со шхун, и теперь опять за то же приниматься не могу!..
Елене пришлось идти на «Сошествии святого духа» вместе с женами переселенцев на Аляску. Это было очень неприятно для Ильи и для Елены, — она попала в общество людей обиженных и раздраженных. Свою досаду вымещали на ней. Но что поделаешь? С командиром спорить было невозможно.
По приказу командира эскадра разделилась: «Диана» и «Сошествие» пошли открытым морем южнее Алеутских островов, «Алеут» пошел севернее островов, а «Камчадал» еще севернее, — вдоль берегов Камчатки к северу, потом на восток к острову святого Лаврентия. Все суда должны были сойтись в Нортоновском заливе, у редута святого Михаила. По приказу командира по дороге должны были ловить контрабанду и захватывать хищнические суда иностранцев.
Посчастливилось на этот раз Илье. Попалась навстречу «Алеуту» шхуна тоже Российско-Американской компании под названием «Сорок мучеников» (и кто только здесь такие идиотские названия придумал?). Илья остановил шхуну, освидетельствовал ее и нашел, что и она полна контрабанды. Он сделал все, как приказано было командиром: груз запечатал, протокол составил, в судовых книгах, что требуется, прописал и отпустил шхуну в Петропавловск. Долго на этой шхуне никто ничего понять не мог. Увидели издали «Алеута», — обрадовались, выпивку приготовили, думали Сморжова встречать… приготовились… и вдруг вместо Сморжова явился какой-то офицеришка с матросами, да еще с ружьями, и пошел хозяйничать!.. Что за чертовщина? Долго стоял в недоумении командир «Сорока мучеников» и смотрел вслед «Алеуту»… И только когда убедился, что «Алеут» скрылся за горизонтом, выругался ему вслед крепко и сочно.
…Однажды вечером, когда «Алеут» шел, имея слева цепь каменистых алеутских островов, еле возвышавшихся над поверхностью моря, вдруг откуда-то издалека справа послышалась канонада!.. Сначала раздавались отдельные разрозненные выстрелы, потом они скоро сменились сплошным гулом…
На «Алеуте» началась паника.
— Это у Лисьих островов, у пролива Унимака, — пробормотал Федосеев.
Напрасно Илья и весь экипаж всматривались туда, откуда слышались выстрелы, — ничего не было видно, мешали острова, закрывавшие горизонт.
Бой с корсарами
— Надо туда идти, — сказал Илья. В его взбудораженной голове мешались мысли о «Диане» и об Елене, которая сейчас по прихоти капризного командира сидит на беззащитной шхуне в обществе раздраженных матросов и их жен.
— Как туда пройдешь? — ворчал Федосеев. — Тут каменная гряда. Хотите, видно, на камни сесть? По-моему, надо назад утекать, в Петропавловск. Нам-то чего оставаться?
Но Илья настаивал, требовал, и Федосеев, перекрестившись, повернул нос «Алеута» в один из проходов между островами. Чиркнули килем о камни, но проскочили благополучно в открытое море. Все смотрели вперед, — туда, откуда еще доносился гром канонады. В ночной тьме там вдруг вспыхнула какая-то искра, которая стала расти, расти, и скоро край темного неба озарился тревожным заревом.
— Горит! Горит! Пожар! — раздались крики с «Алеута». Ужас овладел всеми. — Кто горит?.. Кто?
Ветер был слабый. Хотя «Алеут» и шел на всех парусах, но продвигался медленно. Нетерпение овладело всеми. Казалось, что «Алеут» совсем не идет, а стоит на месте.
Между тем в трубу теперь уже можно было различить в кроваво-красной дали два пылающих судна. Вдруг канонада прекратилась.
— Кто горит? — кричали те, у кого не было трубы.
— Корсар горит! Урра! — крикнул Илья.
— Урра! — раздалось на палубе.
— И… «Сошествие» тоже горит! — воскликнул Илья. От волнения он задыхался.
— Елена!.. Но… где же «Диана»?..
Оба пылающих судна тихо уносились ветром в сторону островов Привалова, к черным каменным грядам, которые там отчетливо были видны, освещенные пламенем горящих судов. Илья уже хотел спустить шлюпки, как вдруг откуда-то издалека опять прокатились по морю залпы орудийных выстрелов.
— Там «Диана»! — закричал Илья. — Там опять бой идет! Туда! Туда!..
— Илья, — сказал Вадим, — оставь меня с Федосеевым на шлюпке. Надо спасать погибающих, надо перевести их на остров.
— Спаси Елену! — крикнул Илья, когда шлюпка Вадима уже отвалила от борта.
«Алеут» пошел на всех парусах. Пришлось идти мимо пылавшего корвета и Илья увидел на палубе его у бизань-мачты капитана Уильдера. Команды не было… Корсар один стоял неподвижный, прислонившись к грот-мачте, словно был к ней привязан.
Илья велел спустить шлюпку и забрать Уильдера на борт «Алеута». Корсар был тяжело ранен и без сознания. «Алеут» шел туда, где все не умолкала жестокая канонада… Сзади «Алеута» догорали два судна. Потом послышался взрыв, — это красавец-корвет взлетел на воздух. Потом зарево стало уменьшаться, меркнуть и померкло совсем. Тьма спустилась над морем.
— Что с Еленой? Жива ли она? — гвоздила голову Ильи мучительная мысль, и эта мысль перебивалась другой, столь же мучительной: «что с „Дианой“?
Наконец «Алеут» приблизился к месту ожесточенного боя. «Диана» билась с двумя крупными кораблями, которые близко подошли к ней с двух сторон и громили ее выстрелами. Она отстреливалась обоими бортами, но, видимо, уже изнемогала в неравном бою! Верхушки ее мачт были сбиты, сама она накренилась, на палубе ее боролись с начавшимся пожаром.
В пылу сражения сперва никто не заметил «Алеута». Воспользовавшись этим обстоятельством, Илья успел близко подойти к одному из противников «Дианы» и стал осыпать его продольными выстрелами, — картечью по палубе и ядрами под ватерлинию. Через несколько минут «Алеут» совсем разворотил корму враждебного судна, и оно загорелось и стало погружаться кормой в воду. Крики ужаса раздались с гибнущего судна. Другое судно, обстреливавшее «Диану», сейчас же прекратило стрельбу и пошло на помощь товарищу.
«Диана» на обрывках парусов стала уходить с места боя. «Алеут» пошел за ней. Его узнали с палубы «Дианы», и фрегат огласился криками: «Ура, „Алеут“!
— Ура, «Диана»! — грянул радостный ответ с «Алеута».
— Илья Андреич! — крикнул в рупор командир «Дианы».
— Есть! — ответил Илья.
— Спасибо, дорогой!
— Рад стараться! — крикнул Илья.
— Отойдем еще… И из дальнобойных их!
— Есть! — ответил Илья.
Отошли… И из своих новых трех пушек открыли пальбу по двум судам, которые были освещены пожаром. Оттуда пытались было отвечать, но ядра их не долетали до «Дианы» и «Алеута».
Потом огонь на вражеских суднах стал уменьшаться. Погас… Потушили, должно быть… И оба корабля потонули во тьме. Стрелять больше не было смысла!
На рассвете подошел «Камчадал».
Небо было серое, море — тоже. Ничего не видно было кругом, только длинные гряды островов тянулись на горизонте.
Илья поднялся на палубу «Дианы». Какой ужас разрушения! Изломанные мачты, порванные и спутанные снасти. Лужи крови. Запачканные кровью и дымом пороха лица матросов. Грязные рубахи. У всех бледные, измученные Лица. Стоны раненых, и длинный ряд неподвижных тел на палубе, покрытых судовым знаменем. Возле них Паисий в черной ризе, с кадилом в руках. Панихида по убиенным, павшим на поле брани. А за что «убиенным»?.. За интересы пайщиков Российско-Американской компании! Несчастные жертвы американских тузов и их русских агентов!
Старший офицер Степан Степаныч лежал без сознания, — он был ранен навылет в грудь. «Бедный „бамбук“! Едва ли выживет!» — сказал доктор Арфаксадский. У князя Чибисова была прострелена рука выше локтя. Он гордо носил ее на черной перевязи. Барон лишился мизинца, — как раз того, на котором был его фамильный перстень с гербом. Ни пальца, ни перстня! Сидел злой в каюте, а копченые головы, стоя на полке, словно смеялись над ним темными впадинами своих страшных глаз. У старшего штурмана была перевязана голова, и на белом полотне проступало темное пятно запекшейся крови. Спиридоний сидел на полу около разбитой грот-мачты и тупо смотрел на свою правую руку. Кисть ее была наскоро обмотана марлей. Снарядом оторвало ему как раз те три пальца правой руки, которые нужны для крестного знамения. Спиридоний смотрел на свою изувеченную руку и недоумевал: «За що?»… «Що он будет теперь делать? Не токмо крестного знаменья не сложишь — даже кукиша не покажешь!.. Совсем ненужный человек», — жалобился он.
Командир «Дианы» был неузнаваем. Куда девалось его высокомерие, его щегольство, его стальная выдержка? Он растерялся, — обнимал матросов, не мог сдержать слез при виде раненых и убитых. Илью он чуть не задушил в объятиях.
— Спаситель вы наш! — говорил он. — Если бы не вы…
Илья тоже от волнения не мог сдержать слез.
Он доложил командиру, что часть экипажа оставил для спасения команды и пассажиров сгоравшей шхуны «Сошествие» и что захватил в плен командира корсарского корвета.
От этого известия командир сразу воспламенился, пожелал немедленно повесить пирата на рее «Дианы» — таков закон морей! Но Илья просил этого не делать: он убедил командира, что Уильдер им может еще пригодиться, хотя бы в качестве заложника, и затем просил разрешения отправиться на помощь тем, кто остался на горевшей шхуне.
— Ах, ведь там ваша жена! Елена Павловна! — воскликнул командир. — И вы бросили ее и пошли на помощь к нам! — обеими руками он пожал руку Ильи и не нашел больше слов.
— Идите, голубчик, идите! — заторопился он. — И знаете — идите с «Камчадалом». Пусть он заберет всех, кто спасся и идет в Нортонов залив, а вы идите в Охотск. Надо послать рапорт морскому министру. У меня он уже готов. Подробный… только о сражении добавить.
— Вы думаете, Орест Павлович, что из Охотска ваш рапорт благополучно попадет в Санкт-Петербург? Не лучше ли послать верного человека, или даже двух, и два экземпляра рапорта… вернее будет!
— Но кого? Как вы думаете? — спросил командир.
— Конечно тех, кто особенно стремится в Питер. По-моему, Чибисова. Ему очень не нравится наше плавание. Да он здесь и бесполезен. А потом… пошлите Спиридония… Он тоже рвется в Россию.
Два гонца в Санкт-Петербург
Командир не возражал, и два рапорта были немедленно изготовлены, — один был вручен Чибисову, а другой, скрытый в конверте, на котором был написан адрес матери Ильи, был вручен Спиридонию, как простое, но очень важное письмо от Ильи к его матери. Илья потребовал, чтобы письмо это было зашито в ряску.
— В портки зашью!.. В портки!.. Лучше будет, вернее! — лопотал Спиридоний, теряя голову от счастья, что он уезжает из этих проклятых стран и не будет сидеть на острове «Каталашке» с «коровами» и «единым козлом». Илья дал ему понять, что его отсылают в Россию по просьбе его, Ильи, и за эту услугу он просил об одном: непременно доставить письмо его матери. Спиридоний был растроган, благодарил Илью, лез целовать его руки, клялся и божился, что письмо дойдет по назначению.
Перед своим отходом Илья навестил старшего офицера, простился с ним. Застал его в сознании:
— Прощайте, голубчик, — еле шевелил губами Степан Степаныч, — прощайте! Лихом не поминайте! А я вот умираю совсем… бамбуковое положение! Не выживу, батенька! Здорово саданули, черти… навылет! Ну… прощайте!
«Алеут» и «Камчадал» отправились обратно на запад, а «Диана» — на север, торопясь добраться до Нортонова залива, под защиту пушек редута.
С трудом отыскал Илья место ночного боя, — помог ему полусгоревший остов шхуны, приткнувшийся к камням какого-то пустынного острова. На берегу видна была толпа людей. Махали «Алеуту» и «Камчадалу»… Звали… Илья забрал к себе Елену, Вадима и Федосеева, — остальные были взяты «Камчадалом», и обе шхуны расстались: «Алеут» пошел к Охотску, «Камчадал» — в погоню за «Дианой».
В Охотске сразу начались приключения. Илья спешно занялся закупкой всего необходимого для двух «гонцов», нанял лошадей, все приготовил к их путешествию. И вот вечером, накануне отъезда, прибежал встрепанный Спиридоний, без ряски, в одном подряснике.
— Откуда, отче? — спросил Илья.
— Друга навещал… послушника Агапита! Да на владыку напоролся. Впаде владыка в гнев безумный. Вишь, бежал!
Хуже произошла история с Чибисовым. Он с утра забрался к казначейской Машке. Ей он проболтался о том, куда едет и почему. От него узнала Машка и о морском бое. Желая узнать все подробности, она угостила Чибисова настойкой «дамским блезиром», и князь совсем скис. Тогда она вытащила у него из кармана конверт, предназначенный морскому министру, «в его собственные руки», и, мучимая любопытством, вскрыла секретное донесение. То, что она прочла, ее потрясло, и она немедленно послала за своим казначеем. Тот прибежал, увидел Чибисова лежащим поперек двухспальной кровати в самом растерзанном виде, взялся, было, за машкины косы, но она встала в трагическую позу и протянула ему секретное донесение командира «Дианы».
— Что это? — крикнул казначей.
— Донесение министру, — величественно изрекла Машка.
— Да как же ты смела? — рыкнул казначей.
— Да ты прочти, прочти, на! — крикнула Машка.
Казначей прочел… и обомлел! Такое было написано про начальника колоний и вообще про дела Восточной Сибири, что у него и руки опустилась.
— Да, здорово! — промычал он. — Вот так расписал!
В конверт с надписью: «Морскому Министру в собственные руки» вложили лист белой бумаги, а настоящее донесение спешно отправили к начальнику колоний, «на его благоусмотрение».
Еще Чибисов не успел прийти в себя, не очухался и валялся одурелый на казначейской кровати, а уж весь чиновный Охотск знал о донесении командира и о морской драме, разыгравшейся в Беринговом море.
— Здорово! Тридцать пять убитых, сто двадцать пять раненых! Влип! — злорадствовал городничий.
— Влетело сукину сыну! — ухмылялся пристав.
— Ну, братцы, теперь ему каюк! Затрет его льдами на Аляске, — сказал начальник порта.
— Конец — богу слава! — изрек начальник таможни.
— Собаке — собачья смерть, — произнес заключительное слово Гвоздь — начальник воинской команды.
На казначея было возложено деликатное поручение вложить в карман Чибисову новое «донесение морскому министру». Все было проделано аккуратно.
Машке все-таки в заключение была задана генеральная волосодранка.
Князь Чибисов не пожалел, что поехал в обществе Спиридония, — веселый оказался спутник: сколько анекдотов знал и все больше о похождениях монахов. Не раз Спиридоний оказывал князю и услуги, которые услаждали его скучное путешествие. Обычно на больших остановках Спиридоний узнавал, кто в городе побогаче, кто побогомольнее (из купцов конечно), да нет ли каких благочестивых жен и дев среднего возраста.
Он являлся в богатые купеческие дома, служил молебны, рассказывал о чудесах дальних стран, вводил князя в лучшие дома. Ехали не торопясь, с прохладцей. И потому сиятельный повеса успевал устраивать свои делишки, Спиридоний — свои.
В одном уездном городишке монах сумел так заговорить какую-то волоокую и тучную вдовицу, что вдруг явился к князю на постоялый двор уже в партикулярном платье, с огромной бобровой шапкой на голове и в богатом лисьем тулупе…
Пришел прощаться. Дальше не поедет — устроился и здесь прекрасно: решил ангельский чин «служение Господеви» сменить на купеческое звание. «Отныне буду служить Маммоне», — так и сказал. Пригласил князя почтить его — явиться на бракосочетание с Меланьей Сидоровной Губкиной.
За измену князь Чибисов разгневался на Спиридония и на свадьбу его не пошел. Спиридоний, однако, не очень огорчился.
Вестовому князя Спиридоний передал узелок, тщательно увязанный, с просьбой передать его матери Ильи, адрес дал и четвертной билет вручил «за услугу», клятву с вестового взяв, что тот доставит.
Дальнейшая судьба двух донесений была весьма различна. Князь добрался до столицы, надушился, напомадился, перевязал свою уже здоровую руку кокетливым бантом и явился к министру.
Старика Мериносова застал не в духе — он доживал последние дни в министерстве. Можно себе представить, в какое бешенство пришел старик, когда, распечатав «секретное донесение», нашел в конверте пустой белый лист. Мичман князь Чибисов выскочил из его кабинета, как ошпаренный… Он ничего не понимал, и так до конца своих дней не мог понять, что произошло с донесением, — при нем, на его глазах Накатов сложил исписанную бумагу, при нем запечатал конверт. Он все это видел… И вдруг вместо исписанной бумаги оказалась белая, чистая. Наваждение бесовское. Чибисов после этой оказии уверовал и в чудеса и в беса.
Иная была судьба того донесения, которое было поручено доставить Спиридонию. Он не вынул донесения из «портков», снял «портки» и тщательно завернул их в свою монашескую ряску, связал все в узелок и вручил все вестовому. Почему завернул он свои панталоны в ряску — этого он и сам не разумел, просто от счастья у него в то время в голове зайцы прыгали, — хотел поскорее отделаться от всей своей прежней заношенной амуниции, хотел скорее облачиться в костюм покойного мужа Губкиной, а сжечь ряску было жалко. Ну и завернул штаны в рясу… Но что из сего произошло?
Марья Кузьминишна Маклецова в последнее время почему-то страшно тосковала, совсем извелась, заболела, даже в кровать слегла. И вот является к ней вестовой князя Чибисова, вручает узелок, говорит: «Подарочек вам от сынка вашего, мичмана Ильи Андреевича Маклецова» — делает «под козырек», потом налево кругом марш и — исчезает.
Дрожащими руками развязывает больная узелок. Что это? Черная ряса и штаны! На штаны она как-то и не обратила внимания, — просто бросила их на пол, а ряса переполнила ее душу ужасом. Она схватила этот мрачный подарок сына, и слезы ручьем полились на поношенную рясу Спиридония.
Черная ряса
Скоро пол-Гавани судили и рядили, что может значить эта посылка. Ушел Илья в монахи, или мать побуждает идти?.. Гаванские кумушки дошли до умоисступления: строили предположения, одно нелепее другого, звонили чепуху во всех углах Гавани и все домыслы свои бабьи несли к несчастной матери Ильи. Довели ее почти до безумия.
И до Кузьмича дошли разговоры о р я с е. Он заинтересовался этой чепухой. Явился к Маклецовой, расспросил ее. Узнал, что кроме рясы присланы были и штаны. Извлек их из-под кровати, стал размышлять и пришел к такому умозаключению: так как штаны были завернуты в ряску, то значит главная суть подарка заключается именно в штанах… Ряска — это так, обертка, не больше. Взялся за штаны, вытряхнул из кармана всякую дрянь, скорлупу от кедровых орехов и два свечных огарка.
Наконец, добрался Кузьмич и до зашитого пакета на имя матери Ильи. Вскрыли пакет, нашли письмо к матери — нежное и спокойное, с просьбой спешно доставить вложенный конверт в морское министерство. И конверт оказался тут же, с надписью: «весьма важное», «передать в собственные руки».
Письмо несколько успокоило больную, но все же она не могла понять, при чем тут р я с а.
По просьбе ее доставить конверт в министерство взялся Кузьмич. Одел чужой вицмундир, помылся, побрился, съел луковицу, чтоб отбить винный дух, и отправился. На этот раз «донесение» до министра дошло.
Толки о посылке, конечно, с течением времени в Гавани утихли, но ч е р н а я р я с а надолго все же осталась таинственной и мрачной загадкой.
Странно, штаны Спиридония совсем не затронули в Гавани ничьей фантазии. Их забрал себе Кузьмич. Повертел, потряс, пробормотал: «Эка дрянь! Ну да ладно. Буду в них рыбу ловить», — и унес.
А черную рясу так и не выпускала из рук Марья Кузьминишна. Мрачная посылка совсем подкосила ее здоровье, она стала чахнуть и умерла с мыслями о сыне и с ряской Спиридония в руках.
Илье пришлось долго повозиться в Охотске с приемом груза: кроме запасов зимнего обмундирования — тулупов, теплых шапок, рукавиц — он должен был взять запасы провизии: бочки с солониной, капустой. Все это он принимал осторожно, каждую бочку вскрывал, каждый тулуп осматривал, браковал без пощады, отчаянно ссорился с чиновниками, которые сдавали ему груз.
Отношение в городе к Илье установилось определенно враждебное — за все провинности командира отвечал он. Особенно раздражены были родичи команды «Алеута», «Камчадала» и «Сошествия». Чины города вопили на всех углах, обвиняя командира «Дианы» в самоуправстве и в превышении власти.
Даже Федосеева не пощадили: предателем называли за то, что он поступил на службу к «ним».
Илья торопился выйти в море; ему невмоготу было оставаться в Охотске.
А тут и погода испортилась. Повалили хлопья снега, и в течение часа засыпали весь город чуть не на уровень с крышами. «Алеут» стоял на рейде весь белый, и матросам пришлось лопатами сгребать снег с палубы.
…«Диана» медленно ползла к Нортонскому заливу. Дул противный ветер, приходилось лавировать в лабиринте островов, рискуя ежеминутно напороться на камни, или сесть на мель. Если бы не старые матросы, рекомендованные Федосеевым, «Диана» не дошла бы до залива, и если бы поднялся свежий ветер, вероятно ей бы тоже не сдобровать, — она шла с креном, с водой в трюме, с полуразбитым такелажем. Это было опасное, томительное, скучное и трудное Плавание.
За это время каждый день кто-нибудь из тяжелораненых умирал и каждый день палуба оглашалась пением панихидных песнопений; каждый день кого-нибудь спускали в холодные воды серого, как свинец, моря.
Скончался и старший офицер Степан Степанович Гнедой; и он нашел свою могилу на дне Берингова моря. Зато Уильдер быстро поправлялся: он уже сидел в парусиновом кресле на палубе «Дианы», перезнакомился со всеми офицерами и декламировал Байрона.
Рассказ корсара
Однажды он обратился к командиру с такой странной речью:
— Не хотите ли вы, господин капитан, услышать исповедь корсара?
Командир был удивлен таким неожиданным обращением к нему. Он сам держался по отношению к Уильдеру холодно, официально. Тем не менее не отказался выслушать эту «исповедь».
— Вам это ничего не говорит? — начал как-то вечером, сидя в каюте командира, Уильдер свою исповедь. И при этих словах он показал командиру пикового валета.
Командир невольно вздрогнул.
— Н-нет! Ровно ничего! — отвечал командир.
— Н-да, вот что! Ну… Очень жаль, — сказал Уильдер, вертя в руках валета. — Это очень ухудшает ваше положение. Я считаю его безнадежным.
Командир вскочил с кресла.
— Что вы хотите этим сказать? — воскликнул он.
— Не ваше лично… Вас, быть может, и выпустят, и команду вашу тоже, но «Диана» останется здесь, — ей не уйти из Берингова моря.
— Это почему? — спросил гневно командир.
— Уважаемый сэр, — хладнокровно сказал Уильдер, — судьба вашего прекрасного, хотя и ветхого судна, предрешена была в Санкт-Петербурге, но ранее того в… в Нью-Йорке.
— ?!
— Вы слышали что-нибудь о международной организации, база которой находится в Нью-Йорке, а ветви которой, как щупальцы спрута, протянулись по всему миру? Эта организация называется «Коронка в пиках до валета». Слыхали вы что-нибудь о ней?
— Нне… слыхал, — протянул командир, и вдруг почему-то вспомнил коронку пик, лежавшую на столе адмирала Суходольского во время их последнего разговора. Потом он вдруг вспомнил валета в руках русского консула, который слез в Мельбурне, валета в руках начальника колоний в Петропавловске.
Потом… он вспомнил свою тетку-миллионершу, «тант Зизи», у которой на брошке всегда болталась эмалевая карточка с изображением пиковой дамы. И как эта тетушка отговаривала его от плавания!
Уильдер с легкой насмешкой наблюдал за выражением лица командира.
— Жаль, что вы ничего не слышали об этой удивительной… организации. Я убежден, что и у вас, на вашем фрегате, имеются агенты этой «коронки».
— Этого не может быть, ручаюсь! — воскликнул командир.
— Не ручайтесь, сэр! Хотите я вам завтра докажу, что вы заблуждаетесь? Следите за мной, — я буду сидеть после обеда на палубе.
— Какой вам интерес разоблачать своих союзников? — не скрывая иронии, спросил командир.
— Видите ли, уважаемый сэр, я решил выйти из этой игры — надоело! — спокойно ответил Уильдер, — предпочитаю быть свободным пенителем моря, чем быть наемником капитала. Не хочу быть рабом плешивых нью-йоркских банкиров. Вот что… Это решено.
— Вы видите, — продолжал он, — я — только «валет» в этой игре — фигура неважная, и потому я не могу вам раскрыть всех тайн этой организации. Я знаю только то, что касается меня, моих заданий. К этим заданиям относится прежде всего всячески мешать России укрепиться на американском материке, на Аляске. Главная задача моя и моих товарищей — уничтожение судов Российско-Американской компании. Цель — подрыв вашей торговли, а также и борьба с военными судами, которые посылает и долго еще будет посылать в эти воды ваше правительство. Если ваша «Диана» пока и выкарабкалась — ушла от нас, так за это благодарите ваши дальнобойные орудия, о которых никто из нас не знал. По-видимому, и «коронка» на этот раз проморгала… Из-за них я лишился моего корвета… Прекрасное изобретение эти пушки, но все же ваша «Диана» смертельно ранена, и плаванию ее пришел конец.
Как они прозевали ваши пушки — этого я понять не могу! Вообще же осведомленность наша великолепна. Мы выходим в море и мы знаем, какие суда и где их встретим. Мы имеем инструкции, что нам делать с тем или другим судном, — топить его, жечь, или только грабить. Уничтожаются, конечно, по преимуществу те суда, которые хорошо застрахованы и уже ветхи… Мы находимся в сношениях с командирами судов и с судохозяевами. И поверьте, нападение корсара и гибель судна для многих бывает очень выгодной операцией… часто, например, мы имеем задание уничтожать суда, застрахованные в страховом обществе, или банке, являющихся конкурентами тем, с которыми мы в деловых сношениях. Мы играем роль на бирже, мы взрываем одни и укрепляем другие банки и страховые общества, мы… участники большой игры международных капиталов. Но ведь мы — только валеты, настоящую крупную игру ведут короли и тузы!.. Может быть вы в Нью-Йорке удостоитесь увидеть их.
— Я не собираюсь в Нью-Йорк! — воскликнул командир.
— Ха-ха! — рассмеялся Уильдер. — Вас не спросят, хотите вы, или нет, а просто доставят туда с остатками вашей команды, а оттуда переправят на родину. Конечно, могут быть видоизменения плана, но вот тот, который мне известен… Нам многое известно… ваша инструкция, например… ваша… секретная инструкция нам прекрасно известна. Вот она, — и Уильдер вытащил из бумажника аккуратно сложенную бумагу, — прочтите — и вы убедитесь в том, что вообще мы все хорошо знаем. О, если бы не эти проклятые пушки! Я по этому поводу буду иметь крупный разговор. Вероятно, впрочем, Ральф и Длинный Джек уже этот разговор имели.
— Кто? Кого вы назвали? — спросил растерянный командир, возвращая бумагу Уильдеру. Он убедился, что корсар был прав: «секретная инструкция», врученная ему в Петербурге, переведенная на английский язык, была в руках Уильдера.
— Кого я назвал? — своих товарищей, от которых вы довольно удачно отбились и которым основательно начесали бока. Ну, за все это расплатится «коронка»… И за мой корвет мне заплатит. Я этого так не оставлю. Надо сознаться, сэр, вы нам дали урок, и потому я решил выйти из игры, как я вам это сказал. Советую вам прийти к такому же решению. Ведь если я — наемник, как меня в том упрекнул один из ваших подчиненных, — н а е м н и к к а п и т а л а, то ведь и вы — р а б того же капитала! Ведь все ваше плавание, все жертвы, даже кровавые, вами принесенные, служат только интересам капитала, обслуживают интересы вашей Российско-Американской компании. Ради того, чтобы ваши кокотки носили соболя, ваши щеголи — бобровые шапки, вы, уважаемый сэр, сейчас плывете в тот Нортонский залив, где вас и вашу команду ждет полярная зима с голодной смертью и цингой.
Командир бегал по каюте и хрустел своими сухими пальцами. У него был растерянный вид.
На следующий день Уильдер сидел на своем обычном месте у грот-мачты, в парусиновом кресле, и задумчиво вертел в руках пикового валета. Командир стоял на мостике и искоса наблюдал за ним. Мимо шмыгали матросы, проходили офицеры. Долго игра с валетом не давала никаких результатов.
Но вот из каюты поднялся барон, подошел к Уильдеру и… командир увидел ясно с мостика, как барон показал Уильдеру тоже какую-то карту… Сейчас же между обоими завязалась вполголоса беседа.
— Мерзавец! — прошептал командир, меняясь в лице.
— Представьте себе, что предложил мне в а ш о ф и ц е р, — говорил вечером Уильдер командиру. — По его словам, есть на вашем фрегате группа матросов, при помощи которых он надеется овладеть одной из шхун и увезти меня. Сам он, конечно, останется в стороне — останется с вами! Вот, что значит п и к о в ы й в а л е т!.. Недурно?
Михайловский редут
Редут «святого Михаила» был расположен на утесистом берегу небольшого острова, который был отрезан от материка проливом. Местами пролив этот был широк и глубок, местами он сужался благодаря обилию островов и пересекающих его каменных гряд. Берег материка был покрыт густым строевым лесом. За лесом подымалась вверх цепь гор. Отдельные вершины этой горной цепи представляли собой голые каменные утесы, покрытые снегом. Левее от редута тянулся каменистый обрывистый берег, поросший чахлыми елями и корявыми кустами можжевельника. В двух-трех местах сквозь эти прибрежные утесы прорывались пенистые потоки, которые каскадами, дробясь по камням, с шумом низвергались в море.
Командир решил поставить «Диану» в пролив, под защиту форта — с одной стороны, и непроходимого леса и гор — с другой.
Корректный, как всегда, командир отправился с визитом к коменданту форта.
Оказалось, что крепость (высокий частокол из бревен) не охранялась никем, — ворота были открыты настежь и никаких следов караула нигде не было видно. Иди, кто хочет… Ржавые чугунные трехфунтовые пушчонки стояли на верках, глядя своими подслеповатыми, наивными хоботками как-то беспорядочно во все концы — направо и налево, вверх и вниз.
— Вот те и поставил фрегат под защиту форта! — иронизировал командир, бродя по крепости. Она буквально была пуста. Хоть шаром покати.
Командир из зданий форта выбрал домик почище и побольше. Вошел, добрался до жарко натопленной комнаты. У русской печки сидел бодрый еще старик и с аппетитом уписывал кашу. Он был в русской косой рубахе, в меховых штанах и таких же сапогах. Приход гостей его нимало не смутил. Рот его был набит кашей, губы блестели от жира… Говорить он не мог и объяснялся жестами: показал гостям рукой на скамью, покрытую медвежьей шкурой. Показал потом на горшок (не хотите мол каши?). И только проглотив кашу и утерев рукавом жирные губы, он заговорил. Оказалось, что это сам комендант!
— Вам чего? — спросил он. — За мехами, что ли? Каши хотите?.. Замммечательная!.. С медвежьим салом! — От каши командир отказался, хотя, надо сознаться, запах от нее шел преаппетитный!
Узнав, что перед ним командир русского военного фрегата, комендант пришел в совершенное изумление.
— Как же так? Как же я проморгал? Это все из-за каши! Из-за нее все! Боялся, что горшок треснет. Мои-то все — и жена, и дочь, и гарниза вся — за морошкой пошли. Ух, хороша морошка в этом году! Сочная, наливная, ей-богу! Вот все и ушли, я один остался в крепости: ну и не доглядел!
— Эдак у вас когда-нибудь и пушки все унесут, — сквозь зубы процедил командир, — и крепость заберут!
— А кому она нужна? Хе-хе! — простодушно рассмеялся комендант. Иронии он, очевидно, не понимал.
Старик-комендант оказался в чинах невысоких — всего-навсего штык-юнкер, и притом уже лет сорок как в отставке. Теперь ему уже под восемьдесят, но крепок был, как дуб, и во рту все зубы были целы. Звали его Ефим Панфилыч Подгорный, а жену звали Парасковьей Семеновной, — из алеуток она была, крещеная; дочь есть Юлка — Юлия Ефимовна (бедовая! сама из пушек палит, ей-богу!).
Обезоружил совсем командира старый штык-юнкер своей наивностью. Даже уговорил каши поесть с медвежьим салом. Вкусная каша оказалась. Ели да хвалили. Вытащил еще окорок медвежий, кусок моржатины в уксусе и четвертную настойки какой-то, не то на можжевелке, не то на карельской березе (это — секрет хозяйки, она знает. Не бойтесь, мухоморов ни-ни!).
Заговорил командир о деле — спросил, где лучше «Диану» поставить.
— Да вы что? Зимовать, что ли? — спросил комендант.
— Постараемся не зимовать. Починимся и — прочь. В Кантон или в Шанхай до весны, — ответил командир.
— А сколько времени чиниться будете?
— Недели две-три.
— Ну, так зазимуете. Зима на носу. У нас уже снег был и пурга. Да растаяло… Зимовать будете.
— Ну, зимовать, так зазимуем, — сказал командир. — Из Охотска жду теплой одежды, солонины и капусты.
— Да сколько вас-то приехало? — спросил комендант.
— Да человек триста!
— Сколько? — переспросил старик с изумлением.
— Триста, — повторил командир.
— Мати пресвятая богородица! — воскликнул комендант. — Триста! Господи! Ну, так с голоду все переоколеете! Хлеба у нас нет, капусты тоже! Что из Рассеи привезут, — тем и живем, а не привезут — сидим, зубами щелкаем. Зимой сами собак да волков едим, да рыбу сушеную. Весной, конечно, благодать, отъедаемся! Оленей набегает гибель! Дубинами бьем. Рыбы, лосося столько, что в лодке проехать нельзя! А зимой и голодно и холодно. И цинга эта проклятая.
Командир задумался. Картина зимовки предстала пред ним во всей своей ужасающей действительности.
— Да у меня и бараков-то нет для вас! Нас тут в форту всего-навсего 14 человек мужчин да баб восемь голов, а тут вас — триста человек!
Начал командир расспрашивать коменданта о корсарах. Не понял. В первый раз слово такое услышал. Пришлось ему объяснить. Тогда понял.
— А, это вы о разбойниках говорите, что на море балуют? Знаю, заходят. Ну да мы с ними по-хорошему. Меха тоже у нас скупают, а так чтобы баловать у нас — ни-ни! Я так смотрю: на море там делай, что хочешь, а чтоб у меня здесь — ни боже мой! Я ведь строгой, — добродушно заметил он и сделал «суровое» лицо.
С туземцами, по его словам, отношения у него тоже прекрасные. Конечно, бывает — «балуют», вырезывают охотничьи поселки, что по рекам разбросаны, ну, так и наши тоже не промах: сколько они сами этих туземцев перерезали — счета нет! Ну вот и бывает, что в отместку. А то все тихо. А к форту они не сунутся, — потому боятся! Правда, в прошлом году попробовали — сунулись, даже в форт забрались, да он их так пугнул! И старик стал расхваливать свою команду. Молодцы такие, — все стрелки знаменитые, в лет ласточку пулей в голову бьют. Нет! Сюда, в крепость, не сунутся. Раз сунулись, да обожглись…
Когда комендант с командиром вышли во двор и комендант увидел «Диану», которая уже втянулась в пролив, он даже руками о полу ударил.
— Что вы наделали! — закричал он. — Да ведь лед пойдет, ведь льдом все судно поломает, на камни выпрет!.. Эко дьяволово место выбрали! Уходите-ка на чистую воду. — Потом он помолчал, почесал затылок и добавил:
— Впрочем хрен редьки не слаще. И там вас лед заломает. Ведь здесь через неделю-другую такой чертолом пойдет — льдина на льдину полезет. Выше ваших мачт лед встанет. Горами встанет! На берег попрет, лес ломать пойдет! Треск тут такой будет, что просто ужасти!.. Спать не даст!
Командир «Дианы» начал теряться. Остаться здесь на зимовку — значило потерять судно и провести мучительную зиму. Идти в океан на судне с поломанными мачтами, с течью в трюме и с креном в 30° — было верхом безумия.
Оставалось одно: чиниться спешно в расчете на то, что запоздает зима. Тут на Аляске возможны были такие случайности, — иногда круглый год нет льда, реки не замерзают, зато, правда, бывает, что закрутят такие холода, что лед не тает круглое лето, от зимы до зимы держится.
Командир решил энергично приняться за ремонт «Дианы». Между тем комендант всмотрелся в «Диану» и удивился, — заметил, в каком плачевном виде она была.
— Это что же с кораблем-то? Покосился, мачты изломаны…
Командир рассказал ему о морском бое и, кстати, вспомнил о своем пленнике. Он попросил коменданта посадить Уильдера в крепостной каземат до окончательного решения его участи.
Комендант внимательно всмотрелся в приведенного под конвоем Уильдера и вдруг облапал его и троекратно по-русски облобызал.
— Голубчик, Роман Карлыч! Батенька ты мой! Да ты ли это? Никак вляпался? Говорил я тебе: не балуй, — вот и попался, — интонация его речи была так выразительна, что Уильдер, по-видимому, понял, если не мысли, то чувства старика — и в ответ пожал ему руку.
— Зачем его в каземат? — воскликнул комендант, обращаясь к командиру, который присутствовал при этой сцене. — Я его к себе возьму. Дочку в нашу спальню переведу, а его — в дочкину горницу. Я Романа Карлыча преотлично знаю. Молодчага! Старый друг!
— Ну, а если он убежит? Кто будет отвечать? — спросил командир.
— Кто? Он? Да куда ему бежать? Без провожатых в лесу заблудится, а на лодке ему далеко не уплыть. Не убежит! Вот Юлка-то обрадуется! Юлка — дочь моя! Помнишь Юлку! — обратился он к Уильдеру.
— О йес!.. Джули! — закивал головой Уильдер и вдруг заговорил по-русски:
— Болшой герл? — спросил он.
— У, большущая девка! — обрадовался старик, — с тебя ростом. Отчаянная! Мы с Романом Карлычем три года уже не видались, — пояснил он командиру.
«Роман Карлыч» водворился в доме коменданта. Вернулась из леса супруга коменданта в лаптях, с корзинищей морошки за плечами. Она маршировала во главе целого отряда: и бабы гарнизонные, и девки, и вся «гарниза». Впереди всех бежала Юлка, дочь коменданта.
Высокая, стройная, с пылающим загорелым лицом, на котором выделялись широко расставленные слегка монгольские глаза, сверкающие огнем задорной юности. Она ворвалась в крепость и сразу наполнила ее веселым хохотом и визгом. Она была в восторге от многочисленных гостей, а при виде Уильдера пришла в такой экстаз, что хотела было броситься ему на шею, да отец удержал. Уильдер смеялся и на английском языке объяснял, что на этот раз, к его сожалению, подарка ей не привез.
Командир энергично взялся за ремонт «Дианы»: работали днем и ночью при кострах. Одни разоружали «Диану», другие снимали такелаж, разбитые мачты, третьи рубили на берегу подходящий лес, тесали, пилили. Работа кипела.
Подошел «Камчадал», привез еще партию «новоселов». Их командир заставил делать зимние бараки. Пришел, наконец, и «Алеут». Семейство коменданта приняло Елену с распростертыми объятиями. Уильдера перевели в какую-то каморку, а Елену вместе с Юлкой поместили в юлкиной комнате.
Как только явился Илья, командир устроил совещание в своей каюте на «Диане». Два вопроса были поставлены на обсуждение: 1) если самый необходимый ремонт будет выполнен до наступления зимы, рискнуть ли отплыть и куда — в Сан-Франциско или к берегам Китая? и 2) что делать с пленником, который, как корсар, по законам морским подлежит повешению?
По поводу первого вопроса барон внес третье предложение: обратиться к Северо-Американским штатам с просьбой о помощи. Почему-то барон был уверен, что помощь будет оказана немедленно, будет выслан вспомогательный корабль, который доведет «Диану» до Сан-Франциско, и там можно будет произвести ремонт. Он был уверен, что американцы переправят весь экипаж «Дианы» в Европу, если ремонт фрегата будет признан невозможным.
Предложение барона, быть может, было самым благоразумным, но всем показалось унизительным для русского флота «признать себя пострадавшими, просить помощи!» К тому же барона не любили, а командир, слушая его, думал упорно об одном: г о в о р и т п и к о в ы й в а л е т (он вспомнил слова Уильдера, что в Нью-Йорке было решено всю команду «Дианы» отправить в Европу).
Решено было продолжать ремонт так же интенсивно, как он производился до этих пор, и при первой возможности рискнуть выйти в море и идти к берегам Китая.
Что касается второго вопроса, — о судьбе Уильдера, то вопрос об его повешении сразу был снят с обсуждения. Сгоряча еще может быть и повесили бы, а теперь сжились с человеком и вдруг… вешать! Срок был пропущен. К тому же старый комендант, приглашенный на заседание, клевал носом, но когда зашла речь об Уильдере, взволновался.
— Да что вы! — возбужденно заговорил он. — Романа Карлыча повесить? (В это время сам Роман Карлович сидел на кухне у коменданта и хлопал в такт ладошами, а Юлка плясала под аккомпанемент балалайки.) Да что вы? Да он из разбойников самый учтивый. Тут еще есть Ральф, Длинный Джек, да вот еще один… какой-то… «ФраДьявол» называется. Вот те озорники! Да и тех вешать нельзя! Вы повесите, да уплывете, а мы тут останемся. Да нас в отместку вырежут. Нагонят на нас кенайцев или инкириков. Да если вы на такие дела пойдете, вы тут все дела наши сорвете! Сейчас хоть какая мелочь из мехов попадает, а тогда и хвоста волчьего не увидишь. Уж вы, пожалуйста, жизни нашей не портите — и так еле дышим.
Илья предложил отправиться с Уильдером к американцам попробовать и при его помощи установить добрососедские отношения и обменять его на русских пленных, которые уже несколько лет томятся в плену. Уильдер, по-видимому, знает место их заточения. Это предложение Ильи было принято.
К «американам»!
Решили поездку не откладывать и отправиться до наступления зимы. На следующий же день состав экспедиции определился. В нее входили Илья, как начальник, Вадим, Уильдер, Федосеев и два охотника-проводника по выбору коменданта. Елена пожелала тоже войти в состав этой экспедиции. Как ее ни уговаривали, она настояла на своем, — не хотела разлучаться с Ильей.
Маршрут был разработан при помощи коменданта и двух проводников: от редута Михайловского плыть по морю к югу вдоль берега, дойти до реки Квихпака, плыть по реке до того места, где обычно перетаскивают байдары в другую реку, Кускаквиму, идти по этой реке на байдарах до ее истоков, потом пробраться к Кенайскому заливу. Оттуда на санях до горы Ильи, которая стояла на границе русских владений.
— А там уж рукой подать, — сказал комендант. — Там и дороги будут лучше, не то, что у нас… Доберетесь до островов Ванкувера, или Шарлотты. Там ихняя стоянка.
— Чья стоянка? — спросил Илья.
— Да разбойников этих. Небось там стоянка лучше, чем у нас, — в их залив и лед редко заходит. А к нам горой прет.
— А в вожаки я вам двух молодцов дам, самых лучших моих охотников: креола Яшку Сапоньку — веселый такой: пляшет, на балалайке играет. Поет… вва! — восхищался старик. — Пьет, ууу! Удалой! Одно слово — ухо-парень!
— Да к чему нам скомороха? — изумился Илья.
— Он не только скоморох, — обиделся за своего любимца старый комендант, — он, братец ты мой, лучший у нас охотник. В следах как разбирается, — никто супротив его так не сумеет. А что он веселый — это не беда! Умереть не даст — рассмешит. А другой… ну тот посурьезнее, тот все тропки в лесу верст на триста вокруг знает. В лесах вечно шляется. Дикой такой.
Яков Сапонев, или попросту Яшка Сапонька, был парень — косая сажень в плечах, с круглым монгольским лицом. В живых бегающих глазах его всегда искрился смех, а широкий рот все время улыбался, открывая ряд здоровых, белых зубов. Ходил он легко и все время словно подплясывал. На него нельзя было смотреть без улыбки, — он заражал всех своим весельем.
Совсем другое впечатление производил другой вожатый, старый «дядя Тимошка», по прозванию «Хромой» (в юности ногу сломал — срослась неправильно и потому хромал, что не мешало ему без отдыха по суткам бродить в лесах и болотах). Это был угрюмый коренастый старик, весь заросший щетинистыми сивыми волосами, — даже на носу они росли пучками. Из непролазной кущи этой щетины сверкали его пронзительные глаза. От его упористого взгляда делалось как-то жутко, — словно насквозь все старик видел. Прошлое его было темное — по-видимому, был он беглый из Сибири; давно на Аляске — обжился и сделался ее живой летописью. Многое сам видел, многое от стариков слышал. Но чтобы развязать его язык, надо было основательно его подпоить: трезвый молчал и, как сыч, сидел, нахмурившись. Чего он только не перевидал: побывал и у англичан, на реке Маккензи, был и у берегов американского Ледовитого океана, был не раз и в том заливе, куда теперь направлялась экспедиция. По его настоянию взяли 12 собак и пару саней. Все это с припасами погрузили в три большие байдары, и в одно тихое утро поплыли вдоль морского берега на юг, к месту впадения в море реки Квихпака.
День выбрали безветренный. Тяжелые свинцовые волны сонно ползли к берегу и лениво разбивались о прибрежные скалы. Серое небо казалось тяжелым, — словно висело над самой землей. По берегу неровной грядой тянулись скалы, иногда повышаясь до 800 футов, иногда понижаясь до 100 и ниже. В некоторых местах они прорывались горными ущельями, откуда, обыкновенно, мчались в море гремучие потоки пенистой воды. Местами скалы отходили от моря, и тогда виден был пологий берег, покрытый крупным, серым гравием. Бесчисленные стаи чаек и каких-то морских птиц с унылыми криками носились тучами над скалами, над морем.
Путники плыли медленно и молча. Наконец, Яшка, который греб на головной байдаре, не выдержал и запел какую-то веселую песню.
Только на другой день к вечеру добрались до первого протока реки Квихпака. Вошли в реку, и тут, на сухом песчаном берегу, в кустах ивняка, устроились на ночлег. Пока возились с костром, неутомимый Яшка сумел промыслить пару гусей, и ужин вышел отменный. Но как ни старался Яшка распотешить своих спутников, успеха он не имел, — все сидели нахохлившись и каждый думал свою думу.
Илья особенно занялся старым Тимошкой: он усиленно угощал его ромом и все старался навести его на историю отца Елены. По-видимому, старик знал кое-что об его судьбе и о причинах его пленения.
Только после пятого стаканчика старый Тимошка вдруг процедил сквозь зубы:
— Темная эта история, ваше благородие, — и замолчал.
После шестого стаканчика он пробурчал:
— Все из-за золота чертова. Будь оно неладно! Что оно не ведая, людям несет, так это страсть, — и опять замолчал, — весь ушел, видно, в свои воспоминания.
После седьмого стакана уже развил эту загадочную фразу:
— Американы энти… из-за золота, видать! Он узнал, вишь, где энтому золоту вод, а они побоялись, что он русскому начальству донесет, а тады, значит, Аляске цены не будет (потому на ей золота до черта, да наши энтого не ведают). Ну, а им не расчет, чтоб Рассея за Аляску цеплялась. Вот они его забрали и держат, чтоб не болтал, значит. А может и сами разведать у него хотят, где он золото нашел, а он, должно, уперся… не говорит. А у нас так болтали, что бытто его продал американам наш же русский… командир евонный, — взял от американов деньги, да сам в Рассею и махнул. А может и брешут… Черт их знает!
Илья налил ему еще рому, и старый Тимошка уже совсем размяк. Он стал рассказывать Илье, что он и сам знает, где тут золото и песок золотой и самородки («Воо какие!» — и он показал Илье свой мохнатый кулак)! А он, Тимошка, этих мест ни за какие деньги никому не покажет.
— Потому, — ворчал он, — пропадет тогда Аляска, наедет сволочи со всех концов. Тишины не будет, зверя распугают. А он, Тимошка, тишину энту любит больше всего и ни на какое золото ее не поменяет. — Потому золото это — зло человеческое, — бормотал он. — Его прятать надо, а не вытаскивать на свет божий. Золото человека губит. Его дьявол выдумал на пагубу человеческую. — Тимошка засыпал и раскисал все больше и больше.
Из его несвязных слов Илья понял, что золото сгубило и его, Тимошку: лишило его семьи, жены, детей, угнало его сначала в Сибирь, потом сюда, на Аляску… превратило его под старость в одинокого, дикого, старого зверя, которому сейчас дороже всего в мире тишина и безлюдие.
— Не гонись, парень, за золотом, — мычал сквозь сон Тимошка.
Лагерь путешественников заснул. Только Федосеев сидел караульным, всматривался в тьму ночи и вслушивался в ее звуки, да Илья сидел у костра и задумчиво смотрел на огонь.
Но недолго думал он свою думу. Его мысли были разогнаны странными звуками этой ночи.
Было время отлета птиц на юг, и ночные небеса были полны различными птичьими голосами. Сначала далекие и одиночные, они стали расти, шириться, и скоро потом наполнили собой всю тишину наступившей ночи. Эти звуки быстро двигались с севера, — доносились откуда-то сверху. Словно там, наверху, были какие-то дороги, по которым неслись несметные полки крылатых странников. Деловито гоготали стаи гусей. Свистали и звенели крылья быстронесущихся уток. Где-то высоко-высоко курлыкали летящие журавли. Внизу, над самой головой Ильи, пищали на разные лады стаи разных куликов и куличков, — и все эти звуки порой покрывались трубными лебедиными голосами. Звуки нарастали, делались все громче и громче… Воздушные стаи плыли и плыли с севера. Казалось, что в воздухе тесно этой массе несущихся птиц. Илье стало чудиться, что от движения воздуха сверху веяло прохладой.
Свист, говор, шум! На разные голоса пел, свистел встревоженный воздух. Все оглушительнее звенела, стонала, кричала высота!
— Эка уйма птиц, — сказал Федосеев, — валовой отлет! Торопятся. Видно, зима скоро ударит.
Елена проснулась, подняла голову и с изумлением стала слушать неслыханный концерт. Поднялся и Вадим. Сидели и слушали до рассвета, когда, наконец, угомонился воздушный концерт. Усталая птица стала садиться на отдых до следующей ночи.
Река Квихпак
Река впадала в море четырьмя большими рукавами и бесчисленным множеством мелких. Вся дельта реки была низменна и заболочена, и только правый берег был посуше. По этому берегу, хотя и с трудом, но все же можно было продираться сквозь кусты.
Выше того места, откуда расходились все рукава реки, она делалась многоводной, неслась по одному руслу и берега ее принимали характер гористый. Кое-где река становилась даже порожистой.
Трудный был это путь.
Чем дальше продвигались путники, тем выше делались прибрежные утесы. Местами они доходили до 200 футов. Их крутые склоны были покрыты еловым и березовым лесом. По самому берегу тянулись кусты. Стала попадаться красная смородина, украшенная рубиновыми гроздями спелых ягод. Приходилось иногда пересекать ручьи, впадавшие в реку, переходить болотины, на которых рдела спелая брусника, золотом сверкала морошка. Иногда продирались сквозь густые поросли голубики. Из прибрежных кустов часто вылетали с шумом и криком утки, выпрыгивали перепуганные зайцы, вырывались тетерки и глухари…
— Эка дичи-то! Вот благодать! — восхищался Федосеев.
— Ого-го! — орал во всю глотку Яшка, пугая зайцев, и хохотал, когда те, словно ошалелые, объятые ужасом, прижав уши, уносились огромными прыжками в чащу кустов.
Дорога делалась все утомительнее. Порой утесы врезывались в самую реку, тогда приходилось всем садиться в байдары, грести и пихаться шестами, борясь с течением реки. В некоторых местах утесы подымались все выше и доходили до 500 — 800 футов, и у их подножия глубина реки достигала до 20 саженей.
По левому берегу тянулась сплошная тундра, поросшая только у берега кустами и высокой болотной травой. Часто на реке виднелись острова, покрытые травой. На островах иногда блестели озерки воды, и с этих озер подымались тучи болотной и водяной дичи.
Между тем погода портилась с каждым днем. Чувствовалась близость зимы.
Старый Тимошка все чаще и все тревожнее посматривал на небо, покрытое низкими серыми тучами, которые медленно ползли с севера, и время от времени совещался с Федосеевым. Яшка ко всему относился легко и беззаботно. На стоянках он считал своим долгом каждый вечер на сон грядущий отплясывать трепака, при чем сам себе аккомпанировал на балалайке и подпевал веселые песни.
На девятые сутки пути вдруг задул ветер и повалил снег, сперва хлопьями, тяжелыми и мокрыми, потом целыми шапками. Решили переждать снегопад — трудно было плыть. За утесом, куда не попадал ветер, разбили палатку, разложили костер. Яшка попробовал, было, потешить публику, но и на этот раз особого сочувствия не встретил, а потому махнул рукой, бережно спрятал свою балалайку и завалился спать. Зато старый Тимошка, разогретый ромом Ильи, рассказывал много любопытного из истории Аляски, о том, как постепенно захватывали русские предприниматели ее побережье. Он даже о казаке Дежневе знал много интересного. О Павлуцком рассказал, о Беринге, о Басове, Трапезникове, Глазове, о купце Андриане Толстых, о купце Бенвине, о купцах Посникове и Красильникове, о Кульковых. Рассказал он немало любопытного и об англичанах, о французах, даже об испанцах, которые все лезли на Аляску. Много пакостей наделали они русским колонистам. Узнал Илья от него, что русские поселки тянутся по американскому побережью далеко на юг за Аляску, — доходят до С.-Франциско. Самый южный русский поселок находится у самого С.-Франциско и называется «Росс». Еще при испанцах вырос он. Знал хорошо старый Тимошка историю Аляски задолго до учреждения Российско-Американской компании. Деятельность компании он явно не одобрял.
— Раньше, — говорил он, — конечно, каждый норовил свою мошну набить, но все же Россию не продавали. Всякий сам на риск шел. Молодцы были. А нынче, — он махнул рукой.
— А что нынче? — спросил Илья, подливая старику рома.
— А нынче сидят в Питере, а здесь наемников-приказчиков держат. Вот что! — отвечал тот со злобой. — Скоро, брат, ау, Аляска! — и старик задумался.
Ветер завывал и весь следующий день. Потом он вдруг переменился, снег перестал идти, зато температура вдруг упала до 20° ниже нуля.
— Эх, завязнет ваш корабль! Еще неделя — и затрет его льдом, — сказал Тимошка. — Да и нам торопиться надо. Мученье будет на реке Кускоквиме.
На следующий день решили двинуться дальше. Пришлось облекаться в зимние одеяния: надели оленьи кухлянки, на ноги — торбасы, на головы — меховые шапки с ушами. Елена нарядилась в мужские меховые штаны и в соболью кухлянку (Юлия выбрала ей эту нарядную кухлянку из своих запасов). На руках у всех оказались меховые рукавицы.
С трудом выгребали против резкого сухого ветра, — дул прямо в лоб. По реке неслось, словно сало, со дна подымалась какая-то ледяная каша. К вечеру переправились на другой берег. Там уже кончилась тундра и протянулись холмы, покрытые непроходимым лесом. Среди холмов виднелись сопки, некоторые вышиной до тысячи футов.
— Вишь, горы какие! — недовольно ворчал Тимошка. — Через них придется волоком байдары тащить до Кускоквимы.
— Эка невидаль! — сказал неунывающий Яшка, — и потащим! Я, кроме байдары, таких как ты — четверых стащу.
— Не бахвалься, парень, — ответил Тимошка, — и потащишь, коли нужно будет. Не я ж тебя, болвана, потащу.
— Поговори еще, — захохотал Яшка. — Знаешь, как здесь с вами, стариками, разговаривают! — Короткий разговор, — начнешь подыхать, сейчас тебе охапку дров и в лес!.. Сиди и жди, пока тя волки не сожрут. Порядок известный! Эва, волчьих следов-то. Не тебя ли, старого, ждут? — зубоскалил Яшка.
Тимошка не удостоил его ответом.
Тайна лесной избы
— Вот тут сейчас изба быть должна, — сказал Тимошка, показывая рукой на берег. — Охотник тут сидит — Семен Кораблев. Да, вон она!.. Ишь снегом-то ее как занесло — и не видать сразу! Крыша одна… что ж он не отгребается? Там ли он?
Пристали к берегу. Пошли к избе, — действительно, вся снегом занесена и дверей не найти. Собаки вдруг сгрудились, завыли.
— Ишь, собачьё запело! — сказал Яшка, — волков, видно, чуют.
Подошли к избе, к дверям. Оказалось — двери настежь. Вошли… и отшатнулись… Вместо постового охотника Семена Кораблева, лежали только обглоданные человеческие кости. В избе все было перевернуто вверх ногами.
— Мати пречистая богородица! — воскликнул Тимошка. — Никак Семена волки заели!
— Волки-то волки, а пулей кто ему лоб пробил? Тоже волки? — сказал Федосеев, всматриваясь в обглоданный человеческий череп.
— Кенайцы, сволочь, набаловали? — предположил Яшка.
— К чему бы энто? — задумался Тимошка. — Ведь, кажись, давно тут тихо было?
— Тихо-то тихо, да верно американы приказ дали, — сказал Яшка.
Тимошка наклонился и стал рассматривать кости.
— Ишь, свежие совсем! Розовые еще и замерзнуть не успели, — сказал он.
— На днях верно беднягу обработали. Должно, в бурю ту, что мы в палатке отсиживали. Вишь, снегом занесло избу, — предположил Федосеев. — Ну, значит и нам надо ухо держать востро.
В смущении стояли все над костями Кораблева.
— Ну, вот что, — прервал тяжелое молчание Тимошка, — мы с Яшкой тут вокруг по лесу побегаем, в вы кости схороните, да избушку почистите — ночевать в ней придется.
Елена прижалась к Илье и с ужасом смотрела на кости человека. Федосеев собирал их в охапку, словно дрова нес в печку.
Уильдер встал в позу Наполеона и что-то декламировал вполголоса: не то из «Гамлета», не то из Байрона.
— Ты, Федосеев, камнями кости завали, — говорил Тимошка, прилаживая лыжи, — а то наши же псы растаскают.
Яшка преобразился. На его веселую рожу словно кто-то надел маску. Он почуял близость опасности, и сразу сделался серьезен, — стоял уже на лыжах, пробовал, легко ли выходит из ножен его длинный нож. В ружье он насыпал свежий порох и нетерпеливо поглядывал на Тимошку, который все еще возился с лыжами.
— Ну, готов, что ли? Пойдем, а то темно будет. Следов не разберешь. Копаешься, дед!
Наконец оба с ружьями подмышкой легко скользнули на лыжах по снегу и исчезли в чаще леса.
Федосеев с помощью Ильи, Вадима и Уильдера похоронил кости Кораблева и насыпал кучу камней на свежей могиле. Потом развели огонь и стали варить сушеного лосося. Все сидели молча в этой избушке, закинутой в лесную чащу, и думали о той драме, которая разыгралась здесь несколько дней тому назад.
— Да! Вот наша жисть! — сказал Федосеев со вздохом, помешивая ложкой в чугунке, в котором варился суп.
…Где-то далеко в лесу завыл волк, ему ответил другой. Собаки всполошились и ответили волкам душераздирающим воем.
— Взять бы псов в избу? Не загрызли бы их волки? — сказал Илья.
— Ну, да, — ответил Федосеев, — нешто можно нечисть такую в избу пускать! Блох наведут. Никто их не загрызет. Мы-то на что? Посторожим их.
Совсем стемнело, когда Тимошка и Яшка вернулись в избу. У обоих были озабоченные лица.
— Кенайцы по лесу шляются, — сказал Тимошка.
— И два американа с ними, — прибавил Яшка, — по следам видать.
— Что им надо? — спросил Илья.
— А черт их знает! — мрачно ответил Тимошка. — Вот, поди, узнаем скоро, что им надо. По берегу следы-то бегут свежие: видать нас пронюхали. Следят, надо быть.
— Трубку вон евонную нашел, — сказал Яшка, доставая из-за пазухи изогнутую трубку. — Недалеко от избы лежала. Снегом занесло, да, видно, горяча была, так снег-то и стаял вокруг.
Все потянулись смотреть на трубку.
— Аглицкая, не наша, — сказал Тимошка.
— Ан врешь! — сказал Яшка, — мериканская, — аглицкие не такие!
— Америкен, — сказал Уильдер тоном, не допускающим возражения.
— Видишь? Во!.. Моя правда! — ликовал Яшка. — Ишь, недокурена, — прибавил он, ковыряя в трубке пальцами.
Тимошка понюхал трубку.
— Табак важный, — сказал он, — не махорка!
— Вот этот, чья трубка, должно и есть тот, кто кенайцев навел, — сказал Федосеев.
— Сволочь! — выругался Яшка.
— Сволочь и есть, — мрачно добавил Тимошка.
Затем все трое стали обсуждать вопрос, как тащить байдары.
— Дорога-то легкая, да снегу-то много, — сказал Тимошка, — да вот кенайцы эти… Кабы не они, мы бы сперва байдары перегнали, а потом их благородия провели бы, а теперь как делиться?.. Уйдешь, а они тут делов натворят!
Решено было не делиться, — идти всем вместе. Ночь провели тревожно, сторожили поочереди, сидели в лесу у избы, закутавшись в полотнище палатки, чтоб не выделяться на фоне снега. Сидели, вслушиваясь в звуки ночи, всматриваясь во тьму леса. Выли где-то волки, кричал филин… Упорно и жалобно верещал какой-то зверек. Казалось, будто кто-то подает условные сигналы.
Ночь была теплая, с запада тянул мягкий влажный ветер. Начинало таять. Ночь была какая-то бессонная, полная неясной тревоги.
Собаки дрожали, поминутно подымали головы, настораживали уши, всматриваясь в лес то рычали, то слегка подвывали и повизгивали…
Илье казалось, что лес живет какой-то таинственной жизнью. За каждым стволом чудился ему притаившийся враг, незримый, но опасный.
Жутко было. А возле, прижавшись к нему, сидела Елена, — она не могла оставаться одна в страшной избе.
Вдруг собаки вскочили, насторожились, злобно заворчали, а потом залились лаем. Из избы вышел Тимошка с ружьем в руках. Следом за ним появился Яшка, потягиваясь и зевая.
— Ты это что собак дразнишь, ваше благородие? — буркнул он Илье.
— Уйди-ка ты, ваше благородие, в избу, — сказал Тимошка, — и жену забирай — неровен час… Надо посмотреть, чего псы брешут?
Он отвязал Волчка, своего любимца, вожака собачьей стаи, и пустил его. Волчок с пронзительным лаем бросился в лесную чащу, за ним следом на лыжах отправился Тимошка.
Яшка посмотрел ему вслед и сказал:
— Зря старик побежал. Так это, псам померещилось. Вишь, стихли. Ну, я тут посижу, а ты уведи-ка свою барыню в избу. Все спокойнее будет.
На востоке тонкой огненной полосой загорелся горизонт. Начало светать. В избе никто не спал. Вадим уже варил кофе. Вернулся Тимошка.
— Ну, что? — спросил его Илья.
— Ничего, должно бродил кто. Волчок рвался, да я его попридержал, — еще стрелит кто пса-то. А следов не видать, темно.
— Ну, братцы, кофею похлебаем — и в путь! Надо торопиться, а то таять начинает. Снег портится, — липкий такой, к лыжам, черт, так и липнет.
Враги
К саням привязали по байдаре, впрягли собак и сами впряглись. Дорога шла по просеке. Здесь обычно перетаскивали байдары из одной реки в другую, и потому тропа была относительно удобная. Но все же тащить байдары было страшно трудно. Пришлось идти все время в гору и по рыхлому снегу, стараясь не сбить сани с тропы. К тому же оттепель усиливалась, и в меховых кухлянках было страшно жарко. Кругом по косогору стоял строевой лес. Вековые ели до самой земли опускали свои косматые лапы, засыпанные снегом. Приходилось по косогору огибать сопку, покрытую лесом.
— Вон там перевал и будет, — утешал Тимошка Елену, махая рукой куда-то вверх. — Оттуда уж все под гору пойдем, с перевала. А леса ты не бойся, — говорил он Елене, которая косилась на косматые ели. — Собаки голос подадут, ежели кто туда заберется.
Между тем лес стал редеть и потом как-то расступился, — открылась большая равнина, покрытая кое-где молодыми елями и соснами. Налево круто подымалась голая вершина сопки.
— Вот и перевал! — сказал Тимошка. — Вот туды взберемся, — он опять махнул куда-то вверх, — а потом уж все спущаться, до самой реки все спущаться будем.
Он прервал свою утешительную речь и вдруг дал рукой знак к остановке.
Все остановились.
— Яшка, — позвал Тимошка, — смотри! — Он показал на свежие следы лыж, пересекавшие их путь.
— Двое шли, — сказал Яшка, всматриваясь в след, — ишь, по одному следу прошли… Хитрят! Недавно и прошмыгнули. У нас перед носом продрали.
— Кенайцы, черти! — буркнул Тимошка.
— Один кенаец, другой нет! — поправил Яшка.
— Ну да! — усомнился Тимошка.
— Да ты смотри, вво! Вишь? Не кенайский ход — носком колупает. Сзади шел.
— На перевал следы-то, — сказал Тимошка, — поди, там и засели. Нутка сбегай… Поглядай… У тя ноги молодые.
— Волчка возьму, — сказал Яшка, отвязал Волчка и вместе понеслись, — Волчок впереди, Яшка сзади.
Тимошка успокаивал своих спутников.
— Энти не тронут. Энти за нами следят. Их нечего бояться. Вот что на реке будет…
Где-то на горе раздался злобный лай Волчка. Потом слабо брякнул пистолетный выстрел, и лай Волчка вдруг сменился отчаянным визгом.
— Ужли Волчка пристрелили? — тревожно воскликнул Тимошка.
Но визг не умолкал и стал приближаться к путешественникам.
— Подранили, мерзавцы! Пожалуй, пса мне испортили, — беспокоился старик за своего любимца. — Пса жаль. Уж такой пес, цены ему нет!.. Эх!.. Яшка, дурак, не доглядел, я бы не дал!
Через четверть часа прибежал Яшка. Впереди его несся Волчок, тряся головой и повизгивая от боли.
— Жив! — радостно воскликнул старик. — Зацепило только. Волчок, Волчок!.. Псина! — Волчок подбежал и с тихим визгом стал жаться к ноге хозяина. Тот стал осматривать голову Волчка.
— Ишь, ухо зацепили. Еще бы малость и в мозговицу бы попало. Ах ты, сукин ты сын! — ласкал старик визжавшую собаку. — Ну, ладно, будет! Поправишься!
На Яшку Тимошка обрушился, упрекая его в том, что он чуть не сгубил собаку. Яшка оправдывался.
— Они за камнями засели, а Волчок сразу налетел и ну рвать одному кухлянку. Ну, тот и пальнул. Я и подбежать не поспел. Хотел я их пристрелить, да, думаю, дразнить не надо. Потом сосчитаемся.
Тимошка еще раз ругнул Яшку и, переменив тему разговора, обратился ко всем:
— Ну, что же? Как теперь? Напрямки по короткой жарить мимо тех, — он махнул рукой в сторону выстрела, — или в круговую?
— Режь напрямки, — сказал Яшка.
— Напрямки-то — напрямки. А ну, как они по дороге завал сделали? Что мы с байдарами делать-то будем? Да и нас они из-за завалов, как куропаток, перестрелять могут.
Все молчали…
— Ну-тка, Яшка, сбегай-ка еще, поглядай. Тут мигом обернешься. Не больше часа до реки-то! Так и лупи просекой, так прямо и жарь.
— С Волчком разве? — в виде вопроса ответил Яшка.
— Ну, брат, дудки! Волчка я такому дураку, как ты, больше не дам. Хвоста его не понюхаешь. Бери Серого.
Яшка с Серым унеслись в просеку синевшего вдали леса.
— Ежели они завалы устроили — беда, — говорил Тимошка, — потому ходу не будет. Кабы еще байдар с нами не было, а то бросить придется. Ну отдыхайте покедова, братцы. Кормитесь. Место здесь открытое, вольное: вокруг на версту видать, никто не подберется. А я, вот, псов подкормлю.
И он стал кидать собакам вяленую рыбу.
Вернулся Яшка. Рукой махнул и сплюнул.
— Завалили, черти, — сказал он, — деревьев навалили поперек и сидят… как сычи, выглядывают. Десять человек. Я сзаду забежал.
— Ну, да я ж говорил, — сказал Тимошка, — я ихнюю повадку знаю. Ну, значит придется в обход идти, эх!
Пошли в обход. Круто повернули влево и прямо по целине в лес вошли.
— Верстов пять крюку будет, — ворчал Тимошка.
Впереди шли Тимошка, Яшка и Федосеев — дорогу протаптывали. Потом припрягались к саням и тащили. Измучились так, что со всех пар валил, — вспотели и раскраснелись, словно в бане парились.
Один Яшка не унывал, — все шуточки отмачивал.
Наконец обогнули завал и вышли на просеку. Яшка показал кукиш сидевшим сзади в засаде — сидите, мол, дурни, ждите.
— Ну, братцы, теперь навались, — теперь все под гору. Через час и река будет.
Навалились, пошли ходом действительно все под гору. Вскоре стал слышаться какой-то шум, далекий, но постоянный. Вырастал по мере приближения к нему.
— Это еще что? — тревожно спросил Илья.
— Река ревет, — ответил Тимошка. — Тут ее камнями спирает, ну и ревет.
Рев водопада все усиливался.
— Быстро вода бегит по Кускоквиму, — страсть трудно будет выгребать! Только бы до Калмыковского редута добраться! Там уж передохнем, — сказал Тимошка. — Одначе надо и на реку посмотреть, нет ли там чертей энтих. Може и там ждут. Пойду-ка я сам!
Припадая на хромую ногу, старик отправился вперед. Яшка отпустил пару острот по его адресу и занялся своей трубкой, однако время от времени поглядывая в сторону обойденного завала. Вскоре Тимошка вернулся.
— Сидят, черти, ждут! — крикнул он издали. — Сидят, рты развесивши. Я у их ружье свиснул. Смотри, какое важное, — и Тимошка показал Яшке выкраденное ружье.
Яшка с завистью взял ружье и стал разглядывать.
— Как это ты, старая крыса, словчился?
— Сызмальства обучен, — важно ответил старик.
— Пойти, что ли, мне? — сказал задумчиво Яшка.
— Пойди, коль башка дешева, — сказал Тимошка. — А нам опять в обход идти. Надо и этих обойти.
Опять свернули с дороги, пошли лесом налево.
Страничка из Фенимора Купера
Продрались с великим трудом к реке. Теперь водопад ревел с версту ниже. Здесь же река разливалась широко и дробилась протоками между низкими островами.
По совету Тимошки переехали реку и запрятались в чаще кустов.
— Передохнуть надо, — сказал он. — Поработали. Сил больше нет. Пущай теперь нас поищут. Собакам только морды завязать надо, а то брехать будут — нас выдадут.
Собакам перевязали морды, и сейчас же Тимошка, Яшка и Федосеев улеглись и захрапели. Илья, Вадим, Уильдер и Елена заснуть не могли, — переутомились. Елена легла, а мужчины сидели и напряженно смотрели на широкую реку, — на тот берег, от которого они только что отплыли.
— Плывут, вон, — вдруг заговорил Уильдер. Острое зрение моряка помогло ему увидеть движущиеся черточки байдар у самого берега, еле заметные на темном фоне скал.
— Одна, две, три, четыре, пять, — считал Уильдер. Четыре байдары плыли вдоль берега вверх против течения, а пятая сворачивала в сторону и направлялась к берегу, у которого спрятались путешественники.
В ней сидели двое.
Илья разбудил Тимошку. Тот стал будить Яшку.
— Ммм… Что там еще? — мычал разоспавшийся Яшка.
— Плывут к нам, бери-ка лук да стрелы, может придется спровадить, чтоб без шума.
Легкая байдара уже подплывала к кустам, в которых притаились наши путешественники. Сидевшие в байдаре кенайцы пытливо всматривались в прибрежные кусты. Яшка сидел с луком в руках и не спускал с них глаз… Тетива его лука была натянута, и стрела, готовая к отлету, лежала на тетиве. Кенайцы проплыли мимо. Но сидевший на корме почему-то оглянулся на кусты и что-то сказал гребцу, показывая рукой на подозрительную чащу, и байдара неожиданно повернулась носом к кустам. Рулевой приподнялся и стал всматриваться. Путешественики увидели блеск радости в его глазах. Очевидно, заметил сидевших. Уже раскрыл рот, — что-то сказать хотел товарищу, но в этот момент тихо свистнула спущенная с лука стрела и вонзилась ему в горло. Кенаец захрипел и тяжело рухнул на дно байдары. Гребец хотел было остановить ход байдары, стал грести в обратную сторону. Но запела вторая стрела, и второй кенаец упал лицом вперед, выпустив весло. Лодка по инерции плыла вперед и врезалась в кусты, ткнувшись носом в байдару, в которой сидели Илья и Елена. Собаки завозились, стараясь освободить свои морды, — лаять захотелось!
— Цыц, проклятые! — зашипел на них Тимошка, хватая приплывшую байдару и втягивая ее в кусты.
— Ночью спустим их по течению, — сказал Тимошка. — А ловко ты угодил. Молодец, Яшка!
У одного кенайца стрела торчала в горле, у другого — ниже затылка.
Четыре байдары быстрым ходом ушли вперед и скоро исчезли из поля зрения, завернув за поворот реки.
— По-моему, — сказал Яшка, — не спускать их надо, а потопить с байдарой вместе. По крайности, следов не будет.
— Что верно, то верно, — сказал Тимошка. — Только возни будет много с ними. Стащим их лучше на остров, там их в болоте засосет, а байдару возьмем с собой. Авось понадобится. Легкая она.
Когда стемнело, все лодки выбрались из кустов и медленно поплыли вверх по течению. Левые борты у них были утыканы ветвями. С другого берега даже днем их трудно было отличить от прибрежных кустов.
Плыли осторожно, стараясь не делать веслами шума. В потемках удачно разминулись с четырьмя кенайскими байдарами, возвращавшимися обратно, — только остановились, сгрудились, и кенайцы проплыли мимо, вероятно, приняв байдары, замаскированные ветвями, за островок, заброшенный в реке. Проплыли так близко, что даже разговор их был слышен отчетливо.
Плыли всю ночь, и на рассвете вошли в озеро, с обеих сторон окруженное высокими черными скалами. Дикий пейзаж. Скалы местами доходили до 500 футов и на вершинах их лежал снег.
В гроте
По указанию Тимошки, повернули к левому берегу и, пробравшись лабиринтом камней, прошли в какой-то темный грот. Все три байдары и четвертая, маленькая, скрылись там от взоров человеческих.
— Здесь отдохнем, — сказал Тимошка, выбравшись на каменистый берег. — Здесь и огонь разведем!
Развели костер, и грот, освещенный дрожащими языками пламени, сделался фантастически красив. Но холодно и сыро было под его каменными сводами. Зато вода, просвеченная огнем до самого дна, засветилась волшебным нежно-голубовато-зеленым светом.
Собакам развязали морды, и они стали бегать и визжать, обрадовавшись своей свободе. Впрочем, недолго они беззаботно резвились, — скоро стали проявлять признаки какого-то беспокойства, особенно Волчок: он стал рычать, поглядывая в глубь грота.
На него, однако, сперва не обратили внимания. Усталые путешественники занялись костром и приготовлением еды. Торопились поесть и лечь спать.
— Здесь наверх выход есть, — сказал Тимошка. — Чисто крепость. Там сторожить будем.
И какими-то щелями и проходами он вывел Илью на каменную площадку над самым входом в грот.
Вид сверху был великолепный. Все озеро, окруженное горами, лежало внизу, — глазом можно было охватить пространство, по крайней мере, верст на десять в окружности.
— А подмораживает, — сказал Тимошка. — Пожалуй, в ночь опять мороз ударит. Эх, добраться бы до редута! Оттуда бы уж на собаках пошли. Там места пойдут ровные. Пустыня — одно слово!.. Никто не подкрадется. Ох, не люблю я леса! Пустыня куды лучше!.. Ширь-то какая! — Речь его была прервана ожесточенным лаем собак.
— Эх, не угомонят псов-то! Выдадут они нас. Ну, я пойду посмотреть, чего они там, а вы уж тут озеро покараульте. Коли что — скажите.
…Волчок рычал, рычал, да вдруг и залился злобным лаем. Вслед за ним стали лаять и остальные псы.
— Ишь, по зверю лают. Кто бы там был? — сказал Яшка, взяв ружье. Осторожно пошел он по узкому карнизу в глубь грота. Собаки рвались за ним — мешали идти. Разогнал их прикладом.
— Что там? — спросил Тимошка.
— А черт его знает! Темно и идти трудно, — того и гляди оборвешься.
— Погоди, Яшка. Я на байдаре подъеду и огня возьму, — крикнул Тимошка.
Он положил пылающий сук на нос байдары и поплыл в глубь грота. Грот оказался очень глубоким, — байдара забралась так далеко, что скоро пылающий сук превратился сперва в огненную точку, а потом совсем его не стало видно. Собаки остановились где-то по дороге, — очевидно, карниз обрывался, и дальше пробраться не было возможности.
Катастрофа
Сидевшие у костра прислушивались к тому, что делалось там, в темной глубине грота. Сперва постепенно замирали вдали тихие всплески весел, потом тишина, потом страшный рев, громом прокатившийся под каменным потолком грота… Выстрел гулкий, раскатистый… Опять рев и человеческие крики — и все смолкло. Опять отдаленный крик, как будто о помощи.
Уильдер, Федосеев и Вадим, схватив пылающие головни, на оставшейся байдаре быстро понеслись на крик.
— Сюда, сюда, скорей! — услышали крик Тимошки откуда-то из тьмы.
— Стой! Стой! Легче! — Тимошка сидел верхом на перевернутой лодке и обеими руками держал Яшку, который был, по-видимому, без сознания. Все лицо его было залито кровью…
— Яшка медведя стрелил, а он бросился прямо на Яшку. Смял парня.
— А медведь где?
— А черт его знает! Убег должно! Принимай, братцы, Яшку, я ружья достану. Свети сюда.
Яшку втащили в байдару и стали освещать дно. В прозрачной воде на саженной глубине два утонувших ружья были видны отчетливо. Тимошка опустился в ледяную воду, вытащил ружья и влез в лодку. Он был так зол, как никогда еще. Ругался вовсю, — ругал поездку, всех участников, а больше всех Яшку.
— Черт бы вас всех побрал, — хрипел он. Злоба бушевала в его остервенелом сердце.
— И эта сволочь, — он ткнул ногой Яшку, — говорил ему, не стреляй, потому не видать. Вот выстрелил, а теперя всю морду ему и своротил медведь!
Не стесняясь присутствия Елены, Тимошка разделся донага, раздел и Яшку. Мокрые кухлянки, торбасы, шапки повесили сушиться над костром, влил рому в рот Яшке. Тот пришел в себя. Елена перевязала ему драную рану на щеке и ухе. Кусок уха был оторван. Тимошка занялся ружьями; их чистил, а сам ворчал и ругался:
— Так тебе, сволочь, и надо, — не мог угомониться старик, когда увидел, что Яшка пришел в себя.
Яшка попытался что-то ответить, даже как будто сострить хотел.
— Молчи ты, скоморох! — прикрикнул на него Тимошка. — Вот будет у тебя рыло набоку, так еще смеху больше будет.
Потом он стал успокаиваться, и самая ругань в его устах стала терять остроту злобы — начала переходить в нравоучение и вскоре приобрела характер некоторой игривости.
Наконец пострадавшие высохли и, закутавшись в горячие кухлянки, захрапели во всю мочь.
Вадим сменил Илью. Уильдер пошел с ним. С ужасом выслушал Илья о том, что произошло в его отсутствие. Он беспокоился за Елену. Сидеть в одной пещере с медведем! И зачем только она поехала? Что еще ждет ее впереди?
Часа через три Яшка уже поднял свою перевязанную башку и стал будить Федосеева:
— Эй ты, хрыч старый, слушай!
— Чаво тебе? — проворчал тот, — лежи ты, морда драная.
— Поедем за медведём, — сказал шепотом Яшка. — Что зверю зря пропадать?
— Поди ты, — буркнул Федосеев.
— Еловая башка! Да ведь мех-то какой богатый! Да говядины сколько!
Недолго спорил Федосеев с Яшкой. Заговорило ретивое у старого охотника. Решили не будить Тимошку, — управиться без него.
Илья пробовал, было, протестовать, — уговаривал не рисковать, но его Яшка и слушать не стал:
— Подох медведь! Ей-богу подох! — уверял он, — ведь я знаю. Я ему здорово запалил. Сгоряча это он меня дернул, умираючи…
Опять байдара с огнем отплыла в глубь грота и через час вернулась, нагруженная огромной медвежьей тушей. Яшка забыл свою рану и сейчас же занялся медведем: мясо вырезал, на куски порезал, поделил: что людям, что собакам.
Когда Тимошка продрал свои старые глаза, Яшка уписывал уже медвежатину, жареную на ружейном шомполе.
Тимошка только глаза выпучил.
— А шкуру барыне за беспокойство, — галантно сказал Яшка, расстилая медвежью шкуру у ног Елены.
День прошел, и вечером решили отправиться дальше.
Стемнело. Полная луна выплыла из-за края черных утесов. Серебром залило все озеро, — тем чернее сгустился мрак у самого берега. Под покровом этой прибрежной мглы, вдоль черных скал, двинулись дальше. Но скоро луна поднялась выше, и около берегов не стало тени.
— Экий черт, как на ладони все видать! — ворчал Тимошка, — и не укрыться нигде! Увидят нас, черти!
Морозило. Чистое темно-синее небо усыпано было мириадами звезд, — даже лунный свет не мешал их блеску.
— Ишь, как вызвездило, — сказал Яшка. — К утру мороз ударит!
Высоко по небу тянулись последние стаи птиц.
— Конец перелету, — сказал Федосеев. — Зима пришла.
Между тем луна совершила свой ночной путь и стала заходить за утесы противоположного берега. Теперь там сгустилась тьма. Перебрались на ту сторону.
— Ну, скоро исток реки будет. Опять в реку войдем, — сказал Тимошка. — Не замерзла бы река-то!
— Смотри-ка, огонь у истока! Никак костер жгут? — сказал Яшка.
— Неужто нас стерегут? — опасливо буркнул Тимошка.
— Я поеду вперед, — сказал Яшка, — посмотрю, может кого и снять потребуется. Дай-кось мне лучок-то. Как огонь погаснет — езжайте смело!
И на легкой байдаре он бесшумно стрельнул во тьму.
Байдары не пошли дальше, притулились у берега и ждали. Путники глядели на огонек, мерцавший вдали в бледном сумраке наступающего рассвета. Прошло с полчаса. Восток начал алеть, и наверху в побледневшей синеве неба потянулись розовато-золотые тучи. Далекий костер вдруг погас.
— Чисто Яшка сработал! А и руки же у парня золотые! Ну, теперь айда, ребятки, вперед!
За каменным мысом, закрывавшим впадение реки в озеро, к путешественникам присоединился и Яшка. Улыбался во весь рот.
— Убрал! Чисто припрятал! — хвастался он.
Вошли в реку. Опять правый берег — сплошная стена утесов, левый — низменный, болотистый, сплошная тундра. Потянулись вдоль низменного берега.
Прятались днем в кустах — ночью плыли, замаскированные кустами ивняка, выбирая темные места.
На второй день опять повалил снег, потом ударил мороз. По черной реке понеслись небольшие льдины…
— Ничего, на это нам теперь начхать, — говорил Тимошка. — К вечеру на месте будем!
— Вот тут река сейчас влево возьмет, а за поворотом и редут будет. Теперь конец веслам, — на собаках двинем, без байдар. Куды легче будет!
Кенайцы и «американы»
Но Колмыковский редут оказался сожженным… и людей не было видно.
— Сожгли! Вот незадача! Как тут быть? — И старый Тимошка совсем на этот раз растерялся.
— Причаль тут. Пойду посмотрю, — сказал Яшка. Байдары притулились у берега, а Яшка прибрежными кустами осторожно направился к редуту.
— Ну, где теперь собак достать? — рассуждал вслух Тимошка. — Вот, думали, в редуте возьмем! На 12 псах далеко не уедешь! Опять же с провиантом, — рыба на исходе! Чем собак кормить будем? Дальше по пустыне путь пойдет, — тут уж ничего не промыслишь. Что тут делать? Эх, незадача!
Так разговаривал он сам с собой, а путешественники мрачно слушали его и молчали. Они еще меньше его знали, что им теперь делать. Сидели и вслушивались в беседу Тимошки с самим собой. Из отрывистых фраз его беседы, однако, заключили, что старая голова его усиленно изобретала разные комбинации, которые должны были вывести их из затруднения.
Вернулся Яшка не один, — привел с собой еще какого-то старика — Зотова Ивана Дмитриева. Физиономия у него была перекошенная — идет, сам озирается, говорит шепотком. Напуган человек — по всему видать! Зотов оказался хорошим знакомым и Яшки и Тимошки. Тимошка накинулся на него с вопросами:
— Что это у вас? Мы к вам, а вы вон что — погорели. — Зотов растерянно развел руками…
— Разорили редут, — сказал он. — «Американы», надо думать, — говорил он, оглядываясь, словно опасаясь, что «американы» сидят в кустах и его подслушивают.
— Подослали, вишь, кенайцев с мехами, — рассказывал он, — дескать, продавать пришли. Семен Петрович все с ними уладил. Потом пить стали… Ну, известно, как полагается. А они, значит, со своим ромом приперли. Ну, а в ром-то, видно, чертовщины какой-то и навалили. Ну, значит, наши перепились, да видать и свалились. Я это два стакана тоже глотнул, да в лес побег капканы смотреть. Добежал до капканов, да так и свалился. Сколько лежал — сам не знаю… Проснулся, потому трясти меня начали. Продрал зенки, — ан меня волки рвут! Ей-богу! Вскочил, как встрепанный. Как заору, — волки так и порснули в лес — напугал я их. Побежал я в редут. Мать честная! Редут-то наш докуривается! Людей — ни души! Амбары все разорены. Чистое разорение. Один я и остался.
— Что ж их убили, что ли? Семена Петровича и других, которые?
— Не видать, чтоб драка была. Увели, должно, пьяных. Может и померши которые от зелья этого. Брр! — Зотов сплюнул с омерзением. — Двое суток меня рвало, то есть всю башку разломило. Который день, вон, не емши, — душа еды не берет, только воду и хлебаю.
— И как меня волки не сожрали, так это даже удивительно, — разводил он руками. — Да вас-то чего нелегкая сюда принесла? Вы-то чего тут?
— Да вот к американам энтим едем, — мрачно ответил Тимошка.
— К американам? — удивился Зотов. — Подлый народ! Расподлеющий! Мутят они здешних. Кабы не они, разве бы здесь кенайцы так баловали?
— Кораблева-то знаешь? Устукали! — сообщил Тимошка.
— Да што ты? Семена?
— Его самого.
— Ну, царство ему небесное! Справный был старик! Как же дело-то было?
— Да кто его знает! Одни кости в избе… Дочиста сглоданы!
— Да может кости-то не Семеновы?
— А може и впрямь не Семеновы? — после некоторого раздумья сказал Тимошка. — На черепу не написано — чей.
— А тряпок-то никаких не было? Кухлянки, что ли?
— Одни кости — точно, как голый был. Вот ведь удивительно — как мне в башку не пришло. Почему же он голый?
— Вон я у самой избы каку трубку нашел. Важнецкая! Мериканская, — сказал Яшка, вытаскивая из бездны своих торбасов найденную им трубку.
— Покажь-ка, — сказал Зотов. Взял в руки трубку, повертел ее в своих корявых, черных лапах и сказал: — капитанская трубка, знаю ее. Мериканец тут шляется. Капитаном его Вельсой звать. Его это трубка. Как это он ее потерял? Все в зубах ее держал.
— Верно, кто по зубам дал ему, — вот он и обронил, — сказал Яшка.
— И спал, сказывают, с трубкой. Спит — посасывает, пососет — опять заснет! Не его ли костяк вы за кораблевский приняли? Потому он без трубки ни на шаг.
Все невольно переглянулись.
— А трубка важная, — продолжал Зотов, вертя ее в руках, — словно расстаться ему с ней было трудно. — Хошь, Яшка, я тебе два бобра за нее дам?
Яшка покрутил головой.
— Ну три дам?.. Четыре хошь? Ну, черт с тобой! Коли этот Вельса жив, да в твоих зубах ее увидит, — он те зубы расчистит — сыт будешь, — ворчал Зотов, неохотно выпуская из рук вельсову трубку.
— Ну и что нам теперь делать? — говорил Тимошка. — В редуте передохнуть можно? Не все сожгли? Ты-то где сидишь?
— Я-то?.. Где придется… то в подполье, а то в лес ухожу! На деревах сплю. Да там рыси мешают. Намедни одна в загривок вцепилась — насилу отодрал.
Путешественники вошли в полуразрушенный редут. Несколько зданий сгорело дотла, у других сгорели только крыши.
— Снегом, видать, потушило. Страсть снег валил, — пояснил Зотов. — Глянь-ка, ворота выломаны, стекла выбиты. Унесено все: скамьи и столы — и те скрадены. Одно слово — чисто сработано, — говорил Зотов. — Даже гвозди выдерганы! Глянь-ка!
Действительно, во многих местах в стенах вместо гвоздей зияли дырки.
— Все это кенайцам впрок пошло, — ораторствовал Зотов. — Село тут ихнее поблизости. Туда верно все сволокли. И Вельса там на селе болтается. Компания там ихняя, — трое их там, мериканов этих. Будь им неладно! А Вельса у них набольшой — капитан ихний.
Все влезли на один из амбаров, наименее пострадавший. Уселись, кто на санях, кто на полу и стали рассуждать, что делать дальше?
Мнения поделились: Тимошка стоял за то, чтоб вернуться обратно в Михайловский редут. С 12 собаками, без запаса провизии, по его мнению, нельзя было рисковать на путешествие по пустыне.
— Кабы нас двое с Яшкой, али с Федосеевым вон, мы бы к черту на рога пошли, а вы — люди непривычные. Да еще, вон, женщина с вами, — где вам! Морозы ударят. Пурга гулять пойдет. Беда!
Уильдер решительно высказывался за то, чтоб войти в контакт с «американами», которым подчинены кенайцы.
— И собак достанем, и провизии, — говорил он уверенно.
Вадим перевел его слова. Тимошка выслушал внимательно и сказал:
— Ну что же, делайте, как знаете. А нам с Яшкой это не с руки. Нам своя голова дороже. Мы вон по пути пять кенайцев устукали, узнают — нам не поздоровится, да! Кенайцы — дерьмо, а вот американы — сволочь! Вот на волос не верю им!
Яшка и Федосеев присоединились к нему. Уильдера поддержали остальные.
Тимошка насупился, потом промычал:
— Может так и ладно будет. Видать, их благородие, — он мотнул головой в сторону Уильдера, — тоже из их компании. Може и обладит. Може и наших с редута вызволит. Не забудьте, смотрите. А мы с Яшкой теперь в сторону: вам — направо, нам — налево. Вот Зотов пусть вас завтра к мериканам сведет, — там уговоритесь, а мы с Яшкой из леса говядины вам достанем, потому в пустыне уж ничего не добудете.
На следующий день Уильдер, Илья, Зотов отправились в село кенайцев.
По дороге Зотов рассказал о жизни кенайцев. Село у них большое: 30 юрт, а посередине дом бревенчатый с крышей, частоколом обнесен. В этом доме в свободное от охоты и рыбной ловли время сидят мужчины, покуривают трубки — лясы точат. В этом же доме обсуждаются дела, что до войны, или там до охоты касаемо. Праздники здесь же празднуются, игры там всякие играются, и моются здесь же всем селом — на манер бани.
— Только уж и мытье у них! — закрутил головой Зотов, — кислой мочой моются! Ей-богу! Оттого от них и вонь такая! И кожи звериные тоже в моче вымачивают.
Зотов подвел Илью и Уильдера к общественному зданию. Пока путники шли мимо юрт, оттуда выбегали собаки и злобно кидались на пришедших. Из юрт выглядывали женщины, выбегали голые ребята, бежали следом, визжали…
Путников ввели в главную комнату. Там восседали старцы и вожди племени. Один из них, по-видимому, главный, был облачен в живописное одеяние: с его головы до пят спускалась лента, вся усаженная пестрыми орлиными перьями. Его кухлянка была искусно расшита разноцветными узорами. Энергичное лицо было причудливо разрисовано черными и белыми красками. Взгляд его монгольских глаз был жесток и упорист. Большой нос с горбинкой резко выдавался на его сухом медно-красном лице.
Зотов выступил вперед и на кенайском языке стал объяснять причину появления путешественников. Он сказал, что они идут с мирными целями к горе св. Ильи, нуждаются в собаках и провизии, за все будут платить. Сказал, что они были очень удивлены, увидев редут сожженным.
Вождь, его свита и старцы сидели неподвижно и смотрели куда-то поверх пришедших.
Видя, что вся речь Зотова пропала даром, вступился Уильдер. Он заговорил по-английски — резко и властно.
Кенайцы зашевелились, переглянулись и устремили свои взоры на него. Уильдер требовал свидания с американцами, проживавшими в селе, и в заключение приказал передать им своего пикового валета и… протянул его вождю.
Кенайцы оживились. Они залопотали друг с другом и, по приказу вождя, один из молодых воинов, взяв валета, быстро вышел из дому. Минуты через две он уже вернулся и знаками пригласил с собой Уильдера. Оба вышли. Вождь проявил к Илье и Зотову любезность, — жестом пригласил их сесть на медвежью шкуру, которая лежала на полу. Сам же важной походкой тоже вышел из дому. Прошло еще пять-шесть томительных минут. Уильдер и вождь вернулись вместе. Вся важность вождя куда-то улетучилась, — он улыбался, при этом его рожа сделалась еще ужаснее, хлопал по плечу Илью и Зотова (Уильдера не смел) и даже вдруг заговорил на русском языке:
— Русс… корош! Ууу! Уг-Глок-така любит русс, — и он ткнул себя пальцем в грудь — очевидно, отрекомендовался.
Уильдер сообщил, что все уладил — и собаки будут, и провизия, и вожаки будут даны надежные.
Он сообщил также, что гарнизон редута цел, но отправлен уже на шхуну, откуда всех отправят на остров Шарлотты, где уже собраны гарнизоны всех других русских фортов. С острова Шарлотты вероятно всех пленников отправят в Михайловский форт. Американцы признают, что уничтожение всех русских фортов, пограничных с американской территорией и пленение гарнизонов есть насилие, но что делать, — таков приказ, полученный из Нью-Йорка. Шхуна еще должно быть не ушла, — стоит в Кенайском заливе. На ней можно без труда добраться до острова Шарлотты. И только там можно договориться окончательно относительно тех вопросов, которые интересуют путников.
— Помог пиковый валет, — сказал со смехом Уильдер, потрясая в воздухе фатальной картой.
— Ах да, забыл предупредить, — добавил он, — американцев здесь нет!
Илья удивился:
— То есть, как это? — сказал он.
Уильдер засмеялся.
— Они-то собственно здесь, только я должен утверждать, что их нет. Они пребывают секретно. И представьте, капитана Вельса нет… ушел и не возвратился. Кажется, действительно, мы его кости хоронили!
Между тем вождь кенайцев оживленно беседовал с Зотовым. Тот угрюмо слушал его, потом прервал его слова:
— Вишь, он на праздник вас зовет. Игры вам в уважение устроить хочет.
Илья стал было отговариваться недосугом — боялся, что Елена и Вадим будут беспокоиться вследствие его долгого отсутствия, но Зотов мрачно сказал:
— А вы не спорьте с ними. В обиде будут. Худо бы не вышло. Я сбегаю в редут, чтоб не беспокоились.
Пришлось покориться.
И вот, по знаку вождя, его воины стали колотить палками в доски и что-то выкрикивать. Со всех сторон стала сбегаться молодежь. Начались состязания в беге, в прыжках, в метании копий, в стрельбе из лука.
Потом перешли в дом. Здесь началось представление: появились ряженые, одни в звериных шкурах и мордах, другие в виде каких-то чудовищ. Между обеими группами разыгрывалось что-то вроде сражения. Зрители били изо всех сил в доски, ревели что-то нескладными голосами, плясали вокруг актеров. А в круге страшные чудовища одерживали верх над зверями.
Потом гостей угощали какой-то кислой мутной дрянью. Из вежливости оба омочили губы. Потом женщины внесли на железных прутьях жареную оленину. Пожалуй, это был бы самый удачный номер праздника, если бы не тошнотворный воздух, который исходил от кенайцев, — он мешал есть, мутило!
Любезный Уг-Глок грязными руками выдрал у оленя оба глаза и на ладошке поднес это почетное кушание Уильдеру и Илье в знак особого уважения к почетным иностранцам.
Вечерело. Огромная красная луна уже поднялась над черными елями, когда Уильдер и Илья вернулись к своим. Их сопровождал в качестве вожатого молодой кенаец по имени Клош-Кварт, с живыми смышлеными глазами. Он знал немного по-русски, носил на шее медный крест и усиленно крестился при всяком удобном и неудобном случае, очевидно, желая доказать свою приверженность к православной церкви. По дороге он старательно занимал путников болтовней, мешая кенайские слова с русскими и английскими. Лукавый кенаец рассчитывал с обоих сорвать по хорошему подарку в виде цветных бус, стеклянных пуговиц и двух бутылок рома (он так и говорил: «два бутылка» и прибавлял для ясности: «ту боттль» и растопыривал два пальца).
Охота на оленя
Пока Уильдер и Илья занимались в стане врагов «пиковой дипломатией», Вадим и Яшка охотились в тайге, а Тимошка стерег Елену.
Яшка наткнулся в лесу на следы большого оленя, который, очевидно, отбился от стада и бежал, спасаясь от волков. Охотники пошли по свежим следам. Капли крови, видневшиеся на снегу, показывали, что олень уже отведал волчьих зубов. Местами снег был помят особенно сильно, — видно было, что здесь утомленный олень останавливался и отбивался от наседавших врагов. Здесь крови было больше… Чья она — оленья или волчья?
Чем дальше шли охотники, тем чаще встречались такие площадки.
— Устает старик, — сказал Яшка.
Попался им и волк с распоротым животом. Еще живой… издыхал. К нему уже подкрадывалась лисица, да испугалась охотников — юркнула в кусты. По следам бегущего оленя и преследующих его волков Яшка читал, как по книге. Он и число волков определил, и степень усталости оленя.
— Упал, сердечный! — воскликнул он, показывая на одно место в снегу. — Ишь, накинулись! Крови-то! В горло вцепились, — пояснял Яшка, захваченный интересом к этой кровавой лесной драме, которую он не видел, но которую он живо себе представлял.
Путь сделался красным от обилия текущей крови.
След оленя слабел и сбивался.
— Стой, легче! Сейчас увидим. Ссс! — зашипел Яшка и замер. Он весь ушел в слух. Вадим тоже. Услышали, как будто какое-то урчание, хрипение…
— О, слышь? — шепнул Яшка, — кость хрустнула! Жрут! Вперед!
В кустах они увидели лежащего оленя. Он уже не сопротивлялся, в его глазах догорала жизнь… Четыре волка рвали его горло. Их голов не было видно, — по шею въелись в кровавое мясо. Так занялись делом, что не учуяли подошедших людей. Охотники двоих убили в упор, — два других убежали. Морды их были страшны — до шеи покрыты были дымящейся кровью. Они бежали, оглядывались и злобно рычали.
— Богатый бычок, — сказал Яшка, рассматривая лежащую тушу оленя. — Только горло и порвали, — и Яшка принялся свежевать оленя.
На следующий день вождь кенайцев Уг-Глок с несколькими, и очевидно, с самыми важными персонами, явился в редут с ответным визитом. Увидев разорение редута, он постарался выразить на своей размалеванной роже совершенное удивление и даже негодование:
— Ай-ай! ой-ой! — повторял он, потрясая орлиными перьями, торчащими на его маковке.
Затем в длинной несвязной речи он высказал предположение, что все это безобразие — дело рук аглемютов (название племени) и американских людей (о них он говорил шепотом и озирался).
Кормить его было нечем, и потому его только поили (против чего он не возражал) и задарили его бусами, блестящими пуговицами и медными бляшками.
По-видимому, все это его очень устроило. В результате он здорово напился, растерял всю свою важность, еле стоял на ногах и все клянчил. Вдруг он вспомнил, что он — православный, вытащил из-за пазухи какого-то божка поставил его у стенки, помазал ему ромом башку и, став перед ним на колени, стал креститься и отбивать земные поклоны.
— Фенимора Купера вспоминаете? — спросил насмешливо Уильдер, обращаясь к Илье, который задумчиво смотрел на жалкого дикаря.
Грозные перья на его голове растрепались и съехали набок. Краска на физиономии слиняла и потекла.
Насилу его выпроводили. Ушел со свитой и долго в тихом морозном воздухе раздавался его дикий рев, — пел какую-то песню.
Тимошка, Яшка и Зотов решительно отказались идти с Ильей. Часть собак и, главное, Волчка, Тимошка оставил себе.
— Чтоб я да Волчка вам отдал! Да ни за какие деньги! — ворчал он.
Илья щедро заплатил всем троим за услуги, и все они как-то неожиданно исчезли. Все время были на глазах, помогали укладывать в сани провизию, подавали советы, что прикупить у кенайцев, сколько платить, как от бурана защищаться. Яшка дурил и зубоскалил… И вдруг исчезли, — только след от их саней показывал, что направились к реке, к спрятанным байдарам.
Главой экспедиции теперь сделался Уильдер, — ведь у него в бумажнике лежал «пиковый валет», приобретавший все больше силы по мере приближения к американским пределам.
В пустыню на собаках
Утром в день отъезда в редут пришли два кенайца — знакомый уже всем веселый и лукавый Клош-Кварт и мрачный Коскуш. Они привели с собой две упряжки собак, пару саней и доставили запас вяленой лососины для собак и оленины — для путешественников.
Утро было ясное, морозное. Снег скрипел под полозьями саней. Собаки бойко бежали, помахивая пушистыми хвостами. Впереди на лыжах бежали два кенайца, прокладывая тропу в рассыпчатом снегу. Легкая снежная пыль вилась за санями, искрясь на солнце.
Синее безоблачное небо опрокинутой чашей висело над головами путешественников. Перед ними расстилалась бесконечная снежная пустыня. Куда только хватал глаз — везде, на сотни верст была эта пустыня. С левой стороны тянулся невысокий горный кряж, ровный, как срезанный под линейку. Словно вал крепостной. Да еще местами из-под снега торчали кусты маленьких чахлых елей.
Самый тяжелый труд выпал на долю кенайцев. Сухой снег был глубок, и они со своими лыжами часто проваливались по колени и глубже. Приходилось искусно вытаскивать завязшие ноги: доставали сперва одну ногу кверху, держа ее прямо, затем надо было осторожно продвинуть ее вперед, не уклоняясь в сторону. Продвинув вперед одну ногу, таким же порядком вытаскивали вторую. Только большая опытность кенайцев помогла им выбраться быстро из таких снежных ям и переправлять груженые сани.
Остальные путники бежали около саней, стараясь держать собак и сани на одной тропе. Иногда канат, которым собаки тянули сани, попадал под ноги лыжникам, и тогда они сбивались с пути и сбивали собак и сани. Приходилось останавливаться и направлять сани и собак на тропу. Каждый лыжник держал в правой руке шест, которым подгонял собак, и эта рука все время была в работе, другая, левая, бездействовала и потому в ней останавливалось кровообращение, она немела и мерзла. Резкий сухой ветер бил в лицо и резал щеки и носы.
То бежали, то шли гуськом друг за другом. На морозном воздухе, да еще против ветра, говорить было трудно, — захватывало дыхание, мерзли легкие… Только скрип саней, покрикивания кенайцев, да иногда чей-нибудь кашель нарушали безмолвие этой снежной пустыни. Ни голоса животных, ни крика птиц! В ледяном застывшем воздухе не было жизни. Казалось, сном смерти спала тундра, плотно закутанная в снежный саван.
Только изредка следы зайца, или лисицы, или волка пересекали дорогу. И это были редкие знаки того, что здесь таится еще какая-то сокровенная жизнь.
Кенайцы торопились, и этот темп движения скоро оказался не под силу нашим путникам. Сгоряча в первый день пути они не почувствовали всей тяжести такого спешного продвижения. Было даже как-то радостно и легко разрезать на бегу морозный сухой воздух.
Но когда на снежную пустыню спустились сумерки, когда синее небо и голубой снег вдруг стали сереть и тускнеть, когда остановились на ночевку — вдруг сказалось утомление. Непонятная жуть охватила путников. Особенно теперь ощутилась ими тишина пустыни, неподвижность жизни. Странно было говорить и страшно было слушать свой голос, — он здесь звучал, как чужой.
По темному небу вдруг стали бродить какие-то бледно-зеленые лучи.
— Ишь, сполохи заиграли, — сказал Федосеев.
— Северное сияние, — пояснил Илья Елене.
Зеленые лучи играли с розовыми, — то сливались, то расходились. Потом нежные тона этих лучей стали густеть, и снопы красного, зеленого, желтого, синего цвета вдруг захватили все небо от одного края до другого. Снег загорелся всеми цветами радуги.
С восторгом смотрели путники на эту фантастическую игру световых эффектов. Одни кенайцы да Федосеев были равнодушны.
Растянули парусину наискось и развели костер. На снег наложили еловых ветвей и заснули мертвым сном. Огонь поддерживали по очереди. Илья с Коскушем сторожили первые. Илья встал и сделал несколько шагов от костра. Какая тишина и какая мгла! Но, когда он посмотрел вверх, ему показалось, что звезды поднялись куда-то высоко-высоко: над тропиками они висели над самой головой, — здесь же они ушли куда-то вверх. И здесь они были яркие, искрились и переливались всеми цветами радуги.
И вдруг одна сорвалась и яркой кометой понеслась по небу. Илья почему-то вздрогнул, быстро оглянулся назад и подумал почему-то об Елене. У костра сидел мрачный Коскуш, и огонь костра дрожал на его сумрачном лице. Его глаза горели, отражая огонь костра. Неприятно стало Илье. Он подошел к Елене, закутанной в меха, осторожно поднял мех с ее лица и услышал, как она что-то говорила сквозь сон, а одинокая слеза катилась по ее щеке. Сердце сжалось у Ильи от предчувствия чего-то жуткого и неизбежного. Он стоял тоскливый и неподвижный и смотрел на жену. Какая-то непонятная, смутная тревога вдруг овладела им. Он быстро обернулся и поймал на себе немигающий, неподвижный взгляд мрачного Коскуша.
От этого взгляда Илью всего передернуло.
Вадим сменил его, а Коскуша — Клош-Кварт. Но Илья заснуть не мог. Он смотрел на Елену, и его ухо ловило обрывки ее беспокойного бреда. А мысли, одна тревожнее другой, кружились в его утомленном мозгу. Потом он увидел, как Клош-Кварт разбудил Коскуша и показал ему на горный кряж. Вадим тоже посмотрел туда. Илья спросил, в чем дело. Клош-Кварт ответил неохотно:
— Моя не знай… Огня был… огня не был.
Илья поднялся и подошел к Вадиму. Но как они оба не смотрели в том направлении, которое указано было кенайцем, никакого признака огня там не увидели.
Илья прилег и забылся.
Утром вставали с трудом. У всех тело было совершенно разбито после первого же дня пути. Ноги болели отчаянно, появились раны от лыж.
Бодрее мужчин была Елена. Хотя она и была измучена, но бодрость духа не покидала ее. Она даже пробовала шутить.
Видя ее улыбку, веселый кенаец Клош-Кварт решился поддержать ее хорошее настроение, — он подошел к ней, фамильярно похлопал ее по плечу и, лукаво подмигивая, сказал:
— Урус баба… хорос! Уг-Глок… хорос… урус баба.
На следующий день шли медленно, бежать никто не мог, кроме кенайцев и Федосеева. Брели, сдерживая стоны, еле передвигая измученные, сбитые ноги.
Кенайцы озабоченно разговаривали друг с другом и поглядывали на посеревшее небо, на тучи, висевшие над горизонтом. Федосеев тоже на них смотрел что-то мрачно.
Поднялся встречный ветер. Он шел низом, по снегу, подымая снежную пыль, и она тонкими змейками бежала навстречу путникам. Стало еще труднее идти против ветра, а он все крепчал, и скоро снежная пыль понеслась уже сплошной пеленой, поднялась до пояса идущим. Шли теперь, не видя пути, не видя своих ног, проваливались куда-то, вылезали с трудом, опять валились.
Пришлось остановиться.
Погребенные под снегом
По указанию кенайцев, принялись разгребать снег, забивать колья для палатки. Во время метели на ветру это была адская работа. Буран нес с собой сугробы снега. Ветер завывал. Собаки в ужасе визжали и жались к людям. Наконец, колья были вбиты, палатка была поставлена. Внутри развели костер. Измученные путники свалились у костра.
Между тем буря все усиливалась. Ветер ревел все злее и злее. Через какие-нибудь полчаса вся палатка представляла собой огромный сугроб снега. Путники были заживо погребены в этом сугробе. О том, чтобы выйти на воздух, и думать не приходилось! Между тем костер погасал, дыму не было выхода, и он наполнил собой палатку, глушил огонь и душил людей.
Они стали задыхаться в дыму. От усталости не могли подняться, не могли пошевелить рукой. Лежали и задыхались.
Илья первый почувствовал, что его сознание мрачится. Потом ему стало чудиться, что над ним склоняется лицо Елены. Он увидел, что у нее движутся губы, он понял, что она что-то ему говорит, но что? Потом ему стало казаться, что вокруг пляшут манекены Морского музея. Кажется, это тот самый кенаец, который звал его на Аляску. Но что это у него? Какое у него злое лицо! Он держит в руках погасающую головню и смотрит, смотрит на него своими горящими глазами и злобно усмехается. Потом… потом… кто-то, словно и Коскуш, стал наваливаться на него и душить, душить его!
Уильдеру представлялся пожар на судне. Он задыхается в дыму и пламени… Его слепит огонь! На него падают мачты и душат, душат его!
Вадиму представлялось, что он падает в бездну. Будто с горы катится, все быстрее, быстрее. А там, в бездне, какое-то чудовище. Кольцами своего склизкого тела оно свивает его руки и ноги, сжимает его голову. Тяжело давит ему череп, плющит его, а он все о чем-то думает. О чем? О ком?
И вдруг его гаснущее сознание, как яркой молнией, пронизывает мысль… одна мысль: Елена. И потом все обволакивается туманом. И безмолвие, тишина.
Федосеев долго боролся с угаром. Он в течение своей жизни угорал не раз в избах и в банях. Но когда стал погасать костер, в полусумраке стали затихать и наконец затихли крики его спутников, когда во весь рост встали два кенайца, они показались ему такими огромными, такими страшными… Он вскочил, схватил винтовку, но в этот момент страшный удар в голову сразу свалил его. Он потерял сознание.
Слабая Елена потеряла мужество раньше всех, но дольше всех сохранила силу жизни. Она упорнее мужчин боролась с ужасом смерти. Она сознавала, что сама гибнет и гибнут они. Но она боролась. Она кидалась то к Илье, то к Вадиму, то к Уильдеру. Она трясла их, она звала их. Она умирала от страха при виде двух кенайцев, которые сидели неподвижно, как восточные боги, и не спускали с нее глаз. Кто был страшнее? Веселый Клош-Кварт, который скалил зубы, или мрачный Коскуш с его каменным лицом? Она умоляла их о помощи, а они сидели и не вставали, — один скалил зубы, лицо другого было бездушно, как маска жестокого божества. Потом… потом… ей стало казаться, что оба кенайца стали расти, расти… Их головы вдруг начали пухнуть, превращались в огромные чудовищные шары. Руки вытягивались, как многосаженные бревна, и потянулись к ней. И ноги их стали вытягиваться. Потолок палатки уходил куда-то вниз, — и она потеряла сознание.
Неожиданное спасение
Рано утром буря стихла. Спокойное синее небо опять опрокинулось чашей над голубым снегом и «ложные» солнца — три, вместо одного, загорелись на этой чаше. Казалось, что этих солнц было не три, а трижды три!.. тридцатью тридцать! Весь воздух горел и искрился, снег сверкал миллионами алмазов, и белая тишина опять воцарилась над безмолвно-мертвой пустыней.
Но вот и жизнь! Какие-то точки быстро двигаются. Все ближе, ближе. А! Это два кенайца, Коскуш и Клош-Кварт… С ними собаки, сани. На санях сверток мехов. Они торопятся… Они кричат… Погоняют собак… Они нарушают своим криком белую тишину пустыни. Они пронеслись. А через полчаса показываются вдали еще две точки. Две маленькие живые точки. Но и они вырастают. Близятся. Бегут по снежной пустыне… — гонятся за кенайцами. Кто это? Никак Яшка впереди, сзади, припадая на хромую ногу, Тимошка? Да, это они!
— Яшка, наддай! Сил нет! — кричит Тимошка, отставая все больше и больше.
И Яшка наддает… догоняет… Припал на колено… целится. Белый дымок из ружья! Глухой далекий выстрел. Задний кенаец падает, — носом вперед, зарывается в снег. Торчат две ноги и судорожно бьются и замирают.
Другой… несется, как стрела! Бросил собак. Собаки бегут сами вслед за ним. Ужас человека передался им. Они чуют смерть за собою и с визгом несутся вслед за хозяином. Еще дымок! Еще выстрел! Мимо!
— Яшка… наддай… уйдет!.. Беда будет! — откуда-то издалека раздается хриплый крик Тимошки.
И Яшка наддал! Он нагнал кенайца, налетел на него, сбил с ног и на ходу сразу опустил ему за шиворот длинный сверкающий нож…
Опьяненный победой, еле переводя дух от усталости, Яшка вытягивается во весь свой гигантский рост и испускает звериный вопль:
— Ого, го-го! Го-го!
И точно эхо откуда-то издалека отозвался крик Тимошки:
— Ого, го-го!
Напуганные собаки встали. Их старый хозяин, веселый Клош-Кварт, лежал в снегу, а новый — гигант Яшка — стоял с окровавленным ножом в руках и ревел каким-то неслыханным звериным ревом.
Потом он бросился к саням и быстро разрезал ремни, которыми были связаны меха, и изумленный отпрянул назад… Перед ним лежала Елена, бледная, полумертвая от ужаса, бесчувственная и безмолвная…
Вдали Тимошка склонился над Коскушем, — он для верности индейцу перерезал горло, потом подбежал к Яшке.
Оба стояли над Еленой и не знали, что делать.
Стали снегом тереть виски Елене. Пришла в себя, заплакала, и слезы ее покатились по бледным щекам, замерзая чистыми ледяными жемчугами.
— Эх, ма! — тут Тимошка пустил крепкое ругательство, и столько было тоски и жалости в этих его зазорных словах, что Яшка с изумлением посмотрел на него.
Хотели уже идти обратно по следам, да Тимошка спохватился:
— А ту сволочь, он махнул рукой на тело Клош-Кварта, смотрел? Может, жив?.. Так оставлять нельзя. Еще оживет, да к своим доберется.
Действительно, Кварт еще был жив. Кровь хлестала у него изо рта. Он хрипел и захлебывался. Вскоре он умер.
Пошли по следам обратно. Добрались до сугроба, около которого возились собаки — рвали провизию. Оказалось, кенайцы перед побегом перерезали всю упряжку и выпустили собак на свободу, в расчете, что те уничтожат всю провизию. Тимошка насилу справился с собаками, спасая то, что можно было еще спасти. С помощью Яшки стал их связывать. Потом оба полезли в сугроб, где была палатка. Под тяжестью снега она провалилась и погребла всех, кто оставался внутри. Когда палатку сняли, оказалось, что все путники лежат, связанные ремнями, без сознания. Прежде всех пришел в себя Федосеев. У него вся голова была в крови — его оглушили прикладом ружья. Он один не был связан и теперь сидел на снегу бледный, злой и снегом тер окровавленный затылок и ругался, — так ругался, что даже Тимошка пришел в изумление.
Целый день провозились Тимошка и Яшка над приведением в чувства угоревших путников.
Лишь к вечеру оказались они в состоянии выслушать рассказ Тимошки. Они с Яшкой и не думали возвращаться домой. Они решили ехать горой и издали следили за путешественниками, так как кенайцам они не доверяли. Когда началась метель, они нашли на склоне горы пещеру, где и провели ночь. На рассвете они спустились вниз, беспокоясь о судьбе путешественников. Издали они заподозрили что-то неладное, увидав обоих кенайцев, которые спешно бежали обратно. Догадавшись, в чем дело, охотники погнались за кенайцами — вот и вся история.
— Теперь уж их семь человек ухлопано, — сказал мрачно Тимошка, — теперь уж не попадайся в ихние лапы!
С провизией дело обстояло совсем плохо. Только то, что хотели увезти кенайцы, то и сохранилось — остальное все попорчено собаками. Путникам грозил голод.
Последние усилия
— Ну что ж, придется собачины поесть, — сказал Тимошка, — авось как-нибудь доберемся. Тут, конечно, пути дня три-четыре. Ну, да мы проползем больше недели!
Действительно, «ползли» еле-еле. Молчали. Не только на остановках, а просто на ходу валились от усталости в снег. Лежали, словно мертвые, и подымались со стонами. Ноги были изранены лыжами… Раны не заживали и с каждым днем делались все болезненнее. Со слезами на глазах, с проклятиями на устах надевали по утрам ненавистные лыжи. Пробовали идти в одних торбасах, но рыхлый снег не держал — проваливались по пояс! Выбираясь из этих ям, теряли последние силы. Тимошка был мрачнее тучи. Яшка больше не шутил. Елена по-прежнему была морально сильнее своих товарищей. Она мужественно скрывала свои страдания и даже старалась ободрить мужчин. Слабее всех оказался Илья. После кошмарной ночи, когда он чуть-чуть не лишился жизни и Елены, он чувствовал какое-то психическое угнетение, — у него начались даже какие-то странные галлюцинации: когда в эти морозные ночи небо дрожало звездами, ему все чудилось, что эти звезды падают одна за другой…
К тому же он стал кашлять… Морозный сухой воздух сжигал ему верхушки легких… У него появился жар. К Елене и ко всем своим товарищам Илья как-то вдруг охладел, — словно от всех стал отходить. Это испугало Елену. К тому же он ослабел до того, что не мог идти. Пришлось положить его в сани.
Вадим был измучен до последней степени, но еще имел силы ухаживать и за Ильей и за Еленой. Он верил, что скоро все муки окончатся и все будут благополучно.
Уильдер был мрачен, — он больше всего был взбешен тем, что какие-то кенайцы-скоты осмелились связать его, Уильдера, и чуть было не отправили его на тот свет. Кенайцы в его лице нажили беспощадного врага.
Каждый день Тимошка резал по собаке, выбирая самую слабую, и с отвращением жевали путники сухое жилистое собачье мясо. Зато с какой жадностью накидывались собаки на все, что оставалось на их долю… Собаки голодали, худели, слабели на глазах и делались все злее и злее. Еще несколько дней пути, — и они бы стали бросаться друг на друга, а потом набросились и на путников.
…Наконец, как-то утром западный ветер принес в пустыню дыхание моря. Моряки сразу уловили этот своеобразный, хорошо им знакомый аромат. Все оживились.
— Морем запахло! Славно! — сказал Илья, вдыхая больными легкими мягкий, влажный воздух.
— Ну, теперь скоро, — сказал Тимошка.
На другой день пейзаж изменился: показались рощи, перелески, потом потянулся настоящий хвойный лес, и вдруг, неожиданно для себя, путники очутились у обрыва. Перед их глазами раскрылось необъятное море, черное и мрачное, в рамке снегов и серого, низкого неба.
— Море! Море! — закричали все.
Внизу, правее от путников, виднелся какой-то поселок, а на рейде залива на якоре стояла шхуна. Море замерзло только у берегов, а далее плавали отдельные льдины, гонимые ветром.
— Ну, вот… спутайтесь вниз, а уж мы с Яшкой теперь домой! Торопиться надо, а то кенайцы узнают, что мы семерых укокошили. Плохо и нам будет, — сказал Тимошка.
Распростились на этот раз окончательно и трогательно. И Тимошку, и Яшку все путники облобызали.
Спустились вниз. Поселок оказался русским, но был дочиста разграблен кенайцами, очевидно под руководством тех же «американов». Появление экспедиции произвело сенсацию: кенайцы обступили путников, но грозный вид Уильдера и его энергичная английская речь привели к тому, что путников не тронули, а повели в избу, занятую американскими агентами. Во главе их стоял какой-то Чарлз Нойс, для которого пиковый валет Уильдера оказался ключом, отпирающим замки самой хитрой американской конструкции. Кроме того, Уильдер вручил ему письмо от американца из того кенайского поселка, от которого путники ехали на собаках. Нойс прочел письмо, и на его деревянном бритом лице выразилось удивление.
— Позвольте, мистер Уильдер, — сказал он, вертя в руках письмо, — оказывается, судя по письму, вы — пленник русских? О н и привели в а с? Признаюсь, я думал обратное: я полагал, что в ы их привели, что о н и в плену у в а с? Вот недоразумение! Гм! Не желаете ли, я несколько изменю роли? Давайте будем считать не вас их пленником, а их вашими Гм… Это так просто! — Удивление Нойса не имело пределов, когда Уильдер отказался от такой перемены ролей.
— Вы отказываетесь? Вот странно! Какой вы… оригинал, мистер Уильдер!.. А то подумайте еще? На днях мы на шхуне отправляем больше сотни этих русских медведей, которые непрошенными залезли к нам в нашу Америку. Пора их всех вымести отсюда.
— Но куда же вы их отправляете? — спросил Уильдер.
— Пока на остров Шарлотты. Там концентрационный лагерь, а потом куда — не знаю. Давайте прибавим к их числу и ваших четверых? А?
Уильдер отказался еще раз, сказав, что отпущен «на честное слово», и что экспедиция прибыла с «особой целью».
— Ну, как хотите, ваше дело, — сказал недовольно Нойс.
Через несколько дней легкая шхуна «Стар» скользила по черной воде Кенайского залива, осторожно обходя встречные острова и плавающие льдины, занесенные сюда из Берингова моря.
На палубе шхуны было больше сотни «русских медведей» с их женами и детьми. Это все были или жители разных русских поселков, или солдаты из редутов и фортов, рассеянных вблизи американских границ. Они сидели мрачные и злые, сбившись в кучу, страдая от холода и голода. Некоторые были ранены.
Елена ходила к шкиперу шхуны с просьбой накормить пленников, хотя бы детей. Старый морской волк и разговаривать с ней не пожелал. Но стоило с этой же просьбой подойти Уильдеру, как шкипер вдруг переродился. Он выпучил глаза, расставил ноги и некоторое время всматривался в Уильдера, потом вдруг воскликнул:
— Капитан Уильдер!?. Вы ли это?
Оказался бывшим подчиненным Уильдера, — плавал когда-то на «Коршуне».
Просьба Уильдера для него оказалась равносильной приказанию, и пленники были откормлены до отвала. Для защиты от холодного ветра им дали парус, которым и накрыли всю эту кучу полузамерзших, измученных людей.
Шкипер увел Уильдера к себе в каюту. После нескольких минут разговора каюта его была предоставлена в распоряжение Ильи и Елены.
На острове Шарлотты дело уладилось как нельзя лучше. Оказывается, здесь уже был получен из Нью-Йорка приказ отправить всех пленных русских в форт Михаила. Конечно, это распоряжение касалось тех пленных, которые были захвачены недавно, в последние две недели, но Уильдер, вероятно не без помощи своего пикового валета, сумел убедить начальство форта, что приказ распространяется на всех русских пленных. Так в число освобождаемых попал и отец Елены.
Начальник форта, человек новый, даже не знал, за что сидит в каземате этот русский старик, — сидит уже пять лет, мрачный и одичавший. В указанные часы бродит он по двору под надзором часовых и от безделья стареет, угнетаемый какими-то навязчивыми идеями.
Надо сознаться, что свидание отца с дочерью не было особенно трогательным. Отец попросту не узнал дочери. Еще бы! Оставил ее девчонкой, с детскими расплывчатыми неопределившимися чертами лица, — несуразную и костлявую Ленку, а теперь встретил прекрасную молодую женщину, с лицом строгим и грустным. С трудом вспомнил он и Илью, — гаванского мальчишку; вспомнил, что как-то уши ему надрал, а за что — вспомнить не мог.
К безделью казематной жизни он за пять лет привык, сдружился с разными капралами и сержантами — выше этого в выборе друзей не пошел, потому огрубел, опустился и состарился. От него пахло плохим табаком и спиртом.
К свободе отнесся сначала довольно безразлично, но все же понял, что в жизни его начался перелом и потому встряхнулся: постригся, побрился, оделся «по-господски» и постарался стать на «офицерскую ногу».
Уильдер сердечно распрощался со своими русскими друзьями, — он крепко жал руку Илье, уверял, что уважает его, как настоящего «джентльмена». Елене несколько раз поцеловал руку, «на память» вручил ей перстень с крупным изумрудом и при этом прибавил, что эта вещь не «благоприобретенная», а «родовая». Теплее всего простился Уильдер с Вадимом — долго убеждал его бросить русскую службу и поселиться в Америке навсегда. Но Вадим отказался от всех этих предложений, — теперь он предпочел оставаться матросом, вестовым мичмана Маклецова, потому что он любил Илью, а главное — всем сердцем привязался к Елене, прекрасной и мужественной женщине с чутким кристальным сердцем.
— Ну, делать нечего, прощайте! — сказал Уильдер. Оба стали жать друг другу руки и обнялись на прощание. Вспомнили последний раз Байрона и продекламировали что-то подходящее случаю: стихи о вечной разлуке двух друзей и о той пустоте, которая навсегда останется в осиротелых сердцах.
Во льдах
Павел Ефимович на шхуне сошелся особенно с Федосеевым. Они встречались и раньше. К тому же у них оказались общие знакомые в Охотске и в Петропавловске и общие вкусы, — ром и табак.
На море Илья оживился и ободрился. Но кашель по-прежнему мучил его. Он опять сблизился с Еленой и Вадимом, но все же какой-то холодок остался между ними. Этот холодок пугал Елену, а грусть, которая постоянно светилась в глазах Ильи, переполняла ее сердце тоской. Несколько раз она замечала, как этот грустный взгляд медленно переходил с нее на Вадима и с Вадима на нее. И в такие минуты непонятное ей самой волнение заливало краской ее бледное лицо. Она смутно сознавала, что в голове больного мужа зародилась какая-то мысль, тревожная и его мучащая. И эта мысль растет, пускает корни в его сознание. И с этой мыслью он не борется, — не может или не хочет бороться.
Однажды за стаканом рома Павел Ефимович рассказал Илье свою историю. В общем она совпадала с тем, что рассказал Илье Тимошка. Оказалось, Павел Ефимович участвовал в нескольких экспедициях в глубь Аляски и нашел речку очень золотоносную.
— Не по песку течет, анафема, а по чистому золоту! — говорил, оживляясь старик. О находке своей имел глупость рассказать своему командиру, но где речка, это он не сказал — утаил. Командир донес американцам (кажись, у них на службе состоял). Вот его американцы и захватили и все выпытывали, где он нашел золото. А главное, боялись, чтобы он не донес о своей находке высшему русскому начальству. Русские-де дураки, думают, что на Аляске только бобры да соболя, а там вон что! Узнают, что на Аляске есть золото — и не вырвешь у них Аляски, — зацепятся!
— Да ты, зятек, не бойся, — сказал старик, подмигивая, — хоть ту реку я и позабыл. (Скрали у меня план-то!) Да у меня с пуд золота зарыто в лесу у Михайловского редута. В лесу схоронил. Авось найдем — все вам отдам. Мне к чему? Не к чему!
— Да мы знаем, где ваша река, — сказал с улыбкой Илья, достал из бумажника конверт, а из него тот план, который он восстановил при помощи Кузьмича.
— Вот посмотрите, — сказал Илья и протянул тестю записку.
Тот выхватил бумагу из рук Ильи, быстро пробежал глазами и остолбенел.
— Откуда… у тебя?.. Как ты узнал?
Старик от радости словно лишился рассудка. На него было страшно смотреть. Золотая лихорадка трясла его. Выцветшие глаза его горели огнем алчности… Забытая идея вдруг воскресла в его голове с новой силой. Он стал допытываться, каким образом утерянная тайна оказалась в руках Ильи. Илья рассказал ему историю его сундука, рассказал об ежегодном пособии, которое получала его жена от Неведомских.
Фамилия эта привела старика в бешенство.
— А! — закричал он, — совесть, подлеца, замучила! Продал меня, Иуда проклятый! Обокрал! Верно и то, что я в лесу зарыл, он выкрал. Дуррак я несчастный! — и старик стал колотить себя кулаками по голове. И слезы градом катились по его щекам. Насилу Илья и Елена успокоили его.
Он притих и теперь стал мечтать о том, как поедет с Ильей на ту реку, которая одному ему известна.
— Ладно, — говорил он, — ладно, черт с ним, что тай пуд! Я тебе дам тысячу пудов! Я озолочу тебя!
С этого несчастного дня характер старика резко изменился, — он вдруг замкнулся в себе, замолчал, даже с Ильей и Еленой о золоте больше не говорил. Смотрел на них волком исподлобья.
— Обкрадут! Все себе возьмут! А я опять ни с чем — ворчал он. И с Федосеевым дружба его пошла врозь. На шхуне он прятался в уголки, доставал свою записку и, если никого не было вблизи, начинал перечитывать ее, озираясь по сторонам и бормоча что-то про себя.
Нортоновский залив был забит льдом. Словно все северные льды стремились залезть именно в этот злосчастный уголок материка. Льдины лезли одна на другую, спирались, шли стоймя, вертикально — видно было, что море более чем на версту от берега было завалено льдом.
— Эти ослы русские, — ворчал шкипер шхуны «Стар» — выбрали для гавани такой залив, который ни к черту не годится. Вон у нашего острова Шарлотты море чистое. Не скоро и замерзнет, а здесь что делается!
Вдали среди льдов, почти у берега, видно было какое-то судно. Оно было затерто льдами и лежало почти набоку. Не то «Алеут», не то «Камчадал» — разобрать издали было трудно: похожи были обе шхуны одна на другую, как два близнеца.
— Что-то с «Дианой»? — беспокоились и Илья и Вадим.
Шкипер «Стара» высадил своих пассажиров на остров Стюарт — дальше идти было невозможно — и немедля снялся с якоря, поднял паруса и ушел в открытое море, подальше от ледяных гор, которые все ползли и ползли с севера в проклятый Нортоновский залив. От острова Стюарта до редута море представляло собою хаос ледяных глыб, застывших в самых причудливых положениях. Вот почему небольшой пролив в несколько верст пришлось идти целые сутки. Измученные люди без топоров, без ломов, чуть не голыми руками прокладывали себе дорогу среди многосаженных ледяных глыб, стоящих на дыбах, висящих над головами путников. Наконец продрались до редута. Явились… не на радость себе, не на радость и тем, кто там в редуте сидел. Там уже начинался голод. А тут прибавилось еще более ста человек.
Расчет «американов» оказался правильным. Они знали, что в Михайловском редуте должны зимовать до трехсот человек команды «Дианы». Они знали, что обычный гарнизон редута 20 — 30 человек всегда под конец зимы уже чувствует недостаток в провианте. Теперь там будут зимовать не 30, а 330 человек. И к этому числу они подбавили еще более ста.
Придумано было жестоко, но по-американски остроумно. С одной стороны, они оказали некоторую любезность — «выпустили на свободу» всех пленных, этим снимали с себя обязанность кормить больше сотни человек, с другой стороны, они этих «освобожденных» обрекали на муки голода и холода. Этим усложняли действия русского управления Аляски и, быть может, обрекали на гибель целый состав опытных охотников, знающих край.
В Михайловском редуте, за месяц отсутствия Ильи, произошло много событий.
Сначала ремонт «Дианы» производился все так же энергично и днем и ночью. Барон решительно восставал против этого решения. Он говорил о том, что это затея «безумная» и убеждал офицеров, что надо скорее идти в Сан-Франциско. Вестовой барона, чухонец Карл Куокалла на ломаном русском языке говорил то же самое матросам. Он уверял их, что если экипаж «Дианы» доберется до С.-Франциско, американцы отправят всех на родину. И матросы собирались в кучки, шептались, ругали командира и мечтали вслух — кто о родной Туле, кто о Калуге. Если одни еще и работали, то образовалась группа таких, которые решительно отказались от всякой работы.
Разговоры барона дошли до командира. Он имел с бароном объяснение с глазу на глаз. Барон держался нагло и, в конце концов, довел командира до того, что тот не выдержал и бросил ему в лицо зловещие слова: «пиковый валет».
Барон вздрогнул, побледнел, сжал кулаки, но быстро овладел собою и прошипел сквозь зубы:
— Что значит это выражение, я не знаю… но судя по вашему тону, оно в ваших устах звучит оскорблением. Позднее, господин командир, я по этому поводу возобновлю беседу с вами, но конечно при условиях, более для меня удобных, — и небрежно повернувшись спиной, барон вышел из капитанской каюты.
Зимовка «Дианы»
И вот ударила зима с морозами, с вьюгами. Спасая корпус «Дианы» от зажима льдов, стали из бревен строить ледорезы, возводить целые заборы. Работали чуть не по горло в ледяной воде. А лед все лез и лез. И днем и ночью раздавались словно выстрелы из гигантских пушек. Это ломался лед, теснимый новыми льдинами. Скоро стали выгибаться и рушиться эти ледорезы и ограждения. Наконец, лед добрался до «Дианы», выпер ее из воды и вынес почти на берег.
Положение получилось катастрофическое. Барон ликовал. Матросы роптали вслух. На командире не было лица. Пришлось теперь заботиться о зимовке. На берегу стали строить бараки. Ремонт «Дианы» был отложен до весны, но старые матросы сомневались, что можно спасти фрегат. В щели и пазы его корпуса забралась вода, от холода она замерзнет и начнет рвать корпус корабля.
Как только Павел Ефимыч ступил на землю, он бросился искать свой клад — и не находил! До поздней ночи путался он по берегу и возвращался бледный, измученный, с безумными глазами.
— Завтра, завтра, найду! — бормотал он. Но и завтра и послезавтра все его поиски оказывались тщетными: где пять лет назад росли кустики, там теперь стояли деревья. Где были деревья, там он увидел пни. Появились какие-то ручейки, которым на том месте быть не полагалось.
Старик скоро обратил на себя общее внимание. Он разговаривал сам с собой вслух о золоте… все о золоте. Ни Елена, ни Илья не могли с ним сладить. Он опять зарос сивым волосом, одичал… Пропадал по целым дням в лесной чаще.
Бегство
Особенно заинтересовался стариком вестовой барона; он сумел обойти безумного старика, как-то с ним сблизился, подпоил его, узнал от него его тайну и выкрал его заветную бумажку.
Он принес ее барону, но ее не отдал, а только показал. И долго шептались они вдвоем. Теперь в голове барона созрел план бегства: снежной пустыней до реки Маккензи, к английским границам — по реке. Там много английских факторий, оттуда легко добраться до Нью-Йорка, где можно продать драгоценную бумажку старого Мишурина «пиковым тузам» и «королям». Конечно, ставилась на карту вся карьера, ставилось «честное» баронское имя. Но ведь отец сказал, что все средства хороши, если ведут к материальному возвеличиванию обедневшего баронского рода. И перед алчными глазами барона фон Фрейшютца засверкали горы золота. Горы! Если не помогут связи, можно будет остаться в Америке… Конечно, он поделится по-братски со своим верным вестовым. Отныне все п о п о л а м — и горе и радость! Пусть Карл не беспокоится. Ч е с т н о е с л о в о б а р о н а. И Карл Куоккалла взялся за приготовление к бегству. В ближайшем туземном поселке он закупил собак, сани, заготовил провизию. Барон изучил карту Аляски и наметил пункты, где можно было достать свежих собак и запасы провизии. Надо было ехать морским берегом до реки Квихпак, затем по замерзшей реке до форта Нулато, оттуда на восток до форта Юконы, а там уже недалеко и до английской границы.
Бегство было ускорено одним происшествием — ссорой с графом Потатуевым, которая кончилась трагической смертью графа. И ссора-то была вызвана причиной совершенно неожиданной — флиртом с дочерью коменданта, очаровательной дикаркой Юлкой.
За Юлкой ухаживали все. Домик коменданта превратился в какой-то клуб, всегда по вечерам битком набитый. Конечно, компания была исключительно офицерская. Сюда, в этот гостеприимный домик, гости несли с собою и вино, и ликер, и консервы, и бисквиты. Тем не менее в какие-нибудь две недели все годовые запасы комендантши были уничтожены дотла: съедены были моченая брусника и морошка, прикончены были соленые грибы… Старик комендант и его супруга сбились с ног от такого обилия гостей. Их тихая патриархальная жизнь была поставлена на дыбы и потом перевернулась вверх ногами. Но зато Юлка была счастлива! За нею ухаживали все, все тащили ей подарки… И многое из того, что покупалось для петербургских девиц и дам, попало в скромную комнатку Юлки. От изысканных комплиментов у нее кружилась голова.
До прихода «Дианы» Юлка была неравнодушна к Яшке Супоньке. Теперь веселая рожа Яшки, к тому же отсутствующего, стала меркнуть в ее памяти. Теперь изящный граф Потатуев пожимал ей руку выше локтя и в ее раскрасневшееся ушко шептал ей сладкие и лукавые речи. Чем дальше, тем больше ярился молодой граф. Юлка попробовала как-то за его вольности хлопнуть его по щеке, правда, не с такой силой, с какою обычно хлопала Яшку. Но сошло, — граф безропотно вынес это дикое кокетство.
Сперва барон зло потешался над странным увлечением графа, а потом вдруг стал сам цепляться за Юлку. Она и его треснула и уже со злобой — гораздо больнее, чем графа. Из-за этого произошла ссора между друзьями. Ссориться вообще все стали из-за мелочей, вероятно, от скуки, от нервов.
Барон предложил дуэль без свидетелей. Оба должны были явиться в назначенное место, с заготовленными заранее записками одинакового содержания: «в смерти моей прошу никого не винить». И в результате этой дуэли «без свидетелей» граф был найден с простреленной головой… Медицинский осмотр показал, что рана графу была нанесена на расстоянии, и пуля была не пистолетная, а р у ж е й н а я. Высказано было предположение, что граф не сам покончил с собой, а что с ним покончили.
Знали о столкновении барона с графом и стали подозревать в убийстве барона. Группа офицеров потребовала над ним суда.
И вот накануне этого суда барон и его вестовой скрылись, но удивительнее всего, что и с ч е з л а и Юлка.
Это было тем более удивительно, что она не выносила барона (это все знали).
Значит Юлка или убита, или, что правдоподобнее — увезена.
— Юлка увезена силою? Юлка?!. Быть не может. Не такая она девушка. На медведя одна пойдет!
Но где же она? Что с нею?
Комендант и комендантша потеряли голову. Была послана погоня в разные концы. Кто не нашел следов, тот вернулся в редут ни с чем, а Фома Ползунков и Ванька Медведев совсем не вернулись. Исчезли.
Когда Павел Ефимович протрезвился и не нашел у себя своей записки, он в припадке безумия убежал из редута. Через несколько дней нашли его замерзшим. У Елены не нашлось слез оплакать своего несчастного отца — слишком чужим оказался он для нее. К тому же она была поглощена другим горем: Илья угасал на глазах, — у него воспаление легких перешло в чахотку. Мороз резал его больные легкие, — ему трудно было дышать этим разреженным, колючим воздухом.
Яшка на верном следу
Дня через три после бегства барона появились в редуте Тимошка и Яшка Супонька. С ними явился Кораблев, который действительно оказался невредим. Обороняясь, он убил «Вельсу» и скрывался в каких-то тайниках, в скалах реки Квихпак, пробираясь в Михайловский порт.
Узнав о таинственном исчезновении Юлки, Яшка один, с восьмеркой собак сейчас же ринулся в погоню за похитителем его невесты. Почему он Юлку считал своей невестой, это, по-видимому, знал он один, да может быть еще Юлка.
Он почти без отдыха летел на восток. Путь на юг им был только что сделан туда и обратно, на север ехать барону не было смысла; оставался один путь — на восток, как раз тот, по которому пошли Фома Ползунков и Ванька Медведев, не вернувшиеся обратно. Путь на восток к реке Маккензи, к английским владениям.
Он скоро убедился, что не ошибся, избрав это направление: он нашел следы бежавших. Да! Несомненно, это были они! Их было трое — двое мужчин и одна женщина. По-видимому, кто-то из беглецов старался оставить после себя следы: на ветвях деревьев Яшка в разных местах находил куски какой-то розовой материи… Некоторые ветки были недавно надломлены. На одном кусте он нашел клочок бумажки, и на нем кое-как было нацарапано: «Спасите, кто в бога верует. Везут к форту Юконы. Юлка».
Яшка плохо читал, да и то по печатному, и потому каракули его «невесты» им не были разобраны. Он повертел бумагу в руках и с тяжелым вздохом спрятал ее в подкладку своей шапки.
Мучимый звериной злостью, обуянный нечеловеческой жаждой мести, Яшка не знал сна, не знал отдыха. Он мчался все на восток и смотрел все вперед и вперед, томясь ожиданием, надеждой, что вот-вот увидит там, в туманной дали, три убегающие точки. Он ложился на несколько часов, и то иногда разгонял свой тяжелый сон, вскакивал и впивался в ночную тьму своими орлиными глазами, выискивая хоть искру огня там впереди.
Когда он находил место стоянки или ночлега беглецов, он с жадностью бросался к остаткам костра, копался в обгорелых сучьях, вышаривал все вокруг.
С искусством лучшего сыщика он определял, что ели, что пили те, к кому с неудержимой силой влекла его жажда мести. Он определял, сколько у них еще осталось провизии, что у них на исходе, что кончилось. Так он убедился, что кофе у них уже вышло — пьют кипяток. Потом кончились сухари. Ром еще есть. Через два дня кончилась провизия; зарезали собаку. По следам беглецов он определял степень их утомления. Остались два мужских следа. Но зато полозья саней стали глубже врезаться в снег. А! Это Юлку везут на санях — не может идти! — врезалась в его мозг острым ножом мучительная мысль.
Так следы рассказывали Яшке нарастание смертельной драмы. Он видел, что собаки барона, еще оставшиеся в живых, ослабели и еле тащили сани. На одном месте Яшка увидел следы борьбы, — куски разорванной кухлянки, кровь… Дрались ли это люди за кусок собачины? Или это люди защищались от голодных, остервенелых псов?
А собак осталось только две! Ого! И худой, полубезумный с горящими, как у волка, глазами, задыхаясь от усталости, Яшка все летел по свежим следам, без пощады погоняя своих измученных собак (их у него осталось тоже только две).
Наконец силы стали оставлять Яшку. Он уже не мог больше гнаться — выдохся! Стало перехватывать дыхание. Пошел шагом. Остановился.
Тук, тук, тук. Стучало что-то не ровно, но громко. Это утомленное сердце билось в яшкиной груди.
Но что это? Собаки вдруг насторожились, стали нюхать воздух, завыли… Что там? Вдали словно изба? Яшка собрал последние силы и пополз — идти не мог!
Да! Изба! Яшка рванул дверь. Вошел и в ужасе отшатнулся. На полу лежали человеческие кости. Возле костей какое-то мохнатое существо… Грызет их, испуская стоны! Что это?..
Медведь? Яшка дрожащей рукой схватился за ружье! Но «медведь» поднял голову, повернул ее к Яшке. Человек в кухлянке! Но что за ужасное лицо! Обмороженные щеки покрыты кровоточащими ранами. В глазах ярость издыхающего зверя, страх и страдание! Увидя Яшку, человек бросился на кости и со стоном навалился на них — видимо боялся, что вошедший отнимет.
Яшка сделал шаг назад.
— Постой! — вдруг захрипел лежавший, — не уходи! убей меня! Умираю… меня ранили. Сюда, — и человек сделал слабое движение рукой, показывая на живот. — Он… меня смертельно ранил. Две пули в живот и бросил…
Опять словно сверкающий нож резанул мозги Яшки — он понял, что пред ним один из беглецов. Но кто? — Яшка не мог догадаться.
И чьи это кости?.. Волосы на голове его зашевелились… Он боялся своих мыслей…
— Кто ты? — спросил он дрожащим голосом.
— Вестовой барона, Карл Куокколла, — прохрипел лежавший, — мы убили ее…
— Кого?! — выкрикнул Яшка.
— Девушку… Юлку… Он не хотел убивать последних собак и убил ее, а мясо взял с собой… оставил ее кости…
Яшка почувствовал, что сходит с ума.
— Убей меня, — стонал лежавший, — он ранил меня в живот, и росил… он отнял у меня мою бумагу… лан… Убей его… он еле идет… Ты догонишь. Он ушел чера… утром. Он думал, что убил меня… и усол. Мотри… там на окоске… бумага. Я ее написал.
На окне действительно лежал лист бумаги, на котором что-то было написано. Внизу стояла подпись: Карл Куокколла…
Яшка схватил бумагу, засунул ее туда же, куда и записку Юлки, и кинулся к дверям…
Но едва он раскрыл двери, в лицо ему ударила метель. И Яшка сразу почувствовал, что сил у него больше нет. Все следы были заметены. Куда идти?
Он вернулся в избу, взяв с собой собак. Как только голодные собаки попали в избу, они кинулись на чухонца и стали рвать его. С большим трудом Яшка оттащил собак и связал их. В бешенстве они кусали ему руки, кусали одна другую, выли, рычали.
Потом Яшка оттащил от костей и чухонца.
Он бредил и по-чухонски и по-русски. Обрывки каких-то воспоминаний, непонятных Яшке… Какой-то вихрь картин и образов. Какая-то Минна… Проклятия барону… Страшные копченые головы… Юлка… Юлка…
Яшка жил и действовал, как автомат, словно в бреду, — в каком-то диком полусне. Он уложил в сани кости Юлки, покрыл их оленьей кожей. Запряг собак. Они были сыты и ласково махали хвостами и повизгивали.
Одна мысль, только одна мысль теперь сидела гвоздем в голове Яшки: «догнать барона!»
Но буран замел все следы. Ровный девственный снег лежал кругом. Куда ехать? Яшка об этом теперь не думал. Вперед, все вперед! На восток! Все на восток!
Он добрался до реки Маккензи, переехал по льду на другой берег. Куда же дальше? Он ничего не понимал. Стоял и не понимал — голова больше не работала. И его собаки сами повернули на юг, — побежали вдоль берегов Маккензи, привезли его в Британскую факторию. Там его приняли за безумного. Да он таким и был. Он был окончательно сломлен всем пережитым. Твердил только одно слово: «барон»… «барон». И никто не понимал его. В санях у него оказался человеческий скелет без головы и куски человеческого мяса. Что это? Откуда он сам? Кто он, этот таинственный пришелец?
Яшка заболел горячкой и больше месяца провалялся без сознания в английской фактории. Когда он встал, он не узнал себя в зеркале. Он был худ, как щепка, и был сед, как старик.
Однако через неделю он уже пустился в обратный путь. Теперь им владела другая мысль: доставить две записки в Михайловский редут. И он доставил их. Вместо здорового богатыря и весельчака Яшки Сапоньки явился в крепость седой старик с полузатуманенным сознанием. Его приютил у себя на кухне старый комендант.
Барон в Нью-Йорке
А барон? Немецкая выносливость, а также мясо Юлки спасли его. Ураган захватил его уже недалеко от Британской фактории. Ураган сбил его с ног, насыпал над ним сугроб снега, спел над ним свои погребальные песни. Но собаки выручили барона: своим воем они обратили внимание каких-то охотников, которые возвращались с охоты. Барона откопали, привезли в факторию и привели в чувство.
И как только он понял, что спасен, что он на территории Великобритании, он напряг все свои последние силы, встал на свои замороженные ноги и с чувством необыкновенного достоинства отрекомендовался: «Барон фон Фрейшютц, офицер российского императорского флота». Он говорил на прекрасном английском языке и держался с таким достоинством, что полудикие охотники фактории прониклись к нему уважением.
Барон добрался до Нью-Йорка со всеми возможными удобствами и довез свой драгоценный груз: записку о золотоносной реке, копченые головы с Соломоновых островов и замороженную голову Юлки. Здесь, в Нью-Йорке, лучшие врачи лечили его, а один из препараторов анатомического музея чудесно препарировал голову Юлки! Она превратилась в блестящий череп, словно выточенный из слоновой кости. Правда, от него пахло какими-то едкими специями. Длинные черные косы Юлки были бережно свернуты и аккуратно уложены в конверт.
«Пиковые тузы» и «короли» любезно приняли барона, заветная записка Павла Ефимыча была ими щедро оплачена. Барон был хорошо принят в мире нью-йоркских финансистов.
В Россию возвращаться он не хотел, но «тузы» и «короли» убедили его, что все его служебные недоразумения будут улажены и что в «интересах дела» он нужнее именно в России, чем в Нью-Йорке.
Приказ из Санкт-Петербурга
Между тем на Аляске зима завернула крутая. Термометр давно уже стоял на 40° ниже нуля. Закрутили вьюги. Дни становились все короче. Припасы кончались. Пришлось уменьшить порции.
Ужас подкрадывался к тем, кто предвидел недалекое будущее. Безумие заволакивало сознание тех, кто изнемогал в борьбе с муками черной тоски. Появились признаки цинги.
Однажды далекий пушечный выстрел с моря возвестил прибытие судна, которое очевидно из-за льдов не могло подойти ближе. Отправились на остров Стюарт и увидели «Алеута», который остановился верстах в трех от острова. Устроили сообщение с ним по льду. Оказалось, «Алеут» привез еще провизии — солонины, капусты, сухарей, муки и крупы, а, главное, ответ на то донесение, которое послано было в Петербург с князем Чибисовым и с отцом Спиридонием.
Ответ заключал в себе новый приказ, который был глуп до последних пределов… Но… иногда и глупость бывает полезной. Так оказалось по крайней мере в данном случае.
В приказе было предписано командиру «Дианы», ввиду неизбежной зимовки в Нортонском заливе, использовать зиму на распространение границ владений российской империи в глубь материка и к югу по берегу океана. «Для сего, — значилось в приказе, — на всех пунктах, имеющих военное и торговое значение, исправить и усилить имеющиеся фортеции и редуты, а, буде оных не окажется, таковые в нужных местах устроить. В оные фортеции на гарнизонную службу распределить экипаж фрегата „Диана“. Весной на смену сему экипажу будет выслана новая команда. Тогда же будут доставлены и орудия для сих фортеций».
Приказ никак не учитывал ни тех событий, которые произошли на Аляске (уничтожение почти всех русских фортов и выселение из них гарнизонов), ни условий полярного климата (постройка новых редутов при 40° мороза, в абсолютной темноте полярной ночи).
Приказ был зачитан и встречен гробовым молчанием. Но его приходилось выполнять если не в полной мере, то хоть частично.
И оказалось, что выполнение этого приказа дало работу четырем сотням бездействующих и озлобленных людей, а главное, — рассеивало эту массу по разным пунктам побережья, что облегчало организацию питания. Особые охотничьи команды должны были взять на себя прокорм этих отдельных небольших гарнизонов. Новых фортеций решено было не строить и границ не расширять, но вернуть те, которые отняты были восставшими кенайцами. Для этого постановлено было организовать зимний поход, главным образом, на юг, к Кенайскому заливу, который оказался во всех отношениях для зимовки судов удобнее Нортоновского.
Решение возвратить гарнизоны в их старые гнезда воодушевило всех выселенных, — они возгорелись жаждой реванша. Матросы тоже рьяно взялись за организацию похода, тем более, что командир заявил, что в поход пойдут только «добровольцы». Таких «добровольцев» оказалось большинство.
К «походу» приготовились и провели его удачно. В результате все побережье к югу до 55° широты оказалось в руках русских.
«Американы» вдруг куда-то скрылись, а кенайцы и другие туземцы были или вырезаны или разбежались в глубь материка. Лишь немногие туземцы, сумевшие вовремя покориться, уцелели в своих поселках.
Так лукавый Уг-Глок, потрясая орлиными перьями, говорил начальнику русского отряда приветственную речь и закончил ее такой эффектной фразой:
— Русс… карос!.. Русс… ууу! — сжатием кулака он показал мощь русского оружия — Русс… орел… два голова, — он показал два пальца и стиснул себя по голове. Уу! америкен дурак… Америкен орел… один голова, — он выставил один палец и опять стукнул себя по голове и при этом выразил презрение на своей размалеванной роже. — Америкен… тьфу!
И энергично харкнув в сторону воображаемого «дурака-америкена», хитрый Уг-Глок стал усердно креститься на начальника карательной экспедиции.
Так была восстановлена на Аляске честь русского флага, но Российско-Американская компания от этого мало выиграла. Туземцы, напуганные походом, надолго перестали таскать меха в русские фактории, и торговля мехами через перекупщиков перешла почти всецело в руки коварных «американов».
Когда весной приплыл на Аляску начальник колонии, он только руками всплеснул при виде того, что тут натворил без него энергичный командир «Дианы» со своей командой. Сейчас же он настрочил в Петербург подробнейшее донесение, кому следует, с жалобой на командира. Он указывал, что военные операции совершенно подорвали торговлю, раздражили американцев… он предупреждал, что надо или коренным образом изменить всю русскую политику на полуострове, или ждать в недалеком будущем всяческих неприятностей и осложнений.
В присутствии командира он вел себя тише воды, ниже травы и «пикового валета» ему уже не показывал.
Со своей стороны, донесение о всем происшедшем на Аляске командир решил послать с «Алеутом» на Сан-Франциско. Гонцами он выбрал Илью и Вадима. Они должны были из Сан-Франциско пересечь весь материк Северной Америки и из Нью-Йорка плыть в Европу на почтовом пакетботе.
Илью выбрал командир потому, что его надо было отправить на нэп доктор грозил самыми мрачными последствиями, если больной останется до конца зимы на севере.
— Если Илья Андреевич по болезни принужден будет остановиться в пути, вы обязаны будете доставить донесение самостоятельно в Санкт-Петербург, — сказал командир Вадиму. — В этом донесении есть и моя просьба о возвращении вам офицерского звания. Я вас рекомендовал с наилучшей стороны.
Вадим поклонился.
«Алеут» с трудом пробился сквозь льды, вышел в открытое море и через неделю он входил уже в гавань Сан-Франциско.
У тихой пристани
Хотя был ноябрь, и погода стояла переменная, воздух в Сан-Франциско показался всем благодатным. Русский консул приютил Илью и Елену у себя на вилле. По совету местных врачей Илья решил остаться здесь до весны, тем более, что через месяц Елена должна была стать матерью.
В Санкт-Петербург поехал один Вадим.
Расставание было грустное.
Илья долго держал за руку Вадима, долго смотрел печальными глазами в глаза другу и, наконец, сказал:
— Вадим, я не жилец на свете! Прощай и исполни мою последнюю просьбу: побереги Елену и нашего ребенка. Будь ему отцом!
Вадим крепко обнял его и поцеловал.
— Будь спокоен, Илья, — сказал он в ответ. — Ты еще поправишься… приедешь в Россию. А я… конечно, в случае… обещаю тебе.
Он не окончил своих слов и отвернулся.
Елена пошла проводить его.
Когда она вернулась, взволнованная, со слезами на глазах, Илья взял ее за руку и долго смотрел ей в глаза, — словно хотел что-то прочесть в тайниках ее потрясенной души.
Она не выдержала его взгляда и, склонившись к нему, стала целовать его в бледный, холодный лоб.
Он тихо засмеялся и ласково погладил ее по голове.
— Ну, что же, Елена, — сказал он тихо, — Вадим — хороший человек!
…Елена родила сына. Назвала в честь отца Ильей.
Вскоре после рождения сына скончался Илья.
Елена похоронила его в Сан-Франциско.
Только весной добралась она до Петербурга. В Кронштадте ее встретил Вадим уже в офицерской форме. Бледная, измученная Елена бросилась к нему. Он крепко обнял ее. Она плакала в его объятиях, и, пока она не выплакала своего горя, всех своих мук и страданий, он не выпускал ее из своих объятий.
Вадим только и ждал ее приезда. Он сейчас же вышел в отставку, и они обвенчались.
Предсказание Уильдера насчет «Дианы» исполнилось. Бедная «старуха» оказалась «обреченной». Мороз так разорвал ее днище, что чинить ее было невозможно. Она лежала на боку, почти у берега, на камнях. Ее разоружили. Орудия ее пошли на вооружение редутов и «фортеций». Обещанная эскадра весной, конечно, не явилась, а взамен воинской команды прислали на Аляску в форты и редуты из Сибири ссыльных каторжан. Команду «Дианы» отвезли в Охотск и отправили в Санкт-Петербург сухопутно.
Командир «Дианы» явился в Санкт-Петербург постаревшим на десять лет. Морским министром вместо Мериносова был уже адмирал Суходольский. Дежурным адъютантом был при нем… лейтенант барон фон Фрейшютц!
Министр принял Накатова очень сухо и никакой благодарности ему не выразил, а когда Накатов заговорил о поведении барона и показал две записки, компрометирующие барона, адмирал прочел записки, сделал кислое лицо и бросил их в топившийся камин…
Орест Павлович Накатов вышел в отставку. Его звезда закатилась.
Князь Чибисов был назначен старшим офицером на царскую яхту «Стрела» и, довольный своей карьерой, с успехом плавал от Санкт-Петербурга до Петергофа и обратно.
ЭПИЛОГ Пики — козыри
Прошло около тридцати лет.
Российский флаг гордо развевался на многочисленных редутах и фортециях, разбросанных по рекам и побережью русских владений в Америке. «Престиж власти» поддерживался кулаком, — посылались иногда военные корабли, воинские команды, поселенцы, но торговля мехами почти всецело перешла в руки более искусных негоциантов — англичан и американцев. Американцы упорно били Российско-Американскую компанию своим сильным долларом, к тому же умели подкупать российских чиновников.
Меха почти не шли в Россию, — на месте они перепродавались в Америку, или доставлялись в Шанхай или Гонконг. По-прежнему шхуны компании терпели аварии: то их затирало льдами, то они горели во время плавания, то их грабили пираты…
Насильно посаженные в Аляске поселенцы голодали, так как по-прежнему провиант доставляли на Аляску неисправно, — или с опозданием, или недоброкачественный. Жизнь на Аляске была тяжелой каторгой.
О существовании золота на Аляске российское правительство подозревало, но в точности ничего не знало, не интересовалось — своего сибирского хватало. Аляскинское золото расхищалось иностранцами из-под носа у местных русских властей.
Дивиденды пайщиков Российско-Американской компании катастрофически падали с каждым годом, и вместе с этим падал интерес к делам компании.
Не до Аляски было в это время русскому правительству. И вот именно в этот момент с особой энергией заработали опять уже сынки тех, кто топил «Диану», — «пиковые тузы» и «короли» в Америке.
Барон фон Фрейшютц, тот самый, которого мы знали еще мичманом, уже — «пиковый король». Ему за пятьдесят лет. Он уже вице-адмирал. Он украшен почти всеми российскими орденами и многими иностранными. Он близок ко двору. Он — «правая рука» министра. Он и сам мог бы быть министром, но предпочитает играть первую роль в разных министерствах и нигде ни в одном не желает занимать ответственного поста. Он уже архимиллионер. Его не любят, но боятся и в то же время считают джентльменом и даже «рыцарем без страха и упрека».
По примеру покойного отца, барон упорно ведет свою «пиковую линию» и расплодил в Санкт-Петербурге целую армию «пиковых валетов» и «дам», главным образом при дворе. Они и создали то «общественное мнение», которое так благоприятствовало интересам «Коронки в пиках». В значительной мере благодаря им в 1867 году Аляска — «золотое дно» — была продана Америке только за семь миллионов долларов.
А сколько миллионов этих долларов роздал чеками на английский банк барон фон Фрейшютц — это осталось неизвестно русским историкам.
Сам барон получил из Нью-Йорка в дар: 1) игральную карту «пиковый туз», 2) десять миллионов долларами и 3) паи в золотопромышленном обществе на Аляске.



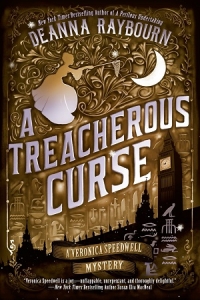
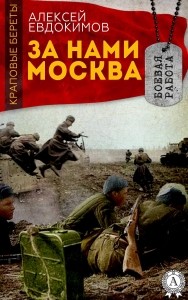




Комментарии к книге «Коронка в пиках до валета», Василий Новодворский
Всего 0 комментариев