Посвящается Юргену Эрхардту, вновь обретенному другу
Пролог
В 1987 году во время работ в лесу на Верхнем Рейне были обнаружены руины древней крепости. От замка остался только фундамент и фрагменты стен, засыпанные землей камни. Рабочие раскопали их, но особо не исследовали.
Десять лет спустя гулявшая в лесу компания подростков случайно наткнулась на древние развалины. Облокотившись на одну из стен, парни заметили среди камней серебряную шкатулку. Снаружи ее состояние было плачевным, но вот содержимое осталось в целости и сохранности: несколько свитков пергамента, тряпичная бумага, кольцо и кинжал. Кинжал, шкатулку и кольцо подростки продали и разделили выручку. След этих предметов затерялся.
Так как пергамент и бумаги были исписаны какими-то едва понятными словами, подростки не уделили им внимания. К счастью, один из ребят отнес их домой. Не подозревая, каким сокровищем он владеет, парень несколько лет хранил эти исторические документы на чердаке. В какой-то момент ему пришло в голову предложить свою находку антиквару, а тот уже направил юношу к одному коллекционеру, интересовавшемуся предметами старины. Коллекционер купил у него эти записи за три тысячи евро. На двухстах страницах, исписанных разным почерком и кое-где покрытых засохшей кровью, речь идет о чудовищных событиях, которые произошли с сентября 912 по май 913 года в том злополучном замке и начались с убийства графа. На уцелевших стенах крепости коллекционер нашел нацарапанные на камне надписи на старовенгерском. Эти письмена остались от пленницы — девушки, которую захватили во время военного похода и насильно привезли в замок. В центре повествования пять человек: судья; графиня — женщина средних лет; немая служанка — женщина чуть старше графини; юная дочь убитого графа; невольница. История эта написана на основании всех свидетельств — запечатленных на пергаменте, бумаге и стенах.
Часть 1 Сентябрь—декабрь 912 года Бильгильдис
Ее крик был ужасающе прекрасен, словно я услышала его в кошмарном сне, где даже что-то красивое может вызывать страх. Трудно представить, что бывают женщины, способные издавать столь великолепные и в то же время столь чудовищные звуки. Жаль, что я так не могу. Все, что слетает с моих уст, все, что вырывается из моего безъязыкого рта, — это лишь обломки, осколки слов. Мне не удается произнести верно даже гласные. Они путаются в моем рту, сливаются, переплетаются, превращаются в мучнистую массу, вызывающую у людей лишь отвращение. Поэтому я даже не пытаюсь разговаривать, разве что когда хочу позлить кого-то.
А вот крик Элисии… Он начинался звонким, отчетливым А.
Я проснулась оттого, что Элисия пробежала мимо моей комнаты, и мне потребовалась пара мгновений, чтобы отличить этот крик от гвалта воинов, отмечавших во дворе замка возвращение домой. Словно порыв ветра, налетел на меня тот крик. Я открыла дверь и увидела, как Элисия вбежала в комнату трех своих служанок, но тут же выскочила оттуда и продолжила свой отчаянный безумный бег. Служанки следовали за ней. Мелодичное А сменилось мягким жалобным И. Это И повторялось вновь и вновь: ИИИИИИИИИИИИ, набрать воздуха в легкие, ИИИИИИИИИИИИ, набрать воздуха в легкие… Тем временем Элисия уже мчалась по внутреннему двору замка. На ней только ночная рубашка, насквозь пропитанная ниже пояса какой-то розоватой жидкостью. Все растерянно застыли на своих местах — и воины, и слуги — и никто не решался остановить Элисию, дочь графа. Единственными, кто мог бы это сделать кроме меня, были ее отец, мать и супруг, но их во дворе не было. Кто-то из стражников и слуг пытался заговорить с девушкой, помочь ей, но она лишь описывала круги по двору, издавая все тот же вопль: ИИИИИИИИИИИИ!!!
Наконец я догнала ее, вернее, она влетела прямо мне в объятия. Я схватила и крепко прижала ее к себе. Элисия попыталась оттолкнуть меня, но, хотя я уже немолода и худощава, я вовсе не слаба. Девчонка билась, голосила, размахивала руками, я пыталась успокоить ее, а собравшиеся на пир воины стояли и глазели на нас. В какой-то момент мое терпение лопнуло и я влепила Элисии пощечину, которая сразу же привела ее в чувство. И еще одну — говорят, что щека болит меньше, если для равновесия подставишь вторую. Ладно, признаю, все это выдумки мамок (да-да, так и есть!), а на самом деле это просто доставило мне удовольствие. Я была кормилицей Элисии… ну, как «была». Нянькой ты остаешься на всю жизнь, даже если взращенному тобой ребенку уже двадцать два года. Правда, в таком возрасте обычно уже не рекомендуется лупить «ребенка», даже если по нему давно плачет хорошая взбучка и он ведет себя как маленький упрямец. Элисия давно заслужила эту пощечину, и я воспользовалась подвернувшейся возможностью.
Девушка тут же замолчала. Знаете, в мире есть три вида людей, обделенных умом: безумцы (они даже не ведают, что такое ум), дети (они еще не обрели это качество) и воины (за них думают командиры). Я считаю, что Элисия принадлежит к первым двум видам из вышеописанных. А если ты нем, то вбить в чью-то голову хоть немного здравого рассудка тебе еще труднее.
Элисия, ловя ртом воздух, ткнула пальцем в сторону башни замка.
— Отец… мертв… он в купальне… кровь… там повсюду кровь… — пролепетала она, точно маленькая испуганная девчушка, и потеряла сознание.
Трое стражников тут же бросились в купальню, а мой муж Раймунд помог мне отнести Элисию в ее комнату. Там я раздела девушку и уложила в кровать. Придя в себя, Элисия забилась в рыданиях, ее тело судорожно извивалось… Я погладила ее по голове и вышла из комнаты.
Элисия
Свершилось самое ужасное, чудовищное, немыслимое! Как позабыть мне эти видения, как изгнать их из памяти? Мои руки дрожат, как унять мне эту дрожь? Никогда не уняться ей, никогда, до самой моей смерти. Всего десять часов назад, вчера вечером, мои руки обвивали шею отца, который после нескольких месяцев военного похода вернулся в свой замок. Вернулся с триумфом, одержав победы в сражениях с венграми. Мои руки обвивали его шею, а потом, чуть позже, он сжимал мои ладони, и мы кружились в танце. А теперь…
Мысли путаются. Одна и та же картина стоит у меня перед глазами, куда бы я ни посмотрела. Я перевожу взгляд с кровати на лампу, на тумбу под зеркалом, на звезды, но вижу лишь кровь. Это видение застит все, словно занавес, занавес на сцене, где разыгрывается трагедия.
Я просыпаюсь от ужасных криков — криков, зародившихся, казалось, в моих снах, но пробравшихся в явь. Я вскакиваю с кровати, зажигаю факел, бегу по коридору, бегу туда, откуда доносятся эти вопли. Во дворе кутят воины, они смеются, они радуются жизни. Двери в покои моего отца открыты, мой факел разгоняет тьму. Я зову его: «Папа! Папа, кто тут кричал? Папа, это я, можно мне войти?» Никто не отвечает мне.
Крики стихли. Я вижу забившуюся в угол молодую темноволосую девушку. Из купальни доносится какой-то клекот. Я говорю: «Папа, ты там?» Я вхожу в купальню, воздух в ней теплый и влажный, мой факел потрескивает. Отблески света падают на выбитый в полу бассейн, вода в нем кажется черной. Я вижу моего отца в воде. Я спрашиваю: «Мне уйти, папа?» Но он не отвечает. Я подхожу поближе, свет озаряет его затылок, и я вижу, что его лицо в воде. «Папа? Папа!» Я спрыгиваю в бассейн, вода доходит мне до пупка, я чувствую ее тепло, моя камиза липнет к ногам. В левой руке я сжимаю факел, правой касаюсь его лба. Голова отца откидывается назад. Горло перерезано, остекленевшие глаза смотрят прямо на меня. И с тех пор он не сводит с меня взгляда. Каждую ночь.
Бильгильдис
Когда я вошла в купальню, тело графа Агапета лежало на полу, прикрытое попоной. Я приподняла край попоны и взглянула на его старое, изъеденное временем и непогодой лицо. Серые глаза, в которых застыл упрек, глядели прямо на меня. Эти глаза не закрывались. Череда воспоминаний промелькнула в моей голове. Я могла бы смотреть в эти глаза целый день, но стражники уже начали обращать на меня внимание.
Какой позор! Великий граф валяется голым под зловонной попоной, он весь перепачкан кровью, кровью, которой почти не осталось в его теле. Несомненно, он иначе представлял себе свою смерть. Да уж, убийство сурово подпортило графу жизнь. И смерть в придачу.
Через какое-то время ко мне подошел Бальдур, супруг Элисии. Он был пьян.
— Как это произошло? — спросил он и уставился на меня, будто и вправду ожидая, что я отвечу на этот вопрос.
Я выдавила из себя пару звуков — это надежное средство, чтобы заставить людей отцепиться от меня.
Пока Бальдур разговаривал с одним из сгрудившихся здесь стражников, я посмотрела в дальний угол купальни, где в полумраке спряталась эта венгерская тварь. Поджав ноги и прикрывая грудь коленями, она сидела на полу, обнаженная, изящная, словно бронзовая статуэточка. И стражники, и Бальдур поглядывали в ее сторону. Такую красавицу можно страстно любить или не менее страстно ненавидеть. Третьего не дано.
— Кто-то должен сообщить о произошедшем графине, — вдруг заявил Бальдур, точно на него снизошло великое озарение. — Бильгильдис, ты пойдешь к ней.
Да, за долгие годы моей службы графиня научилась понимать, что я пытаюсь ей сказать, но все же обычно это она что-то рассказывает мне, а не наоборот. И если мне уж и нужно ей что-то сообщить, то это, как правило, простые вещи — я зову ее к столу или, например, даю ей понять, что платье, которое она ищет, сейчас у прачки. Ее тайны, которыми она делится со мной, не становятся предметом наших, так сказать, разговоров, но если уж возникает такая необходимость, я передаю графине записку.
Представляю себе, как выглядело бы сообщение о произошедшем вчера вечером. «Простите за беспокойство, госпожа, но вашему мужу перерезали горло». Или: «Ваш супруг изволил купаться в ванной с прелестной юной красоткой. И умер». Или: «Ваш муж сунул между ног одной красотке свой член, ей это не понравилось, и она всадила кинжал ему в горло».
Ко мне подошел Раймунд, мой муж. Старикан осведомился, с чего это я смеюсь, — что-что, а смеяться я умею. Он принялся увещевать меня, говоря, что сейчас ночь, в замке царит траур… Я отмахнулась от него, давая понять, чтобы он шел к черту. То же сообщение, но в несравнимо более вежливой форме, я донесла и до Бальдура, когда он вновь попытался отправить меня к графине. Я взяла этого недоумка за руку и потащила его в комнату хозяйки.
Клэр
Мой зять Бальдур в присутствии Бильгильдис и нашего священника сообщил мне в поздний час, что мой супруг стал жертвой коварного нападения.
— Прости, что ты сказал, Бальдур?
— Его убили… в купальне… мы… мы думаем… он… похоже, что дикарка… он привез ее с собой из похода… и наверное, она его… она к нему подкралась… и сзади… коварно…
Я сразу упала на колени, сложила руки, поднесла их к губам, поцеловала кончики пальцев и закрыла глаза. Все присутствующие ожидали, что я поступлю именно так. Зачем их разочаровывать? Как и любой человек в этом мире, я год за годом создавала образ себя, образ, который вспыхивает в сознании каждого, кто слышит мое имя. Собственная маска, личина — вот истинные знаки, отличающие людей друг от друга. Маски важнее и долговечнее всего, что мы делаем или говорим. Этим знаком может быть особая улыбка, движение бровей, пульсирующая жилка на шее, сжатый кулак. Как бы то ни было, это всегда то, что соответствует сущности человека. Я известна своей набожностью, и десятки тысяч раз люди видели, как я опускаюсь на колени, особым образом складываю руки и целую кончики пальцев, прежде чем начать молиться. Это мой знак, мой образ, отражающий набожность. И, как и любой хороший образ, он создается и для других, и для меня самой. Я придумала этот образ себя и поверила в него, поверила в свою набожность. Тем не менее любовь к Богу — лишь одна из черт моего характера, моя набожность — лишь крошечный осколок моей личности, деталь огромной мозаики.
Остальные волей-неволей последовали моему примеру и встали на колени. Бальдуру и так непросто было держаться на ногах, он был очень пьян. От него воняло — пивом и уборной. Отец Николаус, низенький, толстый, лысый, страдал от икоты — он тоже перепил на пиру. А Бильгильдис… Она не особо набожна, но я заметила, что сейчас она молится не только для того, чтобы угодить мне.
— Я допрошу эту венгерскую девушку. Как можно скорее, — сказал Бальдур, как только я поднялась на ноги.
— Да, займись этим.
— Мне так… я даже передать не могу, как мне…
— Спасибо, Бальдур.
— Он был великим человеком. Мы устроим ему достойное погребение.
— Да.
— Ужасно, что его убили после того, как он… ну, вы понимаете…
— Конечно.
— Я защищу вас. Подобного больше никогда не повторится. Вы с Элисией будете в безопасности.
— Спасибо тебе за теплые слова, Бальдур. Как там Элисия? Бедная девочка, наверное, убита горем.
— Да, она… она…
— Я хочу повидаться с ней.
— Сейчас она никого не хочет видеть, даже меня. По крайней мере на это намекнула Бильгильдис.
Бильгильдис кивнула. Я хорошо знаю свою дочь, и потому я поняла, что сейчас бессмысленно навязывать ей мое общество.
— Если она еще не будет спать, когда ты придешь к ней, Бальдур, передай ей, что мысленно я с ней.
Когда Бальдур ушел, я присела на сундук. Я была не одна. У двери стояла Бильгильдис и смотрела на меня. Немые смотрят иначе. Пристальнее. Проницательнее. Они понимают, что у них не так-то просто спросить, о чем они думают. И им не приходится лгать. В этом их счастье. Наверное, в какой-то мере это восполняет им утрату речи. Немым не приходится лгать. Это дает им превосходство над нами. Бильгильдис знает об этом. И ей известны многие мои тайны.
После того как она ушла, я подождала еще некоторое время, шагая туда-сюда по комнате. Потом я взяла лампу, вышла во вторую дверь, прошла по коридору с низким потолком и очутилась в соседней башне, в комнате Эстульфа. Он лежал спиной к двери на своем ложе у окна. Ночь была теплой, и Эстульф не стал закрывать окно шкурой, поэтому комнату заливал лунный свет. Я прилегла сзади, принимая его позу.
— Клэр? — сонно спросил он, пробуждаясь. — Что ты тут делаешь?
— То же, что и все прошлые месяцы.
— Но мы же договорились, что нам нужно быть осторожнее, теперь, когда вернулся Агапет.
— Почему у тебя ноги такие холодные?
— Я был в нужнике. Просидел там довольно долго.
— Знаешь, это не очень-то возбуждающая тема. — Я поморщилась.
— Ну, ты же спросила.
— А где ты был во время праздника? Мне тебя не хватало. Я люблю смотреть на тебя, когда ты веселишься.
Эстульф опустил голову, отворачиваясь от меня.
— Я ушел вскоре после начала пира. И я там не веселился бы. Я сижу в одном конце зала, ты в другом, и словом с тобой не перемолвишься, и не посмотришь в твою сторону, потому что кто-то может что-то заподозрить, — он зевнул. — Прости, я очень устал.
— Ничего, ты спи, — я уютно устроилась на его ложе.
Мне нравятся такие ночи, это ночи, исполненные любви, даже тогда, когда мы просто лежим рядом, слушаем наше дыхание, касаемся друг друга кончиками пальцев. Такие ночи… Они ведомы мне уже полгода, с тех самых пор, как Агапет отправился в поход на восток, а мне хватило отваги однажды ночью возлечь с Эстульфом.
Я уткнулась носом в длинные локоны моего возлюбленного. У него густые, пышные волосы, и по моей просьбе он раз в неделю моет их с мыльным корнем. В замке, да и по всей округе подобное пристрастие к чистоте вызывает насмешки, но Эстульфа все любят, а потому чистоплотность не вредит его репутации.
— Агапет мертв, — прошептала я.
Прошло какое-то время.
— Это все меняет.
Не знаю, услышал ли он эти мои слова. Может быть, Эстульф и правда спал. Но мне так не показалось.
Я лежала в темноте и думала о нашем будущем.
Кара
Мне просто хотелось вымыться. Я жестами просила у них воды, чтобы омыть свое тело. Если бы я заговорила с ними по-венгерски, они не поняли бы меня. Мне нужно было вымыться, ведь я довольно долго просидела в бассейне, наполненном кровью. И теперь мне хотелось лишь одного — смыть с себя эту кровь. Но меня заставили сесть в углу. Капли крови стекали по моему телу, я стояла в комнате, полностью обнаженная, а стражники глазели на меня, их похоть смешивалась с презрением, и я не знала, какое чувство возьмет верх. Я была им отвратительна, и в то же время я возбуждала их. Они презирали меня за это, и от этого испытывали еще большее вожделение. Кто-то принес в комнату попону и набросил ее на мертвеца. А для меня не нашлось ни попоны, ни покрывала, ни жалкой тряпицы, чтобы прикрыться. Я хотела броситься на грудь одному из стражников, чтобы отереть тело от крови, прижимаясь к его накидке, но он схватил меня за запястья и оттолкнул. Я пыталась оттереть красноватую жидкость ладонями — сперва пылью, потом слюной, но, как я ни старалась, у меня ничего не получалось. И на моей коже засохла кровь врага.
***
Мне нельзя плакать. Боги не любят слезы. Мой народ славится своей отвагой и честью, и не только мужчины, но и женщины и дети. Иногда я думаю, что дети еще слишком малы, чтобы сдерживать слезы, им можно было бы позволить поплакать, когда им хочется этого. Но когда один из моих трех малышей заходится от плача, я боюсь, что к моим утешениям примешивается и упрек.
Я так скучаю по детям. Если мне удастся вернуться к ним, я стану им лучшей матерью. Я буду любить их еще сильнее. Где они теперь, мои сыночки Жольт и Левди, моя доченька Эмеше? Что они сейчас делают? Думают ли они обо мне? А Лехель, отец моих детей, возлюбленный тысячи ночей моих, думает ли он обо мне? Сомнения — словно люди, они растут со временем, прибавляя в весе и росте. Прошло три месяца с тех пор, как меня похитили. Меня протащили по всему миру. Вернусь ли я домой, к моим родным?
Мое будущее — черная, полнящаяся страхом дыра, и я хочу заткнуть ее словами. Я пишу их на стене моей темницы.
Бильгильдис
Просыпаясь утром, я сразу же ощупываю свою опухоль. Она на моем животе, справа, прямо под ребрами. В моем теле выросло трое детей, они были хорошими мальчиками, хорошими сыновьями, так много лет прошло с тех пор… Теперь же во мне растет чудовище. От этой опухоли меня тошнит, а иногда внутри что-то булькает, будто забродившая жижа. Каждое утро я натираю это место маслами. И так уже двадцать лун. Как-то мне подумалось, что этим я лишь помогаю опухоли расти, и потому некоторое время назад я стала ко всему еще и класть на больное место разрезанную луковицу — вечером, перед тем как ложиться спать. От лука у меня слезятся глаза. Какие глупости. На самом деле я прекрасно понимаю, что зло слезами не умилостивишь. Даже сегодня утром, когда у меня было столько дел, я не забыла о моей опухоли. Как глаза привыкают к темноте, так и я привыкла к круглому наросту на моем животе, наросту, к которому каждый день прикасаются мои пальцы. Я мысленно разговариваю с ним. Почему бы не поговорить с собственной смертушкой? Много лет назад я потеряла возможность говорить, зато научилась чувствовать. И сейчас я чувствую, что эта дрянь в моем теле настроена серьезно.
Сегодня мне было сложнее вставать, чем обычно, а ведь я привыкла что летом, что зимой вставать еще до восхода солнца. Что ж, просыпаться было трудно не только мне. В замке царило две тишины, привычная — тишина утром после попойки, и непривычная — тишина утром после убийства. Раймунд, спавший на своей отдельной лежанке в паре метров от меня, еще не проснулся. Я вымыла руки и лицо. За время с момента пробуждения я уже два или три раза охнула. Мне показалось, что я проспала утро, но, сняв козью шкуру с окна, я поняла, что в мире еще царит предутренний сумрак, серый знакомый предутренний сумрак.
Я отправилась на кухню. Обычно в такое время кухарка уже там, она должна готовить кашу на завтрак слугам, но сегодня ее почему-то не было, поэтому я съела небольшую миску отваренных груш, оставшихся с пира, и упаковала в корзинку завтрак для графини и для Элисии, потому что я служу им обеим.
Вначале я отправилась к Элисии. Она лежала на кровати рядом со своим супругом, ее голова беспокойно металась по подушке. Я подумала, что у Элисии жар, но, похоже, ее лишь мучили кошмары. Ничего удивительного, после вчерашней-то ночи.
Я воспользовалась редкой возможностью полюбоваться Бальдуром во всей его красе. Мой взгляд скользил по его могучим мышцам, огромным, словно наковальни, ладоням, ногам Голиафа, груди Самсона, бычьему члену, по всему этому роскошному телу, созданному для любви и сражений. Даже мне, старухе, это зрелище до сих пор доставляет удовольствие. В постели Бальдур кажется идеальным мужем, а на коне — идеальным воином. Но горе всем, если он откроет рот, начнет размышлять, примется орудовать чем-то кроме меча или члена. Бальдур похваляется тем, что может раздавить твердое яблоко, сжав его коленями, и способен голыми руками выдавить сок из редьки. Не знаю, кому это надо — разве что тому, кто обожает сок из редьки. По крайней мере, Бальдур не уточняет, зачем пригодились бы подобные таланты. Он пьет каждый вечер, где бы он ни находился, и для попойки ему не нужен пир и не нужна компания. Пиво и вино пропитывают его тело, будто Бальдур сделан из песка. По крайней мере, голова у него точно набита песком.
Станет ли он новым графом? Кто еще имеет право наследования? У графини не осталось сыновей, у Агапета не было братьев и племянников. И если Бальдур станет новым графом, сколько понадобится времени на то, чтобы он встрял в какую-то кровавую драку? Сколько времени пройдет до его смерти? Род Агапидов проклят. Прадед Агапета — его тоже звали Агапет — заманил своего врага к себе в гости, преломил с ним хлеб, а потом, нарушив все законы гостеприимства, зарезал его вместе с сыном. Говорят, с этого началось проклятье рода. Этот прадед вскоре погиб на войне, в том же сражении пал и его сын. У сына было двое детей, двое мальчишек, и уже вскоре один из них убил другого — якобы случайно, во время игры, по крайней мере он так сказал. Мать не поверила в это, она прокляла сына и уморила себя голодом. Этот юноша потом и стал отцом Агапета. Однажды отец и сын отправились на охоту, отец неподалеку отсюда увяз в болоте и утонул. Во всяком случае, так сказал Агапет, став новым графом. А теперь и он сам нашел свою бесславную смерть, в луже крови, крови своих предков, которой он так гордился. Вот только кровь эта нелюба судьбе.
В народе поговаривают, что несчастья начались намного раньше, и дело тут вовсе не в Агапидах, а в замке. Мол, этот замок притягивает злой рок. Ха! Рок! Что ж, пусть зовут это так, мне все равно. Этот рок, это проклятье — оно не от Бога и не от Сатаны.
Я направилась к графине.
Удивительно, но она уже проснулась и даже была одета. Как и полагается во время траура, на графине было белое платье, подчеркивавшее ее бледную кожу и белокурые локоны. В этом платье она была похожа на ангела. Графиня увидела в моих глазах вопрос: «Госпожа, почему вы оделись сами?» Но она не ответила на него.
Таково право благородных, что оплачивают тебе похлебку. Они могут отвечать, когда им вздумается.
Таково право тех, кто может говорить. Они могут сделать вид, что не поняли вопроса, который задала немая.
Я заплела ей косы, подобрав их. Графиня любит эту прическу, траур и косы неплохо сочетаются.
Затем я приготовила розовую воду, которой Клэр полощет рот.
Графиня казалась собранной и бодрой, она ничуть не устала и не выглядела подавленной, поэтому я поняла, что она не горюет. В моем присутствии — и только тогда — она всегда искренне проявляла свои чувства, не сдерживала ни слезы, ни улыбки, свободно могла выразить и радость, и горе, я же с давних пор могу проявить свои чувства лишь при помощи жестов.
— Бильгильдис, ты была у Элисии? Как она?
Я жестами дала ей понять, что ее дочь беспокойно спала. Графиня смерила меня долгим взглядом.
— Да, она еще ребенком вела себя так, каждый раз, как случалось что-то плохое. Всякий раз, как ее отец отправлялся в путешествие или поход, Элисия умоляла его взять ее с собой, а когда Агапет отказывал ей, она потом еще долго беспокойно металась во сне. Сегодня же она прощается с отцом навсегда. Ей тяжело как никогда. Мы должны помочь ей чем только возможно. Я думаю, Элисия не перенесет похороны, — задумчиво сказала графиня. — Возможно, нам повезло, что она еще спит. Мы немедленно похороним Агапета. Пожалуйста, подготовь часовню, Бильгильдис. И сообщи отцу Николаусу. Я попрошу Эстульфа заняться всеми приготовлениями к похоронам.
Эстульфа! Это сразу показалось мне странным. Да, он был распорядителем в замке на время отсутствия графа и Бальдура. Но после возвращения этих двоих из похода Эстульф должен был лишиться своих полномочий, и то, что Агапет мертв, ничего не меняло. Бальдур — капитан стражи и к тому же зять Агапета. Это он должен заниматься похоронами. Графиня прекрасно об этом знает. Значит, мне не стоит обращать на это ее внимание. Это бессмысленно.
— Да, и вот еще что, Бильгильдис. Прошу тебя, поторопись. Все должно быть сделано быстро.
Я выполнила распоряжения графини быстро и точно. Отправила слуг убирать в часовне и расчищать дорогу к кладбищу, позвала священника. Эстульф приказал страже (хотя вообще-то у него не было на это права) вырыть могилу и переодеть усопшего. Но никто не поставил его приказ под сомнение — все любят Эстульфа.
Кроме права, данного законом, есть лишь две вещи, которые столь же сильно воздействуют на людей, — это страх и восхищение.
Когда Бальдур очнулся от глубокого сна, вызванного вчерашним пивом и треволнениями, церемония уже началась. Тело графа Агапета вынесли из часовни во двор, оттуда к воротам и, наконец, пронесли по узкой тропинке, ведущей к кладбищу у подножия восточной стены. Насколько я поняла, Бальдур ни во время похорон, ни после них ничего не сказал своей теще по поводу того, что его и Элисию не пригласили на церемонию. Графиня, увидев его, что-то прошептала ему на ухо, и на этом Бальдур успокоился. Глупец… Я не сумела расслышать ее слова, но сейчас госпожа весьма правдоподобно изображала безутешную вдову, этого у нее не отнимешь.
Нельзя было бы назвать эти похороны недостаточно пышными — они соответствовали всем обычаям. И все же чего-то не хватало. Я не сразу поняла, чего же именно. Печали. Конечно, часть слуг грустила по погибшему графу, но это были те слуги, которым вообще свойственно горевать по любому поводу. Бальдур не из тех, кто привык печалиться. У графини не было причин оплакивать свою прежнюю жизнь. А для большинства людей в замке нет никакой разницы, кто отдает приказы.
Место печали заняла тревога. Перерезанное горло, наполненная кровью ванна… Такие образы усиливают ужас перед смертью. Усиливают суеверный страх.
В конце церемонии похорон на могилу поставили стул, на котором заняла место графиня. Сообразно обычаю, она должна отдать своему супругу последние почести и посидеть с ним в последний раз.
Из окна я вижу, как она сидит там — застывшая, неподвижная белая точка на фоне сентябрьской зелени. Графиня смотрит на долину. Сейчас я завидую ей. Да, в глубине моей души, под налетом всей этой ненависти к ней до сих пор теплится зависть.
Элисия
Когда я проснулась сегодня утром — вернее днем, — я почувствовала, что во мне не осталось ни капли силы. Только пустота. Больше ничего. Я даже плакать не могла. И как мучительно было мне подниматься… Я съела две виноградины и ощутила, что уже сыта. В голове тоже было пусто, мое тело будто само совершало необходимые движения, по крайней мере, мне казалось, что я им не управляю. Какое-то время я просто сидела в постели. Первая мысль, которая пришла мне в голову после долгого затишья, была о шпильке в моих волосах. Мне хотелось уколоть себя этой шпилькой. И это было странно, ведь в последний раз подобные желания вспыхивали во мне в детстве, такого не было уже давно. Помню, что, когда была маленькой, я сжимала в руке шпильку, мне хотелось кого-то поранить, вот только кого? Не помню, не знаю… Наверное, того, кто обидел меня.
Но через пару мгновений воспоминания отступили, и теперь эта шпилька напомнила мне о Бильгильдис. Каждый день она заплетает мои волосы и подбирает их шпильками, но мне кажется, я подумала о ней по другой причине. Бильгильдис для меня всегда была символом отчаяния. Я привязана к ней, она была моей кормилицей, и я не помню, чтобы она когда-либо сделала мне что-то плохое. Но Бильгильдис всегда была такой… Слово, которое приходит мне в голову, звучит довольно странно. Заброшенной. Заброшенной, словно старый, покинутый всеми дом. Ее характер, конечно, обусловлен чудовищными событиями ее юности, которые привели к ее немоте. Сколько же в ней с тех пор отчаяния! Этой тоски всегда было в ней так много, что даже смерть трех ее сыновей не ухудшила ее состояние. Бильгильдис, как и прежде, слоняется по замку, подгоняет слуг, следя за тем, чтобы они выполняли свою работу, заплетает мне косы, причесывает матушку. Свои волосы Бильгильдис собирает в узел, похожий на гладкий сероватый камень. Носит простые, бесхитростные платья. Наверное, я подумала о ней, потому что сейчас я напоминала себе свою няньку. Неужели я теперь стану похожей на Бильгильдис? Захотел бы отец, чтобы его дочь стала такой?
И в этот момент пустота во мне начала постепенно наполняться. Мысли о смерти отца вызывали во мне ярость и жажду отмщения. Да, я скорбела бы, если бы он погиб в бою, умер от лихорадки или его хватил удар. Но это другое. Моего отца убили, а я искупалась в его крови…
Меня вырвало. Я выполоскала рот, использовав целую кружку воды, бросилась на кровать и изо всех сил попыталась расплакаться. И вновь мне это не удалось. Я корила себя за то, что до сих пор не оплакала отца. Потом я, наверное, уснула, потому что следующее, что я помню, это как в комнату входит Бальдур.
Выражение лица у Бальдура было суровым. У моего мужа вообще всего два выражения лица — суровое лицо воина перед битвой (орлиный взгляд, нахмуренные брови) и расслабленное удовлетворенное лицо воина после битвы.
— Ты не спишь, — сказал он.
Мне было трудно говорить. Да и не хотелось.
— Только проснулась.
— Тебе уже лучше после сна?
— Не знаю. Конечно, нужно было выспаться. Но я боюсь засыпать, помнишь…
Бальдур не знал, что на это ответить. Ну что ж, это и к лучшему. Я села перед зеркалом из полированного металла и принялась расчесывать волосы.
— Позвать твоих служанок? — спросил Бальдур.
— Нет.
— Позвать Бильгильдис?
— Нет.
— Ты не собираешься выходить из комнаты?
— Собираюсь.
— Тогда нужно позвать кого-то, кто заплел бы тебе волосы.
— Сегодня я оставлю их распущенными. Папе нравилось, когда у меня распущенные волосы. Прощаясь с ним навсегда, я хочу выглядеть так, как понравилось бы ему.
— Мы уже похоронили его.
Прошла пара мгновений, прежде чем я осознала смысл его слов.
— Ты ведь не хочешь сказать… — Я резко развернулась к Бальдуру. — Нет. Ты хочешь сказать, вы уже положили его в гроб?
— Есть разница между тем, чтобы уложить кого-то в гроб и похоронить. Твой отец уже под землей, Элисия. Она посчитала, что так будет лучше.
— Она посчитала… Что значит «она»?
— Твоя мать. Она приказала провести похороны без тебя.
Я швырнула гребешок на пол. Он сломался.
— Ох, я так и знала! Ах она подлая, злая, мерзкая, коварная, ревнивая…
— Элисия…
— Она всегда ревновала, потому что я предпочитала проводить время с отцом. Но она сама виновата! Она всегда любила моего брата больше, чем меня, намного больше, а на меня вообще не обращала внимания все эти годы. А когда потеряла Оренделя, то вдруг вспомнила о том, что у нее есть дочь. Но меня не обмануть! Я никогда не была для нее важна. И я дала ей понять, что у нее не получится ввести меня в заблуждение. А теперь она…
— Я поддерживаю ее решение.
— Что-о?!
— Я согласен с Клэр в том, что тебе не следовало присутствовать на похоронах. Это стало бы для тебя слишком сильным ударом. Могло пострадать твое здоровье.
— Но это, как ты и сказал, мое здоровье. Мое! Принадлежит мне! И немножко Богу. Все, что касается моего здоровья, я решаю сама. Кроме того, это был лишь предлог. Напоследок мать успела сделать отцу еще одну пакость. Отец хотел бы, чтобы я присутствовала на его похоронах, и мать это знала. Но она всегда старалась задеть его, как только могла.
— Как бы то ни было, мы поступили правильно, похоронив твоего отца так быстро. Подумай о том, какие сейчас жаркие дни.
— Ах ты бестактный, отвратительный…
— Элисия, я солдат и привык рассуждать практично. Например, после битвы…
— Мы сейчас в нашей спальне, а ты говоришь со мной о битве?
— Твой отец понял бы меня.
— Он бы скорее понял белку, чем тебя.
— С тобой сегодня невозможно говорить. Завтра мы сходим на могилу твоего отца, и ты попрощаешься с ним.
— Я не стану ждать до завтра, это уж точно.
— Следуя обычаю, твоя мать должна отдать супругу последние почести, просидев на его могиле до завтрашнего утра. И никто не должен мешать ей в этом и нарушать ее уединение, ты же знаешь.
Я попыталась пройти к двери, но Бальдур преградил мне путь.
— Пока отец был жив, ей было на него наплевать. И это не изменится после его смерти. И поэтому ей будет все равно, нарушу я ее уединение или нет.
— А мне вот не все равно.
— Почему это?
— Я скажу тебе почему. Ты потеряла не мужа. Ты потеряла отца.
Я вышла из себя. Я кричала. Я перевернула стул, сбросила шкуры с лежанки, швырнула кувшин с водой о стену, открыла все сундуки, порвала платье. Это было кошмарно. Я вела себя как безумная. Наверное, мой супруг ужаснулся, увидев меня такой. Это было неправильно… Что тут еще скажешь. У меня не хватает слов. И все же я пытаюсь понять себя. Мне не дали попрощаться с отцом. Наша последняя встреча, мое последнее прикосновение к нему — я сжимаю в руках его окровавленную голову. И я никогда не смогу смягчить этот жуткий образ воспоминанием о светлом прощании с папой. Да еще и Бальдур запретил мне оплакать отца на его могиле — пусть этот запрет и действовал всего один день. Все это подкосило меня, а мне ведь и так через многое пришлось пройти. Теперь же более или менее близкие мне люди стремились причинить мне боль, а мне и без того было плохо.
Пустота во мне сменилась яростью.
После припадка бешенства я устало опустилась на пол и попыталась разрыдаться. И вновь мне это не удалось. Должна сказать, что Бальдур повел себя в этот час как истинный рыцарь. Он поднял меня с пола, нежно уложил на шкуры и отошел к окну. Бальдур дал мне время прийти в себя, и я почувствовала, как ко мне возвращаются силы. Я еще не готова была принять их и не могла их объяснить. Так быстро прийти в себя после смерти отца… разве это не будет предательством по отношению к его памяти?
Но потом я поняла, что обрела эти силы как раз для того, чтобы послужить отцу. Чего бы он ждал от меня? Того, что я найду его убийцу!
— Ты уже допросил ту венгерку? — спросила я Бальдура.
Мой муж все так же стоял у окна, повернувшись ко мне спиной. Он не произнес ни слова.
Я закрыла глаза.
— Мне жаль, что я все это тебе наговорила. Мне жаль, что я себя так повела. Мне правда жаль. Прости меня.
Хотя мне было противно этим заниматься, я собрала с пола осколки, поставила стул на место и убрала платья в сундуки — это был знак моего смирения. Иногда приходится пересилить себя, чтобы получить прощение.
Наконец Бальдур сказал:
— Нет, я ее не допросил.
Я так и думала.
— Я хотела бы присутствовать при допросе. Может быть, сходим к ней прямо сейчас?
— По традиции семья усопшего не работает в день похорон.
Бальдур постоянно ссылался на традиции и обычаи и этим выводил меня из себя, но на этот раз я сдержалась. Хотя на языке и вертелось множество язвительных замечаний по этому поводу, но я промолчала. Бальдур ведь у нас воин. Защищаясь от удара меча, он поднимает щит, в ответ на белый флаг идет на переговоры.
— Я полагаю, что скорейшее наказание убийцы станет той почестью, которую мы должны отдать моему отцу. Я не стала бы называть это работой. Скорее долгом. Но мы сможем наказать ее, только если докажем ее вину.
— Хорошо, я согласен с тобой, — кивнул Бальдур. — Но ты не будешь вмешиваться в допрос.
— Конечно.
И подумала: «Какого черта?!»
Допрос мы провели в купальне. Там я чувствовала себя очень плохо. Воду из бассейна еще не спустили, и в воздухе висел тошнотворный сладковатый запах. Наверное, Бальдур привык к подобному — он принял участие в стольких битвах, что не хватит пальцев на обеих руках, чтобы сосчитать их. Когда в купальню ввели дикарку, я заметила, как она испугана. Конечно, эта язычница была нашей главной подозреваемой, и я должна была люто ненавидеть ее, и все же — я понимаю, насколько это странно, — испытывала к ней странную симпатию. Это была женщина моего возраста, очень красивая, но при этом мне не казалось, что она пользуется своей красотой, чтобы привлекать к себе внимание мужчин. Она была напугана, но все равно в ней чувствовалась решимость, решимость, которая, как мне кажется, свойственна и мне самой.
С самого начала допрос зашел в тупик. Девушка говорила только по-венгерски — а на каком языке ей еще говорить? Бальдур задавал ей вопросы, она пожимала плечами, а если и говорила что-то, то мы ее не понимали.
— Вы взяли в плен других венгров? — спросила я у Бальдура.
— Нет, она была единственной пленницей. После того как войско герцога побило язычников у реки Муры, мы быстро продвинулись вперед на земли венгров, грабя деревни. Пленные были бы обузой для нас. А она… Она набирала воду в ручье. Твой отец заметил и приказал мне схватить ее. Вскоре мы вернулись домой, остальное ты знаешь. То, что эта дикарка говорит только на своем языке, твоего отца не смущало? Он затащил ее с собой в купальню явно не для того, чтобы вести с ней беседы, — Бальдур коротко хохотнул. — Хотя ее язычок без дела бы не остался.
Наверное, я никогда не привыкну к его бестактности. Но мне удалось сдержаться и промолчать в ответ на его сальные шуточки.
— И что теперь? — спросила я.
— Похоже, ее дела плохи. Ее застукали рядом с убитым в купальне. — Судя по голосу Бальдура, он не был полностью убежден в ее вине. Но в то же время непохоже было, чтобы он собирался ее помиловать.
И тут язычница принялась размахивать руками, пытаясь жестами объяснить нам что-то. Было непросто понять ее, но в конце концов мне удалось уловить общий смысл. Вечером Бильгильдис вывела ее из комнаты, в которую ее поместили, и привела в комнатушку перед купальней. Там ее раздели и втолкнули в купальню, где — как она нам показала, — горела всего одна лампада.
— И ты опустилась в бассейн? — спросила я, поясняя свой вопрос жестами.
Она кивнула. Мы с Бальдуром задавали ей вопросы, переспрашивали вновь и вновь, пока не выяснили следующее: венгерка медленно опустилась в бассейн. Вода доходила ей до шеи. Девушка замерла, глядя на моего отца. Тот не двигался. В полумраке ей показалось, что он тоже смотрит на нее. Только спустя какое-то время она сообразила, что сидит в одной купальне с мертвецом. Тогда она принялась кричать. Потом прибежала я.
Должны ли мы верить ей? Бальдур осмотрел лампаду, и действительно оказалось, что она пуста. Но что это доказывает? Венгерка могла убить моего отца, а затем вылить масло в бассейн.
То, что похищенная девушка забивается в угол бассейна и не отваживается сделать и шаг, кажется мне вполне понятным. Не менее понятным кажется и то, что похищенная женщина воспользуется первой же возможностью убить своего похитителя. И вдруг я заметила, что уровень кровавой воды в бассейне опустился. Для того, чтобы спускать воду, в купальне была специальная система труб, проходивших под землей до самой замковой стены. Этим устройством слива мы были обязаны королевскому роду Меровингов, живших здесь триста лет назад. Двести лет назад Меровинги жили здесь, строили странные приспособления, купались, а потом их род бесславно оборвался. Удивительно, правда? Как бы то ни было, чтобы вода постепенно вытекала из бассейна, нужно было задействовать рычаг, и тогда…
— Кто трогал рычаг? — спросила я. — Ты, Бальдур? Или эта венгерская девушка?
— Она ничего не трогала. В этом я твердо уверен.
— Значит, здесь был кто-то еще. До того, как мы пришли сюда. Иначе это объяснить невозможно. Сейчас мы на один шаг сумеем приблизиться к разгадке.
— Почему?
— Если эта венгерка убила отца, — сказала я, — то она должна была где-то спрятать оружие. По твоим словам, когда сюда вбежали стражники, она была совершенно голой. Значит, на тот момент кинжала при ней не было. Вы обыскали купальню, предбанник и коридоры, но тщетно. Ближайшее окно — в комнате отца, но шкуру там не трогали. Значит, оружие может находиться только в одном месте. В самом бассейне.
— Допустим, мы ничего не найдем. Что тогда?
— В этом случае мы сможем быть совершенно уверены в том, что эта девушка не убивала моего отца, ведь ей некуда было спрятать оружие.
Бальдур, язычница и я уставились на убывающую воду. В ней отражались наши лица. Дно бассейна словно притягивало нас, и мы стояли так неподвижно. Я успела вздохнуть десять, двадцать, тридцать, сорок раз.
И вдруг — я что-то увидела. Какой-то предмет на дне бассейна. Сперва лишь тень, потом блеск, словно ты смотришь на горку монет на дне темного колодца. Затем тень начала изменяться, отчетливее проступили формы, и я увидела серебряную рукоять и лезвие. Это был кинжал.
Мы молчали. Я наклонилась над краем бассейна и протянула руку к оружию. Когда я обхватила пальцами холодную рукоять, меня бросило в дрожь. Я не могла двигаться, будто что-то удерживало меня. Это состояние, когда я готова была выпустить кинжал, длилось лишь мгновение, затем же я взяла себя в руки. Выпрямившись, я внимательно осмотрела свою находку. Искусно сделанная гравировка на лезвии, изящные узоры, три крошечных голубых драгоценных камня на рукояти. Изумительной красоты работа.
У меня сперло дыхание. Я уже видела это оружие!
Не успела я оглянуться, как Бальдур схватил венгерку за волосы и принялся бить ее по лицу. Он наносил удары не кулаком, а ладонью, но у девушки тут же пошла кровь из носа.
— Сознавайся! — кричал Бальдур, понося ее последними словами.
Это было жуткое зрелище. Я была в ужасе. Мне еще никогда не приходилось видеть Бальдура таким. Он, конечно, грубоват, любит кутить с солдатней и встревать в драки. Но по отношению к женщинам он всегда вел себя сдержанно. Его нельзя назвать галантным кавалером, он не увивается за женщинами и старается держаться от них подальше. Заметно, что он смущается в их обществе. А теперь вдруг такая вспышка ярости. Бальдур совершенно вышел из себя.
Я схватила его за руку.
— Перестань, ты меня пугаешь! — крикнула я.
— Тебя? Это она должна бояться.
Странно (я до сих пор растрогана этими его чувствами), но в глазах Бальдура стояли слезы, а в голосе слышались всхлипы.
— Что с тобой? — спросила я.
— Что со мной?! Она убила твоего отца!
Я и не знала, что Бальдур настолько любил моего папу. Конечно, он очень уважал своего графа, но из уважения люди не плачут.
— Мы этого пока не знаем. Возможно, она рассказала нам правду.
— Вот кинжал. Она все это время держала его при себе.
— Ее наверняка обыскали, когда взяли в плен. Ты сам это знаешь, ведь ты присутствовал при этом.
— Да, конечно, ее обыскали, но… — Бальдур не отпускал волосы девушки. — Какая разница?! Значит, она украла кинжал, когда мы возвращались в замок. У нее было на это несколько недель. Мы должны убить ее!
— Мы тут не на охоте, Бальдур. Скажи мне, могли ли обычные солдаты в вашем войске носить столь дорогое оружие?
Я показала ему кинжал, но Бальдур не стал к нему присматриваться.
— Разве что трофейный, — он пожал плечами. — Он мог быть захвачен в битве с венграми.
— Этот кинжал явно был выкован в нашем королевстве.
— Значит, он попал к венграм, когда они напали на нас. Как ты считаешь, зачем мы вообще пошли на них войной? Чтобы вернуть то, что они у нас украли. И чтобы отплатить им той же монетой.
— Посмотри на гравировку, пожалуйста.
— Зачем?
— Посмотри на гравировку.
Бальдур нехотя уставился на лезвие.
— Я не умею читать, ты же знаешь.
— Тут написано «Konradus Rex»[1], — прочитала я.
— И что?
— Король Конрад взошел на престол всего полгода назад, а в этом году венгры не предпринимали нападений на наше королевство. Как эта венгерка получила бы кинжал? Если подумать… Знаешь, мне кажется, что это тот самый кинжал, который король весной подарил моему отцу. Помнишь, я тебе тогда об этом рассказывала? Король прислал папе серебряную шкатулку с дорогим серебряным кольцом и столь же дорогим кинжалом, отделанным серебром. Кольцо папа подарил мне. Шкатулка, насколько я знаю, хранилась в сокровищнице все то время, что вы с папой были в походе.
— Ты уверена?
— Ты наверняка обратил бы внимание на такой кинжал, если бы папа носил его при себе, так?
— Да, но…
— Папа не брал его с собой. Получив подарок короля, он оставил шкатулку в сокровищнице рядом со своими покоями. Как эта девушка могла бы получить ключ от сокровищницы? Да и зачем ей это, если она не знала, что там есть оружие? Это не имеет смысла, Бальдур.
По-видимому, я сумела убедить его. Бальдур с явным облегчением отпустил девушку, и она соскользнула на пол, ослабев от побоев. Мой муж и сам обессиленно прислонился к стене, словно это его только что мучили на допросе. Что это с ним происходит?
— И все же мы оставим ее под арестом.
— Зачем? Она не сделала ничего плохого.
— Она венгерка. И она наша пленница.
— Назови мне причину посерьезней.
— Как скажешь. Ты представляешь себе, какие поползут слухи, если окажется, что убийца твоего отца еще на свободе? Пока мы не найдем настоящего убийцу, дикарка должна оставаться под замком, даже если это не она совершила преступление.
Я вынуждена была признать его правоту. Бальдур приказал вернуть пленницу в комнату, отведенную для нее моим отцом, и выставить перед дверью стражу.
Его подозрения насчет этой девушки не развеялись окончательно. Да и мои, честно говоря, тоже. Я еще многого не понимаю, но одно я знаю наверняка. Я сама найду убийцу и предъявлю ему обвинение. Именно этого ждал бы от меня папа, ведь я его единственная наследница, плоть от плоти, кровь от крови. И когда я выполню это задание, я наконец смогу расплакаться.
Клэр
Я не могла нарушить обычай, поэтому мне пришлось отдать Агапету последние почести. Я должна была просидеть на его могиле целый день, а потом еще и целую ночь. На свежей могиле поставили стул, и я осталась на кладбище одна. Только я и Агапет, который уже начал разлагаться, лежа в своем гробу в трех локтях подо мной. Чтобы защитить меня от солнца, слуги натянули над могилой балдахин, будто огромный саван, развевался он над моей головою, и мне казалось, словно этот саван душит меня, давит на меня сверху, а близость Агапета давит на меня из-под земли. Стрекот цикад сводит меня с ума. Я зажала уши ладонями, мне хотелось вскочить и убежать прочь. Вы не поверите, сколь душным бывает воздух на холме у Рейна, как медленно, как вязко течет здесь время. Казалось бы, место на возвышенности с видом на равнину, поросшую виноградниками и залитую солнечным светом, сулит чистоту, покой, свежесть. Но воздух тут затхл и душен, а время словно остановилось — оно остановилось двадцать шесть лет назад, но завтра оно вновь двинется вперед.
И вот, я сидела там час за часом и ожидала, когда же закончится моя прежняя жизнь и начнется новая. Местность вокруг казалась мне чужой. Я еще никогда не проводила много времени на этом кладбище у подножия замка. Во время прогулок я избегала этого места, а если уж мне приходилось принимать участие в похоронах, я почти всегда смотрела только на могилу и покидала кладбище как можно скорее. К своему изумлению, я заметила, что живописные заросли шиповника вокруг придают этому месту диковинную красоту.
К западу от замка тянутся поросшие лесом холмы. К югу раскинулись цветущие луга, виноградники и змеится тракт, по которому с утра до вечера ездят, поскрипывая, телеги.
С восточной стороны взгляду открываются прирейнские равнины, простирающиеся до самого горизонта. Спуск вниз, в долину, тут не такой обрывистый, как на северной стороне холма, где резко уходит вниз отвесная скала.
А на кладбище только травы легонько колышутся на ветру, однако тут можно полюбоваться водами — к вечеру река в долине превращается в золотую ленту, бросающую отблески на восточные стены замка. Это золотистое свечение придает и каменным стенам, и кладбищу упоительную красоту, и сегодня мне довелось насладиться этим потрясающим зрелищем. Я часто любовалась Рейном, глядя из окна или с крепостных стен, но еще никогда он не оказывал на меня столь сильного впечатления в эти часы, и потому теперь я хочу написать об этих переживаниях, чтобы удержать их. Раньше я никогда не писала, но смерть Агапета пробудила во мне это желание.
К вечеру я услышала пение трех наших с Элисией служанок, Фриды, Франки и Фернгильды. Эти девушки всегда любили петь, но с тех пор, как их суженые пали на войне, песни стали печальными, слышались в них дурные предзнаменования. Некоторые слуги в замке верят, что в этих песнях скрыт пророческий смысл. Я слышу их речитатив:
Та, что грезит,
от сна встрепенувшись,
узрела ужасное
и воплем безумным
встревожила полночь.
Тьма, что черней черной ночи,
сей замок поглотит,
что смертью пропитан.
Когда они допели свою странную песню-причитание, то и стрекот цикад внезапно стих. Вокруг воцарилась тишина, а душа моя исполнилась покоем и светлой грустью. Я вспомнила свое детство, юность, оборвавшуюся вскоре после моего шестнадцатилетия, в день моей свадьбы с Агапетом.
Картины из прошлого сменяли одна другую. Мои семь братьев и сестер. Наши конные прогулки по равнине. Колокольный звон в Лангре. Поцелуй украдкой — мой милый поклонник был не старше меня. Отец, всегда судивший справедливо. Мать, выдававшая замуж одну дочь за другой. Война между Восточно-Франкским и Западно-Франкским королевствами, разорявшая страну… Эту войну нужно было завершить, подписав мирный договор и скрепив его свадьбами, в том числе и моей. Мне в женихи выбрали Агапета, швабского графа, прославившегося своей жестокостью в боях с моими соплеменниками. В одном из сражений Агапет убил юношу, который ухаживал за мной и должен был бы стать моим мужем. Я не хотела выходить замуж за Агапета, который заколол моего возлюбленного и разрушил мое будущее.
Лишь из покорности родителям, настаивавшим на этой свадьбе во благо всей страны, я согласилась. Но когда я впервые встретила Агапета — перед алтарем, — я не сумела сказать ему «да». Я испугалась его глаз. Господи, как же я ненавидела его глаза! Агапет был оскорблен отказом — и вновь пролилась кровь. Страшнее прежнего бесчинствовали солдаты Агапета, они дошли до самого Лангра и захватили некоторых наших верных слуг, в том числе и Бильгильдис, а потом… Через неделю я вышла замуж за Агапета.
Все эти воспоминания промелькнули в моем сознании. С наступлением ночи я зажгла четыре факела, и во тьме они были моим единственным утешением. К средине ночи последний факел догорел, и тогда душу мою внезапно объял страх. Мне показалось, что земля подо мной зашевелилась, и я вскочила со стула. Со всех сторон доносились какие-то странные звуки, я повернулась и увидела, как светятся во тьме кошачьи глаза. Вдруг на меня налетел рой комаров. Замок казался огромной пустынной скалой. Я была совсем одна. Всеми покинутая. Я бросилась на траву и увидела над собой бескрайнее небо, усеянное звездами. Гневливый Бог готов был обрушить на меня карающую длань свою. Я разрыдалась.
Вскоре мне стало холодно, и я вспомнила о том, что Эстульф оставил мне накидку у стула — наверное, чтобы защитить меня от ночного холода, но мне казалось, что сделал он это не только поэтому. Я закуталась в накидку, и мне сразу же стало легче. Чтобы отогнать духов ночи, я взобралась на стул и принялась шептать имя Эстульфа. Его имя слетало с моих губ раз за разом, тысячи раз, и развеивалось во тьме. Я призывала его, как призывают помощь ангелов. Еще никогда я никого не любила так сильно, как Эстульфа, — кроме, разве что, моего сына, которого мне так не хватает вот уже семь лет.
Ночь на моих глазах сдалась перед напором рассвета, горизонт посветлел, в предутренних сумерках проступили контуры реки, небо вновь сделалось голубым, лес — зеленым, а поля — желтыми. Все уже позади. Больше никогда мне не придется бояться Бога или Агапета. Я стала новым человеком, пройдя испытания этой ночью.
Я оставила Агапета позади. Ни я, ни моя душа больше не принадлежат ему. Нет его власти надо мною, над моей жизнью. Теперь он стал лишь холмиком на земле, и вскоре я позабуду, какого цвета были его глаза, как звучал его властный голос, какими крепкими были его холодные объятия. Мне хотелось прокричать об этом на весь мир, крикнуть эти слова солнцу, долине, водам Рейна, лесу, всем селениям людским: «Агапет мертв!» Он мертв. Мертв.
И кто знает, может быть, я и не сдержалась бы, если бы в это мгновение моего триумфа на кладбище не пришла Элисия.
Кара
Прошлой ночью мне вновь привиделся один из этих снов, и я спрашиваю себя, почему сны, за которые меня высмеивали на моей родине, преследуют меня и здесь. Этот сон уже снился мне — это было около пятнадцати лет назад, тогда мне было всего семь.
Я вижу голую равнину, до горизонта нет ни единого холмика, ни единого деревца, только степь. Травы, высокие травы клонятся на ветру, их шелест так приятен. В небе отражается то, что творится на земле: облака, множество облаков, бесчисленное войско облаков движется с востока на запад, как и мы. Я верчу головой, я не могу насмотреться на лошадей, на всадников, на пыль, вздымаемую копытами. Мы величественно скачем по захваченной нами новой земле. За лошадьми неспешно бредут стада коз. Наша семья с другими вождями и их семьями скачет во главе племени. Я сижу на одном коне с моим братом и цепляюсь за его талию. Рядом едет мама, она на одной лошади с моим отцом — Альмошем, его звали Альмош. Я вижу моих сестер, родных, двоюродных и троюродных, они все цепляются за своих братьев, хотя эти мальчишки иногда на много лет младше своих подопечных. Я не понимаю, почему они не могут скакать сами. Нужно поскорее завести собственную лошадь, думаю я.
Кто-то кричит: «Вода, там вода!» Все ликуют, новость распространяется по всему племени. Мы переходим на галоп, и теперь вся равнина за мной окутана желтой пылью, сверкающей на солнце. А передо мной вода. Озеро, синее, огромное — едва виден противоположный берег. Мы смеемся, плещемся, радуемся.
Затем наступает вечер. Багряное солнце медленно опускается в воды озера. Мы с мамой идем по берегу, и вдруг я замечаю в воде что-то зеленое.
— Это водоросли, — объясняет мне мама. — Нет, радость моя, их нельзя есть, выброси их.
Водоросли такие скользкие… Это веселит меня, мне хочется поиграть. Я набираю целую пригоршню водорослей и пытаюсь попасть ими в маму, но у меня ничего не получается.
— Ну, держись, — шутливо грозит мне мама и бросает в меня склизкие зеленые листья, но и она промахивается.
Мы начинаем наш шуточный бой, но для меня он становится все серьезнее. Я изо всех сил стараюсь попасть в маму, а она даже не особо пытается уклоняться от моих снарядов. Это еще больше распаляет меня. И наконец у меня получается! Отвратительная скользкая ветка водорослей попадает ей в лицо, более того, она липнет к коже. Будто опухоль, она тянется по лбу, через левый глаз и крыло носа, через губы к подбородку. Довольно забавное зрелище, на самом-то деле. Но я почему-то пугаюсь. Мама снимает ветку с лица. Она смеется.
Я бегу к ней.
— Мне так жаль, мамочка, мне так жаль, пожалуйста, прости меня, я не хотела, клянусь всеми богами, я не хотела…
— Все в порядке, радость моя, ты же меня не убила, просто плеснула мне водой в лицо.
Мама смеется.
А я плачу.
Я даю себе клятву, что больше никогда не обижу маму.
Впервые увидев этот сон, я рассказала о нем матери, а она удивленно посмотрела на меня и сказала:
— Но это был не сон, радость моя. Это произошло на самом деле. Два года назад, помнишь? Нет? Ну что ж, тогда ты была очень-очень маленькой. Но все было именно так, как ты и говоришь.
— Я увидела это во сне! — настаивала я.
— Может быть. Значит, ты увидела во сне явь. Это немного странно, потому что обычно мы видим во снах то, чего не было. Или то, что было, но в каком-то искаженном виде. Бывает и так, что мы видим то, чему еще суждено случиться. Но такое происходит только тогда, когда боги хотят повлиять на нашу судьбу. По крайней мере, так говорят жрецы. Но ты не должна волноваться из-за этого. Ты увидела то, что уже было с тобой.
Моя мама была права. С тех пор я стала видеть во снах события прошлого, о которых я помнила. Только тот случай у озера я так и не смогла вспомнить, наверное, потому что была тогда совсем мала. Сны не были кошмарами, и после них я никогда не просыпалась в дурных чувствах, но мне все равно казалось немного странным то, что во сне я вновь и вновь проживаю свое прошлое.
Последний такой сон приснился мне семь лет назад, после смерти моего отца, и я полагала, что эти сны прекратились.
Ко мне пришла немая служанка. Она принесла мне кусок хлеба и кувшин с водой. Я жестами попросила ее принести мне еще воды, но она лишь рассмеялась — это был жутковатый звук, смех, напоминавший крик дикого зверя. Мне пришлось выбирать, буду ли я пить эту воду или же использую ее для того, чтобы отмыться. Кровь Агапета до сих пор на моей коже. Я не вижу ее, не чую, не чувствую, но я знаю, что она там. У меня зудит спина, чешется грудь и горят ладони. Это сводит меня с ума. Все мое естество молит меня о том, чтобы смыть кровь. Но я пью воду. Когда тело и душа борются за выживание, всегда побеждает тело. У него больше опыта в этой борьбе. Тело сражается с безжалостным миром, который пытается тебя убить с первых минут твоего существования, в то время как душа не сразу осознает то, что творится вокруг.
Когда немая служанка заметила написанное мною — я нацарапала слова острым камешком на стене, — она оттолкнула меня и уставилась на надпись. На венгерском, конечно. Я увидела ненависть в ее глазах. Прорычав что-то, она повернулась и ушла.
Никто в этом замке не понимает ни слова по-венгерски, а если здешние возьмут в плен других венгров, никто не выдаст меня, дочь вождя, ибо боги покарали бы за такое преступление. Нельзя, чтобы здешние узнали, кого они взяли в плен. Думаю, что это привело бы к моей погибели.
Элисия
С утра я отправилась на кладбище, чтобы рассказать матери о том, что мне удалось выяснить об орудии убийства. Придя на могилу отца, я сразу же увидела, что ночью мать плакала.
— Доброе утро, дорогая.
— Доброе утро, мама. Ты завершила свое ночное бдение, и, если ты позволишь, я займу твое место на могиле до вечера.
— Конечно, милая. Я хотела объяснить тебе, почему я…
— Прежде чем ты уйдешь, я должна задать тебе один щекотливый вопрос. Он связан с убийством отца.
— Какие у тебя стали тонкие губы, родная. Они ведь у тебя такие красивые, полные, нежные, а ты поджимаешь их… Не вини меня в этой истории с похоронами.
— Истории! — выдохнула я. — Ты так это называешь?
Но я не хотела начинать скандалить на могиле отца. Мать приняла решение, которое мне не нравилось, и теперь я буду принимать решения, которые меня устраивают. И при этом я ни на кого не буду оглядываться. Мой отец мертв. Его я слушалась во всем, и ради него я всегда вежливо общалась с матерью, хотя, видит Бог, мне это нелегко давалось. Теперь же с этим покончено.
— Сейчас есть вещи и поважнее, о которых нам следует поговорить, — сказала я. — Я имею в виду свершившееся преступление. Я сделаю все, что необходимо, чтобы покарать преступника, и уже начала вести расследование. Этот кинжал лежал на дне бассейна, в котором умер отец, — я вытащила оружие из складок платья и передала его матери. — Ты узнаешь его?
Мать едва скользнула по лезвию взглядом и уставилась на меня.
— Я часто видела этот кинжал в покоях твоего отца.
— Нет, это не совсем так. За несколько недель до того, как отец отправился на войну с венграми, гонец короля Конрада передал ему серебряную шкатулку. В ней лежало кольцо и этот кинжал. Ты помнишь?
— Что-то припоминаю.
— Я сразу пришла в восторг от того чудесного кольца. Папа тогда еще посмеялся надо мной, сказал, мол, я люблю украшения, как и любая женщина, и пообещал мне это кольцо в подарок, если он вернется из похода с победой.
Мать побледнела — не знаю почему. Наконец она сказала:
— Об этом я ничего не знала.
— Как ты могла забыть? Не каждый же день король делает графу такие дорогие подарки. Отец положил шкатулку в сокровищницу, ту, которая поменьше. Вчера я заглядывала туда через решетку. Шкатулка все еще стоит там, но она открыта. И кинжала в ней нет.
— Я же сказала, твой отец оставил кинжал в своей комнате. Любой мог взять его. Из-за пира в честь возвращения Агапета эту комнату не охраняли.
— Кинжал был в сокровищнице именно потому, что любой мог бы взять его, если бы оружие валялось у всех на виду. Отец ни за что бы не оставил столь дорогую вещь без присмотра. И я никогда не видела у него кинжал.
— Да и как бы ты его видела? Агапет был в походе, ты не входила в покои отца после его отъезда. В отличие от меня. Эстульфу приходилось заходить в сокровищницу, чтобы сложить туда собранную подать или, напротив, взять оттуда деньги на покупки. Он часто просил меня открыть ему сокровищницу, и при этом я проходила через комнату твоего отца и каждый раз видела кинжал.
— Как странно. Я тоже много раз заходила в папины покои, чтобы положить там туники, которые я для него сшила. Несомненно, я бы заметила кинжал. Но он не попадался мне на глаза.
Я ожидала, что мать ответит мне что-нибудь, но она молчала, и я заметила, как беспокойно мечется ее взгляд.
— Только у двух людей, — продолжила я, — был ключ от сокровищницы, у тебя и у отца. А теперь объясни мне, как кинжал из шкатулки оказался в купальне.
— Ты же не хочешь сказать, что…
— Возможно ли, что кто-то взял твой ключ, который ты хранишь в выемке в стене рядом с сокровищницей, о чем знаю даже я?
Пару мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Во взгляде матери вспыхнула решимость.
— Я начинаю уставать от твоих расспросов, Элисия.
Больше она мне ничего не сказала.
Элисия
Может быть, она немного расстроена из-за того, что я расспрашивала ее с таким рвением. Она не любит раздоров, даже если дальше слов дело не заходит. Для матери жизнь должна быть теплой и уютной, чтобы она чувствовала себя хорошо. Что ж, за исключением той трагедии с Оренделем, ей действительно удалось создать для себя такие условия. Признаюсь, ночью перед этим разговором мне в голову навязчиво лезли не очень-то лестные мысли о моей матушке, но сейчас я принуждаю себя к справедливым суждениям. Я предполагаю, что кто-то сумел пробраться в сокровищницу и взял там кинжал. Не стоит с ходу отметать и возможность того, что папа действительно взял это оружие с собой в поход, хотя Бальдур и утверждает, что заметил бы такой дорогой кинжал. Но я не верю в то, что отец бросил столь драгоценный и в прямом, и в переносном (это ведь подарок короля!) смысле предмет в своей комнате, к тому же я его там не видела.
Если бы решение принимала моя мать, она объявила бы расследование завершенным и казнила бы венгерскую девушку. Но я продолжу расследование. Как только Бальдур станет графом, мне будет легче опрашивать людей, к которым я еще не могу подступиться.
***
Время, проведенное на кладбище, пошло мне на пользу. Я вспоминала прошлые годы, дни и часы, проведенные с моим отцом. Покой — странное состояние, оно может возникнуть в совершенно неожиданном месте, если рядом правильный человек, а моему отцу удалось даже собственную могилу сделать тем местом, где я чувствовала себя в безопасности. Он всегда был моим спасителем, посредником между мной и миром, который мне не всегда нравился.
Все началось с того, что он помог мне подружиться с жителями замка. Это самое раннее мое воспоминание о нем. Мне только исполнилось шесть лет, и у меня не было друзей моего возраста. Отец избавил меня от одиночества. Мой брат был еще совсем мал, а дети слуг избегали меня. Бильгильдис была немой, а папа часто отправлялся в разъезды. В результате я переняла материн говор, за что дети в замке посмеивались надо мной: моя мать говорила с сильным акцентом, свидетельствовавшим о том, что она родом из Западно-Франкского королевства. Я очень страдала от этого, но папа спас меня. Он заставил старшего сына Бильгильдис и Раймунда играть со мной, чтобы я могла избавиться от акцента. Я помню, что мать возражала против этого — мол, как это так, дочь графа будет играть с сыном слуги!
Знаете, воспоминания — это вообще очень странная штука. Ты знаешь наверняка, что что-то случилось, но образы, отложившиеся в твоей памяти, кажутся какими-то ненастоящими…
Только сегодня, стоя на могиле отца, я поняла, каким счастливым было мое детство. Детство, кончившееся, когда умер папа. Для мира — мне незачем себя обманывать — я всего лишь какая-то молоденькая дочурка графа в каком-то замке на Рейне. Но для моего отца я была целым миром. Теперь же с этим покончено. Нет человека, который бы заботился обо мне. Я осталась одна.
Только что Бальдур сообщил мне о том, что случилось. Я не могу поверить в то, что они это сделали.
Бильгильдис
Ровно пять дней назад Агапет умер, и с тех пор в этом обычно столь скучном замке началась такая катавасия, что я о таком даже и подумать не могла. Между Элисией и графиней разгорелась настоящая война за власть в замке. Собственно, сейчас у нас две графини, и я принадлежу им обеим.
Три дня назад, когда Элисия несколько запоздало отправилась на могилу Агапета проститься с отцом, графиня созвала в замке собрание. Пришли: Бальдур как командир стражи и зять покойного графа; кастелян Эстульф; настоятель монастыря Св. Трудперта; старосты и деревенские священники из соседних селений; представители гильдии купцов из Брейзаха, Церингена и Кольмара. Мой супруг Раймунд и я сама стояли неподалеку от собравшихся на тот случай, если госпоже что-то понадобится. Графиня, выйдя к гостям в белом, играла роль безутешной вдовушки, но нужно сказать, что она сильно переигрывала. Она извинилась перед гостями за столь скоропалительные похороны, приняла соболезнования и «погоревала» немного, излив свою мнимую скорбь в слова грусти.
Впрочем, долгие разглагольствования о том, как больно ей было потерять мужа, были бы совершенно неуместны, ибо не успела наша Клэр отдать последние почести Агапету, как она сказала:
— Так как у нас с моим супругом не осталось наследников, я считаю своим долгом позаботиться о том, чтобы в замке как можно скорее появился новый граф. Бремя забот, возложенное на графа, слишком велико, чтобы мы могли медлить. Бурхард, герцог Швабии, и король Конрад должны быть уверены в том, что наше графство, расположенное на границе королевства, находится в надежных руках. Поэтому я приняла, признаю, несколько неожиданное решение не выжидать время траура, который должен длиться целый год, а сегодня же повторно выйти замуж. В качестве своего нового супруга я избрала распорядителя Эстульфа. Уверена, Агапет поддержал бы меня в этом решении. Для него безопасность графства всегда была на первом месте, к тому же по возвращении из похода он высказывал свое одобрение по поводу проведенной Эстульфом работы. Я прошу собравшихся здесь поприветствовать нашего нового господина. Да здравствует Эстульф!
Графиня все очень хорошо продумала. Все собравшиеся здесь старосты очень тепло относились к Эстульфу, поэтому они сразу подхватили ее клич: «Да здравствует Эстульф!» Поддавшись общей атмосфере ликования, поддержали Эстульфа и купцы. Сельские священники широко улыбались, а аббат перекрестил новоиспеченного графа. Бальдур вообще не понял, что произошло, он просто стоял и смотрел на всех собравшихся, как баран на новые ворота. Я уверена, если бы он перебил графиню и не дал ей произнести эту речь, ничего бы не случилось. По крайней мере, если бы он попытался противостоять Клэр, то купцы и духовенство не стали бы вмешиваться в их спор, и, кто знает, наверное, умолкли бы и старосты. Возможно, Бальдур мог бы спасти положение и сразу после того, как все прокричали «Да здравствует Эстульф». Для этого ему нужно было громко и отчетливо высказать свое недовольство. В конце концов, Бальдур ведь командир стражи! Одного его приказа было бы достаточно для того, чтобы разогнать это собрание и продемонстрировать собственную силу.
Но если на поле боя Бальдур был полон отваги и решимости, то когда речь заходила о подобных интригах, он терялся. Его застали врасплох, и Бальдур, смутившись, не смог и рта открыть. Стоя с каменным лицом, этот дурак наблюдал за церемонией венчания, проведенной отцом настоятелем, и не произнес ни слова!
Ах, как бы мне хотелось присутствовать при том, как Бальдур расскажет Элисии о происшедшем! Но, к сожалению, даже мне не удается находиться в двух местах одновременно, а графине нужна была моя помощь в приеме гостей. К вечеру, когда уже стемнело, Клэр вспомнила о своей дочери и послала меня за Элисией.
Если бы наши чувства могли влиять на погоду, то в комнате Бальдура и Элисии с потолка свисали бы сосульки. Видимо, они уже поговорили и сказали друг другу все, что могли. Бальдур, не двигаясь, сидел на лежанке в позе уставшего кучера, а Элисия бегала туда-сюда по комнате. Ее волосы растрепались, лицо раскраснелось.
— Бильгильдис! — воскликнула она, увидев меня. Подскочив ко мне, Элисия схватила меня за плечи, будто собиралась поднять меня и перенести куда-то, и заглянула мне в глаза. — Как такое возможно? Какая наглость! Какой позор для нашего дома! Вдова, гуляющая на свадьбе! Земля на могиле моего отца еще не подсохла, а она уже выходит замуж! Мир вокруг ликует, а мои предки переворачиваются в гробах. Ах, если бы я тогда была в зале, уж я-то поставила бы этого Эстульфа на место! — Она покосилась на Бальдура, сидевшего с поникшей головой. — Бильгильдис, только ты понимаешь, что я сейчас чувствую, и я знаю, ты разделяешь мои чувства. Этот позор пал и на тебя. Это позор для всего замка!
Они так привыкли к тому, что я нема, что, разговаривая со мной, они будто ведут беседы сами с собой. Я для них словно игрушка, обезьянка, от которой не стоит ждать собственного мнения, а уж тем более ответа.
— Нам нужно действовать, — заявила Элисия. — Это самовольное назначение нужно отменить. Ты командир стражи, Бальдур, ты можешь это сделать.
— Аббат повенчал их и благословил.
— Потому что ты это допустил.
— Да-да, ты мне уже сотню раз это сказала. Я должен был сделать то, я должен был сделать это. Должен был. Но не сделал. Все произошло так быстро. И кроме того, еще не было принято решение о том, что я стану графом. Да, Агапет хотел сделать меня своим наследником, но не все формальности были улажены.
— О чем ты говоришь?
— Во время похода твой отец сказал мне, что хочет признать меня своим официальным наследником, чтобы уладить вопрос о том, кто станет следующим графом.
— Отец хотел… Но это же…
— Что? Невероятно?
— Удивительно.
— Почему? Я был его самым верным спутником. Я сражался с ним плечом к плечу.
— Это все хорошо. Просто… Ты ничего не говорил мне об этом.
— Времени не было. Мы вернулись из похода, переоделись, сели пировать. Я собирался тебе сказать, но теперь что уж об этом говорить? Агапет не признал меня своим наследником, значит, я просто его зять, а зятья — не сыновья.
— Но это зятья. Если отец хотел признать тебя наследником, он хотел сделать тебя новым графом. И мы, черт побери, выполним его волю.
— Наш разговор идет по кругу. Отец настоятель уже заключил этот брак и благословил его, нам с этим ничего не поделать. Эстульф — муж твоей матери. А она — графиня.
— Но это не делает Эстульфа графом.
— Я не могу приказать моим солдатам напасть на него, Элисия. Все видели эту свадьбу, видели, что этот союз благословлен церковью. И никто не возражал против того, чтобы Эстульф стал графом.
— И все-таки это несправедливо. Мы обратимся к королю.
— Твой отец был графом, а не пфальцграфом[2], Элисия, а значит, мы подчиняемся герцогу Швабии.
— А если мы пожалуемся на совершенное преступление? Такие вопросы должен решать суд. В какой суд мы должны были бы обратиться по закону?
— В наш, конечно. Агапет как граф был верховным судьей в здешних краях, теперь же Эстульф стал его преемником.
— Но Эстульф не может на суде определить собственную вину.
— В этом ты права. Самый влиятельный суд в герцогстве — в Констанце.
Она сразу же написала письмо, я даже помогла ей с формулировками, хотя мне и не нравится то, что девчонка не верит в вину этой венгерской твари. Представитель суда, только этого мне тут не хватало. Но если уж Элисия себе что-то вбила в голову, то так тому и быть. А она любит забивать себе голову всякой чепухой. «Мой папа хотел, мой папа сказал бы, мой папа сделал бы…»
Отправив гонца с письмом в Констанц, Элисия с Бальдуром начали опрашивать стражу и слуг. Посмотрим, что из этого получится. Адаму и Еве яблочко с Древа Познания не пошло впрок, вряд ли оно придется по вкусу Элисии с Бальдуром. Они еще пожалеют, что заварили всю эту кашу. Нужно казнить эту венгерскую шлюху, и делу конец. По-моему, графиня хочет того же, но она еще не решается вынести такой приговор, ибо очень уж он похож не на правосудие, а на месть приревновавшей супружницы. Но если уж она решится казнить эту сволочь, то, пожалуй, впервые в жизни удостоится моего одобрения.
Венгры убили моих сыновей. Я не прощу им этого. Один за другим дети мои выходили против этих дикарей, которые грабили и жгли деревни, все глубже проникая на наши земли. Мои сыновья уходили на войну. И погибали. Старший сын погиб на поле боя в честном сражении, среднего подло застрелили из засады, а на третьего напали и зарубили мечом. Я даже не получила их тела. Мои слезы проливались на землю, но не на этой земле пали мои сыночки. Где их могилы? Какие слова последними сорвались с их губ? Они уходили на войну юношами, а вернулись призраками, как и многие, многие другие. От них остались только имена — Геральд, Герберт, Гарет, три вздоха, три имени, вот и все. И да, от них остались три невесты, три девушки, обещанные им в жены. Теперь этим девчушкам уготована судьба старых дев, и им остаются только слезы. Это странные рыжеволосые создания, которые живут тут же, в замке, и не девицы, и не вдовы. Фрида, Франка и Фернгильда. Они служанки графини и Элисии, и я присматриваю за ними, хотя они крепостные, как и я. Эта троица всегда выглядит так, словно знает заранее, что случится что-то ужасное, но когда что-то плохое действительно случается, они принимаются рыдать. И что мои сыновья нашли в этих плаксах… Ах, да какая уж теперь разница!
Надо найти в себе мужество и умереть наконец. Надо. Но последняя смертельная игра только начинается. И начинаются мои записи. Я пишу угольным карандашом на бумаге, чтобы когда-нибудь кто-то узнал, какие раны мне нанесли, какую боль причинили, сколько горя принесли.
Клэр
Для кого ты пишешь, Клэр? Для Господа? Он и так все знает. Ради себя самой? И на что ты надеешься? Ни на что. Счастье — вот мои чернила. Я пишу, чтобы поделиться своим счастьем, чтобы излить его на пергамент, а потом, улыбаясь, смотреть на свое отражение в веренице букв. Жизнь заиграла новыми красками, она стала удивительным местом, полным чудес и тайн, которые мне еще предстоит узнать. Я проникаю в новую, чужую страну, имя которой — любовь. Я не знаю, что ждет меня, какие приключения мне предстоят.
Но разве может это быть плохая страна, если в ней счастье прорывается изнутри наружу и вдруг проявляется в качании ветки, в пролетающем облачке, во вздохе, в шелесте листвы под ногами на лесной тропинке, во вкусе виноградины, в тунике, сшитой мною для нового супруга, — любовь всему придает особое значение, а счастье дарит всему новую глубину.
Может, я пишу глупости. Это станет ясно лишь в будущем, ибо лишь по прошествии времени можем мы определить, были ли мудрыми или глупыми чьи-то слова. Подумай об этом, Клэр, когда настанет день, в который ты будешь читать эти строки вновь.
***
Днем я радуюсь предстоящей ночи, а утром — наступлению дня, и так уже целую неделю, со времени свадьбы. Я и раньше знала, теперь же убедилась в том, что Эстульф не только отличается от Агапета как человек, он и как граф станет вести дела совсем по-другому. В нашу брачную ночь, которая стала для нас очередной ночью, полной любви и ласк, и первой ночью, когда тень Агапета не стояла за нашими плечами, Эстульф шепнул мне:
— Ты должна сказать мне, Клэр, если я как граф приму глупое решение, зайду слишком далеко, потребую невозможного, если я…
— Невозможно лишь то, что мы не можем помыслить, любимый. Когда ты думаешь о чем-то, ты уже совершаешь первый шаг на пути к достижению цели, и невозможное становится возможным. Ты не допустишь ошибки.
Он притянул меня к себе, и я коснулась губами его выбритого подбородка, впилась поцелуем в его уста. Его черные глаза блестели в темноте.
— Иногда мне кажется, что мы с тобой родились в одно и то же мгновение, Клэр, настолько схожи наши мысли.
— Мне сорок два, а тебе тридцать пять.
— Значит, этому должно быть другое объяснение. Некоторые мистики говорят, что до момента рождения человека его душа пребывает в особом месте. Месте, где роятся еще не воплотившиеся души, и если эти души случайно сталкиваются…
— Они набивают себе шишки. — Я легонько стукнула его по лбу, и мы рассмеялись.
А потом наши ноги и руки переплелись, как были переплетены наши чувства, надежды, наши мысли и наше счастье, в общем, наша судьба. И если даже раньше мы не были уверены в этом, то с этой ночи мы знали наверняка: пред ликом Господа мы муж и жена.
— Наши души устали, но мы идем по одной дороге, мы идем по ней вместе, и нам нет дела до того, что люди называют невозможным или глупым. У тебя есть идеи, новые идеи. Мы часто говорили об этом. Огонь в твоем сердце — это то, что я полюбила, ибо этот огонь горит для людей, а не для себя самого. В сердце Агапета тоже горел огонь, но он был нужен ему лишь для того, чтобы снискать славу на поле битвы. Я же видела, как ты заботился о деревнях, как болело у тебя сердце за сирот, калек и убогих, и я заметила, что сердце твое полно не только сочувствия, но и разочарования оттого, что ты ничем не можешь им помочь.
— Я никогда не говорил с тобой о своем разочаровании, — помолчав, сказал Эстульф.
— Разве мы только что не говорили о нашей близости? Я знала, что ты чувствуешь, и страдала вместе с тобой. Бедный Эстульф. Были дни, когда больше всего на свете тебе хотелось изменить ход вещей.
— Д-да, — неуверенно протянул он, хмурясь.
А потом, словно устыдившись такого ответа, он поцеловал меня, и его поцелуй был долгим и нежным. Не отрывая уст от моих губ, Эстульф склонился надо мной, его волосы упали мне на лицо, глаза влажно блеснули.
— Скажи мне, — спросил он, — это плохо, что я не так хотел стать графом, как жениться на тебе?
Я мягко улыбнулась.
— Плохо ли это? Это прекрасно. Ты нравишься мне таким, какой ты есть, Эстульф. Будь таким графом, каков ты муж, и таким мужем, каков ты граф. Вместе мы воплотим в жизнь твои желания, ставшие и моими. Я верю в тебя, Эстульф. Будем же мужественны. Агапет был трусом и только в бою отваживался рисковать жизнью. Мне кажется, не то страшно, что он умер, а то, какая смерть настигла его, — коварное убийство в купальне. — Я улыбнулась.
Эстульф покрыл мое лицо поцелуями.
— Будь у Агапета пять тел, он пожертвовал бы всеми ими, лишь бы обрести героическую смерть в бою.
Мы засмеялись.
— Наверное, там, где он теперь, ему очень скучно без меча.
— Поэтому я и приказал положить в его могилу меч.
— Быть этого не может!
— Может. Ты же сама сказала, что я должен взять на себя все хлопоты, связанные с похоронами. По-моему, я все сделал правильно. Когда наступит Страшный Суд, Агапет будет во всеоружии.
Мы прыснули. На свадьбе мы выпили немало вина, но не вино дарило нам веселую злость и толкало на богохульство. Мы были счастливы. Счастливы оттого, что будущее принадлежит нам, а не Агапету.
— Бедный Агапет! — крикнула я, захлебываясь от смеха.
Когда мы успокоились, Эстульф, помолчав, повторил мои слова:
— Бедный Агапет… — прошептал он и склонился надо мной.
Эстульф возлег со мной во второй раз этой ночью, и я любила его, словно разгоняя все зло, скопившееся в этих стенах. Жаром любви я хотела развеять призраков Агапидов, которые жили, любили, зачинали и рожали в этом замке. Мы свергли Агапидов с графского трона нашими поцелуями.
Под утро, когда наступила та особенная, предрассветная тишина, Эстульф, прижавшись грудью к моей спине и нежно проведя кончиками пальцев по моему животу, спросил:
— Ты не боишься?
— Чего?
— Не знаю… Того, что у нас не получится воплотить в жизнь задуманное.
— Нет.
— Как ты это делаешь, Клэр? Как тебе удается победить страх?
— Очень просто. В моей жизни было слишком много страха, и в какой-то момент мое тело отказалось испытывать это чувство. Во мне не осталось и капли страха — он весь вышел из меня, когда я сидела на могиле Агапета. Если ты боишься, Эстульф, то приходи ко мне. Тебе не найти человека, который знал бы о страхе больше, чем я. И боялся меньше, чем я. Я не знаю, сколько дней жизни мне осталось, но эти дни не будут принадлежать ни ужасу, ни мыслям о Господе. Только мне.
На следующий день было воскресенье, и мы отправились в деревушку Арготлинген у подножия горы, на которой стоит наш замок. По традиции при особых для графской семьи событиях — таких, например, как появление нового графа, — он должен раздать народу милостыню. Но Эстульф хотел большего. После воскресной службы он раздал собравшимся деньги, но этим не ограничился. Он попросил крестьян рассказать ему о своих бедах, если это несчастья, в устранении которых может помочь граф. Такого я еще никогда не видела. Около тридцати мужчин и женщин стояли вокруг нас и молчали. Я видела женщин, выглядевших лет на десять старше меня и при этом державших на руках младенцев; старцев, дряхлых, как Лазарь; я видела запавшие глаза детей, руки мужчин, тонкие, как виноградная лоза; видела изношенную одежду и рваные сандалии. Деньги, которые шли на ведение «сладкой войны», как любил называть ее Агапет, шли от крестьян, кроме того, это крестьянские сыновья отправлялись в походы. Война явно не была усладой для тех, кто страдал от нее в наибольшей мере. По меньшей мере десяток крестьян могли бы поведать нам о своих горестях и напастях, но люди словно онемели после тысячелетнего молчания.
Эстульф повторил свой вопрос, ободряя крестьян, но те лишь смиренно опустили головы. Эти крестьяне всегда с уважением относились к доброжелательному распорядителю замка, теперь же, когда он стал графом, люди испытывали к нему чуть ли не благоговение и не отваживались заговорить с ним. Только деревенский священник в конце концов решился высказать свою просьбу — он хотел поставить в арготлингской часовенке маленькую резную статую Богородицы. О помощи просила мать наша церковь, которой все платят десятину, вот только она не передает деньги крохотным деревенским церквушкам, и им приходится обращаться к дворянам. Эстульф пообещал выполнить просьбу священника, но я чувствовала, что мой муж расстроен тем, как прошло собрание. Он рассчитывал на совершенно иной исход.
Мы уже начали подниматься на гору, когда Эстульф вдруг остановился и повернулся к крестьянам.
— Ни один из вас не наестся сегодня досыта. Даже в воскресенье у вас нет вдосталь пищи, но вы молчите! Почему? — Он говорил громко, требовательно. — Почему? Я хочу знать!
Деревенский священник хотел ответить, но Эстульф перебил его:
— Нет, я хочу, чтобы на этот вопрос ответил кто-то из крестьян.
Над толпой повисло неловкое молчание.
— Милостивый господин, — наконец сказала одна из деревенских женщин. — Урожай в этом году был небогат.
— Да, — кивнул Эстульф. — Это действительно так, и я ничего не могу с этим поделать. Но рыбы в реке достаточно, чтобы все наелись.
Крестьяне переглянулись.
— Милостивый господин, — сказал один старик. — Рыба принадлежит вам, а вы разрешили отлов и продажу рыбы только купцам.
— Неправда, — возразил мой супруг. — Это сделал граф Агапет. А перед ним точно так же поступил его отец. И отец его отца. Но теперь все изменится. Я разрешаю в этом графстве любому, кто проживает в селении, прилегающем к Рейну, ловить в реке рыбу для личного употребления. С сегодняшнего дня вам дозволяется ловить форель, угрей, карпов, гольцов, щук, линей и лосось, но только для того, чтобы эту рыбу ели ваши родные. Вы можете съедать рыбу сразу или засаливать ее на зиму. Продавать рыбу запрещено, эта привилегия по-прежнему принадлежит купцам.
Эхо этих слов разнеслось над толпой. Все стояли как громом пораженные. Полагаю, в этот момент крестьяне еще не поняли значение этого графского дозволения. Но когда Эстульф вновь вскочил на лошадь и мы со своей небольшой свитой выехали из Арготлингена, мы услышали, как в деревне поднялся гам, и наконец кто-то радостно вскрикнул.
Я протянула Эстульфу руку, и мы улыбнулись друг другу.
Отослав свиту в замок, мы пошли вдоль реки, ведя лошадей в поводу. Мягкое сентябрьское солнышко играло на волнах Рейна, над лугом порхали бабочки с пурпурными крыльями, гудели пчелы. Могучие воды этой величественной реки были не только источником силы здешних земель, они стали источником силы для нас с Эстульфом. Еще никогда я не чувствовала себя такой… непобедимой. Бессмертной. Ради такого дня, как этот, стоит жить. Мои раны закрылись.
Мы почти не разговаривали, гуляли, время от времени присаживаясь на берегу и глядя на отражение наших лиц в зеркальной глади реки.
Наши отражения… Мужчина, уже немолодой, с бакенбардами, тянущимися от висков к верхней губе, с усами, но без бороды. Каштановые волосы до плеч, черные глаза, четко очерченные восхитительные губы, высокий выпуклый лоб. Женщина, болезненно хрупкая, тоже уже немолодая, с высокими скулами, маленьким носом, черными спокойными глазами, красиво заплетенными белокурыми косами, на лице легкая прозрачная вуаль.
В реке наши отражения переплетались, сливались в одно, и это очень нам нравилось.
Когда мы уже довольно далеко отошли от селения и приблизились к заболоченным полям, Эстульф разговорился.
— Нам надо осушить эту местность, — заявил он. — Только представь себе, тут будут пахотные земли, и тогда крестьяне из трех окрестных деревень смогут выращивать тут урожай. Так повысится и их благосостояние, и наше. Мы будем получать больше подати, и пустим эти деньги на что-то другое.
— А ты знаешь, как это сделать? Как осушить болото?
— Пару лет назад я читал трактат об осушении понтийских болот римлянами. Нам нужен будет хороший проект, на это уйдет время. Но в следующем году мы сможем покончить с этим болотом.
Я могла бы слушать его денно и нощно. Его рвение в подобных вопросах, не касавшихся его лично, делало для меня этого мужчину неотразимым. А когда мы были вместе, я все время чувствовала, что Эстульф испытывает то же самое. Я понимала его, а ему нужно было понимание. Редко бывает, чтобы двое людей так хорошо подходили друг другу.
Сегодня вечером я решила открыть ему мою величайшую тайну.
Я до сих пор до мельчайших деталей помню тот день семь лет назад. Помню, что я ела, пила, что надела в то утро, помню, что мартовское солнце светило, но не грело, помню, где во дворе стояла лошадь, на которой сидел мой сын. Я до сих пор слышу, как он кричит мне: «До вечера, мама!» Я чувствую на себе взгляд Агапета, запрещавшего мне махать сыну рукой на прощание. Я вижу, как мой мальчик с двумя оруженосцами выезжает из ворот замка, и спрашиваю себя, правильно ли я поступила.
За несколько дней до того я пыталась отговорить Агапета от его намерений в отношении нашего сына.
— Мой сын должен обучиться военному искусству, — говорил мой муж. — Это неизбежно.
— Ему двенадцать лет, Агапет.
— Да, и когда ему исполнится тринадцать, он отправится со мной на войну.
— Он слишком молод для этого.
— Мне тоже было тринадцать, когда отец начал мое обучение. К сожалению, тогда не было войны, на которой я мог бы проявить свои умения. Мне пришлось ждать, пока мне не исполнилось семнадцать.
— Орендель не такой, как ты.
— Я не желаю этого слышать. И я не хочу, чтобы ты называла его Оренделем, ты это прекрасно знаешь. Моего сына зовут Агапет. Он должен носить мое имя.
— Весь замок называет его Оренделем. Он и сам себя так называет.
— Вот видишь! Именно поэтому нужно поскорее научить его обращению с оружием. Нужно избавить его от всей этой чепухи, от пристрастия к писанине, певулькам и всяческим измышлениям… Орендель, что это за имя? Это имя для жалкого барда, а не для воина!
— Но он не хочет быть воином. Он не создан для этого.
— Он мой сын! Конечно, он создан для этого! Это ты виновата в его странностях. Я слишком долго позволял тебе заниматься его воспитанием. Вот видишь, к чему это привело. Он стал мягкотелым увальнем.
— Это неправда. Он по многу часов помогает кузнецу, а в его возрасте на такое способен не каждый. И он умело управляется с молотом и наковальней.
— Да, и что он там делает? Он кропает бронзовые модельки дворцов, замков и церквей. Мальчишка пошел к плотнику и сделал себе в его мастерской лиру. Сам! К чему это все?
— Так он выражает свои творческие…
— Если уж он, черт побери, кует и вырезает по дереву, то пусть хотя бы кует мечи и выстругивает стрелы, которыми он потом сразит врага!
— У Оренделя нет врагов, и он не хочет их заводить. Он не хочет идти на войну.
— Во что превратится мир, если дети будут делать то, чего они сами хотят? Так не бывает!
Мне все эти наставления были ни к чему. Я и сама знала, что жизнь часто дает нам вовсе не то, что мы хотим, и приходится подстраиваться под сложившиеся обстоятельства. Я почти не знала своего мужа до свадьбы, и он мне не нравился. Поэтому-то вначале я и отказалась выходить за него замуж. Но в конце концов я поняла, что этот брак необходим для заключения мира между нашими народами. И я должна была родить Агапету детей, таков был мой священный долг как женщины. А вот отправлять своего ребенка на войну — это уже другое. Все матери боятся, что их дети погибнут в сражении, но за Оренделя я боялась вдвойне, ведь война была не в его природе. Агапету скорее наскучат женщины и вино, чем азарт схватки, но Орендель был скорее склонен к творчеству. Стихи, которые он писал, подхватывали барды, и уже вскоре девушки в замке пели сочиненные Оренделем песни. Слуги насвистывали его мелодии, а стражники цитировали его слова, когда хотели произвести впечатление на своих избранниц. И все это без какого-либо моего вмешательства. Я лишь научила Оренделя читать и писать — впрочем, и это уже было преступлением в глазах Агапета. Иногда сын обращался ко мне за помощью, когда ему казалось, что какая-то строка не ложится в стих. Орендель был необычайно внимателен, и его наблюдения переплавлялись в строки песен. Часто он сидел на окне или на крепостной стене и рассматривал все вокруг. Вот такой он был, мой Орендель.
Я понимала, что когда-то ему придется научиться владению мечом, но не в возрасте же двенадцати лет! И уж точно не в возрасте тринадцати лет ему следовало отправляться на войну. Но Агапету было на это наплевать. Я знала, сколь беспощадно он отправлял на смерть юнцов из своего графства. Матери провожали своих сыновей, и мальчики становились добычей воронов. Каждое лето Агапет волна за волной отправлял отряды мальчишек на восток, и хорошо, если возвращалась половина из них.
Орендель страдал от решения отца обучить его военному делу, я чувствовала это по его стихам. В них слышались то печаль, то злость. Сейчас вспоминаются мне слова сына: «Кто первым создал клинок, что смерть народам приносит? Душа его яростью исполнена».
Никогда в жизни мне не было так плохо, как в первые недели обучения Оренделя. Мальчику приходилось вновь и вновь отрубать голову пугалам, бросать копья в бродячих собак, гоняться с луком и стрелами за кошками… Орендель, как и я, понимал, что отец хочет внушить ему презрение к смерти и презрение к жизни. Мой мальчик никак не мог защититься, и у меня не было возможности помочь ему. Да, возможности не было, но я позаботилась о том, чтобы она появилась. Я приняла решение спасти Оренделя от этой пытки.
Но как? К кому мне обратиться? Я задумала подстроить похищение Оренделя, но не знала, с чего начать. Подобное никак не укладывалось в привычный ход моей жизни. Я никогда не сталкивалась с особыми сложностями, кроме разве что рождения детей. Я еще ни разу не покидала замок без охраны. Так как же мне найти людей для столь опасной затеи? Как мне выбрать место, куда привезут Оренделя после похищения?
Я не знала, что мне делать, и потому обратилась к Бильгильдис за помощью. В ее верности я была уверена, ведь Бильгильдис всегда была рядом со мной, она ни за что бы меня не предала. Она сказала мне, что придется посвятить с этот план и Раймунда, ее мужа. Мой план граничил с государственной изменой, а Раймунд был личным слугой Агапета, поэтому решение далось мне нелегко. Я дала Раймунду свои лучшие драгоценности, чтобы он продал их. Денег от украшений должно было хватить и на то, чтобы покрыть все расходы, и на то, чтобы навсегда заткнуть Раймунду рот. Правда, мне оставалось лишь надеяться на то, что Раймунд сохранит мою тайну. Мне страшно было даже подумать о том, что случится, если Агапет обо всем узнает…
Похищение оказалось успешным. Орендель с двумя оруженосцами отправился в лес — его должны были научить быстрой езде. На них напали, его наставников избили до потери сознания, а Оренделя похитили. В происшедшем обвинили венгров. Правда, в последний раз венгры нападали на восточно-франкские земли только весной, но все считали, что эти бандиты могут оказаться где угодно и когда угодно. Обычно венгры не брали пленных, но и это ни у кого не вызвало подозрений. С тех пор Орендель считался погибшим. Кроме Бильгильдис, Раймунда и меня, в замке никто не знал о том, что на самом деле произошло. Элисию я не стала посвящать в свою тайну, ведь она почти наверняка выдала бы меня отцу, чтобы выслужиться перед ним.
Когда Агапет сообщил мне это известие, я разрыдалась, как от меня и ожидали, но то были слезы радости. Где же он, где мой сыночек? Меня распирало от любопытства, я хотела знать об этом как можно больше.
Бильгильдис начертила мне линию на земле — Рейн — и поставила две точки. Одна представляла наш замок, вторая — местечко на юг отсюда, в паре дней езды, тоже у реки. Оттуда, должно быть, уже видны горы.
Я спросила, у хороших ли людей он поселился. Бильгильдис кивнула. Думаю, я задала тогда сотню вопросов, и она на каждый из них отвечала, кивая или качая головой.
Все это я рассказала Эстульфу.
— С тех пор я знаю, — сказала я, — что Орендель живет на хуторе в нескольких днях езды отсюда. На хуторе есть другие ребята его возраста, так что ему не одиноко. Его не заставляют заниматься тяжелой работой, хорошо кормят, достойно одевают и даже обучают наукам. Мы переписываемся. В начале осени, зимы, весны и лета я даю Бильгильдис длинное письмо, и вскоре она привозит мне ответ Оренделя. Однажды Агапет спросил меня, почему я позволяю крепостной выезжать из замка. Тогда я придумала историю о том, что мне нужна одна целебная настойка, которую готовят только в монастыре Св. Галла. Четыре раза в год я делала вид, что отправляю Бильгильдис за этой настойкой.
— Хитро придумано, ничего не скажешь, — рассмеялся Эстульф.
— Во мне нет природной хитрости, но в борьбе с бедами и несчастьями мне пришлось развить в себе умение лгать. Если бы я тогда не приняла это решение, то теперь Орендель был бы мертв. Или очень несчастлив. Я верю в это, потому что должна в это верить, понимаешь? — Я схватила Эстульфа за руку. — Иначе все было зря. Все, что я сотворила и с Оренделем, и с собой самой.
— Ты ничего с ним не сотворила. Судя по тому, что ты рассказала мне о нем, Орендель поддался бы муштре и стал бы сам себе противен.
— Думаешь?
— Ты поступила правильно.
Сомнения, на пару мгновений взметнувшиеся в моей душе, развеялись, словно облака под порывами ветра.
— Знаешь, что было утешением мне все эти годы, проведенные без Оренделя? Рейн. Орендель любил эту реку, никогда не мог налюбоваться ею. Я знала, что мой сын живет где-то вверх по течению, и мне казалось, что вода объединяет нас. Я целыми днями сидела на берегу, смотрела в воду и вбирала ее силу. Иногда мимо проплывали игрушечные кораблики — знаешь, дети мастерят такие из тонких веток, камыша и дубового листика, который заменяет парус. И тогда я думала, может, этот кораблик сделал Орендель…
— Теперь тебе не нужно предаваться таким мечтам, Клэр. Ты можешь вернуть Оренделя в замок.
Я улыбнулась.
— Я много лет ждала этого дня. Сегодня же поговорю с Бильгильдис.
— Думаю, с этим лучше подождать пару недель.
— Так долго?
— Так будет лучше. В теперешней ситуации я предпочел бы, чтобы ты оставалась в замке, ну, из-за Элисии и Бальдура, понимаешь? Они еще не смирились со своим поражением.
— Я пыталась поговорить с Элисией, но она меня избегает.
— Бальдур тоже отказывается со мной говорить. И они расспрашивают всех о том, кто что делал в ночь убийства. Это сеет подозрения. Может создаться впечатление, будто мы…
— Что?
— Как-то с этим связаны.
— Какое нам дело до сплетен! А Элисия скоро успокоится.
— Почему ты так уверена в этом?
— Она ничего не найдет. У нее и прежде случались периоды… как бы это назвать… сумасбродства. Она, бывает, выдумывает всякое… Может быть, возвращение Оренделя подействовало бы на нее благотворно, — я задумалась. — Но ты прав, поездку лучше пока отложить. Подождем, пока все утрясется. Я ждала возвращения сына семь лет, потерплю еще пару недель.
— Мы можем отправить за Оренделем Раймунда.
— Знаешь, я всегда мечтала о том, как сама заберу его домой с того хутора, ставшего местом его ссылки. Кроме того, я хочу, чтобы все эти злые сплетни прекратились до того, как мой сын вернется.
Мы пошли обратно вдоль реки. Вечерний свет был мягок, и я с наслаждением прижалась щекой к теплой шерстке моего коня. Вдалеке мы увидели ребятишек с простыми самодельными удочками. Дети с довольным видом сидели на берегу, добывая себе сытный ужин.
Каким же чудным, очаровательным местом может быть мир.
Эстульф помог мне взобраться в седло.
— Я до сих пор не могу поверить в то, что ты оказалась способна на похищение. Поразительно. Каждый день я открываю в тебе что-то новое.
— Тебя это смущает?
— Напротив, ваша светлость, — Эстульф шутливо поклонился. — Я лишь думаю о том, сколько же тайн вы еще скрываете.
«Две», — подумала я.
— Хочу открыть тебе еще одну, — сказала я вслух. — У меня будет ребенок от тебя.
Мы, силою королевского указа и от имени Его светлости милостивого герцога Бурхарда Швабского, представляя судебную власть в герцогстве, получили жалобу в том, что было совершено убийство графа Брейзахского Агапета. Убийца до сих пор не найден. Мы отправляем в Брейзах Мальвина из Бирнау, викария Констанца, с целью проведения расследования. Он должен установить личность убийцы, этого врага Господа, короля и герцога. На его усмотрение остается то, провести ли суд семьи, чтобы пострадавшая сторона вынесла приговор, или же независимый суд — в этом случае по Lex Alamannorum [3] судебный процесс проведет сам викарий, призвав в помощники двух заседателей. Он наделяется правом вынести приговор и привести в исполнение. Все свободные, полусвободные и крепостные обязаны выполнять приказания викария, связанные с поимкой убийцы и вынесением ему приговора.
Подписано в Констанце, двенадцатого сентября года Божьего девятьсот двенадцатого
Бургомистр и Высший судья Констанца
Мальвин
Сегодня день святого Корнелия, шестнадцатое сентября года Божьего девятьсот двенадцатого. Как викарий и представитель судебного округа Констанца, я приступил к расследованию убийства графа Агапета Брейзахского. С этой целью я прибыл в замок Агапидов, который в Констанце, как и в других селениях, нелестно именуют иногда «проклятым замком». Для ведения расследования я мог бы прислать сюда моего представителя. В Констанце все очень удивились, узнав, что викарий взвалил на себя тяготы многодневного путешествия и лично отправился в замок. Как бы то ни было, я поехал сюда, взяв с собой лишь юного писаря Бернарда. Перед отъездом я долго колебался. Мои дети еще очень малы, и, хотя за ними и присматривает кормилица, разлука с отцом, пусть и на несколько недель, не пойдет им на пользу. К тому же в Констанце у меня много работы. Тяжбы прошлых лет, вызванные нападениями венгров и войнами с этим народом, подталкивают все больше людей к воровству, грабежу и разбою. Бургомистр не хотел отпускать меня, он несколько раз осведомлялся о том, почему я хочу лично заняться этим расследованием. Слушая мои уклончивые ответы, он, несомненно, подумал, что я хочу выслужиться перед герцогом Швабским, найдя того, кто убил столь важного для него графа. Что ж, если бургомистру действительно пришли в голову такие мысли, он ошибался. Да, мною двигало честолюбие, но совсем иной природы, чем полагал бургомистр.
Замок Агапидов и его хозяева пользовались в наших краях дурной славой. В народе говорили о проклятии, лежавшем на роде Агапидов: каждому из этого рода суждено было умереть насильственной смертью, якобы потому, что их предок двести лет назад совершил страшное, гнусное преступление. В последние годы такие разговоры почти сошли на нет, ведь Агапет уже тридцать лет правил своим графством, а за столь долгое время многое можно позабыть. Но слухи — как семя, что может много лет оставаться без воды и света, но одной капли и одного лучика достаточно, чтобы пробудить его к жизни. И вот, вновь все шепчутся о проклятии Агапидов, о демонах, преследующих этот род, о живых мертвецах, встающих по ночам из могил, чтобы отомстить жителям замка.
А то, что пугает всех остальных, притягивает меня. Кражи, блуд, измены и богохульство — такие случаи я рассматриваю каждый день. А вот убийства случаются достаточно редко и представляют для меня большой интерес. Пока что мне приходилось расследовать всего одиннадцать таких преступлений. Два расследования были весьма скучными — речь шла о грабеже, который и привел к насильственной смерти. В семи случаях жены убивали своих мужей, в еще двух, напротив, — мужья жен. Это заставило меня задуматься о том, что мужчины намного хуже женщин по природе своей, ведь иначе их бы и не убили. Не исключено, совершение стольких убийств именно женщинами связано с тем, что у мужчин много возможностей выразить свою злость, в то время как у женщины их нет. Все знают, что вода камень точит, а злость — душу людскую.
Нет преступлений, кои были бы неведомы мне. Уже десять лет я выполняю работу викария: преследую зло, разыскиваю преступников и выношу приговоры. Вот с чем мне сталкиваться не приходилось, так это с преступлением, совершенным призраком (хотя страх перед порождениями тьмы многих уводил из жизни), и я готов руку дать на отсечение, что так будет и впредь. Сколь бы ни были удивительны слухи о замке Агапидов, я все же склонен считать их порождением суеверий. Проклятья и демоны приходят в наш мир не из ада, они создаются людским воображением, и иногда в них верят столь сильно, что они становятся реальностью. Но правда всегда всплывает наружу. Я знаю викариев из других городов, которые заставляют подозреваемого тянуть жребий, окропляя его святой водой, и так принимают решение о том, виновен этот несчастный или нет. Неудивительно, что простому народу всюду мерещится нечистый. Глупцы! Не могут понять главного — злой дух живет в самом человеке. И чем глубже заглядываешь в душу людскую, тем больше зла находишь там. Привносить лучик света во тьму — вот моя страсть. Но для того, чтобы разорвать тьму светом, нужно в эту тьму погрузиться, и в этом сокрыта большая опасность, ибо граница между светом и тьмой размыта. Чтобы поймать зло, нужно приблизиться к нему, приближаясь же, ты попадаешь под его влияние, а это всегда опасно.
Держаться от преступника на расстоянии и в то же время позволить себе подобраться к нему достаточно близко, чтобы узнать его. Вот главная проблема для любого викария, который старается выполнять свою работу так, как делаю это я. Погружаясь в мир преступника, я вижу лишь человеческое. Где другие готовы винить во всем судьбу или дьявола, я нахожу вину человека. И потому так влекут меня диковинные и мрачные по природе своей преступления.
Внешний вид замка Агапидов способен развеять слухи о мрачном проклятии, повисшем над этими стенами. Гордо и незыблемо возвышается он над плодородными полями, многолетними лесами, пышными виноградниками, над величественными скалами и расщелинами. Камни, из которого он построен, удивительно светлые, почти желтые, и потому в свете полуденного солнца замок кажется янтарным, и только алыми пятнами выделяются кромки крыш. Луга, поля и рощи, поросшие кустами холмы. Воды Рейна здесь текут мерно и спокойно, река напоминает добродушного старца…
Печаль закрадывается в душу, когда думаешь о том, как бедно живут люди в селах, хоть и работают, не покладая рук. Головы их покрыты соломенными шляпами, и потому я не мог различить их лица. Женщины отличаются от мужчин лишь тем, что они носят на спине своих детей или внуков.
От деревушки Арготлинген вверх к замку, огибая виноградники и змеясь через лес, ведет широкая мощеная дорога.
Замок окружает зеленый земляной вал и обводная стена. Пройдя двое ворот, я очутился во дворе крепости. Вокруг тянулись мастерские, стойла, сараи, виднелась пекарня и кузница, были тут и помещения для слуг. Я направился дальше и, оставив позади еще одни створы ворот, оказался во дворе собственно замка. Впереди полукругом расположились жилые помещения. Меня поселили в одном из них, и сейчас я смотрю в окно на море густо-зеленых вершин, раскинувшихся предо мною, словно мех какого-то диковинного зверя.
Мое появление стало для жителей замка неожиданностью. По этикету нужно было бы сообщить графине о моем скором приезде, но я предпочитаю оказываться на месте преступления быстро и без предупреждений, чтобы никто не успел скрыть следы.
Неделю назад в Констанц прибыли два гонца, каждый из которых принес весть о смерти Агапета. Одно письмо было от нового графа, Эстульфа, и его супруги, вдовы Агапета. Они просили судебного разрешения на то, чтобы на свое усмотрение покарать привезенную из Венгрии язычницу, которая якобы виновна в смерти Агапета. Второе письмо, подписанное дочерью Агапета, было и жалобой, и просьбой о помощи, если читать между строк. Но на кого она жаловалась? Кого винила в случившемся? Это письмо и пробудило мой интерес. Что-то подсказывало мне, что непременно нужно познакомиться с этой яростной обвинительницей.
Меня и моего писаря встретил во дворе костлявый, неприятного вида старик: острый подбородок, черные как угли глаза, в которых почти незаметен был белок, загорелое сухое лицо, подагрические пальцы.
— Вы выбрали неподходящее время для вашего приезда сюда, господин.
— Что ж, нам обоим придется смириться с этим.
— Дело в том, господин, что новый граф уехал на конную прогулку, а графиня всегда спит после обеда. Мне разбудить ее?
— Нет. Как тебя зовут?
— Раймунд. Вы приехали, чтобы казнить дикарку?
— Я привык вначале проводить расследование, а потом уже выносить приговор и рубить головы.
— Не нужно тут расследования. Это все эта колдунья.
— Колдунья?
— Язычница. У себя на родине она точно была ведьмой.
— С каких это пор нужно уметь колдовать, чтобы перерезать кому-то горло?
— Это могла сделать только она. И знаете почему?
— Откуда мне это знать? Или ты и меня считаешь колдуном?
— Потому что я раздел графа, прежде чем он вышел из своей комнаты в купальню, и… и никого, кроме меня, там не было, и… есть только один вход в купальню, только из комнаты графа Агапета, а я оставался в комнате, и никто, кроме дикарки…
— Все это очень интересно, Раймунд, но я только приехал, и сейчас мне хотелось бы разместиться в своей комнате. Мы с тобой еще поговорим о твоих наблюдениях.
— Я крепостной, господин, мои свидетельства не признаются судом.
— Да, это так.
Не я придумал этот закон, и я ни за что не стал бы его принимать, но так уж было заведено, и закон есть закон, нужно его придерживаться. Чтобы вынести приговор, мне нельзя ссылаться на свидетельства крепостных. Однако же никто не запрещает мне принимать эти свидетельства во внимание.
— Полагаю, ты мог бы записать для меня свои показания.
— Я не умею писать, господин.
— Ох, как глупо, я и не подумал об этом. Ты можешь обратиться к моему писарю, Бернарду.
— Моя жена может записать мои показания, если вы не против, господин. Никто из слуг не умеет писать, кроме моей жены. Она немая. Вот поэтому-то она и научилась этому много лет назад. Ну, научилась писать, господин.
— Хорошо. Тогда скажи своей жене, чтобы она записала все, что ты хотел бы довести до моего сведения. Я приму это во внимание.
Зачем я вообще пишу эти строки теперь, когда я разместился в комнате? Не в моих привычках делать записи, особенно такие. Я пишу что-то только тогда, когда речь идет о судебном процессе и нужно представить улики и доказательства, вынести приговор, подготовить документы. Правда, большую часть бумажной работы все равно берет на себя Бернард, судебный писарь. Он очень толковый парень и любит возиться с писаниной.
Не знаю… Почему-то мне захотелось этого. В отведенной для меня комнате между двух каминов стоит стол, тут так тепло и уютно… Обойдя замок, я вернулся сюда и обнаружил на столе бумагу, чернила и перо — очень хорошую бумагу и отличное перо, надо сказать. Кто-то оставил тут все это для меня, пока я прогуливался по замку. Я спросил об этом Бернарда, который поселился в соседней комнате. Обычно его лицо остается совершенно невозмутимым, и даже самые ужасные свидетельства не могут заставить его и бровью повести. Не моргнув глазом, он продолжит вести протокол допроса, услышав даже самое страшное признание. Но в этот миг под его привычной личиной равнодушия я, казалось, разглядел вспыхнувшее в его душе возмущение. Полагаю, Бернард решил, что я хочу лишить его работы.
Как бы то ни было, бумага разожгла во мне желание писать, но я не взялся бы за перо, не будь того, о чем мне хотелось бы написать.
Должен признать, этот замок — очень странное место. Как снаружи, так и изнутри он кажется светлым и удивительно чистым, но почему-то здесь у меня скверно на душе, а со мной такое случается редко. Наверное, все дело в здешних людях. Многие кажутся замкнутыми и злыми. Они должны бы радоваться, что расследовать произошедшее в замке преступление будет викарий, но они относятся к моей должности скептически и предпочли бы, чтобы к ним явился экзорцист. Во время моей прогулки по замку один из стражников подошел ко мне со словами: «Отрубите этой дикарке голову». В часовне, куда я зашел помолиться за мою усопшую супругу, ко мне приблизился священник, толстенький, улыбчивый и, судя по всему, довольно добродушный. Мы познакомились. Как оказалось, его зовут Николаус. Когда я выходил оттуда, он протянул мне колбу и сказал:
— Непременно обрызгайте ее святой водой, прежде чем утопить, иначе ее душа вернется.
Еще в коридоре я повстречал трех рыжих девушек, наверное служанок. Они пели какую-то песню, и я радостно улыбнулся, думая, что хоть кто-то в этом замке не поддался общему настроению. Но потом я услышал слова той песни:
Из вскрытого горла толчками
черная кровь изливалась,
выпустив бесов на волю.
Теперь же приехал судья и палач,
что смертию смерть отомстит.
Здешнее население склонно к суевериям, оно верит мрачным пророчествам, а вот здравого рассудка им не хватает. В таких условиях процветает страх, а под воздействием ужаса люди способны на многое. Этот «проклятый» замок стал средоточием черных помыслов. С таким я еще не сталкивался. Конечно, это производит впечатление. И это нужно запечатлеть на бумаге.
Бильгильдис
Я наблюдала за тем, как наш гость расхаживал по замку. Никто не давал мне такого поручения, мне просто стало интересно, с кем всем нам придется иметь дело. Викарий — среднего роста мужчина, еще не старый (ему лет тридцать пять), статный. Он внимателен, не слишком учтив и одет в черное.
Графиня сказала мне:
— Пригласи его сегодня вечером на ужин. Передай Элисии и Бальдуру, чтобы они тоже пришли. Да, и позаботься о том, чтобы викарий чувствовал себя здесь как дома.
Все необходимое он уже получил от Раймунда, поэтому я лишь принесла викарию письменные принадлежности, конечно же, самую лучшую бумагу, не то что тряпичная, на которой писать приходится мне, и перо вместо угольного стержня, от которого чернеют руки. Да, мои руки всегда черные, будто они гниют, но письмо — это для меня единственный способ услышать свой голос. Когда я пишу, я вспоминаю, как красиво он звучал раньше, и потому стараюсь как можно больше писать.
Николаус, наш местный священник, говорит, что это Господь наделил меня даром письма. Если бы этот дурак знал, о чем я пишу, он бы не позволял себе болтать такие глупости. Божественное провидение, Божий дар… Если так, то это, наверное, Бог так сделал, чтобы во время войны между Восточно-Франкским и Западно-Франкским королевством солдаты взяли в плен молодую и очень красивую девушку по имени Бильгильдис. Разозлившись из-за того, что командир отряда запретил им насиловать пленницу, они придумали себе другое развлечение и вырезали ей язык — такого им не запрещали. Это тоже был Божий дар, да? Они заставили эту девушку съесть собственный язык, чтобы она его переварила и потом он вышел из ее тела. Тоже Божий дар? Кто знает, может быть, до сих пор во мне остались куски того съеденного языка, хотя прошли уже десятки лет. Нет мне дела до Бога и до его мерзких зазывал тоже. В лучшем случае Бог — что-то вроде равнодушного писаря, отмечающего каждую молитву. Но я лично думаю, что Богу нравится смотреть, насколько далеко может зайти человек в своей жестокости. Бог получает от этого удовольствие, а мы должны еще и любить его за это. Ну уж нет! И если Господь отправит меня за это в преисподнюю, я скажу ему, что знаю ад как свои пять пальцев. Я научилась жить в аду и даже в какой-то мере наслаждаться этим.
Как бы то ни было… Насмотревшись на этого викария, я вернулась к себе и задумалась о том, не нарушит ли его прибытие мои планы. Я уже много дней намеревалась сделать это и не собиралась отступать от своего и потому пошла к Элисии.
— Бильгильдис, ты уже слышала? Состоится суд. Теперь все будет хорошо, я это чувствую. Ты же знаешь, я не желаю зла своей матери, но она поступила со мной плохо, даже ты это признаешь, ты, ее самая верная служанка. Но ты меня понимаешь…
Я кивнула.
— Это правильно. Нельзя плевать на справедливость. А что до смерти моего отца, то расследование викария прольет свет на произошедшее, а я, дорогая Бильгильдис, вручу викарию факел, чтобы он не заблудился во тьме, если ты понимаешь, о чем я.
Да, я примерно представляла себе, о чем она говорит. Проведя допрос стражи, Элисия немного успокоилась. Она не посвящала меня в подробности, но я уверена, что кроме кинжала она обнаружила и другие доказательства того, что Агапета убила не та тварь. Это позволит Элисии приблизиться к ее цели. А цель ее состоит в том, чтобы лишить Эстульфа графского титула и казнить его за убийство Агапета.
И я подбросила еще одно поленце в костер ее решимости. Я дала Элисии понять, что должна сообщить ей что-то очень важное, а потом жестами показала ей округлившийся живот.
— Кто-то ждет ребенка? Кто ждет ребенка?
Я показала на западное крыло замка с другой стороны двора.
Элисия зажала руками распахнувшийся от изумления рот.
— Ты уверена? — спросила она, оправившись от ужаса.
О да. Я уверена. Графиня пыталась скрыть это, она одевалась самостоятельно, не прибегая к моей помощи, это и вызвало мои подозрения. Выдали Клэр и кое-какие повадки, свойственные только беременным. Наконец мне удалось украдкой заглянуть в комнату, когда графиня была уже раздета. Тогда-то и подтвердилась моя догадка.
— Но она… она замужем всего две недели. А отец полгода пробыл на войне. Как же… О Господи… Ох, Бильгильдис, это же… Какая подлость!
Да, это действительно было подло. По крайней мере, с моей стороны.
Элисия
Я положила кинжал, который мы нашли в купальне, в небольшую шкатулку и поставила ее на стол рядом с нашей лежанкой. Прежде чем идти на ужин, я хотела достать его, чтобы показать викарию. Кинжал должен был стать доказательством, подтверждающим невиновность венгерской девушки. Это был бы, так сказать, мой приветственный подарок викарию. Но кинжал исчез! Бальдур говорит, что в последний раз видел это орудие убийства две недели назад. Я сама заглядывала в шкатулку три дня назад, чтобы утвердиться в своей решимости отыскать убийцу, того, кто лишил меня самого дорогого мне человека.
Значит, в течение последних трех дней кинжал украли. Кто мог войти в наши с Бальдуром покои? Три «Ф» — мои служанки Фернгильда, Франка и Фрида. Я допросила их, но они поклялись мне, что ничего не брали в комнате. Впрочем, я заметила, что служанки о чем-то умалчивают, и потому наседала на них, пока они не сознались, что вчера видели мою мать в наших покоях. Она сделала вид, что ждет меня, но ушла вскоре после того, как три «Ф» застукали ее в комнате.
В соответствующем настроении мы с Бальдуром отправились на ужин в зал, куда нас пригласили по случаю приезда викария Констанца. Мы шли молча, и потому у моей ярости было время на то, чтобы преумножиться. Я готова была излить вскипевший во мне гнев на мою мать.
Когда мы пришли, викарий уже был в зале и о чем-то говорил с Эстульфом и моей матерью. Он был не молод, но и не стар, знаки судебной власти на его шее и пальцах придавали ему величественный вид. Любопытство в его глазах, когда он взглянул на меня, пробудило интерес и в моей душе, и уже через пару мгновений я поняла, что с этим человеком у меня сложатся самые теплые отношения.
Конечно же, мама и Эстульф попытались сразу же расположить к себе викария, они шутили, угостили его вином… Я тут же мысленно выругала себя за то, что мы с Бальдуром пришли слишком поздно. Наверное, мама приказала привести сюда викария чуть раньше, чем мы обычно ужинали, чтобы сразу завлечь его в свои сети. Мама была графиней, а значит, у нее было определенное преимущество передо мной и Бальдуром, ведь и она, и Эстульф могли делать в замке все, что им вздумается. Мне же придется в дальнейшем действовать с большой осторожностью, чтобы противостоять им. На Бальдура в этом отношении рассчитывать не приходилось.
Я сразу же решила воплотить свое решение в жизнь. Хотя их веселые лица и выводили меня из себя, я подыграла им. Мы непринужденно поговорили об истории замка — я никогда особо не интересовалась этой темой, в моей памяти остались лишь воспоминания о том, что рассказывал мне о замке отец. Удивительно, но это был первый мой спокойный разговор с матерью после смерти папы. До этого я только огрызалась на мать, высказывая ей свое мнение о ее новом браке и о захвате графского престола. С Эстульфом же я с тех пор и словом не перекинулась.
— Около двухсот лет назад в этом замке жил последний король из династии Меровингов, — рассказывал Эстульф. — Он скрывался здесь. Каролинги, захватившие в то время власть в королевстве, хотели убить его, ведь он был законным королем франков. Но они не нашли его, хотя и обыскивали замок много раз. Считается, что король переоделся монахом или слугой. Или просто очень умело спрятался.
— И что с ним случилось потом? — Викарий явно интересовался прошлым. Надеюсь, не только столь далеким.
— Этого в точности никто не знает. В народе говорят, что хозяин крепости решил избавиться от нежеланного гостя и замуровал короля. Заживо. С тех пор и замок, и гора, на которой он стоит, считаются проклятыми. Так гласит легенда.
— Где-то была летопись, — поспешно сказала мама, будто пытаясь перевести разговор на другую тему. — Наверное, она лежит в сокровищнице. Я давно уже ее не видела, возможно, она потерялась.
— В этом нет ничего удивительного, — я решила, что настал момент подлить масла в огонь. — К сожалению, время от времени из нашей сокровищницы пропадают всякие предметы. Например, кинжал. Кстати, он пропал даже не один, а целых два раза.
— Вашего отца убили кинжалом, не так ли? Это оружие может стать важной уликой.
— Я знаю.
— Как он мог пропасть два раза?
— Я понимала, что это улика, и потому забрала кинжал себе. Мне показалось, это очень важно, ведь только у моего отца и у моей матери был ключ от сокровищницы.
— Понимаю.
Я смотрела на мою мать, но она отводила взгляд.
— А теперь его у меня украли. Это произошло в течение последних трех дней.
— Это весьма прискорбно, — отметил викарий. — Я хотел бы посмотреть на него.
— Я могу описать его вам во всех подробностях.
— Возможно, сейчас мы могли бы присесть за стол? — перебила нас мать. — Надеюсь, плоды земли нашей придутся вам по вкусу, викарий.
Так ей — пусть и не очень изящно — удалось отвлечь нас от кинжала. Прислуга внесла кушанья, Бильгильдис разлила вино. Мама принялась расспрашивать викария о его семье — так, будто она давно знает его детей и была им чуть ли не крестной. Я же едва могла усидеть на месте.
Так мы узнали, что Мальвин из Бирнау вдовец, у него трое маленьких дочерей.
Но если мама надеялась, что столь неприятная для нее тема больше не всплывет в нашей беседе, она просчиталась, потому что викарий сам заговорил об этом. В это мгновение я ощутила глубокое уважение к этому мужчине. Такого как он, сказала я себе, за нос не поводишь.
Я описала ему оружие.
— Мы с дочерью расходимся во мнениях относительно того, где находился кинжал. Элисия полагает, что он хранился в сокровищнице, я же уверена, что видела его в комнате Агапета. Мне кажется, что я видела там кинжал всякий раз, как заходила в покои мужа. В последний раз это было за пару дней до приезда Агапета. Я нисколько не сомневаюсь в том, что эта венгерка взяла кинжал перед тем, как ее отправили в купальню.
Я воспользовалась своим первым козырем:
— Двое стражников случайно видели, как ты прокралась в купальню. Это было незадолго до того, как там появились мы с Бальдуром. Что ты там делала, как не искала оружие убийства?
— Во-первых, я никуда не кралась. Я хозяйка этого замка, и мне не нужно никуда пробираться тайком.
— В том числе и в мою комнату, где тебя недавно видели? Кстати, в то самое время, когда пропал кинжал!
— Я хотела навестить тебя, чтобы поговорить с тобой… Многое случилось, и я думала… А в купальню я пришла, потому что там умер мой муж.
— Если это так, то зачем ты задействовала рычаг, при помощи которого можно спустить воду из бассейна? Или ты будешь отрицать то, что это сделала ты?
— Нет, не буду. В купальне стоял отвратительный запах крови. Это было ужасно.
— Почему же ты сбежала оттуда, чтобы не встретиться со мной и Бальдуром, если тебе нечего скрывать и ты ничего не знала об оружии, лежащем на дне бассейна?
— Сегодня ты в особенности настроена на ссору или это твоя привычная страсть к расспросам говорит в тебе?
— Пожалуйста, ответь на мой вопрос.
— Да, я действительно ушла оттуда. Увидев, что вы привели с собой ту, что убила моего мужа, я предпочла удалиться. Я не вынесла бы встречи с нею.
— Все это отговорки и ложь! — Я вскочила на ноги.
Я так рассвирепела от этой комедии, которую они разыграли перед викарием, что позабыла обо всех правилах приличия. Я подбежала к матери, резко подняла ее на ноги, схватилась обеими руками за ее подол и изо всех сил рванула на себя, разорвав ткань на уровне живота. Громкий вздох изумления пронесся по всему залу, слуги принялись креститься, Эстульф вскочил, викарий чуть не подавился, мать застыла на месте. Когда она поняла, что я сделала, было уже поздно. Камиза под разорванным платьем прикрывала, но не могла скрыть округлившийся живот.
Не буду скрывать, в тот момент я испытывала острое чувство ликования: я сумела воспрепятствовать темным интригам, я лишила мою мать лживой личины!
— Вот! Этому ребенку в утробе не две недели! И не пять месяцев! Она изменяла моему отцу, пока он был на войне! Она спала с любовником, и теперь этот любовник стоит рядом с ней! Это Эстульф, управляющий замком! Мой отец узнал бы об измене, и потому ему была уготована смерть! — Я смотрела матери прямо в глаза. — Ты пыталась скрыть эту тайну, но я видела тебя в твоих покоях, когда ты разделась. Думаю, факты говорят сами за себя. Либо ты убила моего отца, либо ты жена убийцы. Выбирай сама.
После того как викарий поспешно удалился из зала, мы с матерью поскандалили. Это было ужасно. Может быть, я обошлась с ней слишком сурово? Может, это было жестоко? И несправедливо? Прошло несколько часов с того момента, как мы разошлись, и теперь в моей голове звучит тонкий голосок сомнений. Да, этот голос знаком мне. Он звучит всякий раз, когда матери нет рядом. Он говорит мне, что она не самая плохая мать в мире, что у нас с ней есть хорошие воспоминания, что она никогда не была слишком строга ко мне. В такие моменты я всегда обещаю себе больше не дерзить ей. С тем же успехом можно принять решение больше не утолять жажду. Легко думать о таком, если ты только что вдосталь напился. Как только я подхожу к матери, этот голос перекрикивает хор других голосов, я чувствую, как начинаю дрожать, прихожу в ярость и забываю о своем обещании. Мельчайшего жеста, мимолетного взгляда достаточно для того, чтобы я вспомнила о всей той боли, что она причинила мне.
С тех пор как родился мой брат (тогда мне было три года), мне казалось, что я скрыта какой-то вуалью. Мать больше не видела меня, не смотрела в мою сторону, по крайней мере так, как раньше. В первый год после рождения ребенка, сказала мне тогда Бильгильдис, такое бывает. Но в моем случае прошло два года, три года, четыре года, девятнадцать лет — и ничего не изменилось. Может быть, все дело в том, что я была ребенком моего отца, а Орендель — сыном материного любовника? При том, что мне сейчас известно о моей матери, эта мысль не кажется такой уж абсурдной. Эстульфа тогда еще не было в замке, но мамочка могла влюбиться еще в какого-нибудь красавчика.
Она никогда не любила моего отца. Но почему? Он так заботился о ней! Я вспоминаю все украшения, которые он дарил ей, — браслеты, кольца, ожерелья. Он засыпал ее золотом. Все эти драгоценности до сих пор пылятся в сокровищнице. После паломничества в Рим, через пару месяцев после рождения Оренделя отец привез ей тончайшую вуаль. Мать никогда ее ни разу не надела. И я никогда не слышала, чтобы папа кричал на маму, а вот мама всегда относилась к нему холодно. Я этого просто не понимаю. Бальдур — не тот мужчина, которому я стала бы целовать ноги, и я знаю, что иногда ему со мной приходится нелегко, но, несмотря на все его недостатки, я тепло к нему отношусь.
Когда я услышала, что Оренделя вскоре отправят на войну, мне было жаль его, ведь я знала, что мой братик не хочет идти в поход, но вот в отношении матери я испытывала определенное злорадство. А когда я узнала, что Оренделя похитили и, скорее всего, убили, я горевала о моем братишке, утешала мать, как могла, но в то же время ждала, что уж теперь-то она подарит мне свою любовь. Но и после смерти Оренделя мать не удостоила меня своим вниманием. Мне казалось, что в ней не осталось ни капли любви, словно ее выжали досуха. Вернее, любовь в ней была, только уготована она была какому-то незримому для всех созданию. Ангелу.
Через пару месяцев я вышла замуж за Бальдура.
Я писала о том, что малейшего жеста моей матери было достаточно для того, чтобы распалить мою ярость. Совершенно иначе воздействовал на меня отец. Даже сейчас мысли о нем успокаивают меня. Со вчерашнего вечера идет дождь, и перестук капель вызывает чувство радости в моей душе, ведь в нем мне слышатся отзвуки прошлых дней. Я высунулась в окно, выставила ладони под дождь и посмотрела вниз, на пропасть под обрывом, пропасть глубиною в восемьсот шагов. И в этой тьме и пустоте я увидела хохочущую девчушку на жеребенке, которого вел под уздцы темнобородый широкоплечий мужчина с обветренным лицом.
Папа гордится тем, какая у него отважная девочка, не боится дождя, как хорошо она умеет скакать. «Отлично, Элисия, какой ты молодец! Ты станешь моим лучшим солдатом, если и дальше будешь стараться». Он смеется, мне хочется ехать быстрее, и папа бежит передо мной и жеребенком, но вдруг оскальзывается и падает в грязь. Я испуганно спешиваюсь, подаю папе руку, чтобы он поднялся, но папа притягивает меня к себе, и я тоже валюсь в грязь, мы перемазались с головы до ног и хохочем, хохочем… Папа обнимает меня, а с небес льется дождь.
Капли с кончиков моих волос падают на пергамент, стекают по щекам. Я останавливаюсь на время и смотрю на лежанку, где уже спит Бальдур. Внутри у меня пустота. Я всегда думала, что пустота не имеет веса, но она давит мне на грудь, тяжелым камнем ложится на мою жизнь. Я замужем уже семь лет и до сих пор не понесла. Я будто монашка! Да, Бальдур выполняет свой супружеский долг, как и я, но это не приносит плодов. От наших соитий не родились ни дети, ни чувства.
Чувства проснулись в моей душе сегодня. Что-то изменилось. Похоже, смерть моего отца принесла мне не только горе. Благодаря папиной гибели в замке появился он.
Мальвин
Сегодня мне довелось провести удивительнейший вечер. Наверное, он должен был позабавить и порадовать меня. Позабавить — произошедшее напомнило мне грубоватые шутки бродячих комедиантов (подумать только, дочь срывает платье с тела матери, чтобы показать всем дитя под ее сердцем!), а порадовать — за час общения с этой прелестной семьей я получил на серебряном блюде столько показаний, сколько викарий обычно получает за несколько дней кропотливой работы. Но пережитое скорее вселяет в меня тревогу. Нельзя не заметить, что в замке жив дух непримиримой борьбы, а это обычно не заканчивается ничем хорошим.
Самое удивительное то, что те четыре человека, с которыми я сегодня имел удовольствие преломить хлеб, сами по себе кажутся хорошими людьми.
Графиня Клэр. Мила, скромна. Голос — точно журчание ручейка. Благородные черты лица, лишенные, впрочем, высокомерия. Не красавица, но и не уродлива. Приветлива и обаятельна. Позднее материнство смягчило ее черты, она расцвела. Графиня немного напоминает мне мою Герду. Герда, девочка моя, любимая… Она умерла шестьсот восемьдесят четыре дня назад, когда подарила жизнь нашей младшей дочери.
Эстульф. Блестящий ум. Ясные глаза. Дружелюбная улыбка. Отличный оратор. Честолюбив, но честолюбие его требует благих дел. Он попросил меня вкратце записать мои впечатления от графства и указать, какие проблемы я вижу на его землях. Ему нужно что-то вроде отчета. А это действительно необычно.
Бальдур. Настоящий мужчина. Руки — как молодые деревца. Широкоплеч, словно титан. Сегодня, проходя по стене замка, я видел, как во дворе солдаты занимаются борьбой. Не зная еще, что это Бальдур, я залюбовался стражником, одолевшим противника, который превосходил его по росту. Бальдур, похоже, человек честный, хоть и немного простодушный. В присутствии своей жены он неразговорчив и даже кажется беспомощным, слабым. Или просто равнодушным. Впрочем, случалось и такое, что мужчины, которыми, как все думали, повелевали женщины, на самом деле вели свою жизнь. На самом деле. Вот ключевые для меня слова. При первом знакомстве кажется, что все они — приятные и милые люди.
Элисия — самая удивительная из них. Она полная противоположность матери, в ней горит огонь страсти. Она порывиста, прямолинейна, искренна и немного наивна. У нее стремительная походка человека, который верит в собственную непобедимость. Есть в ней какая-то непонятная первозданная притягательность. Дерзкая, требовательная. В ее глазах горит голод, но чего жаждет она, мне неведомо. Мести? Это объяснило бы обвинительные нотки в письме, которое она написала Верховному судье в Констанце. Я чувствую небывалую глубину в ней. И безграничную тоску.
Как бы то ни было и какими бы чудесными качествами ни обладали эти четверо, как только они собираются вместе, они пробуждают друг в друге все самое плохое. Элисия вышла из себя, во взгляде Эстульфа мелькнуло что-то злое, Бальдур безучастно колол орехи голыми руками, и даже графиня горела от ярости, споря с дочерью. Признаюсь, пока что я провел здесь всего один вечер, и он вовсе не обязательно окажется показательным. Но, может быть, он превосходно отражает общие настроения в замке.
Приличия заставили меня покинуть зал сразу после начала скандала. Нельзя, чтобы посторонние люди видели графиню в порванном платье, а с моей стороны было бы весьма невежливо требовать от нее, чтобы она ушла. К тому же в этот момент графине было не до меня — она отвечала на упреки своей дочери. Да и у меня не было желания и дальше наблюдать за этим спектаклем, потому что эти нападки, пусть они адресовались и не мне, делали меня каким-то беспомощным.
Придя в свою комнату, я снял накидку и развел огонь в камине, и тут в дверь постучали. Немая служанка жестами указала мне следовать за ней, что я и сделал. Она привела меня к своей госпоже, графине Клэр. Та уже переоделась и ждала меня в своей просторной, освещенной шестью лампадами комнате.
— Прошу вас, викарий, подойдите поближе.
Уютные у нее были покои: они были украшены настенными и напольными коврами, тут стояли дорогие сундучки и огромный стол, в двух каминах плясало пламя. Все указывало на то, что дела в графстве идут хорошо, хотя все деньги и достаются только жителям замка и солдатам, а на крестьян уже ничего не остается. Кстати, войдя в комнату, я подумал, что эти покои принадлежат мужчине, потому что тут не было ни зеркал, ни больших сундуков для одежды. Кроме двери, в которую я вошел, здесь было еще два выхода. Одна из дверей была закрыта, вторая — открыта, и за дверным проемом виднелась ведущая наверх лестница.
— Мы находимся в покоях моего усопшего супруга, — сказала графиня. — Эстульф не занял их из уважения к покойному, но вскоре ему придется поселиться здесь. Поэтому я подумала, что вам стоило бы все тут осмотреть. Входите, вы можете оставаться здесь столько, сколько понадобится.
— Благодарю вас, ваше сиятельство.
— Возможно, мы могли бы оставить эти официальные обращения. В конце концов, мы — я имею в виду вас, меня и Эстульфа — являемся в этом замке представителями власти, и нам придется провести некоторое время вместе, не так ли? Или вы думаете иначе? — В ее спокойном голосе вдруг послышалась тревога.
— Ничего не имею против, графиня, — я сделал вид, будто не понял ее вопроса о том, долго ли я пробуду здесь.
Конечно же, мне не нравилось столь холодно говорить с графиней, благородной дамой. Я хотел бы подбодрить ее, сказать что-то хорошее, но как викарий я должен был воздерживаться от личных пристрастий.
Графиня хлопнула в ладоши, и в открытую дверь вошел Раймунд, старый крепостной.
— Здесь находится купальня, — сказал он, поклонившись. — Там это и произошло.
Вот, значит, зачем меня позвали сюда. Чтобы графиня и ее слуга рассказали мне свою версию произошедшего. Сегодня днем я не дал Раймунду поговорить со мной об этом, теперь же он решил предпринять вторую попытку. Сперва мне хотелось прервать этот разговор, повернуться и уйти, но потом я подумал, что мне все равно рано или поздно пришлось бы осмотреть место преступления, и потому я покорился его напору. Слуга провел меня в боковую дверь, и мы оказались в маленьком прямоугольном предбаннике в два шага шириной и четыре шага длиной. По бокам комнаты стояло по сундуку.
— Здесь я обычно помогал хозяину раздеться, прежде чем он входил в купальню, — сообщил мне Раймунд. — И так двадцать шесть лет. В этот сундук я складывал одежду графа. Одежда, которую он носил тем вечером, до сих пор лежит там. Поглядите?
Больше смотреть в предбаннике было не на что, и потому мы прошли в купальню. Это было красивое помещение с потускневшими настенными рисунками, изображавшими купающихся, — слабые отголоски былой роскоши Римской империи, подражать которой и здесь, и в других замках пытались отпрыски династии Меровингов. Когда-то, еще в юности, я видел нечто подобное в Кемптене, ранее именовавшемся Камбодунумом.
— Как все это работает? — спросил я Раймунда.
Он вдруг оживился, словно я задал ему очень правильный вопрос, приблизивший его к главной цели.
— Обратите внимание на этот желоб, господин. По нему в купальню поступает вода. А теперь прошу вас пройти за мной.
Мы вернулись в покои графа, а оттуда прошли по деревянной лестнице в комнату, где стояло чудовищных размеров приспособление с огромными котлами и системой подогрева. Помещение было довольно узким, тут негде было развернуться.
— Тут я грею воду, и когда я наклоняю котел… Вот так, видите? Когда я наклоняю котел, вода течет по этому желобу сквозь стену прямо в бассейн в купальне.
Я кивнул, и мы вновь спустились вниз.
— В тот вечер, когда произошло убийство, — с решительным видом принялся рассказывать мне слуга, — я по приказу графа поставил котел греться. В начале пира он сказал мне, что собирается сегодня выкупаться. Когда пришел граф, кроме нас в этих комнатах никого не было. Я проводил господина из его покоев в предбанник, а оттуда в купальню. Я стоял прямо перед бассейном и могу поклясться, что там никого не было. Граф опустился в воду, а я вернулся в его покои и закрыл за собой дверь в купальню. Потом я не выходил из комнаты, а другого входа в купальню нет. Так кто же мог убить его?
— Я могу предположить, что ты наверняка выходил в комнату с котлом, чтобы подлить в бассейн горячей воды.
— Да, это так, господин. Но это было уже после того, как привели ту дикарку. Моя жена, Бильгильдис, привела ее. Я встретился с Бильгильдис, а потом она провела ту язычницу в предбанник, раздела ее там и втолкнула в купальню. Потом Бильгильдис ушла. И только после этого я поднялся в комнату с котлом, чтобы добавить горячей воды. Конечно, за эту пару минут кто-то мог бы пройти через покои графа, но дикарка заметила бы этого человека, ведь в это время она уже была в купальне. Была она там и в тот момент, когда я покинул комнату графа. Я знал, что господину не следует мешать, ведь он… ну, вы понимаете, он был с той женщиной. И она его убила. Я уверен в этом. Она сама говорит, что сидела с графом Агапетом в купальне, и больше там никого не было. Никого. А когда на шум прибежала госпожа Элисия, он был уже мертв. Значит, моего господина могла убить только эта проклятая дикарка.
«Это если мы исключаем возможность того, что его убил Раймунд, — подумал я. — Кроме того, граф мог сам перерезать себе горло». Да, это мог сделать Раймунд или сам граф.
— Ты давно служишь своему господину?
— Вы же не думаете, что я…
— Это исключено, — вмешалась графиня. — Сама мысль об этом кажется мне нелепой.
— Так часто бывает, прежде чем мы узнаем все подробности произошедшего, графиня. Итак, Раймунд, ты давно служишь своему господину?
— Более тридцати лет, с тех самых пор, как он стал графом. Двадцать шесть лет назад я женился на Бильгильдис. Она приехала в замок в свите графини, и с согласия господина мы поженились. После этого я стал личным слугой графа, а Бильгильдис — главной служанкой госпожи, а позже — и кормилицей ее детей.
Да, ну и дела. Граф возвращается домой из похода, празднует на пиру свою победу и требует к себе в купальню молодую девицу, а потом перерезает себе горло? Или же его убил Раймунд, верно служивший своему господину тридцать лет, убил жестоко, расчетливо и без видимой причины? Или это сделала венгерская девушка, спасаясь от изнасилования? Любой суд признал бы девушку виновной. Я не люблю делать скоропалительные выводы, но то, что рассказал мне Раймунд, казалось достаточно убедительным. Я даже еще раз осмотрел сундуки, чтобы удостовериться в том, что в них нельзя спрятаться, но они действительно были недостаточно глубокими и длинными. В них поместился бы разве что ребенок.
— А что это за боковая дверь? Не мог ли кто-то проникнуть через нее в покои графа, а оттуда уже в купальню? — спросил я, вернувшись к графине.
— За ней находится сокровищница, — ответила Клэр. — Там хранятся деньги от сбора налогов, и именно там мы берем золото, чтобы заплатить солдатам и свободным слугам. Да, и еще наши драгоценности.
За дверью располагалась тяжелая решетка с замком, который графиня отперла при помощи массивного ключа. Сокровищница была размером с кладовую, на полках тут стояли шкатулки и небольшие сундучки, лежали кошели с золотом. Мое внимание привлекла дорогого вида шкатулка с инициалами «K. R.»: Konradus Rex. Шкатулка с выпуклой крышкой была сделана из серебра, украшена изящным орнаментом, а внутри выложена горностаевым мехом.
— В этой сокровищнице можно укрыться, — заметил я.
— Да, но…
— Конечно, это мог бы сделать лишь тот, у кого был ключ.
Графиня промолчала.
— Тем вечером тут никто не мог спрятаться, — вмешался Раймунд. — Граф, придя с пира, отпер сокровищницу и заглянул внутрь.
— Зачем он это сделал? — удивился я. — Он что-то взял из сокровищницы? Или что-то оставил здесь?
— Этого я не видел. Но если бы кто-то спрятался в сокровищнице, граф бы его заметил.
И вновь я вынужден был согласиться с этим слугой — если, конечно, он говорил правду.
Хотя меня и настораживало то, что сказала Элисия по поводу кинжала, нельзя было отрицать следующий факт: никто, ни графиня, ни Эстульф, ни кто-либо еще не мог проникнуть в купальню к графу Агапету так, чтобы этого не заметили ни Раймунд, ни венгерка. И все же поведение графини на следующий день после убийства казалось мне странным. Зачем она спустила воду из бассейна? Она хотела забрать орудие преступления? Но зачем?
— У вас еще есть вопросы к Раймунду? — спросила она.
— Да. Пока граф Агапет был в походе, ты видел кинжал в этой комнате?
— Да, господин, на этом столе. Кинжал с серебряной рукоятью. Я думаю, что, пока я говорил со своей женой Бильгильдис, дикарка…
— Достаточно, ты можешь идти, — перебил его я.
Графиня отослала слугу.
— Что ж, теперь, когда мы прояснили этот вопрос… — сказала она, помолчав. — Я просто хотела… Вы, конечно… Мне очень жаль, что вы стали свидетелем нашей ссоры. Наверное, наша семья произвела на вас ужасное впечатление. К сожалению, наверное, это впечатление не так уж ошибочно, — Клэр нервно рассмеялась. — Убитый граф, его любовница-дикарка, его беременная вдова, поспешно выходящая замуж, его взбешенная происходящим дочь… Ну и семейка. В такое, наверное, и верится-то с трудом.
— Насколько мне известно, даже у Александра Великого были проблемы в семье, не говоря уже о Клитемнестре[4].
Мы оба рассмеялись. Это сняло напряжение от серьезности разговора.
— Да, викарий, в каком-то смысле вы правы. И все же мне не хотелось бы, чтобы моя семейная жизнь напоминала древнегреческую трагедию.
В полумраке сокровищницы я заглянул ей в глаза и увидел две черные жемчужины.
— Пока что это лишь драма, графиня, не более того. В трагедии много действующих лиц, и на каждом лежит бремя вины. Здесь же все зависит от того, как вы воспринимаете это, графиня.
Клэр помолчала немного.
— По крайней мере, теперь мне легче. Я не могла бы спать спокойно ночью, не извинись я перед вами. И я хотела попросить вас не разглашать произошедшее.
— Боюсь, возникло некоторое недоразумение, графиня. Вам не за что просить прощения, и, конечно же, вам не нужно просить меня о молчании, это само собой разумеется. Для меня не важна ваша ссора с дочерью. Меня интересуют факты, а не слухи. То, что вы беременны, может иметь значение для меня лишь в том случае, если это имеет отношение к мотиву убийства. К сожалению, я вынужден буду допросить вас. Надеюсь, вы это понимаете.
Полумрак облегчал наш разговор, ведь мы не видели друг друга. Вообще, говорить о чем-то щекотливом, о грехах и пороках, лучше во тьме, ибо при свете дня человек вряд ли сознается в таком. А вот если он не видит тебя, то может убедить себя в том, что все не так уж и плохо.
— Ребенок от Агапета, — решительно заявила Клэр.
Конечно, после такого я не мог спросить ее «вы уверены?». Однако же, судя по ее животу, графиня была вовсе не на шестом месяце беременности. И если ребенок родится хотя бы на три недели позже срока…
— Законность его наследования можно оспорить, — холодно заявил я.
— Но раз я говорю вам…
— Я не сказал, что это я буду оспаривать его законность. Факты таковы: вашего супруга убили, через два дня вы вышли замуж за другого мужчину, хотя и знали, что беременны. Этот мужчина ни с того ни с сего занял пост графа. Похоже на узурпацию власти. Ко всему вы еще и скрывали то, что беременны. Все это серьезные обвинения, но нет причин полагать, что оспаривание законности наследования в любом случае будет успешным.
— Что я могу предпринять?
— Родить ребенка в срок, — мне показалось, что эти слова прозвучали слишком уж цинично. — Кроме того, вы можете поклясться именем Господа нашего. Клятва на кресте может сыграть решающую роль в признании законности рождения вашего ребенка.
— Клятва на кресте?
— Ее необходимо принести при свете дня при большом скоплении народа. Вам нужно опустить руку на крест, призвать Господа в свидетели правдивости ваших слов и заявить, что отец ребенка — граф Агапет.
О суровости наказания за клятвопреступничество я умолчал. Мне показалось неуместным говорить сейчас об отрубленных пальцах и вырванном языке.
— Подумайте об этом, — мне хотелось поскорее сменить тему разговора. — Эту комнату мы оплетем цепью с замком. К сожалению, граф пока что не сможет поселиться здесь.
— Но… Я не понимаю почему.
— В этих покоях было совершено преступление. Здесь хранилось орудие убийства. Я намерен использовать эту комнату для ведения допросов.
— Допросов?
— Конечно, я не намерен проводить допросы с пристрастием. В отличие от других викариев я считаю показания, данные под пытками, весьма сомнительными.
— Я полагаю, что допросы в данном случае излишни…
— Я последний, кто осмелился бы оспорить ваше право на свое мнение по этому поводу, однако же и у меня есть свое.
— Но вы же слышали от Раймунда, что…
— Во-первых, он крепостной, а значит, я не могу опираться на его показания для вынесения приговора. А во-вторых, мне кажется, мы еще не все прояснили.
— Кинжал лежал вон там, на столе. Бильгильдис привела венгерскую девушку, и в подходящий момент та…
— Слуга уже говорил мне об этом. Прошу вас, графиня, не сейчас. У вас будет возможность высказать свой взгляд на произошедшее, когда я буду допрашивать вас.
— Меня?
— И вас, и вашего супруга, и вашу дочь, и вашего зятя, и слуг, и стражников. Всех.
— Но к чему все эти хлопоты? Речь идет всего лишь о венгерке. Она убила Агапета. И я прошу вас позволить мне определить соответствующее наказание для этой девушки.
— Я проверю ваше предположение. Конечно же, я допрошу и венгерку. Прошу простить меня, графиня. Сегодня я проделал долгий путь. Пусть кто-нибудь запрет эту дверь и оплетет ее цепями. Ключ должен оставаться у меня. Если вам понадобится доступ в сокровищницу — от нее ключ мне, конечно же, не нужен, — то вам достаточно лишь позвать меня в любое время дня и ночи, и я открою для вас комнату. — Я поклонился. — Я благодарю вас, графиня, за вашу честность и за потраченное вами время.
У меня был выбор. Я мог бы говорить с ней вежливее, не так язвительно. Но общее настроение в замке передалось и мне, хотя и не было в сердце моем злых намерений.
Кара
Все началось с легкого ветерка. Он пробудил меня ото сна (вновь мне грезилось то, что было когда-то в яви), он гладил мои плечи, словно влюбленный юноша. В полусне я чувствовала его прикосновения. Ветерок подхватил меня на руки и вернул на родину, в степь у Великого озера. В степь, туда, где колышутся травы. Туда, где пасутся дикие кони. Туда, где кружат над землею горделивые птицы. Туда, где стоит мой шатер. Туда, где хожу я нагою, не испытывая стыда. Туда, где мой муж обнимает меня. Туда, где мы возлежим на ложе из шкур. Туда, где сливаются наши крики страсти. Туда, где мы бессильны пред желанием своим, но бессилие это длится лишь ночь. Туда, где я чувствую кровь в его чреслах. Туда, где я вижу его, вижу с закрытыми глазами. Туда, где сладостное томленье овладевает моим телом. Туда, где наши тела переплетаются. Туда, где наши тела обмякают. Туда, где я хочу умереть.
А потом ветер поднялся сильнее. Я поднялась с лежанки и подошла к окну. На самом деле это и не окно, а узкая бойница. Ее ширины хватает лишь на то, чтобы я высунула туда руку.
Я поймала ветер, прилетевший с востока, и с небес пролился дождь. Я слизнула сладковатые капли с руки. Ветер стал еще сильнее, он бил мне в лицо, я вдыхала его запах. Ветер обнимал меня, прижимал к стене, сотрясал комнату.
Там, перед окном, я вновь уснула, свернувшись на полу. Волосы, мокрые от дождя, липли к моей груди, и капли воды стекали на бедра.
Следующее, что я помню? В комнате появился мужчина.
С тех пор как меня похитили, на меня бросали разные взгляды. Благодаря вожделению Агапета я до сих пор жива — его люди убивали всех, кто встречался им на пути, уничтожали все, что было им не по нраву. Я видела это собственными глазами, когда из моей страны меня везли на чужбину. Сожженные деревни других племен. Черные тела сгоревших заживо. Утопленники. Маленькие дети, оставленные в поле. Повешенные — старики и старухи. Мне повезло, что Агапет и его люди не добрались до моего селения. Меня похитили, когда я набирала воду в ручье, и я стала последним их трофеем. Агапет, увидев меня, решил сохранить мне жизнь. Сохранить мне жизнь, сделав меня своей собственностью. Все те четыре недели, которые я провела в походе (я то шла, то тряслась в повозке), Агапет, едущий верхом, наблюдал за мной издали. Я была его наградой за эту войну, и он хотел насладиться мною без спешки и суеты. Большинство других людей в его войске не обращали на меня внимания. Кто-то презирал меня, кто-то хотел бы овладеть мною, не сходя с места, но они не решались даже приблизиться ко мне.
Когда мы въехали во двор замка, Агапет соблаговолил подойти ко мне. Схватив меня за запястье, он стащил меня с повозки. Наверху, на ступенях, я увидела женщину — старше меня, младше его. Женщину в прекрасном платье цвета запекшейся крови, столь роскошном, что в таком платье не постеснялась бы ходить и королева. Я сразу же поняла, что эта женщина — его жена. И она знала, что мне предстоит.
Удивительно, но она посмотрела на меня виновато, словно это не ее супруг, а она сама причинила мне вред.
Подбежала его дочь и бросилась отцу на шею, но Агапет смотрел только на меня. «Приведите эту женщину сегодня вечером в купальню и нарядите ее, слышите?» — громко сказал он. И на меня смотрели прихорашивавшие меня служанки, смотрели с любопытством.
Потом, уже после смерти Агапета, меня ждали яростные взгляды стражников в купальне.
А еще был исполненный ненависти взгляд немой старухи. С тех пор как я появилась в замке, она преследует меня, появляется словно из ниоткуда, как призрак, и уже через пару мгновений исчезает.
Взгляд дочери Агапета — нерешительный, будто она не знала, как обращаться со мною.
Все эти взгляды не предвещали мне ничего хорошего.
И вот в моей комнате появляется этот мужчина, и все меняется.
Ночью я впала в забытье, свернувшись на полу калачиком. Почувствовав, что в комнату кто-то вошел, я очнулась. Чья-то рука взяла с лежанки одеяло и прикрыла мое тело. Я уверена, что это был он. Я еле сдержалась, чтобы не поблагодарить его на его языке. Кутаясь в одеяло, я лишь с опаской кивнула.
Он улыбнулся мне, и я сразу поняла, что он сочувствует мне. Мой разум оставался настороже, но сердце мое уже исполнилось доверия к нему.
— Я Мальвин из Бирнау, викарий Констанца, а это мой писарь, Бернард, — он указал на прыщавого юнца, стоявшего неподалеку с дощечкой и пером в руке. — Должно быть, ты не знаешь, кто такой викарий. Кое-где так называют священнослужителей, у нас же викарий — представитель суда. Что-то вроде судьи. Моя цель — выяснить, кто убил графа. Ты можешь помочь мне. Как тебя зовут?
Я понимала, что стоит мне только открыть рот — мне даже говорить ничего не нужно было, — и он поймет, что я владею его языком. Доверие и здравый смысл вели борьбу в моей душе. Мне нужно было выиграть время, чтобы подумать. Я встала и жестом попросила викария подержать для меня одеяло, чтобы я могла одеться. Он выполнил мою просьбу.
— Конечно, и у твоего народа есть судьи, — продолжил Мальвин. — Значит, ты знаешь, что они стараются судить непредвзято. По крайней мере, я стремлюсь быть объективным, — он немного помолчал. — Скажи мне, на родине у тебя остался муж? У вас вообще есть такое понятие как брак? Мужья, жены? Можно спросить иначе. Ты принадлежишь одному мужчине? Какие чувства ты испытывала к Агапету? Он унизил тебя?
Тем временем я оделась, и викарий мог опустить одеяло. Теперь, не смущаясь больше своей наготы, я сумела как следует рассмотреть этого мужчину. В его черном одеянии, мантии, ниспадавшей почти до самого пола, было бы что-то угрожающее, если бы не его лицо. Лицо Мальвина было удивительно светлым — и я имею в виду не только необычайную бледность его кожи, но и его лик. В нем не было ни гордыни, ни злобы. И мне пришлось подумать немного, чтобы понять, как назвать это. Отсутствие зла. Ни о Лехеле, моем муже, ни обо мне, ни о ком-либо из моего народа и тем более из здешних нельзя было сказать такого. Какой чистый лик… Во всех нас есть какая-то тень, частица зла — ложь, борьба, жажда власти, зависть, мысли об отмщении. Но не у Мальвина. В его огромных зеленых глазах светился ум, а некрупный нос и округлый подбородок придавали лицу мягкость. О таком судье мечтает любой обвиняемый. О таком мужчине мечтает любая женщина, пресытившаяся необузданными, отважными, гордыми и потому самовлюбленными самцами. Женщина, в которой столько решимости, что ее хватит на двоих.
— Ты не понимаешь меня? Это осложняет дело. Я опасался этого. — Он посмотрел на исцарапанную мной стену. — Это ты сделала? Ты умеешь писать? Это заклинания? Но почему ты пишешь на стене? Приказать, чтобы тебе принесли бумагу?
Мне не нужна была бумага, но я не могла сказать об этом Мальвину, ведь тогда он понял бы, что я говорю на его языке. Мне хотелось прокричать ему, что только это от меня и останется. Царапины на стене — это мои слезы. Капли дождя, принесенные восточным ветром. Прокричать, что, сидя здесь, я уже чувствую запах земли, в которую меня закопают. Что пишу, чтобы побороть страх, как утопающие пытаются вырваться из бурного водоворота, а когда их утягивает под воду, они до последнего мига бьют руками по воде. Вот что мне хотелось сказать ему.
Но я молчала.
Викарий какое-то время ходил туда-сюда по комнате. Вначале я смотрела на него, но потом отвернулась. И Мальвин воспользовался этим.
— Сегодня вечером тебя казнят, — внезапно сказал он. — Перед смертью тебе отрубят ноги.
Резко повернувшись, я в ужасе уставилась на него.
— Мне жаль, но мне пришлось воспользоваться этой уловкой. Прости меня.
Он отослал из комнаты своего писаря. Мне стало немного не по себе.
— Я хочу рассказать тебе о том, что произошло три года назад, — начал Мальвин. — Венгры напали вначале на Каринтию, затем на Баварию. Они прошли вдоль Дуная по Швабии, пересекли Рейн и прорвались в Лотарингию. Хвала Господу, Констанца война не коснулась. Но земли вокруг были разорены, и отовсюду в наш маленький городок хлынули беженцы. Их урожай сожгли, скот угнали, священников убили, укрепления разрушили. Женщин изнасиловали, мужчин искалечили, их дети умирали от голода. Мы с женой приняли двух стариков и четверых сирот в наш дом, но, невзирая на все наши старания, старики вскоре умерли, а один из детей лишился дара речи. Он стал юродивым. За год до этого, насколько я знаю, та же война коснулась другой части королевства, Тюрингии. На следующий же год все повторилось в Баварии и Франконии. Каждое лето мадьяры нападали на наши земли, сея ужас и оставляя после себя голод, смерть и разорения. Иногда захватчики оставались здесь на зиму, продолжая разбой уже весной. Те, кому удалось спастись бегством, рассказывали, что в набег пришли не только воины. Венгры привели с собой своих женщин и детей. Они приехали со всем своим хозяйством, расположились здесь в шатрах или построенных на скорую руку хижинах. Говорят, что за время войны некоторые, в том числе женщины и дети, успели выучить язык местного населения.
Когда Мальвин начал говорить об этом, я опустила взор к полу и не поднимала глаз.
— В тот голодный год моя жена носила под сердцем дитя. Она не выдержала лишений и страданий, не вынесла последствий венгерского вторжения. Она умерла, и наш ребенок погиб в ее чреве, — он помолчал. — Ты хорошо притворялась, будто не понимаешь мой язык, женщина, чьего имени я не знаю. Но теперь с этим покончено. Следуй за мной. У меня есть к тебе вопросы, и тебе придется ответить на них. И да поможет тебе Бог, если ты этого не сделаешь.
Протокол допроса (без применения пыток)
Допрашиваемая: венгерка по имени Кара.
Присутствуют на допросе: Мальвин из Бирнау, викарий; Бернард из Тайха, писарь.
М.: Твое имя? Какого ты рода?
К.: Кара. Я мадьярка из племени кеси.
М.: Значит, ты венгерка. Враг. Ты принимала участие в нападениях на Каринтию, Баварию, Швабию, Франконию и Тюрингию. Сколько раз ты побывала на наших землях? Шесть? Семь? Восемь? Должно быть, много, раз сумела выучить наш язык.
К.: Человек ничего не может поделать с тем, кем он родился. Можно похоронить в себе свою сущность, но она прорастет сквозь созданную тобою пелену, как прорастают цветами могилы. Что сотворил мой народ, то не могу предотвратить я. Что я повидала, то мне не забыть. Но что бы я ни думала при этом, то никому не причинит вреда. Я не убивала никого из твоего народа.
М.: Расскажи мне о том, как ты разгневалась на Агапета. Твоя ярость была безмерна, не так ли?
К.: Он похитил меня, схватил у ручья. Он увез меня с родины…
М.: Когда ты говоришь «он», ты имеешь в виду Агапета.
К.: Да. Он не мог избавить меня от своих прикосновений даже тогда, когда за столом, всего в паре шагов от нас, сидела его жена.
М.: Это было на пиру? Расскажи мне о том вечере.
К.: Агапет настоял на том, чтобы я сидела рядом с ним. Каждый должен был видеть, какой трофей он привез с войны. И каждый, каждый за столом знал, что Агапет сделает со мной. Он очень много пил и довел себя почти до скотского состояния.
М.: И как отреагировала на это его жена?
К.: Никак. Она величественно сидела во главе стола в своем багровом наряде, который навсегда врезался мне в память. Она ни с кем не говорила, и с ней никто не поддерживал беседу. Я не видела и тени волнения на ее лице. Нет, один раз она все-таки встревожилась. Когда Агапет танцевал со своей дочерью. Дочь пригласила его на танец. В этот момент жена Агапета показалась мне очень расстроенной, и я никак не могла понять, почему она так разволновалась, танец ведь длился всего пару мгновений, ровно столько, сколько нужно, чтобы сделать два глубоких вдоха. А потом Агапет вновь вернулся ко мне, притянул меня к себе, поцеловал в губы и приказал слуге набрать воды в бассейн. И я поняла, что мне сейчас предстоит.
М.: Этот приказ услышали все?
К.: Да. Он громко прокричал эти слова, и его солдаты поняли, что он имеет в виду. Они засвистели, загоготали. Дочери Агапета этот спектакль пришелся не по нраву, и она сразу же покинула пир. Через какое-то время ушла и графиня. Празднование стало еще разнузданней. Мне хотелось плакать, но я сдерживала слезы. В какой-то момент немая служанка отвела меня в комнату, в которой я живу до сих пор. Она заперла меня и ушла. Через какое-то время она вернулась и провела меня в купальню…
М.: Что ты можешь рассказать о кинжале?
К.: Как я уже говорила, немая служанка провела меня сюда, в эти покои графа. Она сорвала с меня платье и грубо втолкнула в купальню. Там было темно. Я больше не могла сдерживать слезы, но служанке не было дела до моих чувств. Она ушла, а я спустилась в бассейн. Я не видела кинжал.
М.: Так, значит, Агапет был уже в воде?
К.: Да.
М.: И ты утверждаешь, что в это время он был уже мертв?
К.: Да, но сразу я этого еще не заметила. Я только обратила внимание на запах.
М.: Он показался тебе знакомым? Тебе уже приходилось чувствовать этот запах — во время набегов. Это был запах крови. Значит, ты погрузилась в бассейн, полный крови.
К.: Да, полный крови. Я узнала запах, но ничего такого не подумала. Я была не в себе, я тряслась от страха и решила, что мне это только кажется. Я была рада, что тот мужчина не шевелился. Подумала, что он заснул. Он же был старым, целый день скакал на коне, потом выпил много вина, вода в бассейне была горячей, вот и заснул. Такое может случиться, даже если ждешь молодую женщину…
М.: Это, конечно, прекрасно, но в какой-то момент ты должна была понять, что сидишь в одной купальне с мертвецом.
К.: Пара капель воды попали мне на губы, и я поняла, что она действительно отдает кровью. Я схватила лампаду — она стояла у края бассейна, чуть подальше от меня. И тогда я увидела перерезанное горло. Кровь все еще вытекала из раны… Я сразу же выскочила оттуда. И я закричала.
М.: Сколько времени прошло с того момента, как ты погрузилась в бассейн, до того, как ты поняла, что Агапет мертв?
К.: Довольно много. Сколько времени… Я помолилась моим богам, вспомнила о моем муже, о моей жизни… Да, времени прошло много.
М.: И за это время ты никого не видела и не слышала?
К.: После того, как я немного посидела в купальне, в бассейн кто-то подлил горячей воды. Она поступала по желобу, выходящему над бассейном. Но это длилось недолго. И потом, немного позже, я услышала какие-то звуки. Может быть, шаги. Очень тихие. Во дворе пиршество было в самом разгаре, там громко кричали и смеялись, и отголоски того гама доносились и до купальни, но я могла отличить те шаги от шума во дворе. Те звуки доносились из комнаты Агапета, по крайней мере мне так показалось. А еще я услышала тихий скрип.
М.: Но ты никого не видела?
К.: Бассейн занимает только часть купальни, а я спряталась в самом его углу. Если бы кто-то зашел в купальню, я могла бы не заметить его. Но я определенно увидела бы, если бы кто-то убил Агапета, пока я была в бассейне.
М.: Что случилось после того, как ты закричала?
К.: Вначале ничего. Знаю только, что мне стало холодно.
М.: Холодно? В наполненной горячим паром купальне?
К.: Теперь я припоминаю. Я выбежала из купальни и очутилась здесь, в этих покоях. В комнате Агапета. Я громко кричала, но в коридор так и не побежала. Я была обнажена, понимаете… И я забилась в угол, где-то вот тут, прижавшись к стене. Через какое-то время прибежала одна девушка. Сейчас я уже знаю, что это дочь графа. В руке у нее был факел. Она увидела меня, позвала своего отца, а потом зашла в купальню. Дочь графа начала кричать, точно так же, как и я, только громче и пронзительнее. Она бросилась прочь. Через какое-то время вбежали стражники, потом немая служанка. Больше я ничего не знаю. Я не убивала графа. Я впервые увидела кинжал, когда его достали со дна бассейна. Я хочу домой, на родину. Но вы меня не отпустите. Вы меня убьете.
После допроса викария я чувствовала себя опустошенной и смертельно уставшей. Печальной — ведь я понимала, что теперь уже ничего не зависит от меня. Все, что я могла сделать, было уже сделано. И уставшей — ведь я так плохо спала прошлой ночью.
Тем временем ветер уже улегся, и только капли дождя все еще барабанят о стену. Я уснула и увидела продолжение сна.
Я вижу, как развеваются гривы лошадей в галопе. Я держу уздечку обеими руками и тяну то левой, то правой. Передо мной, в некотором отдалении, скачут трое моих братьев. Они на два, три и четыре года старше меня, самому старшему шестнадцать. Они вышли на охоту, они раскручивают арканы, гонятся за стадом диких лошадей. Они соревнуются, кому первому удастся обуздать коня. Они все бросают и бросают арканы, но дикие кони быстрее них.
Я держусь позади. Мне вообще-то запрещено самой садиться на лошадь, но я тайком научилась ездить верхом.
И в какой-то момент я все-таки вмешиваюсь в их игру. Я скачу вперед, обгоняю четырнадцатилетнего и пятнадцатилетнего братьев, скачу наперегонки с шестнадцатилетним. Увидев меня, он ругается. Кричит, чтобы я убиралась прочь. Я бросаю аркан — мимо. Мой брат бросает аркан — мимо. Мы скачем рядом посреди стада, в суматохе сложно разобрать, кто где. Кони то появляются передо мной, то вновь скрываются за пеленой пыли.
И вдруг со мной рядом мой брат. Он выбрал себе того же коня, что и я, молодого белого жеребца. Мы одновременно приближаемся к нашей жертве. Он бросает — мимо. Я бросаю — аркан на шее.
Мои братья отказываются помочь мне, а ведь нужно удержать и укротить этого жеребца. Таков обычай, нужно помогать, но они стоят рядом и смотрят, как конь вырывается и пытается сбежать. В одиночку мне не удается с ним справиться, поэтому в конце концов я упускаю его.
Я упрекаю своих братьев, я очень зла на них. Старший брат влепляет мне пощечину и толкает на землю.
Тогда подходит отец. Он наблюдал за всем этим с некоторого отдаления. Вначале его взгляд пронзает моих братьев, которые потерпели неудачу. Братья пристыженно опускают головы. Затем отец говорит старшему брату: «Нельзя бить девочек».
Потом он поворачивается ко мне. «Пойдем, — говорит он. — Идите все за мной». Мы движемся к озеру. Там, на берегу, отец хватает меня за запястья и тянет в воду. Мне страшно, я не умею плавать. Он затягивает меня так далеко в озеро, что я уже не достаю до дна ногами. В этот момент он отпускает меня.
Я кричу. Барахтаюсь. Вижу, как вода поднимается перед моими глазами, смыкается над моей головой. Теперь вокруг одна только вода. Я пытаюсь дышать, вдыхаю воду, она входит в меня. Я чувствую, что опускаюсь на дно, мои ноги касаются земли, я пытаюсь оттолкнуться, подняться на поверхность. Но у меня ничего не получается. Больше я ничего не чувствую. Вокруг только тьма и холод.
Я лежу на теплом песке на берегу, рядом следы рвоты. Рядом стоят мои братья. Отец наклоняется ко мне и говорит: «Это будет тебе уроком».
Клэр
Мне нужно было принять непростое решение, но оно далось мне удивительно легко. Сегодня утром, через два дня после разговора с Мальвином из Бирнау, я решила принести клятву пред ликом Господа нашего. Я приказала собрать во дворе замка всех людей, которые живут тут. Время показалось мне подходящим. После долгого дождя из-за туч вновь выглянуло солнце, и утренний свет придал мне уверенности. Капли влаги блестели на крепостных стенах, легкий ветерок разгонял клубы тумана над рекой.
Эстульф был не согласен с моим решением.
— Давать ложную клятву очень опасно, Клэр. С разных точек зрения.
— Моисей тоже солгал своему народу, сказав, что уже скоро они будут в земле обетованной.
— Он поступил так, как повелел ему Господь.
— Вот видишь. Господь тоже не всегда требует от нас правды.
— Прошу тебя, Клэр, это не шутки.
— Если я не солгу, тебя лишат титула графа. Мужчину, который совершил грех прелюбодеяния с женой своего предшественника, не потерпят ни герцог, ни духовенство. Все твои замечательные намерения потерпят крах, а ведь ты даже не начал претворять их в жизнь.
— Противостоять людям — это одно, но Господу — совсем другое. Куда подевалась твоя набожность?
— Я больше не могу ее себе позволить.
Я слишком долго была предана Богу, и результаты были чудовищные. Впервые в жизни я обрела свободу, сердце легко билось в моей груди, я полюбила жизнь, и все это потому, что я призвала себе на помощь другого бога — любовь. Конечно, этот бог смертен, но пока что он жив.
В сущности, Эстульфа нельзя назвать особо набожным человеком. Но его мучает совесть из-за того, что ради него я намерена принести клятву именем Бога. Именно поэтому Эстульф и пытался отговорить меня. Милый мой, глупый мальчик! Во-первых, мне нетрудно пожертвовать своей честностью ради мужчины, который ради меня поступил бы так же. В прошлом я многим жертвовала — я отдала Агапету свою невинность, юность, свободу и ум. Во-вторых, я лгу не только ради Эстульфа, но и ради того великолепного плода, который созревает во тьме моего чрева. Я лгу ради ребенка, который имеет право появиться на свет без каиновой печати греха. Если мне предстоит выбирать между адом для себя в жизни и после смерти и адом для моего ребенка в жизни теперешней, я выберу первое.
— Не я создала небо и землю, браки и клятвы, и потому я не чувствую, что иду против воли Божьей. Господь не может желать мне горя, которое постигнет меня, если я скажу правду.
— Толковать мысли Бога — гордыня.
— Это было бы гордыней, если бы я ошибалась. Но то, что я ошибаюсь, еще нужно доказать.
— Сомневаюсь, что викарий вступил бы с тобой в этот спор. Если он узнает о твоей лжи, он прикажет вырвать тебе язык, отрубит пальцы, лежавшие на кресте, и дело с концом.
Эстульф хотел испугать меня, но, мне кажется, в глубине души он надеялся на то, что я не передумаю. И я осталась при своем мнении. К тому же я полагала, что Эстульф любит меня настолько, чтобы позволить мне самостоятельно принять решение. Кроме того, благополучие нашего ребенка — это самое главное.
— Мы должны подумать о нашем ребенке, — сказала я. — И на нас лежит ответственность перед бедняками. На кого еще им надеяться? Ведь они давно уже изгнали надежду из своего сердца. Что такое язык и рука против трупов заморенных голодом и погибших от лихорадки? Ты и сам это знаешь.
Мы посмотрели друг на друга, и в это мгновение Эстульф сдался. Мы поцеловались и обнялись, а потом я вместе с Эстульфом вышла во двор, где все уже собрались.
Вновь пошел дождь. Над замком сгустились тучи. Поднялся холодный ветер. Крепость стояла голая и мокрая, словно древняя скала, омываемая волнами моря. Из леса доносился рев оленей, лай диких псов и карканье ворон.
Я, следуя указаниям Мальвина, повторила слова клятвы и призвала Господа в мои свидетели: «Ребенок в моем чреве — дитя Агапета».
Все, кроме Элисии и Бальдура, ликовали. Я тоже испытывала радость, так легко было у меня на сердце. Так же, как и после смерти Агапета. Теперь пути назад не было. Эта клятва даровала мне величайшее из благ — счастье свободы.
Хочу написать кое о чем еще. Вернувшись в свои покои, я подошла к окну. От раздумий меня отвлекло щебетание, и я увидела на подоконнике маленькую пташку, совсем еще птенца. Мне показалось, он вывалился из гнезда. Птенец выглядел таким беззащитным. У него был красноватый хвостик и крошечные черные глазки, едва ли больше пшеничного зернышка. Я заговорила с этим птенцом. Спросила у него, что он тут делает. Я хотела помочь ему, и тут поняла, что у него что-то не так с левым крылом. Эта пташка не могла летать. И только узкий подоконник отделял ее от пропасти. Я дала птице хлебных крошек, но она к ним и не притронулась. Тогда я отправила Фриду, Франку и Фернгильду, наших трех вдовствующих дев, на луг, чтобы те поискали для птицы мух и жуков. Такая пища пришлась птенцу по вкусу. И с тех пор я забочусь о нем.
Элисия
Ах, отец, отец, это не может продолжаться и дальше. Не в моем духе сидеть, сложа руки, и ждать, что уготовано для меня судьбою. Я знаю, что именно так, по всеобщему мнению, и должна вести себя женщина. По мнению мужчин. По мнению священников (они мужчины), по мнению власть имущих (они мужчины), даже по мнению женщин (так их настроили мужья, священники, власть имущие, отцы). Ты был мне совсем другим отцом. Ты поощрял мое стремление высказывать собственное мнение, ты хотел, чтобы я действовала, когда считаю это необходимым. Это в моей крови. Ведь я кровь от крови твоей.
После клятвы, принесенной моей матерью, во мне вспыхнуло желание что-либо предпринять. Я знала, что мать лжет. Конечно, я не присутствовала при том, как Эстульф зачинал это дитя, и пока что у меня нет доказательств того, что этот ребенок — не от моего отца, но я знаю наверняка, что моя мать солгала и миру, и Господу.
Сразу после этого представления я удалилась в свои покои, едва сдерживая чувства. Словно сумасшедшая, я уселась на край лежанки и окаменела. Если бы горечь могла окрасить мой лик, то я стала бы зеленой, точно подорожник. И как она могла так поступить со мной! Этой клятвой она поставила меня в немыслимое положение. Теперь все, что бы я ни сделала, чтобы посадить Бальдура на трон графа, приведет к тому, что мою мать искалечат. Конечно, я не церемонилась с ней, когда речь шла о ее беременности. И я по-прежнему думаю, что ее новый супруг Эстульф — убийца, хотя пока что я и не поняла еще, как он мог пробраться в купальню так, чтобы его не заметил Раймунд (мне не хочется подозревать верного слугу в соучастии). Как бы то ни было, сколь бы сильно я ни гневалась на мою мать, я ни за что бы не причинила ей вред. Этой клятвой она заставляет меня пойти на чудовищное соглашение с моей совестью.
Я обратилась к Мальвину из Бирнау, ведь он единственный, кто может помочь мне в этой ситуации (конечно, я доверяю Бильгильдис и полагаюсь на ее советы, но ее возможности как крепостной ограничены, к тому же она еще и нема). Кроме того, он произвел на меня очень хорошее впечатление, хотя я и не могу сказать, чем именно. Его расследование только началось. Наверное, в какой-то мере мое расположение к Мальвину обусловлено тем, что он не нравится Бальдуру, а мать и Эстульф боятся его. Еще я возлагала на него большие надежды, потому этот разговор был проявлением моего доверия к нему.
Когда я вошла к нему в комнату, он что-то писал. Увидев меня, Мальвин оставил все свои дела и подошел ко мне.
— Я вам мешаю? — спросила я.
— Нисколько. Вообще-то я ожидал, что вы нанесете мне визит.
— Почему?
— Случилось слишком многое, чтобы такой человек, как вы, продолжал бездействовать.
— Вы хорошо разбираетесь в людях.
— Учитывая то, что вы при всех разорвали платье на своей матери, чтобы обнажить ее живот, даже дурак не счел бы вас застенчивой, — он улыбнулся.
— Я такое не каждый день делаю, знаете? — Я улыбнулась ему в ответ.
— Значит, мой наряд в безопасности?
— Дайте-ка подумать… Полагаю, что так. С вашим нарядом ничего не случится.
— Значит, мне повезло.
— Вы не откажетесь… — Я тщетно пыталась согнать улыбку со своего лица. — Вы не откажетесь прогуляться со мной, викарий? У меня к вам несколько вопросов.
— Если речь идет о ваших показаниях, связанных с убийством, то мне понадобится мой писарь. Мне позвать его?
— Нет, прошу вас. Речь идет не об убийстве. По крайней мере не совсем.
— Куда же мы направимся с вами?
— На виноградник.
Сбор винограда уже завершился. На земле по обе стороны тропинки лежали раздавленные перезрелые ягоды, и их тяжелый аромат перебивал другие запахи осени. В ульях жизнерадостно жужжали пчелы, но и они через пару недель умолкнут. Я рассказала Мальвину, как шестнадцать лет назад, еще шестилетней, я помогала крестьянам при сборе урожая. Помню, я срезала тогда нижние грозди. Это так радовало меня, но потом пришла моя мать и увела меня прочь, потому что я якобы слишком хороша для такой работы. Мальвин внимательно слушал меня, не перебивая.
— У меня всегда были не очень хорошие отношения с матерью. Мы терпели друг друга, не более того. Вот уже много лет мы ни разу не говорили друг с другом, она никогда не рассказывала мне о своей жизни до свадьбы, уклонялась от ответов на личные вопросы, закрывалась от меня. Иногда я не видела ее по нескольку недель. Моя кормилица Бильгильдис была мне ближе родной матери. Бильгильдис, знаете… она немного грубовата. Думаю, иногда это проглядывает в моей речи и поведении. И бывает так, что моя вспыльчивость переходит все границы. И я произвожу на гостей впечатление фурии.
— Вы поэтому хотели поговорить со мной? Чтобы извиниться? В вашей семье, похоже, все любят просить прощения. Ваша мать уже принесла мне свои извинения.
— Я не хочу просить прощения. Ну, то есть я позвала вас сюда не для этого. Буду откровенна с вами, викарий. Я не знаю, что происходит и на что мне надеяться. Вы уже пару дней провели в этом замке и, вероятно, уже составили себе какое-то мнение о том, что происходит здесь. Не пристало мне давить на вас…
— Но вы предпочли бы поскорее сделаться графиней, а для этого вам нужно, чтобы я приговорил Эстульфа к смерти.
— Я этого не скрываю. Графство должно было отойти мне и моему супругу.
— Любой правовед с интересом бы рассмотрел ваши претензии на наследство, и как викарий я мог бы это сделать, однако же я приехал сюда не для этого. Я имею право лишь расследовать убийство вашего отца, а не прояснять вопрос наследования.
— Но вы могли бы высказать мне свою точку зрения по этому поводу.
— Конечно. Сейчас королевство ослаблено. Нападения Венгрии на Саксонию, Тюрингию, Баварию и Швабию нанесли серьезный удар народу нашей страны. Военное положение не из лучших, финансовое положение ужасает, нет никакого порядка, а что до короля, то одиннадцать лет в стране правил ребенок, и лишь недавно к власти пришел Конрад, взрослый человек. За эти одиннадцать лет значимо укрепили свою власть герцоги, в том числе и в том, что теперь они назначают графов. Это их право оспаривается, а как и всегда, если можно оспорить что-то, то этот вопрос вызывает разногласия. За последние годы было несколько незаконных претензий на графский титул, которые предыдущий король, Людовик Дитя, не мог, а герцог Бурхард не хотел оспорить. Бурхард не будет вмешиваться до тех пор, пока не увидит, что Эстульф как граф невыгоден для него. Таково положение дел, и отрицать его глупо.
— Бальдур важен для войска как полководец в войне с Венгрией, он принимал участие в каждом походе. Его преданность герцогу и отвага неоспоримы.
— Зато Эстульф, насколько мне известно, имеет большой опыт в управлении здешними землями, и местное население очень любит его. Если люди в пограничном графстве довольны своим господином, то такая ситуация на руку герцогу. Как видите, все не так просто. К тому же…
— Почему вы умолкли?
— Я не должен был бы говорить это…
— Прошу вас, скажите, о чем вы думаете. Вы не сможете задеть меня.
— Речь идет о наследнике теперешнего графа.
— О ребенке. У меня нет детей, — сразу выпалила я, чтобы поскорее оставить эту тему разговора. — Я уже семь лет в браке, но у меня нет детей. Однако же я молода.
Я видела, что Мальвину неприятен этот разговор.
— Я могу высказать свое мнение по поводу ваших шансов стать графиней, и я основываюсь на теперешней ситуации. Ваша мать подарила жизнь двум детям и носит во чреве третьего. Она принесла клятву о том, что этот ребенок — от Агапета. Если родится сын, у вас нет шансов на графство. Но даже если родится дочь… До тех пор, пока у вас нет сыновей, у вашей матери шансов больше.
Я все-таки немного обиделась на его слова, и Мальвин заметил это.
— Простите, мне не следовало говорить об этом.
— Вы сделали лишь то, о чем я просила. Сказали правду.
— Да, но…
— Никаких «но». Все так, как есть, мне приходится мириться с этим.
— Я глупец.
— Если и так, то очень доброжелательный и тактичный.
— Ах, благодарю вас.
— Я не это имела в виду…
— Я знаю. Безусловно, — словно чтобы утешить меня, добавил Мальвин, — исход дела зависит в первую очередь от того, что выяснится в результате расследования. Если кто-то из вашей семьи связан с убийством вашего отца… Например, ваш отчим…
— О господи, как я ненавижу это слово.
— То вопрос наследования предстанет в совсем другом свете.
— Эстульфа казнят?
— А вы этого хотите?
— Если он совершил убийство — да. Не может быть другого наказания за такое преступление.
— Тут вы ошибаетесь. Все дело в том, какой суд будет принимать решение: суд семьи или независимый суд.
По выражению моего лица Мальвин определил, что я не понимаю, о чем идет речь.
— Суд семьи был принят с давних пор, — объяснил он. — Приговор выносит семья жертвы, к примеру, о чем-то договаривается с семьей преступника. Так, семья жертвы может потребовать денег, может ослепить преступника, может забрать его себе в крепостные, чтобы он до конца дней своих служил родственникам убитого. Если и преступник, и жертва принадлежат к одной семье, то вся семья и выносит приговор. До казней в таком случае доходит редко, только тогда, когда семья преступника очень бедна и ей нечего предложить. Богатым людям, в том числе и дворянству, особенно герцогу, очень нравится такой способ решения подобных вопросов, и они болезненно воспринимают попытки короля Конрада заменить суд семьи независимым судом, который выносит приговор на свое усмотрение. Влиятельные семьи боятся, что их сыновей казнят за совершенные преступления.
— А как будут судить убийцу моего отца?
— Выбор вида суда — в моей власти. Сложилась немного странная ситуация, ведь герцог настаивает на суде семьи, а король — на независимом суде. Если убийца — венгерская девушка, хоть я и не верю в это…
— Вы не считаете, что венгерка виновна?
— Нет.
— Это хорошая новость, — радостно кивнула она.
— Прошу вас, помните о том, что я лишь высказываю свое мнение о теперешнем положении вещей, а не выношу окончательный приговор. Так вот, если убийца — венгерка, то она ведет себя достаточно глупо, ведь она подтверждает то, что в покоях графа и в купальне не видела никого, кроме Раймунда и Бильгильдис. Так она оговаривает саму себя, и она это знает. Именно это и удивляет меня. Если бы она была убийцей, то либо попыталась бы отвести от себя подозрения, давая ложные показания, либо признала бы свою вину. Но она не делает ни того, ни другого. Это говорит в ее пользу. И все же это не поможет ей, если подозрение не падет ни на кого другого.
— Я полагаю, что это Эстульф убил моего отца, чтобы заполучить титул. Но, конечно же, я понимаю, что для вас это лишь пустые слова. В ваших глазах я могу быть такой же подозреваемой, как и Эстульф, и потому я прошу вас допросить меня.
— Еще никто и никогда не просил меня об этом, — рассмеялся Мальвин. — Обычно люди пугаются, когда я завожу разговор о допросе.
— Прошу вас, допрашивайте меня, сколько хотите, не стесняйтесь, задавайте мне самые щекотливые вопросы, а когда допрос закончится и вы поймете, что это не я убила папу, то переходите к допросу Эстульфа.
— Вы очень решительная женщина, Элисия Брейзахская, — улыбнулся викарий.
— Я дочь Агапета.
Протокол допроса (без применения пыток)
Допрашиваемая: Элисия Брейзахская, дочь убитого.
Присутствуют на допросе: Мальвин из Бирнау, викарий; Бернард из Тайха, писарь.
М.: Расскажите мне о вечере перед убийством. Начните с пира.
Э.: Я недолго оставалась там. Мой отец не любит… не любил, чтобы на пиру присутствовали женщины, кроме разве что служанок. Мужчины сидели во дворе допоздна, вино делало их развязными. В тот день солдаты вернулись из утомительного, но победоносного похода, они заслужили вечер отдыха. Такое пиршество в конце лета за последние годы стало уже традиционным в нашем замке, и поскольку из года в год ничего не менялось, я знала, когда мне нужно уходить. Я пошла к себе в комнату сразу после танца с моим отцом.
М.: Ваш отец привез много сокровищ?
К.: Целую повозку с оружием и инструментами. Я не назвала бы это сокровищами.
М.: Он привез с собой венгерскую девушку.
Э.: Я как-то не обратила на нее внимания.
М.: Когда вы смогли поговорить с вашим отцом?
Э.: После его прибытия в замок поднялась суматоха, я едва сумела обнять папу. Но вот вечером мы смогли спокойно поговорить. Во дворе замка папа пригласил меня на танец. Он интересовался тем, как у меня дела, я же расспросила его о походе. Тогда-то мы и заговорили о шкатулке, присланной королем.
М.: Почему?
Э.: Я спросила его, увенчался ли его поход успехом. Папа кивнул. И тогда я сказала: «Значит, теперь ты выполнишь данное мне полгода назад обещание и подаришь мне кольцо?» Папа рассмеялся и сказал: «Вы, женщины, как сороки. Если что-то блестит, вы не можете устоять». Он подмигнул мне и надел мне кольцо на палец.
М.: Так, значит, еще до похода граф показал вам королевскую шкатулку?
Э.: Да, это было незадолго до того, как папа уехал на войну. Кольцо было таким красивым, что я не сдержалась и попросила папу подарить мне это украшение. Папа, смеясь, назвал меня жадной теткой и пообещал, что подарит мне кольцо в конце лета, если все будет хорошо. Я не обиделась на него, я же понимаю, что поход требует больших затрат. К тому же я была уверена в том, что папа постарается все-таки подарить мне кольцо. У нас с папой были особенные отношения, их трудно описать словами. Он видел, что я такая же отважная и решительная, как и он. Если бы я была его сыном… Но мы ведь говорили о шкатулке, верно?
М.: Да. Значит, кинжал лежал в шкатулке, как и кольцо?
Э.: Да, именно так. Если бы этот кинжал много месяцев лежал в комнате моего отца на столе, я бы заметила. Время от времени я входила в графские покои, чтобы оставить на лежанке туники, которые я шила для моего отца.
М.: Когда вы входили туда в последний раз?
Э.: В день его возвращения. Я сшила папе синюю тунику и положила ее к двум другим, которые я уже отнесла туда.
М.: Ваша мать утверждает, что видела кинжал на столе.
Э.: Значит, она ошибается.
М.: Или лжет.
Э.: Это вы сказали, не я.
М.: Я лишь озвучил одно из возможных объяснений этого. Но вернемся к вечеру убийства. Потанцевав с отцом, вы ушли с пира. Куда вы направились?
Э.: В мои покои. Мои служанки Фрида, Франка и Фернгильда помогли мне переодеться. Они ушли, и я легла спать.
М.: Не дождавшись супруга?
Э.: Бальдур всегда последним уходит с любого пиршества. Я часто сплю одна. Я имею в виду… я хотела сказать… я часто засыпаю одна.
М.: У вас часто устраивают такие пиры?
Э.: Настолько большие — всего два раза в год, тогда во дворе собираются все жители замка. Но Бальдур — капитан стражи, он часто засиживается со своими солдатами до ночи. Они играют в кости, пьют и… чем там еще мужчины могут заниматься?
М.: Так, значит, вы не видели Бальдура до того, как уснули?
Э.: Если вы намекаете на то, что Бальдур как-то связан с убийством моего отца… У Бальдура не было причин убивать его. Он пострадал в результате смерти своего тестя. Много лет Бальдур и отец плечом к плечу сражались на войне. Папа отдал ему мою руку. В день возвращения из похода папа хотел официально объявить Бальдура своим наследником, тогда никто не мог бы оспорить его претензии на графство. Отец словно предчувствовал, что какой-то приблудный приживала захватит замок и графство.
М.: Но Агапет доверял Эстульфу не меньше, чем своему зятю. В свое отсутствие он доверил своему кастеляну следить за благополучием графства. И семьи.
Э.: Может быть, Эстульф и был хорошим распорядителем. А что касается папиного доверия к нему, то хочу обратить ваше внимание на то, что у Эстульфа не было ключа от сокровищницы. В отличие от моей матери.
М.: У Бальдура тоже не было ключа.
Э.: Причина этого ясна — они вместе уезжали в походы. Так зачем Бальдуру ключ?
М.: Итак, вы заснули. Что случилось потом?
Э.: Я проснулась от крика. Кричала женщина. Я сразу же схватила факел и побежала на крик. В комнате моего отца я увидела венгерскую девушку, она сидела на полу и плакала. А потом я вошла в купальню и… Ужасно, я не хочу больше говорить об этом.
М.: Насколько я понимаю, ваша комната расположена недалеко от покоев отца. По пути туда вы кого-нибудь встретили?
Э.: После того, как я вышла замуж, мы с Бальдуром поселились в противоположном, восточном, крыле замка — с другой стороны двора, так что наши окна выходят на Рейн. Мне пришлось пробежать по длинному коридору между восточным и западным крылом, но по дороге я никого не встретила. Пир был в самом разгаре, мужчины праздновали, а женщины либо прислуживали им, либо, как мы с мамой, уже отправились в свои покои. В целом, комнаты для слуг расположены вокруг двора, за исключением комнаты Раймунда и Бильгильдис и покоев наших с матерью трех служанок. Они живут в комнатах по коридору между восточным и западным крылом. Значит, в этом коридоре я могла повстречать этих пятерых слуг. Или Эстульфа. Его комната находится неподалеку от покоев отца и матери, только этажом выше.
М.: Что случилось после того, как вы нашли своего отца?
Э.: Я потеряла самообладание и, завопив, побежала куда глаза глядят. Мне кажется, вначале я вбежала в комнаты моих служанок. Говорят, я вела себя как сумасшедшая, и только Бильгильдис удалось хоть как-то привести меня в чувство.
М.: Почему вы обратились в суд в Констанце? Факты должны были бы привести вас к тому же выводу, что и всех в этом замке. Ваш отец захватил в походе венгерскую девушку — чужачку, врага, язычницу, — хотел принудить ее к любви, вот она и ухватилась за первую подвернувшуюся возможность, чтобы…
Э.: Он не собирался принуждать ее к любви, во всяком случае в том смысле, который подразумеваете вы.
М.: Ну, он…
К.: Он хотел побыть вместе с ней в купальне, это правда, но отец никогда бы и пальцем к ней не притронулся, для этого он был слишком порядочным человеком. Спросите, обращался ли он когда-либо плохо с кем-либо из женщин в замке. Спросите, брал ли он женщин против их воли. Все ответят вам, что это не так. Эта история с венгеркой… это… это прискорбно. Но папа получал так мало любви от той женщины, которая обязана была дарить эту любовь… И он… да, он зашел слишком далеко. Папа был хорошим человеком. Он был графом, и потому иногда ему приходилось принимать жесткие решения, но в целом… Кто выиграл от его смерти? Кто женился на супруге графа через три дня после его смерти? Тут дело нечисто, и я требую справедливости. Я требую, чтобы…
(После этого стало невозможно записать слова допрашиваемой, поскольку она разрыдалась. Викарий пытался успокоить ее, но тщетно. Через какое-то время она внезапно потеряла сознание.)
Бильгильдис
Да, с нелегкой задачкой придется мне справляться! Отговорить графиню, уговорить Элисию. И все это кроме моих повседневных обязанностей. Нельзя сказать, чтобы мне нечем было заняться. Я должна следить за тем, чтобы три плаксы — Фрида, Франка и Фернгильда — выполняли свою работу, вместо того чтобы петь свои исполненные трагизма баллады. Из-за этого жалкого стихоплетства они позабыли бы о том, что нужно носить к прачкам грязные платья графини и Элисии, вытирать стол, прясть шерсть, мыть пол и обновлять солому в углах комнат. Я уже не молода — но кого это интересует? Признаю, меня никогда не заставляли выполнять грязную работу. Мои руки не покрыты мозолями, как у прачек, или шрамами от порезов и ожогов, как у кухарок, они лишь стали морщинистыми от старости. И все же мой день полон хлопот. Элисия все время жалуется мне на свою несчастную жизнь. Графиня говорит, мол, иди туда, иди сюда, передай то, принеси мне это, унеси то. Теперь она еще и заботится о птице. О птице! Что значит «заботится»… Это я забочусь об этом птенце. Графиня говорит: «Бильгильдис, прикажи служанкам наловить мух». Графиня говорит: «Бильгильдис, пойди к плотнику, на улице становится все холоднее, пташке нужен дом». Каждый день ей в голову приходит что-то новое, и птенцу день ото дня живется все лучше. Вскоре эта жалкая птица будет жить лучше меня. Но я отвлекаюсь…
— Бильгильдис, — сказала мне графиня. — Ты поедешь к Оренделю и привезешь его обратно в замок. Раймунд привезет вас в повозке. В последнее время часто идет дождь, дороги размыло, поэтому на поездку вам понадобится около десяти дней. Тем временем я успею подготовить Элисию и всю семью к этому радостному событию.
Я покачала головой и принялась отчаянно размахивать руками, хотя крепостной вообще-то и не стоит так себя вести. Я единственная служанка в замке, которая может позволить себе поспорить с господами и потом не получить двадцать ударов плетью.
— Нет?
Нет.
— Но почему нет? Почему, Бильгильдис?
Если бы ты знала это, подумала я, то я бы сейчас не стояла здесь перед тобой, а гнила бы в тюрьме, и это еще в лучшем случае.
Под настороженным взглядом графини я написала, что возвращение Оренделя представляет большую опасность. Какое впечатление это произведет на викария, если он узнает, что графиня много лет лгала своему супругу Агапету, более того, явно воспротивилась его решению. То, что графиня устроила похищение своего сына и наследника, не только подорвет доверие к ее словам, но и может быть воспринято как мотив для убийства, ведь что может быть сильнее тоски матери по своему ребенку?
— Да, я тоскую по Оренделю, это правда, — ответила Клэр. — Вот уже семь лет прошло, Бильгильдис. Больше двух тысяч дней. Утром я думаю об Оренделе, едва успев проснуться, и вечером последние мои мысли перед сном только о нем. Не проходит и дня, чтобы я не вспоминала о моем мальчике. Не было ни одной службы, когда я не молилась бы за его судьбу. Не было ни одного праздника, когда я не мечтала бы о том, чтобы мой сыночек был рядом со мною. И я никому не могла довериться, ни Элисии, ни моему исповеднику. Только тебе, Бильгильдис. Ты всегда была рядом.
Ну надо же, Бильгильдис у нас теперь исповедник. Да, мне рассказывают обо всех мерзостях, ведь они уверены, что я никому не расскажу об отвратительных грешках моих господ. Слова застревают у меня в глотке, да и в любом случае они ничего не значили бы, ведь я крепостная. Я ничто. Я выгребная яма этого замка. Давайте, швыряйте в меня все — прогнившее, протухшее, прогорклое, промерзшее, проржавевшее, проклятое. Давайте, швыряйте, и всегда вдосталь, всегда мимоходом.
— Но наибольшим утешением мне служили письма, привезенные от Оренделя. Я сохранила их все, несмотря на опасность, ведь их мог найти Агапет. Когда мне было одиноко, эти письма дарили мне радость. А теперь ты говоришь мне, что я и дальше должна удовлетворяться лишь ними? Нет, Бильгильдис. Нет, я так не могу. Я знаю, ты моя подруга, и ты желаешь мне только добра…
Я никогда не стремилась к дружбе с графиней, только терпела ее. И никогда не желала ей добра. Да, мой совет был хорош — ведь появление Оренделя действительно навредило бы Клэр и сыграло на руку Элисии. Но это было лишь совпадением. Меня интересовала лишь собственная судьба.
Итак, я обратилась к Эстульфу. Он был единственным, кто мог бы уговорить графиню, ведь он центр ее мира, основа ее счастья. Через Раймунда я сообщила Эстульфу об опасности, которой графиня может подвергнуть и себя, и его самого. Эстульф умный человек, возможно, умнее всех в этом замке. Намного умнее меня, но не такой хитрый.
— Хорошо, что ты пришла ко мне, Бильгильдис. Ты верная служанка своей госпожи, ведь ты защищаешь ее от ее собственных слабостей.
Так я еще и добилась его доверия — раньше мне это не удавалось: я чувствовала, что Эстульфу не нравилось, насколько мы с графиней близки, особенно когда он узнал, какие тайны Клэр мне доверяет. Но после того, как я обратилась к нему с этой странной просьбой, я завоевала его сердце (мне наплевать, что он думает обо мне, но как знать, возможно, его дружба когда-то пригодится мне).
Эстульф пошел вместе со мной и Раймундом к графине, он защищал меня от ее упреков, мол, я предала ее. Поворчав немного, Клэр успокоилась и даже не стала обижаться на меня.
Вот так, вчетвером, мы стали советоваться о том, что делать дальше. Есть ли возможность выполнить желание графини так, чтобы викарий не узнал об этом? Казалось, это невозможно. Либо Орендель вернется в замок, либо нет. Третьего не дано.
Третьего не дано? Еще и как дано! И это заслуга Раймунда, что мы нашли решение. У Раймунда действительно появилась идея. Такое случается нечасто, а эта была и подавно удивительна — странно было услышать такие слова из уст человека, который раньше жил только моим умом. Все эти мелкие уловки, благодаря которым мой муженек потихоньку ворует золотишко, чтобы потом выкупить себя из крепостных, кажутся ничтожными по сравнению с теми гнусностями, на которые способна я. Когда речь заходит о деньгах, Раймунд становится по-настоящему находчивым и не устает благодарить Господа за удачные мысли. Это все равно что благодарить сатану за то, что ты стал добрым и самоотверженным человеком, но такое противоречие не приходит Раймунду в голову. Одиннадцать лет назад он пережил тяжелую лихорадку и с тех пор сделался фанатично верующим, что твой воскрешенный Лазарь. Меня же мысли об этом ничуть не трогают. Ни Господу, ни алчности нет места в душе, где обитает лишь жажда мести. Корыстолюбие Раймунда сыграло и мне на руку, потому что выдвинутое им предложение нисколько не противоречило моему плану. Итак, вскоре я должна поехать к Оренделю и привезти его на заброшенный хутор неподалеку от замка. Эстульф позаботится о том, чтобы дом на этом хуторе привели в порядок.
Графиня из своего окна будет видеть хутор и чувствовать, что ее сын неподалеку. А как только опасность, исходящая от викария, Бальдура и Элисии, минует, Орендель вернется в замок. Какое это будет счастье! Графиня, поколебавшись немного, кивнула. На лице ее разлилось такое блаженство, что я сквозь землю провалилась бы от злости, не знай я, что последняя часть этого плана никогда не воплотится в жизнь.
Примерно в то же время Элисия обратилась ко мне по одному весьма щекотливому вопросу. В последние дни я видела, что девчонка то взвинчена, то подавлена. Беременность графини и принесенная ею клятва доконали Элисию. Она исхудала, а во время допроса этого любителя совать свой нос в чужие дела потеряла сознание. Три дня Элисия провалялась в лихорадке, и мне едва удалось поставить ее на ноги.
На четвертый день, когда ей стало лучше, Элисия печально сказала:
— Я думала о том, что пора мне завести ребенка. Как ты считаешь, Бильгильдис?
Я жестами дала ей понять, что нельзя стать матерью, просто думая об этом.
— Моя милая Бильгильдис, как ты остроумна сегодня. Но все не так просто, как ты думаешь.
«Почему? Бальдур должен просто засунуть свой член. И что? Он не делает этого?»
То, что Элисия у нас не неженка, — одно из ее немногих достоинств. Это я ее воспитала.
— Делает, делает. Но…
«Но что?»
— Я не уверена в том, что он это делает правильно.
Если бы нужно было специально учиться, чтобы делать это правильно, человечество давно бы исчезло с лица земли, подумала я.
«Нужно просто засунуть член, в этом нет ничего сложного».
— Это длится недолго.
«Что значит “недолго”?»
— Ну… Я могла бы сосчитать до десяти. К тому же я могла бы в процессе начать вязать или шить тунику, потому что то, что делает Бальдур, не очень меня возбуждает, хотя мне и кажется, что должно возбуждать. Правда? Как это было у тебя, Бильгильдис? У тебя ведь три сына… было три сына, прости, что заговорила об этом, это было невежливо.
«Ничего. Потерять детей было самым страшным в моей жизни, но зачать их — самым прекрасным. Я люблю говорить об этом. Каждый раз это длилось по полночи. И очень возбуждало».
— Ну вот видишь, Бильгильдис. Это я и имею в виду. Бальдур что-то делает не так и даже сам не догадывается об этом. И даже если бы он все делал правильно, то что изменилось бы? Мы много лет спим вместе. Раньше меня не волновало то, что у меня нет детей, но теперь… Неужели так угодно Господу? Это я виновата? Я не знаю… Может быть, ты могла бы поговорить с ним?
«С кем? С Господом?»
— Нет, конечно. С Бальдуром.
«Нет-нет. Это было бы нехорошо».
— Да, ты права. Это была глупая идея.
«Это уж точно».
— Но неужели в мире нет средства, которое помогло бы мне родить ребенка? Должно же быть что-то такое. Говорят, бродячие торговцы продают всякие снадобья. Еще я слышала о травницах, которые могут помочь. Бильгильдис, ты не могла бы разузнать об этом для меня?
Пообещав Элисии позаботиться об этом, я подумала, что уже знаю решение ее проблемы.
Я расспросила кое-кого в окрестных деревнях — конечно, не называя имен, — и уже через шесть дней нашла средство от бездетности. Его звали Норберт. Ему было девятнадцать, он был еще не женат и соблазнителен как смертный грех. Норберт изучил портняжное дело и хотел поселиться в нашем графстве. У него были еще все зубы, руки хоть и покрылись царапинами от иглы, но все еще оставались ловкими и нежными. А его взгляд… Даже у меня, старой кошелки, щеки залились румянцем — я жестами пояснила, что это все от усталости после долгого пути. По его глазам я поняла, что он не верит мне, и мне это понравилось. Значит, Норберт знал, какое впечатление он производит на женщин. Такие мужчины, судя по моему опыту, прилагают все усилия к тому, чтобы нравиться женщинам, и наслаждаются этим. Вот такой человек мне и был нужен.
На бумаге, которую я принесла с собой, было написано все, что ему нужно было знать. К счастью, портняжка сумел прочитать мое послание, хотя мне и показалось, что прошел целый год, пока он добрался до последней строчки:
«Первое: Ты переспишь с одной женщиной. Это случится в ближайшем будущем. Ты не будешь ничего спрашивать, в первую очередь имя женщины.
Второе: За это ты получишь двадцать золотых монет, три заранее, семнадцать после того, как все свершится.
Третье: Ты будешь готов к последующим совокуплениям. Всякий раз тебе будут платить за это по пять золотых монет.
Четвертое: По нашему требованию ты незамедлительно уедешь из графства и никогда не вернешься сюда».
Все это он прочитал сам, немного запинаясь, но без особого удивления в голосе. Значит, он уже стреляный воробей, подумалось мне.
Норберт сразу согласился. На двадцать (а то и тридцать, если повезет!) золотых он сможет построить себе роскошную мастерскую и безбедно прожить года три. Оставалось решить только две проблемы. Во-первых, убедить Элисию, что этот Норберт — лучшее средство от бесплодия, чем тушеная щековина осла, бобовые стручки и пыль из розового кварца, которую надлежит втирать во влагалище. Во-вторых, куда-то спровадить Бальдура.
Потом же возникла еще одна проблема, о которой я вначале даже не подумала.
За эти дни я сама себя переплюнула. Графиня торопила меня с отъездом, поэтому пришлось сослаться на сильную боль в ноге, которая помешает мне уехать. Я хромала, как одноногая голубка. Тем не менее я не обманывалась — долго так притворяться я не смогу. Каждый день графиня осведомлялась о моем самочувствии, и рано или поздно мне придется «выздороветь», пока Клэр не потеряла терпение. Боль в ноге я объясняла дождливой погодой и в этом прогадала. Невзирая на все мои ожидания, стало теплее, и дожди прекратились. Бальдур все время проводил в замке, а я пока молчала о Норберте и потрясающем средстве от бесплодия, которое изольется из его чресел. Мой план предусматривал внезапность. Чтобы он сработал, я перевезла Норберта в замок, и он дни и ночи проводил в нашей с Раймундом крохотной комнатенке. Но все это время портняжка провел в праздности, потому что муженек Элисии никуда не девался.
Я была в таком отчаянии, что уже задумывалась о том, проснется ли Бальдур (этот олух спит весьма крепко), если его жена будет трахаться с Норбертом прямо рядом с ним. Приходила мне в голову и мысль о том, чтобы Элисия переспала с Норбертом в моей комнате.
Но, как оказалось, я зря беспокоилась.
Случилось ниспосланное самим дьяволом чудо: река вышла из берегов. Сверху, из замка, было прекрасно видно, как вода заливает вначале берег, потом луга и поля, пахотные земли, дороги, сараи и хижины, могилы. Трупы овец, коз и коров застревали в ветвях деревьев и начинали разлагаться там. Зловоние поднималось до самой вершины холма. Люди бежали из долины и укрывались в лесу на холме. Многих из пострадавших Эстульф поселил в замке. Они толпились на конюшне, во дворе, даже в темнице. На небе не было ни облачка, и насмешливое солнце делало вид, будто ничего не знает о свершившейся беде.
Эстульф и Бальдур сильно повздорили, но мне было не до того, я была слишком занята будущим ребенком Элисии. Это наводнение многим помогло мне: моя поездка к Оренделю вновь откладывалась; среди множества чужих лиц в замке никто не обращал внимания на Норберта, поэтому я могла спокойно провести его куда угодно; Бальдур вместе с Эстульфом дни напролет пропадали на строительстве дамбы, чтобы остановить разлив реки; в часовне будет проводиться служба, на которую придут все жители и гости замка, чтобы помолиться о спасении. Это был мой шанс.
В день службы я пошла к Элисии. Она была одна — Бальдур следил за сооружением плотины и должен был остаться в долине до утра. Я принесла небольшую бумажку, на которой было написано: «Я извинилась за вас перед Эстульфом и графиней за то, что вы не сможете принять участие в службе в часовне».
— С какой стати? Ты поступила дурно. К тому же я не должна извиняться ни перед Эстульфом, ни перед матерью. Что все это значит, Бильгильдис? Что означает эта записка?
Она всмотрелась в мое многозначительное лицо и догадалась, о чем идет речь.
— Ты хочешь сказать… Это как-то связано с нашим недавним разговором?
«Да».
— И? — В широко распахнувшихся глазах молодой женщины засветилась надежда. — Ты принесла мне это средство?
Я погасила все лампады, кроме двух, так что в комнате было достаточно светло, чтобы Элисия смогла полюбоваться «средством от бесплодия», но и достаточно темно, чтобы Норберт не узнал ее. Сделав это, я жестом попросила Элисию подождать.
Открыв дверь, я подозвала Норберта. На нем была туника, которая внизу едва прикрывала его бедра, а наверху выставляла напоказ его гладкую мускулистую грудь, блестящую от масла. Должна сказать, Норберт хорошо знал свое второе ремесло, ремесло искусителя, а если у него и была совесть, то я не видела в нем даже зачатков морали. Я радостно кивнула, довольная сделанным выбором.
— Этот парень принес с собой средство? — шепотом спросила у меня Элисия.
Я кивнула. В каком-то смысле он действительно принес средство с собой.
— Это настойка?
Я покачала головой. Не настойка. Но его вливают в тело.
— Бильгильдис, прошу тебя, я сейчас с ума сойду от любопытства, — Элисия присмотрелась к Норберту повнимательнее. — Он не похож на лекаря или травника.
«Нет, — жестами показала ей я. — Он похож на человека, благодаря которому вы сможете зачать дитя».
И вновь она всмотрелась в мое лицо. То, что Элисия поняла-таки, что я ей предлагаю, доказывало, что она уже и сама думала о такой возможности.
— Бильгильдис! — с деланым испугом воскликнула она. — Бильгильдис, это же… Ты серьезно? Мы говорим о… о… о невыразимом!
О невыразимом! Для меня все невыразимо, будь то супружеская клятва или прелюбодеяние. В том, что ты ничего не можешь выразить словами, есть и что-то хорошее, потому что все, о чем не говорится, через какое-то время меркнет, тускнеет, лишается своего места в мире. Твердое, надежное, становится текучим, неопределенным, а потом превращается в туман. Туман, готовый развеяться на ветру. Только три человека будут знать об этом «невыразимом»: Элисия, Норберт и я. Триединство безмолвных: Бильгильдис нема, Норберта больше не будет здесь, а Элисия… Элисия с детства обладала потрясающим талантом самообмана. Возможно, во время беременности она еще будет терзаться от угрызений совести, но как только она возьмет ребенка на руки, то позабудет о том, как зачинала его. Я рассчитывала на то, что от пылкого взора Норберта страх перед прелюбодеянием исчезнет, как и остатки стыда. От такого взгляда и затрепетало бы сердце богобоязненной монашки, что уж говорить о неудовлетворенной, жаждущей любви и не особо чопорной девушке? Я втолкнула Норберта в комнату Элисии и закрыла за ним дверь. А сама пошла на службу в часовню.
Я все рассчитала правильно. Во дворе и коридорах было пустынно, все либо отправились на службу, либо работали на строительстве дамбы. Никто не помешает зачатию.
Все громче становилось церковное песнопение. Когда я вошла в часовню, хор грянул: «Господи, помилуй!» Крики верующих сливались в единый поток с крепкими словечками Бальдура и его солдат, сооружавших плотину в долине, а еще со стонами страсти, доносившимися сейчас (так я представляла себе) из комнаты Элисии. Норберт получил от меня указание делать это вновь и вновь. Ах, что за ночь! Ночь, сотканная из криков, и эти крики переплетались в моем сознании, крики мольбы, страсти и борьбы, и все они взывали к одним небесам: «Господи, прости нам грехи наши!», «Господи, пусть эта роскошная ночь принесет мне сына!», «Господи, дай нашим рукам силу, чтобы дамба удержала наводнение!» Все громче пел хор, все отчаяннее становились крики в долине, все сильнее движения Норберта.
Да, у Норберта все получилось, это я поняла по выражению лица Элисии. Я не расспрашивала ее, а она сама ничего не говорила. Теперь она будет делать вид, будто нашего маленького заговора никогда и не было. Такая она, Элисия. Она любит забывать и перевирать все.
Старания Бальдура и молитвы жителей замка дали свои плоды: удалось спасти Арготлинген и пару дорог от наводнения. Наша нетерпеливая графиня велела мне незамедлительно отправляться за Оренделем, а поскольку моей ноге «чудом» стало лучше, придется уезжать.
Мальвин
И как только могло случиться такое? В этом замке, в такие страшные времена! Как это возможно? Я всегда думал, что моя жизнь устоявшаяся и размеренная. А теперь одно имя не идет у меня из головы. Элисия. Кто она? Я почти ничего не знаю о ней. Она просто есть. И когда я смотрю на нее, мне хочется остаться с нею навсегда.
После того неудачного допроса я запретил себе видеться с Элисией вновь. По крайней мере наедине. Она потеряла сознание, и я уложил ее на лежанку ее отца, а мой писарь побежал за немой служанкой. Элисия пришла в себя и с такой благодарностью посмотрела на меня… Мне это показалось настолько соблазнительным, что в тот момент мне отчаянно захотелось поцеловать ее. Мы молчали. А потом пришла немая служанка.
Несколько дней я придерживался данного самому себе обещания. Каждый день я проходил мимо ее комнаты, четыре или пять раз даже останавливался перед ее дверью. Однажды я почти постучал, но, как и в тот злополучный момент в покоях Агапета, я вовремя сказал себе: «Она замужем, а у тебя есть твоя работа. Ты должен выполнить поставленную перед тобой задачу. Ты должен оставаться непредвзятым. Держаться в стороне от происходящего».
Видит Бог, я старался.
Я не могу больше писать об этом, не сейчас. Мне так стыдно.
С сегодняшнего дня я буду носить эти записи при себе, чтобы ни мой писарь, ни кто-либо еще не прочли их ненароком. Теперь они лежат под моей накидкой, с левой стороны груди. И шуршат.
Река вышла из берегов, она затапливает селение за селением. Судя по всему, так происходит на этих землях из поколения в поколение. Может быть, так было всегда. Вода все прибывала, и никакая сила не могла сдержать ее. Эстульф созвал совещание, в котором принимали участие графиня, Бальдур и Элисия. Я тоже явился туда, пусть и незваным гостем.
— Нам необходимо построить дамбу. Вот тут, — Эстульф провел указательным пальцем по рисунку, который он изготовил.
— Но зачем? — опешив, уставился на него Бальдур.
— Просто потому, что нам, людям, очень нравится копаться в грязи, Бальдур. О боже, что за вопрос?! Благодаря этой дамбе мы защитим последнее селение, которое еще не пострадало от наводнения, Арготлинген. Остальным деревням мы уже помочь не можем, но это село находится на западе от реки, и мы можем сохранить ведущую к нему дорогу.
— Зачем? Эта деревня едва ли приносит прибыль.
— Ты тоже едва ли приносишь прибыль, тем не менее я не собираюсь тебя топить.
— Так вот, значит, как? И кто же будет строить эту дамбу?
— Я думал, что этим займутся четыре архангела. И лесные гномики.
— Я получу серьезный ответ на свой вопрос?
— Крестьяне, конечно…
— Половина из них либо стары, либо слабы.
— Именно. Только половина.
— Их слишком мало.
— Я знаю. Поэтому мы отправляем в долину наших людей.
— Каких людей?
— Если ты задаешь такие вопросы, то чего же ты удивляешься, что я не говорю с тобой серьезно? Наемников, конечно. Многие из них — сыновья или братья здешних крестьян.
— Нет. Многие из них были сыновьями или братьями здешних крестьян. Теперь они воины. И мы наняли их, чтобы они защищали нашу страну и замок от врагов, а не строили плотины.
— Значит, ты полагаешь, что им следует стоять на крепостных стенах и смотреть, как тонут их матери?
— Их матери уже давно в безопасности, в лесу.
— Это отдельная тема для разговора. Я не хочу, чтобы люди жили в лесу, словно разбойники. Они должны перебраться в замок.
— Делай, что хочешь. Но я несу ответственность за наших наемников. И я говорю тебе еще раз, эти мужчины — воины. Они привыкли сражаться с врагом.
— Что ж, теперь их враг — наводнение. И с этим врагом нужно бороться точно так же, как и с неприятелем на поле боя.
— Граф Агапет никогда не позволил бы солдатам, славно сражавшимся за него, целыми днями копаться в грязи для спасения каких-то соломенных хижин.
— Я сожалею о том, что у моего предшественника был иной взгляд на этот вопрос.
— Я не пошлю гордых, проверенных ребят в долину, чтобы они боролись там с… водой!
— Тебе и не придется их никуда посылать. Это сделаю я. И нас с тобой отправлю с ними.
Я сам не хочу верить в то, что сейчас напишу, но такова постыдная правда: мне было нелегко ощутить сочувствие к горю этих людей. С крепостных стен я видел последствия наводнения: смытые с домов соломенные крыши, раздувшихся от воды мертвых животных, вырванные с корнем деревья, доски от заборов, вода там, где раньше были поля. По склону холма спускаются слуги и солдаты — кто-то отважно, кто-то боязливо. Они собирались вступить в смертный бой с разбушевавшейся стихией. Но все это казалось мне каким-то далеким, ненастоящим. Дома были точно игрушки, а люди — будто муравьи. С момента моего прибытия сюда я не покидал замок и постепенно привык смотреть на все происходящее внизу издалека, словно я читаю чью-то историю. Я чувствовал себя одиноким, отчужденным от происходящего, отгороженным моим титулом и задачами, лишенным общения за рамками того, что касалось моей работы. Я слышал, как бурлит кровь в моих венах, но шум воды в долине не доносился до меня. Сознаюсь, муки моей объятой страстью души были мне ближе, чем горести пострадавших от наводнения. Лишь ценой невероятного напряжения мне удалось вернуться к своим обязанностям, но, чем бы я ни занимался, перед моим внутренним взором неотступно стояла Элисия. Она была повсюду. При каждом разговоре, каждой мысли, каждой молитве в моей голове вспыхивало имя Элисия. Она была словно туман, поглощающий и сострадание, и проницательность, и чувство долга.
Пока в небе сияло солнце, я еще как-то справлялся с этим состоянием. Но когда все вокруг погрузилось во мрак, над землею нависли серые облака, река превратилась в настоящее море, и мне казалось, что чья-то рука сжимается на моем горле, а границы окружающего меня пространства сужаются день ото дня. Ночью я вскакивал от таких кошмаров. Вскоре я почувствовал, что болен, хотя у меня и не было никаких признаков недомогания. Говорят, такое бывает у прокаженных — еще до появления следов на коже они чувствуют приближение смерти.
Я на целую неделю устранился от расследования — под смехотворным предлогом того, что должен проверить все собранные показания. Я отпустил моего писаря. Я молился. Я постился. Я никого не впускал к себе, ибо любое общество казалось мне отвратительным. Я просил приносить мне с кухни только холодную воду и теплый бульон. О том, что происходило за пределами моей комнаты, я не знал. На седьмой день моей аскезы графиня прислала ко мне слугу, чтобы тот сообщил о предстоящем богослужении в часовне — все местные жители хотели помолиться Господу нашему, чтобы плотина выстояла. Я попросил прощения за то, что не смогу прийти. Сейчас мне не было места в часовне. Там все пытались умилостивить Бога, чьей воле воспротивились строители дамбы в долине. Если и стоило мне куда-то направиться сейчас, так это к плотине.
В полдень перед церковной службой меня подкосила лихорадка. Мне еще никогда не доводилось сталкиваться ни с чем подобным. Нет, у меня не было жара, и все же тело била крупная дрожь, руки тряслись, вся туника пропиталась потом. Мысли плясали в голове, вещи в комнате водили вокруг меня хоровод. В глазах у меня потемнело, я утратил чувство времени. Первое, о чем я отчетливо помню с того момента, были песнопения. Вначале был шепот, нежный и ласковый, затем — громогласные литании, и, наконец, все увенчалось захлестывающим мой разум ревом, что не умолкал, даже когда я зажал уши руками.
Я упал с лежанки. Я был в сознании и все же не мог совладать со своим телом.
Я выскочил из своих покоев и, шатаясь, побрел по пустым коридорам и залам, а хоралы преследовали меня.
Вскоре я очутился рядом с комнатой Элисии и услышал ее голос. Я полагал, что она ушла на богослужение, и только поэтому решился выйти из своих покоев. Наверное, мне хотелось побыть поближе к ней, и для этого я собирался проникнуть в ее пустые покои и… не знаю, может быть, взять что-то из ее вещей — платок или гребешок. Смешно, конечно. Я не привык покорять женские сердца, я не герой-любовник. Моя страсть — преступление. Мы с моей любимой Гердой поженились, когда мне было шестнадцать лет, и после ее смерти я не испытывал влечения ни к одной женщине. До этих самых пор.
Я осторожно заглянул за угол и увидел, как немая служанка втолкнула в комнату Элисии незнакомого мне почти голого мужчину. Затаив дыхание, я смотрел, как за ними закрылась дверь. Служанка, растянув свои бескровные серые губы в улыбке, прошла мимо меня. К счастью, я стоял в темном углу у развилки коридора, иначе она заметила бы меня.
Но и после ее ухода я не шелохнулся. Я остолбенел, холодная ярость сковала мое тело. Или разочарование? Боль? Разве не боль вызывает ярость в людях? Разве не боль — причина любого зла? Впрочем, в то же время боль — источник любого блаженства, ведь поиск радости в жизни начинается с бегства от боли, не так ли?
Как бы то ни было, я прижался спиной к стене, сжал кулаки и изо всех сил ударил ими о каменную кладку.
Лишь сделав десять вдохов, я вновь обрел способность двигаться. Подкравшись к комнате Элисии, я прижался ухом к ее двери.
Но в коридоре было слишком шумно. В часовне громко пели: «Берущий на Себя грехи мира — помилуй нас».
Вскоре я заметил, что дверь медленно отворилась. На цыпочках я отбежал в свой угол.
— Уходи, — прошептала Элисия. — Здесь в два раза больше, чем обещала тебе Бильгильдис. Ты должен немедленно покинуть замок, что бы там ни было с этим наводнением. И мне все равно, что говорила тебе Бильгильдис. Больше не попадайся мне на глаза.
— Но я же еще ничего не сделал, — немного грустно, как мне показалось, сказал незнакомец.
Сейчас он был чем-то похож на подмастерья, который хоть и сдал экзамен на звание ученика мастера, но на его пробную работу при этом никто так и не посмотрел.
— Делай, что тебе говорят. Уходи.
Он вышел из комнаты. Я увидел, как незнакомец прошел в сторону двора, а дверь Элисии вновь закрылась.
Я вернулся к двери, подождал немного и осторожно нажал на ручку.
Покои освещали две лампады, потому тут царил полумрак. Я увидел Элисию на лежанке. Девушка тихонько всхлипывала, и ее плач разрывал мне сердце. Я не знал, что тут произошло, но понимал, сколь велико горе этой женщины.
Прикрыв за собой дверь, я повернулся к лежанке. Элисия меня так и не заметила. В паре шагов от нее я остановился и замер… не знаю, сколько я вот так простоял посреди ее покоев… наверное, довольно долго. Кровь бурлила в моем теле, я чувствовал это.
Я сделал шаг вперед, и в этот миг Элисия подняла голову. Она удивленно повернулась ко мне — в точности так, как я представлял себе тысячи и тысячи раз.
А потом… потом она подошла ко мне, и в глубине ее глаз вспыхнула тайна — та тайна, что Ева хранила от Адама.
Элисия
Я так и не переспала с ним, с этим незнакомым юношей, о котором я не знала ничего, кроме того, что он может стать отцом моего ребенка. Я не боялась его, ни в коем случае, меня нельзя назвать робкой девой. Еще в пятнадцать лет я подсматривала за мальчишками, спавшими в сене на конюшне, а потом, рассмотрев их хорошенько, позволила себе поразвлечься с одним из них, не заходя, впрочем, слишком далеко. Возбуждающая близость чужих мужчин не беспокоит меня. Я притворилась удивленной, когда Бильгильдис предложила мне такое, но только потому, что моей служанке не следует знать обо мне все. Она хорошо ко мне относится, она многое знает, действительно многое, но есть вещи, которые должны остаться для нее тайной.
Этот юноша показал мне свое тело. Он был прекраснейшим мужчиной в мире, но мне было все равно. Да, я могла бы возлечь с ним. Это было бы грехом, я нарушила бы брачный обет, и я поплатилась бы за это, но такие мысли не остановили бы меня, ибо нельзя отступать от цели лишь из страха перед наказанием в загробном мире. Страх может остановить тебя от совершения мелких проступков, к примеру воровства, или отвратить тебя от грязных мыслишек — от зависти к соперникам, от вожделения жены ближнего твоего. Но главные в жизни устремления слишком сильны — потребность в человеческом тепле, потребность в любви, потребность в безопасности, потребность в пище и воде… Ни один бог не сможет остановить жаждущего в пустыне от того, чтобы тот вдосталь напился воды. Вот и я — я так отчаянно стремлюсь наполнить свою жизнь смыслом. Я не просто супруга мужу моему, человек Богу моему, я хочу сама себе стать создательницей, матерью, госпожой, пускай и ценой греха. Хоралы, доносившиеся до меня из капеллы, не удержали бы меня от прелюбодеяния. Но когда этот незнакомый юноша поцеловал меня, подтолкнул к кровати и попытался перейти к делу, в моей душе словно раздался немой вопль. Нет, тот вопль вызвали не мысли о Бальдуре, не угрызения совести. Меня не беспокоило то, что я обманываю Бальдура. Я терзаюсь оттого, что обманываю Мальвина.
Я лгала самой себе. Мною двигало не только желание отомстить за смерть моего отца. Не только стремление устранить Эстульфа. Нет, я искала близости Мальвина ради его взоров, ибо его общество было так важно для меня. Тогда мы отправились на прогулку по винограднику только потому, что мне хотелось услышать его голос.
Тот крик, раздавшийся в моей душе, когда незнакомый красавец пытался соблазнить меня, был криком в защиту любви. Жажда любви была во мне больше желания завести ребенка. Такова сущность любви — от нее нельзя отвернуться. Такова сущность женщин — они не могут не любить. Могла ли я отречься от своей любви ради рождения ребенка?
Нет.
И вот я слышала, как выгоняю из комнаты этого слащавого юношу, — все происходящее виделось мне будто со стороны. Я была так удивлена собственной решимостью…
Я опять осталась одна. Одна в своей комнате, одна в своей жизни. Папа мертв, Бальдур глуп, Мальвин недостижим. Я сидела в комнате, глядя, как сгущаются сумерки, перебирала четки, подаренные мне отцом на мой седьмой день рождения, и плакала.
Мы всегда ищем Господа в морали. Но кто сказал, что нельзя узреть красоту в аморальном, божественное в запретном, свет во тьме? Когда Мальвин вдруг подошел ко мне — его силуэт проступил словно из ниоткуда — это было чудом. Страсть людская стара как мир и все так же удивительна. И что может быть в этом мире сильнее любви?
Я подошла к Мальвину и коснулась его руки. Он был здесь. Это не сон.
И тогда я поняла, что теперь уже ничто не встанет между нами. И слово «невозможно» — уже не для нас.
Я притянула его к себе. И мы занялись любовью.
Мы должны быть вместе. Как и я, Мальвин был одинок, он был чужд другим жителям этого замка, пленник собственной инаковости, один-одинешенек в проклятом замке Агапидов, под проливным дождем сомнений и вопросов.
Мальвин не открывался мне — до той ночи. Мы лежали, обнявшись, и наши тела переплелись, как корни старого дерева, а он рассказывал мне о своем одиночестве, о работе викария, о преследовании преступника, которое становилось охотой на темную сторону самого себя.
Наши души устремились навстречу друг другу.
Ни слова о том злосчастном одиночестве вдвоем, тогда, в винограднике, когда нас так тянуло друг к другу, но мы противились этому желанию. Ни слова о грядущем, о невозможности будущего, о том, что ничего больше не будет как прежде, ни дня него, ни для меня. Это мгновение между прошлым и будущим и было всем нашим миром, миром, ограниченным пространством лежанки. И это был прекраснейший миг моей жизни.
А потом прозвучало последнее «аминь» богослужения, и стало тихо. Мальвину нужно было уходить, и все же я попросила его задержаться немного. Я сказала, что Бальдур еще нескоро вернется из долины, не раньше восхода, а Бильгильдис достаточно учтива, чтобы оставить меня наедине с, как она полагала, Норбертом.
Мне хотелось продлить этот миг. Но счастье нельзя удержать, его можно только разрушить, более того, кажется, будто оно имеет строго определенную меру, как день, сумерки и ночь, на которые можно в некотором роде не обращать внимания, но повлиять на них нельзя. Мальвин ушел, а прошлое и грядущее вновь сошлись в моих покоях.
Я задремала. Сон мой был беспокоен, я словно засыпала на мгновение, а потом на мгновение же просыпалась, и так вновь и вновь. Это тревожило меня, сбивало с толку, и грезилось мне — я и не знала, сплю я или нет — что я вижу то затканную полумраком комнату, то Мальвина и венгерскую девушку. Тогда, помню, я еще подумала, что мы неспроста очутились в одном сне, ведь у нас троих так много общего — мы одиноки и напуганы, мы пленники этого открытого всем ветрам и горестям замка. Но я видела не только это. Вновь и вновь в грезах моих вспыхивал образ прямоугольной комнатки без окон, похожей на склеп. В комнатке стоял мой отец. Он рассмеялся, увидев меня там, и показал на какой-то предмет в углу, тоже прямоугольный, вот только я не могла разглядеть, что это. Может быть, гроб? Этот образ незнакомой комнаты так не походил на другие видения сна, что мне хотелось, чтобы он развеялся.
Где-то посреди ночи я окончательно проснулась — мне показалось, что в комнате еле слышно скрипнула дверь. Я подняла голову, думая, что это Бальдур наконец-то пришел спать.
Тонкая козья шкура на окне пропускала слабый свет луны, и я заметила, что Бальдура нет рядом со мной. Подумав, что муж только вошел, отчего и скрипнула дверь, я уже хотела вновь опустить голову на подушку и уснуть, когда в полутьме комнаты шевельнулась какая-то тень.
И это был не Бальдур. Я ведь знаю своего мужа, я узнала бы его широкие плечи, его статное тело… Нет, это был не Бальдур.
Тень подняла руку, и я разглядела очертания кинжала.
И тогда я завопила. Не помню, чтобы когда-нибудь в жизни я так кричала, даже тогда, когда нашла папино тело. Страх, охвативший меня в тот миг, полностью прорвался наружу.
Я швырнула в эту тень подушкой. Я вскочила с лежанки. Я забилась в дальний угол комнаты. Тень, испуганная тем, что ее заметили, ускользнула, а я, обессилев, обмякла у стены и осела на пол.
Не знаю, сколько я просидела там. В какой-то момент я вскочила, выбежала в коридор, помчалась к покоям моего отца. Тяжелая цепь закрывала вход. Не знаю, почему я вообще хотела войти туда. Может быть… Часть страха еще осталась во мне, и мне хотелось попасть туда, где я чувствовала бы себя защищенной. Я дергала цепь, тарабанила в дверь… Помню, в тот момент я очень злилась на моего отца за то, что он позволил кому-то убить себя и оставил меня совершенно беспомощной перед всеми злодеями этого проклятого замка.
И вдруг из темноты вышла мама.
— Милая, я слышала тебя. Что случилось?
— Там… Там кто-то был в моей комнате… У моей кровати. Он занес надо мной руку с кинжалом. Он выглядел словно… словно…
— Где Бальдур? — спросила она. — Он все еще в долине?
— Я не знаю, где он, — обессиленно выдохнула я.
Мне было все равно, где сейчас Бальдур. Меня пытались убить.
— Тебе приснился дурной сон, — улыбнулась мама. — Просто кошмар, ничего больше. Такое бывает. Успокойся.
Она говорила со мной, как с маленьким ребенком, и вначале я ничего не имела против, хотя ее тон и показался мне неподобающим.
— Я не спала, — заявила я. — Там кто-то был. У него в руке был кинжал. Где Эстульф?
— Ну где же ему быть? В долине, я полагаю, строит дамбу. А может быть, точит кинжал или танцует в лесу на ведьмином круге, ведя разговоры с темными силами. Иногда он ест на завтрак младенцев. А ты не знала?
— Твой сарказм неуместен.
— Твои обвинения тоже.
— Меня пытались убить!
— Ты устала, дитя мое. Ты мало спишь. В последнее время ты плохо выглядишь. Недавно ты потеряла сознание, когда говорила с викарием. Ложись, поспи в моей кровати, если хочешь. Завтра покушай хорошенько. Я прикажу принести тебе баранины и салат из свеклы.
Как будто баранина удержит убийцу подальше от меня! И все же я чуть было не приняла ее предложение, настолько меня испугал этот случай. Но мысль о том, что мать спала с Эстульфом на той самой лежанке, на которой она предлагала устроиться мне, заставила меня вернуться в мои покои. Когда мы с матерью пришли туда, то встретили Бальдура. Он был с ног до головы перепачкан грязью и выглядел довольно растерянно. Мать рассказала ему о случившемся, представив моему мужу свою версию событий. Я не стала с ней спорить, но, когда она ушла, я очень серьезно сказала Бальдуру:
— Кто-то проник сюда и пытался меня убить. Может, и тебя, кто знает.
— Я тебе верю, — кивнул Бальдур.
— Мы должны что-то предпринять. Почему перед моей дверью не было стражи? После исчезновения кинжала мы ведь говорили о том…
— Именно так. И я позаботился об этом. Но твоя своевольная служанка Бильгильдис вечером отослала стражника прочь. Из-за службы в часовне и строительства дамбы, так она сказала.
Я не подумала об этом. Конечно же, Бильгильдис воспользовалась службой как предлогом для того, чтобы избавиться от часового.
— Ладно, неважно, — смущенно протянула я. — Я не хочу, чтобы ты упрекал Бильгильдис из-за этого.
— Как я осмелился бы на такое? Уже ее высокий титул крепостной освобождает ее от любой критики.
— Сейчас я не хочу ссориться. Давай поспим немного…
Конечно же, я думала о том, что это мог быть сон. Темная комната, луна, странная полугреза-полуявь, диковинные видения, последствия наполненного событиями вечера — может быть, все это навеяло на меня морок?
Нет. Совершенно однозначно. Нет. Силуэт, который я видела, был не тенью из кошмара, не порождением моего сознания.
Думала я и о том, что это был не человек, а демон или призрак, потому что… мне трудно писать о таком… тот, кто проник ночью в мою комнату, чем-то напомнил мне моего отца. Я знаю, это звучит безумно, но на эту мысль меня навел шлем на голове того человека, очень уж необычным был его плюмаж. Такой шлем носил раньше мой отец. Папа называл его своим счастливым шлемом: когда-то этот шлем спас его от двух ударов мечом по голове. Ни один другой мужчина в замке не носил такой плюмаж, да и папа давно уже не надевал этот шлем, потому что тот заржавел. Я его уже много лет не видела и не знаю, существует ли он до сих пор. Но даже если бы я верила в призраков, то зачем папиному духу угрожать мне? И зачем привидению убегать от моих криков? Все это странно.
Я остаюсь при своем мнении. Кто-то хотел убить меня, а может быть, и Бальдура. Кто-то очень злой.
Нужно поговорить об этом с Мальвином.
Кара
Я смотрю на холодный серый туман. Словно паутина из мелких капель, протянулся он от замка до самого горизонта. Сейчас раннее утро. Утро после дня вчерашнего.
Утро после молитв. Я помню песнопения, доносившиеся до меня в полусне, песнопения, словно из другого мира, а еще бормотание, монотонные молитвы — они врывались в мой беспокойный сон, оборачивались чем-то мрачным, угрожающим. Когда воцарилась тишина, я наконец-то смогла уснуть. А потом отворилась дверь.
Утро после того скрипа двери. Я проснулась, а он уже был рядом. Стоял, склонившись надо мною, — вначале лишь силуэт, темная тень во тьме моей темницы, потом живой человек, мужчина, тот самый мужчина, который допрашивал меня при своей жене и немой служанке. Бальдур, кажется, его звали Бальдур. В слабом свете луны его лицо казалось будто вырезанным из дерева. Суровым. Безжизненным. Он схватил меня за запястья.
Утро после того, как чужак вторгся в мое тело. Я кричала. Мой крик отражался от холодных стен, покрытых моими записями. Мой крик обращался эхом, искажался, исчезал. Кричала я или нет, это ничего не значило. Мужчине это не мешало. Он не произнес ни единого слова. Он был воплощенным молчанием, жестоким, равнодушным молчанием. Он наверстал то, что собирался, но так и не успел сделать его тесть. Перед тем как уйти, он наклонился ко мне и поцеловал меня в соленые от слез губы.
Утро после полного бессилия. Я могла лишь сидеть на полу, вот и все. Я не могла встать. Я не могла поднять руку. Я не могла пить. Я не могла думать. Я не могла плакать. Я не чувствовала ничего, кроме боли в моем теле. Я помочилась там же, где и сидела. Там же я и уснула.
Утро после сна из яви.
Мне семнадцать лет. Весной мы движемся на запад от нашего селения на берегу Великого озера в той стране, что мы зовем землями мадьяр, нашими землями. Мужчины вступают в сражения, женщины же выходят замуж, растят детей, готовят своим мужьям еду. Женщины остаются вдали от тех деревень, которые захватывают их мужчины. Все, что известно женщинам, так это то, что мужчины привозят им полные телеги еды, меха, домашней утвари. Золото мужчины оставляют себе.
Мы несколько недель едем по равнине, затем степь сменяется холмами. Слева, на юге, на горизонте виднеются высокие горы. Лето близится к концу, когда мы подходим к широкой реке. Тут много сел и городов, мужчины берут богатую добычу.
Однажды, когда мой отец и братья вместе с другими мужчинами отправились в набег на какую-то деревню, я, прячась, скачу за ними.
Я приезжаю в эту деревушку чуть позже, чем наши воины. Там я вижу мертвых, четыре или пять тел валяются в грязи. А потом я вижу моего отца. Мои братья стоят вокруг и подзадоривают его криками. Отец насилует какую-то женщину. Я слышу, как она кричит и плачет. Я отворачиваюсь и возвращаюсь к нам в лагерь. Мама спрашивает у меня, где я была, а я отвечаю: «Я не знаю».
Прошлое живет внутри нас. Нет ничего более настоящего.
Сейчас, когда я пишу эти строки, та ночь уже далеко позади. Мне понадобился целый день, чтобы нацарапать на стене пару предложений. Кое-что из написанного мной так высоко, что моя рука едва достает туда, что-то у самого пола, что-то на этой стене, что-то на той. Туман уже развеялся. Я смотрю из узкого окошка на озеро, только это и не озеро вовсе, а река. Я вижу, как играют солнечные блики на воде. Трехголосая песня доносится до меня, песня, которую поют молодые женщины:
Взывает к крови
пролитая кровь,
таков закон.
И зло вернется злом.
Протокол допроса (без применения пыток)
Допрашиваемая: Клэр из Лангра, графиня Брейзахская, вдова убитого.
Присутствуют на допросе: Мальвин из Бирнау, викарий; Бернард из Тайха, писарь.
М.: Вы давно вышли замуж за Агапета?
К.: Двадцать шесть лет, два месяца и четыре дня назад.
М.: При каких обстоятельствах вы познакомились с Агапетом?
К.: Между Восточно-Франкским и Западно-Франкским королевствами шла война. Наш брак способствовал заключению мира.
М.: Вы когда-нибудь сожалели о том, что вышли за него замуж?
К.: Это безжалостный вопрос, викарий.
М.: Убийство — безжалостное преступление, графиня. До вашей свадьбы Агапет был вашим врагом, не так ли?
К.: В каком-то смысле.
М.: Итак, до брака — он ваш враг, после брака — друг. Как это возможно?
К.: Если возможно обратное, то почему бы и нет?
М.: Это хороший ответ. Ваша дочь унаследовала вашу находчивость.
К.: Она возмутилась бы, узнав, что вы считаете нас схожими хоть в чем-то. А что касается Агапета… Он был отцом моих детей, и я дарила ему должное уважение.
М.: Даже когда он усадил к себе на колени венгерскую красавицу?
К.: Такова судьба женщин. Мы вынуждены закрывать глаза на мужские грехи и слабости. Можно долго жаловаться на женскую долю, вот только это ничем не поможет.
М.: Насколько мне стало известно, у вас был сын. Он проходил военную подготовку, чтобы отправиться в поход в Венгрию, когда его похитили и, предположительно, убили. Значит, можно сказать, что ваш сын стал жертвой войны, войны, в которую так верил Агапет.
К.: Это вопрос?
М.: Это совпадение кажется мне странным. Мужчину, который принудил вашего сына к оружию, убивают в купальне. Венгерская девушка, соотечественница тех самых людей, которые украли вашего сына, должна поплатиться за убийство. Похоже на весьма хитроумную месть.
К.: Агапет пал жертвой собственной глупости. Он полагал, что можно сломить волю врага. Но он ошибался.
М.: Вы говорите о себе?
К.: О венгерской девушке. Она лишь пыталась защитить себя. У нее был выбор — либо позволить врагу обесчестить себя, либо убить насильника. Мне жаль ее. Каждый день я молюсь за нее. И все же… Если судить ее будем мы с Эстульфом, то мы вынесем ей соответствующий приговор.
М.: Если будет использоваться суд семьи, то вы действительно сможете определить наказание для венгерки. Но если я решу, что необходим независимый суд, то приговор будет зависеть от меня и судебных заседателей. Но до этого еще далеко, графиня. Вам не кажется странным то, что венгерка кричала после того, как совершила это преступление? Обычно люди ведут себя так, когда хотят выразить свой ужас или позвать на помощь.
К.: Мне ничего не известно о ее криках.
М.: Вы не слышали, как венгерка кричала в ночь смерти Агапета? Где вы были в это время?
К.: Я находилась в моих покоях.
М.: Это всего в паре шагов от комнаты Агапета, в которой мы находимся в данный момент. Вы спали?
К.: Нет, не спала. Я не могла уснуть из-за шума в замке. Мужчины кутили всю ночь. Возможно, я и слышала какой-то крик, но если и так, то я подумала, что это кричат во дворе. На таких пирах мужчины, бывает, пристают к крепостным девушкам. Вообще, викарий, я тоже бы кричала, делая вид, что я нашла труп, будь я венгеркой, которая убила кого-то и не хочет, чтобы ее казнили за это.
М.: Давайте поговорим о кинжале. За какие заслуги Агапет получил такой дорогой подарок от короля? Должно быть, у них были очень хорошие отношения?
К.: Нет, насколько мне известно, они никогда не встречались. И я ничего не знаю о причине этого подарка. Агапет никогда не говорил со мной о том, как идут дела в графстве и в стране в целом. Я знала лишь то, что посланник короля передал моему мужу подарок. Когда я спросила Агапета об этом, что происходит, он заявил, что меня это не касается. Больше в моем присутствии он никогда не говорил о подарке.
М.: Вам ничего не известно о каком-либо письме, которое прилагалось к подарку?
К.: Нет. Агапет не умел читать. Если бы ему действительно прислали письмо, кому-то пришлось бы прочитать для него это послание. Обычно Агапет обращался по таким вопросам к Эстульфу. Тот три года прослужил в замке кастеляном.
М.: Агапет обратился бы к нему, если бы в письме речь шла о чем-то тайном? Или просто щекотливом?
К.: Не думаю.
М.: Тогда кто бы прочитал это письмо? Вы?
К.: За двадцать шесть лет брака мой муж не доверил мне ничего, что не было известно всему замку.
М.: Тем не менее у вас есть ключ от сокровищницы.
К.: Агапет не мог уехать на полгода и не дать кому-то доступ в сокровищницу. Этого требуют дела в замке, а мне Агапет доверял больше, чем Эстульфу. Мне пришлось бы отдать ему ключ в день после его возвращения.
М.: Если ваш супруг не вполне доверял вам, то почему он вообще дал вам этот ключ? У Агапета были очень близкие и доверительные отношения с дочерью. Так почему он не оставил ключ Элисии?
К.: Элисии? Ну… потому что… потому что Элисия еще очень молода и…
М.: И что? Продолжайте.
К.: И иногда бывает неуравновешенной. Вообще, это было бы необычным решением, ведь все-таки это я графиня и госпожа замка, а не Элисия. Я предполагаю, все это подтолкнуло Агапета к тому, чтобы оставить ключ у меня. За все эти годы я ни разу не подавала ему повода для нареканий. И я надежно хранила ключ в тайнике в стене.
М.: Что ж, возможно, в этом году у Агапета появился бы повод для нареканий.
К.: Как я должна понимать эти слова?
М.: Как я узнал у кузнеца, через несколько дней после смерти Агапета вы приказали изготовить новый ключ от замка в сокровищнице. Это правда?.. Графиня? Я задал вам вопрос.
К.: Конечно, я… я давала ему такое поручение.
М.: Таким образом, на данный момент должно существовать три ключа: ключ, который принадлежал Агапету; ключ, который ваш супруг оставлял вам на лето; ключ, который вы приказали изготовить. Я хочу попросить вас показать мне все эти три ключа.
К.: Это невозможно, поскольку… ключ Агапета потерялся. Поэтому сейчас у меня только два ключа.
М.: Почему я узнаю об этом только сейчас?
К.: Для вашего расследования это неважно, поскольку ключ потерялся уже после смерти Агапета. Как сказал Раймунд, Агапет вечером открыл сокровищницу перед тем, как зайти в купальню. Я отдала ключ Агапета Эстульфу в день нашей свадьбы, но мой новый муж потерял его. Почему вы задаете мне все эти вопросы, которые, как мне кажется, не имеют никакого отношения к преступлению?
М.: Обычно многое предшествует убийству, графиня. Само преступление — это вершина, но нет вершины без горы. Видите ли, графиня, в замке много оружия — ножи на кухне и у кузнеца, кинжалы в седельных сумках. И все-таки орудием убийства стало столь необычное оружие. Значит, этот кинжал имеет большое символическое значение для убийцы или для жертвы, раз кто-то приложил столько усилий, чтобы открыть сокровищницу и украсть его.
К.: Какая чепуха! Никто не крал никакой ключ, зачем кому-то его красть? Кинжал лежал в комнате Агапета, на том самом столе, за которым сидит ваш писарь. Я это говорю, Эстульф это говорит, Раймунд это говорит…
М.: Но не Элисия.
К.: Неужели ее слово весит больше, чем мое? И я спрашиваю вас, чье слово весит больше? Викарий? Я задала вам вопрос. Рано или поздно вам придется дать на него ответ.
Бильгильдис
Вот так уедешь на несколько дней, а тут уже все вверх дном. И я пропустила самое лучшее. Эстульф и Бальдур сильно повздорили, а их ссора подпортила отношения графини и Элисии. И ни меня, ни Раймунда в это время не было в замке! Пришлось выслушивать рассказ трех рыжих плакс. Ох, видит Бог, слез пролилось немало. Одна рыдала на моей правой руке, вторая — на левой, а третья — у меня на груди. Я чувствовала себя губкой, упавшей в соленую ванну. Но эти дурочки хотя бы рассказали мне все до мельчайших подробностей, и теперь я в точности знаю, что произошло, а то Элисия предпочитает помалкивать об этом, графиню же спросить я не могла. Я еще никогда ее ни о чем не просила и теперь не собираюсь. Когда дело дойдет до развязки, я ни в чем не хочу быть перед ней обязана, ни в чем. И я ничего не буду ей должна, ничего. И только одно, что принадлежало раньше ей, попадет в мое распоряжение. Ее жизнь.
Хочу написать о моей поездке.
Конечно, она была тяжелой. В моем возрасте нельзя просто так проехать десять дней в повозке по ухабистым дорогам, которые в сто раз старше меня. Будь я сливками, уже превратилась бы в масло. Я чувствую, как ноет каждая косточка в моем теле. Болят даже те кости, о которых я раньше и не подозревала.
Еще и эти люди, с которыми приходилось сталкиваться в трактирах и тавернах. Отвратительно! Большинство из них — паломники. Сейчас, осенью, много пилигримов возвращается из Рима. Они думали, что увидят там небесные богатства, а наткнулись на торгашей-прохвостов и жадных до денег попрошаек. В ночлежках для паломников этих простофиль обирали до нитки, там они теряли веру в добро человеческое, зато умудрялись подхватить чесотку. Как же противно сидеть рядом с такими! И не из-за чесотки. Глаза этих дураков горят, они верят, что своим паломничеством заработали небесный грош, которым сумеют расплатиться с Господом за вход в рай. Как будто Всевышний требует входную плату, точно владелец бродячего цирка. Большинство из них кажутся немного пьяными. А по волосам у них ползают вши. Я вижу этих вшей на их головах и даже знать не хочу, где еще эти мелкие твари могут оказаться. У паломников короста на руках, стертые до крови ноги, выбитые разбойниками зубы — они носят эти зубы с собой в кошеле, а потом возьмут их с собой в могилу как доказательство, которое можно представить их богу-циркачу. Кроме того, у них нет денег, а потому они хотят, чтобы я — Я! — заплатила за их хлеб и пиво в таверне. Повезло им, что я нема, иначе я наговорила бы им такого… Они бы до конца жизни об этом помнили.
Но так мне пришлось ограничиться жестами, которые паломники все равно не понимали. Раймунд говорил им, мол, так я выражаю свое восхищение, а что до моего выражения лица, то такой уж я родилась. И эти дураки ему верили! Потом, трясясь в скрипучей повозке, мы с мужем надрывали себе животы от смеха. В такие моменты я думаю, что все-таки немного привязана к моему Раймунду. К счастью, они никогда не длятся долго. Старый дурак!
Когда я приехала на хутор, Орендель, как и всегда, сидел в своей комнатенке, словно немощный птенец. Там у него стоит пенек, на котором можно сидеть, еще один пенек со столешницей сверху и лежанка с соломой. В стене проделана дырка размером с человеческую голову — в нее он может выглядывать наружу. Тут Орендель только то и делает, что пишет да в носу ковыряет. А чем ему еще заниматься? Семь лет назад я вбила в голову крестьянам мысль о том, что их детям нельзя играть с Оренделем, — когда-то Агапет запретил Оренделю и Элисии играть с детьми слуг, в том числе и с моими. Вначале эти четверо уродливых грязных мальцов заглядывали в сарай Оренделя через дыру — он рассказывал мне об этом. Кто-то из этих детей разговаривал с ним, кто-то смеялся над ним, но Оренделю это не мешало, он был рад любому развлечению, даже если эти мальцы его обижали. Он начал рассказывать им свои истории. Впрочем, через какое-то время Орендель понял, что зря растрачивает свой талант на этих грязных голопузов, и стал записывать свои истории на бумаге, которую я ему давала. Вскоре мальчишки утратили к нему интерес, ведь Орендель им больше ничего не рассказывал и стал нем, нем, как свинья в стойле. Вокруг него воцарилась тишина. Утром Оренделю приносили миску овсянки, а вечером то, что было под рукой, — краюху хлеба, яблоко, морковку, кусок вяленого мяса или засоленной рыбы, кусок сыра или, если уж совсем не было ничего другого, еще одну миску овсянки. Приезжая к Оренделю, я всякий раз оставляла крестьянам деньги за еду для мальчика и за их молчание. Графиня давала мне на поездку два золотых, и на эти деньги малец мог бы нормально питаться. Но из двух золотых Раймунд оставлял по одной золотой монете для нас (конечно же, об этом никто не знал), а вторую монету крестьянин пропивал в трактире, и лишь крошечная часть этих денег доходила до Оренделя.
Как и всегда при моем приезде, мальчик бросился мне на шею. Он обожал меня, и с тех самых пор, как его сделали затворником, его любовь ко мне стала еще сильнее. Можно возразить, что никакой особой заслуги в этом нет, ведь Орендель полюбил бы и куклу, дари она ему хоть немного внимания и ласки. Но дело не только в этом. Хотя я не могла сказать парнишке и слова, я была для него лучшим другом, и, хотя в сердце моем был лишь холод, Оренделю казалось, что он чувствует мое тепло. Вначале мне было наплевать на то, что он там чувствовал, и я даже не старалась вызвать его любовь. Но вскоре я начала получать удовольствие оттого, что Орендель любит меня больше, чем собственную мать. Между мной и графиней словно разразилась битва за сердце этого юноши, и я постепенно побеждала. Должна сказать, это не оставило меня равнодушной. Борьба за любовь Оренделя стала одним из немногих развлечений, которые я себе позволяла.
Мне кажется, что, когда я описываю это вот так, никто не понимает, как именно проходила эта борьба. Очень жаль, потому что я уже давно пишу не только для себя. Нет, собственно, я с самого начала писала не только для себя, но и для того, кто когда-то прочтет эти мои слова. Случится это через двадцать, сто или тысячу лет, мне все равно. Наплевать. Когда-нибудь кто-нибудь прочтет это и узнает, что я сделала. Что я сделаю. И почему.
Орендель… Первый год в заточении… Этот рифмоплет, конечно, ничего не понимал. Пока он жил в замке, с него пылинки сдували, а тут его похитили, словно мешок с мукой, а потом заперли в курятнике, обнесенном высокой каменной стеной. От такого любой свихнется. Графиня поручила мне поселить ее сына у добрых, приветливых, надежных и зажиточных людей с детьми возраста Оренделя на хуторе в неделе езды от замка. Там ее сын должен был расти в окружении, которое соответствовало бы его натуре и отвлекло бы его от разлуки с семьей. Трогательно, да? Плевать я хотела на ее поручение. Я поселила Оренделя там, где хотела. У бедных и суровых крестьян, которые обрадовались предложенным им деньгам, а больше всего обрадовались тому, что им и пальцем пошевелить для этого не пришлось. Конечно, графиня писала сыну письма и передавала их мне. Конечно, Орендель их не получал. Я читала эти письма по дороге к нему и выбрасывала. Орендель очень страдал от одиночества и условий жизни в заточении. Он все время думал о том, как мать могла так поступить с ним, как она могла поселить его в таком ужасном месте, пусть и из лучших намерений.
Мальчик много раз думал о побеге, но высокие стены останавливали его. Когда он спрашивал, почему мать не передает ему ни весточки, почему его поселили именно тут, я лишь пожимала плечами. (Когда я захочу, то могу быть весьма разговорчивой, пусть у меня и нет языка, но если у меня нет желания говорить о чем-то, то от меня ничего не добьешься.) Орендель очень удивлялся изменениям в моем поведении. Я была его кормилицей и заботилась о нем — мне приказали о нем заботиться! — а тут я вдруг начала вести себя, точно его тюремщица. Мальчишка настоял на том, чтобы писать матери, и я позволила ему это. На обратном пути я читала его письма, выбрасывала их и писала новые (еще много лет назад, едва научившись писать, я наловчилась подделывать почерки). В этих письмах «Орендель» сердечно благодарил графиню за свое спасение, хвалил свой хутор, рассказывал о товарищах по играм и печалился лишь о том, что ему приходится быть вдали от семьи и отчего дома. Получая эти письма, графиня плакала от счастья.
Я думала, что эта игра продлится лишь год, потому что Орендель не переживет первую зиму в сарае. Я представляла себе, как возвращаюсь из очередной поездки и сообщаю графине, что Орендель умер. Конечно, я не назвала бы истинную причину его смерти, само собой разумеется, я не сказала бы, что мальчишка скончался от слабости, вызванной голодом и холодом. Я сообщила бы ей, что малец заболел, например оспой, и нашим добрым крестьянам пришлось поскорее избавиться от тела. Мол, они скорбят о нем. В общем, я бы придумала что-то правдоподобное. Ах, какое это было бы наслаждение — сообщить графине о смерти Оренделя! А самым лучшим было бы то, что Клэр не могла бы проявить свою печаль, не могла бы поделиться своим горем ни с кем, кроме меня и Раймунда. Иначе ей пришлось бы сознаться в том, что это она похитила Оренделя, и тогда Агапет бы ее не пощадил. Он с уважением относился к женщинам, но в то же время мог быть очень жестоким.
Что до сокрытия похищения в тайне, то теперь графине уже нечего бояться, ведь Агапет гниет в могиле, но в остальном для нее стала бы страшным горем новость о том, что с Оренделем что-то случилось. (Почему я пишу так, словно есть возможность какого-то другого исхода? Все так и будет, и то наслаждение, о котором я говорила, еще ждет меня. Но я не хочу забегать вперед.)
Орендель пережил первую зиму. Не знаю, как ему это удалось, ему, всегда спавшему в комнате с двумя каминами, замерзавшему под теплым одеялом. А тут он покашлял немного, подхватил насморк, и все, ничего хуже с ним не случилось. Когда я приехала к нему в начале апреля, то увидела в его лице то, чего я никогда не предполагала в этом мальчишке. Какое-то упрямство. Волю. Стремление воспротивиться судьбе. Это стремление было еще слабым, но оно уже зародилось в нем, зародилось во льдах холодной зимы.
Проклятье, подумала я, так он будет жить вечно.
Раймунд был рад этому. Он заявил мне, что каждый прожитый мальцом год приносит нам по четыре золотых, потому что всякий раз он оставлял себе по золотому. Он говорил: «Пять лет — и у нас будет двадцать золотых, мы сможем выкупить себя из крепостничества! Мы купим себе домик и проживем еще пару лет спокойно». Старый дурак! Думает на столько шагов вперед, на сколько плюет. Во-первых, объяснила я ему при помощи жестов, мы можем брать деньги и в том случае, если Орендель будет мертв, потому что графине вовсе не обязательно знать об этом. А во-вторых, придется как-то объяснять графу Агапету, как мы получили эти двадцать золотых. Все может открыться, и тогда мы очутимся в мрачной сырой темнице, по сравнению с которой сарай Оренделя покажется королевским дворцом. Тогда Раймунд спросил: «Но зачем нам вообще оставлять его в живых, если мы все равно получим деньги? Почему бы нам просто не убить его?» Видимо, его заинтересовало только первое из моих возражений. Большинство вопросов, которые задает этот дурак, не стоят и ломаного гроша, но иногда — очень, очень редко — мой старик говорит что-то стоящее. И это был хороший вопрос. До этого мне в голову не приходила мысль о том, что можно убить Оренделя. По крайней мере собственными руками. Одно дело запереть кого-то в сарае и ждать, пока январские холода сделают свое дело, но совсем другое — взять в руки веревку, нож или дубину… Да, другое. Я знаю, о чем говорю.
Раймунд уладил бы это за меня. Пару раз я видела, как мой муж отрубает головы уткам, как разделывает форель. Он не просто выполняет свою работу, старик еще и получает от этого удовольствие. Пускай убийство человека — это нечто большее, чем перерезание глотки птице, но я уверена, что Раймунд справился бы, дойди до этого дело.
Так почему же мы не убили Оренделя тем апрельским днем после первой его зимы в заточении? Почему мы не убили мальчишку, когда Раймунд задал этот вопрос? Мне достаточно было бы кивнуть головой. И я кивнула бы, не сомневайтесь, если бы это не противоречило моим изначальным намерениям. Я никогда не хотела вредить Оренделю, речь шла о том, чтобы причинить боль графине, а пока малец был жив, я не могла исполнить свое желание. Более того, графиня испытывала жгучую радость, читая письма, которые я писала ей от имени Оренделя. Она верила в то, что ее сыну живется прекрасно, и это делало ее счастливой. Я не могла написать ей правду, не навредив самой себе, а ложь была бальзамом для души моего заклятого врага. Я очутилась в ловушке, из которой меня освободила бы лишь смерть Оренделя, кто бы ни убил его — Раймунд или матушка-зима.
Так почему же я не кивнула? Потому что я уже увидела упрямство и горечь на лице Оренделя. И это навело меня на другие мысли. Я могла бы завоевать сердце этого мальчика, отнять его у графини и воспитать его так, как мне самой захочется. Я превратила бы его в свое подобие, и все это с одной только целью — показать графине, кем стал ее сын и насколько он ненавидит мать.
Этот новый план вдохновлял меня намного больше, чем старый, в первую очередь потому, что это причинит Клэр боль ужаснее, чем смерть Оренделя. Легче пережить утрату, если человек умер, чем если ты потерял его из-за ненависти в его сердце. Можно научиться жить со своим горем, но если ты знаешь, что тот, кого ты любишь, презирает тебя, то мысли об этом каждый день вновь и вновь приходят тебе в голову, они пронзают твое сердце, разрывают душу, они оставляют в тебе мучительную, а главное, незаживающую рану. Ничто в мире не утешит тебя, ничто не позволит простить себе величайшую ошибку в своей жизни, если именно эта ошибка и привела к тому, что ты сама разрушила то, что любишь. Взглянув в глаза Оренделя, я поняла, что мне удастся переделать его так, как я хочу. Конечно, мне пришлось заплатить за это высокую цену — моя месть откладывалась. Мне нужно было ждать. Скрепя сердце, я уплатила этот залог.
После того апрельского вечера шесть с половиной лет назад я начала заботиться об Оренделе, я изображала добрую кормилицу, я подливала ему чистого вина правды, отравленного ядом с моей кухни. Я изменила свое мнение по поводу писем от его матери и стала передавать Оренделю послания от графини, вот только выходили эти послания из-под моего пера. Орендель жаловался на то, что живет в невыносимых условиях, а «графиня» отвечала ему, что не следует капризничать, ведь она, в конце концов, спасла его от войны. Орендель писал, что предпочел бы уйти в монастырь, а не жить в курятнике, а «графиня» отвечала, мол, ей важно было преподать урок этому самовлюбленному тирану, его отцу, что не всегда можно добиться своего.
Орендель не мог поверить тому, что читал. Он все время спрашивал у меня, что произошло с его матерью, ведь она была такой доброй женщиной. Я же постепенно открывала ему «правду». Я писала ему, что сейчас у графини Клэр всего одна цель в жизни — месть графу Агапету, который сделал ее несчастной. Я писала, что графиня пойдет на все, чтобы отомстить, и ради этого она не пожалеет даже свое дитя. Разумеется, это не казалось особо правдоподобным. Но каждый бессердечный ответ, каждое письмо холодной «графини», каждое слово с моей стороны разрушали веру Оренделя в доброту его матери. Все эти месяцы, проведенные в заточении, все эти зимы в ледяном сарае сделали свое дело. Орендель не хотел верить в то, что его мать коварна и жестока, но моя ложь и обстоятельства его жизни убедили мальчика в этом.
В то же время его любовь и уважение ко мне росли. Я писала ему тысячи посланий. Я «изливала» ему свою душу. Я «признавалась» ему, как тяжело мне выполнять поручения графини. Я говорила Оренделю, что у графини появился любовник. Я делала все, чтобы в его представлении мать превратилась в чудовище. Я рассказывала ему, как отвратительны Элисии перемены в жизни матери. Странно — некоторые мои тогдашние выдумки стали реальностью. Но это всего лишь совпадение. Я пользовалась только своей фантазией, жалуясь Оренделю на то, какой стала жизнь в замке. Постепенно я стала его товарищем по несчастью, его единственной союзницей.
А мои подарки Оренделю довершили дело.
То я привозила ему шкуру для лежанки, то игральные кости, то подушку, то пару башмаков. Такие мелочи, на которые он раньше и внимания-то не обращал, теперь стали для мальца целым миром, ведь это были мои подарки, подарки «от чистого сердца». Но главным моим подарком ему была тряпичная бумага и угольные карандаши, необходимые Оренделю для написания своих историй. Мальчик был глубоко благодарен мне. Он посвящал мне стихи, расспрашивал меня о детстве, о моих родителях, о моем мнении по поводу разнообразнейших вещей, и, хотя у меня не было языка, за пару проведенных с парнишкой дней я могла неплохо развлечь его. Прежде чем уйти, я отдавала Оренделю небольшую стопку писем — их всегда было около двенадцати. Каждую неделю Орендель должен был читать по письму, так я была бы с ним намного чаще, чем четыре раза в год, пусть и посредством только слов. Оренделю это нравилось.
Конечно, он просил меня освободить его. Хлипкие стены его темницы укрепили — за наш счет, конечно (помню, это взбесило Раймунда). Орендель охладел к своей матери, а потому в нем возросло желание ослушаться воли «графини». К тому же мальчишка становился старше, и хотя он был слабым из-за скудного питания, я боялась, что ему хватит сил для побега. Однако же, когда я сказала Оренделю, что в случае его побега графиня угрожала выпороть нас с Раймундом и бросить меня в темницу, он отказался от своих планов. Какое же наслаждение я получала, глядя, как этот ребенок все больше зависит от меня, намного больше, чем мои собственные сыновья, рано ставшие самостоятельными. Всякий раз я не могла дождаться встречи с ним. Возможно, я полюбила бы это дитя и была бы готова отказаться от моего плана ради него, если бы я видела его почаще. Но расстояние между нами было слишком велико. Пары дней в замке в обществе графини хватало на то, чтобы мое сердце вновь наполнилось желчью, необходимой для выполнения плана. Орендель вновь становился лишь орудием в моих руках. Он был для меня тем, чем, по моим словам, он являлся для графини, — орудием мести.
Ярость, злость, упрямство, зародившиеся в душе Оренделя, стали неотъемлемой частью его сущности, и, пусть он еще не понимал этого, я видела изменения в его сознании.
Вскоре я научилась будоражить душу Оренделя или успокаивать ее по своему желанию, подобно тому, как Бог может поднять бурю на море, а потом усмирить штормовые волны одним мановением руки. Орендель, по природе своей тихий и спокойный ребенок, дитя одиночества, мог оставаться мягким и нежным, и никто не догадался бы, что душа его прогнила. Также и с его внешностью. От рождения ему дарована была красота, и даже исполненная лишений жизнь не смогла этого изменить (белокурые локоны, голубые глаза, изящные пальцы), но настоящий знаток людей сразу же обратил бы внимание на горькие складки у его рта. Это я влила в его душу мою горечь, мой яд лжи.
Хватало лишь пары тщательно продуманных слов, чтобы пробудить в его душе злобу. Плача, я передавала ему записки с описаниями очередных подлостей, совершенных графиней. Я вызывала в его памяти стремления, связанные с его прежней жизнью.
Но только во время моей последней поездки к Оренделю план предстал предо мною во всех подробностях. План, который я уже начала воплощать в жизнь, прямо сейчас, когда я пишу эти строки. Наконец-то я осознала то, что так долго вызревало во мне, смутное, неявное. И — какая ирония! — сама графиня навела меня на эту мысль, приказав привезти сюда Оренделя. Она сама накликала свою погибель. Я уничтожу ее. И не будет для Клэр боли страшнее, не будет для меня мести слаще.
С печальной миной я пару дней назад вошла в «келью» Оренделя, сжимая в руках написанное мною же письмо. Мальчишка обрадовался, увидев меня, но уже через мгновение заметил, что что-то не так, как всегда. Я передала ему послание.
— Мне прочитать его прямо сейчас? — Дрожащими руками он открыл письмо. — Ах, Бильгильдис, неужели это правда? Отец мертв, убит моей же матерью и ее любовником?
Я указала на строки, где говорилось о том, что и Элисия, и все остальные в замке верят в это, но у них нет никаких доказательств, ведь графиня и ее любовник измыслили хитроумный план и замели за собой все следы. Ко всему теперь и жизни Элисии угрожает опасность.
— Нет! — к моему изумлению, заявил он. — Нет, это не может быть правдой. Все те злые поступки, значительные и нет, о которых ты мне говорила… поступки, которые описаны в ее же письмах… во все это мне приходится верить. И в ее себялюбие, и в любовника, и в ее ненависть к отцу, да, во все это я верю. В чем-то я даже понимаю свою мать. Отец был суровым и жестоким человеком, он плохо обращался со всеми вокруг, даже со своими детьми. Помнишь, он выпорол меня из-за того, что я метал подковы не так далеко, как дети других дворян, и проиграл в соревновании? А как он смеялся над Элисией, когда она упала с жеребенка и сильно ударилась головой? Тогда еще шел дождь… Мама пыталась скрыть свою печаль, но я все видел. И все же… такое… убийство… худшее из всех преступлений… и то, как оно было совершено… А теперь, говоришь, она хочет убить Элисию? Нет, вы все, должно быть, ошибаетесь. Весь замок ошибается. Та женщина, которую я знал, не способна на такое.
Бедняга. Рифмоплетство сделало его совсем глупым. Если бы он знал, на что способны люди, когда они любят. Если бы он знал, что светлый образ любви, проникающий в наши сердца, приносит с собой семена зла. Но откуда мальчонке знать такое, ведь он сидит в этом загоне год за годом, месяц за месяцем, день за днем, один. Мир видится ему таким, каким представляет его себе девятнадцатилетний бард.
«Я еще сумею переубедить его, — сказала я себе, — но пока что не стоит говорить с ним о вине графини». Я передала ему лист, на котором было написано, что я решила освободить его, только графиня не должна знать об этом.
— Ты действительно решишься на такое, Бильгильдис? Ты такая добрая…
Да. Мы с Саломеей добрые женщины, самые лучшие на свете.
Я подарила крестьянам все, что собралось в комнатке Оренделя за все эти годы, расплатилась с ними (при этом Раймунду показалось, что я оставила им слишком много денег), и в тот же час мы отправились в повозке Раймунда назад, в отчий дом Оренделя.
— Гляди, Бильгильдис, как высоко летают птицы в небесах… Гляди, Бильгильдис, как колышутся травы… Гляди, Бильгильдис, как играет красками осенний лес…
И так все время.
Пока Орендель вновь открывал для себя мир после своего семилетнего заточения, я раздумывала над своим планом.
В какой-то момент мы с Раймундом остались наедине, и тогда мой супруг сказал мне:
— Надеюсь, тебе ясно, что мы должны избавиться от него? Если графиня когда-либо узнает, что мы делали все эти годы, мы пропали. Значит, расправимся с ним, а потом скажем, что по дороге он умер от лихорадки. Или еще лучше — всего за несколько дней до нашего приезда Орендель трагически скончался в доме тех добрых и чудесных людей, у которых мы его поселили, и все его оплакивали. Как думаешь, сойдет?
Сойдет — как струпья у прокаженного. Я дала Раймунду понять, что если он Оренделя хоть пальцем тронет, то его черепушке придется познакомиться поближе с поленом, и мы еще посмотрим, какая дубина крепче. Поворчав немного, старик сдался. (Я очень беспокоюсь из-за Раймунда. Мне кажется, он готов действовать без меня. У нас с ним разные цели. И все же, пока моему старику удается получать деньги за Оренделя, он не навредит мальцу. А сейчас Раймунд должен купить для Оренделя хутор неподалеку от замка и привести дом в порядок. Он неплохо наживется на этом, я уверена. Только когда запахнет жареным и Раймунд догадается, что я намереваюсь сделать, я не смогу больше им управлять, а рано или поздно это случится. Значит, придется что-то придумать. Я не позволю Раймунду испоганить мою месть.)
Итак, мы привезли Оренделя на заброшенный хутор. Дом и прилегающие постройки были в ужасном состоянии, но тут была одна хорошая комната с двумя каминами, в которой можно было разместиться. Я дала мальцу понять, что с наступлением темноты поднимусь на крепостную стену и помашу факелом, а он в свою очередь, должен был ответить мне тем же знаком. Это будет знаком того, что мы думаем друг о друге. Орендель сразу же согласился повторять это нелепое действие каждый вечер. Да и как иначе? Он же постоянно писал подобную чушь в своих стихах.
— Я скоро увижу свою сестру?
Я кивнула. Сейчас нужно было просто удержать его здесь.
— Как ты думаешь, что со мной будет дальше?
Я дала ему понять, что Элисия наверняка примет его сторону и добьется того, чтобы он стал графом.
— Знаешь, мне кажется, я не хочу быть графом.
А если этим он спасет сестру, которая страдает от власти своего отчима?
— Ну, тогда конечно. Но ненадолго.
Так я выиграла время, необходимое для воплощения моих планов в жизнь.
Час назад, прежде чем писать это, мы вместе с графиней поднялись на крепостную стену, и я протянула ей факел. Она махнула им, и, гляди-ка, в долине вспыхнула звездочка, яркое пятнышко света во тьме, так далеко, что едва было видно его движение. Клэр была вне себя от радости, а я стояла рядом и старалась скрыть усмешку.
— Бильгильдис, это он, видишь? Бильгильдис, это… после всех этих лет… это знак… Конечно, у меня есть письма Оренделя, но… знать, что это мой мальчик машет мне факелом… знать, что с ним все в порядке… что он ждет встречи со мной так же, как я жду встречи с ним… Ах, Бильгильдис, должно быть, я кажусь тебе глупой. Или нет? Ты знаешь, каково это — думать о своем ребенке, когда он далеко, ведь и твои сыновья были на чужбине, на войне. Мать всегда спрашивает себя, есть ли что-то, что я могу сделать, чтобы мое дитя осталось со мной, чтобы оно не очутилось в тех местах, которые я никогда не видела? И знаешь, у меня больше причин мучить себя этим вопросом, ведь это я отправила Оренделя к чужим людям. Ты только посмотри, он поднимает факел, как и я!
Поразительно, сколько времени графиня провела там, на стене. Они ведь не обменивались там словами или предложениями, и Клэр вполне могла бы уйти со стены довольно быстро. Но нет, она бы простояла там до рассвета, размахивая факелом, эта идиотка, если бы я не напомнила ей, что мальчику нужно выспаться.
— Ты права. — Графиня мягко улыбнулась. — Ты всегда помогала мне, Бильгильдис, все эти годы. Я думаю, пришло время освободить тебя и твоего мужа Раймунда из крепостничества. Я не могла попросить об этом Агапета, но Эстульф относится к этому иначе. Поверь мне, вскоре ты получишь хоть что-то за то, что ты дарила нам все эти годы.
«Слишком поздно, — подумала я. — Слишком мало и слишком поздно».
Клэр
Я никогда не хотела, чтобы дошло до ссоры, но предполагала, что такое случится.
Все началось с очередного заседания в большом зале — мне подумалось, что глупо собираться впятером в таком огромном, да к тому же еще и холодном помещении, но для Бальдура, наверное, держать совет именно тут было привычнее. Итак, мы с Эстульфом, Элисия и Бальдур вошли в большой зал. К нам присоединился викарий, тихий, как тень, — он присутствовал на заседании, но ничего не говорил.
Вначале мы говорили об устранении последствий наводнения, и Эстульф в связи с этим упомянул, что он планирует осушить болото и так получить новую пахотную землю и в то же время улучшить здоровье крестьян. Бальдур — как мило с его стороны! — был не против того, чтобы наши крестьяне жили немножко дольше и могли собирать больше урожая, но сама идея ему не особо понравилась. Эта тема его не интересовала, он с равнодушным видом сидел за столом, пока речь не зашла о деньгах, которые потребуются на осушение болота. Эстульф заявил, что у нас недостаточно денег для того, чтобы воплотить план по осушению болота в жизнь, а занимать такую сумму он не хочет, поэтому придется вдвое сократить число наемников. И тут, будто кто-то задействовал невидимый рычаг, превращающий неподвижную деревянную конструкцию в работающую катапульту, Бальдур швырнул в лицо Эстульфу решительное «Нет!».
— Этому не бывать! Нам нужны наши наемники! Это наша защита!
— От кого?
— От наших врагов. От венгров, например. Они в любой момент могут напасть на Швабию и уже не раз делали это.
— Возможно, нам следует пойти с ними на переговоры.
Бальдур скривился так, будто увидел в своем супе червяка.
— Переговоры! — выкрикнул он. — Я в жизни не вел переговоров!
— Наверное, именно поэтому я и не вижу тебя в роли посла мира, — спокойно, но с ироничной улыбкой на губах возразил Эстульф.
— Еще никто не пытался договориться с венграми! Мы были бы первыми и единственными.
— Ной был первым и единственным, кто построил корабль посреди холмов и равнин. А что случилось потом, всем известно. Если все будут ждать, пока кто-то что-то предпримет, ничего так и не случится. Кстати, я слышал, что новый король, его величество Конрад, очень хотел бы начать мирные переговоры с венграми, ему просто не хватает поддержки герцогов.
— С венграми нельзя договориться.
— Неужели у них нет ртов и ушей, они не умеют говорить?
— Они думают только о войнах и разрушениях.
— Если это и правда, то не одни они такие, как мне кажется.
— Ты и дальше можешь острить и умничать, но одного тебе не оспорить: это венгры первыми напали на нас.
— Если спрашивать, кто прав, кто виноват, вина затянет тебя в пучину войны. Я не собираюсь писать манускрипт об истории и причинах войн с язычниками на рубеже девятого и десятого столетий от Рождества Христова. Что я собираюсь сделать, так это расчистить новые пахотные земли, отделаться от засилья комаров, удвоить сборы урожая, таким образом обеспечить увеличение денежных поступлений и так заложить основы благосостояния, которое пойдет на пользу и замку, и крестьянам, и графству в целом, и герцогству, и королевству. И если цена за все это — отказ от войны, то я готов уплатить эту цену.
— Нет в этом чести.
— В том, что наши крестьяне страдают, тоже нет чести. Ты никогда не пробовал зимой спуститься в долину и посмотреть в глаза крестьянским детям?
— Я был в долине, ты уже забыл? Я строил дамбу.
— Мы с тобой работали плечом к плечу, и я благодарен тебе за помощь. Мы справились с наводнением. Теперь же я хочу, чтобы мы остановили голод.
— Тебя волнует голод, а меня волнует война с Венгрией. В мае я отправлюсь в поход, как и в прежние годы. В этом году мы разделаемся с этими язычниками.
— Это твое право, ты свободный человек. Как по мне, можешь дойти хоть до Иерусалима. Но не за счет моих денег. И не за счет моих людей.
— Это мои люди.
— Тогда и плати им сам. Вот только ты не можешь, потому что у тебя ничего нет. Значит, это мои люди, и я сокращаю состав наемного войска вдвое. Те, от чьих услуг как наемников я откажусь, могут либо пойти к другому дворянину, либо вернуться на поля в долине. Большинство из них выберут второй вариант, потому что они родом из здешних мест. Никто не захочет идти на войну, если дать ему возможность самостоятельно принимать это решение.
— Я захочу.
— Прошу прощения, я на мгновение позабыл, с кем я разговариваю. Вынужден исправить допущенную мною ошибку: почти никто не захочет идти на войну, если дать ему возможность самостоятельно принимать это решение.
— Люди, которые несут дозор на твоих крепостных стенах, на моей стороне, вот увидишь.
— Это прозвучало как угроза.
— О, теперь я прошу прощения. И я «вынужден исправить допущенную мною ошибку»: это не просто должно было прозвучать как угроза. Это и есть угроза!
— Значит, ты не оставляешь мне выбора. Я снимаю тебя с должности капитана стражи и лишаю тебя всех полномочий. Как член семьи, ты, конечно же, можешь остаться в замке, но ты больше не будешь получать оплату за свою службу. Разговор на этом считаю завершенным. Всего доброго, Бальдур.
После этой ссоры теперь уже ничего не будет как раньше. Бальдур остолбенел на мгновение, а потом в ярости развернулся на каблуках и вышел из зала. Хотя Эстульф и не обращался к Элисии, она решила принять его слова и на свой счет и тоже покинула комнату. Уходя, она смерила меня испепеляющим взглядом.
То, что произошло потом, не могли предвидеть ни я, ни Эстульф. Мы вообще не верили в то, что такое возможно. Бальдур принялся настраивать жителей замка против Эстульфа, называл его узурпатором, подозреваемым в совершении ужаснейшего преступления, защитником язычества. Бальдур хотел переманить всех на свою сторону. Он ходил и на стены, и на кухню, и в комнаты наемников. Я не удивлюсь, если он и в уборной говорил с солдатами, пока те справляли нужду. По сравнению с тем, сколько усилий он приложил, особых успехов добиться ему не удалось: только двенадцать из сорока наемников поддержали его, прислуга предпочла не вмешиваться в ссору господ. И все же настроение в замке испорчено, а моя дочь оказалась там, куда мне никак не пробиться, — за стеной непримиримой вражды. Не знаю, действительно ли она одобряет то, что делает Бальдур, но вот уже несколько дней я пытаюсь поговорить с Элисией, а она избегает меня, не пускает к себе на порог, словно жалкую нищенку. А я… мне не хватает решимости, чтобы стоять на своем. Я просто ухожу и даже не особенно огорчаюсь из-за того, что меня прогнали. Не знаю почему. Конечно, для этого есть причины, даже много причин.
Может быть, все дело в том, что я пытаюсь с пониманием относиться ко всему происходящему, пусть даже ситуация противоречит моим интересам. Со мной трудно спорить, на это еще тридцать лет назад жаловались мои сестры. Элисия презирает Эстульфа, мужчину, которого я люблю. Что ж, ну и пусть. Я же, в свою очередь, терпеть не могу Бальдура. У него есть все недостатки Агапета, но при этом ни одного из немногих достоинств, которыми обладал мой бывший муж. (Именно поэтому я верю Бальдуру, когда он говорит, что Агапет хотел сделать его своим официальным преемником. Мой супруг увидел в нем человека своего пошиба, который, впрочем, не мог с ним потягаться. Отцы тщеславны. Они всегда говорят, что их сыновья должны стать такими же, как они сами. И такие отцы верят в свои слова, но где-то в глубине души они надеются, что их отпрыски не проявят такую же силу. И уж конечно, их дети не должны быть сильнее. Вот кого Агапет увидел в Бальдуре.) Итак, я понимаю, почему Элисии так хочется видеть в Эстульфе чудовище. И ее желание стать графиней тоже вполне для меня понятно. Разве я не терпела ее причуды? Разве я не прощала ее странности в отношениях с отцом? Разве не принимала я почти как должное то, что Элисия… как бы мне это сказать… предпочитала жить в мире своего воображения, а не в реальном мире? Я не спорила с ней. Я не пыталась бороться за свою Элисию. «Ничего, — всегда думала я, — такое бывает. Когда-нибудь мы будем очень близки, станем любящими матерью и дочерью, этот день настанет». Но он так и не настал. И теперь этот день дальше от нас, чем когда-либо. Наверное, он вообще никогда не наступит. В каком-то смысле я тоже жила в мире воображаемого, и только сейчас я понимаю, что уже слишком поздно. И часть вины лежит и на моих плечах. Возможно, именно поэтому я боюсь говорить с Элисией, боюсь убеждать ее в том, что я не такой уж плохой человек, как она думает. Все дело в том, что я прекрасно понимаю ее чувства. И знаю, что в ее упреках есть и доля истины.
Я усматриваю горькую насмешку судьбы в том, что именно сейчас, когда дочь так отдалилась от меня и прячется в своем крыле замка, возвращается ко мне мой ненаглядный сын, мальчик, к которому Элисия всегда так ревновала. Конечно, Орендель был одной из причин проблем в наших отношениях с Элисией. Вначале Орендель был очень болезненным ребенком, а потом, когда ему исполнилось лет пять-шесть и он уже преодолел детскую слабость, сделался всеобщим любимчиком в замке — благодаря своим стихам и песням (это очень не нравилось Агапету, который считал, что мужчин, даже двенадцатилетних, нужно не любить, а бояться). Когда Оренделя здесь не стало, тоска по нему спутала все мои мысли, и вновь не к Элисии, а к моему сыну были устремлены все мои помыслы. Дети такое чувствуют. Элисия никогда не жаловалась на это мне, да и вообще я никогда не слышала, чтобы она жаловалась кому-либо, даже Агапету, но я боюсь, она поверила в то, что всегда будет на втором месте. Поэтому столько трагизма в том, что это подтверждается вновь. Я действительно пыталась принять участие в разрешении ссоры между Элисией, Бальдуром и Эстульфом, но при мысли о заветном возвращении Оренделя все остальное меркло. Достаточно было моему сыну один раз махнуть факелом, чтобы я позабыла о ссоре с Элисией. Мне в моей жизни нужна любовь. И нет больше сил добиваться любви Элисии. Пускай моя дочь сама придет и подарит мне свою любовь, как подарил Эстульф, как дарит мне любовь дитя, что я ношу под сердцем, как подарит мне свою любовь Орендель. Может быть, это и жестоко по отношению к Элисии. Но это правда!
Основой моей связи с Элисией всегда было то, что в ее глазах я видела отражение своего материнства. И дело не в нашем сходстве, нет. Все дело в ее взгляде. В ее глазах, даже во время наших ссор, я видела любовь. Но после той ссоры в зале, когда Элисия посмотрела на меня с ненавистью, во мне что-то сломалось. Исчезла часть моей материнской любви. Элисия по-прежнему мой ребенок, я желаю ей лишь добра. Я всегда оберегала ее, как могла, и буду беречь ее, как могу. Но я не стану жертвовать ради нее Эстульфом, этим лучшим из людей.
Но что, если она заставит меня выбирать? Это будет ужаснейший день в моей жизни.
Элисия
Говорить мне, мол, она моя мать, она родила меня, нужно как-то мириться с нею… Это все равно что требовать у взрослого вернуться в лоно. Я уже не ее дитя, по крайней мере, она не может больше потчевать меня пряником или грозить мне кнутом. Ладно, это делает ее новый муж, но она-то стоит рядом и не говорит ни слова. Вся она будто пропитана этой любовью к Эстульфу, она упивается этой любовью, пьяна ею, и потому ее взгляд на происходящее замутнен. Ее действия и решения определяются этим помутнением рассудка. Впрочем, при этом же мама на самом деле только сейчас решила проявить свою истинную сущность. Да, я действительно думаю, что женщина, которая называет себя моей матерью, перестала скрывать то, о чем молчала все эти годы. К примеру, свое желание бросить весь мир к ногам своего возлюбленного. Или убрать меня с дороги. Может, мать и не осознает это, но я всегда мешала ей. Я была плодом ее замужества, о котором она сожалела каждый день. Думаю, в первые годы брака с отцом мать втайне — в том числе и от себя — надеялась, что я умру, ведь так Господь покарал бы ее мужа за несчастливый союз. Она всегда хотела, чтобы ее мнение было мнением Господа. И она хотела быть счастлива. И то, и другое превращает людей в тиранов.
И потому неверно толкать меня к примирению. Мои три «Ф» первыми пришли ко мне после большого скандала и принялись строить из себя плакальщиц и прорицательниц. Они горевали о разрушенных отношениях между матерью и дочерью и молили меня сделать первый шаг к завершению ссоры. А когда я отказалась, они мрачно провозгласили, что добром это не кончится. Недавно у них появилась новая песня:
Укором укор будет встречен,
и, взращенные на гневе,
подымутся всходы мести.
Но я не принимаю их всерьез, ведь после гибели на войне их женихов, сыновей Бильгильдис, эти девушки повсюду видят горе. В каждом раскате грома слышится им приближение гибели. Ночью, когда вышли из берегов воды Рейна, Фрида, Франка и Фернгильда пели в часовне, и их голоса доносились в мои покои, где я возлежала с Мальвином.
Я не одобряла поведение Бальдура на совете. Да, такое произвело бы на меня огромное впечатление лет пять назад, когда я еще не поняла (или же когда для меня еще было неважно), что в голове у него пусто. Тогда мне было семнадцать, а в этом возрасте смотришь только на мышцы, волосы на груди и ослепительную улыбку, а будущее кажется далекой страной — ты знаешь, что оно существует, но оно не имеет для тебя никакого значения. О том, что Бальдур когда-то станет графом, я не задумывалась, я думала, что папа будет жить вечно. Туники, которые я шила, я шила для отца, а не для Бальдура. Сегодня претензии Бальдура на титул графа — единственное, что нас объединяет. Каким же надо быть дураком, чтобы настолько навредить нам своим поведением! Итак, я предложила ему объясниться — и Бальдур огорошил меня. А такое бывает нечасто.
— Теперь, что бы ни сделал Эстульф, это только его ответственность. Как он будет управлять войском, на что станет тратить деньги, будет ли он осушать болота или ковать доспехи, все это будет лишь его решением.
— Ты представляешь себе, во что нам обойдется твоя детская гордость? Теперь, когда ты не влияешь на решения Эстульфа, ты превратил нас из хозяев этого замка в гостей.
— Именно так и есть.
— А, так ты это тоже заметил! Прости, я на время забыла, что ты у нас очень сообразителен.
— Так и есть. Ум необходим воину в бою.
— И что будет теперь? — Я взъерошила себе волосы. — Об этом ты подумал? — Я была твердо убеждена в том, что Бальдур представления об этом не имеет.
— Иногда, — сказал он, — нельзя взять ворота замка, слишком уж хорошо они укреплены или же у противника много лучников…
— Да что ты говоришь! Я всегда мечтала узнать у тебя побольше о тактике захвата крепостей, и сейчас, несомненно, подходящий момент для этого.
— Тогда, — невозмутимо продолжил Бальдур, — нужно приготовиться к длительной осаде замка. Да, придется стоять зимой за крепостными стенами, придется спать в шатрах, мерзнуть, чувствовать, что на тебе ни одной сухой нитки и от сырости оружие покрывается ржавчиной…
— Мы сейчас говорим на ту же тему или этот разговор мне вообще снится?
— Но со всем этим солдаты легко справляются, ведь они знают, что к весне достигнут своей цели. И враг выбросит белый флаг, и опустится разводной мост.
Терпеть не могу, когда Бальдур использует в разговоре образы войны.
— И что это значит, если перевести это на язык мирного и цивилизованного населения?
— Что нам придется мириться с тем, что сейчас мы не властны в замке, пускай нам это и неприятно.
— И чтобы сказать это, тебе пришлось обратиться к военной мудрости? Быть этого не может!
— Элисия, все дело в том, что Эстульф не сможет сослаться на то, что я поддерживал его решения.
— И что в этом такого замечательного?
— То, что он будет принимать неправильные решения.
— Это вопрос точки зрения.
— А чья точка зрения играет роль в этом вопросе? Только герцога. Бурхард уже много лет посылает на войну одно войско за другим, и тут появляется Эстульф, который отказывается предоставить ему солдат. Граф, как и любой человек, может потратить деньги всего один раз, либо на одно, либо на другое, либо на войну с комарами, либо на войну с Венгрией. Нет, Элисия, для Эстульфа это добром не кончится. А я, проверенный в боях воин, победитель язычников, я буду рядом.
Конечно, Бальдур излишне хвастался своими военными достижениями, но я вынуждена была признать, что в его словах была доля истины, по крайней мере в том, что касалось отношения к нему герцога. И его странный план, насколько я могла судить, имел некоторые шансы на успех. Герцог, несомненно, попытается повлиять на ситуацию. И для этого ему придется прибегнуть к помощи Мальвина.
Что до Мальвина… Мы тайно встречаемся почти каждый день, ведь Бальдур тратит все свое время на конные прогулки и охоту, он уезжает из замка утром и возвращается вечером. Я не знаю, что он делает за пределами крепостных стен, как по мне, так пусть перестреляет хоть всех кабанов в Швабии, главное, что мы с Мальвином можем быть вместе. Остальные тоже не мешают нам. Я стала изгоем в собственном замке, и, кроме Бильгильдис, которая навещает меня по разу в день, и трех моих «Ф», у меня никого нет. Моя отчужденность, отстраненность от всего, что происходит в замке, связана с планом Бальдура. Мой же план — Мальвин. И за это я презираю себя. Мальвин должен быть лишь мужчиной, которого я люблю, но как мне отделить возлюбленного моего от того человека, который ищет убийцу моего отца? Человека, которому вместе со мной предстоит выполнить волю моего отца?
Когда я рассказала Мальвину о том, что кто-то проник в мою комнату и пытался убить меня, он был очень взволнован. Его искренняя забота обо мне дарит мне счастье, и мне радостно видеть, как Мальвин беспокоится обо мне. И в то же время — сколь бы омерзительна ни была эта мысль, — на мгновение мне подумалось, что эта неудачная попытка убийства сыграла мне на руку, позволив настроить Мальвина против Эстульфа. Я не хочу влиять на мнение Мальвина, это осквернило бы наши отношения, но надеюсь на его поддержку, и он это прекрасно понимает.
И когда мы занимаемся любовью, два вопроса, точно стервятники, кружат над нашими сплетенными в порыве страсти телами: «Сможет ли Мальвин оправдать Эстульфа? Смогу ли я простить ему это?» И вот, грядущее в виде этих вопросов настигло нас. А ведь поначалу оно казалось столь лучезарным.
Но за прошедшие часы что-то изменилось. Я думаю о двух вещах, которые уже некоторое время беспокоили меня, но я никак не могла понять, о чем идет речь.
Во-первых, меня неотступно преследует какое-то странное воспоминание: комната без окон, в ней стоит мой отец. Я называю этот образ воспоминанием, а не сном, потому что, хоть я и увидела его впервые, когда находилась где-то на грани между сном и явью, эта картина вновь и вновь предстает пред моим внутренним взором. Она возникает в моей голове совершенно неожиданно, когда я занимаюсь какими-то повседневными делами, например вязанием. И я не могу понять, почему этот образ преследует меня. Долгое время это не давало мне покоя, но сегодня утром, проснувшись, я вдруг поняла, что это не выдумка, нет, эта комната действительно находится в нашем замке, и она позволит пролить свет на убийство моего отца.
Во-вторых, с сегодняшнего дня Мальвин — уже не просто мой любовник, мой возлюбленный, герой, который отомстит за смерть моего отца. Мальвин — отец моего ребенка.
Я беременна. Вот уже несколько дней я чувствовала, что мое тело изменилось, но только сегодня я поверила в это до конца. Хотела бы я, чтобы Мальвин первым узнал об этом, но вначале я поговорила с Бильгильдис. Она думала, что отец ребенка — тот мужчина, которого она прислала ко мне. И тогда мне пришлось рассказать ей правду. Если я кому-то и доверяю, так это Бильгильдис.
Что скажет Мальвин? И как ребенок повлияет на наши отношения? Что сделает Бальдур? Он даже не подозревает, что ребенок не от него, но мне кажется, что моя тайна очевидна для всех, даже для моего мужа, который так уверен в себе. Я понятия не имею, как дитя, что растет в моем чреве, повлияет и на меня, и на Мальвина, и на Бальдура.
Я так счастлива, но в то же время и напугана. Я знаю, что должна быть осторожна, но на глазах у всего мира мне хочется броситься Мальвину на шею. Такова сущность любви — она до последнего борется за свои права. Любыми средствами.
Мальвин
Элисия провела меня в потайную комнату. Она будто решила поиграть со мной, не говоря заранее, где находится эта комната. Судя по ее лицу, прогулка по коридорам замка доставляла ей огромное удовольствие. Конечно, Элисия достаточно умна и знает, что все это не игра. Проведя меня в тайную комнату, она может предоставить мне решающее доказательство, которое прояснит загадку убийства Агапета. Зная это, я не обижался на ее легкомыслие.
Вначале мы вошли в покои графа. Я не раз бывал в этой комнате, пытаясь найти личную переписку Агапета или что-то подозрительное, что-то, что помогло бы мне продвинуться в расследовании. Я также часто проходил из покоев Агапета в предбанник и купальню, осматривая место преступления. И все же я так и не заметил там потайного хода, который позволил бы понять, как свершилось убийство.
Когда Элисия открыла один из сундуков в предбаннике, многозначительно посмотрела на меня и предложила заглянуть внутрь, я подумал, что моя возлюбленная сошла с ума. В сундуке ничего не было, он был совершенно пуст.
— Что это значит? — Я озадаченно улыбнулся. — Ты решила разыграть меня?
Заговорщически улыбнувшись, Элисия наклонилась над сундуком и надавила обеими руками на его дно. Выглядело это довольно странно.
Но уже через мгновение днище сундука провалилось и оказалось, что на самом деле это потайная дверь, закрывающая проход в какой-то коридор. Вниз вела лестница.
Я несколько огорошенно кивнул.
Элисия шутливо поклонилась, пропуская меня вперед.
Заблудиться внизу было бы невозможно. От подножия лестницы вел всего один ход. Коридор был узким и довольно низким, но это не вызывало неприятных ощущений, так как он заканчивался уже через десять шагов. Когда дверь отворилась предо мною, я вздохнул с облегчением, не только радуясь возможности расправить плечи, но и предвкушая то, что найду здесь ответы на многие свои вопросы.
Меня не постигло разочарование. Дверь открылась совершенно беззвучно, и я очутился в темной комнате без окон. Свежий воздух проникал через отверстия в толстой, где-то в два локтя шириной, стене, окон тут не было. Прикинув, что длина комнаты — где-то четыре шага, а ширина — пять, я представил себе ее расположение относительно замка. Судя по всему, она прилегала к северной внешней стене, той самой, которая переходит в отвесную скалу.
Обстановка комнаты была скудной. Треть помещения занимала лежанка — пятнадцать, а то и двадцать шкур медведей и зубров, подушки с гусиными перьями и шерстяные одеяла. Рядом находился камин с вытяжкой, пол был украшен козьими шкурами и присыпан соломой. Виднелись тут и кроличьи шкурки. На стене висело два факела. В конце комнаты располагался небольшой стол и два табурета.
На столе стояли три лампады, кувшин с остатками пива, две глиняных кружки, валялся небрежно брошенный заржавевший шлем. А еще там обнаружилась большая деревянная шкатулка грубой работы. В шкатулке лежали письма…
Наконец-то, наконец-то я продвинулся в своем расследовании. Я чувствовал это, я знал это наверняка. Не прочитав и строчки из этих посланий, я понял, что наткнулся на что-то очень важное для моей работы. Эта комната будет иметь решающее значение.
Я повернулся к Элисии, чтобы поблагодарить ее, и только тогда заметил, что она осела на пол, ловя губами воздух.
— Господи Всемогущий! — воскликнул я. — Что с тобой, Элисия?
— Я не знаю… Просто… У меня вдруг потемнело в глазах, и я начала задыхаться…
— Все дело в этом узком коридоре и странной комнате. Тут мы будто в склепе, верно? Давай я помогу тебе встать. Как ты чувствуешь себя сейчас? Тебе уже лучше?
— Да, немного лучше. Но я хотела бы присесть на лежанку.
Некоторое время мы просто сидели там молча. Я держал Элисию за руку.
— Хочешь, я выведу тебя отсюда?
— Нет. Я хочу, чтобы ты наконец занялся своей работой, а не сидел рядом со мной, будто побитый пес. Все со мной в порядке.
— Когда ты так говоришь, я замечаю, что воспитывала тебя не твоя утонченная матушка, а грубоватая кормилица, — улыбнулся я.
— Ох, не говори со мной о моей матери, это же просто невыносимо!
Итак, я оставил Элисию в покое и, вернувшись к столу, принялся читать письма. Всего их было семь.
Прочитав все до последней строчки, я, не поднимая голову, спросил у Элисии, откуда она знает об этой тайной комнате.
— Собственно, нельзя сказать, что мне было о ней известно, — задумчиво ответила моя возлюбленная. — Воспоминание о ней вдруг вспыхнуло во мне, и я вначале даже не поняла, что это воспоминание, а не выдумка. Но эти образы всплывали в моей памяти, и наконец… Воспоминания очень смутные, но все же… Я была тогда совсем маленькой девочкой, должно быть, лет четырех-пяти. Я спряталась в папиной комнате. Он вошел в свои покои и, не останавливаясь, прошел в предбанник, а я украдкой проскользнула за ним и увидела, что он опускается в сундук. Должно быть, тогда это поразило меня до глубины души. Представляешь, папа опускается в маленький сундук и не выходит оттуда! А главное, когда я заглянула туда, его там не было. Наверное, я догадалась, что в сундуке скрыт потайной проход. Дальше я помню, что вошла в эту комнату, и папа испугался. Затем он рассмеялся, поднял меня на руки, сказал, мол, я его любопытная дерзкая малышка. Я помню, что сидела у него на коленях, он щекотал меня, а я от восторга била кулачками по белому меху. Мне кажется, что, прежде чем мы вышли оттуда, папа взял с меня слово никому и никогда не говорить об этой потайной комнате. Я совершенно забыла о ней, но сегодня, когда я просыпалась и еще не перешла грань между сном и явью, эти воспоминания вернулись ко мне. Странное совпадение, что я вспомнила об этом именно сейчас, когда это может помочь тебе, верно?
Я не стал спорить с нею, хотя и не верил в то, что это совпадение. Нет, конечно же, я не думал, что Элисия лжет мне, ни в коем случае. Но возможно ли, что она вспомнила о потайной комнате тогда, когда я зашел в тупик в моем расследовании? Как такое может быть случайностью? А главное, то, что эта комната существует, бросает тень в первую очередь на графиню и ее нового супруга, Эстульфа. Ибо потайной ход позволяет ответить на важнейший вопрос — как кто-то кроме венгерской девушки мог совершить убийство, ведь слуга Раймунд сказал, что ни в графских покоях, ни в предбаннике, ни в купальне, ни в комнате с котлом никого не было. Это было бы невозможно, разве что я стал бы подозревать Раймунда в причастности к убийству, а для этого у меня нет никаких причин.
Эта тайная комната все меняла.
— Я думаю так, — сказала Элисия. — Убийца некоторое время прятался в этой комнате или в коридоре, пока не пришли мой отец и Раймунд. Ты говорил мне, что Раймунд, раздев моего отца и усадив его в бассейн, закрыл дверь между предбанником и купальней. Венгерку еще не привели. Услышав, что в купальне тихо, убийца понял, что настал подходящий момент. Он поднялся по лестнице, выбрался из сундука, прошел в купальню, застав моего отца врасплох, убил его и вновь скрылся в потайной комнате, где и оставался до тех пор, пока не услышал мои крики. Вероятно, именно тогда он и покинул свое укрытие, потому что я в этот момент привлекла всеобщее внимание. Так у него появилась возможность сбежать, переодеться в сухое и тому подобное.
— Он не мог знать, что ты войдешь в купальню.
— Любой, кто обнаружил бы моего отца мертвым, побежал бы во двор и поднял бы тревогу. Тем вечером стража не несла караул, весь замок праздновал возвращение графа. У убийцы были все возможности для того, чтобы улизнуть.
— Но откуда убийца узнал, что твой отец собирается в купальню?
— Он услышал, как мой отец приказал приготовить все для купания.
— А если бы твой отец не стал бы погружаться в бассейн?
— Дело не в бассейне, Мальвин. Убийца мог бы воспользоваться этим укрытием для того, чтобы зарезать моего отца во сне. Самым сложным было не покинуть место преступления незаметно, а спрятаться здесь, пока Раймунд не оставил моего отца одного. Потайная комната идеально подходила для этого.
— Из тебя вышел бы хороший викарий, — улыбнулся я.
— Ах, перестань, — Элисия отмахнулась, но я заметил гордость в ее взгляде. — Женщина-викарий, это же курам на смех. Я лишь отмечаю очевидные вещи.
— Осталось лишь выяснить, кто убийца.
— Эстульф, конечно, — она пожала плечами. — Кто же еще?
Я ухмыльнулся. Да, я ждал этого вопроса.
— Для этого Эстульф должен был знать о потайной комнате.
— Он был распорядителем в замке. Где-то наверняка лежит план крепости, на котором…
— …потайная комната не обозначена, Элисия. С тем же успехом твой отец мог прибить указатель на стену. В том-то и суть тайны. Ее открываешь лишь избранным. Иначе эта комната не была бы потайной.
Элисия показала мне язык, мы рассмеялись.
— Согласна, — сказала она. — Но Эстульф, как ты знаешь, интересуется историей. Помнишь, в день твоего приезда в замок, за тем самым злополучным ужином Эстульф рассказывал тебе о последнем из рода Меровингов, который провел в этом замке много лет, и приспешники Каролингов так и не нашли этого человека, хотя и обыскали весь замок? Он мог прятаться в этой самой потайной комнате.
— Точно! — Я изумленно кивнул, с восхищением глядя на Элисию.
Ей удалось заметить взаимосвязь, которая ускользнула от меня. Эстульф благодаря своему увлечению историей мог заняться поисками потайной комнаты, где скрывался последний Меровинг. Каким-то образом — еще предстоит выяснить, как именно, — Эстульф действительно обнаружил ее — возможно, за несколько лет, а может быть, и за пару недель до убийства.
В одном только Элисия ошибалась. То, что Эстульф мог знать о потайной комнате, еще не означало, что он как-то причастен к преступлению. Это вовсе не доказательство его вины.
Во-первых, я опросил слуг в замке и выяснил, что Эстульф не задерживался подолгу ни на одном пиру. Не то чтобы он был нелюдимым, просто предпочитал придерживаться меры во всем, в том числе и в проявлениях радости, потому и чувствовал себя неуютно на пышных празднествах. Таким образом, вполне понятно, почему он рано ушел в свои покои в тот вечер, когда свершилось убийство.
Во-вторых, рано ушел с пира не только Эстульф. Судя по тому, что мне удалось выяснить, графиня якобы находилась в своих покоях одна, Бальдур постоянно бегал в уборную, да и сама Элисия — я не мог упускать это из виду — была на время убийства одна и без свидетелей.
В-третьих, о тайной комнате могли знать и другие люди. Графиня — она много лет прожила в этом замке. Бальдур — он был главой стражи, ему по должности положено было знать этот замок лучше кого бы то ни было. Раймунд — он был личным слугой графа и наверняка знал многие его тайны. Еще он мог проболтаться кому-то — к примеру, своей жене. Та хоть и немая, но не глухая и не слабоумная. В ответ на обвинение Эстульф возразит, что о комнате знала и Элисия, в конце концов, именно она мне и показала проход сюда.
Нужно было оставаться непредвзятым. Я вынужден был признать, что почти каждый в замке мог знать о потайной комнате. Исходя из этого, возникал следующий вопрос: зачем графу вообще понадобилась тайная комната? Какой цели она служила? Явно ведь не для хранения писем.
— Конечно, — печально продолжила Элисия, вернувшись с небес на землю, — тут мог прятаться и кто-то другой. Но ни у кого не было такого мотива, как у Эстульфа. Он хотел стать графом и добился этого. Конечно, моя мама могла бы… Но я, несмотря ни на что, считаю, что она не знает об истинном характере Эстульфа и не подозревает, что он сотворил. А если она и знала о преступлении, то лишь выступала в роли молчаливой пособницы, но никак не убийцы. Я по-прежнему убеждена в том, что убийца — Эстульф.
Именно по этой причине я и предположил, что воспоминания Элисии о событиях ее детства — не случайность. Она хотела видеть в Эстульфе убийцу, и мне не в чем было ее упрекнуть. Она очень любила отца, а Эстульф не только занял его место рядом с матерью, но и трон, став правителем замка и графства. В каком-то смысле Элисия добилась своей цели. Теперь, когда обнаружилась потайная комната, мы не могли больше считать венгерскую девушку единственной возможной убийцей. Тень подозрения падала теперь и на Эстульфа с графиней.
Мне показалось тогда поразительным — и я до сих пор удивляюсь этому, даже когда пишу эти строки, — сколь дивная сила скрыта в нашей душе. Эта сила, о которой мы даже не подозреваем, снабжает нас именно теми средствами, которые подтвердят ход нашей мысли и оправдают наши действия. Элисия отчаянно хочет наказать Эстульфа и свою мать, и что-то в ней, та самая таинственная сила, становится ее проводником на этом пути. Я могу лишь молиться о том, чтобы проводник этот не завел Элисию в пропасть. И меня вместе с нею. Ибо что я делаю с тех пор, как узнал Элисию, как познал Элисию? Моя жизнь перевернулась. И сейчас все, что мне нужно, так это быть вместе с Элисией, сомневаясь во всем, что было прежде. Когда я с ней, морали больше не существует, а когда Элисии нет рядом, я думаю о нас, о нашей истории, наших разговорах, наших телах, о том, что происходит между нами, о том, как я вхожу в нее, о ее глазах в тот момент, когда я вхожу в нее, о том, как хотелось бы мне вновь и вновь видеть ее глаза в этот момент, о радости похоти, о радости запретного, о красоте греха, обо всем, что я осуждал совсем недавно, осуждал в прямом и переносном смысле слова. Я приговорил столько прелюбодеев, а теперь и сам предался этому греху. Я рискую многим. Очень многим. Возможно, всем. А хуже всего то, что большую часть времени меня это не волнует. Я забросил свое расследование. Мой писарь задумывается о том, что мы вообще делаем здесь. Эстульф и графиня тоже бросают на меня удивленные взгляды, будто задаваясь вопросом, а способен ли я вообще выполнить поставленную передо мной задачу. Только благодаря своей должности я не обязан оправдываться. Я перестал вкладывать всю душу в расследование, потому что я не могу думать ни о чем другом, кроме Элисии. Она сотрясла мое спокойное, размеренное и немного печальное существование, как сотрясает последний вдох тело умирающего.
Мне кажется, в моих записях звучит отчаяние, и я хотел бы сжечь эти листы, но они должны сохраниться, ибо это свидетельство того, что происходит сейчас в моей душе. Вообще все, что я записал за время пребывания в этом замке, можно назвать протоколом процесса, и я намеренно употребляю здесь слово «процесс» в его двойном значении и оставляю открытым вопрос о том, против кого этот процесс ведется.
Потайная комната внесла оживление в мое расследование. То, что именно Элисия помогла мне, меня радовало, ведь это радовало ее. Но к сладости успеха примешивалась и горечь. Здесь, в этой душной комнатке, мне стало плохо при мысли о том, что конец моего расследования уже близок. Возможно, именно поэтому я несколько недель и пальцем о палец не ударил. Мне не хочется, чтобы это расследование прекращалось. И вновь я думаю о той самой таинственной силе, которая влияет на нас сильнее, чем мы подозреваем. Каждый шаг вперед в этом расследовании — это шаг к вынесению приговора, и нет для меня в мире ничего ужаснее, ибо это приведет к моей разлуке с Элисией. И что-то еще проступало в этой странной мешанине чувств, что-то хуже горечи. Яд. Там проступал яд злых мыслей, неотступно преследовавших мою душу: «Какой приговор принесет наибольшую выгоду мне и Элисии?»
Мне больно писать это, но Бальдур стоит у меня на пути, и потому я никак не могу отделаться от мыслей о том, что будет, если это муж Элисии убил графа Агапета. Конечно, я не говорю о том, чтобы выдвинуть ему ложные обвинения. И все же это возможно. Если я вынесу такой приговор, Элисия будет свободна. Однако же, если Бальдура казнят как убийцу, графом останется Эстульф, а это станет тяжелым ударом для Элисии. Сможет ли она стать счастливой с викарием? Вынесет ли она то, что в замке хозяйничает ненавистный ей отчим, хотя это право было уготовано ей? Не поползут ли обо мне дурные слухи — мол, осудил мужа, чтобы заполучить вдовушку?
Но что, если я помогу Элисии достичь ее заветной цели — отдам Эстульфа палачу, а Бальдура оставлю графом в замке? Тогда Элисия месяц проживет счастливо, а потом будет горевать всю жизнь, ибо с местью — как с большинством браков: наступает момент, когда все свершится и все хорошее уже позади. Месть имеет значение лишь до тех пор, пока мы живем в ее предвкушении. Потом же остается лишь пустота. Может ли Элисия вообще представить себе жизнь без любви? Может ли тот, что любил когда-то, представить себе жизнь без любви?
Так что же будет наилучшим для меня и Элисии? Граф Бальдур или граф Эстульф? Графиня Клэр или графиня Элисия? Или Элисия проиграет при любом исходе?
Все эти вопросы кружили в моей голове, и я не мог избавиться от них, несмотря на то что за долгие годы службы я научился управлять своими мыслями.
На время мне удалось призвать себя к порядку и подчинить мои действия по поиску истины только разуму моему и служению Господу нашему. Но в этот самый момент мне показалось, что кто-то хочет направить меня на другой путь или просто посмеяться над моими попытками воззвать к своей совести, ибо Элисия сказала:
— Я жду ребенка, Мальвин. Твоего ребенка.
В это мгновение я как раз читал седьмое и последнее письмо — вернее, черновик ответа (он был написан другим почерком и весь исчеркан). Хотя я и наделен способностью заниматься несколькими делами одновременно, потребовалось какое-то время, чтобы я осознал смысл произнесенных ею слов.
Невозможно описать, что я испытал: словно величайшее счастье и величайшая боль на земле сплелись воедино.
Я ликовал. Я улыбался. Я подхватил Элисию на руки. Я поцеловал ее, коснулся ее живота, ее волос. Я был счастлив вновь стать отцом. Но в то же время я знал, что нет в замке места более подходящего для того, чтобы рассказать об этом, чем тайная комната.
Ребенок, которого Элисия назвала моим, никогда не будет носить мое имя. На то воля Божья.
Кара
Меня привели к Элисии. Она, улыбнувшись, сказала: «Ты свободна, я говорила с Мальвином, человеком, который сейчас вершит правосудие в замке, и я убедила его в том, что тебе нужно позволить свободно перемещаться в замке. Многое свидетельствует о том, что это не ты убила моего отца, и в моих глазах ты уже теперь невиновна. Ну, что скажешь? Ты можешь обещать мне и Мальвину, что не попытаешься убежать? Не бойся говорить со мною, Мальвин рассказал мне, что ты понимаешь наш язык. Я не держу на тебя зла за то, что ты принимала участие в нападениях твоего народа на наше королевство. И уж конечно, я не буду преследовать тебя за то, что ты поклоняешься своим богам. Вы еще уверуете в Христа, в этом я уверена».
Такой она предстала предо мною. Красивая, точно дикая роза. Непослушные кудри обрамляют раскрасневшиеся щеки. В глазах сияет гордость — она освободила меня, выступила против всех судий, всех мужчин, всего мира.
Я не ответила ей. И не потому, что боялась. Я разучилась говорить. Народ этого края и без того считал меня дикаркой, потому что я жила в лесу и в степи, а не в замке. Но там я говорила и смеялась. Только поселившись среди тех, кто мнит себя культурными, я стала молчать, словно дикий зверь, тот самый зверь, которого они видели во мне. Видели во мне и обращались со мной соответственно. Прошла уже неделя с моего так называемого освобождения, а я не могла произнести и слова. Я говорила лишь жестами, на языке моего детства. И я писала, выцарапывая слова на стенах моей темницы. Женщина, которая полагает, что освободила меня, предложила мне другие покои. Там было светлее, уютно потрескивали дрова в камине. Но я отказалась. Окна той комнаты вели не на восток, и там я оставалась бы без написанных мною слов. Уже половина стены покрыта ими.
Сказать мне, что я свободна, но лишь в пределах замка, это все равно что сказать птице, будто она свободна в клетке. Я не там, где должна быть. Я не могу пройти и шага без того, чтобы на меня не оглянулись. Кто-то боится меня, кому-то я отвратительна. Меня называют ведьмой, колдуньей, дикаркой. Кто-то отшатывается, увидев меня, кто-то бежит за мною. Кто-то начинает шептаться с соседом, прикрыв рот рукой, кто-то же говорит громко, так, чтобы я слышала, как именно они называют меня.
Мальвин запретил им плевать на меня и оскорблять меня, поэтому они находят другие способы выказать мне свое отношение. Так как мне нет дела до того, что местный люд думает обо мне, их поведение не может ни задеть, ни запугать меня, только разозлить.
Но в этом замке есть четыре женщины, которых я действительно боюсь.
Одна женщина — та самая немая старуха, которая так отличается от всех остальных жильцов этой крепости. Она не может излить свою ненависть в слова и потому никогда не подходит ко мне. Она словно предугадывает, где именно я появлюсь, и всегда оказывается там же. Держась в отдалении, выглядывает ли она из окна дальней комнаты, стоит ли на стене или в другом конце длинного коридора, старуха неусыпно следит за мной. И во взгляде у нее нечто такое, отчего и ад покрылся бы корочкой льда.
Три рыжих женщины встревоженно переглядываются всякий раз, как видят меня. Я чувствую исходящую от них ненависть. Викарий объяснил мне, что Фернгильда, Фрида и Франка были обручены с мужчинами, которые погибли в боях с венграми. Эти мужчины были сыновьями немой служанки.
Потому ли они так страшат меня? С тех пор, как я узнала об этом, у меня сердце сжимается от боли всякий раз, как я вижу их. Эти женщины всегда ходят вместе, связанные общим горем.
Я думаю о том, мог ли мой муж убить их женихов. Лехель так хорошо управляется с мечом… Или мои братья. Верхом на своих закованных в броню жеребцах они отправили на тот свет уже немало людей. Хотя я и знаю, что вряд ли это так, меня печалит мысль о том, что все же это возможно.
Но боюсь я этих рыжих женщин не потому, что мое племя причастно к смерти их возлюбленных. Все дело в их песнях.
Кто забрал жизнь
у прислужника смерти?
Дай же ответ.
Целыми днями я смотрю из окна на восток, туда, где живут наши боги. Свет зимы рассеял берега зримого, нет ни горизонта, ни границ, и иногда я могу притвориться, будто совсем недалеко от дома. На зубцы крепостной стены ложится изморозь, дыхание серым облачком срывается с губ, а я думаю о том, что сейчас делают мои дети. Жольт любит ловить рыбу, насаживая ее на копье, а потом потрошить ее и засаливать на зиму. Левди перестраивает хижину и стойла для лошадей, готовясь к морозам. Эмеше еще слишком маленькая, она может лишь любоваться полетом птиц, словно считывая письмена, которые рисуют на небе их крылья. Когда становилось холодно, мы грелись у огня, и я рассказывала Лехелю и детям истории. Но этой зимой я осталась одна со всеми своими рассказами.
Я встречала его по многу раз в день. Он смотрел на меня.
Вначале он удивился, увидев, что я свободно хожу по замку. А потом…
Потом — он не знал, нужно ли ему что-то сказать.
Потом — думал, что он может сказать.
Потом — смутился.
Потом — улыбнулся.
Вчера он подошел ко мне и сказал:
— Я хочу попросить у тебя прощения за то, что случилось тогда.
Я ему верю. Он говорит правду, но абсолютно ничего не понимает. Он допустил две ошибки в одном простом предложении. Как он мог даже предположить, что такое можно простить? Будто он всего лишь случайно наступил мне на ногу или испачкал мне платье! И как он мог говорить, что это случилось «тогда»! Он должен знать или хотя бы предполагать, что то, что он сотворил со мною, происходит каждый день, потому что я каждый день вспоминаю об этом.
И я в мыслях своих кричала на этого мужчину. Не «тогда», а «сейчас», сейчас это произошло, сегодня! Но он не слышал этих криков. Он слышал только собственные слова.
— Как думаешь, мы могли бы отправиться на конную прогулку? Я покажу тебе лес и реку. Берега вскоре затянет корка льда, тебе понравится. Я знаю, ты не говоришь на моем языке. Но ты все равно понимаешь, что я хочу тебе сказать, правда?
Он хотел, чтобы я позабыла о том, что он сделал. Да, я действительно не говорила на его языке. И я понимала, что он хочет мне сказать. И чувствовала, как он вожделеет меня.
Я подняла и опустила ресницы, и ему это понравилось. Он подумал, что так я говорю ему: «Да». Я не стала его разубеждать.
— Ты не пожалеешь об этом. Кстати, меня зовут Бальдур. Бальдур, понимаешь? Это мое имя. А тебя? Как зовут тебя? Я Бальдур. Баль-дур.
Пока он говорил со мной, словно с птицей, которую учат словам, я думала о том, что мне делать с этим нежданным поворотом судьбы. Решения богов всегда остаются загадкой для людей.
Пока Бальдур стремился завоевать мое расположение, его жена Элисия пыталась навязаться мне в подруги. Но, мне кажется, это лишь совпадение. Не думаю, что Бальдур рассказал Элисии о том, что изнасиловал меня. Ее интерес ко мне не основывался на сочувствии или желании поддержать меня. Напротив, мне казалось, что ей самой нужны внимание и поддержка. Не то чтобы она была несчастна. Скорее немного одинока. Но почему она хотела, чтобы рядом была именно я? Это странно, ведь у Элисии, как и у ее матери, больше всего причин ненавидеть меня. Я не сталкиваюсь с графиней, потому не знаю, что она думает обо мне. Мне известно лишь, что она добивается моей казни.
Элисии нет дела даже до того, что ее отец собирался переспать со мной, прямо там, в купальне. Она не держит зла за это ни на него, ни на меня, а я не могу этого понять.
Я вот всегда старалась не обращать внимания на любовниц моего отца. Их было четверо, и тех, кто любил его, я ненавидела, ведь они были соперницами моей матери, тех же, кто испытывал к нему отвращение, я презирала, хотя и должна была бы чувствовать к ним сострадание. Но они сами избрали эту судьбу. Отец спал с ними, когда хотел, он брал их против их воли, он оскорблял их, бил, насиловал, потому что чувствовал их ненависть. Я презирала их за то, что ни у одной из них не хватило мужества отомстить ему. Они могли бы вспороть ему живот, выколоть глаз, отрезать член, подмешать ядовитых грибов в еду, придумать еще что-то, чтобы не выносить больше это унижение.
Элисия — странная женщина. Она видит что-то во мне, но я и сама не знаю, что именно. Сегодня она сказала:
— Я ношу дитя под сердцем. И этому ребенку нужна будет кормилица. Я хочу попросить тебя стать кормилицей моего ребенка. Будь ему второй матерью.
Во имя богов, подумала я. Что с этой женщиной? Почему среди всех в замке она выбирает именно меня? У нее есть три рыжеволосые полногрудые служанки, у нее есть деньги, она может заполучить любую кормилицу, даже если ни одна женщина в замке ей не нравится.
Я покачала головой, отказываясь. Для меня предложение Элисии было неприемлемым. Как я могу стать кормилицей этого ребенка, отец которого обесчестил меня, а теперь домогается моей любви! Как я могу стать кормилицей чужого ребенка, если мои дети растут без матери, думая, что я мертва!
— Не смущайся, прошу тебя. Это же совершенно естественная просьба.
Мне хотелось кричать от ярости. Моя судьба и так уже решена окончательно и бесповоротно. Как я могла бы…
Но мой рот будто сам собою открылся, и я услышала:
— Да, я стану кормилицей твоего ребенка.
Что подвигло меня на это? Расположение духа? Воля богов? Или что-то темное, злое?
Бильгильдис
Опухоль твердеет, она становится могильным камнем на моем теле. Сегодня Раймунд посмотрел на меня и сказал: «Что это у тебя на губе?» Я отерла рот и увидела, что моя рука сделалась влажной, липкой и алой. Я жестами дала старику понять: «Ни слова об этом, никому!» И он расплакался. Я думала, он обрадуется, что мне настал конец, думала, он даже молил Господа о том, чтобы Всевышний избавил его от меня, поместил эту опухоль ко мне в живот, учитывая, как я обращаюсь с ним… Но нет, что он делает, мой старик?! Он рыдает! Я еще никогда не видела, чтобы он так убивался, даже после смерти наших сыновей. Час от часу не легче…
За последние дни я поняла, что интриги требуют больших затрат времени, если хочешь, чтобы план сработал. Графиня каждый день пишет Оренделю по письму. Конечно, я не отдаю мальчишке эти письма, как и раньше, но ответ-то мне приходится писать. Само собой разумеется, графиня ждет, что сыночек тоже что-то ей напишет. И вот, почти каждый вечер — а я устаю как собака! — мне приходится после работы сидеть в моей комнате и писать высокопарную чушь, которая, как мне кажется, похожа на болтовню Оренделя и может понравиться графине. Она и нравится. Сейчас Клэр не заметит даже очевидную ложь. Она ослеплена своим счастьем и любовью, любовью к ребенку в ее чреве, любовью к Оренделю, любовью к Эстульфу! Любовью, любовью, любовью! Меня тошнит, когда я смотрю на все это. Кажется, будто графиня утром, днем и вечером принимает зелье для счастья, как другие люди могут выпить слабительную настойку. Когда она не занята болтовней со своим еще не рожденным ребенком, она обнимает и целует Эстульфа, пишет письма, размахивает факелом или — это самое отвратительное — задает мне вопросы об Оренделе. «Бильгильдис, что он говорил обо мне? Напиши мне. Бильгильдис, о чем он спрашивает тебя? Бильгильдис, как он относится к тому, что я так быстро вновь вышла замуж? Бильгильдис, он не сердится на нас? Бильгильдис, ему понравилась накидка, которую я ему подарила? Бильгильдис, чего еще ему хочется? Какое желание моего сыночка я могу исполнить? Бильгильдис… Бильгильдис… Бильгильдис… Напиши мне, Бильгильдис».
И Бильгильдис приходится находить на все ответ, ведь графиня не должна знать, что Орендель с каждым днем ненавидит ее все больше. Нет, сейчас еще не настало время моей мести, графине еще рано догадываться об этом. И поэтому приходится выдумывать ответы на бесчисленные вопросы, а это невероятно сложно. Я придумываю столько историй — наверное, больше, чем насочинял в своей жизни Орендель, — что приходится следить за тем, чтобы они не противоречили друг другу. А все из-за того, что графиня хранит записанные мной ответы, читает и перечитывает и иногда, через пару дней, задает мне один и тот же вопрос во второй раз. Я не думаю, что она подозревает меня в чем-то. Она просто беспокоится о сыне. Клэр нужны мои постоянные заверения в том, что она все делает правильно. Как же мне это надоело! В те редкие моменты, когда все это становится мне уже не по силам, к примеру, когда приходится придумывать письмо, валясь с ног от усталости, я спрашиваю себя: «Не тратишь ли ты время зря? Может быть, стоит отказаться от мести и посвятить последние месяцы своей жизни чему-то другому? Может быть, стоит пойти к графине, рассказать ей, что с тобой происходит, и попросить ее избавить тебя от работы и даровать тебе свободу? Может быть, стоит воплотить в жизнь свои былые мечты и сделать то, чего тебе так хотелось раньше, — весной спуститься вниз по Рейну на пароме, вернуться в ту деревню, где ты выросла, найти могилы своих сыновей и остаться там, дожидаясь смерти?» И какой-то части меня хочется ответить «Да». Это омерзительно, но какой-то части моей души хочется всего этого — волн Рейна, ароматов весны, воспоминаний детства, светлой печали и покоя. Хочется жить так, как живут герои сказочек, которые выдумывает Орендель. И вот, слабый голосок во мне нашептывает эти мечты, когда я засыпаю. Но утром уже другой голос, грубый и громкий, кричит во мне: «Нет!»
Нет, это не пустая трата времени. Каждый час стоит того, чтобы жертвовать им. Все эти годы, долгие годы не могут быть прожиты напрасно. Я сумею одержать пусть и последнюю, но победу. И когда я думаю об этом, нежный голосок в моей душе замолкает.
Однако же становится все труднее и труднее. Неделю назад графиня сказала мне:
— Бильгильдис, я хочу навестить Оренделя. Я понимаю, что нельзя привозить его в замок, пока викарий остается здесь. Но непохоже, чтобы он в ближайшем будущем собирался завершить свое пребывание здесь, а я больше не могу ждать. Я придумаю какую-нибудь уловку, например скажу, что я хочу посетить монастырь, а вместо этого мы с тобой поедем на хутор, где живет Орендель. Викарий ничего не заподозрит. Приготовь все необходимое, Бильгильдис, мы выезжаем завтра.
Что же мне было делать?
Раймунд, присутствовавший при этом разговоре, сказал мне потом:
— Время пришло, мы больше не можем ждать. Я утоплю его в Рейне, чтобы казалось, будто мальчишка отправился поплавать и утонул.
Я покачала головой.
— Что? Мне легко будет справиться с ним, с этим бардом. Бильгильдис, не будь дурой, на тебя это непохоже. Либо голова Оренделя, либо наша. Так и есть, и ты это знаешь.
Да, я это знала. Да, да, да. Проклятье. Но мой план, мой прекрасный план! Утопить Оренделя, какое расточительство, какое унижение после всех этих лет труда! Но воплотить мой план в жизнь незамедлительно не представляется возможным. Орендель еще не готов. Да, он настроен против своей матери, но еще не настолько, как мне хотелось бы.
Нет. Нет-нет. Не утопить.
— Бильгильдис, я все равно убью его, нравится это тебе или нет.
Ох, горе тебе, старик, мой плаксивый Лазарь.
— Что ты предлагаешь?
Яд.
— Ты хочешь отравить мальчишку? Тоже неплохо.
Не мальчишку, а графиню, и не насмерть, а так, чтобы она не могла встать с кровати.
Именно так я и сделала. Подмешала ей мелко порубленные листья болотной калужницы в салат из капусты, по вкусу они ничем не отличаются. Ночью графиня пожаловалась на тошноту, утром ее рвало, днем начался понос, а так как я подбавила ей еще яда, у нее разболелась голова.
Эстульф разволновался. Он сразу же предположил, что это могло быть отравление, но я переубедила его. «Это все волнения, — написала я. — Графиня сама навлекла на себя болезнь своей тоской по Оренделю». Чтобы успокоить его, я пообещала ему в дальнейшем пробовать всю пищу, которую приносят графине.
— Моя жена должна радоваться тому, что ты рядом, Бильгильдис, — сказал он.
Графиня хворала шесть дней. Я ухаживала за ней, точно заботливая мамочка, вытирала ее рвоту, ее пот, ее сопли, ее дерьмо. Клэр вставала с лежанки всего раз в день — с наступлением темноты она отправлялась на стену, чтобы помахать факелом. Мне приходилось вести ее под руку, «бедняжечка» совсем ослабела.
Но ее состояние улучшилось — чего и следовало ожидать. Графиня вновь принялась болтать о том, что хочет увидеть Оренделя. Этого тоже следовало ожидать. Поэтому вот уже несколько дней я давала графине отвар красавки, подмешивая его в овощной бульон. Самое лучшее в красавке то, что она почти не действует на тело, только на душу, а если болезнь затрагивает только разум, никто не думает об отравлении. Графиня будет страдать от беспокойства и плаксивости, а это признаки женского недомогания. К сожалению, нужно какое-то время, чтобы красавка подействовала, и давать ядовитый отвар нужно постоянно, чтобы он подействовал. Мой план состоял в том, что Эстульф, заботясь о беременной жене, запретит ей покидать замок. Но успеет ли яд подействовать? Нельзя торопиться, нужно быть очень осторожной, нужно правильно рассчитать дозу. Немного больше яда, чем нужно, и состояние графини изменится слишком резко, она впадет в безумие, и Эстульф может вновь подумать об отравлении. И кого ему тогда винить, как не меня, ведь это я якобы пробовала все принесенные графине блюда. Но есть ли у меня выбор? Я уже ничего не знаю. В глазах Раймунда вновь горит жажда убийства, а его руки трясутся от желания сомкнуться на горле мальчишки. Как только графиня соберется покинуть замок, Раймунд убьет Оренделя, и даже я не смогу удержать его. Он цепляется за свое будущее свободного человека, пускай ему и осталось от силы два-три года. Чтобы заполучить свободу, Раймунд готов был бы убить кого-то даже за день до собственной смерти.
Все сейчас висит на волоске. Я еще могу действовать, но кто знает, сколько времени мне осталось. Я должна принять решение, вероятно, самое тяжелое решение в моей жизни. Либо я…
Мальвин
Я не стучал. Крепостным не позволяется запирать дверь, потому мне достаточно было сделать пару шагов, чтобы очутиться в центре душной, скудно обставленной комнатки. Раймунду и Бильгильдис вообще повезло, что им досталась собственная комната, пусть и такая маленькая. Эту привилегию можно объяснить лишь особым расположением к ним их господ. Старуха сидела над какими-то бумагами, и мне стало любопытно, зачем служанке что-то записывать. А поскольку Бильгильдис была крепостной, я мог задать этот вопрос не только себе, но и ей.
— Что ты там делаешь? Что это такое? Покажи мне.
Черта с два. Вначале она уставилась на меня, словно лань на волка, но уже через мгновение в ее глазах блеснула ярость.
— Ты не услышала, что я сказал? Я хочу посмотреть эти бумаги.
Я протянул руку, но Бильгильдис закрыла бумаги собственным телом, а когда я не отступился, она сунула их себе под одежду. Что ж, я тоже всегда ношу свои записи при себе…
— Это тебе не поможет. Сейчас ты отправишься со мной к Элисии, и тогда мы посмотрим, хватит ли у тебя дерзости ослушаться и ее приказа. Если так, то я прикажу ее служанкам обыскать тебя.
Бильгильдис, подумав немного, взяла перо и нацарапала пару строк на чистом листе бумаги.
«Я пишу письмо от имени моей госпожи, графини. Сейчас она слишком слаба, чтобы писать самой, и потому попросила меня заняться ее личными письмами, в том числе и письмом отцу настоятелю монастыря Св. Трудперта. Он ее исповедник».
Я должен был решить, верить мне ей или нет. Если слова этой немой служанки были правдой, то я пытался заполучить личные письма графини, что можно посчитать оскорблением, а если речь идет о письменной исповеди, то и святотатством. Конечно же, я мог бы сразу же спросить у графини, не лжет ли мне Бильгильдис, но Клэр сейчас была тяжело больна, и мне не хотелось тревожить ее. К тому же я пришел к этой служанке не для того, чтобы говорить с ней о каких-то писульках. Потому я пришел к выводу, что мало что выиграю, но много чем рискую, если заберу эти письма.
— Ну хорошо. Отложи бумаги и иди за мной.
Первую часть приказа она выполнила, а от второй попыталась уклониться. Казалось, Бильгильдис чувствует опасность, которой я мог ее подвергнуть. Она принялась издавать какие-то звуки, зная наверняка, сколь пугающее и даже отталкивающее впечатление они производят. Но я подумал: «Нет, старуха, тебе от меня так просто не избавиться!» Впервые за несколько недель я вновь занялся тем делом, ради которого я приехал в замок Агапидов. Я искал убийцу Агапета и шел по следу, который привел меня к Бильгильдис.
— Ты пойдешь со мной, или я прикажу тебя выпороть, — решительно заявил я.
Она сдалась. Мы направились в покои Эстульфа, ранее принадлежавшие Агапету. Я намеренно выбрал время, когда Эстульфа тут не было.
Служанка вопросительно посмотрела на меня.
— Где-то здесь должен быть потайной проход. Ты прожила в замке половину своей жизни и наверняка знаешь, где он находится. Покажи его мне.
Бильгильдис пожала плечами.
— Как хочешь. — Я взял ее за руку и потянул ее к сундуку. — Может быть, теперь ты припоминаешь? Нет?
Я открыл проход и заставил служанку спуститься передо мной. Взяв факелы, мы прошли по узкому коридору и оказались в потайной комнате.
— Значит, ты раньше никогда не бывала здесь?
Бильгильдис и дальше делала вид, будто ничего не понимает.
Я достал письма, которые нашел здесь ранее.
— Но эти бумаги тебе знакомы, не так ли?
Она бросила на письма мимолетный взгляд и покачала головой.
— Лгунья! — завопил я, ударив кулаком по столу. — Еще одна такая ложь, и я брошу тебя в яму! Ты не выйдешь оттуда, пока я не узнаю правду! Тебе ясно?!
На самом деле я вовсе не вышел из себя. Я прекрасно осознавал, что я делаю. Люди привыкли к тому, что я всегда веду себя спокойно, и я пользуюсь этим. Когда я начинаю угрожать им, причем в таком тоне, который им еще не доводилось слышать от меня, они понимают, что дело обстоит для них не наилучшим образом. Подобное поведение творит чудеса — допрашиваемые настолько пугаются, что рассказывают мне все, о чем в иной ситуации умолчали бы.
— Кроме Элисии, Эстульфа и графини ты единственная жительница этого замка, которая умеет читать и писать. Письма адресованы графу Агапету, но он не умел читать! К кому бы еще он обратился, как не к тебе? К Эстульфу, быть может? Не станешь же ты убеждать меня, что Агапет проводил ночи на этом ложе любви вместе с Эстульфом? Или с графиней? Зачем скрываться с супругой в зловонной потайной комнате, если есть свои просторные покои? Про Элисию и речи быть не может. Значит, Агапет спал здесь с тобой и ни с кем еще. Ты будешь это отрицать? Подумай о том, что я только что сказал о лжи и темной яме.
Бильгильдис посмотрела на меня, затем на письма, подумала немного и отважилась открыть мне правду.
Она кивнула.
— Хорошо. Правильное решение. Ты знаешь, что я держу в своих руках? Это черновик письма, адресованного герцогу Швабии, ответ на одно из полученных писем. Пара слов здесь вычеркнуты. Наверное, граф Агапет что-то диктовал тебе, а потом ему не понравилось звучание фразы. Мне достаточно сравнить эти строки с посланием, которое ты сегодня писала от имени своей госпожи. Полагаю, почерк будет тот же.
Бильгильдис кивнула.
Что до содержания писем, тут мне спрашивать Бильгильдис было не о чем. Они говорили сами за себя. Пять из шести писем были от герцога. Бурхард добивался расположения графа Агапета, пытаясь заручиться его поддержкой на тот случай, если начнутся распри с новым королем, Конрадом. Герцог собирался провести следующим летом военную кампанию в Венгрии — более масштабную, чем все предыдущие. Он рассчитывал на свое самое мощное графство и надеялся объединить войско Агапета с армией баварского герцога. Но король не согласился на этот военный поход, он хотел провести переговоры с Венгрией. Об этом, в сущности, знали все, и шестое письмо лишь подтвердило мои предположения. В нем король Конрад пытался переманить Агапета на свою сторону. В качестве подтверждения своего расположения король прислал графу кое-какие подарки…
Но было во всем этом еще кое-что очень интересное. Письма герцога вполне можно назвать «заговорщическими» — именно поэтому граф Агапет и хранил их в своей тайной комнате. Конечно, герцог избегал прямого подтверждения своих намерений, но заручаться поддержкой графа на тот случай, если начнутся «распри» с королем… Мне показалось, что герцог хочет отделить Швабию от Восточно-Франкского королевства, как Бургундия отделилась от Западно-Франкского. Как бы то ни было, жизнь Агапета, его отношение к войне и сражениям, его холодность в разговоре с послом короля, а главное, черновик ответа герцогу позволяли прийти к выводу, что Агапет собирался принять сторону Бурхарда и в следующем году пойти войной на Венгрию. Этот военный поход был бы очень дорогим и потребовал бы значительных затрат со стороны графства. От Эстульфа это утаить не удалось бы, ведь он как управляющий должен знать обо всех доходах и расходах.
— Агапет ответил королю? Он продиктовал тебе письмо его величеству Конраду? — спросил я.
Бильгильдис покачала головой.
Значит, король оставался в неведении о том, поддержит его Агапет или нет. Но что, если Эстульф донес королю о том, что происходит? Что, если он написал Конраду письмо, изложив свои мысли по поводу намерений Агапета? Что, если король поручил ему… Но разве могу я даже помыслить такое? Его величество приказывает кастеляну замка убить графа? Без помощи самого богатого графа Швабия не начнет военный поход против Венгрии, а без Швабии и Бавария не ввяжется в войну. Король настоял бы на своем, королевская власть укрепилась бы, а власть знати ослабела бы. Возможно, у этого убийства политическая причина?
Все эти вопросы и предположения важны не только в связи с убийством, их значение намного больше. Если моя догадка верна, то я окажусь в центре политической интриги, а что там делать такому мелкому человечку, как я? Я словно безоружный мальчишка в лесу, полном хищников.
Но я еще не завершил допрос Бильгильдис. В отношении писем ей нельзя было предъявить какие-либо обвинения. Очевидно, граф Агапет недостаточно доверял Эстульфу и потому не хотел посвящать его в свою переписку. Значит, кто-то другой должен был читать ему письма герцога и писать ответы. Ладно. Но почему он поручил эту щекотливую задачу именно Бильгильдис? Конечно, она умела писать и служила ему много лет. Но ведь и графиня тоже. А если он не доверял своей супруге, то зачем посвящать в эту тайну ее служанку, которая непременно рассказала бы все своей хозяйке? Агапет мог бы обратиться к Элисии, ведь у них были хорошие отношения, да и Элисия уже знала о его тайной комнате, пускай и бывала там только в раннем детстве. Все это казалось бы противоречивым, если полагать, что Бильгильдис — просто крепостная служанка, на которую Агапет все эти годы не обращал особого внимания.
Но вот если предположить, что Бильгильдис не только письма писала…
— Вы были любовниками.
Бильгильдис резко повернулась ко мне, ее глаза злобно блеснули.
Я пододвинул ей лист бумаги, чернила и перо.
— Запиши все, что ты хочешь сообщить мне в связи с этим, — сказал я.
Бильгильдис
Агапет был моим «любовником»! «Любовником»! Приезжает какая-то сволочь из Констанца, присыпанный пылью сухарь, и заявляет мне такое в лицо, да еще и таким высокомерным тоном. Да что он понимает в моей жизни?! «Любовником»! Это все равно что сказать, что пение флейты — это звук, который создается при помощи рта и рук. Ах, как я хотела бы запихнуть ему эти проклятые письма в глотку! Или, еще лучше, запихнуть ему в глотку его же отрезанный член, чтобы этот ублюдок заткнулся и перестал оскорблять меня! Но у меня ничего бы не вышло. У меня никогда не получалось защитить себя. По крайней мере вот так. И я понимаю Раймунда, чья месть хозяевам заключается в том, что он ворует у господ деньги. Раймунд даже не задумывается об этом, он полагает, что ворует, чтобы лучше жить. Но на самом деле то, что он делает, это месть. Моя месть — другая, она болезненнее. Заметнее.
Все началось двадцать два года назад, да, ровно двадцать два года назад, на Рождество восемьсот девяностого года. Тогда я не была такой иссушенной старухой, как сейчас. Конечно, по красоте я не могла сравниться с графиней, и все же я была милой. До тех пор, пока я не открывала рот, я могла потягаться с любой девчонкой в замке. Многие мужчины заглядывались на меня, и у меня было бы много возможностей закатиться с кем-то на сеновал, если бы… если бы у меня был язык. То, что я замужем, смущало моих ухажеров намного меньше, чем мой рот.
Тем вечером, на Рождество, графиня рано отправилась спать. Я уложила ее в постель, и Клэр предложила мне вернуться на праздник, чтобы составить компанию моему мужу Раймунду.
Граф, как и обычно, засиделся допоздна. Он разговорился с нами, простыми слугами, — впрочем, что ему еще оставалось, под конец вечера с ним остались только мы с Раймундом, все остальные уже приспустили флаги, слишком уж много на празднике было вина и пива. Кто-то удалился в свои покои, кто-то заснул прямо на месте, уткнувшись лицом в тарелку. В зале царил дружный храп, а мы переглядывались. Граф и я. Раймунд и я. Граф и Раймунд. В конце концов Раймунд попрощался с нами и удалился.
В тот вечер — но только в тот вечер — можно было бы сказать, что мы были любовниками. Все, что случилось потом, было намного большим. Спустя несколько дней граф позвал меня к себе во второй раз, и началось то, что я назвала «музыкой». В прикосновениях Агапета не было и тени низкой похоти. Я дарила ему тепло, на которое была неспособна его жена. Он дарил мне страсть, на которую был неспособен Раймунд. Это была любовь. Во всех смыслах. Я знаю, что так обычно говорят поэты, и сама не могу поверить в то, что из-под моего пера выходит такая высокопарная чушь, но то и правда была любовь. Мы говорили друг с другом на языке любви, иначе мы и не могли бы понять друг друга. Я не могла говорить, но могла писать, он же не мог читать. Когда Агапет говорил что-то, я кивала или качала головой, вот и все. Я не могла иначе ответить на его слова. Но в нашей любви слова были нам не нужны. Достаточно было указать, взглянуть, улыбнуться, склонить голову к плечу, прислушаться, залюбоваться, поцеловать, потянуться, рассмеяться, расплакаться, дотронуться губами до кончиков пальцев, погладить по плечу, запустить пальцы в шевелюру, напрячь мышцы, подставить сосок, пересчитать его шрамы, знать, откуда эти шрамы появились… и многое, многое другое. То были движения, порождавшие музыку. То были, черт побери, мы. И мы были такими. Двадцать два года тому назад.
Вскоре мы стали проводить ночи не в его покоях, а в тайной комнате. Мы не боялись, что нас застукает графиня, — она никогда не приходила к Агапету по своей воле. Мы не боялись, что Раймунд, убирая в комнате, обнаружит в кровати своего господина следы моего пребывания — мой муж знал о нас, ему было все равно. Раймунд никогда не был ревнивцем, это у него не в крови. Кроме того, он был доволен, ведь Агапет время от времени давал ему пару монет — за его терпение.
Нет, Агапет показал мне свою тайную комнату, и я тут же обставила все там по своему вкусу, потому что нам хотелось иметь свой уголок в замке. Уголок, который принадлежал бы только нам двоим. Никто больше не мог забраться в это место, никто не знал о нем, кроме нас и Раймунда, но мой муж никогда не заходил туда. Для меня эта комната была крепостью в крепости, моей крепостью, которую я делила с моим мужчиной, Агапетом. Эта комната была пространством моего воображения. И я любила ее. Двадцать два года.
И в то же время я ее ненавидела. Эта комната была такой же, как и все в моей жизни, — маленькой, низкой, душной, бедной, тайной. Да, я была подругой Агапета, его возлюбленной, но я оставалась его подругой только в ночи, во тьме. Я была третьей в их браке. Была сокрытой. Была тенью. Безмолвной тенью. Вновь я была приговорена к молчанию. Нема как человек, нема как женщина, нема как возлюбленная. Мужчины вырезали мой язык и запихнули его мне в глотку. Агапет взял с меня слово, что я никогда и никому не расскажу о том, что связывает нас.
Виновной в моей немоте оказалась Клэр. Целых два раза. В первый раз уже у алтаря отказалась выйти за уготованного ей судьбою мужчину, Агапета, и это привело к нападению на ее земли, жертвой которого я стала. Во второй раз я узнала, что открытое признание прелюбодеяния и последующее за ним расторжение брака означало бы, что Агапет лишится большей части своих земель, тех самых, которые достались Клэр в качестве приданого.
И вот, даже в моей маленькой крепости я была пленницей моей госпожи. Как и слова, которые я хотела бы сказать, оставались пленниками моей головы и сердца. Бесчисленное количество раз мне хотелось даровать этим словам свободу, швырнуть их графине в лицо. Чтобы и она, и весь мир узнали, кто я на самом деле! Женщина Агапета! Иногда мне казалось, что я задыхаюсь от этих слов, так много их становилось. Мне хотелось кричать, но я сдерживалась из любви к Агапету. И даже если бы мне пришлось задохнуться тысячу раз, я не открыла бы нашу тайну. Я ни за что не навредила бы моему любимому! Да, его люди когда-то лишили меня дара речи, но Агапет наделял меня другим даром, даром любви. Двадцать два года.
Я стала матерью. Двадцать один год назад родился Гаральд, девятнадцать лет назад — Герберт, и восемнадцать — Гарет. Это были сыновья Агапета, а не Раймунда, и мой муж знал об этом. Он трижды получил от истинного отца моих детей по три золотых, признал мальчиков своими сыновьями и был доволен. А графиня ничего так и не заметила. Хоть один раз, только один раз мне хотелось бы взглянуть на мир с высоты ее башни из слоновой кости. Но мне это не дано. Легковерие — это черта, которую можно обрести в юности. Или никогда.
Для Клэр жизнь всегда была простой, даже когда на самом деле она была сложной.
«Мне нужно выйти замуж за какого-то мужчину? — Ну хорошо, но у алтаря я откажусь, что тут такого».
«Моей верной служанке отрезали язык и заставили его съесть? — Ах, какой ужас».
«Моего сына заставляют взять в руки меч? — Я подстрою его похищение».
«Моя дочь меня знать не хочет? — Такова воля Господа».
«Я терпеть не могу своего мужа? — Такова жизнь».
«Моего мужа убили? — Бывает».
«Тьфу-тьфу-тьфу, трижды плюну через левое плечо, и все уладится».
Я не хочу сказать, что она никогда не заботилась о других, но она очень странно подходила к вопросу о том, кому дарить свою благосклонность, а кому нет. Клэр могла не обратить внимания на крики о помощи, если ей не хотелось помогать. Большую часть времени она занималась только собой. Когда я потеряла язык, она сидела у моей лежанки и держала меня за ручку. Но мысль о том, что можно даровать мне свободу, ей даже в голову не пришла. Она приковала меня к себе тяжкими цепями и спрятала ключ. Своего сына она спасла от войны, а трое моих мальчиков пали на поле боя. Сколько же раз я проклинала ее. Клэр. Она была моей судьбою. И она останется моей судьбою до того последнего часа, когда все переменится.
Я любила лишь раз в жизни. Лишь одного мужчину, Агапета. У меня не было выбора. Что это за жизнь, если у тебя нет выбора?! Я крепостная, и потому у меня всего лишь один-единственный выбор — повиноваться тому, кому я принадлежу. Я женщина, и у меня всего лишь один-единственный выбор — любить того, кого я люблю. Служить графине и любить графа — как же это было тяжело. Но кто спрашивал меня об этом?!
Викарию многое удалось выведать. Как он узнал о тайной комнате? Кто кроме Агапета и меня знал о ней? Только Элисия. Ей было четыре года, когда она случайно увидела, как ее отец спускается в тайный ход. Агапет тогда страшно разозлился и сильно выпорол девчонку. Я думала, она позабыла об этом.
Мне ничего не оставалось, как кое в чем признаться викарию. Я рассказала ему о себе и об Агапете. Написала, что мы были любовниками, пока я была молода. Потом же, состарившись, я стала лишь его писарем. О том, что мы до самого конца были парой и еще в ночь перед последним походом Агапета на войну спали на одной лежанке, викарий не подозревает. Мысли он читать не умеет, а что до записей, то я делаю их только ночью, а днем прячу бумагу в тайник в стене, туда, где Раймунд хранит свое золото. По крайней мере, я могу рассчитывать на молчание этого викария, так как птичка моя Элисия принесла мне на хвостике интереснейшую весть. Девчонка посвятила меня в их тайну… Прежде чем разойтись, мы с викарием обменялись многозначительным взглядом: «Я знаю то, о чем не должны узнать другие, и ты это знаешь». Так заключаются сделки в чертогах ада.
Элисия
Ко мне подбежала Бильгильдис. Вид у нее был неуверенный, она переступала с ноги на ногу, нервно перебирала пальцами подол платья, будто собиралась признаться мне в чем-то. Глядя на нее, я удивленно подумала: «В чем может повиниться Бильгильдис? Может быть, она потеряла мою расческу?» Конечно, это преувеличение. С тех пор как она прислала мне этого Норберта, я знаю, что и Бильгильдис не без греха. Но это не имело значения, ведь она не сама согрешила, а только хотела ввергнуть в грех меня. Грешны мысли ее, но не деяния. Я так развеселилась еще и потому, что в тот вечер мое настроение было как никогда хорошим. Я чувствовала, как растет во мне мое дитя, Мальвин обрадовался, узнав о ребенке, след, связанный с письмами, привел меня к Эстульфу.
Все это радовало меня, а об остальном позаботилась погода. До Рождества оставался один день, ослепительное солнце сияло в небесах, украшенных белыми облачками, и на какое-то время мне показалось, что можно позабыть обо всех проблемах. Напившись горячего травяного чаю, я отправилась на прогулку по винограднику. Снег уютно похрустывал под моими подошвами.
— Почему ты увязалась за мной, Бильгильдис? Честно говоря, вид у тебя такой, будто тебе нужно к исповеднику, а не ко мне.
Она передала мне листик, на котором было написано: «Я случайно услышала, как Эстульф сказал кому-то, что Элисию непременно нужно обезвредить». Недолго же продержалось мое хорошее настроение. Я поверила Бильгильдис. Она не солгала мне, рассказав о беременности моей матери, и к тому же подслушанный ею разговор полностью подтверждал мои подозрения. Попытка убийства несколько недель назад не удалась. Я проснулась и отогнала подкрадывавшегося ко мне человека. Теперь же Эстульф решил это исправить.
— Ах, что было бы, не будь тебя рядом, Бильгильдис. Я знаю, тебе нелегко, ведь ты всегда была верной служанкой моей матери. Я благодарна тебе, ведь теперь мы знаем, что Эстульф — чудовище, волк в овечьей шкуре. Мама тоже поймет это, когда мы представим ей доказательства. Вопрос только в том, говорил ли Эстульф с наемным убийцей или же с человеком, которого он посвятил в свои собственные намерения. Впрочем, не нам это выяснять. Я немедленно пойду к Мальвину, то есть… к викарию, я хотела сказать.
Но Бильгильдис меня удержала. Жестами она дала мне понять, что ее обвинения не имеют никакой силы, ведь она крепостная, а свидетельства крепостных не рассматриваются в суде. Невзирая на то, что удалось узнать Бильгильдис, любой викарий должен был действовать так, будто ничего этого не было. Нужны были другие доказательства. Мне не нравилось что-то утаивать от Мальвина, но я поставила бы его в затруднительное положение, расскажи я ему об этом разговоре с Бильгильдис.
Вначале я подумала, что стоит сказать, мол, это я подслушала разговор Эстульфа — точно так же, как пару месяцев назад я заявила, что сама выяснила тайну моей матери, связанную с рождением ребенка. Но по дороге в замок я отказалась от этой идеи. Мне не хотелось идти на такие уловки, в то время как мои враги уже точат свои кинжалы.
Поэтому скрепя сердце я обратилась не к Мальвину, а к Бальдуру. Слушая мой рассказ, он бегал туда-сюда по комнате, словно загнанный зверь.
— Он зашел слишком далеко. Мы со многим примирились, но теперь… Это брошенная мне в лицо перчатка! Нет, не в лицо, а в спину! Этот тип — не просто узурпатор, подлый вор и тиран, он еще и трус!
— И убийца, не забывай этого. Он убил моего отца.
— А теперь собирается убить тебя, пока ты будешь спать. Причина этого мне ясна, Эстульф хочет утвердить свои права на графский титул. Без тебя я не смогу стать графом. И вместо того, чтобы бросить мне вызов, как и надлежит мужчине, вместо того, чтобы выйти со мною на дуэль на мечах, на глазах у всех, во дворе, он убивает коварно, как убила бы баба… Отвратительно.
— Мы должны сразить Эстульфа его же оружием.
— Что ты имеешь в виду?
— Ты должен убить его.
— О да, именно так я и сделаю. Я сегодня же дам ему в морду, тогда у него не будет другого выхода, как выйти со мной на честный бой.
— Мне так не кажется. Эстульф не примет твой вызов.
— Это трусость!
— Ну и что? Ты сам только что назвал его трусом. Трусы боятся, потому они и трусы. Он не воин, он не умеет сражаться так, как ты. Эстульф не выстоит с тобой на дуэли. Поэтому он просто выгонит тебя из замка.
— Пускай попробует.
— И это ему удастся.
— Что ты предлагаешь?
— Что может он, можешь и ты.
— Ты хочешь сказать… Ты не можешь предлагать это всерьез!
— Я ношу под сердцем ребенка, Бальдур, и я хочу, чтобы этот ребенок выжил. Если это единственный способ…
— Я никого не стану коварно убивать. Я должен смотреть ему в лицо, когда нанесу удар.
— Изволь, смотри ему в лицо, когда твой меч пронзит его сердце.
— Дело не в том, чтобы смотреть ему в лицо. Дело в том, чтобы все происходило прилюдно и в честном бою.
— Какая чушь. Человеку, пронзенному мечом, совершенно все равно, происходит это в тишине или под громкие крики толпы.
— Такое может ляпнуть только баба.
— Такое может ляпнуть только остолоп.
Клэр
Может ли быть для матери испытание ужаснее, чем мое? Трое детей — так близко и в то же время так далеко. Орендель — огонек в долине, а я в эти дни слишком слаба и слишком больна, чтобы как-либо изменить это. Еще не родившийся малыш — почему-то я утратила связь с ним. То есть он все еще там, хвала Господу, но мне кажется, что он далеко, и я сама не понимаю, почему эта мысль гложет меня. Нет для этого причин, и все же… Я уже ни в чем не уверена. Бильгильдис говорит, что я взвинчена из-за Оренделя. Эстульф согласен с ней, но мне кажется, что дело не в этом. Знаю лишь, что вокруг все не так. Мир будто расплывается перед моими глазами, я словно в тумане. Что-то происходит вокруг, идет своим чередом, а я не могу на это повлиять. Сейчас я слишком слаба, мое смятение слишком уж велико, чтобы я могла ясно думать. Вот уже час я сижу над этими строками и боюсь, что так и не допишу то, что собиралась, — просто потому, что не могу выразить то, что думаю и чувствую. И в то же время я боюсь оставить этот пергамент, ибо лишь в нем я нахожу опору. В нем и в моих сновидениях. Сегодня утром я что-то говорила и вдруг потеряла нить разговора, отвлеклась, слова будто ускользали от меня, и я разозлилась, накричала на Бильгильдис, это я еще помню. А потом… потом я уснула. Я сплю, погружаюсь в пространства сновидений, я сплю ради моего ребенка, ради спасения его жизни. Я говорю себе: «Когда ты спишь, Клэр, ты никак не можешь навредить этому нежному созданию, ибо болезнь твоя спит с тобою». И я пишу, чтобы вернуть моим дням явь, явь, которая сохранится. Странная мысль? Кто-нибудь поймет, что я хочу сказать? Понимаю ли я сама, что я хочу сказать? Я еще хотела… Собиралась…
Элисия — она тоже далеко. Она больше не любит меня. Что остается матери, когда ее дочь теряет любовь к ней?
Она сама виновата. Меня вы не обвините в этом, нет! Она только берет и ничего не дает взамен. Что она сделала, чтобы помириться со мною? Мысли об этом поместятся на кончике иглы, как ангелы… а моя рука, моя протянутая рука уже в крови от их ударов, от ее ударов, от ударов ее мужа-болвана. Превратила сочельник в неслыханный фарс, а ведь все могло бы пройти так красиво… Я просто хотела отдохнуть, послушать мессу, поесть свинины, порадоваться ликованию слуг, порадоваться рождению Спасителя, порадоваться Элисии — да, Элисии. Порадоваться… Но она, она все испортила! Этот день, этот праздник, мою радость, все.
Как это случилось? Она привела с собой венгерскую девчонку и посадила ее за стол. Мне это нисколько не мешало, но Эстульф посчитал это неуместным. Мол, как это так — женщина, которую подозревают в убийстве, да к тому же еще и язычница, празднует с нами Рождество. Мало того, Элисия еще и усадила ее не за стол для слуг, а рядом с нами.
Моя дочь принялась спорить с ним, говоря, что выбрала эту женщину в кормилицы своему будущему ребенку.
Так они схлестнулись в первый раз.
Мы с венгеркой переглянулись. К своему изумлению, я поняла, что она поразительно похожа на Элисию. Только это было не прямое сходство, а словно бы единство отражений, противоположностей. Одно и то же выражение лица. Черные волосы — светлые волосы. Бронзовая кожа — белоснежная кожа… Но я чувствовала такую усталость, мне не хотелось задумываться об этом. И потому я так удивилась, когда услышала свой голос — будто со стороны.
— Твой выбор не кажется мне странным, дочь моя. Это так на тебя похоже. Да, правда, сейчас, когда все складывается так, как оно складывается, мне кажется совершенно правильным то, что ты выбрала в кормилицы своему ребенку именно эту женщину. И усадила ее за стол рядом с собой. Одно к одному, одно к одному, верно?
Я просто произнесла эти слова, вот и все. Почему они сорвались с моих губ? Я ушам своим не поверила. Никто меня не понял. Они слышали мои слова, но не понимали, о чем я. Эстульф взял меня за руку и с любовью и нежностью во взгляде заглянул мне в глаза, хотя я и говорила ему наперекор.
Элисия возмущенно вскочила. Нет, так нельзя сказать, она не была возмущена, скорее она была готова к тому, чтобы изобразить возмущение, а теперь подумала, что настал подходящий момент сделать это.
— Что ты хочешь сказать этим?
— Ничего.
— Ну и ладно.
— Если ты не поняла мои слова, то почему ты так разволновалась, услышав их?
— Потому что ты ничего не говоришь и не делаешь без задней мысли.
Я и без того была на пределе своих сил. Я едва перенесла службу, голова болела, свинина на ложе из капусты вызывала во мне тошноту, меня чуть не вырвало после глотка воды, мне хотелось плакать. А еще я была зла на себя за то, что вообще что-то сказала. Мне нужно было уйти в свои покои и лечь спать, как я делала раньше, когда мы ссорились с Агапетом. Я не хотела ругаться с Агапетом, а с моей дочерью так тем более. И все же…
Ярость вспыхнула во мне, словно пожар жарким летом.
Я подумала: «Ты мой демон, я хочу изгнать тебя, если бы не ты, я была бы счастлива». И едва я подумала об этом, слова сами собой сорвались с моих губ. В это мгновение я жалела о том, что вообще родила Элисию. Эта мысль промелькнула в моей голове и исчезла уже через мгновение, но она была.
Не помню точно, что происходило дальше, но мне кажется, что я разрыдалась.
— Ну все, довольно! — воскликнул Эстульф. — Бальдур, Элисия, вы немедленно покинете этот праздник.
Я слышала, что Бальдур что-то отвечал ему. Они кричали друг на друга, а я думала: «Нет. Нет. Что с нами такое? Что тут происходит?»
И вдруг Элисия села на стул рядом со мной. Было ли то сострадание и жалость в ее глазах? Ах, как мне хотелось бы этого! Сострадание — это уже что-то. Значит, не все потеряно. Она отерла слезу с моей щеки, и я ощутила счастье — столь же остро, как чувствовала ярость мгновение назад.
И что она говорит потом?! Что она себе позволяет?!
— Эстульф — жестокий, злой человек. Он тебя обманывает. Ты просто не видишь этого, я понимаю тебя, я ведь и сама знаю, что такое любовь. Но открой глаза, мама! Эстульф просто использует тебя. Он пытался… пытался убить меня, сегодня ночью, ты помнишь, я кричала. Это был не кошмарный сон, нет. Эстульф пытался убить меня, он или подосланный им убийца, и он попытается вновь, я это знаю, мама, я слышала, поверь мне, мама, он хочет убить меня!
Мне показалось, будто меня отбросило в сторону, отбросило и закрутило, я словно вновь очутилась в той бочке, в которой я еще десятилетней девчушкой каталась с холма. Мое тело стало таким хрупким, алебастровым, а мысли разлетелись на мелкие осколки. Я медленно поднялась. Все в зале следили за руганью этих двух задир, пока я не закричала:
— Ты больна, Элисия, болен твой дух, твоя душа, ты безумна, безумна, слышишь?! Безумна! Я больше не хочу тебя видеть. Убирайся прочь, туда, где ты никому не сможешь навредить.
А потом я начала вопить. Я уже не помню, что я говорила и говорила ли вообще. Со мной случился настоящий припадок бешенства, за который мне потом было стыдно. Нужно отметить, что мне стыдно за мое помешательство, за то, как именно я проявила свою злость. Самой же злости я не стыжусь.
От этого Бальдур распалился еще больше. Он ударил Эстульфа, тот дал сдачи — это было и отважное, и в то же время глупое решение, потому что Бальдур, если захочет, может одним ударом сломать табурет. Когда-то он гордо продемонстрировал это свое умение Агапету. Теперь же он сломал Эстульфу ребро слева и сломал бы челюсть, если бы их не растащили стражники.
Только что ко мне приходил Эстульф. Он был очень мил и заботлив, пытался скрыть от меня боль от ребра. Этим он смущает меня, потому что уже давно мне не удается уменьшить его хлопоты. Мне хотелось бы защитить его от всего и всех: от Бальдура, от разочарований, опасностей и ошибок, от старости, от смерти, как его, так и моей, от холода ночью. Теперь же я стала главным источником его волнений. И я хочу защитить его от себя. Но у меня не хватает сил на то, чтобы жить привычной жизнью. Откуда же им взяться на подвиги? Я спрашиваю себя, куда подевалась моя сила, которой еще недавно было так много.
— Мне жаль, что я вот так убежала, — сказала я.
— Не вини себя. Я выгнал Бальдура из замка. Представь себе, он хотел вызвать меня на дуэль на мечах.
— И что ты ответил?
— Что на дуэль графа может вызвать только тот, кто равен ему или же выше его по титулу, чего о Бальдуре не скажешь.
— Ты поступил правильно. Но из-за этого ты во многом потерял уважение вассалов.
— Я знаю. Но если бы я принял его вызов, то я потерял бы жизнь, и в этой ситуации я предпочел отказаться от уважения вассалов.
Я заставила себя улыбнуться. Эстульф совсем не похож на других мужчин, и это так прекрасно… Иногда мне кажется, что он родился не в свое время. Его близость и любовь радовали меня, но, увы, я все еще страдала от чудовищной головной боли.
— И что теперь будет с Бальдуром? — спросила я.
— Я приказал главному конюшенному предложить Бальдуру поселиться на сеновале за пределами замковых стен. Ты же знаешь, слуги иногда ночуют там. Конечно же, я запретил конюшенному говорить Бальдуру, что предложение исходит от меня, иначе этот глупец отказался бы, и что тогда с ним было бы?
— Почему ты все еще столь добр к нему?
— Из-за Элисии. Не должны же они, как Мария и Иосиф, отправляться в путь в поисках места, где можно произвести на свет ребенка. Элисия останется в своих покоях, запрет на вход в замок распространяется только на Бальдура. Если ты, конечно же, не говорила всерьез, когда сказала, что больше не хочешь видеть свою дочь.
— Не знаю, Эстульф. Честно говоря, не знаю. Эта ярость… Так разозлиться можешь только на того, кого любишь, верно? И в то же время мне хочется убить ее.
Мы долго смотрели друг на друга, а потом Эстульф поцеловал меня в щеки и в губы.
— Кстати, завтра я отправлюсь к твоему сыну, — сказал он, прежде чем уйти. — Я приказал Бильгильдис и Раймунду все подготовить. Викарий ничего не узнает, я сделаю вид, будто поехал в долину раздавать милостыню бедным. Знаешь, ведь сейчас Рождество, полагается бросать народу монеты… Ты… Ты ведь не против, правда?
— Против? По-моему, это прекрасная мысль. Бильгильдис, конечно, рассказывает мне об Оренделе, но по вполне понятным причинам она не отличается красноречием, да и Раймунд не разговорчивее бревна. А что до писем… Это всего лишь письма. Знаешь что? Я поеду с тобой.
— Нет, об этом не может быть и речи. Поездка туда и обратно, волнение от встречи с сыном… А ты слаба, тебя изводит тошнота… Подумай о ребенке!
— Ты даже не представляешь себе, что для меня значит то, что моего сына поздравит с Рождеством человек, которого я люблю. Ты сделаешь это для меня?
— Ну конечно. Признаюсь, я тоже немного взволнован. Я его не знаю, он меня не знает, я лишь его отчим, вдруг я скажу что-то не то или…
— Не волнуйся. Бильгильдис сказала мне, что Орендель не держит на тебя зла, и по его письмам мне становится ясно, что он не винит тебя ни в чем. Да и как мог бы он гневаться на тебя, у него такой мягкий нрав. А если он и будет тебя дичиться, то ты быстро завоюешь его сердце своим обаянием и мудростью. Как кто-то мог бы думать о тебе плохо…
— Элисия и Бальдур могут.
— Они стали пленниками своих предубеждений. С этим ничего не поделаешь. Я не могу вызволить их из плена их же заблуждений. Обвинять тебя в том, что ты убил Агапета и хотел убить Элисию… Это безумие!
— Но кто-то же убил Агапета, — Эстульф провел кончиками пальцев по моим волосам.
— Конечно. Кто-то. Но не ты. Не ты, любимый мой.
Я надеялась, что клевета Элисии, обвинившей Эстульфа в том, что он пытался ее убить, — это попытка подорвать наш авторитет в графстве. Но Бильгильдис по секрету сказала мне, что Элисия верит в то, что говорит.
Теперь моя дочь действительно потеряна для меня.
Бильгильдис
Я находилась во дворе замка, когда Раймунд, подойдя ко мне сзади, схватил меня за руку и затащил за угол.
— Эстульф завтра отправляется к Оренделю. К О-рен-де-лю! Вот до чего довели нас твои игры! Если мы не будем действовать, все вскроется! — прижав меня к стене, прошипел он. — Пойдем со мной!
Меня чуть удар не хватил. Я еще никогда не видела, чтобы мой старик вел себя столь решительно. И мне даже нечего было ему возразить. Не будь я нема, я утратила бы дар речи. Раймунд был прав — Эстульф ни в коем случае не должен увидеть Оренделя. Он-то думает, что увидит прекрасного принца, в благородных одеяниях, радостного, смышленого, а пред ним предстанет злобный мальчишка, похожий на беспризорника. Эстульф поймет, что мы лгали графине и оставляли себе денежки, которые Клэр давала на содержание своего драгоценного сыночка. Но это еще не самое страшное. Я уже так накрутила Оренделя, что он презирает свою мамашу, а Эстульфа считает чудовищем, развратником, убийцей, который не дает ему вернуться в замок. А человек, который приедет навестить его, не будет похож на созданный мною образ. Конечно, годы, проведенные в заточении, не то чтобы заострили ум Оренделя, но пропасть между моими выдумками и истинным характером Эстульфа слишком велика, чтобы мальчишка ее не заметил. К тому же Эстульф сразу почувствует ненависть, бурлящую в Оренделе.
Ох, горе-горюшко! Мы с Раймундом спускались в повозке в долину, я сидела на козлах и печалилась о крушении своих планов, как мать убивается по умершему ребенку. Я не хотела верить в то, что это происходит.
— Когда мы вернемся в замок, — сказал Раймунд, — я в ужасе брошусь в ноги графу Эстульфу и скажу ему, что на хутор напали подлые разбойники. Мол, они убили сына графини. Он захочет увидеть тело, значит, нужно обставить все так, будто там была резня. Ты останься снаружи, я сам все сделаю. Да, знаешь, нам нужно на него какую-нибудь красивую одежку напялить. Проклятье, придется деньги тратить! Ох, жена, во сколько же нам обойдется твое безумие? Графиня дала мне пять золотых за то, чтобы я сказал, будто видел в покоях старого графа кинжал, которым его убили. Я солгал викарию, меня за это четвертовать могут! А теперь из-за твоих проклятых интриг придется отдать эти пять золотых на дорогую одежду. И не смотри на меня так. Ты сама что хочешь, то и творишь, вот я и взял деньги у графини за эту ложь, а тебе говорить не стал. Не все в этом мире тебе надобно знать. Ты и так слишком уж много знаешь.
Значит, графиня и вправду дала денег моему старику, а я-то и не заметила! Но зачем это ей? Ну, мне было не до того. У меня были свои проблемы, некогда мне было думать о том, почему это графиня солгала викарию о кинжале.
— Жена, думай! Где нам достать дорогую одежку, в которую мы нарядим Оренделя, прежде чем я его прикончу?
Одежка. Вот оно! Я нашла решение нашей проблемы.
Я отчаянно замахала руками, давая Раймунду понять, что он должен делать. Развернуть повозку.
— Чего ты хочешь, жена? Куда нам ехать? К какому-нибудь портному?
Не к какому-нибудь портному. К тому самому портному. Я взяла поводья.
— Ладно, — кивнул Раймунд. — Но потом мы прикончим Оренделя.
В домике и мастерской все выглядело в точности так же, как и несколько месяцев тому назад, когда я впервые посетила Норберта. Видно было, что хозяин этого жилища небогат, да и особым пристрастием к чистоте и порядку не страдает. Это мне понравилось. Значит, Норберт не настолько глуп, чтобы выставлять на всеобщее обозрение свое богатство. Он мог бы позволить себе служанку, которая прибралась бы здесь, мог бы купить новую мебель, инструменты получше, но нет, Норберт оставил все так, будто готов покинуть свой дом в любой момент. Это соответствовало нашему договору, и Норберт придерживался данного мне обещания, хотя мы всего раз воспользовались им как средством от бесплодия. У меня всегда была слабость к повесам, которые держат слово.
— Не думал, что увижу тебя вновь, — ухмыльнулся Норберт.
— Нам нужен хороший наряд для юноши, — грубо перебил его Раймунд, все еще не понимая истинной причины нашего визита в дом Норберта, портняжки.
Да, нам нужен был наряд. Но это было не главное. Нам нужен был Орендель.
Я схватила уголек, которым Норберт рисовал линии на ткани, и принялась писать на столе в мастерской.
Раймунд, нахмурившись, следил за тем, что я делаю. Он еще не понял, что происходит.
Норберт весело кивнул. Он был согласен. Норберт вообще хитрый парень, он не побоится замарать руки, если это принесет ему какую-то выгоду, а значит, он мог стать моим помощником.
— Что? Что это? — не унимался Раймунд. — О чем речь? О чем это вы договорились?
— Твоя жена, — объяснил ему Норберт, — спрашивает у меня, могу ли я сыграть роль другого человека. И согласен ли я это сделать.
У Раймунда упала челюсть. Я не ожидала, что он придет в восторг от моей идеи, для этого мой старик слишком труслив, но я не думала, что он так всполошится.
Раймунд схватил тряпку и принялся лихорадочно стирать мою надпись со стола, пока не уничтожил все до последней буковки.
— Ты забудешь о том, что прочитал, ясно? — Он ткнул Норберту пальцем в грудь. — Ты сошьешь отличный наряд. Бильгильдис запишет тебе приблизительные размеры. Наряд мне нужен на завтра, на утро. Я заплачу тебе двенадцать серебряников за одежду и восемь за молчание, а если ты кому-то что-то сболтнешь, я найду, как заткнуть тебе рот.
Уж кому бы я заткнула рот, так это Раймунду. Когда он повернулся ко мне, я уже успела зажать в руке нож Норберта. Резким движением я вскинула руку и приставила лезвие к горлу Раймунда. Мне было достаточно одного мига, чтобы устранить эту преграду на моем пути. В моих глазах была написана решимость.
— Да, — холодно прошипел Раймунд. — Взрезать кому-то горло — в этом ты мастерица. Успела уже, верно, набить руку, да?
На следующий день мы перевели Оренделя в полусгнивший сарай на хуторе, чтобы он не узнал, что происходит в доме. Я лишь сказала, что ему угрожает опасность, и, как и всегда, он поверил мне. Затем мы опять поехали к Норберту, забрали и наряд, и его самого, и вернулись на хутор.
У Норберта и Оренделя глаза и волосы одного цвета, это сыграло нам на руку. Одежда была не совсем той, которую ожидаешь увидеть на графском сыночке, но у Норберта не было ткани получше. Да и кто бы такое покупал? Кроме графской семейки, вокруг нет благородных, только горстка богатых купцов, поэтому платье было купеческим, Норберт лишь облагородил его кантами. Я тщательно убрала комнату. До этого Орендель жил в грязи, но ему не было до этого дела, ведь он семь лет жил в каморке с дерьмом в углу, как в курятнике. Я как раз успела привести все в благопристойный вид, когда услышала ржание — конь Эстульфа бил копытом у нашего порога.
Я поспешно повторила Норберту свои указания — говорить возвышенно, но не впадая в крайность; не пускаться в разговоры о семье, в которой он жил раньше; проявить свою радость от предстоящего возвращения и тому подобное. Я надеялась на то, что Норберт — достаточно прожженный тип, чтобы самому придумать ответы на вопросы, потому что у нас было слишком мало времени, чтобы хорошо подготовиться к встрече с Эстульфом. Теперь все зависело от Норберта, мне же оставалось только молиться — но кому?
Итак, вот она, наша пьеса.
Входит Эстульф.
ЭСТУЛЬФ. Ты Орендель? Я граф Эстульф.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ (кланяется, это выходит у него немного неловко). Ваше высокоблагородие.
ЭСТУЛЬФ (улыбается). Правильным обращением было бы «ваша светлость», но ты можешь называть меня Эстульфом, ведь мы одна семья. Ты всегда был членом семьи, Орендель, даже тогда, когда тебя не было рядом с нами. Ты ведь не сомневался в этом, верно? Твоя мама говорит, что писала тебе обо всем, что происходило в замке, чтобы ты всегда был в курсе событий.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. Да, именно так.
ЭСТУЛЬФ. Могу поспорить, что она и обо мне писала.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. О… О вас, то есть, о тебе? Нужно подумать… Да, наверное…
ЭСТУЛЬФ. Прости, я не хотел докучать тебе вопросами. Надеюсь, письма твоей матери служили тебе утешением.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. О да, еще каким… очень, очень… да, весьма… утешением. Без писем я бы не выжил.
ЭСТУЛЬФ. Надеюсь, ты сохранил их.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. Сохранил? Да, наверное, они где-то здесь. Нужно… простите… подумать. Конечно, они еще у меня. Я прикипел к ним сердцем, ни за что с ними не расстанусь. Скорее умру.
ЭСТУЛЬФ. Ничего, не волнуйся. Я спросил лишь потому, что мне показалось хорошей идеей перечитать их. Я имею в виду, было бы хорошо, если бы вы с матерью когда-то прочитали эти письма друг другу.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. Не могу дождаться этого дня.
ЭСТУЛЬФ. Ты понимаешь, почему тебе пока что нельзя возвращаться в замок?
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. Да, конечно.
ЭСТУЛЬФ. Я уже думал о том, не нарядить ли тебя в какую-нибудь простую одежду и не поселить ли в замке под видом слуги, знаешь? Тогда ты мог бы повидаться с матерью.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. Ах… это… это не очень хорошая мысль, мне кажется.
ЭСТУЛЬФ. Почему?
Я затаила дыхание.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. Потому что… Э-э-э… Я не хотел бы наряжаться в старую заштопанную одежку.
Эстульф удивленно поднимает брови.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. Я имею в виду… э-э-э… не то что не хотел бы… Они не то чтобы плохие, эти простые наряды, ты не подумай, что я… Нет, просто, понимаете… понимаешь, это… это… была бы недостойная встреча, несвоевременная, то есть. И пришлось бы все время трястись от страха… то есть я боялся бы, что меня кто-то узнает.
Пауза.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ (перестает заикаться и в тот же миг переходит к иному тону речи, возвышенному). Будто вору пришлось бы мне проникнуть в мой дом, откуда изгнал меня жестокосердный отец. Да, изгнал, можно и так сказать. Нет, это было бы недостойно. Я хочу триумфально въехать в замок… Может, «триумфально» — это неподходящее слово, но я хочу сделать это при свете дня, хочу, чтобы мне оказали достойный прием, хочу, чтобы по этому поводу закатили пир. Я мечтал об этом: я еду на белом коне вверх по холму, моя матушка и вы… то есть, ты… вы стоите на верхних ступенях лестницы. Я спешиваюсь. Ты выходишь мне навстречу и ведешь меня вверх по лестнице, а уже там графиня, то есть моя мать, заключает меня в объятия. Весь двор аплодирует. И если бы мне можно было надеть корону… махонькую такую короночку… это сделало бы меня по-настоящему счастливым.
Эстульф замер на месте, а я зажмурилась. Какого дьявола! Неужто этот тип обезумел? Это еще что за чепуха?! Я поклялась, что если переживу этот день, то суну голову Норберта в ледяную воду и буду топить его до тех пор, пока последний пузырек воздуха не сорвется с его губ. «Махонькую короночку!» Я бы ему всю физиономию отделала этой короночкой.
Судя по Раймунду, он был уже готов броситься в ноги графу и попросить о пощаде. Я незаметно взяла его за руку. Даже не помню, когда такое было в последний раз.
И тут Эстульф расхохотался, да так громко, что у меня зазвенело в ушах. Но ничего, этот хохот был бальзамом для моей души.
Итак, представление продолжилось.
ЭСТУЛЬФ. А у тебя действительно отменное чувство юмора, как и говорила твоя мама. Ах, господи, ну и придумал же ты историю!
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ (удивленно). Правда? А как… как надо было?
ЭСТУЛЬФ. Я понял, что это шутка, только когда вспомнил, что у нас нет лестницы перед замком.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. Нет? Я мог бы поклясться…
ЭСТУЛЬФ. Только ступени у крепостной стены, помнишь? Да и корон у нас нет. Ничего, тебе было двенадцать лет, когда ты покинул замок, и от тоски по родным стенам они, наверное, кажутся тебе лучше, чем есть на самом деле.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. Ха-ха. Да, тоска по дому, наверное, все дело в этом.
ЭСТУЛЬФ. Твоя мама посмеется от всей души, когда я расскажу ей это. Это делает тебя человечнее, понимаешь, о чем я? Ей понравится. В последнее время она плохо себя чувствует, и ей не помешают хорошие новости. Позднее материнство не очень хорошо сказалось на ее здоровье… Но не будем об этом. Не хочешь написать ей пару строк? Я лично передал бы ей твое письмо.
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. Н-нет… Не стоит. Я слишком… слишком взволнован. От счастья, понимаете?
ЭСТУЛЬФ. Я очень рад, что у тебя все в порядке. Тебе что-нибудь нужно? Ты получаешь все необходимое?
НОРБЕРТ-ОРЕНДЕЛЬ. О да, Бильгильдис — настоящее сокровище. Что бы я делал без нее все эти годы? Она заслужила вознаграждение. Может, вы бы…
Упомянув о вознаграждении, этот прохвост думал только о себе. Хотел увеличить свою награду. И мне пришлось пойти на это. Сволочь. Он заполучил двадцать серебряников. Мне наплевать на деньги, но мне не нравится, что Норберт решил выказать свою власть надо мной.
Как бы то ни было, он неплохо сыграл свою роль. Трудно было ожидать большего от простого портного, которому на час пришлось превратиться в графского сына. Вся эта чушь о «короночке» и лестнице, конечно, была лишней, а от его заиканий я за пять вдохов постарела на пять лет. Но Норберт сделал, что мог. Кроме того, я знала, что, возможно, он мне еще понадобится. И он это тоже знал.
Когда мы с Раймундом провели Эстульфа до его лошади, нас ждало очередное несчастье. Граф настоял на том, чтобы мы провели зиму на хуторе с Оренделем — мол, лесные тропинки занесет снегом и постоянно спускаться в долину будет невозможно. К сожалению, Эстульф прав. Я предложила ему, чтобы с Оренделем остался только Раймунд, но граф на это не согласился. И вот теперь я сижу тут, под холмом, вдали от моих интриг. И как я теперь смогу строить злые козни? Кому я смогу навредить? Я не буду подливать Клэр в питье настойку красавки, и графиня вскоре придет в себя. Я не смогу следить ни за Элисией, ни за венгерской шлюхой, ни за этим надоедой из Констанца.
Но есть в этом и одно преимущество. Я несколько месяцев проведу рядом с Оренделем и успею превратить его в свою марионетку.
На всякий случай мы поселили тут и Норберта. Он прислуживает Оренделю, а если внезапно на пороге появится Эстульф, он сможет вновь сыграть старую роль. Главное, чтобы Клэр не вздумала приехать сюда.
Мальвин
В сочельник я получил письмо, испортившее мне праздник. Оно прибыло из Констанца и было подписано бургомистром. Он жаловался на затишье, наступившее в суде после моего отъезда, и «просил» меня поскорее вернуться.
Если находишь что-то в жизни, зная, что это нечто основополагающее — воздух, которым ты дышишь, земля, по которой ты ходишь, вода, нужная тебе для выживания, — то утрата этого равносильна утрате самой сущности жизни.
Речь может идти о ребенке, о чести, о свободе, о чистоте, о божественном благоволении, о прелести возлюбленной, о самоуважении, о любви… То, что становится для нас важнейшим в жизни, затмевает собою все остальное. Я нашел в Элисии то, что сделало мою жизнь особенной. Ни моя работа, ни мой пост, ни чувство долга, ни — да простит мне Господь — мои дети не могли заполнить мою жизнь до краев. Все это близко мне, очень близко, оно дополняет мою жизнь и дарит мне ровно столько сил, чтобы я мог быть человеком, христианином, викарием, отцом. Но, в сущности, я не жил, пока не повстречал Элисию. Я действовал. Я выполнял поставленные задачи. Я ходил в суд, выносил приговоры, любил моих детей, скорбел по усопшей супруге, слушал церковные службы, и я делал все это, исходя из моих принципов, склонностей и убеждений. Но это не дарило мне полноты жизни. Если бы я не повстречал Элисию, я мог бы просто существовать так же и дальше, но теперь, когда я живу, а не просто существую, я не могу вернуться к прежнему состоянию. Зная, что есть рай, молишься о спасении, но, узнав, что есть рай и на земле, хочешь попасть туда незамедлительно.
В эти недели перед Рождеством я беспрестанно думал о том, как мне поступить — как велит мне Господь или как будет лучше для меня? Исходя из чистой невозможности прийти к какому бы то ни было решению, я позволил себе просто плыть по течению. Я знал, что у меня в Констанце осталось много работы. Знал, что заключенные томятся за решеткой, ожидая моего приговора. Знал, что подвалы стражи уже переполнены. Знал, что с каждым днем растет возмущение обвинителей. Знал, что некому бороться за правду, а кривда и сама всех поборет. И все же мне удавалось почти не думать об этом. А если и вспыхивали во мне такие мысли, я растаптывал их, как крестьянин испуганно топчет искры на сухом сеновале.
На Рождество Элисия гордо показала мне свою новую дверь — ее можно было закрыть изнутри на засов. Моя возлюбленная еще ничего не знала о плохих новостях, так как я не хотел портить ей праздник — об этом и так позаботились другие.
— Дверь можно выломать, Элисия. Если то, о чем вы с Бальдуром вчера говорили, правда, то…
— Ты сомневаешься в этом?
— Ты можешь развеять мои сомнения?
— Понимаешь, поэтому я тебе ничего и не говорила. То, что я узнала, я узнала от Бильгильдис.
— Ты ей доверяешь?
— У меня нет причин не доверять ей. А у тебя?
Я подумал о многолетнем романе между Бильгильдис и Агапетом.
— Ты обеляешь ее имя, потому что она твоя кормилица. Мне кажется, у нее есть свои секреты.
— Они есть даже у Папы Римского. Кроме того, ее наблюдения лишь подтверждают мои собственные. В них ты тоже будешь сомневаться?
— Нет. Но у меня связаны руки. Не могу же я на основании слов какой-то обозленной крепостной…
— В твоем мире все должно идти по правилам, Мальвин. В сущности, я это понимаю. Но этим мы ничего не добьемся. Я не могу доказать, что именно Эстульф пытался убить меня. Не могу доказать, что это он убил моего отца. Справедливости не всегда можно добиться, следуя законам. Я должна спастись.
— И ты хочешь достичь этого, оставшись здесь и дожидаясь, пока тебя убьют?
— Бальдур повел себя грубо, но одного он все-таки добился. Он привлек всеобщее внимание. Эстульф уже не может убить меня, ведь его прилюдно обвинили в этом намерении. Теперь ему просто необходимо, чтобы я осталась жива — по крайней мере в ближайшее время.
— Ты очень отважна, Элисия. И очень легкомысленна.
— У меня не было другого выхода. Я не знала, что еще делать. Бальдур спит на сеновале, ниже падать уже некуда. Неужели я должна обратиться в бегство, бросив моего супруга в беде? Я останусь тут, и пока ты…
И тогда я показал ей письмо бургомистра Констанца. Прочитав послание, Элисия свернула пергамент и вернула его мне.
— Когда? — спросила она.
— Завтра.
Она разрыдалась. Я хотел обнять ее, но Элисия отстранилась. Она была права — в ней не было ни мужества, ни легкомыслия, только отчаяние, и у меня сердце разрывалось оттого, что я стоял рядом и ничем не мог ей помочь. Разве что…
— Поедем со мной, — предложил я.
Эти слова эхом отразились в моей душе: поедем со мной, со мной, со мной. Но я предчувствовал, что ответит мне Элисия, как незадолго до этого предчувствовал письмо бургомистра.
— Просто поехать с тобой? И кем меня будут считать? Изменницей? Твоей любовницей?
— Кем… Герцог проведет эту зиму неподалеку от Констанца, в пфальцграфстве Райхенау. Там ты могла бы отвоевать свои права.
— Это бессмысленно. До тех пор, пока ты не созовешь суд и не вынесешь приговор, в ситуации ничего не изменится.
— Чего ты от меня хочешь? Чтобы я вынес приговор Эстульфу, притом что я не уверен в его вине? Чтобы таким образом я освободил тебе и Бальдуру путь к графскому трону? — Я говорил с нарочитым возмущением, но на самом деле не испытывал ничего подобного.
Все это было частью разразившегося во мне сражения. Я мог бы тщательнее провести расследование, но тогда мне пришлось бы предъявить обвинение Эстульфу, Бальдуру, Клэр или Бильгильдис, а судебный процесс над любым из этих людей повлек бы за собой страшные последствия для меня и Элисии.
С одной стороны, я знал, что Эстульф будет во сто крат лучшим графом, чем Бальдур. Эстульф заботился о своих подданных, он не только брал, но и давал что-то взамен, он разделит богатства страны с теми, кто ее населяет. А что до убийства, то я смог бы выдвинуть ему обвинения только в том случае, если бы я решился отречься от всех моих идеалов — от истины и справедливости.
С другой стороны, истина и справедливость — это понятия, пригодные для религии или юриспруденции, но не для любви. У Элисии была мечта. Всю свою жизнь она готовилась стать преемницей своего отца, хозяйкой этого замка. Неужели я должен был лишить ее этой мечты? Точно так же можно было требовать от меня столкнуть ее со стены.
В моих интересах было бы обвинить Бальдура в смерти Агапета. Если бы я отрубил ему голову, мы с Элисией могли бы пожениться.
Но моя любовь была превыше корысти. Я не причинил бы Элисии такую боль. Я скорее допущу страдания крестьян и правление кровожадных воителей, чем разочарую Элисию. Если бы в моей власти было сделать Бальдура графом, не лишая Эстульфа жизни, я бы так и поступил.
И даже последний шаг, шаг во тьму, был для меня уже не столь чужд. В моем сознании и правда мелькнула мысль о том, чтобы подарить Элисии величайшее доказательство моей любви и принести в жертву самое дорогое, что у меня было, — мою беспристрастность. Еще никогда я не впадал в искушение осудить кого-то, в чью вину я не верил.
А значит, я должен был бы радоваться возможности покинуть замок Агапидов, этот проклятый замок. Я мог бы с головой погрузиться в мою работу в Констанце и позабыть обо всем. Но мысли об этом разрывали мне сердце.
Я знал, что Эстульф уехал в долину, и потому я пошел попрощаться только с графиней. Она была очень раздражена. Ее глаза сверкали, как у безумной. Вообще она должна была бы радоваться тому, что избавится от меня, ибо ее дитя росло в ее чреве уже больше девяти месяцев и могло родиться десяти-а то и одиннадцатимесячным. При таких обстоятельствах присутствие в замке судьи, который принимал у нее клятву, было бы для графини нежелательным. Я, конечно, нисколько не стремился отрезать ей язык и пальцы и надеялся, что этого не захочет и никто другой. Но вместо того, чтобы попрощаться со мной по-доброму, Клэр принялась сыпать упреками: мол, я много месяцев «слонялся в этом замке, будто приживала», мол, я «бесполезен и глуп и потому не нашел убийцу». Она накричала на меня за то, что я не остановил «Элисию и этого идиота», да еще и согласился отпустить эту «венгерскую ведьму, которую давно пора прикончить». Еще никогда в моей жизни со мной так не говорили, а уж ожидать подобных выражений от графини мне тем более не приходилось. Речь Клэр была бессвязной, и я почти не помню, что еще она мне наговорила. Подобное поведение я объясняю ее болезнью.
Под конец она спросила у меня, завершено ли расследование.
— Расследование можно считать завершенным только тогда, когда приговор уже вынесен, — не без злобы в голосе отметил я.
Но на самом деле я не собираюсь когда-либо возвращаться сюда. Я приостанавливаю расследование. Навечно, я надеюсь.
Так мы и расстались с Элисией. Она пришла ко мне, мы легли, обнявшись, на шкуры и закрыли глаза. В какой-то момент она уснула. Это было час назад. Теперь я ухожу, оставляя позади то, что было самым прекрасным в моей жизни. Оставляя позади то, что и не должно было существовать.
Кара
Сегодня второй день после праздника, который здесь называют Рождеством. Я уже слышала об этом празднике, но представляла его себе иначе. Говорят, что в этот день родился их бог. Должно быть, это день войны или раздора. Когда мы отдаем дань почтения нашим богам, мы пьем и танцуем до упаду. А здесь они наступают друг другу на горло и отрезают друг другу головы. И эти люди говорят мне, что моя вера — варварская, а они несут Благую Весть.
Сегодня все свершилось. Я ждала этого часа. Утром ко мне пришел Бальдур. Он постучал в дверь, и я отворила ему, зная, что впускаю в комнату своего врага и мучителя. Он оделся в белую накидку с капюшоном, чтобы никто не узнал его, ибо ему было запрещено входить в замок.
— Сегодня шел снег. Ты видела? Снежинки, кружась, падают с небес. Это называется снег. Снег.
Иногда, когда Бальдур начинает говорить со мной, как с птичкой, мне приходится прятать улыбку, ведь я понимаю каждое его слово, а он строит из себя дурачка. Но мне не нравится смеяться над Бальдуром. Тогда он кажется безобидным, а я этого не хочу.
— И вот я подумал, сегодня же подходящая погода для того, чтобы съездить в лес. Понимаешь? Лошадь. Скакать. Галоп. Снег. И может быть… ты могла бы отправиться со мной? Ты. Со мной. Скакать. В снегу.
Я ответила не сразу, и он тут же смутился.
— Я не причиню тебе вреда, слышишь? Не причиню. Я просто хочу… мне нужно отвлечься. Все пошло наперекосяк, и я подумал… Но раз ты не хочешь… Тут уж ничего не поделаешь. Прости, если я побеспокоил тебя. Счастливо.
Я жестом удержала его.
— Так ты пойдешь со мной? — просиял Бальдур. — Вот, я принес тебе накидку, такую же, как и у меня. Она теплая, а еще в ней тебя никто не узнает. Вообще-то тебе нельзя покидать замок. Удивительно, да? Тебе нельзя выходить отсюда, а мне нельзя входить.
Да, я пошла с ним, я села сзади на его коня, обхватила его талию, и мы поскакали. Бальдур подгонял коня, и в его голосе слышалась радость, как у мальчишки, которому впервые в жизни что-то удалось. Снег взметнулся над землей, полетел мне в лицо, и я засмеялась, а Бальдур рассмеялся вместе со мной. Да, он смеялся, и наш смех слился воедино.
И я подумала: «Ты ли это? Перестань, не над чем тут смеяться».
Но на самом деле у меня была причина. Я много месяцев просидела взаперти, в комнате длиною в пару шагов, а теперь мы неслись по бесконечному, казалось, лесу, по лугам и долинам, по гряде холмов, откуда открывался вид на замок. Отсюда крепость казалась нарисованной. Наконец-то, наконец-то я увидела мою темницу снаружи, пусть и ненадолго. И вновь лес, густые заросли. Эта прогулка была для меня чем-то вроде глотка свежего воздуха после ночи в зловонной яме. Тепло лошади, вкус снега на губах, белизна вокруг, звон уздечки, ощущения от прикосновения к таким простым вещам, как кора деревьев, сосновые иголки, кожаное седло. Только теперь я поняла, в каких будничных вещах скрыта свобода. Только теперь, потеряв ее и обретя вновь. Опьяненная этими повседневными, в сущности, вещами, я позабыла обо всем, даже о человеке, с которым смеялась.
Но ненадолго. Вот уже много лун я пленница бургграфа. И пленница собственного тела — с тех самых пор, как Бальдур осквернил его. Все воды мира не отмоют меня, все время мира не сотрет с меня пятно бесчестия. Невидимое другим людям, я чувствовала на себе это пятно каждый день, просыпаясь утром и засыпая вечером. Я чувствовала его всякий раз, прикасаясь к своему телу. Такова была насмешка судьбы — тот самый человек, который на пару часов освободил меня от заточения в замке, сам же бросил меня в другую темницу — темницу тела.
Едва не загнав коня, мы наконец остановились. Вокруг раскинулся живописный лес, воздух полнился тишиной и одиночеством. Снег пушистым покрывалом укутал землю и голые деревья, и мы с Бальдуром казались единственными живыми существами на земле.
Но Бальдур не мог оставаться со мной наедине в этом мире, он поторопился заселить его призраками своих хлопот.
— Как хорошо, — сказал Бальдур.
Было что-то такое в его голосе, что на мгновение он показался мне… ранимым. Я остолбенела. Сколько же нежности было в этих словах. Никогда бы не подумала, что мужчина — да еще и такое животное, как Бальдур, — способен на что-то подобное.
Словно устыдившись внезапного порыва, он отвернулся от меня и стал глядеть на ажурное переплетение ветвей.
— Элисия никогда не смеется вместе со мной. Она вообще ничего не делает вместе со мной, мы только ссоримся, ну, и иногда… В общем, нас мало что объединяет. Ну и что, скажут люди. Моих родителей тоже мало что объединяло, у моих братьев и сестер то же самое в семье. Тут так принято. Не знаю, как у вас, а у нас женятся на тех, кто подходит тебе. В большинстве браков люди привыкают друг к другу, вот только мы с Элисией так и не сумели притереться. Она каждый день напоминает мне о том, что презирает меня. — Он оглянулся, чтобы убедиться в том, что я слушаю его.
Думаю, именно из-за того, что я, как он думал, почти не понимала его слов, Бальдур мог говорить со мной откровенно. Собственно, он вел беседу не со мной, а с самим собой, признавая свои неудачи.
— Да, она презирает меня, смотрит на меня сверху вниз. А почему? Да потому, что я якобы не настолько велик, как ее отец, непревзойденный Агапет. Велик, чтоб меня! Он был крепким мужиком, тут ничего не скажешь, но как полководец никуда не годился. Все его успехи во время сражений — это мои успехи. Мне было восемнадцать, когда вспыхнула междоусобица с соседним графством. И я выиграл для него этот бой. У меня было сорок солдат, а у противника девяносто, но я все равно выиграл! А потом Агапет всем рассказывал, что это он придумал, как победить в том бою. Когда мне было девятнадцать, я спас Агапета от позора, когда все четыре рыцаря, которых он отправил на турнир, проиграли соревнование. Я вышел на поединок и защитил честь дома. Когда мне было двадцать, я собрал для него такое войско, что даже герцог залюбовался моими орлами. Когда мне было двадцать один, я выиграл сражение в Штирии. Когда мне было двадцать два, я спас замок от осады — я отвлек венгерское войско внезапной атакой и оттянул силы врага на юг. Когда мне было двадцать три… И так далее. Агапет приписывал все эти заслуги себе. Да, иногда он мог ободряюще похлопать меня по плечу, точно прилежного ученика. И даже в такие моменты он признавал не мой успех, а свои достижения — достижения, как он полагал, премудрого наставника. — Бальдур вздохнул. Он все еще стоял ко мне спиной, и я видела, как налилась кровью его шея. — Да, конечно, мне досталась рука Элисии. Но и до этого он не додумался сам. Ему было все равно, за кого выйдет его дочь. Агапета вообще мало интересовало, чем она занимается. Думаю, она выбрала меня себе в супруги, потому что хотела этим привлечь внимание своего отца. После свадьбы Агапет обращался со мной не как с рыцарем, а как с оруженосцем, ведь он знал, что я с потрохами принадлежу ему. Еще шесть лет он моими руками таскал каштаны из огня, а что в благодарность? Презрение. Он ничего мне не оставлял, ни славы, ни участия. Я солгал, сказав, что Агапет хотел сделать меня своим преемником. Ему бы такое никогда не пришло в голову. За эти годы Элисия потеряла уважение ко мне, и не потому что хотела бы, чтобы я постоял за себя, нет, она считала, что я разочаровал ее отца. Я пытался объяснить ей, что Агапет похваляется чужими заслугами, но она не хотела меня слушать, обвиняя меня в зависти. Она такая умница, все видит таким, какое оно есть. И только в отношении отца она слепа. Слепа до сих пор. В ее глазах он святой, а я глупец. Может, я и правда глупец. Я умею только воевать. Я одолел бы и Агапета, и Эстульфа, и кого угодно на поле боя, будь у меня даже вдвое меньше солдат, чем у них. Я мог бы стать великим графом, великим полководцем, мог бы обрести славу, я вселял бы ужас в сердца врагов…
По воле прихотливого рока — должно быть, то боги посмеялись над нами — в тот самый момент, когда Бальдур говорил о битвах, на ветку неподалеку от нас опустился черный глухарь.
Бальдур замер на месте, жестом приказав и мне не двигаться. Он осторожно достал что-то из седельной сумки, и только когда он уже замахнулся, я поняла, что это маленький топорик с рукоятью длиной в мою ладонь и лезвием в половину ладони.
Движения Бальдура были столь стремительны, что казалось, будто само время замедлило свой бег. Топорик попал в глухаря, но не убил птицу сразу. Она упала с ветки и забилась на искристом снегу, оставляя на нетронутой белизне алый след. Мне показалось, что глухарь сумеет отринуть боль и взлететь, но он терял силы, истекая кровью.
Все это происходило в полной тишине. Всего в паре шагов от меня птица встречала свою смерть. Ее клюв беззвучно закрывался и открывался.
Бальдур, протопав по глубокому снегу, опустился на колени рядом со своей добычей.
— Я подарю тебе его перья! — крикнул он мне. — Роскошные перья, вот увидишь! Ты сможешь украсить ими свои одежды. И в городе есть женщины, которые делают из перьев веера. Как захочешь, так и будет.
Он убил эту птицу для меня. Я оглянулась. Снег был залит кровью. Пейзаж преобразился, как это бывает в кошмарах.
Я прислонилась к боку коня и словно бы невзначай заглянула в седельную сумку. Там я увидела оружие — меч (он был слишком тяжелым для меня, я не смогла бы замахнуться) и простой кинжал. Сжав рукоять, я сделала шаг к Бальдуру.
Он тем временем ощипывал глухаря, не замечая того, что я приближаюсь к нему. Как и в то мгновение, когда Бальдур метал топорик, мне показалось, что ход жизни замедлился и я вместе с ним. С каждым шагом на меня обрушивался все новый груз вопросов, мыслей и воспоминаний.
Зачем мы здесь? Чьею волею очутились мы на распутье судьбы? Где началось кровопролитие?
Четырнадцать лет назад к Великому Озеру прибыли посланники правителя одного христианского народа — мне кажется, его звали Арнульф и он называл себя императором. От имени их повелителя послы просили помощи у нашего народа. Наш король должен был дать им войско для нападения на Каринтию. Награда за эту помощь была столь велика, что главный вождь и вожди, правившие отдельными племенами, не могли отказать ему. Арнульф обещал признать наше право на те земли, на которых раскинулись наши поселения. Кроме того, мы могли сохранить трофеи, добытые на той войне.
Наши воины напали на Каринтию, там они грабили и выжигали огнем селения, а когда вернулись домой, то уже не были прежними. Их совратила простота насилия. Их ожесточили увиденные ужасы.
Император не выполнил свое обещание. Нам отказали в праве владеть своими же землями. Нас обозвали чудовищами и дикарями, ведь мы не поклонялись христианскому богу. Дошло до первых битв. Наш вождь, Булчу, попытался остановить кровопролитие. Он договорился о встрече в Баварии. Когда Булчу прибыл туда, его убили.
Разгорелись споры о том, что нам делать в ответ на это. Мой народ — народ кочевников и скотоводов, народ охотников и разбойников, но не убийц. И все же о прошлом не забудешь. Наши мужчины разорили целую страну, чтобы добиться мира и признания нашего права на землю, так почему бы не опустошить еще одну? Суть насилия в том, что его нельзя призвать и отогнать прочь, когда вздумается. Стоит нам вдохнуть его испарения, как оно становится частью нашей души, а мы становимся частью мирового зла. Война с Баварией принесла еще больше жертв, чем война с Каринтией. Баварцы ответили ударом на удар. Мы жгли их города, они вешали наших мужчин за ноги, мы калечили их женщин, они похищали наших. Народ разрывался между стремлением к мести и к миру.
И эти двое мужчин, заключивших тот договор четырнадцать лет назад, тот император и тот вождь, стали источником диковинного переплетения судеб и событий, которые и привели нас с Бальдуром в этот лес, белый от снега и алый от крови.
Кинжал в моей руке был одним из множества кинжалов, блеснувших под солнцем.
Наша история была лишь одной из историй о войне, историй, которых мы никогда не узнаем: тысячи тысяч отцов и матерей хоронили своих сыновей, желая, чтобы все было иначе; на плодородную когда-то землю пролились тысячи тысяч слез, и от их соли завяли всходы любви.
Горло Бальдура станет одной из множества глоток, которые вскроют острым лезвием.
Во мне зрело желание убивать и боролось с желанием простить. Я присутствовала при военных походах моего народа и видела много страшного. Людей — изрубленных, иссеченных, избитых, искалеченных, изуродованных, истерзанных, изможденных. Я видела руины — домов человеческих и жизней человеческих, из камня и из плоти и крови. Я страдала вместе с ранеными, я плакала с ними. Я научилась ненавидеть убийство и любить милосердие. Но то, что ты ненавидишь, влияет на тебя столь же сильно, как и то, что ты любишь. Я стремилась к миру, но не могла достичь его, ведь не было мира в моей душе, была лишь война и новый плен, в который я угодила.
Я была уже в трех шагах от Бальдура, когда он заговорил со мной. Он так и не повернулся, продолжая выщипывать перья. Судя по тому, что теперь Бальдур говорил уже тише, он понял, что я подошла к нему.
— Это из-за меня тебя похитили, — прошептал он. — Вначале Агапет не имел к этому отношения. Я увидел тебя, и ты сразу же понравилась мне. Ты стояла на поляне и набирала воду в ручье. Твои движения, твои волосы… Нет, дело не только в этом, дело в том образе, который ты воплощала. В тебе чувствовался покой, отголоски мирной жизни, ты была словно Ева, жена Адама, и тогда мне так захотелось, чтобы мы с тобой были одни в этом мире. И мне так захотелось этого… Захотелось тебя, — он еще быстрее принялся выдергивать перья. — Но Агапет не позволил мне даже налюбоваться тобою. Он захватил тебя только для того, чтобы я не мог этого сделать. Так он хотел поставить меня на место. Или бросить мне вызов.
Я была на расстоянии вытянутой руки от Бальдура. Все еще стоя на коленях в снегу, он повернулся и посмотрел на меня, подняв голову, словно подставляя мне горло. Руку с зажатым в ней кинжалом я спрятала за спиной.
— Я знаю, ты не поверила бы мне, даже если бы понимала мои слова. Но когда я ударил тебя на допросе, на самом деле я ударил себя. Потому что я влюбился в тебя, пусть ты и дикарка, пусть дочь врага. И когда я пришел к тебе в комнату тогда… Это было ужасно, но и это я сделал по любви.
Только за эту фразу он заслуживал того, чтобы я убила его.
Только за эту фразу он заслуживал того, чтобы я простила его.
Он бросил свою любовь в грязь. Это было чудовищно. А ведь любовь — это светлое и чистое чувство. Как можно изнасиловать кого-то по любви? Как можно называть это чувство любовью? Кто этот мужчина, стоящий передо мной на коленях? Жестокое дитя, знающее лишь войну и привносящее ее даже в любовь? Одинокий мужчина, который не мог жить без войны? Или просто человек, такой же, как и все, запутавшийся в паутине вражды и раздора?
Вести войну ради мира, строить счастье на гóре, насиловать по любви. Есть одно — есть и другое. Действительно ли Бальдур так уж отличался от меня? От нас? От тебя, читающего мое послание на стенах этого замка?
Бальдур протянул мне черные перья, еще теплые от погасшей ныне жизни, а я смотрела на кровь на его руке и растроганно думала о том, что жест этот исполнен любви, но в то же время и зловещего предзнаменования: Бальдур не знал, да и не мог знать, что у меня на родине черные перья имеют особое значение. Черное перо — это повеление убить кого-то.
Он передал мне три пера.
Одной рукой я приняла его черный подарок, вторая же готова была метнуться вперед и нанести удар. Но мое стремление к жизни победило. Смерть Бальдура привела бы и к моей погибели. Бежать не имело смысла. Оказаться зимой в чужом краю, не зная дороги домой и оторвавшись от преследования всего на день… Это не лучшие условия для побега. Но к чему эти перья? Совпадение? Или боги хотели передать мне знак, использовав для этого ничего не подозревавшего Бальдура? Убей трех человек, и ты будешь свободна? Графа и графиню, которые хотят моей смерти? Немую старуху, ненавидящую меня и мой народ? Элисию, которая добра ко мне, но не отпустит меня, ведь я ее единственная подруга и мне суждено стать кормилицей ее ребенка? Бальдура, которого мне в одно мгновение хочется зарезать, а в другое — простить? Или еще кого-то, о ком я даже не подозреваю? Или эти перья означают, что должно умереть три человека, прежде чем я обрету свободу? Может быть, я неверно толкую знамение богов? Имеют ли они вообще отношение к этому? Или все это лишь выдумки? Возможно, я схожу с ума, как графиня, которая вот уже несколько недель только и делает, что плачет и кричит? Схожу с ума, как Бальдур, влюбленный насильник? Схожу с ума, как Элисия, заблудившаяся в мире своих страхов?
Мне не место в этом замке, но я стала его частью. Я больше не способна отличать безумие от разума и добро от зла.
Часть 2 Апрель—июнь 913 года Элисия
Прошло около трех месяцев с тех пор, как я писала в последний раз. Это было еще до отъезда Мальвина. В замке было холодно, я чувствовала себя такой одинокой. Хотя я и жила в своем доме, у себя на родине, мне казалось, что я попала в изгнание.
Бильгильдис по приказу Эстульфа уехала куда-то вместе с Раймундом. Эстульф сказал, что каким-то его родственникам якобы нужна помощь, но я-то знаю, что он отослал мою служанку только для того, чтобы доставить мне неприятности. Мало ему того, что мой Бальдур, точно жалкий батрак, живет на сеновале, а я провожу те дни, когда под сердцем моим растет дитя, в своей комнате, будто жалкая приживалка. Нет, ему еще нужно было лишить меня той женщины, которая не отвернулась от меня. В январе, когда моя мать родила ребенка, Эстульф забрал у меня и моих трех «Ф». Да, моя мать родила. Десятимесячного. Мальчик маленький и слабый, он выглядит недоношенным, а не переношенным. Судя по тому, что мне рассказали, роды проходили очень тяжело и длились два дня. Я поставила в часовне перед Богородицей свечку, а когда все закончилось, отправила к матери Фернгильду, чтобы передать ей мои искренние поздравления. В результате Фернгильда тут же стала кормилицей младенца, а на следующий день у меня забрали Фриду и Франку, мол, нужно же кому-то присматривать за моей ослабевшей после родов матерью. По словам Эстульфа, Фрида и Франка лучше всего подходят для этого. Беспокоясь о здоровье матери, я не стала возражать и осталась без служанок. Эстульф предложил мне замену, но я отказалась. Все остальные девицы в замке — просто дурочки, которые ни волосы заплести не могут, ни платье в порядок привести. Они скорее навредили бы мне, чем помогли. Воткнули бы мне шпильку в ухо, а не в косу. К тому же они стали бы доносить Эстульфу обо всем, что я делаю.
Он повсюду. Я знаю, никто не верит мне, но Эстульф охотится за мной. Правда, теперь он изменил свои методы. Он больше не пытается убить меня, потому что нашел другой, более действенный способ свести меня со свету.
В последнее время из моей комнаты пропадают всякие вещи. Вот они еще здесь, а на следующий день их уже нет. Точно так же полгода назад из моих покоев пропал кинжал, которым убили папу. Ночью эти вещи забрать не могли, потому что я всегда запираю дверь на засов, но вот днем я иногда выхожу — на кухню, на крепостную стену, к Бальдуру на сеновал, к моим лошадям на конюшню. В это время любой мог бы проникнуть в мою комнату. Стражникам, которые стоят у моей двери, я не доверяю. Кто платит, тот и музыку заказывает. Я не знаю, сами ли они воруют мои вещи или просто отворачиваются, когда кто-то из слуг Эстульфа роется в моей комнате. Пропал шлем моего отца, который я забрала из потайной комнаты. Пропали подаренные мне отцом на семилетие четки — он сам смастерил их для меня. Пропали мои перья. Пропало драгоценное кольцо короля — я позабыла надеть его с утра. То, что пропадают столь разные предметы, может означать лишь одно — Эстульф хочет досадить мне. Он хочет свести меня с ума или выгнать из замка. И сегодня он продвинулся в своих намерениях. Пропала… я едва отваживаюсь написать это… шкатулка с моими записями. Она была спрятана в двойном дне одного из сундуков, спрятана и заперта, а ключ я всегда ношу с собой, но как маленькая шкатулка может противостоять бургграфу? Эстульф взломал ее быстрее, чем я чихнула бы.
Я хотела перечитать то, что написала о себе и Мальвине, мне нужно было что-то, что порадовало бы меня. И я обнаружила, что шкатулка пропала.
Я этого не понимаю. Никто не знал о моем тайнике. Разве что одна из трех моих «Ф» могла бы когда-то заметить двойное дно в сундуке. Да, а теперь все три «Ф» служат моей матери и Эстульфу… Это ужасно. Если мои опасения верны, то все, что я написала за последние месяцы после смерти моего отца, попало в руки этому тирану. Он знает о моих разговорах с Бальдуром, о моих тайных чувствах, о моих переживаниях, мечтах, воспоминаниях. Он знает, что я думаю о моем муже, о моей матери. Он знает о Мальвине и обо мне. Он знает, что Мальвин — отец моего еще не рожденного ребенка. Он знает. И он в любой момент может применить эти знания против меня. И против Мальвина. Возможно, он уже отослал письма герцогу в качестве доказательства моего прелюбодеяния и греховных действий Мальвина. Или ему достаточно знать, что я знаю? Знать, что я знаю, что он может это сделать? Да, это вполне в его характере. Возможность шантажировать меня. Как это подло! Так он избавится от меня, не испачкав рук. Он не прольет мою кровь и при этом получит то, что хочет. Я вынуждена буду отказаться от всех моих притязаний. Так он думает. А мать ведет себя как всегда. Делает вид, что ни о чем не знает.
Я отправилась к Бальдуру на сеновал. Это далось мне нелегко.
— Эстульф завладел тем, что может очень навредить нам, — призналась я.
Бальдур невозмутимо лежал на сене, выстругивая очередную стрелу. Когда мой супруг не гуляет по зимнему лесу, он вот уже несколько месяцев только тем и занимается, что целыми днями выстругивает стрелы. Их уже достаточно для того, чтобы вооружить целую армию. Вот только, к сожалению, у Бальдура нет ни металлических наконечников для стрел, ни солдат.
— Ты не услышал, что я сказала? — нетерпеливо переспросила я.
— Я же не глухой.
— Речь идет о… бумагах. О… записях. Я изливала на бумагу мою ярость, печаль и тоску, я винила тех, кто против нас, понимаешь?
— Я же не тупой.
— Раз ты не глухой и не тупой, то сейчас самое время для того, чтобы ты поговорил со мной.
— Ты хочешь поговорить со мной? Это что-то новое. Ну хорошо, что там с этими потерявшимися бумагами?
— Потерявшимися… Ты так говоришь, будто я сама положила их куда-то и забыла. Их украли. Их украл Эстульф… по крайней мере, я не знаю, кому еще это могло понадобиться. При помощи этих записей он сможет шантажировать меня, а значит, и тебя.
— Ты была настолько неосторожна, что записывала туда что-то щекотливое?
— Именно по этой причине люди и делают подобные записи. Если бы речь шла не о чем-то щекотливом, то я могла бы поговорить об этом с кем угодно, хоть с прачками.
— Ты могла бы хранить тайну в себе.
— Я не собираюсь спорить об этом с человеком, который считает умение писать чем-то вроде болезни, от которой целители еще не нашли снадобья.
— И кто теперь не дает нам спокойно говорить, ты или я?
Три месяца, проведенные на сеновале, превратили Бальдура в философа — насколько это возможно, конечно. Он был никому не нужен, как эти его стрелы без наконечников, и поэтому погрузился в раздумья. Мой муж стал спокойнее и перестал колоть орехи голыми руками.
— Если Эстульф расскажет всем о том, что я написала, то это не закончится ничем хорошим ни для меня, ни для тебя.
— Если он это сделает, клянусь тебе, он не жилец.
— Как и я, — раздраженно отрезала я. — Может, мы придумаем что-то для того, чтобы спасти меня? Ты не мог бы ненадолго отложить эти стрелы?
— Все настолько плохо?
Я глубоко вздохнула.
— Ты имеешь право узнать об этом. Я…
— Я не хочу этого знать, Элисия. Что бы это ни было, сохрани это в тайне от меня, сделай мне такое одолжение.
— Хорошо, но… разве ты не хочешь…
— Нет.
Мы немного помолчали. Бальдур вырезал свою тысячную стрелу, а я стояла рядом со стогом сена, на котором мой муж развалился, точно усталый пес. Я была готова все рассказать ему, даже рискуя тем, что он изобьет меня и обругает. Я думала, что он почувствует себя уязвленным, но поймет, что для сохранения его чести необходимо скрыть мою измену. Ревновать Бальдур не станет. Мы никогда не любили друг друга и лишь в начале наших отношений испытывали друг к другу страсть. Я рассчитывала на то, что мой муж придет в ярость, но вскоре успокоится. Он хотел стать графом, а это было возможно только в том случае, если Эстульф не предаст огласке написанное и не станет шантажировать меня, чтобы я отказалась от титула и земель.
— Остается только один выход, — сказала я. — Я возвращаюсь к тому, о чем говорила в декабре. Эстульф должен умереть.
Бальдур промолчал.
— Я знаю, тебе противна мысль о коварном убийстве. Ты думаешь, мне она нравится? Кому я когда-либо причиняла зло? Я всегда хорошо относилась к слугам, раздавала милостыню бедным, как и полагается, я любила своего отца и уважала мать, хотя последнее и давалось мне нелегко. Я молилась за души моих предков, я грустила, когда сыновья Бильгильдис, друзья моего детства, пали на войне. Я даже пауков и жуков в своей комнате раздавить не могу. Я знаю, иногда я сердилась на тебя и не всегда была тебе хорошей женой… А недавно… недавно…
— Все в порядке, Элисия. Я знаю, что такое любовь.
Должна заметить, что Бальдур удивляет меня в последнее время. Жизнь в этом сарае — он тут словно Диоген в своей бочке — вызвала в нем то, что всегда было скрыто от меня, а может быть, и от него самого. Подозревал ли Бальдур, что ребенок не от него? Подозревал ли он, кто отец? Как бы то ни было, его спокойствие, в котором читалась какая-то неведомая мне в нем ранее чувствительность, пробудило во мне нежность. Сейчас Бальдур был ближе мне, чем когда бы то ни было. Я знала, что ближе ему уже не стать, знала, что никогда не полюблю его, но впервые в жизни я увидела в Бальдуре живого человека со своими страхами и надеждами, а не наделенную даром речи машину для убийства.
Я присела рядом с ним. Этот сарай стал его покоями, а сбитое в кучу сено — его ложем. В воздухе висел запах сухой травы, солома лезла в нос, вокруг прыгали какие-то мелкие букашки.
— Знаешь, Бальдур, мы заключили наш брак пред ликом Господа, но Бог не благословил нас, верно? Думаю, ты согласишься со мной. Я была для тебя дочерью твоего господина, женщиной, которая позволила тебе стать полководцем. Положим, я немного нравилась тебе, я ведь не дурнушка, но главным образом… Останови меня, если я неправа.
Бальдур молчал. Он выстругивал древко.
— А ты был для меня самым верным, самым лучшим приближенным моего отца, человеком, которому отец доверял свою жизнь на войне, человеком, готовым закрыть моего отца собственной грудью, человеком, который думал как он, человеком, которому нравилось то же, что и ему. И я должна сказать тебе — как мужчина ты поражал воображение. Высокий, статный… Ты мне нравился. Ты словно был создан для того, чтобы стать папиным наследником, хозяином этого замка, графом этих земель. Вера в это связывала нас больше, чем что-либо еще.
Бальдур отбросил свою тысячную стрелу и выпрямился.
— Раз уж у нас зашел такой откровенный разговор…
— Да, Бальдур, нам стоит откровенно поговорить.
— …то нам следует называть вещи своими именами. Тебе никогда не было до меня никакого дела. Тебя не интересовала моя жизнь, ни до свадьбы, ни после нее. Ты хоть раз сшила мне тунику, как полагается жене? Ты была равнодушна ко мне. Главным для тебя было то, что я нравился твоему отцу. А еще я говорил, как он, я повторял его слова, я думал, как он, делал то же, что и он, был похож на него. Если бы какая-то собачонка смогла бы подражать твоему отцу, то ты и за пса замуж вышла бы.
— Это смешно.
— Да ну!
— Ты преувеличиваешь. Не знаю, о чем мы спорим. Я лишь сказала, что я хотела выйти за человека, который пошел бы по стопам моего отца, и этим человеком был ты.
— Ошибаешься. Ты не хотела выйти за человека, который пошел бы по стопам твоего отца. Ты хотела сами стопы твоего отца.
— Хотела стопы отца? Что это вообще за фраза такая? Она бессмысленна. То я вышла бы замуж за собачонку, потом я хотела бы стопы отца… Что за чушь?
— Для женщины, которая пишет себе самой длинные и наверняка исполненные глубочайшего смысла и умных мыслей письма, ты как-то несообразительна. Я имею в виду, что ты никогда не хотела, чтобы я был Бальдуром. Если твой отец упрекал меня в том, что я не разделяю его мнение, то ты принималась пилить меня. Если я добивался чего-то, чего твоему отцу никогда бы не удалось достичь, ты считала, что мне и заниматься-то этим не стоило. Ты мечтала выйти замуж за человека, который был бы как Агапет. За воина, за полководца, за бравого парня, за победителя, за героя. Да, наверное, можно сказать, что ты хотела выйти замуж за собственного отца.
Я встала. От такой чудовищной чуши я сперва вообще лишилась дара речи.
— Я думала, что могу хоть раз в жизни нормально с тобой поговорить, — заявила я, взяв себя в руки. — Если таков итог твоего трехмесячного пребывания в этом сарае, то я и думать не хочу о том, что случится после полугода жизни на сеновале.
— Но я должен тебе кое-что сказать, — совершенно невозмутимо продолжил Бальдур. — Я никогда не был таким, как твой отец. Может, я и казался похожим на него, но… Ты знаешь, почему я ходил на войну? Потому что я люблю жить среди солдат, я люблю нашу дружбу, наше братство, люблю вечера у костра, люблю сражаться плечом к плечу, люблю всеобщую радость, когда бой приносит победу, люблю объединяющую нас печаль, если битва обернулась поражением. Люблю запах конского пота и топот копыт, когда двадцать лошадей в ряд галопом несутся по полю. Люблю прохладную гладкую нежность металла, люблю хорошие мечи. Слава нужна мне лишь для того, чтобы разделить ее с ребятами из моего отряда. Я люблю войну за все это, и потому мне нужна война. А что любил в войне твой отец? Кровь и смерть. После своего первого похода он вернулся домой счастливый, оставив два десятка женщин вдовами. После своего второго похода он был счастлив, оставив уже три десятка женщин вдовами. Но потом ему и этого стало мало. Он получал удовольствие от победы, только если на войне гибли женщины и дети. Если бы ты знала, скольким невинным он перерезал горло или отрубил голову. Вид горящей деревни был усладой для его глаз. Он был мясником, неспособным на великий и честный бой. Его смерть была столь же ничтожной, как и его жизнь.
— Я не намерена все это слушать.
— Это правда, ты не намерена. Ты можешь уйти и вернуться в свой мир лжи, ведь ты прожила там двадцать лет и стала настоящей умелицей в искусстве самообмана. Что твой отец дал тебе? На семилетие он подарил тебе четки, а спустя пятнадцать лет — кольцо. Что-то еще, может быть? Нет. Но ты считала его святым.
— Я думала, что могу поговорить с тобой об Эстульфе.
— Я презираю его так же, как я презирал Агапета, ибо он тоже слаб, как и твой отец, пускай его слабость и проявляется иначе. Агапет был слаб, потому что ему нравилось побеждать слабых и не замечать силы тех, кто рядом. Эстульф слаб, потому что он хочет добиться мира на земле, осушая болота и раздавая пищу бедным. Глупец! Венгрия, Западно-Франкское королевство, Бургундия — они покажут Эстульфу, в чем его ошибка, но будет уже слишком поздно. Он просто не понимает, что война может сменить свое лицо, но не душу. Война вечна. Она может завершиться для тебя, только если ты умрешь.
— Меня интересует, что ты собираешься делать с Эстульфом.
— Я уже делаю, ты просто этого еще не заметила.
— Что?
— Я жду.
— А как же мои записи? Что мы будем делать, чтобы вернуть их?
Бальдур улыбнулся. Я еще никогда не видела, чтобы он так улыбался.
— А тебе не приходила в голову мысль о том, что мне все равно? Все равно, что случится с тобой. Если станет известно, что ты там вытворяла, с кем бы, где бы это ни было, то… что ж, ты долго была моей женой. Я стану вдовцом. Но я все равно был зятем Агапета. А что до Эстульфа и твоей милой мамочки, то вскоре и им будет не до тебя, потому что им придется бороться за собственное выживание.
Выйдя из сарая, я замерла в нерешительности. Вместо своего супруга я увидела там совершенно чужого мне человека, который, как я полагала, способен был бы лично утопить меня — по решению суда, конечно, потом бросить моего ребенка в лесу на съедение волкам — тоже по решению суда, а затем с той же холодной улыбкой на устах подняться на графский трон. И он не сказал мне, как собирается выполнить свою угрозу.
Но весь ужас ситуации я поняла, лишь когда вернулась в свою комнату и села перед зеркалом. Я была одна. Впервые в жизни не было никого, кто помог бы мне. Всего за полгода я стала совершенно одинока. Мой отец убит, мать стала моим врагом, и даже мой муж готов был пойти против меня, пусть и не без причины, как я вынуждена была признать. Бальдур никогда не вдохновлял меня, не поддерживал меня, не давал мне советов, но я вдруг осознала, что он был чем-то вроде стены за моей спиной, стены, на которую я хоть и не опиралась, но все же чувствовала, что она есть, и это успокаивало меня. А теперь и Бальдура нет рядом.
Бильгильдис, моя кормилица, заботившаяся обо мне с самого детства, уехала из замка по приказу Эстульфа. Даже троих моих «Ф» у меня забрали, и только их мрачное пение осталось мне, речитатив, каждый вечер звучащий в нашем замке:
Кто тысячи слов бессердечных услышал,
кто тысячу дней горевал,
душа того до костей усохла.
Голод свой он отчаянием утолит.
Но я вынесла бы все эти потери, если бы Мальвин остался со мною. Он пришел в мою жизнь и принес в нее чувства, которые я раньше не могла ни испытывать, ни принимать. Я поняла, что для меня намного важнее дарить любовь, чем получать ее. Мальвину нужна была я — я! Он хотел меня. Ему нужна была моя любовь, а для меня самым лучшим было эту любовь дарить. Для меня это было важнее брачных обетов, веры в заповеди, покоя души моей после смерти и сохранения моей чести при жизни. После того, как Мальвин уехал, я будто бы очутилась в комнате без стен, а сегодня я поняла, что эта комната со всех сторон окружена пропастями.
Кара — последняя, кто остался у меня, кроме разве что вот уже шесть месяцев растущего в моем чреве ребенка. Какая причудливая насмешка судьбы: те, что должны быть мне ближе всех, далеки от меня, а моей подругой стала женщина, попавшая сюда из далекой страны, страны, чей народ воюет с моими соплеменниками. Кара сразу понравилась мне, но по вполне понятным причинам она долгое время не хотела сближаться со мной. Она была осторожна и подозрительна, как, впрочем, и любой был бы в ее положении. Но и она поняла, что между нами есть связь, которую я называю «духовным родством».
К счастью, чем морознее становилась зима, тем больше оттаивало сердце Кары. Она согласилась проводить со мной по часу в день, словно хотела посмотреть, к чему это может привести. Я принесла ей игральные кости, она же отблагодарила меня, сделав из тряпичной бумаги карты. Так мы отгоняли скуку, подкрадывавшуюся ко всем в это холодное время года. Час в день вскоре превратился в два часа, а потом и в целый вечер. Я знаю о ней и Бальдуре, но молчу об этом, делая вид, что меня это не касается. В конце концов, мне тоже когда-то нравился Бальдур, а так как — я уже не раз писала это — существует это «духовное родство» между мною и Карой, неудивительно, что ей нравится Бальдур. А что до моего мужа… Несложно ощутить влечение к такой девушке, как Кара. Мой отец тоже был сражен ее красотою настолько, что похитил ее, как некогда Парис украл возлюбленную свою, прекраснейшую Елену.
И вдруг ее лицо возникло рядом с моим в зеркале.
— Кара. Пресвятая Богородица, как ты меня напугала! Я не слышала, как ты вошла. А еще я думала, что заперла дверь.
— Вы так и сделали. Я была тут до вашего прихода, сидела вон там, на стуле в темном углу, и ждала вас.
— И стражники пропустили тебя?
— Они знают, что я стану кормилицей вашего ребенка. Мне не следовало ждать вас здесь?
— Нет-нет, просто… Мне кажется, эти стражники представляют для меня угрозу, а вовсе не защищают меня. Они не выполняют мои приказы, впускают ко мне кого попало. Они подчиняются Эстульфу, моему недругу — и твоему, кстати, тоже. Но вообще, конечно же, тебе можно ждать меня здесь. Я рада твоему визиту. Знаешь, сейчас я рада тебе больше, чем когда бы то ни было.
Кара поняла, что на этот раз играми мне не помочь, и убрала карты. Мое подавленное настроение сменилось ощущением полной безнадежности, и я начала рассказывать о прошлом, как старики, бывает, говорят о старых-добрых деньках своей молодости. Я вспоминала, как водила хороводы с Гаретом, Гербертом и Геральдом вокруг моего отца; как бросала камешки в стоявшую в пяти шагах от меня миску — отец улыбался всякий раз, когда мне удавалось попасть в цель. Вспоминала его рот — как папа смеялся! Вспоминала слезы на его глазах в день моей свадьбы с Бальдуром.
Я вспоминала многое.
К тому моменту, как я рассказала все это Каре, в комнате уже сгустились сумерки и наши отражения в зеркале превратились в смутные, но удивительно похожие друг на друга очертания.
— Я знаю, — сказала я, отирая слезы со щек, — что мой отец похитил тебя и хотел возлюбить тебя против твоей воли. А ведь он должен был искать любовь не на чужбине, а здесь, в своем замке. То, что он намеревался сделать, было плохо. И неправильно. Я понимаю, что ты должна ненавидеть и презирать его, точно так же, как я должна любить его за все, что он сделал для меня. — Я взяла ее руку и осторожно провела кончиками пальцев по тыльной стороне ее ладони.
В комнате было холодно, огонь в камине давно погас. Встав, я зажгла масляные лампы и уложила дрова в камине. Кара помогла мне.
Хотя она всегда уходила от ответа, когда я спрашивала о ее семье, я не смогла сдержаться:
— А у тебя были хорошие отношения с твоими родителями?
До сих пор мне удалось выяснить у Кары только то, что у нее есть муж и трое детей (узнав об этом, я сразу пообещала ей, что помогу ей вернуться домой, как только стану графиней… правда, я не верила в то, что это произойдет в ближайшем будущем, и особо Кару не обнадеживала).
— С мамой — очень хорошие. Она была доброй женщиной и никогда не жаловалась на свою судьбу.
— А твой отец?
— Вы можете дать мне слово, что никому не расскажете о том, чем я намерена поделиться с вами?
— Кара, ты обижаешь меня.
— Простите. Мой отец был главой племени, одним из семи вождей, из которых мой народ выбирает главного вождя.
— Так, значит, ты тоже из благородной семьи?
— В каком-то смысле.
— Мой отец знал об этом?
— Нет, никто из ваших не знает, и я хочу, чтобы так было и дальше.
— Но если бы об этом было известно, к тебе относились бы совершенно иначе.
— Да. Хуже. Мной бы воспользовались для того, чтобы шантажировать мой народ. Может, со мной и обращались бы лучше, будь я христианкой, но так… В глазах ваших предводителей наши вожди мало значат, а их дети — еще меньше.
— Боюсь, ты права. Но скажи, каким был твой отец?
Кара подбросила два поленца в разгорающееся пламя.
— Он не ценил меня. Почти никогда не заговаривал со мной, и мне нельзя было обратиться к нему, пока он мне не позволит. Мне было очень обидно, ведь так хотелось получить его внимание. Он обожал своих сыновей, хотел сделать из них воинов. И к сестрам моим отец относился неплохо, потому что они повиновались ему во всем. Но не я. Мне нравилось меряться силами с другими людьми. Если что-то удавалось мне лучше, чем моим братьям, отец запрещал мне заниматься этим, если же я допускала какую-то ошибку, он прилюдно насмехался надо мной. Но большую часть времени он просто не обращал на меня внимания. Отец винил маму в том, как я веду себя, и это очень огорчало ее. Ради мамы я стала сдержаннее. Думаю, отец посчитал это своей победой. А потом, когда мне исполнилось пятнадцать… Он начал обращать на меня внимание, больше, чем мне хотелось бы. Иногда он трогал меня… там, между ног.
— О господи!
Кара протянула руку к огню, и я последовала ее примеру. Где-то в глубине камина глухо треснуло полено.
Я ждала продолжения этой истории, но пришлось спрашивать у Кары, что было дальше.
— Однажды утром мой отец, мой старший брат, муж моей старшей сестры и несколько других мужчин отправились на охоту. Стояла осень, над землей клубился туман. Они собирались поохотиться в соседнем лесу, подстрелить пару кабанов. Но все сложилось не так, как они думали. Стрела пронзила горло моего отца. Он умирал долго и мучительно.
— Какой ужас!
— Да. На этой стреле стоял знак моего брата, и потому все подумали, что это его вина. Это причинило вред чести нашей семьи. Моего брата никто не обвинял в том, что он застрелил отца намеренно, но стрелять в густом тумане в едва различимую цель… Это небрежность, недостойная воина. Брат утратил влияние и уважение окружающих, и двумя годами позже мне было разрешено самой выбрать себе мужа, что не так часто бывает у моего народа.
— Значит, можно сказать, что смерть твоего отца принесла тебе удачу.
— Да, — ответила Кара. — Такова была воля богов.
Эта история не шла у меня из головы. Из-за нее я не могла заснуть. Я смотрела во тьму комнаты и представляла себе отца Кары. Она не описывала мне, как он выглядит, но почему-то он виделся мне широкоплечим статным мужчиной с седыми волосами. Этот человек не боится в этой жизни ничего, кроме разве что старости. А потом в горло ему попадает стрела, выпущенная из лука его сына… И дело было вовсе не в подробностях этой истории, а в сходстве наших с Карой судеб. Ее отец был воином, предводителем своего племени, как и мой. Ее отец умер от раны в горле, как и мой. Она пленница, да и я теперь почти что в плену. И ее, и моей жизни угрожает опасность. Конечно, есть между нами и различия: отец плохо относился к Каре, в то время как мой папа любил меня; смерть отца принесла Каре удачу, мне же одни невзгоды. Словно судьба одной, как в зеркале, отражается в судьбе другой.
Посреди ночи я вышла из своих покоев и отправилась к Каре, чтобы попросить ее переселиться ко мне. Одиночество сводило меня с ума. Мне нужен был кто-то близкий, а Кара была мне как сестра. Я тихонько постучала в дверь, но она уже спала, уютно устроившись на лежанке из двух шкур и шерстяного одеяла. Лучик лунного света падал сквозь бойницу, он серебрил лицо Кары, и казалось, будто оно скрыто маской.
Я не стала будить ее. Мне довольно было и того, что она рядом. Я села на лежанку, зажгла маленькую лампаду, стоявшую на полу рядом со шкурами, и набросила на плечи одеяло. Устроившись поудобнее, я ждала, когда же усталость заставит меня уснуть. Я довольно долго просидела там, подтянув колени к груди, и вдруг заметила на стене какие-то странные царапины. Мои глаза уже давно привыкли к царившему тут полумраку, отблески света плясали на каменной кладке, и на моих глазах царапины превратились в слова, а слова — в строки, и я поняла, что весь угол комнаты исписан какими-то знаками. Поднявшись, я подошла к стене и внезапно очутилась в окружении целой истории. Слова на неизвестном мне наречии теснились со всех сторон, они покрывали все стены, как в древних склепах, и я не видела, где начало этой истории, а где конец.
Я была сражена. Мы с Карой, люди одного положения, одного рока, мы избрали, в сущности, один и тот же способ, чтобы поведать о себе.
И только тогда я поняла, как тесно переплетены нити наших судеб.
Я уснула там, на ее ложе, окруженная ее письменами.
Кара
Прошлой ночью я рассказала Элисии о смерти моего отца, и потом мне приснился один из этих снов, снов из яви.
Раннее утро. Осень. Туман над землей. Я помогаю маме печь хлеб — отец, мои братья и другие мужчины возьмут его на охоту. Они уходят.
Я придумываю предлог для того, чтобы выйти из дома.
Я следую за ними в лес, держусь от них подальше. В одной руке у меня лук, в другой — три стрелы, которые я вытащила из колчана моего брата.
Я крадусь по густым зарослям.
Я прицеливаюсь.
Первая же стрела пробивает горло моего отца. Он падает на землю, он задыхается. Я уже далеко оттуда, но все еще слышу его исполненный муки хрип.
Клэр
Быть может, это последние мои строки. Я так слаба, что едва могу удержать перо, оно все выскальзывает и выскальзывает из моих рук, а я так устала, что мне не хочется поднимать его вновь. Я знала, что когда-нибудь этот день наступит, но я надеялась, что этому суждено случиться еще не скоро. Я вверяю душу мою Господу, ибо всю свою жизнь я поклонялась Спасителю нашему и лишь на полгода отвратилось сердце мое от него. Я неустанно молюсь за сыночка моего, Рихарда. Я молю Господа, дабы не изливал он гнев свой на невинное дитя, ибо это я согрешила, это я повинна во всем, а ему ведь всего несколько недель от роду. Едва узнав о том, что ношу дитя под сердцем, я молила Господа о его спасении, и молитвы мои, верно, были услышаны. Рихард родился слабым, но в нем уже была воля к жизни, благодаря которой он крепчает день ото дня. Меня же любовь Эстульфа хоть и сделала вначале сильной и отважной, но, невзирая на эту любовь, теперь силы покидают меня.
Господь хочет покарать меня: я поссорилась с Элисией, я не могу увидеться с Оренделем, душа моя ослабела зимой, и я стала злой и раздражительной, роды были тяжелыми, и хворь моя не отступает вот уже много недель. Так проявляется воля Божья, и я покорна Ему. Я готова принять небесный приговор.
У меня осталось мало сил, но я доведу до конца то, что начала. Первые слова этих записей появились на бумаге в конце лета прошлого года, тогда они славили смерть Агапета и жизнь Клэр. Счастье переполняло меня, и когда я писала те строки, то будто пела от радости, когда же я читала и перечитывала записи той поры, казалось, словно я слышу отголоски своего счастья. Пускай не все события той поры дарили мне отраду, было тогда в моей душе место и печали, и гневу, и непониманию, но источник моего вдохновения оставался неизменным — Эстульф. Без него я никогда бы не написала первое слово этой истории, без него я не сидела бы здесь и не мужалась бы пред ликом смерти. Эстульф показал мне стороны моей души, никогда не открывшиеся бы мне без любви, любви, что не ведает условий. Ни в детстве, ни в юности, когда я вышла замуж, я не чувствовала себя вполне живой, ибо детство было для меня порой ожидания тех времен, когда я стану взрослой, а юность — временем разочарования оттого, как живется в мире взрослых. Дети вдыхали в меня какое-то подобие жизни, но по-настоящему я ощутила это лишь благодаря Эстульфу. Да простит мне Господь мои слова, но та судьба, что была уготована мне до встречи с Эстульфом… Этого мне было недостаточно. Именно поэтому я не жалею о том, что произошло с тех пор. Да, я могу сказать — мне жаль. Но на самом деле, будь у меня шанс все исправить, я оставила бы все как есть. Даже если бы я знала, что после смерти меня ждут вечные муки в преисподней, я все равно не пожалела бы о последнем годе моей земной жизни. Это было время моего расцвета. Кто-то скажет, что то расцвел ядовитый цветок. Может, и так. Но цветение мое принесло свои плоды, и я до последнего вздоха буду благодарна миру за то, что Рихард появился на свет. И разве важно, сколько нам лет, двадцать пять, сорок или восемьдесят, если в этом возрасте мы открываем главное в жизни? И разве важно, сколько времени мы сумеем сохранить это, десять дней или тысячу лет?
Теперь же я хочу обрести покой. Цену за то, что мне суждено было познать любовь, мне придется заплатить не только после смерти. И в нашем мире мне уготована кара за мои прегрешения. Скрепя сердце я отреклась от своей мечты когда-либо вновь увидеть Оренделя. Я запретила Эстульфу привозить сюда моего старшего сына, хотя он и намеревался это сделать. Еще в январе, незадолго до рождения Рихарда, все было наоборот.
Тогда я сказала Эстульфу:
— Теперь, когда викарий уехал, опасность миновала. Нам больше не нужно бояться того, что меня обвинят в похищении Оренделя. Давай вернем его в замок как можно скорее.
— Как я хотел бы поддержать тебя в этом, Клэр. Я знаю, что тебе сейчас нельзя волноваться, но твое впечатление от происходящего теперь обманчиво. Герцог до сих пор не подтвердил мой титул. Бурхард молчит, и мне это не нравится. Бальдур следит за нами. Если он узнает, что Орендель жив и это ты привела к разлуке мальчика с отцом, Бальдур воспользуется этим, чтобы выступить против нас. А зная, какие у тебя сейчас отношения с Элисией, она поддержит мужа в его начинаниях, даже если это навредит тебе.
— Я готова рискнуть.
— Подумай о том, что, как только Орендель вернется в замок, он сразу же станет графом. Он прямой наследник Агапета. Не подумай, что я не готов отдать ему титул и власть, но… я встречался с ним и должен сказать, что его характер еще не закалился.
— Об этом ты мне не говорил.
— Я не хотел тебя беспокоить. Как ты и сама знаешь, то Рождество стало для тебя непростым временем, и потому я подчеркнул свои приятные впечатления от встречи с Оренделем и умолчал о неприятных. Я не говорю, что Орендель мне не понравился. Мне лишь кажется, что он легко поддается влиянию. Когда я говорил с ним, он все время посматривал на Бильгильдис.
— Это нормально. Она семь лет была единственной ниточкой, связывавшей нас.
— Мне кажется, за всем этим стоит что-то большее.
— О чем ты?
— Я и сам не знаю. Он показался мне не очень умным юношей.
— Он умен, но его ум проявляется иначе, чем у тебя или Элисии. Его дух стремится к творчеству, он не останавливается на чем-то одном. Это может показаться странным, но если бы ты знал Оренделя тогда, когда ему было двенадцать и его речами заслушивались все слуги, а потом повторяли его слова…
— Я верю тебе. Но я не уверен, что Орендель способен на принятие ответственных решений. Он был похож на простолюдина, которому вдруг даровали титул. Такие люди не уверены в себе. Бальдур и Элисия могли бы повлиять на твоего сына и настроить его против нас.
— Орендель согласится на то, чтобы делить с тобой титул и власть, возможно, он даже отречется от своих прав. Насколько я его знаю…
— Но ты его не знаешь, в том-то и дело. В общем, как скажешь. Если ты действительно настаиваешь, я привезу его. Однако же с того самого момента наша жизнь будет в руках юноши, о котором тебе мало что известно.
Я отложила принятие решения на следующий день, а ночью у меня начались схватки. Я потеряла много крови, сами роды я почти не помню. Потом я спала целую неделю. Проснувшись, я чувствовала себя такой уставшей, что не могла думать ни о чем, кроме моего новорожденного малыша, да и ему я не могла уделять достаточно внимания. Потом я постепенно пришла в себя, но не настолько, чтобы принять столь важное решение. Я не вставала с лежанки, на своем ложе я и ела, и молилась. На один час в день мне приносили Рихарда, а все остальное время я спала или держала за руку Эстульфа. Он сидел со мной утром, днем и вечером, рассказывал мне, что происходит в замке и графстве. Конечно, Эстульф говорил только о приятных вещах, чтобы поберечь меня. Я видела, что он что-то скрывает от меня, но была слишком слаба, чтобы волноваться об этом и стремиться узнать правду.
Узнала я ее всего несколько дней назад. Апрельский воздух был свеж, он манил меня, и я решила поддаться этому соблазну. Мне так хотелось поверить в то, что я уже здорова, что я последовала его обманчивому зову.
Я легко поднялась с лежанки и съела завтрак. Три вдовствующие девы, Фернгильда, Фрида и Франка спели мне песни, когда-то сочиненные Оренделем. Мы немного поболтали. Я понимала, что Эстульф откажется рассказывать мне о постигших замок неприятностях, и потому расспросила служанок. Пришлось и уговаривать их, и грозить им, чтобы выведать, какие тучи сгустились над графством.
Купцы недовольны. Они боятся убытков, ведь Эстульф отказался от услуг наемников, и те покидают наше графство со своими семьями, а купцы хорошо зарабатывали на снабжении наших войск. Теперь такого уже не будет. Кроме того, они говорят, что стало трудно вести дела с другими землями нашего королевства, ведь, по слухам, именно наше графство ослабляет страну, делая возможным нападение венгров.
Мало того, аббат монастыря возмущен тем, что Эстульф раздает так много милостыни. По словам отца настоятеля, бедняки ждут, что и церковь станет больше помогать им. Далее, аббат считает, что Господь отвернется от нашего народа и нашей земли, если мы не приложим все усилия для того, чтобы одержать победу в войне с язычниками. По его словам, засилье комаров — это кара Божья, и нам остается лишь покориться воле Его.
Услышав все это, я сразу подумала, что купцы и аббат выражают свое недовольство по чьему-то наущению. Не могли они так быстро переменить свое мнение, кто-то разжег в них эти опасения. Кто-то разнес слух о том, что на нас нападут венгры, о том, что от нас отвернется Господь. И этот кто-то воспользовался стремлением купцов и настоятеля к сохранению прежнего положения дел, а уж у них достаточно власти, чтобы убедить крестьян в своем мнении. Те, кто больше всего страдает от болот, вдруг принялись возражать против их осушения. Конечно же, они не осмеливаются высказывать свое мнение в открытую, но говорят, что крестьяне недовольны правлением Эстульфа. И почему? Потому что их убедили в том, что раз мы сократили количество солдат в графстве (а это было необходимо, чтобы сохранить деньги на осушение болот), то венгры, эти язычники, эти дикари непременно нападут на наши беззащитные земли. Крестьяне боятся погромов, боятся того, что венгры сожгут их дома. Поэтому они думают, что лучше и дальше воевать, чем бороться с засильем комаров и хворями в графстве.
Мне пришлось прикрикнуть на трех девиц, чтобы добиться от них имени.
— Ходят слухи, что ваш зять говорил с купцами, — сказала наконец Фрида.
— А еще он якобы побывал у отца настоятеля, — добавила Франка.
— Его видели с купцами и аббатом в деревнях, — подала голос и Фернгильда.
Я недооценила Бальдура. Зимой ему удалось посеять семена зла, теперь же они проросли. Помогала ли ему Элисия, а может быть, это именно она придумала весь этот коварный план, то мне неведомо. Да и не интересует меня ответ на этот вопрос. Титулу Эстульфа, а значит, и его идеям, которые должны были помочь бедным и обездоленным, угрожает опасность, а Элисия причастна к этому, как ни посмотри. Она завидует моему счастью. Моя дочь, не колеблясь, использует Оренделя для того, чтобы навредить мне, даже если этим она поставит под удар его благополучие и безопасность. Я вижу, насколько далеко зашел Бальдур, чтобы свергнуть Эстульфа. Он не остановится ни перед чем, чтобы и Оренделю не дать сделаться графом. Мой сын оказался бы беззащитен перед ним и либо стал бы его марионеткой, либо пал бы жертвой его интриг. Чтобы защитить Оренделя и Эстульфа (и Элисию тоже, пусть мне и приходится беречь ее от нее самой и Бальдура), я отказалась от мысли вернуть Оренделя в замок, пускай от этого у меня и разрывается сердце. Эстульф, зная, насколько болезненно далось мне это решение, предложил вызвать Бальдура на поединок, чтобы защитить жизнь моего сына. Но я отвергла его предложение. Эстульф слабее Бальдура в бою, и он слишком благороден, чтобы решить проблему так, как сделал бы это Агапет. Мой первый муж в таком положении нанял бы убийцу, чтобы устранить соперника, но совесть Эстульфа и его идеалы не позволят ему так поступить. То, в чем скрыта сила Эстульфа, то, за что я люблю его, в то же время является его наибольшей слабостью. Я хочу, чтобы он жил, чтобы Господом ему была уготована долгая жизнь. Я хочу, чтобы он хоть немного изменил этот мир к лучшему.
Именно это я и сказала ему. Говоря о приближающейся смерти, я видела, как блеснули слезы в его глазах. Мне даже не пришлось просить его, Эстульф сам пообещал мне, что усыновит Оренделя и назначит его своим наследником, когда получит подтверждение своего титула. Поблагодарив его, я расплакалась вместе с ним.
Я чувствую, как холодная рука смерти сжимает мое сердце. Пришло время послать за исповедником. Нужно еще попросить Эстульфа, чтобы он даровал Бильгильдис свободу и наделил ее достойным доходом. Конечно, то же касается и ее мужа, Раймунда. Нет в мире человека, которого я знала бы дольше, чем Бильгильдис. Ее приставили ко мне, когда я была еще ребенком. Бильгильдис старше меня на десять лет, и, несмотря на ее низкое происхождение и работу служанки в доме моих родителей, она была мне словно сестрой и поддерживала меня намного больше, чем мои настоящие сестры. Ее острый ум указывал мне путь в детские годы, а ее грубоватая прямота привела к тому, что я всю жизнь презирала лицемерие и интриги. Благодаря Бильгильдис я никогда не придавала особого значения титулам и власти денег. Из-за того, что я вначале отказалась вступать в брак с Агапетом, Бильгильдис искалечили, и это всегда было мне напоминанием о том, что все нужно решать мирным путем. Чтобы хоть как-то загладить свою вину, я попросила тогда моих родителей отпустить Бильгильдис со мной в этот замок, ибо там, где мы жили, и дети, и даже взрослые насмехались над нею — народ любит глумиться над калеками. Здесь же, в замке, она была под моей защитой. Тот, кто отважился бы посмеяться над нею, навлек бы на себя мой гнев, и все знали об этом. Ей давали самые простые поручения, и никому из слуг не жилось так привольно, как Бильгильдис. Я давно уже даровала бы ей свободу, но по законам брака она принадлежала моему супругу, Агапету, а тот не хотел исполнять мою просьбу. Какое-то время я настаивала на том, чтобы Бильгильдис избавилась от крепостничества, но однажды узнала, что у нее роман с Агапетом. У них даже была тайная комната для встреч. Я не держала зла из-за этого ни на Бильгильдис, ни на моего мужа, потому что я никогда не любила Агапета, а своей служанке желала только добра. Она оставалась моей поверенной, заботилась об Оренделе, и я до сих поражаюсь тому, что ей удалось остаться моей подругой и любовницей Агапета. Она никогда не выдавала мои тайны ему, а его мне. И Бильгильдис никогда не пыталась воспользоваться близостью ко мне или к моему мужу. Ее три сына — возможно, они были сыновьями Агапета? — стали помощниками Агапета в его военных походах и погибли в сражениях. Я была рада тому, что отношения Бильгильдис и Агапета длились много лет, до тех самых пор, пока мой муж не вернулся из похода с этой венгерской девушкой… Я пришла от этого в ярость — и не потому, что он собирался изменить мне. Нет, меня огорчило то, что он хотел изменить Бильгильдис. Бедняжка не заслужила такое обращение. Пускай же теперь у нее всего будет в достатке.
И вот, я заканчиваю то, что начала, и передаю себя высшему суду. Мои мысли в последний мой час будут об Эстульфе, человеке, который знал меня, как никто другой; Оренделе, который знал меня не настолько, как мне хотелось бы; о Рихарде, которому так и не суждено узнать меня. И все же последним словом на моих устах будет имя — Элисия.
Бильгильдис
Вчера до меня дошла весть о том, что после родов графиня очень ослабела, ее настигла какая-то хворь, и вскоре Клэр умрет. Зимой в долине мало новостей, замок далеко, и узнать, что происходит в нем, не легче, чем заглянуть за врата рая. Но едва мороз отступает и поднимается перезвон капели, как люди выбираются из своих домов. Они копошатся, точно муравьи, заглядывают в чужие комнатушки, вынюхивая новые сплетни, обмениваются добытыми известиями: «Старый Гернот помер, только подумайте, свалился, как дрова колол, лежит и не дышит, ага… Младшенький сынок Берты преставился, прям у нее на груди, ужас-то какой, ага… Мария-пастушка дитя в подоле принесла, так мужа-то у нее и нет, вот батюшка-то ее, Гунтер-пастух, ребятеночка в землю и закопал, да поможет ему Господь, ага…»
«Да поможет мне Господь», — думала я, слушая всю эту болтовню. За час разговора я узнала о четырнадцати погибших, а ведь ни с одним из этих людей я не была знакома. Рассказали мне все это две каких-то женщины, которых я раньше даже и не видела. Они говорили тем тоном, в котором под налетом лживого сострадания скрывается восторг от чужих несчастий. Зима без умершего за колкой дров старика, скончавшегося на груди у матери ребенка и похороненного заживо младенца — не зима для таких бабенок. Самое смешное в этом то, что и эти дурочки когда-нибудь подохнут, и весть об их смерти подхватят десятки таких же бабищ. Они с удовольствием рассказали бы мне о пятнадцатом, шестнадцатом, может, даже семнадцатом умершем за эту зиму, но я просто вышвырнула их из дома. Мне не нравилось, что они пришли в мой дом, что-то вынюхивают, задают вопросы. Мне не нравилось, что я потратила вечер на каких-то совершенно неинтересных мертвецов. И мне очень, очень не понравилось то, что они рассказали мне о графине — мол, она настолько слаба, что уже не выходит из своих покоев и почти не поднимается с ложа. Это испортило и без того не лучший вечер.
Я давно мечтала о том, что когда-нибудь увижу графиню в могиле, но она не должна умереть вот так. Смерть от болезни — не наказание для Клэр, ведь она рада будет отправиться в рай. Господь несправедлив. Бог наказывает тех, кто противился дьяволу, но проиграл в неравной борьбе. Бог награждает тех, кто бездумно шел по жизни, успел покаяться в грехах перед смертью и принять соборование. Я так и вижу графиню, о да, вот она лежит на кровати и молится: «Господи, мне так жаль, что Бильгильдис искалечили по моей вине, я же не знала, что такое случится, и все эти годы она была моей крепостной, потому что я считала, что так будет лучше, и не дарила ей свободу, но если я ошибалась, то прости меня, Господи!»
И Господь простит ее. Было бы глупо не простить ее, ведь тогда ее душа отправится в ад. Бог и дьявол на самом деле закадычные друзья, которые поспорили, кто соберет больше душ за десять тысяч лет. Как только все эти годы пройдут, Бог и дьявол пойдут в трактир и разопьют бутылку вина за счет проигравшего. Интересно, о чем они поспорят в тот вечер? Ох, в этом что-то есть! Если я покажу эти записи нашему Николаусу, когда буду умирать, его удар хватит.
Каждый день меня тошнит кровью. Приступы начинаются внезапно, я просто стою, и вдруг мой желудок наполняется кровью, она подступает к горлу, рвется наружу, словно ее слишком много в моем теле. Моя болезнь берет свое. Весь двор забрызган кровью, можно подумать, что тут живет мясник. Вчера вечером ко мне подошел Орендель и спросил: «Ты скоро умрешь, правда?» Я написала ему ответ: «Да, и поэтому мы должны еще кое-что уладить».
Я принесла Оренделю монашескую рясу, которую раздобыл Норберт. Ряса была ему немного велика, зато лицо можно было скрыть под широким капюшоном.
Мы отправились в замок. Орендель, впервые за долгие годы выбравшийся из своего заточения, восхищался первыми почками на деревьях, мягким ветерком и яркой зеленью в долине у реки. Но чем ближе мы были к замку, тем немногословнее становился этот мальчишка. Остановившись у внешней стены, Орендель замер, внимательно и — ах, как это порадовало меня! — мрачно глядя на свой дом.
Я приветствовала встречных слуг и торговцев, узнававших меня, кивком головы. Я шла в сопровождении «монаха», потому никто не пытался заговорить со мной. Полагаю, они думали, что монах должен поддержать графиню в столь тяжкий для нее час, и потому не задерживали нас.
Подобрав подходящий момент, я патетическими жестами дала Оренделю понять, что все это — его земли, принадлежащие ему по праву, и что это мать лишила Оренделя наследства, выйдя замуж за своего любовника и сделав Эстульфа графом.
— И ты действительно думаешь, что это мать и ее любовник убили отца?
Я кивнула.
Мальчик, казалось, был возмущен, но я еще не добилась желаемого результата. Много лет я изменяла его сущность, словно лепя фигурку из глины, а этой зимой у меня была возможность приложить все усилия к тому, чтобы заронить определенные мысли в голову Оренделя. Да, он уже не был прежним радостным, чувствительным, очаровательным мальчонкой, которому так нравилось петь и сочинять стихи. С такой внешностью и таким голосом он мог бы заставить любое девичье сердечко биться чаще, но в душе его уже поселилась тьма. Служенье музам сменилось задумчивостью. Орендель всегда оставался серьезным и немного напряженным, он словно был полон дурных предчувствий. Иногда мне казалось, что на плече у него сидит вещая птица, пророчащая его судьбу. В последние месяцы я подкармливала эту птичку, чтобы она пела моим голосом. Всякий раз, как мы с Оренделем сидели вместе у огня, я писала ему короткие записки, в которых жаловалась, сокрушалась и ругала нашу судьбу.
«Ах, Орендель, видел бы ты своего старого отца в горячих водах купальни, посеревшего, обескровленного, убитого теми, кому он доверял… Каким жутким было для него осознание того, что этот его вздох — последний. Осознание того, что его предала собственная жена».
Да, я забыла упомянуть о том, что я так и не рассказала Оренделю о венгерской твари. Я представила смерть Агапета так, будто в купальню могли проникнуть только графиня или ее любовник.
В тот вечер, когда мы уже приблизились к замку, я написала Оренделю:
«Какая странная прихоть судьбы. Я, вернейшая из слуг твоих родителей, отираю кровь с уст, словно собираюсь последовать за твоим отцом, истекшим кровью. И в то же время окровавленными устами своими обвиняю я убийцу, которой так долго была верна».
Такие письма били точно в цель, нужно было лишь изображать покорность судьбе. Именно так легче всего было достучаться до сердца Оренделя.
Иногда — например, по пути в замок, когда мы поднимались вверх по холму, — в мальчике просыпалась былая натура, и он принимался любоваться природой. Но даже в такие моменты восторг от увиденного омрачался яростью от многолетнего заточения: Орендель чувствовал себя обворованным, словно его лишили и прошлого, и будущего. Он знал, чего лишился, и предчувствовал все новые и новые беды. Благодаря мне о дне завтрашнем он не задумывался и жил в настоящем, где самому себе казался потерянным.
И все же я чувствовала, что, несмотря на это, Орендель не был еще готов дойти до последней черты и убить свою мать.
Я как раз думала о том, что можно сделать, чтобы разжечь в сердце Оренделя ненависть, когда из леса навстречу нам выехал какой-то всадник. Я заметила его слишком поздно. Это был Бальдур. На лошади, обнимая Бальдура за талию, сидела венгерская шлюха. Орендель узнал своего зятя, который семь лет назад еще был простым стражником. Я жестом приказала мальчику опустить голову и молчать.
— Бильгильдис, ты здесь? Я думал, ты покинула нас, как и все остальные. Элисия будет рада тебя видеть, — он посмотрел на шедшего рядом со мной «монаха». — Или ты вернулась не ради нее?
Я дала ему понять, что хочу помочь и Элисии тоже.
— Это хорошо. У нее никого не осталось, знаешь. Ее даже лишили служанок, так что Элисии приходится выполнять всю работу самой, даже дрова носить, а она ведь ждет ребенка. Кара помогает ей, чем может. Сам я не могу помочь Элисии, ведь меня изгнали из замка и мне приходится жить на сеновале. Последние из слуг и те живут лучше меня. Вот до чего мы докатились.
Я мысленно расхохоталась. Бальдур был живым подтверждением того, что все рассказанное мной о замке — правда и в моих словах нет преувеличения. Тиран захватил замок и все графство. Жалобы Бальдура сыграли мне на руку, но я не могла открыть ему истинную личность «монаха». Бальдур воспользовался бы Оренделем в своих целях — вначале показал бы его герцогу, чтобы сместить Эстульфа, а потом как-нибудь устранил бы мальчишку, чтобы самому стать графом. Но что мне до того? Меня интересует кое-что совсем другое.
— Если подумать, — помедлив, протянул Бальдур, — ты могла бы оказать мне одну услугу. — Уже по тону его голоса было понятно, что речь идет о чем-то необычном. — Если тебя не затруднит, я хотел бы пригласить тебя к себе на сеновал.
Да, я явно была нужна ему, иначе Бальдур не стал бы столь вежливо говорить с простой служанкой.
Я последовала за Бальдуром в его сарай, жестом попросив Оренделя подождать меня.
— Ты ведешь монаха к графине? — спросил Бальдур, когда мы вместе с венгерской шлюхой поднялись по лестнице на сеновал.
Тут теперь были все его владения, все его графство. Пара попон, оловянная кружка, краюха хлеба, короткий меч — вот и все.
Я кивнула.
— Ладно, Бильгильдис, я… Не буду ходить вокруг да около. Я знаю, ты всегда была верна своей госпоже, графине. Но ты была кормилицей Элисии и всегда так заботилась о моей жене, поэтому… Если я попрошу тебя о том, что пойдет на пользу Элисии, но навредит графине, ты сделаешь это?
Ответ был прост и очевиден, но стоило ли мне открываться Бальдуру? Он не был мне ни другом, ни врагом, просто туповатый детина, который на свою беду сам ввязался в интриги и почему-то хотел и меня в это втянуть.
Я не знала, на что решиться. Чтобы выиграть время, я воспользовалась старым приемом, полезным только немым: я принялась отчаянно жестикулировать, делая вид, что отвечаю Бальдуру. Вот только он не понимал меня — понимать тут было нечего. Я беспорядочно размахивала руками и сама не знала, что значат все эти жесты. Бальдур беспомощно и немного раздраженно уставился на меня, а затем переглянулся с этой венгерской тварью, но и та не знала, что делать.
— Ты хочешь сказать, что могла бы пойти на такое? — переспросил он.
Я вновь замахала руками. Наверное, со стороны я напоминала марионетку в руках неумелого кукловода.
— Вот, значит, как. — Бальдур откашлялся.
Может быть, он понял, что я задумала. Венгерская шлюха толкнула его под бок, и этот дуралей наконец-то объяснил мне, о чем идет речь.
— Возможно, до принятия какого-либо решения тебе хотелось бы узнать побольше о том, что предстоит сделать. Я буду откровенен с тобой, Бильгильдис, но я жду от тебя молчания.
Молчания! И он говорит это немой!
— Я подал герцогу жалобу на графиню, обвинив ее в клятвопреступничестве. Ее сын — ублюдок. Он якобы родился переношенным, но был так мал, словно его не доносили во чреве. Его отец — Эстульф, я уверен в этом. Если суд герцога подтвердит это, то… — Бальдур не договорил, но и так было понятно, что он имеет в виду.
Если графиню признают виновной в клятвопреступничестве, прелюбодеянии и убийстве, то Эстульфа и Клэр низвергнут и следующим графом станет Бальдур. Но я думала немного о другом. Если Клэр признают виновной, ей отрубят три пальца, а главное, ей вырвут язык, как вырвали его когда-то мне. И только потом я натравлю на нее Оренделя, чтобы он довел дело до конца.
— Для того чтобы добиться успеха в этом начинании, мне нужно доказательство ее вины, а найти такое непросто. Или же мне нужен свидетель, готовый поклясться в том, что графиня изменяла своему мужу с Эстульфом. Если так, то графине придется выдержать ординалии, тяжкие испытания, которые она не пройдет. И я подумал… что ты… как близкий ей человек… что-то знаешь. Если это так, то используй эти знания, Бильгильдис, они не навредят тебе.
Умно придумано. Похоже, жирок, который раньше скапливался у Бальдура только в мышцах, каким-то образом вылился ему в его тупую башку, наверное, во время полуночных игрищ с венгерской шлюхой. Вот только у его плана был один существенный недостаток — я крепостная, а значит, мои свидетельства не принимаются в суде.
— Если сейчас ты думаешь о том, что твои слова не будут иметь в суде никакого значения, то могу тебя успокоить. До меня дошли слухи о том, что Эстульф и графиня собираются даровать тебе свободу. Чтобы ты могла насладиться жизнью свободной женщины, я думал о том, чтобы подарить тебе и Раймунду хутор — я мог бы сделать это, когда стану графом. Я подарил бы вам и немного собственной земли с крепостными крестьянами, небольшой лес для охоты… На старости лет вы заживете в роскоши.
Подкупать меня сладкими обещаниями не имело смысла, ведь моей наградой должна стать месть. К тому же подобное вообще мало интересует умирающих. Но как по мне, так пускай Бальдур верит в то, что я помогаю ему из жадности. Я приняла решение.
Когда я вышла из сарая, Орендель внимательно смотрел на крепостную стену. Проследив за его взором, я увидела на стене Элисию.
— Я не помню ее такой, — грустно сказал Орендель. — Она кажется одинокой и какой-то… всеми покинутой. Ты только посмотри на ее платье, ее волосы, ее осанку. Когда я был маленьким, я всегда думал, что вырасту и буду защищать свою сестренку. Не знаю даже, от чего. От разбойников, наверное. Я хотел стать ее героем, ее спасителем, — мальчишка повернулся ко мне. — Я должен что-то сделать, Бильгильдис.
Ну наконец-то! Я увидела в его глазах то, чего я так долго ждала. Решимость и гнев. Орендель вычеркнул мать из своего сердца.
Я разместила Оренделя в комнате по соседству с моей собственной. Никто не удивился бы его присутствию в замке, потому что мы и раньше часто давали приют странствующим монахам.
Разумеется, я предупредила Оренделя, чтобы он не выходил из комнаты, разве что для молитвы в часовне. В таком капюшоне никто в замке его не узнает, даже Элисия, к тому же он очень изменился за эти семь лет. А что до Эстульфа, то он знал совсем другого «Оренделя», настоящего он никогда не видел. Единственным человеком, который мог бы что-то заподозрить, была графиня, но она слегла от болезни. Все складывалось как нельзя лучше.
Потом я отправилась к Клэр. Она действительно очень плохо выглядела: серые губы, вялая кожа, полуприкрытые ресницы. Увидев меня, графиня улыбнулась и протянула мне руку.
— Бильгильдис! Как я рада тебя видеть. Мне так тебя не хватало. Сними накидку и посиди со мной.
Рыжие плаксы суетились у ее ложа, ухаживая за своей госпожой и младенцем.
— Позавчера я почти потеряла надежду на то, что несчастная выживет, — шепнула мне Фернгильда, снимая с меня накидку.
— Но с тех пор ей намного лучше, слава Богу, — добавила Фрида.
— Если в дело не вмешаются злые силы, — Франка трижды плюнула через левое плечо, — то уже через две недели госпожа встанет на ноги.
Но все ее плевки не помогли. Злые силы в моем лице подобрались к ложу больной…
Клэр отослала плакс из комнаты.
— Ах, я сама не своя от любопытства. Что ты расскажешь мне об Оренделе? Он хорошо перенес зиму?
Я успокоила ее, кивая после каждого заданного ею вопроса, а их были сотни, как и всегда, когда речь шла об Оренделе.
— Мы с Эстульфом решили еще немного подождать. Оренделю сейчас нельзя приезжать в замок, это не позволяет сделать вражда, поселившаяся в этих стенах. Помещать мальчика в такие условия было бы безответственно, ведь Орендель такой впечатлительный, не то что другие юноши его возраста. Ты согласна со мной, Бильгильдис?
Я кивнула. Графиня задала мне еще пару вопросов об Оренделе, а потом указала на стол, у которого она обычно писала письма.
— Пожалуйста, подай мне вон тот свиток. Да, вот этот, слева. Он твой. Пожалуйста, разверни его.
Я начала читать этот документ.
Мы, Эстульф, граф Брейзахский, и Клэр из Лангра, графиня Брейзахская, даруем нашим крепостным Раймунду, рожденному в Засбахе, и Бильгильдис, рожденной в Шатийоне, свободу. Теперь они могут именоваться свободными подданными его сиятельства графа Брейзахского, его высочества герцога Швабии и его величества короля Восточно-Франкского королевства. Пускай их верность послужит примером для тысяч других людей.
Написано и подписано двенадцатого апреля года Божьего девятьсот тринадцатого
— Хотела бы я написать тебе больше торжественных и теплых слов, дорогая моя Бильгильдис, но что-то действительно хорошее часто можно выразить всего несколькими словами, в то время как для чего-то плохого слов всегда много. Но, сколь бы коротким ни было это письмо, оно имеет огромное значение. Сегодня важный день в твоей жизни, и я надеюсь, что мы насладимся этим событием вместе. Останься ближайшую пару дней в замке, со мною. У Оренделя есть Раймунд, а у меня будешь ты. Договорились?
Ну конечно, само собой разумеется. Как я могла бы даже подумать о том, чтобы провести первые мои дни на свободе без моей тюремщицы, продержавшей меня в оковах столько лет? Это было бы странно, верно?
Клэр сказала мне позвать рыжих плакс, и те принесли бокалы. Графиня лишь коснулась вина губами, я же осушила свой бокал в одно мгновение, а потом три раза налила себе еще, выпивая вино залпом, пока в уголках моего рта не выступили красные капли.
Графиня, задумчиво посмотрев на меня, рассмеялась. Смейся-смейся, наша всепонимающая госпожа. Ты никогда и ничего не понимала.
Документ лежит рядом со мной на изъеденном древесными червями столе все в той же зловонной комнате, где мне предстоит дожидаться смерти. Кувшин вина, подаренный мне графиней, уже наполовину пуст. Он стоит на дарящем мне свободу документе, оставляя на пергаменте красивые красные пятна. Пока я еще могу писать, пока еще хоть капля крови сохранилась во мне, а не вышла со рвотой, я могу думать только об одном — о погибели рода Агапидов. Зачем ограничиваться только Клэр? Я уничтожу их всех, искореню этот род. Агапет был злым духом войны, отправившим моих сыночков на смерть. Так и я стану злым духом для его рода. Может быть, эти мнящие себя пророчицами плаксы и правы, когда поют:
Взывает к крови
пролитая кровь,
таков закон.
И зло вернется злом.
Они все падут, один за другим, останутся лишь ублюдки, но и тех закопают живьем в землю.
Мальвин
Четырнадцать недель я вершил правосудие как и раньше. Ну, не совсем как раньше. Я с особенной осторожностью относился к женщинам, обвиненным в супружеской измене, и не давал их мужьям самим выбирать для них наказание. Один хотел выпороть жену розгами до крови, чтобы ее спина превратилась в сплошную открытую рану. Другой хотел душить свою до грани смерти, а потом привести ее в чувство. Третий собирался выжечь каленым железом на коже неверной супруги свои инициалы. Я сказал им, что тот, кто требует таких наказаний, болен душой и может избавиться от греха, лишь переписав все свое состояние церкви, уйдя в монастырь и изучая евангелие, которое учит смирению. Услышав такой приговор, они отказывались от изощренных наказаний и ограничивались тем, что избивали своих жен до полусмерти. Но они и раньше делали так. Против побоев в семьях я был бессилен.
За исключением случаев супружеской неверности я рассматривал все остальные дела непредвзято, хотя и без былого рвения. Мне не хотелось вновь погружаться в рутинную работу, словно ничего не случилось. Я все время думал об Элисии. Мне было тоскливо, я потерял аппетит, питался вином и хлебом, плохо спал, хотя постоянно чувствовал усталость, и проклинал неотступно преследовавшие меня мысли.
Не знаю, как бы я жил дальше, если бы Констанц внезапно не почтил своим визитом герцог. Он провел зиму в пфальцграфстве Райхенау, всего в половине дня пути отсюда. Герцог приехал в Констанц под предлогом внезапной проверки. Бургомистр засуетился, во всем городе зазвонили колокола, стража выстроилась на площади, вышли туда и все представители городской власти, в том числе и я. Когда бургомистр представил меня явно заскучавшему герцогу, в его взгляде что-то изменилось, и я понял, что он приехал сюда только ради меня.
Наш разговор проходил в том самом зале, где я обычно проводил заседания. Герцог сказал, что хочет осмотреть здание городского суда, и под этим предлогом уединился со мной там. Предлог был довольно прозрачным — мой зал для заседаний ничем не отличался от подобных помещений в любых других зданиях суда: тут стоял большой стол, за которым я обычно сижу, и столик поменьше для моего писаря. На стенах висели щиты с гербами герцога и короля. Больше тут смотреть было не на что.
Так как я единственный, кому разрешается сидеть во время судебного процесса, в зале только один стул. Заметив это, герцог приказал своим слугам принести еще один. И вот уже два стула стоят друг рядом с другом, едва соприкасаясь подлокотниками. Почему-то при взгляде на них я подумал о старой супружеской паре, в которой каждый молчалив и одинок. Сквозь желтое стекло — очень дорогое — отсюда можно было увидеть рыночную площадь. К сожалению, весть о приезде герцога и месте его теперешнего пребывания быстро распространилась, и пара сорванцов расплющила себе носы о стекло с другой стороны окна, чтобы хоть мельком увидеть правителя этих земель. Впрочем, вряд ли им удалось бы заметить что-то кроме смутных очертаний, в то время как и я, и герцог прекрасно видели их разинутые рты. Итак, наш разговор проходил в странной атмосфере.
— Прошу вас, викарий, присаживайтесь.
Я помедлил, ибо герцог еще стоял, но потом, поклонившись, выполнил его распоряжение.
Герцог Бурхард вел себя крайне благосклонно. Когда слуга бургомистра принес бутылку вина, его светлость лично налил вина в бокал и передал его мне. Такое поведение можно ожидать от человека, который либо очень ценит тебя, либо очень нуждается в твоей помощи. Или от человека, который уже вскоре отправит тебя на верную смерть и на губах его будет играть все та же холодная улыбка.
— Прежде чем отправиться ко двору в Тюбингене, — начал Бурхард, слизнув капельку алого вина с седых усов, — я непременно хотел поговорить с вами. И вы, вероятно, догадываетесь почему. Расскажите мне о смерти графа Агапета.
Я хотел встать, чтобы доложить ему результаты моего расследования, но Бурхард жестом приказал мне сидеть. Мне было сложно сосредоточиться, зная, что сам герцог стоит у меня за спиной. Еще и эти мальчишки за окном!
— Насколько я помню, я присылал вашей светлости письмо об этом убийстве.
— Я знаю, я знаю. Вы писали, что установить личность убийцы не представляется возможным.
— Именно так, ваша светлость. Есть улики, свидетельствующие о вине того или иного жителя замка, однако же все собранные мною доказательства не позволяют увидеть картину произошедшего во всей ее целости.
— А что насчет язычницы?
— Она не убивала графа Агапета, ваша светлость.
— Почему вы так уверены в этом?
Я хотел спросить у него, как он может быть уверен в том, что это сделала она, но не осмелился. Герцогу можно наступить на больную мозоль только в том случае, если ты уверен, что успеешь скрыться до того, как он почувствует боль.
— Конечно, она была на месте преступления и у нее была причина для убийства, ваша светлость…
— Ну вот.
— Но многое говорит о том, что она не убивала графа.
— На мой взгляд, возможности и мотива вполне достаточно.
— Да, но…
— А Эстульф?
— Простите?
— Эстульф мог совершить это преступление?
— Как я уже говорил вам, ваша светлость, есть улики, указывающие на его вину, но их недостаточно, чтобы…
— А графиня Клэр?
— Ну, она…
— Против нее выдвинуты обвинения.
— Простите, я не понимаю, о чем вы, ваша светлость.
— Бальдур выдвинул против нее официальные обвинения в супружеской измене с Эстульфом. Если ему удастся доказать ее вину, это будет означать, что графиня совершила чудовищное святотатство, ведь она принесла клятву именем Господа нашего. Тот, кто способен преступить такую клятву, способен и на убийство. Ее вина в этом случае становится очевидна.
За мгновение до этого очевидной ему казалась вина Кары, подумалось мне.
— Именно так, ваша светлость, но если что-то кажется очевидным, то стоит озаботиться вопросом, не скрывается ли за этим какая-то совершенно другая история, которая…
— Вы мудрствуете и городите какую-то чепуху, Мальвин из Бирнау.
— Как угодно вашей светлости.
— Вы слишком погрузились в те события, слишком озаботились подробностями и ненужными деталями. Издалека картина видится четче, и я, как человек, который смотрит на произошедшее издалека, могу сказать вам, что виновна либо язычница, либо графиня, либо ее любовник.
Почему бы нам не отрубить им всем головы, тогда наказание точно постигнет виновного, подумалось мне. Мне хотелось предложить герцогу реформировать судебную систему, чтобы в дальнейшем следователи даже не приближались к месту преступления, а судьям нельзя было знать ничего, кроме разве что имен подозреваемых. В таком случае они как раз смотрели бы на произошедшее издалека и смогли бы в точности установить личность виновного, чтобы передать его палачу. Почему же никто не додумался до этой блестящей идеи до Бурхарда, герцога Швабии?
— Как я вижу, вы до сих пор не уверены в их виновности, викарий.
— Не до конца, ваша светлость.
Бурхард наконец-то сел рядом со мной. Его лицо было так близко, что я сумел бы пересчитать капли вина на его бороде.
— Известно ли вам, что Швабия сейчас ведет ожесточенную войну с язычниками?
— Конечно, ваша светлость, я…
— Известно ли вам, что войска графа Агапета составляли костяк нашей армии? Агапет прикрывал мою спину от нападений западных франков, его солдаты составляли треть моих войск, он давал деньги на обмундирование и оружие для всей армии, его зять Бальдур был моим лучшим полководцем. Теперь же, когда графом стал Эстульф, всего этого нет. Он тратит деньги на борьбу с болотами, на строительство дамб, на милостыню, на обработку новой пахотной земли и тому подобное. Вот уже несколько месяцев меня засыпают жалобами. Аббат монастыря Св. Трудперта и купцы графства жалуются на то, что действия графа Эстульфа угрожают их денежному благополучию. Он якобы навлечет на всех гнев Божий. Конечно, моя власть позволяет мне лишить Эстульфа графского титула. Но поступать так нежелательно, так как это настроит против меня других графов в герцогстве. Кроме того… — Бурхард осушил бокал и швырнул его на пол, а затем встал и принялся нервно ходить туда-сюда по комнате. — Вам, наверное, и неизвестно, насколько интересует это убийство всех жителей герцогства. О смерти графа Агапета говорят в каждом замке, в каждом селении. И стар, и млад назовут вам имена Клэр, Элисии, Эстульфа и Бальдура, даже не задумываясь.
Я действительно не знал этого. Конечно, я заметил в Констанце интерес к этому убийству, но я думал, это обусловлено тем, что это я проводил расследование. Я даже представить себе не мог, чтобы об этом говорили в Церингене, Куре, Урахе, Ульме, Страсбурге и Аугсбурге.
— Графам не каждый день перерезают горло, викарий. Но сама по себе чудовищность этого преступления не объясняет интерес к смерти графа Агапета. Все дело в том, что убийца так и не был найден. По герцогству ползут разнообразнейшие слухи: сам архангел Гавриил наслал этого убийцу; в замок пробрался леший; Агапета убил подосланный мной наемник…
— Полагаю, — отважился вмешаться я, — на подобные глупости можно просто не обращать внимания.
— Да, но можем ли мы игнорировать тот факт, что люди подозревают Бальдура в убийстве его тестя? Не то чтобы имя Бальдура кто-то называл в открытую, но подобные мысли уже начали приходить солдатам в голову. Клэр, Бальдур, Эстульф, Элисия, леший или демон, кто бы это ни был, кто-то убил Агапета, и люди знают об этом. Говорят, убийцу обуяли бесы. Может, это и глупости, а может, и нет. Я знаю лишь, что не стоит ставить во главе войска человека, который то ли по собственной воле, то ли под влиянием Сатаны убил своего свекра. Пока с Бальдура не сняли обвинения в убийстве, я не могу сделать его своим полководцем, более того, я вообще не могу принять его на службу. Это вызвало бы тревогу в сердцах людей и ослабило бы боевой дух войска. Мы ведь сражаемся за Господа нашего, мы ведем борьбу с язычниками. Я не могу назначить Бальдура графом вместо Эстульфа, сейчас это слишком рискованно. Если Бальдур все-таки окажется виновен в этом преступлении или если Эстульф доберется до кое-каких писем… Вы, случайно, не знаете, о чем я говорю?
Я знал. Герцог имел в виду свои письма Агапету, в которых он просил поддержки графа на случай войны с королем.
Я медлил лишь мгновение. Но не слишком ли долго? Не знаю… Герцог внимательно смотрел на меня.
— Нет, ваша светлость. Письма? От кого и кому?
Бурхард неопределенно повел рукой.
— Это неважно. Возможно, Эстульф сумеет серьезно навредить мне, если я лишу его власти, вот и все. Но если он состоял в любовных отношениях с чужой женой, которая к тому же нарушила священную клятву, то… Как бы то ни было, если я хочу сделать Бальдура графом Брейзаха, то я должен быть уверен в том, что не пожалею об этом решении. По этой причине вам придется возобновить расследование убийства Агапета, а также провести судебный процесс в связи с возможным прелюбодеянием и клятвопреступничеством графини.
Герцогу было совершенно все равно, кто убил Агапета. Главное, чтобы это сделал не Бальдур. Я должен был принести ему голову убийцы. Голову или головы…
Чтобы воодушевить меня, Бурхард сказал:
— Я собрал совет, которому предстоит заняться составлением свода законов для нашего королевства. И я думал о том, чтобы сделать вас, Мальвин из Бирнау, главой этого совета. Первое заседание по поводу свода законов состоится через месяц — оно будет закрытым, конечно же. Если вы к тому времени справитесь с поставленной перед вами задачей, я буду вам очень благодарен, вы понимаете… Моя власть крепнет, а значит, мне нужно все больше советников. Но если вы не найдете убийцу как можно скорее… что ж, это было бы весьма прискорбно.
Несколько месяцев назад я писал свои рассуждения о том, что истина, а значит, и мораль, могут быть связаны с религией или судебной системой, но не имеют никакого отношения к любви. Теперь же я понял, что никакого отношения они не имеют и к политике. Впрочем, в определенном смысле любовь и политика, любовь и власть чем-то схожи. Ни в одном, ни в другом не нужно ни истины, ни морали. И любовь, и власть самодостаточны, и тот, кто стремится к ним, меняется, утрачивает часть себя. Те ограничения, которые ты раньше накладывал на себя, вдруг оказываются совершенно неважными, как и ограничения, которые накладываются на тебя извне — в том числе и обществом, и Богом. Тот, кем завладела любовь, настолько опьянен ею, что он утрачивает контроль над своими мыслями. С тем же, кем движет воля к власти, может случиться то же самое. В этом смысле мы с герцогом единомышленники.
Его приказ вернуться в замок Агапидов стал для меня тем самым знамением, которого я ждал и боялся. И знамение это означало, что я увижу Элисию и больше не оставлю ее, чего бы мне это ни стоило.
Я привык судить людей, но в последнее время все чаще мне приходится думать о собственной вине. День за днем я оцениваю действия подозреваемых, проливаю свет на тайные поступки и проступки людей, я вижу их прошлое и возрождаю мысли о нем в настоящем, чтобы в сознании своем, точно в зеркале, узреть деяния виновных в преступлениях. И я уже сейчас чувствую на себе груз вины оттого, что я готов наплевать на истину и мораль ради любви, как плюют на них ради власти герцог и ему подобные. Я проиграл эту битву, которую уже много месяцев вел сам с собой, и я даже не жалею о том, что проиграл. Да, я испытываю жалость, но истинна ли она? Или это всего лишь попытка успокоить мою совесть? Я принял решение, которое повлияет на жизнь целой семьи, и когда я говорю о жизни, то использую это словно буквально.
Я веду эти записи, чтобы выдвинуть себе обвинение. Я веду эти записи, чтобы оправдать себя. И только приговор себе я вынести не могу. Лишь время способно оправдать меня или осудить. Время и ты, мой читатель из далекого будущего.
Записано двадцать шестого апреля года Божьего девятьсот тринадцатого
Я, Мальвин из Бирнау, викарий Констанца, властью, коей наделил меня герцог Швабии, открываю судебное заседание для рассмотрения обвинений в клятвопреступничестве, прелюбодеянии и убийстве, выдвинутых против Клэр из Лангра, графини Брейзахской.
Сегодня вечером я вернулся в замок, который местные жители называют проклятым. Этот замок, кажется, так далек от всего мира… Тут царит тишина и покой, лишь весенний ветерок насвистывает свою тихую песню, и ее мелодия переплетается с пением трех печальных девушек, Фриды, Франки и Фернгильды. Я слышу их тихие, нежные голоса, и их песня повествует мне о трагедии, начавшейся со смерти Агапета, а теперь близящейся к своему концу:
Взор, что прошедшее зреет,
черные видит невзгоды:
призрачный сон смертоносен.
Взор, что грядущее зреет,
черные видит невзгоды:
гасит позор пламя страсти.
Хотя мне и тяжело было сдержаться, я не пошел к Элисии сразу после прибытия в замок, ведь иначе мне пришлось бы рассказать ей, что я собираюсь сделать, а она не должна чувствовать себя виноватой. Пусть ее совесть останется чиста.
По приезде я отправился к Эстульфу — именно так я и должен был поступить по этикету.
Увидев официальное письмо, в котором его супругу обвиняли в убийстве, граф побледнел.
— Это неслыханно, викарий! Четыре месяца назад вы покинули замок, сообщив, что невозможно установить личность убийцы.
— С тех пор кое-что изменилось. Если будет установлено, что графиня Клэр при жизни графа Агапета изменяла ему с вами, взяв на свою душу грех прелюбодеяния, и плодом сего греха оказался ребенок, то у нее были причины для того, чтобы убить своего первого мужа.
— Как вы смеете! Моя супруга едва оправилась от тяжкой болезни, всего два дня назад она сумела впервые встать на ноги, а вы являетесь сюда и обвиняете ее в столь ужасных злодеяниях. Вы представляете себе, каким это станет для нее ударом? Она добрейшая женщина и просто неспособна на убийство!
Я верил в то, что сам Эстульф нисколько не сомневается в правдивости своих слов, и я не знал, завидовать мне ему или же жалеть его. Для Эстульфа любовь оставалась чем-то чистым и возвышенным. Ах, дорогой мой Эстульф, твоей чистой любви не существует, она бывает лишь на бумаге. В истинной любви воплощается все самое лучшее и самое отвратительное, что только есть в нашей жизни. Любовь оправдывает все, что помогает ей выстоять. Любовь смертоносна, разрушительна. Впуская любовь в сердце, не знаешь, ангел ли поселился в твоей душе или демон. Или же и тот, и другой. Такова любовь. Нет в ней благородства, зато есть отвага и свобода, есть красота и преданность, есть подлость и низость.
Конечно же, Клэр способна на убийство. Она способна на убийство, ибо она любит. Способен на это и я, защитник справедливости.
Почему я решил, будто Эстульф настолько наивен, чтобы верить в невиновность своей супруги и чистоту любви? Да потому, что он стал пленником своих мыслей об изменении мира. Он верил в то, что мир можно изменить. В то, что можно осушить болота, отказаться от войн, победить бедность. Да, это были благородные цели, но тот самый мир, который Эстульф мечтает изменить, воспротивится ему, и рано или поздно Эстульф будет сломлен. Так или иначе. У него был выбор — либо его устранят, либо он станет таким же, как и все.
— Бальдур выдвинул против вашей жены официальные обвинения в нарушении священной клятвы, — пояснил я. — Он намерен предоставить суду доказательства.
— Это невозможно!
— Увидим. Завтра мы соберемся в полдень и начнем судебный процесс. Мне понадобится зал и…
— Вы собираетесь приговорить меня, а я должен принимать вас как гостя?!
— Вы ведь сами сказали, что графиня еще слаба, и потому я посчитал, что лучше всего будет проводить заседания в замке. Кроме того, вам почему-то кажется, что решение о приговоре уже принято. Это не так. Если Бальдур не сможет доказать факт измены, вашей супруге нечего бояться и по всем остальным обвинениям.
— А как же обвинение в убийстве?
— Все по порядку, граф. Вначале мы проведем процесс по обвинению в клятвопреступничестве и прелюбодеянии, а потом посмотрим.
До этого момента я действовал совершенно правильно. Если подана официальная жалоба, то необходимо провести допрос свидетелей. Это моя работа. Кроме того, ребенок графини, якобы родившийся десятимесячным, действительно вызывает подозрения (неспроста Эстульф был так возмущен обвинениями в убийстве и ни слова не сказал о прелюбодеянии).
Мне жаль их всех.
Мне жаль Эстульфа, который сделал то же, что и я, — стал отцом ребенка, которому суждено родиться в чужом браке.
Мне жаль Клэр, которая, как и Элисия, отвернулась от своего супруга и бросилась в объятия возлюбленного, а теперь вынуждена платить за это.
Мне жаль венгерскую девушку Кару, которая случайно попала в этот водоворот событий и теперь ее несет навстречу гибели.
Мне жаль себя. Ибо с сегодняшней ночи и я буду погребен под грузом вины.
Элисия
Бильгильдис, войдя в мою комнату, жестом указала мне, чтобы я подошла к окну.
Я и выглянула во двор… и увидела его. Сумерки скрывали его облик, но я узнала бы Мальвина при любом освещении. Четыре месяца. Мы не виделись четыре месяца. Бильгильдис вернулась, а теперь вот и самый для меня важный человек приехал в замок. Я обезумела от счастья. Я не могла больше ждать, мне нужно было обнять его, возлюбленного моего, отца моего ребенка. Но я так торопилась не только потому, что соскучилась по нему. Теперь, когда Мальвин приехал, ко мне вернулась моя былая уверенность. Мой любимый не допустит того, чтобы Эстульф причинил мне вред. И он придумает, что нам делать в связи с тем, что мои записи пропали. Тянулись часы, а замок все не засыпал. Ах, эта мука ожидания!
Но вот наступила глубокая ночь, и я, сжав лампаду в руке, вышла в коридор. Было холодно, сильно сквозило, ветер чуть не задул огонь лампады, и мне пришлось защищать его своим телом. Я медленно продвигалась вперед, хотя мне и хотелось добраться до своей цели как можно быстрее. На полпути я услышала какой-то странный звук, напоминавший хруст гравия под подошвами. В сущности, в этом не было ничего странного, ведь в замке жило много людей, но я беспокойно оглянулась. Лунный свет, падавший в бойницы, вычерчивал странные линии на полу. Все преобразилось вокруг, привычный мир, казалось, растворился. В каменной кладке зияли бездонные расщелины, ночная птица, пролетевшая мимо, обернулась зловещей тенью… Облако, на мгновение скрывшее лик луны, вновь изменило очертания теней — там, где было светло, воцарилась тьма, и напротив, луч лампады осветил темные углы.
Дойдя до пересечения четырех коридоров, я опять услышала этот странный звук, но, как я ни оглядывалась, я не видела ничего, кроме косых граней света и тьмы.
Может быть, все это спутало мои чувства? Мой страх, эхо, игра теней… Продолжив свой путь к Мальвину, я увидела в четырех-пяти шагах впереди темную нишу, а в ней — какую-то фигуру. Этот человек вжался в стену, он пытался спрятаться от меня. Но зачем? Я повторюсь, мне лишь показалось, что я кого-то увидела, — то была тень внутри тени, черные смутные очертания в кромешной тьме.
Я выронила лампаду и бросилась бежать. Все закоулки этого замка знакомы мне, но я заблудилась и уже не понимала, где нахожусь. Я услышала чьи-то шаги — возможно, то были отголоски моих собственных шагов, эхо, отразившееся от столетних стен. А может быть, и нет. Может быть, то были шаги убийцы! Страх овладел моей душой.
Удивительно, но я очутилась прямо перед комнатой Мальвина. Я вбежала в его покои, заперла за собой дверь и затаила дыхание, прислушиваясь к звукам в коридоре. Не знаю, сколько я простояла там, прижав ухо к двери. Успокоившись немного, я повернулась.
— Мальвин! — тихонько позвала я. — Мальвин, проснись.
И тут в слабом свете камина я увидела, что лежанка Мальвина пуста.
Я ошиблась комнатой? Вечером я словно невзначай узнала у слуг, где поселился викарий, и мне сказали об этих покоях.
Но уже через мгновение я увидела вещи Мальвина: перо и чистая бумага лежали на столе, рядом с ними — официальная жалоба на мою мать. Обвинение в клятвопреступничестве.
«Бальдур», — сразу подумала я. Вот, значит, какими средствами он хотел добиться графского титула. Вот почему он ничего мне не говорил. Бальдур собирается лишить мою мать титула, хочет, чтобы ей вырвали язык и отрезали пальцы. Добиться того, чтобы ее низложили, а вместе с ней и Эстульфа. Бальдур знал, что я ни за что не поддержала бы его в этом. Я никогда не зашла бы так далеко. Я хотела навредить Эстульфу, а не моей матери. Я не сотворила бы с ней такое. Обидеть ее — да, дочери постоянно обижают своих матерей, это их священное право. Но сколько бы мы ни ссорились — а за двадцать с лишним лет мы ссорились немало, — она все еще та самая женщина, которая родила меня, и где-то в глубине души она меня любит. И даже если бы я была целиком и полностью уверена в том, что это она убила папу, я возненавидела бы ее за это, возненавидела бы… но все равно бы простила.
Я посидела немного в комнате, дожидаясь Мальвина. Теперь, когда я знала, почему он приехал сюда, разговор с ним стал еще важнее для меня. Но я ждала напрасно.
В конце концов мне в голову пришла мысль о том, что Мальвин, возможно, сидит сейчас в моей комнате, дожидаясь меня.
И я отправилась обратно.
Но в моих покоях Мальвина не было, и ничто не свидетельствовало о том, что кто-то сюда заходил.
Где же ты, любимый? Сейчас, этой ночью, в этот нелегкий час, мне нужны твой совет и твоя поддержка.
Кара
Я проснулась от криков. В замке поднялась какая-то суета, кто-то закричал:
— Бальдур мертв! Бальдура убили! Бальдур, он мертв, он на сеновале, сообщите графу! Бальдур мертв, его зарезали!
И многоголосое эхо подхватило эти крики:
— Бальдур мертв, убили, на сеновале, зарезали!
Он умер так же, как и Агапет. Я вижу сено, на котором он спал, влажное алое сено, я вижу глаза Бальдура, вижу застывший в них ужас. В последние недели, к своему собственному стыду, я чувствовала, что меня влечет к этому мужчине. Я отдавалась ему по доброй воле, я приходила к нему, когда он меня не звал. Я часто лежала рядом с ним на этом сене, а теперь… теперь Бальдур мертв. А я свободна. Не буквально, конечно. Только что перед моей дверью поставили стражника, который должен позаботиться о том, чтобы я не покидала покои.
Но я свободна от нежности, которую я испытывала всякий раз перед тем, как возлечь с Бальдуром.
Я свободна от страсти, которую испытывала всякий раз, когда я ложилась с Бальдуром.
Я свободна от чувства вины, которую испытывала всякий раз после того, как ложилась с Бальдуром. Ложилась по собственной воле.
Я свободна от его любви ко мне. Любви, столь жестокой вначале, столь нежной и преданной в последнее время. Его искренней любви. Его недозволенной любви.
Я не буду тосковать по Бальдуру.
Осталось еще два пера. Если боги не обманули меня, должны умереть еще два человека.
Клэр
Недавно я думала, что скоро умру. Тогда я писала, словно прощаясь с миром. Теперь же слова, выведенные мной на бумаге, будто знаменуют собой начало нового времени, ибо с завтрашнего дня письмо будет для меня единственным способом связаться с миром. Ничто не спасло бы меня. Ни вечная ложь, но краткая вспышка счастья, ни добрые, ни злые мои дела не предотвратили бы того, что мне предстоит. Меня искалечат, а на теле моем выжгут клеймо. Мой сыночек никогда не услышит звука моего голоса, мало того, он сам проклянет меня, ибо с детства будет нести на своем челе отметину бастарда. Может быть, это справедливо. Может быть, сегодняшний день — это закономерное последствие той лжи, что родилась в прошлом году.
Сегодня утром, надев белые траурные наряды, мы вышли во двор попрощаться с Бальдуром. Мы видели его в последний раз, поверженного Голиафа, убитого в тот миг, когда он не ждал смерти. Он уклонился от стольких ударов мечей, столько стрел просвистело рядом с его головой! Но Бальдур погиб на сеновале. Ему перерезали горло. При жизни он не был героем, для этого Бальдур был слишком общительным, слишком простым парнем. Считается, что герой — существо одинокое и благородное, а наш Бальдур был грубоват. Его смерть была под стать его жизни — кровавая, но не вызывающая почтения, несчастливая, но не трагическая. Бальдур хотел уничтожить меня, а теперь он и сам мертв. В этом не было никакого пафоса, только обыденность.
После службы, когда мы вышли из часовни, викарий обратился к толпе:
— Бальдура, несомненно, убили точно так же, как и его зятя, графа Агапета. Я обещаю вам, что расследую это преступление и выясню, кто совершил его. Завтра в это же время я начну заседание суда. В проведении процесса мне будут помогать двое судебных заседателей. Что касается обвинения Бальдура… Как вам всем, вероятно, известно, сегодня в полдень должен был проходить суд, на котором Бальдур собирался предъявить обвинение графине. Но теперь, поскольку Бальдур мертв, он не может выдвинуть официальное обвинение, а без них я как представитель королевской и герцогской судебной власти не готов начинать расследование. Если кому-то из вас есть что сказать по этому вопросу, пусть он скажет это сейчас или молчит до конца своих дней.
Я посмотрела на Элисию. Она была единственной, кого я опасалась, ведь кому еще придет в голову обвинять меня? Кроме Эстульфа и моей верной служанки Бильгильдис, присутствовали только священник и крепостные, среди них три девы-вдовы, столь трогательно заботившиеся обо мне и о маленьком Рихарде, когда я болела.
Еще утром они пели:
И в час счастливый
ведет человека
злая судьба
к терниям на пути.
Элисия молчала. Она уже давно узнала правду и долго боролась за справедливость, но в то мгновение, когда нужно было сделать выбор между истиной и моим благополучием, моя дочь выбрала меня. Более того, ее молчание означало отказ от наследства и графского титула, который мог бы получить ее еще не рожденный ребенок. Я с благодарностью посмотрела на нее. Сколь бы озлобленной и ожесточившейся ни была Элисия, в решающий момент она поддержала меня. Я этого никогда не забуду. Я немалым пожертвовала ради своей дочери, но все это было не зря. Элисия была верна мне, и ее верность на самом деле была любовью, пусть она и не понимала этого. Я достаточно хорошо знаю свою дочь. Она следует своей совести и представлениям о добре и зле, какие бы поступки она ни совершала.
Я была спасена… Но надолго ли?
Прошло всего лишь мгновение, и вперед вышла Бильгильдис. Она вытянула вперед руку, указала на меня и громко произнесла что-то невнятное. Звуки, срывавшиеся с ее губ, были ужасны, а сокрытый в них смысл… Мне казалось, демон говорит со мною. «Почему? Почему, Бильгильдис?» Эта мысль пронеслась в моей голове, но тут я увидела, как слезы блестят на ее глазах. И это не были слезы печали или боли, нет, то были слезы радости. Бильгильдис ждала этого мгновения много лет, и стон, сорвавшийся с ее губ, на самом деле был смехом. Бильгильдис хохотала.
Я потеряла сознание.
Бильгильдис
Теперь с Клэр покончено. Завтра я расправлюсь с ней. Викарию в связи с выдвинутыми мной обвинениями ничего не оставалось, как согласиться на ордалии, испытание огнем. Теперь графине придется босиком пройти пятьдесят шагов по раскаленным углям, и если на ее подошвах останутся ожоги, значит, она виновна. Полагаю, ни у кого не возникает сомнений в том, каков будет исход этого испытания. Клэр искалечат, а Эстульфа, как ее искусителя, посадят голым на осла, изобьют розгами до крови и прогонят прочь из графства.
Та, что мучила меня всю мою жизнь, теперь заплатит за все. Наконец настал этот день. Почти тридцать лет я ждала этого. До сих пор не могу поверить в собственную удачу. Был ли в моей жизни день счастливее? Бальдура убили этой ночью, и потому мне суждено стать не только свидетельницей, но и обвинительницей по этому делу. Ах, это сладостное мгновение, когда я в присутствии всех указала на нее пальцем. И я кричала, я кричала в своем сознании: «Посмотрите, вот она, женщина, лишившая меня красоты, лишившая меня голоса, лишившая меня возлюбленного во времена моей юности, жившая с моим любимым во времена моей зрелости. Глаз за глаз, — мысленно кричала я. — Язык за язык».
Видел бы ты ее глаза в этот момент, о мой читатель из дальних времен. Вначале Клэр ничего не понимала. А потом… потом она поняла все. Да, графиня поняла, как сильно я ненавидела ее все эти годы. И она пошатнулась под грузом этого осознания. Но Клэр все поняла слишком поздно. Подписав бумагу о моем освобождении, она сама вложила мне в руку щипцы, которыми я вырву ее поганый язык. Сегодня из моего рта течет кровь, но я радуюсь, ибо знаю, что завтра потечет кровь изо рта Клэр. А потом… послезавтра…
Обвинив Клэр в неверности, я отправилась к Оренделю. Юноша не выходил из своей комнаты, как я и просила его, но под его дверью слуги успели обсудить смерть Бальдура, потому Оренделю было известно об этом.
— Это они сделали, да, Бильгильдис? Это Эстульф и моя мать убили моего зятя, да?
Я кивнула. А потом написала: «Я обвинила твою мать в супружеской измене и клятвопреступничестве. Завтра ее накажут за это. Затем наступит твой черед покарать ее».
— Я это сделаю, Бильгильдис. Я убью Эстульфа, а потом… Может быть, достаточно будет убить только Эстульфа? Без него мать не сможет править, да еще и после обвинения в клятвопреступничестве. Я стану графом, все будет хорошо. Верно? Она же все-таки моя мать, Бильгильдис. Я правда должен это сделать?
Я написала: «Ты должен. Подумай о том, что они сотворили с тобой. Подумай о том, что это она привела к смерти твоего отца и зятя. Эстульф был лишь инструментом в ее руках. Убей их обоих, убей их так, как убивали они. Пускай в последний миг они узнают, кто отмстил им. Тебе нечего бояться. За это тебя назовут героем».
Орендель подумал немного.
— Обещаю, я сделаю это, — в его голосе не было и тени грусти.
Я попрощалась с ним, зная, что Орендель убьет свою мать и его казнят за это преступление. Мы увидимся с ним в аду.
Я изведу весь род Агапидов.
Теперь оставалась только Элисия. И о ней я тоже позаботилась. Вообще я хотела сделать ей сюрприз, открыться ей, когда ее мать и брат уже подохнут. Но, вернувшись к себе, я увидела трех своих рыжих плакс. Как и всегда, они принялись скулить: «Бильгильдис, как ты могла! Бильгильдис, что ты натворила! Бильгильдис, ты навлекла беду и на замок, и на графство!» Я просто вышвырнула их за дверь, но одна из них все же успела сказать:
— Госпожа Элисия ждет тебя. Она хочет поговорить с тобой.
Не хватало мне еще выполнять приказы кого-то из этой семьи головорезов, шлюх и идиотов. Всю мою жизнь они измывались надо мной, выливали на мою голову помои, ожидая, что я впитаю всю их грязь, как губка. Что ж, теперь они увидят, как эта губка возвращает все накопленное за долгие годы. Но мне мало одной только мести. Видеть их лица в это мгновение — вот истинное наслаждение. Моя личина верной служанки и так уже пала, мне не нужно разыгрывать комедию перед Элисией. И вот, так я и отправилась к ней. Как свободная женщина.
— Прошу тебя, Бильгильдис, отзови свои обвинения. Еще не поздно. Это я во всем виновата. Это я ввела тебя в искушение, сея вражду между тобой и моей матерью. Я думала, у меня есть причины для вражды с нею. И все же… Может быть, ее ребенок и от Эстульфа, но какая разница? Мой отец мертв, Бальдур тоже. Какой смысл в нашей распре? Кому это пойдет на пользу? Точно не мне. Милая Бильгильдис, я знаю, ты делаешь все это ради меня, но позволь же мне сказать тебе…
И тогда я расхохоталась. Я просто не могла больше сдерживаться. Я делаю это ради нее? Ради Элисии? Это дитя и вправду утратило всякую связь с миром яви, больше, чем я думала раньше.
Мой смех вначале удивил ее, потом же она разозлилась.
— Бильгильдис, довольно. Мы не будем спорить об этом. Сделай то, о чем я говорю, и с тобой все будет в порядке. Ты свободна. Тебе дадут свой дом. Давай расстанемся друзьями. Ты всегда была моим другом, так оставайся им и дальше.
И тогда я просто передала моей «подруженьке» копию одного из писем, которые я сегодня утром передала гонцу. Эстульф отправил одного из своих людей к герцогу, чтобы сообщить о смерти Бальдура. За пару серебряных монет гонец согласился передать одно письмо герцогу, а второе — бургомистру Констанца.
Копия письма Его светлости, герцогу Бурхарду Швабскому, от Бильгильдис, свободной женщины
Ваша светлость, позвольте Вашей покорной слуге довести до Вашего высочайшего сведения нижеследующее. Дитя, что носит ныне во чреве Элисия Брейзахская из рода Агапидов, — плод ее преступной связи с Мальвином из Бирнау, викарием Констанца, о чем Элисия сама поведала мне. Не пристало мне судить о том, как это связано с жестоким убийством Бальдура, однако же торжественно клянусь пред Господом нашим Всемогущим, пред Богородицею-Девой, пред всеми святыми и ангелами, что я говорю правду. Покорнейше сообщаю Вашей светлости, что направила бургомистру Констанца жалобу по всей форме, какой надлежит, но осмелилась поставить в известность и Вас об этом богомерзком союзе. Я очень больна, Ваша светлость, и надеюсь сим истинным свидетельством заслужить отпущение грехов.
Я не делала копию второго письма, но и этого было достаточно, чтобы у Элисии вся кровь отлила от лица. Она просто лишилась дара речи. Я же подошла к ней, вырвала бумагу у нее из рук и плюнула ей прямо в лицо. Правда, я не ожидала, что слюна в моем рту смешается с кровью. Теперь вся ее физиономия была покрыта алыми капельками. Вначале я сама удивилась, видя это, а потом пришла в восторг и плюнула в нее еще раз — теперь уже на ее прекрасное, белоснежное платье. Пусть и Элисию оросит алая смерть, что придет за мной.
Развернувшись, я вышла из комнаты, оставив девчонку стоять столбом.
Вот и все. Я записала все, о чем стоило писать. Конечно, я могла бы написать еще о завтрашнем заседании суда, о криках Клэр, когда ее будут калечить, потом о казни Оренделя, а может, даже и о судьбе Элисии, если я доживу до того дня, как ее силой отправят в монастырь, а ее новорожденного ребенка живьем закопают в землю, едва он появится на свет. Но я устала. Моя задача здесь выполнена, а если я и не довела чего-то до конца, то все равно ничто уже не сможет остановить последствия моей мести. Сегодняшний день стал переломным для всех тех, кто столько лет плевал в меня. Даже если я умру через мгновение, я уже добилась того, чего хотела, и потому кровь, вновь проступающая в этот миг на моих губах, не пугает меня. Смерть, мой мрачный жнец, я жду тебя.
Таков конец моей истории. Я приложу эти листы бумаги к остальным, спрятанным в моем тайнике. Я помещу все мои записи в шкатулку и закопаю ее, чтобы однажды ты нашел их, мой читатель из дальних времен. Да, ты взглянешь на эти строки, взглянешь на них с любопытством и отвращением, как и надлежит смотреть на черные сгнившие кости, которые исторгает из себя временами мать-земля.
Будь счастлив. Пусть жизнь твоя будет лучше, чем моя.
Мальвин
Со времени моего отъезда из Констанца и разговора с герцогом я собирался убить Бальдура. Я думал об этом преступлении еще тогда, когда впервые приехал в замок. Это чудовищное злодеяние словно протягивало мне руку из темноты, и я был близок к тому, чтобы схватиться за эту руку. Только смерть Бальдура позволила бы мне жить с Элисией. Но четыре месяца назад совесть одолела мою страсть, и без преувеличения могу сказать, что это была самая нелегкая борьба в моей жизни. Теперь же, когда герцог вновь отправил меня в замок Агапидов, я понял, что во второй раз мне не выстоять в этом сражении. В голове моей незамедлительно сложился план, и мне не потребовалось и часа, чтобы продумать все детали. Вчера ночью — первой же ночью после моего приезда сюда — я выбрался из своей комнаты. Стояла глубокая ночь, как и сейчас. Я достаточно хорошо знал замок, чтобы легко найти дорогу на сеновал. Единственным опасным отрезком пути был двор, так как там меня могли заметить стражники, охранявшие ворота. Но они разговаривали, не обращая внимания на то, что творится за их спинами. Выждав подходящий момент, я прокрался мимо них. Ночью черная накидка скрывала мое тело.
На сеновале было темно, и мне было трудно понять, куда идти. Я знал лишь, что Бальдур спит где-то здесь. У меня вдосталь опыта по расследованию преступлений, но совершенно нет его в том, чтобы такие преступления совершать, и потому я опасался того, что могу просто споткнуться о Бальдура, и тогда мне и самому будет несдобровать.
Поэтому я двигался, как слепой Мафусаил, перемещаясь мелкими шажками и вытянув вперед руки. Как мне найти Бальдура и убить его одним ударом ножа, если я свои пять пальцев не вижу?
Мне повезло — снаружи, от ворот, сюда сквозь трещину в стене падал слабый луч света, и я увидел тело. Я обнажил нож, осторожно опустился на колени, чувствуя под ногами влажное сено, замахнулся… и вдруг увидел, что глаза Бальдура широко распахнуты. Я испугался, думая, что он увидел меня, и окаменел. Сколько же времени я простоял вот так, с занесенным ножом? Можно было бы сосчитать про себя до двух, не меньше. Я не мог нанести удар и не мог убежать, хотя я и знал, что должен сделать либо одно, либо другое. Из-за собственного страха я мог бы все потерять. Ах, какой же я дурак! Бальдур свалил бы меня одним ударом, если бы он не был… И вновь холодная волна ужаса поднялась в моей душе. Бальдур уже был мертв. На горле виднелась резаная рана, а я стоял в луже его крови.
Смог бы я убить его? Да, смог бы. Да, да, да. Но тогда, в полуобмороке сидя на окровавленной соломе на сеновале, тяжело дыша и покрываясь испариной, я благодарил Бога за то, что мне не пришлось совершать это ужасное преступление. Лишь вернувшись в свои покои, я понял, насколько непристойна эта мысль. Встав перед распятием, я покаялся в помыслах своих. Конечно же, это не Бог наслал смерть на Бальдура, и Господь не мог одобрять его убийство, даже если благодаря этому я сумел удержаться от совершения преступления. Я молил Бога о прощении, глядя на распятие (и сейчас, когда я пишу эти строки, я смотрю на него), и мне показалось, что на устах Иисуса промелькнула насмешливая улыбка. Теперь я понял почему.
Но все по порядку.
Планируя убийство, я намеревался обвинить в нем кого-то другого и до последнего момента колебался, кого выбрать. Мне кажется, мысли об этом мучили меня больше, чем раздумья о предстоящем преступлении.
Эстульф. На первый взгляд, он идеально подходит на роль козла отпущения. У него были причины для убийства как Агапета, так и Бальдура. Его ненавидела Элисия. Герцог не ценил его. Люди в графстве относились к нему с подозрением из-за его идей — и это невзирая на то, что все его помыслы были обращены им же на благо (мне кажется, это обусловлено противоречивостью душ человеческих: людям проще оставаться в чудовищных, зато привычных условиях, чем стремиться к переменам, даже если они сулят лучшую жизнь). Как бы то ни было, осудив Эстульфа, я приобрел бы много друзей. С другой стороны, Эстульф очень умен. Он смог бы умело защитить себя во время суда, начал бы задавать неудобные вопросы, которые могли бы навлечь на меня опасность. По крайней мере такая вероятность была. А убийцы — или те, кто планирует таковыми стать, — ненавидят неопределенность. Была еще одна причина не делать такой выбор. Обвинение Эстульфа обернулось бы страшной трагедией для графини, а мне нравилась Клэр.
Бильгильдис. Я ее терпеть не мог. И я терпеть не мог ее супруга. Они оба казались мне крайне подозрительными. Осуди я Бильгильдис, мои угрызения совести были бы не такими уж и тяжкими. Такова природа человеческая — нам легче быть несправедливыми к тем, кто нам не нравится. Мне достаточно было указать на ее отношения с Агапетом, и тогда становилась ясна причина для убийства графа — ее ревность к молодой венгерской наложнице. Элисия опечалилась бы, она тяжело восприняла бы казнь Бильгильдис, да и ее память об отце омрачилась бы, но это прошло бы. Однако же у меня было два повода не выдвигать обвинение против Бильгильдис. Будет сложно измыслить причину, по которой ей якобы нужно было убить Бальдура. Кроме того, Бильгильдис слишком много было известно обо мне и Элисии, так как Элисия рассказала ей о нашем романе. Меня очень расстроило известие об этом, ведь Бильгильдис казалась мне змеей, пригретой на груди Агапидов. Ей ни в коем случае не следовало доверять. И если я обвиню Бильгильдис в убийстве, она, несомненно, отомстит мне.
Кара. Она беззащитна. У нее нет сторонников, причины для убийства Агапета и Бальдура очевидны, все и так ее подозревали, стены в ее комнате исцарапаны письменами, и по замку уже поползли слухи о том, что венгерская ведьма всех прокляла… Было бы так легко отдать ее под суд и казнить. Если бы не я, это случилось бы еще в прошлом сентябре. Так почему не решиться на это теперь? Но как раз ее беззащитность и не давала мне этого сделать. Не создан я для того, чтобы жертвовать невинными людьми. Я был уверен в том, что Кара никак не связана с убийством Агапета, слишком уж много было фактов, подтверждающих ее непричастность. При мысли о Каре во мне вновь просыпался викарий, человек, которому по должности положено заботиться о том, чтобы справедливость восторжествовала. Это моя работа, и я исполняю ее много лет, потому теперь все во мне противилось такой чудовищной несправедливости.
Сейчас я вижу перед собой твое лицо, лицо того, кто читает эти строки. Я знаю, ты качаешь головой от удивления — мол, посмотрите, он готов убить невинного человека, но мучается угрызениями совести при мысли о том, чтобы обвинить в этом убийстве другого невинного. Мол, как возможно соединить такие порывы в одной душе?
Никак. В моем сознании одно отделено от другого. С моей точки зрения Бальдур вовсе не невинная жертва. Он виновен, виновен в том, что женат на женщине, которую я люблю. И мне наплевать на то, что нет закона, который запрещал бы это. Бальдур просто оказался в неподходящем месте. Рядом с Элисией. Если, несмотря на мою любовь, Элисия отвергла бы меня, то я не тронул бы Бальдура и пальцем, даже не подумал бы о нем плохо. Но нам с Элисией суждено быть вместе, и она воспринимает это так же, как и я. Вот только жизнь допустила страшную ошибку, сведя нас вместе так поздно. Я хотел исправить эту ошибку, и, хотя мне было тяжело отважиться на преступление, сердце мое ликовало при мысли о том, что теперь Элисия будет свободна.
Не знаю, кого я казнил бы вместо себя. Я не мог оставить это преступление нераскрытым. В случае с гибелью Агапета я еще сумел замять это дело, но теперь, после смерти Бальдура, любой подумает, что тот же убийца нанес повторный удар. Если бы я не раскрыл это преступление, сюда прислали бы другого викария, а я не мог этого допустить.
И вот, кто-то изменил мучившие меня вопросы. Раньше я думал: «Кого я казню за убийство Бальдура? Кого я казню вместо себя?» Теперь же вопросы звучат так: «Кто на самом деле убил Бальдура? Кому мне выдвинуть обвинения, кого мне казнить?» Неудивительно, что ответы будут похожи.
В сущности, ничего не изменилось. Бальдур мертв, ему перерезали горло, я был на месте преступления, Элисия свободна, а мне нужно найти убийцу. Оставим в стороне мою радость оттого, что мне не пришлось становиться преступником и судить невиновного за совершенное мною убийство. Кроме этого все факты остались теми же, что и в том случае, если бы это я убил Бальдура. Лишь мое любопытство пробудилось вновь. Сейчас речь шла уже не о том, кого выгоднее обвинить в этом убийстве. Кто на самом деле совершил это преступление — и, вероятно, убил Агапета?
Эстульф оставался моим главным подозреваемым. Я уже описал все «за» и «против» такого обвинения, но теперь, зная, что это не я убил Бальдура, я мог бы с чистой совестью заявить о своих подозрениях, ведь смерть Бальдура выгодна в первую очередь Эстульфу. Почему я пишу «с чистой совестью»? Потому что я обвинил бы Эстульфа в убийстве Бальдура, если бы сам совершил это преступление. Я принял это решение, направляясь к сеновалу. Не знаю, что сподвигло меня на это. Конечно, кого-то мне нужно было обвинить, а я так волновался из-за того, что мне предстояло сделать, что решил не ломать себе над этим голову. Кроме того, на мое решение повлияли мысли об Элисии, ведь она не испытывала к отчиму никаких теплых чувств и была бы довольна, если бы я обвинил именно его. Но дело не только в этом. Только теперь, по прошествии суток, я понимаю причину сделанного мной выбора.
Все дело в том процессе, который ведется в моей душе, процессе, ставшем поводом для моих записей. Я любовник Элисии. Так сказали бы люди, «любовник». Ее ребенок — от меня. Я хочу жить с женщиной, которую люблю, и готов нарушить ради этого любой закон. А Эстульф… он был любовником Клэр еще до смерти Агапета, в этом я уверен. Рихард — его сын. И желание Эстульфа исполнилось, теперь они с Клэр состоят в законном браке.
Думаю, я хотел обвинить Эстульфа, потому что видел в нем себя. Он был чем-то вроде моего отражения. Легче осудить того, кто похож на тебя, чем себя самого. Поэтому я не был полностью уверен в том, что мои подозрения относительно Эстульфа оправдаются. Моя вера в то, что именно он убийца, и мое желание наказать его были неразрывно связаны. Мой план состоял в том, чтобы обвинить его, при этом заключив с ним договор. Эстульф должен был пообещать мне, что признается в убийстве, я же в свою очередь докажу непричастность графини к этому преступлению и сниму с нее обвинения в измене и клятвопреступничестве. Так все сложилось бы наилучшим образом. Графиня, пусть и потеряв своего супруга, сохранила бы жизнь и честь; ее сын был бы признан законным наследником Агапета; Элисия отомстила бы за смерть отца и избавилась бы от ненавистного отчима; моя совесть осталась бы чиста.
Не знаю, гневливый Бог ли или же дьявол ниспослал нам Бильгильдис, разрушившую все.
Графиня вскоре оправилась после обморока. Эстульф, Элисия и я собрались в ее покоях. Клэр лежала на кровати в окружении трех печальных служанок и священника, сжимавшего ее руку. Графиня тихо разговаривала со своим духовником, Элисия нерешительно мялась возле кровати. Мы все были под впечатлением кошмарных обвинений Бильгильдис.
Я отвел Эстульфа в сторону:
— Бильгильдис может знать о вас с графиней? — тихо спросил я.
— Я не знаю, о чем вы говорите, викарий.
— Перестаньте увиливать, — резко перебил его я. — Если вам дорога жизнь вашей супруги, вам лучше бы говорить со мной откровенно, вот вам мой совет.
Эстульф колебался, явно обескураженный моим напором.
— Я могу помочь графине только в том случае, если вы доверитесь мне. Я считаю вас человеком чести, Эстульф, и…
— Конечно, я человек чести, — приосанился он.
— Не стану лгать, вам я больше ничем помочь не смогу. Проведенное расследование показало, что это вы совершили оба преступления. Мне не хватает последних необходимых улик, но я уверен, что судебные заседатели поддержат мой приговор, они всегда так делают. Итак, вы и дальше будете отрицать то, что совершили убийство? Вы сделали это по любви, верно?
Одного его взгляда было достаточно для того, чтобы я удостоверился в собственной правоте.
— Значит, это так, — сказал я. — Я так и знал. Вы пошли на это ради Клэр.
— Да, — кивнул он.
— И ради власти, не так ли?
— Нет.
— Думаю, все же ради власти.
— Это не так.
— Не корите себя. Вы хотели стать графом, чтобы нести добро людям, но, чтобы добиться этого, вам нужно было применить не лучшие средства, применить их против тех, кого вы презирали.
— Я переступил через собственные принципы…
— Я знаю. Я вас понимаю.
— То, что я сделал… Это не в моей природе. Я человек миролюбивый, спокойный.
— Так всегда бывает с миролюбивыми правителями. Вы применяете силу, говоря себе, что это исключение, что это не в вашей природе. Но сила оказывается необычайно действенна, и вы пользуетесь ею вновь. И не успели вы оглянуться, как оказались столь же кровожадны, как и все остальные.
— Это неправда, я…
— Уже в том, как вы пришли к власти, Эстульф, было заложено семя зла. Вы жестоко убили Агапета и…
— Да нет же, это недоразумение!
— Что?
— Я не убивал Агапета.
— Но вы же сказали…
— Я говорил о Бальдуре. Речь шла о жизни Клэр и моего сына! Я не мог допустить, чтобы Бальдур искалечил и опозорил мою возлюбленную, а мой сын получил клеймо бастарда. Именно поэтому я прошлой ночью пробрался на сеновал, где я… Послушайте, я не горжусь тем, что сделал, но я не мог иначе. Я должен был все исправить, и, пускай вы осуждаете меня за этот поступок, я повторил бы его, если пришлось бы. А вот к смерти Агапета я не имею никакого отношения. Мы с Клэр собирались жить с тем, что Агапет примет нашего ребенка как своего, понимаете, викарий?
Я прекрасно понимал его, ведь сам четыре месяца назад принял такое же решение. Но если Эстульф не убивал Агапета — а я ему верю, ведь какой смысл признаваться в одном преступлении и отрицать другое, — то кто это сделал?
— Но если это значит, — не колеблясь, добавил Эстульф, — что вы из-за этого обвините в убийстве Агапета Клэр, я готов взять на себя и это преступление тоже. Я открыто заявлю о том, что убил его.
Я правильно оценил этого человека. Он готов был на все ради Клэр, как я готов был на все ради Элисии. И хотя ему предстояла смерть на эшафоте, сейчас он думал о женщине, которую любил.
— Я не верю в то, что Бильгильдис знала о моих отношениях с Клэр еще до смерти Агапета. Мы были очень осторожны. Клэр не стала бы говорить с Бильгильдис обо мне, ведь она знала о том, что Бильгильдис была любовницей Агапета.
— Клэр знала об этом?
— Да, но ее это не смущало.
— Где вы встречались с графиней?
— В моей комнате.
— Только там?
— Да.
— Ваша комната расположена…
— …неподалеку от комнат графа и графини.
— Рядом с комнатой Бильгильдис?
— Нет, вовсе нет.
— Раймунд мог узнать о вас?
— Неужели вы думаете, что я доверился бы личному слуге Агапета?
— Я не думаю, что вы доверились бы ему, я хочу сказать, что он мог узнать об этом случайно. Вы позволяли ему заходить в вашу комнату?
— Прошлым летом Раймунд предложил свои услуги личного слуги на то время, пока отсутствует Агапет. Я тогда еще удивился тому, что кто-то хочет взвалить на себя дополнительные обязанности. Впрочем, я отказался.
— И все же он мог как-то проникнуть в ваши покои?
— Я не могу полностью исключить эту возможность.
— Бильгильдис должна представить какое-то доказательство измены, одних ее слов будет недостаточно. Что насчет наших печальных бардов?
— Кого?
— Я имею в виду этих служанок, которые все время поют, Франку, Фриду и Фернгильду, они ведь должны были стать невестками Бильгильдис. Может быть, графиня проговорилась им…
— Исключено. Она сама говорила мне, что не рассказывает о нашей связи даже исповеднику, — Эстульф указал на священника у изголовья Клэр.
— Отец Николаус — исповедник вашей супруги? С каких пор?
— Я не знаю. Он стал ее исповедником еще до того, как я приехал в замок, а это было три года назад. А что?
Это было странно. Когда я неожиданно вошел в комнату Бильгильдис и обнаружил ее сидящей над какими-то записями, она сказала мне, что речь идет о письмах графини ее исповеднику, отцу настоятелю монастыря Святого Трудперта. Зачем же Бильгильдис солгала мне? Для того чтобы не показывать мне эти бумаги.
Оставив Эстульфа стоять в нерешительности, я поспешно подошел к Элисии. Она ждала возможности перекинуться со мной хоть словечком, но явно была удивлена тем, какое время я выбрал для разговора.
— С тобой все в порядке? Мы еще не говорили друг с другом со времени твоего приезда, — прошептала она. — Где ты был вчера ночью? Я приходила к тебе, но тебя не было в комнате.
— Я вышел прогуляться, мне не спалось.
— Ты хотел навестить меня?
— Я не собирался приходить к тебе вчера, но я скучал по тебе, ты даже не представляешь себе насколько.
— Представляю, Мальвин. Я…
— Давай поговорим об этом позже, ладно? А сейчас я хочу, чтобы ты оказала мне одну услугу, и не только мне, но и твоей матери. Ты выполнишь мою просьбу?
— Да.
— Поговори с Бильгильдис.
— Я не понимаю, какой бес в нее вселился.
Я мог бы рассказать Элисии об отношениях Бильгильдис с Агапетом, но сейчас это лишь сбило бы ее с толку.
— Поговори с ней.
— Трудно поговорить с человеком, у которого нет языка.
— Я имею в виду, образумь ее, уговори не выдвигать обвинений, делай что хочешь, главное, держи ее подальше от ее комнаты. Ты должна отвлечь Бильгильдис, понимаешь?
— Что? Зачем?
— Прошу тебя, сделай то, о чем я прошу.
— Да, но я хочу знать…
— Это долгая история, Элисия, а у нас мало времени. Позже я все тебе объясню, обещаю.
Я надеялся, что Элисии удастся отвлечь Бильгильдис на некоторое время. Иначе мне пришлось бы обыскивать комнату против ее воли, а я не имел права этого делать, ведь Бильгильдис была и свидетельницей, и обвинительницей на судебном процессе, который я вел.
Я стоял неподалеку от комнаты Бильгильдис, ожидая, когда ее позовут к Элисии. Три певуньи вошли в ее покои и почему-то задержались там. И тут вдруг я увидел, как Бильгильдис выходит из соседней комнаты! Вскоре она встретилась со служанками и направилась к покоям Элисии. Дождавшись, пока все они скроются из виду, я покинул свое укрытие и заглянул в соседнюю комнату. Там не было никого, кроме какого-то юного монаха. Попросив прощения за беспокойство, я прикрыл за собой дверь. Я не знал, что этот монах делает в замке и почему Бильгильдис заходила к нему, но тогда у меня не было времени подумать об этом. Только сейчас, когда я пишу эти строки, я вновь вспомнил об этом юноше.
В комнате Бильгильдис я обыскал все укромные уголки, где можно было бы спрятать записи. Я нашел угольные карандаши и чистые листы тряпичной бумаги, но все это не удовлетворило мое любопытство. Возможно, я ошибался? И эти записи вообще не имеют для меня никакого значения? А если и имеют, то ведь вполне возможно, что Бильгильдис уничтожила их, верно? Как бы то ни было, я видел те бумаги много месяцев назад.
Однако же я не собирался сдаваться так быстро. Срывать покровы с тайн — вот в чем важнейшая задача викария, и тайны эти могут быть сокрыты не только в мыслях людей, но и в каких-то материальных предметах. Большинству людей легче скрыть свои мысли, чем спрятать, скажем, записи, а если ты живешь в замке, то тебя ограничивают не только пределы твоего воображения, но и окружение. Итак, где можно спрятать бумаги? В сундуке, в подшивке одежды, под шкурами на кровати — все это я уже обыскал. В стене! Я прошелся вдоль кладки и действительно обнаружил выдвижной камень. Открыв тайник, я увидел там несколько тугих мешочков с деньгами (меня это мало интересовало, но все же откуда у пары крепостных такое количество золота?) и исписанные листы бумаги. Забрав записи, я вставил камень обратно в стену и вышел из комнаты.
То, что я прочитал, вернувшись в свои покои, повергло меня в состояние ужаса. Бильгильдис описала свою чудовищную месть, она изливала свою черную душу на эти листы страница за страницей. Я читал ее записи, а в моей комнате сгущалась тьма, ночь проникала и в мою душу, и внутренняя тьма выплескивалась во внешнюю. Лишь тот, кто готов уже был стать добычей дьявола, может понять всю глубину моего ужаса. Читая этот текст, я словно заглядывал в пропасть, которая могла бы стать моею, вот только я побывал на ее краю и не оступился.
Придя в себя после прочитанного, я скрепя сердце понял, что не просто недооценил Бильгильдис, но и обошелся с ней слишком мягко. Если бы я, узнав о ее тайне, еще прошлой осенью пошел бы к Элисии и к графине… Бильгильдис всех нас поймала в свои сети, а мы этого даже не заметили. А самым ужасным было то, что яд, которым она отравила нас, был настоян на наших же грехах, преступлениях, тайнах, проступках. Этим она хотела уничтожить нас.
И хотя Бильгильдис не упоминала этого прямо, я исходил из того, что это она убила Агапета. Из ревности. К тому же я почувствовал ее безмерную горечь оттого, что Агапет отправил на войну трех ее сыновей. Он бросил своих детей в огонь сражений, и они сгорели там, словно сухие деревца. Бильгильдис ничем не помешала ему, а вот графиня спасла своего сына, спасла своим неожиданным и отважным решением. Часть гнева Бильгильдис, направленного на Клэр, была на самом деле обращена на нее саму, хотя она и не призналась бы в этом. И вот, после всего случившегося мужчина, с которым она прожила полжизни, привозит домой молодую венгерскую девчонку на замену постаревшей любовнице. Тогда Бильгильдис мстит, как отомстила бы обманутая супруга. Она убила Агапета, а теперь добивается смерти Клэр.
Мне многое нужно было сделать — поговорить с графиней о ее сыне, посвятить в происходящее Элисию и в первую очередь заставить Бильгильдис сознаться в убийстве, ведь ее записи едва ли можно было использовать для выдвижения обвинений, зато они могли серьезно навредить и графине, и Элисии, и мне самому. Если бы мне удалось выжать из нее признание… Должен ли я провести допрос с пристрастием и подвесить Бильгильдис на дыбу? Но она обвинительница на судебном процессе, это было бы странно. Лучше, конечно, предложить ей что-нибудь за ее признание, но вряд ли это сработает — Бильгильдис смертельно больна, жить ей и так осталось недолго. Запугать ее? Не получится — по той же причине. У этой женщины ничего нет — ни веры, ни будущего, ни воли к жизни. И никого у нее нет, кроме разве что мужа, которого она не любит. Что можно предложить такому человеку, каким наказанием его устрашить?
Сейчас я понимаю, что эти строки, вероятно, создают неправильное впечатление о том, что происходило в моей душе. Кажется, будто я погрузился в раздумья и предался неспешным рассуждениям. На самом же деле все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, пока я мчался к комнате Бильгильдис. Я знал, что близок к тому, чтобы найти убийцу, спасти графиню, обеспечить для нас с Элисией общее будущее, оставить графство Эстульфу… Все зависело от этой немой умирающей женщины.
Полный ожиданий, страха и ненависти, я ворвался в комнату Бильгильдис. На столе горела лампа, а значит, служанка уже вернулась от Элисии, но я ее почему-то не видел. По всему полу рассыпались золотые и серебряные монеты, на них играли отблески света. В стене зияла темная дыра. Бильгильдис обнаружила пропажу.
Мое внимание привлек какой-то хрип, и я повернулся. Служанка перегнулась через подоконник, ее тошнило. Видимо, она не слышала, как я вошел сюда. Заметив под ногами еще пару листов бумаги, я подобрал их и приложил к остальным записям, а потом двинулся в сторону немой. Я споткнулся о лежавший на полу камень, и Бильгильдис повернулась. Ее подбородок был весь в крови. Это не должно было удивить меня, ведь я знал о ее болезни, но я невольно отпрянул и резко вскинул руку с записями, словно говоря ей: «Я все знаю. Ты зло этого замка. Ты его проклятье».
Мы стояли друг напротив друга, будто безмолвные призраки, повстречавшиеся во тьме и не знающие теперь, что им делать. Я едва видел ее глаза, лишь слабые отблески пламени в ее зрачках, но мне казалось, что Бильгильдис может заглянуть в самую глубину моей души и понять, насколько мы с ней похожи. Я ждал. Сам не знаю чего. Не знаю, что я должен был ей сказать.
А потом… я предвидел это и надеялся на то, что так и произойдет… Бильгильдис нагнулась, схватила камень и замахнулась. В последний момент я уклонился от ее удара, она едва не попала мне в голову. Камень упал на пол, а я схватил Бильгильдис обеими руками и прижал к стене. Я душил ее. Женщина сопротивлялась, но она была слишком слаба и слишком стара, чтобы что-либо противопоставить моей решимости и силе моих рук.
Я поднял ее хрупкое тельце и вдавил его в узкий проем окна. Бильгильдис чуть не застряла в нем, мне пришлось повозиться, но в конце она выскользнула из моих рук, упала в темноту ночи и исчезла.
Я услышал ее крик, сменившийся смехом. Смех был звонким, заливистым, и я понял, что это лишь мое воображение. Бильгильдис смеялась надо мной по той же самой причине, что и насмешливо улыбался в ответ на мои молитвы Иисус. Я все-таки стал убийцей.
У меня хватало причин для того, чтобы искать общества Элисии. Это была первая наша ночь после четырех месяцев разлуки, прошедший день был исполнен тревожными событиями, нам нужно было поговорить о нашем будущем. Но тем поздним вечером, после происшествия в комнате Бильгильдис, я направился к Элисии потому, что мне хотелось удостовериться в близости женщины, ради которой я стал одним из тех, кого сам день за днем передавал палачу. Я не должен был убивать Бильгильдис, мне несложно было бы вырвать из ее рук камень, несложно было бы одолеть ее. Для этого не нужно было выбрасывать ее из окна. Теперь я хотел убедиться в том, что могу жить, помня содеянное, пока мне доподлинно известно, ради кого я пошел на преступление.
Когда я вошел в комнату, Элисия сидела перед зеркалом. В комнате царил полумрак. Зрелище красивее я не мог бы себе и представить. Чувство тревоги развеялось, словно встреча с любимой даровала мне отпущение грехов. Теперь проклятье снято, мы можем жить счастливо, подумал я. Сейчас все мое внимание было направлено на Элисию, и единственным, что беспокоило меня, была мысль о том, что рассказать ей. Оставить ее в неведении о произошедшем? Утаить от нее правду? Или полностью открыться ей?
Я еще не принял окончательного решения и хотел пока что подвести Элисию к обсуждению этого вопроса.
— Как прошла твоя встреча с Бильгильдис? — спросил я.
Она молчала.
Я сделал шаг вперед.
— Твои мольбы смягчили ее сердце?
Элисия не ответила мне, словно не услышала моих слов. Она смотрела на свое отражение в зеркале. Подойдя поближе, я увидел кровь на ее лице, на ее шее, на ее платье…
— Элисия, что случилось?!
Я ощупал ее тело, но не видел следов повреждений. И тут я вспомнил о крови, которой рвало Бильгильдис.
— Она больше не причинит тебе вреда, любимая. Не причинит. Она мертва, понимаешь? Да, она мертва. Вытри кровь, позабудь о том, что случилось. Прошу тебя, забудь. Посмотри на меня, Элисия! Прошу тебя, посмотри на меня!
Она не отвечала, что бы я ни говорил, что бы я ни делал. Элисия смотрела на себя в зеркале, смотрела себе в глаза. И только когда я встал между ней и зеркалом, она, казалось, заметила меня, но ее взгляд оставался столь же отрешенным.
— Ложись, любимая, поспи немного. Давай я помогу тебе, вот так, видишь, теперь все в порядке, — я отнес ее на лежанку. — Эта змея укусила кого-то в последний раз. Завтра с тобой все будет хорошо, вот увидишь. Ну пожалуйста, скажи мне хоть что-то, хоть словечко, Элисия! Скажи мне что-нибудь, чтобы я понял, что ты вернулась… вернулась, где бы ты ни была. Или посмотри на меня, посмотри так, как смотрела раньше.
Но Элисия не отвечала на мои мольбы. Я обмыл ее лицо, снял с нее окровавленную рубашку и уложил мою возлюбленную в постель. Я развел огонь в обоих каминах и зажег несколько лампад. Вскоре комната прогрелась, по ней распространился приятный запах. Через какое-то время Элисия закрыла глаза, погружаясь в дрему, а я начал молиться.
Посреди ночи Элисия вскинулась ото сна.
— Папа? Папа! — закричала она.
Я подбежал к ней, попытался успокоить, но Элисия не видела меня. С момента нашего знакомства мы еще никогда не были столь далеки друг от друга, как в это мгновение.
— Скажи мне хоть слово, Элисия… Посмотри на меня…
Но она не смотрела.
Нет в мире ничего ужаснее бессилия.
Утром, еще до петушиного крика, мне пришлось покинуть комнату Элисии и отправиться к себе, ведь я мог бы навредить нам обоим, если бы кто-то увидел меня здесь. Нам нужно было оставаться осторожными.
Я не хотел оставлять Элисию без присмотра, потому решил где-то через час заглянуть к трем печальным певуньям и попросить их посидеть с госпожой.
Я как раз дошел до своей комнаты, когда услышал крики:
— Убийство! Убийство! Ее убили! Бильгильдис убили!
Затем вновь воцарилась тишина, но уже через пару мгновений со всех сторон послышались шорохи, бормотание, звон доспехов. Усталые и невыспавшиеся, люди нерешительно выходили из своих комнат навстречу предутренним сумеркам. Раздались чьи-то вскрики.
Я вошел в свою комнату и запер дверь.
Вскоре ко мне постучали.
Я снял накидку, привел одежду в некоторый беспорядок и открыл дверь.
— Да, что случилось?
— Господин, — выпалил запыхавшийся стражник. — Прошу вас, пройдите со мной. Произошло нечто ужасное.
Я вновь надел накидку и прошел за стражником в комнату Бильгильдис.
— Немая служанка исчезла, — сообщил мне стражник, обводя рукой пустую комнату.
— Это ничего не значит. Она может быть где угодно. Видимо, вышла в уборную. Ну, или она сбежала, потому что не хочет лгать в суде.
— Мы уже проверили уборную и столовую для слуг, там Бильгильдис нет. Однако же нам удалось кое-что заметить. Прошу вас, посмотрите сами, господин.
Той ночью сразу после смерти Бильгильдис я сложил деньги обратно в тайник и поставил камень на место, бумаги я забрал и теперь носил их с собой вместе с моими собственными, поэтому в комнате царил относительный порядок.
Стражник подвел меня к окну и указал на стену. Засохшая кровь ярким пятном выделялась на сером поросшем плесенью камне.
— Я понимаю, что тебя беспокоит, однако же мне известно, что Бильгильдис была больна, ее рвало кровью. Этим следам может быть не один день.
— Да, господин. Я понимаю, господин.
— Я слышал крики. Кто кричал об убийстве? Распускать такие слухи — скверное занятие.
— Мы не знаем, кто кричал, господин. Какой-то мужчина.
— Что ты имеешь в виду? Он был незнаком вам?
— Нет, господин, когда мы с товарищем пришли сюда…
— Арнольд! Арнольд, ты там? — донеслось откуда-то из-за окна.
— Простите, господин. Это мой товарищ. Он спустился вниз.
— Вниз?
— Да, к подножию скалы.
Я высунулся в окно, и от высоты у меня тут же закружилась голова. Стены замка переходили в гладкую скалу, а у ее подножия среди цветущих веток стоял еще один стражник.
— Арнольд, — крикнул он, думая, что я — это его товарищ. — Тут лежит какая-то женщина. У нее раздроблен череп, но сдается мне, это немая. Немее некуда.
Я предположил, что монах, живший в соседней от Бильгильдис комнате — впоследствии мне стало известно, что это был Орендель, — поднял тревогу. Вероятно, он хотел навестить ее, увидел открытое окно и кровь и пришел к выводу, что его кормилицу убили, чтобы не дать ей выступить в суде. Я открыл дверь в его комнату, но его там не было.
— Господин, — Арнольду мое поведение явно казалось странным, — я отведу вас вниз, к телу.
— Я сам найду дорогу. Я хочу, чтобы ты незамедлительно отправился к графине и передал ей вот эту записку.
Я нацарапал угольным стержнем, принадлежавшим Бильгильдис, пару строк, в которых я предупреждал графиню Клэр о том, что ее сын находится в замке и что Бильгильдис настроила его против матери и Эстульфа. Я также советовал ей усилить стражу у своей двери и двери Эстульфа.
— Разбуди госпожу Клэр, если придется. Кроме того, необходимо, чтобы ты выставил стражника у двери госпожи Элисии. Организуй поиски монаха, который находится в этом замке. На нем обычная монашеская ряса. Когда монах будет найден, его необходимо взять под стражу. Тебе все ясно?
— Да, господин.
— Повтори.
Он все повторил правильно, и я отослал его к Клэр.
И только потом позволил себе сделать глубокий вдох.
Добраться до подножия скалы было не так-то просто. Мне пришлось обогнуть замок, спуститься по обрывистому склону, продраться сквозь кусты и перелезть через пару валунов, чтобы, наконец, отыскать в лесных зарослях нужное место. Там, среди высокой травы и густых ветвей меня ждал второй стражник.
Тело Бильгильдис с неестественно вывернутыми суставами лежало на поросшем мхом крупном валуне, по форме напоминавшем перевернутую чашу. Этот камень, доходивший мне до бедра, словно служил предупреждением о том, что приближаться к замку не следует.
Мне не хотелось смотреть на изувеченное тело женщины, ведь я знал, что это я повинен в том, что приключилось с нею. Но я понимал, что нужно внимательно осмотреть и ее саму, и все вокруг, делая вид, будто я провожу расследование.
С некоторой поспешностью — сейчас, по прошествии времени, она кажется мне неразумной — я повернулся к стражнику:
— Служанка покончила с собой.
— Но ей пришлось бы протискиваться в узкое окно комнаты, господин. Оно не намного шире бойницы…
— Она худая, ее тело прошло бы в проем.
— Да, господин, может быть, все так, как вы и говорите, но сброситься с крепостной стены было бы намного проще.
— Я полагаю, что Бильгильдис в очередной раз вырвало кровью. От отчаяния при мысли о неминуемой смерти от страшного недуга несчастная выбросилась в окно. Ты сомневаешься в моих словах?
— Нет, господин.
Больше стражник не оспаривал мои заключения — так больные не сомневаются в диагнозе, поставленном врачом.
И, в сущности, на этом все могло бы и закончиться.
— Пока я ждал вас, господин, я немного отошел от трупа, — сказал стражник. — Было не очень приятно стоять рядом с этим камнем, понимаете, господин…
— Да, конечно. К чему ты говоришь мне об этом?
— Я прошел вдоль скалы, господин. Вон туда, видите? И там я кое-что нашел.
— Нашел?
— Господин, может быть, вы могли бы пойти туда и посмотреть? Я там ничего не трогал, честное слово.
Я нехотя последовал за ним. Сейчас в моей голове крутилось столько мыслей и на душе было так плохо, что у меня не было сил на эту пустую, как я полагал, трату времени. Кроме того, мне пришлось перебраться через несколько упавших деревьев и крупных камней, а в моей широкой накидке сделать это было не так просто.
Но я сразу же осознал важность найденного, когда увидел все собственными глазами. Там, присыпанное листвой, лежало то, что и привлекло внимание стражника. Белая, некогда ночная рубашка, посеревшая и истрепавшаяся от непогоды. Она лежала здесь уже давно, но я разобрал выцветшие пятна на груди и по краю сорочки — кровь. Осмотрев это место, я нашел следующее: дорогой кинжал с гравировкой «Konradus Rex»; искореженную шкатулку со свитками, которую мне едва удалось открыть; старый, покрытый вмятинами шлем, найденный нами с Элисией в потайной комнате; кольцо короля; ключ от сокровищницы.
— Тут, внизу, никто обычно не ходит, господин. Все эти вещи могли бы пролежать здесь незамеченными десятки лет.
Я посмотрел на отвесную скалу, переходившую в стену замка.
— Скажи мне, — спросил я стражника, — чьи покои находятся прямо над нами?
Клэр
Недавно, вскоре после того как я проснулась, ко мне пришел стражник и передал мне письмо от викария: Бильгильдис мертва, мой сын в замке, надо мной и Эстульфом нависла смертельная угроза. Конечно, письмо Мальвина было длиннее, чем то, что я написала здесь, но не намного.
— Я уже распорядился, чтобы перед вашей дверью поставили трех часовых, госпожа, и столько же перед дверью графа, — сказал стражник.
— Нет. Я хочу, чтобы ты убрал всех стражников из этой части замка.
— Но госпожа…
— Я недостаточно ясно выразилась?
— Нет, но…
— Ты уберешь отсюда всех стражников, в том числе и тех, кто уже стоит перед дверью моего супруга. И ты не должен ему об этом сообщать.
Я двадцать шесть лет прожила в этом замке, и потому мое влияние как графини было достаточно велико для того, чтобы добиться у стражника покорности, хотя слушаться он должен был не моих приказов, а приказов нового графа. Чтобы придать своим словам большую убедительность, я сняла кольцо с пальца и передала его этому бедняге. Глаза стражника жадно блеснули, и он схватил кольцо так, будто я угостила его жирной гусиной ножкой под конец поста.
— Ты получал от викария другие приказы?
— Он сказал, что я должен выставить часового у двери госпожи Элисии и сообщить другим стражникам, чтобы они нашли в замке монаха и задержали его.
— Ты можешь выставить часового у двери моей дочери, но монаха искать никому не следует. Как и сообщать кому-либо о нем. Скажи моим служанкам, чтобы они не заходили ко мне сегодня, я никого не желаю видеть. Где викарий?
— Он осматривает в лесу тело служанки.
— Хорошо. Викарию ни слова. Теперь иди. Да, кое-что еще. Отпусти венгерскую девушку. Дай ей коня, краюху хлеба, головку сыра и вот эти монеты. И не смей оставлять эти деньги себе!
— Конечно, госпожа.
— Я благодарю тебя. Да сохранит тебя Господь.
Я сняла козью шкуру с окна и залюбовалась величественными водами реки, этой животворящей жилы земли, чья серебристая лента тянется через многие земли. На берегах этой реки происходят различные события, такие же, как произошли со мной, — хорошие и плохие, веселые, грустные или трагические. Наверное, можно целое тысячелетие рассказывать о том, что происходит на берегах Рейна. Сколько легенд и преданий сокрыто в этих водах. И моя история — лишь одна из многих, и, вероятно, не лучшая. Но это история моей жизни, и она достойна того, чтобы о ней знали.
Моя птица пережила зиму в деревянной коробке, которую я приказала сделать для нее. Вчера вечером я вдосталь накормила ее зерном. Не знаю, зажило ли ее крыло. Сегодня утром птица исчезла. Наверное, она расправила крылья и, влекомая ветром, вылетела в долину. Возможно, что ее крыло так и не зажило, и она упала в пропасть.
Я до сих пор сижу у трельяжа, тут я начала писать и пишу до сих пор, поглядывая время от времени на дверь. Я ожидаю, что она медленно, тихо откроется и я увижу край монашеской рясы. Я не боюсь предстоящего. Все это справедливо. После моего удивительного выздоровления пару недель назад я часто спрашивала себя, за что мне такая милость. Теперь же я понимаю, что кара моя еще настигнет меня и это произойдет сегодня, невзирая на смерть Бильгильдис. Есть какая-то ирония в том, что судьей моим будет лицо не светское, каким был бы викарий, а в каком-то смысле духовное, хотя палач мой носит рясу лишь для сокрытия своего лица.
Почему насилие столь привлекательно, а кротость — нет? Вчера поздним вечером ко мне пришел Эстульф. Он в слезах признался мне, что накануне убил Бальдура. Конечно, я не стала спрашивать его о смерти Агапета — к чему?
Мое разочарование беспредельно. Я вкладывала в Эстульфа все свои надежды, в нашей паре он должен был стать хорошим человеком, не без греха, конечно, но не оскверненным кровью — ни убитых, ни врагов на войне. Я считала его человеком, которому отвратительно как насилие коварное, скрытное, так и гордое, вынесенное на всеобщее обозрение. В моем представлении Эстульф был воплощением нового времени, нового мировоззрения, и я хотела быть той, кто перекинет мостик между миром старым и миром новым. И я пыталась это сделать, видит Бог. Я ждала от Эстульфа намного большего, чем, к примеру, от Элисии и Оренделя — им достаточно было просто быть моими детьми. Эстульф же был — и остается — моим возлюбленным, моим супругом, моим счастьем. Он был моей верой. Я отчаянно цеплялась за его представление о лучшем мире, как птица на моем окне хваталась лапками за тонкую жердочку.
А когда Эстульф убил Бальдура, он стал частью того мира, что стремится к добру, проливая кровь врагов. Я все еще люблю его, и мне некуда деться от этой любви. Но мы словно заблудились. Добро и Справедливость далеко от нас, и дорога к ним затянута туманом, к тому же никто из нас не знает, каковы они на самом деле, а потому возможно, что мы ходим по этой дороге кругами.
Мне опостылел этот замок. Я хочу уехать отсюда вместе с Эстульфом, сбежать из этого места, где расцветают любовь и смерть, где вянут правда и надежда. Я никогда не чувствовала себя здесь дома, и все же я жила здесь. Я принимаю то, что…
Кара
Мне приснился сон.
Я стою во дворе замка.
Там царят шум и гам, ибо после возвращения Агапета из похода в замке собралось много народа. Со всех сторон доносятся приветственные возгласы. Агапет восседает на коне, вскинув к небу кулак. Странно, но я радуюсь его триумфу. Я, пленница, побежденная, радуюсь его победе. Я заговариваю с ним. Я что-то говорю ему, но он не удостаивает меня и взглядом. Агапет подходит к Элисии, обнимает ее и смеется. Позже, на пиру, я еще раз подхожу к нему. Я вижу, что графиня уже удалилась в свои покои. Мне хочется, чтобы Агапет обнял меня, сказал мне что-то приятное. Я надела для него красивое платье — не знаю, откуда оно у меня. Бард начинает петь. Агапет танцует со мной, но недолго. Появляется Элисия, и он оставляет меня ради нее. Я стою в стороне, стараюсь держаться подальше от происходящего. Служанки раздевают меня. А потом… Не знаю, я ничего больше не знаю…
Я в каком-то маленьком, узком месте, возможно, в могиле. Тут темно. Становится еще темнее… Ночь… Пар, сколько пара… И вдруг — я в купальне, в воде. Мне становится жарко. Там Агапет. Я поднимаю руку, замахиваюсь… Кровь, кровь, повсюду кровь…
Какой странный сон. Я была неподалеку, когда Агапет въезжал в замок, но я не помню, чтобы я испытывала подобные чувства. Была я и на пиру, но не танцевала с Агапетом. Он был отвратителен мне, это был страшный человек, но я его не убивала.
Вот и подошла к концу моя история. Мне разрешили покинуть этот замок, где я провела осень и зиму, где я ненавидела, любила и страдала. Восемь месяцев — я отмечала дни зарубками на стене — я пробыла в этом чуждом мне мире, мире, похожем на сон.
И вот я прощаюсь с вами, камни, ибо это вы храните память обо мне. Я прощаюсь с вами, те, кто знает теперь мою историю. Я иду навстречу заре.
Мальвин
Подойдя к покоям графа, я заметил, что что-то не так. В коридоре было пусто, я не увидел здесь стражников, несмотря на мои предостережения. Только одна служанка встретилась мне по дороге.
— Эй, — позвал ее я.
Девушка вздрогнула.
— Ты не видела тут монаха?
Она покачала головой.
— Ты была у графини?
Она покачала головой.
— У графа?
Она покачала головой.
— Ты видела кого-то из них?
Но и на этот вопрос девушка не знала ответа и очень обрадовалась, когда я разрешил ей отправиться по делам. Слухи о смерти Бильгильдис уже распространились, и слуги были напуганы. Один за другим обвинители умирали, вначале Бальдур, затем немая старуха. Люди винили в этом Эстульфа и графиню, но и меня тоже, ведь я как викарий принес им не справедливость и защиту, а одни несчастья. В глазах простых людей я стал причастен к проклятью. Иногда, мне кажется, простой люд обладает большей мудростью, чем мы, благородные и ученые мужи, ведь в отношении меня и Эстульфа слуги были, в общем-то, правы. Мы действительно были прокляты.
Подойдя к двери графини, я поднял руку, чтобы постучать, но в последний момент передумал. Сам не знаю почему. Словно какое-то предчувствие охватило меня — эта тишь, эта пустота, горечь прошедших дней, вся эта кровь, эти мертвецы, окровавленная одежда, свитки, интриги, раны, преступные мысли и деяния, яд в наших душах, яд, отравивший мир… Все это еще не закончилось. Нам нужно очищение, божественный суд. Этот замок, да и всех нас ждет чудовищная катастрофа. Зло, накапливавшееся в нас столько месяцев, столько лет, должно выплеснуться наружу. Так и должно быть.
Возможно, я думал так потому, что все еще находился под впечатлением прочитанного. Мои записи, записи Бильгильдис и Элисии находились в моем распоряжении. Их можно было прочитать как три части одного целого, будто они были кусочками странной мозаики, ставшей отражением драмы. И эта драма не могла завершиться хорошо. В сентябре прошлого года я приехал сюда как следователь и судья, привыкший полагаться на здравый смысл, но всего за пару месяцев я превратился в фаталиста, одержимого идеей предначертания. И неспроста.
Я медленно открыл дверь в комнату Клэр. Окно не было закрыто шкурой, и в комнату врывался весенний ветерок, трепавший мои волосы и накидку. С улицы доносился какой-то странный звук — не то гул, не то стрекотание.
Первым, что я заметил, был белый мотылек, влетевший в окно.
Уже потом я увидел монаха — Оренделя. Он стоял ко мне спиной. Я видел только его, не графиню. Юноша застыл перед подзеркальным столиком, словно склонившись над стулом… или над тем, кто сидел на этом стуле.
Я прокрался в комнату и медленно пошел к Оренделю, который так и не шелохнулся. Я был в двух шагах от него, когда увидел, что его правая рука резко дернулась вниз. В ней юноша сжимал кинжал.
Еще медленнее, чем прежде, я отступил на шаг, чтобы обойти Оренделя и столик и взглянуть на стул.
Там сидела Клэр. Графиня прислонилась затылком к бедру Оренделя, ее лицо было обращено в другую сторону, так что я не мог разглядеть, что с ней.
У меня болезненно сжалось горло.
— Что ты натворил? — спросил я, наконец заставив себя разлепить губы.
Мальчик повернулся ко мне. В его глазах блестели слезы.
— Я думал, она убила Бильгильдис.
— Нет, — сказал я. — Она ее не убивала.
«Это я ее убил, — хотелось добавить мне. — Это я столкнул ее вниз, и я поступил бы так еще раз, вновь и вновь, если бы потребовалось. Бильгильдис была ведьмой, вот только ее оружием была не магия, а умение понимать слабости людей и обращать их против них».
И я действительно произнес бы эти слова, глядя в глаза этого юноши, которого я знал лишь из прочитанных мною записей. Но я не успел.
В это мгновение графиня повернулась ко мне.
— Позвольте мне познакомить вас с моим сыном, викарий, — сказала она. — Его зовут Орендель. Его долго не было в замке.
— Слава Богу, вы живы! — с облегчением воскликнул я. — Я уж было подумал, что ваш сын…
— Я хотел этого, — прошептал Орендель. — Я уже приставил нож к ее горлу. Еще одно движение… Но моя рука словно онемела. Я не мог убить собственную мать. Она не сопротивлялась. Не кричала. Я просто не смог. После всего, что рассказала мне Бильгильдис, я предполагал, что встречу здесь совершенно другую женщину, женщину, которая вовсе не похожа на мою маму. Но она… она была такой же, как и годы назад. Я видел это, чувствовал это… Ее глаза… я увидел в зеркале ее глаза. И в них читалась любовь, та же любовь, что и прежде. Ни следа зла, ненависти, холода.
— Я ждала смерти, — сказала Клэр. — Я готова была принять свою участь. Ирония в том, что мое смирение спасло меня.
— Я… я разрыдался, — немного смущенно признался Орендель.
— Эта слабость делает вам честь, — заверил его я. — А что с Эстульфом? С ним все в порядке?
Графиня улыбнулась.
— Да, с ним ничего не случилось. Мы с Оренделем обо всем поговорили. Он рассказал мне, как Бильгильдис обманывала его все эти годы. Последний час мы проплакали вместе. Этих слез хватит навсегда.
Я не хочу рассказывать о произошедшем в дальнейшем в подробностях. Графиня прошла судебное разбирательство и была оправдана. Я молча согласился с вынесенным по ее делу решением, более того, я искренне восхищался этой женщиной за ее мужество, которого так не хватало мне самому. Впрочем, мое преступление было совсем иной природы.
Тем днем я попросил графиню о разговоре наедине, и она отослала Оренделя к его отчиму, чтобы они могли познакомиться. К мечущемуся по комнате белому мотыльку присоединилось еще два, и трепетание их крыльев придавало нашей печальной беседе диковинный оттенок.
Я достал из принесенной сумки грязную окровавленную ночную рубашку, кинжал, кольцо, ключ, шлем, деревянные четки и шкатулку с записями Элисии. Да, сумка была тяжелой.
— Все это я нашел в лесу у подножия отвесной скалы, прямо под комнатой Элисии.
Клэр опустила глаза.
— Я уверен, что вы можете объяснить мне, что это значит, графиня.
— Вы ошибаетесь. Я ничего не знаю, почему вы…
— Не играйте со мной, графиня, — грубо перебил ее я.
Мой гнев вспыхнул на мгновение, но он был вызван лишь моей нетерпеливостью и потому уже через мгновение развеялся, сменившись отчаянием. Я опустился на стул, подпер голову руками и протер глаза.
— Я люблю Элисию. Прошлой осенью у нас с ней завязались отношения. Ребенок, которого она носит под сердцем, от меня. Я пришел к вам не как викарий.
Не знаю, что из моих слов удивило ее больше всего. Мы смотрели друг другу в глаза, и я видел, что она понимает меня. Мы пришли к соглашению, не произнеся ни слова.
Встав, графиня прошлась по комнате, где в безумном танце кружились мотыльки.
— Всю свою жизнь Элисия отчаянно пыталась сблизиться с отцом, мою же любовь она лишь принимала. Я старалась выстроить с ней хорошие отношения, но безуспешно. Что бы я ни говорила, что бы я ни делала, это не шло ни в какое сравнение со словами и поступками Агапета — словно незадачливый поклонник, что пытается добиться расположения любимой, но ему никогда не одолеть соперника, которому сопутствует успех. Если в жизни Элисии случалось что-то хорошее, она объясняла это влиянием Агапета, если же происходило что-то плохое, она винила меня. Так, я вспоминаю, что Агапет не хотел, чтобы его дочь играла с сыновьями Бильгильдис, и приказал мне передать его распоряжение Элисии. Она посчитала, что запрет исходит от меня, хотя я и объяснила ей, что я лишь передаю ей слова Агапета. В другой раз Элисия написала отцу поздравление — я обучала ее каллиграфии, и девочка очень старалась, выводя каждую буковку. Но Агапет, не умевший читать, рассердился и бросил ее письмо в камин. Элисия же обвинила меня в том, что я якобы плохо научила ее писать. И это лишь два из бесчисленных примеров. Все сложилось бы иначе, и мы сегодня не говорили бы с вами, если бы Агапет подарил дочери любовь и тепло, которого она так жаждала. Но у него не было на нее времени, к тому же Агапет не мог простить ни мне, ни самой Элисии того, что она была бесшабашной, озорной и очень умной, в то время как его сын страдал от слабого здоровья и не отличался буйным нравом. Конечно же, Элисия заметила, как отец к ней относится, но она… как бы это сказать… она старалась утешиться, уговаривая себя в том, что все обстоит иначе. Вначале я этого не замечала, а когда заметила, то не восприняла всерьез. Я думала, Элисия ведет себя так назло мне, потому что не хочет признаваться в том, что я люблю ее больше, чем отец. Моя девочка становилась старше, а ее восприятие Агапета все больше искажалось. Она боготворила отца, приписывая ему качества, в которые не поверил бы даже его лучший друг. Деревянные четки, подаренные ей Агапетом на седьмой день рождения, стали для Элисии чем-то вроде реликвии. Меня огорчало все это, но я еще не понимала, насколько далеко зашел самообман моей дочери. Я осознала это, когда Элисии исполнилось пятнадцать лет. В это время я подстроила похищение Оренделя, и тогда же Элисия впервые зацвела кровью, — графиня помолчала. — До этого она обманывалась лишь в представлении о характере отца и о чувствах Агапета относительно ее самой. Мы все иногда лжем себе, и хотя Элисия стала в этом настоящим мастером, в ее заблуждениях как таковых не было ничего необычного. Но потом… Она начала говорить о событиях, которые на самом деле никогда не происходили, она выдумывала истории о том, что случилось с ней и ее отцом. Не знаю, откуда такие мысли брались в ее голове. Эти истории явно были вымыслом, но, если я обращала на это ее внимание, Элисия злилась, поэтому я перестала возражать ей. Я говорила об этом с Агапетом, но его это не волновало. Бильгильдис советовала мне оставить все как есть. Мол, это само пройдет. Что же мне было делать? У меня не было ни плана борьбы с фантазиями дочери, ни возможности повлиять на нее, ни, наверное, решимости что-либо предпринять, ибо воля моя ослабела за долгие годы без любви. Я последовала совету Бильгильдис и оставила все идти своим чередом. Чем меньше времени было у Агапета на Элисию, тем, казалось, больше часов она проводила с ним в мире своих фантазий. Если он отказывал ей в просьбе, девочка либо вообще забывала о том, что о чем-то просила отца, либо делала вид, что Агапет выполнил ее просьбу. Но хуже всего было то, что Элисия не лгала, рассказывая свои истории. Она была уверена в том, что говорит чистую правду. Элисия целиком и полностью верила в собственный вымысел. И это было страшно. Элисия делила воспоминания об отце на два вида — те, которые радовали ее, и те, которых не было. В остальном она была совершенно нормальной девушкой, она могла шутить, грустить, злиться, наряжаться, болтать со своими служанками, скандалить с Бальдуром, мечтать о ребенке, рассуждать о жизни… В общем, она ничем не отличалась от других благородных женщин ее возраста, и ее разум работал безупречно. Только когда речь заходила о ее отце, Элисия не могла воспринимать реальность, создавая для себя особые пространства вымысла.
И вот, однажды… Это было прошлой весной, день клонился к вечеру… Ах, это было ужасно. Элисия попросила отца подарить ей кольцо — то самое, из шкатулки, которую прислал король. Агапет выпил лишнего. Он грубо высмеял Элисию и сказал, что она должна сперва родить ему внука, а потом уже обращаться к отцу со всякими просьбами. Агапет начал кричать на нее, виня Элисию в ее бесплодии, говорил, мол, она никудышная жена и никудышная дочь. Он был настолько пьян, что грозился подложить ее под племенного быка, чтобы тот ее осеменил. А потом… я едва могу повторить эти слова… Агапет сказал, что сам «заделает» ей ребенка. Кошмар, просто кошмар… Он еще никогда так не разговаривал с Элисией, и бедняжка была совершенно ошеломлена. Мало того, после этих слов Агапет схватил Элисию за плечи, сорвал с нее платье и впился поцелуем ей в губы. Я пыталась оттащить его от дочери, но Агапет был сильнее нас обеих и отталкивал меня. Как бы то ни было, он был пьян, и мои попытки помешать ему привели к тому, что Элисия сумела вырваться и убежать. После этого она слегла с лихорадкой на несколько дней. Я надеялась, что теперь Элисия поймет, каков на самом деле ее отец. Но нет, когда Агапет уехал на войну в начале лета, Элисия стала дожидаться его, словно влюбленная… — Она запнулась.
— Невеста? — предположил я.
— Моя Элисия… О господи… — Клэр провела руками по встрепанным волосам, потеребила локон. Графиня не знала, куда ей деть руки.
Мотыльков в комнате становилось все больше, сейчас их было уже шесть, и игра их белоснежных крыльев была словно насмешкой над грустью графини, да и над моей тоже.
Мы помолчали.
— Вы с самого начала знали, что убийца — Элисия.
— Почти, — кивнула Клэр. — Ночью, когда Бальдур рассказал мне о том, что случилось с Агапетом, я подумала, что моего мужа убила та венгерская девушка. Но на следующее утро я заметила, что из тайника в стене исчез ключ от сокровищницы. Об этом тайнике знали только Эстульф и Элисия. Я открыла сокровищницу ключом Агапета и заметила, что из шкатулки пропали кольцо и кинжал.
— И тогда вы начали подозревать свою дочь, так? Потому что зачем кому-то тайком пробираться в сокровищницу за кинжалом, если в замке полно оружия, верно?
— Я сразу подумала об Элисии, в первую очередь из-за того, что пропало это проклятое кольцо. То самое кольцо, о котором моя дочь так мечтала.
— Вы хотели забрать кинжал из купальни, чтобы все подумали, будто любой мог совершить это преступление, используя какое угодно режущее оружие. Вы пробрались к купальне и задействовали рычаг, который выпускает воду из бассейна. Но вам помешали Элисия и Бальдур, да?
— Именно так. Я хотела слить воду, чтобы удостовериться в том, что кинжал короля действительно лежит на дне бассейна. Если бы это оказалось так, я подменила бы его на охотничий нож. Тогда все поверили бы в то, что убийство совершила венгерская девушка. Но я не успела. Вода вытекала из бассейна слишком медленно, и, чтобы скрыться от Бальдура и Элисии, мне пришлось оставить купальню. Я отправилась в комнату Элисии, но не нашла ни кольца, ни кинжала. Вначале я вздохнула с облегчением, надеясь, что моя дочь никак не связана с этим страшным преступлением. Но на следующее утро Элисия пришла ко мне на могилу Агапета, и я заметила кольцо на безымянном пальце ее левой руки. Она показала мне кинжал, который она сама же и вытащила из воды, и рассказала мне о событиях того чудовищного вечера, когда отец напал на нее. В ее фантазиях все обстояло иначе — отец беззлобно подтрунивал над ней, он обещал ей кольцо… Тогда я поняла, что моя дочь безумна. Что-то в ее душе мешало ей увидеть реальность, мешало ей вспомнить события, в которых она принимала участие. С того момента я не просто приняла вероятность того, что Элисия убила своего отца, я смирилась с этой мыслью. Она допрашивала меня так, будто подозревала Эстульфа, да и меня саму, и я поняла, что Элисия не помнит того, что совершила. Безумная убийца, заблудившаяся в мире своего воображения, — графиня выразительно посмотрела на меня. — Возможно, тот, кто любит ее, мог бы понять это, принять ее деяние и простить.
Эти слова произнесла ее собственная мать, с самого начала уверенная в виновности дочери и пытавшаяся защитить ее. Вся эта ложь о том, где лежал кинжал, где находится ключ, все попытки обмануть меня, направить по неверному следу… все это служило лишь одной цели — отвести подозрения от Элисии. А я сам? Разве я не защищал Элисию, пусть и неосознанно? Некоторые несоответствия в показаниях должны были бы насторожить меня. Так, по словам Элисии, она долго говорила с отцом, танцуя с ним на пиру, а вот Кара утверждала, что танец Агапета с дочерью не длился и пары мгновений. Элисия была единственной, кто услышал крики Кары, более того, Элисия даже проснулась от ее воплей, а ведь ее комната находилась далеко от купальни, к тому же в замке царил страшный шум. Элисия казалась очень разумной и здравомыслящей женщиной, но она описывала поведение своего отца совершенно иначе, чем все остальные люди, которые говорили о нем.
Было в ее любви к отцу что-то пугающее, но я не обратил внимание на то, что должно было пролить свет на случившееся. Элисия шила ему туники — их шьют жены мужьям. Она потеряла сознание при допросе, когда я заговорил о предполагаемой любовнице ее отца. У нее начался приступ в тайной комнате, когда она опустилась на постель Агапета. И главное, Элисия носила кольцо, которое якобы подарил ей отец, на безымянном пальце левой руки.
И все же я, расследуя это дело, не подозревал Элисию. Не подозревал, ибо не хотел ее подозревать. Когда Бильгильдис плюнула в Элисию кровью, та словно обезумела на время, ее рассудок помутился, но и это не насторожило меня. Только найдя в лесу то, что Элисия выбросила из окна, я вновь начал думать как викарий.
Ночная рубашка — это, несомненно, серьезнейшее доказательство вины Элисии. Конечно, можно предположить, что кто-то выбросил эту рубашку из ее окна, чтобы подставить Элисию. Но тогда этот человек должен был бы позаботиться о том, что рубашку найдут. Нашли же ее только потому, что я убил Бильгильдис. Значит, остается всего два варианта. Во-первых, может быть, что кто-то, к примеру графиня, не хотел, чтобы вина Элисии была доказана, и решил упрятать улики. Во-вторых, Элисия сама могла выбросить рубашку в ту ночь, когда пролилась кровь Агапета.
Эта рубашка, которую я нашел в лесу, уже начала подгнивать, но на ней были явные следы крови. Это было доказательство того, что Элисия убила своего отца.
Но зачем она выбросила все остальное? В случае с рубашкой ее стремление избавиться от улики вполне понятно, но вот что касается ключа… Элисия легко могла бы положить его обратно в тайник. Кинжал… Элисия сама ведь нашла кинжал в купальне. Неужели она тоже выбросила его из окна, как и рубашку? Королевское кольцо, так много значившее для нее, последний подарок ее отца, неужели и от кольца она избавилась? И от шлема? Зачем? А записи? С какой целью, во имя всех святых, Элисии их выбрасывать?
Но, с другой стороны, зачем все это выбрасывать из ее окна кому-то другому? Даже если кто-то решил бы избавиться от этих предметов, то почему просто не уничтожить их? Бумаги легко сжечь, как и ткань, а кольцо и кинжал можно было бы продать.
Когда я нашел все эти предметы под окном Элисии, в мою душу закрались первые подозрения, и мне стало жутко, как, бывает, пугается путник в темном лесу. Читая записи Элисии, я чувствовал, как растет во мне мой страх, как он ввергает меня в пучины отчаяния. А теперь, после слов графини, мне все стало ясно. Встала на место последняя деталь этой мозаики.
Элисия избавилась от этих вещей, выбросив их в окно, но в бессознательном состоянии, в подобном тому, в котором она находилась все последние часы (сейчас, когда я пишу эти строки, возлюбленная моя постепенно приходит в себя). Она искала и нашла оружие, которым она убила своего отца. Она же устранила эту улику вновь. Будучи в здравом уме, она искала убийцу своего отца, когда же ее разум затуманивался, она покрывала человека, совершившего это преступление. Саму себя. Вам это кажется удивительным, поразительным, невероятным? В сущности, мною двигали те же чувства, когда я много месяцев вел обличающие меня записи. Я словно был обвинителем на судебном процессе, где рассматривалось мое собственное преступление. Так же и Элисия винила саму себя, вот только она выступала в роли обвинителя, используя другие средства и не подозревая, с кем она борется на самом деле. Да, Элисия не отдавала себе отчета в том, что делает. Но вот действительно ли она использовала другие средства? Она вела записи, как и я. Элисия вела записи, чтобы предъявить обвинение. Кому? Убийце. Кто был убийцей? Она сама.
Днем Элисия выдвигала обвинения в убийстве против себя самой, не понимая этого, а ночью, когда ее рассудок помрачался, она защищала себя.
При свете дня она следовала своей давней привычке служить своему отцу, привычке, отвечавшей ее глубочайшим желаниям. А как она могла послужить отцу после его смерти? Конечно, отомстить за него.
Однако, когда ее душу окутывала тьма, Элисия видела Агапета совсем другим. В такие моменты она считала его человеком, который всегда недооценивал ее, отвергал ее чувства, не дарил ей должной любви, даже оскорблял ее. Но, невзирая ни на что, Элисия была верна ему. Могу ли я сказать, что она была предана ему, как предана невеста своему возлюбленному? Во хмелю Агапет набросился на Элисию, касаясь ее так, как не следует отцу касаться дочери. После этого случая девушка слегла с лихорадкой, а когда очнулась, ее желание нравиться отцу только возросло. По крайней мере так казалось. А в конце лета Агапет привез в замок Кару — женщину того же возраста, что и Элисия. Это и стало последней каплей.
Я представляю себе чувства Элисии в день возвращения Агапета. Полгода она ждала этого дня. Тот ужасный час, когда Агапет схватил ее и поцеловал, Элисия позабыла. Она надела свое лучшее платье и сделала красивую прическу. Она взволнована, как невеста перед свадьбой. И вот появляется Агапет. Все как всегда. Он едва удостаивает дочь взглядом, перекидывается с ней парой слов и вновь забывает о ней, обращая все свое внимание на привезенный трофей — Кару. Но Элисия обладает огромным опытом в том, чтобы убеждать себя в лучшем. На пиру, говорит она себе, все будет иначе. Вечереет, начинается пир, и, действительно, Элисии удается вытащить отца танцевать. «Ты беременна?» — спрашивает Агапет. Но Элисия не беременна, и отец бросает ее посреди танца. Агапету нужен внук, наследник, раз уж у него больше нет сына. Сама Элисия не важна для него. Он смотрит только на венгерскую девушку и громко похваляется тем, что проведет с ней ночь. Агапет приказывает привести Кару к нему в купальню. Его поведение ранит Элисию, но она не подает вида. Элисия уходит с пира, идет в свою комнату, переодевается ко сну и отпускает служанок. Все как всегда.
Вот только той ночью после пира Элисии впервые не удалось подавить обиду. Она хочет любить своего отца, боготворить его. Но в то же время в ней зреет ненависть к нему. Ненависть и желание покарать его за грубость, за измену.
Что произошло с Элисией потом… Откуда мне знать это, как я могу представить себе такое? Она застыла перед зеркалом, как вчера, когда я пришел к ней? Она заснула? Она почувствовала, что что-то происходит с ее разумом? Она услышала голоса? Мир, куда уходит душа, когда рассудок человека помутнен, остается загадкой для тех, кому не довелось самим побывать в тех пределах. Мне приходилось расследовать преступления, связанные с лунатизмом, явлением, которое некоторые считают проклятием Сатаны, другие же — даром Господа. Встречал я и знахарку, варившую зелья для погружения в состояние экстаза.
Но то, что произошло с Элисией… С таким я еще не сталкивался. Словно некая сила овладевала ее телом, сила, взращенная и взлелеянная самой Элисией, часть ее души, которая хотела быть услышанной. Иначе я не могу это объяснить.
Она идет в ночной рубашке по пустым коридорам замка — все пируют во дворе. Элисия приходит в покои матери и берет из тайника ключ. Клэр в это время спит.
Затем Элисия отправляется в сокровищницу, открывает шкатулку, присланную королем, берет кольцо, надевает его на палец… Возможно, именно в этот момент она принимает решение убить своего отца. Кинжал лежит рядом с кольцом в шкатулке.
Как бы то ни было, Элисия берет кинжал и идет в потайную комнату, о которой она узнала в детстве. В обычном своем состоянии она не помнит об этой комнате, но сейчас ее сознание изменено, и она вспоминает об укрытии. В потайной комнате она видит старый шлем своего отца.
Элисия ждет, она слышит, как шумит вода в купальне, — это Раймунд наполняет бассейн. Элисия заходит в купальню, там темно. Ее отец уже лежит в бассейне, он не сразу видит, кто спускается к нему в воду, а когда понимает это, уже слишком поздно. Острый кинжал пронзает горло Агапета. Кровь брызжет на Элисию, окропляет ее лицо и рубашку — точно так же, как окропила ее лицо кровь, когда в нее плюнула Бильгильдис. Кинжал выскальзывает у нее из руки и падает в воду. Наверное, она хочет выйти из купальни, но в этот момент с другой стороны двери доносятся голоса — это Бильгильдис привела к Раймунду венгерскую девушку. Элисия вновь спускается в потайную комнату. Она слышит, как Раймунд добавляет в бассейн горячей воды. В этот момент она покидает свое укрытие, проходит через комнату Агапета и возвращается к себе. Никто ее не заметил, потому что Кара не могла увидеть предбанник из бассейна. Элисия снимает окровавленную ночную рубашку и выбрасывает ее из окна. Она не может сжечь ее, потому что ткань влажная. Затем Элисия переодевается в чистую рубашку, точно такую же, как она только что выбросила. Ключ она тоже бросает в окно.
Она ложится в кровать, и — действительно ли она засыпает? Либо в этот самый момент Элисия приходит в себя, отгоняя наваждение? Это вопрос, который скорее заинтересует врачей или философов, нас он не касается. Она просыпается. Ей кажется, что она слышит какие-то крики. Кара и вправду кричала, но никто другой не слышал этих криков, даже графиня, чья комната ближе всех находится к купальне. Слышала ли Элисия крики Кары? Или же это были ее собственные крики? Она бежит в купальню и обнаруживает там мертвое обескровленное тело отца.
И с этого момента начинается ее двойная работа, тот самый процесс, который я упоминал.
Одна часть ее души делает все возможное, чтобы смерть отца не осталась неотомщенной. Элисия допрашивает Кару, говорит с матерью, помогает мне в расследовании, отводит меня в потайную комнату, приснившуюся ей накануне. Этими своими действиями она обвиняет себя саму, не понимая этого. Элисия видит призраков, и на одном из них шлем ее отца, словно сам Агапет вернулся из царства мертвых, чтобы отомстить дочери. О нет, никто не подсылал к ней убийцу, и в ту ночь, когда все строили дамбу, никто не нападал на Элисию в ее комнате. Никто не подстерегал ее во тьме коридора, никто не заставлял бежать прочь. Это были лишь призраки, рожденные ее безумным воображением.
Другая часть ее души старается устранить все, что напоминает Элисии об отце и о совершенном ею преступлении, словно эта часть ее сознания хочет одолеть дух Агапета и изгнать его из памяти Элисии.
Ведется непрерывная борьба между стремлением обвинить себя и стремлением защитить себя. Жертвой этой борьбы становятся и записи Элисии, содержащие и правду, и ложь. Элисия пишет о своих видениях и о преследующих ее призраках. Возможно, действующая во тьме часть ее души увидела опасность в этих записях, ведь они позволяют и самой Элисии, и другим узнать то, о чем никому знать не следует. Позволяют разогнать тьму. В конце концов, в этом и состоит смысл любых записей. Они должны привнести свет во тьму.
Я прячу доказательства вины моей возлюбленной обратно в сумку. Она оттягивает мне правую руку. Моя левая рука пуста, и только мы с графиней знаем, что в ней сейчас иной, невидимый груз — груз моей любви.
— Никто не может принять это решение за вас, Мальвин, — говорит Клэр. — Узнав правду, я сделала выбор в пользу Элисии. Я хотела защитить ее и готова была допустить казнь ни в чем не повинной девушки, чтобы спасти свою дочь. Это многого мне стоило, и мне уже никогда не стать такой, как прежде. Нечистая совесть оставляет на душе не меньше шрамов, чем плеть на оголенной спине. Господь покарал меня, лишив меня веры. Но это испытание не уничтожило меня, нет, оно подарило мне новую жизнь.
— Если я приговорю Элисию, то потеряю и ее, и ребенка. Но если я пощажу ее…
— То вы будете жить с женщиной, о которой вам известно больше, чем ей самой.
— Она когда-нибудь избавится от этой болезни?
— Ваша любовь исцелит ее, в этом я нисколько не сомневаюсь.
Я закрыл сумку.
И вдруг Клэр вскрикнула:
— Вы только посмотрите!
Она подошла к окну, и я последовал за ней. Зрелище и вправду было грандиозным. Вся долина и небо над замком были полны белых мотыльков. Наверное, их родилось так много оттого, что воздух был необычайно влажен в последние недели, а солнце палило вовсю. Клэр сказала, что за все годы, проведенные в этом замке, она еще ни разу не видела такого. Прошлогоднее наводнение сделало землю плодородной.
Я прилагаю к своим записям два документа, которые лучше дадут понять, что произошло после моего разговора с графиней Клэр, потому мне нет смысла исписывать листы бумаги лишними словами. Что касается первого документа — собственно говоря, это письмо, полученное час назад, — я должен сказать, что до отъезда из Констанца я послал гонца в Вормс. Второй документ говорит сам за себя, мне нет необходимости что-то объяснять.
Написано в Вормсе, двадцать седьмого апреля года Божьего девятьсот тринадцатого
Конрад, король Восточно-Франкского королевства, герцог Франконский
Мальвину из Бирнау, викарию Констанца
Мы, Конрад, король Божьей милостью, выражаем Вам Нашу признательность. Письма герцога Швабии графу Агапету Брейзахскому, которые Вы переслали Нам, пролили свет на намерения Бурхарда отречься от верности королевству и действовать против Наших приказов. Обвинив Бурхарда в измене и мятеже против Богом дарованной Нам власти, Мы лишили его титула герцога, и сейчас Наши войска уже вошли в Тюбинген, чтобы подтвердить слово делом и взять предателя в плен.
Поскольку титул герцога Швабии сейчас никому не принадлежит, то властью своею в знак признания Ваших заслуг перед королевством Мы наделяем Вас, Мальвина из Бирнау, титулом и должностью пфальцграфа Брейзахского. Официальное назначение вас на эту должность будет проведено первого мая, по прибытию особого посла.
Мы также провозглашаем Эстульфа, графа Брейзахского, новым герцогом Швабии и повелеваем ему мудро править вверенными ему землями и верно служить своему королю.
Подписано в последний день апреля года Божьего девятьсот тринадцатого
Я, Мальвин из Бирнау, викарий Констанца, расследовав убийство Агапета, графа Брейзахского, и его зятя Бальдура, объявляю виновной в этих преступлениях служанку Бильгильдис. Неутолимая ненависть к роду Агапидов подвигла ее на совершение ужаснейших нарушений закона Божьего и человеческого. Об этом свидетельствуют выдержки из записей, сделанных ею собственноручно. Записи эти я прилагаю к протоколу судебного расследования.
Бильгильдис стала сама себе и судьей, и палачом, она совершила самоубийство еще до того, как узнала свой приговор. Она действовала либо в одиночку, либо при пособничестве своего супруга Раймунда. Раймунд, узнав о смерти своей жены, повесился.
Засим я объявляю расследование завершенным.
Эпилог 4 мая 956 года Мальвин
Ровно сорок три года назад моя теща Клэр и ее супруг Эстульф, ставший герцогом Швабии, покинули замок, и с тех пор не было ни дня, когда мне хотелось бы продолжить свои записи. Я не собирался вновь вытаскивать на свет Божий то, что давно уже было погребено. Но неделю назад возлюбленная супруга моя, Элисия, скончалась после тяжелой и непродолжительной болезни, и теперь из тех, кто начал рассказывать эту историю, остался только я. Одиночество ли вновь вложило перо мне в руку? Или долг?
Элисия до последних своих дней так и не вспомнила того, что совершила преступление. Не помнила она и разговора с Бильгильдис, который привел к столь страшным последствиям. После тех трагических событий Элисия быстро оправилась. Я сказал ей, что она потеряла сознание и что Бильгильдис, охваченная безумием, убила саму себя. Ничто не свидетельствовало о том, что Элисия не поверила моим словам. Думаю, она хотела в них верить. За долгие годы нашей совместной жизни вновь и вновь Элисия перечитывала составленный мною документ, в котором я признавал виновной в убийстве Агапета Бильгильдис. Она будто хотела, чтобы каждая буковка этого документа отпечаталась в ее сознании. За день до смерти она в последний раз попросила меня прочесть ей эту запись, ибо глаза ее уже ослабели и она не могла читать сама.
Полагаю, Элисия никогда не задумывалась о том, почему она так одержима этим документом, я же не заговаривал с ней об этом. Призраки, преследовавшие ее после того кровопролития, так никогда и не исчезли из нашей жизни, но большую часть времени мы все же жили в мире и покое. Два или три раза в год Элисия вскидывалась ночью и звала отца, в остальное же время она спала, словно дитя. Она в полной мере наслаждалась тем, что стала хозяйкой этого замка. Так было до самой ее смерти. Элисия всегда оставалась для меня загадкой. Я любил ее всем сердцем, но в то же время она пугала меня. Я нередко спрашивал себя, случайность ли то, что Элисия полюбила именно меня, викария, разоблачающего все сокрытое. Кольцо ее отца, которое Элисия выбросила, когда разум ее помутился, то самое кольцо, найденное мной в лесу, я так и не отдал ей. Она была моей женой, а не женой Агапета.
Я еще помню тот день сорок три года назад, когда Клэр и Эстульф прощались с нами. Мы собрались в зале за столом и чокнулись бокалами. До этого прощального пира Элисия и Клэр долго разговаривали. Они провели вместе почти пять часов. Наверное, за всю свою прежнюю жизнь они столько не говорили друг с другом. Я никогда впоследствии не спрашивал ни Элисию, ни Клэр, о чем была их беседа. Как бы то ни было, после того разговора они обе испытали облегчение. Элисия сердечно поприветствовала Оренделя.
После этого мы никогда уже не сидели вот так вместе, Элисия, Клэр, Эстульф, Орендель и я. Клэр и Эстульф прожили вместе несколько хороших лет, после Рихарда у них родился еще один ребенок, девочка, но Эстульф рано умер. Это было… память моя подводит меня, но мне кажется, это было около тридцати лет назад. После его смерти Клэр ушла в монастырь, три ее служанки последовали за нею. И в монастыре они продолжали петь свои печальные песни. Сын Клэр, Орендель, уже через год после того прощального пира стал монахом. Он слишком много лет провел вдали от людей, и шум замка, как и суета герцогского двора, казались ему невыносимыми. Ему предложили должность настоятеля, но он отказался. Орендель умер семь лет назад в монастыре Св. Галла, где всю свою жизнь он переписывал книги и сочинял церковные песни. Он обрел свой покой.
Итак, мы только раз собрались впятером, да и потом виделись редко, хоть один из нас да и отсутствовал. Да, нас разбросало по всей стране, но ничто не мешало нам собраться. И я спрашиваю себя, не потому ли мы избегали встреч, что все мы в тот прощальный час в замке почувствовали ужас, дух зла, витавший вокруг нас. Трое из нас были убийцами, Орендель чуть не зарезал свою мать, а Клэр скрывала преступление, совершенное ее дочерью…
Мы с Элисией, поднявшись на стену замка, помахали вслед тем, кто покидал нас. Они скакали по ковру из мертвых мотыльков. Цветов было мало, резко похолодало, и потому бабочки погибли в одночасье. Белые крылья, всего два дня назад трепетавшие в небесах, теперь покрывали землю, подергивались на ветру, кружились на волнах Рейна.
Вскоре после отъезда Клэр я, войдя в свою комнату, обнаружил там коробочку с записями графини. Рядом лежала записка: «Мой милый Мальвин, делайте с этими бумагами все, что посчитаете нужным».
Я не прочел ни слова из этих записей.
Взяв эти бумаги, я положил их в королевскую шкатулку вместе с моими записями, записями Элисии и Бильгильдис, кинжалом и кольцом, запер ее и поместил в сокровищницу.
Но и там им не место. Если Бог смилостивится надо мною, он скоро заберет меня к себе. Моим наказанием стала жизнь длиною в семьдесят девять лет, жизнь, исполненная разнообразнейших недугов. Довольно этих страданий. Я правил Швабией, как того хотел бы Эстульф, и справлялся со всеми напастями. Короли приходили и уходили, велись войны, о которых теперь уже никто не вспомнит. В прошлом году король Оттон нанес сокрушительный удар венграм в битве на реке Лех и, как мне кажется, окончательно победил их. Двое наших сыновей сражались там и, слава Богу, остались целы и невредимы. Сражались ли на реке Лех сыновья Кары? Мы больше никогда не слышали о ней, но я знаю, что Элисия молилась за нее каждый день.
Что за слова Кара нацарапала на стенах своей комнаты, до сих пор остается загадкой, но мне кажется, что ее история — это часть нашей. Именно поэтому я и прячу шкатулку с нашими записями в стену, на которой оставила свои слова Кара. Пусть темнота тайника сохранит наши секреты и откроет их тогда, когда наступит для этого время.
Благодарности
Я благодарю тех, кто помогал мне воплотить мои идеи при написании этой книги: Петру Германн, Марию Дюриг, Элеонору Делэр и Рене Шварцера. Отдельно хочу поблагодарить Ильзу Вагнер, моего редактора, придавшую книге ее окончательный вид.
1
Король Конрад (лат.). (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.) note_1
2
Для того чтобы представлять судебную власть от имени короля и управлять собственностью короля в герцогствах, назначался специальный граф, получивший титул пфальцграф. (Примеч. ред.) note_2
3
«Алеманнская правда», свод законов германского племени алеманнов. note_3
4
В древнегреческой мифологии: дочь спартанского царя Тиндарея. Выдана замуж за микенского царя Агамемнона, возглавившего греческое войско в походе на Трою. В отсутствие мужа изменила ему с его двоюродным братом Эгисфом, а по возвращении Агамемнона убила его и его любовницу. (Примеч. ред.) note_4
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg





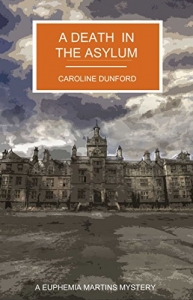
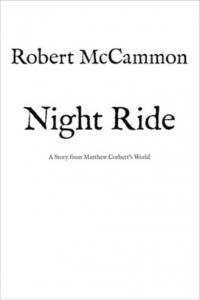
Комментарии к книге «Тайна древнего замка», Эрик Вальц
Всего 0 комментариев