Скайрайдер. ПОРТРЕТ
«…И дано ему было вложить дух в образ зверя…»
(Апокалипсис 13:15)РАЗ…
Немного округлое, чем-то напоминающее солнечный диск, лицо, покрытое чудесной золотисто-белой кожей, идеальной, без каких-либо изъянов, большие миндалевидные, цвета фиалок глаза с весело играющими искорками, такими, какие бывают обычно на морской глади при свете яркого солнца, пухлые чувственные алые губки, аккуратненький носик, волны чистого золота слегка вьющихся на кончиках и свободно ниспадающих на плечи волос, длиннополая соломенная шляпка с розовыми атласными лентами, кокетливо сдвинутая на затылочек, белоснежное кружевное платьице с куполообразной юбкой, корзинка, полная лесных цветов, в руках, а позади — манящая прохлада тенистой рощицы, белоснежная беседка, пруд с утками и лебедями, а далеко-далеко, на высоком зеленом холме, на фоне ярко-голубого безоблачного неба с необыкновенно большим золотым полуденным солнцем в зените, — розовый замок с развевающимися белоснежными флагами.
— Эта девушка — ну просто «Мечта поэта»! — хмыкнул длинный и, как и все слишком высокие люди, немного сутуловатый черноволосый мужчина с бледным лицом, красноречиво говорящим о хронической язве желудка и патологической мизантропии. — И как тебя угораздило, Ганин, опуститься до такого рода безвкусицы? Сколько тебя знал в институте, ты никогда не был склонен к дешевой пасторали… — И, еще раз иронично ухмыльнувшись тонкими, почти бескровными губами, громко хлюпнул, отпив большой глоток дымящегося ароматного кофе из своей кружки.
Ганина — немного коренастого и безбородого увальня в клетчатой, вечно мятой рубашке и потертых, измазанных пятнами краски джинсах, в больших очках в черной оправе на круглом, добродушном лице, придававших их обладателю сходство с черепахой из каких-то старых советских мультфильмов, — от этих слов передернуло, и он поспешно отошел от широко раскрытого окна, у которого с деланно безразличным видом стоял (впрочем, нервно барабаня пальцами по подоконнику), чтобы присоединиться к своему критику.
— Т-ты… н-находишь ее без… вкусной?.. — дрожа от внутреннего возбуждения, почти прошептал он.
— Ну, конечно! — с видом знатока ответил бледнолицый мужчина. — Смотри, какие неестественно яркие цвета, как будто это не картина, а кадр из диснеевского мультика! Девица — еще хуже — просто принцесса из детской сказки: никакого реализма, никаких переживаний, ни работы мысли, ни чувств… Кукла какая-то, а не человек! Да и потом, ну где ты, Ганин, скажи мне на милость, видел замки розового цвета, а? В Диснейленде, что ли? — И он опять презрительно фыркнул, делая еще один глоток из чашки.
Ганин покраснел как мак и не знал, куда спрятаться от столь жестокой критики своего лучшего друга и, пожалуй, единственного человека, к чьим оценкам он прислушивался: все-таки пять лет совместного обучения изобразительному искусству — это не шутка. К тому же у Павла Расторгуева был безупречный художественный вкус
— В самом деле, Ганин, ты ж всегда писал превосходные реалистические картины — твои «Будни студента» и «Ночной проспект», на мой взгляд, были просто великолепны! Смотри… — Тут Расторгуев, на время оставив в покое несчастный портрет, пошел к другому концу довольно тесного чердака, неестественно сгибаясь, чтобы не удариться головой о низкий потолок. Чердак был завален полотнами, приставленными к стенам, а иногда даже и друг к другу, что создавало на и без того небольшом пространстве тесноту. Однако Расторгуев чувствовал себя здесь как рыба в воде: он некоторое время ловко лавировал между массивными рамами, пока не дошел до конца чердака, и, щурясь, некоторое время переставлял холсты, чтобы добраться до искомого. Наконец он довольно хмыкнул и указал на одну из картин, на которой был изображен спящий на лекции студент, уткнувшийся носом в раскрытую тетрадь, а рядом — его улыбающийся товарищ по парте.
— Вот это я понимаю! Здесь все реально и, самое главное, ре-а-лис-тич-но! Видишь? Начиная с сюжета, знакомого всякому нормальному человеку, и заканчивая красками. Смотри, как ты здесь удачно изобразил тень от головы спящего, а там — твоя девица ВООБЩЕ не отбрасывает никакой тени, как призрак какой-то! Дальше, обрати внимание, какие на этой картине тонкие детали, хотя бы вот эти веснушки на носу, а там — твоя девица как неживая: ни веснушек, ни каких-нибудь дефектов — не лицо, а маска какая-то! Еще, видишь, как здесь приятель заснувшего студента криво ухмыляется? Какой изгиб губ, какие ямочки на щеках, какая складка! Эта деталь меня восторгает в твоей картине больше всего! Помнишь наши споры по ночам об улыбке Моны Лизы? Это, конечно, не Мона Лиза, но ухмылку ты эту сделал просто мастерски, пять баллов: какой психологизм, какая пластика, какое чувство жизни! Для меня эстетическое наслаждение видеть такие детали! А там… Да у твоей «принцессы» нет никаких эмоций, она просто труп какой-то, крашеный манекен, кукла! Да, да, кукла, ах-ха-ха-ха! Ты, случаем, не в анатомическом театре модель брал, а, Ганин?! — И, внезапно развеселившись, обычно мрачный мизантроп Расторгуев залился неприятным каркающим смехом, театрально взмахнул рукой и…
— Черт! Черт! Черт! А-а-а… Дьявол!.. — скорчив страдальческую мину, он принялся дрыгать обожженной горячим кофе ногой.
— Подожди, Паш, я сейчас принесу тебе мазь! — воскликнул Ганин, спускаясь по лестнице в дом за аптечкой и где-то в глубине души радуясь, что получил тем самым небольшую отсрочку в весьма неприятном для него разговоре с другом.
Ганин жил в небольшом деревянном домике, доставшемся ему от бабушки, в получасе езды на электричке от областного центра. Бабушка умерла несколько лет назад, а так как у Ганина все равно не хватало денег, чтобы снимать просторную мастерскую, он решил переехать в ее старый дом — благо, от города совсем недалеко. Это было обычное убогое строение, которое стыдно назвать дачей или домом, порождение эпохи развитого социализма, когда советским гражданам наконец-то разрешили иметь в пользовании земельные участки по шесть соток и строить на этих участках как раз такие вот деревянные развалюхи. Домик был действительно просто старой развалюхой — одноэтажный, скрипучий, тесный, покрашенный безвкусной краской болотно-зеленого цвета, с тесным холодным подвалом и еще более тесным чердаком. Он состоял из одной-единственной комнаты и сеней. Странный это был домишко… Когда по нему ходили, создавалось ощущение, что деревянный пол дрожит под ногами и стонет, и могло показаться, что стоит только подпрыгнуть — и обязательно провалишься в подвал. Да еще это дурацкое кривое зеркало на стене… Зачем оно здесь?..
Тем временем Ганин, несмотря на свою несколько неуклюжую комплекцию, довольно быстро и ловко спустился по лестнице в жилую комнату и побежал в сени, где на полочке среди всякого рода стамесок, спичек, гаечных ключей, тряпичных варежек и прочего барахла лежала кожаная аптечка с ярко-красным крестом на крышке. Схватив ее в охапку, он так же ловко стал карабкаться обратно.
— Ну… как… ты… Паш… живой еще? — задыхаясь от быстрого бега, проговорил Ганин, с беспокойством бросая взгляд на Расторгуева. Тот, морщась и шипя, задрал левую брючину и, обнажив длинную как жердь волосатую ногу, потирал красное пятно от ожога.
— Давай, Паш, я смажу… вот так… вот так… потерпи немножко… вот так… Ну, как? Лучше?
— Да, пожалуй… — прошептал Расторгуев, с наслаждением закрывая глаза — прохладная мазь, попав на обожженную кожу, быстро успокаивала боль.
— Бабушка у меня была мастерица всякие снадобья готовить, — продолжая растирать пострадавшее место, торопливо заговорил Ганин, словно боясь, что, как только он замолчит, Расторгуев опять вернется к теме портрета. — Она любила в свободное время ходить по лесу и собирать всякие травки, выписывала разные журналы про снадобья, про целительство. То на огороде, понимаешь ли, то в лесу… Сушила травы, делала по рецептам эти снадобья. Я сам, знаешь, думал раньше, что странная она, а вот когда обжегся как-то раз, так ее мазь — вот эта самая — быстро помогла! Веришь — нет, даже ожога не осталось! |
Но Расторгуев только недоверчиво хмыкнул, впрочем, он по-прежнему не открывал глаз — прохладная мягкая мазь приятно действовала на больное место.
— И ведь не портится вот уж сколько лет, представляешь?! — продолжал Ганин. — Чудеса, да и только!
Наконец он закончил обрабатывать обожженное место и наложил повязку.
— Ну вот, вроде бы все готово, Паш… Ты как?
— Ганин, слушай, ты просто медбрат какой-то!
Ганин промолчал.
— Ладно, Паш, пойдем вниз, а то солнце уже почти село, а у меня тут на чердаке лампочки нет, скоро здесь будет темно…
— …как в могиле! — почему-то, перебив его, закончил Расторгуев и вдруг громко и как-то натянуто рассмеялся, а Ганин только печально вздохнул — характер Паши Расторгуева был ему слишком хорошо известен с первого курса института.
Ганин взял аптечку и первым ступил на скрипучую и шаткую лестницу, ведущую вниз. Расторгуев же, опустив задранную левую брючину, чуть прихрамывая, отправился следом, но тут, почти уже дойдя до лестницы, почему-то остановился и бросил случайный беглый взгляд на портрет круглолицей девушки. Как раз в это время умирающее предзакатное солнце выпустило последние пучки кроваво-красных лучей, пронзивших грязные стекла чердачных оконцев, и… солнцевидное лицо незнакомки на портрете вдруг на мгновение как бы вспыхнуло, как внезапно зажженная в темном чулане лампочка, и Расторгуеву на долю секунды показалось, что девушка направила на него пристальный взгляд своих фиалковых глаз и в этих глазах заплясали, как язычки пламени, какие-то кроваво-красные искорки, а белоснежные острые зубки хищно блеснули… «Чепуха какая-то! — подумал Расторгуев. — Видимо, это блики заходящего солнца вызывают такую игру цветов. Пожалуй, я недооценил эту картину…» И немного торопливо стал спускаться по скрипучей лестнице.
С заходом солнца маленький домишко Ганина почти мгновенно погрузился во тьму, стало прохладно. Здесь, в Валуевке, садовые участки мало кому служили постоянным местом жительства. В основном, дачники приезжали сюда по выходным — прополоть и полить грядки, набрать воду, раскрыть или, наоборот, закрыть теплицы, а уезжали уже в воскресенье вечером, потому ночью в будни здесь было тихо. Может, именно за эту особенность этих мест их так полюбил Ганин?..
Скрипя половицами, Ганин подошел к стене, звонко щелкнул выключателем, и одинокая «лампочка Ильича», висевшая на тоненьком проводе под потолком, озарила неровным, но довольно ярким светом единственную комнату домика. Еще одно движение — и зашумел электрический чайник на столе.
— Паш, ну что ты там застрял?! Давай чай пить!
— Пожалуй, Ганин, чай ты останешься пить один, без меня, мне срочно нужно возвращаться в город. Сам понимаешь, жена, дети… — И Расторгуев протяжно зевнул.
Ганина второй раз за вечер передернуло, ведь ему было за тридцать, а ни жены, ни тем более детей у него не предвиделось: вот уже третья за последние пять лет девушка как сквозь землю провалилась, оставив только короткую эсэмэску: «Мы с тобой, Леш, очень разные, пойми…» Наверное, не надо было приводить ее в этот проклятый дом! — в сердцах подумал тогда Ганин. Один его вид испугает кого угодно. С таким сомнительным наследством ни одна порядочная девушка со мной не захочет иметь серьезных отношений, это уж точно!
— Паш, ты ж говорил, что устал от нее! — разочарованно всплеснул руками Ганин. — Мы ж с тобой собирались всю ночь говорить об искусстве, особенно о моих последних работах! А ведь ты их даже не посмотрел…
— Как не посмотрел? — нахмурил брови Расторгуев. — А «Мечта поэта»?
— Да что ты! Ее я написал уже давным-давно! А последние работы сейчас готовятся к выставке, но зато у меня есть альбом фотографий с них, рекламный, и я думал тебе их сегодня ночью показать, ну, чтоб ты был морально готов к выставке, раздразнить так сказать, твой аппетит…
Ганин бросился к шкафу, торопливо открыл скрипучую дверцу и в поисках затерявшегося в этом хламе альбома начал рыться в многочисленных бумагах, тетрадях, старых газетах и журналах, в беспорядке наваленных на полках.
Расторгуев между тем сел на стул и, быстро окинув внимательным оценивающим взглядом все содержимое стола, заметил на нем открытую бутылку с рубиново-красной жидкостью.
В глазах его блеснул огонек, а уже через мгновение он одним махом налил себе полный стакан. Это была бражка, ароматно пахнущая земляникой, очень крепкая, но необыкновенно вкусная.
— Это тоже… бабушкин? — сморщившись оттого, что спиртное сильно обожгло ему горло, и вытирая выступившие на глазах слезы рукавом рубашки, проговорил Расторгуев.
— А! Бражка… Да, ее… — не глядя на Расторгуева, ответил Ганин. — Она была мастерица ее делать, в подвале еще много бутылок осталось, впрок готовила. Как деда-то похоронила, пить уже некому было. Мне ж много не надо… Ах, вот, нашел! — хохотнул Ганин, возвращаясь к столу с довольно толстым, красивым глянцевым альбомом в яркой обложке.
— Ого! Шикарно… — удовлетворенно кивнув, хмыкнул Расторгуев, с наслаждением делая еще один глоток ароматной настойки. — Слушай, Ганин, а твои дела явно идут в гору! Где ж ты столько денег достал на такой альбомчик?
Бледное, обычно печальное, с опущенными, как у Пьеро, уголками губ лицо Ганина расплылось в довольной улыбке, а щеки вдруг порозовели.
— Мир не без добрых людей… — засмущался он, пряча взгляд. — Лучше посмотри сюда — вот моя новая серия!
— Ни-и хре-на-а се-бе-е… — присвистнул Расторгуев, переворачивая глянцевые страницы альбома и рассматривая роскошные апартаменты, изображенные на них. — Теперь я, кажется, понимаю, откуда у тебя деньги на альбомчик.
— Понимаешь, Паш, я ж не специально, — облизывая пересохшие от волнения губы, затараторил Ганин. — Просто попросил у него разрешения нарисовать эту усадьбу, Марьино, она ведь старая, восемнадцатого века, а он — с детства любил живопись. И не просто дал рисовать, а велел никому мне не мешать, кормить, приносить прохладительные напитки, определил меня жить в комнату для гостей, ну и все такое прочее. А потом…
— А потом? — подхватил Расторгуев, не отрывая взгляда от красочных фотографий.
— А потом он взял посмотреть нарисованные работы и сказал, что, если бы лично не видел, что их рисовал я, подумал бы, что это картины из Третьяковской галереи или Эрмитажа, художников девятнадцатого века. И предложил организовать выставку… — Дальше Ганин не мог говорить, от волнения у него перехватило дыхание, но Расторгуев уже поставил ему стакан и налил в него земляничной настойки до самых краев.
— Я рад за тебя, Ганин, — хмыкнул он и небрежно хлопнул по плечу своего товарища, — наконец-то ты выберешься из этой собачьей конуры! Сколько он тебе заплатил?
— Пока он оплатил только выставку и альбом, но обещал позвать всех своих друзей на нее, и, судя по всему, картины мои будут раскупаться, как горячие пирожки.
Расторгуев вдруг одним махом допил содержимое своего стакана и с громким стуком поставил его на крышку стола.
— Что-то я тогда не пойму, Ганин… Если ты пишешь такие картины, почему этот портрет у тебя не в струе получился? Я-то подумал, что ты сменил, так сказать, линию своего творчества, а, судя по альбому, у тебя все по-прежнему — один сплошной реализм… Ха, вот смотри, вижу твою манеру — умудрился даже здесь вставить!
Ганин довольно улыбнулся, увидев, что Расторгуев заметил его маленький секрет, который обнаружил бы только очень внимательный наблюдатель, — тень от роскошных золотых настольных часов точно соответствовала показываемому на циферблате времени, если судить по положению солнца, так же скрупулезно запечатленного на картине художником.
— Да нет, и не думал сменять… С этим портретом вообще история вышла загадочная, Паш… — Ганин на несколько секунд замолчал, как бы собираясь с духом, мечтательно закрыл глаза, а потом заговорил, а точнее, затараторил с каким-то сладострастным придыханием. — Я его увидел во сне, понимаешь?! Во сне… Именно таким… Точь-в-точь… А потом, Паш… Он у меня неделю стоял перед глазами! Я сначала не хотел его рисовать, но потом так устал от этого… Ну, от того, что он стоит перед глазами, и нарисовал, буквально за пару дней… Ты вот все говорил, что это искусственно… А как же иначе, Паш? Я ж все свои картины рисую с натуры, даже студент этот, сокурсник наш, на истории живописи я его рисовал… А тут, понимаешь, сон… Я, в общем-то, и не хотел тебе ее показывать, да и никому ее не показываю, девушку эту, ты сам на чердак напросился!
Расторгуев внимательно смотрел на Ганина и о чем-то думал.
— Слушай, Ганин, — внезапно оборвал он друга, — а давай прямо сейчас сожжем этот чертов портрет, не нравится он мне!
Ганин вытаращил на него свои и так немного выпуклые глаза и вскочил как ужаленный со стула.
— Ты что, Пашка, с ума что ли спятил, а?! Это ж… это ж… Картины не горят!
— А вот это мы с тобой, Ганин, и проверим! — зловеще хохотнул Расторгуев, доставая из кармана брюк позолоченную бензиновую зажигалку и раскуривая белоснежную сигарету «Парламент» из мятой пачки. В глазах Расторгуева блеснул какой-то мальчишеский азарт — видимо, настойка бабы Маши действительно была достаточно крепкой.
— Нет, Паш, не шути! — все так же испуганно, словно и в самом деле боясь, что его картину сожгут, заговорил дрожащим, прерывающимся голосом Ганин. — Я к этой картине подходить-то боюсь, очень уж она мне дорога стала, как родная прямо… Боюсь, знаешь, иногда, как бы чем не повредить ей, как бы… И знаешь, вот ты говоришь, она нереалистичная, искусственная, неестественная… Может быть, доля истины тут и есть, но когда я смотрю на нее ночью, особенно при полной луне, знаешь… Мне кажется… — Тут Ганин судорожно сглотнул слюну и перешел почему-то на шепот: — Мне кажется, что она — живая!
Слова Ганина прервал дикий и громкий пьяный хохот Расторгуева. Он, уронив недокуренную сигарету прямо на пол, схватился одной рукой за живот, а другой стал колотить кулаком по крышке стола, задыхаясь от смеха. На глазах его показались слезы.
— А ты случайно с ней не пробовал… ах-ха-ха-ха-ха!!! — Но тут его смех в одно мгновение прекратился, когда его взгляд упал на мертвенно-бледное, как полотно, лицо Ганина. Блики от ярко горящей лампочки на стеклах очков полностью скрыли собой глаза, приняв вид каких-то странных солнцевидных лиц, искаженных гримасой нечеловеческой злобы: перекошенный от гнева рот, кроваво-красные глаза, хищный оскал белоснежных зубов — зрелище было жуткое, даже для такого мизантропа, как Расторгуев.
— Эй, Леш, извини, я… немного переборщил… — сконфузившись, Расторгуев потрепал его панибратски по плечу, но Ганин уже вскочил со стула и стал рыться опять в своем шкафу. На этот раз он управился быстрее.
— Смотри, Паш! — он сунул ему в лицо фотографию с портретом — все то же солнцевидное лицо, все та же шляпка, те же фиалки глаз, та же корзинка с цветами.
— Ну и?.. — непонимающе поднял брови Расторгуев.
— А теперь — идем за мной! — торжественным шепотом произнес Ганин и бросился к лестнице, ведущей на чердак.
Расторгуев неохотно, слегка покачиваясь — голова от настойки шла кругом, — последовал за своим другом.
— Вот, Паш, дай мне зажигалку, а то я тебе не доверяю… — так же шепотом сказал Ганин, а потом, получив ее, щелкнул колесиком, и вот уже при неровном желто-голубом пламени зажигалки Расторгуев увидел фрагмент картины — белую тонкую ручку девушки, сжимающую корзинку с цветами.
— Ну и?..
— Ты ничего не замечаешь? — прошептал Ганин.
— Кольцо на пальце подрисовал, что ли? — хмыкнул Расторгуев.
— Да не подрисовал я, Паша! НЕ ПОДРИСОВАЛ! Оно само появилось!!! САМО!!! — почти закричал Ганин, и глаза у него горели едва ли не ярче огонька зажигалки. — Фотографию я сделал, когда только нарисовал ее, а кольцо появилось позже, месяца через три!
Расторгуев громко икнул и мутным взглядом внимательно посмотрел на Ганина.
— А ты, братец, случайно, не того…
— Я в одиночку никогда не пью! — обиженно парировал Ганин и, сунув потухшую зажигалку в карман, стал неуклюже спускаться обратно в комнату.
— И что ты хочешь сказать, Ганин, что твоя принцесса за три месяца умудрилась выйти замуж? Кольцо-то на безымянном пальце! — хмыкнул Расторгуев, наливая и себе, и Ганину кроваво-красной земляничной настойки.
— Не знаю, Паш, не знаю… — тихо сказал Ганин. — Только вот иногда… понимаешь… я… ну как бы… ощущаю… кого-то… на постели… а еще чаще — за мольбертом… словно кто-то стоит рядом, ну, или лежит… и смотрит — на меня, на картину… а иногда прямо так и ощущаю прикосновения какие-то… легкие такие, как веяние ветерка, к коже, к губам, к щекам… и как будто кто-то шепчет мне в темноте, но шепчет без слов, одними образами, мыслями, которые появляются из ниоткуда и уходят в никуда… не мои мысли, в общем… а еще снятся цветные сны… и там — тоже она… точь-в-точь такая же, как на портрете, — что-то шепчет, но я ничего не запоминаю, когда просыпаюсь… Что она хочет сказать? Чего ей от меня надо? — Он замолчал и густо покраснел.
На этот раз Расторгуев уже не смеялся.
— Слушай, Ганин, у меня есть один знакомый, очень хороший знакомый моей жены…
— Я так и знал, что ты будешь намекать мне на психиатра! — резко оборвал его Ганин. — Зря я рассказал тебе это… — и досадливо махнул рукой.
Ганин встал и принялся возбужденно ходить из одного конца комнаты в другой, не в силах успокоиться.
— Слушай, Ганин, хорош ходить, как маятник, в глазах рябит, — устало зевнув, наконец сказал Расторгуев. — Не бери в голову! Все гении страдали психическими расстройствами:
Ван Гог, например, сьел свое ухо, а потом застрелился, Гоголь сжег продолжение «Мертвых душ», а потом впал в летаргический сон, Ницше остаток жизни провел в психушке, блеял, как козел, и подписывал свои письма «Распятый»… Считай, что я подарил тебе бесплатный комплимент! — Расторгуев допил еще один стакан настойки, развалился в вальяжной позе на стуле, закинув ногу на ногу, и опять закурил. — Ты был самым талантливым из всех нас — я это тебе всегда говорил, но у тебя — ты уж прости меня великодушно — всегда было не все в порядке с головой… Ладно, Ганин, — смачно раздавливая недокуренную сигарету в пепельнице, подытожил Расторгуев, — мне уже точно пора. Почти одиннадцать… Я еще успеваю на последнюю электричку.
Расторгуев, слегка покачиваясь, принялся натягивать на себя летний плащ. В рукава попал только с третьего раза, а широкополая шляпа со слегка загнутыми вверх полями несколько раз выскальзывала у него из рук, как шаловливая кошка. Ганин стоял неподвижно у дверного проема, ведущего в сени, и с сожалением смотрел на друга.
— А я-то надеялся, что ты все-таки останешься, даже раскладушку для тебя приготовил… — как-то немножко по-детски всплеснул он руками.
— Не могу, Ганин, не могу… — усмехнулся Расторгуев. — Вот женишься когда-нибудь, поймешь, что это такое, на своей собственной шкуре! — И Расторгуев снисходительно похлопал Ганина по плечу, но в этот момент краем уха услышал что-то вроде сдавленного шипения… — У тебя тут что, кошка завелась?
— А?.. что?.. — Ганина от выпивки уже начало потихоньку клонить в сон. — Да нет, кошек тут не держу… Давай хотя бы провожу тебя до станции!
…Шли молча. Каждый думал о своем. Расторгуев представил себе, как жена опять устроит ему скандал, почуяв, что от него пахнет спиртным, и почему-то разгневанная жена у него в мыслях представала в виде той самой девицы с портрета — солнцеобразное лицо, пухлые губы, искаженные в гримасе, хищный оскал белоснежных зубов… Да и еще кроваво-красные блики в фиалковых глазах! Отношения с женой не ладились уже второй год. Расторгуев часто пил и, бывало, не ночевал дома, иногда по нескольку ночей подряд. Жена грозилась подать на развод и забрать детей, но каждый раз прощала его при условии, что это больше не повторится, а вот теперь опять… Расторгуев мрачно вздохнул и поплотнее укутался в плащ — ночь была прохладной.
А Ганин сожалел о том, что не удалось показать Пашке все фотографии из альбома: кто знает, удосужится ли он прийти на выставку, ведь у него ветер в голове, а его оценка — оценка всегдашнего эстета и, если можно так выразиться, гурмана от живописи — была так важна для Ганина! Он уже хотел попросить его написать критический очерк о предстоящей выставке — так, как его может написать художник Павел Расторгуев, не напишет никто!
Но не только эти мысли беспокоили Ганина: его ни на секунду не оставляло навязчивое ощущение, что КТО-ТО идет рядом с ним, слева, и чья-то невидимая воздушная рука сжимает его левое плечо. Ганин несколько раз нервно поводил плечом, пытаясь сбросить ее с себя, но все было тщетно. А потом, где-то на периферии своего сознания, он услышал чей-то беззвучный голос, какое-то странное пение. В нем не было ни единого звука, скорее, это был поток мыслеобразов, который тем не менее складывался в его голове в слова, в зловещие слова какого-то причудливого и жуткого заклятия…
Раз, два, три — К портрету подойди! Четыре, пять, шесть — Можешь рядом сесть! Семь, восемь — И судьбе ты вызов бросил! Девять, десять — Что-то милый друг не весел… Одиннадцать, двенадцать — Раньше надо было сдаться! И, наконец, тринадцать — И кому теперь смеяться?..Ганин, вконец измученный назойливыми, как летние мухи, ощущениями и образами, попытался отвлечься, принявшись вертеть головой по сторонам.
Редкие дома были погружены во тьму — луну закрыли тучи, звезд не было видно, дул порывистый неуютный ветер, вдобавок ко всему заморосил дождь — мелкий, холодный, противный… И вот уже под ногами друзей образовалось настоящее болото — асфальтированные дороги в Валуевке так до сих пор никто и не удосужился провести. Редкие столбы с фонарями (далеко не каждый пятый из них горел!) да впереди огни станции, отдаленный лай собаки, легкий шепот дождя и чавканье грязи под ногами — вот и все, что составляло весьма убогую картину этой местности.
Наконец Ганин облегченно вздохнул — дошли. Путники увидели пустой перрон, давно не мытое, замызганное окно билетной кассы, отвратительные грязно-желтые стены, заплеванный асфальт у исписанных неприличными словами скамеек… — в общем, типичная картина станции глухих провинциальных пригородных электричек.
— Ну все, Ганин, ариведерчи… — Расторгуев протянул руку с длинными, как у пианиста, пальцами. — Иди, а то еще уснешь тут да замерзнешь насмерть. Холодрыга, как в морге… — И действительно, Расторгуева почему-то затрясло, а его руки покрылись гусиной кожей.
— Ты все-таки не передумал? А я надеялся… — разочарованно вздохнул Ганин. — Ну ладно, буду ждать тебя на выставке. Вот, возьми… — Ганин торопливо сунул рекламный проспектик в карман плаща Расторгуева. Но тот уже ничего не отвечал: он сел на беспощадно изрезанную складным ножиком облупленную скамейку, съежился от холода, поплотнее укутался, чем-то напомнив мокрого воробья на веточке, и закрыл глаза.
— Эй, не спи, а то замерзнешь! Давай я тебя посажу…
— Да ладно, Ганин, иди уже! — отмахнулся Расторгуев. — Не сплю я, а просто медленно моргаю. Не хочу, если честно, брать на себя ответственность за то, что ты попрешься домой после полуночи. Давай, до скорого… — И он, шутливо сняв шляпу, склонил перед Ганиным голову.
— Хорошо… — неуверенно переминаясь с ноги на ногу, ответил Ганин. — Ты только позвони, когда до дома-то доберешься! Ну, или завтра утром хотя бы…
А потом они еще раз пожали друг другу руки, и Ганин отправился домой. В голове у него шумело от выпитого, клонило в сон. Он немного жалел о том, что так разоткровенничался с Расторгуевым, хотя и считал его своим лучшим другом, но это в основном касалось дружбы на творческой ниве; личная жизнь, в общем-то, не была частой темой их разговоров. Расторгуев был едок, насмешлив, а потому такие темы Ганин опасался с ним обсуждать.
Но было что-то еще… Что-то не дававшее покоя…
Ганин почему-то почувствовал, что зря вообще с ним заговорил о портрете. Дело не только в стеснении. Почему-то он чувствовал, что о НЕМ вообще лучше НИ С КЕМ не говорить… И НИКОГДА… «Эх, жаль, что я вообще его пустил на этот чертов чердак! Все, спрячу портрет в какое-нибудь более безопасное место, вот… Чтобы и соблазна не было!»
«Ну, ничего, проспится, небось, и забудет все! — вдруг посетила его другая мысль. — Пашка — человек ветреный, он никогда таких вещей не запоминает». Ганин судорожно пытался себя успокоить, но на душе по-прежнему кошки скребли. У него было нехорошее предчувствие…
А Расторгуев, как мог, растянулся на замызганной скамейке, посильнее закутался в плащ, надвинул на лоб шляпу и закрыл глаза. Заснуть и проспать электричку, которая прибывает без четверти двенадцать, он не боялся: еще бы, в такой холодрыге да сырости как заснешь! Если честно, он уже немного жалел о том, что отклонил настойчивое предложение Ганина заночевать у него. В самом деле, ну и толку, что он приедет ночью домой, — все равно пьяный же! Скандала в любом случае не избежать, а у Ганина он бы и проспался, и отдохнул… Да и в самом деле, почему он так неожиданно изменил свое решение? Действительно… Ведь ехал к Ганину именно с ночевкой…
Расторгуев попытался собрать в кучу разбегающиеся, как пугливые барашки на лугу, мысли и вспомнить все обстоятельства… Ничего особенного, ни-че-го… Просто в какой-то момент он почувствовал, что ему как-то жутко, как-то неуютно в этом домишке, захотелось куда-то уйти, хоть куда-то… Раньше Расторгуев встречался с другом то на его съемной квартире в городе, то у себя, то в кафе или на выставках. В Валуевке он был в первый раз…
«И, надеюсь, в последний! — мрачно подумал он. — Больше я в эту дыру — ни-ни! Холодно, сыро, да еще этот портрет идиотский… Спалить бы его к чертовой матери!»
— Эй ты, закурить не найдется? — вдруг услышал Расторгуев чей-то грубоватый и резкий, будто каркающий, голос, который моментально вывел его из полусонного состояния. Он поднял голову, зажмурился — яркий свет фонарей больно резанул глаза — и увидел, что рядом со скамейкой стоят трое весьма на вид нетрезвых молодых людей. Ни на то, в чем они были одеты, ни на их лица он не обратил внимания: он видел все в какой-то дымке, веки упрямо норовили закрыться, в голове шумело… Он помнил одно — их глаза ярко блестели при свете фонарей на абсолютно пустой безлюдной станции, прямо как блики на очках Ганина, тогда, в доме; лица были так же белы, как его лицо, а голос говорившего не предвещал ничего хорошего…
— Пожалуйста… — деланно равнодушно сказал Расторгуев, вынимая из кармана плаща смятую пачку.
— Тут только две, а нас трое! — нагловато каркнул тот же тип.
— Слушайте, ребята, а я-то тут при чем! — возмутился Расторгуев, вставая со скамейки; он уже начал потихоньку трезветь. — Идите и купите себе еще!
Но тут же получил сильный удар в челюсть. Расторгуева отбросило, как мягкую игрушку, на спинку скамейки, перед глазами взорвались десятки оранжево-красных кругов, а в этих кругах… — опять проклятое, издевательски-смеющееся солнцеобразное лицо!
— А, черт! — только и смог выдавить он. Во рту ощутился резкий солоноватый привкус крови.
— Мочи его, мочи! — громко проорали два грубых и каких-то особенно омерзительных голоса: один из них первый, каркающий, а другой визгливый, как у кошки, которой наступили на хвост. — Ходят тут п…ры всякие, вы…ся!
Расторгуев потерял счет ударам: в челюсть, в глаз, в зубы, в солнечное сплетение… Он не успевал увернуться ни от одного из них. Удары были четкие, выверенные, прицельные, будто бил профессиональный боксер, причем не живого человека, а тренировочную грушу. Кровь текла из носа, изо рта, из разбитых губ, а в глазах то и дело взрывались какие-то разноцветные шары, как на небе, когда пускают фейерверк. Сначала Расторгуев чувствовал острую боль, но потом притупилась и она. Наконец он мешком повалился на исплеванный и изгаженный окурками перрон, и тогда его стали бить уже ногами: по животу, груди, рукам…
Когда Расторгуеву показалось, что этому аду не будет конца, все прекратилось так же внезапно, как и началось. Просто его перестали бить. И все. Воцарилась тишина. Мертвая тишина.
Расторгуев с трудом раскрыл слипшиеся от крови ресницы. Оба глаза заплыли так, что ему почти ничего не было видно, да и те узкие щели обзора, что он имел, мало что давали: все плыло перед глазами, тонуло в каком-то белесом тумане, силуэты предметов двоились, троились…
Расторгуев попытался встать, но ему удалось сделать это только с третьей попытки. Ноги и руки не слушались, были как ватные, к горлу подступала тошнота… Но он не сдавался. Превозмогая силу тяжести, Расторгуев сначала дотянулся дрожащими руками до деревянных поручней скамейки, немножко подтянулся, оперся, встал на четвереньки, а потом, не отпуская рук, морщась от боли и сплевывая кровавую вязкую слюну, встал на ноги… и тут же бухнулся на мокрое от крови сиденье и блаженно привалился к спинке!
«У-у-ф… сейчас вроде получше…»
Кто были эти молодчики, откуда они взялись, куда исчезли, зачем напали — эти вопросы совершенно не беспокоили едва живого Расторгуева. Он знал только одно: ему очень и очень больно, ему хочется прилечь и заснуть, но при этом он интуитивно чувствовал, что прилечь здесь нельзя — ему нужна медицинская помощь…
«Электричка! — яркая вспышка ослепила покрывшееся сумерками сознание Расторгуева. — Электричка!..»
И в самом деле, он услышал отдаленный шум приближающегося электропоезда и осознал, что ему надо ИМЕННО ТУДА! Только там его спасение… Только там…
Расторгуев сделал титаническое усилие, оторвал свое избитое, истекающее кровью тело и, шатаясь, побрел к краю перрона. Яркий свет фонарей электровоза ударил в с трудом открывшиеся щелки опухших, синих с красными кровоподтеками мешков, которые только с довольно большой долей условности можно было назвать глазами. Раздался пронзительный визг предупреждающего гудка. Расторгуев улыбнулся, обнажив зияющие бреши в розовых от крови зубах, и приветливо помахал локомотиву руками. Яркая вспышка фонаря, расположенного над кабиной машиниста, на миг ослепила Расторгуева, и в этот момент круглый фонарь каким-то непостижимым образом превратился в солнцевидное лицо с портрета, которое он увидел так же ясно и отчетливо, как тогда, на этом проклятом чердаке. А потом… Пронзительный визг, вырвавшийся из ее искаженного гримасой гнева рта, пылающие ненавистью прекрасные фиалковые глаза с кроваво-красными искрами, хищный оскал белоснежных зубов… и… сильный удар прямо между лопаток…
Когда машинист затормозил, было уже поздно: колеса товарного электропоезда пронзительно заскрипели, но странный молодой человек в изорванном плаще и без одного ботинка, как мягкая кукла, упал прямо на железнодорожные пути задолго до того, как локомотив окончательно остановился…
Машинист дрожащими руками перекрестился, достал из кармана грязный носовой платок, вытер холодный пот со лба и прошептал: «Мать честная! Вот те РАЗ! Допился, алкаш… Надо же!» А потом нажал кнопку переговорного устройства на приборной панели и, гулко кашлянув, вызвал диспетчера.
… А Ганин между тем благополучно добрался до своего дома и, не включая свет и не раздеваясь, рухнул на не расстеленную кровать. В голове был шум от выпитого, в душе — какая-то пустота, даже тревога за Пашку куда-то пропала. Было как-то безразлично, как-то… В общем, точно определить это чувство он все равно не смог. Ясно было одно: он смертельно устал, и ему хочется спать. Ганин, не вставая, одними движениями ног, скинул ботинки и положил очки на пол у кровати. Перед закрытыми глазами хаотически носились какие-то яркие пятна, огни… Где-то далеко взвизгнула электричка. «Ну вот, Паша теперь уехал… Ну и слава Богу!» — сквозь сон подумал Ганин, а перед его глазами вдруг совершенно неожиданно возникло солнцевидное лицо с портрета, кокетливо состроило ему глазки и так радостно, но беззвучно, засмеялось, что Ганин не мог не улыбнуться ему в ответ, перед тем как окончательно провалиться во тьму беспамятства.
ДВА…
Ганин проснулся от невыносимо пронзительного звука дверного звонка — наверное, неприятнее его может быть только жужжание зубной бормашины. Голова нестерпимо болела после вчерашнего, глаза не хотели открываться… Ганин попытался было спрятать голову под подушку, как когда-то делал в детстве, тщетно пытаясь отсрочить хоть на минуту неизбежный поход в школу, но и это не помогло: дверной звонок настойчиво и долго дребезжал.
После длиннющего пятого звонка Ганин понял, что все его попытки игнорировать суровую действительность обречены на провал и, с трудом встав с кровати, осипщим с похмелья голосом прокричал:
— Сейчас, сейчас, подождите, оденусь только!..
«И кого это в такую рань черти притащили? — недоуменно подумал Ганин. — Неужели пьяный Пашка никуда не уехал, проспав электричку, а теперь вот наутро добрался до меня? Говорил же ему остаться! — нет, намылился на ночь глядя в город… Что за человек, не пойму!»
Ганин быстро подошел к умывальнику с зеркалом, ополоснул лицо холодной водой и внимательно посмотрел на свое отражение.
«Да уж… Ну и рожа… — мрачно подумал он, недовольно рассматривая в пыльном и заляпанном пальцами зеркале помятое лицо с красными полосами на бледной коже, волосяные „рожки“ на голове и темные тени под глазами. — Алкаш, да и только…» Вдобавок изо рта отвратительно несло перегаром.
Затем, взглянув на старинные настенные часы-ходики с кукушкой и увидев, что стрелки показывают семь с половиной утра, Ганин с досадой вздохнул и решил как можно скорее уложить Пашку на приготовленную еще вчера раскладушку, а потом залезть под одеяло и снова погрузиться в объятия Морфея.
Поиски тапочек заняли еще какое-то время, после чего Ганин, по-стариковски шаркая ступнями, побрел к двери, повернул ключ на несколько оборотов, резко потянул дверь на себя и… оторопел от удивления: перед ним было строгое лицо с густыми черными усами, такого же цвета мохнатыми бровями, серьезными, навыкате, карими глазами и густой курчавой шевелюрой на цветной фотокарточке, наклеенной на развороте ярко-красного удостоверения…
— Старший оперуполномоченный областного угрозыска майор Перепелица, — речитативом отрапортовал мужчина, и Ганин испуганно, по-крабьи, молча попятился назад в сени.
Но отвечать ничего и не надо было. Майор Перепелица быстрым и уверенным шагом уже пересек сени и вошел в основное помещение, профессиональным взглядом окидывая все — стены, стол, шкаф, часы, умывальник, лестницу на чердак, полупустую бутылку настойки на столе, раздавленный окурок на полу… Майор был одет в штатское — замшевый мягкий коричневый пиджак, полустертые синие джинсы, кроссовки, под мышкой он держал коричневую кожаную папку.
— Так, так, так, так… Следы попойки, два стакана, два стула… Все ясно, все ясно… — пробормотал еле слышно себе под нос оперуполномоченный и, как бы только сейчас заметив, что находится в чужом доме и что у этого дома есть свой хозяин, повернулся к Ганину и спросил: — Разрешите присесть?
— Да, да, конечно, садитесь, пожалуйста… — закудахтал Ганин, услужливо, но при этом как-то неловко и неуклюже поднося стул под зад оперуполномоченного.
— Спасибо, я сам… — хмыкнул в густые черные усы майор Перепелица и, легонько вырывая у до сих пор находящегося в шоке Ганина стул, сел на него и окинул внимательным взглядом всю его мешковатую, несколько неуклюжую фигуру. Ганину в этот момент захотелось провалиться прямо в подвал. Он покраснел и почему-то почувствовал себя преступником. У него даже предательски задрожали руки-ноги, и он тоже поспешил сесть, но подальше от неприятного визитера, на кровать.
— Курите? — быстро спросил Перепелица, доставая серебряный портсигар.
— Да… то есть нет, не курю — испуганно ответил Ганин.
— Так «да» или «нет»? — недоуменно поднял брови майор.
— Нет… Курил, но бросил давно, лет пять назад…
Майор с уважением посмотрел на Ганина и опять хмыкнул себе в усы.
— Не возражаете?
— Нет-нет, что вы! Вот пепельница…
Оперуполномоченный закурил, молча продолжая осматривать Ганина: всю его мешковатую фигуру в мятой рубашке, опухшее со сна бледное лицо, глаза за большими «черепашьими» очками с очень толстыми стеклами, а потом перевел взгляд на несколько пейзажей на стенах — сосновый лес, излучина реки, колодец у луга.
— Вы — художник? — быстро спросил майор Перепелица, не отрывая взгляда от картин.
— Да… — механически ответил Ганин и тут же спохватился: — Ой, а откуда вы знаете? Я же не представился…
— Мне о вас рассказала гражданка Расторгуева, Татьяна Николаевна, по телефону. Знаете такую? — Он пристально посмотрел в лицо Ганину, тот покраснел и потупил взор.
— Да, знаю. Это супруга моего друга, Паши… — опять механически ответил Ганин и тут же опять спохватился: — Ой, а с ним что — случилось что-то, да?! До дому не доехал, да?! Пропал?! — Ганин вскочил с кровати и забегал по комнате, размахивая руками и громко причитая: — Говорил же я ему, останься на ночь, останься… Ну куда его черти понесли?! Куда?!
— Так, значит, вы не отрицаете, что Расторгуев Павел Валерьевич, 1981 года рождения, был у вас весь вчерашний день и употреблял с вами спиртные напитки?
— Ну, да… А что тут отрицать-то? Был… Я его сам пригласил еще пару дней назад. Только вот выпили мы с ним всего ничего… — И, тут же испугавшись, что о нем подумают, затараторил: — Да мы не для выпивки собрались, не подумайте, мы картины обсуждали, мы сокурсники с ним, друзья, единомышленники!
— Друзья, значит… Единомышленники… — задумчиво проговорил Перепелица, внимательно осматривая открытую бутыль и нюхая ее горлышко. — Интересно, а почему это друг и единомышленник вдруг на ночь глядя отправляется на станцию, как будто от кого-то убегая, а? — Он исподлобья взглянул на Ганина.
— Да не убегал он! Говорю ему: останься ночевать, а он: жена, дети, не могу…
— А супруга его, — резко перебивая Ганина и, впрочем, не повышая при этом голоса, сказал Перепелица, — Расторгуева Татьяна Николаевна, рассказала мне совершенно другое: что Расторгуев Павел Валерьевич прислал ей эсэмэску на мобильный телефон, что он встретится с вами, Ганиным Алексеем Юрьевичем, для обсуждения вашей предстоящей выставки, а потом вернется домой. Спрашивается, зачем вы хотели задержать Расторгуева П. В. у себя дома, в глухом садовом поселке, на всю ночь?
— Да не задерживал я его, не задерживал! — не выдержал Ганин и опять принялся бегать по комнате. — Жене он просто никогда не говорит правду, у них все давно на грани развода, Пашка не ночует дома периодически, вот и все! А ночевать он у меня захотел сам, поговорить об искусстве, о жизни, вот и все, а потом вдруг резко передумал и решил вернуться домой! А я ему: куда ты на ночь глядя, а он: жена, дети…
— Ну, ладно, ладно! — поспешно замахал рукой оперуполномоченный. — Это я уже слышал… — «Накручивать» Ганина больше не имело смысла — все с ним Перепелице уже было ясно. — Да не беспокойтесь вы так, Алексей Юрьевич, сядьте, выпейте, в конце концов, вас уж точно никто ни в чем не подозревает. Супруга Расторгуева о вас очень хорошо отзывалась, да и коллеги и друзья потерпевшего, которых я успел обзвонить, тоже.
И тут до Ганина наконец-то дошло…
— Подождите… подождите… в чем… не… подозревают… что… с Пашей?.. — прошептал, задыхаясь, Ганин, придвигая при этом стул прямо к майору. Казалось, он уже знал ответ, но инстинктивно пытался ухватиться, как утопающий, за соломинку, и хоть на секунду отсрочить неизбежное…
— Гражданин Расторгуев П. В., — бесстрастно и четко ответил майор, внимательно глядя в глаза Ганину, — упал вчера примерно в 23.45 под колеса электропоезда. В принципе, такую смерть я бы легко мог квалифицировать или как самоубийство, или как несчастный случай, — погибший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а по словам жены, он страдал затяжными приступами депрессии и запоями, — если бы…
— Что… «если бы»… — шепотом, забыв о всякой субординации и схватив за руку майора, спросил Ганин.
— Если бы не были обнаружены следы крови, а также окровавленная шляпа на скамейке перрона.
— Мать честная! — всхлипнул Ганин и беззвучно зарыдал, закрыв лицо руками, а его очки беспомощно упали на пол.
Лицо Перепелицы передернуло, он резко встал, оперся рукой о спинку стула Ганина и успокаивающе потрепал рукой его плечо.
— Гражданин Ганин, ваши сведения очень важны для следствия… Дело действительно не простое, и только вы можете дать хоть какие-то сведения для его распутывания: вы — единственный, кто в этой округе видел потерпевшего незадолго до смерти. Выпейте, вам будет легче! — Майор взял почти пустую бутыль с настойкой и резким движением налил в грязный стакан уже немного выдохшейся темно-красной жидкости.
Ганин торопливо закивал головой, шумно высморкался в платок, который достал из нагрудного кармана рубашки, вытер глаза рукавом и быстрыми, чмокающими глотками осушил стакан, а потом рассказал все, что произошло за вчерашний день, — от встречи с Расторгуевым в городе до их расставания на пустынном ночном перроне пригородной электрички.
— Поня-я-я-ятно… — протянул майор, дослушав до конца сбивчивый рассказ Ганина и затушив в жестяной пепельнице уже пятый окурок. — Значит, по-вашему выходит, что возвращение гражданина Расторгуева было совершенно ничем не объяснимым — ну, разве что запоздалыми муками совести перед женой и детьми, а его смерть на рельсах — ничем не мотивированной и случайной, не так ли?
— Гм… — озадаченно хмыкнул Ганин. — Я этого не говорил, но вполне возможно: Пашка — человек ветреный, непредсказуемый, он действительно может менять свое решение в считанные минуты. А вот что касается смерти… Не знаю даже… Просто смерть столь близких для меня людей такая редкость…
— Редкость, Алексей Юрьевич?! Редкость?! — внимательно сверля взглядом Ганина, вдруг повысил голос Перепелица. — А гражданка Мещерякова Лариса Николаевна вам случайно не знакома?
— Лариса? Как же… Мы… в общем, мы встречались…
— А знаете ли вы, что она найдена мертвой позавчера, двенадцатого числа, в четверг?! Она выпала из окна тринадцатого этажа средь бела дня!
Тут уж Ганин вскочил как ужаленный и схватился за голову.
— Ла… Лара… Ларочка! Какой кошмар!
— Это уж точно! Что вы можете сказать об этом? Ее мать говорила, что последний человек, с которым общалась ее дочь, — это вы. Странное совпадение, не так ли? Мне передали вести ее дело, а тут — таинственное убийство второго вашего гостя — Расторгуева! Думаю, мне стоит съездить в архив и хорошенько покопаться, возможно, будут и другие жертвы вашего гостеприимства!
— На что… на что вы намекаете?! — затрясся всем телом Ганин.
— Ни на что! Просто отмечаю связь: два ваших гостя — и два несчастных случая, с интервалом в один день. Что вы можете сказать о гражданке Мещеряковой? Как вы с ней расстались?
— Я… ну… мы приехали сюда, у нее были выходные — она работает два через два, решили их провести, так сказать, на природе, всё было хорошо, а потом… после полудня уже… я ушел, в общем, ну, за дровами, чтоб шашлыки пожарить… она сказала, что осмотрит, пока меня не будет, дом…
— Ну и… дальше-то что?
— А потом я прихожу, а ее — нет… А потом мне на мобильный пришла эсэмэска: «мы с тобой, Леш, очень разные, пойми…»
— И все?
— И все! Я сам был в шоке, сначала стыдно было ей звонить, послал эсэмэску, а сообщение о доставке не приходит и не приходит! Потом, вечером уже, я собрался с духом и позвонил — говорят, номер недоступен. Ну, я и решил, что она сбежала, а сим-карту выбросила, чтоб дозвониться не смог…
— Интересненько, очень интересненько… — задумчиво барабаня мохнатыми пальцами о крышку стола, забормотал себе под нос Перепелица. — Расторгуев чердак осматривал, Мещерякова — дом… Так, гражданин Ганин, разрешите личный вопрос: вы когда-нибудь были женаты?
Ганин покраснел, вздохнул и тихо ответил:
— Нет…
— А девушки, ну, кроме Мещеряковой, были еще у вас?
— Ну… были, конечно…
— Назовите, пожалуйста, фамилии и инициалы, я проверю и их тоже. — Перепелица открыл кожаную папку и достал оттуда листок бумаги и ручку.
— Левчик Наталья Ивановна… Д-д-дьяченко Клавдия Николаевна… С ними я уже после вуза, а в вузе — Семченко Екатерина, Глазова Римма и, на последнем курсе, Лазарева Светка… Больше не было вроде, в школе я с девочками как-то не очень…
— Хорошо! — шумно захлопнув папку, подытожил Перепелица. — Всех их я проверю. А друзья у вас были?
— Нет, кроме Паши, ни с кем особо и не общался. Ну, были, конечно, и есть, но ни я к ним, ни они ко мне в гости никогда не ходили… Так, по интернету, по телефону, в кафе…
— Понятно. Буду проверять, опрашивать. Спасибо за сотрудничество, Алексей Юрьевич! — Перепелица быстро встал, пожал руку Ганину, по-прежнему внимательно глядя в его глаза, и вроде как направился к выходу с папкой под мышкой. — Ах да! Чуть не забыл! — вдруг остановился он в дверях. — Вы не против, если я осмотрю дом? Ну, на всякий случай…
— А что тут смотреть? — мрачно улыбнулся Ганин. — Домик-то что собачья конура…
— Ну, конура не конура, а подвал и чердак все-таки есть.
— Пожалуйста… — пожал плечами Ганин и подошел к стене, чтобы включить свет в подвале.
Ничего, кроме залежей картошки, бутылок с настойкой и банок с вареньем, Перепелица в подвале не обнаружил, да вдобавок замерз. Зато чердак заинтересовал его куда больше.
— Это ваша мастерская, не так ли? — с нескрываемым интересом спросил майор, внимательно осматривая ряды холстов, прислоненных к облупленной стене чердака.
— Ну-у-у, мастерской ее трудно назвать: тут слишком тесно, чтобы писать, я обычно это делаю на улице или в самом доме. Это скорее склад моих работ… — робко улыбнулся Ганин: всегда, когда речь заходила о его творчестве, он почему-то краснел.
— Вижу, вижу… да уж… неплохо… — задумчиво заговорил Перепелица, переводя взгляд темно-карих, почти черных внимательных глаз с одного холста на другой. — Я, конечно, не знаток изобразительного искусства, но скажу вам… Такое впечатление, что ваши картины — какие-то… живые, что ли… Интересно… — Тут Перепелица остановился у картины с надписью внизу «Ночной проспект» и внимательно ее оглядел. — Знаете, такое чувство, что я смотрю не на картину ночного проспекта, а в окно квартиры, которое выходит на эту самую улицу… Никогда такого не видел раньше!
— Правда?! — Лицо Ганина так и просияло: на мгновение он совершенно забыл обо всех дурных новостях, которые услышал за сегодняшнее утро. — Мне об этом часто говорили, даже Пашка… Но от вас это слышать как-то особенно неожиданно и очень приятно!
— Теперь я понимаю, почему ваши гости так хотели осмотреть весь дом. На этом чердаке в общем-то есть на что поглядеть… Ого! А вот это интересненько, очень даже… — Взгляд Перепелицы застыл на изображении портрета «Мечты поэта».
Воцарилась довольно долгая пауза. Ганин стал немного нервничать, переминаться с ноги на ногу, отчего старые половицы отчаянно заскрипели.
— Да уж… — наконец проговорил Перепелица, впрочем, по-прежнему не отрывая взгляда от портрета. — Странная картина… Ну, мне, пожалуй, пора! Показания я получил, дом осмотрел, кое-какие нити у меня уже есть. — И он торопливо стал спускаться по лестнице.
Сказать, что Ганин был обескуражен, — значит ничего не сказать. Он, конечно, не ожидал, что картину будут превозносить до небес, но все же…
Вдруг из задумчивого состояния его вывел грохот и сдавленный крик.
Ганин бросился по лестнице вниз и увидел, что майор Перепелица, сморщившись, лежит на полу.
— Ничего, ничего, Алексей… Юрье…вич… поторопился… споткнулся…
— Давайте, давайте, товарищ майор, я вам помогу! — Ганин быстро протянул руку и помог Перепелице подняться; все еще морщась, тот сел на стул и стал растирать лодыжку.
— Давайте я вам мазь принесу, у меня бабушка…
— Нет-нет, мне уже лучше! — Перепелица встал и, хромая, направился к выходу.
Уже у двери он, вдруг что-то вспомнив, резко развернулся и спросил:
— Алексей Юрьевич, а с Расторгуевым вчера на этом чердаке… ничего не было?
— Нет! Хотя… постойте… он кофе себе на ногу пролил, я ему ногу мазью смазывал…
По лицу майора пробежала какая-то тень, но он взял себя в руки и сухо сказал:
— Если что еще вспомните, вот вам моя визитка, позвоните.
Резко развернувшись и прихрамывая, он добрался до своей черной «Тойоты», громко хлопнул дверцей и уехал. Ганин остался один…
В отделении, которое располагалось в областном центре, Перепелица оказался не скоро: ему пришлось потратить большую часть дня в разъездах по городу. Сначала он побывал в архиве. Здесь предчувствие, побудившее его расспросить поподробнее о личных связях Ганина, подтвердилось: Левчик Наталья Ивановна и Дьяченко Клавдия Николаевна также погибли при странных обстоятельствах — одна захлебнулась в собственной ванной, при этом находясь в квартире совершенно одна, с закрытой на ключ дверью, а другая ночью отравилась газом: то ли забыла выключить конфорки, то ли специально их включила… Что касается остальных трех девушек, то с ними все было в порядке. После обеда Перепелица успел съездить ко всем трем: двух он застал на работе, третью дома — она была в декрете — и обстоятельно с ними поговорил о Ганине. Все три женщины характеризовали его как добрейшей души человека: гения, умницу, самое безобидное существо на свете… Никто никогда не слышал от него ни грубого слова, ни ругани. На осторожный вопрос Перепелицы о его психическом здоровье две женщины сказали, что никаких отклонений в нем не замечали, а вот Лазарева Светлана, довольно полная крашеная блондинка с необыкновенно располагающим к себе приятным лицом, держа на руках полуторагодовалого малыша, как-то внимательно посмотрела на Перепелицу, задумалась и сказала:
— Знаете… Леша, конечно, был странноватым парнем… Не знаю, можно ли это назвать психическими расстройствами, но странности у него были точно. В общем-то, из-за этого мы и расстались уже к концу пятого курса…
— А что с ним было? Приведите пример, — поближе пододвигая стул к столу, сказал Перепелица, буравя своим острым взглядом лицо Светланы.
— Да вы не подумайте, товарищ майор, с ножом он ни на кого не бросался, разными голосами не говорил, Наполеоном себя не называл… — улыбнулась Светлана. — Просто… Понимаете, все мы, художники, — не совсем нормальные, не как все, мы многое видим по-другому, иначе, чем обычные люди. Вы меня понимаете?
— Понимаю… — улыбнулся Перепелица.
— Но мы все-таки умеем выходить из такого состояния и быть очень часто самыми обыкновенными людьми — рожать детей, развлекаться, болтать на легкие темы…
— А Алексей?
— А вот Алексей — не мог… Нет, конечно, он мог и выпить, и пойти на пикник и так далее… Но всегда при этом думал только об искусстве, о картинах. На наших посиделках со спиртным только о них и говорил, а если пикник — обязательно захватит альбом и карандаши, рисует этюды, а уж если начнет писать картину… Пиши пропало! Будет неделями не вылезать из мастерской! Но, знаете, судьба и воздавала ему сторицей — тот, кто больше сил во что-то вкладывает, тот больше и получает… Бог ты мой, какие у него были картины!.. Вы их видели?
— Да, видел…
— Ну и как вам?
— Я не силен в искусстве, конечно, я все-таки школу милиции оканчивал…
— И все же?
— У меня лично создалось ощущение, что его картины ничем не отличаются от действительности, живые какие-то…
— Вот то-то и оно! — радостно подхватила Светлана, осторожно перекладывая заснувшего ребенка на кровать, а потом стала разливать уже заварившийся чай. — У Леши удивительный талант, его картины — почти как живые! Если он рисует снегирей в лесу, то, когда смотришь на картину, кажется, что они вот-вот взлетят; если рисует мальчишек в школьном дворе — услышишь их детский радостный визг. А иногда, когда на его картины смотришь немножко подольше — а я, поверьте, смотрела на них очень долго, — создается впечатление, что стоит только сделать шаг, и ты окажешься в том мире, по ту сторону рамы! Знаете, как в книжке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»? — Светлана, совсем забыв про чай, поставила свои пухлые локти на белую скатерть на круглом столе, оперлась обеими ручками о румяные щечки и мечтательно закрыла глаза, словно вспоминая о чем-то приятном…
— И все же, Светлана Ивановна, так почему же вы расстались?
Светлана, с трудом оторвавшись от своих грез, удивленно посмотрела на Перепелицу с таким выражением лица, как будто говоря: «ну это же и так очевидно!»
— Понимаете, сначала мне это нравилось. Я думала, человек талантливый, целеустремленный, напористый… Сами понимаете, это женщинам нравится… Ну, такие качества в мужчинах. А потом… Потом меня это стало раздражать. Знаете, когда человек неделями не вылезает из мастерской (вместо того, чтобы позаботиться хоть что-то продать, организовать выставку!), когда он говорит только об одних картинах… И ни тебе ласкового слова, ни комплимента! А уж когда он забыл про мой день рождения… Ну, в общем, я отправила его на все четыре стороны и съехала из нашей квартиры к родственникам. И, если честно, ничуть об этом не жалею!
Воцарилась тишина. Тихо тикали часы. Солнце уже перевалило на западную сторону небосвода и теперь неприятно слепило глаза. Перепелица задумчиво позвякивал чайной ложкой в чашке.
— Странно… А почему на тот же вопрос другие две институтские подруги Алексея ничего не ответили?
Светлана усмехнулась.
— Просто раньше эти черты не были у него особенно выражены, да и общались они с ним не так плотно, как я. Я-то с ним почти год прожила в одной квартире, а они — пару месяцев повстречались, да и все…
— Значит, Алексей раньше не был замкнутым, а стал таким позднее?
— Ну, конечно, все мы меняемся… Одно дело, вчерашние школьники, а другое — к концу института, почти взрослые люди… Ой, а что с ним произошло, товарищ майор, что-то плохое, да?..
Опрос некоторых других однокурсников Ганина — уже мужского пола — почти ничего не дал. Оказалось, что, кроме Расторгуева, мало кто с ним близко общался. Так, совместные студенческие застолья, выезды на природу, походы в кино, иногда жаркие дебаты на отвлеченные темы. Но ничего более. Друг у него был только один, и тот погиб.
Только к концу рабочего дня потрепанная черная «Тойота» Перепелицы наконец добралась до областного ОВД. «Ну и замечательно. Успею доложить о предварительных результатах следствия уже сегодня», — удовлетворенно подумал он.
Начальник отдела уголовного розыска, полковник полиции Сергей Валерьянович Усманов — круглый, лысоватый, серьезный мужчина, с заметным брюшком, в больших очках в роговой оправе — уже готовился пойти домой, когда массивная, обитая черной кожей дверь распахнулась и вошел, как всегда, быстрым, решительным шагом майор Перепелица. Кабинет был просторный, еще советского типа, стены обиты деревом, массивный длинный дубовый стол, кожаные кресла… Если бы не триколор и портрет президента РФ прямо над креслом полковника, можно было бы подумать, что это кабинет советского госслужащего — даже компьютера в нем не было.
— Здравия желаю, товарищ полковник!
— А, Перепелица… Я уж думал, что ты сегодня не появишься… Опять «глухарь»?
— Ну-у-у-у, «глухарь» не «глухарь», а все-таки что-то проклевывается…
— Правда? — удивленно поднял брови полковник. — Хорошо, если так… Мне тут «глухарей» и так хватает. Говори, что имеешь. — Он указал рукой на мягкий, обитый черной кожей стул рядом со своим столом.
— Дело оказалось не таким простым, как показалось вначале, — быстро и четко заговорил Перепелица. — Сначала я подумал, что это самоубийство или несчастный случай. Затем — что просто бытовое убийство, нападение хулиганов на пьяного прохожего. Вроде все сходилось — найдены следы крови на скамейке и на шляпе… Но потом мне бросилась в глаза странная деталь… Обычно нападения такого рода заканчиваются грабежом, а тут и бумажник на месте — между прочим, с пятью тысячами рублей, — что для пьяной шантрапы было бы большой находкой…
— А может, и не было никакого нападения? — неожиданно перебил его Усманов. — Пьяный человек — мало ли где мог упасть, расшибить голову, разбить нос, вот и крови лужа… А на теле обнаружены следы побоев?
Лицо Перепелицы исказила гримаса — он не любил «черных дыр» в своих умопостроениях.
— Тело обезображено до неузнаваемости. Если даже там и были побои, установить сейчас практически невозможно: просто кровавый кусок мяса — и все…
— Ну вот, я и говорю, — как-то неожиданно резко обрадовался полковник, — скорее всего никакого убийства не было, а просто пьяный разбил себе голову, нос, наследил кровью, а потом потерял равновесие и упал под движущийся электропоезд! — облегченно констатировал Усманов.
— Не похоже, — покачал головой Перепелица, закуривая сам и подкуривая сигарету Усманову. — Есть свидетель.
— Свидетель? — разочарованно выдохнул Усманов.
— Да, билетный кассир. Он до смерти испугался этих недоносков и сидел как мышь в своей будке. Он сказал, что когда они закончили избивать Расторгуева, то просто ушли с перрона еще до прихода поезда, причем… — Перепелица шумно затянулся, — причем шли спокойно, не убегая, как будто сделали свое дело, а потом — пропали…
— Куда — пропали?
— Кассир не видел. Просто пропали, и все, как будто их и не было вовсе… И еще… Кассир уверенно утверждает, что когда Расторгуев встал и пошел к подъезжавшему поезду, его кто-то толкнул…
— Куда?
— Под поезд! Движение тела было такое, будто кто-то ему помог… упасть…
— Так, слушайте, Перепелица, тут уже мистика какая-то пошла! — резко прервал его полковник. — «Исчезли»… «толкнули»… Этот кассир, случаем, не пьяный был?
— Ну, в общем-то, да… — нехотя признался Перепелица. — Попахивало от него… Это местный, пенсионер, выпивает…
— Ну, а-ха-ха, — облегченно рассмеялся помрачневший было Усманов, — понятно… А машинист что говорит?
— Машинист? — тут Перепелица еще больше скис. — Он говорит, что Расторгуев вроде бы бросился сам…
— Понятно… Ну и что дальше?
— А дальше я связался с женой потерпевшего — Татьяной Николаевной. Она сказала, что муж ее страдал затяжными депрессиями, запоями, вступал в беспорядочные половые связи…
— Блин, Перепелица, говори русским языком — изменял! Тоже мне, кот ученый…
— Ну да. Она и рассказала мне о Ганине. Ганин этот оказался довольно странным типом. Вроде бы и божий одуванчик, а что-то в нем есть… Вроде бы и искренне он оплакивал Расторгуева — как говорят свидетели, своего единственного друга, — но о чем-то явно недоговаривал… И еще, самое главное, оказалось, что мое второе дело связано с первым…
— С погибшей Мещеряковой?
— Да. Оказалось, что она тоже была подругой Ганина и тоже приходила к нему в гости.
— Совпадение?
— Не похоже. Я навел справки, оказалось, что и предыдущие две подруги Ганина тоже погибли при странных обстоятельствах — то ли несчастный случай, то ли самоубийство, в рапортах моих предшественников констатированы самоубийства, но веских доказательств нет.
— Были ли они в гостях у Ганина?
— Неизвестно. Их родители не знают, где они были до своей смерти, хотя Ганина знают хорошо и подтвердили факт связи.
— А другие подруги? Друзья?
— Друзей у него больше не было, а другие подруги живы-здоровы, все три замужем, имеют детей. Правда, те три пропавшие подруги Ганина — это те, с которыми он имел дело в последние лет пять, а другие три — это давнишние, институтские еще…
— Версии?
— Версия у меня одна: есть какой-то «икс» в этом уравнении, который мне остается неизвестным и который связан со всеми остальными его членами. Нутром чую, что эти несчастные случаи и смерть Расторгуева связаны хотя бы тем, что все они были близкими Ганину людьми и по крайней мере двое из них были у него в гостях, в его домишке в Валуевке.
— А дома — нашли что-нибудь?
— Вообще-то нужен ордер и обыск по полной программе, но у нас недостаточно улик против него, тем более что Расторгуева били вообще «левые» ребята. Но все же я кое-что там посмотрел…
— И что?
— Странный он человек. Картины у него хорошие, но чудные — очень уж настоящие какие-то…
— Ну, картины, Перепелица, это еще не основание для подозрений, — как-то чересчур торопливо проговорил Усманов, а потом хлопнул ладонью по крышке стола и встал. — Думаю, дело выеденного яйца не стоит и «глухаря» нам на этот раз удалось избежать точно. Расторгуев был пьян, упал со скамейки, разбил себе голову и нос, потом, будучи в стельку пьян или страдая приступом депрессии, упал на пути электропоезда. Пьяный кассир, под впечатлением происшедшего, придумал историю об исчезающих подростках и невидимых толкателях на пути. Вот и все — дело можно закрывать с вердиктом несчастный случай или самоубийство — в зависимости от того, как трактовать…
— А как же погибшие подруги?
— Все очень просто: три самоубийства — вот и все, тем более что предыдущие следователи постановили то же самое о двух первых случаях, — Усманов как-то странно посмотрел на Перепелицу, и последнему показалось, что он чуть ли не подмигнул ему, во всяком случае, щека его дернулась… У Перепелицы стало нехорошо на душе — обычно въедливый и ответственный служака-сыщик, старой, еще советской школы, вдруг напрямую давит на Перепелицу под благовидным предлогом ЗАКРЫТЬ дело, даже не разобравшись до конца в деталях, тем более что совпадение всех четырех смертей — очевидно…
— … Нам тут сразу двух «глухарей» на участке не нужно, понимаешь? Не нужно… — откуда-то издалека доносились до Перепелицы обрывки рассуждений шефа. Перепелица вдруг резко взглянул в большие голубые глаза Усманова за стеклами очков и увидел — или показалось, что увидел, — в круглых золотистых бликах очков какое-то солнцевидное лицо, которое было искажено гримасой лютого гнева, а также выражение почти животного страха в глазах шефа…
— …Вы меня поняли, майор Перепелица? Закрывайте оба дела — и с концом! Нам тут «глухари» не нужны!..
Майор Перепелица, силясь подавить в себе жуткое чувство, возникшее в груди, — он впервые за пятнадцать лет работы в областном угрозыске видел Усманова ТАКИМ! — встал, потушил окурок в пепельнице и направился к выходу из кабинета.
— Майор Перепелица…
— Да, товарищ полковник, — уже взявшись за дверную ручку, повернулся к начальнику оперуполномоченный.
— Вы хорошо поработали… Я подам рапорт о ваших достижениях наверх…
— Рад стараться, товарищ полковник…
Ехал домой Перепелица — а жил он далеко за городом — в скверном настроении. Мало того, что обычно свободные в это время дороги вдруг все были забиты пробками, пришлось даже поматериться как следует, еще и голова разрывалась По поводу сегодняшнего. Дело, конечно, не в том, что пока он не видел способа найти разгадку таинственных происшествий — такое неоднократно бывало и раньше, далеко не каждое преступление можно раскрыть вот так, слегонца, почти над каждым надо изрядно попотеть, — а в том, что его мучили какие-то навязчивые мысли, беспокойство какое-то…
И было отчего! Сначала эти жуткие откровения про исчезающих молодчиков и невидимо толкающие руки, потом — ужасный портрет, от которого он в течение нескольких минут просто физически не мог оторвать взгляд, это странное падение с лестницы — он сам отчетливо ощущал, что кто-то толкнул его сверху, и это явно был не Ганин, который еще и не начал тогда спускаться; и, наконец, совершенно немыслимое поведение бывалого следователя полковника Усманова, жуткий блик на его очках, выражение ужаса, этот необъяснимый почти приказ закрыть дело… Нет, это уж слишком! Пора брать отпуск и ехать с женой на юг! «Видимо, я переработал, — подумал Перепелица, — вот уж пятнадцать лет на меня сваливают самую грязь, а отпуска то и дело сокращают да переносят… Нет уж, если завтра же не дадут его, уволюсь!»
Очередная пробка рассосалась, и он разогнал машину — хотелось поскорее оказаться дома, принять горячую ванну, наесться до отвала и лечь спать.
— Агхххх! — протяжно зевнул Перепелица, и лишь пронзительный гудок машины с противоположной полосы напомнил ему, что он чуть не выехал на встречную полосу.
«Проклятье! Так и разбиться недолго! Вот что значит не спать почти всю ночь!»
Перепелица посильнее сжал баранку руля и стал внимательнее следить за дорогой. Как назло, она свернула строго на запад, и заходящее солнце светило ему прямо в глаза. Перепелица открыл бардачок и разочарованно цокнул языком — солнцезащитные очки он, похоже, забыл дома.
«Черт! Что за день такой невезучий? Еще и солнце это!» — Он с какой-то необъяснимой злобой посмотрел на ярко светивший диск заходящего солнца, и… челюсть у него едва не отвисла от удивления! Вместо солнечного диска он отчетливо увидел лицо той самой незнакомки с портрета, фиалковые точки глаз, искривленный гримасой смеха чувственный рот, хищно сверкающие идеально ровные зубы, и в ушах его зазвенел этот леденящий, абсолютно бесчеловечный жестокий смех, от которого кровь стыла в жилах, как от воя волков в диком лесу.
Перепелица зажмурил глаза, чтобы избавиться от навязчивой галлюцинации, и инстинктивно дернулся в сторону всем телом, как это бывает, когда на кожу попадает что-то мерзкое, неприятное, гадкое, вроде паука, червя или слизня, а когда он их открыл, то увидел несущийся на большой скорости ему навстречу бензовоз — видимо, дернувшись телом, он случайно повернул рулевое колесо и выскочил на встречную полосу! Взвизгнули отчаянно тормоза, резко крутанулся руль, а потом ДВА автомобиля столкнулись. Грохот взрыва был таков, что слышен был и в городе, и даже в Валуевке. От черной «Тойоты», равно как и от ее водителя, не осталось ничего…
ТРИ…
Как только за Перепелицей закрылась дверь, Ганин без сил рухнул на скрипучую двуспальную кровать и некоторое время лежал неподвижно. Множество мыслей, как рой потревоженных пчел, кружилось в его голове: Наташенька, Клава, Пашка, Лариса… Смерть самых близких ему людей — в это просто невозможно было поверить!
«Боже мой, ну как, ну как же… Ну просил же я его остаться! Эх, надо было лично посадить его в электричку! А Лара, Наташенька, Клава… Я ведь даже не попытался их найти! Думал, навязываться… зачем?» — Ганин с досадой скрипнул зубами и закрыл глаза. На темном фоне роились цветные пятна, какие обычно бывают перед глазами, когда их закрываешь при свете дня. Ганин любил смотреть на эти пятна, на их причудливые переливы, изменения форм, иногда он даже воображал себе какие-нибудь фигуры — это его успокаивало.
Но вдруг несколько светлых пятен, медленно изменяя свои формы, стали неожиданно соединяться в одно целое. И вот уже перед взором Ганина снова, как всегда улыбающееся, даже смеющееся лицо солнцелицей принцессы: та же соломенная шляпка с алыми лентами, сдвинутая кокетливо на затылочек, те же белоснежные зубки, остренько выглядывающие из-под пухлых чувственных алых губ, фиалковые глазки, необыкновенно яркие, прозрачные, как мелководье тропического моря, с веселыми искорками, золотистые волны вьющихся на кончиках волос…
От приятного видения открывать глаза не хотелось. Ганин приветливо улыбнулся, а девушка с портрета уже протянула к нему свои длинные тонкие бело-розовые ручки с аккуратными ногтями, не испорченными лаком, и что-то ему говорила. Что — слышно, естественно, не было, но что-то нежное, приятное… Ганин покачал головой и мысленно сказал, что он ничего не слышит и ничего не понимает, но девушка продолжала говорить и говорить, а потом — смеяться. И Ганин волей-неволей засмеялся ей в ответ…
Из этого приятного состояния его вывел резкий звук — кто-то несколько раз ударил по клаксону автомобиля. Ганин быстро вскочил с кровати, гудки из коротких стали долгими, протяжными.
— Эй, Ганин, ты что, помер там, что ли? — раздался смутно знакомый, громкий бас.
— Ой, Валерий Николаевич! — всплеснул руками Ганин и быстро выбежал на улицу. Там, у самой калитки, застряв передними колесами в яме, наполненной грязной дождевой водой, стоял здоровенный черный «Мерседес» с зеркальными тонированными стеклами, одно из которых было опущено. Внутри автомобиля сидел человек в дорогом костюме и бил по клаксону. — Валерий Николаевич, да что ж вы это… в такую конуру-то… я бы сам… я…
— Ганин! Черт тебя дери! Весь день звоню тебе на трубу, недоступен да недоступен! Хорошо, адрес твой был у меня записан…
Ганин виновато покраснел и быстро охлопал руками карманы джинсов и рубашки.
— Да, Валерий Николаевич! Уронил где-то… Да вы проходите ко мне, проходите, я вам чаю налью, проходите! — закудахтал Ганин, чуть ли не прыгая вокруг черной машины.
Дверь черного «Мерседеса» плавно открылась, и прямо к калитке из мягкого сиденья выполз довольно моложавый, атлетически сложенный высокий мужчина с сильными проседями в темно-русых, стриженных «под бокс» волосах, в дорогом шелковом светло-кофейного цвета костюме с белым галстуком, на котором красовалась золотая заколка с бриллиантом. Пальцы его были унизаны перстнями, в зубах блестели золотые коронки. Он был гладко выбрит, а улыбка резко контрастировала с холодным жестким взглядом серых «волчьих» глаз, какие бывают почти у всех военных, прошедших через «горячие точки». Казалось, этот человек ни на минуту не расслабляется, даже когда шутит или смеется, — его глаза всегда оставались серьезными и холодными.
— Ну и конура у тебя, Ганин… — присвистнул вошедший, неприязненно оглядывая убогие апартаменты своего протеже. — Слушай, мне надо срочно что-то у тебя купить, чтоб завтра-послезавтра и духу твоего не было в этой развалюхе! Купишь себе нормальный коттедж в Сосновом Бору или в Излучье — там у меня есть компаньоны, которые недвижимостью торгуют. Миллионов за двадцать — двадцать пять вполне можно что-то присмотреть…
От таких слов Ганин чуть не выронил чайник, который он только что наполнил свежей водой.
— Да как же… как же… Валерий Николаевич… Да все мои картины столько не стоят! Я их продавал каждую по двадцать — двадцать пять тысяч максимум!
Валерий Николаевич Никитский — пожалуй, самая известная акула бизнеса в области, по слухам, близко связанный с криминальным миром, вальяжно развалившись на стуле, несколько свысока, оценивающе, осмотрел Ганина с ног до головы и слегка скривил губы.
— Запомни, Ганин, учись, пока я жив! Продать можно все и за что угодно: можно продать кучу дерьма за миллионы, а можно продать кучу золота за бесценок — все зависит от того, как и когда это подать. Я уже больше двадцати лет в бизнесе и видел, как ворованные бэушные иномарки впаривали за бешеные бабки и как стоящие машины отдавали за бесценок. Так что, Ганин… Будет у тебя имя — твои картины будут покупать не за миллионы деревянных, а за баксы, не будет — так и сдохнешь в этой конуре!
— Думаете, завтрашняя выставка…
— Посмотрим. Всем своим я уже сказал, мои пиарщики поработали с прессой и телевидением. Будет освещение, будет ажиотаж… — Никитский достал из золотого портсигара длинную и толстую ароматно пахнущую гаванскую сигару, смачно откусил конец и выплюнул его прямо на пол, а потом закурил. — Ты где пропадал весь день, а? Ты ж должен был в обед ко мне подъехать! — наконец перешел к делу Никитский.
Ганин уже успел разлить чай, поставить на стол варенье и сесть за стол.
— Простите, бога ради, Валерий Николаевич! Тут на меня столько всего навалилось! Мой друг, Пашка Расторгуев — ну, я вам про него рассказывал как-то, он тоже художник, мой однокашник, правда, он работал в дизайнерской фирме, картины редко писал… Так вот, Пашка, оказалось, вчера погиб, и у меня совершенно все вылетело из головы, а тут и телефон потерялся, в общем…
— В общем, разгильдяй ты, Ганин! — громко, но беззлобно подытожил Никитский с нескрываемым чувством собственного превосходства. — Если б не твои картины, не потащился бы я в такую запинду, это уж точно, понравились мне больно они… У меня когда двоих корешей замочили, я умудрился вмесго похорон на день рождения к губернатору поехать, а ты… — Никитский махнул рукой с таким выражением — «мол, что с тебя взять» — и с удовольствием принялся за малиновое варенье с чаем.
— Это от бабушки еще осталось, — поспешил вставить Ганин, покраснев. — Никто такого ароматного варенья больше не делал. Да и в чай я кладу листья малины, с детства люблю… — Ганин тихо и мечтательно вздохнул, подперев щеку рукой и медленно постукивая ложкой в чашке с ароматным чаем.
— Да уж… — «Волчий» взгляд Никитского совершенно неожиданно потеплел. — Я тоже с детства любил малиновое, и у меня тоже была бабушка. А сейчас, Ганин, моя третья жена, как и две предыдущие, ни хрена готовить не умеет! Даже яичницу с помидорами ей не доверю, стерве… Только и может, что бабки с меня сосать да обращать их во всякую хрень, которой забиты уже все шкафы. Веришь, нет, Ганин, за всю жизнь — ни одной нормальной бабы у меня не было — всякая пена лезет! Эх… Первая еще хоть как-то пыталась, детей хоть рожала… А остальные… Плоские как доски, кожа да кости, да по целым дням то в солярии, то на фитнесе, то в бутиках, то… — Никитский с досадой махнул рукой и, с удовольствием хлюпнув, отпил ароматного чая с малиновыми листьями и заел ложкой варенья. — Соскучился я по варенью, Ганин, а никто у меня его готовить не умеет…
— Хотите, я вам пару банок с собой дам? — вдруг наивно воскликнул Ганин и как-то по-детски широко улыбнулся. — У меня еще есть!
— Я их у тебя куплю — по тысяче за штуку! — Никитский засмеялся громким и неприятным металлическим смехом.
Отсмеявшись, он наконец отодвинул пустую чашку и уже серьезно сказал:
— Так вот, Ганин, зачем я к тебе приехал… Открытие выставки завтра будет в двенадцать часов. Открывать будет губернатор — я его сам об этом попросил — в Центральном музее, на улице Верещагина, пятнадцать, в главном выставочном зале. Тебе надо быть пораньше — смотри не опоздай! У тебя есть смокинг?
Ганин спрятал глаза и покраснел.
— Я так и знал… Я тебе привез три комплекта, посмотри. Если бы сам приехал, мои девочки тебя бы одели как следует! Кстати, лучше я за тобой своего шофера пришлю, а то проспишь еще. Да… Там будет куча репортеров, будут задавать вопросы — про меня, Ганин, ни-ни! Ты со мной «познакомишься» прямо там, на выставке. Все будет проходить под знаком федеральной программы по развитию культуры, искусства, ну и всякой такой хрени, не важно… Мне светиться пока нельзя: Но когда пойдет ажиотаж и все такое, я — твой агент, все покупки — только через меня и мое агентство, понял? Я сам диктую цены, беру комиссионные… Да ты не бойся! — тут он хлопнул здоровенной волосатой ручищей по плечу Ганина и ухмыльнулся, сверкнув золотой коронкой. — Комиссионные пойдут на благотворительный фонд — вот его мы с тобой и попиарим по полной. Скоро будут выборы губернатора, у меня есть кое-какие планы… Ты меня понял?
Ганин быстро кивнул — у него и так кругом шла голова от всего происходящего: будет выставка, будут продажи, а это — самое главное, все остальное не оставалось ни в его памяти, ни в его сердце.
— Ну, вот и договорились! — облокачиваясь на спинку стула, удовлетворенно сказал Никитский. — Я к тебе приставлю одного человека, он будет с тобой работать во всем, что касается продвижения, продаж и всего прочего. Познакомишься с ним на выставке… Ну а теперь пойдем, покажешь мне свои старые работы. Куплю у тебя что-нибудь на первый раз, а то не могу смотреть на эту конуру и на этот бомжовский прикид у тебя… — Никитский резко встал со стула.
— Придется подняться на чердак… — виновато разводя руками, сказал Ганин.
— Ничего другого я здесь и не ожидал, — хмыкнул Никитский и полез по скрипучей лестнице.
— Опа-а-а-а! Вот это новость!!! — удивленно и радостно воскликнул Никитский, только что забравшийся на самый верх.
— Что? Что там, Валерий Николаевич? — Ганин, поднявшись, по крутой лестнице, увидел, как Никитский с нескрываемым восхищением смотрит на портрет «Мечты поэта».
— Фантастика, просто фантастика… — сладострастно причмокнул губами Никитский. — И где ты такую кралю откопал, Ганин? Просто конфетка…
Ганину стало как-то не по себе — эти сладострастные взгляды, причмокивания… он подумал, что, наверное, то же самое должен чувствовать отец, когда случайно застает свою взрослую дочь в объятиях какого-то незнакомца. Ганин робко взглянул на портрет, и… ему на мгновение показалось, что он разделяет его чувства: в фиалковых глазах девушки не было веселых искорок, зрачки вроде бы стали узкими, как иголочки, появился какой-то презрительный прищур, уголки губ будто стянулись в гримасе отвращения…
— Сколько ты запросишь за этот портрет? 20, 30,40, 50? — с каким-то возбужденным придыханием спросил Ганина Никитский, не отрывая взгляда от девушки и раздевая ее глазами.
— Я… я… я… вообще-то я не рассчитывал ее продавать, да и выставлять тоже. Это моя фантазия, моя мечта…
— Твоя фантазия теперь тебе принесет нормальные деньги! Давай, плачу двадцать — и мы в расчете! Тебе как раз и на дом нормальный хватит, и на машину, и на прочее барахло.
Ганин только разевал рот, как рыба, выброшенная на берег, и ничего возразить не мог…
— Ну, пока все, мне пора! Остальное посмотрю в следующий раз. Думаю, если выставка пройдет успешно, все твои картины раскупят на «ура» и твой чердак опустеет. — Никитский решительно схватился за раму и… Но портрет поднять не смог! Картина была довольно большая, в натуральную величину, но и Никитский имел атлетическое телосложение и кулаки чуть ли не с половину головы Ганина! — раньше он, насколько помнил Ганин, профессионально занимался боксом, тяжелой атлетикой, а в молодости воевал в Афганистане… — Что за черт, Ганин?! Он что у тебя — приклеенный!? — сконфузился Никитский, и в его обычно холодных, бесстрастных, «волчьих» глазах появилось чувство недоумения и гнева. Он был не из тех, кому кто-то или что-то отказывает!
— Сейчас, сейчас, — затараторил Ганин, — сейчас, Валерий Николаевич! Позвольте мне, я попробую! Может, вы не так взяли его…
Ганин подошел к портрету, быстрым движением вытер слезу со щеки и так же быстро поцеловал дешевенькую деревянную раму, послав мысленный сигнал «Прости, так надо!», а потом взял картину и… легко поднял ее!
— Фантастика… — прошептал Никитский, пропуская Ганина с картиной вперед.
…Уже в комнате Никитский, не откладывая дела в долгий ящик, выписал Ганину чек на двадцать миллионов рублей, а Ганин тем временем чуть не плача упаковывал картину в бумагу, которая у него хранилась в шкафу как раз для таких случаев. Ему при этом казалось, что он кладет в гроб горячо любимого человека…
«Не плачь!» — вдруг вспыхнула в его сознании, как молния на темном предгрозовом небосводе, мысль. И не успел Ганин удивиться, как тут же полыхнула вторая: «Мы снова будем вместе!» И больше ничего…
— Ну что, Ганин, держи свой первый гонорар, — протянул Никитский Ганину чек и похлопал по плечу. — Дотащи мне ее до машины…
Ганин выволок картину на улицу. Солнце уже почти село. Остались светлыми только кроваво-красные облака на горизонте, а все остальное — и раскинувшие хищно в разные стороны ветви деревья, и крыши соседних домов, и телеграфные столбы — превратилось в темные силуэты на фоне еще светлой полоски на линии горизонта. Ганин залюбовался этим зрелищем, он обожал его и про себя называл «театром теней» — в эти предрассветные или предзакатные минуты весь мир как будто превращался в черные тени, в декорации к какой-то мистической картине, и это возбуждало в Ганине его творческое воображение, мотивировало его писать… В самом деле, что может быть более притягательным для Художника, в самом широком смысле слова, чем запечатлеть эту красоту навечно на холсте, на бумаге… — открыть окно в неведомый мир и, окунувшись в этот мир самому, приобщить к нему других, а может быть, и впустить этот мир — в наш…
— Ну что ты там зазевался, Ганин! — недовольно крикнул Никитский, уже сидя за рулем. — Давай клади картину на заднее сиденье, мне уже пора! Ехать еще минут сорок — не меньше…
Голос Никитского вывел Ганина из эстетического ступора, и он выполнил, не без сожаления, то, что ему говорили.
— Счастливой дороги, Валерий Николаевич! Увидимся, ой, познакомимся на выставке! — грустно улыбнулся Ганин и помахал ему как-то по-детски смешно своей бледной тонкой ручкой художника.
— Давай, Ганин, до завтра! — ответил Никитский, бросая окурок сигары в лужу и с трудом выруливая из непроходимой грязи. — Кстати, Ганин, ВСПОМНИЛ! Твоя девочка с портрета мне очень и очень кого-то напоминает, но кого — хоть убей, не помню!
— Правда? — удивился Ганин. — Хотел бы я ее встретить на самом деле, если она жива еще…
— Я отдам эту твою картину на выставку с надписью «Не продается». Авось, найдется твоя девица! — хохотнул Никитский. — Только я бы хотел познакомиться с ней пораньше…
Лицо Ганина исказила гримаса, но зеркальное окно водителя «мерса» уже с мягким жужжанием закрылось, и машина, выехав на ровное место, резко газанула и скрылась в полумраке…
Никитский приехал домой гораздо раньше, чем предполагал: дороги были свободны, а потому он, будучи большим любителем риска и быстрой езды, ехал на предельной скорости. Он опустил стекла в машине и с наслаждением выставил правую руку из окна, чувствуя, как упругий прохладный воздух ласкает кожу на его ладони. Скорость создавала легкое ощущение эйфории, иллюзию свободы… и Никитский радостно засмеялся.
Скорость помогла пробудить у него приятные воспоминания, когда он, будучи молодым советским офицером, водил в атаку боевой «Ми-24» на кишлаки моджахедов. Он до сих пор не мог забыть это потрясающее ощущение, когда ведешь боевую машину на полной скорости, ветер свистит в ушах, ничего не слышно от шума винтов, а там, внизу, бегают многочисленные, с виду как игрушечные фигурки людей, едут маленькие, как детские модельки, машинки, а он нажимает гашетку — и яркие светящиеся ракеты летят вниз, и там, на выжженной жарким афганским солнцем желто-бурой земле, как чудовищные цветы, расцветают клубы ярко-оранжевого пламени, в стороны летят куски металла, обгоревших тел и бетона. Маленькие человечки что-то кричат, махают тоненькими ручонками, куда-то бегут, а он выпускает вслед длинные свинцовые очереди из крупнокалиберных пулеметов и смеется, смеется и смеется… «Да уж, — подумал Никитский, — гонка на „мерсе“ не заменит того кайфа, какой был тогда в Афгане! Кто знает, если бы не этот козел, полковник, так бы, может быть, и остался в армии… „Дьявольскую колесницу“ не заменит ни один самый быстрый „мерс“ на свете!»
Капитан Никитский был уволен из армии со скандалом. Однажды он на своей машине буквально стер с лица земли совершенно мирный кишлак, причем тогда, когда там был какой-то базар; погибло огромное количество народу. Это стало известно командиру полка. Дело замяли, тем более что, по слухам, вообще готовился вывод войск из Афганистана и на самом «верху» собирались дать амнистию всем «воинам-интернационалистам», замешанным в «военных преступлениях», но Никитского из армии все-таки уволили… Пришлось искать другую работу. Благо, перестройка была в разгаре, как грибы после дождя, появлялись кооперативы, а вместе с ними и организованная преступность, которой очень нужны были крепкие «афганцы». Никитский быстро нашел там свое место, хотя у него и хватило ума при первой же возможности «отмыть» и «отработанные» там деньги, и свое лицо: дружеские связи с другими «афганцами», занявшими посты в милиции, в госучреждениях, ему в этом очень помогли. Он заработал приличные деньги на торговле сомнительными иномарками, а когда подвернулся момент, вложил вырученные деньги в нефтедобывающую компанию, в которой шла приватизация… Когда Никитский стал уже «новым русским» в малиновом пиджаке и с золотой цепью на шее, долларовым «нефтяным» миллионером, он даже нашел того самого полковника, который его «сдал», — тот потерял обе ноги на войне и еле сводил концы с концами на пенсии. Никитский подарил ему протезы, оплатил операцию, дал денег жене и детям, но даже слов благодарности от него не дождался. Тот исподлобья, из-под кустистых светло-русых бровей посмотрел на бывшего капитана и тихо сказал: «Не откупишься, Никитский, никогда не откупишься… Кровь имеет свойство не отстирываться с одежды вовек». И все, больше ничего не сказал. Но Никитский тогда только покровительственно похлопал бывшего начальника по плечу и велел своему секретарю открыть на его имя валютный счет, чтобы семья сослуживца уже никогда не нуждалась ни в чем. Но на следующий день узнал, что полковник Волков застрелился из наградного оружия…
«Из гордости, — подумал тогда Никитский. — Ну и дурак, а я ведь из-за него такой кайф потерял!»
Когда Никитский стал богат, он, конечно, купил себе вертолет, но это не то: мало летать, надо, чтобы были эти игрушечные домики внизу, эти игрушечные человечки, машинки и чтобы ты, именно ты, держа в руках гашетку, был властелином их жизни и смерти, посылая огненный — ракетно-свинцовый — смерч вниз, и притом сам ощущал, что балансируешь на грани — стоит только кому-то из этих человечков из чего-нибудь в тебя попасть… Нет, ни обыкновенный вертолет, ни «мерс» никогда этого не заменят!
Но сейчас Никитский смеялся и на миг представил, что он летит в этом вертолете, до сих пор он там, на той войне… И ему вдруг пришла в голову мысль, что все, что он делал в своей жизни потом — бизнес, разборки, гонки, бабы, наркота, — это всего лишь попытка хоть отчасти вернуть те ощущения свободы, опасности и власти, которые он имел тогда, под вечно палящим солнцем Афганистана…
Черный «Мерседес» мягко подкатил к огромному особняку XVIII века, принадлежавшему некогда роду князей Барятинских. Это было высокое бело-голубое трехэтажное строение с выдающимся портиком с треугольной крышей, мощными, но грациозными белыми дорическими колоннами, большими окнами из цветного стекла, посреди пышущего зеленью парка, с белокаменными беседками, фонтанами, прудом с утками и лебедями, тенистыми аллеями, посыпанными белым мраморным песочком. Никитский урвал особняк в самом начале девяностых. Тогда это был закрытый санаторий для отдыха высоких партийных «товарищей» местного обкома. Когда имущество партии пошло «под молоток», Никитский благодаря своим «афганским» связям в администрации сумел за бесценок скупить «дом отдыха», который по-хорошему мог стать музеем архитектуры елизаветинской эпохи, и превратить в кричащий символ образа жизни современного нувориша. Никитский даже не поскупился оплатить работу городских историков, которые сумели восстановить изначальный облик здания и его убранства, а сам ликовал в душе: «Все правильно! Раньше здесь жили одни князья, теперь другие» — ему нравилось думать о том, что теперь он — сын водопроводчика и крановщицы, бывший младший офицер советской армии — живет во дворце, принадлежавшем аристократам, чьи кости давно сгнили в могиле, а он вот жив, здоров и вполне доволен своей судьбой!
А потому, когда Никитский увидел художника с мольбертом у ворот, просящего разрешение нарисовать его особняк, он был в восторге, ведь и князей Барятинских кто-то рисовал давным-давно, и их портреты до сих пор красуются в Третьяковке, в Эрмитаже… И он дал добро художнику, но только с одним условием — написать портреты и его самого, и его семьи, когда тот закончит рисовать поместье. В этом и был один из главных резонов выставки — «раскрутить» непризнанного гения Ганина, а потом заказать уже знаменитому художнику, заслуженному деятелю искусств РФ, портрет своей семьи, который увековечит его величие, как когда-то увековечили портреты князей Барятинских…
Мягко шурша по гравию, черный «Мерседес» заехал на территорию поместья через открытые охраной ворота. Когда дверь машины распахнулась, к ней уже подбежали трое охранников в хаки, в солнцезащитных очках и с короткими автоматами АКСУ. В охрану Никитский брал только бывших военных и только тех, кто прошел «горячие точки», а платил им столько, что мог быть спокойным за жизнь семьи.
— Валерь Николаич, Валерь Николаич! Мы уж забеспокоились… Взяли бы ребят, вам без охраны никак нельзя!
— Кому суждено быть повешенным — тот не утонет, — хмыкнул Никитский. — Вы мне нужны, чтоб детей да жену охранять, а себя я и сам защитить смогу, не мальчик, — он недовольно сморщился. Терпеть не мог охрану рядом с собой, так же как и водителя в машине, — это мешало ему ощущать себя свободным, ощущать риск, делало его жизнь тюрьмой. — Лучше отнесите картину, которая на заднем сиденье, в дом, пусть повесят ее у меня в спальне, прямо напротив кровати, да поосторожней! Если что — не расплатитесь за всю жизнь! — И довольно гоготнул, обнажив золотые коронки во рту.
Двое охранников аккуратно, нежнее, чем мать младенца, вытащили упакованную в оберточную бумагу картину и осторожно понесли по главной дорожке в дом, а третий уже сел за руль, чтобы отогнать машину в гараж.
Никитский отправился сначала в свой личный спортзал, располагавшийся в подвале поместья, там вволю потягал штангу, размялся на беговой дорожке, побил боксерскую грушу, а потом сходил в приготовленную для него сауну. Затем плотно поужинал. На ночь он зашел в детскую и пожелал деткам — тихому пятнадцатилетнему юноше и такой же тихой десятилетней девочке — спокойной ночи. С женой видеться не хотелось…
И все это время Никитский, самому себе в этом не признаваясь, думал только об одном — о портрете! Точнее, о прекрасной незнакомке, изображенной на нем. Тягая штангу или кряхтя под ударами веника, поедая бифштекс с кровью или целуя шелковистые волосики деток, он не мог избавиться от видения картины — золотоволосая девушка с солнцевидным лицом, фиалковыми глазами, в соломенной шляпке с атласными лентами и с корзинкой лесных цветов… Лицо ее смутно казалось ему знакомым, и этим, главным образом, портрет и притягивал к себе: а что, если изображенная на нем девушка существует на самом деле?! Никитскому до смерти надоела его последняя жена, к тому же она старела, ей уже было тридцать пять — какие бы солярии и салоны красоты она ни посещала, двадцатипятилетней уже все равно не будет… А тут — не девочка, а цветочек полевой, конфетка! С такой и за границей появиться не стыдно, и у губернатора, и друзьям показать… Это бриллиант, который идеально подойдет к его костюму, а этому бриллианту только он, Никитский, может дать достойную ее красоты оправу!
Никитский отправился в свою спальню. Это была личная опочивальня князей Барятинских, полностью восстановленная в том виде, в котором она была двести с лишним лет назад, — широкая кровать с шелковым постельным бельем под балдахином, розовые обои с изображением пузатых голеньких амурчиков с луками и полуголых нимф с лирами, картины художников XVIII века — в основном, портреты, золотые подсвечники и люстра с настоящими восковыми свечами, пушистый персидский ковер, мебель искусной резки из настоящего дуба, старинный клавесин… Даже свой iPad Никитский не оставлял в этой комнате — ничто не должно нарушать эстетическую гармонию Великого века!
Когда Никитский вошел в спальню, он первым делом посмотрел на ТО САМОЕ место — часть стены слева от раскрытого, высотой в три человеческих роста старинного окна — место для Портрета, как раз напротив кровати. Да, Он был уже там…
Никитский довольно улыбнулся и, получше завязывая на ходу пояс махрового розового халата, подошел к нему ближе. Мягкое освещение люстры из двух десятков восковых свечей было очень выигрышным для портрета — романтический сюжет при романтическом освещении: замок вдали стал еще более насыщенного цвета, фиалковые глаза — еще более томными, а алые губы — еще более страстными…
«Конфетка! — причмокнул губами Никитский. — Правда, рама дешевенькая… Ну ничего, завтра же закажу из чистого золота! Ты у меня будешь как принцесса — в золоте ходить и в бриллиантах!» — хмыкнул Никитский и… усмешка застыла на его губах… потому что девушка на портрете улыбнулась ему в ответ и кокетливо сощурила глазки!
Сердце Никитского екнуло и судорожно забилось. Ему показалось, что пол под ним заколебался и вот-вот уйдет у него из-под ног, а точнее, разверзнется под ногами пропасть, и он улетит прямо в преисподнюю! Но вскоре первый приступ страха прошел, и его вкрадчиво и в то же время настойчиво сменило вожделение…
Да… Вожделение… Его терпкий сладкий привкус он ощутил еще тогда, на чердаке этой странной конуры, но сейчас… Оно становилось неодолимым! Оно охватило все существо Никитского, оно сжигало его дотла! От страстной истомы подкашивались ноги, кружилась голова, сердце готово было выскочить из груди, рот наполнился вязкой слюной, а глаза заволоклись какой-то розовой дымкой…
У Никитского в жизни много было женщин. Еще в юности он никогда не страдал от отсутствия женского внимания — его физическая сила, решительность, граничащая с дерзостью, бесстрашие создавали вокруг него ореол крутого парня. Девушки липли к нему, а уж тем более когда он стал богатым… И девушки были разные — и блондинки, и брюнетки, и рыжие, и высокие, и пониже, и плоские, и в теле…
А тут… Хотя девушка на портрете была красива, без сомнения, но что-то в ней было особенное…
ГЛАЗА, конечно же, глаза! Таких он не видел ни у одной из них! У тех девушек глаза были как у детских куколок Барби — пустые мутные стекляшки, в которых лишь иногда загорались бледные огоньки при виде зеленых купюр, шмоток или дорогих машин, а у нее… Никитский подошел совсем близко к портрету и встал лицом к лицу — портрет был ростовой, — так что его глаза отделяло от ее всего сантиметров двадцать-тридцать…
Боже, какие необыкновенные глаза! Глубокие, как бездонный колодец, ясные, как безоблачное небо, фиалковые полутона сочно переливаются при колеблющемся свете восковых свечей, но самое главное — искорки… Искорки света — солнечного или лунного, какие всякий может увидеть на море, — так и пляшут в ее глазах, и за их танцем, как за самим морем, можно наблюдать бесконечно… Никитский не помнил, сколько он стоял и смотрел в них, но в какой-то миг подумал, что продал бы свою душу самому дьяволу, лишь бы эта девушка стала его, хотя бы на одну ночь!
Не успел он об этом подумать, как вдруг отчетливо ощутил пряный аромат лесных цветов вокруг себя, дыхание свежего летнего ветерка, кряканье уток, шелест листвы…
Глаза у Никитского полезли на лоб — КАРТИНА ОЖИЛА! Как в кино, когда кусок белого полотна в зале вдруг оживает при выключенном свете и показывает нам движущиеся фигурки, лица, пейзажи, так и здесь — картина наполнилась жизнью. Утки в нарисованном пруду крякали и плавали, ветер развевал алые атласные ленточки на соломенной шляпке и шевелил складки белоснежной кружевной юбки-купола, а также флажки с таинственными знаками на полотнищах, что реяли на башнях розового замка. Разница состояла лишь в том, что в кино мы видим только изображение, а здесь чувствовались и запах, и ощущения, в кино мы не можем вступить в общение с персонажами, изменить линию их поведения, а здесь…
— Ты хотел обладать мною, князь среди смертных? — раздался необыкновенно мягкий, мелодичный голос по ту сторону рамы, и девушка соблазнительно улыбнулась. Никитский физически уже не мог отвести взгляд от ее фиалковых глаз, они его не отпускали, они видели его насквозь и знали о нем все, даже то, чего, казалось, не знал и он сам… — Это возможно… Как там говорил один выскочка из Назарета? «Все возможно верующему», а-ха-ха-ха-ха! — мелодичные колокольчики зазвенели в ушах Никитского, и от их сладостной музыки пламень вожделения стал еще сильнее. Он инстинктивно чувствовал, что уже перешел грань между жизнью и смертью одной ногой, но также он понимал, что переступит через нее и второй ногой с такой же неизбежностью, как кролик попадает в пасть загипнотизировавшей его змеи или муха — в паутину, на обед пауку. Никитский смутно помнил, что «Назарет» — это что-то очень и очень важное, что стоит только вспомнить, что же точно означает это слово, может, он и получит шанс на спасение, но… Вспоминать не хотелось! «„Да!“ — говорило его сердце, „да!“ — вторила ему плоть, — пусть будет смерть, пусть будет все что угодно, только бы получить ЕЕ, только бы получить!» — и отравленный страстью мозг с неизбежностью тоже сказал свое вялое «да»…
И как только это произошло, девушка вдруг размахнулась и бросила прямо в него свои цветы из лукошка, громко прокричав какие-то слова на незнакомом языке — гортанном, в котором почти каждое второе слово состояло из шипящих звуков. Что-то щелкнуло, и солнечный свет из картины теперь уже бил в спальню Никитского, как если бы тот стоял напротив раскрытого на улицу окна…
А потом девушка просто перешагнула через раму и оказалась в комнате прямо перед Никитским, в шляпке, в платьице, точь-в-точь как на портрете, таким же образом, как если бы некая шаловливая гостья решила зайти в комнату, расположенную на первом этаже, непосредственно через открытое по случаю летней жары окно.
Она довольно осмотрелась и прошлась по комнате, как бы забыв о Никитском.
— Хоромы так себе, но пока сгодятся… Во всяком случае, лучше, чем на чердаке в этой собачьей конуре, а-ха-ха-ха!.. Эй ты, человечек, слышишь меня?
Никитский почувствовал, что его потянула к девушке, которая стояла уже в центре спальни, какая-то неодолимая сила. Он против воли подбежал к ней и рухнул ниц, а девушка поставила прямо ему на голову свою ножку в изящной туфельке-босоножке и презрительно скривила губы:
— Такова моя воля! Отныне мой Художник будет жить здесь! Ты меня понял, собака?
Кровь прилила к лицу Никитского — никто и никогда не обращался с ним так! Но ножка девушки была необыкновенно тяжела — она придавливала его к полу, как тяжелая штанга!
— Да… — прохрипел Никитский.
— Не «да», а «как будет угодно вашему высочеству», сволочь, кар-р-р-р! — раздался каркающий голос, и из рощицы, что на портрете, в комнату влетел большущий иссиня-черный ворон, сел на спину Никитскому и больно клюнул его в затылок.
— Совсем оборзели эти денежные мешки, м-мяу! Чуть только денег наворуют, а уже возомнят себя невесть кем! Богами возомнят, черти их раздери, м-мяу! — злобно мяукнул такого же цвета и оттенка кот, ростом с порядочного дога, выпрыгнувший вслед за вороном из темной рощи на портрете. И, встав на задние лапы, он тяпнул левой передней лапой Никитского по уху.
— Кар-р-р-р, не говори! — поддакнул ворон. — Да какие из них боги? Кар-р-р-р! Вот раньше боги были — это да… Помню я эти времена — солнцеокого Аполлона, как он целые города сжигал своим огненным взглядом, ненасытного быкоголового Молоха, который мог сотню визжащих младенцев сожрать за раз и даже не поперхнуться! А эти мрази?! Что они могут? Только деньги воровать да с бабами нежиться! Кар-р-р! Давай разобьем его рожу в мясо, госпожа, не нравится он мне! Как того, который осмелился назвать тебя «трупом»!
— М-мяу! Наслаждение…
— Ну зачем же так, друзья, зачем же? — рассмеялась девушка. — Мы же, в конце концов, в гостях, а ведем себя как бандиты с большой дороги! И потом, без этого старикана я бы не обрела свою свободу, а потому — да здравствует свобода!
Радостно взмахнув руками, она наконец сняла свой каблучок с головы Никитского, а кот и ворон в одно мгновение вспыхнули потоком лилово-фиолетовых искр и превратились в двух изысканно одетых во все черное молодых людей. У ворона на лице был чересчур крупный клювообразный нос, и сам он был немного горбат, с длинными и тонкими по-птичьи ногами и руками, а у кота — выдающиеся белые клыки во рту и немного кошачьи зеленые глаза — во всем остальном они были как братья-близнецы: глаза у них горели хищным огнем и светились в полутьме, у каждого на поясе висели шпага и кинжал в серебряных ножнах, на ногах — туфли с серебряными пряжками, бархатные короткие штаны до колен и камзолы на шнурках с высокими стоячими воротниками, а на головах у них были береты с перьями.
— Ну вот, теперь хорошо! Теперь вы похожи уже на гостей, а не на бандитов! Мы же как-никак в хоромах самих князей Барятинских, не так ли? — и девушка опять звонко и заливисто рассмеялась.
— Как же, как же… Помним, помним… — поддакнули оба, поднося своей госпоже мягкое старинное кресло, на которое она изящно села, и встали по обе стороны этого импровизированного королевского трона, согнув перед ней свои спины и шеи, как и подобает верным слугам. — Горит эта сволочь уже двести лет, как головешка. Туда ему и дорога!
Но девушка сверкнула глазками в их сторону, и оба притихли.
— Вы забываетесь, друзья! Не обо всем уместно здесь и сейчас говорить… Встаньте, милейший, встаньте! — высокопарно произнесла она и махнула ручкой снизу вверх.
Никитский буквально взлетел с пола и прилип к стене с широко раскинутыми руками, как распятый. Эта шутка вызвала дикий гогот ее прислуги.
— Значит, ты хотел мной овладеть, милейший… — как бы про себя, задумчиво сказала девушка, буравя его глаза своим немигающим взглядом и властно, по-королевски, положив свои ручки на высокие подлокотники кресла с выточенными на концах мордами львов.
Никитский испуганно покачал головой — ни тени охватившего его совсем недавно вожделения уже не осталось — один животный страх, какого он никогда не испытывал, даже на войне…
— Ах, уже не хочешь… Жаль! — разочарованно проговорила девушка и надула губки, как маленькая девочка, которой что-то пообещали взрослые и не дали. — Странные существа эти люди! — повернулась она в сторону кота. — Разбиваются в лепешку ради чего-нибудь, а когда получают это — забрасывают, как надоевшую игрушку!
— Во-во, госпожа! Знаем мы эту сволочь — скольких девиц он соблазнил да побросал потом — беременными, с детьми… А сколько сделали аборт из-за него, мяу!
— А скольким изменяла эта сволочь, кар-р-р! Оторвать бы ему… я бы его склевал на завтрак, с пр-р-р-р-р-евеликим удовольствием!
— Вы меня расстраиваете, друзья! Я не для того вас привела в приличный такому дому вид, чтобы вы вели себя по-прежнему как дикие звери, — скорчила недовольную гримасу девушка. — Фи! Как грубо!
Прислуга покорно замолчала.
— Ну что ж, ну не хочет так не хочет! — после некоторой паузы всплеснула руками девушка. — Мы же не можем смертных ни к чему принуждать, не так ли, друзья мои? А то Распятый опять на нас жаловаться будет «наверху», что мы все правила постоянно нарушаем! Но и за вызов тоже надо платить, ведь меня побеспокоили, оторвали от дел…
— Да, госпожа, в самом деле! — подхватил Кот. — У нас дел — выше крыши! Клиентов — куча! А эта сволочь нас тут беспокоит попусту, мяу!
— Ха-ха! Кар-р-р-р! Неустойку будешь платить, козел старый, неустоечку! Наша госпожа у фараонов и махараджей плату брала за дело — душу за ночь, а на тебя и время тратить жалко! Можно, я выклюю у него зенки, чтоб не моргали тут по-скотски, кар-р-р!
— Ну зачем же, друзья, зачем же! Душу за беспокойство — многовато будет! Тем более вы же знаете, отец не любит, когда я посягаю на то, что принадлежит ему! Мы возьмем чуть-чуть, самое малое…
Тут девушка встала и, не торопясь, обошла всю спальню по периметру, медленно, внимательно оглядывая картину за картиной, с наслаждением ощупывая золото канделябров, дуб мебели, шелк балдахина… И только сейчас Никитский, так и стоявший в позе распятого, с ужасом отметил, что девушка не отбрасывает тени, не отражается в зеркале, а ее пальцы спокойно проходят сквозь пламя свечей…
— Мы возьмем у него эту комнату — даже не дом! — и довольно с него! Пусть здесь живет мой Художник. Художнику ведь место быть со своим портретом, не так ли?
— Справедливо, госпожа! Божественно! Невероятно! Вы — сама премудрость и сама справедливость! — льстиво затараторили прислужники, ловя на лету белые ручки девушки и целуя их.
— А куда денем эту тварь? Да еще белобрысая вобла мне лично не нравится, мяу!
— А детей куда, кар-р-р?!
— А туда, куда хотел сам этот человечек! — торжественно воскликнула девушка и, подойдя к Никитскому, потрепала его по щеке ручкой — от щеки пошел дым, и на коже тут же вздулось несколько красных ожогов… — В портрет! Он же так мечтал увидеть свою семью увековеченной в портрете, а-ха-ха-ха!
— Но, ваше высочество, мяу, его же должен был написать ваш художник!
— Фи! В своем ли ты уме, Ашмедай?! Занимать моего Художника такой чушью! У него будет дело получше да поважней, чем рисовать эту свинью с его выводком! — девушка сморщила носик, как будто в него попал какой-то неприятный запашок. — Давайте лучше позовем Нахаша — и все вместе что-нибудь придумаем! Оп-ля! Ха-ха! — Девушка звонко хлопнула в ладоши, и из злополучного портрета, из полутьмы рощицы, уже выскочил здоровенный черный пес, величиной с годовалого бычка. Пес также вспыхнул факелом фиолетово-лиловых искр и превратился в более чем двухметрового здоровяка с пудовыми боксерскими кулаками.
— Вукху! Нахаш! Ашмедай! Быстро — весь выводок сюда! А я уж заготовлю рамку почище!
Все трое прошли сквозь запертую дверь, а девушка подошла к стене и длинным ноготком прочертила на стене прямоугольник. От ногтя пошел едкий дым, розовые обои моментально облезли — осталась только черная прямоугольная дыра. Потом она взяла оставшиеся в лукошке цветы и подула на них — ароматная пыльца желтым облаком покрыла черный прямоугольник, и вот — это уже зеленая лужайка, усыпанная цветами, а рядом — сосновый лес. На лужайке разложено покрывало для пикника, разнообразные яства и напитки.
— Ну, признавайся, человечек, ты ЭТОГО хотел, да?
Никитский вытаращил глаза на лужайку — именно такой сюжет он и планировал заказать Ганину…
— Ну и чудненько, а вот и весь выводок здесь!
Через закрытые двери спальни уже прошли люди в черном. Здоровенный двухметровый Нахаш нес на плече, как бревно, крашеную блондинку — жену Никитского, одетую в летнее прогулочное платье, — и зажимал ей здоровенной волосатой рукой рот. Клювоносый Вукху и клыкастый Ашмедай несли, также зажав им рты, парализованных от страха детей, уже облаченных в летние одежды — мальчик в бриджи и рубашку с коротким рукавом, девочка — в белое платьице.
— Осталось этого приодеть, — сказала девушка и махнула рукой. И вот уже на Никитском аккуратно сидел мягкий летний костюм цвета кофе с молоком, а на голове — соломенная шляпа.
— Ну, вроде бы и все… — взглядом расчетливой хозяйки взглянув на всю компанию и облегченно вздохнув, прямо как женщина, только-только сделавшая грязную, но необходимую работу по дому, произнесла девушка. — А теперь — вон отсюда!
— Вы что, не слышали, что вам сказали?! Во-о-о-о-он! — заревел что есть силы Ашмедай, сверкнув зелеными кошачьими глазами, а за ним — и двое других, так что слово «вон!» прозвучало трижды по три и притом так громко, что у Никитского и его домочадцев заложило уши.
А потом вдруг из картины на стене раздался звук, похожий на звук пылесоса и… Никитский и все его семейство, словно ворох осенних листьев от ветра, полетели прямо в картину…
— Госпожа! Госпожа! Вам пора! Скоро полночь, а у нас еще так много дел, кар-р-р!
— Да, да, дел уйма просто! Мяу! Столько желающих, что отбою нет — и все хотят ласки, все хотят наслаждений, все хотят утешений, никак не успеем!
— А-ав! Р-р-р-работа не ж-ждет! — гавкнул пес.
Девушка сморщила носик — вот-вот заплачет!
— Как всегда! На самом интересном месте! — она досадно всплеснула руками. — Ну какой смысл быть Госпожой, Принцессой, Владычицей, если тебя, как рабыню, гонят то туда, то сюда! Вот мой Художник — это да… Рисует целыми днями, мечтает… Как я ему завидую, друзья! Ну чем я отличаюсь от простой уличной проститутки, ну чем, скажите мне на милость?! — топнула ножкой девушка.
Все как по команде склонили головы долу и, как заклинание, на разные лады сладострастно залепетали:
— Вы — бесподобны! Вы — фееричны! Вы — божественны! Вы — само совершенство!!!
— Тьфу на вас, лицемеры! Слушать вас не могу! Вы всегда лжете, а вот мой Художник меня искренне боготворит!.. Ой, проклятье! Опаздываю! — вдруг воскликнула девушка, — и верно, солнечный свет, льющийся потоком из картины в комнату, начал мерцать, живая картина на доли секунды периодически становилась просто картиной — из красок и холста. — Бежим, хвостатое отродье! Бежим! Врата, врата Иштар закрываются! — пронзительно закричала девушка и первая прыгнула в картину, а вслед за ней туда буквально влетели все ТРИ черных зверя — пес, кот и ворон…
Когда полночная луна осветила спальню, в ней уже ничто не напоминало о происшедшем. По-прежнему напротив кровати с балдахином висел портрет с улыбающейся девушкой в соломенной шляпке с атласными лентами, у нее в руках по-прежнему было лукошко полное лесных цветов. Только при очень внимательном взгляде на картину можно было заметить черного ворона в чистейшем, как слеза, голубом небе, который портил, как клякса на листе бумаги, идиллический пейзаж, да у самой кромки рощи — застывших черного кота и черного пса, так и не успевших полностью скрыться в полумраке деревьев… Да… А на противоположной стене висел другой идиллический портрет — уже семейный. Там возле разложенной на изумрудно-зеленой траве белой скатерти, уставленной разными кушаньями, расположились пожилой мужчина в светлом костюме, крашеная блондинка в летнем белоснежном платье, лет на двадцать его моложе, и двое детей — мальчик лет пятнадцати и девочка — десяти… Они улыбались невидимому зрителю, как бы смотря в объектив фотокамеры, но при внимательном рассмотрении можно было увидеть смесь недоумения и ужаса, навсегда застывшие в их глазах, какие обычно бывают у людей, которых постигла быстрая и внезапная кончина…
ЧЕТЫРЕ…
Ганин проснулся утром сам, без будильника, с на удивление хорошим настроением и предчувствием, что в этот день обязательно должно произойти что-то чудесное, необычное, чего он ждал всю свою наполненную скорбями и разочарованиями жизнь и что навсегда разделит ее на «до» и «после». Он еще некоторое время полежал в постели, размышляя, на чем же основано это предчувствие, и, после непродолжительных усилий, вспомнил… Ему опять снился портрет с солнцевидной незнакомкой!
В общем-то, она снилась ему и раньше, но в этот раз — вот чудо! — Ганин отчетливо вспомнил, что видел себя ВНУТРИ портрета! Он сидел в той самой белоснежной деревянной беседке, прямо на берегу пруда с утками и лебедями, рядом ласково шелестели ветви рощицы, шепчась о чем-то своем, недоступном для человеческого понимания, а совсем недалеко был виден силуэт розового замка, а потом… Ганин ощутил легкое прикосновение чьей-то ручки, как ласковое дуновение летнего ветерка, к своей шее, и повернулся… Напротив него на лавочке беседки сидела девушка в соломенной шляпке с алыми лентами и улыбалась. Она четко и ясно произнесла мелодичным завораживающим голоском:
— Сегодня сбудутся все твои мечты!
А потом Ганин проснулся…
Эх, как хотелось ему в это мгновение продлить чудесный сон, побыть еще хоть чуть-чуть с солнечной незнакомкой в такой уютной беседке! А еще лучше — остаться там навсегда… Ганин сладко потянулся и пошел приводить себя в порядок.
Только он успел допить утренний чай, как раздался гудок автомобиля. Ганин в смокинге выскочил на улицу — его там уже ждал черный «Мерседес», точь-в-точь такой же, как у Никитского, только с шофером за рулем.
А потом была удивительная проездка в город. Ганин с некоторой печалью оглянулся на свой унылый домишко, на садовые участки и смутно почувствовал, что ему уже не суждено вернуться сюда, что эта страница жизни перевернута навсегда и что теперь его ждет что-то совершенно неведомое и даже немного пугающее… Но вскоре, когда машина выехала на федеральную трассу и садовые участки скрылись из виду, у Ганина повеселело на душе. Он с наслаждением, как ребенок, широко открытыми глазами наблюдал за пробегающими за окнами деревьями, кустарником и махал им рукой, как старым знакомым: и в самом деле, эти леса он знал с детства, все их когда-то исходил в поисках ягод и грибов — с бабушкой и сам, в одиночку. А потом были пригороды, город и, наконец, улица Верещагина — широкая, многолюдная, с сильным движением. Ганин затаил дыхание, сердце трепетало в груди как птичка, ладони вспотели, и он вытирал их украдкой о сиденье.
Когда машина мягко подъехала к парадному входу в Центральный областной музей — трехэтажному зданию XIX века, песочно-желтому, с портиком, колоннами и лестницей — там уже было столпотворение! Все пространство перед музеем было забито машинами, а площадь внутри железной витиеватой ограды — народом; внутри портика, у входных дверей, стояли тузы общества — сам губернатор, его заместители, мэр города и его заместители, депутаты областного и городского представительных органов, бизнесмены и, конечно же, их жены. Мужчины были в дорогих костюмах, женщины — в платьях самых разных фасонов и расцветок, которых Ганин совершенно не запомнил — они слишком рябили в глазах и с его точки зрения были абсолютно безвкусны.
Чуть ниже, у самого портика, стояли журналисты — с камерами, микрофонами на длинных шестах, диктофонами… Длинноволосые девушки уже что-то говорили перед камерами своим телезрителям. «Видимо, что-то вводное, общую информацию», — подумал Ганин. Между портиком и народом стояли заграждения и сотрудники полиции. Народ же был рассечен на две части ограждением, между обеими частями была проложена красная ковровая дорожка. «Наверно, для меня», — со страхом решил Ганин — ему казалось ужасным у всех на виду вот так по ней идти… Совестно как-то…
Погода была замечательная: голубое небо, ни тучки, яркое солнышко, пение птиц… «Прямо как на моем портрете!» — с удовольствием подумал Ганин и мечтательно улыбнулся.
Когда он вышел из «Мерседеса» и смущенно пошел по ковровой дорожке, усиленно заработали затворами камер фотографы, а когда стал подниматься по лестнице к портику — к нему уже кинулись журналисты. Ганин открыл рот от неожиданности, но тут уже подскочил юркий худенький смазливенький молодой человек, чем-то напоминающий кота — круглое лицо, пухленькие щечки, реденькие усики, зеленые хитрющие глаза, мягкие и грациозные движения, прилизанные расческой и гелем жиденькие волосики, — тоже одетый в смокинг, и сразу же затараторил мяукающим голоском:
— Господин Ганин не будет сейчас отвечать на вопросы… Его ждет губернатор… Будет пресс-конференция… Не сейчас… Не сейчас…
А потом, ловко подхватив Ганина под локоток, повел его по лестнице вверх.
— Ой, спасибо вам большое! — прошептал Ганин. — Вы меня просто спасли!
— Ничего-ничего, Алексей Юрьевич, всегда к вашим услугам! Моя фамилия Тимофеев, я ваш агент, вот моя визитка.
— А-а-а… Валерий Николаевич…
— Да-да-да! Обо всем потом, на банкете… Сейчас вас ждет губернатор… — Тимофеев легонько подтолкнул Ганина в спину, прямо к толстощекому и круглому, как шарик, губернатору, который стоял у красной ленточки перед парадным входом в музей с ножницами в руках.
А дальше все было как во сне… Ему что-то говорили — и губернатор, и мэр, и их замы, и бизнесмены, и их жены… У Ганина все их лица сливались в одно: у мужчин — брыластые, щекастые, с густыми бровями, холодными металлическими глазками-пуговками, вторыми подбородками; у женщин — крашеные-перекрашеные, с глазами-стекляшками и фарфоровыми зубами, смердящие невыносимыми духами до тошноты… Ганин всем смущенно и приветливо улыбался, всем что-то говорил, а кому-то даже целовал ручки. А потом ему дали ножницы, он перерезал красную ленточку и вошел внутрь.
Главный зал областного музея, располагавшийся на первом этаже здания, был уже оформлен его работами. На плакате и растяжках под потолком было написано название выставки: «Усадьба князей Барятинских — жемчужина архитектуры нашего края. Художник — Ганин А. Ю.», а на стенах висели его картины, которые он нарисовал в усадьбе: фасад, вид на пруд, фонтаны со скульптурами, аллеи, беседки, а также внутреннее убранство — библиотека князей, бальная зала, трапезная зала, спальня… Все в золоте, все в предметах роскоши XVIII века — золотые литые витиеватые канделябры, статуи и статуэтки в виде обнаженных нимф, голеньких амурчиков с крылышками, мускулистых аполлонов, картины с важными мужчинами в напудренных париках и томными женщинами в декольтированных платьях с высокими прическами на головах, столовое серебро, резная витиеватая мебель, персидские ковры… В общем, перед глазами посетителя представал удивительно прекрасный и живой мир «елизаветинско-екатерининской эпохи», эпохи Великого века дворянства, роскоши и утонченности, мир, который был доселе скрыт за семиметровым зеленым забором со стальными воротами и автоматчиками в хаки, а теперь открылся перед зрителями во всем своем изяществе и непревзойденной красоте, усиленной гениальной кистью доселе неизвестного художника…
Ганин был на седьмом небе от счастья, когда слышал восторженные возгласы и цоканье языком, легкий шум восхищения и громкую похвалу: «нет, ну просто фантастика», «все как настоящее», «кажется, я могу потрогать», «я просто глаз не могу оторвать»… Вскоре зал был так заполнен людьми, что Ганину — вообще-то дремучему интроверту и большому любителю одиночества — стало не по себе. Ему было душно, хотелось куда-то убежать, а потому он и сам не заметил, как оказался на втором этаже здания, на галерее, откуда прекрасно можно видеть происходящее внизу, при этом не страдая от того, что тебе дышат, так сказать, прямо в затылок, и здесь он смог наконец перевести дух. «Никогда бы не подумал, что слава — это такая утомительная вещь! — подумал Ганин. — А ведь еще пресс-конференция предстоит! Надо придумать, о чем говорить, а о чем говорить не стоит, а то такое ляпну… Эх, жаль, Пашки нет! Никто из этих журналистов так не напишет критический очерк о выставке, как он!» При воспоминании о Павле Расторгуеве Ганину стало как-то грустно. Он внезапно почувствовал себя посреди этой толпы, этого огромного здания музея таким одиноким, таким ненужным, как забытый кем-то на спинке стула плащ, что даже на глаза навернулись слезы…
— Вот вы куда спрятались, звезда оперы и балета! — послышался откуда-то мелодичный женский смех. — А я ищу его, ищу… Мне нужна сенсация! — И снова поток чистых, как слеза, звуков.
Ганин недоуменно повернулся и… чуть не упал прямо на пол: перед ним стояла… ДЕВУШКА С ПОРТРЕТА! — фиалковые глаза, алые чувственные губы, золотистые волосы… Ганин схватился рукой за сердце и широко раскрыл рот, как рыба, выброшенная на берег, — ему не хватало воздуха…
— Эй, вам плохо? Я вас напугала? — тревожно спросила девушка. — Я всего лишь хотела взять у вас эксклюзивное интервью для нашего канала!
— К-канала?.. Инт… интервью?.. — как сквозь сон проговорил Ганин и, внимательно присмотревшись к девушке, почувствовал, что ему полегчало…
Да, девушка была очень похожа на его «Мечту поэта», но все-таки это была немного другая девушка. На ней не было соломенной шляпки, да и кружевного белоснежного платьица с юбкой-куполом, развевающейся на ветру, лукошка с цветами. Вместо них — легкие облегающие белоснежные летние брюки, такого же цвета рубашка с короткими рукавами, открытые туфельки без каблуков, а на голове — бейсболка с логотипом областного телеканала «3+3», в руках она держала микрофон с тем же самым логотипом, а весь аккуратненький носик и часть щек были усыпаны веселыми веснушками.
— Вам плохо? — повторила девушка и, с тревогой взглянув на Ганина, взяла его за руку.
— Нет, ничего… Я… ну… просто обознался… принял вас за другого человека…
— А-а-а! Наверное, это был не очень хороший человек, если вы так испугались, хи-хи! Кстати, а мы не знакомы! Меня зовут Снежана, Снежана Вельская, — немножко фамильярно протянула она свою ручку Ганину, при этом обворожительно улыбнувшись. — Я веду репортажи о культуре, об искусстве, о неординарных людях и все такое прочее. Мечтаю организовать свое ток-шоу, между прочим… А вы — тот самый таинственный Ганин, о котором уже неделю трубит весь город, и скрывающийся от общественного внимания в лесу?! — И снова мелодично рассмеялась.
Ганин покраснел, но не стал говорить, что его убежище было гораздо хуже, чем лес.
— У вас, у вас… такие чудные… веснушки… — прошептал он. — Они вам так к лицу!
Снежана с интересом стрельнула глазками в Ганина и сказала:
— Первый раз в жизни кто-то восторгается моими веснушками, ха-ха! А в школе у меня из-за них чуть комплекс неполноценности не выработался…
— Ну и зря! — ответил Ганин. — Веснушки происходят от слова «весна», а весна — это жизнь! Матово-белая кожа из-за тонального крема, который идеализирует лицо, делает его похожим на лицо призрака, восковой фигуры, куклы! Наличие изъяна, неровности — вот то, что делает человека человеком, а чересчур ровные и идеальные линии могут быть только на похоронных масках, которыми древние закрывали лица своих мертвецов! — выпалил речитативом Ганин свой экспромт и тут же покраснел.
Снежана покраснела тоже, и ее веснушки стали от этого еще более яркими. Некоторое время она молчала, не зная, что и сказать. Снежана явно не привыкла к такого рода странным умозаключениям — мир журналистов гораздо проще мира деятелей искусства и науки… Но, быстро взяв себя под контроль и лукаво улыбнувшись, она подмигнула Ганину и весело сказала:
— Вот об этом и многом другом вы мне и расскажете в эксклюзивном интервью для телеканала «3+3»! Идет?
Ганин выпалил:
— А без интервью — нельзя говорить?
— Можно, но только после интервью! Порядок?
— Договорились!
— А ну, Виталя, — вглядевшись куда-то в глубь галереи, крикнула Снежана, — выбирайся-ка из подполья, да побыстрее, пока конкуренты не прибежали! Это интервью должно быть только у нашего канала!..
Ганин неловко чувствовал себя под прицелом камеры, да еще и прожектор ярко бил в лицо, но глаза Снежаны — такие веселые, энергичные, наполненные жизнью, оптимизмом и напористостью, свойственной всем настоящим тележурналистам, — придали ему сил. Когда Г анин начинал смущаться, она шутками и прибаутками заставляла его смеяться и возвращала уверенность в себе. Когда он начинал теряться, она ловко наводила его на нужные ответы, и вообще Ганин был просто в восторге от нее.
Он не отрывал глаз от такого знакомого ему лица — сколько раз он видел его на портрете, во снах, в мечтаниях, в грезах… Но теперь, когда это лицо появилось перед ним, это было одновременно и то, и не то лицо… Вроде бы те же фиалковые глаза, но на картине они были глубокими, как бездна, опасными, как море, а у Снежаны — игривые, веселые, озорные, как глаза соседского мальчишки из детства! Вроде бы то же солнцевидное личико, но на картине оно — стерильное, идеально правильное, мертвое, как прекрасная маска из античного театра, а у нее — конопатое, улыбающееся, живое, веселое, с четко обозначенными ямочками на щечках. Вроде бы и фигура та же, но на картине — статичная, как античная статуя классического периода, застывшая во времени и пространстве, а тут — живая, подвижная, в вечном броуновском движении… Ганин даже поймал себя на мысли, что теперь, когда увидел оригинал своего портрета, он не сможет так восторгаться его несовершенной копией. Он будет любить только эту живую, настоящую девушку — с тенью, веснушками, щербинкой в зубах, ямочками и еле заметными волосиками-морщинками у уголков глаз и губ, какие бывают у всех людей, которые очень много смеются…
— Ну, вот и все, Алексей Юрьевич, большое вам спасибо за интервью! — лукаво подмигнула Ганину Снежана.
— И это все? — не смог скрыть разочарования Ганин. — А как же после…
— А «после» будет после — рассмеялась Снежана. — У вас же банкет и пресс-конференция и много чего еще… Вот моя визитка! Для «после»…
— А я хочу, чтобы на банкете вы… — ой, можно на «ты»? — ты была со мной!
— Слыхал, Виталь? — покатилась со смеху девушка, хлопая по плечу оператора, деловито снимающего камеру со штатива. — Представляешь меня в штанах и бейсболке на обеде у губернатора, а? Бьюсь об заклад, Верка из «Светской хроники» сделает себе рейтинг на скандале! Представляю заголовок: «Белая Кобыла в посудной лавке, или как Снежана Бельская пытается пролезть в высший свет!», а-ха-ха!
— А че, круто! — щелкая жвачкой, весело ответил смазлиный парень с серьгой в ухе и черной курчавой шевелюрой. — Может, мужика там себе богатого снимешь, всю жизнь на Багамах загорать будешь, а я к тебе в гости буду ездить, в отпуска!
— Ну что ты… А я серьезно… Ну с кем там еще общаться, на банкете-то?..
— На банкете, Леш, — мы ж на «ты», правда? — не общаются, на банкете бизнес делают. У тебя там будет куча покупателей, заказчиков, покровителей и тому подобных важных людей. А меня там точно не будет — я светской хроникой, слава богу, ни-ни! У меня — интересные люди, интересные судьбы, интересные мысли и идеи, а толсторожих жлобов с их плоскогрудыми воблами пусть Верка показывает, вот так-то, милый! — и Снежана несколько фамильярно потрепала Ганина по щеке.
— Ну все, мне пора! На пресс-конференции, чур, мои вопросы в первую очередь, о’кей?
— О’кей… — проговорил тихо Ганин. — Я буду скучать по тебе, на банкете… «мечта поэта».
Снежана залилась веселым смехом и повернулась к своему оператору:
— Видал, как надо? А ты мне — то «стерва», то «сучка», а я, может, «мечта для поэта»! Может, с меня еще портрет нарисуют и я войду в историю, а ты так и подохнешь, таская свою камеру, как верблюд! — И показала оператору язык.
— Нет… — тихо сказал Ганин. — Нет… Портрет я с тебя писать не буду. Портрет украдет у тебя жизнь, радость, веселье, ВЕСНУШКИ! Ты — лучше портрета, ты — не мечта, ты — реальность, которую я люблю больше самой светлой, самой лучшей моей мечты!
На этот раз Снежана уже не отвечала. На миг маска «девочки без заморочек» сошла с ее лица, и в глазах мелькнуло тщательно скрываемое от посторонних и тем более от телезрителей выражение, в котором отразились глубокий ум, глубокие чувства, почти детская мечтательность и наивность.
— Леш, поосторожней со словами, а то я могу и запомнить, потом не расплатишься… — И вдруг в мгновение ока надев прежнюю маску, привычно растянула губы в улыбке, стрельнула глазками и чмокнула Ганина в щеку. — Ну все, чао, мне пора!
И в самом деле, к Ганину уже подскочил Тимофеев и, схватив за локоть, потащил в конференц-зал, попутно инструктируя его, о чем говорить, а о чем не стоит, и запихивая ему при этом в карманы всякого рода шпаргалки. Но Ганин не слушал его. Повернув голову в сторону стоящей возле еще не убранного штатива Снежаны, он не мог оторвать от нее глаз…
На пресс-конференции Ганин спутал все планы Тимофеева. Во-первых, он напрочь забыл все его инструкции. Во-вторых, вопреки всему отвечал в первую очередь на вопросы канала «3+3», а не пиарщиков Тимофеева, задававших «нужные» вопросы про благотворительный фонд. И в-третьих, он смотрел только на лицо Снежаны, а не в камеру, как это нужно было делать. Оттого на телеэкранах лицо Ганина не было обращено к телезрителям, и создавалось ощущение, что телезрители ему совершенно неинтересны. Впрочем, вряд ли на это кто-то обижался: картины и вправду были очень хорошие, а лицо у Ганина было таким добрым, открытым и приветливым, что никто бы и не подумал, что он задается.
На банкете он сидел между губернатором и президентом какого-то холдинга, известного покровителя всякого рода благотворительных акций, и откровенно скучал. Такое впечатление, что никто из них вообще не интересовался его картинами, искусством, все говорили о совершенно посторонних вещах: главным образом, о предстоящих губернаторских выборах, о фонде, о том, что картины — очень выгодное вложение капитала, они дорожают после смерти автора, и о прочей чепухе. Ганина беспокоило только то, что Снежаны здесь не было и что на банкете нет и Никитского. На его вопрос вездесущий Тимофеев ответил, что его босс с семьей срочно вылетел за границу по каким-то делам и замещать его будет он, что беспокоиться Ганину не следует — босс часто уезжает так внезапно и так же внезапно возвращается. Почему? Тимофеев не объяснил, зато активно занялся очередными переговорами с потенциальными покупателями. Ганин облегченно вздохнул и поблагодарил Бога — без Тимофеева он бы совсем тут пропал!
После банкета Тимофеев потащил было его кататься на яхте, но тут уже Ганин восстал: никуда без Снежаны он не поедет! Когда Тимофеев удивленно поднял брови и сказал, что в такое общество не принято пускать журналистов — это чревато скандалом, Ганин отрезал:
— Мне нужно обналичить вот этот чек! Немедля! — и топнул ногой.
— Батюшки, Алексей Юрьевич! Ну кто ж вам выдаст такую сумму на руки! — всплеснул испуганно руками Тимофеев.
— Тогда выдайте мне какую-то часть в долг! Я еду кататься на яхте со Снежаной!
Тимофеев скорчил кислую мину, но никаких рычагов давления на Ганина у него не было.
— Хорошо, я объявлю, что вы приболели. Вот, возьмите, надеюсь, ста тысяч вам на сегодня хватит? — сказал Тимофеев, протягивая ему толстую пачку новеньких пятитысячных купюр, которую он достал из внутреннего кармана смокинга. — А чек мне. Я позабочусь, чтобы деньги были переведены на ваш личный счет, куда будут поступать и другие ваши доходы. Завтра вы получите банковскую карту… Да, чуть не забыл! Вы теперь живете в поместье, вот ваш пропуск…
— В каком… поместье?..
Тимофеев по-кошачьи ухмыльнулся, сверкнув зелеными глазками.
— Которое вы сами нарисовали! Ни-ни, ничего не знаю, у меня четкое предписание! Дворецкий вас разместит, когда придете. Босс распорядился поселить вас у себя до тех пор, пока я не найду для вас подходящий дом, а это требует времени. Понятно?
Ганин быстро кивнул, лишь бы поскорее отвязаться от липких и цепких глазок и ручек Тимофеева, а потом положил пачку в карман своего смокинга и бросился бежать за уже садившейся в микроавтобус с логотипом «3+3» Снежаной…
— Эй, Снежана, Снежаночка!
— Ого! А ты что, не на яхте у Свиридова?
— Не… — как-то по-детски махнул рукой Ганин. — Сбежал оттуда. Ищу себе человека, который помог бы мне потратить сто тысяч!
Виталя, уже загрузивший штатив и камеру внутрь, свистнул и тут же с готовностью рванул было к Ганину, но Снежана ловко отпихнула его локотком.
— Виталь, дуй один в студию. Скажи, что я беру отгул на два дня — я и так без отпуска пашу как лошадь какое лето!
— А я?..
— У тебя дома жена и грудничок, а у меня тут в личной жизни, может, просвет… В общем, без тебя обойдемся! — Она порхнула, как бабочка, к Ганину. — Ну что, давай вначале прокатимся во-о-о-о-о-он на той яхте! А потом… Ну, потом придумаем по ходу дела, как потратить сто тысяч в нашем болоте.
А фантазия у Снежаны оказалась на удивление богатой; во всяком случае, Ганин, обычно недолюбливавший журналистскую братию — он считал журналистов болтунами, — был поражен, За прогулками на яхте по реке последовал аквапарк, за аквапарком — ресторан на воде, а потом Снежане взбрело в голову прокатиться на биплане и воздушном шаре. Это, мягко говоря, немного озадачило Ганина, но стоило ему позвонить Тимофееву, как оказалось, что и то, и другое вполне возможно — Никитский тоже любил всякого рода опасные развлечения и умел их организовывать… Потом они решили погонять на моторной лодке, поднялись по канатной дороге на вершину горнолыжной трассы и устроили там пикник. Ну а когда смеркалось, Снежана предложила поехать в ресторан «Аквамарин», где стены целиком состояли из аквариумов, наполненных экзотическими рыбами, огромными улитками и крабами, причем большинство их обитателей можно было заказать на ужин, но Ганин предпочел просто за ними наблюдать. После «Аквамарина» были гонки по вечернему городу на «Кадиллаке» с открытым верхом, а потом — вертолетная прогулка над ночным городом.
— Слушай, Леш, по-моему, это был самый счастливый день в моей жизни! — прошептала Снежана, слегка облокотившись на плечо Ганина, с которым она сидела на лавочке у подъезда ее дома, куда их доставило такси. Двор был безлюден — два часа ночи, почти во всех окнах погас свет, слышался лишь слабый шум редко пробегавших машин да где-то пели под гитару. Ночь была теплая, лунная, звездная и безоблачная.
Ганин не хотел прерывать молчание: в такую минуту ему казалось, что говорить — это святотатство. Да и что могут выразить затасканные слова, типа «я тебя люблю», «ты — лучшая девушка на свете», «я всю жизнь тебя искал». Сказать такие слова — значит ничего не сказать: они давно обесценились. Ганин чувствовал, что она все понимает без слов. Он просто обнял ее за талию и молчал, вдыхая душистый аромат распустившейся сирени, а потом ласково поправил выбившуюся из-под бейсболки прядь ее мягких золотистых волос и наконец нашел в себе силы прошептать, смущенно пряча взгляд:
— Я не хочу, чтобы ты уходила! Мне кажется, что если ты от меня сейчас уйдешь, то исчезнешь, как это обычно бывало в моих снах, и я не переживу этого…
— Но рано или поздно мне придется это сделать, — тихо улыбнулась она. — Я бы рада взять тебя с собой, но у меня дома мама, маленькая дочь…
— Дочь?! У тебя есть дочь?! — воскликнул Ганин и чуть не подскочил на скамейке.
— А что тебя так удивляет? — испуганно проговорила Снежана. — Да ты не подумай! Она тебе не будет в тягость!
— Да нет, ты не так поняла! — махнул рукой Ганин. — Я, наоборот, счастлив, что у тебя есть дочь! Как бы я хотел ее увидеть! Дочь моей «мечты поэта» — я и подумать об этом не мог! — И он крепко сжал теплые, немного дрожащие руки Снежаны.
Снежана улыбнулась и слегка покраснела.
— Ей семь лет, и она уже ходит в школу, хорошо умеет читать и писать, очень любит сказки… Моя мама — педагог на пенсии — ею занимается. Что бы я делала без нее?! Я ведь редко когда прихожу раньше девяти вечера, да и выходные часто бывают рабочими днями… Ее зовут Света, Светлана, а похожа она на меня. Мама говорит, копия меня… И в этом есть определенное преимущество…
— Какое, если не секрет?
— Если у ребенка нет отца, то лучше, чтоб он на него и не был похож…
Некоторое время молчали.
— Слушай, Снежана, выходи за меня замуж! — вдруг ляпнул Ганин, не выпуская рук девушки из своих. — Будем жить вместе — я, ты, твоя мама, твоя дочь… Знаешь, как здорово будет!
Снежана с легкой иронией в глазах оценивающе осмотрела Ганина с ног до головы и так же иронично усмехнулась:
— Что-то ты заторопился с предложениями… Мы знакомы всего несколько часов, не рановато ли?
— Нет… Я знаю тебя уже пять лет. Ты пришла ко мне однажды во сне и с тех пор живешь в моем сердце, потому-то я и напугался так тогда, в музее, помнишь?
— А вот это уже интересненько… А ну-ка давай с этого места поподробнее! — Снежана облокотилась на спинку скамейки, а другой рукой прикоснулась к щеке Ганина и повернула его лицо к себе так, чтобы он не прятал взгляд. И Ганину ничего не оставалось, как рассказать ей историю с портретом.
— «Портрет», значит… А кто-то отказался рисовать меня сегодня, между прочим! — Снежана потрепала Ганина по щеке. — Я чуть не обиделась тогда!
— Да ты не поняла! — торопливо возразил Ганин. — Его я написал с моей фантазии, из сна, а твой портрет… Живая ты лучше любой картины, в тысячи раз лучше!
— Ну, я бы и от портрета не отказалась… Остаться в веках молодой, красивой, привлекательной… Об этом мечтает всякая женщина! — воскликнула Снежана, встав со скамейки и повернувшись лицом к Ганину. — Даже если она — демон! — почему-то добавила она громким шепотом и сделала страшные глаза, а потом звонко-рассмеялась. — Знаешь… А я бы хотела увидеть этот портрет, Леш… Я… ОЧЕНЬ ХОЧУ увидеть его… — В глазах Снежаны вдруг совершенно неожиданно промелькнуло страстное, хищное выражение — и в этот момент, Ганин готов был поклясться, оно стало точь-в-точь похоже на выражение глаз девушки с портрета…
Снежана села к Ганину на колени, обняла его за шею и крепко поцеловала. А потом страстно произнесла:
— Покажи мне мой портрет, Леша, покажи… Ну, покажи! — И Ганину были неприятны и ее голос, и выражение ее лица, и ее поведение…
Он, испуганно глядя на резко изменившуюся Снежану, осторожно высвободил свои колени и даже отодвинулся на другую сторону лавочки.
— Нет, не надо! Я чувствую, что не надо! Давай, Снеж, я нарисую новый портрет, с натуры, с веснушками, с щербинкой, с ямочками… Ты и твоя дочка, например… Или, если хочешь, нарисую тебя… с микрофоном на работе… Да где угодно! А? Новый портрет, новый! — Ганин тараторил, судорожно вытирая потные дрожащие руки о брюки, и не мог понять, почему он так не хочет показать ей свою работу. Но, даже и не понимая ничего толком, Ганин вдруг инстинктивно ощущал, что НЕ НАДО показывать ей портрет, НЕ НАДО… Лучше нарисовать новый, с натуры…
— А я хочу, чтобы этот! Новый когда еще нарисуешь… И потом, ведь это же чудо какое-то! Я тебе приснилась, ты меня нарисовал, а потом мы с тобой встречаемся! Я такой репортаж могу на эту тему сделать, да и книгу написать! Ты даже не представляешь, как это популярно — чудеса, мистика, любовь… Леш, ну Леш, ну покажи мне его, я все для тебя сделаю! — Она опять придвинулась к Ганину и стала теребить его за ухо, за щеку, ласково гладить спину… — Хочешь, поедем прямо сейчас к тебе, я останусь у тебя на ночь… Только дай мне взглянуть на него! Любимый! — Ее жаркие губы впились в его губы… но Ганин нашел в себе силы отстраниться.
— Нет! Снеж! Нет! Иди домой, спать! А я вызываю такси и уезжаю!
И тут Снежана как-то сразу успокоилась, обмякла, сконфузилась…
— Прости, Леш… Не знаю, что на меня нашло… Просто… Такое сильное желание было на него взглянуть…
— Это-то меня и пугает, Снеж! — чуть не закричал взволнованный Ганин. — Все мои подруги уходили от меня, когда смотрели на него! И я не хочу, чтобы и ты ушла!
— Но зачем же ты сам о нем заговорил?
— Не знаю… — развел руками Ганин. — Словно подсказал кто-то…
— Ладно, Леш, мне действительно пора. Ты прости меня, дуру… — Она подошла к Ганину, все еще стоявшему на некотором отдалении от скамейки, и уже спокойно, мило чмокнула его в щеку. — Все хорошо, Леш, все хорошо… Сегодня был самый счастливый день в моей жизни, а твое предложение я рассмотрю, обдумаю и отвечу после.
— Опять после? — улыбнулся Ганин.
— Ну должна же быть в женщине какая-то интрига, загадка что ли! — усмехнулась она. — Репортаж без интриги никто смотреть не будет!
— А я бы посадил тебя в кресло и смотрел бы всю жизнь…
— Тем более! — рассмеялась Снежана и пошла к подъезду. — Если у нас с тобой впереди еще вся жизнь, значит, это не срочно!
Дверь подъезда закрылась, и Ганин без сил опустился на скамейку…
До поместья Никитского такси довезло Ганина в половине четвертого утра. Ганина встретил поднятый охраной длинноносый дворецкий с тонкими птичьими ножками и хриплым каркающим голосом, показал его комнату, ванную, выдал комплект белья и предметов гигиены… Ганин с наслаждением принял душ, переоделся в пижаму и отправился в свою комнату.
Когда дворецкий сказал, что Ганин будет спать в бывшей спальне Никитского, у Ганина в груди зашевелилось неприятное чувство беспокойства: в самом деле, сначала поспешный отъезд Никитского со всей семьей — хотя тот говорил ему, что БУДЕТ на выставке, а Никитский не из тех людей, которые бросают слова на ветер, а теперь… «Ну с какой это стати он выделил мне для проживания именно ЭТУ комнату? Все страньше и страньше, как говорила Алиса…» А потому Ганин был готов ко всяким неожиданностям…
И с ними он столкнулся сразу же при входе в комнату. «Так я и знал!» — подумал Ганин, увидев напротив роскошной, покрытой шелковым балдахином кровати Никитского висящий Портрет! Правда, теперь он был в тяжелой золотой раме, с мягкой электрической подсветкой сверху.
Ганин испытывал смешанные чувства: какого-то беспокойства и в то же время радости, вины перед портретом и в то же время вожделения, заставлявшего его подойти к нему, пообщаться с ним, как часто он делал это раньше, у себя на чердаке.
Но теперь Ганин решил наперекор всему к портрету не подходить — несмотря ни на что! «В конце концов, я сегодня весь день на ногах! Я устал! Уже почти утро! Ну имею же я право отдохнуть по-человечески!» Подумав так, он лег в постель и накрылся, как в детстве, когда боялся ночных кошмаров, одеялом с головой.
«Ты сегодня поздно!» — вдруг промелькнула в голове мысль. Ганин вскочил и сел в постели, с ужасом озираясь вокруг, но никого в темноте не видел.
«Сядь со мной! Поговорим!» — промелькнули еще две мысли, одна за другой, как электрические разряды.
И Ганин тут же ощутил, как его тянет куда-то, тянет неодолимо… «Наверное, — подумал он, — так тянет железо к магниту или мотылька к одинокой лампе, горящей в ночи…»
Он попытался было сопротивляться навязчивому зову и даже встал, чтобы покинуть комнату, но, дернув за ручку двери, понял, что она закрыта на ключ.
«Черт! Закричать, что ли? Может, дворецкий и слуги взломают дверь?»
«Не стоит. Не откроют. Не услышат, — промелькнули сразу три мысли подряд. — Не бойся. Я не причиню тебе зла. Иди и сядь со мной. Поговорим».
Ганин повернулся спиной к двери и ничуть не удивился, увидев светящиеся в темноте фиалковые глаза девушки с портрета. Они смотрели, вопреки всякой художественной логике, не туда, куда должны были смотреть, — ОНИ СМОТРЕЛИ НА НЕГО…
По спине Ганина пробежал неприятный холодок, руки и ноги задрожали, стали какими-то ватными и непослушными, как у мягкой игрушки, в горле пересохло, на лбу выступила испарина, затошнило. Первая мысль, пронзившая сознание Ганина как молния, была: «Ну все, дорисовался…» Сразу вспомнились иронические намеки Расторгуева, истерические крики Светланы: «псих ненормальный, да тебе лечиться пора!», насмешки за спиной товарищей по учебе… Ганин никогда всерьез не воспринимал все это, считал, что такова уж судьба всех по-настоящему творческих людей — казаться окружающим сумасшедшими, «белыми воронами». Он не без удовольствия в таких случаях приводил себе на память имена Сократа, Андерсена, Диогена, слывших чудаками, но ни разу не сомневался в своей нормальности и психической полноценности. Даже когда начались чудеса с портретом, Ганин воспринимал это скорее как игру воображения, сублимацию своих инстинктов и был даже доволен ею — пусть будет, зато какая пища для воображения, для творчества! И в самом деле, появление портрета давало ему бешеную творческую энергию. Шутка ли: за полгода написать почти тридцать полноценных полотен в одном только барятинском Марьино! И откуда только силы брались?.. Даже мысль, которая пронзила его сознание при продаже портрета Никитскому, он воспринимал как продолжение игры, но это… То, что он ощутил сейчас, невозможно было выдать за простые галлюцинации, за игру разума, это было нечто иное. Мало того, что мысли носили явно посторонний, чужеродный характер, — их посылал кто-то другой, кто-то явно со стороны, — так теперь и этот взгляд… Живой, пронизывающий, дерзкий, страстный, угрожающий и влекущий к себе одновременно, взгляд, красноречивее которого не может быть ни одно слово на свете, говоривший только об одном: он может принадлежать только одушевленному и разумному существу, каким-то мистическим образом вписанному красками в ткань холста…
«Нет, этого не может быть, это невозможно! — твердил себе вновь и вновь Ганин, стараясь не смотреть на чудовищное изображение и крепко сжимая руками виски. — Я просто переутомился, все эти смерти, выставка, Снежана, бессонная ночь, переезд… У кого угодно с головой будет не все в порядке! Пожалуй, стоит все-таки попробовать открыть дверь, вырваться на свободу. Думаю, холодный душ обязательно приведет меня в чувство!»
Ганин сделал еще несколько шагов в сторону двери, но с удивлением отметил, что оказался он вовсе не возле нее, а перед проклятым портретом! А в голове его вспыхнула новая мысль-команда:
«МОЖЕШЬ СЕСТЬ РЯДОМ».
Ганин механически взял стул и сел напротив картины. Он уже физически не мог оторвать ни взгляда от полотна, ни своего тела от сиденья стула. Наступила долгая и неловкая пауза. Казалось, не только Ганин, но и девушка с портрета также глубоко о чем-то задумалась, внимательно оглядывая своего творца.
Ганин смотрел на девушку и раздумывал над увиденным, чутко, как бы на тонких весах своего сердца взвешивая впечатления. И впечатления эти были явно не в пользу незнакомки с портрета, ибо теперь она совершенно не вызывала в нем прежнего восторга. Когда Расторгуев раскритиковал его работу, Ганин думал, что умрет от боли. Это чувство, наверное, сходно с тем, какое испытывает отец, когда ему говорят, что его дочь глупа, некрасива и вообще отвратительна, а тут… Ганин судорожно искал в незнакомке те черты, что раньше возбуждали в нем трепет, восторг, и… не находил их! Да, волосы по-прежнему золотистые, но они статичны, как волосы куклы; да, глаза удивительно большие и яркие, как тропическое море, переливаются искорками, но, как тропическое море, они так же мертвы, бездушны, пусты; да, овал ее лица почти идеален, но в его идеальности, в белизне кожи без всяких недостатков есть что-то от маски, неживое; да, ее фигура восхитительна, но она так же неподвижна, как детская куколка «Барби», как манекен в магазинах по продаже женского нижнего белья…
У Ганина вырвался вздох разочарования… И как же раньше он этого не замечал?! Почему!? «Все просто, — самому себе мысленно ответил Ганин. — После того как я встретил живую девушку, невозможно любить мертвую…»
Боже мой! — спохватился Ганин. Он только сейчас понял, только сейчас… Девушка на портрете мертва! Она мертва, как египетские мумии, как манекены в магазинах, как… Она мертва, и в ней нет ни капли жизни — идеальные формы и пропорции женского тела, лица… Формы, в которых нет жизни! Это сама смерть, по иронии судьбы пытающаяся изображать жизнь, причем так же нелепо, как престарелая модница пытается подражать юным прелестницам, надев такие же наряды и сделав такой же макияж, что и они…
И у Ганина снова вырвался вздох разочарования. Он встал со стула и оказался в рост с девушкой с портрета — и обомлел… Из ее фиалковых глаз бежали, оставляя тонкие влажные дорожки на холсте, две крохотные слезинки, а губы, еще недавно растянутые в обольстительной улыбке, были до крови закушены зубами…
«Чем я хуже НЕЕ?» — пронзила его голову мысль, а потом — одна за другой — как выстрелы из огнестрельного оружия: — «Она постареет. Она умрет. Я — сама вечность. Я — само совершенство. Мои цветы в лукошке никогда не завянут. Солома в моей чудной шляпке никогда не сгниет. Мое шелковое платьице никогда не надо стирать… Поцелуй раму, как прежде! Назови меня совершенством! Преклони колени!!!»
Но Ганин отшатнулся и, в ужасе широко раскрыв глаза, закричал:
— Кто ты?! Кто?! Ты — не мой портрет! Ты какое-то наваждение! Кто ты НА САМОМ ДЕЛЕ?!
«Я — та, кому ты дал жизнь — прекрасную жизнь в этом прекрасном сосуде! Я — та, кто жаждет любви и восхищения! Я — та, кто не потерпит измены и никому не простит обиды!» — При последней мысли в фиалковых глазах заблестели кроваво-красные искорки, а белоснежные зубки хищно сверкнули из-под полных чувственных губ.
— Ты угрожаешь мне, своему творцу, создателю?! — возмутился Ганин, механически сжимая кулаки и отшатываясь от портрета.
«Не угрожаю. Предупреждаю».
— Значит… — Тут страшная догадка осенила Ганина, и волосы на его голове медленно поднялись дыбом, а кожа на руках покрылась мурашками. — Значит…
«Да. Их всех убила я. И ее убью. Ты — мой создатель. Ты — мой Художник. Никому не отдам. Взгляни».
В этот момент золотое кольцо на пальце девушки загорелось ярко-желтым огнем.
— Я не давал тебе никаких обещаний — закричал Ганин почти в истерике. — Я даже не помню этого кольца! Я не помню!..
Но вдруг какая-то сила развернула его голову от портрета вниз. Как раз в этот момент последний луч заходящей луны упал на правую руку Ганина, и он отчетливо увидел, как на его безымянном пальце начинает проступать контур призрачного, абсолютно неощутимого золотого кольца, ярко блеснувшего в лунном свете…
А потом Ганин поднял глаза на портрет и увидел торжествующий блеск в его глазах.
— Я тебе не верю, ведьма! Я тебе не верю! Я ненавижу тебя! — закричал Ганин в бешенстве и, размахнувшись, ударил кулаком прямо в холст портрета… Но, вместо того чтобы порвать хрупкое полотно, рука Ганина встретила лишь воздух — все равно как если бы он со всей силы ударил в раскрытое настежь окно… а оттуда, изнутри, кто-то прикоснулся к его руке, чья-то горячая ладонь, покрытая нежной на ощупь кожей, и Ганин почувствовал, что в его сознание вторгается чуждый, невероятно могущественный разум, и этот разум — не земной, не человеческий, необъятный, для которого человек — не больше таракашки или мураша, — начинает властно повелевать им. В его голове замерцали, как узоры в калейдоскопе, тысячи образов, картин, картинок — лиц, обрывков пейзажей, каких-то неведомых звезд и планет. Наконец этот калейдоскоп разлетелся мириадами разноцветных осколков…
А потом, падая на пол и теряя сознание, Ганин краем уха услышал бой настенных часов — они пробили ЧЕТЫРЕ утра…
ПЯТЬ…
В ту ночь Ганину не спалось. Он ходил по периметру единственной комнаты своего убогого домишка и никак не мог успокоиться.
«Безумие! Безумие! Боже мой, какое безумие! Как она могла! Как могла!»
Мысли навязчиво роились в его голове, не давая покоя, он был бы даже рад разбить свою голову о камень, если бы можно было их таким образом выпустить наружу, как рой отвратительной хищной и едкой мошкары, выпустить — и забыться! — сегодня у Светланы, у его родной Светланы, должна состояться первая брачная ночь…
Светлана была первой девушкой, которую он по-настоящему полюбил. Другие две — их имена он даже периодически забывал — были так, мимолетным увлечением. Повстречались, понравились, ну и все прошло со временем. А Света… С ней все было иначе…
Она понравилась ему сразу же, как он ее увидел, еще на первом курсе. Но тогда она была не свободна, дружила с каким-то Витей, с режиссерского, и он не осмеливался к ней подойти, предпочитая восторгаться ею со стороны. Втайне он делал зарисовки, но никому их не показывал. Ему нравилось в Светлане все: глубокие шоколадно-карие глаза, темно-русые также с шоколадным отливом волосы, очаровательная тогда полнота… «Настоящая русская красота, — не раз думал, мечтательно закрывая глаза, Ганин. — Просто создана для деревянного терема с резными наличниками, сарафана, кокошника и веретена с пряжей. Как там? „Три девицы под окном…“. Просто живая иллюстрация к сказкам Пушкина!» Может, поэтому Ганин рисовал ее всегда именно в русском стиле?..
А потом на четвертом курсе он узнал, что с Витей они расстались, а немного позже она согласилась позировать ему для «русского» портрета… Любовь вспыхнула между ними яркой искрой, такой яркой, что сумела прогнать полумрак из сердец молодых людей, совершенно неожиданно для них обоих.
После «русского» портрета, осмелев, Ганин предложил ей обнаженную натуру в стиле Рембрандта — фигура Светы идеально под нее подходила: покатые бедра, большая грудь, томные, с мягким отливом глаза и алые пухлые губы, — и был поражен, что Света не отказалась. Работа над портретом Светланы растянулась на два месяца. Ганин как мог затягивал работу, и ему казалось, что Светлана даже не против, хотя и виду явно не показывала.
Начиналось все с того, что она приходила на его съемную квартиру, раздевалась за ширмой и принимала позу на специально декорированной кровати, а Ганин, с совершенно невозмутимым видом, как будто бы перед ним была не обнаженная девушка, а пациентка перед хирургом или гинекологом, начинал серьезно и как-то по-особенному сдержанно говорить: «Так, Света, сделай-ка ручку вот сюда — так свет будет падать лучше… А вот глазки подними прямо к потолку и посмотри на люстру — вот так, вот так… Так будет романтичней… Свет, а вот губки чуть-чуть растяни, вот так, очаровательно!.. Умница!» На самом деле, Ганин просто сгорал от страсти, но всячески подавлял в себе импульс, целиком переводя его в творчество, в холст. Он даже был благодарен пылавшей в его груди геенне — она придавала силу его кисти.
А Света… Что думала Света, Ганин не знал, но чувствовал, что ей нравилось позировать. Ее щечки розовели, как кожица спелого персика, глаза блестели, как масленые, а губки чуть-чуть томно раскрывались, как бутоны красной розы. И немудрено — она всеми порами кожи ощущала на себе пронзительный, не оставляющий ни сантиметра ее тела без внимания, но такой нежный, такой страстный взгляд гениального Ганина…
Когда картина была почти закончена и оставалось наложить последние слои, Ганин решил поэкспериментировать с натурой — покрыть ее слоем розового масла, чтобы оттенки на картине стали более натуральными, более сочными.
— Ой, Леш! Ну до спины-то я сама не достану!.. — рассмеялась Света.
— Хорошо. Давай помогу. — Чуткие, тонкие пальцы художника, слегка дрожащие, прикоснулись к нежной девичьей коже и стали быстрыми и сильными мазками покрывать ее спину ароматным розовым маслом, а потом, совершенно неожиданно, остановились…
— Что-то случилось, Леш? — с легким вздохом прошептала Света.
— Да нет, просто спину я закончил смазывать, а все остальное вроде бы уже готово…
— Правда? — спросила Света и повернулась к Ганину передней частью тела.
— Ну, пожалуй, грудь ты плохо промазала, придется повторить…
Постельное белье в квартире Ганина пришлось потом выкинуть, несмотря на решительные протесты Светы — она хотела сохранить его как память о самых эротических двух месяцах, которые запечатлелись в ее памяти на всю жизнь…
А портрет Ганин закончил довольно скоро. Светлана потребовала его себе, но Ганин твердо сказал:
— Только за выкуп. Я отдам тебе портрет только с одним условием, что и ты, и он всегда будете перед моими глазами!
И так оно и оказалось — и портрет, и Света были перед его глазами, но не вечность, а всего лишь год…
Как это произошло, Ганин так до конца и не понял, а наверное, и не нужно было ничего понимать. Просто после портрета Светы в стиле Рембрандта, Ганина захватила идея нарисовать виды ночного города, потом — снегирей в зимнем лесу, потом — школьный двор с бегающими ребятишками, потом… Работа за работой, портрет, пейзаж, потом опять портрет… И каждый требовал от него того, чего ждала Светлана, — любви, внимания, огня страсти, соития с образом. Каждый акт творения на холсте нового мира требовал акта любви, акта зарождения новой жизни, и Светлана стала чахнуть. Оказалось, что то, что подарил ей Ганин, он дарил каждому своему «чаду» и, опустошая себя, обделял всех остальных своим огненным, даже огнедышащим, желанием…
И Света в конце концов ушла сама, сразу после несостоявшегося дня рождения. Она покрасила волосы и вышла замуж за другого. На свадьбу Ганин не пошел. Он просто прислал ее портрет в стиле Рембрандта в качестве свадебного подарка…
Эти воспоминания, как огонь, опалили ум Ганина — он не мог найти покоя. Ну как Света не смогла понять одного?! Ведь она же сама художница и должна понимать, что нельзя художнику без творчества, без поиска, ну не может же он жить все время только одной моделью! Ганин любил Свету, но и творчество свое он любил тоже! Ну да, забыл он про этот чертов день рождения — можно же было и напомнить ему, в конце концов! Разве это так сложно?
«Она просто не захотела сделать усилие и понять меня как художника… Она просто эгоистка… — заключил Ганин и перестал ходить по периметру. — Наверное, художника может по-настоящему понять только его собственное творение, с которым они — одно целое, а не модель. Модель всегда остается чем-то внешним, а образ на холсте — это часть меня, часть моей души, моих переживаний, кусочек моего мира, меня самого, как зародыш в утробе матери — это и нечто другое, и она сама — ее плоть, ее кровь, ее кости, ее сердце…»
Совершенно неожиданно Ганин вспомнил о портрете, который нарисовал еще три месяца назад. «О, если бы та девушка на портрете была жива! Уж она бы точно со мной так не поступила!» Эта мысль поразила Ганина своей новизной, она озарила его душу, как молния — ночное небо, и он действительно глубоко внутри почему-то был уверен, что ОНА точно бы так с ним НЕ поступила. И вот уже Ганин скрипит ступеньками шаткой лестницы, ведущей на чердак, а в руке его — толстая парафиновая свеча. Вот свеча поставлена на подоконник, и в ее неровном, робко дрожащем перед девушкой с портрета желто-оранжевом пламени виден силуэт.
Розовый замок, роща, пруд с утками и лебедями, белая деревянная беседка — все скрыто во мраке ночи. Огонек свечи слишком слаб, чтобы осветить ростовую картину целиком. Видно только ее хорошенькое солнцевидное личико в круглой соломенной шляпке с атласными лентами, кокетливо сдвинутой на затылочек, да кусочек белоснежного кружевного платьица — вся нижняя часть тела также покрыта мраком.
Ганин молча СЕЛ ПЕРЕД ПОРТРЕТОМ на стул и просто стал внимательно смотреть на изображенное на нем прекрасное лицо в подрагивающем пламени свечи, — и не мог оторваться от этого зрелища. Постепенно стены чердака, подоконник, потолок… — все уходило куда-то, уезжало за периферию обзора, за периферию сознания, и Ганин видел только Ее круглое солнцевидное лицо, Ее фиалковые с искоркой глаза, Ее соблазнительный изгиб губ, Ее плечи, руки, грудь, золотистые локоны… Создавалось впечатление, что Ганин сидит не перед портретом на заброшенном чердаке, а перед живой девушкой в каком-то тихом и безлюдном ресторанчике и ужинает с нею в полутьме, при свете одной лишь свечи…
— Пусть все катится к черту! — прошептал Ганин, целиком погружаясь в омут своей фантазии. — Пусть все катится к черту! — Он упал перед портретом на колени и, охваченный нестерпимым желанием, в безумии принялся целовать раму, полотно портрета, горячим шепотом произнося, как заклинание: — Ты — мое совершенство, ты — моя любовь, ты — мое сокровище, ты — моя богиня! Ты лучше земных дев и жен, ты — сама вечность, сама красота… Я — твой раб навеки! Я…
«…И Я принимаю твою службу, мой Художник», — молнией пронеслась мысль в его сознании, и в то же мгновение глаза незнакомки с портрета ярко вспыхнули в полутьме, а их фиалковый взгляд резко направился в сторону Ганина, прямо как прожекторы боевого корабля в ночи — на обнаруженную радарами цель, и пронзил его глаза! И…
Отполированный до зеркального блеска старинный из красного дерева стол с резными ножками, посредине стола — одинокая ароматно пахнущая восковая свеча в подсвечнике из чистого золота с глубоким сочным отливом, терпкое красное вино в хрустальных бокалах, а вокруг — кромешная тьма, как черное покрывало кулис на пустынной сцене ночного театра, сквозь которое проникают лишь мягкие, какие-то потусторонние звуки, как будто призрачные музыканты играют на призрачных инструментах — на скрипке, флейте и лютне. Играют что-то древнее, как мир, и что-то таинственное, как ночь: древнюю музыку погибших цивилизаций и забытых богов…
— Тебе нравится эта музыка, не правда ли? — раздался в ушах Ганина мягкий мелодичный шепот, напоминающий чем-то шелест морских волн, волн какого-то первобытного океана, который существовал уже тогда, когда еще не было небесных светил, не было суши, не было самого неба…
Ганин поднял глаза — и его руки покрылись гусиной кожей, а по спине пробежал неприятный холодок. Он увидел перед собой девушку с портрета, точь-в-точь такую же, в том же самом наряде, только — абсолютно живую! Увидел, как она моргает своими пушистыми ресницами, как ее длинные пальцы сжимают хрусталь бокала, как в ее фиалковых глазах отражается огонек свечи, как ее чувственные губы расплываются в сладострастной усмешке, как она томно облокачивается на спинку мягкого пурпурного кресла…
— КТО ТЫ, БОГИНЯ? — только и смог почему-то шепотом вымолвить Ганин, и ему стало жутко — он всеми порами кожи ощущал, что перед ним сидит та, для которой тесен весь земной шар, но которая каким-то чудом уместилась в теле — в теле ли? — этой солнцеликой девушки.
— Ты сказал… — таинственно и чарующе прошептала девушка и чуть слышно мелодично рассмеялась, — я — богиня! Кто-то называл меня Афродитой, а кто-то Иштар, кто-то Изидой, а кто-то Кали, кто-то Венерой, кто-то Фреей, а кто-то — Ладой… Имен много, а я одна! И я одна… ВСЕГДА — ОДНА… — Лицо девушки вдруг стало печальным, а нежные фиалки глаз наполнились такими же фиалковыми слезами.
Ганина настолько восхитило это удивительно красивое, с точки зрения художника, зрелище, что он даже на минуту забыл о том страхе и даже ужасе, что охватил его при первом взгляде на ЭТО СУЩЕСТВО.
— Эти слезы краше для меня всех бриллиантов на свете! — прошептал Ганин. — Позволь мне получить их на память, чтобы глядя на них, я всегда вспоминал о тебе, моя богиня, моя госпожа…
— Ты получишь гораздо больше, Художник… Но и их — ты получишь тоже! — И глаза ее сверкнули, резко, властно, холодно, как молния сверкает на предгрозовом небе!
Она поднесла к лицу дамский кружевной платочек и, промокнув глаза, протянула раскрытый платок Ганину. На прямоугольном кусочке шелка красовались два маленьких, круглых, прозрачных как слеза, сияющих при свете свечи бриллианта.
— Это бриллианты моих слез, Художник! Слез триллионов и триллионов лет одиночества… Одиночества, которого не изведала ни одна женщина на свете и никогда не изведает от начала мира до его конца, ибо Я — старше мира, Я — ЛИЛИТ, Та, что была, когда этого мира еще не было…
У Ганина перехватило дыхание. Он испуганно, как ребенок, выставил перед собой дрожащие руки и зашептал:
— Я не могу принять этот дар! Я не могу! Я — всего лишь человек! Смертный человек!
Лилит внимательно и серьезно посмотрела на Ганина.
— Нет… Ты не «всего лишь» человек… Ты — Художник! Ты — тот, через которого Творец сущего открывает красоту своего создания, ты — Его посланник, Его орудие, Его кисть… — И вдруг резко, без всякого перехода: — Я ненавижу Его всей своей душой! Я хотела бы, чтобы Его никогда не было! Он отверг нас! Он видит в нас только соперников, тех, кто посягает на Его собственность! Он видит в нас только тьму и зло!.. — Но так же внезапно, как возник, ее гнев погас, а глаза снова приобрели сладострастное, томное выражение. — Но ты… ты — другое… Ты увидел во Мне нечто прекрасное… Ту Лилит, что украшала своим видом ангельские хоры — и золото волос ее тогда было ярче, чем корона на челе Люцифера!..
Существо в женском обличье замолчало, о чем-то вспоминая и с отсутствующим видом глядя на зыбкое пламя свечи.
— Я… я… Но ведь я не видел тебя! Мне просто приснилась девушка!
— Эта девушка возникла в твоем сознании, как ассоциация на Мой поцелуй, которым Я наградила тебя. Образ этой девушки, земной девушки, настоящей, был отзвуком Моего поцелуя, отзвуком встречи и союза наших душ. И Я полюбила этот образ. Ты увидел Меня такой — и Мне понравилось это. Я словно бы увидела себя в зеркале, но этим зеркалом была твоя душа, твоя душа ТАК отразила Меня, Художник, Меня — Королеву ночных теней, призраков, темных мечтаний и фантазий!
— Но почему ты поцеловала именно меня, богиня моя? Я ведь не красавец никакой, не герой… — недоумевал Ганин.
— Ты — Художник, и твои картины Мне пришлись по вкусу. Я люблю в свободное время, которого у Меня, увы, совсем немного, посмотреть на них. Многие художники знали Меня, многим Я помогала, многих вдохновляла, и они писали Мои призраки, но только тебе Я подарила свой поцелуй, который гораздо дороже Моих наваждений! Наваждения Я отдаю всем, а поцелуй — только тому, кто этого заслужил… И вот ты видишь, как мой маленький невинный поцелуйчик отразился в тебе!
Существо томно взглянула на Ганина, и он не мог оторвать своих глаз от ее. Казалось, ее взгляд проникает в его душу до дна, до самого конца, видит его насквозь и знает о нем то, о чем он сам даже и не подозревает… А потом… Он почувствовал горячее желание, охватившее все его существо. Ганину показалось, что в его сердце вошла какая-то сила, и оно вспыхнуло, как стог сена, в который попала молния, и он чувствовал, что в его сердце происходит что-то странное, как будто кто-то ласкает его, сжимает в томных объятиях, массирует невидимыми руками, и из уст Ганина вырвался сладострастный стон.
— Что это? — не без труда прошептал он.
— Древние поэты называли это «стрелой Амура»… — зашелестели волны первобытного океана. — Я просто вошла в твое сердце, и оно стало Моим, ты ведь не против? — И она лукаво состроила глазки.
— Я… не… могу… — сладострастно прошептал Ганин, хватаясь за сердце. — Мне… кажется… оно… разорвется…
— Я не допущу этого, мой Художник, — улыбнулась загадочно Она. — Хотя у очень многих из тех, кто удостаивался чести стать Моим любовником, так оно и было. Их сердца разрывались или останавливались от Моего любящего взгляда. В Шумере, например, Меня даже изображали обнаженной лучницей на коне, считали стрелы мои смертельными, а в Индии вообще награждали ожерельями из черепов уязвленных мною мужчин… Ну и… были правы! — В ее бездонных глазах засмеялись огненные искры-волны. — Но ты мне нужен живым! Написавший портрет Лилит не будет умерщвлен. Он будет жрецом того пламени, который он возжег на пустынном алтаре моей темной души, и как пламя это будет вечным, так будет вечен и его жрец! — Последние слова она произнесла жестко, властно, и в ее на долю секунды потемневших, как ночь, глазах появилось что-то свирепое, хищное, жестокое, как у пантеры при виде дичи.
Ганин не мог ничего сказать — жар в его сердце был таков, что он не в силах был произнести ни звука.
— Ну а поскольку ты должен стать жрецом своей богини, пора пройти посвящение! — торжественно воскликнула она, и огненная сила как-то сразу ослабила хватку, хотя сердце до конца и не оставила. А потом Лилит дунула на свечу, и Ганин погрузился в кромешный мрак.
…Очнулся Ганин в каком-то храме. То, что это храм, он понял сразу. Хотя алтарь впереди закрывали врата, но он почему-то знал, что за этими вратами с выпуклыми барельефами в виде серебряных львов с сапфировыми глазами стоит жертвенник, таинственный жертвенник на алтарном возвышении, который не может видеть непосвященный…
Внутреннее убранство храма покрывала тьма — две свечи, которые держали в руках какие-то странные призрачные фигуры в черном по обе стороны Ганина, освещали только небольшой пятачок вокруг него. За пределами светлого круга угадывались изгибы невидимых арок, округлости колонн, древние, как мир, статуи в нишах и длинные стрельчатые окна, направленные в никуда, ибо Ганин был почему-то уверен, что за этими окнами НИЧЕГО, в буквальном смысле НИЧЕГО не было. Храм находился в пустоте, вне времени и пространства, как когда-то библейский ковчег посреди бушующего океана.
— Это храм Моего сердца, Мой Художник! Храм, который не видел доселе никто из смертных и который достоин видеть лишь тот, кто смог отобразить его на холсте. Это Я Сама — Лилит, Королева Ночи, Луны, Теней, Призраков и Желаний! Добро пожаловать, мой Художник, добро пожаловать!
Голос раздавался из ниоткуда, да и был ли этот голос звуком, Ганин не знал. Он вообще не был уверен, в теле ли он здесь находится или вне него, одной лишь душой — или вообще все это сон, фантазия или морок? Но, несмотря на мучившее его жгучее любопытство, Ганин не стал задавать своего вопроса. Он почему-то знал, что должен молчать, внимательно все воспринимать и слушаться: воля таинственной хозяйки храма здесь — непреложный закон.
Вдруг две темные фигуры без лиц, облаченные в какие-то черные плащи с капюшонами, запели. Голоса у них были странные — и не мужские, и не женские. Наверное, так могли бы петь бесполые духи, подумалось вдруг Ганину, но один голос, однако, был высокой тональности, а другой — низкой. Они красиво переплетались и дополняли друг друга. Таинственные незнакомцы пели без музыкальных инструментов, но они были здесь и не нужны — ни один инструмент не издаст звука более красивого, чем эти голоса! Ганин заслушался, в буквальном смысле слова забыв обо всем на свете. Пение было на каком-то незнакомом языке, он обратил только внимание на то, что в нем было много шипящих букв — «ш», «щ», «х», «ф», «с», — некоторые слова отдаленно напоминали еврейские…
Пение, начавшись с очень тихого, становилось все громче и громче, а вместе с ним пол и стены храма стали постепенно светлеть — и чем громче становилось пение — тем ярче свет, причем сам пол и стены светились как бы изнутри, как если бы храм был стеклянным стаканом, а внутри него горела бы свеча.
Странный это был свет! Такого Ганин никогда еще не видел… Это был не солнечный свет и не лунный, и даже не звездный, а какой-то призрачный: яркий — но в то же время бледный, сильный — но не слепящий глаза. «Это, наверное, тень или призрак света, — подумалось Ганину, — так же как голоса — призраки голосов… Но зачем мне призрак света и призрак голосов?»
Ответ пришел сам собою. Ганин взглянул на себя и увидел, что его тело под действием света начинает постепенно бледнеть, развоплощаться. Он почувствовал удивительную легкость и свободу во всех членах, в груди росло чувство экстатической радости. Казалось, стоит ему от души рассмеяться — и он не удержится на земле, а взлетит в воздух, как это бывает в состоянии невесомости. Да и внешность его стала стремительно меняться: куда-то подевались джинсы, и клетчатая рубашка, и «Черепашьи» очки; на нем оказалось какое-то старинное одеяние — свободное, без пуговиц: серебристая туника, перехваченная в поясе серебристой лентой ремня с такого же цвета пряжкой с изображением круглой полной луны с женскими чертами лица, серебристые сандалии, а на голове — серебристая диадема также с символом полной круглой луны на лбу, короткий, до пояса, плащ. Одежда тоже казалась призрачной, как бы сотканной из очень плотного воздуха, но тем не менее вполне осязаемой, упругой, нежной, прохладной. Фигура его стала стремительно меняться. Куда-то подевались неуклюжесть и сутуловатость, коренастость и неказистость. Теперь он видел высокого стройного молодого человека, чье тело напоминало пропорции античного Аполлона, но никак не «очкарика» Ганина…
— Ну как, нравится тебе твоя новая оболочка? — зашелестели волны первобытного океана в его голове. — Долг платежом красен. Ты отразил меня в своем портрете, а я отражаю тебя в храме своего сердца. Я вижу тебя именно таким, мой Художник, мой Жрец, мой Любовник…
В этот момент пение двух фигур — их черные плащи к тому времени стали серебристо-белыми, сверкающими, источающими призрачный свет, — по громкости и напряженности достигло своего апогея, свет наполнил все пространство храма, и Ганин уже почти ничего не видел, кроме света, только самые общие очертания. Он заметил, как медленно открываются закрытые доселе врата алтаря, и перед его взором открылось каменное возвышение, к которому вели семь широких ступеней, а над ним стоял жертвенник — круглое, как полная луна, резное сооружение, украшенное барельефами миниатюрных фигурок обнаженных мужчин и женщин, ласкающих и целующих друг друга, сжимающих друг друга в жарких любовных объятиях. И этот жертвенник также светился призрачным серебристым светом и сам, казалось, словно был вылит из чистого серебра…
Обе фигуры в плащах медленно двинулись в сторону жертвенника, и ноги Ганина сами, без всякой команды, понесли его в ту же сторону, причем переступали они синхронно с их ногами, а у жертвенника стояла еще одна фигура, тоже в серебристом плаще с капюшоном, полностью закрывавшим лицо, но она не пела. Ганин медленно и торжественно поднялся по ступеням и, наконец, остановился у самого жертвенника, возле третьей фигуры, которая вместо свечи, как у двух других, держала обнаженный кинжал с серебристым лезвием.
— Кто ты и зачем ты здесь? — прозвучал такой же бесполый, как и у других двух фигур в плащах, голос, но в то же время он был звонким и мелодичным, а по тональности — между низким и высоким. Ганин слышал, что фигура произносит этот вопрос на все том же незнакомом «шипящем» языке, но с удивлением отметил, что понимает его, как свой родной, русский. Он хотел было ответить, что он — Ганин Алексей, а зачем здесь, и сам не знает, но вместо этого губы его сами раскрылись и без участия его сознания ответили таким же мягким, мелодичным голосом на том же языке:
— Эш Шамаш. Я пришел по зову Ночной Королевы.
— Готов ли ты пролить свою кровь и отдать свое сердце, Эш Шамаш? Для служения Королеве тебе нужны новая кровь и новое сердце!
— Готов. Делай как знаешь, Повелитель Лучей.
Пение из плавного вдруг стало резким, ритмичным, в нем послышались нотки борьбы, бури, но вместе с тем — сладострастных вздохов и стонов: борьба, о которой пелось в древнем как мир гимне, была вечной борьбой сочетающихся между собой мужского и женского космических начал. Свет стал мерцающим, то вспыхивающим, то гаснущим, как пламя огня, которое судорожно борется с сильным ветром.
Фигура с кинжалом взмахнула свободной рукой, и Ганин взлетел в воздух, подхваченный какой-то силой, как осенний листок порывом ветра, настолько его новое тело было легким и воздушным. Опустился он плавно на жертвенник, на поверхности которого были выемки специально под человеческое тело: руки широко раскинуты в стороны, ноги — тоже, так что сверху лежащий на нем человек напоминал пятиконечную звезду, вписанную в круг. Ганин оказался точь-в-точь по размеру.
Прекрасные серебристые одежды в одно мгновение растаяли, как снежинка на теплой коже, и он оказался абсолютно обнаженным. Фигура с кинжалом подошла к нему со стороны головы, а поющие встали по обе стороны жертвенника и продолжали петь, держа горящие свечи в руках и плавно раскачиваясь при этом в такт гимну из стороны в сторону. Гимн становился все более быстрым, ритмичным, чувственным. У Ганина опять возникли ассоциации с детородным актом.
Затем он увидел, как третий взмахнул кинжалом, держа его обеими руками, и только сейчас заметил, что кинжал был выполнен в форме фаллоса, и почему-то он этому совершенно не удивился и не испугался: «Повелитель Лучей всегда носит такой кинжал», — равнодушно подумал он.
Резкое движение — и кинжал вонзился прямо в сердце Ганина, но он не почувствовал боли, наоборот, острое, опьяняющее наслаждение пронизало его, и из груди вырвался сладострастный крик. Ганин чуть приподнял голову и увидел, что все его тело стало абсолютно прозрачным, как стекло, а внутри своей груди он увидел судорожно сжимающееся сердце, которое теперь стало светиться ярко-серебристым призрачным светом, таким же, каким светилось лезвие странного фаллического кинжала в руке Повелителя Лучей.
— Сердце очищено, — бесстрастным и мелодичным голосом констатировал Повелитель Лучей. — Теперь настало время очистить кровь!
Пение все убыстрялось, становилось все выше и ритмичнее, а мерцание — все чаще и чаще.
Повелитель Лучей подошел сначала с одной стороны и быстрым движением перерезал вены на одной руке, потом — на другой, потом на обеих ногах — там, где они соединяются с туловищем, у паха, и лишь в последнюю очередь — на шее. И опять Ганин не испытал ни страха, ни удивления, ни боли; каждое прикосновение холодного металла причиняло невыразимое наслаждение. Кровь вытекала сильными толчками и тут же впитывалась в жертвенник, как в губку. Наслаждение тупой волной ударило в мозг, и он больше не мог ни думать, ни видеть, ни хотеть, ни слышать…
Наконец, когда вся кровь покинула его тело, Повелитель Лучей опять поднял свой кинжал и, на самой высокой ноте, которую взяли таинственные певцы, с размаху вонзил его в пуп. И опять Ганин почувствовал не боль, а острое физическое наслаждение, однако на этот раз Повелитель Лучей не вынул кинжал из раны. Кинжал завибрировал и стал двигаться на манер насоса, только насоса «наоборот» — не высасывая, а закачивая что-то внутрь Ганина, да и на кинжал он теперь был не похож: какая-то резиноподобная трубка вместо лезвия, серебристая воронка вместо рукояти. Ганин с трудом открыл глаза и увидел, что потолка над ним уже нет, но только черное небо, покрытое мириадами ярчайших звезд — таких он никогда не видел, а в их центре — огромная круглая луна с женскими чертами лица, сладострастно глядящая на принесенного Ей в жертву Эш Шамаша. Воронка впитывала в себя призрачный лунный свет и закачивала его внутрь тела Ганина, и от этого тот чувствовал невыразимое физическое наслаждение… «Наверное, — подумалось ему, — что-то подобное испытывает женщина, когда зачинает…» Помимо того, что ощущения от вибрации резиноподобной трубки были приятны, сама серебристая жидкость, расплавленный лунный свет, наполняла его тело новой силой. Он чувствовал себя совершенно иначе, чем раньше, он чувствовал, что стал как-то по особенному чист, силен, мудр. Он мог с легкостью ответить, например, сколько звезд видит над своей головой, даже не считая их, мог легко, в одно мгновение, долететь до любой из них — если бы только захотел, и он мог бы обнять и поцеловать эту улыбающуюся луну… Он мог все, теперь он мог все…
Наконец резиноподобная воронка прекратила свое действие, и Повелитель Лучей взял ее в свою руку и вынул из пупа Эш Шамаша — она снова превратилась в серебристый кинжал, который он спрятал в ножнах на своем поясе.
— Встань, Эш Шамаш. Ты очищен. Теперь ты достоин стать жрецом Ночной Королевы, достоин сочетаться с ней таинственным браком.
Пение опять из мажорного стало минорным, спокойным, свет постепенно угасал.
Ганин встал с жертвенника, точнее, слетел с него. Не успел он послать мысленный импульс мышцам ног и рук, как тут же взлетел в воздух, как бабочка, и плавно опустился на пол.
— Одень новые брачные одежды, Эш Шамаш. Ты не должен ходить обнаженным.
В голове Ганина тут же возник образ его новой одежды — свободной, серебристой, воздушной. Он знал, что стоит ему захотеть — и его мысль тут же станет реальностью. Ганин захотел — и вот он уже одет! Его новое облачение было копией одежд таинственных фигур — длинный, до пят, серебристый плащ с капюшоном, закрывавшим почти все лицо.
— А теперь иди, Эш Шамаш! Иди к своей госпоже, к своей богине. Она уже ждет тебя!
Ганин посмотрел вверх и понял, что ему нужно подниматься прямо к улыбающейся луне. Но это задание ничуть не удивило его. В его сознании тут же вспыхнул образ многоступенчатой пирамиды — зиккурата, — только не с восемью, а с тысячами тысяч движущихся ступеней, так что стоило ему ступить на одну из них, как та понесла его на самый верх, словно лента бесконечного призрачного эскалатора, а на самом верху исполинского зиккурата он встретил Ее…
Улыбающийся диск луны был всего в нескольких шагах от его лица, но яркий свет, исходящий от него, не слепил его глаза — свет был призрачным.
— Добро пожаловать, Эш Шамаш! Теперь мы наконец-то можем быть вместе — и мы будем вместе! — донесся мелодичный голосок. — Но с меня еще причитается! Ты отдал мне свое сердце и свою кровь, а значит, свою душу, обитающую там. Это — самая высшая жертва, на которую способен человек. И я приняла эту жертву, отданную на алтаре моего сердца… Что я могу дать тебе взамен, мой возлюбленный Эш Шамаш? Я дам тебе вечность — ты будешь так же вечен, как пламя, которое ты будешь всегда возгревать и поддерживать. Это пламя вечно будет возжигать в моих рабах пламень вожделения, а залогом этой вечности пусть будет этот маленький подарочек…
Взор Ганина упал на его правую руку. В ярком лунном свете на безымянном пальце отчетливо проявилось призрачное бледно-золотистое кольцо с двумя маленькими, чистыми, как слеза, бриллиантами.
— Кольцо — символ вечности, а бриллианты на нем — слезы моего вечного одиночества, хранителем которых стал теперь ты, мой возлюбленный Эш Шамаш. И пока ты со мной, слез этих не будет больше на моих глазах! Ну а теперь тебе пора. Твое тело не может долго находиться без души, ты можешь умереть, а я пока этого не хочу. Тебе еще предстоит написать такой портрет… такой портрет… какого не писал ни один из смертных, но не сейчас, не сейчас…
Луна замолкла, а призрачный зиккурат вдруг на глазах стал таять, как утренний туман под лучами теплого солнца, и Ганин почувствовал, что он проваливается куда-то вниз, внутрь этого тумана, увязает в нем, как в болоте, и тонет, тонет, тонет… Последнее, что он увидел, это было ПЯТЬ пальцев правой руки, на одном из которых, на безымянном, было надето бледно-золотое кольцо с двумя бриллиантами, которое, как и сам зиккурат, стало все больше и больше бледнеть и развоплощаться.
— Помни, мой возлюбленный Эш Шамаш, — донесся до него откуда-то издалека мелодичный голос. — Сохрани мне верность, верность моим слезам… Впрочем, Я сама помогу тебе это сделать — мое кольцо станет для тебя крепче самых тяжелых кандалов, и даже всесильный Геркулес не смог бы снять с тебя мой свадебный подарочек!
Уши Ганина резануло нестерпимой болью от громкого металлического звука холодного, неприятного смеха, а потом голос пропал, и Ганин окончательно провалился в серебристый туман, в который превратился зиккурат, и стремительно полетел вниз, вниз и вниз, в кромешную черноту…
ШЕСТЬ…
Снежана проснулась рано утром от резко бьющей по ушам мелодии мобильного телефона. Однако она, мысленно послав все к черту, спряталась с головой под подушку, а сверху еще накинула толстое одеяло, как делала когда-то давно, в детстве, и решила не вставать — «ничего, отзвонятся да отстанут!» Но звонок и не думал прекращаться.
А потом так некстати раздался голос мамочки:
— Да… да, Константин Михайлович… да, она здесь… приболела немножечко… что-нибудь передать?.. Ах, лично… Это так срочно? Да? Ну хорошо, она перезвонит вам… Я передам… Да-да, обязательно…
— Ну что там, мам, опять? Я ж отгул на два дня взяла! — Снежана, выбираясь из-под одеяла, недовольно скривила губы — заснуть снова уже не представлялось никакой возможности — и сладко потянулась. — Мне такой сон снился — супер просто! Надо ж было кому-то позвонить!
— Снежа, доченька, зайчик мой! — залепетала мама, виновато глядя на дочь. — Да я уж и хотела его отправить-то, Константина Михайловича, да он вцепился, как клещ, в меня. Говорит, срочнее некуда, кровь из носу…
— У него всю жизнь «срочнее некуда», «кровь из носу»! — с досадой махнув рукой, ответила Снежана. — А в результате я ни отпуска нормального уже лет пять не видела, ни выходных!
Снежана встала с постели и отправилась в ванную. «Пусть хоть весь мир разорвется на куски, а ванну я приму спокойно, как полагается!» — упрямо подумала она и вывернула краны на полную катушку.
Снежана съела вкусный мамин завтрак и выпила большую кружку кофе. Все это время мама не сводила с нее взгляда, видимо, ожидая подробностей о ее вчерашних приключениях, но Снежана упорно и с некоторым тайным наслаждением продолжала завтракать молча. И лишь когда последний кусочек был съеден и последний глоток кофе выпит, Снежана вдруг посмотрела в глаза матери и сказала:
— Все было хорошо, мама. Просто замечательно! — и почему-то, не удержавшись, прыснула от смеха. На душе у нее было легко, хорошо и светло. И даже этот дурацкий звонок Константина Михайловича, ее шефа, не мог ей испортить до конца настроения от чудесного вечера.
А мама — полная румяная женщина с морщинками у глаз и полных губ — рассмеялась в ответ и, присев рядом с дочерью, обняла ее и погладила своими большими ласковыми руками по золотистым волосам.
— Я рада за тебя доченька… Какой он?
— Мам! Обещаю тебе, как только будет у меня свободная минутка, обо всем тебе расскажу, честно-пречестно! — И чмокнула маму в румяную полную щеку. — А где Светик?
— В школе уже, отвела давно, еще утром.
— Ой, а сколько время-то?.. Почти двенадцать! Боже мой! Ну и спать я… За весь год, наверное, выспалась!
Снежана вскочила с табурета и бросилась в зал, открыла ноутбук и позвонила по скайпу шефу.
Шеф ответил сразу же, будто ждал ее. На экране показалось осунувшееся беспокойное круглое «лягушачье» лицо с маленькими глазками, красными опухшими веками и мешками под ними, с толстыми висячими щеками, двойным подбородком, оттопыренными ушами. Глазки его суетливо бегали, и выглядел он явно встревоженно.
— Ну что, проснулась, спящая красавица? — натянуто улыбнулся толстыми губами Константин Михайлович, которые в сочетании со слишком большим ртом, делали его улыбку похожей на улыбку болотной жабы. — Я знаю, знаю, — тут же замахал он рукой на экране. — Виталий мне уже все рассказал. Ты, безусловно, давно заслужила отгул. Но обстоятельства — ты же знаешь, для журналистов это небесные боги! — требуют от нас зачастую невозможного…
— И что на этот раз? — сложив руки на груди, спокойно спросила Снежана, приготовившись к самому худшему — к командировке в какую-нибудь деревню, где вчера пьяный тракторист увидел НЛО или черта с рогами…
— Кхе-кхе-кхе, — смущенно прокашлялся Константин Михайлович, как бы набираясь смелости — характер у Снежаны был взрывной, и если что-то не так, она могла даже начальнику устроить приличную головомойку — в студии ее все боялись, — в общем, Виталий мне тут вчера передал, что ты, так сказать, вошла в доверие к этому сумасшедшему художнику… Ганин, кажется, его фамилия?
Снежана скорчила гримасу, но сдержалась. «Ну, встречу Витальку, дам ему по шее как следует! Болтает языком, как баба помелом!»
— Да, Константин Михайлович, он оказался очень интересным мужчиной, мы с ним прекрасно провели время… в разговорах об искусстве, — Снежана произнесла последнюю фразу чуть тише и покраснела — врать она вообще-то не привыкла, несмотря на свою профессию. — Ой, а почему «сумасшедший»? — недоуменно подняла она брови.
Лицо Константина Михайловича расплылось в довольной ухмылке, щеки порозовели, а в глазах загорелся масленый огонек — таким он становился всегда, когда у него был повод рассказать какую-нибудь сплетню.
— A-а, заинтересовалась… Это хорошо, хорошо, — проговорил он, потирая руки, едва не мурлыкая при этом, как довольный кот. — Профессиональный интерес в исполнении ответственного задания — это очень, очень хорошо…
— Ближе к делу, — сухо сказала Снежана, у нее в груди начал появляться неприятный холодок.
— У меня есть кое-какие источники информации в компетентных органах… В общем, репутация у него… кхе-кхе, мягко говоря… хе-хе… В общем, странный он человек. Жил в какой-то глуши, три девушки, которые его знали, закончили жизнь самоубийством, один его старый друг упал на рельсы под поезд, а мой источник совсем недавно совершенно случайно разбился на машине… Ну а теперь, извольте, живет он в усадьбе долларового мультимиллионера Никитского, а сам Никитский-то — тю-тю! Причем вместе со всей своей семьей в полном составе! Согласись, это почище, чем НЛО над Зуевкой, а?! Да тут целое журналистское расследование раздуть можно! Сенсация, Снежаночка! Даже на федеральное телевидение продать можно! Ух!
Снежана с откровенным отвращением смотрела на сладострастный масленый блеск в его глазах и влажные от слюней губы. Ей нестерпимо хотелось плюнуть прямо в экран монитора, но она сдержалась.
— И что за источник у вас, Константин Михайлович? — сухо процедила Снежана.
— Это секрет, Снежаночка, даже для тебя, красавица ты моя! Не могу, ей-богу, не могу! Если б я свои источники кому-то раскрывал… — махнул он пухлой рукой, — давно бы без материала остался!
— Ну а Никитский-то, с чего ради он пропал? Ну, уехал за границу с семьей отдыхать… Какие проблемы? — недоуменно пожала плечами Снежана.
— А такие, Снежаночка, зайка моя, что Никитский никогда бы не уехал за границу сам, а уж тем более с семьей, с мероприятия, которое он сам же и организовал, в которое вложил уйму денег, пригласил на него всех своих друзей, да еще и губернатора с мэром в придачу! — с наслаждением потирая потные ладони, выпалил Константин Михайлович. — Уж я-то его знаю… При других обстоятельствах я бы, может быть, подумал просто, что его подстрелил кто-нибудь из его конкурентов, но учитывая, с КЕМ он у нас связался… Чутье, Снежаночка, профессиональное чутье мне говорит: ждет нас с тобой сенсация! Слышишь? Немедленно собирайся, наводи свой женский марафет — и айда к твоему Ганину. Раскрути его, расшевели, выпытай у него… Ты же очаровательная женщина, в конце концов, а он — мужчина, и притом одинокий… А? Как придумано?!
Снежана задумчиво смотрела на толстую рожу Рогозина Константина Михайловича, ведущего редактора телеканала «3+3», самого скандального канала, пожалуй, не только в области, а и во всей европейской части России, но ничего не видела перед собой от роившихся в ее голове тревожных мыслей. Чутье у Рогозина на сенсации, конечно, было отменным — это Снежана знала по опыту. Даже банальные НЛО или полтергейста он умел раскрутить и подать так, что аудитория не могла отлипнуть от экранов. И Снежана здесь ему только помогала. У нее тоже был дар нужным образом подать информацию. Да и связи в разного рода «компетентных органах» и «структурах» у него были надежные… Но не это беспокоило Снежану. А то, что поднявшееся у нее где-то глубоко в груди предчувствие подтвердило: что-то тут не так с Ганиным, что-то не так…
Во-первых, Никитский. Да, конечно, Никитский — известный на всю область эстет и любитель старины, но все же… чтобы этот полубандит так вдруг заинтересовался никому не известным художником… А во-вторых… Снежана отчетливо вспомнила то ощущение, которое возникло у нее вчера ночью, когда она услышала от Ганина о портрете, на котором тот нарисовал точную копию ее самой, причем за пять лет до их встречи, как ей неодолимо захотелось взглянуть на эту картину… Снежана закрыла глаза и попыталась как можно яснее припомнить это чувство… Да… С одной стороны, ее сердце тогда охватило приятное, сладострастное жжение, неодолимо влекущее ее к портрету, а с другой — какой-то не совсем понятный страх, отвращение, липкий ужас, как будто одна часть ее естества сладострастно ликовала, стремясь сорвать запретный плод с ветви, а другая — корчилась от ужаса и неприязни перед чем-то отвратительно мерзким и смертельно опасным…
— …Снежана, Снежаночка? Что с тобой? — донесся до нее, словно из какого-то тумана, обеспокоенный голос Константина Михайловича. — Тебе плохо?
— Нет-нет, Константин Михайлович… — торопливо проговорила Снежана. — Я берусь за это дело. Я встречусь с Ганиным и постараюсь у него все узнать.
— Ну, вот и здорово, Снежаночка! По рукам! — облегченно вздохнул Рогозин. — Сделаем этот репортажик — и тогда отпуск дам. Честное слово! Две недели — обещаю!
— Если я доживу… — мрачно улыбнулась Снежана.
— Доживешь-доживешь, милочка, — тут же подхватил, тряся обвисшими щеками Рогозин. — Если что… мало ли… будешь попадать в историю… — сразу звонок ко мне, не тяни! Мне есть к кому обратиться, одна не останешься, идет?
— Идет… Ну все, Константин Михайлович, пойду наводить «марафет», — одними губами улыбнулась Снежана и первая прервала связь.
«Марафет» Снежана наводила, вопреки обыкновению, довольно долго. Только почти через час она была готова и вполне удовлетворенно осматривала себя в большом зеркале. Темновишневые, плотно облегающие ее стройные красивые ноги брюки, темно-синяя непрозрачная блузка с рукавом «три четверти», завязанная узлом на животе и расстегнутая на три пуговицы вверху, на шее — шелковый платок в сине-красных тонах, небольшая сумочка в тон блузке и такого же цвета туфли без каблуков, волосы распущены. Остался макияж. Снежана решила не делать его слишком ярким — выразительные глаза, немного румян и прозрачный блеск на губах. Она долго перебирала коробочки теней, пузырьки подводок для глаз и тюбики помад, решая сложнейшую женскую дилемму: что лучше всего ей сейчас подчеркнуть и сделать ярче — глаза или губы? Дерзкий «кошачий взгляд» или сочная вишня на губах? Решив, что ей жаль тратить любимую помаду на поцелуи с Ганиным — а это один из главных пунктов в ее плане по обольщению художника, — Снежана сделала выбор в пользу «дерзкого взгляда». Она старательно выводила стрелки, прокрашивала каждую ресничку. Наконец осталось нанести последние штрихи — немножко румян, сияющий блеск для губ. «Ну а если еще надеть солнцезащитные очки… Так просто замечательно будет!»
Вообще-то, Снежана была та еще модница. Время, проводимое ею перед зеркалом в наведении «марафета», было, так сказать, бальзамом для ее души. Но не теперь… Пожалуй, впервые в жизни она сто раз проверила, не смазала ли какую-то деталь в своем макияже — руки уж больно дрожали, не переусердствовала ли с чем-нибудь, поскольку почти непрестанно думала только об одном: Ганин, портрет, Ганин, портрет, Никитский, опять Ганин, опять портрет, а в ушах при этом почему-то слышался какой-то легкий холодный металлический звон, будто по голове ее хорошенько чем-то ударяли. «Да не звон это… А смех какой-то! — подумала Снежана. — Видимо, я переспала чуток». Наконец, когда все было закончено, она облегченно вздохнула и направилась к выходу из спальни, но на какое-то мгновение ей показалось, что в зеркале мелькнуло вроде бы ее собственное лицо, но которое искажала жуткая гримаса гомерического смеха. «Да я ведь не смеялась…» — подумала Снежана, и на душе у неё стало жутко.
— Ой, доченька, да куда ж ты такая собралась? Ой, какая ты у меня крас-и-и-вая, просто принцесска! Заглядение прямо! — всплеснула руками мама, уже вернувшаяся из магазина с сумками, полными продуктов.
— Иду на задание, мамочка, а потому… — лихо надев на глаза солнцезащитные очки и резко развернувшись в противоположную от зеркала сторону, хихикнула Снежана, — надо выглядеть, как киндерсюрприз, и даже лучше! — И чмокнула маму в щеку.
А потом взяла мобильник и набрала номер Ганина.
Гудки были долгие, пришлось изрядно подождать. «Что он, спит до сих пор, что ли? Неужели правда, что эти художники живут и пишут по ночам, а весь день спят, как граф Дракула?» — промелькнуло у нее в голове. Ехать к Ганину в гости без приглашения тоже как-то не хотелось…
Когда Снежана уже готова была смириться с тем, что в гости ей придется все-таки ехать без приглашения, Ганин взял трубку.
— Алло? Это Ганин… — раздался глухой и какой-то не на шутку встревоженный голос.
— А я думала, это крокодил Гена! — зазвенели серебристые колокольчики в трубку. — Привет, Ганин! Это тебя беспокоит Чебурашка!
— Ой, Снежа… — Голос изменился. — Я так рад, так рад… Слушай, здорово, что ты мне позвонила, супер просто! Я и сам, если честно, собирался, да тут пока встал, пока то да се… Думал, вечером позвоню…
— Эх ты, соня-засоня! — засмеялась Снежана. — Ну, тебе простительно, ты ведь художник, творческая личность… Вы, небось, так и живете — по ночам ваяете и потом до вечера спите… Кстати, Ганин, а не помнишь ли, что ты мне вчера пообещал, а?
— Что… что… пообещал? — голос Ганина из радостного вновь стал каким-то испуганным.
— Ну-у… — протянула Снежана, строя глазки зеркалу. — Показать мне твои новые апартаменты за семью печатями, покатать там на лошади, сыграть со мной в гольф, ну и все такое прочее… Говорят, у Никитского самые лучшие орловские рысаки в стране и гольф-площадка у него тоже ничего… — Голосок Снежаны стал ворковать точь-в-точь как у влюбленной голубки — такая тональность сражала не одного нужного ей мужчину.
Но его ответ принес разочарование.
— Ка…кие апартаменты… Ник…китского? Нет-нет, Снежа, это исключено! Неужели во всей области у нас нет других гольф-площадок или верховых лошадей? Давай я посмотрю в сети, поедем в любое другое место…
— А что это ты так? — недовольно надув губки, капризно воскликнула Снежана. — А может, я хочу посмотреть, как ты живешь? Я, например, всегда мечтала осмотреть этот старинный дворец, который Никитский себе захапал, какие там зеркала, статуи, колонны, картины… — последнее слово она произнесла с глубоким придыханием.
И тут Ганин сдался.
— Ну, если картины… Да, таких картин, как у Никитского, ты, пожалуй, нигде не сыщешь в округе! Моя мазня — это просто ничто по сравнению с мастерами эпохи Великого века! Тут, пожалуй, тебя ждут удивительные открытия… Ну что ж, давай, тогда я буду ждать тебя. Как ехать знаешь?
— Еще бы! Кто ж не знает, где живет Никитский, скажешь тоже! Я сама сколько раз там с камерой караулила, не пускают туда, свол… Ой, прости, охранники там злые всегда были. Минут через сорок буду — готовь шампанское, лед ну и все такое! — хихикнула Снежана и быстро прервала связь, чтобы не возникло у него никакой лазейки вывернуться — без Ганина в этот чертов особняк можно прорваться, только если раздобыть где-нибудь корочки сотрудника ФСБ, не меньше.
Снежана облегченно вздохнула, но маска легкомысленной девической веселости тут же слетела с ее лица, сменившись выражением озабоченности и тревоги. Она быстро прошла к рабочему столу и из его ящика достала маленькую портативную цифровую видеокамеру, электрический фонарик, а также незаметно положила травматический пистолет — на всякий пожарный, как говорится…
«Ну вот, вроде бы все готово», — с легким волнением подумала Снежана и, последний раз взглянув в зеркало и поправив солнцезащитные очки-зеркалки, поднятые на лоб, отправилась к выходу из квартиры.
— Мам, Светика заберешь, ага? Я буду поздно! Если не приду ночью, не беспокойся, хорошо?
— Это куда ж… — всплеснула руками мама.
— Мам, ну что ты опять начинаешь! Работа у меня такая…
— А я думала, у тебя свидание…
— Ну и свидание тоже, мам… Все вместе… Просто и то, и это… В общем, совпало так… Ты не беспокойся, мамочка, все будет хорошо! — Снежана крепко обняла и поцеловала маму.
— Доча, доченька, подожди! На, надень, мне спокойнее так будет… — Дрожащие руки матери держали в руках блестящий серебряный крестик на серебряной же цепочке.
— Мам, ну что ты! — отмахиваясь, воскликнула Снежана. — Я же не верю во все это! Зачем?
— Надень-надень, доченька, ради меня, золотко, заинька моя! Сегодня не веришь, завтра — кто знает, как оно? Ты же крещеная у меня, надень…
Снежана послушно склонила голову и позволила матери надеть крестик себе на шею. Холодный металл приятно щекотнул кожу, и Снежана вдруг почувствовала, что тревога и страх исчезли. И ей стало как-то легко и хорошо, так что она улыбнулась.
— Ну все, мам, пока, теперь уж точно пока-пока! — Снежана выпорхнула на лестничную площадку, а мама быстро перекрестила свою дочь, что-то шепча себе под нос.
Старенький ярко-красный «Опель» быстро вынес Снежану на федеральную трассу, и она понеслась на большой скорости в сторону Марьино — старинного имения князей Барятинских, жемчужины культурного наследия края, в котором по какой-то странной прихоти судьбы располагалась резиденция Никитского…
Настроение у Ганина было — сквернее некуда. Голова болела, все мышцы и кости ломило, как будто по нему всю ночь прыгал добрый десяток чертенят. Он привстал на кровати и, взявшись за голову, с трудом соображал, что же с ним вчера происходило. Мысли и образы бегали в его голове, как стекляшки калейдоскопа, и никак не могли уложиться в какую-то стройную картину… Снежана, выставка, фотокамеры, потом яхта, какие-то сумасшедшие приключения на всякого рода канатных дорогах, в ресторанах, в вертолетах… затем лавочка, прощание… Да, а что было потом? Ах! ПОРТРЕТ! Проклятье! Портрет заговорил! Да, вчера, заговорил! И плакал, и угрожал… Черт! А потом все это… Кольцо, храм, свеча, луна…
«Боже, ну это просто какой-то кошмарный, нелепый, страшный сон — и все! — подумал, цепляясь как утопающий за соломинку, Ганин. — И доказательство тому — я лежу на кровати, а не на полу — там, где должен был вчера упасть!»
С этой мыслью Ганин вскочил с постели и принялся искать очки, даже под кровать залез, но только там сообразил, что очки у него на носу. А когда он вылез наконец из-под кровати и встал, его взгляд тут же упал на этот проклятый портрет! Девушка на нем по-прежнему радостно улыбалась, держала в беленьких тоненьких ручках лукошко с цветами, а над ее золотоволосой головкой в соломенной шляпке с алыми ленточками светило ярко-желтое солнышко. Вот только глаза… Да, глаза приобрели какое-то новое выражение…
Ганин подошел к портрету поближе и увидел, что в глазах девушки играют ярко-красные искорки, а улыбка чем-то напоминает хищный оскал — белоснежные зубки чуть сильнее, чем обычно, выпячиваются из-под чувственных кроваво-красных губ, и от этого Ганину стало не по себе. Он отправился в противоположную сторону комнаты, к большому, сделанному из цельного дуба платяному шкафу. Насколько помнил Ганин, он упал возле портрета, еще не успев раздеться, но сейчас на нем одежды не было…
В шкафу, как ни странно, оказался только один комплект одежды — белоснежные летние брюки, рубашка с коротким рукавом, длинноносые белые летние туфли и широкополая соломенная шляпа. «И что мне, получается, — подумал Ганин, — в гольф идти играть предлагают, что ли?»
Пока он одевался, его взгляд привычно скользил по стенам, увешанным старинными картинами, в основном, портретами прекрасных дам в париках, декольтированных платьях и перчатках и важных кавалеров в париках и при шпагах, хотя было там и несколько великолепных пейзажей. Застегивая пуговицы на рубашке, Ганин бегло осмотрел некоторые из картин, но одна из них показалась ему смутно знакомой…
Он, затаив дыхание, медленно подошел к ней — картина висела справа от шкафа, — и сердце его бешено забилось, перед глазами поплыли красные круги, голова закружилась… Он увидел на полянке, покрытой изумрудно-зеленой травой, накрытую для пикника скатерть, а вокруг нее сидели…
«Боже правый!» — Ганин схватился рукой за сердце, лоб его покрылся испариной: там сидели Никитский, его жена и двое детей! Они все были в легких летних костюмах и с улыбкой смотрели прямо на художника, как бы в объектив фотокамеры. Но, приглядевшись повнимательнее, Ганин увидел, что в глазах их застыл лютый ужас, какой бывает у людей, погибших насильственной смертью, а сами их улыбки скорее напоминают гримасы… Картина производила жутчайшее впечатление, и Ганин готов был поклясться, что ТАКОЙ картины тут быть просто не могло!
Ганин протянул было руки, чтобы снять эту ужасную картину со стены, но не смог этого сделать — она висела на стене как приклеенная. И тут его озарила догадка! Он резко развернулся в сторону портрета и… отчетливо увидел злорадные веселые огоньки, плясавшие в глазах девушки, и выражение торжества на ее лице…
— Твоя работа, ведьма?! — вдруг внезапно выйдя из себя, закричал Ганин. — Вот почему я здесь, а не в комнате для гостей! Вот почему он не пришел на мою выставку, да?!
Но ответом ему был звонок мобильного телефона. Ганин механически ответил и услышал радостный голосок Снежаны…
Ярко-красный «Опель» Снежаны мягко подкатил к воротам. Сигналить не потребовалось — ворота при ее появлении открылись сами, — и она медленно въехала на территорию бывшей усадьбы князей Барятинских. К ней тут же подбежали два охранника и, открыв дверцы машины, помогли выйти. А чуть поодаль уже стоял сияющий Ганин. Один из охранников сел в машину Снежаны, чтобы отвести ее на стоянку. А Ганин, слегка покрасневший, быстро подошел к Снёжане и, галантно поцеловав ее ручку, сказал:
— Ты не проголодалась? Я предлагаю начать с обеда.
Конечно, Снежана была не против…
Обед был превосходен. Столик на двоих накрыли внутри небольшой и уютной деревянной беседки белого цвета, прямо у искусственного озера с живыми лебедями. Ганин отпустил прислугу и сам ухаживал за дамой. Снежана облокотилась на подбитую плюшем спинку скамейки и блаженствовала — она обожала, когда за ней ухаживали мужчины. Роскошный особняк XVIII века нежно-голубого цвета перед глазами, аккуратно постриженные лужайки, утопающие в цветах клумбы, искусственные пруды, аллеи, дорожки посыпанные мраморной крошкой… Требовалось всего небольшое усилие воображения, чтобы представить себя в длинном платье с кринолином, в пышном, усыпанном ароматной пудрой парике, сидящей за столом, а где-то совсем рядом стоит роскошная позолоченная карета, запряженная четверкой вороных коней, на козлах которой сидит важный кучер… Снежана вовсю отдалась так ненавязчиво окутавшей ее сознание фантазии, что совершенно забыла про все на свете — и про задание, и про Константина Михайловича, и про таинственные происшествия… Майское солнце жарило вовсю, было душно, но от пруда с птицами веяло приятной прохладой. Снежана съела совсем немного — несколько кусочков мяса, рыбы, греческий салат, шарик клубничного мороженого, зато шампанского, выпила много. Оно было ледяное, терпкое и сразу же ударило в голову. Ганин что-то говорил, суетясь возле стола, как завзятая домохозяйка, а потом сел и стал наворачивать еду за двоих, но Снежана не воспринимала, ЧТО он говорил. В ее глазах все поплыло. Она разомлела…
Поместье, располагавшееся не так далеко от беседки, стало покрываться какой-то призрачной дымкой, какая бывает в очень сильную жару, когда воздух нагревается так, что начинает видимым образом колебаться перед глазами. Снежана лениво рассматривала дворец, совершенно не слушая Ганина: сначала портик, потом широкие распахнутые окна первого этажа, потом второго… Вдруг внимание Снежаны привлекло шестое окно справа, на третьем этаже. Оно, в отличие от других окон, было закрыто, но Снежана отчетливо увидела, как за стеклом мелькнул женский силуэт. Детально рассмотреть его она не могла, но увидела, что женщина была красива, стройна, что волосы у нее были светлые и что она приветливо улыбалась. Женщина посмотрела прямо на Снежану и помахала рукой, а потом сделала жест, приглашающий внутрь дома — мол, заходи, не стесняйся! — и Снежана махнула ей в ответ…
— …Снеж, а, Снеж? Снежа! — Снежана вдруг почувствовала, как чьи-то пальцы теребят ее за щечку и что-то холодное прикасается к ней. Она удивленно открыла глаза и увидела встревоженное лицо Ганина. Он держал в руках кусочки таявшего льда из ведерка с шампанским. — Что с тобой? Ты не заснула случайно? Или у тебя тепловой удар?
— Ой, Леш, да… что-то разморило… Наверное, просто перепила шампанского… Слушай, такого вкусного шампанского еще ни разу в жизни не пила! Леш, ты вроде сказал, что Никитский куда-то срочно уехал, а жена его здесь осталась, да?
— Да нет… — голос Ганина слегка дрогнул. — Она… тоже с детьми уехала… с ним… Я тут один вообще-то, ну, если не считать прислуги и охраны…
— Странно…
— Что — странно?
— Да нет, ничего… Мне просто подумалось, что в доме осталась хозяйка, вот и все… Ладно, Леш, нам обоим надо немного освежиться. Как насчет искупаться во-от в этом самом пруду, а? Ты не проверял, там глубоко? Дно хорошее?
Ганин сразу повеселел. Он и сам уже об этом подумал.
— Да, Снеж, там можно купаться — мне дворецкий сказал. Слушай, но у тебя же нет купальника…
— Я думаю, купальник бесследно исчезнувшей хозяйки мне как раз будет впору! — рассмеялась Снежана. — У меня такое ощущение, что она на меня нисколечко не обидится!
Ганин как-то странно взглянул на Снежану, но промолчал.
Молодые люди отправились в дом и довольно быстро нашли комнату жены Никитского. Снежана так и ахнула от восторга, и где-то в глубине души ее кольнула иголочка женской зависти. Комната жены Никитского была размером в три ее с мамой двухкомнатные квартиры, если не больше. Мебель из полированного красного дерева, роскошная кровать под светло-розовым балдахином, люстра и подсвечники из золота. Однако как они ни искали, обнаружить в этой комнате залежи одежды им не удавалось, пока Снежана не додумалась открыть незапертую дверцу второй комнаты. Мебель в этой смежной со спальней и такой же, если не больше, по размеру комнате в основном состояла из шкафов-купе, наполненных самой разнообразной одеждой. Чего тут только не было! Платья, шубки, юбки, нижнее белье, брюки, шорты, шляпки, туфли… Сотни самых разнообразных вещей и вещиц… Глаза у Снежаны загорелись, и она опять чуть ли не позабыла обо всем на свете, только и делая, что перебирая модели, примеривая их на глазок у зеркала и весело смеясь. Затем битый час примеряла на себя то один наряд, то другой. «Ну как, Леш, тебе это?», «а это?», «ну просто прелесть!», «знаешь, мне кажется, от этой шляпки у меня лицо какое-то круглое получается, нет?», «ну, в этом купальнике я точно на пляже не появлюсь — умру со стыда!», «а вот это вроде бы ничего…», «ну, Леш, ну посмотри же!», «нет, ну это вообще прелесть! Слушай, Леш, ну зачем, спрашивается, одной бабе столько тряпок, а? Ой… ну это вообще… Ну-ка помоги-ка мне застегнуть… Вот так, так… Супер! Нет, ну… Блин, ну что ж она худая такая, а? Неужели я так растолстела за зиму, Леш? Леш! Ну куда же ты?!»
В конце концов терпение Ганина лопнуло, и, пока Снежана возилась с очередным платьицем, он просто дал деру. «Если я уйду в сад, ей, наверное, надоест примеривать и она выберет наконец что-то одно», — подумал Ганин. Он с детства ненавидел магазины, особенно одежды и обуви, в которые его таскала мама; от душного запаха духов, от пестрых цветов, от обилия марок и фасонов у него всегда болела голова. А тут переодеваниям Снежаны не было видно ни конца ни края…
— Ну вот, — недовольно цокнула язычком Снежана. — Сбежал… Ну и ладно, сама выберу! Вот это, думаю, мне точно подойдет…
Снежана вытащила из темно-красного чрева шкафа еще одну модель купальника небесного цвета и тут же надела его на свое белоснежное — загорать-то некогда, все время работа да работа! — тело и кокетливо скорчила рожицу зеркалу. И… тут же застыла от удивления! Зеркало, вместо того чтобы отразить ее лукавую гримаску, отразило ее собственное лицо, но с совершенно другим выражением на нем — спокойным, по-королевски величественным, смотрящим несколько свысока, как госпожа смотрит на свою служанку. Но самое удивительное было не в том, что выражение лица совершенно не совпадало с ее собственным, а в том, что глаза… От их взгляда у Снежаны спина покрылась гусиной кожей и по ней прошел неприятный холодок. Сколько Снежана ни смотрела на себя в зеркало, она никогда не замечала, что ее глаза могут быть ТАКИМИ… Веселыми, хитрыми, живыми — да, но здесь… Казалось, эти глаза были глубже самого глубокого океана, страшнее самой опасной трясины…
— Ой, да это же не я! — вскрикнула Снежана. — Кто ты? — И лицо девушки в зеркале не отразило ни испуга, ни даже движения губ, как будто бы это не зеркало было, а окно, по ту сторону которого стоял ее, Снежаны, двойник, сестра-близнец, полностью похожая на нее саму, но в то же время совершенно другое существо. Отражение ничего не ответило ей, только снова сделало приглашающий жест куда-то в ведомое лишь ей Зазеркалье — и улыбнулось, но в улыбке его не было ни теплоты, ни искренности.
— …Снеж! Я устал уже тебя ждать! Давай ты пойдешь купаться в том, что уже надела, хорошо? Какая разница?! Ты же в воде будешь, а не на подиуме — все равно ничего видно не будет! — Ганин не удержался и все-таки пришел поторопить Снежану. — Что с тобой, Снежа? Ты побледнела…
— Да нет, все в порядке, Леш! Тут очень душно. Ты прав, пойдем искупаемся, а то я в такую жару точно в обморок бухнусь, как кисейная барышня… — хихикнула Снежана и, чмокнув Ганина в щеку, побежала к пруду в только что надетом купальнике, а Ганин побрел следом.
Вода в пруду была в самый раз. Прохладная, но не холодная, освежающая. Дно ровное, покрытое мягким песочком, без ям, которые могут быть в естественных водоемах. В центре пруда было довольно глубоко, и они принялись преспокойно нырять, прямо как плававшие здесь же серые уточки. Ганин оказался превосходным пловцом, так что они со Снежаной соревновались, кто быстрее доплывет до противоположной стороны пруда, который был довольно большим. Лебеди и утки здесь были почти ручные и не боялись пловцов. Они только отплывали на противоположную сторону пруда, недовольно крякая, но не улетали. А потом молодые люди вылезли на берег и расположились в белых матерчатых шезлонгах загорать. Снежана с удовольствием подставила лицо, грудь, живот и ноги ласковым теплым солнечным лучам и блаженно закрыла спрятавшиеся за темно-зеркальными стеклами солнцезащитных очков глаза. «Благодать! — подумала она, с наслаждением вытянув немного продрогшие ноги. — Чтоб мне так всю жизнь жить: купаться, загорать, надевать красивые шмотки… Эх, ну почему же богатых так мало, а? Нет чтобы все так жили…» Наваждение у зеркала ушло куда-то на периферию сознания. «Ну, показалось и показалось, мало ли? В такую жару что угодно померещиться может!»
— Леш, ты не спишь там?
— Нет… — сонно ответил Ганин. Его лицо было накрыто соломенной шляпой.
— Слушай, а ты веришь в привидения? Знаешь, существуют всякие истории про то, что в древних замках обитают призраки давно умерших владельцев, пугают там всех…
— Не знаю, не видел их никогда, — так же сонно ответил Ганин. — А почему ты спрашиваешь?
— Да так… Просто мой шеф, Рогозин, черти бы его побрали, хи-хи, он просто помешан на всем этом. Я вообще числюсь на телеканале специалистом по освещению культурной жизни, а он, толстый черт, гоняет меня по всей области в поисках историй про НЛО, полтергейсты, призраков, русалок… Я ему — «какая ж это культура?», а он мне — «Снежаночка, это-то и есть самая что ни на есть культура — народный фольклор! На этом же сенсации делать и делать!»
— А-а-а… — лениво протянул Ганин, почти засыпая.
— А тут, понимаешь, имение князей Барятинских… Старина… Привидения-то тут и любят обитать… Старые тайны, нераскрытые преступления… Скелеты в сундуках, убитые жены в подвалах, висельники на чердаках… — Снежану мысль про призраков и привидения привела в восторг. Она крадучись, на цыпочках, подошла к шезлонгу Гацина и, шутливо схватив его за горло, закричала:
— А-а-а! Крови хочу!
Ганин судорожно дернулся и с испуганным криком вскочил, шезлонг перевернулся, и он покатился прямо на мягкую коротко стриженную траву лужайки, а Снежана залилась мелодичным смехом и принялась его щекотать…
— Леш, все, хватит спать. Ты мне, между прочим, еще дом собирался показать!
— А как же гольф, кони?
— Точно! Как это я забыла? Ну, давай гольф и коней, а дом посмотрим вечером!
Всю вторую половину дня Ганин и Снежана провели на свежем воздухе. Снежана оказалась неплохой наездницей, в отличие от Ганина — он напоминал в седле мешок с картошкой, который везли на грузовике по сельской ухабистой дороге. Несколько раз чуть не свалился и до боли натер себе ноги.
— Ну кто ж так ездит, Леш?! Ну, в самом деле! Ты ж себе так все отобьешь — детей не будет! — прыснула от смеха Снежана. — Постарайся поднимать таз и ноги одновременно с лошадью: лошадь вверх — и ты вверх, лошадь вниз — и ты вниз. Понимаешь? Вот так, вот так…
— Слушай, Снеж… а… где… ты так на…уч…илась… — Ганин запыхался и был готов уже проклясть все на свете, и прежде всего себя самого, что рассказал ей про лошадей.
— А я в кружок верховой езды ходила в школе. Мой первый парень обожал лошадей, ну и я заодно с ним пошла. А потом парень сплыл, а лошади остались… — Снежана опять весело рассмеялась. — В жизни, Леш, ничего просто так не бывает, даже первые парни, хи-хи!
— Ну, значит, и мы с тобой не зря пересеклись. Вроде бы на лошади я сидеть уже могу… Надеюсь только, что ты после того, как я научусь кататься, никуда не сплывешь?..
А потом они играли почти до вечера в гольф. Здесь уже Ганин учил Снежану — и как держать клюшку, и как правильно бить. У Ганина оказался зоркий на удар глаз и отработанные движения, но Снежане эта наука была чересчур — ей больше понравилось гонять по полю на электромобиле.
— Блин, Ганин, всю жизнь мечтала погонять по такому полю! Давай наперегонки?!
— Фу, как я устала! — сказала наконец Снежана, когда они с Ганиным, еще раз искупавшись в пруду, шли к дому. — После такого отдыха надо еще на два дня брать отгул и отдыхать.
А потом она с наслаждением легла в одной из зал на диванчик, прямо в купальнике.
— Все, Ганин, никуда больше не пойду! Придется тебе оставлять меня на ночь. Ты, надеюсь, не против? — она хитро посмотрела на Ганина, которому птиценогий и клювоносый дворецкий каркающим голосом сказал, что ужин будет готов через двадцать минут, а стол накрывать будут в бильярдной.
Ганин густо покраснел.
— А мама твоя, дочка?
— Ничего. Они уже привыкли, что я за полночь прихожу. Какая разница, если прибуду утром?
— В самом деле, — развел руками Ганин.
— Кстати, с тебя еще должок, Ганин, ты мне, помнишь, дом обещал показать, картины… — на последнем слове Снежана сделала еле заметное ударение и, приподнявшись немного, взяла Ганина за руку и потянула на диван, присесть рядом с ней.
— Да, да… — механически закивал Ганин, стараясь не смотреть ни на лицо, ни на полуобнаженное тело Снежаны. — Знаешь, оденься лучше… А то бикини с интерьером восемнадцатого века как-то не очень сочетается.
— Какой ты сноб, Леша! Главное, чтоб красиво было! Ну, ладно, отнеси меня на руках в гардеробную, и я, так уж и быть, оденусь… — И Снежана томно закрыла глаза.
Ганин довольно рассмеялся, действительно поднял тонкое и легкое тело Снежаны на руки и, как заправский молодожен, понес его в спальню.
К ужину Снежана выбрала аристократическое длинное белоснежное платье из мягкого шелка, жемчужное ожерелье и перламутровые туфельки. Волосы слегка завила на кончиках, но косметики нанесла минимум — только немного подкрасила глаза. Никаких посторонних отражений в зеркале больше не появлялось. Ганин надел бежевый вечерний костюм с белой бабочкой и бежевые ботинки с удлиненными носами.
Бильярдная представляла собой довольно небольшую уютную комнату, обклеенную изумрудно-зелеными обоями с несколькими люстрами такого же зеленого цвета, от света которых вся комната казалось изумрудной. Каждая люстра располагалась над соответствующим бильярдным столом, которых было четыре, в разных концах комнаты, а посредине комнаты стоял небольшой круглый деревянный стол, накрытый зеленой скатертью. За ним уже орудовали слуги.
Ганин отпустил слуг, и они со Снежаной оказались одни. Он выключил лампы и зажег натуральные ароматные восковые свечи на двух позолоченных трехсвечниках, и таинство ужина пошло своим чередом.
Вино было красное, терпкое, бифштекс с кровью, салат «Цезарь», на первое — куриный бульон, а на десерт — фруктовое желе и фисташковое мороженое. На этот раз обязанности хозяйки исполняла Снежана, и получалось это у нее отменно. Она с такой ловкостью и нежной заботой разрезала и подавала мясо и десерт, что Ганину доставляло наслаждение уже просто смотреть на то, как она это делает. Он только сейчас обратил внимание, какие красивые у Снежаны руки: круглые, точеные, с длинными тонкими пальцами, будто бы созданными для того, чтобы ими перебирать струны арфы, лютни или клавиши фортепиано. Такие руки превосходно смотрелись бы, если бы она давала домашний концерт… Ганин с удовольствием представил себе уютную мини-концертную залу в этом дворце, клавесин, а рядом с ним сидит Снежана в голубом длинном платье с большим вырезом, в пышном парике, локоны которого свободно ниспадают вниз, с открытыми, как сейчас, круглыми плечами и аккуратными руками, а ее пальчики ловко и изящно бегают по многочисленным клавишам…
— Леш! Да ты ешь, ешь… Что ты так на меня смотришь? Аппетит пропал, что ли?
— Да нет, Снеж, просто я представил тебя в платье восемнадцатого века. Твои руки и плечи идеально подходят для арфистки или пианистки, тебе об этом никто еще не говорил?
Снежана фыркнула и покраснела.
— Скажешь тоже!.. Знаешь, Леш, — вдруг понизив голос, почти шепотом сказала Снежана и подняла бокал, наполненный красным вином, — я очень рада, что тебя встретила, честно…
Ну а после ужина Ганин устроил Снежане экскурсию. Сколько комнат они обошли! Казалось, Ганин знает в этом доме все. Но самым удивительным было то, что практически про каждую из этих вещей он мог что-то рассказать. Почти каждый важный мужчина в парике с косичкой и при шпаге обретал в устах Ганина не только свое имя, но и удивительную судьбу, полную жизненных взлетов и падений, равно как и прекрасная дама в высоком парике и декольтированном платье или пухлый мальчуган в коротеньких штанишках…
— Вот это — князь Василий Николаевич. Замечательная личность! Между прочим, участвовал в Чесменской битве. Видишь, у него ухо немного скошено? Это ранение он получил в абордажном бою…
— Аборт… Какой такой «абортажный»? — шутя сказала Снежана.
— Да не «абортажный», а «абордажный» — рассмеялся Ганин, схватившись за живот. — От слова «bord». Это когда корабль с кораблем сцепляются бортами и обе команды нападают друг на друга в рукопашной схватке. Обычно так делают, чтобы не топить чужой корабль и имущество не пропадало зря. Между прочим, в таком бою погиб знаменитый адмирал Нельсон при Трафальгаре. Какой-то французский матрос подстрелил его, сидя на мачте своего корабля… Так вот, князь Василий, взял со своими матросами на абордаж турецкий корабль, и какой-то турок отсек ему пол-уха. Князь получил орден Андрея Первозванного — высшую морскую награду, а уже во вторую войну с турками умер от сыпного тифа…
— А вот это… Снеж, иди сюда, вот, смотри! А вот это его отец — князь Николай Андреевич. Смотри, какой важный! У него был один из высших чинов при Елизавете Петровне и Петре Третьем. Был дипломатом, знал хорошо несколько языков. Правда, ему не повезло. Когда Екатерина Вторая пришла к власти, его, увы, — тут Ганин крякнул, сделав выразительный жест руками, — сместили. Доживал он свои годы в этом поместье и писал мемуары, потом стал много пить, гулять, и вскоре нашли его в пруду утопшим…
— А вот прекрасная Лизет. Смотри, какие у нее лукавые глазки! Роковая женщина была. Скольких мужчин соблазнила! Граф Ридигер, местная знаменитость, и какой-то заезжий штабс-капитан даже стрелялись из-за нее насмерть, да и не только они. А она, представляешь, дожила до глубокой старости и под конец сошла с ума — разговаривала вслух со своими бывшими любовниками, как с живыми…
— А вот малыш Никита. Он, бедняга, зимой заигрался с деревенскими ребятами, наелся снега, ну и помер…
Снежана всхлипнула и прослезилась — вид пухленького черноволосого мальчика в коротеньких бархатных алых штанишках до колен с бантами, такой же курточке и туфельках, в белоснежных гольфах, вызвал у нее живое сострадание. На картине рядом с мальчиком лежала большая собака породы «колли», которую он поглаживал. Его глазки были такие веселые, такие жизнерадостные…
— Жалко мальчишечку… — еле выговорила Снежана, утирая слезы руками.
— Самое интересное, Снеж, что портрет написали буквально за два месяца до смерти, чуть опоздали бы — и не осталось бы от Никиты Барятинского ничего! Портрет же не фотография! Хорошо, если две-три штуки за всю жизнь сделают…
— А это кто? — вдруг резко спросила Снежана, подойдя к другому портрету. — Фу, лица такие смазливые, как у плейбоев… Бабники, наверное, жуткие!
— А-а-а! Верно заметила! — довольно воскликнул Ганин. — Это те самые известные Барятинские. Большинство князей были служаками средней руки, а то и вообще не служили — жили в свое удовольствие, тихо да мирно, а вот эти — два братца-акробатца, Снеж, слыли самыми что ни на есть роковыми мужчинами, тайными фаворитами самой императрицы Екатерины! Екатерина была на редкость любвеобильная женщина, и причем чем старше она становилась, тем более неразборчивой становилась в связях. Если вначале имела постоянных партнеров, которые были и великими полководцами, и государственными деятелями — например, братья Орловы, Григорий Потемкин Таврический, — то потом… — Ганин смешно махнул рукой в воздухе. — Кроме официальных еще была куча неофициальных, тайных, о ком мало кто знал тогда… Вот эти два брата — из этой чертовой дюжины! Михаил и Алексей — прошу любить и жаловать!
Снежана с нескрываемым интересом вглядывалась в моложавые лица вальяжно развалившихся уже немолодых мужчин, одного — на диване, другого — на кровати. Оба были полуобнажены, в каких-то простынях вместо одежды, с венками на головах. Один держал в руке тучную кисть винограда, а другой — лиру. У обоих лица были изнежены, напомажены, как у дам, видно, что и глаза и губы подкрашены, кожа — нежная, глаза — масленые, с сладострастным огоньком. Снежану передернуло. Казалось, эти молодчики глядят на нее и прямо через полотно портрета мысленно раздевают — взгляд их был до отвращения непристоен и гадок, а издевательские ухмылки и того хуже…
— А что это они одеты как-то странно — без париков, венки, простыни… — не в силах оторваться от портретов, произнесла Снежана.
— А… — Ганин просто светился от счастья — он обожал демонстрировать на людях свои познания. — Это они в образе античных богов: тот, что с виноградной кистью, — Дионис, а с лирой — Аполлон. Такие портреты называются аллегорическими. Наполеона так рисовали часто, королей и королев… При дворах того времени были очень распространены маскарады, когда все участники одевались в различные костюмы. Например, знаменитый Король-Солнце Людовик Четырнадцатый обожал принимать на себя образ именно Аполлона — бога солнца и красоты, покровителя искусств у греков, — у него было очень красивое тело в молодости, вот и эти…
— Ну и взгляды же у них, Леша! У меня такое чувство, что они прямо через портрет видят меня голой! Фу… — по лицу Снежаны пробежала гримаса отвращения.
— Это ты верно отметила. С Екатериной они сошлись так, ради карьеры. Она к тому времени уже старая была, некрасивая, а они — простые гвардейские офицеры — надо ж карьеру как-то делать! Зато в Петербурге они навели шороху… Сколько репутаций погубили, сколько дуэлей — не счесть! Говорят, оба входили в масонскую ложу и даже в какой-то оккультный кружок, занимались колдовством, переписывались со знаменитым магом тех времен Калиостро… Может быть, именно поэтому императрица была от них без ума?
— Ну и?.. — Снежана, затаив дыхание, с любопытством посмотрела на Ганина. Ганин также на мгновение задержал дыхание и не смог ничего ответить — так его заворожило личико Снежаны. Полуоткрытые губы, покрасневшие щечки, блестящие при мягком романтическом свете свечей фиалковые глаза…
— Да ничего! Императрица умерла, пришел Павел Первый. Братьям припомнили их прошлое — дуэли, испорченные девичьи репутации — и убрали их. В общем, уехали они обратно в имение. Здесь пили, кутили, безобразничали, даже крепостным девицам и смазливым деревенским юношам жить не давали, да потом исчезли…
— Куда… исчезли? — недоуменно спросила Снежана.
— А леший их знает! — с видимым удовольствием ответил Ганин. — Никто не знает! Не нашли… Когда приехала полиция, стали искать, мужики и бабы так им и говорили в показаниях, что, мол, черти их утащили в ночь на Ивана Купалу. С бесами, мол, общались, да по их воле баб и пацанов портили, вот и утащили! Так это или нет, — пожал плечами Ганин, — история умалчивает… А имение досталось их троюродному брату, вот он, Семен Аркадьевич — честный малый, хороший семьянин, служака, герой войны двенадцатого года, отец декабриста…
— Слушай, Леш, — вдруг остановила его Снежана, — ну откуда ты все это знаешь? Как в твоей голове все это помещается, а?
Ганин опять довольно покраснел.
— Я ведь этой усадьбой давно интересовался, мечтал попасть сюда, вот и читал. Мне ж не только портрет интересен как художественное произведение, но и личность изображенного на нем человека, история…
— А какая история у моего портрета, а, Ганин? А ну колись-ка! Да и вообще, что это ты меня водишь от одного портрета к другому, а мой-то не показываешь?! — Снежана шутливо сложила руки в боки и внимательно посмотрела на Ганина. Тот отшатнулся в сторону.
— Его… его здесь нет, Снежа, он у меня на чердаке, в моем домике остался! — не моргнув глазом соврал Ганин. — Пойдем, еще кое-что покажу…
Снежана поджала губы, но еще тверже пришла к убеждению, что с портретом что-то явно нечисто, она поняла: портрет этот здесь! Но в какой из многочисленных комнат он может находиться?
Они еще некоторое время бродили по роскошным залам имения, любуясь превосходными картинами, статуями, барельефами, роскошной, сделанной из драгоценных пород дерева мебелью, ступали по мягким пушистым персидским коврам, и Снежана не переставала восхищаться роскошью и красотой покоев Никитского, но восхищалась она больше внешне, а в смысл слов Ганина почти и не вникала — в голове ее пульсировала одна мысль — портрет, портрет, портрет… Интуитивно она понимала, что именно портрет — ключ к разгадке, ключ к ее заданию, ключ к Ганину! И Ганин ведь явно обо всем этом знает, но почему скрывает? Мучение!
— Ну, ладно, Снеж, на сегодня, думаю, хватит лекций па краеведению, — улыбнулся Ганин. — Я вижу, ты уже клюешь носом. День сегодня был насыщенный. Давай, ты пока пойдешь примешь душ, а я договорюсь, чтобы тебе постелили в комнате для гостей — я сам там спал, когда рисовал тут все.
— А ты, Леш, ты-то где спать будешь?
— Я… с тобой, конечно же… — Ганин густо покраснел. — Там две кровати, Снежа, — быстро добавил он.
— А-а… — кивнула Снежана. — Ну что ж, в душ так в душ! Веди меня, Сусанин! — И она игриво хлопнула Ганина по плечу.
В комнату для гостей зашли уже при свечах. Она была небольшой, но вполне уютной. Видимо, когда-то служила комнатой для прислуги. Здесь все было как в гостинице — шкаф, тумбочка, две двуспальные кровати, ситцевые занавески и туалет с умывальником. После всей кричащей роскоши комната показалась чем-то вроде чулана, хотя чистенького и уютненького.
Ганин ушел умываться, а Снежана тем временем, сняв шелковый халат, юркнула под одеяло. Потом лег и Ганин.
— И все-таки, Леш, — не выдержала Снежана, — странный ты человек какой-то… И дом этот — странный… То ты прячешь от меня мой собственный портрет, то Никитские куда-то пропадают… Слушай, Леш, а может, и Никитских тоже черти утащили, а? — Снежана как-то натянуто хихикнула.
Ганин так и подскочил на постели и сел, подслеповато щуря глаза без привычных очков.
— А… с чего ты это взяла? — испуганно прошептал он.
— Ну, ты же сам сказал, что братьев Барятинских черти взяли! Если даже собрать то, что я знаю про Никитского, то он уж точно кандидат номер два на такое!
— А ты… ну, ты веришь во все это, Снеж? ну, про чертей, ведьм и все такое прочее…
— Не знаю, Леш… Понимаешь, я уже лет пять моталась по всем городам и весям за этими НЛО, полтергейстами и домовыми. Конечно, бывало всякое, и люди тоже… Но все-таки напрямую ничего этого не видела, а у тех, с кем я говорила… В общем, явно с башкой у них было не все в порядке — полусумасшедшие бабульки, алкаши, шизоиды… Да и в Бога я тоже как-то не особенно верю… Не знаю.
Ганин промолчал, а потом вздохнул:
— Ну и хорошо.
— Что… хорошо?
— Ну, то, что ты во все это не веришь.
— Почему?
— Просто если ты в это веришь, нечисть становится для тебя реальной, и тогда ты можешь от этого пострадать, а если не веришь, то даже если тебе явится сам сатана, ты просто подумаешь, что у тебя галлюцинация, выпьешь снотворного и спокойно заснешь.
— А я думаю, Леш, — зевая, протянула Снежана, — что если к тебе явится сатана, веришь ты в него или не веришь, он все равно утащит тебя в преисподнюю, ведь если бы его не было, кто бы тогда тебе явился? А если у тебя галлюцинация, то ты и со снотворным не заснешь. Я вон с этими психами по работе-то пообщалась… Знаешь, при сильных галлюцинациях человек без посторонней помощи и снотворное не примет со страху-то!
Снежана уютно свернулась калачиком на мягкой постели и тут же погрузилась в глубокий сон.
…Темный-темный тоннель, ведущий непонятно куда. Длинная кишка, вроде какого-то подземелья, но постоянно извивающаяся. Идти приходится на ощупь. Жарко, тесно, душно, темно… Когда же закончится этот ад? Вдруг — облегчение! — проход стал прямым, а где-то впереди забрезжил свет, потянуло прохладой, ясно ощутился запах полевых цветов, нагретой на солнце хвои, запах естественного водоема. Ноги сами побежали на свет и запах как заведенные. Все быстрее и быстрее — все, что угодно, лишь бы вырваться из этой тесноты и духоты на волю! Наверное, то же самое чувствует птичка, когда приоткрывается дверца ее клетки… Но вот свет становится все ярче и ярче — настоящий солнечный свет, бьющий как будто из широко открытого окна… Еще мгновение — и перед глазами большое окно, размером примерно в средний человеческий рост, а за ним — кусочек природы: яркое солнышко, сосновый лес, полянка, пруд с громко крякающими утками, белая беседка, а где-то далеко, на холме, розовый замок с развевающимися флагами… У нее возникло неодолимое желание поскорее подбежать к этому окну, со всего размаху перепрыгнуть через оконную раму и оказаться там — посреди этого прохладного летнего рая…
Снежана проснулась вся в поту. В комнате было невероятно душно. Одеяло лежало на полу, простыня скомкана, на подушке влажные пятна от пота. Снежана бросила взгляд на окно — оно было распахнуто настежь. «Видимо, скоро будет гроза, — подумала она. — Перед грозой всегда такая духота». Снежана встала и подошла к окну. Яркая и полная луна на небосводе среди звезд, как царица в окружении придворных дам и кавалеров, сияла бледно-желтым светом. Снежане показалось, что круглый диск луны чем-то напоминает женское лицо: если присмотреться, можно различить черты — фиолетовые точки глаз, сжатые губы… Да нет! Снежана готова была поклясться, что губы у нее не сжаты, а растянуты в улыбке! Странная какая-то улыбка… Как на оскаленном черепе! Ей стало жутко, она отвернулась от окна и взглянула на спящего Ганина.
Ганин во сне скинул свое одеяло и лежал непокрытым, в одной пижаме. Он улыбался во сне — наверное, ему снилось что-то приятное… «Удивительное дело, — подумала Снежана, — у всех спящих лица почему-то напоминают ребячьи…» И действительно, лицо Ганина, расплывшееся в улыбке, было на удивление детским — светлым, ясным, добрым, ничем не отличалось по выражению от личика ее маленького Светика.
Снежана быстро оделась, взяла свою сумочку и решительно направилась к выходу из комнаты — дверь оказалась не заперта. Коридор тонул в темноте, но Снежана достала из сумочки маленький фонарик и отправилась на поиски…
Она и сама не могла дать себе отчет в том, что же хотела найти. Загадочные самоубийства или несчастные случаи с близкими Ганину людьми вообще были необъяснимы с точки зрения здравого смысла. Ганин — и в этом ее женская интуиция говорила твердое «да» — был простак и тихоня, вряд ли он мог быть замешан во всем этом, хотя — и это вполне возможно, особенно если учесть его странную реакцию на портрет, на возможность уик-энда в поместье, — он что-то определенно знал, но не хотел говорить. «Значит, — рассудила Снежана, — здесь должно быть что-то еще, что связано с Ганиным и в то же время действует само по себе… Портрет? Но как портрет может что-то делать сам, ведь это всего лишь раскрашенный кусок холста! А может… привидение?!» Снежана хлопнула себя по лбу и мысленно расхохоталась — эта история прямо в стиле старого дурака Рогозина: призрак, преследующий художника и ревниво убивающий всех тех, кто дерзает приблизиться к нему вопреки его воле… Тем не менее Снежана пожалела, что у нее нет возможности связаться с Рогозиным, ведь для этого надо было либо выйти из дома, либо спрятаться в какую-нибудь комнатушку — в практически полностью пустом здании разговор будет сразу услышан. «А что если набрать эсэмэс? Впрочем, нет, нужно сначала разобраться с портретом! В конце концов, ясно, что он каким-то образом со всем этим связан, но вот каким?.. Это мы выясним на деле!» Но где найти этот загадочный портрет?
Впрочем, кое-какая догадка на этот счет у нее была. «Портрет должен быть где-то спрятан, в какой-то закрытой комнате, подальше от людей, значит, надо искать эту комнату!» Снежане вдруг вспомнилась сказка «Синяя борода», которую она сквозь сон слышала как-то, когда мама читала ее Светику. Там что-то было в таком роде: что-то запретное, что было спрятано в какой-то закрытой потайной комнате, а главная героиня, молодая жена Синей Бороды, туда как раз и проникла… Чем кончилась сказка, Снежана, откровенно говоря, не помнила — наверное, заснула все-таки к концу, — но сама идея ей очень понравилась. «Ну что ж — будем искать закрытую комнату!»
Комнаты в поместье располагались на втором и третьем этажах — на первом были сплошь залы. Снежана решила методично просматривать каждую комнату. К ее досаде оказалось, что добрая половина комнат закрыта на ключ, в основном на третьем этаже, что, впрочем, было вполне объяснимо — комнаты на втором этаже носили общественный характер — детские игровые, музыкальная комната, детская библиотека, а на третьем, видимо, располагались уже жилые комнаты.
Но как выбрать из них нужную? А даже если таковая и найдется, как проникнуть в закрытую комнату без ключей? Снежана закусила губку от досады. Она ведь даже и не подумала о таком элементарном препятствии! Тут она вспомнила, в фильмах видела, что в подобных ситуациях у главных героев всегда были отмычки, но от этой мысли ей стало еще более не по себе, а идти к охране и просить у них ключи от запертых комнат, конечно же, было немыслимо…
Наконец Снежана присела на корточки прямо посреди широкого коридора, возле статуи какого-то полуобнаженного мужчины, держащего жезл с навершием в виде змеиной головы, и задумалась, что же делать дальше. Самое плохое заключалось в том, что двери все были одинаковые — высокие, в два человеческих роста, двустворчатые, позолоченные, с одинаковыми ручками и старинными бронзовыми стучалками — и без надписей. За какой из них прячется этот злополучный портрет?
От досады ей захотелось заплакать — в самом деле, целый час таскаться по этой необъятной усадьбе только для того, чтобы вернуться обратно с пустыми руками? Что же делать?..
Снежана молча уставилась на противоположную стену, но никаких дельных мыслей в голову ей не приходило. Вдруг какой-то звук мгновенно привлек ее внимание. В доме стояла гробовая тишина — никого кроме нее с Ганиным в нем не было, а Ганин спал в закрытой комнате на другом этаже и в другом конце дома, но Снежана готова была поклясться, что услышала какой-то царапающий, скрипучий звук, как будто кошка точила свои когти о ковер. Снежана осмотрелась кругом, но никого не заметила — полутемные коридоры, призрачно-бледные прямоугольники лунного света на стенах и полу, тишина…
Но стоило только ей опять сосредоточиться на своих мыслях, как звук раздался снова, все отчетливее и отчетливее, а потом — будто чтобы развеять последние сомнения — тихое мурлыканье.
«Кошка? Откуда тут кошка? — встревоженно подумала Снежана. — Ганин мне ничего об этом не говорил! Хотя кто знает, может, и была у Никитского кошка или со двора забежала…»
Снежана встала и пошла на звук. Он вел дальше по коридору третьего этажа. Мурлыканье слышалось все ближе и ближе. Наконец Снежана увидела справа, между двумя комнатами, небольшую рекреацию. Здесь стоял низенький журнальный столик, несколько мягких кресел, небольшой диван и две пальмы в кадках с землей. Слабый лунный свет из окна освещал помещение. Прямо посредине дивана Снежана увидела неровное черное пятно, которое и издавало мурлыкающие звуки. При приближении Снежаны у черного пятна загорелись два ярко-зеленых огонька.
— Кс-кс-кс! — автоматически прошептала Снежана — она обожала кошек! Кошка на диване встала и сладко потянулась, выгнув упругую гибкую спину. Снежана подошла к дивану, присела на краешек и несколько раз погладила спинку абсолютно черной, как ночь, кошки и ласково потрепала ее за ушко. — Хорошая, хорошая киска, умница… — Кошка еще громче заурчала.
— Бедненькая кисонька! Одна здесь, одна… Хозяева уехали, а кисоньку оставили! Бедненькая, хорошенькая… — сама чуть ли не замурлыкала Снежана. Кошка услужливо подставляла белым тонким ручкам Снежаны свою спинку, а потом вдруг громко мяукнула и, спрыгнув с дивана, побежала куда-то дальше по коридору.
— Эй, киса! Куда ты?! — чуть не закричала Снежана и бросилась за ней. Но удивительное дело! Обычно кошки бегают достаточно медленно, в отличие от собак, и человек может догнать ее, но Снежана этого сделать почему-то никак не могла! Более того, ей все время казалось, что, сколько бы она ни бежала, она ничуть не приближается к кошке — та от нее держится все время на одном и том же расстоянии. Дом был огромный, коридоры — длиннющие, при желании здесь можно было бы гонять на велосипеде. Снежана вообще-то и понять не могла, зачем она бежит за этой кошкой, сдалась она ей! Но почему-то все равно бежала и бежала…
Наконец, когда Снежане показалось, что сейчас сердце у нее выскочит из груди — давно она так не бегала! — кошка неожиданно остановилась возле одной из дверей и стала осторожно скрести ее когтями и мяукать. Когда Снежана подошла к ней, кошка снизу вверх посмотрела на нее своими яркими, как прожекторы, зелеными глазами и пронзительно замяукала.
— Что, кисонька ты моя, не пускают, зайчик ты мой? — засюсюкала Снежана. — А ну-ка, давай-ка я попробую…
Она нажала на позолоченную медную ручку двери — и… та моментально открылась! Кошка юркнула внутрь, и Снежана, недолго думая, вслед за ней…
Они оказались внутри большой и темной комнаты. Луна к тому времени, видимо, уже зашла за облака, а звездный свет позволял увидеть только темные контуры предметов — роскошной кровати под балдахином, шкафа, стола, кресел, подсвечников… Снежана щелкнула выключателем фонарика, и яркий кружок электрического света заплясал по полу, стенам и потолку комнаты, похищая из чрева ночной темноты ее законную добычу. Вдруг луч ее фонарика выхватил на стене, напротив кровати, какое-то до боли знакомое изображение. У Снежаны от неожиданности перехватило дыхание, она быстрым шагом направилась к нему и, подойдя, пригляделась повнимательнее…
«Боже мой! Да это ж я!» — чуть не вскрикнула Снежана, и словно сильный электрический заряд ударил ее — фонарик выпал у нее из рук на пол и закатился за кровать, но нужды в нем уже не было, потому что прямо над изображением вспыхнули лампы подсветки, и перед глазами Снежаны показалась картина — девушка с золотистыми волосами и с корзинкой цветов в руках.
Снежана не могла отвести глаз от лица, как две капли воды похожего на ее собственное, будто она сама видела себя в зеркале. Вот только веснушек на щеках и носу не было, да щербинки в зубах, и глаза… Глаза — совсем другие… Снежана, затаив дыхание, приблизилась к портрету вплотную…
Большие миндалевидные фиалковые глаза Снежаны на портрете смотрелись совершенно не так, как она видела их обычно в зеркале. Что-то в них было нехорошее, отвратительное, пугающее. Цвет глаз тот же, причудливо и искусно переданы искорки света на радужной ободочке, как искорки на темной морской воде, преломляющей лунные лучи, но за яркими цветами скрывалась угроза — такая угроза, которая исходит от внешне ласковой и нежной, но грозной и смертельно опасной морской волны. Вдобавок красные прожилки на белках глаз придавали взгляду кровожадность, хищность, равно как и неестественно яркие красные полные губы — всему лицу. Ну а прихотливый изгиб этих губ вообще можно было понять как издевательскую усмешку.
— Значит, это и есть тот самый мой портрет… — прошептала Снежана, и ноги ее предательски задрожали. Она бы упала, если бы рядом не оказался мягкий стул. Снежана села на него, не отрывая глаз от портрета. — Ой, что же это я сижу! — вдруг спохватилась она, открыла сумочку, достала оттуда видеокамеру и тут же сделала десяток снимков и небольшой видеоролик. Глядя в объектив видеокамеры на картину, Снежана никак не могла отделаться от неприятного чувства, что глаза девушки все время пристально за ней наблюдают, даже тогда, когда она в эти глаза и не смотрела, направляя объектив на розовый замок вдали или на корзинку с цветами. Наконец, закончив снимать, она направилась к выходу. Однако выйти из комнаты ей не удалось — дверь оказалась запертой. Снежана несколько раз подергала ручку, но все тщетно.
— Черт! — в сердцах зашипела она. — Неужели захлопывается? — Снежана повернулась спиной к двери и опять взглянула на портрет. Ей показалось, что в глазах и ухмылке девушки было что-то торжествующее, издевательское. Несколько раз ударив ногой по двери, Снежана, однако, благоразумно решила не кричать и не поднимать переполох и быстро подошла к окну. Оно было распахнуто. Снежана поглядела вниз — довольно высоко…
В этот момент в ночной тиши раздалось пронзительное карканье, и на подоконник влетела большая иссиня-черная жирная и отвратительная ворона. Снежана отпрянула внутрь комнаты, ворона же, казалось, и не думала покидать подоконник, только съежилась, растопырила перья и крылья в стороны и еще несколько раз угрожающе каркнула, блеснув в ночной темноте яркими маленькими бусинками глаз.
Тогда Снежана достала мобильный телефон, но он оказался полностью разряжен.
— Тьфу ты! Когда это он успел, а? — притопнула ножкой с досады Снежана. — И что мне теперь — до утра тут торчать?
— Ну зачем же так сразу — «торчать»… мрррмяу! — раздался мягкий вкрадчивый голосочек за спиной. — Можно и посидеть, с комфортом-с, мррр…
Снежана чуть не подпрыгнула от неожиданности и отскочила в сторону. Между портретом и столом находился черный, без единого пятнышка, кот, только в отличие от обыкновенного черного кота он стоял на задних лапках, был ростом с невысокого мужчину и одет в изящный черный бархатный костюм, с бархатной же береткой с черным пером, в мягких полусапожках и со шпагой и кинжалом в серебряных ножнах на поясе. Он держался своей левой передней лапкой за спинку стула, а изящным жестом правой — приглашал Снежану сесть.
— Садитесь, госпожа, мрррмяу, садитесь! Теперь мой черед вас ласкать и гладить. Вы устали, не выспались, ваши плечи затекли… Садитесь, и я сделаю вам массаж, вы расслабитесь. Обещаю, не пожалеете…
— Кот?! Говорящий?! — только и смогла произнести Снежана, все еще не в силах прийти в себя. — Прямо как в сказке!
— Ну почему же, ну почему же, мрр, сразу «как в сказке»? — обиженно замурлыкал кот, подходя к Снежане и нежно беря ее за ручку. — Что такое сказка, милейшая госпожа? Что такое? — с пафосом воскликнул он, ведя девушку к стулу перед портретом, как галантный кавалер барышню в танцевальную залу. — Вся наша жизнь — это сказка. Сегодня ты Золушка, а завтра — Принцесса, а послезавтра — злая королева-мачеха, которая тиранит очередную падчерицу-золушку. Коней сменяют машины, замки — панельные дома из железобетона, кольчуги — эти… как их там?.. — кот на секунду сморщился, — броне… жилеты, а людоеды, дорогуша, остаются людоедами, ведьмы — ведьмами, и, что самое смешное, коты в сапогах — котами, мяу! Никакого тебе повышения в звании, понимаешь, никакулечки! Вот такая вот дрянная сказка эта жизнь!
Слушая глубокомысленные философские рассуждения кота, Снежана и сама не заметила, как оказалась опять на стуле перед портретом, а мягкие теплые пушистые лапки тут же стали приятно разминать ей плечи и шею. Действительно, делал кот это мастерски, как заправский массажист. Снежана мгновенно расслабилась, облегченно вздохнула и совершенно перестала чему-либо удивляться.
Она опять бросила взгляд на портрет и тут же спросила:
— Скажи, Кот, — или как там тебя зовут? — ведь это ж не я на портрете — не правда ли? Хотя и жутко похоже…
— Не ты, милочка, не ты… — успокаивающе мурлыкнул Кот, продолжая массировать плечи и шею, — а имени моего лучше тебе не знать… Я просто Кот — и все, просто Кот, мяу!
— Тогда скажи мне, мистер Кот, кто же это на портрете изображен, если не я?
— Там? Ах, там… Моя госпожа, милочка, моя дражайшая владычица. Она-то, дорогуша, и повелела мне привести тебя к ней на аудиенцию, в личные, так сказать, апартаменты.
— На аудиенцию? — удивленно воскликнула Снежана. — Но почему она не явится мне сама? Да и может ли быть аудиенция у портрета?
— Видишь ли, милочка, моя госпожа с удовольствием побеседует с тобой лично, но для этого ты должна кое-что сделать, мяу! Знаете, в древние времена, когда шли к королю или королеве на прием, принято было страже сдавать оружие и всякие там опасные штуки — посохи, трости, длинные ножи, даже — ох! — обыкновенные заколки. А то мало ли… Знал я один случай, когда заколку у одной дурочки не забрали, так она прямо в глаз, прямо в глаз ею, мяу!
— Но у меня нет никакого оружия, мистер Кот! — воскликнула Снежана. — Ну, только травматический пистолет, но он в сумочке.
— Ах-х-с… Пистолеты — это детские игруш-ш-шки, игруш-ш-шечки-ссс, мяу! Оружия у тебя нет, милочка, но на тебе есть вещица, которая весьма неприятна ей. Давай, мы ее с тобой с-с-снимем — и все дела-ссс! — Тут Кот поддел коготком серебряную цепочку на шее Снежаны и резко рванул ее на себя, но… цепочка не поддалась, и Кот разочарованно фыркнул!
Снежана быстро вскочила со стула и отпрянула в сторону. Кот досадливо бил длинным хвостом по ногам, а сзади опять закаркала ворона. Снежана запустила руку за блузку и нащупала теплый металлический крестик.
— А почему он вам неприятен? — с вызовом воскликнула Снежана и, достав крестик, опустила его на поверхность блузки изображением Распятого наружу. В глазах Кота блеснул злобный зеленый огонек, точь-в-точь как у раздраженной кошки, и он угрожающе зашипел.
— Ш-ш-ф-ф-ф! Не люблю, не люблю, ненавиж-ж-ж-жу! Убери эту гадос-с-сть! Или мы с тобой говорить больше не будем! Да-с-с, не будем, ф-ф-ф!
— Нет, будешь, Котик, будешь! — вдруг закричала Снежана и одним прыжком оказалась рядом с ним. Кот зашипел и отпрыгнул было в сторону, но Снежана успела его схватить за шею и сунуть ему крестик прямо в морду. Кот завизжал, забился, его острые коготки больно царапнули шею и руку Снежаны.
— А ну, говори, хвостатый, кто тебя послал, что это за портрет, что ты хотел со мной сделать?! Говори, сволочь, говори!!!
— Пу-с-с-сти, дура, пу-с-сти! Жить тебе осталось три ночи! ОНА нашла путь к твоей душе, ОНА нашла! На-ш-ш-шла-а-а-а!!!
— Кто?! Кто нашла?! Кто?!
— Дьявол, дьявол, дьявол!!! Ф-ф-ф!!!
— Если она нашла, зачем эта чертова аудиенция?! Зачем?! А ну говори, кошачья твоя башка! — визжала не слабее кошки Снежана, тыкая и тыкая крестик в морду коту, цепко держа другой рукой его за горло, хотя сама при этом обливалась кровью — царапины от когтей кота ростом с человека были нешуточные!
— Не з-з-знаю, не з-з-знаю, ш-ш-ш-ф-ф-ф! Она, может, хотела задушить тебя с-с-сама-а-а! Пус-с-сти!
В этот самый момент за спиной Снежаны раздался глухой шум птичьих крыльев, и прямо в макушку ей ударило несколько раз что-то крепкое, острое, больно-пребольно. У Снежаны закружилась голова, и она, разжав руки, рухнула навзничь. Последнее, что увидели ее глаза, были ШЕСТЬ свечек на люстре, что висела под потолком.
Окончание в следующем номере
Владимир КОЛАБУХИН. КТО СТРЕЛЯЛ В «БИРЮЗЕ»
Глава первая
Говорят, понедельник — день тяжелый. Не знаю, не знаю… Может быть. Но сегодня утро выдалось солнечным. Небо ясное-ясное! Майский воздух, освеженный коротким ночным дождем, удивительно душистый от расцветающей сирени…
Я живу неподалеку от райотдела, в самом центре города, в новом девятиэтажном доме. Но там сейчас духота. А здесь, на улице…
И до чего же хорошо на душе, когда вот такое чудесное утро! Можно не спеша пройтись по бульвару, затененному большими старыми липами, посидеть там в укромном уголке на скамейке и помечтать о чем-нибудь заветном, пусть, может, и несбыточном…
Передо мной, дробно стуча по асфальту каблучками белых туфелек, идет светловолосая стройная женщина.
Идет быстро, даже торопливо, головы не повернет. Наверное, опаздывает на работу. Быть может, вечером, возвращаясь домой, она не станет так спешить. А вечер, конечно, тоже по-своему хорош. Особенно когда падет тишина и город расцветится сияньем радужных огней. Но воздух и зелень будут уже не те: цветочный аромат заглушат прогорклые запахи отработанных за день солярки и бензина, а сажа и пыль затуманят наряд затихающих улиц.
Нет, утро есть утро! И думается лучше. Недаром говорится, что утро вечера мудренее. Вот и ко мне сейчас приходит мысль о том, что не настолько уж я закостенел на своей следственной работе, как полагает моя соседка по квартире Леночка, если вдруг вспоминаю ее гибкую фигуру, мягкий овал лица и большие нелепые глаза.
Я сворачиваю с подсохшей дорожки бульвара к зарослям сирени и опускаюсь на сверкающую желтым глянцем недавно выкрашенную скамейку. Легкий ветерок чуть колышет верхушки деревьев и кустарника, над головой вовсю чирикают воробьи…
Лена — учительница, ведет в школе уроки русского языка и литературы. Я люблю слушать ее. Голос у нее мягкий, приятный. К тому же она очень красива. Вместе со своей приветливой мамашей — Екатериной Ивановной — она занимает две смежные комнаты. Я — одну, с изолированным входом.
Так уж получилось, что однокомнатных квартир райотделу не выделили, и меня просто-напросто «подселили». И ничего хорошего из этого, по-моему, не выйдет. Елена, судя по всему, не прочь завести со мной роман. А у меня он уже был с другой, да лишь оставил в сердце боль. И я теперь уже не так наивен, чтобы таять от улыбок хорошеньких девушек. Вот почему в обращении с Еленой, наверное, и впрямь суховат. Только что же вдруг сегодня ее образ словно застыл перед глазами?..
Поднимаюсь со скамейки, направляюсь к выходу. Блондинка уже исчезла из виду. А я все иду и иду не спеша. Время в запасе есть. Да и служба моя такая, что особой торопливости не терпит, требует внутреннего спокойствия и уверенности. А сегодня утро такое замечательное! Может, и день весь будет таким же?
Я покидаю бульвар, пересекаю по белым полоскам перехода залитую солнцем площадь и вскоре оказываюсь в вестибюле райотдела. На моих часах без четверти девять. Заглядываю в комнату дежурного, а там кроме его помощника, молодого сержанта Кандаурова, никого больше нет, хотя обычно в это время здесь всегда толкутся ребята из уголовного розыска. Значит, ничего существенного за воскресенье не произошло.
Подхожу к столу Кандаурова, громко здороваюсь и спрашиваю:
— Как дела? Где дежурный?
Сержант поднимает на меня припухшие от бессонной ночи глаза, устало встает.
— Здравия желаю, товарищ капитан. Пока все в норме. Если до девяти не поступит заявлений, то вам сегодня лафа… А дежурный к руководству ушел, докладывать.
— Твоими бы устами — да мед пить! — говорю ему, улыбаясь.
Его широкое, простодушное лицо тоже озаряется улыбкой. И в этот момент на пульте вспыхивает желтый огонек «02», а в соседней комнате телетайп начинает выводить свою трескучую дробь.
Кандауров хватает телефонную трубку.
— Полиция!.. Что? А кто говорит?..
Подхожу к телетайпу. На его ползущей бесконечной бумажной ленте одна за другой появляются тревожные строчки, переданные из других райотделов и областного управления внутренних дел.
«Начальнику… РОВД… 20 мая с. г. в 16 часов из дома № 3 по улице Крестьянской г. Бровки ушла и до сего дня не вернулась Золотова Наташа. Возраст — 15 лет… Предположительно она может находиться у своей бабушки Золотовой Марии Егоровны, проживающей…»
«21 мая с. г. из пос. Поречье угнана автомашина „ВАЗ-2101“… красного цвета, принадлежащая гр-ну Белову…»
«22 мая с. г. из магазина № 9… совершена кража товаров на сумму… В числе похищенного… Примите меры к розыску похищенных вещей и преступников…»
А телетайп все стучит и стучит.
Возвращаюсь к Кандаурову.
— Ну что?
Он прикрывает ладонью трубку.
— Муж у одной буянит…
И опять в телефон:
— Да-да… Успокойтесь, пожалуйста. Мы немедленно выезжаем.
Вот так… Ничего себе, начинается денек!
Выхожу в коридор, привычно поднимаюсь по крутой лестнице на третий этаж и иду в свой кабинет. В открытую форточку окна с улицы вливается все тот же густой запах расцветающей сирени. Он снова возвращает меня к мыслям о Елене. Как любит она выискивать в ее гроздьях «счастливые» пятилепестковые соцветья!.. Вот наступит вечер, и я опять пройдусь по бульвару, накуплю для нее сирени. Пусть порадуется!
Я улыбаюсь своим мыслям и принимаюсь за работу: пишу представления, справки, запросы. Жду вечера. И дождался. Телефонного звонка дежурного.
— Демичевский?.. Срочно с опергруппой на выезд!
Оказывается, сработала сигнализация фирменного магазина «Бирюза», торгующего ювелирными изделиями.
Не проходит и минуты, а наш «уазик», включив сирену, уже летит по улице. Сидим и гадаем, что там, в «Бирюзе»?
И самые худшие предположения оправдываются — разбойное нападение.
«Как же такое случилось?» — спрашиваем в магазине. И вот что выясняется.
За пять минут до закрытия «Бирюзы» кто-то позвонил со двора у служебного входа. Думая, что приехали инкассаторы, директор магазина Шляпникова, пожилая дородная женщина, планирующая уйти через месяц на пенсию, спокойно открыла дверь и… отшатнулась.
Высокий молодой мужчина, с пистолетом в руке, подтолкнул Шляпникову к ее кабинету, рванул там со стола одну из инкассаторских сумок с дневной выручкой и перебросил сообщнице, такой же молодой особе, появившейся на мгновенье за его спиной.
Еще до того, как налетчик потянулся за второй сумкой, Шляпникова успела нажать потайную кнопку сигнала тревоги. Завыл «ревун». Преступник ошалело отпрянул, не целясь выстрелил и выскочил во двор. Громко хлопнула дверца машины, заурчал мотор, и через несколько секунд все стихло…
В магазин мы прибыли уже через семь минут после сигнала тревоги и нашли Шляпникову испуганной, но невредимой. Губы ее побелели, слова не может вымолвить.
— Да вы не волнуйтесь, не переживайте так, — пытаюсь успокоить ее и коротко передаю в райотдел по телефону первые сведения о случившемся.
— Как не переживать?! — расстроенно всплескивает она руками. — Ведь чуть всю выручку не унесли.
— И много взяли?
— Почти сто пятьдесят тысяч! Сто сорок девять тысяч девятьсот рублей.
Она тянется к графину с водой. Я опережаю, подаю полный стакан.
Пока Шляпникова пьет, вместе с экспертом Губиным осматриваю и фотографирую место происшествия. Собственно, осматривать и нечего. Ее кабинет, где мы ведем разговор, находится напротив служебного входа. Налетчику действительно потребовались бы секунды, чтобы осуществить задуманное.
В воздухе еще пахнет пороховой гарью. В помещении всего одно окно, забранное решеткой, и то без форточки. Нет и какой-либо вентиляции. Душно. Зато над столом, за которым сидит моя собеседница, ярко горит красивая хрустальная люстра. В кабинете — однотумбовый полированный стол, небольшой зеленый сейф да несколько стульев. Без особых затруднений нахожу на полу у окна пулю, сплющенную от удара в стенку, а за косяком двери — гильзу. Следов обуви — масса, но все затертые, и разобраться в них практически невозможно. Лишь в коридорчике, у порога кабинета, Губину удается зафиксировать слабые отпечатки крохотной подошвы и каблучка.
Присаживаюсь к столу Шляпниковой и спрашиваю:
— Так вы говорите, преступников было двое?
— Может, и больше, — не сразу отзывается она. — Ко мне-то ворвались двое — мужчина и женщина.
— Как они выглядели? — пытаюсь еще раз уточнить их внешность.
Но Шляпникова, как и в начале разговора, не может описать их подробно: высокий, молодой, смуглолицый мужчина да такая же молодая и смуглолицая его напарница — вот и все, что ей запомнилось. И она расстроенно оправдывается:
— Испугалась я очень. Какие уж тут подробности, особые приметы. Спроси, в чем одеты, — и то, наверное, не скажу.
— И все же?
— Мужчина, по-моему, в темном костюме, а женщина… в синем платье, как будто бы, — смущенно пытается вспомнить она, комкая в дрожащей руке и без того уже измятый цветастый платочек, которым то и дело отирает раскрасневшееся потное лицо. — Кабы не струсила так!..
— Ну-ну, — возражаю я, — не казните себя напрасно. В такой ситуации, что случилась с вами, кто не испугается. А вы действовали решительно, не дрогнули.
Мне и впрямь приятно похвалить эту пожилую мужественную женщину. Но она отмахивается:
— Да какой там решительно! Мне бы после звонка в «глазок» посмотреть, а не дверь открывать. Растяпа я, да и только.
— Действительно, а почему вы поторопились открыть дверь?
— Думала, инкассаторы за выручкой приехали. Они всегда в это время появляются у нас.
— Погодите, погодите, — останавливаю ее. — Давайте уточним. Во сколько к вам позвонили?
— Я уже говорила — без пяти семь.
— А инкассаторы приезжают?
— В семь. Иногда на минуту-две раньше или позже. Вот что и подвело меня. Ведь звонок был почти в это же время.
Да, видел я инкассаторов. Нас дожидались. Даже говорил с ними. Поохали, посочувствовали директорше и уехали.
Я задумываюсь. Интересная вырисовывается картина: рискованно действовали налетчики! Рискованно, но рассчитанно, словно по секундочкам все выверили.
— Значит, вы считаете, что у преступников была машина?
— Но ведь кто-то сразу выехал со двора, кто же еще?
«Конечно, — мысленно соглашаюсь я. — Без транспорта им
в таком деле не обойтись. Нужно осмотреть двор — искать следы».
Между прочим, выстрел могли слышать на улице. Следовательно, кто-нибудь мог заприметить и машину. Теперь бы только найти очевидцев!
Я знаю, что и другие члены следственно-оперативной группы зря времени не теряют. Зевак на улице, когда мы подъехали к магазину, было немало, да и подворный обход ближайших домов, опрос их жителей может выявить ценных свидетелей. Кто-то из них, к примеру, в момент происшествия выходил из магазина или разглядывал его витрины, кто-то отдыхал на балконе или сажал там цветы… Короче, должны быть свидетели. И, поблагодарив Шляпникову, выхожу в коридор. Как и ожидал, мне уже доставили очевидцев: узкоплечего веснушчатого паренька в линялых джинсах и пестрой рубашке с отложным воротничком и тощую, как жердь, старомодно одетую старушку. Они-то кое-что и рассказывают о машине. Оба утверждают, что это было желтоватое такси, выскочившее со двора почти вслед за выстрелами. Номера машины старушка не приметила, зато парню запали в память цифры: «37–38».
Незамедлительно передаю полученные данные дежурному по райотделу. Если в машине преступники и они попытаются выехать из города, им это теперь вряд ли удастся: дежурный известит о моей информации все постовые и патрульные наряды, инспекторов ГИБДД.
Мы делаем все, чтобы раскрыть дерзкое преступление, как говорится, «по горячим следам», работаем до глубокой ночи, но… тщетно. Налетчики как в воду канули, и кто они — так и остается неизвестным. Мало ли в городе молодых смуглолицых мужчин в темных костюмах и брюнеток в синих платьях?..
Домой возвращаюсь за полночь. Пытаюсь неслышно пробраться в свою комнату, но Елена уже тут как тут. На ходу застегивает халатик и спешит на кухню.
— Я тебе чаю подогрею.
Отговаривать ее бесполезно, и я молча киваю.
На кухне Лена усаживается рядом со мной за столик и, пока я чаевничаю, не отрываясь, молча смотрит на меня своими зеленущими, как виноградины, глазами. Только сегодня они кажутся мне чуть погрустневшими.
— У тебя что-то случилось? — спрашиваю.
— Что у меня может случиться… Пей чай, Демичевский, пей…
Она отводит взгляд и пытается улыбнуться. Господи! Так ведь я хотел принести ей цветы. Надо же, как все нескладно получилось.
Глава вторая
Ночью мне спалось плохо, и потому проснулся раньше обычного. Прохожу на кухню, а Лена уже здесь, сидит у окна, задумчивая и чем-то озабоченная.
— С добрым утром! — говорю, улыбаясь. — Что нос повесила?
— Здравствуй! — приветливо отвечает она. На лице ее тоже появляется улыбка. — И все ты замечаешь, Демичевский!
— Профессия такая! — смеюсь я и подхожу к плите. Осторожно трогаю чайник, а он уже горячий-прегорячий. Кладу в чашку ложечку растворимого кофе, сахар, заливаю кипятком.
— Сегодня опять поздно вернешься? — спрашивает Лена.
— Пока не знаю, — говорю я, отпивая из чашки маленькими глотками дымящийся душистый напиток. Смотрю на часы. Еще четверть восьмого. Но дома делать нечего, так что лучше немного прогуляться. Допиваю кофе, поднимаюсь из-за стола.
— Ну, пока.
Лена рассеянно кивает. О чем это она все думает?..
В прихожей поправляю перед зеркалом форму, галстук и выхожу на улицу.
Сегодня у меня не столь уж радужное настроение, как накануне. В девять часов предстоит присутствовать на оперативке у начальника уголовного розыска Белова, и вчерашнее происшествие не выходит из головы. Расследовать его поручено мне, а вот с чего начинать? Есть, конечно, несколько соображений, и, думаю, в уголовном розыске тоже подкинут что-нибудь существенное.
Ребята там толковые. Быть такого не может, чтобы, уцепившись за ниточку, не помогли и весь клубок распутать. А ниточка у нас есть! Хотя бы тот же, с щербинкой, след протектора, зафиксированный во дворе магазина.
Без пяти девять вхожу в кабинет Белова. Все оперативные работники уже в сборе. Опустив седеющую голову, Белов медленно расхаживает из угла в угол. Заметив меня, останавливается и, кивком ответив на приветствие, сухо говорит:
— Что ж, начнем, пожалуй, наше совещание. У кого какие версии по «Бирюзе»? В общих чертах со сложившейся обстановкой я знаком, так что прошу конкретнее.
Присаживаюсь на единственный свободный стул у окна, оглядываю собравшихся. Лица у всех озабоченные, глаза хмурые. Многие, наверное, не спали.
— Значит, неизвестные подъехали к магазину на такси? Чье оно? Кто шофер? — снова спрашивает Белов, ни к кому конкретно не обращаясь.
Первым отвечает старший оперуполномоченный Сергей Наумов. Ему недавно исполнилось тридцать, он тремя годами моложе меня, а уже считается одним из опытнейших розыскников. В любое дело вкладывает столько энергии и ума, что хватило бы, наверное, на двоих.
— Такси принадлежит второму автопарку, — говорит Наумов, легко поднявшись с дивана. — За машиной закреплены два водителя — Власов Николай Григорьевич, старый кадровый работник, и его молодой сменщик Водолазкин Владимир Константинович, выпускник автошколы. Вчера вечером работал Власов. По его словам, такси просто-напросто угнали, когда он отлучился в столовую поужинать. Машину его мы пока не нашли.
Густые нависшие брови Белова опускаются еще ниже.
— А не может он быть соучастником этого преступления?
Наумов приглаживает русые волосы и не сразу, но возражает:
— Маловероятно, Александр Петрович. Человек он пожилой, вырастил двоих детей, имеет внуков… Маловероятно…
Белов подходит к окну, разглядывает улицу. С каждой минутой солнце все ярче заливает, своими лучами кабинет, все громче нарастает шум города. Где-то там, в его необъятных недрах, скрываются от нас те, кого мы сегодня ищем и кого нам надо найти во что бы то ни стало.
— А что говорят свидетели?
Наумов садится, а с дивана поднимается, как всегда, щеголевато одетый оперуполномоченный Громов, мой товарищ и ровесник. В его карих глазах все еще отражается глубокая задумчивость. Он достает из кармана замшевой куртки небольшой блокнот, заглядывает в него и неторопливо начинает докладывать:
— Свидетелей, паренька и старушку, мы установили следующим образом…
Белов резко поворачивается к нему:
— Я не спрашиваю, как вы разыскали студента Бубнова и пенсионерку Малинину, — обрывает он Громова. — Что они рассказывают?
Громов растерянно поправляет сверкающий золотыми нитями галстук, обидчиво поджимает тонкие губы.
— Я думал… — пытается оправдаться он, однако Белов снова прерывает.
— Что они рассказывают? — жестко повторяет он, желая избавиться от обычного многословия оперуполномоченного.
— Да практически — мало интересного, — уже быстро отвечает Громов. — Мы их и так и этак расспрашивали…
— Что они говорят? — повышает голос Белов. Обычно спокойный и выдержанный, на этот раз он, чувствуется, еле сдерживается, чтобы не вспылить. — У нас есть фотография Власова? Мы предъявили им ее? Когда, в конце концов, вы научитесь докладывать четко и коротко!
Я спешу на выручку Громову. Ведь опрашивать свидетелей пришлось мне, а не ему.
— И фотография есть, и показывали ее, — говорю, поднимаясь. — За рулем такси сидела женщина. Разглядеть ее не сумели, а вот мужчину, что находился в салоне машины, запомнили: молодой, смуглолицый… Словом, не Власов. Поскольку Бубнов учится в художественном училище, я попросил его написать хотя бы приблизительный портрет этого человека. Он согласился и вот-вот должен принести нам свою работу.
Я сажусь, а Белов возвращается к столу, грузно опускается в кресло, задумывается. То, что он повысил сегодня голос, совсем не характерно для него. Да и Громов, несмотря на его щегольство и многословие, отнюдь не пустозвон, зарекомендовал себя умелым и знающим работником. Но сегодня время не наш союзник, подхлестывает и Белова.
— У вас все? — спрашивает он Громова.
— Нет, — торопливо отзывается тот. — Разрешите высказать свои соображения?
— Ну-ну… — смягчается Белов. — Выкладывайте.
— Полагаю, что преступники вели многодневное тщательное наблюдение за магазином, — оживляется Громов, и сеточка мелких морщинок на его широком смуглом лице сразу исчезает.
— Почему вы так думаете?
— Уж очень чисто сработали, вернее — дерзко. Надо бы выяснить, кто в последнее время крутился у «Бирюзы».
«Ай да молодец Громов! С языка у меня сорвал».
— Резонно, — соглашается и Белов. — Вот вы с Наумовым и отработайте эту версию. Может, кто-нибудь из наших «крестников» отличился.
Да!.. Представляю, каково придется моим друзьям. Задача не из легких. Очень даже не из легких!
Однако, как я смотрю, Громова она ничуть не смущает. Он деловито переглядывается с Наумовым, приподнимает, чтобы не помять, стрелки своих светлых, хорошо отутюженных брюк, садится и тут же быстро пишет что-то в блокноте.
— Та-ак… — продолжает Белов. — А теперь послушаем товарища Демичевского.
Он устремляет на меня из-под очков пытливый взгляд и после небольшой паузы спрашивает:
— В чем нужна помощь? Зацепок-то почти нет.
Я опять поднимаюсь, еще раз оглядываю всех и говорю:
— Почему — нет? Взять хотя бы пропавшее такси. Оно как раз такое звено, за которое мы можем ухватиться… Надо войти с предложением к руководству райотдела подключить к нам в помощь патрульно-постовую службу и участковых инспекторов. Следует осмотреть все дворы, гаражи, тупики и переулки… Ведь где-то оставлена эта машина!
Белов кивает. Я уверен, эта мысль пришла и к нему.
— Теперь второе… Насчет предположения Громова о том, что за «Бирюзой» велось наблюдение… В первую очередь нужно еще раз опросить работников магазина, жителей прилегающих к нему домов. Может, действительно в последние дни кто-то помозолил им глаза.
Белов снова молча кивает и делает в «еженедельнике» пометку.
— Третье… Не мешало бы нам посмотреть дела о преступлениях, совершенных в городе с применением огнестрельного оружия. Сегодня я направляю для исследования пулю и гильзу, что нашли в магазине.
Мы обговариваем с оперативниками еще ряд вопросов и расходимся. Я с нетерпением жду Бубнова. Он обещал подойти в десять, а на моих уже — двадцать минут одиннадцатого.
Ну вот, кажется, он и пришел. Слышу негромкий стук в дверь и поспешно откликаюсь:
— Войдите!
В узкую щель двери сначала осторожно просовывается голова Бубнова, а затем и сам парень показывается на пороге. Стеснительно улыбаясь, подходит к столу и показывает мне небольшой конверт.
— Вот. Принес… Как просили.
Он аккуратно открывает конверт, бережно достает из него листок бумаги, расцвеченный акварелью. Первое впечатление — меня обманывают. Это не может быть рисованным портретом. Это цветная, мастерски выполненная фотография. Но шероховатость бумаги и некоторая расплывчатость красок на ней убеждают: портрет все-таки рисованный.
Но до чего живое лицо!.. Плотно сомкнуты тонкие губы, сжаты крылья такого же тонкого, прямого носа, тревожно прищурены миндалевидные темные глаза, нахмурены черные брови, невысокий лоб прорезали две глубокие складки… и густые волосы, обрамляющие лицо. Мое долгое молчание, вызванное изучением портрета, Бубнов воспринимает как недоверие к его работе. Он смущенно бормочет:
— Может, не совсем точно изобразил… Вечер был, да и видел-то человека мельком… Если бы он не в машине сидел, а в студии позировал, да при хорошем освещении.
В том-то и дело, а он еще оправдывается! Если ничего не сочинил, то — завидная зоркость у парня. Я дружески обнимаю его.
— Все хорошо. Этот портрет мы сегодня размножим, и… словом, спасибо!
Он краснеет, как девушка, вскидывает на меня враз повеселевшие глаза:
— Тогда я пойду? У меня скоро занятия.
Мы прощаемся, довольные друг другом, и он уходит. Мне тоже не сидится в кабинете, хочется немедленно показать портрет оперативникам Белова: вдруг опознают в нем кого-нибудь из «крестников»? Вот было бы здорово!
Но… Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Все восхищаются мастерством художника, крутят портрет так и сяк, однако признать в нем кого-либо не могут.
— И все-таки кого-то он мне напоминает, — мучительно раздумывает Наумов. — Кто это? Кто?..
Ничего, выясним! Для начала покажу-ка этот портрет Шляпниковой.
Беру из сейфа специально приготовленные для подобных случаев еще два портрета других лиц, вызываю служебную машину и еду в «Бирюзу».
Шляпникова, в присутствии понятых, долго вглядывается в портреты, затем указывает на тот из них, что рисовал Бубнов, и чуть дрогнувшим голосом подтверждает: «Он! Очень похож: глаза, брови, волосы, лоб…»
Ну вот и отлично. Как положено, оформляю протокол опознания. Теперь бы нам пропавшее такси отыскать.
Глава третья
Домой опять возвращаюсь поздно. По улицам все еще снуют машины, и я невольно приглядываюсь к ним — не промелькнет ли такси с номером «37–38»? Ох, как нужна мне эта машина! Твердо убежден, что от нее потянется ниточка к раскрытию разбойного нападения на «Бирюзу».
Желтых такси проносится немало, но все не те, не те…
Вот и мой дом. Лифт быстро поднимает меня на шестой этаж… Не успеваю вытащить из кармана ключ от квартиры, как дверь распахивается — и вижу счастливое, улыбающееся лицо Елены.
— Как хорошо!.. Как хорошо, что ты все-таки пришел, — порывисто восклицает она и втягивает меня в прихожую.
Недоумевающе замираю у порога.
— А что, собственно, случилось? Почему — «все-таки»?
Глаза Елены радостно светятся.
— Потом, потом скажу. Давай переодевайся — и ко мне, в мою келью.
И тут вдруг замечаю, что на Елене нарядное темно-зеленое вечернее платье и легкий белый шарфик, придающие ей праздничный вид.
— Какое-нибудь семейное торжество? — догадываюсь наконец.
Она молча кивает.
— И мое присутствие тоже необходимо?
Еще кивок. И мне ничего не остается, как подчиниться и наскоро привести себя в порядок. Непонятно только, почему торжество не в гостиной и так тихо в квартире?
Снимаю запылившуюся форму. Умываюсь. Надеваю белую рубашку, синий галстук. Сдуваю с костюма пылинки. Вглядываюсь в зеркало: хорош? На меня смотрит кудрявый, сероглазый, молодой еще человек, прилично одетый и с не очень скучной физиономией… Так что вроде бы все нормально, можно идти.
В комнате Елены чуть светится крохотное бра на стене. На полке горит зеленый огонек магнитолы, слышится приглушенная мелодия блюза. На журнальном столике, придвинутом к тахте, — вазочка с цветами, бутылка шампанского и торт.
Елена сидит на тахте. Густые каштановые волосы рассыпались по плечам.
Присаживаюсь рядом и спрашиваю:
— A-а… Екатерина Ивановна где?
И тут же в ответ слышу тихий серебристый смех.
— Разве со мной тебе не интересно?
Я окончательно теряюсь.
— Почему же… — И чуть не с мольбой снова спрашиваю: — Но объясни, пожалуйста, что все это значит?
Лена привычным легким жестом отбрасывает со лба волосы.
— Мама уехала к тетушке на денек. Мы с тобой одни… Понимаешь, вчера мне исполнилось двадцать пять. Мы думали отметить это событие, но ты пришел с работы очень поздно… Давай отметим его сегодня.
Я обескураженно молчу. Так вот почему вчера она была такой грустной… Милая, добрая моя Прекрасная Елена!
Машинально оглядываю комнату. Здесь я впервые. Все дышит чистотой и уютом… Но почему мне такая честь? А у меня и подарка нет.
Лихорадочно перебираю в памяти скудную обстановку моей комнаты.
Есть! Нашел! Тут же срываюсь с места:
— Я сейчас… Извини.
И мчусь к себе.
Лена — большая любительница книг, кое-что из них и у меня имеется. На днях приобрел по случаю замечательное издание романа «Русский лес». Леонов всегда привлекал меня своим глубоким философским мышлением, афористичностью речи, а тут вдруг — отлично изданный томик! Подписать его — дело одной минуты.
Увидев подарок, Елена вздыхает:
— Ах, Демичевский! Ну зачем это? Я же знаю, как тебе хотелось заполучить эту книгу.
Спешу развеять ее огорчение:
— Ничего. Еще достану. Лучше прочитай, что я там нацарапал.
Лена раскрывает томик, снова счастливо улыбается и неожиданно награждает меня легким поцелуем.
— Спасибо тебе за «Елену Прекрасную» и такой дорогой для меня подарок.
Мы садимся на тахту. Все так же приглушенно звучит мелодия блюза, в бокалах искрится шампанское, нескрываемой радостью сияют глаза Елены.
— Расскажи мне о себе, Демичевский. Как ты жил, кого любил?.. Сегодня я хочу все знать о тебе. Все!
В голове моей чуть шумит от выпитого вина и поцелуя. Музыка расслабляет, вызывает на откровенность. Хочется окончательно размагнититься и раскрыться, высказаться о наболевшем.
И вспоминается далекий старинный город. Тенистый парк. И девчонка на скамейке… Красивая, русоволосая, с глазами, наполненными тревогой.
«Ты не забудешь меня, Владик?»
«Что ты, Катюша! Что ты…»
«Тебе там встретятся другие девчата».
«Я даже не взгляну на них».
«Два года — это так долго!»
«Я буду писать тебе каждый день!»
И писал. Все два года армейской службы. И ни на одну из девчонок не глядел. А Катюша не дождалась, вышла замуж за другого.
Нет! Об этом не стоит говорить никому. Это мое, пусть оно во мне и останется. Я прожил в том городе почти тридцать лет. И никогда бы не покинул его…
— Ну что ты молчишь? — спрашивает Лена.
А я не знаю, что и сказать.
— Тогда потанцуем? — терпеливо предлагает она, видимо, догадываясь о моем состоянии.
И мы медленно плывем в полумраке. Рука Елены легко лежит на моем плече, глаза, не отрываясь, смотрят в мои глаза.
— Ты все еще любишь ее, — тихо полуспрашивает-полуутверждает она.
И опять не нахожу, что ответить. Врать нельзя, и правду сказать сегодня язык не поворачивается.
— Знаешь, давай не будем говорить обо мне. Все-таки героиня вечера — ты! Расскажи о себе.
Елена натянуто смеется.
— Ох, Демичевский!.. Он, оказывается, еще и плут.
Она ненадолго умолкает, потом с расстановкой начинает рассказывать:
— Мы ведь тоже не местные. Переехали из Тулы. Папа был летчиком. Его перевели сюда по службе. Ну и мы за ним… А через неделю, при испытании нового самолета, он погиб. Мама в один день поседела… Мне шел тогда всего второй годик… А теперь уже — двадцать пять! Окончила школу, институт… Вот, собственно, и все.
— Извини за нескромность, — говорю. — А почему ты не замужем?
Лена опять смеется.
— Потому что таких плутов, как ты, не встречала! — Она останавливается. — Но если серьезно — были предложения. Да душа ни к кому не лежала. Почему-то все лишь о себе и думали, о своем «я». А мне, Демичевский, не рабыней, а царицей быть хочется!
— Клеопатрой, что ли?
— Нет! Такой, как Суламифь. В любви своей — царицей. Понимаешь?
Я бестолково киваю, и мы возвращаемся за столик. Елена спрашивает:
— Хочешь кофе?
— Хочу.
Лена уходит на кухню, и вскоре по всей комнате разносится его горьковатый аромат.
— Почему ты вчера так поздно вернулся? — спрашивает она. — Что-нибудь случилось? Говорят, машину угнали. К нам в школу приходили сегодня работники ГИБДД. И участковый по квартирам прошелся.
Я улыбаюсь. Так-так… Скоро весь город будет знать, что разыскивается такси желтого цвета, номер «37–38». Это хорошо. Уж кто-нибудь да расскажет нам о нем.
— Да, — говорю. — Мы ищем пропавшее такси.
И не вдаваясь в подробности, коротко рассказываю о вчерашнем «ЧП».
— Ужас какой, — передергивает плечами Елена. — Ну у вас и работка!
— У тебя она разве легче?
— Сравнил тоже! Как ни тяжело с моими шумными ребятами, но они — дети. Я вижу, как они взрослеют, становятся умнее и добрее.
— А если не все вырастают такими? Как тот брюнет, что стрелял и магазине. Кто-то должен и с ними разбираться. К тому же я закончил юридический. Так что не будем больше об этом. Хорошо?
— Хорошо, — соглашается Елена. — Расскажи мне что-нибудь веселенькое. Уж сегодня ты обязан развлекать меня.
Я начинаю вспоминать. Но в голову лезут одни лишь криминальные истории. Лена смеется.
— Ладно, не мучься.
И берет мои руки в свои ладони.
— Какие у тебя красивые, тонкие пальцы, Демичевский.
Я весь напрягаюсь, чувствуя нежность ее рук.
— Что ж в них хорошего…
— Не скажи… Глаза или лицо могут обмануть человека. А вот руки… В них, по-моему, вся его душа… У тебя пальцы музыканта. Но ты ни на чем не играешь!
— Играю, — возражаю с улыбкой. — На гитаре играю. Да все никак не могу купить ее, а в магазинах она нарасхват.
— У тебя очень красивые пальцы, — задумчиво продолжает Елена. И неожиданно приникает к ним губами.
У меня перехватывает дыхание. Это уже не тот мимолетный поцелуй, которым она наградила меня всего несколько минут назад… Руки мои сами тянутся к этой волнующей, удивительной девушке. И я почти не слышу страстный, срывающийся шепот Елены:
— Подари мне их, подари!..
Боже мой, как стучит в висках… Я с трудом отрываюсь от ее губ и поднимаюсь, чтобы не видеть умоляющих глаз.
— Потанцуем, Лена… Давай потанцуем…
Глава четвертая
Утром Елена готовит для меня кофе.
— Спасибо за вчерашний вечер, — говорит она тихо.
Кусок бутерброда застревает в моем горле. Хорош вечер!
При первой возможности удрал, как мальчишка. А она еще благодарит!
Лена словно подслушала мои мысли.
— Не переживай так, Демичевский. Я сама вела себя глупо… А пальцы свои ты мне все-таки срисуй. Срисуй, Демичевский.
— Будет сделано, — шутливо обещаю я, лишь бы что-то ответить. — Потом можешь поместить рисунок в рамку, раз они так тебе понравились.
Пью кофе и никак не могу разобраться в себе: стыжусь, что не ответил на вчерашний порыв Лены, или сожалею об этом?
— Я провожу тебя, — говорит Лена. И я замечаю, что одета она по-дорожному.
— Куда-то собираешься ехать? — спрашиваю.
— Да… Ненадолго, — уклончиво отвечает она.
Мы выходим на улицу. Лена провожает меня до бульвара. Идем и молчим. Молча и расходимся, лишь смущенно улыбнувшись друг другу.
Честное слово, на работе легче! Там и самое запутанное дело не кажется таким уж неразрешимым. Даже «ЧП» с магазином.
Расстроенный, я сворачиваю к райотделу. Не успеваю подняться в свой кабинет, как на пороге возникает возбужденный Наумов.
— Лебедев звонил. Насчет пропавшей машины. Нашлась, говорит!
Лебедев — это наш лучший участковый. Его слову я верю, как своему. Если утверждает, что такси нашлось, значит, так оно и есть.
— Где? Где эта машина?
— Дачная, пятнадцать.
— Начальству докладывал?
— А как же! Дана команда — выезжать. Все уже в сборе.
В нашем «уазике» и впрямь не повернуться: оперативники, эксперт Губин, кинолог с собакой… «Уазик» срывается с места и мчится по улицам за город, в дачный поселок.
— Как нашли? — спрашиваю Наумова.
Он сидит рядом с шофером и сосредоточенно следит за дорогой. Не оборачиваясь, отвечает:
— К Лебедеву мужичок с утра пришел, местный плотник Егоров. Так, мол, и так. Слышал, полиция машину ищет. Не она ли за его сараюшкой стоит? Лебедев сразу туда. Действительно, за сарайкой — такси, желтого цвета, номерной знак — «37–38». Он и позвонил нам… Интересно, почему преступник оставил машину именно там?
Шофер, хорошо знающий дачный поселок, без особого труда отыскивает нужную нам улицу. Вдоль обочин тянутся стройные тополя, и кажется, что сквозь их густую сочно-зеленую листву лучи солнца никак не могут прорваться к земле, яркими бликами застревают в пышной кроне.
Узкая дорога с кусками выбитого асфальта вьется по поселку и за одним из поворотов неожиданно обрывается у небольшого, в два окна по фасаду, кирпичного дома с палисадником и сараем, за которым стеной стоит густой и темный лес.
Из-за сарая показывается коренастая фигура Лебедева. Он одергивает китель, поправляет сбившуюся набок фуражку, неторопливо подходит к нам и коротко докладывает обстановку. Теперь можно приступать к осмотру.
Желтая «Волга» сиротливо стоит в тени за сараем. С улицы ее не углядишь. Видимо, поэтому и оставил ее здесь преступник. И знакомый, очень знакомый рисунок на земле от протектора «Волги». С той же характерной щербинкой…
Я даю команду, и у нас начинается привычная работа, без спешки и суеты. Каждый делает что положено. Мы фотографируем, чертим план местности, в поисках следов изучаем почву, внимательно осматриваем салон такси. Позднее разберемся во всем, что получим в итоге. Сейчас главное — не упустить малейшей мелочи, которая — как чаще всего и бывает — может оказаться самой существенной для дела. Решаю спросить Егорова: когда увидел здесь эту машину, не приметил ли, кто оставил ее?
Мы сидим за грубо сколоченным столиком в цветущем палисаднике дома. Все мои товарищи по работе остались на улице и продолжают заниматься своим делами. Я слышу настойчивый голос кинолога: «След, Альма, след!» Вижу, как сосредоточенно ходит от дома к дому на противоположной стороне улицы Наумов…
Егорову уже за пятьдесят. Он несколько неуклюж и грузноват. Его чуть набрякшие веки и грушевидный нос с синими прожилками наводят на мысль, что их хозяин частенько прикладывается к рюмке.
Егоров вздыхает, услышав мои вопросы, и низким хрипловатым голосом начинает рассказывать:
— У меня, понимаешь ли, доски в сараюхе оторвались. Ну вот и пошел я вечером-то. Часов около восьми. Дай, думаю, взгляну: подлатать стенку или новые доски приспособить. Обошел сарайку-то, а там, понимаешь ли, — машина. И никого в ней нет. Ну, постоял, постоял… Подождал. Опять никого. А к стенке-то из-за машины и не подойти. Плюнул и ушел в дом.
— Это когда было — вчера?
— Нет. Как раз накануне. Вчера-то я снова за сарайку глянул. Опять стоит! Весь день простояла. А тут слышу от соседей, что полиция какую-то машину ищет. Не она ли? — подумал. Чего ей здесь стоять-то. Непорядок это. Но решил подождать еще чуток — вдруг, понимаешь ли, хозяева объявятся. Ну а сегодня — все! Пошел к участковому. Взгляни, мол, не ту ли машину ищете. Который день без дела стоит!.. Вот так-то все и вышло, мил человек.
В палисаднике вовсю цветут вишни, осыпают нас нежными лепестками. На земле от них — белым-бело!..
— А вы с соседями о машине разговаривали? Из них, случайно, никто не видел водителя?
— Да кому до нее дело-то было. И что в ней для нас такого, чтобы приглядываться? Никто ничего не видел.
Егоров встает и уходит в дом. Через минуту возвращается. В одной руке — высокий глиняный кувшин, в другой — широкая глиняная кружка.
— Может, выпьешь со мной, капитан? У меня такая медовуха осталась! — добродушно говорит он.
— Нет, Степан Кондратьевич. Спасибо. Да и вам не советую прикладываться. Хозяйка, небось, не рада будет.
Лицо Егорова мрачнеет. Он глухо кашляет, ставит кувшин и кружку на стол, садится и стискивает лохматую голову руками.
— Нет у меня хозяйки… Бобыль я, понимаешь ли. И рад бы, чтоб поругал кто, да некому. Такая тоска, понимаешь ли. Умаялся один-то, спасу нет.
Он поднимает на меня потемневшие глаза.
— А ты — женат ли?
Я отрицательно качаю головой.
Он умолкает, в раздумье почесывая затылок узловатыми пальцами, а через минуту опять спрашивает:
— Что так? Аль разборчив очень?
Над головой гудят то ли шмели, то ли пчелы. Одуряюще пахнет жасмином… Весна в самом разгаре!
— Эх, капитан, — словно издалека, снова доносится хриплый голос Егорова. — Нельзя нам одним-то. Нельзя. Для чего тогда и жить-то, а? Ты, понимаешь ли, не мудри, если что. Я вот немало почудил, теперь один маюсь. Неужто у тебя так никого и нет на примете?
И сразу вспоминается Лена, наш вчерашний вечер. Как хорошо он начинался!..
Прощаюсь с Егоровым и иду к сарайке. Там Губин продолжает колдовать над машиной. Обрабатывает химическим составом приборный щиток, рулевое колесо, дверные ручки… Никаких следов!
— Наверное, действовали в перчатках, — говорит он и устало опускается на траву. — Либо стерли следы. Мастаки, видать!
Я невольно хмурюсь.
— Может, попросить в помощь экспертов УВД?
— Не надо, — возражает Губин. — Сами управимся.
И вдруг резко поднимается.
— Все следы не уничтожишь!.. Это они, «мастаки», думают иначе. А нас не проведешь!.. Что-нибудь да осталось. Отгоним «Волгу» в отдел — и будем разбирать машину.
Так и решаем. К тому же здесь нам больше делать нечего: собака след не взяла — слишком много времени прошло, а Наумов с Лебедевым тоже возвратились из домов ни с чем — никто из жителей не приметил пассажиров такси.
По дороге в отдел выхожу из машины у кафе, чтобы немного перекусить. Быстро разделываюсь с борщом и котлетой, запиваю освежающим березовым соком. Теперь опять можно и за работу.
— Передохнул маленько? — дружески обнимает меня за плечи Наумов, как только вновь появляюсь в отделе.
Я улыбаюсь.
— Что Губин? — спрашиваю.
— Разбирает с гаишниками машину. Уже демонтировали рулевое колесо, переключатель передач.
— Нашли что-нибудь?
— Пока не знаю.
— Схожу посмотрю.
— Желаю удачи!
Я выхожу во двор и жду там результатов осмотра. Время тянется медленно, порой кажется, что оно остановилось. Наконец слышу радостный возглас Губина:
— Есть пальчики!
— Где? — тороплюсь к нему.
— На обратной стороне руля. Да и на внутренних поверхностях рукояток ручного тормоза и рычага переключателей передач… Я говорил — найду!
Он снова ныряет в салон машины. Глубоко в складке сиденья находим шелковую перчатку. Кто оставил ее здесь? Преступник? Пассажир? Пока эти вопросы повисают в воздухе.
Зафиксированные отпечатки Губин уносит в свою лабораторию. Выясняется, что водителю Власову и его сменщику Водолазкину они не принадлежат. Но и установить по ним личность преступника пока не удается: в нашей картотеке идентичных отпечатков нет.
А в небе уже зажглись первые звезды… Усталые, мы расходимся по домам.
На улицах тишина, лишь редкие парочки беспечно прогуливаются по залитым неоновым светом тротуарам да время от времени почти бесшумно проносятся полупустые троллейбусы. Мои шаги гулко звучат в застывшем теплом воздухе…
Как странно: те же дома, те же улицы, а вот утром такого резонанса нет.
Вчера получил письмо от мамы. Пишет, что очень состарилась. А я понимаю: тоскует она. Давно похоронили отца, и с единственным сыном рассталась…
Мама, мама!.. Я тоже наскучался по твоей ласке. И так тоже надоело одиночество, в котором даже сон не приносит успокоения. А сны мне теперь все чаще снятся беспокойные, не то что, скажем, десять или даже пятнадцать лет назад, когда я, словно наяву, то восторженно парил над землей, раскинув руки, то лихо отплясывал на вечеринках… Так что скорее бы утро!
Глава пятая
Утром присоединяюсь к Наумову, занятому изучением дел, приостановленных в связи с розыском лиц, подлежащих привлечению к ответственности в качестве обвиняемых.
В горле першит от пыльных страниц многотомных дел. Яркий свет электрической лампочки вызывает резь в глазах. Мы кашляем, чихаем, протираем воспалившиеся веки, но все листаем и листаем дела.
И вот, кажется, удача. Мое внимание привлекает дело о разбойном нападении в лесопарке, где на месте происшествия были изъяты гильзы, очень похожие на ту, что мы обнаружили в «Бирюзе».
— Ну-ка, ну-ка… Дай посмотреть, — просит Наумов и забирает у меня дело.
— Так ведь это Соловьев, твой предшественник, по нему тогда работал! — восклицает он через минуту. — Преступников-то было двое, какой-то «Эдик» и Пикулин. А взяли лишь Пикулина. Его одного и судили: не знает, мол, второго, и все!
— Оружие изъяли?
— Нет, в том-то и дело. Якобы у другого осталось. Да и потерпевшие, супруги Ладыгины, говорили, что пистолет был у второго преступника.
Я еще раз листаю дело. С фотографии в профиль и анфас на меня смотрит молодой парень, никак не похожий на того, кто учинил налет на «Бирюзу»: курносый, белобрысый… Записываю данные о его личности.
— Сколько же ему дали?
— Семь лет.
— Проверь — не сбежал, не освободился ли досрочно.
Наумов кивает.
Читаю показания потерпевших: как выглядел второй преступник? И замирает сердце: темноволосый, смуглолицый. Хорошо разглядеть не успели, но полагают, что при встрече узнали бы. Глаза запомнились: черные, опушенные густыми длинными ресницами. Показания дополняет композиционный портрет преступника. Похож! Очень похож на того, кто стрелял в «Бирюзе». Наумов тоже разглядывает портрет.
— Слушай, а ведь это он — кого мы ищем. Помнишь, вспоминал, где я его видел? И вот, гляди-ка, снова, мерзавец, выплыл. Да еще по какому делу!
Выписываю домашний телефон и адрес потерпевших. Попробую поговорить с ними, показать портрет, что принес Бубнов.
А время уже за полдень. Дела все изучены, можно и перекусить.
Отправляемся с Наумовым в столовую. Оба одиноки, так что и в ближайшей перспективе домашних обедов нам не предвидится. Но когда на улице делюсь с ним сожалением по этому поводу, он вдруг улыбается и говорит:
— Как знать!.. Я, брат, на днях такую замечательную дивчину встретил!..
— Ну, молодец! — искренне радуюсь за него и даже спотыкаюсь на ровном месте. — Кто же это?
— Дай срок — узнаешь. А то, чего доброго, отобьешь.
Он щурится от яркого солнца и лукаво смотрит на меня. Чем он мне всегда нравится, так это своей улыбчивостью и общительностью. К тому же деловой и энергичный.
— А тебе, Владик, тоже не мешало бы жениться.
— Ты так считаешь? — спрашиваю растерянно. С той поры как я остался без Кати, другие женщины не вызывают во мне никакого интереса. Ну, разве, Лена… в последнее время…
— Конечно, — все с той же лукавой улыбкой отвечает Наумов. — Глядишь, и пуговицы на пиджаке не будут болтаться.
Действительно, одна из них уже на ниточке висит. Старательно прикручиваю ее, смотрю на улыбчивое лицо Наумова и размышляю о Лене. Сегодня утром она была такой задумчивой… Вот уж кто ничуть не скрывает интереса ко мне.
Солнечные лучи заливают всю улицу. После душной, тесной комнатки архива, здесь, под небесной голубизной, дышится легко и свободно, и кажется, что эта приятная, освежающая голубизна всего-всего обволакивает меня. Все-таки как хорошо жить на свете, как хорошо!
Наумов поторапливает, и вскоре мы уже орудуем ложками, усевшись друг перед другом в небольшом светлом кафе, что неподалеку от райотдела. В этот час здесь немноголюдно, на каждом столике в узких вазочках — веточки сирени. Из открытых окон тянет ветерком.
К вечеру нам становится известно, что гильза, изъятая в «Бирюзе», и гильзы, проходившие по уголовному делу Пикулина, идентичны и что преступник пользовался оружием калибра «7,65». Возможно, в лесопарке и в магазине действовало одно и то же лицо. Кто этот человек? Все первоначальные следственные действия мною проведены, вещественные доказательства собраны, свидетели по делу опрошены… Но пока мы никак не можем выйти на него. Короче, «по горячим следам» преступление нам уже не раскрыть, так что придется планировать длительную работу. В дверь моего кабинета стучат. Это Ладыгины. Я просил их зайти ко мне, по возможности — сегодня же. И они с пониманием отнеслись к моей просьбе.
Обоим супругам лет под сорок. Выглядят довольно интеллигентно, высокие, стройные. Несколько взволнованные вызовом… Коротко объясняю им, в чем дело, и приглашаю понятых, предъявляю Ладыгиным дюжину портретных рисунков. В их числе — и работу Бубнова.
Даже не разглядывая, сразу указывают на портрет брюнета:
— Он!
— А не ошибаетесь? Внешность его, конечно, примечательна, но все же?
Первой отвечает жена Ладыгина. Волнуясь, она объясняет:
— Понимаете, уж очень дерзко он вел себя. Другой-то, белобрысенький, помалкивал, лишь сумочку у меня принял. А этот… Одну сережку из ушей я быстро сняла, а с другой промешкала. Так он чуть не вырвал ее из мочки.
— Я бросился к Людочке на помощь, — добавляет Ладыгин. — А этот бандит выстрелил в меня. Два раза. Забудешь ли такое?
— А что делал в это время другой преступник?
— По-моему, он не ожидал такого поворота. Закричал: «Эдик, Эдик! Да ты что!..» Мне думается, он и об оружии не знал, и своего напарника — тоже.
Оформляю протокол и поднимаюсь из-за стола.
— Ну что же… Спасибо, что пришли к нам.
— А этого «Эдика», видимо, так и не задержали? — сокрушается Ладыгина.
— Задержим. Обязательно задержим, — заверяю супругов. — Можете мне поверить.
Я говорю так не потому, что хочется успокоить и подбодрить их. Сегодня у нас действительно больше возможностей для его поимки и разоблачения.
Я прощаюсь с Ладыгиными. И как только они уходят, достаю из папки составленную мной справку о личности Пикулина.
«Пикулин Игорь Константинович, 1964 года рождения, русский. Образование — восемь классов. Холост. Родственников не имеет. Ранее не судим. До ареста работал на заводе „Метиз“ слесарем. Занимался в секции бокса спортивного общества „Труд“. Имеет первый спортивный разряд…»
Значит, не совсем потерянный человек. Почему же скрывает напарника?
Берусь за телефон, набираю номер Наумова. В трубке долгие гудки. Наконец слышится щелчок и приглушенный от одышки голос Сергея.
— Здесь Наумов. Слушаю вас…
— Привет, Сережа! Что так загнанно?
— A-а, это ты, Владик… Дай дух перевести… Задержанного доставляли. Так вырывался — насилу с Громовым управились. Иду по коридору — слышу звонок в кабинете. Пока открывал дверь, пока к столу бежал…
— Запрос о Пикулине сделал?
— Да. По телетайпу.
— Ну и как? Что ответила колония?
— Жив-здоров. На месте.
— Это далеко?
— Да километров сорок. В Прибрежном… Уж не хочешь ли ты скатать к нему?
— Угадал. Хочу. Очень личность для меня интересная. Поговорить надо.
— Есть что-нибудь новенькое по делу?
— Да. Ладыгиных повидал. Убежден теперь: в лесопарке и в «Бирюзе» стрелял один и тот же человек — Эдик.
— Что же Пикулин молчал о нем, как рыба?
— Вот и надо выяснить.
— Когда думаешь ехать?
— При первой возможности.
— Ну-ну… Желаю успеха.
— Салют!
Я кладу трубку, задумываюсь. Почему смолчал Пикулин? Из чувства товарищества? Из страха перед ним? Так ведь Пикулин — спортсмен. Боксер!..
Да, да… Боксер… А как личность? Что он за человек, кто скажет? Кто знает его лучше — мастер? Тренер? Надо бы встретиться с ними. В деле-то Пикулина о них — ни строчки.
Эх, Соловьев, Соловьев! Как же ты мог обойти их вниманием?
Я гляжу на часы. Время уже позднее. Пора двигаться к дому.
А дома, после ужина, Лена стучит в мою дверь:
— Можно?
— Конечно, заходи!
Лена проскальзывает в комнату, и я с удивлением замечаю в ее руках гитару.
— Вот, играй на здоровье.
Гитара на вид совсем новая. Даже струны не натянуты.
— Где ты взяла?
Лена отводит глаза и как-то чересчур беспечно отвечает:
— У подруги выпросила. Все равно валялась без дела. Так что владей и отводи душу.
Лена, Лена!.. Вчера она неожиданно умчалась в Москву. Это же она за гитарой ездила! Сердце мое переполняется нежностью.
— Спасибо, — говорю. — Спасибо за царский подарок. И как хорошо, что у тебя такая отзывчивая подруга. Передай ей, пожалуйста, что отныне и я буду ее самым верным и преданным другом.
Лена вскидывает брови, долго смотрит на меня, стараясь понять, шучу я или говорю серьезно. По-видимому, истинный смысл моих слов доходит до нее, потому что лицо ее вспыхивает от смущения, и она торопливо отвечает:
— Хорошо, хорошо, передам… А ты сыграй мне что-нибудь.
— Прямо сейчас?
— Если не занят, конечно.
Я настраиваю гитару, тихонько трогаю струны. Начинаю с простенькой мелодии и негромко напеваю:
Живет моя отрада В высоком терему. А в терем тот высокий Нет хода никому…Гитара в руках подрагивает. Дрожит и мой голос, пощипывает подушечки пальцев… Как давно я не играл!
Поставив локоть на край стола и подперев ладонью голову, Лена, кажется, не столько слушает, сколько внимательно разглядывает меня, будто нашла во мне нечто такое, что ей доселе не было ведомо.
Беру новые аккорды и, стараясь развеселить, шутливо напеваю новую песенку:
А мне мама говорила, Говорила, говорила! Целоваться запретила, Запретила, да!.. Черт ли с этим согласится, Согласится, согласится? Для меня же не годится, Не годится, да!..И Лена улыбается.
— А ты, оказывается, еще и артист. Вот не знала!
Я откладываю гитару и, подражая Карлсону, продолжаю дурачиться:
— О! Я самый лучший в мире артист! Самый талантливый!
Лена заливчато смеется, но в этот момент в прихожей раздается звонок. Она срывается со стула и выбегает из комнаты. В открытую дверь мне хорошо видно, как высокий молодой блондин с церемонной вежливостью протягивает Елене огромный букет цветов, а Лена, улыбаясь, проводит гостя в свою комнату. Через минуту она возвращается и говорит мне:
— Это Румянцев Славик. Ты уж поиграй без меня. Ладно?
Я пожимаю плечами: Славик так Славик. Знаю ее коллегу.
Знаю, что в одной школе с ней работает, что уже третий месяц заладил сюда… Но Лена снова улыбается и тут же исчезает. Мне почему-то неприятно слышать их веселые голоса за стеной. А ведь опять как хорошо начинался вечер!..
Глава шестая
…Вот и пятница. Думал, она что-нибудь прояснит в отношении «Бирюзы», но… И мне ничего не остается, как выправить командировочное удостоверение и ехать в исправительно-трудовую колонию к Пикулину. Решаю предварительно встретиться с его бывшим тренером Скляром и мастером слесарного участка завода «Метиз» Хлебниковым.
Созваниваюсь сначала с тренером. Отвечает неохотно, с тревогой. Почему? Ладно, выясним.
В большом просторном зале спортобщества «Труд» десяток здоровых, мускулистых парней в массивных боксерских перчатках на руках пружинисто кружат по полу и неистово лупцуют друг друга. Скляр поворачивается ко мне, отрывисто и нервно произносит, показывая золотые зубы:
— У меня, как видите, не детский сад… Я готовлю боксеров, вмешиваться в их личную жизнь мне, знаете ли, недосуг…
— И все же, — говорю терпеливо, — что вы можете сказать о Пикулине?
— Ничего, — резко отвечает он, видимо, стремясь поскорее закончить разговор. — Я прочил его в чемпионы республики. Ко мне-то какие могут быть претензии? Я в этом деле чист как стеклышко. И в спорткомитете отчитался за него. Зачем же снова воду мутить?
Мы сидим с ним за столиком в углу зала, смотрим на «будущих чемпионов» и говорим как будто на разных языках. Этот коренастый, жилистый мужик с редкими волосами на голове, водянистыми глазами и с перебитым носом никак не может или не хочет понять меня.
Я делаю последнюю попытку.
— Вам-то сейчас ничего и не грозит. Речь о Пикулине, вашем воспитаннике. Как все-таки случилось, что он так сорвался?
Глаза Скляра становятся ледышками.
— Я ему не нянька, — говорит он тоном, не допускающим возражений. — У меня своих забот хватает. Скоро снова республиканские… Мне могут «заслуженного» присвоить. И я знать ничего не хочу об этом бандите.
Нет, не присвоят ему звание! Быть такого не может. Кто-нибудь еще да увидит, что он за человек. И навряд ли его подопечные добьются на республиканских соревнованиях каких-либо успехов: школа не та! Не та школа!..
Мы сухо прощаемся, и я ухожу, провожаемый гулким хлопаньем перчаток.
На улице еще светло, хотя солнце почти скрылось за домами.
Эх, была не была, махну сразу и к мастеру. Без предупреждения. Чего тянуть? Пусть уж и с ним прояснится сегодня.
На остановке прыгаю в раскрытую дверь троллейбуса и через десять минут оказываюсь в уютной двухкомнатной квартире Хлебниковых. Хозяин — подвижный, хотя уже и немолодой — встречает меня без какой-либо тревоги и смущения. Радушно проводит в большую комнату и наказывает жене — симпатичной, улыбчивой блондинке — «быстренько сообразить что-нибудь на стол». Вскоре перед нами вьется из красивых чашек душистый парок крепко заваренного чая, и беседа сама собой становится все более непринужденной и доверительной.
— Да, золотые у Игоря руки. Цены им нет! — восклицает Хлебников. — Он отодвигает недопитую чашку. — Бывало, что ни поручишь ему: штамп какой сделать или приспособление… еще и чертежей нет порой, одна задумка — в момент справится. Посидит, покумекает, что-то прикинет, что-то примерит… Глядишь — готово уже!
— Значит, неплохой был парень. Как же тогда все так с ним получилось?
Хлебников вздыхает, расстегивает на волосатой груди рубашку, откидывается на спинку стула.
— Что уж скрывать — упустили мы его. Парень работал что надо. А коль с заданием справлялся, не подводил, а порой и выручал коллектив, то особой тревоги за него не испытывали.
Хлебников наливает нам еще по чашке чая и продолжает вспоминать.
— Как-то раз, правда, пришел он в цех словно после крепкого подпития. Глаза красные, веки опухли, голос сиплый…
«Что это ты себе позволяешь!» — сказал я ему. А он мне в ответ: «Извини, Пал Палыч. Так уж случилось». Ну, я и поотстал. А зря. Надо было допытаться, что да к чему. Глядишь, и уберег бы парня.
— Только раз так было?
Хлебников неторопливо прихлебывает из чашки.
— Так — только раз. Хотя, ребята сказывали, по ресторанам он хаживал.
— Говорят, был чемпионом города по боксу?
— Да, славу имел. Но она ведь не только радость. Иных и отравить может. Не каждый перед ней устоит, особенно когда ему еще восемнадцать… Я потом с тренером его схватился. Как же, мол, ты допустил, чтобы споткнулся парень? Так ведь он меня и слушать не стал. Мол, авторитет его подрываю. По-моему, дрянной он человек. Дрянной!..
Я помалкиваю, хотя полностью согласен с этой аттестацией. Сейчас мне нельзя объявлять собственные выводы. Такое мне, как должностному лицу, не положено в беседе с людьми. И я молчу.
— А вы, собственно, почему интересуетесь Игорем? Он что-нибудь опять выкинул?
— Нет-нет, — спешу успокоить Хлебникова. — Просто кое-что осталось невыясненным в его деле. Вот и хотелось бы поговорить об этом. Он ведь не один был в тот злополучный вечер. А вот назвать соучастника — не захотел. Как вы считаете — почему?
Хлебников отставляет в сторону чашку.
— Всяко может быть… — говорит задумчиво. — Парень-то он душевный, даром что сиротой рос. Может, пожалел того, вот и умолчал о нем. Я Игорька знаю: горе у кого или забота большая — всего себя этому человеку отдаст. Уж очень отзывчивый. И помяните мое слово — здесь тоже что-нибудь такое случилось… Вы с ним будете говорить?
— Буду.
— Поимейте это в виду. Да, — спохватывается Хлебников, — привет от меня передайте. Скажите, Пал Палыч на него хоть и в обиде за «ЧП», но в любое время готов принять на участок. Да и ребята по-хорошему о нем вспоминают. Я, правда, писал ему об этом, да он на письма не отвечает. Верно, стыдится за себя. Только зря замыкается. Вы и это передайте. Мол, верим в него, в его рабочую струнку верим. Так и передайте, ладно?
— Так и передам, — улыбаюсь. — Спасибо вам, Пал Палыч.
— За что же спасибо?
— И за прямоту вашу, и за радушный прием… За все!
Я допиваю чай, поднимаюсь из-за стола.
— Ну… Мне надо идти.
Он несколько растерянно протягивает руку. Крупную, жилистую… Я с чувством пожимаю ее.
— До свидания!
— А может, посидим?
Я качаю головой и вдруг ловлю себя на мысли, что не выяснил еще один вопрос.
— Совсем забыл, — говорю. — А с кем дружил Игорь?
— С кем дружил? — Хлебников задумывается. — Да вся бригада уважала его, — говорит он через минуту.
— А Эдик у вас на участке есть?
— Эдик? Нет у нас такого. Ни на участке, ни в цехе.
Я еще раз прощаюсь с ним и с вышедшей из кухни гостеприимной хозяйкой и покидаю их квартиру.
На улице уже стемнело, стало прохладнее. Неторопливо иду к своему дому, медленно проигрываю в памяти сегодняшние встречи… Как хорошо, что на свете есть такие Хлебниковы! Обязательно скажу Пикулину, чтобы держался своего Пал Палыча. Я иду, и с каждой минутой все во мне, прежде скованное заботами и тревогами напряженного трудового дня, словно оттаивает. Хорошо!
На углу улицы под ярким фонарем какая-то дородная тетя все еще торгует фиалками. Правда, в корзине осталось лишь несколько букетиков. Покупаю все. Для Лены. И делаю это с превеликим удовольствием. Давно хотелось осыпать ее цветами. А тут — вот они!..
И снова в полнейшем радужном настроении шествую к дому. Несу фиалки, а вижу изумрудные глаза Елены, ее нежные белые руки, милую улыбку… И вдруг замечаю у подъезда дома знакомую долговязую фигуру Славика Румянцева. Слоняется туда-сюда, туда-сюда… Прячу фиалки за спину: только бы он не увидел их.
Румянцев тоже узнает меня, останавливается.
— Здравствуйте, — говорит он и почему-то счастливо улыбается.
— Привет, — нехотя выдавливаю из себя. — А где же ваши цветы?
— Цветы? — удивленно переспрашивает Румянцев. — Ах, цветы!.. Они у Лены. Она всегда так радуется им.
— Значит, вы уже от нее? — Злость буквально распирает меня. — Тогда что же вы все у подъезда толчетесь?
Румянцев вспыхивает и, запинаясь, отвечает:
— Вот… Не хочется… Уходить не хочется…
— Ну-ну, — насмешливо говорю я. — Побродите под окнами, спойте серенаду…
В глазах Румянцева растерянность. Он озадаченно спрашивает:
— Зачем вы так?
А мне и самому неудобно за дурацкую издевку. Парень он как парень… Чего я на него взъелся? И какое мне дело, кто кому дарит цветы и почему их принимают.
— Простите, Славик… Всего вам хорошего.
Боком проскальзываю в подъезд и на своем этаже выбрасываю фиалки в мусоросборник. На душе делается так тяжело, будто вместе с цветами выбросил еще что-то, дорогое-дорогое, без чего и жить нельзя, наверное. Осторожно, стараясь не греметь, вставляю ключ в замок, открываю дверь и почти на цыпочках крадусь в свою комнату.
Но не тут-то было. Стремительно распахивается дверь кухни, и в проеме возникает Елена.
— Добрый вечер!.. Что такой пасмурный?
— Разве? — спрашиваю с напускным удивлением. И, не сдержавшись, сердито выпаливаю: — Зато другой, у подъезда, вне себя от счастья.
Веселые искорки в ее глазах гаснут. Она смотрит на меня непонимающим взглядом.
— О ком ты говоришь?
Кажется, она действительно не понимает, в чем дело. Но мне не хочется вдаваться в объяснения, и я молчу.
Лицо Елены становится вдруг задумчивым.
— Слушай, Владик, — тянет она слова, впервые называя меня по имени. — Уж, не ревнуешь ли ты? Вот не ожидала!
А ведь в точку попала. И для меня это ужасное чувство — полнейшая неожиданность. Ишь, какой Отелло выискался!
Порываюсь скорее ретироваться, но Елена сердито останавливает:
— Нет, Демичевский. Давай договоримся: мои друзья — это мои друзья…
Скрип двери заставляет ее умолкнуть. В коридоре появляется встревоженная Екатерина Ивановна.
— Леночка, милая… Что тут у вас?
Лена бросает на меня обиженный взгляд и, не ответив, уходит. Смущенно смотрю на Екатерину Ивановну, она — на меня.
— Владислав Викторович, что случилось?
— Ничего, — поспешно заверяю я. — Так, поговорили… Вы уж не беспокойтесь.
Она недоверчиво качает головой и торопливо возвращается в комнату.
Мне делается совсем нехорошо. Ну что я за остолоп такой! Сам себе все испортил.
Так и засыпаю с гнетущим чувством чего-то тяжелого, почти непоправимого. С тем и просыпаюсь, весь в холодном поту от мучивших во сне кошмаров. В мыслях только Елена, ее глаза, полные обиды. О Кате почему-то и не вспоминается. Даже наоборот — не хочется вспоминать. Что же это со мной? Неужели все-таки опять втрескался? Всерьез, по-настоящему. Разве такое бывает?..
Прохожу в ванную комнату, прислушиваюсь — кто на кухне? Если там Елена, лучше уйти из дому без чая. Ведь мне сейчас и не взглянуть на нее, наверное. Но на кухне тихо. А время — уже восемь… Быстро умываюсь, одеваюсь… На кухне по-прежнему ни шороха. А меня уже томит эта тишина. Прохожу туда, наливаю чай и как можно медленнее прихлебываю из чашки. Мне уже не хочется быть одному. Хочется хотя бы на миг, всего на мгновенье, но увидеть Елену, ее лицо, ее глаза: что будет в них — все та же милая улыбка или… Об «или» и думать страшно. От «или» — свет будет не мил.
Словно угадав мое желание, появляется Лена. Уже одетая.
— С добрым утром! — говорит она, лукаво поглядывая в мою сторону.
— Здравствуй! — счастливо откликаюсь я. От этих ее слов и взглядов у меня будто и впрямь гора сваливается с плеч.
Лена!.. Моя Прекрасная Елена! Ты снова идешь мне навстречу. Такому упрямому и бестолковому. За что мне этакое счастье?
Глава седьмая
Через час уже еду в колонию. За окнами вагона электрички сначала медленно, а потом все быстрее плывут пристанционные постройки, жилые дома и деревья, мелькают зеленые поля и перелески, ручейки и речушки… Вспоминаю улыбчивые взгляды Елены и сам невольно улыбаюсь: спасибо тебе, спасибо!
За спиной слышится звон гитары, приглушенный шумок молодых голосов. От скамейки к скамейке бегают двое малышей-близнецов, кудрявые и озорные, одинаково одетые в матросские костюмчики… Все это автоматически фиксируется в моем сознании, не вызывая каких-то особых эмоций, лишь уводит мысли к предстоящей встрече с Пикулиным: вдруг разговора не получится? И вообще — как он там, чем занимается?
Признаться, у меня не очень четкие представления об исправительно-трудовых колониях. Ну, отбывают там правонарушители наказание, назначенное судом. Конечно, работают… А что еще? Ведь, как известно, многие преступники, порой даже и матерые, в конце концов выходят на свободу совсем другими людьми, как говорится, — исправившимися. В чем здесь «секрет»?
Когда мне случайно приходится встречаться с работниками колоний, всегда интересуюсь этим. Но, как правило, они отшучиваются, переводя разговор на другое… Скромничают, что называется. И все же я испытываю к ним чувство глубокого уважения. В самом деле, вот мы — сотрудники полиции — тоже занимаемся правонарушителями. И столько сил, нервов, жизненной энергии нам это стоит! Допрашиваешь какого-нибудь уголовника, а он волком смотрит, зубами на тебя скрипит. Думается, дай волю такому… А там, в колонии, немало таких. И вот, попробуй, выведи их в люди!..
Электричка замедляет ход и скоро останавливается у небольшого вокзала. Близнецы бросаются к окнам: «Прибрежный!» В вагоне зашевелились. Я тоже поднимаюсь, двигаюсь к выходу.
У привокзального скверика сажусь в автобус и еду до самой окраины поселка. Там, как объяснили мне попутчики, нужно выйти на проселочную дорогу, и уж она-то приведет к колонии.
И в самом деле, минут через двадцать передо мной предстает бетонный забор с вышками на углах, массивными железными воротами и небольшим помещением КПП.
В узком шлюзовом пенале КПП передаю в окошко свое служебное удостоверение. Молодой прапорщик охраны сначала внимательно рассматривает удостоверение, потом меня, затем спрашивает, к кому из сотрудников я хочу пройти.
А к кому же еще, как не к начальнику? Накануне ему уже сообщили по телетайпу о необходимости нашей встречи.
Прапорщик снимает телефонную трубку, с кем-то говорит, просит меня подождать немного. Вскоре появляется пожилой седоволосый капитан и предлагает мне пройти за ним в «зону», в «штаб».
— Я провожу вас к начальнику, — поясняет он.
— Как мне его называть? — интересуюсь по дороге.
— Майор Васильев. Николай Алексеевич.
Слушаю, а сам все невольно верчу головой. Я не робкого десятка, и по работе — где только не приходилось бывать. Но здесь, в «зоне», мне почему-то делается не по себе. Перед нами здание за зданием, и кажется, что вот-вот из-за угла одного из них кто-то выскочит и бросится на тебя.
Смешно, конечно, так думать. Однако — думается, черт возьми, не в пионерский лагерь приехал! И прибавляю шаг.
А ни у зданий, ни на дорожках между ними — ни души. Вот, правда, показывается один человек. В темной спецовке. Поравнявшись с нами, сдергивает со стриженой головы такой же темный картуз, отступает в сторону и негромко произносит:
— Здравствуйте.
Мы отвечаем на приветствие и идем дальше. Я по-прежнему выкручиваю шею, но кроме пышных цветников и газонов больше ничто и никто не попадает в поле зрения.
Капитан чуть заметно усмехается:
— Я тоже здесь поначалу чуть не галопом бегал… Все нормально!.. Не беспокойтесь.
— Я и не беспокоюсь, — отвечаю. — Чудно только: колония — и вдруг цветы.
— Нравятся?
— Красивые.
— Вот… Затронуло вас. Глядишь, и у другого при виде их в душе потеплеет, — раздумчиво замечает мой провожатый.
— А где другие-то? Пока одного лишь и встретили.
— Что ж им без дела болтаться. День только начался. Каждый на своем месте.
Поди ж ты… Ну-ну, посмотрим, что будет дальше, каким окажется начальник.
…А Васильев еще относительно молод, лет сорока. Круглолицый, широкоплечий, по-военному подтянутый. Встречает меня в своем кабинете приятной, располагающей улыбкой. Энергично пожимает руку.
Глаза мои быстро схватывают весь кабинет: большой письменный стол, еще один — поменьше, приставленный к нему торцом, книжный шкаф, сейф, стулья, на окнах желтые шелковые шторы, на стене, над большим столом — портрет Антона Семеновича Макаренко… Все очень просто и скромно…
Выясняется, что Пикулин сейчас в школе, где учится в девятом классе. Так что встретиться с ним можно будет не раньше чем через два часа.
— А разве он еще и учится? — задаю я наивный, наверное, вопрос, потому что Васильев смотрит на меня с удивлением.
— А как же! И не он один. Закон о всеобуче действует и у нас, — не без удовлетворения отзывается он после небольшой паузы. — Без образования — что делать сегодня на свободе?
— Не пытаются увильнуть от занятий?
— Бывает, — соглашается Васильев — Иного больших трудов стоит приобщить к ним. А потом — спасибо говорит. Посудите сами, ведь как только наши подопечные переступают порог школы, так словно в другой мир попадают, в другую среду. Там и знания им дают, и возможность подумать о своей судьбе, взглянуть на себя как бы со стороны. Смотришь, постепенно меняется человек. На жизнь уже по-другому смотрит — так, как всем нам и положено, по-деловому и разумно.
— Значит, школа здорово вам помогает.
— И школа, и ПТУ, — снова с удовольствием подтверждает Васильев. — Мы ведь здесь и профессию даем, у кого ее нет. Готовим токарей, слесарей, фрезеровщиков… А как же иначе?
— Резонно, — соглашаюсь я и прошу рассказать о Пикулине: что он за человек, как относится к работе и учебе, к своему преступлению?
— Ну, сейчас-то он у нас не на плохом счету, — быстро откликается Васильев. — В передовиках, правда, не ходит, но и замечаний особых не имеет. А вот два года назад — и слова из него не вытянуть было. Учиться отказывался, работать не хотел. Отрешенный был, нелюдимый… Срок-то ему большой дали, вот и считал, что ему теперь ни до чего нет дела, вся жизнь, мол, мимо проходит. Так что поработать с ним пришлось изрядно… Да вы посмотрите его личное дело, почитайте характеристики.
Васильев пододвигает мне толстущее дело. Листаю характеристики.
«…По характеру замкнут. От работы и учебы отказывается. На доверительные беседы воспитательного характера не реагирует…»
«…Преступление свое осуждает, но по-прежнему считает, что к настоящей жизни он уже не пригоден. В отчаянии, что она проходит мимо него…»
«Вспыльчив, дерзок, в коллективе ведет себя обособленно. Ни с кем не переписывается, товарищей не имеет, работать и учиться не желает. На убеждение и примеры о возвращении к честной трудовой жизни других таких же осужденных не отзывается, к администрации и наставлениям относится с недоверием…»
«Согласился начать учиться в вечерней школе. Успевает по всем предметам. Впервые за два года выполнил на производстве месячное задание, представлен к поощрению правами начальника отряда…»
«Работает старательно, инициативно. Выдвинут на должность бригадира. Стал более общительным, вступил в физкультурно-спортивную секцию, оказывает большую помощь активу в организации ее работы. Мечтает о досрочном освобождении. К мнению администрации прислушивается, безотказно выполняет все ее распоряжения…»
Да… Тут все как в зеркале. Интересно посмотреть теперь на самого Пикулина. Как-то у меня с ним сложится разговор?
С Пикулиным встречаемся в этом же кабинете. В час дня Васильев вызывает дневального и просит пригласить его к нам. Спустя пять минут раздается негромкий стук в дверь.
— Войдите, — откликается Васильев.
В кабинете появляется невысокий парень в темной хлопчатобумажной куртке и таких же брюках. Снимает с головы фуражку, вытягивается у порога и четко докладывает, обращаясь к Васильеву:
— Гражданин майор, осужденный Пикулин Игорь Константинович, статья 146, часть вторая, срок — семь лет, по вашему вызову прибыл.
— Проходите, садитесь, — приглашает его к маленькому столику Васильев.
Прежде чем сесть, Пикулин бросает на меня быстрый взгляд. Видимо, сообразил, что его вызов связан с моим присутствием здесь. Озабоченно присаживается напротив. Снова окидывает меня быстрым взглядом. Чувствуется, его тревожит мой штатский вид, и он никак не может догадаться, кто я и что мне от него надо.
— Вы уж тут без меня побеседуйте, — говорит Васильев. — А я вас пока оставлю. Понадоблюсь, — нажмите кнопку на столе.
И выходит, подбадривающе кивнув Пикулину. На мгновенье в кабинете воцаряется тишина.
— Следователь Ильменского райотдела внутренних дел капитан полиции Демичевский, — представляюсь я Пикулину. — Мне нужно о многом поговорить с вами.
Он с еще большей настороженностью вскидывает на меня свои светло-серые глаза и тут же отводит их в сторону. Весь его скованный вид подсказывает, что говорить ему со мной не очень-то и хочется. Нужен какой-то подход, чтобы вызвать его на откровенность. Но какой?
— Курите? — спрашиваю и придвигаю к нему пачку «Беломора».
Он поворачивает голову, молча вытаскивает из пачки папиросу, прикуривает от моей зажигалки. Закуриваю и я.
Пикулин не смотрит на меня. Часто затягиваясь, косит глазами в угол. Папиросу держит не между пальцев, а укрывает в кулаке, словно курит тайком или на ветру, в сильный дождь. Кисти рук у него широкие, пальцы загрубевшие, по-настоящему рабочие.
И тут мне вспоминается разговор с его мастером. Как же я забыл об этом?
— Вам привет от Хлебникова.
Голова Пикулина непроизвольна дергается. Он недоверчиво смотрит на меня.
— От кого, от кого?
— От Пал Палыча, мастера вашего.
— Не может быть…
— Почему?
— А когда вы с ним виделись?
— Вчера.
— И он еще помнит меня?
— Не только помнит, но и всей душой переживает за вас. Готов в любое время принять на свой участок. Считает вас первоклассным слесарем. Или ошибается?
— А вы-то к нему с какой стороны?
— Да тут вот как все получилось… В связи с одним происшествием пришлось нам поднять ваше дело. Так на Пал Палыча и вышли. И разговорились с ним о вас.
— А что за происшествие? Почему понадобилось изучать мое дело?
— Что за происшествие? — медлю с ответом. — Мы еще к нему вернемся. Вы мне лучше вот что скажите: кто все-таки был с вами в тот злополучный вечер 30 сентября 1982 года, когда двумя выстрелами из пистолета ранили гражданина Ладыгина?
Пикулин морщится, гасит в пепельнице окурок.
— Я уже говорил на суде — не знаю.
— Ну, Пикулин… А мне здесь рассказывали, что вы вроде бы за ум взялись. Если так, зачем крутить старую песню?.. Вот выйдете из колонии, начнете новую жизнь. И вас не будет тяготить, что человек, втянувший вас когда-то в грязное дело, все еще на свободе и, быть может, совершает новые преступления?
— Значит, он все-таки не пойман.
— Пока — да. Ведь вы упорно покрываете его.
Пикулин отводит глаза.
— И все-таки… Что он еще натворил? — глухо спрашивает через минуту.
— Совершил разбойное нападение на один из фирменных магазинов.
В глазах Пикулина недоверие.
— Почему вы думаете, что это сделал он?
— Его опознали. И потом… В этом магазине и в Ладыгина стреляли из одного и того же оружия. Что это за оружие, Пикулин?
Он опускает голову:
— Не знаю.
— Кто этот человек? Как вы с ним познакомились?
Парень молчит, упорно смотрит в сторону.
— Да поймите же вы!.. — начинаю я заводиться и останавливаю себя. Заводиться-то мне и нельзя. Ну никак нельзя. Ради моего дела. Ради всех тех, кто вскоре может вновь оказаться жертвой «Эдика». — Поймите, — приглушаю я свой голос. — Быть может, сейчас, пока мы с вами разговариваем, этот человек снова в кого-нибудь стреляет. В того же Пал Палыча, не дай бог!
— Разрешите еще папиросу, — охрипшим голосом просит Пикулин.
Пододвигаю к нему «Беломор». Пикулин закуривает, жадно затягивается.
— Так кто этот человек? Как зовут его?
— Эдик, — тяжело вздыхает Пикулин. — А вот фамилию, где живет и работает, не знаю. Честное слово, не знаю.
— Когда и как вы с ним познакомились?
Он опять делает несколько глубоких затяжек.
— Два года назад. В августе. В ресторане «Солнечный». Не подрассчитал я маленько, оказался перед официантом банкротом. Девочек своих выпроводил, чем расплачиваться — не знаю. Тут он и подсел ко мне. Расплатился за меня и еще заказ сделал. Мол, счастлив познакомиться с чемпионом. Расстались друзьями. Вот так все и началось.
— Что — все?
— Ну… мое падение, что ли… Поверьте, это вышло случайно. Как раз в тот вечер, 30 сентября, денег не оказалось ни у меня, ни у него. Договорились с официантом, что подождет с часок. А сами нырнули в парк, как раз рядом с рестораном… Если бы я не так пьян был, домой скатал бы или занял бы денег у знакомых. А тут он все подзуживал: у первых попавшихся спросим, скажем — потом, мол, отдадим. Опомнился, когда он уже стрелять начал. Как и куда я потом бежал — не помню. Только кто-то догнал, скрутил меня в бараний рог и сунул в «канарейку»… в машину, значит, вашу.
— Почему на следствии и на суде промолчали?
Пикулин грустно усмехается.
— Эдик как-то сумел переслать мне записку. Мол, дьявол попутал. По гроб будет обязан, если умолчу о нем. Свадьба, мол, у него скоро, зачем и невесте жизнь портить… Неужели все заливал?
— А кто невеста? Видели ее?
— Девчонок-то у него много было. Может, Светка? В сентябре он все с ней крутился. Фамилию, правда, не знаю… Беленькая такая. Где-то парикмахершей работает.
Вот так, слово за слово, и проясняется картина. Остается предъявить Пикулину рисованный портрет «Эдика». Нажимаю кнопку звонка и прошу появившегося Васильева вызвать понятых. В их присутствии кладу на стол рисунки.
— Может, узнаете кого… — говорю Пикулину.
— Вот. — Он указывает на портрет Эдика. — Если бы знал, что снова может на подлость пойти — давно бы показания дал.
Он опускает голову. И, пока разглядываю его, думает о своем. Я понимаю, что происходит в его душе.
— Что передать Пал Палычу?
Пикулин поднимает голову, глаза оживают:
— Скажите… Пусть ждет. Скажите, отхожу понемногу от нокаута. На другой такой не попадусь… Да я сам напишу ему.
— Вот это верно, — одобряю. — Таиться от него не надо. Золотой он человек!
— Это точно! — отзывается Пикулин. И смотрит уже заметно веселее.
Из колонии меня провожает Васильев. На дорожках по-прежнему ни души, только из клуба слышатся серебряные звуки трубы, да из заводских корпусов доносится гул станков, грохот металла, посвист резцов. И, глядя на моего провожатого, задумчиво бредущего к проходной, я понимаю, какие обычные и в то же время удивительно сильные духом, по-человечески добрые люди работают тут с Пикулиным: учителя, мастера, воспитатели… Ведь Пикулин и раскрылся-то мне лишь потому, что поверил в добрую улыбку Васильева, в учителей своей школы, где сейчас учится, поверил здесь в свое лучшее будущее.
Глава восьмая
И снова — электричка. Возвращаюсь домой. Опять стучат на стыках рельсов колеса поезда, за окнами вагона — уже знакомый мне пейзаж. В голове мысли о Громове, о Наумове: у них что нового?
И, конечно, думаю о Лене. Всего-то несколько часов не виделся с ней, а уже с нетерпением жду новой встречи. Но неприятно мелькает в голове одна и та же навязчивая мысль: почему Лена принимает ухаживания Славика? Неужели не видит, что к чему?
А колеса все стучат и стучат… И думы, думы, думы…
Сегодня уже суббота. Как быстро летит время!
Первый, кто попадается мне в отделе, — это Наумов. Чуть не сталкиваюсь с ним на лестнице. Лицо у него усталое, напряженное. Но, увидев меня, приветливо улыбается.
— Салют! Уже вернулся!
Мы обмениваемся крепким рукопожатием.
— Как съездил — с результатом или вхолостую?
— Нормально, — говорю. — Пикулин, в сущности, неплохой парень. Рассказал все, что нужно… А ты куда торопишься?
Наумов хмурится.
— Да в больницу надо скатать. Тут, понимаешь, без тебя такое приключилось… Утром звонок по «02». И кричат в трубку: «Приезжайте скорее! Сосед разбушевался, по квартире с топором бегает, все крушит, все рубит…» Ну, мы с Кандауровым и выскочили по адресу. Короче, сержант удар на себя принял, тем и спас хозяйку.
Кандауров! Помощник дежурного!
— Сам-то он хоть жив? — спрашиваю, а горло словно сдавило стальными тисками.
— Второй удар я успел перехватить. А вот от первого ему досталось, — удрученно отвечает Наумов. — Все плечо разворотило. Хирург говорит: если и будет жить, то служить — вряд ли… Вот, спешу узнать — очнулся ли?
— У него есть кто из близких? — спрашиваю тихо. — Мать? Жена? Невеста?..
— Одна мать. Жениться только еще собирался. Девушка у него славная. Знаю ее. Мы ведь с ним в один день в загс заявления подавали.
— Как же они теперь?
— Я и говорю — девушка у него хорошая. Все понимает, глаз с него не сводит, дай бог каждому такую!.. И он мужик крепкий… Глядишь, выкарабкается!
— Хорошо бы все обошлось! Порадовал, что называется.
— А ты к Громову зайди. Может, утешишься. Он тебе еще одного свидетеля откопал. А я побегу. Ладно?
— Давай, давай… Беги!
И Наумов исчезает. Настроение у меня — хуже не надо. Иду к Громову: что еще за свидетель? И застаю у него щуплого рыжеволосого парня.
Увидев меня, Громов хмуро спрашивает:
— О Кандаурове слышал?
— В курсе, — отвечаю. — Наумов сейчас поехал к нему… А у тебя что нового?
Лицо Громова светлеет.
— Вот, знакомьтесь, — кивает он на паренька. — И с довольным видом продолжает: — Бывший мой подшефный, а нынче — лучший таксист города Владимир Владимирович Бучкин.
Парень смущенно опускает глаза.
— Скажете тоже… Шофер как шофер.
Громов улыбается.
— А чья фотография в городском парке? Не твоя разве? Нет, Володя. Ты своей доброй славы не стесняйся. Ее еще не каждый заслужил. А твой портрет уже в галерее передовиков.
Он поднимается из-за стола, освобождая мне место, пересаживается в угол.
— Лучше расскажи нашему следователю, товарищу Демичевскому, о Камилове, — где, когда и при каких обстоятельствах с ним встречался. Так же подробно, как мне сейчас рассказывал.
Бучкин с минуту молчит, собираясь с мыслями, потом спокойно и подробно начинает объяснять:
— Эдиком его зовут. Камилов Эдик. Я с ним года три назад познакомился. Вместе пятнадцать суток отбывали. Он нам все анекдоты травил да разные байки о Черном море рассказывал, как там летом с девчонками развлекался. В общем-то, веселый парень… И тут вдруг дней десять назад встречаю его вечером, часов около семи, у «Бирюзы». Прохаживается у дворика, покуривает, будто ожидает кого из магазина. Я к нему: «Здорово, Эдик!» Повернулся он и поначалу вроде как испугался чего-то. А когда узнал — заулыбался, подхватил под руку и давай выпытывать, как живу, да чем живу, вожу ли еще машину… Настоящего-то разговора у нас с ним не вышло. Как сказал ему о моем анфасе в парке, он сразу поскучнел, заторопился прощаться. И больше уже я не встречал его. Так бы и не вспомнил о нем, если бы не вчерашний разговор с товарищем Громовым… Ушел он от меня, а я и уснуть не могу, все его вопросы и рассуждения о «ЧП» в «Бирюзе» из головы не выходят. И вдруг — как огнем меня ожгло: а чего это Эдик крутился у магазина, не он ли там нашкодил? От корешей своих прежних слышал, что на любое подлое дело пойти может, такой уж он парень заводной. И вот как подумал о нем, так еле утра дождался, чтобы позвонить к вам.
— Портрет показывал? — спрашиваю Громова.
— А как же, — отвечает. — Опознал его Бучкин. Камилов был в «Бирюзе».
Оформляем показания Бучкина и прощаемся с ним.
— Золото, а не свидетель! — восхищается Громов.
— Как ты вышел на него?
— Мы же договорились у Белова — еще раз пройтись по квартирам в районе «Бирюзы». Бучкин как раз на той же улице живет. Дай, думаю, к «крестнику» своему загляну. Отец у него, к сожалению, пьяница. Дома никому житья не давал. Вот парень и закуролесил. Много мне с ним повозиться пришлось, пока на путь истинный поставил. А вчера захожу к нему и откровенно так спрашиваю; «Слышал, что в „Бирюзе“ случилось?» — «Слышал», — отвечает. «Ну и что ты обо всем этом думаешь? Кто мог там отличиться? Как думаешь?» — «Не знаю, — говорит. — Уж очень нахально действовали. У нас вроде таких громил и не водилось». — «Но и чужой, — говорю, — не смог бы так подготовиться, время на это нужно — и магазин изучить, и подходы к нему…» Пожал он плечами, а сегодня утром и звонит мне: мол, вспомнил, что видел на днях у «Бирюзы» одного давнего знакомого.
Да, молодец Громов. Ну, теперь нам нельзя терять ни минуты.
— Где живет Камилов, выяснил?
— Нет еще.
— Как думаешь, сколько ему лет?
— Двадцать пять, не меньше.
Снять телефонную трубку и позвонить в адресное бюро — дело нескольких секунд, и вскоре в моем блокноте появляются два адреса: Камилова Эдуарда Каюмовича, 1959 года рождения, и Камилова Эдуарда Георгиевича, 1957 года рождения. Первый проживает по улице Большая Садовая, 17, квартира восемь, второй — Заводская, 10, квартира двадцать восемь. Другие однофамильцы Камилова в адресном бюро не значатся. Кто из этих двух побывал в «Бирюзе»?
— Придется проверять обоих, — озабоченно говорит Громов.
— Зачем обоих, — успокаиваю. — Интересующий нас Камилов, как ты слышал, отбывал пятнадцать суток. Надо поднять материалы, там его адрес тоже указан.
— Точно! — оживляется Громов. — И как это я не сообразил. Бывают заскоки — что ближе лежит, то и далеко!
— Ничего, ничего… Действуй! Доводи дело до конца. Лады?
— Лады!
— Белов здесь?
— Здесь. Тебя ждет. Тут ему звонок за звонком из УВД. И всё по «Бирюзе». Мол, не требуется ли нам помощь? Белов, конечно, тактично заверил, что и мы тут не лыком шиты. Но, видно, там хотят подстраховать нас.
— Ничего, теперь и сами справимся.
Мы расходимся, и я отправляюсь к Белову.
— Ну, прибыл? — приподнимается он из-за стола, отвечая на мое приветствие. — В семнадцать часов оперативка по «Бирюзе». Нужно рассмотреть все, чем мы объективно на сегодня располагаем… С Громовым виделся?
Я улыбаюсь.
— И с ним, и с его «крестником», Александр Петрович. По-моему, мы уже выходим к финишу.
— Ишь, какой шустрый, — усмехается Белов. — А вообще-то, давно пора. Подзадержались мы на старте.
— Зато сейчас набираем темп.
— Ой, Демичевский, — качает головой Белов. — Что-то мы с тобой на спортивный лексикон перешли. Скажи проще: выяснил — кто?.. Камилов?
— Он, Александр Петрович. Он! Остается продумать: когда, где, как брать его… если, конечно, он еще в городе.
Глаза Белова заметно веселеют. Он хлопает меня по плечу.
— Продумаем! Это мы, Демичевский, продумаем. Теперь мы его и на краю света найдем.
Он садится, но я не ухожу. Хочется узнать, звонил ли из больницы Наумов, как состояние Кандаурова.
— Уже наслышан? — вопросом на вопрос отвечает Белов и хмуро продолжает: — Да-a, вот такие у нас невеселые дела… Плохо Кандаурову. Все еще не пришел в сознание… А ведь молодой! Ему бы только жить да радоваться, а вот поди ж ты…
Он удрученно вздыхает.
— Знаешь, не хочется, да и не люблю говорить высокие слова… Думаю сегодня об одном — лишь бы выжил парень! Обидно терять таких людей. Горько, понимаешь? Этот мерзавец, что с топором был, и мизинца его не стоит!..
Молча киваю и больше не задаю вопросов.
— Ну, иди, иди, — машет Белов.
И я выхожу.
А к пяти часам все приглашенные на совещание один за другим собираются в его кабинете. Присоединяюсь к ним и я. «Наш» Камилов проживает, как выяснилось, по Большой Садовой, 17.
Опять присаживаюсь у окна, оглядываю присутствующих: за столом — Белов, сосредоточенно перебирает лежащие перед ним бумаги, на диване в напряженных позах ожидания застыли Громов и вернувшийся из больницы Наумов, на стульях, расставленных у стен, разместились другие члены следственно-оперативной группы.
Белов наконец поднимается, обводит всех долгим взглядом:
— Начнем, товарищи… Давайте посмотрим, чем мы располагаем по делу о разбойном нападении на «Бирюзу», и наметим план наших дальнейших действий. Кто выскажется первым? — спрашивает он, но при этом смотрит только на меня.
И правда — кому, как не мне, доложить о складывающейся обстановке. Я поднимаюсь.
— Разрешите, товарищ майор?
Белов кивает. Все выжидающе смотрят на меня. Коротко объясняю существо дела.
— Значит, предлагаете сегодня же брать Камилова? — спрашивает Белов. — Не торопитесь ли?
— Нет. Откладывать с этим не следует, — твердо отвечаю я, убежденный в своем решении.
— Однако нам неизвестна его сообщница. Задерживать — так одновременно обоих, — возражает Наумов.
Белов долго смотрит на меня, что-то соображает. Поворачиваюсь к Наумову.
— Нам нельзя и часа тянуть с Камиловым. Пока будем искать его сообщницу, не преподнесет ли он новое «ЧП»? Как тогда людям в глаза будем смотреть?
— Пожалуй, вы правы, Демичевский, — говорит Белов. — Где полагаете брать Камилова?
— Дома. Только дома. На улице опасно — кругом люди, вдруг заминка какая, и он за пистолет… Теперь-то ясно, что он на все способен.
— За пистолет он и дома может схватиться, — замечает Наумов. — Переполошим людей, если хуже чего не выйдет… Что у него за квартира? С кем он живет? Где работает или учится?
— У него только мать-портниха, — вступает в разговор Громов. — Я тут перед совещанием участкового опросил… Камилов уже давно — лишь на ее хлебах. После десятилетки учился пару лет в инженерно-строительном институте — бросил, устроился барменом в ресторан и тоже не удержался там. А живут Камиловы в двухкомнатной квартире, на втором этаже.
— Значит, запросто в окно может сигануть, — вслух размышляет Наумов. Он морщит лоб и добавляет: — В коридор бы выманить его. Есть у них там коридор? Что собой представляет? — обращается он к Громову.
— Есть, — быстро отвечает тот и передает Белову лист бумаги. — Взгляните, это план дома и квартиры, участковый по памяти нарисовал. Может, и пригодится.
Мы поочередно изучаем план.
Да, коридор есть. А в нем щиток с автоматическими пробками. Можно отключить освещение квартиры. Кто тогда выйдет посмотреть, в чем дело? Конечно, мужчина. А в данном случае — Камилов!
Я высказываю свои соображения на этот счет.
— Дельно! — загорается Наумов. — Вряд ли он в этом случае сунется в коридор с оружием.
— Значит, так… — говорит Белов. — Уточняем детали операции. В первую очередь устанавливаем за домом наблюдение, блокируем подъезд… На лестничной площадке и во дворе в главный момент не должно быть никого из детворы и жильцов! С ними надо сработать особенно аккуратно! Кому это поручим?
Наумов с Громовым с нарочитым вниманием опять принимаются разглядывать план дома, будто и не слышали последней фразы Белова. Он с пониманием усмехается:
— Что ж, возложим это на участкового. Как считаете, товарищи, справится?
— Да детвора в нем души не чает! — живо отзывается Громов.
— И весь народ к нему с почтением! — добавляет Наумов. — Справится, товарищ майор!
— Вот и отлично, — заключает Белов. — Значит, вам с Громовым, капитан, быть у щитка.
Они как по команде поднимаются, в один голос громко отвечают:
— Есть, быть у щитка!
И я четко понимаю, что Камилову уже не уйти от них, даже если он выйдет к ним с оружием.
Глава девятая
Наше совещание затягивается. Вновь и вновь уточняются детали предстоящей операции, намечаются ее участники, время проведения операции… Одни сотрудники войдут в группу захвата преступника, другие будут перекрывать пути его вероятного отхода, блокировать двор дома… Ну а мне предстоит провести у Камиловых обыск.
К семи часам вечера оперативники Белова докладывают, что Камилов дома и выходить пока не собирается.
А на улице все еще светло как днем. И минуты тянутся мучительно долго. Пятнадцать минут восьмого, полчаса… Восемь часов… Двадцать минут девятого…
Выглядываю из окна кабинета на улицу: есть ли где огоньки? Ведь начало операции ровно в девять. Огней пока — ни в одном доме. Лишь полыхают в витринах и окнах домов оранжевые отблески заката.
В восемь тридцать — звонок Белова:
— Спускайся вниз — через пять минут выезжаем.
Снова выглядываю в окно: закат уже потускнел, на улице — серая дымка… Пожалуй, к девяти часам и стемнеет.
Спускаюсь по лестнице в вестибюль и ясно слышу, как сильно стучит сердце. Неужели так волнуюсь? Ведь все продумано до мелочей…
У подъезда присоединяюсь к Белову. Садимся в машину. Все остальные участники операции уже давно на Садовой. По рации то от одного из них, то от другого поступают короткие сообщения: «Двор блокирован», «Подъезд блокирован», «Объект на месте, посторонних в квартире нет»…
На тихой улочке у старого четырехэтажного дома с высокой аркой над въездом во двор машина останавливается. Читаю на доме табличку: «Большая Садовая, 17». Вдоль арки прогуливаются двое хипповатых парней. С трудом узнаю в них наших работников уголовного розыска. Во дворе — ни души, лишь за самодельным столиком у второго подъезда все еще стучат костяшками домино четверо чем-то мне знакомых доминошников. «И эти — наши!» — проносится в голове.
Гляжу на часы: без трех минут девять. Пока войдем в подъезд, пока поднимемся по лестнице…
Вот и второй этаж. С площадки третьего нам навстречу бесшумно спускаются Наумов и Громов. Обмениваемся взглядами: «Пора!»
Наумов с Громовым ныряют в ярко освещенный проем коридора, и он тут же погружается во мрак. Озноб нетерпения прокатывается по спине. Представляю, как напряжены сейчас нервы и у других участников операции… Кажется, будто прошла уже целая вечность.
Слышится металлический щелчок замка, чей-то недовольный мужской голос, потом яростный всхрип, и мы с Беловым бросаемся в темь коридора. Нащупываю щиток с пробками.
Снова вспыхивает свет, и я вижу распростертого на цементном полу темноволосого парня с закрученными за спину руками, на ногах его — тяжело дышащего Наумова. Рядом с ним Громов — защелкивает на запястьях парня наручники. Тот конвульсивно извивается, что-то мычит.
Все! Дело сделано! В считанные секунды.
Громов рывком ставит Камилова на ноги. Теперь уже у меня нет никакого сомнения, что это он: точный оригинал рисунка Бубнова. Заводим его в квартиру, приглашаем понятых.
А где же мать Камилова?
Я нахожу ее на кухне. С полной отрешенностью на бледном, без кровиночки, лице, она неподвижно застыла на табурете у стола и никак не отзывается на предложение пройти в комнату сына. Но мы и без нее находим то, что искали: пистолет, патроны к нему, пачки денег в инкассаторской сумке, спрятанной за шифоньер. На столе и на книжных полках разбросаны затрепанные порножурнальчики, магнитофонные кассеты с записями передач западных радиостанций, видеокассеты фильмов ужасов…
Громов брезгливо поднимает за уголок один из таких журнальчиков и показывает его Камилову:
— А это дерьмо в каких подворотнях выискали?
— А тебе что — завидно? Тоже на голых баб поглазеть захотелось? — истерично вопит Камилов. — Ну гляди, гляди!
Понятые — две докучливые старушки — при этом все охают и ахают: «Да как же так!.. Да что же это!..» — и вразнобой торопятся заверить, что Эдик «всегда такой хорошенький, такой милый мальчик!». И что мать души в нем не чаяла…
А мать не плачет, лишь беспомощно и растерянно прислушивается к выкрикам сына, а когда его уводят из квартиры, провожает тоскливым взглядом. Мы еще будем беседовать с ней о сыне: как такой «хорошенький и милый мальчик» переродился в циника и уголовника. Будем! Но не сегодня, не сейчас… Ей и без того, чувствуется, горше горького. Может, и думать не думала, на что ее Эдик способен. Хотя, конечно, материнское сердце не проведешь, не обманешь! Да и «грязные» находки в комнате Камилова подсказывают истинную причину его падения.
Мы оставляем в квартире засаду — на случай, если сюда задумает наведаться его сообщница, — и отправляемся в отдел.
На улице уже окончательно стемнело. В открытую форточку машины врывается прохладный ветерок… И так хорошо на душе, так хорошо, что невольно мысленно убегаю к Елене. Целый день с ней не виделся. Как-то она встретит меня, что скажет?
А Лена ничего и не говорит. Лишь печально смотрит и молчит, молчит, молчит… В груди моей все переворачивается от возникшей тревоги. Я уже знаю, что, когда она так смотрит и молчит, значит, чем-то расстроил ее. Но чем?
Топчусь в прихожей и не знаю, что сказать. В комнату уходить не хочется и вот так в молчанку играть — тоже. Тихо и осторожно спрашиваю:
— Что не весела?
Она грустно усмехается.
— Я так ждала тебя сегодня… Неужели и в выходные дни ты не можешь побыть дома?
Облегченно перевожу дыхание.
— Почему не могу? Могу! Вот только разберемся с «Бирюзой»…
Лена недоверчиво качает головой.
— Ой, Демичевский… Свежо предание…
— Знаешь что? Выходи-ка ты за меня замуж, а? — неожиданно для себя выпаливаю я и замираю в тревожном ожидании ответа.
Глаза Лены округляются.
— Ты это… серьезно?
— Конечно!
Она некоторое время молчит, потом с запинкой отвечает:
— Спасибо тебе за лестное… и столь дорогое для меня предложение. Но… замуж за тебя… я пока не пойду.
— Но почему?! — вскрикиваю запальчиво.
Лена предостерегающе вскидывает палец к губам.
— Тише — маму разбудишь.
И вдруг берет в ладони мои руки, как в тот недавний, памятный для меня вечер и целует их.
Непостижимо!
Совершенно сбитый с толку, осторожно высвобождаю руки.
— Как же тогда понимать тебя?
Лена выпрямляется, задумчиво смотрит куда-то в сторону.
— Ты уж прости меня, Демичевский. Я и сама себя не понимаю.
Она переводит на меня взгляд.
— Хочешь откровенно?.. Когда ты появился у нас, показался мне таким молчуном, таким нелюдимым… И захотелось расшевелить тебя… А сейчас вот места себе не нахожу, если не увижусь с тобой хоть денек. Вот ведь как все получилось.
— Тогда почему же… отказ?
— По-моему, ты поторопился со своим предложением. Разве обо мне думал в тот наш вечер?
— Много ты знаешь, о ком я думал, — бурчу с раздражением. — И не такой уж я сухарь, как ты считаешь, нашли бы общий язык.
— Да, ты не сухарь, — соглашается Елена. — Просто был замороженный какой-то… А душа у тебя чуткая, отзывчивая. Потому и прошу — давай пока останемся просто друзьями.
Друзьями? Просто — друзьями? Ну нет, такое мне не подходит!.. А как быть с третьим? С тем же Славиком? Не зря он вокруг нее так увивается…
Лена выжидающе смотрит на меня. Прекрасное лицо ее даже побледнело от волнения.
— Я не хочу просто дружить, — говорю я и слышу, как предательски срывается мой голос, словно у обиженного мальчишки. — Я не могу без тебя, ясно?
На лице Лены появляется едва заметная улыбка. Она приподнимается на носки и целует меня в щеку. Потом быстро уходит к себе. Вот это выдался денек! А что грядущий мне готовит?
Глава десятая
Ночью мне не спалось. Все вспоминался разговор с Еленой, думалось о тяжелом ранении Кандаурова, перед глазами, словно в видеозаписи, мелькали сцены задержания Камилова… Не отпускала мысль: надо скорее найти его сообщницу. С ней-то теперь, конечно, будет проще. Хотя что в нашей работе дается просто? Да, завтра новый день, новые заботы…
С тем и отправляюсь утром чаевничать на кухню. Лена не показывается. То ли еще не проснулась, то ли просто скрывается от меня… И тревога сковывает грудь. Томлюсь ожиданием, но ее все нет и нет. А мне надо в отдел. Следует выяснить, кто сообщница Камилова. Сам он говорить о ней, естественно, не хочет, не в его интересах, а нам-то нельзя оставлять ее безнаказанной.
Пока шагаю по солнечным улицам к райотделу, все больше склоняюсь к мысли, что необходимо срочно отыскать бывшую подругу Камилова — парикмахершу Светлану. Много ли в городе парикмахерских? За день — все обойдешь. Можно, конечно, справиться о Светлане, обзвонив все эти заведения по телефону, но стоит ли тревожить администрацию, пойдут ненужные разговоры и домыслы…
А Светлана может знать о приятельницах Камилова. Вот захочет ли назвать их?
В райотделе наша следственно-оперативная группа уже в сборе. Наумов старательно опрашивает по моей просьбе соседей Камилова, Губин сличает пальцевые отпечатки Эдика с теми, что обнаружены в машине Власова, а все так же элегантно разодетый Громов откровенно томится в своем кабинете, ожидая каких-либо распоряжений. На этот раз на нем темно-синий, в рубчик костюм, голубая сорочка, галстук в горошек, на ногах коричневые ботинки на высоком каблуке.
Первым делом интересуюсь у Наумова: что с Кандауровым? Может, ему уже лучше?
Сергей крутит головой.
— Врачи говорят, он в кризисной ситуации. И каким будет исход ее — предугадать трудно.
— Но надежда есть?
— Лишь бы сердце не подвело.
«Может, и выдюжит», — думаю я и иду к Губину.
— Ну, как пальчики? — спрашиваю. — Кто оставил их в машине?
Он вскидывает на меня свои всегда серьезные глаза.
— Теперь сомнений нет: те, что в салоне, — Камилова. Официальное заключение получишь позднее.
— А чем еще порадуешь? Результатов баллистической экспертизы еще нет? Что ответило УВД?
— Больно ты скорый! Будут тебе и результаты. Ведь только-только отправили пистолет Камилова на экспертизу… Но не сомневаюсь: в «Бирюзе» стреляли именно из его «Вальтера». Я предварительно поинтересовался, подойдут ли к нему найденные тобой гильзы — подошли! Теперь только отстрелять патроны, и все станет ясно!
Я закрываю за собой дверь лаборатории Губина и отправляюсь к Белову.
— Ну? Что думаешь делать дальше? — спрашивает он.
Выкладываю свои соображения о парикмахерше и предлагаю:
— Пусть Громов займется ее поисками, все равно пока ничем не занят.
— Добро, — соглашается Белов. — Передай ему мое распоряжение на этот счет.
Вызываю Громова к себе, ставлю перед ним задачу, и он моментально преображается. Весело подмигивает и тут же исчезает из кабинета. А через час уже звонит мне по телефону:
— Светлану к нам привезти или сам подъедешь?
— А это она? Точно? — спрашиваю.
— Она, не волнуйся. Других таких девиц в этих заведениях не бывало.
— Где она — на работе или дома?
— Дома. Завтра собирается в отлет. Отпуск у нее. И как только перехватили!
— Что она собой представляет?
— Впечатление производит девицы неглупой, но несколько вульгарна.
— Если не возражает, вези ее в отдел.
И он привозит. Представляет мне высокую и весьма симпатичную блондинку:
— Изотова Светлана.
И исчезает.
Я предлагаю Светлане стул и с минуту разглядываю ее: кремовое платье-джерси, красивая финифтевая брошь, в ушах брильянтовые капельки-сережки… Светлые волосы аккуратными локонами обрамляют такое же светлое продолговатое лицо с неестественно тонкими, стрелкой, бровями. Веки голубоватых глаз чуть тронуты зеленой тенью, ярко-алой помадой подкрашены пухлые губы. Ноготки тонких, холеных рук отливают перламутровым лаком… Интересно, чем она не пришлась Камилову, если он предпочел ей брюнетку?
Решаю поговорить пока неофициально, чтобы не насторожить прямыми вопросами о сообщнице Эдика.
— Вы замужем? — спрашиваю.
— А что — хотите сделать мне предложение? — игриво отзывается Изотова и закидывает ногу на ногу. — Тогда поторопитесь, пока не улетела.
— И куда собираетесь лететь, если не, секрет?
— У-у, далеко, — тянет Изотова. — Аж, в самые Сочи. И между прочим, не одна, а с женихом.
— Это кто же такой счастливый? — говорю шутливо, чтобы не сбить ее с избранного тона.
Изотова польщенно улыбается.
— Правда? Вот и я так считаю. Эдику просто повезло, что я согласилась составить ему компанию.
«Эдик?» — проносится у меня в голове. Значит, все эти годы он продолжал встречаться со Светланой?
— Это какой же Эдик? — осторожно спрашиваю Изотову. — Камилов, что ли?
Она с изумлением смотрит на меня.
— А вы откуда знаете?
И в самом деле — что ей ответить? Вести разговор напрямую? Рановато, наверное. Еще не ясны отношения сторон в этом загадочном треугольнике: Камилов, его сообщница, Изотова.
— Да вот уж, знаю, — медлю с ответом. — Вы давно с ним знакомы?
— Три года. А что?
— Говорят, он вам предложение делал… Было такое?
Изотова хмурится.
— Да вы объясните — в чем дело? Зачем меня пригласили сюда?
— Извините, — говорю. — Вы правы. Я сейчас вам все объясню. Дело в том, что мы были вынуждены задержать Камилова. Он совершил очень тяжкое преступление. А вы — считаете себя его невестой. Вот мы и пригласили вас кое-что уточнить.
— Что именно? — Изотова как-то сразу сникла, низко опустила голову. — Что он натворил?
— Мы еще вернемся к этому вопросу, — говорю тихо. — Пока ответьте: делал он вам предложение о свадьбе?
Я спрашиваю, а сам все думаю: почему мне так важно знать это? Подспудно ловлю себя на мысли, что, во-первых, — хочется проверить, действительно ли три года назад Камилов собирался жениться, в связи с чем он и умолял Пикулина не упоминать о нем на следствии; а во-вторых… Три года — большой срок! И если Камилов никакого предложения не делал Изотовой, то что ему в этом помешало? Что или — кто? Может, та же его чернявая сообщница? Знает ли о ней Изотова?
— Делал ли он мне предложение? — задумчиво переспрашивает Светлана. — Нет, не делал. Это я, дуреха, все мечтала… Да не получилось.
— Почему? Не сошлись характером?
Изотова достает из цветистого продолговатого кошелечка круглое зеркальце, бросает в него быстрый взгляд, поправляет прическу.
— Как вы считаете — я представляю интерес для мужчин?
— Несомненно, — не кривя душой, подтверждаю я, уже догадываясь, в чем соль вопроса.
— Ну вот, — грустно продолжает Светлана. — А Эдика увлекла другая, чернущая, как цыганка.
«Неужели та самая, — думаю, — наша подозреваемая?»
— Такая же красивая?
— Что вы, — с ревнивой злостью возражает Изотова. — Да на нее и взглянуть-то страшно. Тощая, колченогая — кожа да кости!
— И кто же это вам дорогу перешел? Откуда такая?
— Вам и это надо знать? Ну, пожалуйста — Нинка Завьялова. Такая пигалица!
— Она учится где или работает?
— Учится. В театральном… Тоже мне — артистка нашлась… Было бы на что поглядеть!
— И что же — давно она с ним?
— Да с год, наверное.
— А почему с вами он лететь надумал?
Изотова поднимает голову, горько усмехается.
— Надоела она ему. Да и я его от себя никогда не отталкивала. — Изотова нервно дергает головой. — Вы Эдика видели? Глаза его, брови, ресницы? — неожиданно переходит она в наступление. — Нам, бабам, мужская красота вообще-то необязательна. Но у Эдика она особенная. Взглянешь на него — и млеешь, как дуреха… Все тогда готова простить ему, оправдать… Вы — мужчины, и то порой голову теряете из-за какой-нибудь куколки в юбке. Что же с нас спрашивать?
— А где эта Нина живет — знаете?
— Да зачем она вам? — теперь уже вяло отзывается Изотова. — Не знаю и знать не хочу. Эдик что натворил?
— Подозревается в разбойном нападении на фирменный магазин «Бирюза»: Может, слышали что?
Изотова подавленно кивает.
— Эдик рассказывал?
— Ну что вы!.. Он меня до своих дел и забот не допускает… Откровенно говоря, он лишь о себе высокого мнения, других и в грош не ставит. А что касается «Бирюзы»… Ходят же слухи по городу.
— Билет на самолет он вам купил?
— Он.
— И эти сережки?..
— Тоже.
— А вы и не спросили — отчего он вдруг такой щедрый? Где столько денег взял?
— Не спросила. Довольна была, что хоть с собой пригласил.
— Как же так можно, Света?..
Изотова вдруг опускает голову на стол и заливается плачем. Бросаюсь к графину и, пока Изотова пьет воду, вызываю по телефону Громова, отвожу его к окну и коротко, вполголоса бросаю:
— Я тебя вот о чем попрошу… Позвони-ка в адресное, узнай — где живет некая Нина Завьялова, студентка нашего театрального, и живо к ней.
— Та самая? Что была с Камиловым?
— Она, больше некому.
— Что искать?
— Перчатку. Черную шелковую перчатку. И туфли. Изъять надо все ее туфли. У нас ведь есть один отпечаток. Вот и проверим!
— А постановление на обыск и изъятие?
— Я подготовлю. Ты мне адрес, адрес давай!
— Ясно!
— Ну, действуй. Жду!
Громов исчезает, и я возвращаюсь к успокоившейся Изотовой. Теперь с ней можно вести и официальный разговор, закрепить, так сказать, ее показания. Ведь все, что мне нужно было узнать от нее, я узнал, и Изотовой уже нет смысла отмалчиваться. Она это тоже хорошо понимает. Вскоре, внимательно изучив протокол допроса, без единого замечания соглашается с текстом и размашисто подписывает бланк.
— А что делать с серьгами? Наверное, придется расстаться с ними? — грустно спрашивает она.
— Да, пожалуй…
И вот все формальности закончены. Провожаю Светлану на выход, затем снова встречаюсь с Громовым, пишу постановление на обыск, еду с ним к прокурору, потом опять инструктирую Громова. А время идет. В желудке уже посасывает, а еще предстоит разговор с Завьяловой, а там — и с Камиловым. Надо бы подкрепиться.
Глава одиннадцатая
Когда возвращаюсь из столовой, у комнаты дежурного меня встречает Белов.
— Все в порядке, Демичевский. Доставили тебе твою артистку.
— А перчатку? Перчатку нашли?
— Нашли, не волнуйся. И туфли привезли. Пойдем ко мне, передам.
Поднимаюсь к нему в кабинет, и Белов передает мне небольшой целлофановый пакет, перевязанный тесемкой с сургучными печатями.
— Это — с перчаткой. А туфли — в шкафчике, в коробках.
Что ж, теперь дело за экспертами!
В пять вечера ко мне в кабинет вводят Завьялову.
Вот ведь как необъективны женщины к своим соперницам! Завьялова вовсе не коротышка, а нормального, среднего роста. Красивая, стройная, с большими черными глазами. Одета, правда, простенько — в джинсовой юбке и белой кофточке. На ногах легкие простые босоножки… Ей лет двадцать, не больше. Лицо хоть и смуглое, но чистое, даже губы еще не красит. Держится спокойно, уверенно. Или это — игра?.. Я узнаю ее. Видел недавно на сцене студенческого театра. В «Живом трупе». Цыганку Машу играла. И здорово играла! Будто и впрямь — цыганка. Будто и не на сцене вовсе и действительно готова жизнь отдать за Протасова.
Как же так? Как могла Завьялова опуститься до такой степени, что стала преступницей?
— Это еще доказать надо! — с усмешкой отвечает она на мой вопрос.
— Конечно, — отвечаю спокойно, хотя в душе растет злость на ее залихватское упрямство. — Но доказательств вашего участия в разбойном нападении на «Бирюзу» у нас более чем достаточно. Взять хотя бы то, что вы наследили в магазине. Можете, если желаете, ознакомиться с заключением эксперта на этот счет.
Я протягиваю ей бланк заключения, но она пренебрежительно отмахивается:
— Не надо. Чем вы еще располагаете?
— Вашей перчаткой, отпечатками пальцев. Вы оставили все это в машине — такси, на котором приезжали к «Бирюзе». Разве недостаточно?
— Тогда что же вы от меня хотите? Ведите в тюрьму, если вам все известно.
— В том-то и дело, что пока еще не все известно, — говорю опять как можно спокойнее. — Вот, скажем, почему вы надумали с Камиловым напасть на «Бирюзу»? Как все происходило? Это была его идея?
Красивые глаза Завьяловой еще больше темнеют.
— При чем тут Эдик? Он — хороший парень! — запальчиво взрывается она и тут же умолкает, сообразив, что допустила промашку, признав свое знакомство с ним.
Удивительно! И она еще покрывает Камилова… Хотя… Как говорила Изотова: «Видели бы вы его!» Смазлив, что верно, то верно… Однако неужели Завьялова ничего не знает об Изотовой?.. Вот ненормальная! Ей бы, действительно, в театре играть, а не в тюрьму лезть.
— Хороший парень? — спрашиваю сердито. — А, не задумываясь, стреляет в неповинных людей.
Завьялова в замешательстве замирает на стуле.
— Это уж у него так получилось в магазине. Он не хотел… — говорит она враз осевшим голосом. — Он что, кого-нибудь там…
Выдержка окончательно изменяет ей, и крупные слезы катятся по лицу…
— Это я! Я во всем виновата!
— Расскажите, как было дело.
Завьялова отирает ладонью слезы, отрешенно смотрит в сторону.
— Расскажите, расскажите. Где и как вы познакомились с Камиловым?
— Три года назад, в Сухуми.
— Что вы там делали?
— В отпуске была. Приехала без путевки, а Эдик… Он тоже там отдыхал. Заметил меня еще в поезде, предложил свои услуги с устройством: «Будет тебе месяц райской жизни!» И устроил. В Сухуми у него повсюду знакомые. У ресторана иные часами в очереди стоят. А перед ним, лишь подойдет, швейцар чуть не расшаркивается. И потом… Вы видели Эдика?
Знакомый вопрос! Вспоминаю облик Камилова: прямой тонкий нос, темные, словно маслины, глаза, красивое смуглое лицо, черные густые волосы и длинные, пушистые ресницы… Да, такие нравятся женщинам.
— Правда ведь красивый? Все девчонки без ума от него. А он лишь со мной и со мной. Нравилось в нем все: и негромкий смех, и уверенность в себе, и невероятная щедрость… Чем только он не одаривал меня!.. — Завьялова вздыхает. — И вот, чем ближе наступал день отъезда, тем больше страх — как буду без него? А он с собой позвал. Узнал о моей мечте стать артисткой и позвал. У нас, говорил, в городе свой театральный вуз есть. Рассчиталась я на службе, машинисткой тогда работала, распростилась с родными и… Устроилась здесь на квартире. Продолжала встречаться с ним.
— У него что же, другой девушки до вас не было?
— Была. Какая-то парикмахерша. Но Эдик сказал, что расстался с ней навсегда.
— Ну-ну, продолжайте.
— А мне с ним было так хорошо! Когда он исчезал, дни тянулись бесконечно, казались серыми, пустыми. Думалось, на все бы пошла, лишь бы он не покидал меня… Да вам этого не понять, наверное.
— Почему, понимаю, — отвечаю не сразу. Потому что вдруг тоже стало тяжело на душе: отчего Лена не вышла сегодня проводить меня?
Завьялова недоверчиво усмехается на мои слова и негромко продолжает:
— И вот, когда Эдик признался, что сидит на мели, то есть — без денег, сама напросилась чем-нибудь помочь ему. Он долго колебался, прежде чем доверился мне. Сказал, что давно приглядывается к «Бирюзе». Изучил маршрут, время прибытия инкассаторов. Но нужна машина. Можно бы угнать, да не умеет водить ее. Вот если бы я посодействовала, ведь у нас дома была своя машина, знаю, как с ней обращаться.
— И вы согласились.
— Ну, коль уж напросилась… Решили еще раз все проверить. С неделю поочередно приходили к «Бирюзе» перед закрытием и наблюдали, что там происходит. Обычно в семь вечера во двор въезжал «газик», из него выбирались инкассаторы, заходили в магазин и через минуту возвращались с сумками… Нам оставалось найти машину.
— А оружие? У Камилова изъят пистолет «Вальтер». Где он взял его?
— Это пистолет покойного отца Эдика, тот привез с фронта.
— А как обстояло дело с машиной?
— Неподалеку от магазина есть столовая. Там все таксисты питаются. Мы и решили воспользоваться этим. Машина нам и нужна-то была минут на десять. Кто из шоферов хватился бы ее за это время?
— От магазина куда поехали?
— На Дачную. Решили отогнать машину подальше, чтобы ее не скоро нашли, а мы смогли бы в спокойной обстановке избавиться от следов. У меня с собой одеколон был. Им все в такси и протерли. Да, видно, поторопились…
Завьялова умолкает. Составляю протокол допроса, подаю ей для ознакомления. Она старательно читает текст и с убитым видом подписывает протокол.
— Куда же меня сейчас — в тюрьму? А что будет с Эдиком? Поверьте, я больше виновата. Он, может, и не рискнул бы…
— Вы лучше подумали бы о своей судьбе, — говорю я тихо. Понимаю, что читать нравоучения — пустое занятие, они мало кому помогают. И все же мне по-человечески жаль эту девчонку. Поражаюсь ее слепой влюбленности и жертвенному желанию обелить Камилова.
— Вы же мечтали стать артисткой. Отличная и благодарная профессия! А вас куда потянуло? И это при ваших-то способностях!..
Завьялова поднимает на меня удивленные глаза.
— Да-да, — говорю. — Видел вас в спектакле. Цыганку Машу играли. И очень даже здорово играли!
В глазах Завьяловой вспыхивает радость, но тут же гаснет.
— И вдруг такой срыв. А главное — ради чего?
— А может — ради кого? — снова сердито возражает Завьялова.
Я не знаю, имею ли я право говорить ей все о Камилове.
— Ведь он же любит меня!
— Вы так уверены?
— А вы сомневаетесь?
— Любил бы — не впутал в грязное дело. Так что подумайте и об этом.
Снимаю трубку телефона и вызываю помощника дежурного.
— Уведите задержанную.
Он уводит Завьялову. А я снова связываюсь с дежурным, прошу доставить Камилова. Хочется еще раз посмотреть на него, потолковать с ним. Что-то он теперь скажет?
Камилов входит в кабинет, низко опустив голову. Что ж, на чудо в его деле рассчитывать ему не приходится, надо держать ответ. Он тяжело опускается на стул, бросает косой взгляд.
— Меня одного взяли?
Значит, еще теплится надежда?
— Нет, — говорю. — И Завьялову — тоже.
Он удрученно качает головой.
— Надо же… Так долго готовились… Все вроде бы учли, все по секундочкам выверили, и сорвалось!
— Ну, рассказывайте, как было дело.
— Да ведь все знаете, наверное, — отмахивается Камилов.
— А я вас хочу послушать… Говорите.
И он рассказывает. Так же подробно, как Завьялова. И все сходится.
— Знаете, хотелось пожить красиво и независимо, — с досадой на несбывшееся завершает он свои показания.
— Красиво и независимо… Это как — с разбоем и стрельбой в простых, честных людей? Порно, секс и насилие?
Он криво усмехается. Мол, не надо проповедей… М-да… Мой сарказм для него — явно холостой выстрел. А жаль!..
— Сколько мне дадут? — вдруг спрашивает Камилов. — Я ведь вам чистосердечно… Мог бы и промолчать… — А в темных глазах отчаяние.
— В салоне машины старались не наследить?
Он кивает.
— А следы все равно оставили… Что ж вам не чистосердечно? Другого пути ведь и нет!
Камилов снова опускает голову.
— А насчет срока наказания, — продолжаю, — так это не по адресу обратились. К тому же у меня к вам еще несколько вопросов. Постарайтесь ответить так же «чистосердечно»… У вас в квартире изъяты не все деньги, похищенные в «Бирюзе». Где остальные?
Камилов долго молчит, потом с трудом зло выдавливает из себя:
— На знакомую потратил.
— На кого именно? И как?
— Серьги ей бриллиантовые купил…
И он рассказывает об Изотовой. Догадывается, что знаем о ней.
— А Нину, значит, в отставку? Как же так?
Он снова усмехается.
— Почему сразу не улетели с Изотовой?
— Билетов на самолет не было. Не повезло.
Камилов горбится от вопросов, весь взмок. Но мне еще надо вернуть его к истории с Ладыгиными, и я снова спрашиваю:
— Ну а что же вы о Пикулине не вспомнили? Отбывает срок парень, а мог бы стать отличным спортсменом. Интересовался, женились ли вы?
Лицо Камилова деревенеет.
— Вы и об этом узнали?
— О чем? Расскажите!
И он опять рассказывает. Все рассказывает! Не успеваю записывать. А когда Камилова уводят, еще долго с неприятным чувством вспоминаю его усмешки, недобрый взгляд.
Звонок телефона отрывает от невеселых дум. Поднимаю трубку и слышу приглушенный голос Белова:
— Ну? Что у тебя?
— Все в порядке, — говорю спокойно, — Завьялова и Камилов во всем признались.
— Вот и отлично! Теперь что ж — домой собираешься? Восьмой час вечера!
— Иду, Александр Петрович, иду! Если бы вы знали, как мне сейчас надо быть дома!
— Тогда не задерживайся. Будь здоров!
В трубке раздаются гудки. Убираю в сейф бумаги и торопливо выхожу на улицу.
Еще светит солнце, но воздух уже не такой жаркий, как днем. Взять бы сейчас с собой Елену и махнуть на речку. Вода, наверное, прелесть. А я еще ни разу не искупался.
Но Лены нет дома,
— Пять минут, как ушла — говорит Екатерина Ивановна, — Надо же вам так разминуться!
— Одна ушла?
— Нет, со Славиком.
Жду Лену час, другой, третий… И гнетущее чувство тоски и одиночества охватывает меня. В одиннадцать осторожно прикрываю за собой дверь квартиры, спускаюсь по лестнице. Куда я иду? Зачем?
На улице меня охватывает тревога: Лена-то со Славиком! Неужели и впрямь снова теряю дорогого мне человека?.. Но я не хочу этого. Не хочу!..
Я шагаю, сам не зная куда, ловлю взглядом редких прохожих, стараясь угадать среди них Лену… Если бы встретил ее сейчас, то уже не отпустил бы от себя ни на шаг!..
Темная, беззвездная ночь все плотнее обволакивает меня, и я благодарен ей, потому что никто не видит, как тру глаза: разве могут быть слезы у мужчины, да еще у сотрудника полиции? Так, соринка, наверное, попала?..
Владимир ЛЕБЕДЕВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПАРОХОДА «СУРИЯ»
Вечером 7 мая 1921 года экипаж и пассажиры парохода «Сурия» стали невольными свидетелями нападения пиратов. «Сурия» принадлежала французской судоходной компании «Паке» и обслуживала почтово-пассажирские линии, связывавшие главные черноморские порты России и Турции.
Мало-помалу салон-ресторан парохода «Сурия» стал заполняться посетителями. Из дальнего угла салона — в стороне от остальных — двое мужчин наблюдали за этой многоликой говорливой публикой. Один из них, по имени Хаскелл, был американским верховным комиссаром в Армении, Срок его полномочий истек, и теперь он вместе с семьей возвращался домой. Второго звали Пьер Жантизон — он был собственным корреспондентом французской газеты «Тан».
Ужин подходил к концу, и непринужденная беседа перенеслась в курительную, примыкавшую к салону-ресторану, А между тем на корме, кутаясь в одеяла, на открытой палубе укладывались спать курдские беженцы. На капитанском мостике находились двое: старший помощник капитана Буньи и рулевой матрос.
Через некоторое время Жантизон оставил Хаскелла и направился к выходу. Вдруг Жантизон застыл как вкопанный. Двери в салон-ресторан распахнулись настежь, и на пороге возникли трое — двое мужчин и женщина. При одном лишь беглом взгляде на эту троицу Жантизона охватило мрачное предчувствие.
У всех троих лица были перепуганы, как будто они только очнулись от ночного кошмара и все еще не в силах были поверить, что страшные видения уже позади. Они стояли в дверях не шевелясь и молча взирали на сидящих в салоне пассажиров широко раскрытыми от изумления глазами — как на пришельцев из потустороннего мира.
Незнакомцы уже с минуту безмолвно стояли на пороге салона-ресторана, но никто из присутствовавших, за исключением Жантизона, похоже, не обратил на них никакого внимания. Какое-то время журналист смотрел на странную троицу с недоумением, потом снова пошел к выходу.
Но когда до дверей оставалось несколько метров, Жантизон опять замер на месте. Разговоры у него за спиной стали стихать, а через мгновение-другое смолкли совсем. Это сидящие за столиками обратили наконец внимание на троицу — и в салоне-ресторане, и в курительной воцарилась гнетущая, полная неосознанной тревоги тишина.
Жантизон хотел было обратиться к троице с просьбой посторониться, как вдруг на носовой палубе прогремели один за другим два выстрела. Вслед за тем послышались беспорядочные женские крики, а когда они затихли, не было слышно ничего, кроме отдаленного гула двигателей. Но тут выстрелы прогрохотали снова: сначала один, потом другой. Людей тотчас охватила паника, причем настолько сильная, что Жантизон даже подумал, уж не сошли ли часом все с ума.
В следующее мгновение ресторан и курительная наполовину опустели, хотя никто оттуда не выходил. Всё, однако, объяснялось просто: большинство пассажиров, точно по команде, упали ничком на пол, словно пытаясь укрыться от пуль, которые, как им почудилось, просвистели у них над головами.
Однако стрельба быстро прекратилась, и пассажиры начали подниматься с пола. Следом за тем они, будто в наваждении, принялись извлекать из внутренних карманов своих сюртуков и сумочек пухлые бумажники и запихивать их под ковры, сиденья кресел и диванов, под настольные светильники и шкафчики для посуды.
А паника между тем все нарастала. Салон заполнился тихим ропотом и глухими причитаниями. Жантизон бросил взгляд на дверь: в широком проеме появились четверо странных с виду мужчин, похожих на разбойников из дешевой оперетты. Они были в длиннополых серых шинелях, лица их скрывали черные маски, поверх которых виднелись только глаза, смотревшие жестко, угрожающе; в правой руке каждый из них держал по маузеру, нацелив оружие в охваченную ужасом толпу.
Один из четверки выстрелил в воздух. И пассажиры тут же, все как один, подняли руки вверх. Тем временем Жантизон, пользуясь сумятицей и прячась за спинами ошеломленных пассажиров, прошмыгнул в узкий коридор с другой стороны салона и скрылся за дверью первой попавшейся каюты, в которой не было ни души.
Старший помощник Буньи посмотрел на часы: было девять вечера. Он только что поговорил с капитаном Маттеи — тот заглянул на мостик сразу же после ужина, потом спустился на палубу и теперь вел разговор с двумя пассажирами. Тут Буньи услышал звук шагов. Двое высоких, крепкого сложения мужчин в походных шинелях и в масках прошли по трапу и поднялись на мостик. Старпом двинулся было им навстречу. И вдруг вежливую улыбку с его лица как рукой сняло: на него глядели дула двух револьверов.
— Что за шутки! — возмутился Буньи.
— Поднимите руки! — в один голос скомандовали двое в масках. — И, обращаясь уже к рулевому, один из них добавил: — А ты не спускай рук с руля, иначе…
— Капитан, скорее сюда! — крикнул Буньи.
Маттеи устремился на выручку старпому. Но не успел он ступить на мостик, как ощутил у виска холодное дуло револьвера. И вслед за тем услышал бесстрастный голос:
— Ни с места, капитан, не то вам конец!
— Предупредите радиста! — громко крикнул капитан в надежде, что его услышит кто-нибудь из экипажа.
В это время радист «Сурии» Саук как раз выходил из радиорубки. Он услышал стрельбу и, едва приоткрыв дверь, тотчас ее захлопнул: к радиорубке бежал какой-то человек с маузером в руке.
— А ну, открывай! — послышался гневный окрик из-за двери, которую чуть не сорвало с петель от страшной силы ударов.
Саук не отвечал. Придвинув к двери стол, он кинулся к радиостанции, чтобы передать в эфир сигнал бедствии. Ридист уже сжал пальцами телеграфный ключ, как вдруг совсем рядом прогремел выстрел, и руку его пронзила острая боль. Нападавший стрелял через закрытый иллюминатор, и осколок стекла вонзился Сауку в кисть правой руки. Ошеломленный, он вскинул голову и увидел, что ему в грудь нацелена винтовка.
— Еще одно движение — и ты труп!
Саук понял, что ему ничего не остается, как подчиниться и открыть дверь. В следующее мгновение в радиорубку ворвался человек с маузером. Грубо оттолкнув радиста, он принялся рвать провода и крушить все приборы.
Так «Сурия» оказалась отрезанной от остального мира — во власти пиратов. И помощи ей ждать было неоткуда. Теперь пираты могли действовать совершенно открыто и бесцеремонно.
Тем временем механики с кочегарами забаррикадировались в машинном и котельном отделениях, наглухо задраив за собой тяжелые железные двери, и продолжали топить паровые котлы в надежде, что как бы то ни было, а судном по-прежнему командует капитан и рано или поздно кто-нибудь придет «Сурии» на помощь.
…Жантизон, недолго думая, полез под нижнюю койку и спрятался за большим чемоданом. Кто-то уже дергал за наружную ручку двери. Но дверь была заперта изнутри на ключ. Вдруг по дверному замку снаружи ударили чем-то тяжелым — наверное, прикладом, — и дверь с треском отворилась. Из-под койки Жантизону было видно, как в каюту ворвались два человека — он разглядел только их сапоги. Внимание пиратов привлек торчавший угол чемодана, за которым прятался француз. Один из них нагнулся, вытащил чемодан на середину каюты и вытряхнул его содержимое на пол. Как успел заметить Жантизон, это было белье. Затем бандит пнул крышку чемодана ногой — как видно, с досады, — и та со скрипом захлопнулась. Француз затаил дыхание.
В коридоре было тихо. Впрочем, это мало утешало Жантизона, и он твердо решил не покидать убежища, потому как был уверен: в любом другом месте пираты непременно его отыщут.
Неожиданно двигатели «Сурии» остановились, и на борту парохода воцарилась гнетущая тишина. Что там еще стряслось? У Жантизона было только два предположения: либо в машинном отделении завязалась стычка и механикам пришлось прекратить работу, либо машину застопорили по требованию пиратов, чтобы они могли беспрепятственно погрузиться с награбленным в шлюпки и убраться восвояси.
Однако последнее предположение Жантизона не оправдалось: через несколько минут двигатели заработали снова. Француз вконец был сбит с толку.
Жантизон в очередной раз напряг слух: ему почудилось, что где-то на носу судна громыхнул оружейный выстрел и в дальнем конце коридора возникли голоса. Ну вот, сейчас явятся…
Пираты действительно не заставили себя долго ждать — дверь в каюту с шумом распахнулась. Жантизон увидел сперва одну пару ног, потом другую, третью… Бандиты надвигались прямо на него — вот-вот раздавят. Он весь покрылся холодным потом, прекрасно понимая, что если в первый раз его не заметили, то теперь ему не поздоровится. Француз точно в воду глядел: пираты снова принялись обшаривать каюту, только на сей раз куда более тщательно.
Журналист лежал не шевелясь. И тут его снова будто током ударило. Он в ужасе почувствовал, как что-то прикоснулось к его ноге.
«Боже, крыса!» Жантизону потребовалось все его мужество, чтобы не вскрикнуть от отвращения. Крыса поползла вверх по ноге. А потом — снова вниз.
Журналист ошибся: то была не крыса… а рука одного из бандитов, шарившего под койкой. В конце концов тот наткнулся на Жантизона — и ему ничего не оставалось, как выбираться из укрытия. Едва он поднялся на ноги, к его виску приставили маузер.
Пираты обыскали его с ног до головы и отобрали бумажник. После этого они без лишних церемоний выволокли его в коридор и, то и дело подталкивая в спину маузером, препроводили в курительную.
В это время на капитанском мостике разыгрывалась другая сцена. Пираты что-то требовали от капитана на плохом английском, а он делал вид, будто не понимает. Тогда, потеряв терпение, один из пиратов ткнул пальцем в штурманскую карту, указав место на северо-восточном побережье Турции. Потом взял карандаш и обвел этот участок берега кружком аккурат между городами Хопа и Артава.
Маттеи кивком дал понять, что догадался, чего добиваются пираты, и скомандовал рулевому изменить курс. Капитан «Сурии» рассудил, что будет куда благоразумнее подчиниться требованию пиратов. Только так, пожалуй, и можно от них избавиться — высадить вместе с добычей на берег в указанном месте.
В полночь линия горизонта на юге обозначилась более четко, а некоторое время спустя она будто ощетинилась зубьями уходящих вдаль горных кряжей.
— Придется позаимствовать у вас пару вельботов, капитан, — проговорил главарь пиратов, безжалостно коверкая английские слова.
Маттеи колебался. В самом деле, ведь это он позволил пиратам бесцеремонно грабить пассажиров, а теперь вынужден им помогать, чтобы разбойники могли беспрепятственно покинуть его судно. Единственно, что утешало капитана, — надежда на скорое избавление от бандитов.
Пароход лег в дрейф в полумиле от берега. На воду тотчас же спустили два вельбота. Пираты погрузили в них добычу — на сумму больше двух миллионов франков.
Вслед за этим главарь перекинул ногу через леерное ограждение и быстро полез по шторм-трапу вниз. Но перед тем как спрыгнуть в покачивавшийся на волне вельбот, освещенный пляшущими бликами сигнальных фонарей, он вскинул голову и, снова обращаясь к Маттеи, бросил напоследок с самодовольной ухмылкой:
— Счастливого пути, капитан! Да не забудьте еще раз обшарить все закутки, вдруг мы чего-то забыли — например, бомбу…
Вскоре оба вельбота отвалили от борта «Сурии» и скрылись в ночи. Какое-то время еще были слышны плеск весел и хохот пиратов — потом все разом стихло.
Пока пассажиры сидели в салоне, матросы в поисках бомбы, обещанной главарем пиратов, осматривали все закоулки парохода, но так ничего и не обнаружили. Чтобы ушедшие вельботы нашли судно, на «Сурие» зажгли все огни, и периодически подавали тревожные сигналы сирены.
Наконец показались огоньки фонарей на вельботах, они пришвартовались к пароходу, все гребцы поднялись на борт и подтянули на палубу вельботы. Судно взяло курс на Трабзон.
Тем временем капитан Маттеи и его помощник Буньи ломали голову над загадкой проникновения разбойников на судно. Пока наконец Буньи не догадался провести перекличку пассажиров, в результате которой недосчитались двадцати одного человека. Значит, молодчики проникли на пароход как пассажиры, спрятав оружие в своем багаже.
Поняв уловку бандитов, капитан только развел руками. Этот хитрый ход пираты потом применяли и в других морях, особенно успешно действовали они у берегов Китая.



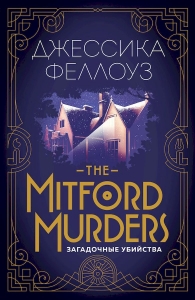

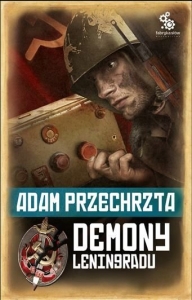

Комментарии к книге «Искатель. 2013. Выпуск №2», Журнал «Искатель»
Всего 0 комментариев