1
— Благословите меня, святой отец, ибо я согрешила.
Интересное сооружение — исповедальня. Нечто среднее между платяным шкафом и церковной скамьей, лакированная деревянная конструкция, являющаяся, пожалуй, единственным предметом мебели, который никогда не привлекал интерес коллекционеров. Едва ли, войдя в роскошный современный дом где-нибудь, скажем, в Ислингтоне, вы увидите в прихожей исповедальню, а гордый хозяин небрежно признается: «Вот, купили эту штуку на аукционе… Нам показалось, что она будет замечательно здесь смотреться. И верхнюю одежду вешать очень удобно».
Нет уж.
Исповедальня напоминает нечто иное — например, кабинку в тюремной комнате для свиданий, место, где на несколько минут в месяц заключенные встречаются со свободными людьми, чтобы обменяться парой банальностей и взаимных обвинений.
— Благословите меня, святой отец, ибо я согрешила. — Тень за решеткой. Тесная близость безымянных. Ужас из-за того, что душа сейчас обнажится и страх не сможет больше оставаться незамеченным. — Благословите меня, святой отец, ибо я согрешила. — Но она лишь страдала от угрызений совести — этого бича всех верующих, напасти изнурительной, словно сыпь. В принципе, угрызения совести и есть что-то вроде умственной сыпи. Почешешь — станет еще хуже. Из-за угрызений совести люди уезжают в Африку, где ведут миссионерскую деятельность и заражаются уже настоящей сыпью. — Меня одолевают сомнения, — сказала она.
— О Господи, дитя мое! Мы все сомневаемся, — сказал он ей. — И я тоже.
— Правда? И в чем же?
— В том, кому слышна эта исповедь.
Что это донеслось из-за решетки — неужто подавленный смешок? Он даже мельком глянул влево, но за сплетением стальных прутьев увидел лишь тень. Снаружи по большой базилике бестолково сновали люди; внутри душной деревянной коробки царила загадочная интимность — между ним и этим едва различимым, неуловимым силуэтом.
Сквозь преграду, разделявшую их, тянулся легкий запах духов — мускусный, с острым, но завуалированным фруктовым привкусом.
— Простите, святой отец. Простите.
— Ты должна относиться к исповеди серьезно или же не исповедоваться вообще, — упрекнул он девушку.
— Конечно, отец.
— Что-нибудь еще, помимо этих сомнений?
— Я касалась себя, отец.
— Всего однажды? — Нельзя проявлять чрезмерную настойчивость. Разумеется, это грешно. Священника ожидала целая змеиная яма грехов: сладострастная пытливость и похоть извивались в той яме подобно гадам.
— Несколько раз.
— Если это вошло в привычку, то это одно дело. Если же это — случайная слабость, то совсем другое. Что же это.
Она негромко хихикнула. На сей раз тень за решеткой исповедальни определенно хихикнула.
— Скорее, все же случайная слабость.
— Ты воспринимаешь это со всей серьезностью?
— Простите. Меня насмешило то, как вы это произнесли — словно торговались со мной. Меняли раскаяние на епитимью.
— Не следует глумиться над подобными вещами.
— Простите, — повторила она. — Простите меня.
Он сказал что-то насчет истинных побуждений к исповеди и прочел ей небольшую лекцию об искреннем раскаянии, Божьей любви и прощении грехов.
— Грех — это отсутствие Бога. Не больше, но и не меньше. Если ты воистину хочешь вернуться к Богу, то исповедь имеет смысл. Лишь в этом случае.
— Да, — сказала она. — Этого мне бы и хотелось.
Он отметил, с какой осторожностью она употребила сослагательное наклонение, но не стал заострять на этом внимание.
— В качестве искупления своего греха прочти Десятикнижие по четкам и помолись о своем духовном здоровье. Теперь же приступай к обряду покаяния.
Религиозные ритуалы — язык, понятный лишь посвященным. Она произнесла одну маленькую формулу, состоявшую из самокритики и обещания встать на путь благочестия, а он отпустил ей грехи. Затем она шепотом поблагодарила его и вышла из тесной коробки, позволив той таинственной, мимолетной близости, что присуща исповедальне, улетучиться. Близость эта выпорхнула из гнетущих сумерек и растаяла во внешнем мире.
Он повернулся направо и отодвинул другой ставень, обнаружив там новую тень — новый комок прегрешений, сомнений и мытарств.
— Благословите меня, святой отец, ибо я согрешил…
В шесть часов вечера он запер ставни и, подобно тому как хирург стягивает резиновые перчатки, снял с шеи епитрахиль. Духовник ли, хирург — обоих объединяет чувство близости (в первом случае — духовной, во втором — физической) и анонимность общения. Один копошится во внутренностях пациента, другой — в заветных тайнах, и оба выполняют свою работу сколь смиренно, столь и безучастно.
Покинув исповедальню, он вышел под скрещение нефов под внушающий ужас пустой купол, под кривые мозаики под гигантский простор, который Микеланджело Буонарроти назвал бы «зданием-вором, расхитившим воздух». Неужели обычное пустое пространство пробуждало это сверхъестественное чувство? Люди суетливо метались по мозаичному полу, точно песчинки, подхваченные волной: туристы, и паломники, и те, которые представляли собой промежуточный вариант (последних, возможно, было большинство). Свечи мерцали вокруг балюстрады, откуда можно было взирать на углубление с апостольской гробницей. Люди толпились там, точно уличные зеваки, желающие удостовериться, что это не подделка. Одна девушка как-то даже спрашивала у него об этом. Разумеется, он заверил ее, что сам апостол действительно может быть похоронен здесь.
— Может быть похоронен, отец?! — возмутилась она. — Что же это за вера?!
А в самом деле, что это за вера? Жалкая, иссушенная субстанция, совокупность привычки, непослушания и тревоги.
— Сам материальный факт не имеет значения, — сказал он ей, — и относится, скорее, к области археологии, а не богословия. Духовная реальность такова, что, сидя у себя в гостиной, вы столь же близки к Богу, как и в стенах базилики. Однако базилика приобретает ценность, если укрепляет вашу веру.
И тогда женщина — седовласая, с усталым и разочарованным лицом, с акцентом, который он принял за немецкий, — задала любопытный вопрос:
— А вашу веру она укрепляет, святой отец?
На улице лил дождь. Огни сверкали на влажных базальтовых плитах пьяццы; рождественская елка измарала всю обстановку, словно клякса, поставленная северным язычеством. Оранжевое сияние города озаряло тучи, словно отблеск разрушительного пожара. Сквозь струи дождя он побежал в свой номер, где принял душ и переоделся к приему, который должен был состояться этим вечером в одном из бесчисленных городских палаццо. Этим приемом закрывался конгресс, длившийся всю прошлую неделю.
Прием оказался мероприятием прескучным — мельтешение черного, серого и темно-синего под присмотром нимф и богинь, что резвились на потолке, выполненном в стиле позднего маньеризма. Розовые груди и дряблые пенисы покачивались над головами порядочных церковников. Иной раз возникала вспышка света: при появлении епископа, или женщины-дипломата, отдающей дань положенной вежливости, или жены одного англиканского священника (а то и возлюбленного другого), — но главенствовал там все же римско-католический дух, дух клерикализма, замкнутости и самодовольства.
— Это Мандерлей Дьюер, — сказали ему, и, прежде чем он успел что-либо осознать, он уже пожимал руку одной из немногих женщин в зале. Она удивила его тем, что сумела вспомнить его имя.
— Я, кажется, читала вашу статью в «Таймс». Что-то о свитках с Мертвого моря…
Он рассеянно взглянул на нее, ощущая неловкость в присутствии женщины.
— Не то чтобы свитки… Так, отдельные фрагменты. Папирусы Эн-Мор.
— Первые Евангелия, — сказал мужчина, который их познакомил. — Вероятно, это важнейшие письменные свидетельства, обнаруженные за последние пятьдесят лет.
Женщина несмело попыталась развить тему.
— Но смысл ведь в том, что если эти фрагменты действительно относятся к Евангелиям, то отсчет нужно будет вести от более раннего срока, чем от Еврейской войны 66 года нашей эры?
— Именно об этом и говорилось в статье, — согласился Ньюман. — С политической точки зрения это просто замечательно.
— С политической точки зрения?
Он мельком глянул через ее плечо, словно что-то искал; возможно, он искал пути к отступлению.
— Я имею в виду религиозный аспект политики. Это было бы настоящим бревном в глазу тех ученых, которые утверждают, что Евангелия — это более поздние сочинения, собранные воедино ранней церковью. Но не в этом же дело, правда? Дело в самих отрывках — в этих текстах, этих свидетельствах.
Она задумалась над его словами, чуть наклонив голову. На губах ее блуждала смутная улыбка.
— Это вас будоражит, не так ли?
В глаголе «будоражить» послышалась скрытая угроза. Он смутился.
— Что вы подразумеваете под словом «будоражит»?
— Эти тексты. Они вас будоражат. — Уголки ее губ слегка изогнулись, но что это значило, он не понимал. Глаза могут оставаться пустыми, приобретая выражение лишь благодаря преломлению света, но рот живет своей собственной жизнью. И иронию, скрытую в улыбке этой женщины, он расшифровать не мог.
— Ну да, наверное, так оно и есть.
Что же еще он видел? Что видит священнослужитель, принявший обет безбрачия, в случайно встреченной женщине? Он видел лицо с неброскими, но правильными чертами, большие зелено-карие глаза неопределимого оттенка, видел легкое смятение под маской беззаботности. Волосы ее были уложены весьма небрежно и тронуты осенними красками. Выглядела она гораздо моложе, чем он, лет на сорок с небольшим, по его предположениям. Впрочем, ему нечасто доводилось определять возраст женщин. Если уж на то пошло, опытом общения с противоположным полом он похвастаться не мог.
А что же, интересно, видела она? Сухого, скучного священника? Стерильного, безликого. Возможно, тупиковую ветвь человечества.
Воцарилось то молчание, что обычно следует за первыми репликами. Да и о чем им вообще говорить? Какие точки соприкосновения они могут найти?
— Вы приехали сюда на конференцию? — спросил он.
— Сюда или сюда?
— Простите?
Его замешательство, кажется, позабавило ее.
— Если вы имеете в виду этот зал, то да; если же Рим, то нет. — Она объяснила, что ее муж — дипломат. При этом она пожала плечами, словно это самая заурядная профессия. Теперь настал ее черед озираться по сторонам в поисках чего-либо, что могло бы послужить темой для разговора. Кто-то отпустил комментарий по поводу потолка (все обращали внимание на этот потолок, когда в разговоре возникала пауза), и она устремила взгляд к пыльному переплетению богов с громадными фаллосами и богинь с пышными персями. Затем снова посмотрела на него, и ее губы расплылись в уже знакомой загадочной усмешке.
— Как вы думаете, а их терзали сомнения? — спросила она.
В ту же секунду он уловил знакомое дуновение — запах, который она источала, войдя в исповедальню, резкий цитрусовый привкус, не имевший ничего общего с искусственной парфюмерией, но носивший характер вполне реальной опасности. Ему в голову пришла кощунственная мысль: а что, если апостолы в Еммаусе узнали Христа после воскрешения именно так — по характерному жесту, по манере говорить или даже по запаху?
Он почувствовал, как краснеет. Он испытывал ужасный дискомфорт и обливался потом от смущения под тесной серой рясой. К счастью, остальные собеседники уже отошли в сторону, чтобы осмотреть какую-то мебель, и на мгновение они оказались вдвоем.
— Весьма неловкое положение, — пробормотал он.
— Вы так считаете? А как же разделение служебного и личного? — Она склонила голову набок, словно хотела оценить и его замешательство, и ситуацию вообще. И то и другое казалось ей довольно забавным. — В любом случае, это мне должно быть неловко, а никакой неловкости я не испытываю. Поэтому разрешаю расслабиться и вам. Думаю, вам приходилось выслушивать кое-что и похуже. Должна сказать, я представляла вас гораздо старше.
— А я вас — моложе.
Она недовольно поморщилась.
— Резонно. Эдакая безмозглая малолетка.
— Вроде того…
— Боюсь, я всегда кажусь такой во время исповеди: сам процесс напоминает мне о школе. Знаете, мы даже придумывали грехи, чтобы нам было в чем исповедоваться. Подозреваю, что вам это известно, не правда ли? «Я притронулась к Анне-Марии в душе, я сказала Матильде, что не верю в Бога, я произнесла бранное слово за спиной сестры Мэри Джозеф…» Такие вот грешки. Но теперь я могу уверить вас, что стала гораздо взрослее! — Она засмеялась, точно отрицая свое утверждение. — В любом случае, я считаю, что нам нужно увидеться еще раз. Где вы живете? Приходите на ужин. Дайте мне свой номер.
Многие женщины-католички дружат со священниками. Это своего рода взаимовыгодные отношения. Священников надо поддерживать материально, тогда как верующая получает взамен поддержку духовного толка. Человек, воспитанный в протестантской традиции, счел бы это несколько странным, но помогать духовному лицу — это все-таки доброе дело. Человек же, избегнувший какого бы то ни было религиозного воспитания, по всей вероятности, не понял бы, зачем вообще принимать целибат и — Господи Боже! — зачем женщине связываться с подобными мужчинами.
— Простите, — сказал он, — я не расслышал ваше имя… Мандерлей?
Она оторвала взгляд от сумочки, в которой, должно быть, пыталась найти нечто вроде ежедневника.
— Мэделин. Мэделин Брюэр.
Вот вам. Мэделин Брюэр. Их самая первая встреча. Так неверная десница случая заполучила над ними власть, словно шаловливое дитя, небрежно движущее отныне фигурками на шахматной доске.
— Диктуйте, — сказала она, занеся ручку над страницей блокнота.
Магда — настоящее время
Квартира, в которой я сейчас живу, находится в старинном римском палаццо, Палаццо Касадеи. Здание стоит на краю гетто: одной стороной оно выходит к открытому, языческому миру, другой — на улочку, петляющую среди скученных домишек Еврейского квартала. Квартирка моя, точно сгорбившись, ютится прямо под крышей: там скошенный потолок, окна на уровне пола, щербатый паркет. Под навесом черепицы создается ощущение убежища, ощущение святилища. Говорят, во время войны принцесса Касадеи прятала иудеев в тесных каморках под скрещенными балками.
Конечно же, я работаю. Мне ведь нужно на что-то жить. Я работаю неполный рабочий день, за крошечную зарплату, работаю нелегально. Организация, нанявшая меня, носит высокопарное название «Англо-американская языковая школа» и занимает третий этаж блочной постройки у главного вокзала. По соседству расположена дешевая забегаловка, какие-то кабинеты весьма сомнительных фирм, занятых импортом и экспортом, и еще более сомнительных адвокатских контор, а также пансион. Эмблемой школы служат британский и американский флаги, неуклюже противопоставленные, точно трофеи некой малопонятной колониальной войны. «Наша школа включена в список Британского Совета», — хвастается свиток за стягами.
Еженедельно мне выдают жалованье — затертыми банкнотами номиналом в десять тысяч лир. С самого начала директор отнесся ко мне с подозрением, не понимая, зачем мужчине моего возраста заниматься банальным учительством. Однако он догадывается — и догадка его не лишена основания, — что мне так же невыгодно доносите на него в налоговую полицию, как ему — нанимать меня» официально. У меня не просили рекомендаций — я никаких рекомендаций не предоставил. Такие уж там порядки. Но у меня, по крайней мере, есть постоянная работа, и я могу заботиться о своем телесном и умственном благополучии, если не учитывать благополучие духовное. Я уже давно оставил всякие попытки сохранить здоровье своей души.
А компанию мне составляет Магда.
Я сам нашел Магду. Я нашел ее в одной из первых групп своих языковых курсов. Она была словно обломок кораблекрушения, выброшенный морем на городское побережье; один из тех обломков, что приплывают из Европы, с Ближнего Востока, отовсюду — из Латинской Америки, с Филиппин, из Индии, откуда угодно.
Новотна Магда. Сначала я не понимал, где у нее имя, а где — фамилия. Новотна Магда, упрямо повторила он а, когда я переспросил. Поначалу я обращался к ней Новотна, и ее это, похоже, устраивало. Высокая, молчаливая, она всегда одевалась в черное, будто вечно блюла некий траур — возможно, по утраченной невинности. Волосы ее, которые, дабы подтвердить славянский стереотип, должны были быть русыми, на самом деле были иссиня-черными. Короткая стрижка и небрежная укладка помогали ей выглядеть моложе, однако цвет лица выдавал ее истинный возраст: даже толстый слой макияжа не мог скрыть морщин. Из-за красной помады ее губы походили на шрам. Во Франции таких, как она, называют gamine.[1]
— Дляначала расскажите нам, где вы живете, — попросил я на первом занятии. В ответ бездомные скитальцы зачитали свой нескончаемый перечень: я живу в общежитии, я — с друзьями, я снимаю квартиру, я живу там и сям…
Ноги Новотной переплетались, словно это была блестящая черная змея, обвившая изогнутое деревце — древо познания добра и зла, по-видимому.
— С сестрами, — ответила она. Конечно, она имела в виду не родных сестер, а духовных, принадлежавших к какому-то таинственному ордену польских монахинь.
— А откуда вы приехали?
— Из Марокко.
— Из Бурунди.
— Из Моравии, — ответила Новотна. Это название всколыхнуло во мне волну боли, вызвало спазм чего-то близкого к страху.
— А куда вы хотите уехать?
— В Америку.
— В Америку.
— В Америку.
Новотна пожала плечами. Это движение вполне соответствовало ее манере поведения — полного безразличия к большинству происходящих событий.
— В Америку, — согласилась она, хотя с тем же успехом могла бы сказать: «На Луну».
Мы приступили к уроку. Темой было: «Как вести себя на таможне». Вполне подходящая тема. Ученики, превозмогая себя, играли роли людей, внушавших им в реальной жизни ужас: мрачных чиновников и полных надежды, но безнадежных скитальцев.
— Ваш паспорт, пожалуйста.
— Вот мой паспорт.
— А где виза?
— Виза на последней странице. — Фраза сопровождалась натужным смехом.
— Цель вашего визита?
— Я хочу работать.
— Длялюдей, которые искренне этого хотят, у нас всегда найдется работа. — Смех становится громче. Безнадежность ситуации изумляла их — она преодолевала языковые и культурные барьеры, становясь универсальной шуткой, понятной всем и каждому.
— Я работаю секретарем, — сказала Новотна. — Я хорошая печатаю.
— Хорошо. Вы печатаете хорошо.
— Я хорошо печатаю. Я охочусь на работу.
— Возможно. Но вы, наверное, имели в виду: я охотно выполняю свою работу.
— Я работаю администратором, — сказал один из учеников, и все дружно расхохотались.
Когда же я пригласил ее поужинать — после шестого занятия или после седьмого? Что бы сказала об этом Мэделин? Скорее всего, посоветовала бы оставить девушку в покое. «Что ее может заинтересовать в таком сухаре, как ты?» — спросила бы она. Но Новотна отнеслась к моему приглашению так же, как ко всему прочему в своей жизни: равнодушно пожала плечами, продолжая задумчиво жевать резинку. «Ладно». Казалось, она умолкла, чтобы тщательно продумать ответ и собрать воедино свои обрывочные познания в английском языке. «Я думаю, если мы идем ужинать, можешь называть меня Магда», — решила она.
Магда, Мэделин — мне определенно нравится созвучность этих имен. С какими мерилами ни подойди к оценке человеческой натуры, нельзя представить себе двух менее похожих женщин. Магда — высокая, молчаливая, облаченная в черную одежду, словно вечно что-то оплакивает; Мэделин — маленького роста и кипучего темперамента, из-за ее выходок ее муж постоянно возводил очи горе в карикатурном отчаянии. Мэделин обладала мягким нравом, она всегда умела вовремя произнести слова утешения; Магда же холодна и безучастна. Мэделин жила с душой нараспашку, Магда в свой внутренний мир не пускала никого. Однако обе были названы в честь одной и той же женщины — женщины, из которой Иисус изгнал семь бесов, женщины, стоявшей рядом с матерью Иисуса у подножия креста, женщины, заметившей, как откатился камень гробницы, женщины, которая первая провозгласила воскрешение апостолам, которые прятались на чердаке.
«Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его».[2]
Итак, мы поужинали в «Зиа Анна» (что значит «Тетушка Анна») — аляповато обставленной таверне неподалеку, где я нередко перекусывал, если мне лень было идти домой. Мы заказали спагетти alla puttanesca — спагетти под замысловатым кислым соусом, состоявшим из помидоров и маслин и навевавшим ассоциации с грехопадением, геенной огненной и даже менструацией. Магда села за крошечный столик напротив меня, положила жвачку (мгновенная вспышка серой амальгамы в алой глубине ее рта) в пепельницу и принялась есть с методичной решимостью человека, который не уверен, когда ему в следующий раз повезет с пристойным угощением.
В редкие моменты, когда ее рот не был забит едой, она успела рассказать мне, что раньше работала на обувной фабрике в дизайнерском отделе. Работа была скучная, оплата — мизерная, и она решила, что достойна лучшей жизни, поэтому и отправилась в Италию вместе с подругой. При упоминании о подруге Магда вновь пожала плечами.
— Она скоро возвращается.
— А кем работаешь ты? В Риме с работой непросто.
Магда презрительно шмыгнула носом. С неожиданным изяществом, словно поправляя макияж, она салфеткой вытерла красный соус в уголке губ.
— Я рисую. — Она потянулась к своей громадной сумке, извлекла оттуда папку и протянула мне несколько листов. Это были эскизы углем, довольно профессионально выполненные, вроде тех, которыми уличные художники на пьяцца Навона соблазняют туристов заказать портрет. Там были изображены Барбра Стрейзанд, Мадонна и Папа Римский. Магда опять пожала плечами. — А еще я позирую.
— Художникам?
Она впервые улыбнулась. Ее улыбка, быстрая и словно через силу, представляла собой лишь легкое движение губ и секундный выдох.
— Фотографам.
— Фотографам?
Магда пожала плечами, словно это разумелось само собой.
— Да, меня фотографируют. Без одежды.
Шум таверны ворвался в нашу беседу — звон столовых приборов, скрип влажных тарелок, гомон чужих разговоров за соседними столиками. А еще я услышал звон двух столкнувшихся эмоций, скрип трущихся ощущений: одному из них в своей прошлой жизни я всегда позволял овладевать мной, другое же — нещадно подавлял. Изумление и похоть.
— На это ты тоже хотел бы посмотреть? — спросила она.
— Не думаю.
Она равнодушно пожала плечами и вернулась к трапезе, макая кусочек хлеба в остатки соуса. Затем она заказала polioalla diavola[3] с энтузиазмом, удивительным для человека, без малейшего затруднения проглотившего только что целую тарелку спагетти под кислым соусом.
— А как же монахини? — спросил я. — Как они относятся к твоей работе?
— Монахини? — рассмеялась она. — Монахини ничего об этом не знают.
Через три дня Магду вышвырнули из общежития. Ей дали десять минут на то, чтобы собрать пожитки. Монахини, как выяснилось, знали куда больше, чем она предполагала. Она переночевала на вокзале и, вероятно, заработала пятьдесят тысяч лир, позволив какому-то мужику трахнуть ее на заднем сиденье машины. Я не знаю. Я не дурак, но не могу знать это наверняка. На следующий день она как ни в чем не бывало пришла на урок английского.
— Мне негде жить, — объявила она перед всем классом.
Магда, Мэделин, Магдалина. Мария Магдалина. Она долгое время доставляла исследователям много хлопот, эта Мария Магдалина (предположительно Мария из Магдалы). Не в этом дело. Дело в том, кем же она была? Великой блудницей, как утверждает Лука? Марией Вифанской? Женщиной, которая помазала тело Иисуса миррой и отерла волосами его ноги? Однако, кем бы она ни была, одного бесспорного факта отрицать нельзя: она была женщиной, и ранние христиане имели возможность отредактировать историю на свой манер. Ранним утром в то первое пасхальное воскресенье Мария Магдалина первой пришла к пустой гробнице; в Евангелии от Иоанна, которое, вполне возможно, соблюдает точность в этом отношении как раз по той же причине, она первой увидела воскресшего Иисуса.
Высокий темный силуэт Магды посреди моей квартиры: ее нелепые туфли, черные чулки, черная юбка (слишком короткая), черное пальто (отброшенное на сломанный диван), черный свитер, плотно облегающий небольшие бугорки грудей, коротко остриженные черные волосы, обрамляющие ее лицо, красные губы, будто бы оценивающие обстановку… Выражение полного безразличия и усталости, с едва заметной примесью подозрения.
Я провел ее по ступенькам из гостиной на крышу, где располагалась терраса. Она обернулась. Ее хладнокровие на мгновение изменило ей — я успел заметить проблеск острого волнения и мимолетную улыбку. Повсюду вокруг нее был город — поверхность города, которую горожане, погрязшие в рутине, никогда не видят. Терраса казалась лодкой, плывущей в штормовом терракотовом океане; скошенные черепичные крыши, точно волны, разбивались о башни, фронтоны и купола. Впервые увидев эту картину, Мэделин издала восхищенный вопль, она не скрывала восторга, она поистине ликовала. Магда же просто улыбнулась, словно этот вид был ей уже знаком.
— Я буду рисовать, — объявила она. Магда положила свою сумку и ушла в дом за стулом. Вернувшись, она какое-то время стояла, держа стул в руках: размышляла над ракурсом. Из той точки, где она стояла, было видно по меньшей мере шестнадцать куполов, включая крупнейший из всех — отца и мать всех прочих куполов, тот, который всему миру известен как работа Микеланджело, хотя это и заблуждение. Впрочем, ее взору открывались и другие купола — искусные своды в стиле барокко, на которых, подобно соскам, торчали фонари. Северная готическая традиция всегда благоволила к фаллическим шпилям, приверженцы ее зачастую изображали Христа тощей, аскетической фигурой. Но на юге главенствовал женский элемент христианства — тонкий, нежный, соблазнительный, пропитанный парами иных, более древних культов — Деметры (Цереры), Кибелы, Исиды. «Мариолатрия», если хотите уничижительную версию. Протестантский термин для этого явления — «марианское благочестие», это на случай, если понадобится политическая подоплека.
Магда приняла решение. Подобрав юбку, она уселась, поставила ноги на поперечные перекладины стула, выудила из сумки альбом и принялась за работу. Движения ее руки были точны и уверенны, штриховала она так, будто резала мясо, — с профессиональной ловкостью. Линии, словно по волшебству, наращивали третье измерение на привычные две координаты бумаги. По мере того как продвигался рисунок, купол Санта Андреи делла Валль (Мадерна) словно вырывался из прозрачного римского воздуха и методично воплощался на листе.
— Хорошо у тебя получается, — сказал я ей.
Она пожала плечами.
— Может, продам.
Она прорисовывала ребра купола, придавая им нужный изгиб и сумрачный оловянный оттенок, затем слепила из стирательной резинки комочек и склонилась на секунду, корректируя нюансы серого. Когда она выпрямилась, оказалось, что, стерев, она парадоксальным образом привнесла нечто новое — солнечный блик на свинцовой крыше.
Магда — настоящая художница. Панорама обволакивала ее, пока она была поглощена рисованием, и Магда будто бы становилась осью, вокруг которой вращается все это — весь город с его куполами и колокольнями, город, полный чувства вины и лицемерия. Магда — художница, и, как вое творцы.
Она присваивает себе каждый предмет, попавший в ее поле зрения.
Три дня она проспала на сломанном диване в гостиной Во сне она клубком сворачивалась под одеялом, точь-в-точь как бродяги, дрыхнущие на парковых скамейках или в вокзальных залах ожидания. Каждое утро я обнаруживал ее на кухне: она варила там кофе, который называла «турецка», хотя сходство с турецким кофе было минимальным. Я смотрел на ее вечно взъерошенные волосы на ее личико, которое забавно морщилось, когда соприкасалось с рукой, или складками одеяла, или грубым, потертым бархатом обивки. На ночь она надевала большую бесформенную футболку черного цвета. Ноги ее были мертвенно-бледными и, казалось, стыдились собственной наготы. Еле заметным кивком она приветствовала меня, а после запиралась в ванной, откуда возвращалась полчаса спустя с толстым слоем косметики на лице. Пудра липла к коже, как свернувшиеся сливки, напомаженный рот зиял, словно открытая рана. Затем Магда уходила из квартиры. Я практически ничего не слышал от нее, кроме слова ciao,[4] которое, должно быть, нравилось ей потому, что оно вошло в употребление среди американской молодежи, стало отдавать беспечной леностью и жевательной резинкой. Каждый день я думал, что она не вернется (ее жалкие пожитки навряд ли можно было считать залогом возвращения), но каждый вечер она все-таки приходила обратно. Макияж ее становился чуть бледнее, но манеры оставались прежними: они все так же хранили тихую, замкнутую сосредоточенность. Казалось, я фактически не существовал для нее.
А на четвертую ночь она бесшумно, точно ночной зверек прокралась в мою комнату и юркнула в мою постель.
Конечно, Магда сразу все поняла. Меня удивил срок, но теперь и это ясно. Магда все обо мне знала. Она лежала в моей постели, свернувшись клубком, словно котенок, излучая в равной мере безучастность и всезнание.
2
— Это отец Лео Ньюман? — произнес женский голос с тем легким акцентом, что выдает в говорящем иностранца: ее сочетание «th» представляло собой нечто среднее между фрикативным и взрывным звуком.
— Да.
— Это Мэделин Брюэр. Мы познакомились на приеме. Помните меня?
— Конечно, помню.
— Я обещала вам позвонить. Придете к нам на ужин? В среду вам удобно? Я понимаю, что следовало предупредить вас заранее…
Конечно, он придет.
Квартира четы Брюэров располагалась в Борго Пио близ Ватикана. Посольства обычно придерживают такие места для своих работников; число квадратных метров находится в строгой зависимости от должности и вычисляется по некой секретной бюрократической формуле. Ранг главы этого семейства был, несомненно, высок, поскольку Джек занимал пост какого-то министра. Они ели в большой, слегка запыленной столовой. На рояле стояли фотографии детей, а над огромным камином висел скорбный лик святой. Мэделин почувствовала, что должна извиниться за подобный интерьер:
— Живем, как в ризнице. Кажется, раньше эта квартира принадлежала одному кардиналу, который и оставил все эти иконы. А мы теперь должны следить за ними, потому что они очень дорогие. В противном случае их просто запрут в каком-нибудь подвале под Палаццо Барберини.
Святой над камином, казалось, самой не нравился вид в котором она представала. Дароносица в руке выдавала ее сущность тем людям, которые знали толк в подобных интерпретациях.
— Это святая Клара[5] — объяснила Мэделин. — На улице Саула. — Комментарий был адресован другому гостю, журналисту. — Клара — ваша покровительница, — уточнила она.
— У меня есть покровительница? — Он был евреем по фамилии Гольдштауб и на картину косился с недоверием.
— О, разумеется. Покровителям плевать на ваше вероисповедание. Они придерживаются абсолютно экуменических взглядов. — И Мэделин погрузилась в краткий обзор деятельности святых покровителей. — Весь этот вопрос насквозь пронизан католической логикой, — пояснила она. — Святая Люсия лишилась глаз, поэтому она покровительствует офтальмологам. Святая Аполлония недосчиталась зубов — и ей достались дантисты. Клара же патронирует телевидение, потому что, по одной известной легенде, могла появляться в двух местах одновременно. Папа Римский Павел назначил ее на эту должность.
— Павел Шестой?[6] — уточнил ошеломленный журналист.
— Именно.
— Они что, до сих пор этим занимаются?! Вы, должно быть, шутите.
— Я серьезна как никогда. Не так ли, дорогой?
Джек, сидевший на другом конце стола, снисходительно улыбнулся.
— Мэдди всегда ужасно серьезна, когда говорит абсурдные вещи.
— Так вот, святого Лаврентия живьем поджарили на рашпере…
— …и он теперь покровительствует шашлыкам, — журналист уже усвоил принцип.
— Почти. Поварам. Святой Стефан — каменщикам. Его забили камнями. Святой Себастьян отвечает за лучников.
— Лучников?
— Его убили из лука. Сотней стрел. Вы наверняка видели это на картинах.
— Я думал, это святой Варфоломей.
— Нет, с того содрали кожу. Сейчас он покровитель таксидермистов. О, а святой Иосиф Копертинский покровительствует авиаторам.
— Авиатором? Но, черт возьми, самолетов-то у них не 6ыло!
— А теперь есть. Святой Иосиф частенько летал туда-сюда, вот его и наделили этими полномочиями.
— Он летал?
— Летал. Это официально засвидетельствовано. Жил он где-то в шестнадцатом веке, не так уж давно. Кстати, а летающих раввинов у нас разве нет?
— По крайней мере, в Бароу-Парке нет. — Мужчина повернулся к Ньюману, дабы выслушать авторитетное мнение. — Эй, отец, это же ваша компетенция! Это действительно так?
Лео Ньюман, сидевший напротив и обливавшийся потом от смущения, подтвердил, что в общих чертах это правда.
— Главное — относиться к нелепостям веры как к эксцентричным шуткам, и не более. Как к доказательству незыблемой убежденности верующих. Подобная несуразица имеет весьма отдаленное отношение к истинной вере. Вам не нужно верить в эти небылицы.
— Надеюсь, что да.
Мэделин перехватила взгляд священника.
— А сам отец Лео в это верит? — И именно в тот момент в нем что-то шевельнулось, что-то, похожее на первый симптом болезни, глубоко внутри. Более того: шевеление это показалось совершенно естественным, явлением органической природы, что лишь усугубило дискомфорт. С умственным волнением он бы справился — он бы его поборол, он давно уже научился вести подобную борьбу. Образы, возникающие в мозгу, он изгонял, как Христос — торговцев из храма (этот случай даже самые скептически настроенные толкователи Нового Завета считают доподлинным и чрезвычайно важным). Но когда под ударом оказывался храм его тела, изгнание становилось куда более трудоемкой процедурой. С тем же успехом он мог пробовать изгнать из себя раковую опухоль. И ее взгляд, украдкой брошенный в его сторону, когда они сидели за длинным обеденным| столом, ее взгляд, пересекшийся с доброжелательным взглядом Джека и измученным взором «святой Клары, размышляющей о евхаристии» (школа Гвидо Рени), казалось, уронил первые семена недуга в его тело.
— Я не знаю, — сконфуженно ответил он.
— А мне кажется, знаете, — улыбнулась она. — Я думаю, отец Лео — скептик. — И слово «скептик» рассекло атмосферу в комнате резким согласным созвучием, послав во все стороны колючие волны.
В тот вечер Ньюман уходил одним из последних. Когда его провожали, он ощутил необходимость извиниться.
— Я злоупотребил вашим гостеприимством.
Мэделин помогла ему надеть пальто и, как ребенка, повернула к себе, чтобы поправить отвороты.
— Отнюдь, — сказала она. Остальные гости уже спускались по лестнице и распахивали входную дверь, запуская на площадку неистовые порывы влажного зимнего воздуха — Мы польщены вашим решением задержаться у нас подольше. Вы же навестите нас еще раз, не правда ли?
— Навещу ли я вас?…
— Если хотите. Я свяжусь с вами. — Она окинула его любопытным взглядом. — Я вот что хотела сказать…
— Что же вы хотели мне сказать?
— Покажите мне, над чем вы работаете. Это же возможно? Мне бы очень хотелось ознакомиться с вашей работой.
— В Институте? Это очень скучно. Книги, документы, ничего интересного.
— Давайте я сама решу, интересно мне это или нет.
— Смотрите.
Они стояли в хранилище рукописей Папского библейского института, окруженные серыми стальными полками, убаюканные далеким гудением кондиционера и увлажнителей воздуха, окутанные стерильной атмосферой, которая призвана останавливать процесс, ранее останавливаемый лишь прихотью судьбы, — деликатный процесс распада текстов. Старый доминиканец числившийся там архивариусом, копошился где-то в глубине помещения в поисках эдаких ослепительных средневековых сувениров для гостьи — чего-нибудь в киноварных узорах, расписанного красными заголовками, освещенного внутренним праведным огнем.
— Взгляните, — сказал Лео. Работал компьютер; его экран оживленно поблескивал. За стеклом висел тускло-коричневый волокнистый фрагмент папируса, цветом напоминавший песочное тесто, испещренный идеальными буквами, что складывались в слова скудного, рваного восточно-средиземноморского наречия. Язык этот отображал будничный говор улиц, отчасти утаивая смысл высказываний, отчасти — впиваясь в него железной хваткой; язык этот с трудом прорывался сквозь шум разделяющей нас пропасти — вопящих, ревущих столетий тьмы и просвещения. Как же этому языку удалось передать ей ощутимую, телесную дрожь?
— Это одна из ваших работ? Вы работаете над этим?
— Папирусы Эн-Мор, — кивнул он.
— А что значит Эн-Мор?
— Это такое место. Забытое Богом место, как ни крути. Только вот эти находки, по моему мнению, доказывают, что Богом забытых мест не бывает. Я никогда там не был, раскопками руководило израильское правительство. Эти фрагменты нашли в пещере неподалеку. — Он указал пальцем на слова на экране. — Kai eis pur. И в огонь. Вот что тут сказано. Возможно, это слова Матфея, так сказать — прото-Матфея. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 10: «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Или от Луки. Слова там те же самые.
Он слышал ее дыхание прямо возле уха. Она наклонилась вперед, чтобы лучше рассмотреть, перегнулась через его плечо. И Лео уже поглощала вовсе не тайна древнего свитка с безупречной каллиграфией и жестоким содержанием, а мягкое тепло женского тела, касание выбившегося локона, ее запах…
— Разумеется, мы не до конца уверены. Ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Но это место, похоже, ведет свою историю с первого века. Существует вероятность, что к нам попали именно фрагменты Q. — Ей стало любопытно. Заинтересованность выказывало выражение ее лица. Заинтересованность, а не обычную вежливость. — Q — это Quelle, источник, — объяснил он. — Собрание поучений, в которых объясняется взаимосвязь между Матфеем и Лукой, но которые не обнаружены в Евангелии от Марка. Конкретно это фраза звучит в проповеди Иоанна Крестителя…
— Это же просто невероятно! — взволнованно выдохнула она Будто бы без задней мысли она положила ему руку на плечо, подавшись вперед. И этот физический контакт громыхнул в его мозгу оглушительнее всяких идей. — Значит, это самые древние из известных нам фрагментов Нового Завета?
— Вероятно. Но дело не столько в возрасте. Эти свидетельства доказывают, что источник Нового Завета, один из письменных источников, во всяком случае, предшествует Еврейской войне. Следовательно…
Она, казалось, всерьез заинтересована — вот что было поистине замечательно. Было похоже, что она ловила каждое его слово, тогда как Джек лишь улыбался, кивал и менял тему с надменностью дипломата и дипломатическим же равнодушием.
— А это имеет значение? — поинтересовался он у Лео. — Имеет ли это хоть какое-то значение в наше время?
Мэделин язвительно ответила мужу:
— Для меня это имеет значение. И для миллионов людей во всем мире — тоже. Наверное, для тех, которые уступают тебе в умственных способностях. Для поганого Министерства иностранных дел Ее Величества это, пожалуй, никакого значения не имеет — если, конечно, вопрос не примет политическую окраску. Но для людей это имеет значение.
— Так как же называется организация, в которой вы работаете? — спросила она у Лео. — Всемирный библейский центр? Расскажите мне об этом подробнее.
Он улыбнулся, вконец растерянный, утративший всякое понимание происходящего. Как же очевидна случайность всего сущего, как же легко принять нечаянный жребий за руку Господню! Все началось несколько месяцев назад. Одним хмурым утром раздался телефонный звонок. Директор Всемирного библейского центра хотел побеседовать с отцом Лео Ньюманом и спросил, не с отцом ли Лео Ньюманом он имеет честь говорить. Звонивший, Стив Кэлдер, заявил, что чрезвычайно рад возобновить с ним знакомство, прерванное год назад. Они познакомились на конференции в Калифорнии. Лео помнил идеальный платиновый блеск волос Кэлдера и его жемчужно-белую улыбку. Он помнил приземистую виллу среди плакучих ив, и безукоризненно ровные газоны, и бассейн с подсветкой, в котором епископ римско-католической церкви плавал в компании евангелической пасторши. Он помнил спор, заведенный во время вечернего барбекю и затрагивавший Семинар Иисуса — группу ученых, которые полагали, что к библейским истинам можно подходить с позиций современной демократии и даже удостоверять их правомочность открытым голосованием. Кэлдер горячо защищал эту группу. «В дебатах нам следует чаще прибегать к рациональности, а не к вере! — выкрикнул он тогда. — Вера — это враг научных открытий!»
Интересно, он дурак или притворщик?
— Лео, мне нужна ваша помощь, — сказал голос в трубке. — У нас тут нарисовалась чертовски занятная находка. Местечко на Мертвом море, называется Эн-Мор. Слыхали о таком? Так вот, они как раз подкинули нам целую кучу папирусных обрезков. И нам нужен человек вашего статуса, чтобы разобраться с этими штуками. Для начала я позволю вам взглянуть на материал. У вас будет достаточно времени, чтобы все обдумать. Однако я уверен, что много времени вам не понадобится. Я убежден: как только вы увидите эти папирусы, вы приметесь кулаком стучать в нашу дверь и умолять, чтобы мы вас впустили.
На следующий день курьер доставил первые снимки. Охваченный жгучим нетерпением, Лео уселся за письменный стол и принялся остервенело разрывать упаковку. Растерзав пластик и отшвырнув транспортную накладную, он наконец-то вскрыл конверт одним резким движением — и обнаружил внутри одну-единственную фотографию формата десять на восемь дюймов. Конечно же, он узнал этот предмет, как только снимок скользнул на полированную поверхность стола, узнал его, но только лишь в общих чертах: это было высококачественное изображение кусочка папируса. Фрагмент был размером пять на четыре дюйма: рядом лежала линейка, позволявшая оценить масштаб. Пять на четыре дюйма, обтрепанные края, но текстура материала, покоробившихся, ссохшихся волокон, осталась неповрежденной. Поперек тянулись четыре строки. Текст померк и размылся, словно его подтерли жестким ластиком, но строки были настолько ровными, словно их писали под линейку, — выписанные четко, как могла бы писать машина, но исполненные индивидуальной красоты, свойственной лишь человеческому почерку. Чернила потускнели до бурого цвета, однако буквы каким-то образом сохранили свежесть — яркие, живые буквы. Койне. Надписи были сделаны на койне, демократической версии греческого, распространенной в Римской империи, лингва-франка[7] восточной области Средиземноморья, языке, на котором в те времена говорили все образованные люди, языке торговли и обмена, языке управленцев и чиновников. Иисус должен был говорить на койне. К Пилату он обратился бы на койне.
Лео перевернул фотографию, просто чтобы посмотреть, чтобы отсрочить момент, когда он вынужден будет начать чтение: так ребенок откладывает лакомства на потом, тем самым усиливая наслаждение. На оборотной стороне стоял круглый штамп в форме стилизованного глобуса, окольцованного заглавием «Всемирный библейский центр, Иерусалим», словно атмосферой; рядом виднелся номер по каталогу.
Тогда он снова перевернул фото и начал читать.
Это было похоже на разгадывание кроссворда. Одно слово явно выделялось среди прочих. Одно слово могло помочь решить задачу в целом, одно-единственное слово которое во всем Новом Завете встречается лишь четырежды — genemata. Потомок. Он проверил по конкордансу, и руки его дрожали от возбуждения, когда он доставал увесистый том с полки. От следующего слова сохранились лишь три буквы, но и в этом случае сомнений не оставалось: ипсилон — чи — йота. E-Ch-I.
Echinos, еж.
Он рассмеялся от этой мысли, рассмеялся в тишине кабинета. Потомок ежей. Ему хотелось бы с кем-нибудь поделиться этой шуткой, хотелось найти человека, который разделил бы его возбуждение от всей этой затеи. Но никого рядом не было. Лишь снаружи доносились привычные звуки: хлопали двери, гудел лифт, ползущий в цокольный этаж, в соседней комнате играла музыка. Лео едва не вскочил из-за стола и не побежал к двери, чтобы позвать кого-то, кто разделил бы его эмоции, — но сдержался.
Конечно же, это был не echinos. Это были echidnon. Змеи. Отпрыск змей.
Все остальное сложностей не представляло.
— Думаю, именно этого я ждал всю свою жизнь, — сказал он Мэделин. — Конкретное доказательство того, что Евангелия — или, по крайней мере, их источники — были написаны до Еврейской войны, а значит, содержат в себе свидетельства очевидцев.
— Но это же само собой разумеется.
— А вот и нет. Вы знаете, что на самом деле означает и Иисус?
— Разве это не просто имя?
Лео покачал головой.
— В нашем деле всегда нужно начинать с имени. Имена всегда что-то означают. Имя Иисус — это греческая форма Джошуа, Иешуа, и означает оно «Бог — это спасение». Поэтому, как вы понимаете' Иисуса можно запросто списать со счетов как олицетворение веры в Бога и лишить его статуса исторической фигуры. Если самые ранние рукописи датированы лишь вторым веком, если сами Евангелия были написаны так поздно — скажем, после правления Павла — то несложно разбрасываться утверждениями, которые приходится слышать сплошь и рядом: что Христос, дескать, был основополагающей идеей раннего христианства, мифическим персонажем, которому придали нечто вроде исторического облика с целью укрепления веры среди простолюдинов.
— А вы это все опровергли.
Он пожал плечами.
— С самого начала было ясно, что эти фрагменты относятся к более раннему периоду — как минимум, ко второму веку. Видите эти буквы? — Она смотрела и слушала его, в буквальном смысле сфокусировав внимание — словно свойственные ей остроумие и насмешливость собирала в пучок некая линза. — Это то, что мы называем zierstill, декоративный шрифт. Видите гамму? Второй век, по меньшей мере. А тут еще эти подписанные йоты, отмершие ко второму веку… Я вдруг подумал: Боже, эти фрагменты могут быть старше, чем райландские![8] — Он оторвал взгляд от изображения. — И я понял, что эта находка — настоящая сенсация. Самый ранний новозаветный текст со Священной земли. Возможно, самый ранний из ныне существующих.
Остальные картинки поступали к нему посредством телефонных линий. Раз в несколько дней он подключался к серверу Библейского центра, где его уже ждали картинки — по два изображения каждого фрагмента, оснащенные порядковым номером, и все. Одна картинка могла быть высокого разрешения, а потому грузилась довольно долго; другая могла быть уменьшена, чтобы дать лишь общее представление. Истрепанные обрывки папируса разворачивались на экране компьютера и зависали в светящихся прямоугольниках, точно кусочки старинного, потертого ковра, точно стяги с триумфальных шествий. Они создавали иллюзию реальности. Можно было разглядеть тени, отбрасываемые ими на белый фон; можно было различить отдельные волокна, отслоившиеся по краям. Ряд тускло-коричневых флажков сигнализировал из прошлого, как странный, таинственный семафор:
…и Он очистит гумно свое… [и соберет пшеницу Свою в]… житницу, а солому сожжет огнем неугасимым…[9]
Фрагменты Евангелия от Матфея, найденные в месте, которое, вероятно, имеет непосредственное отношение к самой Еврейской войне и сожжению Храма. Он читал самые ранние евангельские тексты из ныне известных; он делал то, о чем мечтал в раннем детстве, когда просиживал часами в семинарской часовне, всеми забытый, одинокий сирота, и размышлял; он простирал руку, дабы коснуться истории Иисуса.
Первая статья появилась в «Таймс»: «Новые находки у Мертвого моря подтверждают историческую достоверность Нового Завета». Таблоиды выразились более лаконично: «Папирус доказывает правдивость Евангелий». Умеренная сенсация отозвалась слабым эхом по всему миру на газетных страницах (разумеется, передовицы этому не посвящали) и в кратких упоминаниях в завершение выпусков новостей. Лео Ньюман оказался в тесной полутемной комнате на студии «Би-би-си» в Риме, где ему пришлось беседовать с бесплотным голосом из Лондона, задававшим вопросы вроде: «Как это поможет наполнить историю Иисуса новым смыслом в XXI веке?» Группа американских ученых попыталась доказать, используя сложный компьютерный анализ, что фрагменты не имеют никакого отношения к христианству, а являются давно утерянной частью книги пророка Осии. Сам Папа Римский нанес неофициальный визит в Институт, где лично взглянул на изображения и трясущейся рукой осенил голову отца Лео Ньюмана. «Лев, борющийся за истину, — сказал он. — Голос истины в преддверии смены тысячелетий».
«Господи, убереги меня от греха гордыни», — молился Лео, пока волны потрясения разносились по всему миру и затихали, точно далекая гроза.
Он смотрел, как она ходит по хранилищу рукописей — яркая вспышка цвета среди серого и коричневого, броский мазок светскости среди нарочитой праведности.
— Вам не кажется, что во всем этом чувствуется тлетворный запашок чьих-то амбиций? — Она наконец-то заговорила с ехидцей, с той вяжущей иронией, которая его чрезвычайно интриговала. — Разве в этом нет гордыни и амбиций? А ведь веры должно быть достаточно…
— Похоже, одной веры никогда не достаточно.
— Что это значит? У вас что, недостаточно веры? Вы же священник.
— Дело не в нехватке веры, хотя и это тоже всегда присутствует. Дело во вмешательстве других факторов — мирских.
Мэделин какое-то время ждала продолжения, стоя у окна и глядя на него с тем выражением на лице, которое оставила погасшая улыбка: это было выражение озабоченности и легкого смущения. Затем она внезапно сменила тон.
— Мне пора, — сказала Мэделин, демонстративно поглядывая на часы. — Боюсь, буду вынуждена оставить вас наедине с вашими текстами. — Сказав это, она принялась искать свои вещи — сумку и шарф. А как же зонтик? Зонтик она сдала на входе в хранилище. — Большое спасибо, что показали мне все это, Лео. Это было восхитительно. — И опять легкая игривость в голосе, резкая смена интонации, вызывающее неловкость чувство, что ее место только что занял другой человек.
Лео выключил компьютер.
— Боюсь, они не станут обыскивать вашу сумку на выходе, — сказал он. — Однако они обязаны это сделать. Просто они не понимают, как вести себя с женщинами. Не могут вообразить, что сюда придет женщина и что-нибудь украдет.
— А вы можете?
— Я могу вообразить практически все что угодно. За мной издавна водится такой грешок.
— А это грех?
— Не знаю. Возможно, грех, потому что в конечном итоге начинаешь замечать в людях худшее. — Он проводил ее к главному входу. Вахтер посмотрел на них через окошко своей будки и снова уткнулся в спортивную газету.
— А вы думаете обо мне самое худшее? — спросила Мэделин. Они ненадолго задержались в проходе. Казалось, ей уже не нужно никуда спешить.
— Я думаю о вас только самое лучшее.
— Это очень опасно. — Она притронулась к его плечу. Она могла бы привстать на цыпочки и поцеловать его в щеку, но это казалось нелепым в подобном месте, под мемориальной доской с именами пап и понтификов — суровых отцов, возводивших мосты между Богом и человеком. Поэтому Мэделин только сжала его руку, быстро и крепко, и сказала, что вскоре свяжется с ним. Потом развернулась и зашагала по узкой улочке, цокая каблучками по каменной мостовой; на неровной брусчатке ее ноги слегка подворачивались. А он остался с абсурдным и острым чувством утраты.
3
Лео среди женщин и кофейных чашек, под горестным взглядом святой Клары, словно бы возмущенной тем, что ее единомышленник вовлечен в рутину, в будничный ритуал. Лео, вежливо отвечающий на вежливые вопросы (они вместе ездили на римское кладбище под склепом Святого Петра) и ждущий, когда Мэделин подойдет и заговорит с ним. Он чувствовал себя юнцом, вот что раздражало его. Он чувствовал себя тинейджером (ужасное слово с международным оттенком распутства), который пытается привлечь внимание женщины старше себя; Мэделин же в это время лавировала среди прочих женщин с пугающей, зрелой уверенностью.
Наконец она к нему подошла. Тема римского погоста была исчерпана. Женщины вокруг говорили о своих семьях, о детях и школах, о своих домах, горничных и об отпусках.
— Расскажите мне о себе, — попросила Мэделин. — Вам это не запрещено? В каких семьях обычно вырастают священники?
— Вам неинтересно будет слушать о моей семье, — заверил он ее. — Моя семья — совсем не то, что ваша.
— Что вы имеете в виду? Ваша семья была несчастна? Все счастливые семьи счастливы одинаково, не так ли? Откуда эта цитата?
— Толстой.
— Точно, «Анна Каренина». Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные — несчастны по-своему. Вы согласны?
Почему это ее интересует? Чем она руководствуется, задавая подобные вопросы? Женщины приблизились, чтобы выразить благодарность и попрощаться.
— Вы останетесь пообедать? — спросила она у него.
— Мне бы не хотелось опять злоупотребить вашим гостеприимством.
Мэделин, рассмеявшись, даже не удостоила его ответом. Лео наблюдал, как она улыбается и смеется, пожимает руки, подставляет свою бархатистую щеку дляпрощального поцелуя, для двух прощальных поцелуев — по одному в каждую щеку; наблюдал, не отрывая глаз, за этим восхитительным действом — как она подставляет другую щеку для поцелуя… С фотографии в серебряной рамке, водруженной на рояль, на зрелище насмешливо взирали Джек и две девочки. Неожиданно для самого себя Лео начал представлять мелкие ритуалы их семейной жизни: как поступили бы Брюэры, что они бы сказали друг другу. В подобных вопросах его воображение давало сбои из-за острой нехватки опыта. Как будто он незаконно проник на территорию другого государства, где царили иные порядки и говорили на иностранном языке; как и все необычное, это его безудержно манило. Лео буквально погрузился в транс. Его семья, его маленькая, хрупкая семья представляла собой совершенно отличный организм, социальный институт, абсолютно не похожий на ее семью. Его семья была ограждена прошлым, о котором нельзя говорить, и наследием, которое не хочется признавать.
— Расскажите, — настаивала Мэделин, когда ушла последняя гостья. — Расскажите мне, а я послушаю.
И он рассказал. Это была своего рода исповедь, разъяснение и искупление одновременно. Он рассказал Мэделин о своей жизни в доме, пропитанном затхлым запахом ушедших дней, о жизни, переполненной излишним вниманием со стороны набожной матери-вдовицы, которая не терпела какого-либо вмешательства из внешнего мира, если не считать озорниц, приходивших учиться играть на пианино. Домам присущ неповторимый запах, целая гамма ароматов и едва подвластных обонянию оттенков. Весь их дом пропах фимиамом, который вбирали в себя складки одежды матери, когда та каждое утро ходила на мессу, а затем возвращалась домой — тогда-то он и вырывался наружу, этот тяжелый, томительный дух. Свечка, неизменно горевшая перед иконой Благословенной Мадонны с младенцем, добавляла запах воска.
— До чего же это по-ирландски, — таково было мнение Мэделин.
— Не по-ирландски и вообще никак. Это странное изобретение, принадлежащее моей матери. Когда-то ее семья исповедовала иудейскую веру — Нойман, Ньюман. Но затем ее мать была обращена в христианскую веру.
— Однако Ньюман — это ваша фамилия. — Последовала длинная пауза. Оба размышляли над тем, что влекло за собой это неосторожное высказывание, а именно — над проблемой законнорожденных и незаконнорожденных детей. Эти термины когда-то имели недюжинную речевую силу. Есть такое слово — «ублюдок»…
Лео ловко обогнул препятствие.
— Я не знал своего отца. Он умер до того, как я появился на свет. Я был единственным мужчиной в семье. Все остальные, кто когда-либо попадал в наш дом, были женщинами: мамины партнерши по бриджу, ее ученицы, служанки, две дальние родственницы, изредка приезжавшие в гости, — то ли старые девы, то ли вдовы, я так и не узнал. Сплошные женщины. — А вот и несдержанность, свойственная исповеди. Они сидели далеко друг от друга на широком диване, закинув ногу на ногу: она приняла эту позу ради соблюдения приличий и натянула юбку пониже, прикрывая блестящие диски своих коленей, он же выглядел весьма фривольно, взгромоздив лодыжку на колено. — Понимаете, я ни с кем это прежде не обсуждал. Наверное, просто не было подходящего случая…
— Вы не обязаны. Если не хотите…
— Она умерла. О мертвых или хорошо, или ничего.
— А вам есть что сказать о ней хорошего?
— Я никогда не понимал подведенной под это теологической основы. Разумеется, живые больше нуждаются в том, чтобы о них говорили хорошо. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, не так ли говорит нам Господь наш Всемогущий?
— Продолжайте же.
В том, что он поведал об этом Мэделин, присутствовала некая странная интимность. Это было нечто вроде исповеди наоборот — ее прощение его воспоминаний.
— Конечно, я ее обожал. Выбирать не приходилось. Ее злоба, ее сарказм, ее равнодушие — все это было смертоносным оружием. И таким же оружием была ее нежность. «Мой лев, — вот как она меня называла, — мой маленький храбрый львенок». Думаю, она подавляла мою волю. И делала это при помощи любви и нежности, конечно же; а еще при помощи истории, которая никогда не была моей и никогда не могла бы мне принадлежать.
— Истории?
— Ну, знаете: предки, семейные трагедии…
Мэделин словно обладала настроенным на его волну датчиком, который улавливал его секреты, его прошлое, его истинную сущность и притягивал к себе.
— Расскажите мне об этом, — сказала она.
Он не помнил свою мать молодой. В его воспоминаниях только ее глаза сохранили иллюзию молодости — голубые, ясные, словно у фарфоровой куклы, они всегда таращились от изумления сквозь тронутую тленом маску лица, словно пораженные открытием: время уходит, а плоть дряхлеет. В остальном ее внешность представляла собой лишь остатки былой красоты, придавая матери Лео сходство со стареющей актрисой, которая безуспешно силится противостоять годам. Кожа ее щек была мягкой, будто вощеной, и всегда присыпана хорошей пудрой, напоминавшей плесень; ее рот, неровно обведенный помадой, таил в себе тень утраченной чувственности, как на иной картине просвечиваются черновые силуэты. «Малыш мой, мой Männlein, иди сюда, поцелуй мамочку», — говорила она. Ее объятия пахли ладаном и парфюмерными розами: она всегда пользовалась одними духами. Когда он болел, то спал на ее кровати, ощущая ее тело, ее душистое присутствие рядом, это странное сочетание неуловимого и мясистого… И порой от избытка эмоций, обуревавших ее, когда она прижимала сына к своей обвисшей груди (Какие эмоции? Какое горе пряталось за ее чрезмерной опекой?), она начинала плакать — и черты лица ее морщились, как мокрая бумага, образуя мрачный контраст с яркими старомодными платьями и медно-рыжими волосами. Она казалась ему куклой, брошенной под дождем; эту мысль он заносил в список остальных нечестивых помыслов, вину за которые он обязан был загладить. «Что случилось, мама? — спрашивал он. — Скажи, что случилось». Но она лишь отважно мотала головой, отрицая саму мысль о том, что это Лео мог довести ее до слез. Нельзя даже вообразить, чем он мог бы огорчить свою мать… Невообразимое — вот что преследовало ее, а потому преследовало и его, в детских молитвах, которые он творил, ночью стоя на коленях у своей кровати. «Твой отец, твой бедный, бедный отец», — стонала она, и он смотрел на эту пару из серебряных рамок на пианино, на серванте, на каминной полке — мужчина, впечатляющий своей серьезностью, с лицом, на котором чувство долга проложило глубокие борозды. «Он взирает на нас, конечно же. Он видит нас, ему известны наши мысли, он понимает наши слабости…»
— Господи, да как же вы выжили?! — воскликнула Мэделин, когда Лео описал ей все это, но вопрос ее был лишен смысла. Ведь человек, которым он мог бы стать, не выжил. Выжила лишь та личность, которой он в конце концов стал. Выжил мужчина, который распластался на полу перед алтарем римской базилики вместе с тремя дюжинами остальных желающих принять духовный сан; их выложили там перед епископом, как трупы. И мать смотрела на него с передней скамьи, облаченная в траурно-черную одежду, с черной вуалью на голове (что к тому времени уже вышло из церковной моды), с похоронными слезами на глазах.
Радость? Восторг? Энтузиазм? Хорошее, богатое теологическое слово: французское enthousiasme или позднелатинское enthusiasmus восходит к греческому enthousiasmos, a то, в свою очередь, к понятию etheos, что означает «охваченный богом, воодушевленный». Вся эта мощь, ощущение божественного обладания, столь же яркое, как и простая плотская любовь, достижение кульминационной точки, куда более сильное, чем банальный оргазм… Лео, конечно же, заранее предупредили: остерегайся эмоций, сказал его духовный наставник, эмоции несут в себе лишь боль и обман.
— Почему ты плачешь? — спросил он у матери после церемонии. — Разве этот миг не должен быть счастливым?
— О Лео, что покинул меня, я плачу, — ответила она. Библейская формулировка позволила отнести эту фразу к лучшим из высказываний, когда-либо произнесенных ею.
Церковь Сестер Милосердной Девы Марии, необычайно чистая и простая церковь посреди города, изобилующего изысками в стиле барокко, церковь, закрепленная за приходом, который, казалось, готов был положить жизнь ради борьбы с современным миром, с силой денег и силой тьмы. По ночам сестры кормили супом и прятали в кельях нелегальных иммигрантов: албанцев, марокканцев, курдов, — а днем несли дежурство и молились. Субботними же вечерами они признавались в мелких грешках и сомнениях в тесных стенах исповедальни, где их выслушивал Лео Ньюман. Это была устаревшая пасторская обязанность, которую он исполнял будто бы ради того, чтобы напомнить самому себе о чем-то полузабытом среди книг и рукописей: об истинной сути всего этого, о любви к ближнему своему, что призвана укрепить веру человека. Целую неделю он с дотошностью патологоанатома анализировал слова, пришедшие из далекого прошлого, написанные еще по ту сторону водораздела, которым послужили Еврейская война и разрушение священного города Иерусалима; в субботу же вечером он старался обо всем забыть, шел в женский монастырь, надевал епитрахиль и садился в голой зарешеченной комнатке, где выслушивал их пустячные исповеди. На следующий день, получив отпущение грехов своих, они сбрасывали одеяния прямых обязанностей и, облачившись уже в будничные привычки, оккупировали, точно стая чаек, клирос тринадцатого века, пока Лео служил обедню.
В церкви всегда находилось несколько посторонних: случайные туристы, проходившие мимо и зачарованные идеальной — соловьиной — чистотой монашеских голосов; несколько набожных женщин, живущих неподалеку; пара бродяг; цыганка-побирушка. Однажды среди них оказалась и Мэделин Брюэр.
Она сидела в последнем ряду, в тени галереи, на которой располагался орган. Ее зеленая куртка ярким пятном выделялась среди окружавшего ее полумрака; выражение ее лица было невозможно различить. Она, не двигаясь с места, выслушала проповедь, которая была посвящена Посланию святого Павла к галатам, являющемуся свидетельством первой церковной междоусобицы. И на самом пике мессы — воззвании к Агнцу Божьему, что явился, дабы искупить грехи всего мира, — в тот самый момент, когда голоса сестер покинули клирос, взмыв к небесам в гимне причащения, она встала со скамьи и присоединилась к очереди желающих причаститься.
Верующие постепенно двигались вперед.
«Ilcorpo di Cristo».[10]
Отец Ньюман подносил гостию к их лицам.
«Il corpo di Cristo».
Облатка, гостия, след, проступающий на поверхности современного языка, как спрятанные слова на палимпсесте,[11] — hostia: жертва. Когда-то на алтарь дляритуального заклания возлагали быка, увешанного цветочными гирляндами, теперь же в этих целях используется кусочек хлеба, который может олицетворять жертву Христову, — а может и не олицетворять.
«Ilcorpo ai Cristo».
Некоторые причащающиеся простирали молящие ладони, другие просто ждали, открыв рты, пока хлебец вложат им в губы. Эту путаницу, созданную литургической реформой,[12] так и не разрешили.
«Il corpo ai Cristo».
Сестры воспевали Творца, чьи прекрасные деяния нельзя забывать; Творца, который милостив и полон сострадания; Творца, давшего им плоть, которой Он страшится; Творца, который вечно памятует о Завете Своем.
И Мэделин Брюэр подошла к алтарю и замерла, кротко сложив руки и подняв подбородок, словно готовясь мужественно принять страшную правду. Она слегка приоткрыла рот, и крошечный сверкающий кончик языка коснулся нижней губы.
— Тело Христово, — объявил Лео. Произнесено это было по-английски, и, чтобы не оставалось никаких сомнений, он поднес прямо к ее глазам малюсенький кружок, легкий, как крылышко бабочки.
— Аминь, — пробормотала она.
Он протянул руку и прикоснулся кусочком хлеба к блестящей розовой плоти. Она убрала язык, губы ее сомкнулись, и гостия исчезла. На миг Мэделин закрыла глаза, а затем робко, безразлично улыбнулась, развернулась и ушла по пустому проходу к своей скамье.
Initium sapientiae timor Domini, пели сестры: страх перед Господом — начало мудрости; они хорошо это понимают, они, которые следуют заповедям Его.
В конце службы Лео спешно удалился в ризницу, чтобы успеть переодеться. Он надеялся — и надежда эта была столь затаенной, что он едва ли не скрывал ее от самого себя, — что Мэделин будет ждать его снаружи. Однако в нефе базилики он обнаружил лишь пару равнодушных туристов.
Семья — и сила семьи. Семья давила на разум Лео Ньюмана, ее особенная насыщенность, то, что семья означает и означала прежде. Семья как врожденный эгоизм человека, доведенный до крайности, ведь посредством семьи человек, стремящийся вырваться за хрупкие пределы своего тела, норовит завладеть недоступным, включая будущее. Семья как жизнь и семья как смерть; семья как созидание и семья как разрушение; семья, которая лелеет любовь, и семья, истекающая ненавистью; семья как начало и семья как конец.
В Новом Завете семье придается первостепенное значение. Вспомнить хотя бы противостояние семьи Ирода и семьи Иисуса. В то время Лео беспокоила эта проблема. Его беспокоили вопросы кровных уз и наследственности. Вдумайтесь только в эту нить фактов, всмотритесь в сплетение тернового венца, шипы которого бережно извлечены из зарослей Нового Завета и выложены перед студентами Папского библейского института: Иисус происходил из семьи глубоко религиозной, знатной, и в младенчестве наверняка рисковал погибнуть от рук Ирода, поскольку как представитель своего рода имел некоторое право претендовать на израильский трон. Когда ему перевалило за тридцать, эти претензии нашли выход в лице его двоюродного брата Иоанна, сына жреца Захарии и женщины из Дома Давидова. Иоанн был основоположником популярного движения в Иудее и Галилее. Религиозным ли оно было или светским — в то время подобных различий не существовало: Иоанн стал основоположником движения, и движение это пошатнуло устои власти. Он напал на сына Ирода Антипаса на моральных и династических основаниях, а за усердие свое был упрятан в тюрьму у отдаленного берега Мертвого моря.
— Вы можете задать себе вопрос, почему Иоанн, обычный полубезумный проповедник, сыграл столь важную роль, — говорил отец Ньюман, обращаясь к своим студентам. Те беспокойно ерзали на стульях, ощущая острый запах ереси. — Саломея извивалась в танце (это имя нам известно от Иосифа, танец — из Евангелий от Марка и Матфея) и требовала голову Иоанна. Когда же просьба ее была удовлетворена, именно его двоюродный брат Иисус принял эстафету от лица всей своей семьи. «Ты ли тот, кого мы ищем?» — спросили они у него.
Лео окинул слушателей вопросительным взглядом, как будто это была не лекция, а представление.
— Даже не сомневайтесь в существовании этих претензий, — предупредил их Лео Ньюман. — Сведения дошли до нас через столетия, через устные пересказы и письмена; их копировали, подчищали, дополняли, сокращали — но они сохранились. На трех языках табличка над головой его, распятого, гласила: «Король евреев».
Некоторые слушатели перекрестились.
— Вот за какие претензии он погиб. Если бы все это относилось лишь к области истории, а Евангелия были бы просто историческими текстами, деятельность Спасителя нашего сочли бы попыткой отобрать трон Иудеи у колониальных захватчиков и сатрапов, не больше и не меньше. Сочли бы воззванием к Господу Израильскому, возвращением к духу Маккавея.[13]
В этом месте он умолк, ибо здесь простое отклонение от ортодоксальной доктрины принимало черты настоящего богохульства. Поразительно то, что после смерти Иисуса его брат Иаков получил руководящую должность в наследство, а Церковь не признает никаких иных потомков семьи назарейской: у вечной девственницы Марии больше не было детей. Однако прочтите внимательно Деяния святых Апостолов и послание Иосифа: от Иоанна — Иисусу, от Иисуса — к Иакову. Наследование и преемственность, два лица семейного Януса. Наследование и преемственность, точильные камни, что стирают дитя в порошок.
Семья — и власть семьи. В семье Мэделин говорят на уникальном арго и соблюдают свои собственные, эксклюзивные традиции. Словно чужак за границей, Лео Ньюман, священник Папского библейского института, начал свое обучение. «Красненькие чернила, — говорили они. — Передай-ка мне красненьких чернил» — имелось в виду вино. «Issma» означало «иди сюда»: какое-то время они жили в Каире, где Джек служил главным секретарем. Мэделин была «сбита с панталыку», когда чего-либо не понимала, хорошие вещи назывались «сделанными на ять», а когда Джек отчитывал других то вмиг становился «склочником». Джек был остроумным живым человеком, обладавшим как умственной, так и физической силой, человеком, на чьем сердце было выбито слово «дипломат». Старшую дочь, в течение учебного года круглой сиротой жившую в интернате в Англии, они назвали Кэтрин, потому что это имя носил оксфордский колледж, где учился Джек.[14] Именно там он, по собственному заверению, возненавидел англосаксов и полюбил Мэделин. К жене он по-прежнему относился с легким восхищением и называл ее Мэдди, словно мягко подчеркивая свойственную ей сумасбродность,[15] тогда как детей удостаивал лишь сдержанной лаской, как будто особой разницы между ними не видел и обе дочери являлись своего рода домашними питомицами. К младшей дочери по невыясненным причинам обращались «Бут»,[16] а вот «экушлой» можно было назвать и ту, и другую: прозвище это произошло от словосочетания «я chuisleто chroidhe», что в переводе с ирландского означает «биение моего сердца».
Изменение отношений — весьма загадочная штука, слишком загадочная, чтобы описать ее привычными словами. Можно интерпретировать этот процесс, оглядываясь назад подобно тому как историк изучает события давно минувших дней и различает в них путеводную нить, логическое развитие — но ведь в тот момент, когда эти изменения происходят, никакой путеводной нити нет, ведь правда? Имеется только случайный набор фактов, и продолжительность измеряется лишь мгновениями, не менее важными, чем сколь угодно длинные сроки, и целое зависит от частностей, Лео был просто знакомым, Лео стал другом. Семейные пикники, несколько вечеринок, пара концертов, так оно обычно и бывает. В то время как роль знакомого можно разделить с другими, дружба — эксклюзивна, ей присуще особое таинственное измерение, она наделена специфической гармонией. Он начинал произносить предложение и ловил себя на том, что подспудно вычищает свою речь от синонимичных словечек Мэделин. Он украдкой посматривал на нее — и замечал, что ее взгляд, направленный на него, полон изумления, словно она пытается разобрать слова не вполне известного языка. Они улыбались друг другу и наблюдали, как улыбается визави. Ничего не значащий контакт — легчайшее соприкосновение запястьями, мимолетное столкновение плечами — наполнялся смыслом, известным им обоим.
— У нас как будто появился личный духовник, — однажды заметил в его присутствии Джек, когда они гуляли по Албанским холмам.
— Господи, надеюсь, что это не так, — возразил Лео, и Мэделин, словно эхо, откликнулась точь-в-точь той же фразой. Фразы-близнецы практически совпали по времени, и было неясно, кто произнес эти слова первым. В этом совпадении высказываний чувствовалось что-то постыдное, как будто их застали в объятиях друг друга, и теперь им срочно нужно найти себе оправдание.
— Вы всегда смеетесь над одним и тем же, — сказала как-то ее старшая дочь, и все тогда погрузились в неловкое молчание, вызванное укоризненным оттенком замечания. Словно девочка выболтала секрет, который нужно было держать в шкафу вместе с остальными скелетами.
Нить случайности неразличима. Где-то над Мертвым морем кучка несчастных студентов и археологов привычно ковырялась в костях, стоя на коленях в пыли и просеивая мусор, и вдруг обнаружила первые признаки грядущей катастрофы. А тем временем где-то в Риме замужнюю женщину и сухого, черствого пастора объединило нечто обрывочное и с трудом подпадающее под стандартные определения: то ли сочувствие, то ли ирония, то ли сомнение, то ли радость открытия.
— Можно задать тебе нескромный вопрос, Лео? — губы Мэделин раздвинулись в легкой, типично ирландской ухмылке. Она смотрела на него, как обычно, немного склонив голову набок. Любые вопросы в исповедальне влекут за собой определенный риск, но они находились не в исповедальне, а в самом обычном месте — на кухне квартиры Брюэров, среди нагромождения пустых бутылок и немытых бокалов. Из-за кухонной двери доносился шум: там веселились гости. Джек разглагольствовал с одним итальянским министром о своих делах: бюрократических нелепостях, секретных иерархиях, одному ему понятных обязанностях и побуждающих мотивах. «Дело не столько в том, кого вы знаете, — услышал Лео, — сколько в том, кого вы знаете, по их мнению».
— Ну что, можно?
— Конечно.
Она сделала паузу, словно собираясь с духом.
— Ты стал священнослужителем из-за того, что не любишь женщин?
Он почувствовал, как заливается краской. Не обошлось и без молниеносного проблеска гнева.
— Нет, разумеется, не из-за этого.
На кухню вошла горничная с подносом в руках, последовала краткая беседа на примитивном итальянском. Когда служанка удалилась, Лео заметил во взгляде Мэделин явное любопытство, как будто она рассматривала абстрактную картину и пыталась понять, что же там изображено. Ей, похоже, пришлось сделать над собой усилие, чтобы не сменить тему.
— Но это правда? Я имею в виду, то, что ты не любишь женщин.
— Я не гомосексуалист, если ты об этом спрашиваешь.
Она отвернулась и принялась раскладывать канапе на блюде.
— Прости. Не нужно было задавать этот вопрос. Прости, что разозлила тебя.
— Я вовсе не злюсь.
— Злишься, злишься. Я лучше знаю. Мне уже знакома эта гримаса. Но я просто хотела знать. Ты, наверное, не поймешь, но я очень хотела это знать.
Лео смотрел, как она растворяется в шумном столпотворении вечеринки, как быстро и умело меняется ее настроение, стоит ей встретить хохот и болтовню соседней комнаты. Он смотрел, как Мэделин разговаривает с гостями, и вспоминал Элизу. Всю сознательную жизнь он пытался изгнать ее образ из глубин памяти, но тот упорно всплывал на самую поверхность. Элиза, которой лучше всех удалось пробить заслоны, выставленные им в отрочестве; Элиза, которая почти сумела расстроить неясную физику сублимации, служащей ключом к пониманию обета безбрачия. Спустя все эти годы он по-прежнему помнил ее настолько отчетливо, словно она сидела на диване среди многочисленных взрослых гостей Мэделин, скромно сдвинув колени и аккуратно приставив стопы в кожаных туфельках одну к другой. Лео тогда было девятнадцать, Элизе — всего пятнадцать. Прекрасные и вероломные чары таились в ее глазах, в румяных щечках, должно быть, присыпанных пудрой, довольно густых бровях и легком темноватом пушке над верхней губой. Маленькая пианистка. Она всегда играла «К Элизе», отчасти потому, что это было ее имя, отчасти — потому, что ни одного другого произведения она толком сыграть не могла: его мать часто повторяла, что девочка слишком ленива для обучения игре на пианино.
«Лень — сестра греха», — говорила его мать.
«Устрани повод согрешить — победишь сам грех», — повторяла она.
Но память… Что прикажете делать с памятью?
Однажды Элиза пришла в квартиру Ньюманов во время пасхальных каникул. Лео никогда прежде с ней не встречался и, открывая ей дверь, понятия не имел, что это за девушка. Она стояла у входа на коврике с надписью «Добро пожаловать!» (надпись эта откровенно привирала). Девушка слегка косолапила, что не мешало ей носить туфли из лакированной кожи. Ее голубое платье в нерешительности зависло между детством и юностью: с одной стороны, вся ткань была усеяна цветами и на пояснице красовался бант, с другой, глубокое декольте щедро демонстрировало ее вполне оформившиеся груди. Приятный румянец залил ее щеки. Лео почувствовал, как его лицо в точности отразило этот румянец.
— Миссис Ньюман дома?
— Нет, она вышла.
— А ты кто такой?
— Ее сын.
— Я должна сегодня заниматься с ней музыкой.
— Я думал, она позвонила и предупредила, что урок отменяется.
Девушка покачала головой.
— Нет, — ответила она. — Нет, не звонила.
Лео тотчас учуял кислый, гадкий запашок вранья: он знал, что мать звонила ей. Он слышал, как она говорила по телефону.
— Можешь зайти, подождать, — предложил он. Румянец на щеках становился гуще, ведь теперь ему было стыдно не только за девушку, но и за себя, ставшего ее сообщником. — Думаю, она скоро вернется. — Ибо сквозь зловоние лжи проступал иной запах — тонкий, но все же хорошо ощутимый аромат соучастия. Она вернется не скоро. Кузина матери заболела. Кузина эта жила где-то за пределами Лондона, и матери не будет дома до позднего вечера; все это время он должен был посвятить учебе. Теологии. Классической философии. Истории Древнего мира.
«Нет возможности согрешить — нет и греха».
Лео Ньюман, неуклюжий, замкнутый семинарист, отошел в сторону, пропуская возможность согрешить в свой дом. Возможность эта сидела прямо перед ним в кресле с ситцевой обивкой, одновременно чопорная и хищная. В этом кресле обычно сидела мать. Колени возможности были сведены, губы (темно-красный бутон, похожий на рот Мадонны на картине художника-прерафаэлита) — плотно сжаты (она прекрасно отдавала себе отчет, насколько хороша), туфельки лакированной кожи — водружены на ковер, как маленькие гробики. А распятый Иисус Христос тем временем взирал на них со стены; под образом стояло пианино, на сверкающей поверхности которого дежурили мрачные родственники в серебряных рамках (покойный отец, покойные бабушки и дедушки).
— Чаю? — предложил Лео. — Хочешь выпить чаю?
— Да, — сказала она, — я бы не прочь выпить чаю.
На приглашении Элизы в дом и заверении, что мать вот-вот вернется, его инициатива во все этом мероприятии была исчерпана. Все остальные шаги: непринужденная, игривая беседа за чашечкой чая, обещание встретиться на следующий день в ботаническом саду, горячие, влажные поцелуи, которыми они наконец обменялись две недели спустя на выходных, — предпринимала Элиза. Элиза была опытной и настойчивой, Лео был нерешительным и застенчивым. «Делай вот так, дурачок, — сказала она, и ее язык, мокрый и теплый, как тропическая рыба, затрепыхался у него во рту. — И если ты коснешься моей груди, я не буду возражать, хотя под юбку лезть тебе пока нельзя: на столь ранней стадии наших отношений это было бы крайне вульгарно». Бутоны ее грудей оказались такими мягкими и податливыми на ощупь… Когда он притронулся к ним, Элиза даже не шелохнулась.
И начался период тайных свиданий (разумеется, без ведома матери), прогулок вдоль канала, нервных, пошлых ласк на лавочках в укромных уголках парка (однажды их прогнал полицейский, в другой раз обругала какая-то женщина). Кульминацией стал поход в захудалый кинотеатр когда Элиза наконец сняла наложенный ранее запрет. Ее нежное дыхание возбудило Лео еще сильнее, чем непосредственно предложение, сказанное на ушко. «Коснись меня там», — прошептала она. Он послушался. Неверной рукой Лео наугад пробирался через нейлон и изгибы обнаженного тела, через резинки и клинья, чтобы обнаружить неожиданную жесткость волос и мягкую, сочную влажность. Ему показалось, что он нащупал что-то на дне пруда — что-то лохматое и похожее на моллюска.
Волнение? Возбуждение плоти? Конечно. Но также — отвращение. Элиза дернулась, словно ей причинили боль. Лео остановился и вытащил руку. Рука его отныне была заклеймена грехом, и клейкое вещество на пальцах служило тому неоспоримым доказательством.
— Кудаты? — прошептала она.
«Устрани повод согрешить — победишь сам грех». Избавься от улик — избавишься от греха. Он уходил, чтобы смыть свой грех мучительно ледяной водой в знакомой, успокаивающей аммиачной ауре мужского туалета. Когда он вернулся, Элиза сидела в полумраке, не отрывая глаз от экрана (там, кажется, показывали Элвиса Пресли); юбка ее была опущена до колен, а голову занимали уже совсем иные мысли.
— Ты это сделал? — спросила она, когда он снова уселся на свое место.
— Сделал что? — спросил Лео. Он рассматривал ее профиль в лучах льющегося с экрана света. Она улыбалась.
— Ты знаешь, о чем я, — прошептала она. — Если будешь хорошо себя вести, в следующий раз это сделаю я. Ну, я уже делала это мальчикам. Я знаю, как это делать.
Грех — и причина греха. Устрани повод — устранишь сам грех. Первое и основное правило целибата.
— Ты гуляешь с Элизой, — неожиданно заявила его мать на следующий день. Зачастую Лео было сложно понять, с какой интонацией она произносит те или иные слова. Злилась ли она? Звучало ли в ее голосе нетерпение? А может, упрек? Отрицать было бессмысленно. Наверняка их видела вместе одна из ее подружек (может быть, та крикливая женщина из парка?), не преминувшая доложить о случившемся. Мать смерила его холодным взглядом. Краснея и бледнея, Лео невольно думал о том, что под юбкой, между тощими бедрами, под тканью подштанников его мать тоже была такой. Грех неизменно был рядом, он скрывался в засаде, он наблюдал за ним и выжидал, точно насильник.
— Ты должен положить конец вашим встречам, — решительно заявила она. — Вам не стоит сближаться, а если встречаешься с молоденькой девушкой, то сближение неминуемо. — Произнеся это, она улыбнулась. Она улыбалась, сидя напротив сына, и за спиной ее сквозь открытую дверь виднелся небольшой городской садик, где солнечный свет сплошной завесой ниспадал на сверкающие кусты. Ее улыбка была победным флагом, вывешенным прямо на лице. — Кроме того, — сказала она, — Элиза Гудман — иудейка.
«Мы все так или иначе страдаем от плотских искушений». Так говорил один из молодых наставников Лео в семинарии. Столкнувшись с проблемой Элизы и ей подобных, Лео с головой ушел в учебу, словно мог усмирить необузданную похоть, прячась среди книжных полок, кресел к кафедр. Распятый Христос висел на стене перед глазами студента как немой укор. «Помни, что по канонам только полноценный мужчина может быть посвящен в духовный сан — полноценный мужчина, а не евнух и не гомосексуалист. Так что не стоит волноваться о подобных желаниях, но и попустительствовать им нельзя. Я бы посоветовал тебе… — священник понизил тон, чтобы кощунственную беседу никто не подслушал, — самому избавляться от бремени, буде станет оно непомерно тяжким. — Он проворно потер руки, будто демонстрируя, как именно следует избавляться от бремени. — Я на собственном опыте убеждаюсь — убеждался, — что чувства эти мимолетны и поверхностны. Как только ты испытаешь облегчение, они мигом исчезнут. Это как утоление жажды: выпил стакан воды — и вопрос снят. Конечно же, это лишь… ну… полумера, паллиатив. На случай крайней необходимости. Меньший грех, призванный не допустить настоящего грехопадения. Это не должно войти в привычку. Соблюдая дисциплину и регулярно вознося молитвы, ты вскоре сможешь изжить в себе потребность в подобных экстренных мерах. Устрани причину греха — устранишь сам грех. Психологи называют это сублимацией. — Заботливый пастор был либералом и не скрывал этого. — Но на самом деле это лишь перераспределение нашей энергии в угоду Господу. — Он улыбнулся и ободряюще похлопал Лео по колену.
Таким образом Элиза и ей подобные были изгнаны в самые дальние углы его разума. Таким образом он помирился с матерью. Таким образом он примирился со своим предназначением. Литургические ритуалы и требования веры вновь восстановили равновесие. На все вопросы твои ответит вера, однако это требует полного, самозабвенного подчинения, погружения столь же глубокого, как то, что сопровождает всякий обряд крещения. И в самом деле, крещение — это нечто вроде репетиции самоотречения во имя веры: в вере ты купаешься, ты плывешь в ней, ею живешь, окруженный ею, она держит тебя на поверхности и она же тебя поглощает. Ты утопаешь в ней, ведь иной раз она, подобно воде в легких, лишает тебя возможности вдохнуть. Вера обуревает, вера вселяет смелость, вера несет в себе ни с чем не сравнимую драму. И заключается эта драма в том, что весь мир, целая Вселенная сжата до размеров одного-единственного человека, человека, ходившего по нашей грешной земле и до сих пор идущего по ней.
— Слово «вера», pistis, и его производный глагол pisteuo, встречается в Новом Завете более двухсот сорока раз. Иоанн употребляет этот глагол, «верить», девяносто восемь раз. С глаголом этим часто используется предлог eis, близкий по значению английскому «в», «внутрь». Это помогает понять, насколько важно беречь веру, понять, что человек обязан посвящать тело свое и душу единству с Христом. В других случаях употребляется предлог epi, «на»… — Так говорил Лео Ньюман, новый человек,[17] читающий лекцию перед группой юных семинаристов. Он чувствовал себя солдатом, который побывал на линии фронта и лично слышал свист падающих снарядов, а теперь передает свой опыт неоперившимся новобранцам. Эти Солдаты Христовы обращали к нему свои искренние лица, полные надежды на то, что он научит их преодолевать все жизненные трудности. Интересно было обнаружить похожую военную метафору в письме бывшего ученика, ставшего пастырем в Ливерпуле:
«Я помню ваши лекции в семинарии, — писал он. — Мы видели в вас пример для подражания, командира, который поведет нас в бой, и теперь взгляните, что вы натворили. Сколько душ вы утащили за собой в геенну? Сколько невинных жизней уже загублено?»
На все вопросы ответит вера. И когда ты теряешь веру, тебе не остается ничего иного, кроме как восполнить yrрату философией — той, которая умышленно и хладнокровно не дает ни единого ответа.
4
Отправьтесь с компанией родственников на пикник. Отвезите их куда-нибудь в Сутри на этрусскую землю к северу от Рима. К лесам и внезапным теснинам, к бурым утесам в пунктире надгробий, к заброшенным, поросшим ежевикой ступеням. Джек вел первую машину, в следующей ехали друзья (Говард и Гемма, которые остались погостить на выходные). Ньюман сидел на заднем сиденье первой машины — вспомогательный элемент, бесцветное, но весьма занятное дополнение, нечто вроде артефакта стародавнего археологического периода. Были там и обе дочери, совсем недавно вернувшиеся из интерната: они сидели по бокам от него, разделенные великим перевалом человеческой застенчивости. Старшая, Кэтц, краснела и умолкала всякий раз, когда Лео заговаривал, а младшая, Клер, откровенно его изучала.
— Вы не похожи на священника, — сказала она.
— А на кого обычно похожи священники?
— Священники — такие же люди, как и все остальные, — вмешалась Мэделин, повернувшись к ним с переднего сиденья.
— Нет, не такие же. Священники скучные.
Взрослые рассмеялись.
— Отец Лео вовсе не скучен. Вообще-то, он настоящая знаменитость. Он пишет о Библии в газеты.
Ньюман попытался сменить тему.
— Папа Римский — тоже священник, — напомнил он.
— Папа Римский скучный, — категорично заявила Клер, и Кэтрин покраснела от стыда.
— Папа Римский любит каждого из нас, — сказала Мэделин. — Именно поэтому он может быть немного скучным.
За городом они увидели древний амфитеатр и ряды надгробий на утесе. Они припарковали машину и вышли наружу, чтобы осмотреться.
— А где сейчас находятся эти мертвые люди? — спросила Клер, через открытую дверцу машины глядя на влажную, голую землю. — Они отправились на небо?
Это был любопытный теологический момент.
— Куда же они отправились? — спросила Мэделин. — Миллионы людей, которые не знали об Иисусе Христе просто потому, что жили задолго до его рождения?
— Этого мы не знаем, — признался Лео.
— Ну, их же нельзя просто сбросить со счетов, правда? В свое время они были столь же реальны, как и мы все. Даже сейчас, если предположить, что у смерти отсутствует временное измерение, они остаются такими же реальными, как, допустим, твоя покойная мать или мой покойный отец.
— Лимб?[18] — предположил Джек. — Так ведь называется специальное место, которое вы придумали длярешения этой проблемы?
— Лимб — для маленьких детей, глупенький, — ответила младшая дочка.
Небольшая теологическая дискуссия продолжилась, когда группа начала осмотр надгробий. Тропинка тянулась вдоль подножия утеса, а после устремлялась вверх, по заросшему мхом склону, прямо к знаку, который гласил: «Часовня Мадонны дель Парто, Пресвятой Богородицы». В путеводителе говорилось, что раньше это здание было митреумом.[19] Оно было целиком построено из камня: колонны, приделы, узкая апсида — абсолютно все. Там пахло сыростью и древностью — кисловатый, затхлый запах.
— Митреумы — конек Лео, — сказала Мэделин мужу. — Или правильно говорить «митреума»? Он однажды водил нас в один митреум под Сан-Клементино.
Лео вдруг понял, что хочет, чтобы она на него посмотрела, и это не на шутку его взволновало. Он даже говорил с умышленной бойкостью, чтобы привлечь ее взгляд. Пока они бродили среди теней пещеры, он пространно излагал идею митраизма — рассказывал о самом Митре, о быках и жертвоприношениях, о тайных ритуалах — инициациях,[20] о бычьем семени, что оплодотворяет весь мир. И она действительно смотрела на него с загадочной улыбкой, которая могла выражать интерес, но могла подразумевать и нечто вроде сочувствия.
— Христианство победило, — сказал он им, — отрекшись от элитарности, распахнув объятия всем и каждому, ничего не скрывая.
— А что значит «отрекшись»? — спросила старшая девочка. — Почему вы все время используете непонятные слова?
Джек засмеялся и повторил ее вопрос.
— Потому что «понятные» для этих целей не годятся, — сказал Лео.
Они вернулись к машине и поехали обратно в город. Прогуливаясь по узкой, заросшей аллее, Лео взял младшую девочку за руку.
— Хочешь, я кое-что тебе покажу? — предложил он. — Ты знаешь, кто такой Понтий Пилат?
— Конечно, — тут же ответила Клер. — Он убил Иисуса.
— Иисуса убили евреи, — поправила ее Кэтрин. — Так написано в Библии. Иисуса убили евреи.
— Иисуса убили римляне.
— Евреи.
Беседа грозила превратиться в нелепую детскую перепалку: да, нет, да, нет.
— Лео — еврей, — сказала Мэделин.
— Правда? — Джек, похоже, искренне изумился.
Лео ответил с максимальной небрежностью, чтобы поскорее сменить тему:
— Ньюман, Нойман. В начале века в моей семье произошел переход. Моя бабушка обратилась в христианство. — Он знал, о чем думает Джек. Джек обладал острым умом настоящего дипломата и не стал бы упускать из виду подобное обстоятельство. Прогуливаясь по городу в сторону главной площади, мимо alimentari[21] и баров, Лео ощутил прохладный ветерок ревности. Зачем Мэделин выдала этот хрупкий, пустячный секрет?
— Значит, это вы убили Иисуса? — спросила Клер.
— Глупенькая, как может священник убить Иисуса?
— А как же Понтий Пилат?
— Он не был священником.
— Он был римлянином. А отец Лео — римский католик.
— Ты тоже.
— Нет, я не…
— Да!
— Мне кажется, детям лучше помолчать, — решил Джек.
Главная площадь города напоминала масштабную декорацию с фонтаном, кафе, муниципальным зданием и толпой статистов, снующих туда-сюда будто бы в ожидании, пока грянет оркестр и заиграет увертюра. Лео повел своих спутников к палаццо на противоположной стороне. Каменная доска у входа уверяла, что перед ними находится Municipio, муниципалитет. Здание было отделано ржаво-красной штукатуркой, арку входа украшали мраморные фрагменты, найденные на полях в предместье; мелкие осколки различных пород беспорядочно усеивали стены, напоминая перхоть, прилипшую к покрасневшей коже головы.
— Вот, — сказал Лео, слегка волнуясь из-за того, что не сможет произвести впечатление на девочек, ведь это была всего лишь дощечка с надписью, банальный свидетель ушедших времен. Он не мог осуждать детей, в которых невинность смешалась с изощренностью, а честность — с лицемерием.
Группа подошла ближе и взглянула в направлении, которое он им указал. Слово Pontiiвыделялось среди эпиграфических каракулей; по всей вероятности, это было обозначение одной здешней семьи, gens Понти.
— Ну и что?
И в самом деле, что? Единственное свидетельство, если его можно счесть таковым, существования итальянского колониального правителя нижнего ранга, с обломком камня на плече и напористой женой — Понтия Пилата. Самый известный римлянин из всех, когда-либо рожденных на свет. Конкурентов у него, по большому счету, нет. Забудьте о Юлии Цезаре и Тиберии. Сколько в мире насчитывается христиан? Миллиард? Не считая Девы Марии, Понтий Пилат — единственный человек, упомянутый в «Символе Веры». Посему его имя звучит из уст каждого из миллиарда христиан всякий раз, когда он или она идет в церковь. Вот что называется славой.
— Здесь он родился. Это его родной город. — И вполголоса добавил: «возможно», дабы не испортить свою и без того малоубедительную историю.
Так Лео поведал семье Брюэров и их друзьям о Понтий Пилате в тот весенний день в Сутри, когда ветер был холоднее, чем положено, а сам Лео алкал внимания Мэделин. Он рассказывал о Понтий Пилате девочкам, Мэделин, Джеку (если тот вообще его слушал), Говарду и Гемме (если им было не наплевать). Он специально привел себя в порядок перед выездом — подстриг волосы, тщательно побрился, образуя тем самым контраст с бородатыми героями своего рассказа, и обрисовал, так сказать, персонаж — человека верившего во благо республики, в букву закона, в преданность государству и необходимость отстаивать честь своих предков. Человека, который вступил в выгодный брак и благодаря этому взошел теперь на первую ступень имперских амбиций. Понтий Пилат, из сословия всадников, который решил сразиться за крупнейшую награду — Египет. Понтий Пилат, который заслужил благосклонность императорского советника Седжануса и был направлен в Иудею летом двенадцатого года правления Тиберия.
— Похоже на историю с Британской Индией, — сказал Джек, который его все-таки слушал.
— Точь-в-точь, — согласился Лео. — Такие же жирные, ленивые князьки, отсылающие своих детей в Рим или Лондон за образованием; все дети Ирода прибыли сюда. Те же странные верования, те же святые с безумными глазами и опасным влиянием на политическую жизнь, те же местные политики, которые не намерены упускать свои шанс. И такая же неумелая колониальная администрация.
— Можно использовать это в качестве примера для будущих министров иностранных дел Великобритании, — предложил Говард.
— Бедный Пилат, — сказала Кэтрин.
— Почему же бедный?
— Потому что у него не было выбора, — сказала она, проявив неожиданную детскую проницательность. — Иисус должен был умереть, поэтому у Пилата не было выбора И у Иуды — тоже.
— А как же миссис Пилат? — спросила Мэделин.
Они вернулись к машине, оставленной у надгробий возле амфитеатра.
— Повинуясь традиции, ее звали Клавдией. Клавдия Прокула. Согласно Оригену,[22] она обратилась в христианство, и православная церковь даже канонизировала ее. Святая Клавдия.[23] Однако, если верить легенде, она также была любовницей Седжануса, и благодаря этому Пилат был назначен на должность.
— А что такое «любовница»? — спросила Клер. — Это та, которую все любят?
Взрослые рассмеялись. Сестринский долг поборол смущение Кэтрин.
— Любовница — это значит подруга, — уверенно сказала она.
— Значит, мама — любовница отца Лео? — спросила младшая. Наверняка ей было невдомек, почему ее слова вызвали новый взрыв хохота, еще громче прежнего. Возможно, она не поняла, почему отец Лео покраснел. Может быть, когда-нибудь она еще вспомнит об этом случае и узрит в этих мгновениях неловкости и веселья зловещее предзнаменование.
Они вернулись в амфитеатр. Джек вместе с девочками и двумя гостями из Лондона пошел вперед, к центру каменного круга. Многоярусные сиденья окольцовывали их. Мэделин и Лео стояли у входа, глядя на лужайку, где их спутники позировали, словно актеры на сцене.
— Зачем ты рассказала Джеку, что я еврей? — спросил Лео. Ее, похоже, удивил тон вопроса.
— А это что, секрет?
— Нет, не секрет. Но я сказал это тебе.
— Извини. — Она, кажется, не понимала его, не могла оценить масштаба тайны, в которую оказалась посвящена. — Извини, если я не оправдала твое доверие, но я не думала, что это настолько деликатный момент.
— Ладно, неважно.
— Извини меня, Лео. Все ведь в порядке? Я не понимала, и теперь мне очень жаль.
— Позвольте мне объявить войну, говорю я вам! — возопил Джек, обращаясь к пустым сиденьям. — Война превосходит мир, как день — ночь!
— Почему ты так разозлился? — спросила Мэделин.
— Я не злюсь.
— Злишься.
— …Война волшебна, война пробуждает, война бесстрашна и полна страсти!
— Ты просто не способен принять извинения. Боже мой, вот к таким последствиям приводит целибат!
— Целибат тут ни при чем.
— Неужели?
— Мир — это истинный паралич! — декламировал Джек. Девочки бегали вокруг него и заливались смехом. — Мир приносит больше ублюдочных жизней, чем война отбирает жизней человеческих!
— Целибат тут ни при чем, — настаивал Лео. — Абсолютно ни при чем. — И он обо всем рассказал ей, именно в тот момент, именно в том месте, пока Джек скакал по амфитеатру в Сутри, девочки восторженно визжали от отцовских кривляний, а Говард и Гемма — лишь продолжали вежливо смеяться…
Другой пикник, другая эра, другие две машины. Главная дорога к городку Сутри была заасфальтирована лишь частично, в остальных же местах — неплотно засыпана гравием. Однако здесь растут все те же зонтичные сосны, здесь находится то же кладбище (только сейчас тут народу поменьше, а электрическое освещение отсутствует), а на противоположной стороне тянется ряд все тех же этрусских гробниц. Это страна гробниц, пейзаж мертвецов. А на выступе вулканической породы в конце проспекта притулился тот же хуторок, похожий на кораблик, что готовится войти в теснину и отступает под натиском хлынувшей на него флотилии автомобилей.
«Сюда!» Машина, едущая впереди, — «альфа-ромео» с откидным верхом. Голос гида отчетливо слышен сквозь шум моторов, когда гид поворачивается и машет влево. На ветру развевается белый шелковый шарф. «Театр!» Это молодой парень, узкоплечий и смуглый, смуглее остальных, которые явно стоят выше его на социальной лестнице. Машина вихляет, дергается (хотя иного транспорта, кроме как повозки с запряженным в нее ослом, на дороге нет) и, вспахивая гравий, въезжает на площадку у обочины, возле утеса близ ворот, которые ведут туда, куда он указывал — в резной каменный амфитеатр.
«Мерседес» едет следом и останавливается возле «альфы». Пассажиры выходят наружу. На женщинах — платья в цветочек, с квадратными плечами и узкими талиями. От солнца их спасают шляпы с широкими полями, от грязи — сандалии на платформах; женщины всюду суют свой нос, точно любопытные пичуги. Трое мужчин одеты во фланелевые брюки, тонкие рубашки и белые парусиновые туфли; глядя на них, можно подумать, что они собрались сыграть в теннис или бадминтон. Главный мужчина в группе, образуя очевидный контраст, одет в костюм. Его единственная уступка полуденной жаре, безоблачно-синему небу и режущему, словно раскаленный скальпель, солнцу, — потрепанная, нелепая панама. «Как ты выносишь эту жару в такой одежде, дорогой?» — Женщина, которая произносит это с оттенком упрека, — блондинка (ее волосы закручены в толстые «колбаски», обрамляющие лицо), стройная и деловитая.
«Этот амфитеатр уникален, — объясняет юноша, подражая манере профессионального гида. — Вероятно, этрусского происхождения, он, разумеется, использовался во времена Римской империи».
«Первой Римской империи», — уточняет один из мужчин. В его голосе слышится издевка, и некоторые, если не все, присутствующие смеются. Хотя блондинка, например, не смеется. Когда юноша начинает говорить, она норовит отвернуться, заняться чем-то другим — скажем, командует пятым мужчиной, слугой, который достает вещи из багажника «мерседеса»: корзины с продуктами, скатерть, походный ящичек со столовыми приборами — и переносит их в амфитеатр. Женщина отдает ему приказы, как генерал, разворачивающий войска, тем временем муж — мужчина в костюме и панаме — следит за ней с нескрываемой нежностью. «Вон туда. Не сюда. А эти — туда, чтобы люди могли брать, когда захотят. Вино поставь в тень. В Бухлове мы часто ездили на пикники в лес, — объясняет она остальным, словно опытность в данном вопросе оправдывает ее требовательность. — На каретах, никаких машин. Брали столы, стулья, все. А мой брат устраивал игры для детей…» Белая скатерть расстелена прямо посреди театра, как будто вот-вот должен начаться спектакль, а это все — серебряные приборы, высокие бокалы, белоснежный фарфор — служит реквизитом. Слуга несколько раз бегает к машине и обратно, а крестьянин с ослиной повозкой на дороге молча наблюдает за приготовлениями. И что же он видит? Семеро взрослых и мальчик крутятся как заведенные под палящим весенним солнцем, восторгаются этим местом — обшарпанными ярусами, которые расходятся концентрическими кругами, как рябь на поверхности пруда; говорят они с интонацией, которая ему не понятна и употребляют слова, которые ровным счетом ничего не значат. Но он знает, что они немцы. Этого достаточно. «Ciao, поппо»,[24] — приветствует его мальчик на ломаном итальянском. Он отвечает на приветствие беззубой ухмылкой, затем шлепает осла по боку и бредет по дороге дальше, к деревне.
«Spätlese»,[25] — говорит высокий мужчина, вынимая бутыль из корзинки. Этикетка исписана затейливым готическим шрифтом, а картинка напоминает сцену из «Кольца Нибелунгов».[26] На стенках бокала выступили капельки влаги. «Отменное вино».
«Я предпочитаю наше вино», — говорит его жена.
«Вздор. Ваше вино — австрийские помои. А это — рейнское вино тончайшего букета».
«Не австрийские, а моравские».
«Еще хуже. Сплошные евреи и славяне».
Слышится смех. Он откупоривает бутылку (это же пикник: слуги не могут заниматься всем одновременно) и разливает белое вино; все берут по бокалу, подносят к свету и пригубливают, после чего соглашаются с герром Хюбером, что вино прекрасное. Они прихлебывают, посасывают и производят прочие звуки своими губами подлинных ценителей. Фрау Хюбер наклоняется, чтобы поправить скатерть, и парень на секунду умолкает, любуясь тем, что обнажает слегка задравшаяся юбка. Ноги женщины обтянуты шелковыми чулками (редкость по тем временам). На коленях чулки собрались в небольшие складочки, а стрелки неумолимо влекут взгляд в ту затемненную область, где можно вообразить себе кайму чулок, подвязки и прохладную, шелковистую кожу. Герр Хюбер ловит взгляд юноши и неодобрительно хмурится. «Боюсь, придется сесть на землю», — говорит фрау Хюбер и опускается на колени, словно бы подавая пример остальным. Ноги она целомудренно сдвигает. Мужчины чувствуют облегчение. Слуга начинает разносить еду, что получается у него весьма неуклюже: он слишком явственно чувствует свою принадлежность к этой группе, когда присаживается на корточки и предлагает дамам угоститься prosciuttocrudo[27] («С венским окороком не сравнить», — отмечает герр Хюбер) и зелеными фигами; он слишком близок к правящему классу и отдает себе в этом отчет.
И тут раздается звук — внезапный, резкий, словно голубую ткань небес с хрустом разрывают на части. Все прекращают есть. «Я предпочитаю пражскую ветчину», — говорит кто-то и, поднимая глаза, видит некий несуразный серебристый предмет крестообразной формы. Предмет с ревом несется со стороны дубовой рощицы, мчит над амфитеатром и устремляется к дороге, к верхушкам зонтичных сосен, и кажется, будто небу больно от этого непрошеного гостя.
«Amerikaner!» — восхищенно выкрикивает мальчик, вскакивает и бежит ко входу в театр, словно надеясь поймать гигантскую черную машину.
«Ерунда, — говорит один из мужчин. — ВВС! «Мессершмидт».
«Лео!» — кричит женщина, пытаясь догнать бегущего ребенка. Шум становится тише, он удаляется, и в весеннем воздухе тает самолетный рокот.
«Американский аппарат», — соглашается один из мужчин, и герр Хюбер начинает читать лекцию, адресованную, в первую очередь, младшему из собравшихся — молодому итальянцу. Лекция посвящена тому, что, после того как американцам позволили вторгнуться в Европу, война достигла пика своего трагизма, и ничего уже не будет, как прежде, что бы ни произошло…
Силуэты далекого пейзажа — 1943
Виллу построил один польский граф в девятнадцатом веке, во время короткого и бесперспективного расцвета Польского королевства. Она представляет собой величественное нагромождение колонн и галерей, куполов и фронтонов, словно архитектор следовал устаревшим канонам Праксителя, однако не обладал чувством гармонии и меры последнего. Но вот сад вокруг Виллы — это совсем другое дело: строгий и классический за зданием, внизу он превращается в фантазию Пиранези,[28] в скромные джунгли с римской кирпичной кладкой (руины одного из акведуков, снабжавших город), с водопадами, петлями тропинок и влажной растительной тенью. Аквилегия, ломонос, жимолость, собачья роза, густые ароматы жасмина и апельсина (маленькая оранжерея, где соцветия не уступали в белизне парящим среди полупрозрачной листвы голубкам), тонкие вкрапления самшита, вульгарный запах туберозы, повсюду — обломки римского мрамора, обнаруженные при разбивке сада и так никем и не собранные, а теперь мшистые и заплесневелые, зато дающие случайному прохожему возможность радостного открытия. На склоне холма расположен tempietto,[29] построенный по эскизам шедевра Браманте.[30] В целом, это идеальное явление, пришедшее из эпохи Древнего Рима — одновременно артефакт и красота природы, фантазия и реальность, прошлое и настоящее.
В саду находятся двое. Они вышли из дальнего «строгого» сада (стоячие пруды, искусственный грот, стриженые живые ограды, цветник с дорожками между клумбами), обогнув здание сбоку, и спустились по тропинке «нижнего» сада. Женщина, похоже, наставляет своего спутника и делает это — вот удивился бы потенциальный слушатель их беседы! — на английском.
— Если будешь слишком обильно поливать растения, они запросто могут погибнуть, — говорит она.
— Если я буду слишком обильно поливать растения, они запросто могут погибнуть, — внятно произносит парень. Затем он повторяет фразу «они запросто могут погибнуть», словно пытается закрепить ее в памяти.
Фрау Хюбер умолкает и всматривается в заурядный цветок у тропинки — пунцовую фуксию, пляшущую среди теней; женщина откуда-то знает, что эта порода называется «Аделаида».
— Если честно, — признает она, — я не уверена, как правильно сказать по-английски: «могут» или «смогут».
Он, похоже, изумлен до глубины души.
— Вы не знаете? А разве правила есть?
— «А разве правил нет», — поправляет она.
— Ну, хорошо, разве правил нет? — Он проявляет легкое нетерпение. — Понимаете ли, правила все-таки есть. — Его смышленое лицо, иссеченное полосами тени и света, принимает торжественное выражение. Не всякий с уверенностью употребит это слово применительно к юноше, но он действительно красив. Никто бы не сомневался, как нужно сказать о нем на его родном языке: bello. Un bel uomo.[31]
— Да, я полагаю, что правила все-таки есть. Но английский — странный язык. Его можно назвать… — Женщина делает паузу, как будто слово, пришедшее ей на ум, может шокировать собеседника, — демократичным. Поэтому правила нарушаются, а потом люди о них забывают, или им просто наплевать…
— Мне нравится ваше определение демократии. Я его запомню. Очень похоже на Италию. Но правила все-таки есть, потому что вы говорите, что я ошибочный.
— Надо говорить, я ошибся. — Она отрывает взгляд от растения и смотрит по сторонам. — Это трудно, Чекко. Английский — инстинктивный язык. — Сама же она говорит практически безупречно. Носитель языка мог бы спросить, откуда она родом и почему она так нарочито ставит ударения на гласные и так четко артикулирует согласные, однако эти вопросы ничего бы не дали. Ключ к пониманию остался бы недоступен. Фрау Хюбер. Гретхен. Блондинка с точеной фигурой и острым умом, наделенная своеобразной красотой. Не всякий с уверенностью употребит это слово применительно к женщине, но она действительно красавица.[32] В родном языке сомнениям места нет: она schön. — А ты ведь не считаешь, что англичане потакают своим инстинктам, правда? Люди думают, что они консервативны и законопослушны. Но это не так. Вот в чем ошиблись немцы.
— Немцы когда-то ошибалишь?
— Тебе нужно поработать над окончаниями, Чекко. Это главная проблема всех италоговорящих. «Ошибались», а не «ошибалишь». Произноси чуть тверже. И — да, они действительно ошиблись.
— А вы?
— Я? О, я ошибалась много раз.
— Например, когда вышли замуж за герра Хюбера?
Она молчит — то ли размышляет над вопросом, то ли пытается сделать вид, что не услышала его.
— Этот цветок…
— Фуксия, — говорит он.
— По-английски нужно произносить это название как «фьюша».
— Но это же фуксия, названная по имени ботаника Фукса.
— Да, но по-английски это звучало бы весьма непристойно.[33] Поэтому говорят «фьюша».
— Чтобы быть вежливым. Это типично для них, правда? Инстинктивная вежливость.
Она смеется.
— Мы выращиваем такие цветы у себя дома, ты об этом знал? Хобби моего отца. У нас есть целый fuchsarium. Очень известный в Моравии. — Она держит цветок в руках, повернув его, так чтобы видеть нежные участки — тычинки и внутреннюю сторону венчика. — Есть, был, кто его знает…
Она бросает цветок и уходит по тропинке в сторону усыпанной гравием прогалины, где стоит tempietto. Толчком открывает деревянную дверь. Внутри — ни души. Свет льется из подвесного фонаря на вершину купола, но его недостаточно, чтобы разогнать тени, скопившиеся на круглом полу. Он закрывает за собой дверь. Стоя внутри цилиндра, они чувствуют себя на дне пересохшего колодца, в прохладном и влажном убежище.
— У нас была хижина в зарослях рододендронов, — говорит она. — Есть. Она до сих пор там, я так думаю. Это было наше укрытие, die Bude — для нас с братом. Это было… о, это было десятком вещей: кораблем, пещерой, крепостью, домом. Я Она окидывает взглядом окружающие ее стенки цилиндра, точно подогнанные камни, бороздки на куполе, струящийся сверху свет. — Свет там был точно таким же, как здесь. Наверно, он проникал откуда-то извне, с неба… да, там было оконце в крыше… и освещение было точь-в-точь такое же.
— А ваш брат?
— Мой брат мертв. Он погиб в Ростове.
Какое-то время они стоят неподвижно, словно позволяя этому факту — факту далекой, возможно, трагической смерти, которую сложно вообразить в этом цветущем, красочном саду, где тропинки переплетаются между клумбами и воздух полон стрекотом цикад и птичьим щебетом, — разделить их.
— Зачем вы вышли замуж за герра Хюбера?
Она с удивлением смотрит на него.
— А тебе какое дело?
— Это замужество было ошибкой? — Он переходит на немецкий, и со сменой языка его интонация становится более настойчивой, как будто он теперь ощущает большую уверенность в своих высказываниях. — Он же гораздо старше вас. Гретхен, скажите. — И вдруг, совершенно неожиданно, он берет ее за руку, словно намерен вытрясти из нее правдивый ответ. — Это было ошибкой? — Она же смотрит на него с легким недоумением.
— Тебя это не касается.
А что же его касается? Где пролегают границы интимности? Он сжимает ее руку — тонкую, хрупкую кисть — и смотрит на нее как будто выжидающе.
— Пожалуйста, отпусти, — тихо просит она.
— Вы осознаете, какие чувства я испытываю к вам?
— Франческо, не говори глупостей. Пожалуйста, отпусти меня.
Он отпускает ее руку. На мгновение она замирает, глядя на него с прежним изумлением.
— Я обидел вас? — спрашивает он.
— Конечно же, нет. — Она улыбается. — Ты мне польстил. Однако ты ступил на опасную территорию.
— Минное поле?
— Как угодно. Лучше тебе подождать здесь некоторое время, — говорит она. А затем она распахнула дверь и вышла к солнечным лучам, оставив его одного в прямоугольнике света, проникавшего сквозь дверной проем. Ее шаги по тропинке быстры и легки, они сливаются с привычным утренним шумом…
Магда — настоящее время
Под окнами квартиры, на piano nobile,[34] группы туристов снуют вокруг останков некогда великого прошлого семьи Касадеи, поглядывая на портрет рожденного в этой семье Папы Римского — кого-то там Безгрешного — и задаваясь вопросом, когда же обновят позолоту на потолке. Выше, под самыми стропилами, птицы и грызуны скребутся о деревянную обшивку. Когда идет дождь, вода просачивается и каплет на кухонный пол в заунывном монотонном ритме. Заранее приготовленное ведро обеспечивает эхо еще долгое время после грозы.
Кроме кухни, размерами едва ли превосходящей корабельный камбуз, в квартире есть гостиная, спальня и ванная. Последняя сплошь завалена вещами Магды: ее колготки висят над ванной, словно содранные черные шкурки животных, трусики мокнут в надтреснутом биде, баночки крема, тюбики губной помады, кисточки с тушью для глаз захламили все полки.
Дни следуют один за другим. Лето сменяет весну, и неуловимая эта перемена выбеливает лучезарный янтарь. Магда рисует, наблюдает, берет купола, крыши и башни и переносит их на бумагу в слегка искаженном виде. Она не только делает наброски, иногда она еще и пишет картины: тогда вся квартира заполняется органическим запахом масляной краски, скипидара и акриловой смолы, словно в студии настоящего художника. Она пишет солнце, на закате напоминающее кровавую рану за кривым лезвием Яникулийского холма; она пишет причудливые колючие растения, торчащие вокруг балкона (в абстрактных формах, что-то наподобие работ Ива Тангуя); она пишет интерьер квартиры.
Магда — художница, а художник присваивает все, что видит. Это был коварный захват, осторожный, постепенный: сначала вид с балкона, затем сама квартира, полная разнообразной утвари, квартира со сломанной мебелью, пыльными книжками, немытой посудой, просевшим, поломанным диваном в гостиной. После настал черед жильца — Лео, варящий кофе у плиты, Лео, спящий в кресле (рот приоткрыт, тонкая ниточка слюны тянется из уголка губ; техника — ручка и чернила, легкий мазок серой акварели), сидящий, и вопрошающе на нее глядящий, и погруженный в ему одному известные мысли… Лео-лев, старый и потрепанный, испещренный шрамами времени и обстоятельств. Интерьер с человеческим силуэтом.
Магда — художница, а художник присваивает все, чего касается. Она касается моего тела с осторожностью медсестры, с нежностью матери. Она касается скользкой, словно восковой кожи моего туловища, замерших волн чистой кожи, набегающих на мой затылок, вощеной бумаги на тыльной стороне моих ладоней, где сплетаются сухожилия, где пальцы сжимаются в бесполезной хватке… Она касается моего тела молча, словно мне будет полезен сам факт ее прикосновения.
— В чем дело?
— Пламя, — говорю я ей. — Геенна огненная.
Она знает, что такое «огненная», но вот смысл слова «геенна» ей неизвестен. Она понимает, что такое пламя, но представления не имеет об аде.
— Чувствуешь? — Ее палец скользит по мягкому, мерзкому на вид рубцу. — Чувствуешь?
Моя кожа безмолвствует. Но я по-прежнему способен чувствовать. Я воспринимаю каждое шевеление мира, каждое шепотом вымолвленное слово, каждое движение этой девушки в полумраке квартиры, каждый ее вдох. Каждый раз я слышу, когда город за этими стенами принимается что-то лопотать.
— Скажи, — говорит она.
Лео, объятый пламенем, согбенный, как Папа Римский на престоле, бэконовский Папа, Папа Кто-то Там Безгрешный, вопящий в огне, пока его плоть оплывает подобно тающему воску, капает подобно воску, и взгляд проходит сквозь его агонию, точно сквозь закопченное стекло…
Магда — художница, а художник присваивает вое, что видит. Ей принадлежит квартира и все содержимое этой квартиры.
«Уважаемый отец Ньюман, — написал ему кто-то, — горите в аду». Конечно же, письмо было анонимное. Подписано: «Добрый католик».
Я пришел к выводу, что нельзя вырывать веру из общего контекста. Нельзя отделять то, что дорого вашему сердцу, от обстоятельств, собственностью которых являетесь вы. Когда апостолов оставила вера? Во время бури на озере, когда Петр попытался повторить фокус Иисуса Христа и пройти по воде. «Есть из вас некоторые неверующие».[35] Или когда человека, политзаключенного, увели на неправедный суд и приговорили к смерти: «Тогда все ученики, оставивши Его, бежали».[36]
Так во что же я теперь верю, я, живущий в сердце гниющего, безумного мегаполиса, окруженный кипами столетии, точно грудами мусора? Я верю в единственную силу, очевидную здесь более, чем где бы то ни было, — я верю в силу времени, в стимул этого измерения, поставившего в тупик даже физиков, власть времени, что рано или поздно излечит любой недуг, решит все проблемы, сделает каждый ночной кошмар явью. Время. Я вижу время вокруг себя, как будто оно материально. Я вижу его в беспорядке своей квартиры, в ткани города, в уроках, которые я преподаю. Тирания времени. Время — такой же самодур, как всякий бог. Я вижу его в лице, которое взирает на меня с портретов Магды, в этой гротескной карикатуре юного, невинного лица семинариста, начавшего свой духовный путь тридцать лет назад. Тогда оно было полно надежды, тогда оно лучилось верой; сейчас оно исполосовано морщинами и озлоблено, его элементы беспорядочны и бессвязны, как на кубистском портрете. Но это все же я: каштановые волосы теперь седы и выстрижены куцым ежиком, как у каторжника; белки приобрели бледно-желтый чайный оттенок; рот (почти без губ, вроде капкана) кривится в уголках и сливается с узкими продольными складками, которые спускаются от ноздрей. Вот так теперь выглядит Лео Ньюман.
А каким был Лео Ньюман тогда? Как можно было достичь этого странного одиночества, разделенного лишь с девушкой, которая почти не владеет английским и общается скорее посредством красок, нежели слов? Какие территории нужно пересечь? Какие острые камни и терновые кущи нужно было пройти, стерпев выжидающие взоры бродящих поблизости шакалов и стервятников, кружащих над головой в прозрачных раскаленных небесах?
На углу палаццо, где живем мы с Магдой, где узенькая улочка возвращается в гетто, находится продуктовый магазин. Я каждое утро хожу туда за молоком и хлебом, но вглубь гетто никогда не захожу, опасаясь возможных находок. Магазин гордо именуется «мини-маркетом», но это пафосное название означает лишь то, что вы сами должны брать товар, сами должны его носить и платить у кассы. Обычно я хожу за покупками один. Иногда меня сопровождает Магда, и синьора продавщица обращается с ней мягко, но снисходительно, словно эта девушка может оказаться моей дочерью. Продавщица дает ей на пробу сыр, или кусочек ветчины, или конфеты, называет синьориной и улыбается, как собственной внучатой племяннице. Интересно, что она думает о нас с Магдой? На отца и дочь мы все же не похожи. Мужчина с любовницей? Покупатель с покупательницей? Возможно. Этотгород повидал на своем веку все, за исключением ереси. Этому городу известен каждый грех, каждая слабость, каждый порок; этот город научился смирению.
На стене в магазине, за прилавком, висит пыльное распятие — пластмассовая безделушка с забавными анатомическими подробностями: дотошно очерченными мускулами, толстыми как канаты сухожилиями, багряной кровью, стекающей с ладоней, ступней и распоротого бока. Я еще никогда не видел, чтобы кто-либо в магазине проявил хоть малейший интерес к этому изображению. За последние десять лет уж точно никто не удосужился протереть распятие от пыли. Но оно продолжает висеть, еще одно распятие в городе распятий.
Магда пристально, но недоверчиво осматривает крест. Что она об этом знает? Дитя узаконенного атеизма, что она вобрала из религиозного наследия своих предков?
Истинный Крест был обнаружен святой Еленой (родилась в 248 г. н. э. в Вифинии, современная Турция, умерла в 328 г. н. э. в Никомедии, сейчас Измит, современная Турция), матерью императора Константина. День этот отмечался церковью как Празднование Обретения Креста Истинного, и этимология этого названия таит в себе как историю происхождения этого слова, так и едкую, непреднамеренную иронию. Праздник мог быть отменен (Папой Иоанном XXIII), однако пережиток этот уцелел, спасенный церковью Санта Кроче в Риме. Богобоязненная легенда? Но богобоязненные легенды в этом городе почти такие же древние, как и описанные в них события. Останки (сейчас — лишь щепа) хранятся в современной часовне в дальнем углу главной базилики, но из главной церкви вы по-прежнему можете спуститься к, предположительно первому пристанищу древесных обломков — часовне святой Елены. Эта часовня, а также примкнувшая к ней часовня святого Григория, служат покоями изначального Сессорийского дворца, где на самом деле жила Елена. Это уже не легенда Именно эта женщина отправилась на Святую землю (и это тоже не легенда), обнаружила Истинный Крест (вот это уже легенда) и привезла его обратно в Рим, где его распилили а фрагменты распределили по европейским церквям подобно тому, как современная торговая компания рассылает свою продукцию франчайзерам: бейсболки с логотипом компании пластмассовые фигурки и тому подобное.
Елена также привезла гвозди Распятия, часть таблички висевшей на кресте над головой Иисуса, столб, к которому он был привязан во время бичевания, несколько камней из гробницы, несколько камней из вифлеемской пещеры, лестницу из дворца Понтия Пилата и часть креста, на котором распяли искупителя грехов наших. Должно быть, она напоминала англичанку восемнадцатого века, которая путешествует по Северной Европе и отсылает предметы старины домой в деревянных коробках.
Я показывал Магде останки. Она смотрела на мелкие деревяшки со смешанным выражением атавистического восхищения и современного скептицизма.
— А как они узнали? — спросила она.
— Узнали что?
— Что это крест искупителя грехов наших? Это ты его так назвал. Откуда они узнали?
У Церкви был наготове ответ — просто потому, что у Церкви всегда есть ответы: слишком давно было обнаружено это сокровище, чтобы походить на чью-либо провокацию.
Я объяснил:
— Один из рабочих Елены очень своевременно поранился. Так вот, они приложили к ране один из найденных крестов… и она не зажила. Значит, это был крест преступника. Затем они взяли второй крест, и как только древесина коснулась раны, она мигом затянулась, и боль ушла, и даже шрама не осталось. Значит, это был крест искупителя грехов наших.
Обсуждаемая нами деревянная планка хранилась в стенной нише, за толстым стеклом и железной решеткой. Интересно, под силу ли ей вновь пройти это испытание? Магда обдумала мой ответ, после чего равнодушно пожала плечами. Но когда мы вернулись в квартиру, она начала писать — терновые шипы, копья, лезвия, целый лес колющих и режущих предметов, а еще какие-то мелкие кусочки древесины, крошечные колючки, песчинки, щепки, колья и иглы. Среди всего этого стоял полыхающий человек.
В Иерусалиме, в церкви Гроба Господнего, в самом сердце Старого города тоже можно спуститься по ступеням из верхней церкви к часовне святой Елены. Вы минуете бесчисленные ряды крестов, всаженных в камень средневековыми пилигримами, и попадете в пустое, будто выдолбленное пространство наподобие колодезного дна. Свет струится в эту темную глубь из оконца в крыше.
Первоначально часовня служила именно тем целям, что приписывает ей традиция: это была каменная цистерна в раннеимперскую эру. Она, должно быть, стояла здесь во времена Елены. Существует terminus ante quem, дата, до которой она была возведена — 44 г. до н. э. История гласит, что после распятия они швырнули крест в ближайший колодец, где его обнаружила триста лет спустя прибывшая в образовательных целях императрица. Свет, проникающий из верхнего окна, озаряет пыльное помещение, и полету фантазии уже ничто не препятствует. Если вы когла-либо видели занятых своим трудом рабочих, фантазировать тем паче легко. Конечно же, они сквернословили. Чертыхаясь и матерясь, они таскали тяжелые неотесанные брусья туда-сюда, прежде чем бросить их в яму. Ругань всегда сопровождает подобные занятия. Непристойности на устах подобных людей обретают странную семантическую нейтральность, но, полагаю, непристойности эти составили достойный контрапункт треску расщепленной древесины.
А наличествовал ли при этом, спросите вы, элемент сокрытия, отчаянное желание политиков избавиться от улик и притвориться, что ничего не произошло? Политики ведь одинаковы во все времена, не так ли? Разумеется, в этой истории присутствовал политический мотив. Вот что утрачено в ауре богобоязненности — политика.
Рабочие наверняка происходили из низших социальных слоев, ибо носить предмет вроде распятия было позором. Возможно, это были рабы. В одном можно быть полностью уверенным: они понятия не имели о том, сколь значителен их трудили о том, что однажды — согласно легенде или на самом деле — сама мать императора прибудет сюда в поисках деревянных плашек. Или о том, что спустя две тысячи лет люди будут продолжать ковыряться в подоплеке этого события, как стервятники ковыряют скелет в надежде обнаружить шмат плоти.
Итак, они швырнули обломки в колодец. А тело? Ну, это же самое главное, правда? Что они сделали с телом?
«…ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали… И пронеслось слово сие между Иудеями до сего дня»
(Матф.28:13,15).До сего дня?
Вам нужно воскрешение? Я задаю вопрос в сократовском смысле, зная ответ и не желая его произносить. Я имею в виду, нужно ли вам воскрешение в наши дни? Тогда воскрешение было им просто необходимо, это как пить дать. Куда бы вы ни отправились в этом городе, вы обнаружите свидетельства, подтверждающие тот факт, что и римлянам, и грекам, и всем остальным в то время очень нужна была жертва — и воскрешение. Вспомните Диониса. Но сейчас?…
Магда пишет и присваивает все, что пишет: алый цвет как закат солнца, пунцовый как озеро крови, черный как предательство — Лео, объятый огнем, распятый огнем, святотатство…
Выступление — 1943
Изысканный вечер в бальном зале Виллы, длинной комнате с блестящим паркетом, обрамленными мрамором окнами и желтыми шелковыми шторами. Стулья выставлены рядами. На невысоком помосте с одной стороны стоит рояль «Бехштайн». За роялем сидит фрау Хюбер в длинном черном вечернем платье, и светлые волосы ее собраны таким образом, что все могут видеть ее шею (в этом есть нечто поразительно откровенное). Красавицей в полном смысле слова ее не назовешь: лицо чуть вытянуто, нос слегка заострен, что мешает ее профилю быть поистине классическим. Сидит она прямо, придвинув левую стопу к педалям, а правую заложив за ножку стула. Спина ее чуть изгибается, напоминая лук. Красавицей ее не назовешь, но она производит впечатление сильной женщины. Руки над клавиатурой, подточенные ногти в кроваво-красном лаке, голова держится прямо, лоб чуть наморщен — да, определенно сильная женщина. Публика молчит. Затем фрау Хюбер начинает играть — неуверенно, мягко, так мягко, что людям в другом конце комнаты практически не слышно. И ноты падают в огромное пространство зала подобно слезам, тщательно отобранным слезам. Место для каждой слезинки было подобрано заботливо и безошибочно — интерпретация Листа шубертовской композиции «Gretchen am Spinrad de».[37] Гретхен за прялкой, Гретхен за роялем, ноты плывут над головами собравшихся как живые, каждая обладает своей конечной целью, каждая рождается и умирает. И мужчины-слушатели — многие в серой цвета акульей кожи форме, пара-тройка в черном, практически все находятся вдали от дома и ощущают доброжелательный прием — чувствуют, как глаза их наполняются слезами, но в то же время (мужчины способны на подобную эмоциональную гимнастику) они пытаются представить женщину обнаженной, представить ее тонкие, белые конечности, типично арийские конечности, ее маленькие груди, не стиснутые бюстгальтером, ее чуть выпуклый животик, островок золотистых волос между бедер — этот образ вполне естественно сочетается с Листом и Шубертом.
Произведение достигает кульминационной точки, вздыбливается волной, затем стихает. Следует минутное молчание, которое будто бы нехотя нарушает овация. «Bravai — кричат они. — Bravai» Principe[38] Касадеи, один из немногих итальянцев в зале, встает, и его пример оказывается заразительным: вскоре все стоят и аплодируют. И фрау Хюбер тоже встает и окидывает их растерянным взглядом, как будто раньше не замечала их присутствия. Она робко кивает, не скрывая изумления. Когда аплодисменты стихают и гости успокаиваются, она снова садится, и Лист окончательно затмевает Шуберта: «Годы странствий» взмывают и летят, руки с силой ударяют о клавиши, словно нападают на них из засады, вырывая аккорды из сверкающей лакированной коробки, тайком воруя ноты у инструмента, как драгоценности из шкатулки, резко вскидываясь и падая — и громадные водовороты звука вкручиваются в выжидающе замершую публику, разрывают ее общее худое тело, разрывают тело парня, сидящего в третьем ряду, в правой половине зала.
Теннис. Теннисный корт расположен за постройкой, некогда служившей конюшней, а теперь переделанной под гаражи и квартиры для старших слуг. Теннис. Красный, как поверхность Марса, прямоугольник в тени разрушенного римского акведука, давным-давно выстроенного по диагонали сквозь сады. Легкие прыжки теннисных туфель по земле, размашистые движения двух белых фигур — девственно-белых, словно пара бесполых ангелов. Она подбрасывает мячик высоко в воздух и делает подачу. Когда ее рука поднимается, можно заметить блестящий клочок волос в секретной впадине ее подмышки. Мяч успешно перелетает через сетку. Он легко отбивает. Она отбегает от задней линии площадки, втаптывая пыль подошвами, склонившись над скачущим мячом. Рука с ракеткой отклоняется назад, как заряженная катапульта. Мощь удара позволяет мячу с яростью врезаться в нетерпеливую сетку…
— Нет, нет, нет! Нельзя ронять ракетку! — Она учит его английскому, он дает ей уроки тенниса. — Старайтесь держать запястье прямо. Давайте я покажу.
Просто предлог? Он, пригнувшись, проходит под сеткой и становится у женщины за спиной, взяв ее за правое запястье и левое плечо, прижавшись к ней так, что они практически образуют единый подвижный организм. — Вот так, вот так, вот так, — говорит он, наклоняя ее тело, а затем толкая вперед в броске, снова и снова, ритмично и плавно. Темп отмечен как con brio — «оживленно, пылко». Она чувствует твердость плоти, прижатой к ее ягодицам, когда он мягко толкает ее вперед, тянет назад и вновь толкает. — Держите ракетку прямо и бейте сквозь мяч. Будете отрабатывать удар в качестве наказания.
Он не спеша выпускает ее из объятий и возвращается на свою половину корта, чтобы подавать ей мячи, которые она отбивает царственно, величаво; мячи летят вдоль боковых линий и бьются о сетку на другой стороне поля. «Bravai — кричит он при каждой удачной подаче. — Bravai».
Затем игра продолжается: она бросает мяч высоко в прозрачный воздух (проблеск влажных волос) и делает подачу, он возвращается на середину корта, чтобы она могла еще раз попробовать выполнить плавный, грациозный бросок. Очередной возглас «Bravai» — и она довольно улыбается, пока в вышине (они почти не останавливаются, чтобы взглянуть на небо) плеяда серебряных крестов вырисовывает белые линии пара по небесной синеве.
Он позволяет ей выиграть на этот раз, а потом сам начинает подавать, (простой бросок мяча, но очевидно, что он мог бы быть куда более враждебным, быстрым и резким) и позволяет ей отбить, прежде чем мяч пролетит через весь корт — и она бежит за ним вдоль задней линии и едва не застревает в сетке, хохоча и задыхаясь.
— Где Лео? — Звучит вдруг чей-то голос. Высокая элегантная фигура ее мужа, облаченная в полосатый костюм, неожиданно возникает На корте. Как долго он за ними наблюдает? Что он видел и, главное, что он думает обо всем увиденном?
— Дорогой, а я и не заметила тебя, — смеется Гретхен, хотя смеяться не над чем. — Лео? Лео в кабинете. Он изучает… — Она ищет в лице своего визави подсказку.
— Charlemagne[39] и Священную Римскую империю.
Черты лица герра Хюбера тонки и изящны. Он хитро улыбается.
— А почему герр Вольтерра не учит Леоистории Charlemagne и Священной Римской империи?
— Гансик, ну ты же знаешь, что в это время у меня урок тенниса, — укоряет его супруга. Использование уменьшительно-ласкательной формы его имени оскорбляет Его Величество. Герр Хюбер хмурит брови.
— Мы наняли герра Вольтерру в качестве учителя, а не тренера.
— Ты хочешь сказать, что уведешь его прямо сейчас, когда я начала выигрывать? — Она обиженно упирает руки в бока, едва ли не бросая тем самым вызов (но все же сдерживаясь). Впрочем, парень уже собирает вещи, зачехляет ракетку, берет полотенце и запасную ракетку и поднимает с земли не достигшие цели мячи.
— Может быть, позже, фрау Хюбер, — говорит он. — А сейчас мне пора идти. — Герр Хюбер провожает парня взглядом, пока тот поспешно ретируется с корта и трусит в сторону небольшого деревянного павильона, служащего раздевалкой. Потом он смотрит на жену.
Кабинет герра Хюбера находится на втором этаже Виллы, над приемными, увешанными гобеленами со сценами из жизни Иисуса (вытканными на фабрике Бево). Высокие окна кабинета выходят на «строгий» сад позади Виллы. На окнах висят тяжелые портьеры, обставлена комната баварской мебелью, которая выглядела бы более уместно в охотничьем домике где-нибудь на северных склонах Альп. Громадный стол отражает проникающий сквозь окна свет. Фюрер в серовато-коричневой армейской форме смотрит с портрета на стене. Он ухитряется заглядывать через плечо герру Хюберу, который сидит за столом и пристально осматривает стоящего перед ним юношу. Свою верность делу герр Хюбер выражает куда более сдержанно, чем фюрер: ему хватает простого значка на лацкане — яркого эмалированного кругляша со сплетеньем красного, белого и черного. Это называется Hakenkreuz.[40]
— Моя жена делает успехи в теннисе? Игра, похоже, чрезвычайно ее увлекает.
— Она хорошая спортсменка. — Герр Вольтерра тяжело сглатывает. На столе стоит фотография в серебряной рамке; на ней изображена Гретхен в платье с узким лифом, короткими рукавами, низкой горловиной и широкой юбкой. Она прислонилась к воротам и смеется в объектив. Солнце поймало ее волосы и превратило их в светлое облачко, в ореол в сияющий нимб. За ее спиной виднеется деревянное шале еще дальше — очертания гор. Рядом стоит еще один снимок. На нем изображен Лео в военной форме юнгфолька[41] младшего подразделения гитлерюгенда.
— А ты хорошо играешь?
— Я вышел в четвертьфинал чемпионата Италии. Среди юниоров, — уточняет парень.
— Спортсмен.
Герр Вольтерра едва заметно кивает, словно благодаря за комплимент и удостоверяя его справедливость.
— Так почему же ты не служишь в армии?
— Меня демобилизовали. Герр Хюбер, вы же знаете. Я заразился малярией в Абиссинии…
— Ах да, конечно. Малярия. — В голосе герра Хюбера слышится недоверие. Он довольно импозантный мужчина: высокий и стройный, с элегантной неуклюжестью в движениях, словно потратил всю жизнь на бесплодные попытки втиснуть свои конечности в телесные границы, навязанные ему низкорослым миром. Он берет сигарету из серебряного портсигара и ловко постукивает ею о столешницу. — Сигаретку? — Но парень отказывается. Следует пауза: Хюбер прикуривает, едва ли не с опаской держа сигарету между указательным и средним пальцами. Плотно зажав кончик сигареты губами, он глубоко затягивается и выпускает дым тонкой голубой струйкой. — Скажи мне одну вещь, Франческе. Как ты думаешь, что произойдет?
Парень отмечает обращение к себе по христианскому имени.
— Произойдет, герр Хюбер?…
— С твоей несчастной страной.
Парень пожимает плечами.
— Сложно сказать. Я не вижу…
— Можешь говорить начистоту, — заверяет его Хюбер. — Я всю жизнь работаю дипломатом, а всякий дипломат умеет делает две вещи: представлять свою страну, чего бы эта страна ни натворила, и защищать свои источники информации, как священник хранит тайну исповеди. Считай, что ты заручился моей поддержкой.
Франческо улыбается, будто услышал комплимент.
— Скажи мне. Теперь, когда война идет на итальянской земле, что должно произойти?
— Я думаю…
— Что ты думаешь? — Хюбер поднимается и, обойдя стол, становится прямо за спиной Франческо. Он кладет левую руку парню на плечо, и неоднозначный жест этот символизирует одновременно дружелюбие, силу и своеобразную, напряженную доверительность. — Скажи мне, что ты думаешь.
— Я думаю, что Италия — всего лишь пешка.
— И какой же игрок ее заберет?
— Америка — очень сильная страна.
Двое мужчин — один из них, высокий и стройный, стоит за спиной другого — смотрят на стену, где висит портрет мужчины, являющегося, как они полагают, вторым претендентом на пешку. Затем герр Хюбер протягивает руку через плечо Франческо и выкладывает на столе шесть фотографий, как колоду карт.
— Вот эти люди, — говорит он. — Ты их знаешь? Мне нужны их имена.
Ох уж эти имена. Всегда одни имена. Имена и фотографии, зачастую выбранные из семейных подборок, украденных, в свою очередь, из потертых кошельков, прикроватных тумбочек, выдвижных ящиков: парни и девушки смотрят с глянцевой бумаги с пылким энтузиазмом или железной уверенностью, но могут просто ехать на велосипедах, или стоять у машины, или сидеть за столом. Белые рубашки, серые брюки, светлые платья в цветочек. Глаза щурятся на солнце. Смелые, умные лица людей, которые даже приблизительно не могут представить свое будущее.
— Вот этого точно знаю, — говорит Франческо, указывая пальцем. — Это Буоцци. Бруно Буоцци.
Герр Хюбер издает неопределенный звук, нечто вроде мычания. Он знает, что на фотографии — Буоцци (тот сидит в ресторане без привычного «официального» наряда), и парень знает, что он это знает. Вопрос заключается в следующем: как долго он с уверенностью сможет предавать лишь тех, кого уже предали? Забавная задачка. Гретхен на фотографии смеется, словно эта дилемма ее веселит.
— А этого?
Парень пожимает плечами.
— Я не думаю…
— Но ты же его знаешь, — тихо произносит герр Хюбер. Голос герра необычайно мягок, особенно если учитывать его телосложение. От столь импозантного мужчины ждешь речи громкой, лающей. Нежный, ласкающий слух звук удивляет, как маленькие, аккуратные стопы толстяка. Он сжимает плечо Франческо, словно хочет напомнить о возможности боли.
— Это такая уловка?
Герр Хюбер невесело улыбается. Конечно, это уловка. Каждый вопрос — уловка. На фотографии двое мужчин и женщина стоят, опершись на перила; позади виднеется озеро. Франческо щурится, как будто пытается вспомнить, хотя на самом делеон пытается забыть. Съезд Социалистической партии в Женеве, 1937 год.
— Разве что… Женщину я не знаю, но мужчина — это, кажется, Петрини. Фотография ведь не лучшего качества. А второй — это Паолуччи. Мне так кажется. Джулио Паолуччи. Он был каким-то чиновником. Должность не. помню — по-моему, какой-то провинциальный секретарь из Ломбардии…
Герр Хюбер кивает. Он по-прежнему сжимает плечо Франческо. Вопрос заключается в том, кивает ли он потому, что люди опознаны верно и экзамен сдан, или потому, что он получил новые данные? Петрини, конечно, никто, и звать его никак. Герр Хюбер знает Петрини. Но бедняга Паолуччи? Неужели он до сих пор чахнет в камере на Виа Тассо под чужой личиной, которую вот-вот должны сорвать? Неужели Франческо Вольтерра, известный своим близким как Чекко, только что подписал еще один смертный приговор?
Игра продолжается. Шахматы? Кошки-мышки? Выбирайте метафору по вкусу. Герр. Хюбер иногда улыбается, иногда хмурится и в конце концов тяжело вздыхает, как будто закончил выполнять сложное физическое упражнение.
— Довольно, — говорит он и, собрав фотографии со стола, прячет их во внутренний карман пиджака. — Довольно. Давай обсудим другие вопросы. — Он отпускает плечо юноши и отходит к окну, чтобы взглянуть на сад — итальянский сад, сложную геометрическую конструкцию, включающую в себя тропинки и ограждения, самшитовые коробки, самшитовые треугольники и спирали; все это напоминает сложно устроенные клетки, что слагаются в органическое целое. — Давай поговорим о Лео. Как у него идут дела?
— Он смышленый малый.
— Он старается?
— Да.
Глаза обегают комнату. Губы кривятся в натужной ухмылке.
— Ты его покрываешь. Он лентяй.
— Но умный лентяй.
— Тебе он нравится?
— Мы ладим друг с другом.
— И с Гретхен. С Гретхен ты тоже ладишь. — Употребление ее христианского имени, уменьшительно-ласкательной формы ее христианского имени, сбивает с толку. Франческо не по себе, он ерзает на стуле. В комнате тепло, и на лбу у него выступают капельки пота. Гретхен на фотографии будто забавляет возникшее напряжение. Склонив голову, она иронично посмеивается.
— И с фрау Хюбер тоже. Возможно, нас объединяет привязанность к Лео.
Герр Хюбер кивает.
— Ты же католик, не так ли?
Франческо подтверждает это. Да, он католик. Все порядочные итальянцы — католики. Хотя, пожалуй, слишком набожным его не назовешь.
— Гретхен — тоже католичка, ярая католичка, ты это знал? Думаю, она тебе говорила. Ее мать была англичанкой, гувернанткой. Ты знаешь это слово?
— Unatata?
— Это по-итальянски, да? Ну, это девушка, которая присматривает за детьми, приличная девушка из приличной буржуазной семьи, и когда хозяйка дома внезапно умерла — кажется, ее экипаж попал в аварию, — именно юная гувернантка утешила убитого горем вдовца. Неглупый ход, правда? Умно с ее стороны было также принять католицизм и потребовать моральной чистоты, вместо того чтобы позволять вдовцу держать себя в роли любовницы. Но еще более умно было немедленно забеременеть, чтобы родить сводную сестру детям, о которых она заботилась.
Франческо ерзает на краешке стула, высматривая пут к отступлению.
— Таким образом, Гретхен, которая кажется такой красивой, такой чистокровной арийкой, на самом деле — полукровка, — говорит Хюбер. — Она — помесь, плод генетического эксперимента, проведенного на родине отца генетики.[42] — Он смеется и явно ожидает, что Франческо присоединится к нему. — Тогда как я — немец без каких-либо примесей. Как и она, я родился католиком, но в отличие от нее я не верю. И ты утверждаешь, что тоже не слишком религиозен… — Он снисходительно улыбается юноше, как дядя может улыбаться любимому племяннику.
— Я верю, что Бог может существовать. Возможно, раньше вера моя была сильнее, вот и все.
Хюбер качает головой.
— Это кажется маловероятным, разве не так? Я имею в виду, существование Бога. Ницше провозгласил смерть Бога. Для меня, как и для Ницше, Бога нет — есть только кровь и раса. Но Гретхен верит, и, чтобы сделать ей приятное, я хожу вместе с ней и Лео в церковь. — Он задумчиво отворачивается от Франческо, смотрит в окно и внезапно поворачивается вновь. — Но она уже несколько недель не причащалась. Как ты думаешь, в чем причина?
— Даже представить себе не могу. — По вискам Франческо стекает ручеек пота. — Сама мысль об этом была бы бессовестным вторжением во внутренний мир фрау Хюбер.
— А я все же попытаюсь представить. — Высокий мужчина говорит тихо, почти задумчиво. Он подчеркивает личное местоимение, как будто обладает правом знать, что творится в сердце, голове и душе его жены. — Я попытаюсь представить, в чем тут причина.
Юный Лео, облаченный в бриджи и широкую куртку с поясом (мы всегда должны следить за внешностью, даже если никто на нас не смотрит), сидит в своем кабинете, склонившись над учебником и скрупулезно выписывая главы о жизни Христа: вот Христос изгоняет торговцев из храма, вот Христос спорит с фарисеями в день отдохновения, вот Христа приводят к Пилату. Мальчик поднимает взгляд, и голубые глаза его из-под светлой челки вперяются в смуглого итальянца.
— Объясните мне этот парадокс, — говорит Лео. Он недавно узнал слово «парадокс» и произносит его с большим удовольствием. В устах мальчика это слово звучит абсурдно. Абсурдно и претенциозно. — Иисус был евреем. Почему же он тогда такой умный?
Франческо пожимает плечами.
— Нельзя сказать, чтобы евреи страдали от недостатка ума. Например, вспомни, как замечательно они играют в шахматы! Евреям недостает, скорее, творческого подхода.
— Это кто сказал?
— Ой, не знаю даже. Прочел в какой-то книжке. Но я в это не верю. Например, Мендельсон был евреем. Но уж с творческим подходом у него было все в порядке, не так ли?
— Mutti[43] больше не играет Мендельсона. Он не творец — так теперь говорят. Он подражатель. — Леопроизносит это слово, слегка нахмурившись, как будто не уверен в его значении. — Но разве Иисус не был творцом? Он же сотворил истинную религию длявсего человечества?
Итальянец некоторое время обдумывает эту головоломку, после чего улыбается.
— Не Иисус создал религию, а Бог. — Следует многозначительная пауза. Сквозь окна проникает шум из сада: трескотня сверчков, чириканье птиц, щелканье ножниц — садовник стрижет газон в итальянском саду.
__ Но Иисус был Богом, так говорит отец Беренхеффер. Значит, сам Бог — еврей…
— Подозреваю, это так.
— Подозреваете? Опасно говорить такие вещи, синьор Франческо. — Мальчик смотрит на него неодобрительно и даже надменно: он поймал учителя на слове. — Насчет Иуды мне все ясно. Иуда такой же ненадежный, как все евреи. Но Иисус?… Это уж слишком…
— Я думаю, вам, молодой человек, стоит продолжить работу, иначе я доложу вашему отцу, какой вы бездельник.
В залитой ярким солнечным светом комнате продолжается урок. Муха кружит под люстрой, синьор Франческо читает книгу.
Через некоторое время мальчик снова отрывается от учебника.
— Почему вы все время смотрите на мою маму?
Франческо притворяется, что изумлен.
— Почему я что?
— Вы постоянно на нее смотрите. Вы, наверное, в нее влюбились? — Выражение лица у мальчика вполне серьезное; в лице этом — вся серьезность и вся наивность детства.
— Мне очень нравится твоя мама. Она хорошая женщина, и она очень сильно любит твоего отца.
— Это я знаю. Но я спросил не об этом.
Кабинет погружен в полумрак: тяжелые шторы опущены, дабы не пропускать солнечные лучи. На каминной полке тикают часы. Муха, оказавшаяся в ловушке между тканью штор и стеклом, с бестолковым жужжанием бьется об оконную раму; она похожа на внезапно и отчаянно оживший экземпляр чьей-то коллекции насекомых. Фюрер дерзко взирает со стены. На столе стоит обрамленная серебром фотография Лео в форме юнгфодька, а рядом — изображение Гретхен в летнем платье.
Франческо сидит за столом с выдвинутыми ящикам Перед ним разложены бумаги. Франческо — вор. Вопрос в том, что он крадет. И для кого?…
5
— Об этом ведь не предупреждают, когда посвящают в духовный сан, правда?
— О чем не предупреждают?
— Об одиночестве и скуке.
— Мне не скучно. Почему ты решила что мне скучно?
Язвительный смешок.
— Ты только что признался, что одинок.
Джек наблюдает за ними с легким недоумением. Он сидит в своем любимом кресле, отдельно от них, расположившихся на диване, и смеется над своей женой восхищенно, будто она — не по годам развитый ребенок.
— Оставь его в покое, Мэдди. Бедняга Лео не заслужил такого обращения.
— Лео-лев, — говорит она, не замечая мужниной ремарки. — Но в тебе больше кошачьего, чем львиного. Ты точь-в-точь как Перси. — Перси — это кот, которого семья Брюэров получила в наследство от предыдущих квартиросъемщиков. Этот серый, угрюмый зверь восседает посредине ковра и ничего ровным счетом не делает. Стаффордширская керамика — вот как Мэделин называла животное. Кот был очень своеобразный, настоящая парадигма кошачьих повадок. — Только взгляните на него. Не спит же, просто восседает. Точь-в-точь Лео. Делать нечего, идти некуда, говорить не с кем, мысли занять нечем.
Конечно же, кота кастрировали, но Мэделин никогда не упоминала этот аспект в своей аналогии.
— Он ждет мышей, — сказал Лео.
— А ты, Лео-лев? Ждешь газелей?
— Я не хищник.
— Вот именно.
— Что — вот именно? Что значит твое «вот именно»?
— Сам себя послушай: ты цепляешься за семантические противоречия. Вот и вся недолга. Если не будешь осторожен, то к старости у тебя не останется ничего, кроме семантики. Будешь сидеть, как кот, с круговоротом слов в голове, и все.
— Твоя аналогия теряется. Голова кота пуста, ты только что сама это сказала.
— Не сомневаюсь, что твоя вера тоже несет в себе рациональное зерно, ведь правда? Уверена, ты больше не чувствуешь ее — ни эмоционально, ни физически. Остались только слова. Литургия, догма, Символ Веры. Слова. Стерильные слова. Что ты думаешь по этому поводу?
— По какому поводу?
— Что ты думаешь о самом себе, о своей жизни, своем призвании? Зачем это все?
Подобного рода беседы доставляют ему острое, ни с чем не сравнимое удовольствие едва ли не физического толка; удовольствие, в котором стыдно признаться. Подчас он сам провоцировал ее на такие беседы, на эти вспышки непонимающего возмущения.
— Какого черта ты живешь в этой жуткой квартире, Лео? — спросила она, когда они с Джеком пришли к нему в гости в Институт. — Почему ты не можешь переехать, найти себе достойное жилище? Если не будешь осторожен, твое самоотречение доведет тебя до состояния мерзкого ископаемого вроде всех этих старых священников.
— Не думаю, что ископаемое — это результат самоотречения, — ответил он ей. — Я думаю, ты перепутала метафоры. Опять.
— Вот! — ликующе вскрикнула она. — Вот что я имела в виду.
Разумеется, она стала отрицанием своих собственных аргументов, его возможностью избежать пороков, в которых она его упрекала. Ее интонация, ее присутствие, ее манера поведения находились в преступном сговоре против него они сообща выдергивали его из мира удовлетворенности и уступчивости. Сознательно ли, бессознательно, но он начал меняться. Метаморфоза. Целибат — враг перемен, но Лео Ньюман, отец Лео Ньюман, начал, подобно змее, сбрасывать с себя иссохшую кожу прежней жизни.
— Господи, откуда ты знаешь принцессу? — спросила Мэделин, когда он поведал ей о своих планах. Сама идея ее чрезвычайно рассмешила. — Откуда ты, черт побери, знаешь принцессу?
— Она была подругой моей матери.
— Твоей матери? Я думала, твоя мать давала уроки игры на пианино.
— А почему учительница музыки не может знать принцессу?
— Что позволено Юпитеру, не позволено быку, — сказала Мэделин. Такие ее ответы Лео называл «ирландскими».
Они вместе отправились в гости к принцессе в ее замок — одноименный Палаццо Касадеи, полуразрушенный римский дворец, принадлежавший семейству еще с шестнадцатого века. Члены этого семейства были понтификами и королями, диктаторами и президентами. Семейство Касадеи жило там, когда Бенвенуто Челлини держали в плену в замке Сан-Анджело и когда Ките был полным надежд юношей, умирающим от чахотки в пансионате неподалеку. Эта семья застала уличные празднования победы Гарибальди, наблюдала, как французские войска входили в город, чтобы восстановить папский институт. Эта семья выжила при теократии и монархии, олигархии и тирании, но сейчас создавалось впечатление, что демократия ей не по плечу. Principessaжила на piano nobile среди потрясающего старья, уцелевшего после нашествий мародеров: там был портрет Папы Римского, рожденного в этой семье, картины давно усопших предков, цена пятисотлетнего выживания и вина за это выживание. Принцесса Касадеи напоминала интерьер, как домашнее животное напоминает хозяина: она пришла из древности, она ветшала, края ее тела истерлись, выступы залоснились.
— Conoscevo tua madré, — сказала она своим гостям из внешнего мира. Я знала твою мать. Она обратилась к Лео на «ты», как к ребенку. — Unabellissimadonna, — Старуха кивнула, словно подтверждая этот факт, и туман памяти будто рассеялся на миг, чтобы показать далекие сцены и забытых людей. — Я помню, как слушала ее игру, тебе это известно? Она играла как ангел. Шуберт, Лист, Бетховен, все эти великие немцы. Ах, die gute alte Zeit.[44] И тебя я помню, о да, я помню тебя. Малыш Лео, не так ли?
Лео и Мэделин, испытывая ужасную неловкость, сидели на потертой софе прошлого века, твердой и неудобной, с кривыми ножками и изогнутыми подлокотниками.
— Да, — согласился он. — Именно так.
— А она уже умерла?
— Восемь лет назад.
Principessa пожала плечами. Чего еще ожидать? Они все умерли, ее друзья, равно как и враги. Все умерли, да и она сама казалась уже почти мертвой или, по крайней мере, находилась в промежуточном состоянии между жизнью и смертью, в своего рода лимбе. Когтистым пальцем она указала на Мэделин.
— А это кто?
— Подруга.
— Она не твоя жена?
— У меня нет жены. Я никогда не был женат.
В смехе старухи можно было расслышать похотливы нотки.
— И правильно, зачем? Я тоже не вышла замуж. Друзей у меня было множество, но ни одного мужа. Много друзей много любовников. — Все они окружали ее в серебряных рамах — красивые парни в костюмах с широкими отворотами пиджаков и двухцветных туфлях, красивые девушки в платьях с подплечниками и напомаженными волосами. Эдда Муссолини[45] с каким-то тюрбаном на голове улыбалась с фотографии. «Mia сага Eugenia, conaffetto»,[46] — гласила надпись. — Значит, ты хочешь сюда переехать. Квартиру ты уже видел?
— Портье дал нам ключ.
Она пожала плечами.
— Жалкое местечко. Весь палаццо обнищал. Стареет и гниет, как и я сама. Я последняя в роду, ты это знаешь? Ну, остались еще какие-то троюродные братья и сестры, как это принято во всех итальянских семьях, но я их не видела. Я — последняя. Единственная дочь своего отца, и род умрет вместе со мной. Почему бы тебе не переехать сюда, а? Маленький мальчик Гретхен, бесплодный, как и я. Почему бы и нет? — Ее, похоже, занимала и забавляла эта идея. Принцесса снова рассмеялась, но смех ее вскоре перешел в надсадный кашель, и из соседней комнаты тут же прибежала на помощь служанка. — Маленький мальчик Гретхен, — прохрипела сквозь кашель и хохот старуха. — Бесплодный маленький мальчик Гретхен.
Мэделин и Лео ушли, испытывая неловкость, пока старухе оказывали медицинскую помощь. Они спустились по мраморной лестнице мимо группы туристов, осматривающих залы, открытые для всеобщего обозрения, где пыльный антиквариат был окружен канатом и кое-как охранялся.
— Ну и мерзкая же старушенция, — произнесла Мэделин. — Что она сказала? Я имею в виду, по-немецки. Итальянские фразы я понимала, но она говорила еще что-то по-немецки.
— Die gute alte Zeit. — Лео самому стало смешно. — Это значит «старые добрые времена».
С лестницы они попали в сумрак портала. Во внутреннем дворике (Джакомо да Виньола, 1558) светило солнце и зеленели деревья. По периметру стояли колонны, склон был вымощен базальтом, вокруг центрального фонтана в пруду клубились водоросли. Из середины зарослей высматривала случайных туристов резная скульптура — узловатый, хитрый сатир, льющий воду в каменную чашу, словно старый маразматик, пускающий слюни в плевательницу. Среди растительности виднелись, в частности, элегантные расчлененные листья Cyperus papyrus — папируса обыкновенного.
Они поднялись по другой лестнице — задней, ведшей в закулисье дворца, ранее используемой только слугами.
— Откуда principessaзнала твою мать? — спросила Мэделин, когда они поднимались по ступеням. — Ты не говорил, что она жила в Риме. Или знакомство произошло в Лондоне?
Он уклонился от ответа.
— Это было очень давно.
— И она помнит тебя еще маленьким?
Лео рассмеялся.
— Конечно, нет. Она же слабоумная.
— Но имя твое она знает.
— Да, — согласился он. — Имя мое она знает.
Квартира находилась высоко, под самой крышей. Лео отпер дверь и зашел внутрь. Обстановка больше напоминала заброшенный чердак, чем человеческое жилище; вся мансарда была завалена сломанной, отслужившей свое мебелью. Скошенный потолок устремлялся к полу, покрытому трещинами и бугорками. Пахло пылью, пахло старостью, пахло безымянными событиями безымянного прошлого. — Берлога! — воскликнула Мэделин, заходя вслед за ним. — Берлога Лео. — Они осмотрели холодные пустые комнаты со своего рода сдержанным восхищением, завороженные, будто малые дети.
— Летом тут будет жарко.
— Чертовски жарко. А зимой — холодно.
Древние трубы змеились по углам, как последняя память о благах цивилизации.
— Ну, хотя бы какое-то отопление есть. — Она выглянула в слуховое окно и увидела полосу поломанной черепицы. Прежде чем ставень поддался, пришлось немного побороться с тугой щеколдой. Мэделин распахнула окно толчком и выбралась наружу, приглашая Лео за собой, чтобы разделить ее восторг. — Господи Всемилостивый, — выпалила она, — взгляни же!
Он выбрался через окно следом за ней. Должно быть, открывшийся вид поразил его до глубины души. Замешательство, наслаждение — целая гамма эмоций отразилась на его лице. Лео стоял посреди террасы; город окружал его, смыкался кольцом вокруг него, вращался, как будто Лео был осью, а все прочее — колесом. Мэделин посмеялась над ним — и над его новоприобретенной независимостью.
Они с Джеком помогли ему перевезти вещи из Института. В основном это были книги, и едва ли нашлись бы физические подтверждения существования на земле отца Лео Ньюмана, священника Римской католический церкви: ни одежды, ни мебели, ни вещей как таковых. Даже когда он обжился в квартире, та оставалась грязной и пустой, обычной комнатой общежития. Мэделин помогла ему выбрать кухонную утварь: столовые приборы, несколько кастрюль и прочие вещи, приобретением которых он прежде себя не утруждал: простыни, полотенца и прочие предметы быта. Она называла это «процессом цивилизации Лео». Брюэры купили ему Кресло, которое после прислонили к дивану со сломанной спинкой и таким образом пополнили скромный набор мебели в квартире. Также Мэделин купила будильник, чтобы ему было легче вставать по утрам. На циферблате было написано: «CARPE DIEM».[47]
— Наверное, это похоже на развод — заметил Джек. — Неожиданно оказываешься наедине с самим собой после долгих лет зависимости. Нелегко тебе придется, дружок, нелегко…
Когда Брюэры ушли, Лео почувствовал облегчение, облегчение и вину, как в детстве, когда он оставлял мать и отправлялся в школу. Одиночество въелось ему глубоко в душу, точно шрам, выжженный на коже. Целибат означает не только половое воздержание — это также означает, что человек становится абсолютно самодостаточным, закрытым, человек полностью уходит в себя. По квартире он ходил не как пленник, осматривающий камеру, а как исследователь бескрайних просторов незнакомого острова. Снизу доносился шум городских магистралей; здесь же, наверху, под навесом черепицы, Лео чувствовал простор, чувствовал свободу и одиночество. Он целый час молился, читал требник, читал отрывки из Библии, бормотал слова, выдерживая долгие паузы. Он молился тощему, перекошенному Иисусу, он молился Богу, образ которого колебался между патриархальной мифической фигурой, пришедшей из детства, и абстрактным понятием, бесконечным, как галактика, бесконечным, как космос между галактиками, бесконечным, и неясным, и бессмысленным, как космос, содержащий в себе вое галактики и все космосы. В тот вечер Лео спал в одежде, напоминая эмбрион, на уродливой просевшей кровати, и проснулся с новым чувством — чувством безграничных возможностей. Ему доставляло странное удовольствие передвигаться по квартире по собственному внутреннему графику, варить кофе в кофейнике, купленном вместе с Мэделин, гулять по крыше и любоваться ранним рассветом над Капитолийским холмом.
Мысли? Скорее, все же ощущение. Ощущение безграничных возможностей.
Он должен был встретиться с Мэделин и ее друзьями, чтобы сыграть роль многоопытного гида. Встреча была назначена в Римской церкви, на случай дождя — одной из тех внезапных, удивительных гроз, что сотрясают город в начале весны, за считанные минуты превращая сухие улочки в бурлящие потоки. Движение на дорогах замирало. Машины казались беспомощными узниками, словно острова посреди реки. Вершину Яникулийского холма окутывала серая пелена, и купол базилики Святого Петра терялся в тучах. Лео ждал под небольшим навесом узкого романского портика церкви, ранее служившего местом встреч, и думал, когда же ему наконец позволят скрыться за стеной ливня.
Мысли одинокого священника во время грозы: он не может игнорировать дождь, тем более такой дождь — первобытный, грозящий новым Всемирным потопом. Он не может просто думать о фрагментах папируса, которые он расшифровывает для Всемирного библейского центра, этих бесценных ошметках, чье появление всколыхнуло мир текстового анализа, или о проповеди, которую он должен будет прочесть во время мессы в следующее воскресенье. Он не может думать об этом, видя подобный дождь. Когда гром рокочет над куполами города, словно кто-то двигает мебель в небесной приемной. Когда молнии освещают лицо города внезапной мертвенной бледностью, бледностью дуговой лампы. Вопрос истоков. Где же вы были, несчастные сомневающиеся священники, когда я закладывал фундамент Земли? У дождя есть отец? Или это всего лишь совокупность статического электричества и водяных паров, перехлест воздушных потоков, теплых и холодных, рассеивающий энергию водородной бомбы с беспечностью ребенка? В каком направлении ветвится молния? Кто вырезает русло для ливня и прорубает путь громовым раскатам?
О чем они думали, когда Он утихомиривал бурю? Принесло ли это им счастье? На Галилейском море случаются непродолжительные, яростные бури. Ветер спускается с Голанской возвышенности, страны гадаринцев, и мчит вниз, как стадо диких кабанов, и врезается в воду. Движущиеся массы воздуха, глобальное потепление, внезапное смятение, столь же внезапная тишь. Что же произошло в этом случае? Иди они считали, что плавание в компании этого человека; казалось бы, способного совершать метеорологические чудеса, пройдет без сучка без задоринки?
«Что вы так боязливы, маловерные?»[48]
А затем возникла фигура — человек в капюшоне, бегущий сквозь струи дождя и юркнувший под навес рядом с ним.
— Господи, как неудобно, — сказал человек. — Не совсем уместное слово, правда? Лучше сказать, «мама дорогая». Мама дорогая, как же неудобно! — Она стряхнула воду с «капюшона», оказавшегося пластиковым пакетом с логотипом супермаркета, и улыбнулась ему сквозь налипшие на лицо пряди. На щеках ее блестели капли воды, глаза радостно светились, как будто дождь, среди прочего, смыл несколько лет. — Понимаешь, я боюсь, что больше никого не будет. Я звонила тебе, чтобы отменить мероприятие, но были проблемы со связью, и я не смогла дозвониться.
— По-моему, телефон еще не подключен. Я звонил на АТС, но ты же знаешь, как они работают.
— Поэтому я и пришла.
— А остальные?
— Мне очень жаль, Лео. Остальным я все же дозвонилась И отменила встречу. Но я же пришла, и мы могли хотя бы взглянуть…
Он попытался отказаться, предложил перенести осмотр на другой день, но она оставалась непреклонной.
— Я очень хочу это увидеть, мы же уже здесь, Господи! Давай же. Если тебя не смущает то, что ты будешь наедине с женщиной, конечно. Должна сказать, — она насмешливо но заинтересованно осмотрела его с ног до головы, — на священника ты не похож.
— А это тут при чем?
Мэделин улыбнулась, вынимая платок из сумки и вытирая лицо.
— Мы не спровоцируем скандал. Священник в церкви наедине с женщиной. Думаю, всякие новости-хреновости ничем не смогут поживиться, правда?
— Новости?…
Она рассмеялась.
— «Новости со всего мира». Газета такая. Боже мой, из какого монастыря ты вылез? Идем же, покажешь мне все.
Они зашли за угол — раскат грома совпал со взрывом смеха Мэделин — и приблизились к двери. На доске объявлений в вестибюле висело пожухлое расписание месс и плакат, сообщавший, что недавно проводился месячник Всемирной Миссии, и напоминавший, что в мире живет множество людей, которым гораздо хуже, чем вам. Внутренняя дверь, скрипнув, распахнулась и с шумом захлопнулась у них за спиной. Они оказались внутри церкви — под сводами настоящего склепа: там было так же пусто, пыльно, сыро и холодно, как в саркофаге. Серые колонны возносились к влажному, изрезанному тенями потолку. В помещении едва слышно пахло ладаном, въевшимся в воздух, как нафталин в старомодное платье. Лампада тускло горела в дальнем темном углу, с фрески на колонне на посетителей взирала чья-то фигура, подобная призраку. Снаружи лил дождь, и многообразие внешнего шума напоминало вой могучего ветра — возможно, ветра Пятидесятницы.
Мэделин небрежно поклонилась алтарю и быстро зацокала каблучками узких туфелек по полу, разрисованному спиралями и кругами, к единственной иконе в зале. На ней было изображено погребение Христа. Непрофессионал мог бы отнести работу к тринадцатому веку, но на самом деле она датировалась веком пятнадцатым и была уже слегка устаревшей по стилю к моменту создания.
— Ну? — нетерпеливо спросила Мэделин, стоя перед усопшим Спасителем и глядя на Ньюмана. Их разделял выложенный щербатой мозаикой пол. — Где же обещанные секреты?
— Б ризнице.
В ризнице стояли густо лакированные шкафы и сервант с инструментами для проведения мессы. В нише у двери расположился умывальник с керамической фигуркой Мадонны с младенцем над раковиной — работа, как уверяла зрителей написанная от руки табличка, школы Андреа делла Роббиа. Как ни странно, в этом затхлом, пыльном помещении находился также человек — дряхлая старуха, спрятавшаяся, будто в засаде, за этажеркой с мятыми открытками. На пару она взирала так, будто те уже совершили омерзительный акт осквернения. Ньюман пожелал ей buongiorno, хотя внешние звуки (рокот грома, сотрясающий все здание) говорили об обратном. Старуха, казалось, не обратила внимания ни на приветствие, ни на грозу.
— Mille lire, per le lud,[49] — потребовала она.
Мэделин принялась рыться в сумочке.
— Я заплачу.
— Это же всего лишь тысяча лир.
— Это дело принципа.
Старая карга недоверчиво взглянула на деньги. Затем нехотя вынула ржавый ключ и указала в угол комнаты, где была дверь, судя по всему, ведшая в нечто вроде кладовой.
— Giù, — сказала она. Вниз.
Дверь отворилась, и взглядам посетителей открылась винтовая лестница, сбегавшая в самое чрево города. Мэделин заглянула в пропасть.
— Ужасно. Иди первым.
И они начали спуск в прошлое, точно в гробницу, точно в Гадес. Каблуки туфель Мэделин клацали у него прямо над ухом, голос ее разносился эхом по полому цилиндру лестничного колодца.
— Мне такие места не нравятся, — сказала она. — Под собором Святого Петра было ужасно. У меня начинается приступ клаустрофобии…
Но под церковью, там, куда вела лестница, не было никакого замкнутого пространства, никакой тесноты, сжатости — там была лишь необъятная пустота, запорошенная пылью. Связка голых лампочек освещала помещение блеклым, мучительным светом. Они спустились на пыльный пол и побрели дальше, переступая плинтусы и огибая колонны. Под ногами у них были осколки мозаик, глиняные трубы и куски вулканического туфа. Колонны, похожие на сталагмиты в пещере, высились, подпирая крышу здания, служившую также полом современной церкви наверху.
— Где мы? — спросила Мэделин. Она вытянула шею, чтобы лучше видеть. Лицо ее выражало искреннее восхищение. — Точнее, когда мы?
— Примерно второй век нашей эры. Что-то вроде молельни, превращенной в христианское святилище. Вероятно, здесь служили обряды те люди, которые помнили Павла и Петра.
Услышав это, она остановилась. Там, среди урбанистических обломков столетий, она была подобна огню, яркому огню в серой золе. О чем она думала? Ощущала ли она ту дрожь, что сопровождает осознание прошлого, легкий озноб от близости к истории? Лео думал, что ощущает. Во всяком случае, ничего иного во взгляде, брошенном в его сторону (карие, цвета лещины глаза, россыпь бледных веснушек, неглубокие сосредоточенные морщинки), он не прочел.
— Ты их чувствуешь?
— Кого?
— Тех ранних христиан.
— Это все твое ирландское ясновидение.
— Это воображение.
— А нам нужно воображение?
Мэделин оглянулась по сторонам и посмотрела вверх.
— А если нет, то зачем было сюда приходить?
Запах веков, мертвый, удушливый запах. У подножья стены сквозь пыль просвечивала мозаика, точно рана на шкуре животного, — абрис рыбы на серых базальтовых кубиках. Лео позвал ее взглянуть на это.
— Пришло время прочесть лекцию о рыбах, — сказала она. — Давай же.
Символы, индикаторы, знаки. Рыба — очень занятный символ: ichthys, рыба. На самом деле это акроним — lesous Theou Hyios Soter, Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. Рыба использовалась как опознавательный знак, ее вычерчивали в пыли пальцем ноги или выцарапывали на стене, как сейчас малюют мелом: «Dio c'è»[50] — на стене Палаццо Касадеи, прямо у главного входа. Dio c'è. Интересный вариант.
— Если ты уже об этом слышала, зачем опять просишь рассказать?
— Ты обиделся. Я же просто пошутила. Знаешь, что говорят остальные? Они говорят: Господи, какой же он серьезный.
— А разве не этого ожидают от…
— Священника? Думаю, именно этого. А еще они говорят…
— Что еще они говорят?
Мэделин присела на корточки и провела пальцем по пыльному покрову, повторяя контуры рыбы. Когда она нагнулась, волосы ее упали вперед, словно каскад водорослей. Даже рука ее напоминала обитательницу подводного мира — бледную морскую звезду, плывущую над рыбой, и веснушки, усыпавшие ее тонкие пальцы, были словно загадочный орнамент на чешуе. Она смахнула пыль, чтобы лучше видеть единственный, грубо прорисованный рыбий глаз.
— Они говорят: какого черта он стал священником? Какая жалость.
Мэделин подняла взгляд, и родился, вероятно, уже новый знак — красноречивая в своем безмолвии впадинка между ключицами, ее груди, висящие, точно запретные плоды среди листвы, плоды с древа познания добра и зла.
— Какая жалость, — повторила она.
В этот момент снаружи послышался сухой треск громового раската, и мощный взрыв, донесшийся с улицы, проник даже сюда, сквозь восемнадцать веков, резонируя в древних стенах, словно землетрясение. Б этот момент свет погас, и они погрузились в. непроглядный мрак.
— О Боже! — взвизгнула от страха Мэделин. Тьма, кромешная тьма давила на глаза и плотно прилегала к коже, как тяжелая ткань. Во мраке перестают работать законы перспективы. Только голос Мэделин — высокий, испуганный — придавал глубину окружившей их мгле. — О Господи! Где ты, Лео? Где ты?
— Все в порядке. Не бойся.
— Конечно, я, черт побери, боюсь. — Тьма как вещество, давящее на роговицу, давящее на все тело, как саван. — Где ты, Лео? Лео?
— Здесь. Иди ко мне. Осторожно, не врежься в стену. — Последовало некое перемещение, какая-то мышиная возня в пыли, сдавленный вскрик: она споткнулась, — и вот что-то живое прокралось сквозь полог темноты и сжало его ладонь, маленькая хрупкая зверушка вцепилась в него в поисках защиты.
— Вот ты где. — Ее голос вдруг прозвучал в считанных дюймах от его лица, прямо под подбородком. Звук ее дыхания был физически ощутим во мраке, как колебание в черной ткани мрака, словно что-то прокладывало к нему подземный ход — Слава Богу, — пробормотала она, приподнявшись и облегченно прижавшись к нему, дрожа всем телом — предположительно, от страха. — Прости, — прошептала Мэделин.
Лео чувствовал ее дыхание. Он наугад протянул руку во мрак, коснулся ее щеки и мягкой плоти губ.
— За что ты извиняешься?
— Не отпускай меня, Лео, — шептала она. — Не отпускай. Прости. Не отпускай. — Странное чередование требования и извинения: прости, не отпускай, прости, не отпускай. У ее волос был особенный запах. Лео почти вспомнил, как впервые ощутил его в замкнутом, безвоздушном пространстве исповедальни, теплый животный запах, смешанный с духами — цитрусом, мускусом и прочим, чего он не мог ни назвать, ни вообразить. Наверное, ладан и мирра. Запах опасен, он ворошит прошлое. Английское слово «redolent», благоухающий, происходит от латинского глагола olere, что значит «источать запах». Лео где-то читал, что мозговой центр, ответственный за обоняние, расположен в непосредственной близости от центра памяти, так что они стимулируют друг друга. Запах, оживляющий прошлое, запах розового масла и лимона. Впервые за долгие годы он кого-то заключил в свои объятия. Лео обнимал только мать и давнюю подругу Элизу — больше никого. Пруст со своими мэделинами, подумал он и улыбнулся, превозмогая легкое отвращение, желание оттолкнуть ее, ощущая комок в горле — сжимающий глотку стесняющий дыхание, вызывающий тошноту, пульсирующий глубоко внутри. Как будто он одновременно проглотил слабительное и крепительное средство.
Запах возымел и другой эффект, с которым Лео придется смириться позже, смириться и признаться безымянному священнику, ибо он ни за что не расскажет об этом своему постоянному духовнику, который наверняка произнесет то, что Лео не желает слышать: что он-де должен побороть искушение и больше не видеться с этой женщиной. Такого наставления он не хотел. Он уже торговался с Богом, ибо в объятиях этих он ощутил явственное возбуждение. И тогда Лео сделал потрясающее открытие: телесное может быть неразрывно связано с духовным. И связь эта была столь прочна, что он не мог понять, что произошло: ослабила ли похоть его любовь, или это духовная, разумная сторона возвысила эрекцию до уровня подлинного откровения?
Сколько прошло времени, прежде чем зажегся свет? Минута? Десять минут? Вдалеке забрезжил лучик, сверху донесся крик — это старуха, сопровождавшая души усопших, приближалась с карманным фонариком. Лампочки одновременно вспыхнули, потом еще раз, потом наконец загорелись окончательно, обнаружив груды обломков вокруг пары людей, сцепившихся в крепких объятиях и будто бы обнаженных без защитного покрова мрака. Они смущенно разжали руки.
— О Боже, до чего же неловко! — воскликнула Мэделин. Избегая его взгляда, она отряхнулась, словно пытаясь очиститься от невидимых микробов. — Думаю, нам пора. — Она подтянула юбку и осмотрела колено. — Черт, порвала колготки об эту стену. — Глаз она не поднимала. Она больше не смотрела на него, больше не перехватывала его взгляд и не отвечала своим — отчасти ироничным, отчасти любопытным, отчасти вопросительным: не пропустила ли она чего-то, понятного всем остальным. Она на него не смотрела. Говорят, когда мужчина и женщина становятся любовниками, это сразу видно. До грехопадения они постоянно смотрят друг на друга, украдкой обмениваются многозначительными взглядами при каждом удобном случае. Но после того как страсть удовлетворена, они избегают этих взглядов изо всех сил.
С той минуты, проведенной во мраке палеохристианской подземной церкви Сан-Крисогоно, Мэделин Брюэр избегала взгляда Лео Ньюмана.
Голос в телефонной трубке, неприятно-знакомый голос, слегка насмешливый и отчетливо порочный.
— Можно повидаться с тобой? Есть разговор. Тебе же не сложно?
— Здесь, в моей квартире?
— Где угодно. — Сквозь открытое окно влетают крики стрижей и отдаленный рев машин, катящих по Лунготевере. В серых стенах своей квартиры он покрывается потом.
— Как хочешь, — говорит Лео.
— В квартире. В логове льва.
Она пришла в половине одиннадцатого утра. Из окна он видел, как она идет по тротуару на противоположной стороне улицы. Она начала переходить через дорогу, остановилась на островке в потоке автомобилей и мельком взглянула на Палаццо Касадеи прямо перед собой, ожидая перерыва — отлива бушующего транспортного моря, — чтобы преодолеть разделявшее их расстояние. Автобус остановился и извергнул пассажиров. Она нырнула в толпу, маленькая женщина в голубой юбке, изящных туфлях и красной куртке, такая уверенная и решительная. Широкая, слегка мужеподобная походка. Он наблюдал, как она исчезает в его подъезде.
Страх? Отнюдь. Куда менее определенное чувство — смятение. Удушливый прилив паники. Легкое омерзение оттого, что ему снова предстоит вдохнуть ее запах, ощутить ее присутствие, услышать ее нежный голос. И еще — нетерпеливое ожидание, ожидание без повода и объекта, просто нетерпеливое ожидание конца.
Войдя, Мэделин извинилась, хотя было непонятно, за что именно она просит прощения. Она рассеянно оглянулась и швырнула куртку — кроваво-красную, как кровоподтек, как тромб — на спинку кресла, которое они с Джеком ему подарили, и сказала, что ей не хотелось бы отвлекать его. Тем временем Ньюман суетился вокруг нее: придвигал стул, предлагая сесть, извинялся за то, что стул неудобный второпях варил кофе на электроплитке в узкой кухоньке. Глупость, конечно, но ему действительно было стыдно за свою комнату, за заурядную мебель и жалкие пожитки. Раньше он ими гордился; точнее, гордился их малочисленностью.
— Прости меня, — повторила Мэделин, беря чашку кофе. — Наверное, с тобой это постоянно случается.
— Что?
— Ну, люди изливают тебе душу.
— А ты сейчас занята именно этим?
Она, рассмеявшись, отвернулась, покраснела и принялась искать предмет, на котором можно было бы остановить взгляд (что было весьма нелегко, учитывая аскетичную бедность обстановки).
— Тебе нужно поставить здесь цветы. Я тебе принесу. Этой квартире недостает яркости.
— Женской руки?
— Можно и так сказать. Надеюсь, цветы не вызывают у тебя отвращения. — Она встала со стула, не успев толком усесться, отошла к окну и, пригнувшись, выглянула наружу. Дернула занавеску, зачем-то коснулась оконной рамы. — Сейчас между нами — мутное стекло, — пробормотала она. — Тогда мы стояли лицом к лицу…
— Почему цветы должны вызывать у меня отвращение?
— Разве у тебя нет аллергии на подобные вещи в твоем мире самоотречения? — Мэделин чуть скривилась. Ее лицо отражалось в окне; он видел и само лицо, и нечеткое, молочное отражение. — Извини. Я сама напросилась в гости, а теперь еще и грублю. Начнем с того, что я вообще не уверена, стоило ли мне приходить сюда. Я хочу поговорить о Джеке, о нашем с ним браке, но я сомневаюсь, что ты подходящий собеседник. Мне нужен приходский священник. У приходского священника, скорее всего, не будет схожего личного опыта, но он уже выслушивал подобные проблемы тысячу раз. В этом ведь и состоит задумка, правильно? Тогда как ты… — Лео позволил ей выговориться. Слова лились сплошным потоком, балансируя между дружеской беседой и исповедью. — Ты когда-нибудь думал о женитьбе? Это хамство с моей стороны — спрашивать об этом… Может, ты не интересуешься… ну, женщинами. Я перепутала время. Может, ты не интересовался ими. Мы ведь об этом уже говорили, помнишь? Ее, кажется, звали Элиза? В любом случае, я сую нос не в свое дело. Но я интересовалась мужчинами, что, по-моему, вполне очевидно. Интересовалась одним мужчиной, как и подобает приличной девушке-католичке. Конечно, у меня было несколько любовников до Джека. Но сейчас я утратила к своему мужу всякий интерес.
В процессе беседы Мэделин как будто преодолевала бездну, и когда она повернулась, чтобы взглянуть на Лео, ее улыбка была направлена вглубь него. Раньше с ним не случалось ничего подобного. Она была первой.
— Как ты думаешь, что мне делать? — спросила Мэделин, и Ньюман понял, что он практически не слушал ее. А если и слушал, то не понимал, как будто она говорила на иностранном языке, и, слыша каждое слово по отдельности, он все-таки упускал суть. Ведь целое всегда превосходит сумму составляющих.
— Делать?…
— Да, делать. Ты меня не слушал, правда? — Она вдруг ухмыльнулась, довольная, что смогла разоблачить его. — М-да, замечательный ты исповедник. Или это слишком скучная тема для разговора?
— Разумеется, я тебя слушал. Твой брак исчерпал себя. Но разве этого не следовало ожидать? Все с этим сталкиваются и борются, как умеют.
— А как насчет твоего брака? Со Святой Матерью Церковью. Он себя не исчерпал?
— Мы о ком говорим — о тебе или обо мне?
— Прости. Я не должна вмешиваться. Обо мне… Мы говорили обо мне. Проблема в том, что мне не с кем поговорить, кроме тебя. Ты это понимаешь, Лео?
— Кроме меня?…
— Понимаешь ли, твоя роль в моей жизни сильно изменилась…
Тревога. Тревога — это утонченный страх, тонкая патина страха на поверхности каждого поступка.
— Изменилась? Боюсь, я не понимаю…
— Ты был священником, а стал… другом. Прости, наверное, это не следует разграничивать. Я не исповедуюсь тебе, Лео. Я просто женщина, которая ведет доверительную беседу с другом.
И он подумал: женщина, 'issâ, поскольку она произошла от мужчины, 'is. К женщинам в Библии отношение неоднозначное, начиная, конечно, с Евы. Змеи, извиваясь, проскальзывают в женскую логику, протягивая плод запретного знания, знания, которое таится там, под складками материи, между крепкими, немужскими бедрами. Сложный вопрос — женщины. Достаточно вспомнить ее тезку — Марию Магдалину, женщину, из которой изгнали семерых бесов.
— Но отец Лео теперь стал просто Лео, — говорила Mэделин, — с которым я могу поговорить не как с духовником, а как с обычным и, надеюсь, способным к состраданию человеком. И еще я надеюсь, что не навязываюсь ему. — Лео пролепетал что-то в ответ, но она будто не заметила — лишь безучастно ему улыбнулась и призналась, что ее брак терпит настоящий кризис. — Ах, Лео, серьезный кризис. Вера, любовь и все прочее… Я снова излагаю невнятно? Перед тобой стоит абсолютно беспомощный человек. — Она засмеялась. На первый взгляд, это был ее обычный, открытый смех, с резким, пряным привкусом самоиронии. Простой приятель никогда бы не распознал в глубине этого смеха никакого отчаяния или огорчения. Но в нем было и отчаяние, и огорчение. И Лео откуда-то это было известно, и столь интимная подробность беспокоила его. — Я утратила веру, Лео. Вера исчезла, пропала, фьють! — и нет, растаяла облачком пыли. Ты можешь вернуть ее своими тонкими иезуитскими аргументами? Я больше не люблю Бога, потому что перестала верить в его существование; я больше не люблю Джека, который, мне кажется, давно уже разлюбил меня, потому что в некотором смысле я перестала верить и в его существование. Наверно, я говорю, как глупенькая девочка-подросток?
— Отчасти.
— Но есть одно отличие. Я могу действовать. У подростков подобные настроения обычно проходят без следа. Но я могу действовать.
— И что же ты можешь сделать?
Мэделин покачала головой.
— Еще не знаю. Но возможность действия, она рядом. Я ее чувствую. Понимаешь, тебе ведь дается только один шанс не так ли? Я знаю, ты не настолько глуп, чтобы зачитывать мне набившие оскомину истины: ну, там, небесный чертог, береги себя к Судному дню… У человека моего возраста остается только один шанс. И я обязана им воспользоваться, так ведь?
— Обязана? Кому?
— Самой себе. Никого ведь больше нет.
— Я думал, есть еще кое-кто. Например, дети.
Она на некоторое время глубоко задумалась.
— Ты помнишь Сан-Крисогоно?
— А что именно? — Тревога росла, принимая все более отчетливые формы, превращаясь в обыкновенный страх Паника вставала комом в горле.
— Наш поход туда?
— Конечно. — Ощущение ее тела, сжатого в объятиях, ее хрупкого тела, ее плеч, накрытых его руками, ее головы, склоненной прямо возле его лица, ее волос, запаха ее волос… Сосредоточенность человека, окунувшегося в кромешный мрак, когда она стала для него единственным живым существом в мире — вернее, не она сама, а ее прикосновение, ее тактильное присутствие, которым ограничился весь мир. Паника…
— Сейчас я точно в таком же положении, Лео. Во тьме. Мне не видно ни зги. — И Мэделин вдруг расплакалась. Казалось, ничто не предвещало этих слез, этого естественного проявления всех тех малопонятных эмоций, что скрывались за внешним спокойствием. Лео встал, подошел к ней и положил руку ей на плечо — неуклюже, будто утешал друга, внезапно давшего волю постыдной слабости; она тоже подняла руку и сжала его ладонь, принялась ее гладить и повторять: взрослые просто так не плачут, в отличие от детей, правда же?…
Истерия. Конечно, его об этом предупреждали. Истерия, от hystera, что значит «матка». Насколько он понимал, это отличало именно женщин. Иезавель, Сусанна — эти имена являются мужчинам, давшим обет безбрачия, в страшных снах. Саломея отбрасывает полог и вращает бедрами, пока Ирод призывает рубить головы с плеч. Далила гладит голо у Самсона и тянется к ножницам, продолжая источать ль вые, соблазнительные речи. Юдифь поднимает саблю…
— Я в порядке, — через некоторое время сказала Mэделин. — Боже, как же мне неловко. Со мной все в порядке. — Она покачала головой, стряхивая слезы с ресниц, нашла платок и промокнула лицо. — Макияж не потек? Паршиво я, наверное, сейчас выгляжу… Я беспардонно навязываюсь тебе. — Она улыбнулась, и улыбка ее отразилась даже в набрякших, покрасневших глазах, затем спросила, можно ли воспользоваться ванной. А ему пришло в голову, что едва ли женщину, которая в схожих обстоятельствах употребляет слово «беспардонно», можно назвать истеричной.
Лео подождал, пока она умоется, а когда она вернулась, ее прежнее равновесие было восстановлено. Говорила она уже тихо, будничным тоном:
— А теперь я намерена сказать то, о чем не посмела сказать в той поганой церкви.
— Поганой? — подал голос — возможно, в последний раз — строгий священник.
— Да, они все — поганые.[51] Вся религия обагрена кровью — взгляни на распятие, на Сердце Господне, на Искупительную Кровь, на все что угодно. Вся религия утопает в крови. «Обширные кроваво-красные моря». — Мэделин утратила свою эфемерную красоту и теперь имела вид решительный, но унылый; губы ее сжались в своеобразную улыбку, невеселую улыбку, словно в лицо ей дул ветер, или хлестал дождь, или лупили еще какие-нибудь стихийные бедствия. — Я буду говорить, и из простого человеческого сочувствия ты меня выслушаешь — если не найдешь иной причины. — И он понял, что имеется в виду, еще до того как она заговорила. Ведь это было, на самом деле, столь очевидно…
— Я влюбилась в тебя, — сказала Мэделин. — Истерика прошла. Я никогда в жизни не говорила столь серьезно. Я знаю, что это безнадежно. Я знаю, Лео. Я знаю. Но так уж получилось. — Осторожно, словно балансируя на краю пропасти, она показала ему свои ладони — в доказательство, что она потеряла всякую надежду и опору и теперь готова шагнуть в бездну. Лицо ее побледнело. Веснушки на носу темнели, как клейма. Он видел морщинки вокруг ее глаз, сухие мазки бровей, неровную текстуру кожи, линии, прочерченные временем на ее лице.
Лео подошел к ней и, протянув руку, коснулся ее щеки В физическом плане ничего больше не произошло — простое прикосновение к щеке, однако он таким образом совершил то, в чем отказывал себе так долго, отказывал почти тридцать лег. он вступил в телесный контакт. Да, были рукопожатия иногда можно даже обняться и поцеловаться. Но никогда не станешь касаться чьей-то щеки. Интимная связь, плотский акт, ощущение чужой плоти, покрытой легким пушком, неожиданно, поразительно мягкой плоти. Он коснулся ее щеки и она издала еле слышный неразборчивый звук, словно мышь или другой мелкий зверек, возможно, кем-то раненный. Издав этот звук, Мэделин приблизилась к нему, и они обнялись, совсем как во тьме церкви Сан-Крисогоно. Склонив голову, она прижалась к его груди. Но на сей раз горел свет, и нежность между ними была очевидна, и ему не оставалось ничего иного, кроме как опустить подбородок и неловко — опыт, как приобретать опыт в подобных вопросах? — прижаться к ее волосам, к шелковому пушку на загривке…
Запах ее присутствия — странный, чужеродный запах — переполнял Лео. Он казался самым важным, более важным, чем любые церковные празднества, более насущным, чем любое рациональное зерно, — ее запах, немного животный и немного цветочный, теплый аромат ее кожи и волос, смешанный с густым фруктовым духом; иррациональное изгоняло доводы рассудка… Лео вновь почувствовал нечто вроде паники, некое возбуждение, зачастую возникающее вследствие испуга, некую ужасную рассеянность, свойственную, скорее, сумасшедшим; он также почувствовал неизбежное обвинения в ереси.
— Лео, — пробормотала Мэделин, по-прежнему прижимаясь к его груди, — что мы будем делать? Что же нам c тобой делать?…
Малярия — 1943
Она рассказывает Лео о своем детстве, о том, как она жила в моравском городе Махрене близ Бухлова. Она боком сидит на краю кровати, опершись на подушку; она обнимает ребенка за плечи, поигрывая прядью его волос Мальчик слушает ее, широко раскрыв глаза, как будто она рассказывает сказки, предания глубокой старины, и в лесах на взгорье Хриба (она запросто произносит корявое славянское название) действительно есть волки, дикие вепри и гномы Еще там, среди деревьев, высятся огромные черные замки. Она описывает сказочный мир, утраченный мир, что продолжает жить лишь в воспоминаниях и на кинокадрах, мир лошадей и экипажей, света ламп, мир долгих зимних вечеров, когда целые деревни были изолированы друг от друга и от города снежными заносами; она рассказывает сыну о доме, где она родилась и жила до замужества: «Мы называли его Zamek. Говорят, сам генерал-фельдмаршал Кутузов останавливался там накануне битвы при Аустерлице. О, это было великолепное жилище! А какие там были сады! Сады с павлинами, питомником, в котором выращивали деревья, фуксарием — любимым детищем папы. Он всегда говорил, что каждый человек должен найти себе занятие по душе, и выращивание фуксий стало его основным хобби. А мы прятались в питомнике, мы с твоим дядей. И нас искали по нескольку часов, да так и не находили…» Волна слов спадает, и место детских фантазий занимает память взрослого человека.
«А в 1926 году я познакомилась с твоим отцом. Мы были в Мариенбаде. Мы раньше ездили в Мариенбад на воды по четыре раза в год. Папа говорил, что предпочитает этот курорт Карлсбаду, потому что там тише и просторней. Карлсбад-в-канаве, вот как мы его называли. Комнаты мы снимали в Веймаре, куда ходили абсолютно все, и там-то я и встретила твоего отца…»
Все меняется. Мы стареем. Центр жизни — а именно, детство — рассыпается на части.
«Это было летом. Он получил отпуск в Министерстве иностранных дел и остановился у своих друзей, живших неподалеку. Понимаешь, тогда границы не имели значения. Их можно было пересекать когда угодно, и, переезжая из Баварии в Австрию, а оттуда — в Богемию, ты будто бы оставался в одной и той же стране. И я спустилась по широкой лестнице, я была такой молодой и красивой — всего шестнадцать лет! — а там был он, курил с компанией друзей, и он просто обернулся и взглянул…»
Утраченный мир. Центр не выдерживает нагрузки, Mitteleuropa[52] рассыпается на части.
«…наши прогулки по Колоннаде, когда мы пили воду и смеялись над ее ужасным вкусом — ржавчина, она отдавала ржавчиной или кровью, как бывает, если порежешься и присосешься губами к ране, — концерты и танцы в казино, прогулки по лесу — нас сопровождала моя тетка, дуэнья — о, какие же это были деньки, Лео!.. Всегда светило солнце, яркое солнышко. Он посвятил мне стихи, ты об этом знал? Стихи о моем пребывании в Мариенбаде. Они назывались «Гретхен в Мариенбаде». Представляешь, каково это, когда тебе посвящают стихи?»
Так говорила фрау Хюбер своему ребенку. Zamek превратился в государственный музей с билетной кассой в сторожке у ворот; в фуксарии открыли магазин. В промежутке же случилось то, что случилось со всей центральной Европой: конец света.
— В то время все казалось совершенно безопасным. Вот что странно! Все казалось безопасным. Хотя это было самое опасное место в мире.
— Mutti, — спрашивает ребенок, не по годам развитый ребенок, чьи слова старше, чем он сам. — А что произойдет теперь?
— Что произойдет?…
— Здесь тоже начнется война?
Она смеется. Фрау Хюбер смеется. Ибо в этом городе жизнь настолько же безопасна, как и на всем континенте, погруженном во мрак; этот город служит убежищем от бомб и автоматов, этот город защищает щуплый мужчина с лицом отшельника, бегло говорящий по-немецки, — Папа Римский Евгенио Пачелли.[53]
— Конечно же, здесь война не начнется. — Но она смеется, потому что не верит в это.
Тревожная ночь, ночь пронзительных сирен и резких щелчков зенитных орудий, ночь в сопровождении нескончаемого гула бомбардировщиков, невидимых в ночи над городом. Жаркая ночь полыхающих в небе огней (вероятно, прямо над Виллой), освещающих темные улицы, церкви и дворцы подобно летним молниям. Душная, знойная ночь, в течение которой семья Хюберов проводит несколько часов в бомбоубежище под Виллой вместе с другими работниками посольства, терзаясь лишь двумя вопросами: когда и куда упадут снаряды? Зенитки беспорядочно гремят где-то в отдалении. «Этим итальянцам не хватит духу, чтобы воевать», — говорит кто-то. Происходящее кажется Лео приключением, взрослым — легким неудобством. «Это блеф, — уверяет третий секретарь, ранее работавший в Вашингтоне. — Они ни за что не станут бомбить город: католическое лобби слишком сильно, чтобы Рузвельт отважился на это».
Рапорт герра Хюбера, поданный на следующее утро, в некотором роде подтверждает сказанное.
— Бомбы не нанесли никакого ущерба, — объявляет он, входя в квартиру из своего кабинета. Его жена и сын как раз завтракают. — В общем-то, никаких бомб и не было. Фотографировали город с воздуха. Американцы. Их, похоже, интересует железнодорожный вокзал.
Она пугает, эта холодная, аналитическая война, во время которой невидимые самолеты летают в ночи и фотографируют все, что им вздумается.
— Зачем им эти фотографии? Как фотографии могут им помочь?
— Будут использовать их в качестве путеводителя, когда начнут бомбить город.
— Бомбить Рим? Но как они могут бомбить Рим? Франческо сказал…
— Этот парень понятия не имеет о том, что говорит.
Утренняя суматоха: сообщения, отъезды, уклончивые рапорты, затем опровергнутые слухи. Поступают противоречивые сообщения о ситуации на Сицилии, циркулируют сплетни о письме, отправленном Папой Римским президенту США, появляются сведения о связях членов итальянского правительства с союзниками Антанты. Среди всего этого одна из секретарш принимает по телефону будничное сообщение — сущий пустяк, прорвавшийся сквозь тревожные вести: учитель Лео заболел и не сможет сегодня прийти.
— Он ранен? — спрашивает фрау Хюбер. Бомбы, пуска и несуществующие, терзают коллективный разум города.
— Просто заболел, gnädige Frau,[54] — отвечает секретарша. — Говорит, лихорадка.
— Он сам вам это сказал?
— Судя по голосу, ему и впрямь нездоровится.
Когда она набирает номер, трубку никто не берет. Ей интересно, где стоит этот телефонный аппарат, в какой квартире, за какими закрытыми дверьми и где находится тот, кто его игнорирует.
— Прогуливает, — таков вердикт герра Хюбера. — Я никогда ему не доверял, с самого начала. Вчера ночью его напутал рейд, и сегодня он решил прикинуться больным. Как вы это называете? Филонить? — «Бы» значит «англичане». Это шпилька, тонкая провокация, обвинение: ты одной ногой во вражеском лагере.
— Лучше сказать, «манкировать», — поправляет она.
— Ах да. Конечно. Манкировать. Морской термин.[55] У вас море в крови. А мы — люди сухопутные. — Ему нравится подтрунивать над ней. Однако издевки эти — абсурд, поскольку всю свою жизнь она прожила в самом сердце Европы, в месте, равноудаленном от Атлантики и Урала, от Балтии и Средиземноморья. Море она помнит только по детским поездкам на Лазурный берег и единственному визиту в дом бабушки с дедушкой возле Брайтона. — В любом случае, раз уж синьора Вольтерры нет, ты сама можешь позаниматься с Лео, правда ведь? В конце концов, педагогические таланты тоже у тебя в крови.
Эту издевку она игнорирует, но подчиняется, усаживая сына за работу, несмотря на возражения с его стороны. Утро неспешно продолжается, телефоны звонят, люди приводят и уходят, Лео жалуется. Позже она отправляется в зал Виллы и немного играет там на пианино, в одиночестве сидя в комнате, где окна наполовину зашторены от солнца — солнца, колотящего об асфальт, как молот о медь; сверчки пронзительно стрекочут в кронах деревьев, и настырный этот звук напоминает вопли новорожденных. Вскоре после обеда, скудного и невкусного, фрау Хюбер вызывает автомобиль.
Посольская машина, выделяющаяся дипломатическими номерами, уносит ее прочь от Виллы по улице Мерулана к вершине холма Эсквилин, где под палящим солнцем стоит укрепленная мешками с песком базилика Сайта Марии Маджоре. Прохожие провожают машину взглядами, и выражения их лиц могут с равным успехом означать отвращение или простое равнодушие. Итальянцы давно привыкли не обращать внимания на чужаков. Вскоре водителю приходится остановиться, чтобы спросить дорогу. Он родом из Альта Адидже, немецкоязычного городка в Южном Тироле, и города он не знает, равно как и многих реалий итальянской жизни.
— Не доверяйте этим людям, — советует он фрау Хюбер, но неясно, имеет ли он в виду их указания или порядочность вообще. Однако улицу, на которой живет Франческо, они находят без труда: это длинная узкая дорога, сбегающая с холма Эсквилин, вымощенная базальтом, ложбина между двумя рядами зданий с ржаво-красными, полуразрушенными фасадами, похожими на краснолицых стариков, что сидят перед винным магазином прямо напротив парковки. Сама улица засыпана бумагой, листы бумаги лежат в пыли: некоторые измялись, несколько разорвано, большинство же — целы, белеют под солнечными лучами — это словно снегопад посреди лета, вроде того легендарного снегопада, что укрыл холм в четвертом веке, дабы обозначить место, где должна быть построена церковь во славу Девы Марии. Один из мужчин читает вслух своим приятелям; фрау Хюбер берет листок и смотрит на него. Страница усеяна выспренними, агрессивными словами и безобразными угрозами:
«…Война у ворот вашей страны. Народ Италии способен сделать так, чтобы вновь воцарился мир. У вас есть выбор. Если вы хотите войны, мы будем воевать. Африка — наша. Наши военные суда могут обстрелять итальянские прибрежные города. Самолеты затмят солнце Италии. Наши солдатыв любой момент могут сойти на берег…»
Листовка подписана Верховным командованием Антанты.
Фрау Хюбер кладет бумажку в сумку и поворачивается к двери № 26, массивной двери наподобие входа в церковь. Ведет эта дверь в мраморный холл, темный после слепящего солнца улицы, темный и холодный по сравнению с жарой снаружи, темный, как исповедальня. По ту сторону решетки сидит портье (а он соответствует секретной атмосфере исповедальни? Навряд ли: говорят, все портье — фашистские шпионы), который провожает ее на верхний этаж — по лестнице, лифт не работает («Синьора, а чего вы хотели? Война, перебои с электричеством и так далее…»). «Угрожают разбомбить город, но я сомневаюсь. А вы, синьора? Тут же Его Святейшество и все такое… Они этого не сделают, правда? Они же не варвары».
— Неужели?
Она медленно поднимается по ступеням, из подвальной прохлады первого этажа — ближе к крыше, к теплу. Наконец, взопрев и выдохшись, она останавливается у квартиры D, piano 6, и стучит с надеждой — надеждой на что? Почему она вообще на что-то надеется? — что ей ответит голос Франческо. Но изнутри не доносится ни звука, равно как и снаружи, с улицы. Лишь неподвижный, беззвучный зной римского полудня.
— Франческо? Франческо!
Она толкает дверь, и та легко поддается. По-прежнему тишина. Она секунду колеблется, вглядываясь в полумрак квартиры. Видно лишь квадратный метр пола, угол стола и край запертой двери.
— Франческо?
И тут раздается приглушенный, нечленораздельный звук, словно кто-то силится говорить с кляпом во рту.
— Франческо?
Она переступает через порог и входит в небольшую прихожую. Справа через полуоткрытую дверь видна кухня (грязные тарелки в сушилке, кастрюли на плите, пустая бутылка на столе). Слева — открытый шкаф с двумя метлами и водонагревателем внутри.
— Франческо?
Звук, если это можно так назвать, доносится из-за закрытой двери прямо напротив. Она подкрадывается к двери на цыпочках и прислушивается.
— Франческо?
В ответ — лишь приглушенный стон, точно в ночном кошмаре. Фрау Хюбер нащупывает ручку двери, поворачивает ее, и дверь, распахнувшись, являет ее взору темную комнату с ковром на полу, кроватью у дальней стены, умывальником, шкафом с выдвижными ящиками, распятием на стене (в этом городе распятий) и человеческой фигурой на кровати. Человек обернут во влажную простыню, буквально вверчен в нее; кажется, что он вот-вот испарится в удушливой жаре.
— Чекко? — В ее голосе слышатся панические нотки, а также легкий гнев — за мужнино слово «манкирует».
Стоя у кровати, фрау Хюбер ощущает идущий от Франческо жар, лихорадочный жар, всепоглощающий жар летнего дня. Его лицо блестит от пота, рот точно заиндевел слюной, волосы намокли и слиплись. На серой подушке виднеются пятна пота. Он неуверенно шевелится, словно пытаясь от чего-то избавиться, глаза смотрят вверх — возможно, в потолок возможно, на нее, ~ но едва ли что-то видят. Она кладет ладонь ему на лоб и ощущает болезненное жжение лихорадки, а он что-то бессвязно бормочет, как будто все же способен почувствовать ее прикосновение. Она получает из его бормотания немного больше информации, чем он сам в него вкладывает. «Воды, тебе нужно воды». Кувшину умывальника пуст. Она несет кувшин на кухню и открывает кран. Действительно, чего ожидать в хаосе этого города, посреди лета и в разгар войны? Но с тех пор как римляне построили у подножий холмов акведуки, в Риме существует одна постоянная величина — вода, прозрачная, неизменно холодная вода.
Вернувшись в спальню, фрау Хюбер наполняет водой стакан, присаживается на корточки и поднимает его голову, чтобы он мог пить. Запах его тела доносится до нее, гнилостный и кислый запах. «Вода, Франческо. Вода». Вода стекает по его губам к небритому подбородку, струится по изгибу шеи на грязную подушку. Она опускает его голову, словно голову трупа, и оглядывается по сторонам. Мочалка. Она хватает мочалку с умывальника, наливает воду в таз и несет это все к кровати, после чего ставит таз на пол, опускает мочалку в таз и подносит ее к его губам, ко лбу, к щекам. Фрау Хюбер омывает его лицо и шею прохладной водой. Франческо, постанывая, вертится, будто ищет свет и не находит его.
Еще воды. Губка набухает от влаги, будто живое существо у нее в руке. Фрау Хюбер стягивает простыню и промакивает его плечи, грудь и руки. Еще воды. Его загорелая кожа краснеет, соски в колечках волос тверды и темны, как чернослив. Она вытирает его тело нежно, смывая лихорадку прочь. Ее рука кругами движется по его груди, вокруг сосков, по выступам ребер. Еще воды. Вода слегка нагрелась, и фрау Хюбер уносит тазик, чтобы обновить ее. Вернувшись с полным тазиком, она снова ставит его у кровати, становится на колени и опускает простыню до пояса. Торс юноши блестит в душной полумгле комнаты, блестит янтарным блеском загара и лихорадочной краснотой, эта горячая, пьянящая смесь… Фрау Хюбер осторожно дует на его влажную кожу, делает вдох и снова дует. Он стонет, поворачивает голову и, кажется, на одну секунду фокусирует на ней взгляд, пока она в очередной раз опускает губку в таз и вновь принимается за омовение: сначала лицо и грудь, потом — плоский живот, вокруг маленького узелка пуповины, вдоль тонкой полоски волос, исчезающей под простыней.
— Чекко? — зовет она, и он, будто превозмогая боль, поворачивается к ней.
Стоя перед ним на коленях, фрау Хюбер берется за край простыни и сдергивает ее. Замирает на мгновение, глядя на него, на его стройные голые ноги, узкие бедра, черную гущу волос и сморщенный пенис с ярко-красной головкой. Она делает глубокий вдох, как будто вот-вот начнет играть и сидит у клавиатуры, собираясь с духом и сложив руки на коленях, точно ждет поступления той толики недостающей энергии, что позволит ей это сделать. А потом она протягивает руку и бережно касается маленького, съежившегося фаллоса кончиками пальцев, как касается клавиш пианино в пассаже адажио — поглаживает, и настолько мягко, что кажется, будто музыка исходит из некоего другого источника.
Он легко вздрагивает от ее прикосновения. Она испуганно одергивает руку. Сердце ее колотится так громко, что звук отдается эхом в комнате, будто в полости барабана. Она становится на колени у кровати и смотрит, как юноша извивается, стонет и наконец вроде бы затихает. Тогда она вновь берет губку и начинает протирать его грудь, его бедра с внутренней и внешней сторон, его поджарое, сильное тело, бесчувственное в пылу лихорадки.
6
Лимб. Лимб — ни то, ни другое, ни рай, ни ад ни парадиз, ни кара, ни блаженство, ни проклятие. Лимб был изобретен средневековыми теологами с целью решения следующей задачи: куда девать тех людей, которые умерли некрещеными, а именно — людей невинных, а именно — мертвых младенцев. Именно в лимбе оказался Лео Ньюман. В лимбе он проживал новую повседневность, которая, тем не менее, удивительным образом напоминала повседневность прежнюю, как если бы после смерти вы обнаружили, что загробная жизнь ничем не отличается от вашего земного существования. Он, как всегда, читал лекции о развитии новозаветных канонов разношерстной толпе студентов. Он настаивал на более раннем установлении канона, выдвигая гипотезу, что Папирус Эгертон[56] служит доказательством четырехевангельского канона во втором веке, а не является самостоятельным Евангелием, как утверждал Майеда (а после — и Дэниеле). Доказательством его гипотезы служили фрагменты папируса Эн-Мор.
— Здесь изложены учение Господа и учение его двоюродного брата, Иоанна Крестителя, записанные небольшой группой последователей перед разрушительной Еврейской войной. Записи сделаны приблизительно в восьмой декаде нашей эры. Возможно, раньше. — А студенты лишь кивали и строчили конспект, как будто утверждение его давно было доказано и считалось догмой, а не просто одной из версий.
После обеда Лео сидел в библиотеке или в архивах, просматривая тексты, расшифровывая их, рассматривая слова с разных точек зрения. Вечером он возвращался в свою квартиру, где готовил себе нечто вроде ужина из того немногого, что обнаруживал в холодильнике. Он чувствовал себя отшельником в пещере, отшельником, который берег последние капли своей веры, чтобы их не смыло беспощадной волной обстоятельств.
Ночь была временем отчаяния. Тьму осаждали сны, которых он, проснувшись, не помнил, и страхи, которые он не мог сформулировать, столкнувшись с ними лицом к лицу. в холодных лучах рассвета. День закрашивал эти ночные страхи густой краской неотложных забот.
Зазвонил телефон.
Это должна была быть она. Они говорили по телефону, но виделись лишь дважды: один раз втроем, вместе с Джеком, ходили на концерт, и она сидела между мужчинами, и Лео обливался потом в узком кресле, осознавая ее близость, прикасаясь к ней плечом и коленом, ощущая, как она украдкой сжимает его кисть. Он спрашивал себя, не было ли это все некой изощренной игрой, искусной игрой в жертвенность, игрой, правила которой знала лишь Мэделин. Хотя, возможно, Джек тоже их знал. Когда они вышли из концертного зала и направились к базилике Святого Петра по триумфальной галерее, она взяла его под руку и принялась превозносить его достоинства перед супругом.
— Мой любимый исповедник, — так она его назвала. — Святой Лео Хладнокровный.
— Мне он хладнокровным не кажется, — заметил Джек. — Мне он кажется чертовски смущенным, потому чтоты виснешь на нем в каких-то ста ярдах от штаба.
Зазвонил телефон.
Их телефонные разговоры были осторожны и намеренно туманны, словно они оба опасались, что их могут услышать, что линию кто-то прослушивает, кто-то, прячущийся во внешней ткани мира, точно актер за кулисами, третий лишний у них за спиной — возможно, Бог, униженный до банальной прослушки.
Зазвонил телефон.
Лео поспешно доедал завтрак: будильник, который она ему купила, показывал половину десятого, а в десять у него был семинар.
Зазвонил телефон.
Кто еще мог позвонить ему сюда? Телефон стоял на полу в гостиной; шнур змеился по паркету. Его оставил здесь предыдущий жилец. Активировать услугу удалось лишь после долгих споров с телефонной компанией, только после памятного рандеву в церкви Сан-Крисогоно, когда она пришла одна и они бросились в омут головой, ведомые не то волей обстоятельств, не то судьбой, не то иным капризом внешнего мира.
Зазвонил телефон.
Во второй раз они встречались вдвоем. На ее машине они поехали на Яникулийский холм, с которого открывалась панорама всего города. Там были туристы, пришедшие полюбоваться видом, кукольники, разыгрывающие сценки для визжащих от восторга детей, а также велосипедист, который показывал номера на своем железном коне, и настоящий огнеглотатель. Там же стоял киоск с мороженым, и еще один — с различными безделушками. Вся эта суета окружала их тихую гавань — автомобильный салон.
— Безопасность превыше всего, — сказала Мэделин. Она сидела вполоборота к Лео, поджав ноги, чтобы он при желании мог коснуться мягких, шелковистых холмиков ее коленей. Рядом с ней он получал неведомое прежде удовольствие первой влюбленности, когда подросток задыхается от желания перевоплотиться в свою спутницу, раствориться в ней без остатка. Они ловили редкие мгновения иступленного восторга, для чего им хватало обычного соприкосновения рук — взрослых рук, расчерченных сухожилиями и венами, со скукожившейся кожей на костяшках пальцев, взрослых рук, которые сжимались, как детские. Они были полны тревоги и сомнений. — Если бы мы были другими людьми, — сказала она, — то давно уже погрязли бы в прелюбодеянии. Ты отдаешь себе в этом отчет?
— Конечно, отдаю.
— Но вместо этого мы сидим здесь, как дети, которые не знают, чем заняться.
— Может, мы такие и есть, в известном смысле. Как дети?
— Ты, — резко ответила она. Внезапная вспышка гнева исказила ее лицо. — Не я. Ты как ребенок. К тому же отстающий в развитии, Господи прости.
— Это несправедливо.
Мэделин рассмеялась, хотя ничего смешного в этой ситуации не было.
— Что ты вообще знаешь о несправедливости? Ты же понятия не имеешь, каково это — жить с человеком, которого ты больше не любишь, проявлять нежность к нему, говорить, как он тебе нравится. Ты заметил, я употребляю слово «нравится»? Чтобы не пришлось врать насчет любви. Ты понятия не имеешь, каково мне, когда он меня трахает, а я этого больше не хочу и хочу только тебя. — Слово «трахает» угрожающе повисло в воздухе между ними — непристойность, вырвавшаяся из точеной арабески ее уст, пока черты лица ее кривились, дрожали и наконец пораженчески сжались в рыданиях.
— Мне очень жаль, Мэделин, — бездумно пробормотал Лео. — Прости меня. Господи, мне так жаль…
Она покачала головой, будто пыталась стряхнуть слезы с ресниц.
— Я попросту исчезну из твоей жизни, если ты этого хочешь. Ты этого хочешь? Я уйду. Я не буду доставлять тебе хлопот, Лео. Обещаю.
Представив себе ее исчезновение, он ощутил прилив панического ужаса — отчаянного, животного страха. Дыхание сперло в горле, в груди защемило. Эмоции проявляли себя в естественном, примитивном, но все же поразительном приступе беспомощного страха, словно ему понадобился глоток свежего воздуха; это было подобно астме, подобно шоку.
— Я не хочу, чтобы ты уходила, — сказал он. — Я люблю тебя, но не понимаю, как я тебя люблю. Беда в том, что мне не хватает опыта в этом деле. Я не знаю, в каком направлении двигаться.
— Двигайся в моем направлении, — тихо вымолвила Мэделин. — Всегда можешь двигаться в моем направлений.
Зазвонил телефон. Он знал, что это она. Когда он поднимал трубку, его мысли беспорядочно метались.
— Pronto.[57] Мэделин?
На другом конце провода — молчание.
— Это Лео? Лео Ньюман? — Мужской голос, американский акцент.
— Кто это?
— Это Стив, Лео. Стив Кэлдер. Я очень рад, что нашел тебя. — В его голосе слышалась легкая дрожь, выражавшая, возможно, искреннее удивление. Это можно было с легкостью определить даже по телефону. — Ты переехал, да? Я позвонил по твоему старому номеру, мне сказали, что ты переехал, и пришлось чертовски постараться, чтобы выпытать у них твой новый номер. Я сказал, что я твой дальний-предальний родственник из Висконсина. Слушай, Лео, тут произошли некоторые изменения. Довольно существенные, если уж на то пошло. Я заказал тебе билет на самолет. Надеюсь, твой паспорт, не просрочен? Билет заберешь в аэропорту перед вылетом.
— Ты о чем, черт возьми?
— Завтра утром… Разве я тебе еще не сказал? Ты ведь сможешь? Который у тебя сейчас час?
— Полдесятого.
— Отлично. На час меньше, чем у нас. Слушай, тебя в аэропорту встретит человек, годится? Завтра утром. Вылет у тебя в девять, то есть в десять по нашему времени.
— А в чем, собственно, дело?
— Я ведь уже сказал. Кое-какие новые материалы насчет Эн-Мор. Я еще не говорил?
— Ты ничего не говорил. А что именно? Что они нашли?
Последовала пауза, пробел в сплошном потоке слов — тщательно спланированная пауза. Кэлдер знал толк в таких вещах. Наконец он сказал;
— Нашли свиток.
* * *
Мэделин позвонила позже, когда Лео вернулся с лекции в Институте. Ее знакомый голос, ее легкое волнение, намеки торопливо произнесенные слова — и глубокая тоска за всем этим, тоска и тревога.
— Мы могли бы поговорить, Лео? Могли бы? Джек сегодня вечером уезжает. Лео, можно я завтра приду к тебе? Я обещаю… О Господи, я не знаю, что обещать. Обещаю, что не буду на тебя давить. Ни в коем случае. Но мне необходимо с тобой увидеться.
— Я не могу, Мэделин. Завтра не могу.
— Почему?
— Я должен уехать.
На том конце провода воцарилось молчание, эта странная пустота, когда ты знаешь, что тебя слушают, но не отзываются. Мягкий электронный допрос. Когда она наконец заговорила, голос ее казался далеким — тонким, ранимым и далеким.
— Но почему так внезапно?
— Это по поводу того дела в Израиле. Раскопки. Меня попросили приехать.
— Завтра утром?
— Завтра утром. Рано утром вылетаю.
— А почему ты раньше не говорил об этом?
— Я раньше и сам не знал…
— Зачем ты меня вот так огорошиваешь?
— Я же говорю… — Их слова натыкались друг на друга, их контрастные слова сталкивались в тех точках, где ранее слова одинаковые откликались, словно эхо.
Салон самолета, летящего в Тель-Авив, был наполовину пуст: несколько туристов, несколько молодых ребят, собиравшихся получить опыт работы в кибуце[58] пара бизнесменов, группа иудеев-ортодоксов. В зале ожидания Лео встретил двух знакомых доминиканцев; один из них был специалистом по древним письменам, — француз вздорного, скептического нрава, работавший в Библейской школе под руководством отца Ролана де Во.[59]
— Отец Ньюман. — Француз придирчиво осмотрел его, будто очередной свой текст, и явно счел некой искаженной формой. — Такое впечатление, что вы едете в отпуск. Конечно же, это не так…
— У меня важная встреча, — сказал ему Лео.
— Встреча? А я ничего не слышал…
— Это встреча личного характера.
Они прошли к автобусу, курсирующему по территории аэропорта. Типично французская деликатность Откомба помогла им сгладить острые углы в разговоре.
— А вы-то заварили кашу, не так ли? С этими папирусами из Эн-Мор. Возможно, теперь вы перестанете опровергать мое прочтение 7Q5? — 7Q5 — это было название Кумранского фрагмента папируса, в котором Откомб с коллегами опознали часть раннего Евангелия, прото-Марка. Большинство ученых сомневались в этом и сомневаются до сих пор. Лео не был исключением. Всего-навсего двадцать букв, десять из которых повреждены, пять строк на истрескавшемся материале. Софистические ученые изыскания на тему, могут ли буквы nu-nu-eta-sigma быть серединой собственного имени Геннесар, что, в свою очередь, упоминается в шестой главе Евангелия от Марка (гл. 6, стихи 52–53: «…прибыли в землю Геннисаретскую…»). В головах людей, давших обет безбрачия, любое соображение мучительно. Идеи — ваши дети, ибо других детей у вас нет. Идеи — ваш вклад в жизнь последующих поколений. Откомб и Ньюман обменивались весьма язвительными письмами на страницах специализированных журналов, а на конференции папирусологов в Швейцарии они публично вступили в ожесточенный спор, чем повергли в замешательство всех присутствующих.
— Возможно, — примирительно сказал Лео. — Но, возможно, это больше не имеет никакого значения.
Автобус отвез их из дальнего конца аэропорта до взлетной полосы, где стоял самолет, огражденный двумя полицейскими машинами и одним бронированным автомобилем. Смех евреев-ортодоксов оглашал салон, где пассажиры занимали свои места.
— Они хотят показать, что давно привыкли к подобному, — сказал Откомб, пока они с Лео протискивались по проходу. — Обыск, расспросы, полицейские, пистолеты… Они торжествуют, ибо лишний раз доказано, что Земля Обетованная дается лишь ценою крови, пота и слез.
— А мы этой линии разве не придерживаемся?
Они взмыли в весеннее небо. И по мере того как самолет взбирался все выше над Средиземным морем, бедлам, в который превратилась римская жизнь Лео, понемногу упорядочивался. Мысли о Мэделин исчезали, таяли на линиях перспективы, достигая точки полного растворения. Сидевший рядом с Лео французский священник принялся читать требник. За иллюминатором, на высоте в тридцать тысяч футов, ледяной ветер с воем мчался над сверкающей серебряной пустыней.
Когда он вышел из отсека для прибывающих пассажиров в аэропорту Лод, то увидел знакомую фигуру, ожидавшую его за ограждением.
— Вы помните меня? — спросил мужчина.
— Святые покровители… — ответил Лео.
— Именно. Одного недосчитались. Сол Гольдштауб. — Он протянул мощную лапу для рукопожатия. Когда Лео в последний раз видел этого человека, тот, в рубашке с воротником-стойкой и при галстуке, сидел за обеденным столом у Брюэров и чувствовал себя явно не в своей тарелке. Теперь же он имел поистине смехотворный вид в сандалиях и шортах, с соломенной шляпой на голове, которая была бы куда более уместна на лужайке для крокета. На футболке, плотно облегавшей брюхо, красовалась надпись: «Содержимое кошерно».
На мгновение Лео как бы в шутку предположил, что это все было изощренным, дурацким замыслом Мэделин.
— Я не понимаю…
— Я теперь работаю на ВБЦ, — объяснил Гольдштауб. — Отдел по связям с общественностью.
— Какое странное совпадение.
— Вовсе не странное. Вы знаете, что однажды я написал статью о нексусе[60] человечества?
— А что такое «нексус»?
— Нексус, плексус, сексус, — невразумительно проворчал Гольдштауб. — Давайте я понесу вашу сумку. — Они прошли на парковку, Гольдштауб продолжал тарахтеть без умолку. В Риме была весна, а в Израиле — лето: за стенами аэропорта все заливало раскаленным добела солнечным светом, цикады трещали в листьях агав. — Понимаете, один профессор из Бостона доказал, что все люди в цивилизованном мире связаны друг с другом через, максимум, шестерых посредников.
— И что?
— А то, что в нашей внезапной встрече нет ничего странного. Это происходит постоянно. В этом и состоит моя теория о нексусе человечества.
— Ну, расскажите же, из-за чего разгорелся весь сыр-бор, — попросил Лео, усаживаясь на пассажирское сиденье авто возле Гольдштауба. — К чему вся эта секретность?
Но Гольдштауб лишь рассмеялся.
— Вы сами вскоре узнаете. Создается впечатление что Стив Кэлдер получил скрижали с десятью заповедями лично от Моисея.
Выехав с раскаленной прибрежной равнины, они очутились в прохладе холмистого города: Иерусалим, Yerushalem, название которого на иврите происходит от имени ханаанского бога Шалема, однако за многие века успело слиться со всем известным словом из иврита, словом, обозначавшим то, чем вообще-то, всегда был обделен этот пыльный уголок Средиземноморья — словом «shalom», мир. Подъезжая с запада, они вынуждены были проехать Старый город, судьбу которого столь рьяно оплакивали пророки. Лавируя между автобусами и грузовиками, Гольдштауб и Ньюман приближались к обширному пригороду. Новые постройки отливали неправдоподобной белизной в солнечных лучах; корпуса, точно игральные кости, были разбросаны среди голых холмов, где прежде лишь ящерицы облизывали пасти, а пастухи стерегли стада.
— Как дела у Брюэров? — спросил Гольдштауб. — Как поживает Мэделин?
Все хорошо у Брюэров. Мэделин поживает отлично. Ее имя, ее слова, кружась в танце, путали мысли Лео, пока Гольдштауб маневрировал среди машин.
— Вы часто видитесь?
— Более-менее, — уклончиво ответил Лео. — Время от времени.
— Сложная женщина. — Гольдштауб покачал головой и засмеялся без повода. — Сумасшедшая. Вся эта история с покровителями… — Что-то явно ему досаждало.
— Ну, так уж она шутит, — сказал Лео. Он отвернулся от Гольдштауба и уставился на чужие, непривычные улицы. Чувство вины разъедало его мозг, как тонкая струйка яда. «Остерегайся блуда. Все остальные грехи совершаются за пределами тела, но блудить — значит грешить против собственного тела». Они проехали автобусную станцию и главный рынок. Всю округу оглашала полицейская сирена. За окном Лео видел строй солдат, неуклюже шагавших по тротуару и забавлявшихся с оружием, как дети со своими игрушками. «Тело твое — храм Духа Святого. Ты не принадлежишь самому себе; ты куплен дорогой ценой».
— Нашли бомбу в пакете из супермаркета, — пояснил Гольдштауб, притормаживая у КПП. Солдаты заглянули внутрь, но им был дан указ осматривать только машины арабов. — Облава на обычных подозреваемых… Откуда эта строчка? Облава на обычных подозреваемых…
— Из «Касабланки»,[61] — ответил Лео.
— А священнику почем знать?
— Священники тоже смотрят кино.
Там стояли указатели с надписью «Старый город», но Гольдштауб свернул и помчал вдоль бульвара, взрезавшего северные предместья, по направлению к арабскому кварталу восточного Иерусалима.
— Почему вы не можете рассказать мне об этой находке? — спросил Лео.
— Стив убил бы меня на месте. Он хочет сам преподнести вам сюрприз. — Они миновали пустырь, ранее разделявший город воротами Мандельбаум, которых теперь не существовало, и дорогой на Дамаск, которая существовала по сей день и не исчезнет никогда. Наконец машина выехала из-за домов и Гольдштауб остановился. Перед ними открывался поросший редкими кустиками песчаный склон; вдали, на расстоянии примерно в милю, лежал на ладонях холмов окруженный сиянием Старый город. Все было знакомо; темная, погребальная зелень Оливковой горы терялась в долине у подножия, стена Сулеймана Великолепного напоминала золотую кулису, а за стеной, посреди сгрудившихся крыш, высился подобно бирюзовой шкатулке с золотым венчиком Гибралтарский купол. Возможно, именно этот вид оплакивали пророки.
«И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».[62]
— Хотите выйти посмотреть? — спросил Гольдштауб.
— Нет.
— Все уже видели?
— Не в этом дело.
Гольдштауб фыркнул.
— Беда в том, что все это означает что-то свое для совершенно разных людей. Одному месту не по силам вынести столько религиозного рвения. В том-то и беда. — Снова заведя машину, он отъехал от бордюра и двинулся на вершину холма. Вскоре они уже ехали по узкой дороге мимо таблички со словами «Всемирный библейский центр».
Центр был одним из тех учреждений, что бороздят, подобно океанскому лайнеру, воды финансовых вливаний из США. Отчасти музей, отчасти конференц-зал, отчасти храм, отчасти университет, он стоял на склонах горы Скопус в восточном Иерусалиме и взирал на долину Кидрон и Старый город с современной, самодовольной ухмылкой. В нем размещалось большинство исторических находок Второго храмового периода, останки времен царя Ахава, важные фрагменты древнего города Иерихона, свитки из пещеры Кумран. У Центра имелся доступ к самым передовым технологиям и самым светлым умам; он считался одним из лидеров в мире текстового анализа. Само здание представляло собой корявое смешение стилей; облепленный колоннами и фронтонами фасад напоминал какой-нибудь суд, а низко опущенные крылья были выполнены в псевдовосточной манере. Когда-то оно было лишь флигелем при больнице королевы Августы, затем, во время Мандата, служило штабом британским военным. Перед лестницей стояла скульптура, изображавшая открытую книгу; слово «Логос» было высечено поперек обеих страниц, а на постаменте был выгравирован девиз учреждения: «Слова со знание». Бугенвиллия оплетала парадный вход. Цветы блестели и радовали глаз, но цветом они совпадали с похоронными одеяниями священников.
Итак, что же ожидало Лео Ньюмана на склонах горы Скопус, за золотистыми стенами из песчаника Всемирного библейского центра? Понимание? Откровение? Искупление? Его ожидала плохо освещенная комната, глухо гудящая кондиционерами и таившая в полумраке мягкую, влажную прохладу. Его ожидал сам директор — мужчина с загорелым лицом, с изысканной проседью в волосах и манерами частного предпринимателя. Его ожидали строгая женщина средних лет с деловитыми ухватками медсестры и высокий парень, который вполне мог бы быть врачом. А еще его ожидал свиток.
— Позавчера, Лео, — сказал Кэлдер. Его платиновые волосы сверкали в приглушенном свете. — Мы нашли его лишь позавчера. Я сразу же тебе позвонил.
Вдоль одной из стен комнаты стояли шкафы с выдвижными ящиками. Имелись там также бинокулярные микроскопы и несколько компьютерных терминалов. А в центре комнаты возвышался стол, на котором и покоился свиток. Рядом, на другом блюде, лежала грязная тряпка, похожая на старый, перепачканный бинт.
— Он был завернут, — сказал парень. — Завернут и перевязан каким-то шпагатом. Конечно же, мы отошлем кусочки этой материи на радиоуглеродную экспертизу.[63] Сверток был внутри кувшина. Кувшин остался на месте раскопок.
Лео украдкой взглянул на свиток. Если честно, больше всего тот напоминал засохший кусок дерьма. Экскременты, выпавшие из кишечника истории, из самых основ земли, каковыми и является долина Мертвого моря. Лео посмотрел на обтрепанные края и пустую, бессмысленную оборотную сторону папируса.
— Ну?
— Это первый папирус с текстовым содержанием, найденный в районе Мертвого моря, — добавила женщина. Ее звали Лия, как дочь Лавана и жену Иакова. Интересно, не к месту подумалось Лео, а сестра у нее, наверно, гораздо красивее, и зовут ее Рахиль? — Когда мы сняли обертку, то обнаружили, что первая страница оторвалась от свертка и лежит отдельно. Но у нас есть все части. И, похоже, без значительных упущений.
— Вы его уже читали?
— Койне — не моя специализация, — ответила она.
— Но вы могли бы прочесть, что там написано?
— Более-менее. Проблемы возникали бы, но общий смысл уловить я бы смогла.
В беседу вступил Кэлдер.
— Лео, — напыщенным тоном произнес он, — это может быть величайшей текстовой находкой всех времен и народов. В сравнении с этим Свитки Мертвого моря покажутся пикником в Эдеме.
— Почему? Что же это такое, черт подери?
Вокруг них столпилась небольшая группа сотрудников. Они напоминали врачебный консилиум, собравшийся вокруг пациента в больничной палате. Словно направляя фатальный рентгеновский луч, парень нагнулся и положил на стол, возле свертка, стекло — точнее, стеклянный «сэндвич», два листа, скрепленных изолентой. Между стеклами располагались восемь фрагментов папируса. Они образовывали довольно грубую мозаику, концы их едва сходились, точно в коллаже из старых, обесцвеченных обрывков газеты.
— Первая страница, — сказал он. — Взгляните.
Лео сел и повернул стекло к себе. Греческий курсив пробирался по фрагментам, жизнерадостно перескакивая с одного на другой по линии волокон; пятна копоти казались совсем свежими, несмотря на две тысячи лет в заточении.
— Шрифт другой. Фрагменты Эн-Мора написаны другим человеком, — заметил Лео. Со временем учишься различать почерки. Узнаешь их, как узнавал бы материнский: по особенным формам букв, индивидуальным особенностям хвостиков и крючков, закруглениям и изгибам. Он поднял глаза. — Это будет непросто. Мне понадобится время.
— Сколько угодно, — сказал Кэлдер. Остальные молчали, словно у них всех одновременно сперло дыхание в груди.
Лео начал читать. Скорректировав свет, он надел очки для чтения и принялся отслеживать строчки пальцем, как ребенок, читающий Тору на церемонии бар-мицва[64] и водящий по священным письменам предметом под названием yod — серебряной указкой в форме человеческой руки с оттопыренным указательным пальцем, ибо закон Божий бесценен и нельзя осквернять его бренным прикосновением плоти.
«Пишет это Юдас Симон из Кариота, известный также как Юдас Sicarios, — прочел он. — И пишет он затем, чтобы узнали вы правду».
Лео вновь взглянул на них: на женщину по имени Лия в белоснежной блузе и синей юбке, на Гольдштауба в нелепой футболке и шортах, на Кэлдера с его широким оскалом, на парня по имени Давид, стоявшего сзади и нервно улыбавшегося (возможно, его тезка точно так же улыбался великану Голиафу, когда они встретились в Терпентинной долине). Затем Лео вновь опустил глаза к папирусу и перечитал строки, как будто проверял, не допустил ли он какой-нибудь нелепой ошибки.
* * *
«Пишет это Юдас Симон из Кариота, известный также как Юдас Siarios, и пишет он затем, чтобы узнали вы правду».
Юдас, Иуда. Откуда-то из глубин разума к Лео взывал голос: «Кто достоин чести открыть сей свиток?» Абсурд, конечно: сомнений быть не могло, — но он в третий раз прочел эти слова. Иуда.
А ведь он, Лео, всегда боялся этого момента, с тех самых пор как ринулся вниз головой в теплый океан веры. Он ведь всегда опасался, что, стоит ему посмеяться над словами, слагавшими его веру, и вся ткань разойдется по швам. Имена и значение имен.· Иуда Искариот. Вечно с ним проблемы, с этим Иудой. Даже его имя — отчасти указывающее на происхождение (Judas Is'Qeriyot, Иуда из Кариота), отчасти выдуманное людьми (Judas Sicarios, Иуда Нож) — даже имя вызывало трудности. И вот перед Лео лежит обрывок папируса, который венчает академические дебаты незатейливым каламбуром.
— Это что, шутка? — спросил Лео.
— Серьезно, как грехопадение, друг мой.
— Кто-нибудь еще это видел?
— Никто, кроме нас. Археологи просто извлекли его два дня назад, как я уже говорил. Ты сам знаешь, все палеографические находки попадают сразу к нам. Ты первый… — Кэлдер засомневался насчет окончания предложения.
— Первый кто?
— Первый человек со стороны. — Он улыбнулся. Выражение его лица казалось неустойчивым, словно в любой момент могло соскользнуть и обнаружить тщательно скрываемое смущение. — Первый католик.
Лео перевернул страницу. Все вокруг пришло в движение, и несложное действие заняло его тело целиком, исключив всякую мысль или эмоцию. Самого действия было достаточно. Он попросил принести ему бумагу и карандаш, затем медленно, методично прочел текст до конца, переписывая все прочитанное. Пропустив несколько неоднозначных вариантов прочтения, Лео вернулся к началу, проверил, что-то стер, что-то исправил. Процедура заняла три часа. Все это время Лия увивалась вокруг него, подносила воду, когда ему хотелось пить, или бутерброд, когда он изъявил желание перекусить, а также высказывала свое мнение по поводу спорных моментов, когда он того просил. Периодически наведывались Гольдштауб и Кэлдер, но больше никто в комнату не заходил. Лео слышал звуки извне: шаги по Центру, хлопки дверей в конце коридора, шум машин на подъездной аллее к зданию, радио, игравшее где-то вдалеке, — но ничто не могло отвлечь его от текста:
«Я пишу для евреев (рассеянных по свету?)…эллинов, и тех, что живут в (Азии?), и богобоязненных людей (theosebeis?) разных народов (ethne), которые могут знать истину об Иешуа из Назарета, бывшего отпрыском (blastos) семьи Мариам, что приняла власть над Израилем из рук язычников и была уничтожена Иродом; знайте, что умер он и не восстал, и я сам был свидетелем разложения его тела…».
Лео глубоко вдохнул и оглянулся. В комнату вошли Кэлдер и Гольдштауб, словно почувствовав, что он закончил. Дэвид и Лия бесстрастно взирали на него, ожидая вердикта.
— Это подделка, — сказал он им. — Пропаганда. Конечно, весьма древняя пропаганда, но все-таки пропаганда.
Кэлдера, казалось, удовлетворил его ответ.
— Первый век, Лео, — сказал он. — Не забывай. У насесть монеты времен Еврейского бунта.
— Этот текст старше папирусов Бар-Кошба, — добавил Давид, ссылаясь на один из наименее правдоподобных случаев в своей области, а именно — сохранение некоторых букв, начертанных лидером второго и последнего еврейского бунта, самого Сына Звезды. — Я в этом уверен. Первый век.
— Это подделка, — повторил Лео. — Это должно быть подделкой.
7
Эту ночь Лео не спал. Только дурных снов ему не хватало. Приученный к одиночеству, он все же никогда прежде не ощущал себя столь одиноким. Он лежал на кровати — безликой гостиничной кровати с жестким, как в монашеской келье, матрасом — и сражался с собственноручно расшифрованным текстом. Слова проносились в голове, побуждаемые собственным импульсом, направляемые его манипуляциями. Лео вслушивался в эти слова и не находил никаких упущений — он верил им, и остатки его веры (тень тени былого величия) стирались в порошок. Возможно, ему удастся спрятаться за академическими предосторожностями; возможно, всю оставшуюся жизнь он сможет возводить баррикады многомудрой сдержанности, сможет спорить и пререкаться, как фарисеи в храме, сможет увертываться и юлить, задавать каверзные вопросы и давать остроумные ответы, как, например, в том случае с Туринской Плащаницей. Но Лео знал: папирусы содержали ужасную, банальную истину, убедительную в силу своей простоты. Он ощущал жуткую пустоту вокруг себя. Убежище, где он годами привык прятаться, убежище молитвы, пустовало.
«Отец наш, если Ты есть, сущий на небесах, если есть небеса, да восславится имя Твое, если у Тебя есть имя…»
Лео бежал с тонущего корабля молитвы и искал успокоения в других местах — в воспоминаниях о Мэделин Брюэр. Лишившись духовного спокойствия, он искал спокойствия метриального, тленного забвения плоти.
Гольдштауб приехал рано утром, еще затемно, пока воздух не успел прогреться.
— Ты выглядишь так, как будто с постели тебя подняли вилами, — заметил он. — Что, матрас оказался слишком жестким? Я думал, ваш брат это любит — ну, умерщвление плоти и все такое…
— Сейчас уже никакой плоти не осталось, — с кривой усмешкой ответил Лео. — Сейчас умерщвляют разум.
Они ехали по темным, тихим улицам, где могли бы беспрепятственно разгуливать призраки. Стены Старого города казались тенями на светлеющем фоне небес, Гибралтарский купол тускнел и становился похожим на обычный свинцовый набалдашник. Они съехали в долину Кидрон; фары «лэндровера» разрезали тьму мертвенно-белым светом, словно две наточенных косы. Лео чувствовал странное отчуждение, как будто в нормальную жизнь вставили эпизод абсурдного сна, и стоит ему проснуться — серый, бесцветный she'olисчезнет. Он проснется. Умоется, оденется и позавтракает. Он отправится в Папский институт, посетит мессу в часовне, прочтет утреннюю лекцию о развитии новозаветного канона и продолжит работу над грядущей публикацией очередного фрагмента папирусов Эн-Мор. Жизнь продолжит движение по той колее, в которую она вошла много лет назад, когда он еще учился в семинарии и учителя заметили в нем упрямое прилежание в мелких лингвистических вопросах, одержимость новозаветным греческим языком и робкий страх перед бесцеремонностью всяких нововведений.
Лео снова подумал о Мэделин, и мысль эта отозвалась в нем легкой конвульсией. Эмоция выразила себя через тревожный, неестественный физический симптом.
— Ты не заснул? — спросил Гольдштауб.
— Нет.
— Замечтался? О чем же, интересно, мечтают священники?
— Я думал о Мэделин.
— О ней?
Зачем он упомянул ее имя? Она улыбнулась ему из глубин памяти. Мэделин, способная даровать утешение доброй души, утешение любви к ближнему взамен ужаса бездны.
— О том, как все это отразится на людях вроде нее.
— Если свиток подлинный, — напомнил ему Гольдштауб. — Ты же сказал, что это подделка.
Они проехали под безмолвным, громоздким танком, выполнявшим функцию мемориала Шестидневной войны,[65] и миновали оливковые деревья — то место, куда под покровом ночи, во власти мрака, Иуда привел отряд римских солдат, дабы те арестовали человека по имени Иисус. И Лео извлек слова из самых потайных глубин своего естества, будто бы расщепив ядро неверия, которое всегда гнездилось в нем: в детстве, в течение долгих лет обучения, в течение долгих лет следования своему призванию.
— Он подлинный, — сказал Ньюман. — В глубине души я боюсь, что он подлинный.
Гольдштауб кивнул.
— Так я и думал, — ответил он. — Я сразу это понял. Когда ты впервые его увидел, ты напоминал человека, который вошел в больницу с простуженным горлом, а вышел с лимфомой.
Дальше ехали молча. Дорога огибала Оливковую гору под деревушкой Эль-Азарий, родной деревушкой Лазаря, где Иисуса помазали перед триумфальным входом в город. Здесь кончалась Вифания, и дорога вилась вниз, мимо гостиницы Доброго самаритянина (там предлагали купить освежающие напитки, закуски и иконки, а также сфотографироваться с верблюдом), вглубь потрохов планеты, вглубь сероватых, серебристых и пунцовых красок рассвета, где Мертвое море, Соленое море, простерлось кованым оловом под высоким заслоном облаков. На другом берегу высились холмы Моаб, казавшиеся двухмерными против света; там стоял Моисей и взирал на Землю Обетованную, достичь которой ему было не суждено. Над холмами рассвет сочился кровью и лимфой, точно потревоженная рана.
Из земли долины торчал указатель, гласивший: «Иерихон, древнейший город в мире», — но слева, куда была устремлена стрелка, не было ровным счетом ничего. Гольдштауб повернул «лэндровер» направо, объезжая отвесный склон с руинами Кумрана и утесы, где были обнаружены свитки Мертвого моря. Ветхий, изъеденный солью знак указывал направление к Эн-Геди и Масаде. Машина ехала между угрюмым морем и сыпучим каменистым оплотом, что представлял собой переплетение хребтов и вымоин, олицетворение дикой природы Иудеи; это место принадлежало ящерицам, шакалам и пророкам, в этом месте человек по имени Иисус провел сорок дней и сорок ночей, охваченный ужасом одиночества. И как раз когда они там проезжали, утренний свет внезапно дрогнул, двадцатый век беззастенчиво вторгся в недвижное безвременье пейзажа и внезапный звук заглушил вой автомобильной трансмиссии: два реактивных истребителя промчали над долиной, оставляя за собой лишь рев моторов, словно симметричные фалды… Самолеты чуть накренились, пролетая мимо них, устремляясь к израильской границе, ведь пилоты наверняка осознавали, что находятся под бдительным наблюдением иорданских радаров. На фюзеляжах можно было разглядеть звезды Давида. Лео одолевали апокалиптические мысли. «Кто удостоится чести прочесть свиток?» — думал он, а самолеты тем временем превратились в крохотные точки на сверкающей пленке утреннего неба.
— Недалеко осталось, — сказал Гольдштауб. Чахлый, выжженный пейзаж, место обнаружения свитков, дажецветом своим схожее с папирусом: коричневато-желтое, высохшее место. Они миновали небольшой оазис Эн-Геди, где Давид[66] прятался от Саула[67] и отрезал прядь волос с головы завистливого царя, и через пятнадцать минут уже были в Масаде. На несколько обманчивых секунд мрачная плосковерхая гора — где Ирод возвел дворец удовольствий, где Мариам, его царица, когда-то выходила на террасу насладиться видом, где последние зелоты[68] держали оборону против римских легионов и, наконец, предпочли массовое самоубийство капитуляции — обрела изысканную красоту в кораллово-розовых лучах рассвета. Слева находился Лизан, Язык, соляные равнины, где воды Иордана наконец испаряются в томящий пустынный воздух. Всю остальную площадь занимал соляной пустырь, где некогда стояли города Содом и Гоморра.
Десять минут спустя Гольдштауб остановил свой «лэндровер».
— Вот мы и приехали.
Дорога вела направо. У блокпоста скучали двое солдат. Согласно знаку, это место называлось Эн-Мор, а приписка гласила, что оно охраняется Комитетом по защите древностей. Грубый хребет рассекал плато, словно окостенелый палец иудейской природы.
— Ты бывал здесь раньше? — спросил Гольдштауб. Лео выглянул в окно, изогнувшись, чтобы рассмотреть склон и дно вымоины.
— Да.
Солдаты перекинулись парой слов с Гольдштаубом, после чего подняли шлагбаум. Машина свернула на обочину, и Гольдштауб переключился на первую передачу, поскольку им предстоял долгий, медленный подъем от уровня моря по склону хребта, что, извиваясь змеей, вел к Масаде через нагромождения опаснейших камней. Вслед за ними тянулся шлейф желтой пыли. Пыль покрыла окна, панель управления, руки и губы. «Ибо прах ты и в прах возвратишься»,[69] — подумал Лео. Кто же пришел сюда, в этот опорный пункт истории? Кто же прошел сей тернистый путь с мешком свитков на спине?
Наконец горизонт оказался на уровне груди пассажиров, и машина достигла вершины узкого утеса. Они прибыли в археологический лагерь. На прогалине стоял армейский внедорожник и еще несколько «лэндроверов». Сзади тянулся ряд палаток, возвышался огромный шатер с подвернутыми краями. Группа волонтеров уже сновала туда-сюда среди рытвин: молодежь в футболках и шортах, грудастые девочки с загорелой кожей, мальчики с растрепанными волосами и жиденькими бороденками. Там царила атмосфера летнего лагеря. Кто-то полоскал в ведре глиняные черепки, а затем раскладывал их по деревянным коробкам, ранее служившим для хранения апельсинов. По радио звучали новости на иврите. Поодаль генератор колыхал утренний воздух. Непосредственно раскопки проводились чуть в стороне: несколько линий разрушенных стен в пыли, пониже лагеря, с вехами, разложенными решеткой.
Когда Лео выбрался из автомобиля, к нему подошел директор. Он носил одно из угрюмых односложных еврейских имен — Дов. Дов Агрон. Глаза его загорелись, когда Гольдштауб представил Лео.
— Отец Ньюман, верно?
— Можно просто Лео.
Рукопожатие Агрона было сухим и крепким. В речи его смешались акценты еврея, американца и выходца из Центральной Европы.
— Вы должны были приехать сюда раньше. Свиток уже видели?
— Ну, взглянул.
— Есть какие-нибудь версии?
Лео уклончиво пожал плечами.
— Это займет некоторое время.
Дов кивнул.
— Первые фрагменты, конечно же, были важны, но это кое-что принципиально иное. Как вы считаете? Это раннехристианский источник, как и прочий материал?
— Возможно.
Они прохаживались по месту раскопок, пока Агрон показывал особенности рельефа, склады и жилища тех, кто отважился жить среди этих камней и клубов пыли, в этом унылом месте, в этом испепеляющем аду. Одна волонтерка оторвалась от работы, когда они проходили мимо. Кожу ее выдубило солнцем и ветром. Она вытерла лоб тыльной стороной ладони и обратилась к ним с австралийским акцентом:
— Идите сюда.
Они перебрались через невысокую каменную кладку, за которой на коленях стояла девушка-волонтер. Ее груди, не стесненные лифчиком, свободно болтались в футболке, пока она, пригнувшись, вытирала пыль. Лео вспомнил Мэделин в церкви Сан-Крисогоно: то же движение, тот же лукавый взгляд искоса, то же непреодолимое ощущение женского начала. «Пришло время прочесть лекцию о рыбах…» Но на сей раз, в этом месте, в ладони девушки, словно разоблаченный грязный секрет, лежала бронзовая монета.
Агрон взял монету, подул на нее и передал Лео.
— Десятый легион, Фретенсис. Иудейская капта. Мы нашли уже штук двадцать пять таких.
Лео взглянул на бронзовый диск со знакомой гравировкой: женщина-еврейка, сидящая под пальмой, опустив лицо в сложенные ладони, и римский солдат, стоящий рядом.
«Какая женщина с десятью драхмами, — подумал он, — не станет, потеряв одну, зажигать лампу и выискивать пропажу по всему дому до победного конца?» Он вернул монету.
— Так что же тут было до прихода римлян?
Агрон пожал плечами.
— В этом-то и состоит ключевой вопрос, не так ли? Зелоты? Люди, успевшие бежать из Масады до завершения осады? Беженцы из Кумрана? Нельзя сказать суверенностью. — Разговор ушел в сторону вечных догадок, сопровождающих любые раскопки. — Всегда можно придумать убедительную историю, в том-то и беда. Если вас зовут Артур Эванс,[70] вы можете даже переделать место раскопок по своему усмотрению. Кому известно вот об этом месте? Судя по найденным папирусам, люди, жившие здесь, были кем-то вроде раннехристианских сектантов. Вам должно быть известно об этом больше, чем мне.
Лео пожал плечами. Они шагали вдоль хребта к самой высокой точке, где упорядоченные камни сливались с обломками на склоне. Агрон указал на утес, взгромоздившийся на вершине холма и перекрывавший доступ наверх.
— Вон там, — сказал он. — Пещера.
Вынутый грунт ссыпался с утеса, как пустая порода из шахты. Справа, над вымоиной, примостился камень с глубокой трещиной, заросшей кустарником и колючками.
— Простое везение, — сказал Агрон. — Вскоре после начала раскопок в земле наблюдались легкие толчки. Для здешних краев — обычное дело. Камни осыпались, и мы обнаружили там пещеру…
Они подобрались ко входу Агрон шел первым, Гольдштауб, пыхтя и отдуваясь, плелся позади. Чтобы попасть внутрь, им пришлось пригнуться, но внутри можно было выпрямиться в полный рост. Туда тянулся кабель от лагерного генератора, и сквозь тьму проклевывался свет шести лампочек. Трое волонтеров работали, ковыряясь в развалинах и пыли, словно брезгливые бродяги в мусорном баке. Их тени, значительно увеличенные, падали на шершавый потолок. Они вряд ли заметили пришедших и продолжали о чем-то перешептываться, словно читая некую загадочную, сокровенную литургию.
— Мы считаем, что римляне обнаружили это место, когда захватили лагерь, — пояснил Агрон. — Конкретных доказательств у нас нет, но это весьма вероятно. Они нашли пещеру, увидели внутри эти кувшины, разбили все вдребезги, разорвали документы и так далее. Кое-что сожгли. А потом убрались восвояси. Вот это мы и откапываем последние несколько месяцев. Одни лишь фрагменты.
— А свиток?
Афон улыбнулся. Настал его звездный час. Благодаря этому он займет почетное место в зале славы для археологов.
— Вон там. Он был спрятан, и солдаты, должно быть, не нашли его. Мы тоже не могли найти его целых две недели. А ведь он пролежал там почти две тысячи лет…
Дов провел их к отверстию позади пещеры — узкой расселине в камне, которая являлась проходом в следующую камеру. Им пришлось встать на четвереньки. Лео чувствовал тяжесть камня над собой и вокруг себя; скала давила на него. Постепенно его охватывала паника. «Скала веков, разверзнись для меня, позволь мне укрыться в тебе»,[71] — вспомнилось ему. Но здесь негде было спрятаться; здесь, в безвоздушном чреве земли.
Ползший впереди Агрон неуверенно встал. Внутренняя камера была как раз достаточной высоты, чтобы стоять на полусогнутых ногах, втянув голову в плечи. Над выемкой в каменном полу сидели на корточках двое. Единственный источник света — фонарь — был у них. Свет горел прямо у них под пальцами, как на картинах Караваджо; казалось, он исходил из объекта, который они исследовали. Лео глянул через плечо Агрона. В расселине лежала горстка обломков: изогнутый носик кувшина и бурые глиняные черепки, похожие на размозженную голову. Тщетно пытаясь обуздать панику, Лео постарался сосредоточиться на словах Агрона.
— В определенное время, судя по всему, наблюдалось смещение земной коры. Земля провалилась и разбила кувшин. — Агрон жестами изобразил столкновение черепков. — Папирус мы извлекли практически целиком, а теперь пытаемся выкопать все остальное. Мы думали, нам удастся разобрать имя на папирусе, — сказал он. — Мы предположили, что имя это — Юдас. И, возможно, Симеон. Но здесь никто не знает греческого. Вы же видели папирус. Каковы ваши соображения?
— Вполне возможно.
— И кто же эти люди?
— Это были довольно распространенные имена.
Археологи работали подобно хирургам на месте аварии: оказывали первую помощь, облегчали боль в сломанных костях, а застрявшие в искореженном металле конечности осторожно вынимали. Специальными кисточками они усердно стирали грязь, будто вычищая рану, и выискивали тех, кто сумел выжить в катастрофе времен.
— Что-нибудь еще? — спросил Лео. — Мне хотелось бы вернуться на свежий воздух. — Паника — ощутимая, материальная — скапливалась в груди. Камни давили сверху, обстоятельства же — со всех сторон.
Агрон оглянулся. Черты его лица в тусклом свете фонаря обрели торжественную строгость, стали практически библейскими, чертами пророка.
— Я думал, вам интересно будет осмотреть непосредственное место находки.
— Это все очень интересно, но я бы предпочел уйти отсюда.
Пророк ухмыльнулся.
Это место порой действует на людей подобным образом.
После пещерного мрака солнечный свет ослеплял. Выйдя наружу, Лео испытал огромное облегчение. Обретенная свобода заполнила его тело целиком. Он отряхнулся и посмотрел по сторонам с восторгом человека, только что вернувшегося с того света. Солнце уже стояло в зените, таращась злокозненным глазом сквозь тонкий ажур облаков. Температура повышалась. По радио блеяла какая-то поп-группа. Пыль летала над развороченной землей, в которой копошились несколько волонтеров. Неужели здесь, подумал Лео, среди этой пылищи и камней, в этом мертвом месте подле мертвого моря, истории христианства придет конец?
— Это же чертовски важно, не так ли? — спросил Агрон, выходя из пещеры следом за ним. — Они бы не притащили вас за тридевять земель, если бы это не было важно. — Внешний вид его выдавал беспокойство, как будто существовала вероятность, что все эти раскопки — сущий пустяк. Лео кивнул и похлопал его по плечу; прежде он никогда не позволил бы себе столь фамильярного, компанейского жеста.
— Это важно, — заверил он. — Очень важно.
Лист лежал в кабинете Всемирного библейского центра, спеленатый ярким, но мягким светом; вид он имел вполне безобидный. Лео снова сел за стол и попробовал еще раз изучить папирус трезво, непредвзято. Какая-то часть его раздробленной личности даже начала формулировать комментарий к тексту, а именно — толковать слово nazir. Nazir, nazaraios, netser, blastos. Корень, побег, росток; а также ело Nazarene, всегда волновавшее ученых. Академические спор словно искушали его разум.
— Это наверняка пропаганда, — сказал он. — О других вариантах даже думать не стоит.
— А ты подумай, — ответил ему Кэлдер.
— Над чем? Что это может быть оригинал? Евангелие от Иуды?
— Если угодно.
— Абсурд.
— Ты отрицаешь эту возможность? На каком основании?
— На основании здравого смысла.
Кэлдер обдумал понятие «здравый смысл», словно это была улика в запутанном деле.
— И все?
Лео в самом деле отчаялся.
— Здравый смысл — довольно веский аргумент. Тебе не хуже моего известно, что существуют десятки апокрифов.[72] Евангелие от Марии, Деяния Пилата — все это обычные религиозные трактаты, не более. Думаю, это еще один подобный трактат, написанный с весьма отличной точки зрения. Нам следует придерживаться этой версии. Мы же не хотим нарубить дров, а потом выглядеть полными идиотами?
— А как же наша датировка? Как же место обнаружения? Ты сам его видел. Не убеждает?
Лео только пожал плечами.
— Даже если бы датировка была точной, что бы это изменило? В первом веке было множество причин для написания антихристианского трактата.
— А содержание? Вопрос родственных связей? — Кэлдера на мякине не проведешь. Конечно, он часто работал на публику и отличался повадками дельца, но дураком его назвать язык не поворачивался. Разговор их напоминал допрос обвинителя: продуманные, важные вопросы чередовались с ничего не значащей чепухой. Также Стива Кэлдера можно было сравнить с солдатом, который аккуратно зондирует почву на минном поле. — Что скажешь насчет Мариам? — спросил он.
Мариам, Мария. Довольно распространенное имя. Мария Богородица, конечно же. Эту историю знают все: разодевшись в пестрые халаты, завернувшись в простыни и нацепив кучу бижутерии, вся честная компания шастает по коллективной памяти Западного мира. Волхвы. Золото, ладан и мирра. Бык, осел и младенец в яслях. Избиение младенцев. А она — в самом центре внимания, ее серьезное, кроткое лицо занавешено сине-белым капюшоном: Мария Богородица, Дева Мария, Владычица Небесная.
Но Кэлдер, безусловно, знал. Он знал, потому что это было, черт побери, очевидно. Можете говорить о Марии, матери Иисуса, сколько вам заблагорассудится. Можете наряжать ее в синие и золотые покровы, а на голову вешать солнышко. Можете отправить ее на Луну, а из двенадцати звезд составить венец. Но была лишь одна семья, которая сделала то, о чем написано в тексте, лишь одна семья, которая приняла власть над Израилем из рук язычников и была уничтожена Иродом. И это была семья Маккавея, из династии Гасмонея, потомки Иуды бен Маттафия, изгнавшего греков Селевкидов из Израиля во втором веке до нашей эры. И одну из выдающихся женщин этого рода звали Мариам.
Кэлдер сказал это вместо Лео:
— Мариам I, вторая жена Ирода Великого.
Ирод. Это имя прозвучало оглушительно в тишине кабинета. Имя, ставшее нарицательным. Ирод. Ирод Великий, Ирод Эдомит, Ирод — местечковый тиран и полководец, который разыгрывал верную карту, дружил с нужными людьми, угождал нужным людям, убивал нужных людей и наконец, дослужился до царского титула — Царя Иудеи, если быть точными, именно так нарек его римский сенат в 40 году до нашей эры. Сразу после коронации Ирод бросил свою первую жену и женился заново — на Мариам из рода Гасмонея. Это был династический брак. Из семьи Мариам происходили несколько царей и несколько верховных жрецов (в сознании тогдашних иудеев это были фактически равноправные должности). Род Гасмонея все еще обладал той властью, которую Ирод сам никогда бы не сумел заполучить. Однако, если верить Иосифу, со временем он полюбил свою жену.
— Людям свойственно уничтожать то, что они любят, — пробормотал Лео. Он сидел над фрагментами папируса и чувствовал вонь крови, смрад настоящей бойни. Правление Ирода было примером чистой, абсолютной власти, трагедий в духе Елизаветинского театра, где в конце последнего акта вся сцена обычно бывала завалена трупами. Ирод любил Мариам, однако выманил ее родного деда, некогда верховного жреца Гиркана II, из Вавилона, куда тот был сослан, и убил старика. Он любил ее, однако он убил ее дядю. Он любил ее, однако ее младшего брата Ионафана, семнадцатилетнего юношу, только что рукоположенного, личный охранник царя утопил в бассейне иерихонского дворца. Ирод любил царицу Мариам, однако в конечном итоге, обуреваемый ревностью, он убил и ее саму.
— Иисус — сын Ирода? — Кэлдер покачал головой. — Думаю, это уже чересчур, Лео. Даже не знаю, что нам с этим делать.
Лео оторвал взгляд от папируса.
— Это объясняет некоторые новозаветные сюжеты, не правда ли? Приход волхвов. Парфянские послы наносят визит новорожденному наследнику престола. Возможно, Ирод даже увидел ребенка, когда тот появился на свет. Возможно, кто-то выкрал дитя из монарших покоев и спрятал его где-то в деревне. В Вифлееме. А почему бы и нет? Это нисколько не противоречит мессианским предсказаниям.
Логика династического убийства неумолима: вскоре после гибели царицы двух ее сыновей от Ирода удушили гарротой по приказу отца. Год их убийства — 7-й до нашей эры — весьма показателен: примерно тогда же родился человек, известный нам как Иисус из Назарета.
— И когда Ирод услышал об этом, то велел убить всех новорожденных в деревне. Что дошло до нас, посредством Евангелия от Матфея, под названием «избиение младенцев».
— Вроде того, — согласился Лео. Истории сходились, как кусочки мозаики, как фрагменты папируса, выложенные перед ним между двумя стеклами. — Возможно, мы это выясним. Возможно, об этом нам расскажут оставшиеся части свитка.
В тот вечер Гольдштауб отвез Лео в аэропорт. В дороге они спорили о свитке, о том, как именно нужно его расшифровывать, кто должен этим заниматься и как преподнести результаты общественности.
— Дело в том, — сказал Гольдштауб, — что у тебя есть личный интерес, не так ли?
— У всех нас есть личный интерес.
— Конечно. Конечно, есть. Но особенно — у представителей католической церкви. Вы же всегда выдвигали исторические претензии. Ну, достаточно взглянуть на ваш «Символ Веры». У вас он есть, а у иудеев — нет. Там даже упомянут Понтий Пилат. Наглее религии, пожалуй, не сыщешь.
— Это запутанная история — происхождение Никейского «Символа Веры», — сказал Лео. — Скажем так, опровержение гностицизма.[73]
— Да, он есть. Своего рода контракт. Еврея не заставишь подписать контракт, пока он не посмотрит деловому партнеру в глаза. Но христиане, так сказать, поверили на слово. У вас все базируется на истории. — Он взглянул на собеседника. — А если мы докажем, что история — полная чушь?
Дорога резко срывалась вниз, петляя среди теснин, ведущих к Святому городу. Слева показался траппистский монастырь Латрун, выглядевший умиротворенным в лучах солнца. На холме за монастырем покоились руины замка крестоносцев, Торон де Шевалье. Название «Латрун» — это искаженное «Эль Торон», но раньше считали, что оно происходит от слова latro, что значит «вор»; этот Латрун был домом «хорошего» вора, распятого вместе с Иисусом Христом.
Лео молчал. Он думал о вере, он думал о сомнениях; он думал о предназначении, он думал о Мэделин. Возможно, Гольдштауб читал его мысли, он вполне мог быть наделен этим даром. Прощаясь в аэропорту, он пожал Лео руку и сказал, чтобы тот передавал привет ей и Джеку.
— Ты же с ней увидишься, верно? Вы часто видитесь, я не ошибаюсь?
— Да, — опасливо ответил Лео. — Нередко.
— Будь осторожнее.
Лео подавил в себе абсурдное желание рассказать Гольдштаубу обо всем, поборол нелепый соблазн исповедаться.
— Это нелегко, — признался он.
Гольдштауб кивнул.
— Всем сейчас нелегко.
Самолет оттолкнулся от взлетной полосы и взмыл ввысь, над офисными комплексами и гостиницами Тель-Авива. Он пролетел над охристой каймой береговой линии и голубым лоскутом моря, прорвал сверкающий атлас неба и унесся прочь от Святой земли, прочь от недоверчивого шепота Евангелия от Иуды.
Лео думал о Мэделин, думал об Иуде, думал о вере в сакральном и бытовом смыслах, думал о сомнениях и скептицизме. В журнале авиалинии была статья о свитках Мертвого моря. Имелись также глянцевые снимки Книжной Святыни и обычные кадры развалин Кумрана. «Монастырь эссенской секты», — гласила подпись, а текст соглашался попадая в ловушку наивности и невежества, расставленную старым козлом Роланом де Во много лет назад, когда государство Израиль фактически не существовало и бесценный свиток можно было купить за двадцать пять фунтов стерлингов. Также в статье говорилось о первых находках археологов в Эн-Море: «Район Мертвого моря продолжает раскрывать глубокие истины нашего религиозного прошлого», — писал журналист.
Лео беспокойно дремал, то и дело резко сбрасывая с себя сон, который улетучивался из памяти при попытках его восстановить. В этом сне присутствовала Мэделин: она признавалась в любви к нему в каком-то общественном месте на глазах у хохочущих Гольдштауба и Кэлдера. Иногда и Лео и Мэделин оказывались голыми, но, хотя они сами стыдились своей наготы, свидетели происходящего, похоже, вовсе не смущались. Джек тоже там был — наблюдал издалека отстраненный и циничный.
Чтобы отвлечься, Лео уставился в иллюминатор и увидел с высоты в тридцать тысяч футов остров, напоминавший фрагмент папируса на синей скатерти. Крит. Крыло самолета повторяло изгиб южного побережья, как указательный палец, какуаd. Или как палец, что выписал огненными буквами: Mené, тепе tekél upharsin. Ты взвешен на весах и найден очень легким.[74] Это место называлось Калой Лименес, Справедливое Пристанище, последнее укрытие апостола Павла, найденное им почти две тысячи лет назад на пути в Рим — и на пути к гибели. Лео знал Павла. Он был близко знаком с ним, познакомился в самые первые дни в семинарии, делая несмелые шаги на территорию христианских догм. Он познал внутренний мир Павла — мир, полный боли, предрассудков, Поэзии; опасная эта комбинация всегда будоражила мир. Лео знал, какой ужас переживал Павел, извиваясь в конвульсиях в пыли на дороге к Дамаску.
Но Иуду он тоже знал.
Стюардесса подошла к нему и спросила, все ли с ним в порядке и может ли она ему чем-нибудь помочь.
— Все в порядке, — сказал Лео, жестом показывая, что она может идти. — Со мной все в порядке.
Вскоре самолет уже кружил над Римом в ярком вечернем небе. Можно было рассмотреть извилины реки и гигантские купола собора Святого Петра, похожие на мыльные пузыри, только выдутые из камня. Светящиеся улицы расходились от площадей, как лучи от десятков солнц; всюду виднелись церкви — десятки церквей, сотни церквей, более четырехсот церквей. Однако Рим давно уже перестал быть приютом либо оплотом победоносной радости. Хаотичный город, познавший все грехи подлунного мира, перестал быть бастионом, способным смирить натиск сомнений. Со всех сторон набежали вандалы, вандалы разорили город. Теперь это был город вульгарности, шума и язычества, к тому же расположенный у самого вулкана. Такси везло Лео из аэропорта вдоль широкого проспекта, где с напыщенным видом разгуливали в сумерках трансвеститы. Павел называл их malakoi, что в переводе значит «мягкие мужчины». Наряду с содомитами и прелюбодеями они входили в длинный список обреченных: прелюбодеи, идолопоклонники, «мягкие мужчины», содомиты, воры, ростовщики, пьяницы, клеветники и мошенники. Мимо проносились машины, и девушки, мужчины, а также существа, занявшие промежуточную позицию, распахивали пальто, демонстрируя свой товар. Торговались: сколько это будет стоить какова будет цена…
Дворец Цезарей — 1943
— Я тебе кое-что покажу, если ты согласишься пойти со мной.
— Кое-что? А что именно? — Деланное недоверие. Сдавленный смешок. Густой развратный смешок.
— Сюрприз. Но сначала ты должна согласиться.
— Как я могу согласиться, если я не знаю, на что соглашаюсь?
— Придется рискнуть. — Франческо смеется над ней, дразнит, улыбается ей иронично и двусмысленно, будто искушая отказом.
— Хорошо. Я согласна.
На следующий день он ждет в своей «альфа-ромео» у сторожки привратника, в самом начале подъезда к дому. Открыв дверь со стороны пассажира, он кивает ей в знак приветствия, пока она забирается внутрь. Оба чувствуют на себе безразличный взгляд привратника.
— Куда мы едем?
— Это секрет. — Машина с ревом уносится от ворот и сворачивает к Святой Марии Маджоре, затем налево, по улице Национале, к той дороге, которую недавно проложил Муссолини, дабы уничтожить останки Первой Римской империи (той, которая действительно имела силу). Называется она Дорога Форумов Империи. Частных транспортных средств там немного. Катят переполненные автобусы, трамваи, позвякивая, вразвалочку едут по рельсам, стайки велосипедов кружат, точно скворцы, но легковых автомобилей очень мало. Расфуфыренные пассажиры провожают взглядами отважную маленькую машину, за рулем которой сидит красивый мужчина, а рядом с ним — блондинка, придерживающая соломенную шляпу, но позволяющая шелковому шарфу реять на ветру. «Tedeschi», — делают вывод они. Некоторые даже произносят это слово вслух. Немцы. «Puttana tedescal» — выкрикивает парень на велосипеде, когда машина проносится мимо и стремительно огибает Колизей, построенный императором Титом по возвращении с Еврейской войны, а ныне ставший самым крупным и шикарным островом безопасности в мире. Слово «puttana» имеет древнюю этимологию. Корни его восходят к латинскому putidus, что значит «гнилой», «разлагающийся». Puttana — это проститутка.
Машинка проезжает под Аркой Константина, мчит по улице Сан-Грегорио и тормозит у ворот где-то на середине дороги. За воротами виден поросший травой склон с зонтичными соснами. Коричневая кирпичная кладка выглядывает из-за вершины холма.
— Палатин, — говорит Франческо, протягивая ей руку, когда она сходит на тротуар. — Я покажу тебе Палатинский холм, которого ты прежде не видела.
Парк закрыт для посетителей: об этом предупреждает объявление. Но Франческо лишь ухмыляется.
— Всегда следует водить знакомство с нужными людьми, — объясняет он. — В Италии это служит залогом власти и высокого положения в обществе. — С сияющим видом он выуживает из кармана ключ. — Это, mia сага.[75] Гретхен, наш пропуск в рай. — Он отпирает ворота и распахивает створки, пропуская даму вперед. После заходит сам и закрывает ворота на замок. Палатинский холм принадлежит им безраздельно.
Фигуры людей на фоне классического пейзажа: они бродят под портиками, забираются в туннели и выходят наружу, ведомые внезапным светом в конце, переступают через упавшие колонны, играют в прятки, как дети, среди мраморных обломков, позируют за безглавыми статуями, чтобы настоящая, человеческая голова, с черепом и всеми прилегающими тканями, заняла место исчезнувшего мраморного императора или украденной мародерами мраморной императрицы. Их смех рикошетом отлетает от кирпичных стен и в виде издевательского эха возвращается к ним…
— Скажи, каково это… — просит он, когда они задумчиво рассматривают статую Венеры, по колено утопающую в траве. Венера точно подзывает их своей культей. Лицо ее частично уничтоженное временем, по-прежнему хранит черты удивительного целомудрия. Бедра ее плотно сжаты скрывая безволосые гениталии, чтобы никто из смотрящих не смог ничего увидеть.
— Каково это — что?
— Быть женщиной.
Она смеется.
— Как может женщина объяснить это мужчине?
— Скажи, что ты чувствуешь, когда занимаешься любовью.
— Не глупи.
— Или когда рожаешь ребенка.
— Боль я чувствую. Что за идиотские вопросы!
— Я хочу понять тебя.
— Мужчины не могут понять женщин.
— Итальянские мужчины — могут. Немецкие, наверно, нет, а итальянцы — могут.
— Немецкие мужчины ничем не отличаются от итальянских.
— Очень даже отличаются. Немецкие убивают детей.
— Неправда! — Она повышает голос. Призрачная, искалеченная Венера уже не занимает ее. Вдруг ее лицо багровеет от злобы, а нос — тот самый не вполне классический нос — еще больше заостряется и белеет в напряжении. — Ты говоришь омерзительные вещи!
Он с ухмылкой следит за ее реакцией.
— Но это же правда. Они убивают еврейских детей.
— Ложь! Я не позволю тебе говорить подобные гадости! — На мгновение она допускает крамольную мысль о своем муже. Вспыхнувший было спор утихает, но хорошее настроение разрушено, подобно стадиону вокруг них. Она разворачивается и торопливо уходит прочь. Впереди виднеется дыра в стене, рядом — туннель. Он следует за ней во мрак, и на белый свет они тоже выходят вместе.
— Гретхен! — зовет ее он. — Гретхен!..
Она стоит посреди поляны, на клочке пыльной травы, смотрит вверх, затем — по сторонам. Кирпичные стены высятся подобно стенам тюремным, до самого неба, залитого ярким светом, до самых облаков, мчащих вдаль, к этим пуссеновским небесам в белых, пепельных и ультрамариновых хлопьях.
— Где мы? — ее вопрос отскакивает от стен. — Где мы? Где мы? — Бесчувственная эхолалия камня, ибо они прекрасно знают, где находятся в этот день в Риме, в 1943 году, пока дует tramontana,[76] a облака плывут по небу: они находятся в перистиле Дворца Августа. Они бродят по лабиринту, поднимаются по лестницам, которые могли быть построены для Августа Цезаря, входят в заполоненные тенями комнаты, где мог обедать Домициан, где мог играть на скрипке Нерон, где Тит мог возлежать с Вероникой, а после возвращаются в гигантский перистиль.
— А что если…
— Что?
Он снова приободрился и восстановил утраченный азарт.
— Что, если бы ты была императрицей…
— А ты?
— Твоим рабом.
Он смеется и вдруг берет ее за руку.
— Франческо!
— Но если предположить?
— Отпусти меня.
Для них двоих воцаряется тишина; запущенные цветочные клумбы вдавлены ниже уровня плато, словно в глубину времен.
— Скажи, — требует он и поворачивает ее в сторону, лицом к колоннам, что окружают их плотной тенью.
— Отпусти! — Она больше не смеется.
— Говори! Если бы я был твоим рабом…
Как она ни вырывается, они все же погружаются в тени колоннады. Кирпичный свод высится над ними, спертый воздух веков окружает их, двухтысячелетняя пыль лежит у них под ногами.
— Ты знаешь, где мы? Мы находимся в нимфеуме,[77] месте где нимфы играли долгими летними месяцами. А ты — моя нимфа. — Она пытается вырваться, но он лишь усмехается в ответ. — Давай же, говори. Если бы ты была нимфой, а я — твоим рабом… — Остановившись у стены, он привлекает ее к себе, чтобы их тела прижимались от пояса и ниже.
— Франческо! — В ее голосе слышится паника, пускай скрытая; паника пленницы, паника беспомощной заложницы, паника испуганной жертвы.
— Ты притронулась ко мне, — внезапно говорит он. — Когда я был болен и ты меня навещала, ты притронулась ко мне.
Она замирает, неподвижная, точно пойманная птица; единственное движение, которое она себе позволяет, — колыхание груди на вдохе. Дыхание ее сдавлено паническим страхом.
— Я омывала тебя. У тебя была лихорадка. Я делала лишь то, что сделала бы медсестра.
— Ты притронулась ко мне. Том.
Она молчит. Она не отрицает.
— Ты притронулась ко мне, — повторяет он и прижимает ее к себе так сильно, что она вскрикивает.
— Прошу тебя! — Она использует английское «please». Повторяет это слово, но по интонации нельзя понять, искренна ли ее мольба, действительно ли она хочет оттолкнуть его или заклинает продолжать. — Прошу тебя, Чекко. Пожалуйста. — Неужели она и впрямь отодвигает лицо, избегая его губ? Или просто позволяет ему исследовать ее щеки, линию челюсти, шею, локоны у висков, глаза? Ситуация допускает двоякое толкование. — Пожалуйста, — вновь молит она. Сопротивляется ли она, когда он задирает ей юбку, стягивает шелковые чулки и бесстыжие белые подвязки? — Пожалуйста… — опять произносит она. Но руки ее не способны его оттолкнуть, если даже и пытаются. Он стискивает ее, сжимает ее ягодицы руками, припирает к стене, игнорируя вялый протестующий шепот, сдавливает бедра, пока она якобы отбивается от него… Поначалу акт исполнен атлетической грации, которую можно наблюдать у пары танцоров, исполняющих сложный, напряженный современный танец, но под конец зрелище становится весьма смехотворным: его штаны спущены до лодыжек, ее юбка задрана до талии, ее ноги обхватывают его бедра, а трусики разорваны. Все начиналось с волнообразных, изящных движений, с драматического напряжения, а закончилось криками, мычанием и безобразной борьбой двух тел. Гретхен постоянно взывает к своему Богу, и воззвания ее барабанной дробью разносятся по тесному пространству зимнего сада: «О Боже, о Боже, о Боже!» — звук уходит в никуда, поглощенный древней кирпичной кладкой.
Интересно, как часто это случалось здесь, в этих комнатах и коридорах? Сколько здесь было нанесено ударов, сколько прозвучало выкриков, сколько страсти вырвалось наружу?
Кончив, он медленно опускает ее, словно она стала для него непосильной ношей. Она отворачивается, чтобы их взгляды не пересеклись, и тихонько плачет в кружевной платочек, рассеянно натягивая одежду и пытаясь привести себя в порядок.
— Что мы наделали, Чекко? — шепчет она, и употребление множественного числа логично для них обоих. Мы. — О Боже, что же мы наделали?…
Если она надеется услышать утешительный ответ, то напрасно.
— Мы оба хотели этого, вот и все.
— А если кто-то нас видел?
Он, улыбнувшись, касается ее щеки.
— Тут никого нет. Для посетителей вход закрыт. Дворец Цезарей принадлежит только нам.
Неодобрительно качая головой, она приглаживает волосы, отчего короткий рукав платья задирается, позволяя ему увидеть кудряшки в ее подмышечной впадине.
— И что теперь будет?…
Герр Хюбер и его жена сидят в кабинете друг напротив друга. Герр Хюбер — сильный мужчина. Он, похоже, обладает властью над своей супругой, которую сейчас от него отделяет лишь ковер. Это персидский шелковый ковер, на нем вытканы экзотические волнистые узоры, в которых можно разглядеть нечто чувственное и органичное: скорченные конечности и сплетения сухожилий. Лицо, на самом деле лицом не являющееся, смотрит сквозь листву, точно Бахус в саду.
— Где ты была? — резко спрашивает герр Хюбер. Голоса он не повышает. Его голос холоден и остр, как нож. — Куда ты ездила с этим… учителем!
«Альфа-ромео» стоит снаружи, у парадного входа в ослу. Хозяина нигде не видно.
— Франческо возил меня на Палатинский холм. Мы осматривали императорские дворцы.
— Его работа — возить в подобные места Лео, а не тебя.
— Не вижу причин, почему он не может возить туда нас обоих.
— Потому что ты не должна появляться на людях с посторонним мужчиной!
— Я появляюсь на улицах с кем хочу.
— Ты ведешь себя, как маленькая глупая девочка, которая потеряла голову от обычного жиголо.
— Что? — На ее лице аршинными буквами написано возмущение. Как может этот мужчина, который старше ее на двенадцать лет, быть таким бесчувственным, таким нахальным? — Как ты смеешь ставить под сомнение мою честь?. — О, хороший ответ. Красноречивый, чуть архаичный, дабы напомнить о временах прекрасных дам, рыцарей и поединков. Тем паче с подобающим выражением лица: глаза вытаращены от негодования, лицо исполнено возмущения и яростно пылает. Ее губы, на которых нередко играет милейшая улыбка, губы, которые так часто произносят слова восхищения и нежности, кривятся от злобы, как будто их вырезали внизу лица тупым инструментом. — Ради всего святого, в чем ты меня обвиняешь?!
— В том, как он на тебя смотрит.
Смещение акцентов не проходит незамеченным. Дело в нем, а не в ней. Однако черты лица ее нисколько не смягчаются.
— Что ты имеешь в виду? Как ты можешь винить меня за то, как он на меня смотрит?
— Он смотрит на тебя так, как будто…
— Да?
Герр Хюбер с неохотой формулирует мысль:
— Как будто он тебя хочет.
Выражение ее лица меняется постепенно, словно одного неверного движения достаточно, чтобы все мероприятие потерпело крах и обнажило свою уязвимую изнанку. Улыбка рождается из гневного оскала, точно бабочка из заурядной, сухой куколки.
— Он хочет меня?
— Он испытывает к тебе физическое влечение. У него грязные помыслы. Я это вижу.
Она смеется, и притом абсолютно непринужденно.
— Ганси, ты ведь считаешь, что они все меня хотят, не так ли? Твои коллеги, например. Неужели тебе не приходит в голову, что они раздевают меня взглядами, когда смотрят как я играю? Неужели ты этого не понимаешь? Почему же Чекко должен от них отличаться?
— Значит, Чекко?…
— Ой, замолчи. — Теперь она говорит шутливым, добродушным тоном, подтрунивает над ним, как он всегда подтрунивал над ней — с самых первых свиданий в оздоровительных садах Мариенбада. Тогда ей было всего шестнадцать, ему — почти тридцать; он ухаживал за какой-то симпатичной вдовой, а вместо этого завел роман с молоденькой девушкой, которая могла вынудить его исполнить любой ее каприз. — Тебе просто нельзя ревновать, Ганси, неужели ты сам этого не понимаешь? Ревность затуманивает твой разум. Они все меня хотят, они все желают со мной встречаться… но можешь это делать только ты. Ты женился на красивой женщине, вот и все. — Она чуть наклоняет голову, чтобы направить на него тот взгляд, которым она очаровывала его с самого первого дня знакомства: взгляд влекущий, взгляд оскорбленной невинности, немного легкомысленный взгляд. — А теперь, если ты будешь вести себя очень хорошо — только в этом случае, — я позволю тебе поцеловать меня… там.
Два человека на узкой кровати, окутанные полумраком, блестящие от пота — извивающееся переплетение конечностей, живое и светлое, тела-близнецы, удушенные змием созидания; битва этих тел наконец завершена, но победителя в ней нет — лишь двое побежденных, лежащих рядом, подобно уставшим пловцам. Разделенное ими семя сверкает, как жемчуг, на ее волосах и его животе. Теперь они держатся друг за друга лишь пальцами на скомканной подушке.
Ее груди тяжело шлепают об его грудь, когда она к нему поворачивается.
— Я должна идти. Он будет спрашивать, где я была.
— Мы могли бы уехать в Швейцарию.
— Не говори глупостей.
— Мы могли бы быть там уже послезавтра. У одного моего друга есть квартира в Женеве. Я мог бы достать ключ.
— Ты думаешь, я в это поверю? Да и в любом случае, на что мы будем жить?
— Ты могла бы играть.
— На улице?
— Могла бы преподавать.
— А каков будет твой вклад? — Она встает с кровати и идет к умывальнику в углу комнаты. Он наблюдает, как она плещет воду под мышки и моет у себя между ног, наблюдает за движением ее грузных ягодиц, удивляется неправдоподобной неуклюжести ее бедер. — Что мне теперь делать с волосами? — спрашивает она, вытираясь его полотенцем.
— Я мог бы писать мемуары. «Женщины, которых я знал». Ты могла бы помочь мне с техническими деталями.
— Ты несешь полную чушь. — Она натягивает трусики и тончайшую комбинацию в пятнах пота: и то, и другое — подарки, привезенные мужем из Парижа. Глядя в тусклое зеркало, она пытается поправить прическу: расчесывается, убирает пряди с лица, вставляет в волосы шпильки.
— Я люблю тебя, — говорит он.
У нее во рту шпильки.
— Черт, — бормочет она, не в силах совладать с волосами. Она смотрится в зеркало и клянет свои непослушные волосы с оттенком некоторой деловитости. Она чувствует себя вполне естественно, как будто все это было элементом повседневности, даже, в известном смысле, сделкой. Глядя в зеркало и видя там свое безучастное отражение, она задумывается об источнике угрызений совести. — Ты любишь только самого себя, — говорит она ему.
Гретхен в церкви — в немецкой церкви Святой Марии дель Анима, Владычицы душ наших. Мрамор сверкает, лакированное дерево блестит, свечи горят во тьме, как маленькие язычки, язычки Троицы, язычки огня, злые длинные язычки сплетников. Сверху щерится богато, но безвкусно украшенный золоченый свод. Там же, в полумраке, прилеплен двуглавый орел Священной Римской империи.
Гретхен не молится. Она даже не стоит на коленях — просто сидит на задней скамье, вдыхая пропахший фимиамом воздух, и смотрит. На ней неброская одежда серого цвета. Ее волосы — восхитительные золотистые волосы — скромно прикрыты вуалью (черные кружева с золотой окантовкой, своего рода драгоценность). Она смотрит на алтарь вдалеке, на лампадку, горящую рубином в глухой бархатной черноте, на истерзанного Христа. Она смотрит, и глаза ее блестят в приглушенном свете, глаза ее наполняются слезами, заволакиваются ими. Этого вполне достаточно.
— Где ты был? — Ее голос в телефонной трубке, тихий и встревоженный.
— Ты знаешь, где я был. В Иерусалиме.
— Но зачем? К чему эта таинственность. — Свиток. Нашли свиток.
— Так всегда — свиток. Свиток, папирус. Господи, ты не можешь хоть ненадолго отвлечься от этого?
— Это потрясающе. — Слово кажется неуместным и чересчур высокопарным. Свиток — это ведь всего лишь обтрепанный лоскут, кусочек рыхлой сердцевины, исписанный корявыми буквами.
— Потрясающе? Лео, ты понятия не имеешь о настоящих потрясениях. Мы можем увидеться?
Он видел перед собой бездну, он чувствовал, как земля уходит у него из-под ног, точно осыпь на кратере вулкана. Вулкан неуверенно вздрогнул и загромыхал в отдалении.
— Увидеться?
— О Боже мой! Слушай, я не доставлю тебе никаких хлопот, поверь. Но я должна увидеть тебя.
И в некотором смысле, с трудом поддающемся словесному выражению, он тоже должен был ее увидеть. Когда стоишь у края пропасти, рядом с тобой должен быть другой человек. Поэтому они договорились встретиться на нейтральной территории, у неприметного бара на средневековой улочке в центре города, как раз напротив Палаццо Таверна (XIV век). Лео пришел первым и сел за столик на открытой площадке, взяв себе бокал пива и журнал. За небольшой баррикадой из лавровых кустиков в горшках — того ароматного лавра, который англичане называют «bay», языческого лавра, что венчал головы героев, — он сидел, наблюдал и ждал.
Мимо изредка проходили туристы. Минуты тоже проходили одна за другой. Хозяин кафе — апатичный мужчина средних лет с нарочито богемной внешностью — начал разговор об отпуске с девушкой за барной стойкой. С кем же она уйдет отсюда: с ним или со своим парнем? То, что началось как шутка, превратилось в ожесточенный спор.
А потом появилась Мэделин — яркая точеная фигурка в дальнем конце улочки. Она шла к нему по серой, как оружейная сталь, брусчатке. Лео ожидал разочарования в ней: в ее целеустремленной походке, на секунду дрогнувшей, когда каблук застрял между плитами и она едва не упала; в ее манере поведения, нервных смешках, свидетельствовавших о тревоге и неуверенности в себе; в ее внешности — она была бледна и напряжена, как будто улыбку ей приходилось вымучивать; в том, как она убирала непослушную прядь с глаз, в том, как отчаянно она ему улыбалась. Он хотел бы разочароваться, но не мог. Она его напугала, но все-таки не разочаровала.
— Я опоздала, — сказала Мэделин, усаживаясь за столик. — Села на автобус, а эта хреновина сломалась! И нам всем пришлось выйти и сесть на следующий, который, разумеется, был уже полон под завязку, а потом еще этот цыган, который якобы кото-то там обокрал, и Бог знает, что…
— Что ты закажешь?
— Кофе. Хочу выпить кофе. Или неразбавленного джину. Хочу-то я кофе, но нужен мне джин. — Она засмеялась, покачивая головой и приглаживая волосы рукой — это движение было абсолютно, изумительно женским. — Я закажу кофе. Просто чашечку кофе.
Разглагольствования хозяина кафе прервались ровно на столько, сколько нужно для приготовления кофе, после чего возобновились на повышенных тонах, ведь теперь это было состязание за прекрасную даму. Мэделин сделала крохотный глоточек темной жидкости и осторожно вернула чашку на блюдце.
— Я думала, ты меня бросил, — тихо призналась она. — Я думала, что спугнула тебя и ты меня бросил. Знаешь, я бы даже не стала тебя винить. Прости меня, Лео. Прости меня за все. Ну, я ведь могла бы просто молчать. Я должна была молчать. Я должна была заткнуться и продолжать видеться с тобой как с другом семьи, гидом по святыням и все такое. А вместо этого я по-настоящему исповедалась тебе. Это все моя ирландская кровь. Не могу устоять перед соблазном исповедаться священнику… — Скверное настроение быстро сменилось шутливым, и даже хозяин бара и девушка замолчали и уставились на нее. — Прости, — повторила Мэделин. Карикатура на исповедь, пародия на раскаяние. — Прости, прости, прости. Боже, я же обещала себе, что не буду говорить ничего подобного. Я обещала себе, что буду сдержанной, буду держать а в руках, буду заниматься всей этой мелкой суетой, которая свойственна воспитанным женам дипломатов. А теперь смотри на меня. Я плачу. — И, к собственному удивлению, Лес увидел, что Мэделин действительно плачет, что глаза ее блестят, отчего ей пришлось немедленно отвернуться к лавровым кустам: жалкая попытка утаить слезы. — Черт, черт, черт, — прошептала она лавру в горшках. — Черт, черт, черт.
Он хотел притронуться к ней — вот что было неожиданно, физическая простота этой потребности. Он просто хотел притронуться к ней, даже заерзал на стуле, чтобы их колени соприкоснулись, чтобы они оказались поближе, чтобы его рука, покоившаяся на подлокотнике, могла протянуться к ее руке. Мэделин улыбнулась и сжала его руку в ответ, нелепой крепкой хваткой, словно восстанавливая свое спокойствие из разрозненных компонентов.
— Вот, — сказала она. — Так лучше. Гораздо лучше. Почти как взрослый мужчина. — Ее глаза — обычные органы, обычные хрящевые шарики с дешевой зеркальной бижутерией в центре — внимательно осматривали его. — А теперь рассказывай.
— Рассказывать?…
— Об этом чертовом свитке. Если все дело в этом свитке, расскажи мне о нем поподробнее. Ты сказал, что это потрясающе.
Какая же, право слово, ерунда. Перед лицом этой женщины, за этим столиком, на этой узенькой римской улочке, на перекрестке столетий материальной истории вся эта суета вдруг показалась ему абсурдной.
— Это касается жизни Христа.
Мэделин рассмеялась.
— А я думала, история жизни Христа уже написана.
— Это другое. Автор уверяет, что видел все своими глазами.
— Уверяет?
— Я прочел свиток. По крайней мере, пролог. Этого вполне достаточно.
— Достаточно для чего?
— Для того, чтобы пошатнуть устои. Пошатнуть мою веру — и, возможно, вообще Веру как таковую. — Заглавная буква отдалась звоном в ушах. Вера. Вера — это сущность того, на что надеешься, это подтверждение того, чего не видишь. За лавровой завесой, где сновали туристы, а парочка за барной стойкой бурно обсуждала планы на лето, воцарилась тишина. Лео рассматривал кожу Мэделин в россыпи бледных веснушек, этих крохотных, но драгоценных изъянов лица; заглядывал в ее глаза, которые, меняя цвет с зеленого на коричневый, следили за ним с неведомым доселе напряжением, как будто взгляд означал присвоение. А также предложение. И требование кое-чего взамен.
— Это Иуда, — наконец вымолвил Лео. Имя повисло в воздухе между ними с явной угрозой, имя, отягощенное эмоциональным багажом, накопленным за две тысячи лет бесчестья. — Иуда Искариот. В свитке говорится, что автор его — Иуда Искариот. Там упоминается его имя. Отчасти текст написан от первого лица. Автор утверждает, что лично наблюдал распятие. Она нахмурилась.
— Ты серьезно?
— Так утверждает автор.
— Это подлинник?
— Едва ли это можно подделать. Его еще не расшифровали, но… — Он покачал головой. Но что? Его расшифруют. Он его расшифрует. И вся витиеватая, хитроумная христианская доктрина пойдет прахом. В глазах Лео стояли слезы — горькие едкие слезы. — Автор утверждает… — Его голос дрогнул, ибо всякое утверждение было абсурдом, фантастикой. Однако Иуда шептал ему на ухо, и голос его был тих и сдержан, преодолевая столетия веры: «Умер он и не восстал, и я свидетелем разложения его тела…» — Автор утверждает, что он лично видел, как разлагалось тело Христа, что тот не воскрес.
Лео почувствовал прикосновение ее пальцев к тыльной стороне его ладони.
— Бедный Лео, — прошептала Мэделин. Она взяла его руку и прижала к своей щеке, как будто дороже этой руки ничего на свете не было — дороже этой сухой, жилистой кисти, обычного механизма сухожилий, связок и костей — Бедный, беззащитный Лео. — Она поцеловала его ладонь. Он почувствовал, как она прижимается к нему щекой, почувствовал ее телесное присутствие, такое близкое в буквальном смысле, и это показалось ему наиболее чудесным проявлением нежности из всех возможных. — Бедный, бедный Лео наконец-то усвоил единственный урок в своей жизни.
— Какой же?
— А такой, что ничего больше нет. Есть только ты и я, здесь и сейчас. А все прочее — лишь напрасные надежды.
Квартира под самой крышей Дворца Касадеи, Дворца Божьего Дома. Когда они зашли внутрь, она взяла его руку, легко поцеловала в щеку, помогла приготовить чай, который никто, по сути, не хотел пить, и немного поболтала о том о сем — поддержать эту легкомысленную светскую беседу он был не в силах. Могут ли таким образом банальности вторгаться в дела первостепенной важности? Мэделин жаловалась на беспорядок в кухне, на нехватку нормальной бытовой техники и прочее в том же духе. Она собрала волосы, чтобы они не мешали ей работать, а Лео стоял у нее за спиной и созерцал то, чего раньше никогда не видел: потаенную, секретную ложбинку ниже затылка, такую уязвимую между двумя тугими сухожилиями, едва прикрытую тоненькими прядками. Кастрюля с водой закипела, и Мэделин сняла ее с огня.
— Джек вернется только завтра.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Только то, что ты готов услышать. Ну вот. — Она повернулась и вручила ему чашку, словно это-то и было реальностью: этот чай, ее присутствие в его доме, — а все прочее, включая папирусные свитки, веру и супружескую верность, не имело никакого смысла. — Скажи мне, что ты об этом думаешь?
— О чем?
Она взглянула на него из-за кромки своей чашки.
— Не притворяйся глупцом. Об этом, о нас.
Вулкан завибрировал у него под ногами.
— Я в замешательстве. Мне кажется, что все вокруг перестало быть реальным.
Мэделин понимающе кивнула. Возможно, ей, пришедшей из чужого мира сексуальности, это ощущение тоже было знакомо. Возможно, замешательство было одним из симптомов, этапом в истории болезни. Они прихлебывали чай (скорее, для того чтобы удостовериться в его подлинности, чем для удовольствия), а потом, не говоря ни слова, словно все уже давно было отрепетировано, встали из-за стола и пошли в другую комнату — в его спальню, помещение, которое прежде было безжизненным и унылым, как заброшенный чердак.
С улицы доносился шум автомобилей. Две сестры-близняшки с одинаковым именем Мэделин: одна — настоящая, другая — отраженная в зеркале гардероба, — подошли к окну и, наклонившись, закрыли ставни. Внезапно комнату окутал полумрак.
— Ты в порядке? — спросила она, вернувшись к нему. — Лео, все хорошо?
Он ответил утвердительно. Он сказал, что любит ее, что хочет быть здесь, с ней вместе, сказал, что все в порядке. Он говорил это, а она тем временем, улыбаясь, расстегнула пуговицы его рубашки и прижалась лицом к его груди. Он удивился, что его собственное тело, к которому он не привык испытывать ничего, кроме равнодушия, может иметь для нее значение, а она может иметь значение для его тела.
За окном по улице пронесся мотоцикл. Послышались стоны застрявших в пробке машин, рокот автобуса. В полумраке спальни Лео и Мэделин разделись, застенчиво сидя спиной к спине, а потом одновременно повернулись друг к другу, как будто участвовали в некоем устоявшемся ритуале вроде любовной литургии. Сам взгляд в ее сторону казался ересью. Ее грудь была усеяна веснушками. Крупные, грубоватые ее груди были испещрены венами, точно карандашными линиями; на животе виднелись послеродовые растяжки. В одежде она казалась миниатюрной, хрупкой и изящной, словно любовно изготовленный артефакт, предназначенный для восхищения и поклонения; раздевшись же, Мэделин заполнила собой все пространство под скошенной крышей, и плоть ее воссияла в искусственных сумерках. Приблизившись к ней, Лео почувствовал ее запах — запах тела, смешанный с духами, запах воспоминаний и мечты, фантазии и страшного сна, запах его матери, лежавшей рядом, когда он болел, запах маленькой пианистки, цепко державшей его за руку, запах плоти, меха и испражнений, сладкая микстура вожделения и омерзения, смесь всего, о чем он не смел помыслить, а если и смел, то находил тошнотворным. Он слышал ее дыхание, скрежещущее, глухое, в такт сердцебиению; она шептала нелепые, детские словечки, как будто уговаривала разозленного зверя: «Мой лев, мой сильный лев. Я тебя не съем. Не волнуйся. Все будет хорошо». Как будто дыхание ее тела не пугало его, как будто его не ужасала чистота ее кожи и ловкость ее рук. Как будто ее груди, всей своей мягкостью и теплом прижатые к его лицу, не возводили между ними защитную стену теплого материнского запаха.
— Все будет хорошо, — прошептала Мэделин, ложась рядом с ним в жаркой, неподвижной безликости спальни, окруженная гулом уличного транспорта. — Все будет хорошо, все будет хорошо. — Как будто, если просто повторять это заклятие, все действительно могло быть хорошо…
* * *
Она нашла в сумке салфетки и вытерла ими живот. В комнате было жарко и душно. Их хрупкое, мимолетное единение исчезло, и теперь они лежали порознь, липкие от пота и изнывающие от чувства вины. Лео взглянул на ее обнаженное тело подле себя. Мэделин снова стала плотью; на несколько обманчивых секунд она превратилась в нечто иное, нечто неуловимое, неподвластное разуму, а теперь опять стала обычной плотью. Она лежала на спине. Повинуясь силе тяжести, ее груди свисали по бокам. Когда она заговорила, слова ее устремились прямо в потолок:
— Наверное, ты разочарован. Ты ведь разочарован? Спад, разрядка напряжения… Что-то вроде того, да? Подходящие слова…
Сделанного не воротишь, подумал он. Можешь исповедоваться, молить о прощении, каяться в грехах своих, но что сделано, то сделано. Лео вспоминал, как ее маленькие сильные ручки со знанием дела направляли его; как она шептала непристойные проклятия; как усердно, точно многоопытная шлюха, Мэделин двигала бедрами. Все это — необратимо, непоправимо. «Твоя рыба, — прошептала она, хватая его пенис в кулак. — Твоя большая, блестящая рыба». Еще одно словечко из семейного лексикона Брюэров, как пить дать. Несомненно, у Джека есть большая, блестящая рыба. От этой мысли Лео стало страшно и гадко. Рыба, ichthys, pisces, pisser[78] — абсурдная связь слов. Он прожил целую жизнь со словами, с их текстурой, с точностью их значении и важностью смысла. Изувеченная память выдала еще одно словцо — fornication, прелюбодеяние. Сложное слово. Fornix, арка, свод, сводчатый потолок борделя, несомненно, арочный проем между ног, промежность, геральдический крест, на котором нас всех распяли. «Остерегайся блуда, — прошептал ему святой Павел. — Все остальные грехи совершаются за пределами тела, но блудить — значит грешить против собственного тела». Чувство вины, переполнявшее Лео, нашло выражение в жидкостях — в слезах и мерзком извержении тела. «Тело твое — храм Духа Святого. Ты не принадлежишь себе; ты куплен дорогой ценой».
Мэделин целомудренно поцеловала его в щеку.
— Пойду искупаюсь.
Он смотрел, как нелепо она скатывается с постели и топает вразвалочку в сторону двери. Ее бледные, неказистые ягодицы с темной разделительной полосой; ее полная талия и обвисшие ляжки; ее неповторимые движения, которые в тот миг вызывали в нем лишь отвращение.
— Прости, — крикнул он ей вдогонку.
Она обернулась и взглянула на него, лежащего на кровати.
— Забудь. Господи, не переживай ты так! Меньше всего на свете мне нужны твои извинения. — В ее голосе послышались гневные нотки.
— А что же тебе нужно!
Мэделин невесело рассмеялась.
— А Бог его знает. Наверное, мне нужен ты. Тебя это пугает, не правда ли? — Она развернулась и скрылась в ванной, не дожидаясь ответа.
9
На следующее утро зазвонил телефон. Лекции в институте начинались только в одиннадцать, и пока что Лео сидел дома без дела — разве что почитывал статью, которую нужно было рецензировать для вестника «Папирусология сегодня»; он находил утешение в рутине. Телефон издал свойственный ему беспардонный звук, который не терпит отказа, и Лео решил, что это она. Он снял трубку.
— Мэделин?
На том конце провода молчали.
— Это отец Лео Ньюман? — Кристальная ясность интонации, интонации Оксфорда и Кембриджа, интонации непреклонной иерархии. — Я говорю с отцом Лео Ньюманом?
Он ощутил легкое паническое покалывание в районе диафрагмы и закрыл глаза.
— Да, это Лео Ньюман.
— Епископ Квентин хочет поговорить с вами, отец.
От этого голоса Лео бросило в холодный пот — этим удушливо жарким утром. Трубку передали другому человеку, который заговорил уже с интонацией Мэйнута,[79] заговорил весело, деловито и пугающе.
— Лео, дорогой, как вы поживаете? — Они еле нашли его. Они не знали, где он живет. Они беспокоились, волновались, тревожились о своем коллеге, ушедшем на вольные хлеба, беспокоились об одной заблудшей овце больше, чем об остальных девяноста девяти в отаре. — Думаю, нам стоит встретиться и поболтать, Лео, — сказал епископ. — Обсудить кое-что. Я полагаю, это твой долг — как передо мной, так и перед самим собой.
— Я жду звонка из Иерусалима. Не думаю, что мне удастся вырваться.
— А я думаю, что ты обязан это сделать.
В тот же день, пополудни, Мэделин пришла к нему в гости. Утром она звонила, чтобы договориться о времени.
— Джек прилетает сегодня вечером, — сказала она. — Мы можем немного побыть вдвоем.
Но когда она оказалась в квартире, то вела себя суетливо и рассеянно: ее планы были расстроены, Джек возвращался раньше Мэделин позвонила в офис, чтобы проверить информацию, выяснилось, что ее мужу удалось сесть на более ранний рейс, поэтому она не могла оставаться здесь надолго.
— Ах, милый, ты не одинок, и нас обжуливает рок… — казала она, сняв пальто и поставив полную покупок сумку.
— «Обманывает». И нас обманывает рок…[80]
— Педант. Мне придется что-нибудь придумать, если я опоздаю. Дескать, забыла что-то купить… Вот, держи подарок.
Она развернула один из свертков у него на глазах. Внутри оказался чай различных сортов: «Сушонг», «Зеленый порох» и прочие нелепицы.
Мэделин подошла к Лео, обняла и прижалась к его груди.
— Я прощена? — спросила она. Они словно вновь оказались в тесной исповедальне, где она просила отпущения грехов своих.
— А за что мне тебя прощать?
— Вчера я обошлась с тобой жестоко.
— Да ну?
— Это же был первый раз. А в первый раз бывает сложно…
— Неужели? Ты говоришь так, как будто немало повидала на своем веку. — Интересно, подумал Лео, а она хорошо разбирается во всем этом: во внезапных телефонных звонках, в тайных свиданиях, подарках? Досконально ли ей известна эта сторона жизни?
Мэделин застыла, прижавшись к нему, и не смела шелохнуться.
— Ну, несколько раз было. Это тебя шокирует?
— Меня практически ничто не может шокировать, — ответил Лео. — Священники известны своей устойчивостью к шоку. А как поведет себя Джек, если узнает о нас?
— Джек? — Ее как будто удивило это имя. Она подняла глаза, и ее слегка нахмуренный лоб с россыпью бледных веснушек оказался в считанных дюймах от его лица. — Рано или поздно он непременно узнает, ты так не считаешь? Мы же не можем обманывать его вечно. Люди чувствуют подобные вещи. Они догадываются о подобных вещах…
— Правда?
— О да. Святая правда.
— А потом?
Мэделин пожала плечами, высвобождаясь из его объятий, отошла к столу и принялась наводить там порядок, а именно — расставлять принесенные ею же предметы.
— Наверное, проявит чудеса понимания. Ты же знаешь, какой он понимающий. Это отвратительное слово, но Джек и впрямь ужасно милый. Или, можно сказать, порядочный. Очень порядочный, очень культурный, очень британский. Если бы он узнал, то принялся бы, скорее всего, утешать меня.
Глагол «познать», этот странный библейский эвфемизм. Лео познал Мэделин, познал ее запах и вкус, познал, какое несовершенное нагромождение плоти и волос представляло собой ее тело, однако — удивительный факт! — он в то же время осознавал, что отныне не знает таящуюся в этом теле личность. Интимное физическое знание каким-то образом уничтожило то понимание ее натуры, которым он располагал раньше. Что ему было известно о ее супружеской жизни? Что он знал о тайной жизни этих двоих, о той эмоциональной жизни которая управляет браком, о либидо, которое управляет женщиной? Что скрывалось за внешним фасадом? Лео заметил, что акцент Мэделин становится отчетливей, когда она говорит о муже, как будто, вознося ему хвалу, она одновременно отстраняется от его предполагаемой «английскости», его порядочности. К экзотическому аромату чая примешивался пикантный запашок лицемерия.
— Сегодня утром мне звонил Кэлдер, — сказал Лео, намереваясь перейти на более безопасную территорию.
— Кэлдер?
— Те люди в Иерусалиме, они хотят, чтобы я вернулся. Пока что я попросил об отсрочке, но рано или поздно мне придется поехать туда.
— Придется?
— Папирус. Если я хочу быть причастным…
— А ты хочешь?
— Конечно, хочу.
— Значит, ты бросишь меня.
— Не говори глупостей.
Она рассмеялась, пытаясь развеять страх и обратить все в шутку.
— Мне пора уходить. Я позвоню тебе, как только смогу.
Главную новость он держал про запас и выложил только тогда, когда она уже уходила.
— А еще меня вызывают в Лондон, — сказал он. — Завтра. Мэделин остановилась.
— Вызывают?
— Мой епископ зовет меня туда.
— Но они же не могут знать о наших отношениях.
— Мне кажется, они чувствуют, что я сбился с пути истинного.
— И пытаются вернуть тебя…
— Вроде того. Тут также замешан и свиток. Возможно им уже об этом известно.
— Почему бы им не оставить тебя в покое? — В ее глазах заблестели слезы. Ее душевное равновесие явно было нарушено. — Почему они не позволяют тебе сделать свой выбор?
— Они тоже обладают некоторыми правами, тебе не кажется?
— Господи, а это что значит?
— Ничего. Это входит в их обязанности, вот и все. Нельзя винить их за это.
— А меня, значит, винить можно?
— Я никого не виню. Я знал, что рано или поздно это случится, и теперь готов это принять.
— Что ты им скажешь? Что ты скажешь им о нас, если точнее?
— Я не знаю, что я им скажу,
— Когда ты улетаешь?
— Я ведь уже сказал: завтра. В одиннадцать.
— Завтра! Где ты будешь жить?
— У иезуитов на Фарм-стрит. Они благосклонны к отступникам.
— А ты — отступник?
Лео беспомощно замотал головой.
— Не знаю, Мэделин. Я попросту не знаю…
Она задумчиво смотрела на него, нахмурив лоб и покусывая нижнюю губу. Он и сам кусал эту губу и знал вкус ее безапелляционности.
— Лео, — спросила Мэделин, — а ты по-прежнему веришь? — Вопрос был довольно неожиданным — точнее говоря, вопрос шокировал. Их отношения зиждились на шатком фундаменте иллюзии и шутки, а не на содержательных дискуссиях о вопросах веры.
— Верю ли я?…
— В Бога, в Иисуса Христа, во все то, с чем ты до сих пор связан. Ты знаешь, что я имею в виду. Тот свиток. Я. Это не заставило тебя усомниться?
Он пожал плечами.
— Вера не может испариться просто так.
— Да? А со мной произошло именно это. Она испарилась, как вода из высохшего водоема, не оставив после себя ничего кроме грязного дна, и нескольких мутных лужиц, и прелого запаха предрассудков. Помнишь, как я пришла к тебе на исповедь? Так вот, это был последний миг моей веры. Думаю, озеро тогда уже напоминало, скорее, небольшой прудик, но не успело еще деградировать до лужи.
— Значит, я отверг тебя в годину тяжких испытаний?
— Вовсе нет. Благодаря тебе я смогла поверить в нечто новое. А на мой вопрос ты так и не ответил.
— Быть может, потому, что я не знаю ответа.
— Иными словами, не можешь отличить пруд от лужи? — Мэделин засмеялась, но это был ее особый смех — невеселый, прогорклый. — Так больше не может продолжаться, — сказала она. — И ты это знаешь.
— А какой у нас есть выбор?
— О, выбор у нас есть, и еще какой! Ты отрекаешься от сана, я бросаю Джека.
— Ты бы не смогла…
— Конечно, смогла бы. Боюсь, это ты не смог бы.
Лео проигнорировал колкость.
— А как же дети?
— С детьми я могла бы видеться во время каникул. Я все равно вижу их, в основном, во время каникул.
— Как ты можешь так говорить?!
— Это проще простого, Лео, — ответила Мэделин, и акцент ее, прежде едва заметный, усилился из-за прилива эмоций. — Дети — на втором плане. Звучит чудовищно? Но это так. Во главе угла всегда остаешься ты сам, ты и только ты. Вот что означает любовь.
— А я думал, любовь означает самоотречение и самопожертвование.
— Это лишний раз доказывает, в чем состоит твое заблуждение, мой бедный, одураченный глупыш. Любовь — это самое эгоистичное чувство на свете. Вот почему Церковь до сих пор настаивает на целибате. — Она улыбнулась ему и печально покачала головой. — Ты ведь сам не хочешь этого, Лео. Ты не хочешь двигаться дальше.
Лео тяжело вздохнул. Его изумляло, насколько это сложно и каких физических усилий это требует. Он как будто враз утратил всю свою уверенность. Тяжело дыша, он смотрел на нее, а она смотрела на него. И тогда он ощутил, что в некотором смысле новый способ познания этой женщины — как бы абсурдно сие ни звучало — отдалил ее от него, сделал ее менее понятной и родной. Мэделин перестала быть другом соратницей, человеком, с которым он мог поделиться своим восторгом. Она была неизведанной территорией, на которую он вторгся, островом тщеславия и треволнений. У Лео не было никаких ориентиров или отправных точек, ничто не могло послужить ему путеводной нитью в этой чащобе похоти и отвращения. Он понял двуликую природу любви. Он любил Мэделин — и в то же время ненавидел.
— А мы не могли бы сделать шаг назад? — задал Лео нелепый вопрос. — Мы не могли бы вернуться к прежним отношениям?
Но возвращение не представлялось возможным, и ничего исправить было нельзя. Он знал это и без нее. Нельзя очистить память, нельзя распутать хитросплетения жизненного опыта. Нельзя воскресить мертвого припарками. Он отлично это знал — даже тогда, когда она жестоко осмеяла его предложение.
— А ты бы этого хотел?
— Дело не в том, чего бы я хотел, — сказал Лео.
— А в чем же тогда дело?
— В том, кем я являюсь. Возможно, я инвалид. Да, наверное в этом дело. Искалечен долгими годами воздержания. Наверное, какая-то часть меня атрофировалась. С любовью к одному конкретному человеку справиться гораздо сложнее, чем с любовью ко всему человечеству как таковому.
— Но я не думаю, что ты действительно любишь все человечество. Я думаю, ты, скорее, презираешь людей. Я думаю, что за все эти годы ты привык любить одного только Лео Ньюмана, вот в чем беда. И попытка полюбить Мэделин Брюэр для тебя чревата стрессом. — Ее взгляд был ясен и остр, а улыбка повисла на лице так нелепо, что, казалось, могла в любую минуту упасть на пол. — Лео Ньюман, — сказала она, — любишь ли ты меня так, как я люблю тебя? — Ее слова разносились удивительным эхом, словно настоящая ритуальная мантра. Словно Мэделин цитировала строки малопонятной литургии, суть которой была ей недоступна.
— Я не знаю. Я не знаю, как ты меня любишь. Насмешки вроде этой когда-то интриговали его.
— Так было испокон веков. Из-за этого в отношениях между мужчиной и женщиной всегда возникали проблемы. Никто не знает этого и никогда не узнает. Ты просто бредешь себе вдаль, исполненный надежды, и время от времени возникает мимолетная иллюзия, будто ты знаешь, будто вы любите друг друга одинаково и в равной степени. — Мэделин подошла к Лео и, обвив его плечи руками, привстала на цыпочки, чтобы поцеловать в губы — очень нежно и осторожно. — Я могу отвезти тебя завтра, если хочешь.
— Отвезти меня?…
— Да, отвезти тебя. В аэропорт. Неужели я не могу отвезти тебя в аэропорт?
— Можешь, — ответил он. — Да, думаю, можешь.
— Я приеду завтра утром, пораньше.
Она снова поцеловала его. Лео ощутил влажность ее губ, и горечь ее слюны, и откровенную нежность ее языка у себя во рту. А потом она ушла, и ему оставалось лишь слушать цокот ее каблучков по лестнице.
10
Когда она приехала на следующее утро, он едва успел одеться. О ее приходе возвестил лишь скрежет ключа в замке, как будто Мэделин тоже являлась равноправной хозяйкой квартиры. Банальное приветствие. Поцелуй в щеку.
— Ты так рано…
Она пожала плечами.
— Я думала, что приеду как раз вовремя. Приговоренный к смерти должен вставать чуть свет.
— А я — приговоренный?
— Ну, грядет ведь встреча со Священной Инквизицией, не так ли?
— Инквизиция — по крайней мере, то, что от нее осталось, — находится здесь, в Риме. А я просто побеседую со своим епископом.
— Но это же только начало? Начало длительного и сложного процесса. Аутодафе, так ведь это называется?
Мэделин открыла окно и выбралась на балкон. Оказавшись в поле зрения Лео, она точно так же глубоко вдохнула, издала точно такой же восторженный звук, как и в тот раз, когда они впервые узрели этот вид вместе — всего несколько недель назад в привычном исчислении, но это была вечность, световой год, бесконечность в ином измерении. Она стояла у парапета спиной к нему, как пассажир у корабельных перил, что созерцает бурлящий, мятущийся океан. Легкий бриз хватал ее за волосы и играл ими, так что ей пришлось удерживать пряди рукой. Лео разглядел толстые канаты сухожилий под жемчужной кожей ее руки, разглядел тонкие линии вен — голубые, как дым.
— Отсюда можно смотреть сквозь фонарь на соборе Святого Петра, — сказала Мэделин. — Ты не замечал? Можно рассмотреть небо сквозь фонарь.
— Только когда садится солнце. Опускаясь, оно просвечивает сквозь фонарь. Такое наблюдается только пару дней в году.
— Может, это что-нибудь да значит?
— Что? Ради всего святого, что это может значить?
Она, не двигаясь с места, любовалась открывавшимся видом. Возможно, она пыталась представить этот закат за фонарем, когда осколки света очерчивали изящный силуэт, и на эти считанные мгновения камень будто бы пожирало пламя. Затем Мэделин развернулась и оказалась прямо напротив Лео, отделенная от него лишь узкой терракотовой полоской балкона. — У нас уйма времени, — сказала она. — Я специально приехала так рано, неужели ты не понимаешь?
— Специально?
— Не будь таким наивным, — сказала Мэделин и отошла в сторону. А Лео остался, где стоял, окольцованный всем городом. Облака каскадом струились по весеннему небу, скворцы выписывали дивные, спиралевидные арабески в синеве, купола и башни вращались, словно элементы некоего гигантского механизма, детали машины, шестерни и колесики средневекового аппарата. Лео замер. Он слышал приближение звуков нового дня, скрип и лязг этой машины, рев транспорта, людской гомон, чей-то голос на противоположной стороне улицы, слышал, как захлопываются двери. А Мэделин ждала его в комнате.
Когда они приехали в аэропорт, небо уже покрылось ошметками облаков, а на асфальте жирно блестели дождевые капли. На дорогу она почти не смотрела, без умолку тараторя о своих семейных делах и каких-то общеизвестных банальностях, как будто между ними ничего не было, как будто они не познали вместе горечь и сладость запретного плода с дрова познания добра и зла, как будто они никогда не вкушали от ускользающего, одномоментного экстаза. «Джек снов полетит в Лондон на следующей неделе, — болтовня такого рода. — А девочки приедут на каникулы только после этого Сначала на несколько дней поедут к бабушке с дедушкой Это в графстве Суррей. Родители Джека, разумеется».
Но в безликих тенях многоэтажного гаража ее настроение переменилось. Мэделин повернулась к Лео, взяла его за руку Выглядела она глубоко потрясенной и растерянной, словно жертва землетрясения, которая теперь ковыряется в обломках своей разрушенной жизни.
— Я люблю тебя, Лео, — прошептала она, и пальцы ее вцепились в его кисть, будто в той заключалась сама жизнь. Они были ближе, чем в любой исповедальне, забаррикадировавшись от назойливого мира, возведя защитный бастион из собственных мыслей. Мимо проходили пассажиры. В полумраке мелькали автомобили.
— А теперь ты меня любишь? Любишь?
— Конечно, люблю. Разве не видишь?
— Нет, не любишь. Ты даже не понимаешь. Я люблю тебя.
— Конечно, я понимаю.
— Нет, — прошептала она. — Ты ведешь себя так же, как в исповедальне. Ты представления не имеешь… Но я так больше не могу. Ты ничего не говоришь. Ты такой замкнутый. Такой холодный. — Она хихикнула. Это был странный, неуверенный звук, словно внутри у нее что-то надломилось.
— Прости…
Мэделин покачала головой, не веря его словам.
— Не извиняйся. Ради Бога, только не извиняйся.
Они вышли из машины. Молча пошли вдоль плексигласовых туннелей, мимо рекламных щитов с дорогой обувью и флаконами духов самых причудливых, невероятных форм. Мэделин встречала будущее лицом к лицу, будто снежную бурю. Эта отвага ее почти уродовала; ее острые, броские черты лица обезображивала стихия. Лео хотелось бы знать, что она чувствует, какие подводные течения омывают ее решительную сосредоточенность. Прежде ему неведом был этот парадокс — чувство отстраненности, которое влечет за собой близость, подозрение, что наслаждение, разделенное близкими людьми, имело разное значение для этих людей, а в одинаковые слова они вкладывают разный смысл.
Они забрали билет в кассе и несколько минут бесцельно слонялись в толпе. Зал ожидания был таким же просторным и безразличным, как вокзал.
— Ты ведь даже испытываешь облегчение оттого, что должен уехать, правда?
— Не глупи. Это всего на два дня. Даже меньше. Меньше, чем на два дня.
— А что будет, когда ты вернешься?
— Посмотрим.
Она кивнула, словно и сама уже знала ответ. У гейта Мэделин взяла его за руку и привстала на цыпочки, чтобы целомудренно чмокнуть в щеку. Каждый поступок, каждое движение, казалось, наделено ритуальной значимостью, которую Лео даже не мог вообразить. Он отпустил ее руки и, развернувшись, прошел через гейт к паспортному контролю. В аэропорту были введены повышенные меры безопасности. Его спросили, сам ли он собирал свою сумку. Да, сам. Кто-нибудь касался его сумки после того, как он ее закрыл? Нет, никто. Находилась ли сумка длительное время вне поля зрения? Не мог бы он ее открыть?…
Мэделин дала ему фотографию. В то утро она принесла ее с собой в квартиру, и Лео пришлось открыть чемодан, чтобы упаковать этот сувенир. Теперь фотография лежала среди его рубашек и трусов, как напоминание о данном слове; строгий, сдержанный портрет в серебряной рамке. Лео на мгновение обернулся и увидел это же лицо по ту сторону стеклянной перегородки, за рентгеновским аппаратом в другом берегу Стикса. Она помахала ему рукой, словно прощалась с обреченной душой. Потом охранник знаком велел ему проходить дальше, и Лео очутился в зале для отбывающих пассажиров, откуда Мэделин уже не было видно.
На борту самолета, летящего в Лондон, он был серым пятном среди туристов, одинокой серой фигурой в пестроте окружающего мира. Подумать только, он сидел там, зажатый с одной стороны вежливым, улыбчивым японцем, а с другой — американцем средних лет в расстегнутой рубахе и кроссовках «Найк». «Я из Рома, — повторял американец всем встречным. — Можете себе вообразить? Объясняю: из Рома, что в штате Джорджия. Не из того Рима, который в Италии». Представьте себе Лео: он улыбается, соглашается со всем, что тараторит его попутчик, и пытается пропускать его слова мимо ушей. Это поворотная точка его жизни — и даже больше: скорее, настоящий перекресток с множеством вариантов. В Иерусалиме уже распечатывают свиток; в Риме (который в Италии, а не в Джорджии) Мэделин ждет его возвращения; в Лондоне епископ ждет его прибытия. Лео сидит, словно меж двух огней, между священным и нечестивым, между дьяволом и бездной, между прошлым и настоящим. И выглядит он расслабленным и спокойным; можно сказать, держит себя в руках. Внутри него бушует ураган, паника обуяет его; лицо же остается терпеливым лицом церковника. Мысленно Лео сочиняет коротенькую молитву, совсем как дитя, желая проверить, слышит ли кто-нибудь его зов, губы же его, как ни в чем не бывало, расплываются в улыбке в ответ на слова о Роме, штат Джорджия, округ Флойд. Вам не доводилось там бывать, пастор? В мечтах он видит обнаженную Мэделин, распростершуюся перед ним; вслух же он рассыпается в благодарностях перед стюардессой и берет предложенный ею номер «Тайме
Таймс». В глубине души Лео задается вопросом, который терзал его всю жизнь, но над которым он, тем не менее, редко по-настоящему задумывался: существует ли нечто, трансцендентное либо имманентное (его устроило бы и то, и другое), что можно назвать Богом (Dio, Аллахом, Яхве, если уж на то пошло), и, если это нечто существует, не плевать ли ему (Ему?) на духовную и физическую жизнь этой пылинки, летящей туристическим классом в лондонский аэропорт Хитроу? Лео читает свой требник — возможно, в последний раз. Его вопрос остается без ответа, но тело его (какой стыд: ему приходится вертеться в кресле, чтобы не выдать себя) уверенно отвечает на настойчивые грезы о Мэделин, которая существует на отдельном, но неотъемлемом участке его разума и успела уже раздвинуть ноги. Это зрелище шокирует его в воспоминаниях, как некогда шокировало в жаркой, зловонной реальности, ибо Лео даже представить себе не мог, что зрелище окажется именно таким — подобным открытой ране, стигме на теле женщины, ране В окантовке спутавшихся волос. «Священники известны своей устойчивостью к шоку», — однажды сказал он ей. Это была неправда.
Газету, полученную еще на борту, Лео открыл только в электричке по пути из аэропорта. Пролистал ее в поисках чего-нибудь интересного, что могло бы его отвлечь. Обычные статьи, обычные рассказы о затянувшихся попытках мирного урегулирования на Ближнем Востоке, обычные наводнения, обычные политические скандалы. И на одной из страниц приложения обнаружился первый намек на иной тип бедствия, иную катастрофу:
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ ИСТОРИЮ РАСПЯТИЯ
Информации было мало. За словами этими слышался голос Гольдштауба, и его преувеличения смешивались с его же увертками. «Пока продолжается кропотливая работа над расшифровкой свитка, — гласили последние строки статьи, — церковные источники не проявляют особого интереса к утверждениям, которые могут противоречить каноническим Евангелиям».
По всей вероятности, Евангелие от Иуды стало достоянием общественности. Именно так выразился бы Гольдштауб.
Беседа Лео с епископом на первый взгляд казалась учтивой и сдержанной, но подводные течения омывали ее сарказмом и страхом.
— Ты уже читал статью во вчерашнем «Тайме
Таймс»? — спросил епископ.
— Читал. На Фарм-стрит только и разговоров что об этой статье.
— Они называют его «Евангелие от Иуды». Ты ведь имеешь отношение к этой истории?
— Я ездил туда, чтобы взглянуть на свиток, — признался Лео.
— И что ты думаешь по этому поводу?
— Он относится к очень раннему периоду — возможно, к первому веку.
— Ну, вообще-то, как и все Евангелия… Почему мы должны верить этому Евангелию больше? Евангелию от Иуды. Я спрашиваю у тебя: эти притязания — справедливы?
Лео пожал плечами.
— Выглядит довольно убедительно. Епископ покачал головой.
— Дела обстоят не лучшим образом и без священников, ставящих под сомнение всю историю христианства. Знаешь, что я думаю? Что шумиха вскоре утихнет, а ты будешь выглядеть полным кретином.
Обвинение покоробило Лео.
— Это одна из самых важных находок за всю историю изучения Нового Завета. Чем бы свиток ни оказался в конечном итоге, даже если это — пропаганда первого века, это все равно сенсация.
— А если нет?
— То есть?
Епископ внезапно дал волю гневу — и, вместе с тем, явному испугу.
— О Господи, Лео! Если это действительно относится к первому веку, но является тем, чем притворяется — личным свидетельством, описанием жизни Иисуса устами современника, вычеркнутого из евангельской традиции. Что тогда?
— Тогда Церкви придется объяснить очень многое.
Епископ покачал головой.
— Не следует изучать Веру столь подробно, Лео. Дело не в том, что Вера — ложна, даже, если угодно, в фактическом смысле. Однако научными методами ее гармонию не проверить. Галлюцинация одного человека — преображение другого. Кто наделен правом определять, какое свидетельство истинно? — Он натужно улыбнулся. Епископ был человек веселый, общительный, пользующийся популярностью у журналистов, которые всегда могли рассчитывать на добрую порцию здравого смысла. — И кто поверит в твою версию?
— Что вы имеете в виду?
— О тебе говорят, ты это знаешь? Помимо истории с Иудой. И разговоры эти непременно повлияют на степень доверия к тебе.
— Говорят, значит?…
— Ты ведь переехал из здания Института, не так ли?
— А это противоречит церковным канонам?
— Конечно же, нет. Не заводись понапрасну. Но люди говорят о своеобразной дружбе. А своеобразная дружба — это очень опасно, Лео. Ты это знаешь. Пара англичан. Дипломат и его жена.
Разумеется, Лео этого ожидал, но лицо его все равно покраснело.
— О Господи!
— Должен сказать тебе, слава этой парочки летит впереди них.
— Слава этой парочки? Брюэры — уважаемая чета. Миссис Брюэр — католичка.
— Как я понимаю, была католичкой. Я не вижу в этом ничего дурного. Половина моего прихода разуверилась в католицизме. Но мне известно, что, когда они жили в Вашингтоне, она была вовлечена в…
— Вам должно быть стыдно! — Ярость. Скорее, эмоционального, чем умственного происхождения: ярость наподобие опухоли под диафрагмой, опухоли, которая пускает метастазы по всему телу.
— Разумеется, это лишь слухи. Но все же. В Министерстве иностранных дел были личности…
— Как вы можете ввязываться в подобную мерзость?
— …которые были заинтересованы в переведении ее мужа…
— Я люблю ее, — сказал Лео. Он произнес это спокойно, но ярость клокотала прямо под тонким слоем спокойствия. — Вы говорите о женщине, которую я люблю.
Епископ замолчал. Из соседней комнаты доносился цокот клавиатуры.
— Лео, я настоятельно рекомендую тебе хорошенько отдохнуть, — наконец вымолвил он. — Ради сохранения твоего душевного равновесия. Возможно, трапписты[81]… — Нет.
— Или бенедиктинцы,[82] если ты предпочитаешь менее требовательное окружение. Тебе необходимо место, где не будет споров и дебатов, а будет лишь незыблемая уверенность в Господней правде. Тебе нужно время для раздумий. Если хочешь, я свяжусь со своим старым приятелем из Субиако…
— Нет.
Епископ беспомощно развел руками. Он обвел взглядом свою унылую холостяцкую комнату, как будто надеялся обнаружить там нечто утешительное.
— Ну, по крайней мере, не мальчики-хористы. Этого я бы не вынес.
Разговор продолжился, и двое мужчин сцепились из-за любви и веры, как два пса из-за одной кости. Речь шла об отстранении от должности, о секуляризации[83] и отступничестве.
— Быть может, нам стоит вместе помолиться, — наконец предложил епископ. Казалось, молитва — это признак отчаяния, последняя соломинка для утопающих.
Из квартиры епископа Лео отправился в собор. Он проходил мимо объявлений, призывающих пожертвовать деньги на уход за помещением, мимо расписания служб, мимо афиш концертов духовной музыки, мимо этажерки с книгами и буклетами, мимо термометра, показывавшего успехи в сборе средств. В фиолетовый полумрак здания Лео погрузился, ощущая легкий запах фимиама, мистический и таинственный. В соборе были люди: несколько туристов слонялись туда-сюда, но, в основном, это были прихожане — те сидели на лавках или молились, встав на колени, отдавая себя в распоряжение изломанной, пронзенной фигуре, что висела над ними. Кто-то заиграл на органе. Звук взмыл к темному углублению свода, будто проникая сквозь костяк здания и заставляя собор исторгнуть негодующий вопль. Лео чувствовал, что многому приходит конец: его вере, его призванию, его несвободе. Сила молитвы была исчерпана. И сейчас он стоял в конце центрального нефа, глядя на гигантскую фигуру распятого Христа, и сейчас он был Иудой. Лео знал боль предательства, знал, насколько она необходима и неизбежна. Предательство уходило корнями в веру, оно было ее принудительным продолжением. Предательство уходило корнями в веру, в убеждения, черпало оттуда уверенность в своей правоте.
На улице лил дождь. Лео пересек небольшую площадь перед собором и вдруг ощутил весь ужас внезапной свободы. Сквозь пелену дождя пронеслось такси. Он поднял руку, и, как ни странно, машина остановилась. Водитель одним молниеносным движением включил счетчик.
— Куда едем, папаша? Вернее, отец, не так ли? Куда, отец? Быстренько смотаемся на небеса и обратно?
— Фарм-стрит, — сказал Лео. — Иезуитская община.
— Иезуиты, значит? Ну, это рукой подать…
Пикник — 1943
Пикник. Герр Хюбер называет это eine landpartie, но Гретхен настаивает на английском слове «picnic». Пикник с друзьями, случайными приятелями, заведенными благодаря тяготам и лишениям войны или благодаря дипломатии, пикник с мужчинами и женщинами, собравшимися вместе волею судьбы. Пикник в амфитеатре Сури, в северном пригороде Рима, прекрасном местечке, окруженном падубами, подступы к которому охраняет сосновая аллея; из всех настоящих римских деревень эта campagna самая укромная и притягательная, набухшая отзвуками этрусского прошлого. Этот пикник — легкое напоминание о тех далеких временах, когда они ездили на пикники в лес у Бухловского замка. Небольшое развлечение для Гретхен и Лео. Приглашены также Юта и Иозеф, прелестные фон Кленце и, разумеется, Чекко (чтобы она могла ощущать на себе его пристальный взгляд). Сидя на коврике, расстеленном слугами на ступени амфитеатра, она даже специально приподнимает колени: пусть видит, что у нее под юбкой. Всего один промельк запретной, скрытой шелковистой кожи, не более. Этого хватит, чтобы вывести его из равновесия, пока он сидит перед ней и пытается справиться — без особого, впрочем, успеха — с тарелкой, ножом, вилкой и недвусмысленной выпуклостью в районе ширинки.
— Вы в порядке, синьор Франческо? — издевательским тоном спрашивает она. Его бросает в жар, ему до ужаса неловко, однако он отвечает, что у него все в полном порядке. — Вам что-то причиняет неудобство?
— Отнюдь, фрау Хюбер.
Обсуждают вино. Едят prosciutto crudo с фигами, и герр Хюбер приходит к выводу, что этот сорт ветчины не сравнить с венским окороком.
— Лично я предпочитаю пражскую ветчину, — говорит кто-то. Это Йозеф, который познакомился с Ютой в 1938 году в Богемии, в те давние времена, когда государство Чехословакия еще существовало, а сам он служил в посольстве в Праге. Он нередко вспоминает этот город пражское пиво и особенности тамошней кухни, но его размышления на предмет пражской ветчины, которой потчевали самого фюрера в памятный день визига в 1939 году, прерывает внезапный назойливый звук — голубую ткань небес будто разрывают на части. Отдыхающие застывают, не донеся вилки до рта. Затем поднимают глаза.
— Какого черта?
Что-то темное, с серебристым отливом, что-то несуразное, крестовидное, оглушительное, проносится у них над головами со стороны падубовой посадки и с ревом перелетает через дорогу, едва не задевая верхушки зонтичных сосен. Кажется, что небу больно от подобного вторжения.
— Amerikaner! — восхищенно кричит Лео, вскакивает и бежит ко входу в театр, словно надеясь догнать гигантскую темную машину.
— Вздор, — заявляет Йозеф. — Люфтваффе! «Мессершмидт».
— Лео! — вопит Гретхен. Она вскакивает и бежит за ребенком. Шум теперь доносится издалека, сотрясая своим грохотом погожий весенний день.
— Американец, — соглашается один из гостей, и герр Хюбер читает лекцию, адресованную, в первую очередь, синьору Франческо и посвященную тому, что, позволив американцам вторгнуться в Европу, война достигла пика своего трагизма, и ничего уже не будет, как прежде, что бы ни произошло. А происходит следующее: рев крестообразной штуковины снова приближается, собравшиеся на пикник люди замирают, как завороженные, у входа в амфитеатр, Гретхен продолжает звать сына, а герру Хюберу не терпится подробнее изложить свои аргументы.
Машина вновь появляется в небе, на бреющем полете мчит над верхушками сосен, теперь напоминая очертаниями уже не заурядный крест, а опухшую физиономию с распахнутыми объятиями. Ярость машины направлена на весь этот погожий весенний денек и, конкретно, на людей, собравшихся отдохнуть на дерновой площадке внизу. Слышится жуткий гул, металл отчаянно завывает, с каменных рядов амфитеатра взметается пыль, в воздухе остро пахнет серой. В следующий миг самолет исчезает — и воцаряется тишь.
Диспозиция пикника такова: герр Хюбер встает с травы (шляпа слетела и валяется в отдалении, но его лысая маковка не пострадала), отряхивается, как будто его попросту забрызгал грязью проезжавший мимо автомобиль. Юта тихонько плачет, Йозеф вполголоса чертыхается, как будто с помощью ругани может утешить жену. А Грета выбегает к проезжей части, продолжая кричать: «Лео? Лео?» — с легким раздражением, словно она играет в прятки и, порядком устав от поисков, готова уступить выигрыш мальчугану.
— Черт побери, они задели «мерседес»! — орет фон Кленце, отправляясь оценивать урон. Он поравнялся с Гретхен, когда та выбежала из ворот. В этот миг она застывает на месте, словно ожидая немедленного разрушения всего мира. Мир должен разрушиться так же, как «мерседес», подвески и колеса которого сплющились. Как Лео, превратившийся в одну нелепую труду плоти. Лицо его уткнулось в грязь, одна рука заломлена за спину, вывихнутые ноги вытянуты, а траву вокруг тела пропитывает темная лужа.
Когда мать подбегает к нему, он еще шевелится. Тем страшнее. Самое страшное — это надежда. Уж лучше иметь дело со свершившимся фактом, с некой определенностью, с безжалостной рукой непредсказуемой судьбы. Надежда разрушает все.
Но вскоре Лео перестает двигаться. К тому моменту Грета уже выпачкалась в его крови с головы до пят. Хладнокровно, пребывая в отрешенном спокойствии, она пыталась выпрямить его правое плечо и испачкалась с головы до пят кровью собственного ребенка. Потом платье придется выбросить — вместе с великим множеством прочих вещей.
Магда — настоящее время
— Твоя семья? — спрашивает меня Магда, как когда-то спрашивала Мэделин.
— Моя семья была похожа на твою, только меньше. Мы жили вдвоем с матерью.
— Без отца?
— Без отца.
— Мой отец был большой, все время пил. Может, тебе было лучше без отца.
— Может быть. — Я наблюдаю, как она работает над своими картинами, смотрю, как заостряются ее размашистые черты лица, как черный рот собирается складками синхронно с появлением новых мазков, словно линии на холсте выводят ее губы, а не руки. Магда пишет акриловыми и масляными красками. Иногда она использует дополнительные материалы — например, песок, примешанный к краске с целью создания грубой, абразивной текстуры. — А еще у меня был брат.
— Брат? Но ты же сказал, что вы жили вдвоем с матерью. Я качаю головой.
— Мой брат всегда был рядом.
Сегодня мы с Магдой ездили в мертвый город. Мертвый город расположен в низине под базиликой Сан-Лоренцо fuori le Mura, Святого Лаврентия За Стенами. В этом месте за стенами, за оградой, где римляне хоронили своих мертвецов, однажды знойным августовским днем 258 года погребли обожженное тело святого Лаврентия. Я отлично понимаю святого Лаврентия, мученика, познавшего адское пламя, прежде чем вознестись к небесам. Власти не бросали его в ров ко львам, ничего подобного. Его не пронзали копьями, не распинали, не делали ничего в этом духе. Его просто привязали к рашперу и зажарили. В день его гибели небо плачет метеоритным дождем — le lacrime ai San Lorenzo, «слезы святого Лаврентия», вот как это называют. Но я ощущаю лишь жар пламени.
У мертвого города есть свои законы и свой устав. Машины торжественно проплывают по обсаженным деревьями проспектам. Такси застывают у бордюров, ожидая платы (счетчики тем временем продолжают крутиться). Люди ходят по улицам, точно призраки, порхают меж кипарисов и сосен с охапками цветов — а именно хризантем, цветов покойников.
Мертвый город разбит на кварталы, районы и зоны, названные по религиозной принадлежности обитателей: евангелический квартал, мусульманский район, еврейское гетто. Имеется там и территория военных с казармами, плацем и множеством памятников. Есть зоны, где покоятся богачи, есть просторные виллы для буржуа и многоквартирные дома для бедноты, где лестницы ведут к стеклянным дверям, а лифты отвозят жильцов на верхние этажи. В городе мертвых есть водопровод и электричество, и всю ночь там горит свет — на случай, если кто-то из горожан проснется и не увидит ни зги.
— Зачем мы сюда приехали? — спросила Магда, хотя вовсе не нуждалась в уважительной причине. Разумеется, она была облачена в траурно-черный наряд: черные джинсы, черная куртка, нелепые черные туфли наподобие армейских ботинок. У ворот города она перекрестилась и прошествовала вместе со мной со скорбным видом плакальщицы. Она — художница, она может по достоинству оценить подобные места. Это место вновь оживет посредством ее перьевой ручки и чернил, кисти и красок: мертвецы пробудятся и сдвинут пальцами гнет мраморных плит. Они выскочат из могил и саркофагов и наконец предстанут перед судом— истории ли, Бога, кого угодно, кто окажется в нужном месте в нужное время.
Сложно предугадать, кого встретишь в подобном мертвом городе. В глубине души я ожидал встретить там, среди мрамора и известкового туфа, свою мать. Думал, что столкнусь с ней на тротуаре, как сталкиваешься со знакомыми на улице. «О Боже мой. Вот это встреча!»
Как бы она, интересно, выглядела? Старой, какой я ее помню? Или оказалась бы бесплотной тенью той молодой женщины, что некогда меня зачала? Какой вид имеют мертвецы, когда они восстают, повинуясь последнему трубному гласу? В каком обличье они пребывают вовек: в расцвете молодости или в глубокой старости, пораженные синдромом Альцгеймера? В этом-то и заключается проблема с телесным воскрешением, верно? Будет ли это дитя или взрослый человек, юный грешник или кающийся старик — кто получит шанс покинуть свою гробницу?
Но, разумеется, риска встретить мать не существовало. Она покоится на кладбище Святой Марии, в Кенсал Грин, где я лично участвовал в предании ее тела баюкающей священной земле. «Я есмь воскресение и жизнь: верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».[84] Она хотела, чтобы заупокойную мессу отслужили на латыни; ничего удивительного. Это было включено в дополнение к ее завещанию, наряду с некоторыми деталями ее банковского счета в Женеве и распоряжениями относительно квартиры: «Я хочу, чтобы на моих похоронах мессу отслужили на латыни».
Ego sum resurrectio et vita…
Или, возможно, мы встретим Мэделин, и она будет шагать своей размашистой, уверенной походкой, словно куда то спешит и уже немного опаздывает. Она бы остановилась изумлении, увидев нас вдвоем, но изумление мигом преобразилось бы в ироничную усмешку: «Что ты здесь делаешь?! Господи Боже, а это кто?!» Магду она бы смерила глубокомысленным взглядом, как будто сразу поняла, что к чему.
— Это Магда. Практически твоя тезка.
— Да неужели? А больше у нас ничего общего нет?
Вот видите, даже в мертвом городе можно шутить. Хотите еще одну шутку? Читайте гравировку на могильном камне:
Angelica Tomassini, Vedova Contenta.
Вы поняли юмор? А с какой стати я должен объяснять соль шутки? Я не объясняю причины своего несчастья, так почему же я должен объяснять свои шутки? И разве шутка не теряет смысл, когда ее объясняют? Впрочем, я вынужден объясниться перед Магдой.
— Приблизительно, — сказал я ей, — это означает: Анжелика Томассини, Счастливая Вдова.
Магда хмурится. Так она хмурится всякий раз, когда сталкивается с лингвистическими трудностями.
— Приблизительно?
Очередной урок, один из многих уроков, которые мертвецы преподносят сами себе.
— Примерно. Надпись означает примерно следующее: Счастливая Вдова.
— Значит, она была счастлива, когда ее муж умер?
— Так здесь написано, но, полагаю, имелось в виду нечто другое. Ее муж носил фамилию Контента. Когда они поженились, она тоже стала Контента. Она была вдовой Контента.
Магда обмозговала мои слова и рассмеялась, хотя было уже слишком поздно. Разумеется, Мэделин заметила бы шутку первой. Она бы показала надпись мне и довела бы шутку до логического завершения: «Не сомневаюсь, — сказала бы она. — Уж эта старая грымза наверняка счастлива!»
Но в остальном мертвый город едва ли может похвастать хорошим чувством юмора. Разве что лифт, предназначенный исключительно для перевозки гробов, заслуживает, пожалуй, сдержанного смешка. Двери склепов, изготовленные из анодированного алюминия и напоминающие двери и окна вульгарных современных построек, вызывают кривую усмешку. Но:
Quello che sietefummo. Quello che siamo sarete. —это не шутка. Мы обнаружили эту надпись на одном из мемориалов, и она показалась мне абсолютно справедливой: «Кто вы есть, теми мы были; кто мы есть, теми вы станете».
Или же надпись «MorsUltimaRatio», вырезанная над порталами свода, построенного в модернистском стиле Ле Корбюзье: «Смерть сводит последние счеты». Любопытный факт: в мертвом городе редко встретишь открытую религиозность. Думаю, мертвые сами все знают. Знают истину — и видят фальшь насквозь.
«Помните, люди, что вы суть пыль и в пыль вернетесь». Частью ритуала, которая всегда поражала меня своей бесхитростной честностью, была служба в Дни покаяния. Я очень хорошо помню, как, когда я еще работал в школе через несколько лет после рукоположения, по классам передавали небольшую чашу, полную серого пепла. Насупленные брови и пятна пепла, подобные пигментным, подобные грубым мазкам живописца: «Вы суть пыль и в пыль вернетесь». Возможно, именно в такие моменты священник поистине приближается к своей цели: когда исполняет ритуал художника.
В мертвом городе налажена своя система связей и ассоциаций, известная лишь самим обитателям. Тайные любовницы похоронены за несколько улиц от своих незаконных любовников. Тела ублюдков зарыты вдали от родителей. Цепи, узы, сочленения. Убийцы и убиенные, насильники и их жертвы, пожилые развратники и их катамиты.[85] Враги, похороненные в благочестивой близости, и разлученные друзья. В мертвом городе — одни секреты.
Художница Магда стояла на прогалине между монументами и мемориалами. Перед ней была поросшая травой лужайка, городская площадь, где дети могли бы играть, собаки — гоняться за мячами, а молодые мамаши — выгуливать младенцев в колясках. За спиной у нас промчала по дороге машина, направляясь на юг, к холмам недавно усопших. По тротуару ходили люди с букетами пушистых хризантем.
— Мы пришли, — сказал я ей. Она прошла за мной по гравиевой дорожке между надгробиями и остановилась там же, где и я: перед плитой с надписью «Лео».
— Мы пришли, — повторил я.
«Leo Alois Huber. 1932–1943. Geliebt[86]».
И россыпь свежих цветов, чьи растрепанные желтые головки напоминают кудри, с отпечатанной запиской: «Dal Ambasciata tedesca».
Кожа у нее на лбу морщится.
— Кто это? — спрашивает Магда. — Одиннадцать лет. Кто этот мальчик, которого зовут так же, как и тебя?
А в самом деле, кто?
— Кто этот Лео? — не унимается Магда.
«Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его».[87]
Но я знал.
— Кто он? — повторила Магда. — Кто этот мальчик по имени Лео? — Она в замешательстве, она смущена и, возможно, напугана этим городом мертвых и забытых. Она редко обращала на меня внимание, а когда рисовала, то оставалась безразличной, будто хирург, накладывающий швы. Она редко позволяла себе проявление эмоций. Но тогда ее голос вдруг стал громче и нарушил гробовое молчание, как будто она оплакивала покойника в надежде его воскресить. — Кто этот мальчик по имени Лео?! — возопила она.
Магда пишет. Она работает с акриловыми и масляными красками, работает искусно, проворно и непременно курит за работой, чуть прищурившись, чтобы дым не попадал в глаза. Голову она наклоняет так, чтобы тонкие серые колечки не мешали ей. В краску вдавлены чужеродные элементы: песчинки, кусочки растений, веточки, колючки кактусов (и не любых — она тщательно отбирала их на балконе), зубочистки, похожие на чьи-то кости. Она использует даже мелкую проволочную сетку: скручивает ее и лепит конечности, головы, целых существ, которые потом словно норовят вырваться из плена краски и взлететь. Но никто не улетает. Полет им недоступен. Все творения заточены в ее изощренной фантазии.
Магда сидит на корточках, прислонившись к невысокой стене балкона, и наблюдает, как сохнет краска (она говорит, что акрил сохнет быстро). Попутно она сворачивает самокрутку и безмятежно закуривает, продолжая наблюдать. Мел кие вещи она держит в кожаном кошельке, висящем у нее на шее между скромными грудями под футболкой.
— Хочешь курнуть? — Она улыбается. Ей наплевать, хочу я курнуть с ней или нет. Ей на все наплевать.
Она пишет Лео среди надгробий, Лео среди мемориалов, объятого огнем Леов преддверии ада.
11
В Риме шел дождь, скользкие базальтовые тротуары отражали городские огни. Он расплатился с таксистом. Каморка портье была закрыта, словно рыночная палатка, свернутая на ночь. Он поднялся на лифте на последний этаж и дошел до своей квартиры по лестнице. В ноздри ударил запах ландышей, очень сильный в затхлом воздухе. На столике посреди комнаты стояла ваза с букетом цветов. Наверное, их поставила туда Мэделин. Наверное, пришла в квартиру, пока его не было, отперла дверь своим ключом и оставила цветы, чтобы он порадовался по возвращении. Он вспомнил ее слова: «Этой квартире недостает яркости. Женской руки».
Женщины — ярки; мужчины — серы, как риза священника.
Он улыбнулся цветам, этим безмолвным вестникам. Что за весть они принесли: просьбу? Вопрос? Скорее, это было утверждение. «Пусть цветы говорят за вас».[88] Но что именно она хотела сказать?
Лео наспех умылся и лег спать. Усталость терзала его помыслы, разрушала их внятность, силком тянула в идиотскую пучину снов и ночных кошмаров. В этом кошмаре Мэделин пыталась донести до него что-то, чего он не понимал. Мэделин и Иуда. Кто-то из них верен, кто-то — предатель. Но кто из них кто?
Проснувшись рано утром, Лео первым делом принял душ. Запах ландышей по-прежнему витал в воздухе, но теперь казался немного болезненным — вроде запаха его матери. Старомодный запах, приносящий с собой воспоминания о прошлом, которое, на самом деле, невозможно вспомнить о прошлом, с которым не совладать. За завтраком Лео пытался занять голову размышлениями о предстоящей лекции. Банальные, ординарные мысли должны были прогнать мучивших его демонов. Однако Иуда шептал ему на ухо и голос его был тих и сдержан, преодолевая столетия веры и сомнений:
«…умер он и не восстал, и я сам был свидетелем разложения его тела…»
В голову лезли и другие мысли. Мэделин и ландыши. Мэделин в мансарде под скошенным потолком, шлепающая босыми пятками в ванную, чтобы смыть с тела доказательства любовного акта. Ее будничный тон, ее смиренное принятие того, кем он был и кем не был никогда. Лео выпил кофе, съел немного сыра, обнаруженного в холодильнике, и попытался найти ей место среди путаницы своих мыслей. Голая Мэделин лежит перед ним, ее кожа мягка и тепла, отрицание веры и призвания, хрупкая власть над человечеством…
«Кто наделен правом открыть свиток?» — подумал он.
Записку на столе Лео обнаружил только после трапезы. Дрожащими руками он развернул листок, не зная, чего ожидать, и даже не узнавая ее почерк: совершенно ни к месту он вдруг вспомнил, что никогда раньше не видел ее почерка.
«Дорогой Лео, — гласила записка, — думаю, тебе стоит позвонить мне».
Но подписью было не «Мэделин», даже не «Мэдди» или, как он ожидал, нейтральная буква «М». Нет, письмо было подписано: «Джек».
Жуткая неподвижность. Снова эти слова, с их аккуратной грамматической точностью, с соблюдением дипломатических предосторожностей. Слова, которые только скрывают и не разглашают ровным счетом ничего: «Дорогой Лео, думаю, тебе стоит позвонить мне».
Но он не послушался совета. Телефон стоял на полу, но Лео не поднял трубку. Он спустился по лестнице к воротам палаццо. Ему предстояло столкнуться со множеством трудностей; полная аудитория студентов с самой разной степенью заинтересованности в предмете; женщина, которую он мог любить, а мог и не любить; будущее, в котором он мог оказаться изменником, а мог и не оказаться; муж, который обо всем узнал. Его мир, вполне возможно, мог в любой момент раствориться в небытии. Каждому обломку былого мира — свое время.
Портье сидел в своей каморке. Лицо его в пыльном окне напоминало грязную тряпку, ткань которой выражала одновременно заботу и подозрение. «Синьор Неоман». Бот как он обратился, подчеркивая «новизну» фамилии, ее лексическое значение новости, инновации. Неоман, неочеловек, новый человек. Что ему нужно? Опять что-то насчет электричества? Насчет воды или уборки на лестнице? Что еще?
— Синьор Неоман, произошел несчастный случай. — Портье так и сказал: «несчастный случай». Incidente. Оттенки смысла: accidente, incidente. Лео остановился у знака, который оповещал нетерпеливый внешний мир, что Дворец Касадеи открыт для посетителей с 10 до 13 и с 16 до 17.30 все дни, кроме понедельника. Портье вышел из своей клетушки, за пределами которой Лео, кажется, видел его впервые. Он с удивлением обнаружил, что портье, оказывается, едва доставал ему до груди. Лео даже не знал его настоящего имени: Миммо, все называли его Миммо. — Сюда приезжала полиция, — сказал портье. — Позавчера. Днем, ближе к вечеру. Синьора…
— Да?
— Она упала. Так они считают.
— Упала! — Оступилась на лестнице. Зацепилась за стул, когда ставила ландыши в вазу. Вывихнула лодыжку. Быть может, перелом? Запястья, скажем. Возможно, оступилась и, пытаясь уберечься от ушибов, выставила руку и сломала запястье. Но, Господи, зачем же вызывать полицию?! Скорость у человеческой мысли выдающаяся. Столь же выдающейся можно назвать человеческую неспособность смотреть правде в глаза.
Портье, словно желая утешить Лео, притронулся к его плечу. Это был довольно мрачный тип: за те несколько недель, что Лео знал его, он ни разу не удосужился проявить хоть какую-нибудь эмоцию. Сейчас же в глазах его поблескивали слезы. Он даже сжал руку Лео, как будто желая поддержать его в трудную минуту.
— Она принесла цветы вам в квартиру. Я с ней поздоровался, она улыбнулась и тоже поздоровалась со мной, и в руках у нее был букет цветов. Выглядела она как обычно. Выглядела счастливой, понимаете? А потом она упала.
— Что значит — упала?
Лицо портье приняло скорбное выражение, словно это была его вина, как будто Мэделин упала из-за него — из-за его неосторожности, халатности.
— С крыши. Синьор Неоман, синьора погибла.
Паника. Паника в физическом воплощении, паника агорафоба, паника человека, которого ужасает бездна широкой улицы, человека, который стоит на бордюре и представляет себя на краю утеса, над пропастью, и отчетливо понимает, что весь мир кренится, дабы столкнуть его вниз. Страх как ломота в костях, глубокая и тупая, та боль, которая — и это ясно сразу — останется на долгие месяцы и годы.
Лео выбежал на улицу, не помня себя, как будто искал что-то, однако не помнил, что. Стояли дни сирокко, южного ветра, что приходит из пустыни Сахара с увесистым грузом жары, влаги и песка. Небо укутывало одеяло облаков, толстое теплое одеяло над косыми крышами города. Улочка позади Дворца Касадеи была как бы узким каньоном между вековыми утесами, грозящими вот-вот осыпаться. Одно из внешних ответвлений гетто. За углом небольшого продуктового магазина (или, как гордо провозглашала вывеска, «Минимаркета») не было ничего: ни магазинов, ни баров, ни трактиров. Лишь водосточные трубы, и немые черные двери, и кривая лента брусчатки, похожая на змеиную чешую. Улочка упиралась прямо в Палаццо Касадеи. Вход был перегорожен барьером из оцинкованной стали; голубые буквы потертой таблички гласили: «POLIZIA». Лео оттолкнул ее. В конце улочки громоздились мусорные баки, в трещинах между камнями виднелось что-то черное. К стене был прислонен букетик цветов.
Лео шел дальше. Утомленный Рим покоился под пологом облаков, точно мертвец под саваном. В этом городе происходило все, что только могло произойти. Вполне вероятно, что все это произойдет здесь вновь. Дляэтого города не существовало ничего примечательного. Лео был непримечателен, их жалкие, недоразвитые отношения были непримечательны, в смерти ничего примечательного тоже не было. Он шел куда глаза глядят. Неверным шагом он брел по кускам базальта, спускался между охристыми и янтарными стенами Кампо Марцио, Марсового Поля, где обломки древнего города выглядывали сквозь средневековье, как кости, пронзающие трупную плоть.
Паника — это пережиток язычества, дитя бога Пана, великого и загадочного в своей неприкаянности на фоне олимпийского здравомыслия. Лео обуяла чистая, языческая паника: он задыхался, грудную клетку будто сдавливало тисками. Он чувствовал одновременно обособленность от внешнего мира — и абсолютную перед этим миром беззащитность. Ему казалось, что он должен сейчас находиться в каком-то другом месте. Лео продолжал идти. Часбольше — как там, интересно, неугомонные студенты, заждавшиеся лекции? — он просто шагал вперед. И вдруг остановился у почтового отделения, где стоял ряд телефонных будок. Клочок бумаги с номером лежал у него в кошельке.
По телефону голос Джека казался совершенно спокойным.
— Я не знал, когда ты вернешься, — сказал он. — Где ты был? Мэдди говорила что-то о Лондоне… — Она могла по-прежнему быть там, рядом с ним.
— Да, — сказал Лео. — В Лондоне. Джек, что случилось? — Люди шли мимо будки. Безликая толпа прохожих. Туристы дети, цыганка с младенцем у груди.
— Я думал о тебе, — сказал Джек. — Конечно же, думал, после всего случившегося… То есть, твоя же квартира… Прости, я путано излагаю мысли. Но я думал о тебе и не знал, как с тобой связаться.
— Ничего страшного. — Как это — ничего страшного? Почему Джек должен говорить едва ли не извиняющимся тоном, а Лео — отказываться от его извинений, словно кто-то из них нарушил правила приличия?
— Я не знаю, пришлют ли тебе повестку…
— Джек, что случилось? — повторил свой вопрос Лео. — Господи, что же случилось?!
— Значит, «Господи»? — На том конце провода раздался неуверенный смешок. — Не уверен, что это подходящее выражение.
— Просто скажи мне, что случилось.
Последовала пауза.
— Думаю, нам лучше встретиться.
Джек сохранял абсолютное спокойствие — вот что пугало больше всего. Он был спокоен, как будто вел дипломатические переговоры. Спокоен в полиции, в посольстве, в офисе магистра, в морге на опознании останков. Постоянно звонил телефон, а он отвечал, слегка нахмурившись, и во время разговора всегда смотрел в пол. Ровным голосом отдавал распоряжения, как будто решения эти, какими бы важными они ни были, не требовали личного участия. Таким тоном договариваются о покупке недвижимости, о поступлении на работу или о торговой операции.
— Нет, сейчас я приехать не могу, — сказал Джек кому-то по телефону. — Я приеду, как только освобожусь, а сейчас я занят.
Лео обвел взглядом знакомую комнату. Мэделин смотрела на него с фотографии в серебряной рамке на пианино. Она, кажется, улыбалась, как будто спланировала все это заранее. На полу под пианино валялась английская газета. Он увидел небольшой заголовок внизу страницы: «Жена дипломата упала с крыши». Лео ощутил новый прилив панического ужаса — ощутил полнейшую нелепость и тщету всего в этом мире.
После непродолжительной паузы телефон вновь зазвонил, но на этот раз Джек почему-то говорил иначе — мягче, нежнее.
— Мамочка поранилась, — сказал он, имитируя детский голос. — Да, я скоро к вам приеду. А ты тем временем присматривай за Бут. Хорошо, Кэтц? Да, все в порядке. Ведите себя хорошо, а я скоро к вам приеду. — Он с чрезвычайной осторожностью вернул трубку на рычаг.
— Что случилось? — спросил Лео. — Можешь объяснить мне, что случилось?
— Она погибла. Вот что случилось.
— Но как?
В кухне кто-то был — прилежная, серьезная женщина, которую Лео с трудом припомнил. Она зашла в комнату и спросила, не желает ли он чего, но он сказал: спасибо, нет, даже чаю не надо.
— Как же надоела их суета, — сказал Джек Лео, когда женщина удалилась. — Я знаю, что они руководствуются наилучшими побуждениями, но как же мне надоела их суета…
МИДужасно нагнетает атмосферу, понимаешь. Сплочение, вот как они это называют. Сплочение перед лицом врага. Сраный «Гэтлинг» заел, оборона прорвана, а они, мать их, сплачиваются. — Он отвернулся, взглянул на пианино с семейными фотографиями, на окно, за которым начинался внешний мир. На муху, бившуюся головой об оконное стекло с отчаянным упорством. — Ты знал, что у нее был ключ? — внезапно спросил Джек.
— Ключ?
— От твоей квартиры.
Лео, неожиданно для самого себя, тщательно подбирал ответные слова, взвешивая возможные последствия сказанного. Он не мог разобрать подтекст ситуации, не понимал ее нарочитой обыденности, к тому же его смущал оттенок фамильярности.
— Наверное, остался с тех пор, как вы помогали мне переехать.
Джек кивнул.
— Понимаешь, квартира была заперта. Полицейские привели портье, чтобы тот открыл замок. А на столе они обнаружили ключ. Конечно, тогда они назвали это несчастным случаем. Так мне заявили в магистрате. Кстати говоря, она хочет с тобой поговорить.
— Кто?
— Следователь, Лео. Следователь. — Джек говорил необычайно терпеливо, как будто имел дело с недалеким ребенком.
— А ты не считаешь, что это был несчастный случай?
Он улыбнулся, как подобает улыбаться дипломату, выигравшему очередное очко в переговорах.
— Дорогой мой Лео, — тихо вымолвил он, — я знаю, что это не был несчастный случай.
— Ты это знаешь?
Джек взглянул на него. Интересно, подумал Лео, что в этот момент творится в его голове, что скрывают эти глаза? Что происходит в серой желеобразной массе, скрытой за красивым высоким лбом? В исповедальне лица не видно, Видишь лишь тусклую тень, которая изливает душу, но не показывает своих очертаний. Знаешь только пол. И социальное положение. Иногда, не всегда, угадываешь образование и уровень умственного развития. Но никогда не видишь лица — эту маску панического страха и стыда.
— Странно, что она никогда тебе об этом не говорила, — сказал Джек. — Вы ведь были так близки… Я думал, она доверит эту тайну своему лучшему другу, отцу-духовнику…
— Какую тайну?
— Мэдди уже не в первый раз пыталась покончить с собой. Ты разве об этом не знал? Не знал? Разве она не рассказывала об этом своему духовнику? — Он хихикнул. На лице Джека преобладали два цвета: белый и серый, — сочетание горя и отчаяния, но говорил он с интонацией дружелюбной, покровительственной, с интонацией Винчестера и Кембриджа, с интонацией человека, который долгие годы был на высоте, не прилагая особых усилий. — Мэдди не нужны были утешительные слова из уст священника. Она была больна, Лео. Ей нужен был врач, психиатр, но она, разумеется, и слышать об этом не желала. Поэтому она нашла замену в твоем лице. И даже не рассказала тебе…
Лео попытался что-то ответить, но Джек его перебил. Внутри он, казалось, клокотал от нетерпения, как будто стоял на той самой улочке и, глядя на охристое здание, видел, как женщина балансирует на парапете, на высоте в пять этажей, на фоне неба. А он просто стоял и смотрел, ожидая, пока она сделает шаг в бездну.
— Мэдди выжила после шести попыток самоубийства, Лео. Чаще всего это были таблетки. Один раз она резала запястья — вернее, одно запястье, на оба ее не хватила. Также имел место инцидент с привлечением алкоголя и одного из моих галстуков, обмотанного вокруг шеи. Об остальном догадайся сам. Но, в основном, она пила таблетки. Она однажды сказала мне: «Ты, наверно, думаешь, я просто дурачусь, да? Думаешь, что я пытаюсь привлечь к себе внимание. Но рано или поздно я доведу дело до конца». Вот что она сказала. А теперь ей это удалось.
Последовало долгое молчание. Джек смотрел Лео прямо в глаза, улыбка сошла с его лица, как снег, растаявший на голой черной земле. Был ли в этом взгляде упрек? Мог ли Джек Брюэр винить Лео Ньюмана, невинного Лео Ньюмана, наивного Лео Ньюмана?
— Она была больна, Лео. Бы, священники, все такие тупые? Знаешь, я никогда не верил, что исповедь помогает людям. Мне всегда казалось, что это сродни гранате в руках ребенка. Она была больна. Депрессивный психоз, называй как хочешь. Половину жизни она провела на грани отчаяния, а вторую половину — в идиотском воодушевлении, как пятилетняя девочка на именинах. Как девочка, которая на именинах переволновалась, и теперь ее тошнит. Вот только Мэделин была взрослым человеком и потому не блевала на ковер. Вместо этого она просто трахалась с другими мужчинами. — Он замолчал, как будто для вящего эффекта. Как будто выжидал, пока его слова достигнут намеченной цели. — Об этом она тебе тоже не рассказывала? Не описывала все это с обилием грязных подробностей? Наверное, нет. Наверное, это не входило в список тех прегрешений, за которые люди казнятся в исповедальне. Возможно, она и своего ручного священничка тоже трахала.
Лео поднялся. Казалось, земля уходит у него из-под ног. Ему пришлось потратить некоторое время, чтобы восстановить равновесие.
— Ты пережил страшное горе, Джек, — сказал он. — Ты взвинчен, ты страдаешь и сам не понимаешь, что говоришь. Мы с Мэдди были друзьями, и тебе это известно. Близкими друзьями. — Почему же ему было так легко врать, врать не напрямую, а косвенно, окольными путями? Почему слова проявляли такое послушание? Лео еще постоял, ожидая, пока его оценка случившегося дойдет до Джека, после чего развернулся и направился к двери, оставив Джека в гостиной наедине с самим собой. Служанка выглянула из кухни, проверить, что там происходит, но тут же скрылась опять. Лео отпер дверь. Стыд прокатился по его телу леденящей волной, чувство вины и чувство стыда одновременно, причем одно переходило в другое. Оба чувства отрицали возможность искупления, ибо одного необходимого человека недоставало, один человек исчез в смертоносном прыжке.[89] Она трахалась с другими мужчинами. Лео вышел на лестничную площадку и запер за собой дверь. Она шлепала босыми пятками по его памяти, и ее ягодицы нелепо переваливались при ходьбе. Она повернулась к нему, и темная, неопрятная дельта волос говорила ему о вещах, которые он не способен был постичь. Он даже вымолвил ее имя, спускаясь по лестнице, как будто она могла ему ответить и все объяснить. «Мэделин, — прошептал он. — Мэделин».
В тот вечер Лео снова отправился на узенькую улочку за дворцом. Цветы по-прежнему были там, но успели пожухнуть и истрепаться, представляя собой теперь лишь жалкую кучку желтых и красных лепестков. Он посмотрел наверх, на выжженную охру стены, на тающие линии перспективы, что сходились у далекого парапета. Интересно, что происходит, когда летишь вниз? Всего-навсего несколько секунд. Решение принято, дело сделано. Своего рода логическое завершение. Но что же происходит на протяжении этого мгновенного падения? Какие посещают мысли. О ком? Он видел, как она болтает ногами в воздухе. Видел, как развевается ее юбка. Нечаянный проблеск белого бедра. А потом — удар. Что-то мягкое, тяжелое. И все ломается внутри…
12
Следователь внимательно рассмотрела удостоверение Лео, сверилась с фотографией и несколько раз в задумчивости перечитала графу «профессия»: sacerdote.[90]
— Prete, — сказала она, и в ее голосе послышалась едва заметная нотка презрения.
— Да, священник, — согласился Лео.
— Кем вы приходились англичанке?
— Другом.
Офис находился на верхнем этаже здания министерства, откуда открывался чудесный вид на платановую посадку и реку, неспешно катящую свои темные воды. Сама следователь была женщиной умной и живой: ей не терпелось покончить с текущим делом и перейти к следующему. Папки манильской бумаги стопкой лежали на ее рабочем столе. В углу комнаты, отгороженный какими-то коробками, сидел мужчина за текстовым процессором. Слышался перестук клавиш.
— Где вы находились, когда она погибла?
— Я был за рубежом. В Англии.
— Вы можете это доказать?
— Доказать?
— Вы можете предоставить доказательства вашего отъезда из страны именно в это время?
И внезапно, так внезапно — прежде чем опомниться — Лео понял, что его тоже подозревают.
— Разумеется, я могу это доказать.
— Как?
Он растерянно оглянулся по сторонам. А как люди обычно доказывают что бы то ни было? Откуда знать, что и когда случилось? Как узнать, кем был человек по имени Юдас и кем он приходился Иешуа?
— Авиабилеты. Господи, да люди… Люди, с которыми я общался в Лондоне. — Лео вспомнил о епископе, и сердце его предательски екнуло. Продолжался стук клавиш: несмелое напоминание о том, что его доказательства фиксируются. Следователь опустила глаза, чтобы изучить некую бумагу — по всей вероятности, рапорт. Голос ее был нейтральным, безразличным, как и у любого бюрократа.
— В котором часу вы улетели из Италии?
— Утром. Она отвезла меня в аэропорт.
Следователь вдруг вскинула глаза.
— Синьора отвезла вас?
— Да, подкинула. Отвезла.
— Значит, она была в вашей квартире в то утро, вместе с вами?
— В то утро она пришла ко мне домой. Чтобы отвезти меня в аэропорт.
— Значит, вы последний, кто видел ее живой?
— Да? — Какой-то затянувшийся ночной кошмар. Не тот кошмар, в котором фигурировала Мэделин. И не тот, в котором присутствовал Иуда. В этом кошмаре не было никого, это был кошмар отсутствия, нехватки кого-то, пустоты на чьем-то месте. — Я не знаю. Я не знаю, когда она погибла. Я не знаю, кто ее видел. Как я могу отвечать на подобные вопросы?
— Синьора Брюэр… — женщине нелегко далась фамилия. Гласные получились слишком растянутыми и были слишком сильно акцентированы: Брююээр, — погибла в то утро. Тело ее обнаружили только после полудня погибла она, определенно, утром.
— Но когда?
Следователь будто не слышала его вопроса.
— Вы можете предоставить доказательства, что именно она отвезла вас в аэропорт в указанное вами время?
— Конечно же. Это можно определить по времени регистрации.
— Диктуйте. Время, название авиалинии, номер регистрационной стойки.
Лео повиновался. За спиной у него затараторили клавиши — преследователи, бегущие за ним в то злополучное утро. От этого утра его отделяли всего два дня, но, вместе с тем, отделял целый мир, целая вечность, приобретшая теперь новое значение: последние мгновения, прожитые Мэделин на земле; возможно, последние ее мгновения где бы то ни было. Вот Мэделин входит в квартиру со свойственной ей легкой бесцеремонностью, улыбается, касается нежными руками его рук, лица. Вот Мэделин умоляет его (самое страшное). Мэделин молит об утешении, о завершении начатого, о том хрупком союзе, который позволил бы им хоть краем глаза узреть вечность.
— Видимо, она вернулась в мою квартиру, — сказал Лео. — После того как отвезла меня в аэропорт. Разве портье не видел, как она возвращалась?
Следователь оставалась непреклонной.
— Нам понадобятся материальные доказательства всего этого. Авиабилеты, чеки, все в этом роде. Какие отношения связывали вас с потерпевшей?
— Я же вам уже говорил. Мы были друзьями.
— Какими именно друзьями? Близкими? Вы были ее духовником?
— Был когда-то давно. Когда мы только познакомились. Но вскоре это прекратилось.
— Как она себя чувствовала в то утро? Какой она вам показалась?
Лео пожал плечами. Какой ему казалась Мэделин? Она же погибла, Господи Боже! Какой она могла показаться?
— Нормальной. У нее часто менялось настроение. Иногда она казалась счастливой, иногда — печальной. Иногда это совпадало по времени.
— А в то утро?
Он замолчал. Следователь взглянула на него и явно что-то заметила: ее следовательские антенны уловили некую вибрацию.
— Вы с синьорой Брюэр были любовниками? — спросила она.
— Какой, право, дикий вопрос…
Она безучастно посмотрела на него.
— У меня работа дикая, господин Ньюман. И такая смерть для женщины тоже является дикой. Упасть с крыши — дикость, самоубийство — дикость, убийство — тем паче. Потому мои вопросы тоже диковаты. Я повторю: вы с госпожой Брюэр были любовниками?
— Я священник, — сказал Лео.
Следователь издала странный звук, нечто среднее между смешком и презрительным фырканьем. Очевидно, она была невысокого мнения о духовенстве.
— Мне придется попросить вас сдать кровь на анализ.
— Кровь? Зачем вам анализ моей крови, ради всего святого?! Клавиши продолжали стучать.
— Потому что незадолго до гибели миссис Брюэр вступила в половую связь. Патологоанатом обнаружил в ее теле семенную жидкость. Мы хотим выяснить, кто это был. — Ее слова зависли в воздухе, будто туман над гробницей. В ее теле. Внутри тела. И Лео как наяву увидел Мэделин, распластанную на базальтовой плите, Мэделин, от которой осталось лишь невразумительное месиво, груда изуродованных органов. Аккуратные пальцы в резиновых перчатках прощупывают ее изнутри, беспардонные чужие пальцы… Осквернение, профанация. Он будто со стороны услышал свой собственный голос, настигаемый стуком клавиш, воплями стрижей за окном и неизбежными угрызениями совести:
— Какое вам дело до того, с кем миссис Брюэр занималась любовью перед смертью?!
— Она совершила половой акт с вами, мистер Ньюман?
— С мужем. Почему не с мужем?
— Мистер Ньюман, не могли бы вы ответить на мой вопрос?
— Почему вас это интересует?
— Потому что женщина мертва, мистер Ньюман. Женщина мертва, а моя работа — расследовать, как она умерла и по какой причине.
— Вы думаете, я мог ее убить? Вздор! Вы думаете, я ее убил?!
— Я пока еще ничего не думаю. У этой женщины была семья. Возможно, у этой женщины также был любовник. Эта женщина могла угрожать кому-то из своего окружения. Эта женщина мертва. Она могла упасть, могла спрыгнуть, ее могли толкнуть. Ее могли даже убить ударом по голове, а потом уже столкнуть с крыши. Ни один из этих вариантов не исключен. Некоторые более вероятны, некоторые менее, но один из них точно имел место. Моя задача заключается в том, чтобы определить, какой из вариантов соответствует истине.
— Эта женщина неоднократно пыталась покончить с собой, — сказал Лео.
Следователь улыбнулась, как будто подобные сведения подтверждали его вину.
— Вы об этом знали, мистер Ньюман?
— Мне об этом сообщил ее муж. Сегодня утром.
— Но знали ли вы об этом прежде? Ваша близкая подруга не рассказывала вам о своем… психическом расстройстве?
— Нет.
— А вы ни о чем не подозревали?
— Она была очень переменчива… Ничего особенного я не замечал.
Следователь кивнула.
— А теперь вы, может быть, ответите наконец на мой вопрос: вступали ли вы в то утро в половую связь с миссис Брюэр?
— А что же ее муж?! — повторил Лео. Он практически выкрикнул это. Когда он повысил голос, следователь взглянула на него и скупо ухмыльнулась: она привыкла к тому, что мужчины орут на нее, и научилась извлекать из этого выгоду.
— Он утверждает, что не жил половой жизнью со своей супругой два последних месяца, — сказала она.
Лео Ньюман замолчал. Клавиши перестали стучать, ожидая его ответа. Следователь с деланным вниманием уставилась в отчет патологоанатома, как будто могла обнаружить там какую-либо незначительную деталь, ранее упущенную.
— Да, — тихо произнес он. — Да, вступали.
Молниеносный взгляд.
— Она давала на это согласие?
— Иными словами, изнасиловал ли я ее, сбросил ли ее тело с крыши, перед тем как поехать в аэропорт? Полный абсурд.
— Я имела в виду лишь то, что спросила. Она добровольно вступила с вами в половую связь?
Лео снова умолк и закрыл глаза. В исповедальне можно закрыть глаза, и никто этого не заметит. Но сейчас следователь наблюдала за ним и по-своему трактовала каждый его поступок. Он закрыл глаза — и Мэделин коснулась его лица, как будто нащупывала его во мраке церкви Сан-Крисогоно.
— Да, она была согласна. Она-то этого хотела.
— То есть вы этого не хотели?
— Вы не так меня поняли. У нас был роман. Непростые отношения, в двух словах не расскажешь.
— Но вы хотели завершения этого романа?
— Возможно. Не знаю. — Он оглянулся, точно в поиска ответа, как будто ответы и объяснения могли лежать где-то в этом тесном, захламленном кабинете. В некотором смысле так оно и было: в десятках светло-желтых папок содержались правдивые ответы, полуправда и ложь чистой воды; правда, только правда и все, что угодно, кроме правды «А что такое правда?» — вопрошал Пилат. Греческое слово aletheia. — Я не знаю, — повторил Лео. — Тогда я думал, что да, возможно, я хочу завершения этого романа… А сейчас… — Голос его дрогнул. Что-то словно поглотило его некая ужасающая волна эмоций, на секунду вышедшая из-под контроля. Лео покачал головой, пытаясь избавиться от наваждения. В глазах щипало, сердце бешено колотилось, на лбу выступил пот. Ему хотелось сглотнуть, но мешал стоявший в горле ком. Возможно, все эти телесные проявления лишний раз доказывали его вину. Возможно, они указывали на то, что он все-таки убил Мэделин.
Следователь кивнула, как будто ей все стало понятно. Она попросила принести воды и пластиковый стаканчик, подождала, пока Ньюман выпьет. Затем продолжила:
— Вы совершили половой акт с потерпевшей, затем убили ее и выбросили тело на улицу позади палаццо, а потом отправились в аэропорт. Так?
Какая-то часть его — маленькая, незначительная — наблюдала за всем этим со стороны и понимала, что он должен засмеяться. Это была шутка — возмутительная, грубая, абсурдная шутка. Он должен был покатиться со смеху, захохотать до слез, описаться. Должен был надорвать животик. Но вместо этого Лео лишь покачал головой. Конечно, он плакал — но это не были слезы веселья. Сквозь пелену он видел свою мучительницу, как будто она была написана акварелью, но картина оказалась под дождем.
— Разумеется, я не убивал Мэделин, — тихо вымолвил он. — Это полнейшее безумие. Я не убивал ее. Я ее люблю.
— Но вы не ожидали, что она покончит с собой, верно?
— А как можно ожидать подобного?
— Очевидно, ее муж мог это предположить.
— Тогда почему бы вам не прислушаться к его словам?
— Потому что у меня такая работа — выслушивать всех. — Следователь замолчала, уставилась в какие-то бумаги у себя на столе, словно задумалась о деликатном вопросе вины и невиновности. — Я хотела бы, чтобы вы сделали официальное заявление, синьор Ньюман. Именем закона вы обязаны изложить все, что вам известно о событиях, связанных
с гибелью миссис Мэделин Брюэр. Разумеется, вы имеете право пригласить адвоката.
— Мне не нужен адвокат, — сказал Лео.
— Вы в этом уверены?
— Да, абсолютно уверен.
— Отлично. Советую вам начать с того момента, как вы проснулись.
И они еще раз разыграли все тривиальные, интимные события того утра. Лео снова ходил по квартире, завтракал, собирался, прислушивался к шагам на лестничной клетке за дверью. Мэделин снова вставляла ключ в замок, отпирала дверь и входила в квартиру. Она вновь приветствовала его безучастным «доброе утро» и сжимала его руки в своих, целовала кончики его пальцев, притрагивалась ими к своему лицу. Они говорили, шли на балкон, потом опять возвращались в комнату. «Люби меня, — еще раз прошептала она. — Люби меня».
— Скажите, в котором часу это все происходило? — спросила следователь.
Лео неуверенно оглянулся по сторонам.
— Около восьми. Вылет был в полдень. Мэделин, кажется, приехала около восьми. Я не ожидал ее так рано.
— Почему же?
— Я не знал, когда она приедет.
Она снова взяла его за руку и повела в спальню. Они снова легли на кровать, и она обняла его, привлекла к себе, ввела в себя. На этот раз, в отличие от первого, не было никакой дурацкой возни, никакого стыда. На этот раз он удержала его внутри, взрываясь сладкой болью; он взорвался тоже. Это было маленькое чудо природы. За спиной тарахтели клавиши. «Вот так, — прошептала она ему. — Вот так…» Он ощущал ее дыхание, ощущал этот крохотный воздушный импульс столь же явственно, как слышал слова. «Вот так, — сказала Мэделин. — Теперь ты меня полюбил».
— Во сколько вы покинули здание?
— В начале одиннадцатого. Я помню, мы спешили. Я поторапливал Мэделин, потому что мы опаздывали. Я думаю, быть может…
— Что вы думаете?
А что он думал, в самом-то деле? Он думал, что, быть может, это он ее убил.
— Я думаю, она хотела, чтобы это случилось.
— Что — это?
Лео разозлился, повысил голос:
— Чтобы я опоздал. Чтобы я пропустил свой самолет. Я думаю, Мэделин, возможно, хотела, чтобы я опоздал на самолет.
А потом — поездка, внезапная перемена настроения: вместо маленького, личного триумфа — тишина, отчуждение. В пути она почти не разговаривала, равно как и в аэропорту; молча стояла рядом у регистрационной стойки, пока у него проверяли билет и паспорт; без всякого выражения на лице провожала взглядом, когда он прошел через рамку металлодетектора и скрылся за телеэкранами.
— Больше я ее не видел.
— В котором часу это было?
— Около одиннадцати. Я точно не помню, но примерно в одиннадцать. Может, четверть двенадцатого. Мы опоздали на регистрацию.
Клавиши перестали тарахтеть. Принтер зажужжал и наконец выдал четыре страницы машинописного текста. Лео прочел эти слова, являвшиеся лишь скелетом того утра, жалким подобием реальности, бледной тенью присутствия Мэделин в квартире рядом с ним, когда ее тело находилось над его телом, а его мысли вкладывались в ее мысли, точно в заготовленный конверт. «Она трахалась с другими мужчинами», — сказал Джек.
— Мне придется попросить вас сдать паспорт, мистер Ньюман, — сказала следователь, подписывая протокол. — Вы не имеете права выезжать за пределы страны до тех пор, пока не закончится предварительное расследование.
Холл министерства представлял собой совокупность мраморных плит и травертина. Атмосферой он напоминал зал ожидания. Та же движущаяся толпа: кто-то одержим определенной целью (успеть на поезд или на судебное заседание), остальные праздно шатаются в ожидании развития событий. Ощущалась некая беспорядочность, случайная связь незнакомых людей, собранных воедино надменной, насмешливой дланью судьбы.
— Вы — мистер Ньюман? — Незнакомец, один из многих, молодой востроносый парень с выдающимся кадыком. По-английски он говорил весьма своеобразно.
Лео нахмурился.
— Откуда вы меня знаете?
— Пресса, — сказал парень. — «Il Messaggero».[91] Можете рассказать мне о гибели той женщины, жены английского дипломата? Можете рассказать? — Он выставил небольшой диктофон. Лео видел, как внутри крутятся колесики. Он оттолкнул парня.
— Ничего я вам не стану рассказывать.
Парень побежал за ним следом.
— Вы можете подтвердить слухи? — И вдруг, как гром среди ясного неба, Лео ослепила фотовспышка.
Он пулей вылетел в широкие двери, солнечный свет ошеломил его. Лео побежал по тротуару. Мимо проплывали автобусы, петляли по площади, настигаемые косяками мопедов.
Он перешел на другой берег реки. Вода мягко, но решительно катила воды под мостом. Пахло асфальтом и выхлопными газами; должно быть, похожие миазмы окутывали Аид, Гадес, Тартар — как ни назови обитель смерти. Мэделин шла рядом, его личный образ Мэделин — язвительная остроумная, нормальная Мэделин, а не истеричка, которая стала бы вешаться на мужчин или бросаться с крыши. Она сопровождала его на узких улочках старого города, до самого Дворца Касадеи, где незаметно исчезла, и в подъезд он шагнул уже в одиночестве. Из застекленной будки за ним наблюдал портье. Лео медленно поднялся наверх и вошел в квартиру. Жилище казалось таким же заброшенным, как в первый раз, когда он осматривал его вместе с Мэделин. Но после она заполнила эту неуютную берлогу собой, вдохнула в нее жизнь. Сейчас же квартира казалась пустой, как склеп. Лео нашел ее фотографию — ту, которую она подарила ему, прежде чем отвезти в аэропорт. Фотография эта была наделена дивной силой, мощью подлинной иконы. Он положил снимок на стол. Вроде портрета на могильном камне: торжественно-строгий облик незнакомого человека, Мэделин, которую он не знал. Беда в том, что больше ничего не осталось. Лео так хотел, чтобы она показалась в дверном проеме и поздоровалась с ним, как обычно. Снова начиная паниковать, он даже попытался вообразить себе эту картину: ключ поворачивается в замке, дверь открывается, фигура Мэделин возникает в образовавшемся пространстве. Но лица у нее не было. Она трахалась с другими мужчинами. У нее не было лица. Ни того лица, что, улыбаясь, взирало с фотографии, ни какого-либо иного. Он потерял ее, а вместе с ней потерял все свои воспоминания. Она трахалась с другими мужчинами. Лео вынул ландыши из вазы и выбросил их. Цветы завяли, а вода загнила.
Тирания телефона. Он звонил весь день, хныкал, как докучливый ребенок. Подтверждает ли он, что… Отрицает ли он… Голоса задействовали весь языковой спектр, от безукоризненного английского до чистого итальянского, включая все промежуточные стадии. Не мог ли он дать интервью?… Правда ли, что…
В тот же вечер позвонил Гольдштауб.
— Это правда? — спросил он.
— Что — правда? Оставьте меня в покое хотя бы на миг!
— Мэделин, Лео… Все английские газеты пережевывают эту новость. Так это правда?
— В смысле, правда ли, что она мертва? Тогда да, ответ положительный. Я не знаю, что еще ты мог прочесть в газетах
— Господи Всемогущий, Лео…
— Очень сомневаюсь в его всемогуществе.
— Перестань острить. У тебя проблемы?
— В полиции, похоже, думают, что это я ее убил.
— Галиматья.
— А они вообще занимаются галиматьей.
Позже позвонил Джек. Он говорил ровным, бесцветным голосом.
— Не забудь ознакомиться с завтрашней английской прессой, — посоветовал он.
— Что? О чем ты? — Но Джек уже повесил трубку.
На следующее утро Лео обнаружил письмо. Оно лежало в почтовом ящике возле каморки портье. Почерк на конверте был незнакомый, марка была римская. Лео разорвал конверт, перебирая в уме возможные варианты: письмо от кого-то из сочувствующих, письмо от недоброжелателя (его уже неоднократно обвиняли во всех смертных грехах по телефону), письмо, никоим образом не связанное с гибелью Мэделин. Но письма с того света он не ожидал. Эксперт-графолог, разбиравший шифры двухтысячелетней давности, знаток унциального письма[92] и минускул,[93] не смог узнать буквы, написанные рукой Мэделин.
«Я уже пыталась это сделать», — было написано там.
Неприятное ощущение. Тошнота, скопившаяся где-то в области грудины; головокружение; десятки голосов одновременно трещат в мозгу, десятки едва слышных шепотов. Лео поискал взглядом место, куда можно было бы присесть. Беспомощный, он стоял в полумраке арочного входа во Дворец Касадеи, а портье наблюдал за ним сквозь стекло своей каморки. Нужно было пройти во двор, на солнечный свет, к мелкой мороси фонтана, где зеленели стебли свежего папируса. Лео присел на ступень пьедестала и взглянул на страницу.
«Я уже пыталась это сделать. О да, у меня есть опыт в подобных вещах, я разве не говорила? Какое-то лицемерие. Я не говорила тебе об этом, потому что боялась тебя спугнуть. Возможно, эта попытка также не увенчается успехом. В таком случае я пишу сама себе. Конечно же, я хочу извиниться. Я прошу прощения за то, что навязывалась тебе (а кто еще может простить, кроме священника?). Мне очень жаль. Главное, не казни себя. Ты не виноват. Просто скажи себе, что так будет лучше. Красивое, идеальное расставание. Щелкнул пальцами — и все.
Может быть, мне не хватит смелости. Может, я прокрадусь в твой подъезд и умыкну письмо, пока ты его не прочел. Мне не впервой. Боюсь, ты очень многого не знаешь.
М.»Дочитав, Лео чуть не рассмеялся. Объятый множеством эмоций одновременно, он чуть не рассмеялся. И уж точно улыбнулся. Однако письмо это ставило больше вопросов, чем давало ответов, ибо он по-прежнему не мог найти в этих каракулях причину содеянного (он догадался, что она писала в машине, незадолго до того, как купить букет ландышей и отнести их в квартиру). Почему она не оставила записку на видном месте? Или это было частью ее шутки? Ты была настроена шутить, когда собиралась свести счеты с жизнью? Что ты чувствовала? Лео Ньюман, бывший священник (давайте говорить начистоту), бывший любовник, бывшее все, вовсе не хотел совершать самоубийство, так почему же самоубийство совершила Мэделин Брюэр, у которой было все: муж, дети, друзья, даже любовник (если бы она захотела закрепить это легкое отклонение от нормы) — зачем ей убивать себя? Себя, а не его?
Его, всегда способного ответить на любой вопрос, оспорить любой довод, а теперь лишившегося всех ответов зараз.
Лео лично отнес улику в магистрат. Ему пришлось прождать почти целый час, потому что следователь присутствовала на судебном слушании.
— Вот, — сказал он, когда она наконец его приняла. Она взяла письмо и с трудом прочла, не зная ни особенностей английского почерка, ни особенностей языка.
— Что значит это слово?
— Лицемерие.
Следователь подобрала итальянский эквивалент — «disingenuo» — и, кажется, уловила смысл. Она дочитала до самого конца — ироничного прощания навек.
— Это действительно написано потерпевшей? Это ее почерк?
— Ямогу ручаться, что это написал не я. Ее ли это почерк лучше спросите у эксперта.
— Мы будем вынуждены изъять это письмо как улику. Отправим его на экспертизу. Нам понадобятся заверенные образцы ее почерка.
— Это означает, что она покончила с собой, — сказал Лео. Следователь улыбнулась ему, будто наивному ребенку.
— Это означает лишь то, что в делепоявилась новая улика. А что означает эта улика — ужесовсем другой вопрос.
В послеполуденное мертвое время Лео вышел из министерства и направился к ближайшему газетному лотку. Английские газеты как раз только что доставили. Он сунул их под мышку и вернулся домой. Сел за стол перед фотографией Мэделин и пролистал несколько страниц, пока не обнаружил то, что подспудно ожидал обнаружить: внизу страницы виднелась другая ее фотография: словно дразня его, она смотрела из прошлого и задавала ему вопросы с того света. Заголовок вверху гласил:
ИСТОРИК-СВЯЩЕННИК И ДИПЛОМАТ В ЛЮБОВНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ
Это напоминало детскую игру — кто быстрее произнесет скороговорку и не ошибется. От топота копыт пыль по полю летит. Историк-священник. Уполномоченные органы все еще заняты сбором информации. Улик пока недостаточно, чтобы утверждать, было ли это несчастным случаем, самоубийством или чем-то похуже. Автор статьи избегал категорий суждении. Выделения отправлены на судебную экспертизу, В статье также была употреблена излюбленная фраза английских журналистов, которая, тем не менее, не использовалась больше ни в одном из европейских языков: «Не исключается возможность сексуального насилия».
В тот же день, чуть позже, репортеры разбили настоящий лагерь под окнами Палаццо Касадеи: толпились там со своими диктофонами и фотоаппаратами. На следующее утро сенсация прогремела уже всерьез — вернее, несколько сенсаций, сплетенных воедино. Сексуальная и теологическая тематика, словно сговорившись, заполонили передовицы всех британских газет. Праведный гнев таблоидов подразумевал наличие защитников, готовых стоять до последнего как за истинную веру, так и за самого Отца Небесного. Какой-то мудрый духовный лидер дал интервью «Таймс», полное дешевой софистики и самодовольства. В «Дейли телеграф» смаковали все грязные подробности, а также не преминули опубликовать фотографию (наверняка украденную из семейного альбома), на которой веснушчатая женщина мило улыбалась и не вызывала никаких подозрений в распущенности. «Эксперт по древней письменности домогается жены ближнего своего», — гласил заголовок. Ниже было помешено фото Лео: он как раз выходил из министерства и как бы недоверчиво косился на объектив, хотя на самом деле просто испугался вспышки.
Итальянские газетчики освещали историю в разделе chronache, что значит «светская хроника»: истории, не имеющие политического веса, зато затрагивающие пикантные темы секса, насилия и разврата. Одна статья так и называлась: «Хроники Рима», «Chronachedi Roma». Так мог бы быть озаглавлен классический кодекс, написанный, к примеру, Тацитом.
На следующее утро у Лео состоялся непродолжительный, но неприятный разговор с ректором Папского библейского института. В разговоре том фарисейство было тесно сопряжено с вполне искренним возмущением.
— Вам придется предстать перед своей конгрегацией, — сказал ректор. — Приготовьтесь к тому, что вас немедленно отлучат от церкви и имя ваше будет навсегда запятнано позором. С совестью своей договаривайтесь сами.
Но Лео было к чему готовиться, кроме позора и бесчестья, — например, к одиночеству. К пустоте внутри себя К чувству абсолютного распада, по завершении которого от него оставались лишь разрозненные атомы, плывущие в хаосе города и всего мира. В тот вечер он стоял на балконе и смотрел, как солнце садится за куполом собора Святого Петра. Оно больше не просвечивало сквозь фонарь. Земля сошла со своей оси, и солнце немного накренилось вправо.
А еще погибла Мэделин.
Похороны — 1943
Похороны. Ничем не примечательное событие частной жизни, происходящее на укромных задворках за площадью Навона. Итальянцы любят плакать открыто. Но сейчас главные действующие лица плачут беззвучно. Они сидят на скамьях перед закрытым тканью катафалком, словно в зале суда: ждут слов священника терпеливо и сдержанно, как оглашения вердикта. Они не будут оспаривать решение суда. Не станут подавать апелляцию в вышестоящие инстанции. Они подчиняются власти и отдают себе в этом отчет.
Во время службы фрау Хюбер падает в обморок. Жара, давка в толпе скорбящих, облака ладана, похожие на дым погребального костра — все это сыграло свою роль. Обморок — это, возможно, вполне простительная слабость, хотя опять-таки, возможно — он выдает ее небезупречное происхождение, чужие гены, прячущиеся за, казалось бы, идеальными арийскими чертами. Она теряет сознание и падает на своего мужа, который поддерживает ее, пока читают Misere mei, Deus». Левой рукой он держит католический требник, правой обнимает жену за плечи, упираясь пальцами во влажную подмышку, чтобы фрау Хюбер не сползла со скамьи.
Помилуй меня, Боже, По великой милости Твоей, И по множеству щедрот Твоих Изгладь беззакония мои.Он не позволит ей сидеть. Она должна стоять. Это своего рода искупление вины.
Ampliuslavameab iniauitate mea, нараспев читает хор: Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня».[94]
И супружеская пара Хюберов встречает псалмы лицом к лицу, точно снежную бурю: он морщится и стискивает зубы, она же, бледная как полотно, просто смотрит, как будто борьба со стихией истощила ее, повергла в абсолютное безразличие. В черной одежде, униформе скорбящих на асе времена, фрау Хюбер выглядит весьма драматично: волосы ее напоминают позолоту на балдахине катафалка.
За поминальной молитвой следует погребение — на большом кладбище Кампо Верано, расположенном да железнодорожной веткой, подле базилики Святого Лаврентия. За этими стенами покоятся в сени зонтичных сосен и кипарисов все мертвецы Рима. Здесь всюду мрамор и травертин, сухие цветы и сохнущие цветы; здесь царят память здесь Царит сожаление, царит вина и раскаяние. В последнее время это место пользуется особой популярностью: когда кортеж тормозит у портика базилики, там уже стоят две похоронных процессии. Явно хоронят бедняков: погребальные кареты запряжены лошадьми, женщины протяжно воют. Сверкающие автомобили останавливаются на раскаленной площади и ждут, пока им освободят дорогу, после чего наступает их черед приблизиться к вратам рая или ада, их черед проехать через ворота. Оттуда уже нужно идти пешком по главной улице мертвого города туда, где, среди мрамора и порфира, зияет свежевырытая могила. Специально приглашенные солдаты из юношеского отряда вытаскивают гроб через заднюю дверь. Фуражка Лео — фуражка члена юнгфолька — аккуратно лежит на крышке гроба. Солдаты взваливают гроб на плечи и несут его к могиле.
Само погребение — мероприятие непродолжительное будто для галочки. Клубы фимиама парят над могилой точно дым над воронкой от бомбы. Брызжут святой водой, бросают горсти земли, которая глухо ударяется о древесину гроба. Вот и все, дело сделано, ребенок препоручен вечности и, надеемся, поладит с сонмищем ангелов.
Скорбящие уходят неуверенно, как будто сомневаются: конец ли это? Сперва уходят Хюберы, потом — безудержно участливые фон Кленцы, за ними — Юта, и Йозеф, и другие люди с Виллы. Франческо Вольтерра нервно топчется в хвосте. Когда гости разбиваются на небольшие группы, он подходит к родителям усопшего с мрачным лицом, быстро кланяется и пожимает руку герру Хюберу. Затем подносит обтянутую перчаткой руку фрау Хюбер к губам, резко кивает и щелкает каблуками.
— Sonodesolate,[95] — говорит он.
Выражение их лиц кажется совершенно безучастным по сравнению со скорбью, написанной на лице Франческо.
Чувство вины. Горе — и чувство вины. Мощное сочетание. Чувство вины подобно жидкости, алкогольному напитку, который просачивается повсюду, все наполняет собой, пропитывает — едкий, как морская вода, густо пахнущий нечистотами и гнилью, он возвращается смрадным потоком с жесткими, шершавыми обломками горя.
— Благослови меня, святой отец, ибо я согрешила. — Она сознается во всем, ее исповедь в полноте своей приобретает едва ли не барочную пышность: подробнейшее описание, итог времен, выражение всего содеянного, смешение незначительных грубостей и вероломных измен.
— Я не могу притворяться, что вина твоя незначительна, — говорит тень за решеткой.
— Да, отец.
— Для искупления тебе понадобится много времени, много времени и усилий. Ты не должна больше встречаться с этим мужчиной. Ты это понимаешь?
— Конечно, отец.
Они встречаются на нейтральной территории — в одном из кафе на улице Венето, которое продолжает работать, несмотря ни на что. Заведение являет собой неубедительную имитацию парижского кафетерия, где столики стоят на улице под стеклянным колпаком, напоминая оранжерею. Замирая от волнения, она смотрит, как он приближается к ней: словно ожидает, что он выхватит ее сумочку или начнет к ней приставать. Но когда он оказывается прямо перед ней и снимает шляпу — весьма нелепую соломенную шляпу-канотье, — она избегает его взгляда. С большим трудом растянув губы в подобии улыбки и аккуратно сдвинув ноги, она жестом велит ему садиться.
Официант приносит капуччино, сваренный из эрзац-кофе и сухого молока. Когда он уходит, Франческо задает вопрос:
— Как ты себя чувствуешь?
Гретхен смотрит куда-то на вершину холма, с которого сбегает улица. В сторону красно-кирпичной стены, образующей барьер, участка аврелианской стены, некогда опоясывавшей весь классический город. Как она себя чувствует? А как обычно чувствуют себя люди в подобной ситуации? Она убита горем. Она не знает, что ей делать.
— Я уезжаю, — говорит она, словно обращаясь к кому-то другому. — Здесь меня больше ничто не держит. Я возвращаюсь домой.
Он смеется.
— Домой, — повторяет он. — Русские вскоре придут туда. Тогда и посмотришь.
— Думаешь, меня это хоть немного волнует?
— Давай уедем вместе. Твоя страна обречена, моя страна — тоже. Твой брак разрушен. Мы могли бы поехать в Швейцарию. Я знаю человека, который поможет нам получить визы. Он работает в швейцарском посольстве…
Она качает головой.
— Я не могу уехать с тобой, Франческо, — тихо говорит фрау Хюбер. — Я не могу быть с тобой. Это было бы неправильно…
— Неправильно?! — Он повышает голос. Она шикает, озираясь по сторонам: не слышит ли их кто-нибудь? Но в кафе сидят лишь офицеры, за два столика от них; четверо офицеров с парой итальянок. Девушки смеются над чем-то услышанным. А в отдалении женщина в широкополой шляпе с перьями, principessa Casadei, читает лекцию иссохшему, морщинистому мужчине, который приходится ей отцом: он принц, рыцарь ордена святого Иоанна, член почетного папского караула. — Неправильно? — повторяет Франческо. — Ничего «неправильного» мы не совершали. Мы любили друг друга, любим друг друга…
— Тише!
Принцесса Касадеи смотрит на них и наклоняет голову в сторону Гретхен. Лицо ее выражает вежливую заинтересованность. Как себя чувствует фрау Хюбер после ужасной трагедии?
— Мы любим друг друга, и мы не сделали ничего предосудительного.
— Ради Бога, говори потише! А если это так, если мы не сделали ничего предосудительного, то почему погиб Лео?
Хороший вопрос при сложившихся обстоятельствах: почему погиб Лео? Немецкие офицеры оглушительно хохочут; принцесса Касадеи негромко беседует с отцом; армейский автомобиль патрулирует улицы в поисках женщин (даже в пол-одиннадцатого утра эти мужчины ищут женщин!), а Гретхен спрашивает, почему погиб Лео. Этот вопрос не прекращал терзать ее, но ответа на него получено не было.
— Потому что идет война, — ответил Франческо. — Вот и все. Если ты не думаешь, что Господь вершит свою волю руками американского пилота, то да, все это — судьба, фатум, стечение обстоятельств, как угодно.
— Это наказание.
— Весьма странный способ наказать человека — убить другого. Что же это тогда за Бог? Едва ли его можно назвать милосердным и любящим.
— Ты еврей. Что ты знаешь о Боге?
— Я думал, это мы его придумали.
Гретхен тщательно подбирает слова, как подбирают смертоносное оружие:
— Возможно, вы и придумали Бога, — говорит она, — но вы же его и убили.
Воцаряется молчание. В этих словах слышится неизбежность. Она не может отменить их, вернуть. Достаточно мгновенной вибрации воздуха. Они произнесены.
Франческо медленно встает. Что удивительно, он исполнен чувства собственного достоинства. Он встает, наклоняется и кладет что-то на стол. Предмет — ключ — блестит на солнце, как вульгарная бижутерия. К нему прикреплена бирка.
— Это ключ от квартиры в Женеве, одолженный моим другом, в чье существование ты не веришь. Мы могли бы уехать туда. — Франческо выпрямляется и на миг застывает возле нее; преисполненный гордости, несмотря ни на что он производит сильное впечатление. — Быть может, мы когда-нибудь там встретимся. Кто знает?
Потом он разворачивается и уходит. Гретхен выжидает несколько секунд. Затем берет ключ, смотрит на него, словно не понимая, как он там оказался. «Улица Гранже», написано на бирке. И номер. Она кладет ключ в сумочку, встает и подходит к столику, за которым сидят отец и дочь Касадеи. Принц привстает и целует Гретхен руку.
— Дорогуша, — жалостливо говорит принцесса, — как же я рада, что ты так скоро решилась выйти на люди. Терпеть не могу этот изнурительно долгий траур, который всегда позволяем себе мы, итальянцы.
— Ганси, — шепчет она.
Он молчит. Сквозь ставни сочится бледный лунный свет. Он лежит на спине, скрытый в тени; огромная недвижная фигура, безутешная в своей скорби.
— Ганси?
Ответа нет. Но она, тем не менее, продолжает.
— Франческо Вольтерра — еврей, — говорит она.
Он отвечает, не сводя глаз с потолка. Силуэт его остается неподвижным.
— Откуда тебе знать? — Герр Хюбер тихо, невесело смеется. — Нет-нет, не нужно отвечать, не утруждай себя, асе равно ты солжешь.
— Я больше не буду лгать тебе, Ганси, — шепчет она. — Больше никогда.
— Наверное, это тоже ложь.
— Это правда, — говорит фрау Хюбер. Она откидывает простыню, берет его руку и направляет ее к своему животу, к жестким волосам и теплым складкам внизу.
— Тогда ты должна сделать еще кое-что, — говорит он, — чтобы загладить свою вину.
— Кое-что? — Она трется о его пальцы. — Что именно?
— Ты должна отвести меня к нему.
Две черных машины блестят, как пара туфель лакированной кожи, туфли-лодочки с серебряными пряжками. Они неспешно катятся по узкой улочке и тормозят у одного из самых заурядных многоквартирных домов. Пятеро мужчин и одна женщина выходят из машин. Женщина показывает, куда идти, проводит своих спутников через арочный вход до застекленной кабинки портье.
Развернувшись у лифта, она решает подняться по лестнице, винтом уходящей вверх. Сворачивая на каждом этаже, где есть пролет и маленькое окошко наподобие иллюминатора, лестница устремляется к самой крыше. Мужчины следуют за женщиной и застывают в нерешительности, когда она доходит до последней лестничной площадки. Там, под стропилами, ужасно жарко, не продохнуть. В воздухе парят комочки пыли. Один мужчина — с потным лицом — аккуратно проскальзывает у нее за спиной и прислоняется к стене у двери. Остальные ждут внизу, как раз на уровне нижней ступени.
Она стучит — в особом синкопированном ритме, к которому успела привыкнуть: четыре коротких удара по дереву, три подряд и, наконец, последний раз — выдержав паузу, затаив дыхание.
Через некоторое время дверь приоткрывается, как неохотно раздвигаются ноги, уставшие сопротивляться.
— Гретхен, — тихо произносит он. Он стоит на пороге, в дверном проеме, и выражение его лица последовательно отображает всю гамму эмоций: удивление, радость, потом — нечто вроде испуга, смятения. Она делает шаг вперед, тянется к нему, чтобы поцеловать в щеку, и произносит его имя:
— Чекко.
— Гретхен, — повторяет он. Его руки застывают в воздухе: то ли затем, чтобы обнять ее плечи, то ли затем, чтобы, напротив, отстранить ее. Но, едва сделав шаг вперед, она отступает — вернее, ее грубо отпихивают. Она отворачивается к лестнице, пока мужчины врываются в квартиру…
За спиной слышится вопль, который тут же прерывает хлопок двери. Она осторожно спускается по лестнице на первый этаж. Ее лицо как будто выточено из мрамора; в нем нет красоты, нет классических черт. Муж ожидает ее на тротуаре.
Гретхен за прялкой. Гретхен прядет нити судьбы. Гретхен за клавиатурой, играет мягко, но угрюмо; плещутся аккорды бетховенской сонаты си-минор, опус 111, безымянный, хотя он вполне мог бы быть озаглавлен «Аноним», поскольку выражает он то, чему названия нет, — ужас человеческого существования. Гретхен плачет. Она оплакивает Лео и Франческо: первый мертв, второй обречен, — и музыка колеблется между пафосом, печалью помыслов и гневом; зыбкая, задумчивая погребальная песнь, прославление жизни и элегия смерти. Во время игры она сбивается, допускает ошибки. Подчас она путается в хитроумных извивах адажио, где темп нелепо обозначен как moltosemphce е cantabile, очень просто и напевно; однако своим ошибкам она больше не улыбается. Нет, она останавливается, возвращается, собирает хрупкие осколки нот и складывает их воедино, словно разбитый фарфор. Ноты выплывают из рояля «Бехштайн», улетают в окна, реют над итальянским садиком: порой подобно торжественному сопровождению панихиды, порой напоминая вопль человека, предвкушающего экстаз, — но в конечном итоге ноты все равно тают в тишине.
Магда — настоящее время
Магда мягко ступает по полу квартиры. Хотя она и высокого роста, шаги ее беззвучны и грациозны, как у кошки. Стопы у нее продолговатые и белые, с пальчиками разной длины. Иногда она берет свою папку с набросками, реже — кипу рисунков; чаще всего ни того, ни другого нет: лишь она одна. Я представляю, как ее везут на автобусе в пригород — там сплошной армированный бетон и все люди носят нечесаные космы до плеч, — и она позирует перед камерой в какой-то безвкусно обставленной импровизированной студии; она разводит руки и ноги, чтобы объектив мог поймать абсолютно все, пробраться в самые потаенные уголки ее тела. Знание без понимания.
— Хочешь посмотреть? — спросила она и бросила мне журнал. Журнал Магды,[96] кричащий, разноцветный, жизнерадостный, как обертка рождественского подарка. Называется «Пососи». Я открыл журнал и пролистал несколько шероховатых на ощупь страниц. Там, разумеется, была Магда: Магда в ослепительно-белом парике, бьющаяся в нелепых конвульсиях на кровати в каком-то дешевом отеле; Магда с раздвинутыми ногами, сверкающая неприкрытой плотью; Магда показывает свои складки, покатости и ложбины; Магда, названная «Кристал, наша собственная бархатная революция из Чехии», но все-таки Магда. Это точно.
— Омерзительно. — Я даже сейчас слышу голос Магды. — Мне кажется, — этот звук «ж» болтается между двумя звуками, взрывным и фрикативным, наполовину «ж», наполовину «д», чисто ирландское произношение, — мне кажется, с этим нужно что-то делать.
— Что-то? А что именно?
Последний разворот: Магда стоит вполоборота, демонстрируя свои ягодицы, и напоминает легкомысленную домохозяйку, которая впускает в дом молочника через черный ход.
Она не сводит с меня глаз. И наконец спрашивает:
— Что скажешь? Этого хватит на квартплату?
— Ты за квартиру не платишь, — отвечаю я.
Она лишь смеется.
Магда пишет. Она смотрит на меня, когда пишет, смотрит с прищуром, смотрит властным взглядом художника. Она смотрит на меня, когда пишет, а я на нее, когда она занимается будничными делами: обнаженная Магда сидит на стуле, поджав колени, и красит ногти траурно-черным лаком; Магда на кухне кипятит воду для кофе, который она называет «турецким», хотя это не так; Магда лежит в ванне, будто на картине Боннара[97] и груди ее плавают, как яйца-пашот в бульоне, и пена лобковых волос напоминает водоросли, оставленные схлынувшей волной, скрывающие в себе тысячу темных тайн. Магда выдержана в черно-белой гамме: чернота волос, чернота глаз, чернота губ — и голая белизна кожи. Я смотрю на нее, и взгляд помогает мне завладеть ею.
— Ты не всегда был учителем, — сказала она мне однажды. Ее слова звучат как решительное утверждение, и не тол ко в силу непонимания нюансов языка, но и потому, что уверена в своей правоте. — Ты был кем-то другим.
— Священником, — ответил я.
— Я знала. Кем-то другим, я это знала. Так можно сказать — «кем-то другим»?
— Да, можно.
— Священник. — Она покачала головой, как будто подозревала что угодно, но только не это. — Katolicky?
— Katolicky, — подтвердил я.
— А теперь не священник.
— Нет.
Каждое воскресенье Магда с прилежанием деревенской простушки ходит в церковь. За углом палаццо, на краю гетто, стоит, точно маяк, неприметная церквушка в стиле барокко. Магда тихонько проскальзывает в церковь и садится на заднюю скамью, откуда смотрит на все так, будто вписывает увиденное в память на манер салонной игры: гипсовые святые, затейливо украшенные алтари, пыльная позолота на потолке, старый трясущийся священник, несколько старушек, случайно забредшая девушка с серьезным лицом евангелистки — все это сохранено в ее памяти.
Вернувшись из церкви, Магда сливает увиденное в амальгаме рисунка: церковный купол, склоненные головы, расписной гипс, священник в ризе, распростерший руки так, словно он не просто отправляет службу, а в самом деле агонизирует на кресте.
Только лицо ее принадлежит не старику и не церкви, а мне.
Однажды, гуляя по близлежащим улочкам, Магда замечает в витрине антикварного магазина дароносицу. У нее случайно оказались при себе деньги (возможно, ей как раз заплатили за то, что она позировала перед камерой какого-то безликого мужика с эрегированным членом), так что Магда зашла внутрь и купила эту дароносицу. Теперь она стоит в гостиной — огромный слепок потускневшего солнечного света. Дароносица появляется на многих картинах Магды, проплывая над распятым священником, как взрыв, как адское пламя, как холокост жертвенного агнца.
— Моя мать ходила в церковь, — сказала Магда в ответ на мой вопрос. — Думаю, она не верила, но мой отец был членом партии, и таким способом она вызывала в нем ненависть к себе. Партия считала, что в церковь ходить нельзя Они спрашивали у него: почему твоя жена ходит в церковь? Понимаешь? Когда он ушел, она перестала ходить туда.
— А ты верующая?
— Верующая? — Магда лишь пожала костлявыми плечами. — Я верю, что Бог существует. Как же иначе?
— И как он относится к тому, чем ты занимаешься?
— Думаю, ему плевать. Ему на все плевать, не так ли?
— Я не знаю, — ответил я. — Раньше знал, а теперь не знаю.
Тогда она вдруг спрашивает:
— Ты боишься? — И я соглашаюсь: да, я боюсь, и ей, похоже, приятно это слышать. — Я часто боюсь, — говорит она. — Но я думаю, жизнь должна быть страшной, поэтому люди и ходят в церковь. Чтобы не бояться.
— Вроде того…
— Но ты боишься, а в церковь не ходишь.
— Верно.
В ту ночь, лежа в постели, Магда придвинулась ко мне и положила мою руку себе между ног.
— Не бойся, — прошептала она. Тепло ее волос, прикосновение ее запретной плоти — тех участков, которые Магда беззастенчиво обнажает перед камерой, хотя принадлежат они лишь ей; ее чувственность, ее теплое животное начало — все это приносит мне утешение. Я люблю ее запах. Это теплый, мучной аромат, аромат зерна и травы, приправленный тонким запахом пота. Кости у нее крепкие, и плоть не такая податливая, как у Мэделин. Плоть Магды тверда. Две женщины с одинаковыми именами находятся на противоположных концах любого женского спектра, который только можно себе вообразить.
Сперва на автобусе с пересадкой, потом пешком по улице Мерулана — и мы на месте. Она неоднократно видела подобные места: узкий проход между вульгарными, кое-как слепленными многоквартирными домами, знакомый ей по окраинам любого моравского города. Наследие фашизма и наследие народной республики очень похожи друг на друга. Изумляет банальность этого кошмара.
— Где мы? — спрашивает Магда. — Где мы находимся, Лео? — Легкое возбуждение, привнесенное ею в поездку, уступает место смутному страху, как омраченная неприятным известием шутка.
— Мы находимся на улице Тассо, — говорю я ей. — Дом сто сорок пять по улице Тассо, — уточняю я. Узнает ли она это название? Сомневаюсь. Для Магды история началась лишь несколько десятилетий назад.
Женщина в офисе на первом этаже обходительна и явно относится к своим обязанностям со всей серьезностью, напоминая медсестру, которая ухаживает за больными. Есть небольшая библиотека, где мы можем ознакомиться с документами. Можно взять англоязычный буклет. Можно подняться на следующий этаж когда угодно.
— Что это такое, Лео? — снова спрашивает Магда. — Что это за место?
Я не отвечаю. Наверное, хочу внушить ей священный трепет перед непознанным. Наверное, хочу ее напугать.
— Отвечай, — не унимается она. — Что это?
Мы молча поднимаемся выше, приближаемся к серым дверям. Все вокруг покрыто пылью и копотью и пахнет дезинфицирующим средством. На первый взгляд, какое-то заурядное муниципальное здание. Я вспоминаю те несколько лет, что я прожил в роли приходского священника в Лондоне, пока не услышал зов древних текстов. Линолеум на полу, безвкусные тисненые обои, узкие коридоры и крохотные комнатушки, общая кухня и службы.
— Что это, Лео? — повторяет Магда, подходя ко мне у входной двери, где можно позвонить в звонок, и появится женщина: ее волосы будут спрятаны под платком, тело будет скрыто цветастым фартуком, а обута она будет в комнатные шлепанцы. Но вход никто не охраняет, как будто произошла глобальная катастрофа. Дверь квартиры распахнута настежь.
— Что это? — Магда осматривает узкий коридор и унылые комнаты, вентиляционные решетки над дверными проемами, дверные глазки. — Что это? — повторяет свой вопрос Магда, хотя и так уже все поняла.
Не дожидаясь приглашения, мы переступаем через порог. Чай тут не подают. Пюре с колбасками и зеленым горошком тоже не угостят. В одной из комнат, прямо напротив двери, нет окон. О, раньше окон не было вообще нигде, но это потому, что проемы были замурованы, а во внешних стенах были предусмотрительно проделаны вентиляционные отверстия, чтобы заключенные не задохнулись. Но в комнате напротив двери, узкой и голой, окон не было изначально: обычная кладовая, чулан, по-итальянски это называется un ripostiglio.
— Вот здесь, — говорю я, указывая рукой. — Вот здесь.
Комната эта шириной в шесть футов и шестнадцать в длину. Голый пол. Стены покрыты толстым слоем синей краски — мерзкий, казенный цвет. Магда застывает в дверном проеме, неохотно заглядывает внутрь, еще не зная, что увидит там.
— Смотри. — На краске выцарапаны отчаянные, дерзкие каракули. Я хорошо знаю это место, знаю, где находится каждое слово, каждая фраза, каждая богобоязненная надежда и каждое жалкое признание. — Смотри.
Она заходит в комнату и смотрит, куда я указываю. Это греческое слово ιχθύς, «рыба».
Пришло время прочесть лекцию о рыбах.
— И вот здесь.
Дата, выцарапанный календарь, проклятие, послание Dio с'и. Camerati non dimenticarmi. Бог есть. Друзья, не забывайте меня.
— И еще вот тут. — Сквозь каракули проглядывает белая штукатурка, как мясо в открытой ране, как кость сквозь ожог: Addio pianista mia. Non serbo rancore. Un bacio Francesco.
Реальность текста, текст как улика и свидетель одновременно.
Addio pianista mia. Non serbo rancore. Un bacio Francesco.
Чем обычно выцарапывают подобные надписи? Ногтями? Пряжкой ремня? Нет, ремни отбирают. Скрепкой, найденной в пыльном углу камеры? Гвоздем из ботинка? Чем?
— Что это значит? — спрашивает Магда. Она выбирает одно слово, одно из многих. И слово стало плотью. — Serbo? Что это значит? «Серб»?
— Rancore — это злоба, обида.
— Что это значит? — Голос ее хрупок, как будто готов в любую секунду надломиться.
— Non serbo rancore. Я не держу на тебя зла. Я тебя не виню, понимаешь?
Она рассматривает слова, выцарапанные на штукатурке.
— Кто такой Франческо? — спрашивает она. — И пианистка. Кто она такая? — И тогда Магда вздрагивает от всего этого ужаса — чувства замкнутости, ограниченности пространства, чувства ловушки. Ее ужасает прошлое, которое в этом месте нещадно подавляет настоящее и лишает всех свободы. — Я знаю, что это за место, — мягко говорит она. — Это тюрьма.
Магда пишет то, что я и предполагал: Лео на корточках сидит в углу синей комнаты. Загогулины на стенах, картинки и слова на синей краске. Лео в тюрьме.
13
Во Всемирном библейском центре в Иерусалиме над папирусом работали с безграничной осторожностью и терпением нейрохирургов. За спиной у них стояла видеокамера, немой свидетель происходящего. Там была женщина по имени Лия, приехавшая из музея Израиля; там был мужчина по имени Давид Тедеши, работавший над коллекцией папирусов в университете Дьюка и являющийся одним из самых уважаемых экспертов в сохранении папирусов — одним из самых уважаемых экспертов в мире, где осталось несколько десятков практикующих специалистов. «Уникально», — бормотали они Друг Другу, аккуратно увлажняя свиток, поддевая концы пинцетом и заглядывая внутрь. С осторожностью, с предельной осторожностью они развернули папирус, как разворачивают саван, в который замотан мертвец. Только внутри этого савана таились секреты двухтысячелетней давности. «Просто великолепно, — говорили они во время работы. — Фантастика».
Банальность слов.
Открытый свиток напоминал отрез грубой ткани длиной примерно в десять футов. Изъеденный, пожеванный то ли клещами, то ли временем, кое-где изгрызенный, кое-где — просто рваный, он все же оставался единым целым. Имелись двусмысленности, имелись лакуны, но несмотря на это текст можно было назвать полным — организованные группы букв без пропусков, без перерывов, без сомнений маршировали строем во всю длину свитка, будто незримая рука вывела их под линейку. Шестнадцать обтрепанных страниц, склеенных воедино. В среднем двадцать букв в строке и двадцать четыре строки на страницу. Иногда появлялся крохотный пробел, означающий начало нового предложения. В остальном пунктуация отсутствовала, никаких ударений, никакого придыхания. Текст был написан на простом, могучем языке восточного Средиземноморья — на койне.
— Уверенная рука, элементы курсива, — объяснил Лео Кэлдеру, когда они впервые взглянули на развернутый свиток. — Почерк аккуратный, но явно не принадлежит профессиональному писцу.
Кэлдер пробежал глазами по полосе папируса, всматриваясь в хитросплетения букв, в надежде обнаружить неожиданное объяснение, в надежде, что решение загадки снизойдет на него, как божественное откровение.
— Сомнений быть не может?
— Сомнений?
— В том, что Иешуа и Иисус Христос — это один и тот же человек.
Yeshu the Nazir. Написание этого имени в манускрипте Лео узнал с той же точностью, с которой мог узнать свое собственное имя. ΙΕΣΟΎΤΟΝΝΑΖΙΡ, iesoutonnazir. Иисус из Назарета. Лео, сгорбившись, сидел над текстом, изучая буквы при помощи бинокулярного микроскопа. Разорванные волокна плавали в сверкающем круге предметного стекла. На них остались хлопья пигмента, незаметные невооруженным глазом, отчего омикрон в бледной окружности оптического увеличения стал фрагментарным обрывком теты.
— Возможно, со временем…
— Сколько времени тебе понадобится?
Лео отвечал, не отрывая глаз от объектива:
— Нужен систематический подход. Сначала — транскрибирование ненормализованной орфографии, потом уже — перевод. Нельзя смешивать одно с другим, если потом не сможешь одно от другого отделить. — Он написал в блокноте: «theta-rho» — и снова посмотрел, будто погружаясь в глубину веков. Сложная, кропотливая работа. — Это thronon «престол», — пробормотал он. — Точно, престол. — Но следующие буквы повредились слишком сильно, чтобы смысл их можно было восстановить.
— Что — «престол»? Что, черт побери, значит «престол»?! — в нетерпении выкрикнул Кэлдер.
— Ничего. Ничего престол не значит. Просто гипотеза.
— А что насчет даты? Можешь определить ее хотя бы приблизительно?
Лео передвинул микроскоп к другому поврежденному участку. В работе он использовал перекрестные ссылки на сделанные ими фотографии. Вопросы Кэлдера начинали ему надоедать.
— Нельзя говорить с полной уверенностью. Мне кажется, еще рано делать выводы. Постоянное употребление подписанной йоты, например, общая простота букв, нехватка значков для обозначения придыхания и прочее… Первый век. Думаю, никто не станет отрицать, что текст очень ранний. А вот правдивость его содержания отрицать будут. Разумеется, они будут это отрицать, и никакие палеографические и радиоуглеродные экспертизы не убедят их в обратном. А теперь, если тебя не затруднит…
— Не смею тебе мешать, — сказал Кэлдер. — Можешь спокойно продолжать работу.
Лео поселили в пристройке к Центру, которая некогда была частной виллой, а теперь служила гостиницей для приезжих ученых. Рядом находился садик, в котором он мог в свободное время гулять. Садик зарос терновником и кактусами, агавой и опунцией; на ветру трепетали листья серебристых олив. Почва была красновато-бурого оттенка — цвета засохшей крови. Дни Лео ограничивались работой, ночи — мыслями о Мэделин. Он жил в пристройке, по вечерам гулял в саду, целыми днями работал в искусственной безмятежности архивов. Ему снились сны. Иногда его посещали соблазнительные сны о жизни и воскрешении, после которых он вынужден был просыпаться в постылом реальном мире и совершать резкий переход от возвышенного к тривиальному. Иногда Лео мучили кошмары, в которых он падал откуда-то сверху, летел к земле, парил в бездне; после этого он просыпался, испытывая искреннее облегчение, и обнаруживал, что это не сон, а явь. Мэделин была мертва. Не переместилась в иное измерение, не стала тенью в царстве Аида, а просто погибла. Ее разбитое тело упаковали и отправили в Англию, где и прошли скромные похороны в семейном кругу. Отныне она жила лишь в скупых воспоминаниях знавших ее людей, проживала странную, неполноценную загробную жизнь, напоминая знакомое лицо, что искажено десятком различных треснутых линз, но никогда не станет лицом реальной женщины — жившей, любившей и уж наверняка погибшей.
— Ужасная, ужасная трагедия, — сказал Гольдштауб, встречая Лео в аэропорту. — Но у тебя, по крайней мере, остается вера. — Он искренне пытался помочь — вот что превратило его слова в полнейшую нелепицу. Он пытался облегчить боль. — Лео, по крайней мере, у тебя есть твоя вера.
Но вера Лео, парализованная наркозом, простерлась на листе прямо перед ним и полностью зависела от осторожности его вмешательства:
«Это наследие Иешуа из Назарета. Он был сыном Аристоба(-улуса, сыном?) Ирода. Когда Аристобулус казнил своего[98] сына Иешуа (…спрятали?) Ибо предсказано было, что сын этот… (взойдет на) пр(естол?) Аристобулус был сыном Мариам[99] Гасмонея и матерью его[100] была Мариам (дочь) Антипатера (сына) Ирода и (дочь)[101] Антигона Гасмонея. Он клянется, что это правда, кто знает.
Лео смотрел на ровные, тщательно выверенные мазки сажи сквозь прозрачный образ Мэделин:
«И пророчество гласило, что из Иакова выйдет звезда, скипетр, что будет править миром. И предсказано это в Священном Писании.[102] И отцом Иешуа назвали Иосифа, и спрятали его от Ирода, дабы дитя могло жить и взойти на престол, как предсказано было. Иосиф происходил из рода Рамати. Это был уважаемый человек, член Великого Сангедрина, и он очень хотел возвращения Израиля.
— Звездное пророчество из Книги Чисел, — сообщил Лео комиссии. «Комиссия Иуды», как они сами себя называли, была назначена, чтобы контролировать работу и решать, в каком виде преподнести миру уничтожение веры. В нее входили шестеро членов: Лия, Давид Тедеши, какой-то сотрудник Археологической палаты Израиля, правительственный ставленник из университета иврита и Кэлдер в роли председателя. — Звездное пророчество было одним из самых известных мессианских предсказаний. Конечно, сразу же вспоминается Бар-Кохба.[103]
— Возможно, это позволит отнести свиток ко времени восстания Бар-Кохба? — предположил Тедеши. Это был худой, костлявый мужчина с выдающимся адамовым яблоком и сутулой спиной, что свойственно всем людям, рост которых выше среднего.
Лео лишь отмахнулся.
— Бар-Кохба был не единственным претендентом на мессианство. К тому же нельзя упускать из виду вопрос об Иосифе, приемном отце Иешуа…
— Вот здесь и возникает новозаветная легенда, — сказал Кэлдер, сидевший во главе стола. — Приемный отец; то, что надо. В общем-то, этот свиток подтверждает историю из святого благовествования, правда? — Потолок был усеян небольшими лампочками в углублениях и напоминал звездную галактику. Серебристая седина Кэлдера блестела в отраженном свете.
— В некотором смысле, — согласился Лео. — Но не в том смысле, который ты подразумеваешь. Этот Иосиф — Иосиф Аримафейский.[104]
Воцарилось молчание.
— Кто-кто?
— Иосиф Аримафейский. — Как ни странно, вопрос был совершенно ясен. — Аримафейский, Arima.th.ea. Ramathain. Первым это определил Ювсебий, потом — Джером. Не думаю, что кто-либо из ученых, занимающихся исследованиями Библии, оспорит это.
— Иосиф Аримафейский был приемным отцом Иешуа?
— Так здесь написано. — Лео мрачно улыбнулся Кэлдеру. — Это же подтверждение, которое вы искали, не так ли? Подтверждение того, что Иешуа Назир — это и есть Иисус из Назарета. В этом присутствует какая-то скучная правда, да? Таким образом объясняется очень многое из Нового Завета: кем был Иосиф, почему его беспокоила судьба Иисуса, почему он положил его в гробницу. Очень многое.
Все устремили взгляды на Кэлдера, ожидая ответной реакции. Но тот лишь перебирал бумаги, и движения его были быстрыми и нервными, словно он куда-то торопился.
— Кто же, черт побери, это написал?! — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Кэлдер казался абсолютно беспомощным. Он хотел получить ответы, а ответов не было. — И ради всего святого, какую он преследовал цель? — Привычная ирония, казалось, исчезла без следа.
— Мы уже неоднократно об этом говорили, — усталым голосом промолвил Тедеши. — Это всего лишь досужие вымыслы. Историки и археологи могут представить это в каком угодно свете, но на самом деле это лишь версии, предположения. Все, что у нас есть — единственная бесспорная вещь, которая у нас есть, — это текст.
Кэллер огляделся по сторонам, словно подыскивая нужные слова.
— Эта информация должна быть совершенно секретной, — решил он. Слово «секретная» казалось очень уместным. Secretus, «разделенный». Существует «секрет», таинство мессы, молитвы, которую бормочет священник во время сбора пожертвований. Тайное знание — это то знание, которым обладают приобщенные к гностическим обрядам.
— Разве подобные вещи не являются всеобщим достоянием? — сердито спросила Лия. — Большую часть жизни я посвятила борьбе за полную публикацию Кумранских свитков. Я не хочу быть причастной к очередному замалчиванию в научном мире.
Они с Кэлдером ввязались в ожесточенный спор.
— Это самая настоящая бомба, — сказал он. — Даже хуже. Ядерное оружие. Плутоний. Господи, да это Апокалипсис! Мы не можем просто так выпустить это в мир.
— Мы обязаны опубликовать текст, — настаивала она. — Рабочие материалы, предварительные результаты. Мы должны держать внешний мир в курсе дела. В противном случае пойдут кривотолки, начнутся всякого рода спекуляции на этой теме… Довольно тех сплетен, что циркулируют уже сейчас.
Восстановить худой мир удалось представителю Археологической палаты. В предыдущих дискуссиях он участвовал мало, и возникало смутное ощущение, что он — незваный гость из внешнего мира, некто вроде шпиона.
— Не может быть и речи ни о какой академической свободе, — заметил он и холодно улыбнулся Лие. — Мы имеем Дело с политикой, обычной, но вовсе не простой политикой. Как выразился Стивен, эта штука может рвануть почище бомбы. Меньше всего на свете правительству Израиля хотелось бы ввязываться в конфликт с христианами. А этот свиток принадлежит израильскому правительству.
Последовало неловкое молчание. Вскоре члены комиссии встали и начали складывать свои бумаги. Было не вполне ясно, приняли ли они окончательное решение, но к Библейскому центру уже приближалась буря. Выходя из кабинета, в котором заседала комиссия, Гольдштауб отвел Лео в сторону и сам же рассмеялся над излишней предосторожностью.
— Думаешь, мы сможем держать это в тайне? Лео, вся эта история вот-вот просочится во внешний мир. Помнишь статью в «Таймс»? Даже не думай, что этим все ограничится. Уже пошли сплетни, и это, заметь, только начало.
«Сплетни» — неправильное слово. «Сплетня» означает некое сплетение, а то, что проникло сквозь стены Библейского центра, больше напоминало едкую, коварно растекающуюся жидкость, первую струйку настоящего наводнения. Журналисты всего мира словно подкапывали запруду, ожидая, когда же ее наконец прорвет. «Обнародует ли Всемирный библейский центр полный текст свитка, чтобы научная общественность смогла самостоятельно его оценить? — вопрошал свежий выпуск газеты «Тэблит». — Можем ли мы быть уверены, что данный труд находится в руках компетентных ученых, а не диссидентов, мечтающих о сенсации?»
— Черт побери, что это за «Тэблит»? — спросил Гольдштауб. — Судя по названию, имеет какое-то отношение к Моисею.[105]
— Католический журнал, — пояснил Лео. — Интеллектуальный, довольно снобистский.
— Черт, откуда они это знают?
— Ты же сам вчера сказал: вся эта история уже просочилась в мир. И теперь просто ждет подходящего момента.
Леовернулся к работе. Изолированный от мира, защищенный от мира надежной прослойкой, он снова принялся за скрупулезное препарирование двух тысяч лет веры: буква за букву, слово за слово, око за око, зуб за зуб, сожжение за сожжение, рана за рану, полоса за полосу. Он прилагал комментарии, добавлял толкования, на цыпочках крался между тонкостями спряжений и склонений, синтаксиса и морфологии. Стояло лето. Зной корежил землю, свет разбивал мир на белые и бронзовые осколки, на солнечную и теневую половины. Камни накалялись до такой степени, что к ним нельзя было прикоснуться, цикады истошно вопили, будто прижженные линзой. В здании же сохранялся прозрачный холодок пещеры, пещерный холодок скриптория,[106] холодок покойницкой.
«Каким же человеком был Иешуа? Совратителем,[107] тростником (что гнется на ветру?)…скорее, галилеяне, чем фарисеи… (он был известен?) вождям народа (как) Иисус Вар-Авва, Сын Отца, и (его происхождение могло быть?) известно всем; но простые люди[108] называли его Иисусом Вар-Адамом, что значит Сын Человека. Я знал его, и я любил[109] его.
«Я знал его, и я любил его». Лео закрыл глаза, измученные ярким светом и капризами замысловатых букв. «Я знал его и я любил его».
В греческом языке существует множество слов, обозначающих ту или иную любовь, но даже их недостаточно. Божественная любовь, любовь к мужчине, любовь к женщине, любовь к жизни, родительская любовь, любовь к стране. Склонившись над текстом, Лео сражался с любовью. Любовь к Мэделин, подумалось ему… Слишком трудно объяснить эту последнюю любовь: она создана из eros, agape и philia образующих вместе сложную комбинацию. Agape — это любовь человека к Богу и Бога к людям, а значит, и любовь человека к ближнему своему. Именно agape Павел включил в свою знаменитую триаду — наряду с «верой» и «надеждой», но, к сожалению, переводчики Библии короля Иакова[110] неудачно перевели это чувство как «charity», «милосердие». Но какая из любовей погубила Иешуа? Какая любовь погубила Мэделин?
«Я уже пыталась это сделать, — написала она. — О да, у меня есть опыт в подобных вещах, я разве не говорила?»
В каких еще «подобных вещах» у нее был опыт? Что подразумевали ее неоднозначные слова? Лео пытался с ней разговаривать. Лишившись Бога, к которому он взывал прежде, Лео предпринимал абсурдные попытки беседовать с Мэделин, пытался воскресить ее в своих фантазиях, пытался воссоздать ее из эфира, воздуха или какой-то иной субстанции, хранившей ее образ; точно так же когда-то, в детстве, он пытался вообразить живого Христа, опираясь лишь на бездну беспорядочных образов и иллюзий. Но как и тогда, его попытки не увенчались успехом: Мэделин не являлась его взору. Мэделин молчала. Он думал о ней, и чем больше он о ней думал, тем менее реальной она становилась; он воображал ее, и чем чаще он протягивал руку, силясь ухватить ее образ, тем зыбче тот становился. Бывали моменты, когда Лео боялся вспоминать ее, как будто при каждой мысли воспоминания будут истончаться, как будто память — смертна и умирает каждый раз, когда ее напрягаешь.
«Иешуа учил, что прежде всего нужно любить Господа своего и презирать все те силы, которые властвуют над нами, ибо они суть не от Бога, а порождение человеческой натуры. Иешуа учил, что нужно отречься от своей семьи и друзей своих и следовать за ним к спасению. Иешуа учил, что если человек богат, то должен он продать все свое имущество, а прибыль отдать тем, кто следует по пути истинному».
Давид Тедеши пригласил Лео на ужин. Семья Тедеши жила в тесном доме в одном из новых районов на окраине города, где здания образовывали концентрические круги, точно стены цитадели вокруг главной башни: супермаркет, почтовое отделение, полицейский участок. Жители района как будто находились в постоянном ожидании осады.
Ужинали они в крошечном садике за домом. Двое детишек как заведенные мотались вокруг мангала и обеденного стола. Жену Давида звали Элен. Эти двое были ярыми христианами, стараясь не уступать в вопросе набожности членам тихой, убежденной баптистской паствы в Америке. На Священную землю они переехали, чтобы Давид мог делать карьеру в туманной области папирусологии, но также затем, чтобы приблизиться к средоточию своей веры. Они выучили иврит. Службы они посещали вместе с группой, называвшей себя «Евреи за Иисуса».
— А теперь этот свиток… — тихо вымолвила Элен. — Ересь, правда?
Лео попытался успокоить ее:
— Многие ранние тексты, в том или ином смысле, являются еретическими. Например, Евангелие от Фомы. Некоторые Терские папирусы.[111] Раннехристианские источники разногласий и противоречивых сведений.
— Но это же совсем другое, не так ли? Давид уверяет, что это совсем другое…
Этот текст древнее остальных, вот и все.
Она не унималась — эта большая, красивая, неопрятная женщина. Лоб ее пересекла морщина, выражавшая тревогу за детей, веру и будущее всего мира.
— Но дело ведь не только в том, что этот свиток древнее остальных неканонических текстов, верно? — настаивала она. — Он древнее всего. Древнее, чем сами благовествования.
Лео не стал это отрицать. Этот папирус, похоже, действительно древнее, чем любой текст из Нового Завета, древнее древнейших евангельских останов, гораздо древнее Честера Битти,[112] древнее Райландских фрагментов. Древнейший из христианских текстов вообще.
— И в нем оспаривается факт воскрешения?
Последовало молчание. Давид принес снятые с решетки гамбургеры и усадил детей.
— Да, — сказал Лео. — Автор утверждает, что своими глазами видел разложившееся тело Иешуа. Мы еще не дошли до конца свитка, но в начале говорится именно об этом.
— Я верю, что мой Спаситель жив, — негромко промолвила Элен.
— В это верят миллионы людей.
— А теперь вы утверждаете, что он умер, как обычный человек. Что скажешь, Давид?
Но ее муж не говорил ничего. Ему было не по себе. Вся эта история со свитком, который настойчиво обращался к потомкам с помощью самых простых слов, который вовсе не походил на чудо и не имел ничего общего с фантастикой, который содержал в себе незамысловатые исторические ведения, — все это его крайне беспокоило.
Наконец Элен снова заговорила с Лео:
— Помню, как во время Холодной войны, — сказала она, — мой отец служил в ВВС. Мы жили на военной базе, среди бомбардировщиков и ракет. Я помню, мне снилось, что однажды все это выйдет из строя, самолеты взмоют в небо, а ракеты запустятся сами по себе. И прилетят враги. Огромные беззвучные вспышки в небе. Ядерные грибы над деревенскими пейзажами. Я просыпалась от ужаса в холодном поту, но никогда об этом не рассказывала ни матери, ни отцу. Сейчас у меня схожее чувство. Та же паника, то же предчувствие неизбежной катастрофы…
Давид взял ее за руку. Элен покачала головой, но все же не стала отстраняться. В глазах у нее стояли слезы.
— Хотите прочесть молитву? — спросила она у Лео. — Вы же когда-то были священником? Давид, кажется, упоминал об этом…
— Я и сейчас священник. Официально я все еще священник…
Она улыбнулась. Глаза ее блестели от слез.
— Все мы, в известном смысле, служители Господа нашего, разве не так?
И тогда Лео прочел молитву для хозяев этого гостеприимного дома, и все члены небольшой семьи склонили головы над тарелками, как будто верили, что его слова несут нравственную нагрузку. Прочтя короткую, малозначительную молитву, Лео отчасти ощутил былую силу, силу и величие, которых лишился.
Позже, когда детей уложили спать, Лео рассказал о Мэделин. Он никогда раньше никому о ней не рассказывал, если не считать уклончивых ответов на вопросы Гольдштауба. Но сейчас, сидя в саду семьи Тедеши в Иерусалиме, он поведал им всю историю — в общих чертах. Таким образом он словно совершал обряд искупления. Обычный рассказ о тех днях, прожитых в Риме, казалось, укрощал неприкаянных призраков.
Потом они пошли к машине Давида. Небо над домами было размыто городскими огнями, но звезды все равно виднелись там и сям.
— В этом присутствует своя мораль, не правда ли? — заметил Давид.
— Мораль?
— В том, что звезды видны даже на загрязненном небе. Человечество пало ниже некуда, но, тем не менее, можно поднять глаза горе и увидеть звезды, несмотря на всю эту грязь…
— Думаю, если поискать, мораль найдется везде.
— А какова мораль Иудиного свитка?
Лео не смог ответить. Давид молча отвез его обратно в Библейский центр. Они проезжали темные предместья города, где евреи ожидали пришествия Мессии, а арабы — зова Аллаха. Подъехав к воротам Всемирного библейского центра, они увидели там машины, проблески фонариков и вооруженных мужчин в форме. Полицейские велели им остановиться.
— Какого черта тут творится?! — воскликнул Давид. Это был предел его сквернословия. Он никогда не употребил бы имя Господа всуе, но, когда удивлялся или расстраивался, запросто поминал дьявола. — Какого черта…
В лицо им ударили лучи фонариков, зазвучали крики:
— Выходите! Документы! Покажите руки! Документы! Удостоверения!
— Разве можно сделать то и другое одновременно? — спросил Лео. Его схватили и резким толчком поставили так, чтобы он упирался руками в крышу автомобиля.
— Думаешь, ты такой шутник? — спросил кто-то прямо у него над ухом. — Думаешь, ты очень остроумный, да? — В этом бестелесном голосе слышалось что-то американское, аллюзия на все американское кино фазу. В ребра Лео уперся пистолет. По всему его телу засновали проворные руки: под мышками, по груди, в паху, вдоль ног. — Что вы здесь делаете? Откуда вы? — спросили полицейские.
Давид посмотрел в их сторону с другой стороны машины. В лучах фонариков его лицо приобрело особенную, контрастную окраску. Лео вспомнились лица на портретах Эль Греко: вытянутые, тонкие черты, темные безумные глаза. С полицейскими Давид говорил вкрадчивым тоном отца, увещевающего непослушное дитя:
— Мы приехали из моего дома. Мистер Ньюман живет здесь. Мы работаем в Библейском центре. Позвольте спросить, что здесь происходит?
— А доказательства у вас есть? — спросил полицейский.
— Доказательства чего?
— Ваших передвижений сегодня вечером.
— Разумеется.
Подошел Кэлдер. Судя по виду, его только что насильно вытащили из постели: растрепанные волосы, неистовый взгляд. В отличие от миролюбивого Тедеши, он яростно заорал:
— Что тут, черт побери, происходит?! Что тут творится. Бога ради?! Что вы делаете с моими коллегами? Эти люди работают здесь вместе со мной!
Полицейские надолго замолчали. Потом, как бы прося прощения, отряхнулись. Документы быливозвращены владельцам.
— А кто его знает, — беспомощно пробормотал их начальник. — Мало ли что…
— Похоже, произошло что-то вроде взлома, — объяснил Кэлдер, когда они шагали по подъездной дороге к главному корпусу. — Кто-то перелез через ограждение и выдавил оконное стекло.
В холле сторож объяснял всем желающим, что он совершал обход в другом крыле здания, что он всегда начеку и никогда не спит на работе. Они вместе обошли здание распахивая двери и включая свет в пустых, будто выжидающих комнатах. В архиве дверь, которая должна была быть закрытой, была распахнута, та же участь постигла запертый дотоле шкаф, но в остальном никаких изменений не наблюдалось. Нетронутый запечатанный свиток лежал под листами зеркально чистого стекла, словно саван из музейной экспозиции. Ничего важного не пропало, никакого ущерба, по-видимому, нанесено не было. Но незаурядное событие и последовавшее за ним полицейское расследование вселило беспокойство в жизнь Центра. Внезапно создалось впечатление, что Центр находится на передовой, при этом причины войны не известны, а участники не объявлены.
— Мы не должны терять бдительность, — сказал Кэлдер сотрудникам, собравшимся на следующее утро в его кабинете. — Мы постоянно должны быть начеку. — На столе лежал номер «Иерусалим пост». «Незаконное проникновение в Библейский центр», — гласил заголовок. Какова была конечная цель — неужели похищение нового свитка? Журналисты связались с Библейским центром, чтобы работники подтвердили либо опровергли это предположение. Можно ли взглянуть на документ? Может ли директор сделать официальное заявление: не о взломе, а о самом свитке? Правда ли, что там содержится свидетельство апостола, предавшего Иисуса? Подделка ли это? Махинация?
Международная пресса вскоре пошла по стопам прессы национальной. Можно сфотографировать, можно взять интервью? Телефонные звонки раздавались в самом Центре, в пристройке, в домах сотрудников. «Иудин текст пошатнул основы христианства», — гласил заголовок лондонской «Таймс».
— Нам нужно контролировать информацию, — сказал Гольдштауб членам комиссии. — Пресс-релизы, официальные интервью. Мы должны управлять потоком информации. Мы должны предугадывать события, а не реагировать на них. — В голосе его слышалось отчаяние. Он был словно король Канут Великий,[113] призывающий сопротивляться встречной волне.
— Вы можете подтвердить слухи касательно текста? — спросил журналист у Кэлдера под зловещим взглядом телекамеры. — Вы отрицаете, что он ставит под сомнение некоторые основные догматы христианства?
Кэлдер вежливо улыбнулся софитам и элегантно ушел от прямого ответа:
— Я бы назвал это еще одной точкой зрения. Отличной от других.
Именно тогда впервые появились Дети Бога. Никто толком не знал, откуда они взялись, но они собрались у входа в Библейский центр с плакатами и транспарантами, явно намереваясь помолиться за души тех обреченных, что были заперты в здании. На боку их фургона было коряво выведено краской: «Бог прекрасен».
Лео отправился на переговоры. Погода испортилась, после обеда полил дождь. Над городом, как грязное белье, висели серо-голубые тучи; асфальт еще не успел просохнуть. Через дорогу стояли протестующие — человек шесть-семь, мужчины и женщины. Одна из женщин держала на руках ребенка. Люди эти были молодыми, но их загорелая кожа из-за постоянного пребывания на солнце растрескалась, как сухой пергамент, отчего они казались старше своего возраста. Волосы у Детей Бога слиплись, а пахло от них сыростью.
— Чего вы добиваетесь? — спросил Лео. Но они смотрели сквозь него, мимо него, по касательной.
— Слово принадлежит Господу, — сказали они ему. — У вас нет права на Слово Божье. Слово принадлежит Богу, Слово есть Бог, и иной Правды нет. — В их речи отчетливо слышались эти заглавные буквы. Один из них, молодой парень с бородой и остекленевшими глазами, приблизился к Лео. — Все прочие слова суть слова Сатаны, — громко произнес он. — Вы будете гореть в аду за то, что вы делаете.
— Все, что мы делаем, — это читаем текст, обнаруженный во время археологических раскопок, — попытался оправдаться Лео.
— Все это записано, — сказал мужчина. — Там, в Книге Откровения. — Он возвел очи горе и принялся цитировать: — И взял я книжку из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. — Он уставился на Лео. — Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?[114]
Работа над переводом продолжалась. Члены комиссии переписывали и вычитывали, взвешивали каждое слово, перебирали всевозможные варианты, спорили, критиковали, опровергали и размышляли. Дебаты всегда проходили на повышенных тонах, как будто каждый участник отстаивал личные интересы.
После одной из таких встреч Гольдштауб подошел к Лео и протянул ему последний номер журнала «Тайм». На обложке была помещена репродукция «Распятия» Мантенья, где Святой город грозно высится вдали, а на раздвоенном дереве висит нераскаявшийся вор. По всей площади картины извивался гигантский вопросительный знак. Заглавие гласило следующее: «Свиток подвергает сомнению историю Иисуса». Внутри находился краткий, точный обзор последних событий, а рядом — таблица с перечислением существующих новозаветных папирусов. Прилагались также рассуждения насчет современного положения христианства в мире. Рядом были напечатаны фотографии Кэлдера и Лео, тайком сделанные в римском Министерстве юстиции. «Приближаясь к третьему тысячелетию, вынужден ли будет мир лицезреть закат религии, которая, как никакая иная, ознаменовала истекшие две тысячи дет? В девятнадцатом веке Ницше провозгласил, что Бог мертв. Возможно, теперь мы станем свидетелями его похорон — в компании бывшего американского баптиста и католического священника-отступника».
А перевод тем временем шел своим чередом. Текст распарывали и сгнивали наново:
«В неделю, предшествовавшую великому пиршеству, он был помазан женщиной (Марией?) … он въехал в город, как и было предсказано, на спине осла; и люди славили его имя, имя своего царя. Когорта[115] была поражена.[116] Юдас это видел своими глазами. Он верил в возрождение народа (и) (восстановление?) дома Израиля, Он желал очищения Храма во имя Господа. Но человек по имени Иешуа полагал, что стал подобен богу,[117] и завладел властью царей, и был Мессией[118] Бог.[119] Его группа (?) ожидала за городом, пока старейшины позволят войти в город, ибо требовал он преcmoла, короны и распада римских сил, И старейшины города не одобряли его пути прихода к власти.
— Помазание в Вифании и Вербное воскресенье, — сказал Кэлдер, сидевший во главе стола. — Триумфальный въезд. Лаже на осле… Пророчество Захарии. — Члены комиссии склонились над транскрипцией и переводом Лео. — Тут упомянута Мария? Тут так сказано?
— Текст поврежден. — Лео говорил едва ли не извиняющимся тоном, словно он нес ответственность за всякого рода дефекты. — Имя — если это, конечно, имя — начинается с буквы Мю. Мы с Давидом работаем над поврежденными буквами. Боже мой, нелегкая же это задача… Нелегко сохранять объективность.
— Кому нужна объективность, когда варвары уже у ворот? — спросил Кэлдер.
Давид покраснел.
— Они просто глубоко верующие люди, — возразил он.
— Твои дружки, не так ли?
— Люди, чьи убеждения я во многом разделяю. Нельзя же вот так взять и растоптать людскую веру.
— А кто ее толчет? Извини, Давид, но топчет здесь только Иешуа. — Кэлдер переключился с волнения коллеги на страницу, лежавшую перед ним. — Это, в некотором роде, акт неповиновения, бунт, верно?… Когорта «поражена». Потрясена, ошеломлена, какая разница?
— В оригинале используется слово ekplisso, — пояснил Лео— Оно многозначно. Когорта может быть «поражена» в буквальном смысле, оружием, а может — метафорически.
— Может быть, имеется в виду буквальное значение? Может, у Иешуа имелась в распоряжении целая армия, и они победили римский гарнизон, а уцелевших упрятали в башню Антония. Может, так оно и было…
В беседу вмешался еще один голос,· принадлежавший мужчине из Археологической палаты:
— Тут упоминается очищение Храма, совсем как в благовествованиях.
— Меня интересует одно: что это за «группа» ожидала Иешуа за городом? — Кэлдер, улыбаясь, взглянул на Лео. Белые, идеально ровные зубы, словно батарея спортивных трофеев на полке. — Такой себе ансамбль с саксофонами и прочим? — Атмосферу разрядил всеобщий хохот.
— Это слово strateuma, — сказал Лео. — Видите, вот транскрипция. Похоже, это все-таки strateuma, хотя буквы слегка повреждены. Если хотите, можете взглянуть на фотографии. Strateuma, как вариант — stratopedon. Strateumaточнее попадает в размер, но разница невелика. И значение — одно и то же.
— Но strateuma — это же не «группа», верно? — возразил Кэлдер. — Господи, это же «армия»! Этого Иешуа, черт его побери, сразу за городскими стенами поджидала целая армия!
— Возможно.
— Вполне возможно, согласен. А что означает «группа» в Новом Завете?
— Зависит от перевода.
— Естественно, это зависит от перевода. Лео, ради всего святого! Я знаю, что это зависит от перевода. Я не дурак.
— «Группа» — это обычно speira, которую я в этом же абзаце, чуть выше, перевел как «когорта». В принципе, когорта очень близка по значению.
— Значит, в одном абзаце у нас имеется два слова: армия и когорта. Заметный контраст, правда? Иисус, этот Иисус спугнул когорту. За городом его ждет целая, мать ее, армия. А это в значительной мере отличается от евангельской истории. Армия повстанцев. Галилеяне, полагаю. Это всего лишь гипотеза, но мне кажется, это были галилеяне. И он ждет, пока Сангедрин пригласит его войти, разрешит все там расхреначить — прости, Давид, не самое удачное словцо — и занять город.
— Это был бы точь-в-точь сценарий Еврейской войны, вот только случившейся на пятьдесят лет раньше.
— На тридцать три года раньше. Следи за хронологией. Если это у нас тридцать третий год нашей эры, то Еврейская война произойдет через тридцать лет. А этот Иешуа — не кто иной, как очередной честолюбивый вояка. По крайней мере, создается такое впечатление.
— Он мог не быть таким, а стать, — уточняет Лео. — Юдас подразумевает, что раньше он вел себя иначе.
— Конечно. Парень сильно изменился. Разумеется, он изменился. Власть развращает. Это нам известно. Меня интересует, чем же все закончилось…
— Последние две страницы оторваны от свитка, — сказал Лео. — И серьезно повреждены.
— Ну, давайте же это выясним. Мы уже на финишной прямой, и Лео — просто молодец.
Встреча подошла к концу, члены комиссии разошлись. Давид прошелся вместе с Лео по коридору к дверям архива.
— Мне это совсем не нравится, — сказал он. — Мне не нравится Кэлдер, мне вообще ничего не нравится.
— Многим людям придется пересмотреть свое отношение к этому. Включая Стивена Кэлдера.
— Он тебе и впрямь насолил.
— Он нервничает. И, что хуже, боится. — Лео придержал дверь, пропуская Давида в архив. Внутри привычно жужжал кондиционер. Кто-то сравнил царившую там атмосферу с коробкой длясигар, оснащенной увлажнителем. Это действительно напоминало хранение сигар: та же консервация растительных тканей, то же беспокойство насчет уровня влажности, та же угроза со стороны плесени и бактерий.
Они стали рядом и долго смотрели на свиток, лежавший в стеклянном футляре. Буквы, целые полки букв, колонны и шеренги, отряды и когорты, казалось, двигались, соблюдая общий ритм, словно кто-то выкрикивал команды и выстраивал войска. И они, вместе с буквами, маршировали к последнему, поврежденному участку свитка. Перевод был практически завершен.
— О чем же он нам поведает? — вслух недоумевал Давид. Он не ждал ответа и вместо этого с самым мрачным видом ушел в соседний кабинет в поисках какого-нибудь занятия. Лео нашел то место, на котором он остановился, и снова взял в руку карандаш.
«Юдас вместе с охранником Храма отправился к нему на трапезу в Гат Семен…»
У него уже выработался иммунитет к сюрпризам, он очерствел к драматичному резонансу, пронизывавшему свиток. «Гаф Шемен (арамейское слово: маслоотжимный пресс), — написал он в приложении, — становится садом Гефсиманским в евангельских источниках (ср. Матф. 26:36; Марк 14:32). Однако Юдас не уточняет, что это сад». За названием следовал поврежденный фрагмент, несколько строчек были абсолютно непонятны, пока текст вновь не обретал осмысленность:
«…его последователи пустили его к своему предводителя и…
…старейшины призывали народ[120] к воине во имя Дома Давидова. И Иешуа обнял его, и согласился идти с ним кстарейшинам, дабы весь Израиль подал голос ради (свержения власти?) Рима…
— Ну, как дела? — спросил Давид, появившись в дверном проеме.
Лео пожал плечами. Ответить на этот вопрос он не мог.
— Тут есть кое-какие повреждения, тебе стоит взглянуть. Подозреваю, на этом наша работа окончена.
Давид перегнулся через плечо Лео, и тот вспомнил, как Мэделин точно так же смотрела через его плечо в Библейском институте в Риме. На одно мгновение, коварное и предательское, он ощутил мягкое прикосновение ее волос, почувствовал ее запах. Но Рим сейчас казался Лео таким же далеким, как и тем двум мужчинам, что встретились в оливковом саду. Далекая, смутная угроза…
— Смотри, — сказал он, указывая место в тексте. — Это поцелуй Иуды.
Давид молча прочел перевод Лео.
— В этом есть что-то жуткое, — наконец вымолвил он.
— Вовсе нет. Ничего жуткого в этом нет. Вообще. Именно поэтому мне самому становится не по себе. Все изложено столь буднично, сухо… — Лео снова взялся за карандаш и продолжил работу. До самого вечера он работал молча, без перерывов, пока не дошел до оборванного конца основного свитка.
"…споры в Сангедрине, среди старейшин и жрецов. Юдас видел это своими глазами… споры среди его собственных последовавл ей между эллинами и евреями… Сам Иешуа встал перед Сангедрином и спросил, чего от него хотят… Иисус Вар-Авва,[121] или Иисус Вар-Адам[122]
…но…(верховный жрец?)…встал и сказал, что лучше погибнуть одному человеку, чем всему народу. Ибо если этот человек будет жить и мятеж (продолжится), они точно погибнут…[123]
…когорта из Цезарии и мятеж был подавлен и человека по имени Иисус передали…
Оставался лишь последний, поврежденный, лист.
В тот вечер Лео стоял у Библейского центра и наблюдал, как солнце погружается за облака, смотрел на купола и башни, тронутые мимолетным огнем. Ничто во всем этом пейзаже не было ровесником христианства, кроме самой обнаженной природы: ни золотой купол Омейядов; ни Сулейманова городская стена; ни темные очертания оливковых деревьев в тега! Гефсиманского сада; ни горсть куполов среди скучившихся крыш Старого города, обозначавшая Церковь Гроба Господнего, — ничто. Лишь скелет пейзажа был столь же стар, как христианская вера, лишь склон холма слева от него, теряющийся в сумраке: Оливковая гора, где люди собрались в нечто вроде повстанческой армии, прежде чем наконец войти в пород двадцать столетий назад; а тем временем «серые кардиналы» провинции Иудея спорили, пререкались и не знали, как быть.
Что же случилось там, во мгле сада? Кто кого предал и чем при этом руководствовался?
Широкая фигура Гольдштауба возникла в полумраке.
— Мы уже почти закончили, верно? — спросил он.
— Похоже, да.
— Знаешь, что я делаю, когда читаю книгу?
— Ты сначала читаешь последнюю страницу.
— Эй, а ты откуда это знаешь, черт тебя побери?!
Лео улыбнулся.
— Но ты же не следовал моему примеру, верно? Она лежала там, у тебя перед носом, все это время, но ты даже краешком глаза не взглянул?
— Я ее транскрибировал, вот и все.
— Но ты же знаешь этот хренов язык! Ты хотя бы приблизительно должен был понять, о чем идет речь.
Лео пожал плечами.
— Ну, в самых общих чертах. Между словами нет пробелов, никакой пунктуации, не забывай. Не знаешь, где кончается одно предложение и начинается следующее, и то же самое со словами.
Гольдштауб явно пребывал в замешательстве. Он улавливал настроение своего визави, но не знал, как реагировать. Наконец он похлопал Лео по плечу.
— Знаешь, мне очень жаль, что так случилось с Мэделин… Я тебе уже это говорил, но это не значит, что я лицемерю. Мне действительно очень жаль. Да, мне жаль ее — но тебя мне жаль еще сильнее.
Сказав это, он ушел, и Лео остался наедине с самим собой. Среди безразличных звезд на небе — обычных облаков водорода, что взрываются в вакууме, — его единственным утешением были воспоминания о Мэделин, хрупкой женщине с тонким чувством юмора и страшной эгоистке; женщине, которая простила ему его бесчувственность; женщине, которая уверяла, что любит его больше всех на свете; женщине, которая покончила с собой по причинам, которые он не мог вообразить; женщине, которая оставила его жить с безграничным чувством вины.
Лео смотрел, как сгущается сумрак и звезды одна за другой зажигаются над холмами и над городом, звезды, имена которых были ему неизвестны, сложенные в узоры, которые он едва узнавал. Ригель,[124] Сириус, Антарес; Большая Медведица, Лебедь, Скорпион. Языческое прошлое по-прежнему опережало настоящее. Он чувствовал в себе одиночество звезд и жуткую пустоту космоса.
14
Лео встал рано, позавтракал йогуртом и фруктами. За едой пролистал газету. За день до этого был совершен рейд в южный Ливан, ячейка «Хезболлы» была уничтожена, погиб один израильский солдат. Арабские магазины в восточной части Иерусалима были закрыты в знак очередного протеста. Папа Римский произнес речь на тему отношений между иудаизмом и христианством; речь эту уже успели проанализировать до мельчайших подробностей, обсудить, оспорить и горячо одобрить. Он не упоминал само название «Евангелие от Иуды», но это было уже не за горами. «Те же, кто попытается уничтожить веру во имя исторических исследований, — говорилось в цитате, — будут преданы анафеме обеими церквями». «Анафема», красное словцо в речах всех понтификов. Оно попахивает инквизицией и аутодафе.
После завтрака Лео отправился через сад виллы к воротам Библейского центра. Сумрак еще клубился в низинах сада, но далекие стены Старого города уже были тронуты светом, и Гибралтарский купол объяло ослепительным огнем. Прозрачная утренняя прохлада предвещала нестерпимую жару.
Сегодня он расшифрует заключительную часть свитка — последние слова…
Лео приблизился к Центру по подъездной аллее. По стенам вилась бугенвиллия царственного фиолетового цвета. У главных ворот уже стояли Дети Бога со своими плакатами и транспарантами. Лео зашел в холл здания через парадный вход. Настенная мозаика изображала библейские растения: виноградные лозы, смоковницы, оливы, — переплетенные с символами, заимствованными из того же христианства и иудаизма: крест и храмовый семисвечник, рыба, и звезда Давида, и потир. Благоговейная и пафосная, работа была явной эстетической неудачей.
Табличка на двери архива предупреждала: «Посторонним вход воспрещен». Лео пустила внутрь магнитная карта — очередное нововведение Кэлдера. Помещение за этой дверью было окутано вечным полумраком; единственными звуками был гул кондиционера и тихое жужжание ламп. Благодаря этому создавалась атмосфера защищенности, покоя и уюта, точно в утробе матери.
Лео включил свет и отпер дверцу шкафа, где хранился свиток. Тьма-тьмущая букв, море букв, парад букв на сухом, пыльном плацу — возможно, на дороге в ад. Дорога эта обрывалась прямо перед пунктом назначения, последняя страница, давным-давно приклеенная к свитку крахмальной пастой, отсоединилась. Он извлек страницу, вложенную между двумя стеклами, из выдвижного ящика и положил ее на стол возле компьютера-терминала.
Мэделин стояла у него за спиной — неуемная, ехидная, скептичная. Ее тезка присутствовала там, при обнаружении пустой гробницы — конечно же, это была таинственная Мария Магдалина. Весьма символично, что сейчас, когда Лео отодвигал камень гробницы, Мэделин — память о Мэделин — была рядом с ним.
Он уселся в кресло, надел очки для чтения, включил компьютер, взял карандаш и лист бумаги. Пробежался глазами по строчкам. Лео настолько привык к этому почерку, что теперь читал его свободно, словно почерк родной матери. Ни пробелов, ни цезур, ни точек — лишь дотошная монотонность мазков. Он просматривал строки (кое-где папирус потерся, кое-где порвался; то расторгнутые волокна, то размытые буквы), пока не нашел нужную ему комбинацию: ΠΕΙΛΑΤΟ.
Лео охватило возбуждение, будоражащая, опасная эмоция. Он остановился, перевел дыхание. Буквы были разбиты на две строчки, но все и так было очевидно: P-e-i-l-a-t-o. Пилат. Дательный падеж: Пилату. Он вернулся к поврежденному участку, потом стал читать дальше:
…ΚΑΙΠΑΡΕΔΩΚΑΝΑΎΤΟΝΠΕΙ
ΛΑΤΩ…
Затем он транскрибировал строчку и разделил слова карандашом:
…ΚΑΙ/ΠΑΡΕΔΩΚΑΝ/ΑΎΤΟΝ/ΠΕΙΛΑΤΩ
«…и они передали его Пилату».
Лео опять вернулся к поврежденному участку. Как раз перед тем местом, где текст становился абсолютно неразборчивым, были буквы Σ-Τ-Ν-Ε. Приставка «syne-», имеющая значение «вместе с», но также способная принимать участие в составном словообразовании: взять, например, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΟΣ, собрания, советы, скопления людей и птиц. Перед этим стояли буквы ТО.Т-О-Σ-Υ-Ν-Ε. Определенный артикль: The Syne— The Synhedrion, еврейский сенат.
Он взял карандаш. «The Synhe (drion?)… (пропущено около 25 букв)… и передали его Пилату», — написал Лео.
Мэделин, стоявшая у него за спиной, как и тогда, в архиве римского Института, улыбнулась. Он едва сдержался, чтобы не обернуться. Повел плечами и вернулся к тексту чтобы не обернуться. Повел плечами и вернулся к тексту. Лео прилежно работал все утро, ставил пометки карандашом, печатал на компьютере, листал книги. Приходили несколько человек, но никто не задерживался надолго. Hа минутку заглянул Кэлдер, но никто не смел беспокоить человека, склонившегося над папирусом, обложенного со всех сторон лексиконами и конкордансами, застывшего перед мерцающим экраном компьютера; человека, пережившего недавнюю трагедию.
«Сен (am?)…и передали его Пилату на суд, и Пилат… (приговорил его к смерти?)…в ту ночь. Это говорит Юдас, оплакивавший тело человека, который…
…и в ту ночь, когда он погиб, они отправились к гробнице, что была гробницей Иосифа.… Свидетелем тому был Юдас, пишущий эти строки. Иосиф, Никодим и Юдас были там, и Савл…»
Лео остановился.
ΣΑΟΥΛ. Савл.
Он еще раз перечитал буквы. Повреждений не было. Сомнений — тоже. Он продолжал, объясняя каждую букву карандашной пометкой: ΣΑΟΥΛΤΑΡΣΕ… И тут его подвела ткань страницы: там зияла рана, дыра, проеденная в течение веков какими-то крохотными насекомыми в холодной, как склеп, пещере. Хотя этого было достаточно.
ΣΑΟΥΛΤΑΡΣΕ saoul tarse…
Неполным словом было слово tarseus, тарсиец, житель города Тарса. Савл из города Тарс.
У Лео забурлило в животе. Как вам такая библейская фраза, хороша? Сойдет. В Новом Завете кишки, греческое слово splanchna, имеют необыкновенное значение, абсолютно несхожее с анатомическим, пищеварительным, отделяющим чистую плоть от грязи экскрементов: однокоренной глагол splancnizomai означает «сочувствовать». Добрый Самаритянин «сочувствовал нутром» калеке, валявшемуся в овраге. Лео Ньюман — прелюбодей, ренегат — «всем нутром сочувствовал» христианской цивилизации, которая существовала раньше, существовала ныне, но совсем скоро могла прекратить существование. Савл Тарсиец — это лишь один человек. Разумеется, никто больше не мог им быть… Лео долгое время просидел неподвижно, пытаясь привести сумбурные мысли в порядок. Даже в искусственной прохладе кондиционера на лбу у него выступила испарина. Наконец он более-менее успокоился и продолжил разбирать последние буквы, последние слова, последние показания последнего свидетеля:
«…и Иосиф оплакивал тело сына своего, и помазывал тело слезами своими. И они унесли тело, дабы не стало оно добычей шакалов».
И осталось только одно предложение, последняя фраза Иуды Искариота, известного также под прозвищем Нож:
ΤΟΣΩΜΑΤΟΗΡΜΕΝΟΝΕΤΣΦΗΛΑΘΡΑΠΑΡΑΠΟΛΙΝΙ
ΩΣΗΦΗΉΣΚΑΛΕΙΤΑΙΡΑΜΑΘΑΙΜΖΟΦΙΜΕΓΓΤΣΤΟΤ
ΜΟΔΙΝΕΩΣΑΡΤΙΓΙΝΩΣΚΕΙΟΤΔΕΙΣΤΗΝΤΟΠΟΝ
ΤΟΥΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΤΑΤΟΤ
Лео тщательно просмотрел буквы, разделяя слова, проверяя возможные разночтения, убеждая себя, что это означает именно то, что написано, что эту последовательность нельзя толковать иначе:
ТО ΣΩΜΑ ТО ΗΡΜΕΝΟΝ ΕΤΣΦΗ ΛΑΘΡΑ ПАРА
ΠΟΛΙΝ ΙΩΣΗΦ ΗΤΙΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΡΑΜΑΘΑΙΜΖΟΦΙΜ
ΕΓΓΤΣ TOT ΜΟΔΙΝ ΕΩΣ ΑΡΤΙ ΠΝΩΣΚΕΙΟΤΔΕΙΣ
ΤΗΝ ΤΟΠΟΝ TOT ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΤ ΑΤΤΟΤ
Он написал перевод, как наяву слыша последние слова Иуды, последнее признание — усталое, сухое:
«Тело, которое они забрали, тайно похоронили у родного города Иосифа, которым был Рама-Зофим близ Модина, и по сей день никто не знает места захоронения».
Лео стоял по колено в соре общепризнанных убеждений, среди обломков девятнадцати веков веры, в руинах мириад драгоценных иллюзий. Теперь он знал наверняка. На третий день воскрешение не произошло. Он знал, что в священную субботу группа людей — людей, несомненно, наделенных верой — подошли к гробнице и в темноте принялись отодвигать камень. И одним из них был человек, известный всему миру не под древнееврейским именем Савл, а под греческим именем Павел: Павел из Тарса. Апостол святой Павел.
Он был там, у гробницы. Он видел мигающие огоньки, слышал нетерпеливые голоса. Он видел, как люди заходили в тесную пещеру, где лежало изувеченное тело. Он последовал за ними, вдохнул запах сырости и смрад крови, густое амбре мирры и ладана. Они знали, что обесчещены. Они хорошо помнили слова: «Всякий, кто коснется тела убитого, или умершего своей смертью, или человеческих костей, или гробницы, утратит чистоту на семь дней». Они знали, что само пребывание там — бесчестье, скверна.
Свет ламп вымывал борозды в холодном воздухе, отбрасывая безобразные тени на стены. Лео видел их. Тело, должно быть, было скорчено нелепой смертельной судорогой, негнущееся тело, члены которого торчали, словно ветви подгнившего дерева. Он ощущал их присутствие. Люди, должно быть, что-то бормотали, о чем-то спорили, и взволнованные их споры смешивались со страхом. Он слышал звуки, чувствовал отверделую плоть, вдыхал запахи мирры и крови, ладана и разложения.
«Оставьте покровы. Возьмите его. Ради Бога, не уроните».
И все-таки его, вне всякого сомнения. Человека, которого они знали, за которым следовали, которого по-своему любили, перед которым, можно сказать, даже преклонялись, ибо преклонение — это latreia, служба, смирение слуги перед хозяином. Они не позволят, чтобы тело его стало добычей шакалов.
«Поднимите его. Теперь назад. Я поведу вас. Втяните головы». — Они выносят нелепый труп через проем в благословенную ночную прохладу, где во мраке уже поджидает повозка, а лошади недовольно фыркают и переступают копытами. Люди поднимают труп и кладут его на доски, конечности глухо ударяются и скользят. Затем следует жуткая поездка, прочь из Святого города, по узким ущельям, по мощеной дороге, проложенной римлянами, по предгорьям… Над иудейскими холмами тем временем всходило солнце. И этот рассвет узрел женщину из Магдалы, что подошла к гробнице и обнаружила, что камень отодвинут.
«Тело, которое они забрали, тайно похоронили у родного города Иосифа, которым был Рама-Зофим близ Модина, и по сей день никто не знает места захоронения».
Они вернулись к привычной жизни — без сомнения, поклявшись, что сохранят все случившееся в тайне. И несколько лет спустя один из них отвернулся от иудаизма и начал распространение христианства в языческом мире; человек, чьи помыслы были пропитаны чувством вины, человек, чей разум буквально полыхал, человек, чей бедный, скудный греческий пугал каждого его читателя:
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными…»[125]
Кто способен расплести мотивы прошлого? Кто отделит основу ткани от прочих слоев? Лео долгое время сидел перед последней страницей свитка. Кто-то заглянул в кабинет и спросил, как идет работа. Один из лаборантов вошел, насвистывая беспечную мелодию — песенку, которая недавно победила на каком-то конкурсе и теперь звучала из каждого радиоприемника и каждого кафе. Лео ждал, но не знал, чего он ждет. Он ждал, а Мэделин стояла у него за спиной и ждала вместе с ним. Наконец он решился. Он наклонился, открыл портфель и положил лист папируса внутрь. Затем он встал, вышел из Библейского центра и отправился в свой номер.
15
Один из многих у Дамасских ворот. Обычный человек, вышедший из автобуса на грязной остановке. К груди он прижимал конверт и рассеянно оглядывался по сторонам, будто не вполне осознавал, где находится и что делает в этой толпе. «Американец?» — спросил у него кто-то. Он улыбнулся и помотал головой: «Англичанин». Ему одобрительно кивнули. Англичане — друзья арабов, сказали ему. Он перешел через дорогу и направился к воротам. Ворота всегда находились в центре внимания: там проводили демонстрации, там несли свою бесцельную вахту съемочные группы из агентств новостей, оттуда — когда-то давно — юный, бескомпромиссный Савл отправился в путешествие на север: миссией его было подавление зарождающейся христианской веры. Этот юноша, в конечном итоге, оказался на грязной дороге, в мозгу его сверкали искры, в ушах не умолкал чей-то голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?»[126]
Он присоединился к потоку людей, пестрой толпе, снующей по Старому городу, Эль Кудс, что в переводе значит «Святой». На узких улочках внизу находился suk — небольшой базар, где продавали овощи и фрукты, цыплят и перепелок в крошечных клетках. Двое солдат шагали сквозь толчею с винтовками наперевес. Он протискивался между торговцами и покупателями, мимо мужчины, жарившего баранью печень на огромной закопченной сковороде, мимо магазина, где ему норовили всучить четки из оливковой древесины и распятия из перламутра, мимо кофейни, где сидели и курили старики. Поодаль, у перекрестка, керамическая табличка на стене возвещала начало улицы Долороза, но он знал, что это не так.[127] Он знал все прения на этот счет. «Станция № 7, Иисус падает во второй раз…» Но он не падал. По крайней мере, здесь. Если считать евангельские источники абсолютно правдивыми, то путь пролегал в противоположную сторону, от римского Претория у ворот Яффы. Возможно. Все возможно. Группа бледных пилигримов перебирала четки, стоя рядом с угрюмым священником. Женщины в цветастых платьях и легких сандалиях, мужчины в соломенных шляпах, защищающих от солнца. Проходя мимо них, он отвернулся: на случай — какая же, право, глупость, подумал он, — если они его узнают.
Узкие улочки, где густые тени перемежаются внезапными полосами света. Вчерашняя гроза миновала, воздух был чистым, а солнце — ослепительно ярким даже на тесных улочках древнего города. За углом, где стояли пилигримы находилась маленькая площадка, там арабы торговала сувенирами религиозного характера и кожаными сумками с изображением верблюдов и пальм. «Четки? — предлагали торговцы. — Освященное распятие из древесины олив Гефсиманского сада? Икону?»
Край двора был опален полуденным солнцем. Во дворе этом стояли одинаковые романские арки, сзади была вырезана узкая дверь. Он пересек двор и вошел внутрь, мигом погрузившись во мрак, напомнивший ему о мраке подземелья в церкви Сан-Крисогоно. Ему пришлось немного постоять на месте, пока глаза привыкнут к темноте. Вскоре он смог уже различить очертания каменной плиты, которая как будто вынырнула из прошлого; плиты, на которой лежало тело в ожидании помазания. По правую руку ступени восходили к часовне, откуда через зеркальное стекло можно было смотреть на каменную глыбу, серую, как спина слона, и яму, в которую, согласно легенде, врыли столб, ставший впоследствии вертикальной перекладиной Креста. Когда-то давно, во время первого визита на Святую землю, будучи еще старшим семинаристом, Лео стоял там и оплакивал благословенную трагичность всего происшедшего. Сейчас же он не обратил на ступени ни малейшего внимания и фазу направился в ротонду, где высились строительные леса, призванные поддерживать все здание, которое в противном случае превратилось бы в груду обломков. Там же, в центре круга, находилась сама усыпальница — пещера, давным-давно вырезанная в скале инженерами императора Константина, украшенная мрамором и ставшая противоположностью своей сути: впадина обратилась выступом, пещера — домом.
Теплый, густой запах свечей окутывал Лео. Православный священник стоял там подобно тени, бормоча себе в бороду что-то едва различимое. К гробнице постоянно подходили какие-то люди. Пилигримы молились, стоя на коленях; туристы ныряли в пещеру и выныривали наружу. В некотором смысле, именно там, в этих пространственных координатах, стояла Мария Магдалина, увидевшая черный зев за отодвинутым камнем. Если бы во времени можно было перемещаться стой же легкостью, с какой мы перемещаемся в пространстве, если бы можно было отправиться вдоль единственного измерения часов, дней, лет и веков, на две тысячи лет назад, она бы по-прежнему была здесь тем тихим утром в саду за городскими стенами. И в воздухе по-прежнему царил бы запах смерти.
Рай — это сад.
Лео обошел каменный домик. Сзади можно было увидеть каменную породу, где копты[128] оставили свой смолистый оттиск. Самая притесняемая секта из тех, что сражались за право распоряжаться Гробом Господним, копты превзошли всех, убрав кусочек мраморной отделки и обнажив голый известняк. За доллар-другой они могли отодвинуть занавеску, чтобы вы своими глазами увидели животворный камень. «Зажечь свечку в гробнице Господней? — спрашивают они. — Один доллар». И прежде чем вы успеете шелохнуться, в их собственной лампе зажжется новая восковая палочка, которую вмиг задуют и передадут дальше. Это нечто вроде фокуса, одно движение руки — и все. Вы даже не успеете понять, что произошло.
Лео встал, держа в руках еще дымящуюся свечку, и взглянул на согбенного монаха. Кто-то у него за спиной сказал: «Это добавляет драматизма». Обернувшись, он увидел в полумгле ротонды француза. Тот иронично усмехался, держа в руках свою свечу (которая, однако, не дымилась).
Они вышли из Церкви Гроба Господнего, зашагали по узким улочкам Старого города, мимо кудрявых иудеев, мимо арабов с тюками ткани и мешками бобов, мимо христиан с грузом вины, мимо арок, древних, как сам ислам, мимо потускневшей таблички, гласившей, что Верховный Раввин запрещает ортодоксам входить на эту территорию, ибо это святыня. Они дошли до ворот, где полицейские проверяли документы, обыскивали сумки и ощупывали карманы. На небе полыхало солнце, воздух, казалось, загустел от затаенного ожидания множества людей, словно с минуты на минуту должно было случиться чудо: с небес на коне по имени Бурак спустится Пророк, а может быть, снизойдет сам Спаситель, рассекая сияющие облака. Лео Ньюман и отец Гай Откомб прошли через ворота и поднялись по широкой лестнице на огромную открытую площадку, из туннелей темного города — к ослепительному свету, где золотой купол на шкатулке, инкрустированной бирюзой и слоновой костью, грезил о несказанном величии Господа.
На кипарисовой аллее они нашли каменную скамью. Присели.
— Рассказывай же, — попросил Откомб. — Выкладывай все начистоту.
И Лео рассказал. Неужели этот француз — его последний шанс? Он рассказывал, а француз слушал, не перебивая, с серьезным и сочувственным выражением лица. Это было нечто вроде исповеди: один священник — неудачник — исповедовался другому, более успешному.
— Ты считаешь, это настоящий текст? — спросил Откомб, когда Лео замолчал. Звук «щ» у него получался особенно мягким, типично французским.
Лео открыл конверт и извлек оттуда картонную папку. Француз вскинул свои изящные галльские брови. Лео открыл папку, где находилась последняя страница — оборванная, потрепанная, цвета песочного теста, цвета табака, цвета земли. Вся она была испещрена серыми буквами. Он протянул страницу французу.
— Я уверен, что это настоящий текст, подлинник, — сказал он — Я уверен, что весь свиток является, в общем-то, тем, на что претендует.
Откомб неловко заерзал на скамейке: отчасти для того, чтобы лучше рассмотреть страницу, отчасти — затем, чтобы скрыть ее от посторонних взглядов.
— Свет, Господи! Осторожнее, тут же яркий свет! — воскликнул он, склоняясь над текстом. — Как я могу вот так судить? Мне нужно время, много времени…
— А у тебя нет времени. И я не жду твоих суждений. У меня есть собственное суждение.
Откомб провел пальцем над поверхностью папируса. Не поднимая глаз, он спросил:
— Кто-нибудь знает, что ты взял это с собой?
Лео не удостоил его ответом.
— Взгляни, — сказал он. Лео перегнулся через плечо француза и указал на слово ΠΕΙΑΤΩ. Пилат.
Откомб кивнул.
— И еще вот здесь. — Лео указал еще одно место в тексте и уловил запах своего собеседника — затхлый запах целибата; от него тоже так раньше пахло. Лео быстро прочел строки вслух, на греческом с нелепым английским акцентом: — «Тело, которое они забрали, тайно похоронили у родного города Иосифа, которым был Рама-Зофим близ Модина, и по сей день никто не знает места захоронения». Возможно, они хотели, чтобы гробницу оставили в покое…
— Но у них не вышло, не так ли? — заметил француз с явным вызовом.
— Они не могли предугадать последствий, это ведь не вызывает сомнений. Не могли предсказать историю о воскрешении. Бог, восстающий из мертвых, — это не иудейский миф. Во всем иудаизме не найдется подобного прецедента.
Последовала продолжительная пауза. Толпы туристов текли мимо, к Гибралтарскому куполу, к мечети Эль Акса: изумленные японцы, нарочито благоговеющие американцы, люди, глядящие в путеводители, люди, слушающие своих гидов, люди, сохраняющие все увиденное на видеопленке но ничего не видящие собственными глазами, — разношерстная компания свидетелей у пупа Земли.
— Есть еще кое-что.
Откомб оторвался от текста.
— Что же?
Лео указал ему.
— Вот здесь. Один из тех, кто помогал выносить тело. Один из помощников Иуды. Савл. — Француз снова взглянул на буквы. — Вот здесь, где ткань повреждена: Савл Тарсиец. Последние несколько букв отсутствуют, но насчет первых сомнений нет. Тау-альфа-ро-сигма-ипсилон. Tarseus, тарсиец. Павел Тарсиец.
Откомб поджал губы, словно пробовал что-то на вкус. Возможно, он пытался изменить значение, разделив строки иначе. Возможно, молился. Наверное, все-таки молился: молился о покровительстве, о помощи, о мудрости — о том, что нужно всем, но чем обладают очень немногие.
— Антихристианская пропаганда, — наконец вымолвил он. Казалось, Откомб принял окончательное решение после длительных размышлений. — Если текст выдержит тщательную проверку, вердикт экспертов будет аналогичным. Ранняя антихристианская пропаганда. По всей видимости, эбионит.[129] Написано по-гречески, предпринята попытка ославить Павла — исходя из этого, должно быть, эбионит. Конечно, это важно. Но не очень. Разве что в той степени, насколько это подтверждает Евангелия…
— Подтверждает Евангелия?! — Лео едва не закричал. Там, на Храмовой горе, заряженной мощью трех вероисповеданий, он едва не закричал. — Этот свиток древнее любого фрагмента Нового Завета! Он практически полон. разумеется, полон. Кое-какие концы не сходятся. Есть лакуны. Но это — именно то, чего следовало ожидать. В общем и целом, это звучит убедительно. И лет этому тексту больше, чем любому фрагменту любого Евангелия, больше, чем всей евангельской истории. Судя по всему, этот текст мог даже стать источником большей части благовествований от Матфея, Марка и Луки. Господи, это просто кошмар!
— Людей, чья вера крепка, это не заденет, — ответил Откомб. — Это не затронет также людей образованных. Насколько я понял из твоего рассказа, они смогут объяснить все расхождения.
— Конечно. Это они всегда смогут. А что насчет остальных? Как это повлияет на обычных христиан?
Француз взглянул на него, и во взгляде его удивление намеренно сочеталось с упреком.
— А тебе какое дело до христианства? — спросил он.
А ведь и правда: какое дело ему? Ему, отлученному от церкви и смирившемуся с отлучением? Лео озирался по сторонам, словно ища ответ.
— Это слова Павла, верно?
— Мало ли что говорил Павел. И далеко не все его слова пришлись по вкусу современным либералам.
— И католикам-ортодоксам тоже. Особенно один абзац — · из Послания к филиппийцам. — Лео привел цитату, и слова жалили его, жгли его глаза и уязвляли разум. Он больше не мог с уверенностью сказать, во что верит и что думает. — «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви…» Ты ведь сам знаешь этот стих.
— Безусловно.
— «…если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны».[130]
Француз засмеялся над ним.
— Ньюман, ты один из тех сентиментальных людей, которые представляют Иисуса Христа кем-то вроде социального работника, а христианскую веру — набором общепризнанных либеральных этических норм. Неудивительно, что ты лишился сана. — Откомб встал со скамьи. — Господь Всемогущий не либерал, месье Ньюман, — сказал он. — Господь Всемогущий — движущая сила всей Вселенной, а нашу Вселенную нельзя назвать либеральной. Но современный мир, похоже, этого не понимает. Я ни на йоту не верю твоему папирусу, Ньюман. Делай с ним что хочешь. Можешь опубликовать, и тогда будешь проклят. Церковь это переживет, как переживала все нападки в течение многих веков. Церковь переживет и тебя. — А затем, уже собираясь уходить, француз вдруг замер. — Знаешь, как они называют тебя, Ньюман? Я имею в виду, твои бывшие братья во Христе. Знаешь?
Лео отмахнулся было, давая понять, что ему это неинтересно, но Откомб приблизился к нему и произвел контрольный выстрел:
— Ты же знаешь, как важны имена в нашей работе. Ты это знаешь. Имя Иисус означает «Яхве есть спасение», не правда ли? — Он протянул руку и ткнул пальцем в лицо Лео. — А тебя называют Иуда, Ньюман. Вот как тебя называют. Второй Иуда. И знаешь, что они делают?
— Что же?
— Они молятся за тебя.
Одиночество на Храмовой горе, на горе Мориа, у оси вращения планеты. Он вышел из сумрака на солнце, на платформу, что окольцовывает Гибралтарский купол. Купол ослепительно сверкал в солнечных лучах — исполинская вспышка, огненный шар, текучее золотое пламя. Шпиль взрезал облака, и небо кружило, точно весь мир вертелся вокруг этого стержня — вокруг места, где стоял Храм, где Иисус изгнал нечестивцев, где Бурак, конь Мухаммеда, ступил одним копытом, прежде чем вознестись к небесам, где Авраам за шиворот держал сына над обрывом.[131] Небо вращалось. Лео воздел очи горе, и небо закружило вокруг него, и в ушах заклокотали голоса, сотня голосов, тысяча, прямо за спиной, незримые голоса: обернувшись, он не увидел никого. Солнце взирало на него своим единственным беспощадным оком. Он не знал, откуда льется этот злокозненный свет: извне или из глубин его разума. Свет ослеплял, голоса клокотали, небо вращалось — и асфальт, отполированный стопами тысяч и тысяч пилигримов, отполированный солнцем, ветром и дождем, устремился ему навстречу…
Голоса не утихали. Иврит, арабский, английский. В общем шуме можно было различить лишь несколько слов: «американец», «англичанин» и «врач». Над собой Лео видел синюю форму. Кто-то оттащил его в тень.
— Мой конверт, — сказал он. — Мой конверт…
— С ним все в порядке.
— Он здесь.
Ему вложили что-то в руки. Лео оттащили в тень и стали задавать ему вопросы, словно это был настоящий допрос. Где он живет? Он не гражданин Израиля? Немец? Говорит ли он по-английски? А номер телефона у него есть? Ему нужна медицинская помощь? Как он себя чувствует? Кто-то всучил ему стакан воды — кто-то великодушный, друг, который доверяет тебе, когда остальные оскорбляют, друг, который утешает тебя, пока остальные идут на тебя войной. Прямо над собой Лео видел чье-то лицо: борода, усы, Темные глаза. Все в порядке? Обморок, да? Врач не нужен? Может, надо кому-то позвонить? Кто-нибудь нужен?
— Мне нужна Мэделин.
— Где она?
— Это ваша супруга?
— Она где-то здесь?
— Она умерла.
Позже он сидел в маленьком темном баре, где, помимо него, находилось три-четыре апатичных клиента. За дверью бара стояли двое солдат. Полицейский — представитель арабских органов правопорядка — не сводил с него глаз.
— Со мной все в порядке, — сказал Лео, прижимая конверт к груди. — Со мной все в порядке.
— Врач уже в пути.
— Со мной все в порядке.
— Это все из-за солнца. Вы, американцы, не привыкли к такой жаре. Здесь, на большой высоте, воздух разрежен.
— Со мной все в порядке. — Лео встал, и на этот раз никто не предпринял попытки его удержать. Посетители взирали безучастно. — Со мной все в порядке. — Фоном звучала песенка из радиоприемника, та самая проклятая песенка.
— С вами все в порядке? — спросил полицейский.
— Да, в порядке. Только голова побаливает. Я хочу домой.
— Ну, возьмите такси.
— Да, такси…
Лео вышел из бара на узкую площадку перед воротами. Ворота он узнал: это были Овечьи ворота, возле которых приносили в жертву овец, тысячи овец, сотни тысяч овец, и по камням стекала кровь, и всюду пахло кровью и паленым мясом. Ворота Святого Стефания, откуда первых мучеников выводили на верную гибель под градом камней, а Савл просто смотрел на них и ни разу не вмешался. Ворота Девы Марии. Львиные ворота. Столько названий для одной дыры в стене…
Лео стоял у ворот, окидывая взором долину Кидрон, прижимал конверт к груди. Сердце его бешено стучало. Интересно, подумал он, а может, я умираю? Склоны холма были усеяны могилами, белые надгробия напоминали не то зубы, не то жемчуг. И пыльный «мерседес» — его такси — ехал в гору, ехал к нему.
16
Обычный день в мире текстового анализа, если, конечно, не учитывать граффити на стенах Библейского центра, призывы к покаянию, проклятия и кучку протестующих на тротуаре. Дети Бога. Это были уже другие люди, но выглядели они точно так же, как и их предшественники, эти блюстители истинной веры: четверо или пятеро взрослых, облаченных в оливковую ханжескую униформу фанатиков. Напротив них стоял привычный фургон охраны. После первого дня демонстраций полицейские убрали оттуда своего человека. Правительство решило, что на земле израильской существуют более важные проблемы, чем грызня по поводу истоков христианства. Всемирному библейскому центру придется самому обеспечивать свою безопасность.
Когда за воротами показался Лео, протестующие заметно оживились. Они его знали. Они знали, что это он озвучил слова, написанные в свитке Иуды, что это он — провидец из Книги Откровения. «Взгляните на Зверя», — призывал один из их плакатов. На другом были выведены цифры 6–6 — 6. Они начали петь псалом:
Ты был там, когда Господа моего казнили? Иногда меня от этого бросает в дрожь, дрожь, дрожь; Ты был там, когда Господа моего казнили?Лео поднялся по лестнице к главному входу Библейского центра. «Зверь! — кричали ему в спину. — Зверь!»
Или это было слово «верь»?
Человек в стеклянной кабинке сразу за дверью кивнул ему. «Asalamu aleikum», — сказал человек. Да пребудет с тобой мир. В сложившихся обстоятельствах выражение это казалось несколько ироничным. Лео повернул и зашагал по коридору к архивному отделу с его знаками «Вход воспрещен» и предупреждениями насчет сигнализации и охраны Безгубая пасть поглотила его карточку и, пожевав, сплюнула, сопровождая плевок механическим щелчком.
Массивные двери захлопнулись у Лео за спиной. В архиве царила тишина. Песни с улицы — молитвы, наложенные на нечеткий ритм, — туда не доносились. Внутренний шум здания там тоже не был слышен. Лишь тихое жужжание кондиционеров, лишь грузная неподвижность двойных стекол и огнеупорных дверей. Согласно электронным часам на стене, было без одной минуты шесть. Его собственные часы — старомодные, механические, подарок Мэделин — стояли у клавиатуры и противоречили электронному исчислению: без восьми шесть. Carpe diem, увещевали они.
Лео принялся за работу, как обычно: рутина утешала его, ритуалы — успокаивали. Он включил радио, чтобы послушать утренние новости на «Би-би-си», потом включил компьютер. Активировал работу. Гольдштауб советовал ему говорить именно так. Он активировал работу компьютера. Дута букв, складывавшихся в приветствие «Добро пожаловать во Всемирный библейский центр!», возникла на экране, словно лучи невидимого еще восходящего солнца. Логотип Центра — открытая книга с надписью «Логос» на страницах — заменял весь мир. Диктор на радио спокойно рассказывал об акциях протеста и демонстрациях
Сколько же времени прошло? Месяц? Время казалось величиной эластичной, податливой. Всего лишь месяц со смерти Мэделин? И, следовательно, месяц с того дня, когда Лео прочел первые слова свитка? Она часто ему снилась. Порой она была далекой, недоступной, порой ее присутствие, напротив, становилось слишком явственным: мягкая, нагая, она прижималась к его обнаженному телу, чтобы он мог извергнуться в нее, и тогда Лео резко просыпался и обнаруживал, что живот его влажен от израсходованной понапрасну спермы. А иногда казалось, что Мэделин просто-напросто рядом, и, проснувшись, он ожидал увидеть ее в комнате. Понять, что Мэделин там нет, означало вновь потерять ее.
«Распутный священник совершает клятвоотступничество», — писали в газете «Сан».
Лео открыл директорию и выбрал папку под названием «Иуда». Что случилось вчера? Это он помнил смутно. С ним что-то определенно произошло: приступ паники, возможно, некий срыв. Что же это было? Настенный стенд напоминал: ВЫ ответственны за все документы на полках, ВЫ обязаны вписать свое имя в журнал дежурного, НИКАКИЕ ДОКУМЕНТЫ нельзя выносить из комнаты, и НИ ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ из какой-либо части свитка Иуды не должно покидать пределов здания. Лео вспомнил беседу с Откомбом. Вспомнил, как показывал ему безжалостно убедительный текст и умолял помочь. Но как? Что остается делать, когда зверь уже вырвался на волю?
Диктор рассказывал о группе фундаменталистов, которые живут в бревенчатой хижине в Монтане и ожидают скорого конца света. «Зверь Апокалипсиса уже на свободе», — заявил один из них. Репортаж был выдержан в иронических тонах: «Би-би-си» забавляли подобные вещи. Сообщалось, что группа хранит противотанковое оружие и винтовки.
Лео выдвинул ящик, где лежали снимки текста, и извлек их наружу. Тридцать пять фотографий, на каждой — новая страница, новый ракурс, новое освещение. Он положил их на стол возле компьютера, после чего подошел к шкафу, где лежал свиток.
По радио началась дискуссионная программа, называвшаяся «Вопросы веры». Приглашены были архиепископ англиканской церкви из Йорка и римский католический архиепископ из Ливерпуля, союзники в борьбе против представителя Британского гуманитарного общества.
— Какие же последствия может иметь обнаружение этого свитка в постхристианскую эру? — спросил ведущий.
— Я не считаю, что мы живем в постхристианскую эру, — ответил один из архиепископов. У него был очень глубокий бархатного тембра голос, словно процеженный сквозь десятки слоев отвлеченных рассуждений. — Христианский посыл актуален сейчас так же, как и всегда…
Лео вставил ключ в замок и открыл створки шкафа.
— Но нам даже не позволили взглянуть на этот так называемый «свиток», — пожаловался ливерпульский архиепископ. — Мы располагаем лишь обрывочными сведениями, которые базируются на сплетнях и, так сказать, полуправде. Так называемый Всемирный библейский центр обязан обеспечить свободный доступ к тексту. Сейчас же создается впечатление, что свиток безраздельно принадлежит священнику, лишенному духовного сана, и баптисту-ренегату.
— Вынужден не согласиться с подобной характеристикой…
Лео взглянул на свиток — этот саван, вытянутый, померкший стяг давней войны. Руки у него больше не тряслись. В желудке не холодело. Разум не помрачался. Конечно, он думал о Мэделин. Да, он думал о ней. Две минуты седьмого. Архив был неподвижен и беззвучен. Никто не заходил и не зайдет в ближайшие пару часов или даже больше. Лео снял стеклянную крышку со свитка.
По радио говорили:
— Если этот свиток действительно является тем, за что себя выдает… а я, должен сказать, настроен крайне скептически в этом отношении… но если… — и тут последовал яркий всплеск, ударила веселая струя пламени…
— …подлинное свидетельство враждебно настроенного человека, присутствовавшего там, то какова причина для беспокойства?…
Движение воздуха; мягкая, теплая волна жара, словно огненный столб из глубокого, пылающего чрева. Лео издал неопределенный звук, поднял руки, пытаясь не то защититься, не то благословить это жуткое пламя. Словно наделенный самостоятельной жизнью внутри себя, папирус почернел и скукожился. А потом необъятное пламя рвануло наружу из шкафа, прозрачная жидкая масса, чьи раскаленные когти тянулись к Лео, рвали его одежду и тыльные стороны ладоней, которыми он прикрыл лицо.
Мэделин. Почему-то он подумал, что она могла бы его спасти. Когти терзали и резали его плоть, огненные руки норовили заключить его в свои объятия. Последним, что он услышал, было щебетание радио, заглушённое воплем — воплем зверя, стонами беспокойных душ в проклятой бездне, куда теперь затягивало и его самого…
На улице Тассо — 1943
— Я хочу увидеться с ним. — Мужа она нашла в верхнем саду, «строгом» итальянском саду, среди самшитовых ограждений и посыпанных гравием дорожек, где Ганс читал какой-то официальный документ (сверху красными буквами было написано: Geheimnis, то есть «секретно»). У нее растерянный и грустный вид, ее волосы не причесаны, ее глаза — те невинные голубые глаза, которые покорили мужчину старше ее много лет назад в Maриенбаде, — широко распахнуты в тревоге. — Я хочу его увидеть.
Усталая усмешка, взгляд усталых глаз, оторванный от документа.
— Гретхен, дорогая, но зачем, Бога ради?
— Я хочу увидеть его. — Она повторяет слова механически, безжизненно, как будто принуждает себя говорить но затраченные усилия истощили ее до того, что разумных доводов привести она уже не способна. — Я просто хочу с ним увидеться.
— Ты уже ничем не сможешь ему помочь. Мы не сможем — Я хочу увидеться с ним.
— Но все ведь кончено! Ты обещала.
Она нервно покусывает нижнюю губу.
— Я хочу его увидеть, — повторяет она.
В тридцатых годах здание на улице Тассо находилось в достаточно удобной близости от Виллы, чтобы его можно было превратить в немецкий культурный центр и прививать итальянцам тевтонские и арийские ценности. Но теперь зданию нашлось иное применение: проезд с обеих сторон загорожен стальной рогаткой и колючей проволокой, и прохожие неохотно показываются здесь: за ними пристально наблюдают вооруженные солдаты. Через ограждения пропускают только длинный черный «мерседес», принадлежащий посольству. Он медленно, точно баржа, скользит мимо стальных рифов и останавливается у бордюра возле цифры 155. Солдат открывает заднюю дверь, из машины выходит пассажир. Это высокий, сутулый герр Хюбер. У женщины за его спиной голова обмотана черным платком, из-под которого выбивается непослушная светлая прядь. Черный платок, черное платье, серьге чулки. Они вдвоем быстро поднимаются по лестнице и скрываются за дверью.
Холл плохо освещен и практически не проветривается. На лестнице остро пахнет дезинфицирующими средствами, и, помимо этого, чем-то органического происхождения — видимо, это гнилостный смрад канализации. В первой комнате надо заполнить журнал: имя, должность, время прибытия — после чего эскорт сопровождает посетителей наверх. К герру Хюберу и его супруге не проявляют особого почтения. Они покинули мир посольства, мир дипломатии и такта, и переступили порог иной вселенной, где все по-другому: другие отношения, другие звания, другие манеры, сама логика — отлична. Эта непрерывная вселенная простирается от приграничных территорий вроде этой и через всю Европу в сердце Востока, где шепчут слова: Треблинка, Собибор, Бельзек.[132] За пределами улицы Тассо стоит жаркий римский день, отягощенный сожалением о прошлом и страхом перед будущим; в пределах же этого безобразного дома герр Хюбер и его жена заглядывают в предбанник геенны.
Высокие каблуки фрау Хюбер быстро стучат по мраморной лестнице, опережая тяжелые шаги ее супруга. Они останавливаются на лестничной площадке у запертой двери, пока сопровождающий стучит и перешептывается с охранником. Дверь открывается. За ней — узкий, темный коридор с пятью дверьми. Здесь воняет еще хуже; не выдерживая тлетворного духа сепсиса, фрау Хюбер вытаскивает из кармана жакета платок и прикладывает его к лицу. Прежде чем войти внутрь, ее муж наклоняется к ней и тихо произносит:
— Ты ничего не будешь делать, ничего не будешь говорить.
Она отвечает ему испуганным, кроличьим взглядом из-за кружева носового платка. Кивает. Они вместе переступают через порог.
Дверь слева покрашена в темно-зеленый цвет. На ней, измазанной непонятными пятнами, виднеется номер — «5». В центре двери, на высоте примерно пяти футов от пола, врезан металлический диск. Охранник щелчком отбрасывает диск, обнажая отверстие в древесине. Он заглядывает в это отверстие, затем делает шаг в сторону и жестом дает понять, что все готово.
Улыбается только герр Хюбер. Он просто не в силах сдержать улыбку. Умение улыбаться помогло ему стать тем кто он есть, но, когда он указывает жене на дверь, улыбка его нервно кривится.
— Ни слова, даже одними губами, — шепчет он ей на ухо когда она заглядывает в «глазок».
Она видит часть комнаты, выложенной плиткой и освещенной голой лампочкой, что свисает с потолка. Плитка бледно-голубого цвета. Напротив двери стоит раковина, под ней — цинковое ведро. Это и вся обстановка. То, что раньше, возможно, было окном над раковиной, сейчас превратилось в прямоугольник из голых кирпичей. Глядя одним глазом, фрау Хюбер не может увидеть картину во всей полноте, но углы между полом и стенами создают линии перспективы, которые вдалеке сливаются воедино. В этом фокусе, поджав ноги, сидит мужчина, пронзенный линиями перспективы, распятый углами. На нем пижамные штаны и полосатая рубашка без воротника. Перед его рубашки покрыт ржавыми пятнами. Мужчина бос. Его лицо — взмокшее от пота, с двухдневной щетиной — является жалкой карикатурой на лицо Франческо Вольтерра. Руками он осторожно массирует себя спереди, словно ребенок, которого утешает прикосновение любимого пледа.
Не поднимая головы и не прекращая ритмичного массажа, Франческо смотрит на дверь.
Почувствовал ли он ее присутствие? Что он видит? Чистую дверную доску. Чей-то голубой глаз в окаймлении «глазка», пустой и безучастный взгляд, сравнимый с объективом камеры. Но вот глаз исчезает — и диск возвращается на место с тихим, таинственным щелчком. Больше нет ничего. Ни звука, ни надежды.
На лестничной клетке Гретхен блюет прямо на пол. Ее муж стоит рядом, обняв ее изящную талию и отвернувшись, чтобы скрыть отвращение. По лестнице уже топает уборщик с ведром и шваброй. Но работы для него немного: фрау Хюбер уже несколько дней ничего не ела.
Вернувшись в машину, герр Хюбер приказывает водителю ехать обратно на Виллу, но Гретхен отрицательно качает головой. Она хочет поехать в церковь, церковь Санта Марии дель Анима. Она хочет помолиться там. Муж уступает ее просьбе и указывает путь водителю, пока они петляют по старому городу, среди велосипедов и прохожих, среди людей, ведущих свое происхождение с незапамятных великих времен — времен Бернини[133] и Борромини,[134] Возрождения и Контрреформации, когда эти люди обладали подлинным духом, который герр Хюбер не может понять до конца. «Обезьяны на развалинах», — говорит он об итальянцах, пока машина протискивается к площади Навона, где стоит высохший, заваленный фонтан. Полицейский машет им рукой. Автомобиль вползает на площадь, как баржа вползает в гавань по грязной воде. «Обезьяны на развалинах», — повторяет герр Хюбер, отдавая честь полицейскому в ответ на приветствие.
Машина останавливается у входа в церковь, расположенную на узкой улочке, что, по иронии судьбы, названа Vicolo dеlla Расе,[135] за зданиями гигантской площади.
— Я подожду здесь, — говорит герр Хюбер.
Его жена заходит внутрь, пересекает крошечный дворик, в котором отец-францисканец поливает цветы. Гретхен скрывается в полумраке церкви, где запах ладана навевает мысли о старине и сулит невиданное.
На хорах стоят на коленях несколько человек — в основном, юноши в военной форме. Блондины и шатены, в серой и черной форме, они все склоняются перед изысканным, в стиле барокко, алтарем. Каждый из них, несомненно, молится об одном и том же: Господи, позволь мне выжить. Но учитывая естественный ход событий, учитывая беспристрастную статистику, некоторые из них непременно будут разочарованы.
Фрау Хюбер неуверенно протискивается между задними скамьями. Она становится на колени и, как и юноши на хорах, начинает молиться. Но, в отличие от них, она молит о том, что никогда не позволит себе обрести, даже если Господь проявит к ней благосклонность. Она молит о прощении.
Магда — настоящее время
Магда — это привычка. По утрам я ловлю взглядом каждое ее движение: как она умывается, как она вытирается полотенцем, как она одевается (одевается она с равнодушным усердием спортсменки, готовящейся к соревнованиям), как она садится, чтобы пописать, а потом промокает между ног туалетной бумагой. Она не обращает на меня внимания, как будто тело является ее собственностью не более, чем улица за окном или вид на гигантский купол и россыпь крыш.
Мэделин была не такой. Когда кто-либо смотрел на нее, она была полноправной владелицей себя самое, как будто, глядя на нее, человек пополнял ряды посвященных «Ты ведь даже испытываешь облегчение оттого, что должен уехать, правда?» Ее последние слова в мой, да и в чей угодно, адрес. «А что будет, когда ты вернешься?» Типично ирландская веселость в вопросе: что бы ни случилось — ерунда. Я долгое время ломал голову над тем, мог ли я своим поведением заставить ее передумать, но сейчас меня это уже не тревожит. Я одолжил у Магды ее фатализм и спрятался за этой личиной.
В тесной ванной Магда стоит у зеркала, чуть подавшись вперед, и накладывает макияж. Косметике она уделяет так же много внимания, как и живописи; свое бледное лицо она расписывает, словно маску.
— Куда ты идешь?
Она лишь пожимает плечами.
— В гости.
— К кому?
— К друзьям.
— Эти друзья мужского пола?
Помада вычерчивает кровавую кривую. Магда поджимает губы.
— Возможно, женского.
Она собирает вещи: сумочку, папку с эскизами, — и уходит. Прощаясь, она не выказывает нежности: только вялая улыбка и неопределенный жест — не то пожимает плечами, не то машет рукой. Так люди, ездящие автостопом, прощаются с водителем, который подвез их в нужном направлении.
Сегодня я последовал за ней. Мотивы мои были — и остаются — туманными. Конечно же, ревность. Английское слово «jealousy» происходит от слова zçloô, что означает и ревность, и зависть, как в хорошем, так и в плохом смысле; божественная ревность и ревность смертных, начало и конец. Но мной двигало что-то еще: обладание, жажда обладать ею, как она обладает мной, жажда познать ее. Я чувствую, что, в отличие от Мэделин, Магда доступна познанию.
Я подождал, пока Магда выйдет из квартиры и спустится по лестнице. Затем встал и пошел следом, стараясь не попадаться ей на глаза, держать необходимую дистанцию Потом ускорил темп, пробежал мимо каморки портье и выскочил на улицу. Я видел, как ее угловатый силуэт лавирует между машинами и направляется в сторону реки. Магда движется подобно спортсменке, привыкшей к постоянной грации. Ничего общего с торопливостью Мэделин. Томность, расслабленность членов. Уверенность в себе. Возможно, Магда понимает, что ей нечего терять. Мужчины провожают ее взглядами.
На мостовой она останавливается, ждет автобуса. Деревья, растущие вдоль реки, прячут Лео-льва, выслеживающего свою добычу. Прибывший автобус набит до отказа. Магда забирается внутрь, на переднюю площадку, где обычно стоят люди с постоянными билетами; я тем временем проталкиваюсь через задние двери. Когда автобус трогается, я вижу — над головами и руками пассажиров — лишь ее тонкую кисть, вцепившуюся в поручень. Ее профиль. Она безучастно смотрит в окно, челюсти задумчиво перетирают жевательную резинку. Все это напоминает одну из ее картин — мешанину разрозненных элементов, коллаж. Фигура в толпе, не более чем контур в тисках посторонних тел.
Автобус переехал через реку и двинулся в гору, по ходу избавляясь от пассажиров. Толпа таяла. Я сел, повернувшись вполоборота, чтобы не терять из виду отражение Магды в оконном стекле: я хотел увидеть, когда она протянет руку и нажмет кнопку, требуя остановки. Магда вышла через переднюю дверь — вопреки всем правилам, спровоцировав волну возмущения среди пассажиров, пытавшихся войти через ту же дверь, — а я выскользнул сзади.
Мы оказались где-то в пригороде, на улице с обветшалыми многоквартирными домами, выставочным залом автомобильной компании и несколькими захудалыми магазинами. Я отошел от остановки на безопасное расстояние, после чего наконец отважился оглянуться. Магда по-прежнему стояла на остановке, прислонившись к невысокой стене, задумчиво жевала жвачку и смотрела, как мимо проносятся машины. Неопрятный юноша с заправки через дорогу, похоже, знал ее. Он что-то выкрикнул (я разобрал только слово fica), она посмотрела в его сторону и показала ему кулак правой руки. Этот жест можно было расценить как обычный отказ, но можно было — как оскорбление. Сквозь гул машин я расслышал его смех.
Минут через пять у бордюра остановилась машина — серебристо-серый БМВ. Магда приблизилась, склонилась кокну, перекинулась парой слов с мужчиной за рулем. Потом села внутрь, захлопнула дверцу. Машина тронулась и вскоре исчезла в потоке других машин.
Я ощущал ту самую выхолощенную, обескровленную беспомощность, которая сопровождала известие о гибели Мэделин. Куда уехала Магда? Что она делала этим унылым утром в предместье Рима, пока мимо меня бесцельно мельтешили авто, а в небе ревели самолеты? Десятки версий всплывали к поверхности моего разума, как пенка на бульоне.
Между близлежащими магазинами ютился бар — «Бар делло Спорт». Я сел за стойку, наблюдая за уличной суматохой сквозь окно и потягивая пиво. Народу внутри было много. Люди приходили туда, чтобы сыграть в лото, в лотерею, в настольный футбол или пинбол. Старики таращились на свое прошлое, а молодежь — бритоголовые парни с серьгами в ушах — обсуждала достоинства и недостатки двух городских футбольных команд, перемежая речь нецензурной бранью. Слова cazzo[136] и culo,[137] эти жизнерадостные латинизмы, казалось, оглашались на всю Италию. Компьютерная игра в углу рокотала и визжала, как будто там происходила настоящая гонка на мотоциклах. Я чувствовал себя изгоем, которого чистое любопытство привело на заморский берег, где он лишен каких-либо точек соприкосновения с местными жителями.
А потом — абсолютно неожиданно, — когда я смотрел в другую сторону и больше не обращал внимания на уличную суматоху, в бар вошла она.
Почему я был настолько изумлен, увидев ее? Почему я удивился, когда она появилась там, подошла к бару, а бармен улыбнулся ей и сказал: «Buongiorno, signorina», — сказал с преувеличенной вежливостью, подразумевавшей похабный намек? Она заказала свежевыжатый апельсиновый сок, spremutadiarancia. Наверное, хотела прополоскать рот. Но после чего? Где она была? Что она делала? Десятки вопросов и сотни страшных ответов выступали на поверхности моего мозга, словно болотные пузыри. Я сидел в считанных футах от нее, пока бармен давил апельсины, а затем с сияющим видом протянул ей стакан. Сок был кроваво-красного цвета, красный, как ее губы, красный, как рана. Магда размешала в стакане полную чайную ложку сахара (как я и думал) и чуть подалась вперед, чтобы отсосать — с загадочной улыбкой — кусочки мякоти на поверхности. Потом поставила стакан на стойку и огляделась по сторонам. Ей понадобилось всего одно мгновение, чтобы осознать увиденное. Магда нахмурилась и снова пригнулась к напитку. Когда она заговорила, в голосе ее слышался нескрываемый гнев.
— Что ты здесь делаешь? — спросила она по-английски. Бармен, заинтересовавшись, повернулся к нам и даже прекратил возню с кофеваркой.
— Я смотрю на тебя, — был мой идиотский ответ.
— Ты следишь за мной?!
— Вроде того.
Откинувшись на стуле и потягивая сок, Магда взвешивала полученную информацию. В отдалении пищал и повизгивал автомат для пинбола. Из соседнего зала доносились точные, аккуратные щелчки бильярдных шаров. Их геометрическая точность словно противостояла иррациональной природе мироздания.
— Ты шпионишь меня?
— За тобой. Я шпионю за тобой.
— Неважно, — раздраженно осадила меня она. — Ты делаешь это. Шпионишь.
— Похоже, что да.
Она провела кончиком языка по зубам, слизывал волоконца апельсина, затем повторила эту операцию уже ногтем.
— Зачем?
— Я боюсь за тебя.
— Боишься меня?
— За тебя. Я боюсь за тебя. Я хочу знать, что ты делаешь, куда ты ходишь. Я переживаю за твою безопасность.
Магда явно была озадачена.
— А вот я не боюсь. Это не страшно. Они меня фотографируют. Вот и все. Ты сам видел.
— Да. Но мне все равно это не нравится.
— Почему? Тебе не нравятся снимки? Они мне платят. На живописи я не зарабатываю. — Она пожала плечами, как будто говорила об очевидных вещах.
— Ты мне нравишься больше, чем твои фотографии.
Магда поджимает губы. Маленький бутончик напряжения. А может, она просто пытается устранить языком кусочки апельсиновой мякоти, застрявшие между зубами.
— Я нравлюсь тебе? — переспросила она, словно желая убедиться, что мы имеем в виду одно и то же.
— Да. — До чего же абсурдными кажутся подобные признания у стойки бара, на глазах у бармена. — Ты мне нравишься, — повторил я.
Бармен решил, что должен помочь нам.
– 'Elaikeyou, — сказал он.
— А если я оставлю тебя? — спросила Магда, проигнорировав его ремарку. — У меня есть деньги, ты же знаешь Скоро я смогу купить билет в Америку.
В ее словах мне послышался — всего на миг — панический страх.
— Я буду очень несчастен, если ты меня оставишь.
— Что значит — «оставишь»? — удивился бармен. — Оставить на чай, да? Эта девушка всегда оставляет на чай!
Она повернулась к нему и рявкнула: «Stazitto, stronzo».[138] Бармен развел руками и снова принялся расставлять чашки на кофейном автомате.
— Тогда я не буду никуда уезжать, — сказала Магда мне и рассмеялась, давая понять, что это была шутка, глупая детская шуточка. — Мы похожи на настоящую пару, — решила она. Какое-то время мы сидели молча, сплоченные этой шуткой и этим неуклюжим признанием. А потом она впервые рассказала мне о чем-то важном, о чем-то за пределами будничной болтовни, повседневного пустословия: она рассказала мне о своем муже. До этого момента я не осознавал, что такой человек в ее жизни в принципе мог существовать. Не подозревал, что Магда Новотна когда-то состояла в союзе, считавшемся браком в народной республике. Возможно, она ощутила, что мы преодолели некий барьер, барьер близости, интимности, и теперь она должна поведать мне о своем прошлом — хотя бы малую часть. Сидя в этом «Баре делло Спорт», где бармен все норовил подслушать нашу беседу, Магда рассказала мне о своем муже.
— Иржи, — произнесла она. Непривычный звук, эксплетивный. Она пожала плечами. — Мы прожили три года. Возможно, счастливо. А еще, — добавила она, — у меня была девочка.
— Девочка?
В еe беззащитной улыбке смешались горечь и дерзость.
— Милада. Так ее звали. Милада. Мы назвали ее в честь героини Милады Хораковой.[139] Я никому об этом не говорила. Что-то новенькое — Магда в роли матери.
— Где она? — спросил я. Я представлял себе удочерение или интернат.
— Умерла, — ровным голосом произнесла Магда. Она присовокупила еще несколько слов, какой-то набор звенящих славянских согласных. — Zanyet, — сказала она. Так мне показалось. Zanyet. И обхватила голову руками.
— Сколько ей было лет?
— Два года. После этого Иржи бросил меня. И я осталась совсем одна.
— Ты раньше никогда об этом не рассказывала.
Она горько смеется. Смешок подобен короткому выдоху, последнему издыханию.
— Теперь рассказываю.
Похоже, приступ откровенности миновал. Магда допила свой сок и резко опустила стакан на стойку. Я расплатился. Бармен полагал, что уловил суть нашей беседы: когда мы уходили, он подмигнул мне и сделал недвусмысленный подбадривающий жест рукой.
— Он stronzo, — сказала Магда, даже не обернувшись. Не знаю, как она поняла, что происходит у нее за спиной. Наверное, просто угадала. А может, знала, что каждый встречный мужчина раздевал ее взглядом и оценивал свои шансы затащить ее в постель. — Как сказать stronzo по-английски?
— Говнюк, — ответил я, хотя это сложно было назвать нормативным переводом.
— Я думала, говнюк — это merda.
— И это тоже. Итальянский — богатый и красивый язык.
На автобусной остановке Магда взяла меня за руку.
— Я тебе нравлюсь, — сказала она. Похоже, сама мысль об этом восхищала ее. — Может, ты даже любишь меня немножко?
— Вполне может быть, — согласился я. Она засмеялась, прижалась ко мне и поцеловала в щеку. Признаюсь, мне было приятно. Очень приятно, словно ребенку. Это не было похоже на мое былое чувство к Мэделин — болезненную, жгучую любовь; нет, это был лишь танец на поверхности эмоций.
Когда мы вернулись домой, Магда достала свой словарь нашла нужные слова и показала их мне: zanët mozkovych blan. Воспаление оболочек мозга. Менингит. Она прошептала это слово по-английски, словно оно было ценным пополнением ее лексикона.
17
Люди сновали вокруг, бормоча что-то друг другу и напоминая могильщиков на похоронах. Они как будто готовили тело к погребению: одевали его, смазывали бальзамом, окутывали саваном. Вставляли трубочки и вливали жидкости. Палата наполнялась ароматом ладана и мирры.
В горле у него пересохло. Он думал о Мэделин. Скользя по шаткой поверхности сознания, он думал о Мэделин. Он терзался одним-единственным вопросом: «Неужели я умру?…»
Ему дали наркоз. Морфий — лучший анальгетик. Морфий, от имени бога снов Морфея. И Лео видел сны. Материализованная вина проникала в его сны. Ему снилось, что мать разговаривает с ним; безудержные, безумные речи матери, обращенные к Лео, к живому Леои к мертвому, ненавистному и любимому. Она говорила с Лео и говорила о Лео. Его разум блуждал по искореженным ландшафтам маразма, далеким ландшафтам ее детства, проведенного в Бухлове. «Всех нас наказывают за то, что мы делаем при жизни, — убеждала его она. — Я наказана, ты тоже. Мы все несем заслуженное наказание». Порой его мать и Мэделин сливались в одного человека, и он видел их обеих в обнаженном виде, он ласкал прохладную, чистую кожу их общего живота с колючим кустиком волос. Они поглощали его, они же рожали его: это были равнозначные действия.
— Выглядишь ужасно. — Это Гольдштауб пытается его утешить. На нем халат и хирургическая маска, из-за краев которой выглядывает нечесаная борода. — Как ты себя чувствуешь? Лео с трудом приподнял опухшие веки и пробормотал запекшимися губами:
— Что произошло?
— Это ты мне скажи. — Гольдштауб указал на свой наряд. — Больно?
Лео ответил гримасой, которая, очевидно, означала улыбку.
— Врачи сказали, болят только поверхностные ожоги. Болят те части тела, которые не являются жизненно важными. Всерьез поврежденные участки как раз не болят.
— Оптимистично.
— Расскажи мне, что произошло.
— А ты сам не помнишь?
— Нет. Ничего не помню. Помню только завтрак. И все. Дальше — какие-то обрывки. Шум. Агония.
— Огонь?
— Агония, — повторил он, с трудом разлепив губы. — Агония.
Посетителя попросили на выход, предупредив, что пациент устал и по-прежнему находится в шоковом состоянии. Разумеется, он сможет прийти позже. Лео остался наедине со своими снами; ему снилось пламя, ему снилась Мэделин. Он летел сквозь воздушные потоки и падал в огонь. Мэделин была рядом. «Я возненавижу тебя, Лео», — сказала она ему в полете. Он пролетал сквозь пламя и погружался в плоть; Мэделин принимала его в себя, одновременно обжигая. Он понял, что это чистилище: очищение души огнем, очищение духа, выброс вины в огонь. Они горели вместе, Мэделин и Лео, и жили вместе в вечном пламени и она ненавидела его.
Позже пришли Давид и Элен. Лица у обоих были встревоженные, испуганные. Пока Давид говорил, Элен просто сидела, сложив руки на коленях, и смотрела на него. Лео догадался, что она молится — молится о его выздоровлении о его спасении в широком смысле слова. Стоило ему это понять — и губы его скривились в болезненном оскале, а грудь сжало горячей судорогой.
— Больно? — спросил Давид.
Лео мотнул головой. То, что казалось приступом, гримасой нечеловеческой боли, на самом деле было смехом.
Потом пришел полицейский, говоривший на эдаком трансатлантическом английском и записывавший слова Лео с весьма недовольным видом.
— Вы не заметили ничего необычного в то утро? — спросил он. — Может быть, вы видели посторонних людей или еще что-нибудь из ряда вон выходящее?
— Почему вы пришли туда так рано?
— У вас есть часы?
— Можете описать свои передвижения за предыдущие двадцать четыре часа?
— Вы встречались с кем-либо за пределами Библейского центра?
— У вас с собой что-нибудь было? Хоть что-нибудь? Пакет, возможно, подарок?
— Вы были у кого-нибудь дома за все это время?
— Скажите.
Наконец пожаловал и священник. Лео предупредили о его приходе, как будто священник мог представлять для него опасность.
— Конечно, при условии, что вы не против этой встречи, — заверили его.
— Разумеется. Пускай заходит.
Священник вошел в палату торжественной, важной походкой участника похоронной процессии. Француз Гай Откомб. Сложенные ладони его, казалось, были готовы к незамедлительной молитве. Он сел у койки и положил руку на плечо Лео, в знак благосклонности и даже благословения. Впрочем, стоило Лео шелохнуться — и Откомб мигом отпрянул.
— Тебе больно? — спросил он, как будто могло быть иначе.
Гольдштауб вернулся со свежими газетами. На фотографиях почерневшие окна архива обнажали свои беззубые десна. Обугленные куски и блестящие лужицы.
— Ущерб оценивается в пару сотен тысяч, — сказал он.
— А что пишут?
Он протянул страницу Лео, чтобы тот прочел все сам. «Один или несколько неизвестных», — такова была формулировка.
— Почему ты пришел туда так рано? — спросил он. — Что ты делал на работе так рано?
Лео не знал, не помнил. Он помнил лишь шум и свет: свет солнца, отблеск языков пламени, что тянулись к нему. Пальцы Мэделин, что касались его бесчувственной плоти и опаляли эту плоть.
— Говорят, это был бензин, — сказал Гольдштауб. — Так считают судебные эксперты. Бензин и нефть. И, возможно, некий часовой механизм. — Он развернул газету и показал другую картинку: снятые крупным планом шестеренки и колесики часов, почерневшие и закопченные. Carpe diem. Прямо на ухо Лео заверещал будильник, он проснулся — и Гольдштауб исчез. Вместо него рядом с Лео сидела его мать. Она обнимала его, ее плоть обволакивала его — плоть его матери, что стала плотью Мэделин; мягкая, скользкая плоть всасывала его, он тонул в ней, барахтался в ней, выплывал из огня и падал, обессилев, на берег…
На этот раз из полиции пришла женщина — брюнетка с темными глазами и сочувственной улыбкой медсестры. Однако вопросы оставались прежними, абсолютно те же вопросы:
— Вы встречались с кем-либо за пределами Библейского центра?
— Почему вы пришли туда так рано?
— Во сколько вы обычно начинали работать?
— Вы не заметили ничего необычного?
— Рассказывайте. Можете не спешить. Рассказывайте.
Позже с ним говорили врачи. Тихо, осторожно рассказывали ему о трансплантатах и грануляции, о струпьях и некрозе, об антисептике и санации полостей. Лео нравилось слово «санация», нравилась его горькая, вязкая ирония.[140] Ему вкололи анестезирующее средство, люди в масках склонились над его ранами и принялись срезать омертвелые ткани, а он видел лишь Мэделин, летящую в огненное озеро, Мэделин, ставшую его матерью — не той матерью, которую он помнил, а матерью в молодости, голой как сталь.
Незнакомые люди сменяли друг друга: медсестры, врачи, помощник Откомба, какой-то апатичный, задумчивый мужчина из британского посольства. Последний напомнил Лео о Джеке. Конечно же, он знал Джека, знал Мэделин, знал всю эту чертову историю. «Какой-то кошмар», — резюмировал он. И, наконец, Кэлдер. Кэлдер бродил по палате, выглядывал в окно, беседовал с небесной синевой и облаками.
— Что произошло? — спросил он.
Лео не ответил.
— Они уверяют, что ты ничего не помнишь.
— Не помню.
— Подозревают, что это могли сделать те манифестанты. Дети Бога, или как их там… Они могли подложить взрывное устройство. Сейчас их, разумеется, уже и след простыл.
— Ты так считаешь? Думаешь, это были они?
Кэлдер покачал седой головой. Мираж на фоне окна, видение в ореоле света.
— Я не знаю. — Он отвернулся от окна и взглянул на Лео.
На лице у него было написано, что внешний вид пациента ему не нравится. Лео понимал это. Он знал, как он теперь выглядит, потому что однажды попросил медсестру принести ему зеркало. Она поначалу отказывалась, но он настаивал. Она говорила, что это против правил, но потом все же нарушила правила и принесла ему зеркальце. Он был похож на прокаженного с сочащимися открытыми ранами. Словно один из тех, кого исцелял Иисус. Плоть Лео распухла, почернела, порозовела, побагровела. От волос остались лишь обугленные клочья, разбросанные по черепу, как сорняки по выжженной земле. Возможно, земле горшечника.[141]
— Что ты об этом думаешь? — спросил Кэлдер и прищурившись взглянул на Лео, как будто таким образом он мог узнать всю правду.
— Я не знаю, что и думать.
Кэлдер покачал головой.
— Спринклерная система была неисправна, представляешь? Сигнализация-то сработала, а вот спринклерная система — нет.
— Я помню сигнализацию. Этот звук. Он мне снится.
Лео улыбнулся ему, превозмогая боль, и чуть повернул голову, чтобы лучше видеть Кэлдера, чтобы вселить в него веру. Кэлдер выжидающе смотрел на него, как будто Лео еще предстояло покопаться в глубинах подсознания и извлечь оттуда новые сведения. Однако Лео знал, что ничего не обнаружит в этих глубинах. — Мне теперь часто снятся сны. Ну, знаешь, души в чистилище…
— Католические бредни! — раздраженно воскликнул Кэлдер. — Я думал, в этом вопросе мы солидарны.
— Что-нибудь уцелело?
— Ты уцелел. Это главное. А еще — копия большей части твоей транскрипции, представляешь? Кроме последнего фрагмента. Я скопировал это на свой ноутбук. Плюс несколько фотографий. Немного, зато хорошего качества. Разумеется, мы сможем их напечатать. Мы их непременно напечатаем. Но какой смысл печатать их, если нет материальных доказательств?…
Вскоре он ушел. У Лео осталось впечатление, что Кэлдер кое о чем умолчал, не произнес некоторых обвинительных слов и не стал озвучивать определенные подозрения.
Воскрешение происходит не сразу. На это требуется время. Это болезненный процесс. Крошечные шажки, миллиметр за миллиметром — имеются в виду миллиметры эпителия, эпидермиса и, собственно, дермы. А когда боль стихает, на смену ей приходит зуд. Кожа нестерпимо чешется, как будто по ней — какая, право, изощренная пытка — бегают муравьи, как будто ее касаются, гладят, ласкают невидимые пальцы. Возможно, это похоже на прикосновения и ласки Мэделин. Она ведь не только касалась его покрова, но и проникала внутрь, доставая до самых уязвимых мест. Сны пробуждали в Лео любовный зуд. Она стояла у опустошенной им гробницы.
Позже, спустя много дней, его в буквальном смысле освежевали: ободрали слои кожи, точно пергамент, с бедер и залатали этой кожей грудь и шею, подобно тому, как священник стелет антиминс на церковный престол. Потом Лео окунули в глубокий наркоз, и врачи принялись скрупулезно восстанавливать сухожилия на руках при помощи точнейших инструментов: пальцы ведь должны как-то двигаться. Повсюду слышались проценты: процент обожженной кожи, процент вероятности, процент успеха. И снова его свежевали — разумеется, называя это «пересадкой тканей». Змея сбрасывала шкуру, выползала из старой оболочки, протискивалась в новую жизнь, где ей больше не придется пресмыкаться, где она сможет ходить по стерильным коридорам или сидеть в кресле и смотреть в окно на редкие сосенки и далекие холмы. Жизнь, ограниченная приемами пищи и книгами, населенная предусмотрительными врачами, медсестрами и, изредка, посетителями; жизнь, сдавленная жесткими повязками и заботливыми пальцами; жизнь, озвученная советами физиотерапевта. Терапевт напоминала ему Мэделин. Что-то знакомое угадывалось в ее улыбке, в наклоне головы… Иногда Лео воображал, что Мэделин сейчас выйдет из тела терапевта, сбросит верхний слой кожи и предстанет перед ним с неизменной ироничной полуулыбкой на устах.
Но метаморфоза так и не произошла, превращение не состоялось, и женщина-физиотерапевт непреложно оставалась сама собой.
Лео вызывали на официальный допрос. Врачи не хотели чтобы его куда-либо перемещали: «Трансплантаты должны прижиться, это займет некоторое время», — говорили они.
Но, в конце концов, дал и согласие. Это было похоже на однодневный отгул из тюрьмы — эти неуверенные шаги к поджидавшей его машине, эта поездка по миру, который казался ярким, изумительным и, как ни странно, незнакомым У здания суда караулила стайка фотографов.
8 зале Лео усадили в черное кожаное кресло и задали те же вопросы, которые уже неоднократно задавали полицейские. Он дал на них примерно те же ответы.
История, которой в Израиле посвятили все передовицы удостоилась нескольких дюймов печатной площади и в международной прессе. «Пострадавший рассказывает о сгоревшем свитке», — гласил один из заголовков. Когда Лео вернулся в клинику, к нему пришел психолог — эксперт по посттравматической терапии, что-то вроде того. На нем была одежда ярких, жизнеутверждающих цветов, а говорил он о скорби, скорби по утраченным частям тела, сравнимой со скорбью по усопшим близким.
— Что вам снится? — спросил он, закидывая ногу на ногу. Он подался вперед, чтобы осмотреть пациента, вонзить в него свои щупальца. Психолог теребил свой блокнот, хотя хотел бы потеребить мозг пациента.
Лео снилась Мэделин.
Официальным вердиктом допроса стало следующее: «Один или несколько неизвестных».
Позже — гораздо позже, спустя несколько недель, месяцев — его выписали из больницы, пожелав всего наилучшего и дав несколько ценных советов на будущее. Он по-прежнему носил перчатки, чтобы поддерживать давление на шрамы с тыльной стороны ладоней. Он по-прежнему мазал свою скользкую кожу смягчающим воском и выполнял специальные упражнения, призванные не допустить появления рубцов. Ему дали адрес в Риме, где он мог получить все необходимое, и Лео вышел в мир — ободранный, отшлифованный, отполированный до блеска.
Гольдштауб отвез его в аэропорт.
— Зачем тебе возвращаться в Рим? — спросил он.
— А куда же еще?
— В Англию.
— Но это не мой дом. — Что он нашел удивительного в Риме? Этот город был родным для Лео (если у него вообще была родина). Обремененный историей в том неприятном смысле, в котором банкрот обременен долгами, и столь же расточительный, Рим был его идеалом. — Я изгнанник, — объяснил Лео. — А Рим — это прибежище изгнанников. Так было всегда, так оно и будет вовеки веков. Прибежище для чужестранцев и изгнанников.
— Чем займешься по возвращении?
— Понятия не имею.
И в тот момент, когда Лео уже готовился к встрече с сотрудниками службы безопасности, когда он уже встал в очередь за ритуальными расспросами (Вы сами паковали свой чемодан? Где вы проживали на территории страны? Вы контактировали с кем-либо из людей, проживающих здесь?), Гольдштауб произнес последние слова:
— Лео, это сделал ты?
Лео замер. Через плечо у него была переброшена сумка, на тележке стоял чемодан. Справляться и с тем, и с другим при помощи рук в жестких перчатках ему было нелегко.
— Ты это сделал? — повторил Гольдштауб.
Лео улыбнулся.
— Савл, я же говорил тебе, — сказал он. — Я уже говорил тебе: понятия не имею.
Самолет взмыл в залитое ослепительным светом небо. Лео чувствовал себя Икаром, который дерзнул подлететь слишком близко к солнцу и опалил свои крылья. Как и Икар, он рухнул наземь, но, в отличие от Икара, выжил. Стюардесса обходила салон с пластиковыми тарелочками и пластиковой же улыбкой.
— Как вы себя чувствуете, сэр? — спросила она.
Везение, вероятность, элемент случайности в системе мироздания — подобные вещи всегда волновали Лео. Если где-то есть Господь, думал он, Господь, взирающий на всю эту суетливую мышиную возню, то он наверняка прячется за заслонами из чистых случайностей.
— Я любил одну женщину, — сказал он ей. — Но она погибла.
Стюардесса смутилась и поспешила ретироваться, напоследок выдавив:
— Мне очень жаль.
18
Зима в Риме: улицы вымыты дождем, сырые листья скапливаются в сточных канавах и образуют крошечные наводнения, машины брызжут грязью во все стороны. Что еще можно сказать об этом новом Риме, свежевымытом, свежеочищенном от грехов прошлого?
В связи с реставрационными работами Палаццо Касадеи закрыт для посетителей
Портье вышел из своей каморки и с мрачным видом стад вытирать воду, натекшую у входа. В центре арки появилась дыра, которая вскоре забилась листьями, и потому внизу образовалась лишь небольшая лужица. Портье рассеянно озирался по сторонам, когда к дворцу вдруг подъехало такси. Возможно, он меня не узнал. Возможно, ему было наплевать.
— Синьор Миммо, — позвал я его, — вы не могли бы мне помочь? — Портье прислонил швабру к стене и вышел на тротуар.
— Синьор Неоман, — сказал он. Это была, скорее, констатация факта, чем радушное приветствие. Его, похоже, нисколько не заинтересовало мое внезапное появление у дворца в дождливый зимний полдень. Он не удивился и вообще не выказал никаких доступных пониманию эмоций.
— Вы не могли бы помочь мне с вещами? Боюсь, одному мне не справиться… — Я показал ему свои руки, затянутые в жесткие белые перчатки с застежками-«липучками». Как будто он требовал доказательств моей беспомощности. — Вот, видите: ожоги… Я сильно обжегся.
Портье кивнул, как будто в мире нет ничего естественней, чем стать жертвой пожара. Вероятно, он считал, что для людей вроде меня это в порядке вещей.
— Я что-то такое слышал, — сказал он. — Сплетням я не верю, но кое-какие слухи до меня дошли.
— У вас все в порядке?
Он пожал плечами и пробормотал итальянское выражение, обозначавшее состояние малопонятное, но смиренное: — Boh.
— Я отсутствовал дольше, чем намеревался.
Он снова кивнул и с явной неохотой взял мой чемодан:
— Знаете, у меня спина болит. Мне вообще-то нельзя ничего такого делать… — и поплелся к черной лестнице, той самой лестнице, по которой мы с Мэделин взлетали на крыльях восторга всего несколько месяцев назад. А может быть, год… Может быть, прошел уже целый год. В моем представлении отныне существовало две эпохи, две несовместимые половины жизни: до пожара и после. Сейчас, после пожара, мир очень сильно изменился.
— Ваша почта, — сказал портье через плечо, пока мы шагали наверх. — Я ее не выбрасывал. Можете забрать ее в любое удобное время.
— Почта?
— Ну, письма и все такое. Целая пачка насобиралась. — На одно мгновение сквозь его равнодушную наружность проступило нечто иное — любопытство, интерес. Он остановился и, повернувшись ко мне, сказал с легким укором: — А вы начудили, синьор! Так ведь? — И портье опять умолк и потащился вверх по лестнице, мимо окна, из которого открывался вид на крышу. Наконец мы добрели до нужного этажа и остановились у двери моей квартиры. Я порылся в карманах в поисках мелочи. — Я принесу вам вашу почту, если хотите, — сказал портье, увидев деньги. Шаркая ногами, он побрел вниз, пока я сражался с ключом, как будто разучился отпирать этот замок. Осторожно открывая дверь, я вдруг испугался того, что могу увидеть внутри. Однако пустой коридор, в общем-то, соответствовал моим ожиданиям: пыльный, неуютный, с едва различимым запахом плесени. Ни один призрак не прятался под скошенным потолком, ни один призрак не разгуливал по скрипучим половицам.
Я втащил чемодан, но не стал волочь его в спальню: открыл и распаковал прямо в прихожей. Первым делом я вытащил фотографию Мэделин и осторожно поставил ее на каминную полку в гостиной. Она отвечала мне привычным насмешливым взглядом, вынуждая вновь испытать жалость к самому себе. Потом я разобрал вещи и отнес их в спальню.
Позже я просмотрел все письма, принесенные портье. Он вытряхнул их из полиэтиленового пакета с надписью «Posta Italiana», и конверты рассыпались по обеденному столу. Около пятнадцати конвертов, самых разных форматов и цветов. Некоторые адреса были напечатаны, другие — написаны от руки; нашлась даже парочка совсем уж странных — с разноцветными буквами. Я сел за стол, чтобы рассортировать всю эту богатую корреспонденцию. Одно из писем, с нью-йоркской маркой, было адресовано Зверю 666. Другое — Антихристу. Но большинство все же предназначалось для отца Лео Ньюмана или хотя бы мистера Ньюмана. А одно было написано мною.
Я замер. Уместным словом было бы «окоченел»: от увиденного мне стало холодно, тело пронзил озноб. Это был увесистый конверт из манильской бумаги с негнущейся карточкой внутри. На нем стояли израильские штемпели и марка. Почерк, вне всякого сомнения, принадлежал мне. Ошибиться я не мог. Я бы не сумел написать так сейчас, своей заскорузлой, корявой лапой (упражнения в письме были частью реабилитационной программы), но когда-то это был мой почерк, знакомый и неотъемлемый, как черты лица. Я взглянул на дату и понял, что хорошо ее знаю: это был день ада, день огня, день воспламенения. Я перевернул конверт, как будто оборотная сторона могла дать мне подсказку, но, разумеется, ничего не обнаружил. Память моя безмолвствовала. Память — ненадежная таблица, с пустыми ячейками, с недостающими символами и знаками. Ткань памяти прорывается, как истлевают участки древних карт: а здесь пускай будут драконы… Я ничего не помнил.
Довольно долгое время я просидел, вперившись взглядом в конверт. Затем осторожно вскрыл.
Внутри находился обтрепанный коричневый лоскут, всего один фрагмент, загрубевший от времени. Я положил его на стол, этот кусочек волокнистого материала, который когда-то давно расправляли, жгли, трамбовали, полировали и били по податливой поверхности. Следом вывалились несколько крошек, посыпалась пыль. Я смотрел на этот лист с восхищением, но, вместе с тем, ощущал подспудный страх. Буквы дразнили меня, их точность и аккуратность будто высмеивали тот хаос, в который я был повержен. Я начал читать, следя указательным пальцем своей обезображенной правой руки:
ΤΟΣΏΜΑΤΟΗΡΜΕΝΟΝΕΤΣΦΗΛΑΘΡΑΠΑΡΑΠΟΛΙΝΙ
ΩΣΗΦΗΤΤΣΚΑΛΕΓΓΑΙΡΑΜΑΘΑΙΜΖΟΦΙΜΕΓΓΎΣΤΟΥ
ΜΟΔΙΝΕΩΣΑΡΠΠΝΩΣΚΕΙΟΤΔΕΙΣΤΗΝΤΟΠΟΝ
ΤΟΤΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΤΑΎΤΟΤ
Тело, которое они забрали, тайно похоронили у родного города Иосифа, которым был Рама-Зофим близ Модина, и по сей день никто не знает места захоронения.
Я откинулся на спинку стула и уставился на этот жалкий лоскут, страницу, явившуюся прямиком из моих ночных кошмаров, страницу из Евангелия от Иуды, которая опередила меня в путешествии по Средиземноморью, которая следовала по стопам Павла и, наконец, осела в Святом городе, где и дождалась моего возвращения. Она как будто руководствовалась неким внутренним намерением, словно ее вела незримая длань.
Материальное подтверждение.
Я слышал, как на улице снова начинается дождь: сильные, настойчивые пальцы забарабанили по черепице. Где-то в квартире потолок, судя по звуку, дал течь.
…и в ту ночь, когда он погиб, они отправились к гробнице, что была гробницей Иосифа… Свидетелем тому был Юдас, пишущий эти строки. Иосиф, Никодим и Юдас были там, и Савл…
Конечно, я боялся. Теперь я отдавал себе в этом отчет. Я приобрел опыт в подобных вещах. Боялся не чего-то конкретного, нет. Это был обобщенный страх, ни на что не направленный первородный страх перед существованием. Как эта страница оказалась здесь? Как она спаслась от холокоста?
Половицы жалобно всхлипнули. Я обвел взглядом пыльную комнату. Я был не один? Уже темнело, сгущался сумрак. Меня со всех сторон окружали звуки: капель с потолка, скрип паркета. Я сам понимал, насколько это абсурдно, но все-таки выкрикнул ее имя:
— Мэделин? — И она, будто отозвавшись на мой голос, взглянула на меня с каминной полки. Она неотрывно смотрела на меня, пока я, встав с кресла, ходил по комнате, не зная, куда спрятать конверт. — Как бы поступила на моем месте ты, Мэдди? — спросил я вслух. Я никогда не называл ее Мэдди при жизни. Это прозвище придумал для нее Джек. Но теперь она принадлежала мне в той же степени, что и ему. — Что бы ты сделала? — спросил я. — Как бы ты поступила, Мэдди?
В комнате стоял сундук — сундук, который сопровождал меня в школе и в семинарии, который последовал за мной из семинарии к первому приходу, а оттуда — практически во все временные пристанища, где мне доводилось жить. Я поднял крышку. Внутри лежали бумаги: завещание матери, распоряжения касательно дома в Кэмбервилле, перечень счетов в швейцарском банке, дневники, которые она вела, письма. Я вложил папирус обратно в конверт и водрузил его на самый верх, после чего захлопнул сундук и отправился искать течь в крыше.
Поездка по железной дороге — 1943
Поезд во время войны, хромой и изувеченный: все места заняты, пассажиры сидят на корточках в коридорах, лежат в коридорах, втискиваются в проходы между вагонами. Люди лежат на багажных полках над сиденьями, людей укладывают в багажном отсеке, людей запихивают в грязные санузлы. Люди, давка человеческих тел. В затхлом воздухе стоит жуткий смрад: запах нестиранной одежды, немытых тел, вонь испражнений, мочи и табака.
«Guardate come siamo ridotti», — говорит кто-то. Смотрите, до чего нас довели.
Поезд, запинаясь, ползет сквозь ночь и часами стоит на станциях, причем единственным никчемным объяснением простоев служат обычные сплетни: готовится воздушный рейд, рельсы повреждены диверсантами, мотор заглох, не хватает угля, не хватает рабочих — не хватает ума. Фрау Хюбер жмется в углу первоклассного купе, у самого окна. Место у окна — последняя роскошь, которую может предоставить ей посольство. Когда тьма изредка рассеивается, она смотрит в окно — смотрит на сумрачный мир, смотрит, как холмы и деревни тают в осенней полумгле, как реки, мосты и леса исчезают в ночи. Тем временем все остальные пассажиры в купе смотрят на нее: они знают, что она немка, но не знают, что это отныне означает. Ее служанка — суетливая женщина из Альта Адидже, которая согласилась на эту поездку при условии, что попадет домой, — сидит напротив и тихо постанывает. В купе, помимо них, сидят еще восемь человек: двое морских офицеров, скользкий делец, явно промышляющий на черном рынке, женщина с двумя детьми и двое парней, которые должны носить военную форму. Пассажиры искоса поглядывают друг на друга, ибо окружены они миром подозрений, миром, где мотивы поступков всегда неясны, а честь — категория весьма относительная. Женщина, которая сидит возле фрау Хюбер, ездила в Рим в больницу. Всем желающим она объясняет, что ее муж умирает от рака. То, что человек умирает от обычной болезни в разгар войны, кажется абсурдом. Она углубляется в детали заболевания, но так и не объясняет, почему он лежит в римской больнице, где ему не помогут, а не дома, где ему просто не сумеют помочь.
— По крайней мере, Папа рядом с ним, — пожимая плечами она, как будто пространственная близость к понтифику может сыграть роль в излечении злокачественной опухоли. — А ты куда едешь? — интересуется она у фрау Хюбер. Женщина использует фамильярное местоимение tu, как будто обращается к ребенку: — Е tu, dovevai?
— Я еду домой.
— Germania?
— Germania.
Проехав Флоренцию, поезд поднимается в горы. В купе становится прохладно. Отопление не работает, а если и работает, то его никто не включил. Поезд врывается в туннель, и звуки отражаются от стен с неожиданной яростью. Фрау Хюбер думает о падающих бомбах, оползнях, ловушках. Затем следует благословенное освобождение — капли дождя, словно галька, вновь колотят об узорчатую черноту окна. Гретхен беспокойно спит. В те редкие моменты, когда ей все-таки удается уснуть, она видит свой личный кромешный ад — лишь затем, чтобы, проснувшись, увидеть ад общий: толчея, струи воды на окне, ерзанье и стоны недовольных попутчиков. Переезд через Апеннинский водораздел занимает три часа. Едва спустившись со склона, поезд останавливается где-то на периферии города, погруженный во мрак среди блочных домов и разрушенных фабрик.
— Где мы? — спрашивает фрау Хюбер так, словно ее лишают законного права знать свое местоположение. — Что это? Почему мы остановились? — От служанки толку никакого: та может лишь хныкать и стонать. В темном вагоне люди о чем-то взволнованно кудахчут, небо озаряется далекими вспышками, которые могут быть как осенними молниями, так и снарядами. Слово «Болонья» передается из уст в уста, словно сплетня. Bologna.
Наконец поезд сдвигается с места, вздрагивает и вновь катится вдаль — по заброшенным окраинам в сторону вокзала, и сплетня превращается в факт: указатели с надписью «BOLOGNA» проносятся за окном. Пар крупными клочьями поднимается с крыши, словно дым адских костров.
В Болонье планы меняются. Фрау Хюбер продумала все до мельчайших подробностей. Она стоит на платформе, окруженная людьми, и крепко держит свою служанку за плечи, словно пытаясь вразумить ее при помощи силы.
— Ты поедешь дальше, в Больцано, — говорит она. Мимо проходят военные. В колонках чей-то голос объявляет, на итальянском и немецком, что поезд опаздывает. — Ты поедешь дальше, в Больцано, — повторяет фрау Хюбер. — Ты вернешься домой, как мы и планировали. Но я с тобой не поеду.
— Не поедете со мной, gnädige Frau?
— Девочка моя, ты прекрасно все понимаешь. Не глупи.
— Но, фрау Хюбер…
— У меня есть другие дела. Возможно, я приеду к тебе позже. А теперь приведи мне носильщика и садись на поезд до Больцано.
— Но, gnädige Frau….
— Делай, что я тебе говорю!
И люди действительно слушаются ее. Повинуется служанка, и молодой служащий железной дороги, бледный юноша-астматик, которого отправят на передовую лишь тогда, когда все остальные мужчины в стране погибнут. Он, кажется, никогда в жизни не видел дипломатического паспорта, но достаточно проницателен, чтобы уяснить: пререкаться с этой женщиной — значит навлечь на свою голову больше неприятностей, чем от целой толпы крикливых итальянцев. Он достаточно умен, чтобы узнать во фрау Хюбер женщину, которая привыкла получать все, что ей заблагорассудится. Место на ближайший поезд в Милан? Он лично выпишет пропускной талон. Конечно, вовсе не обязательно звонить в посольство. Gnädige Frau может делать все, что ей угодно. Багажом займется кто-нибудь из солдат. А если gnädige Frau захочет, может подождать в их конторе, подальше от этих итальяшек — шумных, вонючих пораженцев.
— Мы ведь победим, правда? — внезапно спрашивает у нее солдат.
— Разумеется, победим.
И вот она ждет. Долгое, изнурительное ожидание, вонь сигарет и пробивающийся запашок шнапса. Вокзал разъедает опасный фермент сплетен: войска союзников высадились на территории Италии; король бежал; Муссолини, прятавшийся в горной тюрьме, похищен спецотрядом СС и вывезен в Германию. Едва услышав эти сплетни, фрау Хюбер объявляет их досужим вымыслом и призывает не обращать внимания на подобный вздор. Она даже ругает солдат за то, что они слушают эти глупости и способствуют их распространению.
— Подобное поведение подрывает боевой дух немецкого народа, — говорит она им, и они чувствуют себя пойманными на горячем школьниками-бузотерами. Фрау Хюбер сидит несколько часов в душном кабинете, где постоянно снуют какие-то люди, звонят телефоны и разливаются чашки искусственного кофе. Наконец, когда первые лучи рассвета окрашивают платформу серым и бежевым, в отдалении появляется поезд.
— Это ваш! — восклицает офицер. В его голосе сквозит удивление, но также и радость. По команде прибегают солдаты. С трудом проталкиваясь сквозь неукротимую толпу, они все-таки сажают фрау Хюбер в ее вагон. Двери захлопываются, звучит пронзительный свисток, и в шесть часов утра поезд сообщением Болонья-Милан трогается с места. Но прежде чем прибыть в Милан, ему придется остановиться в городке Ассо на озере Комо.
Магда — настоящее время
В газетах пишут о плачущей Мадонне. «Я видел, как она льет кровавые слезы», — утверждает один свидетель. «Я держал ее в руках, когда она плакала», — уверяет другой. Имеется в виду статуя Мадонны, купленная паломником в святилище Меджургорье в Боснии и подаренная какой-то римской часовне, где ее и взгромоздили на алтарь. Это обычный кусок блестящего белого гипса, не представляющий никакой художественной ценности; скорее, продукт индустрии, чем создание мыслящего существа. Произведения искусства почти никогда не становятся объектами общественного внимания и тем паче поклонения. Можете зайти в древнюю церковь в этой стране древних церквей и зачарованно любоваться работами Перуджино, Пинтуриккьо, Пьеро делла Франческа (миллионы туристов так и поступают) — но люди набожные, кающиеся грешники никогда не одарят эти работы своей любовью. Мерцающий ряд свечей всегда стоит перед непропорциональными картинами аляповатой расцветки, какой-нибудь пышной штуковиной с нелепым, кое-как прилепленным венцом, похожим на бумажный колпак из коробки с рождественским печеньем. Пилигримы всегда воздают почести китчу.
Магда увидела статью о плачущей Мадонне. Она нашла небрежно брошенную газету, и фотография привлекла ее внимание. Я видел, как она подняла газету, умостилась, точно кошка, на диване и медленно, вдумчиво прочла статью. От детского усердия розовый кончик ее языка высунулся наружу. Магда вообще похожа на ребенка. Она ведет себя, как дитя, по чьей-то мерзкой прихоти наряженное взрослой женщиной.
— Ты это видел? — спросила она, дочитав до конца.
— Ой, очередная ерунда, — сказал я. — Капля религиозных суеверий и море коммерческой эксплуатации.
Мое равнодушие, кажется, разозлило ее.
— Мы едем туда, — решила Магда. «Мы», включая, значит, меня. Неопределенное настоящее время. — Мы едем туда, и я молюсь за тебя. И Миладу.
Когда о тебе молятся, а не проклинают тебя, это заслуживает написания целого романа. И когда твое имя упоминают вместе с именем невинного ребенка — это тоже достойный сюжет для романа.
Поезд в мирное время. Прерывистое продвижение по римской campagna[142] в многолюдных, грязных вагонах. Кажется, если на багажных полках обнаружатся цыплята, а в багажном отсеке — поросята, никто даже не удивится. За окнами тянется унылый, невыразительный деревенский пейзаж. Унылые, невыразительные пассажиры таращатся на нас, никоим образом не желая нас дискриминировать: они бы точно так же таращились на кого и что угодно. Точно так же таращились бы на горбунов и цыган. На солидных адвокатов или сомнительных дельцов. Любой человек стал бы объектом их беспардонного любопытства. Но в купе были только мы, поэтому они пялились в нашу сторону. И что же они видели? Типичный мезальянс, члены которого, к тому же, говорят на иностранном языке: он уже в летах, лицо его сухо и изрезано морщинами; она бледна и накрашена безвкусно, как шлюха. Он покусывает нижнюю губу, она жует жвачку с безучастной сосредоточенностью коровы, перемалывающей слипшийся кусок пищи.
Прошел ли электрический заряд плотского влечения между этими двумя, такими разными, несовместимыми?
Нет.
Нежны ли они друг с другом?
Немного.
Спят ли они в одной постели?
Вполне вероятно.
Кто же они: муж и жена, мужчина со своей любовницей, клиент с проституткой?
Сложно сказать.
Пассажиры продолжают глазеть.
Мы сошли с поезда на безымянной станции где-то у побережья. Там стояла всего одна-единственная сторожка на одной-единственной платформе. Ярко-синие буквы были выведены на стене каким-то неприкаянным художником-монументалистом. Буквы эти складывались в короткое английское слово:
THE BEAST[143]
Пока мы ожидали автобуса, Магда вынула из сумки блокнот и набросала что-то карандашом. Часть стены, библейский клич, выбитые окна в здании вокзала — все это возникло, штрих за штрихом, на обычном листе белой бумаги. Она обладала этим талантом — этой удивительной властью художника, который овладевает всем миром, а, овладев, переделывает по своему усмотрению.
Наконец приехал автобус, чтобы отвезти нас вместе с еще несколькими заблудшими в Святилище Мадонны делла Палуди (Владычицы Болот). Билеты купить было негде, следовательно, последний отрезок нашего паломнического пути был преодолен нелегально.
Святилище находилось среди эвкалиптовых деревьев на мелиорированной земле, некогда входившей в состав Понтине Маршез. Там имелась огромная стоянка со специальной секцией, зарезервированной для автобусов, но в этот тоскливый осенний день, посреди недели, транспорта почти не было: один-единственный автобус с туристами из Польши, несколько легковых автомобилей, микроавтобус с монашками. За парковкой гнездились несколько ларьков, где можно было купить сувениры и амулеты. Вся эта мелочевка развевалась на ветру, как ярмарочный флаг: четки, распятия, медальоны. Христовы головы истекали кровью, пронзенные терновыми шипами, портреты падре Пио вскидывали связанные руки в мольбе. Изображения Папы Римского лопотали что-то бессвязное над епископским посохом; святой Франциск гладил волка.
И плачущая Мадонна тоже была там. Она была повсюду. Белые, блестящие, мадонны лежали ровными рядами, точно личинки в улье, как клоны на лабораторном столе. В продаже имелись мадонны карманного формата, мадонны для каминных полок, мадонны для прихожих и, разумеется, флаконы жидкого мыла в виде Мадонны для ванных комнат. Продавались мадонны, светящиеся в темноте, и мадонны с вмонтированными лампочками. У всех была одинаковая форма, одинаковые руки сжимали одинаковые четки, и все они являли одно и то же чудо: красная, ржавого оттенка жидкость текла из невидящих глаз по безразличным алебастровым щекам. Магда выбирала статуэтку с дотошностью покупательницы на рынке, которая ищет самые лучшие фрукты.
— Давай зайдем в святилище, — предложил я.
— Подожди.
— Мы же не за этим сюда приехали! Мы приехали за настоящей Мадонной. — Я осознавал, что говорю это с издевкой. Я всегда тщательно подбирал интонацию. Интонация — это пятьдесят процентов смысла. Но Магда не обратила внимания на мою интонацию. А вот Мэделин, несомненно, расхохоталась бы… Ирония Мэделин идеально сочеталась бы с моим сарказмом.
— Ничего настоящего нет, — сказала Магда. Имела ли она в виду чудотворную Мадонну или жизнь в целом, я определить не смог.
— Я настоящий, — сказал я. — Ты тоже. Все это ужасное место — настоящее. — Я дождался, пока она выберет статуэтку, и протянул ей деньги. Магда спрятала покупку в сумочку и вернулась к делам насущным с самым невозмутимым видом.
Святилище представляло собой современное здание, сложенное из бетонных плит и стальных перекладин как будто наспех. Углы едва сходились, нелепые промежутки были залеплены кусками цветного стекла, из-за чего сооружение напоминало пластмассовый домик, построенный ребенком. Золотые буквы над входом гласили: «Я слуга Господа моего».
Вокруг безобразного здания собралась небольшая группа. Сложно было определить, откуда взялись все эти люди, но у входа действительно толпились настоящие паломники.
— Не отходи от меня, — сказала Магда, и ее рука скользнула в мою, ее крепкие пальцы с ярко накрашенными ногтями переплелись с моими пальцами. Мы прошли через двойные стеклянные двери в атриум, где плакаты приглашали посетить Лурд, Фатиму и само Меджургорье. Падре Пио благожелательно улыбался нам с портретов. Из невидимых колонок доносилась «Аве Мария» Шуберта, исполняемая на неведомых инструментах. Предвкушение, которое испытывали все присутствующие, накапливалось в воздухе, и второстепенным звукам приходилось преодолевать сопротивление этого густого материала, чтобы достичь чьих-либо ушей. Распорядители выискивали непокрытые плечи и голые колени. Под их руководством разрозненная толпа пилигримов выстраивалась в прямую линию и брела в саму церковь, как один целостный организм — как змея, как червь.
Магда сжала мои пальцы, как маленькая девочка, которая просит отцовской защиты.
— Какой-то бред, — прошептал я. Она шикнула на меня, призывая к молчанию. На устах ее играла блаженная улыбка, словно она только что узрела свет истины. Чернота ее силуэта была сродни черноте старых монахинь в очереди — траурная, покаянная чернота.
— Странно, — прошептала она.
Церковь была испещрена тенями, между которыми стояли полноводные озера света. Согбенные фигуры становились на колени у центрального алтаря. Бестелесный лепет, казалось, исходил из аляповато выкрашенных стен здания — бормотание, плач, нечто сродни лепету душевнобольных. Очередь змеилась, повторяя очертания внутренней церковной стены и спускаясь по боковому проходу, втискиваясь в дальнюю нишу, где ослепительный свет разбивался о мишуру и позолоту и где ожидала просителей Мадонна. Ее неумело вылепленные руки сплетали пальцы в молитвенном жесте, ее слезы — это подлинное чудо — казались обыкновенными, заурядными ржавыми пятнами, неглубокими кривыми порезами. «Проходите», — призывали знаки на четырех языках, но змея не слушалась, замирая и извиваясь, словно от боли, склоняя голову перед Девой, дабы та остановила змею. Старухи и юные девушки, мужчины и мальчики, увечные и здоровые — все они проталкивались к образу, словно перед ними предстало божественное явление, а не дешевая, вульгарная статуэтка, чистый дух, а не штампованный кусок глазированного гипса. Магда стала на колени, перекрестилась и потянула меня, чтобы я стал рядом. На мгновение я и впрямь оказался на коленях подле нее. Меня удерживала ее решительная рука. О чем я думал? Смутно припоминал молитву, этот последний тлеющий уголек в потухшем костре? Или просто хотел очистить голову от каких-либо мыслей, томимый жалкой надеждой, что услышу ответный голос?
Я думал о Мэделин.
На улице нас залило солнечным светом. Магда преисполнилась важности своего свершения. Она нашла место, где можно было присесть, и набросала что-то по памяти: согбенные фигурки, люди, бредущие вперед, как узники в очереди в сортир, искалеченные тела со сломанными и вывихнутыми конечностями. Я стоял возле нее и пытался молиться.
Возле святилища находился трактир, в меню которого значилась pastadellelacrime— макароны со слезами. Мы пообедали там, прежде чем автобус отвез нас обратно на вокзал. По пути домой лицо Магды казалось неподвижным и грубым, словно нелепая, халтурно склеенная карнавальная маска. Лишь однажды она вытащила гипсовую статуэтку из сумки и, пребывая в глубокой задумчивости, взглянула на нее. Я знал, как она распорядится ею по приезде: Мадонна наверняка окажется на нашем балконе, откуда открывается панорама всего города. Там Магда будет часами рассматривать Мадонну, словно подстрекая ту расплакаться при ней. А затем она возьмет холст и несколько баночек краски, запекшейся у крышек, точно кровь на краях свежей раны, и начнет работать. И Мадонна поплывет по коллажу газетных вырезок и икон, благоговейных толп и проклятых душ, мимо другой Мадонны — той, которая держит младенца, чтобы все видели его несчастное личико. А увенчает композицию змий.
— Я хочу кое-что тебе показать, — сказал я Магде, пока она рисовала.
— Что?
— Погоди. — К стене был прислонен мой сундук, потертый старый сундук, который покорно следовал за мной в течение всей жизни, пока не осел здесь, точно обломок кораблекрушения, выброшенный на далеком, чужом берегу. Я приподнял крышку и выудил конверт, богато украшенный иностранными марками и штемпелями. — Вот.
Магда наблюдала за моими манипуляциями, чуть скривив рот, чтобы удобнее было покусывать нижнюю губу. Из конверта выскользнула страница. Я протянул ее Магде. Вместе с папирусом высыпались крошки и крупицы пыли.
— Что это?
Сухой лист, наподобие рисовой бумаги, обесцвеченной временем. Буквы извивались и петляли по поверхности. Экзотический, эзотерический шрифт. Я увидел слово ΜΟΔΙΝ. Модин.
Магда шагнула вперед и взглянула на папирус.
— Что это? Старое?
— Очень старое.
Она протянула палец, чтобы коснуться диковинки.
— Можешь использовать это, — сказал я. — На, бери. Можешь использовать, если хочешь и как хочешь.
— Это ценная вещь?
— Очень ценная, но можешь использовать ее по своему усмотрению. Она твоя.
Магда улыбнулась: ей было приятно получить ценный подарок. Она взяла лист, положила на ладонь и вновь улыбнулась.
— Вместе с Мадонной, — решила Магда.
— Переверни. Ты держишь папирус вверх ногами, — заметил я.
Я наблюдал, как она работает. Наблюдал, как быстро, ловко она накладывает мазки, и краска становится объектом, и абстрактные линии поддерживают равновесие, а в причудливые цвета картины внедряются странные фрагменты — пожухлые буквы койне, языка торговли, устного и письменного общения. Язык, оказавший на мир большее влияние, чем какой-либо иной, теперь вписан в мир плачущей Мадонны с Младенцем. Газетные вырезки и обрывки священного текста чрезвычайно гармонично обрамляют женщину, по щекам которой, точно драгоценные камни, скатываются капли акрилового багреца.
Лак Леман — 1943
Миссис Маргарет Ньюман, таинственная чужестранка в этом городе чужестранцев, идет в сторону порта по узким улочкам исторического центра. За спиной у нее, под карнизом старого узкого дома на улице Гранже, находится квартира. Впереди, между узкими зданиями, можно различить очертания Английского сада, озера Лак Леман и огромного фонтана, время от времени мечущего радуги в небо. Вокруг нее беспечно суетится город, избежавший войны. Этого достаточно, считает она.
На ней цветастое платье, на плечи наброшен кардиган (все-таки дует прохладный бриз), и все встречные мужчины провожают ее взглядами. Один джентльмен даже подходит к ней, снимает шляпу, обращается к ней по-французски — madame — и желает ей доброго утра. «Voulez-vous venir avec moi?»[144]
Она отвергает его при помощи той особенной улыбки, которая не содержит в себе и намека на дружелюбие. Мужчина уходит прочь. Приветливых улыбок не осталось: француженки, которым удалось пересечь границу, живут на птичьих правах беженок, живут так, как только и можно жить в стране, переполненной обездоленными и обнищавшими.
Миссис Ньюман возвращается с мессы. Католическая месса приносит ей утешение в этом протестантском городе. Она уже нашла церковь и священника, которому может поведать свои запутанные тайны.
В Английском саду она садится на лавочку, закинув ногу на ногу и целомудренно оправив юбку на коленях. Она пытается не думать. Никаких газет, никакого радио, никаких новостей из-за границы. Она вынимает из сумки книгу, открывает там, где заложено, и начинает читать. Джейн Остин, разумеется. Игнорировать войну можно. Персонажи книг Джейн Остин, похоже, постоянно игнорируют свою собственную войну — бесконечную войну против Наполеона. Миссис Ньюман читает книгу и чувствует слабое шевеление внутри себя. Она найдет врача. Она сдаст анализы (ее мочу вколют жабам), но анализы ей, по правде говоря, и не нужны. Она сама знает. Она знает все: будет мальчик. Она назовет его Лео; своего рода воскрешение. И тогда она полностью искупит свои грехи.
Спустя, быть может, минут двадцать к ней подходит еще один мужчина: молодой, неловкий, слегка женоподобный из-за опущенного воротничка и пижонской прически.
— Мадам Ньюман? — спрашивает он. Он неловко пытается поклониться, как будто сомневается: не вышел ли этот жест из моды?
Она осторожно кладет закладку и закрывает книгу.
— Oui. Je suis la Madame Newman.[145]
Парень, похоже, испытывает облегчение.
— Думаю, нам стоит уединиться в более укромном месте, — предлагает он. Занятное предложение: начавшись с неумелого французского, оно заканчивается немецким. — Меня зовут Пол Везербай, я работаю в… хм… Министерстве иностранных дел Великобритании. Я понимаю, что вы хотите обсудить возникшие у вас… как бы точнее выразиться?… Трудности.
Ей нравятся его аристократические манеры. Эти манеры она узнает вмиг. Ей также нравится то, что вдали стоит машина, в которой сидят другие, не такие изнеженные люди.
— Превосходная мысль, — соглашается она. Миссис Ньюман встает со скамейки, кладет книгу в сумочку, поправляет кардиган на плечах. — Понимаете ли, я хочу вернуться домой.
Примечания
1
Gamine (фр.) — девчонка-сорванец. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)
(обратно)2
Иоанна 20:2. (Примеч. ред.)
(обратно)3
Polio alla diavola (um.) — острая маринованная курица в духовке. (Примеч. ред.)
(обратно)4
Ciao (um.) — привет. (Примеч. ред.)
(обратно)5
Святая Клара Ассизская (1194–1253) принимала активное участие в организации женских францисканских монастырей, за что и была канонизирована. (Примеч. ред.)
(обратно)6
Павел Шестой (1897–1978) — Римский Папа с 1963 г. (Примеч. ред.)
(обратно)7
Лингва-франка (от lingua franca (ит.) — язык франков) — смешанный язык, возникший в средние века и служивший главным образом для общения арабских и турецких купцов с европейцами. (Примеч. ред.)
(обратно)8
Имеется в виду Райландский (Манчестерский) папирус, который был найден в 1935 г. в Египте и считается наиболее древним памятником Нового Завета. (Примеч. ред.)
(обратно)9
МатфеяЗ:12.
(обратно)10
Il corpo di Cristo (um.) — Тело Христово.
(обратно)11
Палимпсест (от греч. palin — снова и psâiô — скоблю, стираю) — древняя рукопись, написанная на писчем материале (гл. обр. пергаменте) после того, как с него счищен прежний текст. (Примеч. ред.)
(обратно)12
Литургическая реформа — реформа, проведенная на основании «Соборной конституции о литургии» — документа, разрешающего упрощение многих обрядов и приспособление их к местным условиям. (Примеч. ред.)
(обратно)13
Иуда Маккавей — человек, возглавивший народное восстание II в. до н. э. в Иудее против власти селевкидов. В 164 г. до н. э. захватил Иерусалим. (Примеч. ред.)
(обратно)14
Старейший из университетов Великобритании разбит на множество колледжей.
(обратно)15
От англ. mad — безумный.
(обратно)16
Boot (англ.) — ботинок.
(обратно)17
От англ. new man — в буквальном переводе, «новый человек», «другой человек».
(обратно)18
Лимб — в католической традиции пограничная область ада, в которой пребывают души праведников, умерших до пришествия Христа, и души умерших некрещеными детей.
(обратно)19
В последние века до н. э. возникла особая религия с культом Митра — митраизм, получившая распространение в эллинистическом мире: с I в. н. э. — в Риме, со II в. — по всей Римской империи; особой популярностью пользовалась в пограничных провинциях, где стояли римские легионы, солдаты которых были главными приверженцами культа Митра, считавшегося богом, приносящим победу; сохранились остатки многочисленных святилищ-митреумов (вблизи римских лагерных стоянок). Значительную роль в распространении митраизма сыграли социальные низы, которых он привлекал тем, что провозглашал равенство среди посвященных в него и сулил блаженную жизнь после смерти. В митреумах совершались особые мистерии, доступные только посвященным мужчинам; они состояли из жертвоприношений, культовых трапез и пр.
(обратно)20
Инициации (от лат. initiation — совершение таинств) — посвятительные обряды, связанные с переходом юношей и девушек в возрастной класс взрослых мужчин и женщин. (Примеч. ред.)
(обратно)21
Alimentari (um.) — продуктовые магазины.
(обратно)22
Ориген (ок. 185–253/254) — христианский теолог, философ/ филолог; оказал большое влияние на формирование христианской догматики. (Примеч. ред.)
(обратно)23
Клавдия Прокула была канонизирована под именем святая Прокла. (Примеч. ред.)
(обратно)24
Ciao, normo (um.) — Привет, дедуля!
(обратно)25
Spätlese (нем.) — вино позднего сбора.
(обратно)26
«Кольцо Нибелунгов» — опера Р. Вагнера.
(обратно)27
Prosciutto crudo (um.) — сырая ветчина — одно из традиционных итальянских лакомств. (Примеч. ред.)
(обратно)28
Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778) — итальянский гравер, «архитектурные фантазии» которого отличаются грандиозностью пространственных построений и светотеневыми контрастами. (Примеч. ред.)
(обратно)29
Tempietto (um.) — небольшой храм.
(обратно)30
Донато Браманте (1444–1514) — итальянский архитектор, представитель Высокого Возрождения. (Примеч. ред.)
(обратно)31
Bello. Un bel uomo (um.) — Красивый. Красивый мужчина.
(обратно)32
В английском оригинальное слово handsome обычно употребляется применительно к мужчинам.
(обратно)33
Созвучно английскому бранному слову fitck.
(обратно)34
Piano nobile (um.) — парадный второй этаж.
(обратно)35
Иоанна 6:64. (Примеч. ред.)
(обратно)36
Матфея 26:56.
(обратно)37
«Gretchen am Spinradde» (нем.) — «Гретхен за прялкой».
(обратно)38
Principe (um.) — знатный человек, дворянин, князь.
(обратно)39
Charlemagne — Карл I (Великий). (Примеч. ред.)
(обратно)40
Hakenkreuz (нем.) — свастика.
(обратно)41
Юнгфольк — молодежная организация в фашистской Германии.
(обратно)42
Имеется в виду Грегор Иоганн Мендель (1822–1884) — австрийский естествоиспытатель, основоположник учения о наследственности. (Примеч. ред.)
(обратно)43
Mutti (нем.) — мамочка.
(обратно)44
Die gute alte Zeit (нем.) — старые добрые времена.
(обратно)45
Эдда Муссолини — старшая дочь Бенито Муссолини. (Примеч. ред.)
(обратно)46
Mia сага Eugenia, con affetto (um.) — Моей дорогой Евгении, с любовью. (Примеч. ред.).
(обратно)47
Carpe diem (лат.) — лови момент, лови день; пользуйся моментом; не теряй возможности (выражение принадлежит Горацию, «Оды»; Horatii Carmina 1.II.8).
(обратно)48
Матфея 8:26. (Примеч. ред.)
(обратно)49
Mille lire, per le luci (um.) — тысяча лир за свет. (Примеч. ред.)
(обратно)50
Dio c'è (um.) — Бог есть.
(обратно)51
Английское слово bloody может означать как «кровавый», гак и «поганый, чертов, дрянной» (корректный синоним бранногоfucking)
(обратно)52
Mitteleuropa (пол., нем.) — Средняя [Срединная] Европа (термин геополитики; предложен Ф. Науманном; пространство, промежуточное между Россией и Атлантическим побережьем Европы; традиционно рассматривается как зона преимущественно германского влияния).
(обратно)53
Пий Двенадцатый (1876–1958). (Примеч. ред.)
(обратно)54
Gnädige Frau (нем.) — милостивая госпожа. (Примеч. ред.)
(обратно)55
В оригинальном тексте используется английский фразеологизм swing the lead — «прогуливать», в буквальном переводе — «бросать лот, измерять глубину лотом».
(обратно)56
Папирус Эгертон — письменный документ II в, н. э., названный по имени издателя. (Примеч. ред.)
(обратно)57
Pronto (um.) — алло, слушаю.
(обратно)58
Кибуц — сельскохозяйственная коммуна в Израиле.
(обратно)59
Ролан де Во — католический ученый-библеист, руководитель археологической экспедиции, автор теории о кумранской скриптории. (Примеч. ред.)
(обратно)60
Нексус — связи, узы, отношения.
(обратно)61
«Касабланка» — популярный фильм режиссера Майкла Кертица.
(обратно)62
Откровение 21:2.
(обратно)63
Радиоуглеродная экспертиза — специальная процедура, позволяющая определить возраст по углероду.
(обратно)64
Бармицва — в иудейской традиции достижение еврейским мальчиком религиозного совершеннолетия и соответствующая торжественная церемония.
(обратно)65
Шестидневная война — война 1967 г., в ходе которой Израиль захватил Голанские высоты и Иудею с Самарией. (Примеч. ред.)
(обратно)66
Давид — царь Израильско-Иудейского царства после табели Саула. Создал государство со столицей Иерусалим. (Примеч. ред.)
(обратно)67
Саул — основатель Израильско-Иудейского царства (XI в. до н. э.). (Примеч. ред.)
(обратно)68
Зелоты — социально-политическое и религиозное течение, возникшее в Иудее во II в. до н. э. (Примеч. ред.)
(обратно)69
Бытие 3:19.
(обратно)70
Артур Джон Эванс (1851–1941) — английский археолог; открыл и исследовал минойскую культуру на о. Крит. (Примеч. ред.)
(обратно)71
«Скала веков, разверзнись для меня, позволь мне укрыться в тебе» — строчки из популярного христианского гимна «Скала веков» («Rock of Ages»), слова которого написаны преподобным Аугустусом Монтегю Топлэди, а музыка — Томасом Гастингсом. Строчка приведена в переводе Л. Каневского.
(обратно)72
Апокрифы (греч. apokryphes — тайный, сокровенный) — произведения иудейской и раннехристианской литературы, не включенные в канон. (Примеч. ред.)
(обратно)73
Гностицизм — религиозное движение поздней античности, вылившееся в ряд раннехристианских ересей. (Примеч. ред.)
(обратно)74
Даниила 5:27. (Примеч. ред.)
(обратно)75
Mia cara (um.) — моя дорогая. (Примеч. ред.)
(обратно)76
Tramontana (um.) — северный ветер.
(обратно)77
Нимфеум — то же, что зимний сад.
(обратно)78
Шутливо-вульгарное обозначение пениса (англ.).
(обратно)79
Мэйнут — город в Ирландии. (Примеч. ред.)
(обратно)80
Ах, милый, ты не одинок, и нас обманывает рок… — строки из стихотворения Роберта Бернса «То a Mouse» (в русском переводе С. Я. Маршака — «Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом»). В английском языке строчка оригинала: «The best laid schemes о' mice an' men…» — стала крылатой и означает то, что даже самые тщательно продуманные планы могут в любой момент разрушиться из-за вмешательства внешних обстоятельств. Заглавие романа Дж. Стейнбека «Of Mice and Men» также, разумеется, взято из данного стихотворения
(обратно)81
Трапписты — католический монашеский орден (ответвление цистерцианского ордена), отличающийся строгим уставом. (Примеч. ред.)
(обратно)82
Бенедиктинцы — члены католического монашеского ордена. (Примеч. ред.)
(обратно)83
Секуляризация (от позднелатинского saccularis — мирской, светский) — переход лица из духовного состояния в светское с разрешения церкви. (Примеч. ред.)
(обратно)84
Иоанна 11:25–26. (Примеч. пер.)
(обратно)85
Катамиты — мальчики, состоящие в половой связи со взрослыми мужчинами.
(обратно)86
Geliebt (нем.) — возлюбленный.
(обратно)87
Иоанна 20:2.
(обратно)88
Типичный слоган компаний, торгующих цветами.
(обратно)89
Непереводимая игра слов: atonement («искупление», англ.) — one («один», употр. также как слово-заместитель).
(обратно)90
Sacerdote (um.) — священник. (Примеч. ред.)
(обратно)91
«Il Messaggero» — итальянская газета. (Примеч. ред.)
(обратно)92
Унциальное письмо (унциал) — особый тип почерка в средневековых греческих и латинских рукописях. (Примеч. ред.)
(обратно)93
Минускулы (от лат. minusculus — маленький) — буквы, имеющие упрощенное строчное написание. (Примеч. ред.)
(обратно)94
Псалом 50:4.
(обратно)95
Sono desolato (um.) — Мне очень жаль.
(обратно)96
Игра слов: Magda — mag (сокр. от magazine — журнал (англ.)
(обратно)97
Пьер Боннар (1867–1947) — французский живописец и график (Примеч. ред.)
(обратно)98
Читай как притяжательный падеж: «Аристобулуса». Аристобулус был вторым сыном Ирода Великого от второй жены Мариам I. Аристобулуса казнили по приказу Ирода в 7 году до н. э.
(обратно)99
Т. е. Мариам I.
(обратно)100
Читай как притяжательный падеж: «Иешуа».
(обратно)101
В тексте наблюдается путаница в родственных связях. Возможный вариант прочтения: «Мариам (мать Иешуа) была дочерью Антипатера и его жены, которая, в свою очередь, была дочерью Антигона Гасмонея». Антигон был внуком последнего верховного жреца/царя из династии Гасмонея. Такое происхождение означает, что Иешуа принадлежал к роду Гасмонея ик роду Ирода как с материнской, так и с отцовской стороны».
(обратно)102
Числа, 24:17».
(обратно)103
Бар-Кохба — предводитель антиримского восстания 132–135 гг. в Иудее. (Примеч. ред.)
(обратно)104
Иосиф Аримафейский — согласно Новому Завету, снял тело Иисуса с креста и собрал его кровь. (Примеч. ред.)
(обратно)105
Одно из значений английского «à tablet» — скрижаль.
(обратно)106
Скрипторий — помещение для переписки рукописей к средневековых монастырях.
(обратно)107
Plagkteros — неизвестное слово, возможно, обозначающее человека, который совращает с пути добродетели, подстрекателя.
(обратно)108
Am-hares, слово из иврита, в оригинале.
(обратно)109
Agapa. Автор единственный раз говорит от первого лица в этом абзаце».
(обратно)110
Перевод Библии (Ветхого и Нового Заветов) на английский язык, сделанный в 1611 году по указанию английского короля Якова I. Официально признан американской протестантской церковью.
(обратно)111
Терские папирусы — возможно, свитки, хранящиеся в Лейкес-Терском музее. (Примеч. ред.)
(обратно)112
Тексты из коллекции американского горнопромышленника Альфреда ЧестераБитти. (Примеч. ред.)
(обратно)113
Согласно легенде, придворные Канута Великого утверждали, что он «настолько велик, что может приказать приливу отступить». (Примеч. ред.)
(обратно)114
Откровение 10:10; 6:17.
(обратно)115
Speira — римский гарнизон в Иерусалиме.
(обратно)116
Ekplisso — изумленный, удивленный, потрясенный.
(обратно)117
Употребляемое без артикля слово theos, «бог», по всей вероятности, означает «богоподобный» (ср. Евангелие от Иоанна 1:1)
(обратно)118
Massia — транслитерация слова из иврита.
(обратно)119
El — опять-таки, обозначение Бога на иврите, транслитерация.
(обратно)120
В оригинале написано ha'ares, слово из иврита. Значение этой известной библейской фразы сложно интерпретировать в данном случае. Возможно, имеется в виду просто «народ этой земли», т. е. крестьяне, возможно, это «люди, не во всем придерживавшиеся буквы закона» — значение, ставшее общепринятым в раввинскую эпоху».
(обратно)121
Вар-Авва, Сын Отца. Непонятно, имеется ли в виду Бог-Отец, как в христианских благовеетвованиях, или настоящий отец человека по имени Иисус, Аристобул из рода Гасмонея (см. выше).
(обратно)122
Вар-Адам, Сын Человека.
(обратно)123
ср. Иоанн 11:50,18:14».
(обратно)124
Ригель — звезда в созвездии Ориона.
(обратно)125
Коринфянам 15:51–52. (Примеч. ред.)
(обратно)126
Деяния 9:4. (Примеч. ред.)
(обратно)127
Doloroso (um.) — скорбный.
(обратно)128
Копты — египтяне, исповедующие христианство. (Примеч. ред.)
(обратно)129
Эбиониты — иудействующие христиане, продолжавшие придерживаться Моисеева закона. Признавая мессианство Иисуса, отрицали его божественную сущность. (Примеч. ред.)
(обратно)130
Филиппийцам 2:1–2.
(обратно)131
По велению Яхве Авраам должен был принести сына в жертву Богу но в момент жертвоприношения был остановлен ангелом. (Примеч. ред.)
(обратно)132
Треблинка, Собибор, Бельзек — фашистские лагеря смерти. (Примеч. ред.)
(обратно)133
Лоренцо Бернини (1598–1680) — итальянский архитектор и скульптор. (Примеч. ред.)
(обратно)134
Франческо Борромини (1599–1667) — итальянский архитектор«(Примеч. ред.)
(обратно)135
Vicolo délia Расе (um.) — переулок Мира. (Примеч. пер.)
(обратно)136
Cazzo (вульг., um.) — хрен.
(обратно)137
Culo (вульг., um.) — жопа.
(обратно)138
Sta zitto, stronzo (um.) — Заткнись, козел.
(обратно)139
Милада Хоракова — лидер чешских социал-демократов, в 1950 г приговоренная к смертной казни. (Примеч. ред.)
(обратно)140
от лат. sanatio — лечение — оздоровление
(обратно)141
Пытаясь вернуть тридцать сребреников, полученных за предательство, Иуда бросил их в храме; на эти деньги первосвященники купили землю горшечника и устроили там кладбище для чужеземцев.
(обратно)142
Campagna (um.) — сельская местность.
(обратно)143
Beast (англ.) — зверь.
(обратно)144
Voulez-vous venir avec moi? (фр.) — Не хотите ли прогуляться со мной?
(обратно)145
Oui. Je suis la Madame Newman (фр.) — Да, это я, мадам Ньюман.
(обратно)
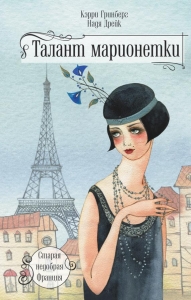



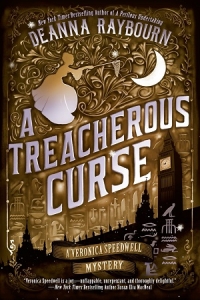
Комментарии к книге «Евангелие от Иуды», Саймон Моуэр
Всего 0 комментариев