От редакции
«Эту книгу можно читать с любого места», — сказали мы в прошлый раз, когда выпускали в свет — нет, не начало! Наоборот — конец серии историй о тайных агентах Владимирове и Фаберовском. И не наврали. Более того, настоятельно рекомендуем: начинайте читать с любого места. Почему? Это неизвестно. Просто мы знаем, что так удобнее. Если же вы, читатель, по природе своей устроены так, что вам непременно нужен строгий хронологический порядок, и вдобавок, чтобы все действующие лица были заранее вам представлены, если вы страдаете, ощущая, что чего-то не поняли — закройте скорее эту книгу и не портьте себе характер.
Как мы посмели начать историю с конца? Кто дал нам право публиковать незаконченную рукопись? Как у нас хватило нахальства так жестоко поступать с читателем? Но вот же мы и говорим вам: читайте с любого места. Не потому, что сюжет неважен. Как раз он важен в первую очередь. Но только ни за что вы в нем не разберетесь, если попытаетесь действовать по правилам. Нет здесь никаких правил и быть не может. Как нет начала и нет конца у серии «Тайные агенты». Совершенно безразлично, познакомились ли вы с этими господами с финальной книги «Три короба правды, или Дочь уксусника» или же делаете это только сейчас. Потребуется только немного терпения, чтобы все незнакомое, непонятое и черт знает, откуда взявшееся, стало ясно, понятно, знакомо, как свое.
Теперь, наконец, мы перестанем морочить голову тем, кто только еще знакомится с автором. Это незаконченная книга. Автор умер. Вернее, умерла половина автора, Степан Анатольевич Поберовский. Вторая же половина Светозара Чернова, Артемий Владимиров, уперлась: Светозара Чернова, в том его виде, в каком шла работа на квадрологией, нет более на свете, а значит, книга дописана не будет. «Я могу дописать, — говорил Владимиров на просьбы и мольбы, — но тогда это будет другая книга». По зрелом размышлении подумалось: а ведь верно, это была бы другая книга — у нее был бы один голос вместо двух. Тогда как на самом деле…
Тем временем, мир тайных агентов уже существовал, и сами тайные агенты уже жили во плоти — не то интриганы — провокаторы, не то жертвы, с которыми так не хотел иметь дела директор Тайной полиции Петр Николаевич Дурново, «ибо сделать Владимиров и Фаберовский могут все, но лучше продать душу дьяволу, чем связываться с ними». Словом, история уже стала реальностью. То, чего в ней не было, додумывалось на ходу само. И даже более: оказалось, что пропущенные места придают сюжету динамики, интригуют, заставляют читателя погружаться в созданный автором мир и там действовать самостоятельно — одною силой своей фантазии. Тогда было решено: публиковать все, как есть. Начать с самого законченного. Самым законченным оказался последний роман серии — «Дочь уксусника». Теперь перед вами предпоследняя часть квадрологии: «К месту службы в кандалах, или Операция “Наследник”».
И эту книгу можно читать с любого места.
Телеграфный запрос директора Департамента полиции Дурново полковнику фон Плато
1 октября 1889 г.
Иркутск
Начальнику Жандармского Управления
Прошу сообщить мне местонахождение высланных 1888 году Якутск известных вам купеческого сына Артемия Владимирова и мещанина Степана Фаберовского.
Директор Дурново [1]
Ответная телеграмма фон Плато — Дурново
Из Иркутска № 1817.
Директору Департамента полиции.
Упоминаемые личности телеграмме Вашего Превосходительства отправлены Якутск июле сего года, где находятся по сей день.
Полковник фон Плато.
Телеграмма Дурново — фон Плато
5 октября 1889 года
Иркутск
Начальнику Жандармского Управления
Встречая надобность в личном объяснении с известными вашему превосходительству Артемием Владимировым и Степаном Фаберовским имею честь просить Вас, милостивый государь, пригласить их к себе и, снабдив деньгами на дорогу, предложить им немедленно выехать в Петербург. По прибытии в Петербург Владимиров и Фаберовский не должны никому сообщать о цели своего приезда и между 6–7 часами вечера явиться ко мне на квартиру по Владимирской площади и представить в удостоверение своих личностей письмо от Вас. Для приезда и жительства Владимиров и Фаберовский должны быть снабжены документами, по которым они проживают в Якутске и по коему они могли бы беспрепятственно жить в Петербурге, но отнюдь не проходным свидетельством. Сохраняя поездку Владимирова и Фаберовского в строгой тайне, я покорнейше прошу Ваше превосходительство о дне их выезда из Иркутска уведомить меня шифрованной телеграммой.
Директор Дурново
Пролог
Худой высокий человек в овчинном полушубке с уханьем колол дрова у крыльца дома, где помещалась якутская женская прогимназия. Несмотря на то, что на дворе царил февраль и морозы ничуть не желали слабеть, полушубок его был расстегнут, от пара, идущего изо рта, борода его обросла сосульками, малахай сбился на затылок, а стекла многажды чиненных очков в золотой оправе покрылись инеем. Утомившись, он бросил колун на утоптанный снег и оглядел высоченную поленницу, крепостной стеной окружавшую дом гимназии. Он вышел со двора на широкую улицу, снял с носа очки и потер рукавицей его и замерзшую от очков переносицу. По наезженной санями улице, вдоль желтой от навоза разбитой колеи, шел, постоянно спотыкаясь и переваливаясь с ноги на ногу словно пингвин, толстенький человек в тулупе.
— Степан! — крикнул толстяк худому. — Фаберовский! Бросай ты свою ерунду! Пошли домой ужинать.
Это был Артемий Иванович Владимиров, бывший агент Заграничной агентуры, сосланный сюда в Якутск вместе с Фаберовским административным порядком и снимавший теперь вместе с ним мезонин в одном из домов на Береговой улице. По разрешению и.о. якутского губернатора Осташкова им обоим в виде исключения было разрешено нарушить пункт 21 «Положения 1882 года о ссыльных и ссыльнопоселенцах» — им было дозволено занять места на государственной службе, места швейцаров при якутских гимназиях. С тех пор весь Якутск узнавал Артемия Ивановича по его головному убору — купленной на рынке у солдата фуражке, обшитой галунами из скрученной жгутом старой рыболовной сетки. При этом Артемий Иванович руководствовался не столько формальными установлениями, сколько полетом собственной фантазии, а гимназическое начальство, которое никогда прежде не видело у себя в Якутске сотрудников Заграничной агентуры, считало, что так и нужно, почему протестовать не решалось.
— Степан! — еще раз воззвал к Фаберовскому Артемий Иванович, подойдя вплотную и пытаясь оттянуть ото рта башлык, в который была закутана его голова. — Я уже хочу есть.
Владимиров не умел разводить огонь в печи, поэтому любая задержка Фаберовского в гимназии плохо отражалась на состоянии его прожорливого брюха.
— Пошел ты до дупы, пан Артемий! — с легким польским акцентом беззлобно огрызнулся тот. — Не видишь, делом занят.
Артемий Иванович снял наконец башлык, оставшись в своей знаменитой фуражке, приосанился и начал нравоучительным голосом:
— Эх ты, господин Фаберовский! Ну чего ты тут зря надрываешься? Вот дали тебе место в женской прогимназии, а в ней всего-то четыре класса, потому ты сам и истопник тут, и дворник, и девки малые тебя иначе как Степкой не кличут. Говорил я тебе: иди ко мне в подчинение. Я вот швейцаром при мужской прогимназии состою, подо мною и истопник, и дворник, и учителев я вот где держу! — Владимиров сорвал меховую рукавицу и показал волосатый кулак. — И обращаются ко мне уважительно все: и учителя, и гимназисты с первого по шестой класс. «Здрасьте, говорят, Артемий Иванович, наше почтеньице вам, господин Владимиров».
Фаберовский молча повернулся, подошел к поленнице и стал укладывать наколотые дрова.
— Нет, ты меня послушай, Степан! Ты вот тут ерундой занимаешься, а твой лучший и единственный друг скоро изгибнет от голода, — голос Артемия Ивановича задрожал. — Начальство тебе этого не простит!
Поляк выпрямился и обернулся к тараторившему Владимирову. Тот заметил в руке у поляка полено и умолк, но было поздно. Суровая и полная лишений жизнь в Сибири приучила поляка к лаконичному выражению своих мыслей, он без единого слова размахнулся и ударил Артемия Ивановича поленом по лбу. Тот охнул и сел в снег.
— Ну ты, Степан, даешь! — сказал он, ощупывая вскочившую шишку. — А если бы фуражки на голове не было, убил бы вовсе!
— Убьешь такого! — проворчал поляк, засовывая полено под навес.
Не обращая больше никакого внимания на Владимирова, Фаберовский вышел на улицу и пошел домой.
— Ну что ты молчишь, ну?! — забежал вперед Артемий Иванович. — Не хочешь говорить, тогда одолжи три рубля. Человек я или нет! Полгода уже в этой глуши среди якутов сижу, мочи больше нет. Хочу напиться! Не ходить же к Матрене Васильевне на улусную квартиру к нигилистам!
— Незачем напиваться! — огрызнулся поляк. — Я же не напиваюсь.
На самом деле Фаберовскому хотелось напиться постоянно и еще сильнее, чем Владимирову, но он боялся дать себе волю. Сперва после ареста поляк надеялся на помощь со стороны генерала Селиверстова. По нерасторопности этого человека они были схвачены в Остенде людьми начальника Заграничной агентуры Петра Ивановича Рачковского. Но прошло полгода, их отправили в Москву, там посадили в вагоны железной дороги и с партией ссыльных под конвоем повезли в Нижний Новгород. Из Нижнего на барже по Волге и Каме их доставили до Перми, а оттуда до Тюмени снова по железной дороге. Но поляк все еще надеялся и подбадривал Артемия Ивановича, совсем павшего духом от трудной дороги. Однако когда из Тюмени на барже их привезли в Томск и оттуда пешим этапным порядком повели через Красноярск в Иркутск, надежда и вместе с ней мужество оставили поляка. Теперь уже Владимирову приходилось поддерживать своего товарища по несчастью. Замкнувшись в себе, Фаберовский жил в Якутске мрачно и нелюдимо, не общаясь вне гимназии ни с кем, особенно с соплеменниками, сосланными после Варшавского восстания 1863 года, за что его в Якутске прозвали «коловратным» и «куркулеем». Зато жизнь Артемия Ивановича била ключом. Еще до того, как им с Фаберовским разрешили состоять на общественной службе и занять места швейцаров в якутских гимназиях, Владимиров загорелся идеей открыть мастерскую по производству настоек на стрихнине для политических, среди которых были распространены нервные заболевания. Он одолжил лопату у хозяйки дома, где они сняли квартиру, вскопал большой участок земли и засеял его доставшимися ему по случаю от какого-то аптекаря семенами чилибухи, гордо назвав свой огород «Мои озимые». Вскоре его посадки ушли под снег, и до весны Артемий Иванович смог с головой окунуться в деятельность совсем иного рода. Он занялся дрессировкой старой облезлой лайки, которую он полуживой подобрал на пустыре около оставшейся от древнего острога сторожевой деревянной башни и принес домой, заявив поляку, что выучит этого молодого щенка охранять дом. Умилившийся Фаберовский собственноручно изготовил конуру, но конура не понадобилась, так как через день собака издохла от ужаса и удивления, после того как Артемий Иванович покусал ее, показывая, что она должна делать с непрошеными гостями. Его печаль длилась недолго, так как от собаки осталась совершенно новая конура. Конуру он внес в качестве вклада в культурное развитие якутского общества, предложив ее как суфлерскую будку советнику местного областного управления Меликову, который во главе верхушки здешнего чиновничества устраивал для публики любительские спектакли. Растроганный Меликов разрешил Владимирову исполнить роль суфлера. Фаберовский, притащив конуру к Меликову и расширив в нее вход, поинтересовался, нужно ли оставлять цепь. «Зачем?» — удивился Меликов. «Ну, как хотите,» — усмехнулся поляк. И только после поднятия занавеса Меликов понял эту усмешку. Артемий Иванович опоздал к началу и под хохот публики прополз во время спектакля на четвереньках к своей будке, где до самого антракта устраивался, кряхтя и громко матерясь. Такое грандиозное фиаско только сильнее подхлестнуло его самолюбие. Он понял, что актерский талант — не самая сильная сторона его богатой многогранной личности и со страстью отдался делу, в котором у него уже был порядочный опыт. Целый месяц каждый вечер он усаживался за стол и при лучине марал один лист писчей бумаги за другим, пока на свет не явилась драма, потрясшая все якутское общество. Называлась эта драма «Му-му» и, как гласил подзаголовок на афише, была написана по рассказу Тургенева. Однако Артемий Иванович самого рассказа не читал, а только слышал о нем краем уха от одного из ссыльных. Поэтому в его переложении Герасим утопил здорового племенного быка, который в финальной сцене должен был громогласно мычать и для роли которого Артемий Иванович лично изготовил рога. Пьесу поставили, но она продержалась на сцене только до второго акта, когда по приказу присутствовавшего на премьере полицмейстера Сухачева была прекращена в связи с усмотрением в ней государственной крамолы и скрытых намеков на неверность императрицы государю императору. Несмотря на это, по свидетельству одного из присутствовавших на спектакле ссыльных, пьеса была отменно хороша и заменила ему две недели белой горячки. Благодарный за доставленное удовольствие, ссыльный подарил Артемию Ивановичу неслыханное в Якутске богатство — полный ящик засохших масляных красок. Такой царский подарок не мог не побудить Артемия Ивановича на новые подвиги. Первой его большой работой стал портрет государя императора. Владимиров писал его с себя, глядя в зеркало. Он работал самозабвенно, забыв про сон и еду, пока наконец не явил поляку раму с ликом Александра III, больше похожего на розовую жабу в мундире с застежкой на левую сторону на бабий манер и с какими-то невиданными орденами. Вдохновленный успехом — Фаберовский едва не подавился сухарем, который он грыз в это время, — Артемий Иванович написал еще один портрет, специально для поляка — портрет оставшейся в Лондоне невесты Фаберовского. Но ее он тоже писал, глядя на себя в зеркало, поэтому следующая розовая жаба оказалась в его творчестве последней и была надета Фаберовским ему на голову.
— Дядька Степан! Дядька Степан! — навстречу им откуда-то сбоку выскочили стайкой несколько девочек и загомонили, перебивая друг друга: — Вас казак разыскивает, Калистрат Ананович! Говорит, что вы ему нужны очень!
— Этого еще не хватало, — проворчал Фаберовский и, поблагодарив детей, ускорил шаг.
Теперь Артемий Иванович едва поспевал за ним и уже не мог говорить на ходу, чтобы не отставать. Казак Калистрат Ананович служил в окружной полиции у полковника Сукачева и то, что он заинтересовался Фаберовским, не могло предвещать ничего хорошего. Недоумевая, зачем они могли понадобиться здешнему держиморде, Фаберовский с Владимировым прошли по узенькой дорожке, протоптанной к своему дому, подслеповато смотревшему на них бельмами заиндевевших окон. Они встретились с казаком у отхожего места рядом с их избой. Это было внушительное сооружение, похожее на крепостной острог, обнесенный тыном из могучих бревен. Внутренность острога представляла собой дыру в земле, окруженную благородного желтого цвета ледяными откосами в форме вулканического кратера и начисто лишенную каких-либо приспособлений для помощи в поддержании тела над нею в требуемом положении. Калистрат Ананович вышел из нужника и пояснил, поправляя на боку шашку:
— Намедни у скопцов груздиков с омулечками переел.
— Гриб да огурец в жопе не жилец, — понимающе поддакнул Владимиров.
— Так что его высокоблагородие господин полицмейстер желают видеть вас, господин Владимиров, и вас, господин Фаберовский, завтра утром у себя.
Поляк закашлялся, а Артемий Иванович подобострастно закивал:
— Придем, непременно придем. Ведь так, Степан, да?
Казак удалился и Артемий Иванович выругался ему вслед. Он подождал, пока Фаберовский отойдет подальше, и проговорил:
— Вот, Степан, зря ты меня по голове поленом ударил. У меня примечено: стоит на моей голове вскочить шишке — и тут же у нас начинаются неприятности.
В мезонине, где они жили, было холодно и грязно. Немытая с осени посуда стояла рядом с печью высокой Вавилонскою башней, в мусоре, сметенном в красном углу под портретом розовой жабы, деловито шуршали мыши. Послав Артемия Ивановича с ведрами за снегом, Фаберовский сел у печки, стянул рукавицы и озябшими руками взялся разводить огонь. Выдвинув вьюшку, он нащипал лучины, ожигом расковырял засыпанные в загнетке угли, стоймя поставил в устье лучины, поджег их концы углем, добавил несколько поленьев и огонь разгорелся, засверкав красными отблесками в очках поляка. Заслышав в сенях тяжелое топанье Владимирова, Фаберовский поспешил зажечь фитиль, плававший в плошке с рыбьим жиром на полочке у косяка двери. Однако это не помогло. Артемий Иванович, засмотревшись на то, как поляк подвешивает над плошкой небольшой ситцевый абажур, запнулся о порог и ведра с грохотом покатились по полу, разбрасывая снег.
— Говорил же я тебе, Степан, — запричитал Артемий Иванович, сгребая веником снег обратно в ведра, — что начнутся у нас неприятности.
— То еще приятности, — флегматично сказал Фаберовский, бросив взгляд на розовую жабу в красном углу. — Вот завтра…
— А что завтра? Вдруг нас в Иркутск вызовут, а? — мечтательно проговорил Артемий Иванович, скидывая тулуп и ставя ведра со снегом на печь. — По части народного просвещения?
— Так, директорами гимназий, — хмыкнул поляк. — Чует мое сердце, отправит нас с тобою, пан Артемий, полковник Сухачев куда-нибудь до дальних улусов на казенные двенадцать рублей без дровяной торговли.
— Нет, на самом деле! Представляешь, уехать отсюда в Иркутск. Электрическое освещение, извозчики ездят по мостовым, люди в настоящий театр ходят. А еще лучше в Петербург! На должность в Департамент. А то и прямо к Государю! Фаберовский еще раз взглянул на жабу в бабском мундире:
— Как бы нас до другой стороны не отправили. — Ха! Да в той стороне и гимназии-то ни одной нет. — Медведям будешь преподавать латинский язык.
— Может, это по делу Рачковского, Селиверстов постарался? Расскажем ему все как есть, нам награду дадут.
— Как же, дождешься от дурака мешка с пряниками!
— А почему же и нет? — возразил Артемий Иванович.
— Из Якутска обратно за казенный счет без дела никого не возят!
— Да с чего ты взял, пан Артемий, что нас хотят куда-то отправить? Вздуют нас просто за перерасход дров по гимназиям.
— У меня никакого перерасходу, — возмутился Владимиров. — У меня гимназисты крепкие, им полезно для здоровья в холоде сидеть. Не то что твои барышни.
Артемий Иванович полез в печку и поворошил ожигом дрова, чтобы жарче горели. Он так старался, что из печки выскочил кусочек угля и упал на пол в передний угол.
— Гость будет, — заметил поляк. — Примета тутейшая.
Он оказался прав. Едва он соорудил в большой деревянной миске «кавардак», местное кушанье из пережаренных кусочков кожи, икры, желудков и брюшной части рыбы, и добавил в него змеиный корень, как в дверь ввалилась гурьба ребятишек и, громко топоча валенками, попросили, обращаясь к Артемию Ивановичу:
— Дядечка Артемий! Дядечка Артемий! Расскажите нам про страшное! Еще про Ваньку-Потрошильщика!
— Нам, детишки, и угостить-то вас нечем, сами гольный кипяток пьем, — приветил детей Артемий Иванович в надежде на то, что они уйдут.
Он бы и не прочь был рассказать про страшное, но поляк страсть как не любил его рассказы про Джека Потрошителя.
— А мы вам крендельков принесли! — хором отозвались дети, протягивая Владимирову кулечки со сладостями.
Артемий Иванович беспомощно оглянулся на поляка. Тот пожал плечами и завалился на свои полати, укрывшись меховым полушубком и отвернувшись к стене. Оба обитателя мезонина пользовались у детей в Якутске особой любовью. Несмотря на запреты высокопоставленных родителей, к ним в дом приходили даже дети высших чиновников, чтобы получить от молчаливого поляка какую-нибудь деревянную безделушку, которые он резал длинными вечерами ножом из кедровых брусочков, или услышать очередную сказку или новую удивительную историю из уст Артемия Ивановича. И они всегда получали желаемое. Особенно старался Владимиров. По первости в Якутске он всем без разбора принялся рассказывать про то, как он «в далекой Сибири» ловил рыбу подо льдом, и как злющие якутские медведи разбегались в разные стороны, едва он входил в лес, отчего прослыл в городе отчаянным лжецом и «вракуном». Все отказывались слушать его и тогда в детях он нашел себе благодарную аудиторию.
— Ну что ж, — гробовым голосом произнес Артемий Иванович, забирая у детей кульки с крендельками и высыпая их на стол. — Про страшное хотите? Ну так слушайте.
Дети в трепетном ожидании расселись по лавкам и на полатях рядом с Фаберовским.
— Как я уже рассказывал вам раньше, коварный царев слуга Рачковский замыслил поссорить белого царя русского с королевой английскою. И пославши он для того в стольный город Лондон злодея своего Иванушку-Потрошильщика, и зарезал тот на темных улицах в пять ночей пять девков красных — Машку Николаеву да Аннушку Чапманову, да Лизку Страйдову, да Катьку Эддоуз, а напоследок изгрыз, аки зверь, самую из них … Марию Красу длинную косу.
— У Мери Келли не было косы, — не поворачиваясь, подал голос поляк.
— Зато она мне клок волосов на голове выдрала, — осадил Фаберовского Владимиров. — А нас с дядькой Степаном послал Рачковский туда же, наказав крепко: вы Ивана охраняйте от стражи английской, потому как государево дело делает. Ну, мы и охраняли.
— А дальше?
Дальше Артемий Иванович битый час кормил детей небылицами, которые выдумывал прямо на ходу и которые имели слишком малое отношение к действительности, чтобы поляк стал к ним прислушиваться. Постепенно он задремал, и ему мнилось, что он в своем доме в Лондоне, перед камином в кресле-качалке, за окном плывет гороховый туман, а в кресле рядом сидит Пенелопа, его так и не состоявшаяся жена, и вышивает что-то на пяльцах. Под мерное «бу-бу-бу» Артемия Ивановича поляк едва не заснул вовсе, но затем дети с шумом стали собираться уходить, и он, выныривая из глубин сна, услышал, как один из мальчишек говорит:
— А мне отец говорил, будто в Якутск пришел варнак Федька Король.
Фаберовский слышал от старых политических несколько страшных историй о Федьке Короле, который среди прочих уголовных был настоящим «иваном», вором в законе, и слыл по всей округе за свой скандальный норов «айданщиком». — Незачем Федьку страшиться, — сказал Фаберовский, спуская ноги с полатей на пол. — Собраться всем вместе да и попортки ему отбить. А теперь, детки, валите отсюда, пану Артемию спать пора. Ему вставать завтра рано.
— До повидания, — закивали на прощание дети, надевая малахаи и закутываясь в платки.
Назавтра Артемий Иванович и Фаберовский явились к избе полицейского управления самыми первыми. Здешние политические имели дурную привычку собираться толпами и таким образом ходить в присутственные места за разрешением на выезд в город застрявшего в улусе приятеля или за процензурированными исправником письмами из России. Так что если не успеть перед ними, можно было потерять много времени. В избе полицейского управления был скобленый пол, заплеванный скорлупой кедровых орехов, которые здесь лузгали как семечки. Пахло сургучом и клопами. Войдя в камору начальника, Артемий Иванович долго и истово крестился на икону в углу, а завершив церемониал, скептически осмотрел портрет царя, явно кустарной работы, который полицмейстер заказал у одного политического, чтобы портрет казенного производства можно было унести себе домой.
— Заказывают кому ни попадя, — пробурчал он себе под нос.
Полковник Сукачев усадил их на лавку и дал посмотреть предписание, прибывшее с последней почтой из Иркутска. В нем от имени генерал-губернатора Восточной Сибири предписывалось губернатору Якутской области Скрипицыну и якутскому полицмейстеру полковнику Сукачеву отправить в недельный срок лошадьми в сопровождении казака административно-ссыльных Степана Фаберовского и Артемия Владимирова в распоряжение начальника Иркутского жандармского губернского управления полковника фон Плато.
— А за какой надобностью? — спросил Артемий Иванович. — Я вам тут не плоты сплавляю и не кайлом в шахте помахиваю: у меня серьезная педагогическая должность.
— На вашем месте, господин Владимиров, я бы не стал упрямиться, — заметил Сукачев. — Вас отправляют в Иркутск, а не в какой-нибудь дальний улус. Так что закупайте продукты и готовьтесь в дорогу. Через три дня мы будем отправлять обратно почту, с ней и поедете.
Удивленные и ничего не понимающие, Артемий Иванович и Фаберовский вышли на улицу. Сосланные в Якутск безо всякого суда, они не чаяли столь быстрого изменения в судьбе. Со временем, по прибытии в Якутск, боль отчаяния поутихла, жизнь устоялась и иногда казалась не столь уж плохой. И вот вновь в ее размеренный ритм вторгались непонятные и потому пугающие перемены. Зайдя домой за деньгами, они отправились в расположенный на самой набережной городской базар, чтобы прицениться и прикинуть, сколько же провизии потребуется им для поездки в Иркутск. Здесь каждый день в мелких лавках, крошечных балаганчиках и будочках якуты торговали местными произведениями и продуктами. У якутов можно было задешево купить сшитые черным конским волосом берестяные туеса, ведра, тавлинки и переметные ящики, торбаса из мягкой, как замша, оленьей кожи, меха песцов и лисиц, а также много железного и стального товара, особенно ножей, топоров и лемехов, которые были хотя и очень грубой отделки, но превосходного железа и твердой стали. Владимиров с поляком вошли через главные деревянные ворота во двор и, чтобы не давиться в узких проходах, сразу подошли к ближайшей мучной лавке. Якуты с широкоскулыми плоскими лицами толклись у прилавков, торгуясь и не желая ничего покупать. Между торговыми рядами чинно шествовали опухшие, с одутловатыми лицами скопцы. Приехавшие из дальних улусов политические покупали махорку и чай по 70 копеек за кирпич, подолгу стояли у гор кедровых орехов, которые были насыпаны на прилавках любого продуктового балаганчика на рынке. Фаберовский растолкал политических и протиснулся к лавочнику, а Артемий Иванович прошел дальше и остановился напротив мясника-якута, продававшего конину и оленьи туши. Владимиров знал, что торговаться с якутами по-русски бесполезно, но считал себя знатоком якутского языка и сказал мяснику, с почтением косившемуся на форменную фуражку Владимирова:
— Турды-бурды, остолоп. Мне нужна вон та оленья нога.
По требованию Владимирова якут, который почему-то считал Артемия Ивановича оскопленным черкесом и очень его боялся, отрубил топором замерзшую и твердую, как камень, оленью ногу, которую Артемий Иванович взвалил на плечо и гордо двинулся к поляку. Но тут путь ему перегородил еврей и велел принять в сторону.
— С какой это стати, — удивился Артемий Иванович, — я перед жидом в сторону отходить буду?
В ответ еврей молча показал пальцем себе за плечо. Артемий Иванович посмотрел туда, куда указывал замызганный палец с грязным ногтем, и увидел похожего на уголовника мужика в оленьей дохе, с презрением поглядывавшего кругом. Перед ним, словно рыба-лоцман рядом с акулой, двигался еще один еврейчик, суетливо расчищавший путь.
— Ничего, не царь, сам обойдет, — Артемий Иванович оттолкнул еврея в сторону и пошел навстречу мужику в дохе.
Все находившиеся на базаре замерли, глядя на Владимирова, который невозмутимо шел навстречу своей несомненной гибели.
— Отвали в сторону, козел, — повелительно махнул рукой мужик, увидев, что увещевания еврея на Артемия Ивановича не подействовали.
— По-якутски говоришь? — спросил Владимиров.
— Чего?! — переспросил уголовник. — Вот научишься, тогда и указывать мне будешь.
— Заткни хайло онучей, скопец, — рявкнул на Владимирова уголовник.
— Это ты мне?! — опешил Артемий Иванович. — У тебя что, не все дома?
Проводя все время либо дома, либо в гимназии, он так и не удосужился познакомиться с миром воров и уголовников-каторжан, и не понимал, что ссориться с каторжными авторитетами-«иванами» не стоит. «Иван» тоже находился в некотором недоумении, ибо его смущала фуражка на голове Артемия Ивановича и непоколебимая самоуверенность, к которой он в здешних местах не привык.
— Зажмурь кадык, пока жив! — каторжник справился со смущением и решил взять инициативу на себя.
— Пан Артемий, иди сюда, пособи мешок на спину взвалить, я муки пшеничной купил! — крикнул от мучной лавки из-за спины каторжника Фаберовский. — Всего по два рубля семьдесят копеек.
— Да тут какой-то идиот навязался, — ответил Артемий Иванович.
— И чего этой курве потребно? — спросил поляк.
Каторжник вздрогнул, как от удара плетью, и развернулся к поляку, сказав задрожавшим от ярости голосом:
— Считай, все одно, что ты мертвый. За этакие слова кровью своей умоешься!
Каторжник вынул из-за пазухи тяжелый якутский нож и тут же содрогнулся от удара мороженой оленьей ногой по затылку. Тело его обмякло и каторжник упал на утоптанный снег. Артемий Иванович переступил через «ивана» и под боязливый шепот еврейчиков помог Фаберовскому взвалить мешок с мукой. Но им было не суждено так быстро покинуть рынок. Очнувшийся от удара каторжник встал и, пошатываясь, пошел с выставленным вперед ножом на поляка. Артемий Иванович заметил его и, развернувшись, нанес упреждающий удар своей собственной ногой промеж ног каторжанина, а затем оленьей ногой ему же промеж глаз. Поляк тоже не остался в стороне. Он взмахнул мешком и обрушил его на голову «ивана». Гнилая мешковина лопнула и мука облаком взлетела в воздух. В мучной пыли поляк отнял у каторжанина нож, а Владимиров довершил дело, не переставая лупить уголовника всеми тремя ногами. Он не остановился и после того, как каторжник упал почти бездыханным. Без фуражки, весь покрытой мучной пылью, он бросился за отчаянно завизжавшими евреями, победоносно размахивая оленьей ногой. Одного из них он достал по спине, но второй, более юркий, успел ускользнуть в толчее торговых рядов, которые Артемий Иванович безжалостно крушил, опрокидывая на снег горшки, мороженую рыбу и плиточный чай. Когда на рынок по доносу одного из лавочников о том, что на рынке двое швейцаров устроили погром при помощи оленьей ноги, явились казаки, они нашли уголовника, погребенного под кучей муки. Поляк ползал вокруг него на коленях, сгребая с его дохи найденной фуражкой Артемия Ивановича муку и насыпая ее обратно в мешок. Казаки выудили «ивана» из-под муки, обыскали и вытащили из-под дохи несколько полотняных мешочков с золотым песком. Тем временем Артемий Иванович прекратил погром и, подойдя к поляку, взял у него перепачканную в муке фуражку. Водрузив ее себе на голову, он торжественно оперся локтем об оленью ногу, словно Геракл с Большого каскада в Петергофе, на сходство которого с Артемием Ивановичем неоднократно указывали барышни, с которыми он гулял в парке. Сходство довершало то, что во время подвигов меховая одежа Артемия Ивановича разорвалась и съехала со спины на пузо, представляя собой в нынешнем виде нечто среднее между римской тогой и набедренной повязкой. Вид Артемия Ивановича, обсыпанного мукой и махоркой, был настолько жуток, что казаки, не зная, как поступить, оставили его и поляка в покое и, скрутив каторжнику руки веревкой, двинулись в участок.
— Я еще убегу, и тогда пощады не ждите! Из-под земли достану! — крикнул уголовник, оборачиваясь.
— Давай-давай, старайся! — ответил ему поляк.
— Что это за чучело? — поинтересовался Артемий Иванович у стоявшего рядом якута.
— Плохой человек, хайлак. Аргы [2] на Бодайбо носи, золото торговай.
— Это Федор Король, спиртонос, он здесь всем известен, — угодливо сообщил один из евреев, избежавший дубины Артемия Ивановича. — Его даже черкесы боятся. Человека убить ему что плюнуть. Со своего «ночлега» он отступное взял, а теперь шел на бодайбинские золотые промыслы пшеничку [3] у приисковых торговать.
— Самого-то тебя как звать? — спросил Фаберовский. — Абрашка Червяк.
— Из контрабандистов будешь?
— Не, я деньги делал…
— Значит фальшивомонетчик. Ну вот что, Червяк, теперь мы тут с паном Артемием короли. Так что бери мешок с мукой, а твой приятель пусть возьмет оленью ногу, и несите все до нашего дому на Береговую.
Глава 1. Петербург
Суббота, 22 июня
Кондуктора, артельщики, извозчики, посыльные из отелей и меблированных комнат и просто встречающие московский поезд, до того оглашавшие своим гомоном наполненный угольным дымом утренний вокзальный воздух, вдруг затихли в напряженном ожидании. Появились крупные, представительные фигуры станционных жандармов в касках. Встречающие колыхнулись назад, прочь от края платформы, и закопченый паровоз, натужно пыхтя и предупредительно посвистывая, втащил вереницу вагонов под крышу Николаевского вокзала. Поезд лязгнул буферами и встал у дебаркадера. Из поезда повалили мужики ближних губерний, приехавшие в Петербург на заработки. Среди празднично одетых крестьян в новых смазных сапогах, за версту пахнувших дегтем, в новых рубахах, два бывших ссыльных выделялись своим непрезентабельным видом.
Погода в июне была настолько жаркой, что ночь, проведенная в поезде из Москвы в Петербург, измучила Владимирова и Фаберовского, у которых даже в Москве не было возможности купить подходящую одежду. Оба были в грязных мятых пиджаках, в серых от грязи рубашках с засаленными воротниками, в разбитых ботинках, уже много месяцев доживающих последние дни. Невыспавшиеся, окуренные за ночь в вагоне третьего класса скверным табаком, они вылезли на пропахшую углем платформу и долго стояли, не веря в то, что они, наконец, в Петербурге.
— Это, конечно, не Лондон, но все-таки цивилизация! — сказал Артемий Иванович, оглядываясь на сопровождавшего их жандарма, терпеливо стоявшего рядом. — Какая ни на есть, Степан, но свобода!
И тут же схлопотал рукояткой сабли по спине. Жандарм был, в общем, неплохим малым, и даже проиграл им за ночь десять рублей, не потребовав, пользуясь своей над ними властью, денег обратно, но разговоров о свободе он сносить не привык. Досталось заодно и поляку. Получив, таким образом, ясное представление о размерах своей свободы, Артемий Иванович с Фаберовским уныло поплелись направо, мимо багажного навеса, под которым толпилась партия арестантов, назначенных к отправке.
Жандарм вывел своих подопечных из вокзала на Лиговский канал и повел их по набережной прочь от шумной площади в сторону Кузнечного переулка. Летняя лень была разлита в раскаленном воздухе каменного города. Копыта лошадей поднимали душную, рыжую от навоза пыль, телеги гремели обитыми железом колесами по булыжной мостовой. Ломовые извозчики беззлобно бранились, пьяная баба, стоя в воде у берега, истошно кричала на своего ухажера, который не сумел удержать ее от падения с травянистого откоса канала прямо в грязную и смердящую жижу. Лущившая семечки на лавке у ворот кухарка от скуки принялась зубоскалить над космами и очками поляка. Ее поддержал дворник с гармошкой на коленях, растянул, не страшась жандарма, меха, и вслед ссыльным полетела лихая похабная песня о барине, который ночью сослепу не смог у девки мохнатку найти и теперь в постели надевает очки не на нос, а между ног. Пройдя от канала по Кузнечному переулку до Владимирской площади, жандарм пересек ее и ввел сопровождаемых в подъезд многоэтажного дома напротив собора, где сдал их дежурившему здесь щеголеватому жандармскому офицеру и, последний раз злобно покосившись на Артемия Ивановича, ушел. Офицер звонком вызвал сверху лакея, который провел обоих в приемную, где пахло модными духами и дорогими сигарами.
По сравнению с улицей, в приемной было прохладно и Фаберовский тут же уселся в кожаное кресло, развернув газету, купленную на площади у разносчика. Владимиров же, окаменев от волнения, уставился на герб над великолепными двустворчатыми дверями с бронзовыми ручками, изображавший по синему полю пронзенный турецким ятаганом ключ с каким-то легкомысленным крылышком и перекрещивающуюся с ним амурную стрелу. Артемию Ивановичу невыносимо хотелось пить, пот тек с него ручьями, а щетина неприятно скреблась о воротник, но оцепенение, охватившее его от одной мысли о том человеке, в дом которого их только что доставили, парализовало его.
Фаберовский не заметил его состояния, поскольку был поглощен чтением заметки о выставке в Манеже, посвященной Международному тюремному конгрессу в Петербурге. Ему показались нелепыми слова Владимирова о какой-то свободе, когда даже здесь, в столице, публика валом валит на тюремную выставку и готова заплатить целый рубль за то, чтобы взглянуть на макет той самой баржи, которая еще совсем недавно везла их в ссылку, или на живые картины, представляющие быт ссыльнокаторжных. Кроме России, в Манеже были представлены также иностранные державы. Прочитав об английской экспозиции, Фаберовский вспомнил мрачные здания Пентонвиллской каторжной тюрьмы, и тут его едва не хватил удар от пришедшей в голову мысли.
— А что, пан Артемий, — сказал он. — Не затем ли нас в Петербург привезли, чтобы выдать английскому правосудию? «В честь открытия Тюремного конгресса и в знак любви и дружбы, я, Александр III, российский самодержец, дарую Джеймсу Монро, комиссару полиции в столице нашей любезной сестры, королевы Виктории, сервиз нашего фарфорового завода с супницей в виде арестантской баржи и двух негодяев, ответственных за преступления убийцы, известного лондонской публике под именем Джека Потрошителя».
— Что, там так и написано? — вышел из оцепенения Артемий Иванович и снова впал в ступор, но уже от сказанного поляком.
— Нет, насчет сервиза я пошутил, — мрачно сказал Фаберовский.
Но тут дежурный офицер пригласил Артемия Ивановича и тот исчез за дверями кабинета, которые так долго перед этим гипнотизировал взглядом. В кабинете стоял огромный письменный стол, заваленный бумагами, за которым сидел в халате человек и ел варенье из вазочки. Вокруг варенья вилась стая мух. Бивший прямо в окна солнечный свет пробивался сквозь тюлевые гардины и рисовал на паркете солнечные квадраты, в один из которых Артемий Иванович поместил свои стоптанные ботинки.
— Здравия желаю, ваше превосходительство, — выдавил он, вцепившись в дверную ручку, чтобы не упасть, ибо ноги его от волнения отнялись. Впервые в жизни он переступал порог домашнего кабинета директора Департамента полиции! Порог кабинета самого Дурново!
Человек за столом поднял голову и небрежно бросил лакею:
— Парамон, скажите дежурному офицеру, чтоб немедля послал за генералом Селиверстовым. А вам, любезный, должен сказать, что до сих пор я был доволен действиями вашего начальника, господина Рачковского [4], в Париже. Однако личная заинтересованность в его отставке некоторых лиц заставляет меня выслушать вас. Кстати, какого черта вы не пришли сами, как я распорядился, а вас привел ко мне жандарм? Письмо от начальника Иркутского жандармского управления полковника фон Плато при вас?
Артемий Иванович пялился на начальство, не понимая ни слова из его мудреной речи. Дурново поймал в кулак большую зеленую муху и стал медленно, один за другим разжимать пальцы, чтобы убедиться, что надоедливое насекомое схвачено. Когда распрямился пухлый средний палец с золотым перстнем, муха вылетела из директорского кулака и с сердитым жужжанием заметалась по кабинету.
— Эх, улетела, — с сожалением сказал Дурново.
И тогда Артемий Иванович диким уссурийским тигром бросился на муху, в три прыжка настиг ее, с хрустом размял в кулаке и подобострастно положил перед директором департамента на синюю кожу стола:
— Вот-с, мы ее изловимши.
— У меня их обычно шпиц моей жены ловит, — сказал Дурново, брезгливо смахнув муху на пол. — Но вчера он обожрался и сегодня не может встать с пуфика. Письмо при вас?
— Да.
— Ну так давайте же его сюда. А теперь извольте мне объяснить, что вы делали полгода в Лондоне?
Артемий Иванович облизнул пересохшие от волнения губы и произнес:
— Я был послан Рачковским в Лондон для борьбы с укрывающимися от меча правосудия революционерами. Вместо того он неожиданно навязал мне в попутчики двух ирландских бомбистов, которым, как я точно слышал, он обещал дать двадцать тонн динамита для подрыва основ английских устоев британских начал. А кроме того, он навязал мне в Лондон украденного им из французского сумасшедшего дома психа, известного в Париже убийцу, Васильева, которого он содержал в Лондоне за казенный счет, указывая вашему превосходительству в отчете расходы на устройство швейцарской агентуры. Как только мы покинули землю Франции, на корабль, где я плыл, был подослан жид-социалист, имевший целью убить меня. Посредством хитрого обмана зрения, манипулируя своим огромным носом, он принудил меня к соприкосновению с железной шлюпбалкой, отчего голова моя наполнилась противоестественными видениями полногрудых и обоюдоногохвостых существ, само существование которых немыслимо и противоречит христианской науке, извечным началам православия, самодержавия, санитарии, народности и гигиены. Ведь известно, что столь долгое время находиться в воде существо не может, ибо сие порождает гниение членов, отчего я, к примеру, долго в воде не нахожусь… Даже оказавшись в Гайд-парке в Серпентайне, я был тут же извлечен из воды-с.
— Ничего не понимаю, — поморщил нос директор департамента. — Вы тоже из сумасшедшего дома?
— Нет, я из Якутска, — оробел Артемий Иванович.
— Вы якут?
— Так точно! — Владимиров больше не решался перечить начальству. — Прикажете еще мушку изловить?
— Оставьте, — резким движением Дурново схватил муху, вившуюся у него над головой, и продемонстрировал Артемию Ивановичу. — Я еще и сам хоть куда.
— У вас настоящий талант-с, ваше превосходительство, — польстил директору департамента Владимиров. — Истинно, гений в своем деле. У нас в Лондоне у поляка знакомец был, инспектор Пинхорн, он все мухами инициалы разных царствующих особ выкладывал, но ему до вас далеко. Я вот и сам мастер мух ловить. Вы знаете, самое главное в нашем ремесле — быстрота и ловкость рук. Вот, к примеру…
— Обождите, мы же беседовали с вами о Лондоне, — остановил его директор.
— Лондон, ваше превосходительство, город большой и шумный. Ежели случится вашему превосходительству быть в Лондоне, осмелюсь рекомендовать одно место, где можно купить наших настоящих соленых селедок-с. Там же и огурчики соленые продаются! Должен сказать, ваше превосходительство, что к ихнему джину огурчики не очень подходят, а вот к виски в самый раз будут. Эта ихняя виски такая гадость, что без огурцов и не выкушаешь — в глотку не полезет.
— Огурцы — очень хорошая вещь, — Дурново поддался мечтательному тону Артемия Ивановича и даже не очень разозлился, что тот опять отвлекся от темы. — Парамоша! Принеси-ка с ледничка графинчик, да огурчиков к нему подай.
Фаберовский, который уже извелся от неизвестности, изумился, когда лакей проследовал через приемную в кабинет с запотевшим графином на подносе.
— Ну-с, продолжайте, — Дурново, опрокинув рюмку, удовлетворенно откинулся в кресло, хрустя огурцом. — Что же вы еще разведали в Лондоне, кроме мест, где продаются огурцы? Дороговато вышло казне.
Артемий Иванович сглотнул слюну так, что колокола на Владимирском соборе напротив звякнули.
— Еще я получил три шишки на службе отечеству, — сообщил он, не в силах отвести взгляд от графина. — В общем, служил помощью в поддержании устоев-с. Да еще пять баб зарезали.
— Ага, — удовлетворенно проговорил Дурново. — Генерал Селиверстов что-то такое и говорил. Ну что же, на последнем остановитесь подробнее.
— Так что тут сказать, ваше превосходительство. Коновалов их резал в свое удовольствие, а мы только указания Рачковского исполняли-с. Да и то нас едва не схватили, а все из-за этих ирландцев; сперва тюк с кровавым бельем едва увезли, а потом из-за грязных кальсон вообще в полицейский участок попал, да еще нож подкинул, и при Монро такого наговорил, а когда мы второго в Гайд-парке били, потому что он статейку пасквильную написал, едва не убежал вовсе, насилу его догнали. Монро к нам заходил иногда, мы даже раз с ним дебош в ресторане устроили, а я комиссара полиции в парке видел, как он под кустами сидел, только собаки его так и не покусали, а Дарья смесь-то когда противособачью понюхала, так и вовсе едва не окочурилась, даром что не собака. Мы ею потом одному полицейскому хребет переломили.
— Смесью?
— Да нет, Дарьей! Вот это бабища была! Она еще когда в фонтане в Петергофе намокла, так я потом на ей почти не женился.
— Опять началась какая-то чушь, — с досадой сказал Дурново. — Вы просто какой-то идиот, в самом деле. Может быть, этот второй, что в коридоре, окажется потолковее вас. Выйдите из кабинета и позовите его. Парамон, налей мне еще.
— Велите за этим поляком приглядывать, ваше превосходительство, он у меня в Лондоне часы укравши! — засуетился Артемий Иванович.
— Идите, идите, — замахал на него руками Дурново.
Фаберовский вошел, складывая газету и засовывая ее за пазуху, и почтительно уселся на указанный ему стул.
— Послушайте, я не понял ничего, что наговорил мне ваш подельщик, — сказал Дурново.
— Особным даром разуметь то, что говорит или пишет Владимиров, обладает только пан Рачковский, — согласился Фаберовский.
— Хоть вы можете объяснить мне, что произошло в Лондоне?
— А кто есть вы?
— Да я же директор Департамента полиции! — обиделся Дурново.
— Нас отправят до Лондону?
— Ой, только не надо опять про Лондон и про огурцы! — замахал руками директор департамента.
— Как пану будет угодно. Рачковский обманом вовлек нас в злодейские убийства и в месте, о котором ваше превосходительство просил не говорить, посланный им человек при нашем невольном пособничестве совершил преступления, приписанные некоему Джеку Потрошителю.
— Я читал в газетах, что одну жертву задушили ее же кишками, а другую нашли с собственной головой в руках. Только зачем это могло понадобиться г-ну Рачковскому?
— Видете ли, ваше превосходительство, я сам толком не ведаю. Он утверждал, что для его планов потребен на посту комиссара полиции не Чарльз Уоррен, а Джеймс Монро, и мы при помощи организованной мною вокруг убийств газетной компании добились этого. Но до самих убийств мы с паном Владимировым никакого отношения не имели.
— Подождите, — оборвал его Дурново, глядя в окно на площадь. — Если я не ошибаюсь, это карета Николая Дмитриевича.
Спустя несколько минут лакей доложил о прибытии действительного статского советника Николая Дмитриевича Селиверстова. Появление этого человека здесь, в квартире у министра, многое объясняло Фаберовскому. Когда они с Владимировым бежали из Англии, обложенные со всех сторон полицией и врагами, именно Селиверстов, злейший недруг Рачковского, должен был встретить их в Бельгии и обеспечить им безопасность. Но по его нерасторопности прямо на пристани в Остенде они попали в руки людям Рачковского и оказались в Якутске, а Селиверстов даже не попытался предотвратить этого. Теперь же ему, наверное, понадобились их услуги в борьбе с заведующим Заграничной агентурой в Париже и он вернул их обратно в Петербург.
Фаберовский отошел в сторону и встал так, чтобы вошедший не сразу заметил его.
— Кто это, Петр Николаевич, у вас в приемной сидит? — спросил Селиверстов у Дурново, кивая через плечо на дверь. — Уж не господин ли Владимиров?
— Он самый. Дурак какой-то, честное слово.
— Э нет, не скажите! — возразил Селиверстов, все еще не замечая Фаберовского. — Кто подстроил так, что на пристани Остенде агенты Рачковского оказались раньше меня? Ведь им вовсе не должно было знать о том, что господин Фаберовский будет вывозить убийцу и всех прочих из Лондона в Бельгию! Я уверен, что Владимиров только прикидывается идиотом, а на самом деле важнейший агент Рачковского. Вот скажите мне, Петр Николаевич, как это он нашел в Лондоне беглого матроса Курашкина с броненосца «Петр Великий» — через шесть-то лет?
— Давайте проверим, — предложил Дурново. — Пригласите г-на Владимирова.
— Ваше превосходительство, его нету! — испуганно доложил жандармский офицер.
— Убежал, мерзавец! — стукнул тростью Селиверстов. — Я же говорил!
— Он сидел на диване спокойно, как мешок с отрубями, — оправдывался офицер, — а потом как рванул по лестнице, только его и видели.
— Ну так пойдите и найдите его!
Стоя за спиной Селиверстова, поляк вперил взгляд в директора департамента, который, как-то загадочно улыбаясь, пододвинул к себе вазочку с вареньем. Фаберовский не понимал, куда мог так стремительно сбежать Артемий Иванович. А Дурново, казалось, это было известно. Что, если Дурново заодно с Рачковским? И Артемий Иванович, купившись на щедрые посулы министра, согласился вернуться в лоно Заграничной агентуры? Тогда что ему ждать от министра и Рачковского для себя?
— Как вы считаете, Николай Дмитриевич, водочку как лучше принимать: под капусту соленую или под огурчики? — спросил Дурново. — И не хотите ли вы, Николай Дмитриевич, откушать со мной водочки?
— Какая уж тут водочка, Петр Николаевич! — расстроенно сказал Селиверстов и подергал рукой за Владимирский крест, словно лента давила ему шею. — Когда у нас прямо из-под носа сбежал опаснейший для нас человек! Поляк с ним убежал?
— Да вот же он, позади вас стоит.
Селиверстов обернулся и молча уставился на Фаберовского, по-лошадиному жуя старческими губами. Он видел поляка очень давно, к тому же со свалявшейся бородой и космами волос Фаберовского сейчас не узнал бы и Рачковский.
— Премного благодарен за все, что вы для нас сделали, — сказал поляк и отвесил старому генералу низкий поклон. — Осмелюсь спросить у вашего превосходительства: для чего мы не были сразу же возвращены обратно до Петербургу? Ведь прошло еще почти полгода после нашего приезда до Бельгии, прежде чем нас отправили этапом с Москвы до Сибири.
— Видите ли, любезный, тогда был еще жив министр внутренних дел Толстой и его превосходительство Петр Николаевич, — Селиверстов посмотрел на Дурново, — не мог противиться его решению. Когда в апреле прошлого года Толстой умер и министром был назначен Иван Николаевич Дурново, мы смогли устроить решение о вашем возвращении, но когда оно было утверждено и началась переписка, ваш этап уже прошел Омолой, далее которого нет, как вам известно, телеграфной связи.
— А теперь, стало быть, связь ту проложили? — закипая, спросил Фаберовский.
— Нет, мы послали письмо нарочным.
— А пред тем этого сделать было не можно?
— Не забывайтесь, сударь! — осадил поляка Дурново. — И вообще, со своей стороны я все сделал, скоро придет моя жена и мы будем ставить клистир ее шпицу. Заберите его, Николай Дмитриевич, отсюда.
— Да-да, конечно, — засуетился Селиверстов. — Вы только сообщите кому следует. А что делать со вторым?
— Когда найдете, всыпьте ему по первое число, — Дурново поднял трубку стоящего на столе телефона и попросил соединить с Петергофом, назвав номер. — Господин Федосеев?! Директор Департамента полиции Дурново. Я хотел бы поговорить с его превосходительством генералом Черевиным. Петр Александрович?! У меня в кабинете находятся те два человека, о которых говорил генерал Селиверстов. Их только сегодня доставили из Якутска. Когда их вам привезти?
Не успел он повесить трубку на рычаг телефона, как два жандарма, грохоча шпорами, внесли в кабинет висевшего между ними Владимирова, на ходу пытающегося допить пиво из трактирного стакана.
— Куда же вы убежали, г-н Владимиров? — спросил Дурново.
— Я отлучился. Только на минутку.
— Он уже сидел в кабаке, когда мы нашли его, — сообщил жандарм.
— Я так и думал.
Дурново отослал жандармов и сказал, обращаясь к Селиверстову:
— Как мне сейчас сказали, г-н Федосеев будет ждать их в Петергофе в походной канцелярии начальника императорской охраны. Но просто так их в Петергоф не пустят, так что вам, Николай Дмитриевич, придется сопровождать их.
Глава 2. Черевин
Летом население столицы уменьшалось и мировой суд действовал в половинном составе, отчего в Арестном доме на набережной Монастырки было достаточно свободных мест. Два таких места достались на ночь по распоряжению Селиверстова Владимирову с поляком. По распоряжению того же Селиверстова их вымыли в бане и даже накормили. Единственное, чего им не удалось, так это толком выспаться, потому что уже утром за ними приехал жандарм и отвез прямо к поезду на Балтийский вокзал, где их ждал Селиверстов.
Оба бывших ссыльных вместе с жандармом поместились в вагон третьего класса, а сам Селиверстов предпочел первый класс, но когда все четверо вылезли на дебаркадере Петергофского вокзала, ему пришлось смириться с тем, что один из ссыльных поедет с ним в экипаже. На привокзальной площади после долгой торговли он взял двух извозчиков. Себе в попутчики он выбрал поляка, а Артемий Иванович, как представляющий опасность, поместился на синем суконном сиденье рядом с жандармом.
Извозчики покатили вдоль Александринского парка, мимо дач в сторону уланских казарм, и Селиверстов завел разговор о достоинствах женщин и о возможном разрешении городской управы ездить им на империалах. Генерал никогда не ездил на конке, но сама мысль о том, что можно будет, стоя внизу, заглянуть под юбку поднимающейся на империал даме, возбуждала старого сластолюбца до крайности. «Представляете, какие можно будет увидеть виды!», — говорил Селиверстов Фаберовскому, причмокивая губами, и глядел на него, ища сочувствия. Это он называл «Привлекать на свою сторону молодежь».
Но тактику привлечения на свою сторону Фаберовского он выбрал неправильно. Поляк и так был зол на него за его полнейшую никчемность и беспримерную неспособность, из-за которой пришлось провести целый год в Якутске. А тут еще эта неуемная старческая болтливость и нестерпимый запах помады, исходивший от седых бакенбард. Он старался не смотреть на генерала, тем более что никогда не бывал в Петергофе и ему было что разглядывать, кроме Селиверстова.
Зато Артемий Иванович нашел себе достойного собеседника. Жандарм оказался словоохотлив и с удовольствием втянулся в разговор о местных достопримечательностях, среди которых Владимиров числил «монопольку» на Петербургском проспекте рядом с Торговой площадью и трактир «Вена» неподалеку.
Они проехали мимо громадного уланского манежа из красного кирпича, обогнули пятиглавый полковой собор на площади и затем по Ольгинской покатили в сторону Петербургского проспекта, пересекли его и проследовали дальше вдоль готических, исполненных в английском вкусе, дворцовых конюшен, занимающих своими красными корпусами с белыми крепостными зубцами по стенам и на квадратных башнях целый квартал.
У ограды Нижнего парка на углу Конюшенного корпуса Селиверстов остановил извозчика и ввел Фаберовского и Владимирова в ближайшую дверь, велев дежурному офицеру доложить о его прибытии заведующему канцелярией главного начальника охраны, камергеру двора Федосееву.
Вскоре они уже поднимались по резной дубовой лестнице на второй этаж. Селиверстов задержался у большого зеркала, причесывая бакенбарды, и в светлый кабинет с большими окнами поляк с Владимировым вошли одни. Слабый казарменный запах, крепкое амбре кожаной амуниции и фимиам, исходивший от тигля с расплавленным сургучом, заполнял все помещение. В углу рядом с окном висела позолоченная клетка, в которой сидел старый белый какаду и в кормушку которому подливал воду из серебряного кофейника похожий на церковного старосту человек с бледными, худыми руками, торчащими из белоснежных манжет. У человека был нездоровый вид и черные глаза бусинками, которые совершенно не соответствовали расхожему представлению о камергере двора Его Величества.
— Что вам угодно? — тихим бесцветным голосом спросил камергер, беззвучно ставя на стол кофейник.
— Ваше высокоблагородие, — начал Артемий Иванович. — Его превосходительство внизу волосы чешут, так что мы…
— Господин Федосеев, это те самые люди, — сказал Селиверстов, тоже входя в кабинет.
От голоса Селиверстова попугай в клетке проснулся, повис на перекладине вниз головой и проскрипел, томно закатив глаза: «Дуррак».
— Вот, уже узнает меня, — самодовольно проговорил Селиверстов.
— Селиверрррстов дурррак, — повторил какаду. — Федосеев дурррак. Камерргеррр. Имперрраторр Александррр… — Какаду схватился клювом за кольцо, болтавшееся в клетке на веревочке, и кокетливо закачался. Все находившиеся в кабинете замерли в ожидании, а Артемий Иванович даже верноподданнически выпучил глаза. Выдержав паузу, попугай перестал качаться и, сев обратно на жердочку, внятно сказал в тишине: — Мирротворрец.
— Опытная птица, — с облегчением сказал Федосеев и пригладил зализанные и расчесанные на прямой пробор волосы. Какаду с презрительным видом пересел на жердочке спиной к Селиверстову и тут увидел Артемия Ивановича.
— Дурррак, дуррак, дуррак! — заорал попугай и забился в истерике.
— Сам дурак! — сказал глупой птице Артемий Иванович и Селиверстов поддержал его:
— Действительно, Григорий Ардалионович, держите тут всяких птиц, а они оскорбляют достойных людей.
Федосеев снял с высокой резной спинки своего стула черную тряпку и поспешил накрыть ею клетку, после чего попугай умолк.
— Эта птица распоряжением министра императорского двора приписана к моей канцелярии из Фермерского дворца за старостью лет и болтливостью, — Федосеев искоса взглянул на Селиверстова, — не знаю, жил ли он уже при Петре Великом, но по тому, как он называет покойного императора «отроком» и рассказывает о первом интимном свидании Александра Николаевича с будущей княгиней Юрьевской в Монплезире, ему по крайней мере лет пятьдесят. Однако давайте приступим к делу, — предложил камергер. — Генерал Черевин просил составить протокол всего, что здесь будет говориться, и затем передать ему. Кто будет писать, Николай Дмитриевич?
— Может, не стоит писать… — усомнился Селиверстов. — Мы ему так, на словах передадим.
После нескольких скандалов с записками к замужним дамам, произошедших еще во времена его пензенского губернаторства, Селиверстов очень не любил оставлять на бумаге следы своей деятельности.
— На словах невозможно, — покачал головой Федосеев. — К тому же полковник Секеринский тоже, как вы помните, хотел знать все подробно, и мы будем должны предоставить ему копию.
Фамилию Черевина Фаберовский знал: так звали генерала, когда-то бывшего адъютантом у Муравьева-Вешателя после подавления Варшавского восстания и потом короткое время возглавлявшего Третье отделение до его упразднения, а вот фамилию Секеринского слышал впервые. Он бросил взгляд на Артемия Ивановича и по его посеревшему лицу понял, что ныне люди, скрывавшиеся за этими фамилиями, представляют собой важные персоны в России. А Владимирову было отчего посереть. Генерал-майор Петр Черевин возглавлял охрану царя, а полковник Секеринский был начальником Санкт-Петербургского охранного отделения и по прежним меркам мог считаться равным начальнику Третьего отделения.
— Ну если писать, то вам и карты в руки, Сергей Григорьевич, — сказал Селиверстов. — У вас почерк хороший, не то что у меня, старика.
Федосеев сел за стол, царственным жестом достал чистый лист из кипы бумаги и положил перед собой. По тому артистизму, с каким он проделал это, по порядку и заботе, с какой были расставлены по столу бронзовые чернильницы, ножи для разрезания книг, клякс-папье и валики для промакивания чернил, пресс-папье разных форм, машинки для заточки карандашей, сшиватели и дыроколы, было видно, что общаться с бумагами и канцелярскими принадлежностями он умеет и любит, и что такое общение составляет одно из главных удовольствий в его жизни.
— Ну-с, рассказывайте, — Федосеев взял с изящной подставки ручку с английским пером и макнул ее в чернила.
— Мне хотелось бы прояснить один вопрос, — сказал Фаберовский. — Генерал Селиверстов всю дорогу от вокзала оповедовал мне о своей любви к молоденьким пухленьким хористкам и балеринам в кружевных розовых панталончиках. Но он так и не удосужился мне поведать, что же на самом деле произошло тогда в Остенде, когда нас захватили люди Рачковского, почему мы оказались в Якутске, а затем вдруг были вызваны обратно до Петербургу.
— А вы мне о кружевных панталончиках никогда не рассказывали, Николай Дмитриевич, — сказал Федосеев, с любопытством взглянув на сконфуженного Селиверстова. — Полагаю, эти господа имеют право знать, что с ними произошло.
— Ну что ж, извольте, — нехотя согласился Селиверстов. — Мы действительно не рассчитывали, что Рачковский окажется так скор и когда вы, господа, прибудете на шхуне из Англии, он уже будет ждать вас на пристани. Личная агентура директора Департамента полиции, инспектировать которую ежегодно я имею честь, находилась большей частью в Париже, где следила за самим Рачковским и всеми его французскими агентами. Однако он обхитрил нас, послав в Бельгию еще до того, как мы установили за ним и его людьми слежку, своего агента Продеуса. В Бельгии у нас не было своих людей и когда я приехал в Остенде, мне пришлось обращаться в бельгийскую полицию, которая была слишком нерасторопна.
— Сдается мне, ваше превосходительство тоже не очень спешился, — резко сказал Фаберовский.
Артемий Иванович в отношениях с начальством обладал чутьем и знал, когда можно себе что-нибудь позволить, а когда надо поцеловать ему ручки. И он сразу почувствовал, что поляк начинает зарываться, что если сейчас же не унять его, их могут отправить обратно или еще чего похуже.
— Вы несправедливы к его превосходительству, господин Фаберовский! — набросился Владимиров на поляка. — Если бы вы не опоили на шхуне всех каким-то сонным зельем, мы смогли бы дать достойный отпор людям Рачковского и они не смогли бы помешать планам его превосходительства в отношении нас. А из-за вас нас взяли голыми руками!
— Полно, полно, господин Владимиров, — успокоил Артемия Ивановича Селиверстов. — Господин Фаберовский имеет право сердиться, ведь я действительно не нашел вас на пристани, когда приехал туда.
По тону, каким это было сказано, поляк понял, что у него не было никакого права сердиться и он должен быть благодарен Селиверстову хотя бы за то, что навечно не остался гнить в Сибири. Фаберовскому стало ясно, что этот старик очень злопамятен и при случае еще припомнит ему и кружевные панталончики, и обвинение в неторопливости. Поэтому поляк почтительно поклонился и предоставил Селиверстову продолжить рассказ.
— Я не знаю, каким образом Рачковский доставил вас в Россию через границу, — сказал Селиверстов. — Мне известно только, что потом он через свою давнюю приятельницу княгиню Радзивилл, которая, как бы это сказать… живет maritalment [5] с генералом Черевиным, добился от Черевина вашей отправки в Сибирь в административном порядке.
Селиверстов перевел дух и налил себе в стакан воды из стоявшего на столе у Федосеева кофейника. Камергер дернулся, но генерал не заметил, что в стакане была вода для какаду, и Федосеев успокоился.
— Как я и говорил вам у Дурново, — возвратил Селиверстов на стол стакан, — после смерти графа Толстого мы с Григорием Ардалионовичем упросили Черевина добиться у назначенного по черевинской протекции министра внутренних дел вашего возвращения в Петербург. Мы пытались сделать это еще в прошлом году, но ваш этап уже прошел Омолой и дело пришлось отложить до нынешней весны.
— И для чего же потребовалось нас возвращать? — спросил Фаберовский. — Неужели замучила совесть?
— Нам с камергером Федосеевым и полковником Секеринским нужен был процесс против Рачковского по лондонскому делу Джека Потрошителя. А без свидетелей мы ничего не могли сделать.
— Существуют иные свидетели. Дарья Семеновна Крылова, например, или сам Потрошитель, пан Коновалов.
— Господин Коновалов умер на Пряжке в больнице Николая Чудотворца во время эпилептического припадка незадолго до Успенского поста, — дал справку Федосеев, — а госпожа Крылова, которая проживала с ним в Лондоне под видом его сестры, ничего не знает.
— Так вы все еще хотите устроить процесс против Рачковского? — спросил у камергера поляк. — А ежели я не соглашусь давать показания? Наша с паном Владимировым роль в этом деле не самая благовидная и если мы будем болтать, то тоже можем оказаться на скамье подсудимых, только в уголовном суде.
— Какой там процесс, батюшка, бог с вами! — медленно проговорил Федосеев, откинувшись на спинку и разглядывая перстень на своем среднем пальце. — Он вызвал бы в Европе слишком недоброжелательное отношение к России и русской тайной полиции и помешал бы работе ее агентов заграницей. Но необходимость избавиться от Рачковского осталась и даже более того, усилилась. К сожалению, и министр внутренних дел, и директор Департамента полиции считают абсурдными обвинения Рачковского в провоцировании убийств в Лондоне.
— Вы, наверное, и сами могли заметить это по вчерашнему разговору у Дурново, — вставил Селиверстов.
— Оба считают Рачковского способным и деятельным агентом, который в качестве начальника Заграничной агентуры находится на своем месте. К сожалению, времена, когда Рачковский легко мог быть снят со своего поста, проходят. Пять лет назад, осмелившись вмешаться в дела царской семьи и написать императору донос на морганатическую мачеху того, княгиню Юрьевскую, жившую в Ницце, Рачковский едва вовсе не лишился каких-либо надежд на дальнейшую карьеру. Император долго помнил его наглость. Однако сейчас у Рачковского есть сильный покровитель в лице гофмаршала князя Оболенского, Рачковский лично возглавляет охрану императора во время его поездок в Данию, к тому же он попал в фавор за свое участие в аресте группы русских бомбистов в Париже, готовивших покушение на царя.
— Сегодня прочитал, Григорий Ардалионович, — сказал Селиверстов, — что французские газеты передают о пожаловании французскому министру внутренних дел Констану ордена Анны 1 степени.
— О причине такого благорасположения государя к Констану можно и не гадать. Люди полковника Секеринского перлюстрировали письма посла во Франции и узнали, что барону Моренгейму из надежного источника, каковым мог быть только Рачковский, стало известно о наличии в Париже тайной мастерской по приготовлению бомб. 21 мая барон узнал, что министры Констан и Карно уезжают на юг и приехал на вокзал, чтобы потребовать арестовать нигилистов. 28 мая были произведены аресты, что вызвало одобрение у Государя. Барон Моренгейм надеется на шумный процесс. Если отношения с республикой начнут налаживаться, Рачковского станет труднее свалить.
— Еще бы! — воскликнул Селиверстов. — У него уже есть достаточно высокие покровители не только в лице князя Оболенского, потому что нет для заезжих высокопоставленных особ лучшего чичероне по злачным местам Парижа, чем Рачковский. Он и меня водил однажды.
— Место заведующего Заграничной агентурой приобретает вес и от Рачковского надо избавляться быстро, пока он не приобрел влияния при дворе, — сказал Федосеев. — Кто знает, если дела пойдут у него в гору, то скоро он сможет занять место генерала Черевина. Мы должны добиться его отставки и посадить на место заведующего Заграничной агентурой лояльного нам человека.
— Григорий Ардалионович думал, что он сам мог бы занять этот пост или поручить его мне, — сказал Селиверстов.
— А вот этого, Николай Дмитриевич, — с нажимом произнес камергер, — можно было тут и не произносить.
Ни у кого из присутствовавших в кабинете не могло возникнуть сомнений, что Селиверстов специально сказал об этом, в отместку Федосееву за то, что при нем он был унижен Фаберовским. Но сам Селиверстов сделал невинное лицо и сказал:
— Вы правы, Григорий Ардалионович. Особенно я не доверял бы господину Владимирову. Я уверен, что это он сообщил Рачковскому о времени прихода шхуны в Остенде и из-за него мы потеряли столько времени.
— Перед любым судом я готов рассказать, — с обидой заявил Артемий Иванович, — как Рачковский вовлек нас в уголовные злодейства и заставил укрывать от лондонской полиции найденного им нарочно в Париже маньяка-фельдшера, когда тот резал бабов, чтобы добиться отставки комиссара полиции и натравить на русских нигилистов эту самую полицию. Но я никому ничего не сообщал, вот так-с!
— Перед судом рассказывать не надо, — оборвал Владимирова Федосеев. — А вот нам сейчас вы все это и про Рачковского, и про фельдшера-маньяка изложите.
Следующие два часа Федосеев с Селиверстовым дотошно допрашивали поляка с Артемием Ивановичем, тут же перенося на бумагу любой новый факт, который им удавалось извлечь. Фаберовский изворачивался как мог, чтобы преуменьшить их с Владимировым роль в этом деле, но затем в дело вступал Артемий Иванович, сбалтывал что-нибудь в запале и Фаберовскому под напором Федосеева и Селиверстова приходилось идти на попятный, а затем опять врать и изворачиваться, чтобы исправить нанесенный Артемием Ивановичем ущерб. Со своей стороны, Артемий Иванович непрерывно добавлял все новые и новые фамилии и неслыханные подробности. Наконец, следователи выдохлись и поляку с Владимировым было велено подписать протоколы.
— Ну что ж, очень хорошо, — потер холеные белые руки Федосеев. — Того, что вы здесь наговорили, да еще вкупе с расследованием по делу о незаконном использовании средств, отпущенных на создание швейцарской агентуры, должно хватить, чтобы стереть Рачковского в порошок. Дождемся, пока улягутся восторги в связи с процессом бомбистов, и начнем. А вы, господа, оставайтесь в Петербурге и ждите, пока нам понадобитесь. И не думайте убежать. Полковник Секеринский найдет вас даже под землей.
— Нижайше извиняюсь, — елейным голосом произнес Артемий Иванович, — но не могло бы ваше превосходительство дать нам хоть немного денег. По дороге из Якутска мы так издержались, что не только на ночлег, даже на еду средств не имеем.
— До завтра я определю вас в Официантский корпус, где вы сможете и столоваться, — улыбнулся Федосеев, — а там что-нибудь придумаем. Без денег и без ваших видов на жительство, каковые находятся сейчас у Николая Дмитриевича, вы от нас никуда не денетесь.
Объяснив, как добраться до Официантского корпуса, Федосеев приказал дежурному офицеру выпроводить посетителей вон и вскоре они уже стояли на улице.
— Курва мать! — в сердцах сказал Фаберовский. — Лепшей бы мы остались в Якутске!
— Может, драпанем? — предложил Артемий Иванович.
— На какие шиши? Мы не имеем даже документов. Полиция нас мгновенно сцапает.
Они огляделись. Справа в конце улицы виднелись ворота в парк Александрию с полосатой караулкой, от которых по направлению к ним скакал чернобородый казак в алой суконной черкеске и тяжелым смит-и-вессоном в кобуре на правом боку.
— Не вы ли, господа, будете Владимиров и Фаберовский? — осадил около них жеребца казак. — Генерал-майор свиты его величества Черевин хотел бы вас лично видеть.
Начальник царской охраны был при дворе величиной, тут и к бабке не ходи. Конечно, по просьбе Селиверстова и начальника своей канцелярии Федосеева он мог добиться их возвращения из Якутска, но зачем ему самому могли понадобиться два административных ссыльных?
— Он живет вон там, в Готическом доме на углу за Мариинской улицей. — Казак указал нагайкой на ближайший из вытянувшихся напротив парковой ограды невысоких ярко-желтых домов. — Только говорите громче, он плохо слышит.
Некоторое время казак ехал рядом с ними.
— Видали гадину белобрысую? — спросил он, показывая нагайкой в сторону окон канцелярии.
— Федосеева?
— Попугая! — Казак со злобой плюнул. — Через день в дежурство назначают, коня некогда почистить, а тут, вишь, двоих человек кажинный день наряжай ему семечки лузгать.
Все это было очень странно, но делать было нечего и Владимиров с Фаберовским покорно поплелись в указанном направлении. Войдя в дверь и скромно сев на жестком диванчике внизу, они стали ждать. Денщик, стиравший пыль с перил готической лестницы, заметил их и, оставив свое дело, поднялся наверх. Вскоре к ним спустился пожилой человек с резкими чертами лица, пышными усами по военной моде предыдущего царствования и большим носом, делающим его похожим на грача в свитском мундире.
— Так это вы? — спросил он, дыхнув на них перегаром.
— Мы, — дружно ответили Артемий Иванович и Фаберовский.
— И как вам не стыдно, господа, из дворцового управления простыни красть?
— Мы не с Дворцового управления, мы с Якутска, — сказал Артемий Иванович.
— Как?! — переспросил генерал.
— С Якутска мы, — повторил Владимиров. — Для скорейшего снятия Рачковского прибыли к вам прямо с Якутска.
— А! Мне послышалось, что из кутузки.
Когда-то этот низкорослый, тугой на ухо генерал, прозванный за глаза еще в бытность начальником Собственного Его Императорского Величества Конвоя «конвойным глухарем», слыл в свете отчаянным кутилой и помпадуром. В те времена его тараканьи усы воинственно торчали вверх, вызывая восхищение у дам, от него не разило перегаром и он мог позволить себе верхом на аргамаке из царской конюшни въехать по лестнице в покои своей очередной любовницы, невзирая на присутствие ее мужа, вызывая удивление даже у конвойных лезгин. Он был шафером на свадьбе покойного императора с княгиней Долгорукой и попечителем их детей, ему выпало быть начальником Третьего отделения и товарищем министра внутренних дел по полицейской части. После неудачного покушения на него Черевин едва не стал особым министром полиции, но тогдашний министр внутренних дел отсоветовал Александру III от такого выбора. И все-таки, оставшись просто начальником дворцовой охраны, Черевину удалось добиться самого высшего из возможных в государстве постов: он стал собутыльником царя. Теперь, вечно пьяный и больной, он уже не кутил с балеринами у Додона и Бореля, он круглый год почти безвылазно сидел в Гатчине, чтобы царю всегда было с кем выпить, если ему незаметно удастся сбежать от жены. Зато его влияние на назначение императором разных государственных чиновников трудно было переоценить, к нему обращались с просьбами и очень часто ему удавалось их выполнять. Большей частью именно благодаря его хлопотам на пост министра внутренних дел год назад был назначен Иван Николаевич Дурново.
— Так это правда, что мне Федосеев про Рачковского болтал? — спросил Черевин. — Кто бы мог подумать. Но давайте пока поднимемся ко мне.
Жилище Черевина оказалось скромной квартирой из нескольких небольших комнат. Маленькая гостиная, куда он провел их, была меблирована казенным буфетом, бюро, заставленным пустыми бутылками, среди которых приютился портрет молодой красивой женщины с подписью по-французски «Duchesse Catherine Radziwill`» [6], и кожаным диваном с высокой готической спинкой. Пахло вином и кислой капустой.
— Дело в том, — Черевин жестом предложил своим собеседникам сесть, — что мне наплевать на Рачковского. И министра я убедил вернуть вас в Петербург не ради их планов насчет Рачковского. Вы оба мне нужны самому. Выпьете?
Он подошел к буфету, достал початую бутылку бристольского портвейна и разлил его в три рюмки.
— Пейте, пейте, не стесняйтесь, — сказал Черевин, видя смущение на лицах своих гостей. — У меня на собутыльников небогато: государь император, да вот вы еще подвернулись. О чем это я? Ах, да. Мое дело гораздо более важное и опасное, а потому дорого оплачиваемое. Если согласитесь, то можете забыть и о Федосееве с его играми, и о Рачковском. Я даю вам возможность подумать: готовы ли вы добровольно пойти на риск, а завтра утром вы явитесь ко мне снова и мы продолжим свой разговор.
Ночь Фаберовский с Владимировым провели в тревожных беседах. Если выступать на стороне Селиверстова, Федосеева и Секеринского против такого опасного и коварного противника, как Рачковский, было менее опасно, чем то, что предлагал Черевин, тогда что же он хочет от них? Рисковать жизнью ради неизвестной пока цели им не улыбалось. Но и пешками в игре против Рачковского им быть не хотелось. К тому же вопрос о деньгах стоял перед ними во всей своей первозданной и могучей силе.
За завтраком, получив каждый по маленькому пирожному, они решились. На этот раз Черевин не стал их приглашать к себе, а вместо этого повел мимо конюшен к светлевшей на фоне буйной зелени низкой каменной ограде Александрии.
— Должен вам сказать, господа, — остановил он поляка и Владимирова поодаль от ворот, — что после этого разговора обратный путь для вас будет закрыт, я вынужден буду об этом позаботиться.
— Мы согласны, — подтвердил Артемий Иванович и зажег сигарету. Фаберовский заметил, что у него от волнения трясутся руки.
— Ну, пеняйте на себя, я вас предупредил. — Черевин подошел к будке с часовым и о чем-то переговорил с ним, после чего тот отпер ворота и пропустил всех троих в парк.
После жары, с самого утра изнурявшей Петергоф, Александрия казалась настоящим раем. Широкие кроны дубов и лип, в которых щебетали птицы, давали упоительную тень, от скошенной травы на полянах, от белых цветков лабазника, рассеянного по склонам, исходил медовый аромат. Они миновали изящное готическое здание церкви Александра Невского и по дороге спустились под гору, где на лужайке рядом с деревьями находился в тени небольшой колодец с чугунной беседкой вокруг него и сиденьями. На одном из сидений лежал несвежий полосатый тюфяк.
— Садитесь, господа, — предложил Черевин, выгнав из-за кустов конвойного казака. — Здесь нас никто не услышит. Я понимаю так, что боязнь выступить против г-на Рачковского заставила вас принять мое предложение, даже не узнав его сути.
— Денежный вопрос для нас имел первостатейное значение, — подал голос Фаберовский.
— Похвальный реализм, — сказал Черевин. — Я знавал вашего Рачковского, еще когда он только в Третье отделение поступил. Он не стоит того, чтобы ради него рисковать.
— А я еще раньше его поступил, при Селиверстове, — подскочил на скамейке Владимиров, едва не выронив изо рта сигарету, но тут же смущенно замолчал.
— Может быть, — неодобрительно промолвил Черевин. — Всего не упомнишь. Ну да теперь и без вашей помощи мой Федосеев со своим Селиверстовым и Секеринским его оттуда сковырнут!
Черевин достал из голенища сапога плоскую фляжку и, ловко отвернув пробку, забулькал.
— Должен открыть вам карты, господа: у нас с ними цели разных масштабов. Я хочу спасти ныне царствующую династию от краха.
Заметив, как при словах «спасти династию» поморщился поляк, Черевин повернулся к нему и вперил свои вдруг пьяно заблестевшие глаза в лицо Фаберовскому.
— Да-да, судьба династии действительно в опасности! И не террористы, жаждущие прервать жизнь нашему обожаемому монарху, угрожают ее дальнейшему существованию, нет. Угроза таится в ней самой. Наш наследник — форменный дегенерат, он не способен править великой страной. Георгий будет поспособнее его, но он, как вам, быть может ведомо, серьезно болен туберкулезом. Ему будет не по силам управлять монархией должным образом. Михаил, младший сын государя — вот кто может спасти от хаоса и разрушения наше Отечество. Но у него нет никаких шансов занять престол. Никаких шансов, господа.
Черевин опять приложился к фляжке. И тут со стороны тенистой дубовой аллеи, спускающейся прямо от Фермерского дворца вниз к колодцу, раздался громовой голос:
— Черевин, Черевин! Я знаю, что ты тут, скотина! Мне удалось удрать, не ударить ли нам по коньячку?
Все трое разом обернулись на голос и увидели подходящего к ним медведеобразного бородатого человека в потертом голубом мундире Атаманского полка на расплывшемся теле, в расшитых большущий заплатой клином на крупном бабьем заду серо-синих шароварах с двойным лампасом, человека, чей образ был растиражирован в тысячах портретов для каждого маломальского присутственного места и которого в России мог не узнать разве что какой-нибудь темный крестьянин, никогда не выходивший за околицу своей глухой деревни.
— Государь… — просипел Артемий Иванович, немея от охватившего его волнения.
С залива пахнуло морем, ветерок принес слабый запах гнилых водорослей.
— А, ты не один… — разочарованно сказал царь, входя в беседку. — Что это за люди?
Казалось, гигантская фигура Александра разом заполонила все небольшое пространство под навесом, отчего все трое в ней сидевшие как-то сжались, стараясь сделаться меньше и незаметнее.
— Инженеры, ваше величество, — пояснил Черевин, — снимают дачу в Новом Петергофе. Специалисты по минному делу. Я по утру проверял посты гвардейского экипажа на берегу да нашел вот на обратном пути здесь у колодца подозрительный предмет и подумал: не бомба ли это? Вызывать саперов долго, понимаете сами, вот и пришлось прибегнуть к помощи простых, преданных вам подданных.
— Почему сразу не сказал?
— Не хотел беспокоить, ваше величество. Вдруг пустое… Так ведь и оказалось.
— Ну смотри у меня, Черевин! — царь пригрозил генералу пальцем. — За каждым кустом, каждым деревом.
— Ваше величество…
— За что и люблю тебя, каналья. — Александр поместился на скамейку между Черевиным и Артемием Ивановичем и достал точно такую же, как у начальника своей охраны, флягу из-за голенища. — Ну, давай выпьем. И им тоже налей. Ты по какому ведомству состоишь? — царь ткнул пальцем во Владимирова.
— По министерству внутренних дел… — пролепетал Артемий Иванович. — Вернее, по части просвещения…
Черевин сделал ему страшное лицо и Владимиров, окончательно стушевавшись, умолк.
— Хочешь, я сделаю тебя министром просвещения? — спросил Александр.
Владимиров в ответ издал лишь неопределенный звук, не сумев выдавить из себя ни одного слова. Император неприветливо взглянул сверху вниз на взиравшего на него с немым благоговением Артемия Ивановича. От ужаса и счастья лицезреть обожаемого монарха глаза Владимирова вылезли из орбит и приобрели совсем бессмысленное выражение.
— Что, страшно царя-то вблизи видеть? — Александр презрительно ухмыльнулся. — То-то же. Эх, гнетет меня, Черевин, предчувствие: не будет из Николая никакого толку. Вот есть он сейчас ребенок, таким и останется. Как тряпка. Это у него от мамаши. Да и Георгий тоже хорош. Эх, почему не Мишка у меня первый родился. Вот из него бы я сделал настоящего царя.
Александр приложился к фляге и Черевин последовал его примеру. Фаберовский с Владимировым почтительно пригубили из крышек от фляг, куда им милостиво было налито коньяку.
Царь взглянул на обомлевшего поляка и совсем лишившегося разума Владимирова и прикрикнул на них грозно:
— А вы чего уши распустили? Пейте и убирайтесь восвояси. Не для вас царские разговоры.
Возможно, досталось бы еще и им, и Черевину, но тут с аллеи, из которой совсем недавно нагрянул император, донесся грубый, слегка шепелявящий женский голос.
Царь затравленно оглянулся и, быстро покинув беседку, пошел навстречу своей маленькой супруге. Императрица что-то сердито сказала ему и пошла наверх, а император виновато поплелся сзади. Когда царственная чета наконец удалилась, Черевин сказал приходящим в себя поляку и Владимирову:
— Вы, кстати, вы имейте в виду, что вы видели не государя, а черт знает, что. Я его сам таким никогда не видел. Я-то думал, что он не придет, потому что квасит второй день.
Однако, видите, господа, его величество придерживается того же мнения о судьбе династии, что и я.
Он оглядел все еще молчащих агентов и убрал фляжку.
— Перед воротами в этот парк я предупредил, господа, что если вы согласитесь войти туда для разговора со мной, обратного пути вам уже не будет. У меня есть для этого достаточно сил и возможностей. Все, что вы наболтали вчера Федосееву под чем поставили свои подписи, может быть передано иностранным полициям, и тогда во всей Европе для вас не останется ни одного безопасного места. И потом, деньги вы получите большие. Да и не таков для вас риск, как это может показаться вначале. К делам такого рода, сколько мне о вас обоих известно, вы привычны, так что совесть не будет вас сильно мучить.
— Лично меня сейчас мучит страх за собственную жизнь, — сказал поляк, — и, в несколько меньшей мере, безденежье.
— Попробую облегчить ваши муки. Со вторым проблем не будет, а насчет первого я могу вам сказать следующее: осенью, после поездки с отцом на охоту в Спалу, наследник-цесаревич отправится в кругосветное путешествие через Грецию, Египет, Индию, Цейлон, Сингапур, Яву, Китай и Японию до Владивостока. Для этого в Кронштадте уже строится новый фрегат «Память Азова». На фрегате из самого Севастополя пойдет великий князь Георгий, наследник присоединится к нему в Триесте. Я долго размышлял и пришел к выводу, что лучшее место для покушения — Египет. Сейчас там нет никакой сильной власти, англичане спорят за влияние с французами, Египет достаточно далек от всех европейских держав, там очень много разных противодействующих сил и в случившемся, если убийцы не будут пойманы и опознаны, можно будет обвинить кого угодно.
— Мне хотелось бы поподробнее насчет «не пойманы и не опознаны», — сказал Фаберовский.
— Да-да, очень бы этого хотелось, — поддакнул Артемий Иванович.
— Об этом я тоже думал, — сказал Черевин. — Предполагается, что в Египте «Память Азова» придет в Порт-Саид, откуда наследник и сопровождающие его лица поедут в Каир и оттуда поднимутся до вторых нильских порогов. Заметьте: они все время будут находиться на каких-нибудь судах. В связи с этим я хотел бы рассказать вам один случай. Это было за несколько дней до того, как молния разрушила обелиск на площади Коннетабля в Гатчино. Я, в то время товарищ министра внутренних дел по части полиции и командир жандармов, был вызван к тогдашнему начальнику охраны Воронцову-Дашкову в Гатчино. После злодейского убийства Александра II все были заражены новым градоначальником Барановым террористической истерией. Новый император катался по Белому озеру на лодке. Мы с Воронцовым-Дашковым стояли у перил террасы и смотрели вниз. И вдруг я увидел, как под лодкой императора проскользнуло темное тело какой-то громадной рыбы, что-то вроде небольшого кита или гигантской белуги.
— Должно быть, щука, ваше превосходительство, — пояснил Артемий Иванович. — Белуги с китами у нас под Петербургом не водятся.
— Как?! — переспросил Черевин. — Какими скотами? Говорю вам, это не корова была, а больше похоже на кита. Когда я пригляделся, то понял, что это не рыба, а какое-то подводное судно вроде железной бочки. Представляете, что я подумал: всего три месяца прошло с убийства царя, новый государь вынужден укрываться от террористов в Гатчино и не смеет даже показаться в Петербурге! Кругом охрана, ни одна птица не могла пролететь незамеченной, но никто не охранял воды озера, откуда, как было видно, императору тоже могла угрожать опасность. Я закричал, указывая на озеро, царь с царицей обернулись, но тут граф Воронцов успокоил меня, сказав, что сие подводное чудо привезено в Гатчино по распоряжению государя для личного ему представления. Мы с графом дождались, пока шлюпка с государем подошла к пристани, и спустились вниз на пристань. Из воды у самого борта царской шлюпки всплыла белая спина подводного судна, открылась горловина и из нее на пристань, словно черт из коробочки, выскочил какой-то поляк с закрученными усами и козлиной бородкой, в покрытом ржавчиной сюртуке с солдатским Георгием на груди. Еще выпьете?
— Рады стараться, ваше превосходительство! — гаркнул Артемий Иванович.
— Тише вы! Кто ж тут кричит! — шикнул на него Черевин.
Он протянул им фляжку и предложить отхлебнуть прямо из горлышка. Фаберовский отказался, а Артемий Иванович присосался к фляжке как пиявка и выдул ее до дна.
— Знаешь что… — сказал Черевин, заглянув во фляжку. — Давай мы тебя наследником назначим. Ты уже готов.
— Ваше превосходительство оповедало нам о подводном судне и поляке, который выскочил с нее на пристань, — поспешил напомнить Фаберовский.
— От него так разило козлом, горохом, говяжьим салом и солдатскими портянками, что императрице пришлось зажать нос платком. Не помог даже букет орхидей, который этот поляк преподнес императрице, чтобы занюхать разивший от него самого дух. Однако наш император любит такие тонкие солдатские ароматы; он остался доволен и приказал только что назначенному военному министру устроить с полсотни таких подводных судов. Они до сих пор имеются и здесь в Петербурге, и в Севастополе. Гениальнейшее средство для террористов. Его создателем был один поляк по фамилии Джевецкий, он жил в Петербурге где-то на набережной рядом с Адмиралтейством, а теперь, как мне говорили, поселился в Париже. К чему я рассказал об этом Джевецком с его подводным судном? К тому, что мы можем получить в Инженерном ведомстве одно такое судно из тех, что находятся в Севастополе, и перевезти в Одессу, откуда отправить в Египет. Там, в зависимости от ситуации, либо в порту, но лучше во время путешествия по Нилу, нигилисты могут подойти под судно, на котором будут находится цесаревич с братом, и взорвать его. А потом тишком уплыть подальше и вылезти на берег, а само судно утопить, чтобы его не нашли. Вам следует иметь в виду возможность такого нападения.
— Чтобы организовать подобное, нам потребуются постоянные сведения о том, что и где намеревается делать наследник в пору путешествия до Египту.
— Вы запомнили того конвойного казака, который направил вас вчера после Федосеева ко мне? Его фамилия Стопроценко, он урядник в Кубанском эскадроне. Преданный мне человек, я знаком с ним еще с Кавказа. Стопроценко единственный, кроме вас, кто знает о моем плане. Он уже определен сопровождать цесаревича и будет сообщать вам все необходимые сведения.
— А как мы с паном Черевиным будем рассчитываться? — спросил Фаберовский. — Что мы получим за спасение династии?
— Сто тысяч на двоих.
— Я бы хотел еще местечко директора гимназии или попечителя, — подал голос Артемий Иванович.
— Я похлопочу за вас перед кем надо в Министерстве просвещения. Но учтите, после того как Федосеев выпрет Рачковского, нам потребуются преданные и опытные люди, которые смогут вместо него организовать сыск за границей.
— Это мы всегда с радостью… За Государя в огонь и воду… Если что, мы и на грибах протянем, тут под кустами я несколько видел.
От потрясения с Артемием Ивановичем случилась нервная горячка и он начал нести невесть что.
— В сентябре вы получите деньги на организацию перевозки подводного судна в Египет и на все необходимые расходы, — сказал Черевин, недоуменно взирая на Владимирова. — И на еду вам хватит, так что оставьте грибы в покое, тем более что в другой раз вас сюда не пустят.
— Но у нас совсем нет денег!
— Я дам вам некоторый аванс. Но учтите, что до сентября вы должны бесследно исчезнуть, чтобы ни Федосеев, ни кто-либо другой ни сном, ни духом не ведали, где вы находитесь. О том, что о нашем разговоре вы должны молчать, не считаю нужным даже напоминать.
— А как нам быть с документами? — спросил Фаберовский. — Все, что мы имели, находиться теперь у Селиверстова.
— Полагаю, начальник сыскной полиции господин Вощинин не откажет мне в маленькой услуге и озаботится тем, чтобы выправить вам новые паспорта. Но тогда о старых своих фамилиях вы должны забыть. А теперь я вынужден просить вас покинуть парк. Я и так злоупотребил своим положением, что провел в места, для публики категорически закрытые. Живите поколе в Официантском корпусе, где вас поселил Федосеев. Как только все будет готово, Стопроценко найдет вас и передаст все, что нужно.
Императорский рай Александрии закончился и они вернулись в обычный обывательский ад. Снаружи, за воротами парка, все также припекало солнце, давила грудь сырая духота, а вдоль ограды вокруг Александрии гарцевали вооруженные револьверами конвойные архангелы Михаилы в высоких папахах и алых черкесках, охраняя рай от непрошеных гостей.
— Ну и влипли мы! — Артемий Иванович обессиленно прислонился к оградной решетке. — Вот это номер! Это что ж такое будет-то? Вот достукался я с тобой, Степан! Царского наследника убивать послали.
Тут он испуганно ахнул и захлопнул рукой рот.
— То есть, охранять, охранять, Степан, да! Ох, хочу в попугаи податься. Где здесь в попугаи прошение принимают? Нет, ты видал? Семечки ему чистят, сидит, воду из кофейника пьет, шутки шутит! И ничего ему за это не будет. Степан! А?
— Не будет? — ядовито сказал поляк. — Ты посмотри, как он быстро сообразил-то — не будет. В клетку захотел?
Артемий Иванович ойкнул.
— Напрасно я поставил шишку пану Артемию поленом, — сказал Фаберовский. — Потребно мне было ударить его колуном. Тогда меня выслали бы до какого-нибудь отдаленного улуса, с которого даже Черевин не смог бы меня вытягать.
Глава 3. Ландезен
11 июля
Из-за прижимистости императора даже обеды гофмаршальского стола, не говоря уже о том, что приводилось едать в Официантском корпусе Артемию Ивановичу и Фаберовскому, с точки зрения обеспеченной благополучности были отвратны, но для тех, кому пришлось зимовать в Якутске и ходить этапом по Владимирскому тракту, обеды эти казались в полном смысле царскими. Бывшие ссыльные отъедались за целый год лишений, а Владимиров украдкой от поляка даже подъедал у других остатки трапезы. Но вскоре этим пиршествам пришел конец. В Официантский корпус явился Стопроценко и, вручив Фаберовскому и Артемию Ивановичу новенькие паспорта, заграничные и обычные, передал повеление Черевина в тот же день незаметно для Федосеева и его людей убраться из Петергофа.
Поляк с Владимировым расстались на Балтийском вокзале, пожелав друг другу на прощание, чтобы Черевин отказался от своей бредовой идеи, и Фаберовский, в тайне надеясь больше никогда Артемия Ивановича не видеть или хотя бы отдохнуть от него до сентября, двинулся на Варшавский, чтобы купить билеты на парижский поезд.
И вот он уже плывет на пароме, берега Франции остались за кормой и впереди его ждет Англия, а что ждет его в Англии, он не знал. Полтора года назад они с Владимировым сбежали в Бельгию, нарушив запрет полиции покидать пределы Лондона, и с тех пор он не имел никаких известий о том, что происходило в оставленном им доме в его отсутствие. Чтобы защититься от своего самого опасного врага доктора Гилбарта Смита, который единственный видел настоящего Потрошителя вместе с Фаберовским и через своего пациента, начальника Департамента уголовных расследований Скотланд-Ярда, навел полицию на его след, поляку пришлось довести дело практически до венчания с дочерью Смита Пенелопой и составить брачный контракт таким образом, что в случае смерти Фаберовского от естественных причин все его имущество для лучшего распоряжения должно было перейти к доктору Смиту сроком на пять лет при условии должного содержания вдовы, равно как и в случае безвременной кончины Фаберовского до церковного венчания. Возможно, когда поляк приедет, его так и не состоявшаяся жена будет жить со своим новым мужем в его доме или вообще этот дом уже продан с молотка. Было лишь одно соображение, гревшее поляка — все свои дела он сможет улаживать без вмешательства Владимирова.
После поездок в трюмах арестантских барж Фаберовский не мог заставить себя еще раз спуститься в трюм и поэтому, несмотря на малость отпущенных ему Черевиным подъемных, взял билеты не в третий класс, а место в каюте второго класса. Однако и здесь, в тесной каютке, пахнувшей дешевыми духами и вареной колбасой, ему было неуютно и он решил подняться на палубу.
Преследуемый поднимавшимся снизу из третьего класса запахом бедности, он миновал по трапу коридор с первоклассными каютами, встретивший его ароматами дорогих духов, сигар, доносящимися откуда-то звуками оркестра и будоражащими аппетит запахами хорошей кухни. Наверху уже не пахло ничем, свежий морской ветерок гнал легкие облака по небу и трепал на флагштоке сине-красный английский флаг, прозванный остряками «кровь и кишки». Вокруг быстро шедшего парохода, плавно качавшегося на длинной волне, кружили чайки, будоража напряженные нервы поляка своими криками.
Пройдя на корму, Фаберовский уселся на деревянной скамейке в переменчивой тени от густого черного дыма, шедшего из трубы парохода, и положил рядом с собой кипу купленных еще в Париже русских и французских газет. Однако вскоре здесь собралась пестрая толпа, пожелавшая взирать на удаляющийся французский берег. Немецкое семейство, состоявшее из толстого папаши, настоящего бюргера с пивным брюхом и традиционными шрамами на лице от давних студенческих дуэлей, его жены, похожей на разваренную картофелину, и двух пухлых белокурых дочек, встало прямо напротив него и отец семейства, указывая пальцем, похожим на колбаску, прямо на поляка, поучительно сказал:
— Дас ист ди берюмте французише малер, майн либер тохтер! Импрессионизмус!
Фаберовский не знал немецкого языка, но понял, что из-за купленного им в Париже поношенного и когда-то дорогого сюртука, а также шляпы с широкими обвисшими полями, облагораживавшей его страшные космы, немец принял поляка за французского художника-импрессиониста.
— Майн фрау и майн эээ… дочки… — немец задумался, пытаясь подобрать французское слово. — Фотографирен… фотографироваться с вами… У вас мы за это будем покупать ваша картина также.
Поляк встал, собрал свои газеты, сложил пальцы в кукиш и спросил, сунув его под нос папаше:
— Отгадайте, пан: какой палец средний?
— Вы есть невоспитанный малер! — возмутился бюргер, но поляк уже шел на нос, откуда ему должны были открыться меловые скалы Дувра, и присмотрел скамейку, на которой сидел одинокий плешивый брюнет, чей безукоризненный костюм не вязался с его несколько растерянным видом. Фаберовский рассеянно взглянул на него, сел на другой конец скамейки и, сменив новые, еще непривычные очки на старые, с веревочной петелькой, которую надо было прилаживать на ухо, развернул «Новое Время».
— И давно ли вы из России? — с резким еврейским акцентом внезапно спросил сосед по скамейке и подвинулся ближе.
Фаберовский бросил косой взгляд на соседа, лицо которого показалось ему знакомым. Сосед был тщательно выбрит и на его загорелом лице явственно выделялась тонкая полоска на верхней губе на месте сбритых усов. Поляк не сомневался, что это лицо откуда-то из его до-якутского прошлого, но то возбуждение, которое овладевало им все сильнее с каждой милей, приближавшей его к английскому берегу, мешало ему собраться с мыслями.
— Не подскажете ли мне, где лучше остановиться в Лондоне? — спросил еврей, вставив в рот сигару и обхватывая ее толстыми красными губами. — Я знаю в Лондоне только «Королевский отель» Де Кейзера у моста Блэкфрайрз и отель Клариджа на Брук-стрит, но в последнем мне не очень чтобы нравится, там живет эта старая connasse Новикова. Эти разведенные психопатки так утомительны! — томно проговорил он, выпуская две струи дыма из ноздрей.
Упоминание об отеле Клариджа и о Новиковой поразило поляка. Рядом с ним сидел Мишель Ландезен, один из лучших агентов Рачковского, человек, который полтора года назад пытался убить Фаберовского, заложив в подвал его собственного дома на Эбби-роуд в Сент-Джонс-Вуде два пуда динамита. И только благодаря Артемию Ивановичу, который, сам того не желая, нарушил все планы Ландезена, они остались живы. Первой мыслью поляка было развернуться и дать Ландезену в морду. Эту безумную мысль тут же сменила другая — какие длинные руки все-таки у Рачковского!
«Песья кровь пан Артемий! — подумал поляк, — А ведь вместе столько в Якутске вынесли!»
Две молодых англичанки перешли с кормы на нос парома, чтобы через подзорную трубу взглянуть на уже наметившийся на горизонте меловые утесы Дувра.
— И таки как мне нравиться новая мода! — оживился Ландезен. — Еще два год назад под этим турнюром разве определишь, какой у бабы зад! А сейчас сразу видно! Вот посмотрите, — он интимным жестом дотронулся до колена Фаберовского и кивнул на дам. — Та, что справа — доска доской! А теперь взгляните на тот розан слева! Тут есть около чего походить! Я англичанок не очень люблю, я употреблял женщин всех национальностей и должен вам сказать, — Ландезен протянул руку с сигарой и стряхнул пепел за борт, — в постели нет никого, лучше евреек! Мой отец Мойша Геккельман был потомственным почетным гражданином города Пинска, и я тоже мог бы быть потомственным гражданином этого славного городка, покупать селедку по три копейки и резать на пять частей, и продавать по копейке. Моих денег мне вполне хватило бы, чтоб до конца не знать отказа у пинских женщин! Но мне пришлось уехать в Петербург…
— Пану следовало остаться в Пинске, — подал голос Фаберовский, пытаясь сообразить, чем грозила ему встреча с доверенным агентом Рачковского.
— Но мне же надо было делать карьеру! На доходы горного инженера я смог бы покупать таких женщин, каких вы не найдете в Пинске! Но боже мой, что за столица! Мне не хватало не только на женщин, но даже на еду! «Cherchez la femme!» [7] — сказал мне полковник Судейкин, когда его агент выследил меня у одной народоволки. Все глупости из-за женщин. Но что я мог поделать? Где еще столько евреек, кроме революции? Только в рублевых заведениях, а на них у меня не было денег…
Фаберовскому было не по себе от этой встречи. Может быть Рачковский, проведав про планы Федосеева, Селиверстова и Секеринского, решил на этот раз все-таки избавиться от поляка, как от опасного свидетеля?
— Идти под суд за связь с народоволками я не хотел, а отказаться от женщин не мог, — продолжал увлеченно тарахтеть еврей. — И что мне оставалось делать? С легкой руки полковника Судейкина я стал агентом Петербургского охранного отделения и теперь мог употреблять нигилисток с жандармского благословения.
«Может мне надо заманить его вниз и пристукнуть где-нибудь в уборной? — думал Фаберовский, смотря на холеное лицо Ландезена. — Или столкнуть его за борт? Но нет, на палубе слишком много народу. Это сразу заметят и выловят его из воды.»
— Какая божественная грудь! — подпрыгнул вдруг Ландезен и указал тросточкой на жену того самого бюргера, пришедшую с кормы. — Подержаться бы за нее руками!
Он встал и семенящей походкой опытного ловеласа сделал около немки полукруг и, встав на безопасном расстоянии, заговорил с ней. Поляку не было слышно слов, но по тому, как та решительно сжала ручку своего солнечного зонтика и Ландезен сделал шаг назад, становилось очевидным, что первый приступ не увенчался успехом.
«Если меня сейчас и убьет кто-нибудь, то уж не этот хлыщ, — решил Фаберовский. — Возможно, с ним на пароходе плывет еще кто-нибудь, кого я не знаю.»
Ландезен тем временем не оставлял своих попыток найти кратчайший путь к пышному бюсту облюбованной им дамы и поляк, воспользовавшись его отсутствием, взял французскую газету. Фаберовскому бросилась в глаза статейка, посвященная вынесенному пять дней назад Парижским судом исправительной полиции приговору по делу об изготовлении русскими бомбистами разрывных снарядов. Сразу найдя глазами фамилии обвиняемых, поляк с изумлением обнаружил в списке осужденных Ландезена. Семь человек получили по три года тюремного заключения и отправлены в тюрьму Ля Рокет, а Ландезен заочно, как не найденный полицией, приговаривался к пяти годам. Так вот причина того, почему Ландезен едет на пароме, сбрив усы!
«Я был несправедлив к пану Артемию! — подумал Фаберовский, откладывая газету. — Но теперь я рассчитаюсь с этим жидом!»
— Dreck mit pfeffer! [8] — выругался Ландезен, возвращаясь на скамейку. — Какая-то шикса, а возомнила о себе невесть что!
— Что, не получилось? — ехидно спросил Фаберовский.
— На этих немок нужно слишком много времени, — посетовал Ландезен. — С ними надо вздыхать, говорить о любви… Мне больше нечего делать, кроме вздыхать! Француженка бы из простого любопытства пошла со мной в каюту!
— В случае пана, на мой погляд, потребно приложить все усилия, и даже игнорировать ее мужа, который вместе с двумя своими дочками в любой момент может прийти сюда с кормы. Ибо пять лет сурового воздержания будут пану Ландезену тяжелы.
Сигара выпала изо рта Ландезена и, задержавшись по пути вниз на его шелковой жилетке, прожгла дыру.
— Foutre! — вскричал еврей и в ярости вышвырнул сигару за борт. — Кто вы?!
— Как же угораздило пана схлопотать пять лет?! От нас с паном Артемием Рачковский хотел избавиться, выслав до Якутску, а пана Ландезена, то значит, он решил сховать в тюрьме Ля Рокет… Но пан Ландезен спрытный, он убежал… Ай-яй-яй, как нехорошо.
— Фаберовский! — взвыл Ландезен, узнав поляка. — Я полагал, что вы в Сибири!
— Как видите — нет. Может, пан угостит меня в честь нашего повидания?
Ландезен обречено кивнул и они направились в буфет.
— Поведайте, пан, а куда Рачковский дел наших ирландцев после того, как его люди взяли нас на шхуне по приходе до Остенде? — спросил Фаберовский, пока они за столиком ждали стюарда.
— Да никуда они не девались! До сих пор ходят к Рачковскому в консульство и клянчат обещанные им за Джека Потрошителя 20 тонн динамита…
— Недобрый человек пан Рачковский. Обманул ирландцев, не оборонил пана Ландезена, выслал до Сибири нас с паном Артемием… А ведь мы для него посадили на пост комиссара лондонской Столичной полиции Джеймса Монро.
— Да этого Монро две недели назад отправили в отставку! — махнул рукой Ландезен.
Весть об отставке Монро была скорее утешительной для Фаберовского. Монро знал об их делишках с Джеком Потрошителем и ирландцами практически все, кроме того он сам приложил к ним руку и до тех пор, пока он находился на посту комиссара, они с Артемием Ивановичем всегда были нежелательными свидетелями для комиссара. Теперь же Монро не надо было бояться за свое место, а поляку — за свою жизнь.
— Я разумею, это вместо пана Ландезена французский министр внутренних дел Констан получил от царя Анну? — спросил Фаберовский, не давая еврею передышки. — Какая несправедливость! Как дорого стал пану Рачковскому этот процесс?
— Я ссудил бомбистам в общей сложности около десять тысяч франков, выданных мне Рачковским, за что был благодарно избран кассиром кружка.
— О такой должности можно только мечтать! Пан не одолжит мне немного денег? А то у меня осталось только на телеграммы до Парижу, до газет и в Сюртэ, до мсье Горона о бегстве пана Ландезена на этом пароме от французского правосудия.
— А много ли вам надо, мсье?
— Это зависит от того, останется пан Ландезен в Лондоне или двинется дальше, не задерживаясь.
— Двинусь дальше.
— Тогда оставьте себе денег на билет.
— А если останусь в Лондоне?
— То еще лепшей. Я порекомендую пану каморку под лестницей в Уайтчепле на Брейди-стрит, прямо напротив старого еврейского кладбища. Она выйдет дешевле, чем билет на пароход или погребение на действующем еврейском кладбище.
— У меня нет денег, — с тоской в голосе ответил Ландезен.
— Давайте посмотрим. Выворачивайте карманы. И дайте мне портмоне.
— Десяти фунтов довольно?
— Пятьдесят.
— Двадцать.
— Сорок. Не жмотьтесь, пан Ландезен.
— Тридцать.
— Нет, мсье, больше я не уступлю ни пенни.
— Тридцать пять.
— Добже, — согласился поляк и протянул руку.
Ландезен достал пухлый бумажник и, не раскрывая его, долго ковырялся внутри пальцами.
— Что же пан Ландезен теперь собирается делать? — спросил Фаберовский, убирая деньги.
— Представляете, как я был поражен, прочитав в газетах, что суд не только приговорил бомбистов к трем годам тюрьмы, но и меня заочно к пяти годам тюремного заключения! Я объявил своим знакомым, что уезжаю на несколько дней, чтобы по возвращении реабилитировать себя от возведенного на меня бомбистами обвинения, и бросился к Рачковскому. На что Петр Иванович спокойно ответил, что мне не остается ничего иного, как навсегда исчезнуть.
Фаберовский невесело усмехнулся. Рачковский, похоже, любил, чтобы исполнители его планов бесследно исчезали. Но не всегда это ему удается и у них с Артемием Ивановичем он еще попляшет!
Ландезен заметил усмешку поляка и сказал:
— Через несколько дней Ландезен исчезнет точно также, как когда-то исчез Авраам-Аарон Мойшевич Геккельман. Возникнет какой-то другой человек в каком-то другом месте, может быть даже женится и обретет покой, но вы уже ничего не будете знать об этом.
Он умолк и поляку показалось, что чайки, то и дело пикировавшие к поверхности воды за куском брошенного им хлеба, взлетая, над кем-то из них злорадно смеются, но не мог понять, над кем именно. Иногда еврей поворачивал голову к Фаберовскому, словно хотел что-то сказать, однако так ничего и не сказал. Высадившись в Дувре и сев в одно купе, они молча проделали путь до вокзала Ватерлоо, где поезд расформировали, прежде чем развезти вагоны на разные лондонские вокзалы на левый берег Темзы. Когда кондуктор дал свисток к отправлению, Ландезен встал, открыл дверь купе и сказал, прежде чем спрыгнуть с подножки вагона на поплывший назад перрон:
— Вы только не обижайтесь, Фаберовский, но вы дурак. Когда я сел рядом с вами, я вас не узнал. И вы могли добраться к себе домой и жить там в тишине и покое, никем не тревожимые. Но вы польстились на мои тридцать пять фунтов и уже сегодня вечером Рачковский будет знать, что вы объявились в Лондоне. Он давно уже забыл про вас и вашего приятеля, но теперь вы опять станете представлять для него угрозу и он сотрет вас с лица земли.
Глава 4. Возвращение
12–13 июля
Оказавшись в Лондоне, первым делом Фаберовский отправился на Стрэнд, 283, где полтора года назад находилось его детективное агентство, порученное им перед самым бегством своему помощнику, частному детективу Батчелору. Но домохозяин сказал, что мистер Батчелор еще полтора года назад закрыл все дела, продал мебель и съехал, но куда именно — неизвестно. Найти следы Батчелора ему не удалось, и он направился в библиотеку Британского музея, где взялся просматривать подшивки газет за конец ноября-декабрь 1888 года, пытаясь найти, не вызвало ли их бегство какой-нибудь интерес в Лондоне.
Никаких намеков на то, что полиция заинтересовалась их исчезновением, он не нашел, зато в «Дейли телеграф» от 20 декабря в отделе объявлений обнаружил следующее:
«Мисс Пенелопа Смит, 9 Эбби-роуд, Сент-Джонс-Вуд, просит всех, кто знает что-либо о шхуне «Флундер» (шкипер Хант) и судьбе пассажиров, известить ее. Вознаграждение 10 фунтов».
В «Морнинг Шиппинг лист», «Шиппинг энд Меркантайл газетт» и в «Фишинг газетт» он нашел сообщения о бесследном исчезновении во время шторма 27 ноября 1888 года в Немецком море нескольких рыболовных судов, в том числе шхуны «Флундер» вместе с капитаном и всей командой.
А это означало, что для Пенелопы и доктора Смита он тоже погиб и давно съеден крабами. Чтобы собраться с духом, к своему бывшему дому на Эбби-роуд он отправился пешком. Фаберовский находился в районе Риджентс-парка, уже стемнело и фонарщики зажигали фонари, когда поляка застигла гроза и хлынул настоящий ливень.
Ветер хлестал струями дождя ему в лицо. Очки поляк снял. Добравшись до Эбби-роуд, Фаберовский остановился у своей калитки, перед которой образовалась большая рыжая от навоза лужа, на поверхности которой вспухали и лопались дождевые пузыри. В окнах дома ярко горел свет, освещая мокрую листву росших в саду каштанов. Даже сквозь плотно закрытые окна на улицу доносились звуки вальса. Черные человеческие тени танцевали на занавесках.
Сзади раздалось приглушенное цоканье копыт и за пеленой дождя в темноте возникли два желтых глаза карбидных фонарей. Поляк отступил в сторону и напротив калитки остановился фаэтон с поднятым верхом, из которого выбралась наружу мужская фигура в резиновом макинтоше и цилиндре, раскрыла зонт и помогла спуститься в лужу второй, на этот раз уже женской, фигуре. Обе фигуры проследовали в дом и по походке Фаберовский узнал в мужчине самого неприятного и настырного жениха Пенелопы, ученика доктора Смита, доктора Энтони Гримбла.
Экипаж развернулся и уехал, а вместо него из дождя вынырнул двухколесный хэнсомский кэб и тоже остановился у калитки. Распахнув дверцы и откинув полость, на мостовую соскочил мужчина в совершенно мокром спереди лейтенантском мундире.
— Эй, ты, — с фамильярностью, показывавшей, что этот офицер, скорее всего, состоит в колониальной службе, окликнул Фаберовского лейтенант. — Что ты здесь околачиваешься?
Фаберовский видел один раз этого лейтенанта в доме у доктора Смита. Звали его Каннингем и тогда он показался поляку вполне приличным человеком.
Поляк шагнул вперед и оказался в свете фонарей. Он хотел сказать: “Я Стивен Фейберовский, хозяин этого дома”, как вдруг вспомнил, что он, возможно, совсем и не хозяин этого дома.
— Я художник, — сказал он, — приехал сегодня утром из Парижа к своему приятелю Джону Макхуэртеру, — поляк показал зонтиком на соседний дом. — Но его почему-то нет.
В доме Макхуэртера тоже горел свет, из раскрытых окон доносились музыка, звон посуды и женские визги, но кэб закрывал от Каннингема этот дом и поэтому лейтенант поверил поляку.
— Так вы, значит, умеете рисовать?! — спросил он. — Вы не баталист? Знавал я одного художника-баталиста. Он неплохо рисовал всякие картинки, пока ему на учениях не оторвало голову.
— Увы, я всего лишь импрессионист, — скромно сказал Фаберовский.
— Это которые изводят краски на всякую мазню? А портрет вы можете нарисовать? Только чтоб было похоже.
Поляк вспомнил якутские художества Артемия Ивановича и, взвесив все, решительно сказал:
— Выйдет лучше оригинала.
— Тогда пойдемте со мной. Вы нарисуете мне сейчас портрет моей невесты.
Лейтенант явно был сильно пьян.
— Но у меня с собой нет ни красок, ни холста.
— Это не страшно, — лейтенант хлопнул поляка по спине. — Гримбл подарил Пенелопе роскошный альбом и акварельные краски, но кроме него самого и нескольких девиц туда никто ничего не записывал и не рисовал, так что там полно места.
Каннингем распахнул калитку и пригласил Фаберовского войти. Поляк перешагнул канаву поперек дорожки, в которой булькала вода, водопадами низвергавшаяся из водосточных желобов, и вступил на знакомое крыльцо. Лейтенант постучал в дверь, она растворилась и на пороге появился рыжий Батчелор, взглянув на пришедших сверху вниз.
— Вот, Батчелор, — сказал Каннингем. — Я привел художника. Он нарисует портрет твоей хозяйки.
Присутствие Батчелора в доме удивило Фаберовского. Ничего не связывало рыжего сыщика ни с Пенелопой, ни с доктором Смитом, и как он оказался здесь, было непонятно.
Батчелор посторонился и Фаберовский прошел в дом. В коридоре, как и в прежние времена, было совершенно темно, но, с грохотом споткнувшись, поляк нащупал обрубок пальмы в кадке, в котором с горечью узнал любимую пальму Артемия Ивановича.
«Где-то сейчас пан Артемий? — подумал поляк и у него защемило в груди от вдруг осознанного им одиночества. — Тоже валяется бесхозный и неприкаянный, как эта пальма?»
На шум из гостиной вышла Пенелопа.
— Что там у вас, Батчелор?
— Пришел лейтенант Каннингем, — сообщил слуга.
Фаберовский стоял перед Пенелопой вымокший, с сюртука и со шляпы стекала на пол вода, в ботинках отвратительно хлюпало.
— Проходите, лейтенант, — сказала Пенелопа, ничем не выдавая, что узнала его. — Мы вас с нетерпением ждем.
Она ушла, а поляк ощутил, что сердце колотится в груди, словно шатун паровой машины. Как он сейчас жалел, что на нем не было очков и он не мог рассмотреть, надето ли все еще на руке Пенелопы кольцо, купленное им когда-то за пять фунтов и подаренное ей в знак их помолвки!
— Что с вами, сэр? — спросил Каннингем.
— Вероятно, я простудился, — сипло ответил Фаберовский. — Я промок под дождем насквозь.
— Пойдите в гардероб, снимите там сюртук. А я пока попрошу Батчелора найти вам что-нибудь переодеться.
Оставшись один, Фаберовский вошел в кладовую, служившую теперь гардеробом, и поразился, какое количество плащей и пальто было навалено кучей на принесенную сюда из столовой кушетку. Уже в коридоре ощущалось, что многое в доме изменилось. Было сильно накурено, чего никогда не случалось, даже когда Артемий Иванович ночами сидел под пальмой. Лестницу, ведущую наверх, украшал ковер. Однако из кухни в кладовую тянулся поразительно знакомый запах: жарили гуся — точно такой же запах всегда наполнял этот дом, когда затевала готовить гуся Розмари, дочь погибшего компаньона Фаберовского, которую он пригрел после смерти ее отца.
Вернулся Батчелор и принес одежду. Когда Фаберовский надел сухую рубашку и свой старый, так давно не ношенный им сюртук, его едва не прошибла слеза. Переложив в карман мокрого сюртука очки, которые он решил не надевать, опасаясь, как бы они не запотели, Фаберовский прошел на кухню. Он собирался повесить там где-нибудь просушить сырую одежду. Батчелор, убедившись, что гость двинулся в правильном направлении, возвратился в гостиную.
Прежде чем войти, Фаберовский заглянул внутрь и удостоверился, что кухарка у плиты одна. Одного взгляда на нее было достаточно поляку, чтобы узнать Розмари. На ней был все тот же белоснежный фартук и платье, которое Фаберовский хорошо помнил, так как оно было подарено Розмари ее отцом незадолго до гибели. Когда поляк уезжал, Розмари выглядела еще совсем ребенком, теперь же она раздалась в бедрах и в груди, но лицо ее осунулось и приобрело болезненный и усталый вид.
— Рози, ты меня не узнаешь? — спросил поляк, воспользовавшись отсутствием посторонних.
— Нет, не узнаю, — ответила Розмари, не оборачиваясь. — Если вы сейчас не уйдете отсюда, так и знайте — я позову мужа.
Фаберовский понял, что уже не один из женихов Пенелопы, отвлекаясь от ухаживания, заглядывал на кухню с игривыми намерениями.
— Уверяю, мне и в голову не приходило к тебе приставать, — сказал он, достал очки и нацепил их на нос. — А так ты меня узнаешь?
Розмари отвлеклась от стряпни и мельком взглянула на поляка:
— Так вы похожи на покойного мистера Фаберовского.
Фаберовский вздохнул и спрятал очки обратно в карман. И тут вдруг большая медная сковорода выпала из рук кухарки и с грохотом ударилась об пол.
Всхлипнув, Розмари кинулась к поляку и спрятала лицо у него на груди.
— Боже, это вы, мистер Фейберовский! — бормотала она, глотая слезы. — Не могу в это поверить!
— Ну, Рози, не разводи сырость, я только что переоделся, — утешал ее поляк, гладя рукой по голове. — И не пересуши гуся.
— Почему вы так поздно приехали? На людях она появляется уже без вашего кольца, хотя дома все еще надевает его. Мне кажется, что хозяйка уже решилась выйти замуж за Каннингема, потому что он неплохой парень и увезет ее из Лондона от всех этих женихов, от ее отца и мачехи.
— Ну, это мы еще посмотрим, — сказал Фаберовский, чувствуя, как все у него внутри закипает от охватившей его ревности.
О, ревность, чудовище с зелеными глазами! Еще на пароходе он воспринимал свою бывшую невесту как что-то совершенно отвлеченное, никак не связанное с его реальной жизнью. Когда он думал о ней, ему становилось странно, что раньше он мог испытывать какие-то чувства к ней и даже ревновать ее к Артемию Ивановичу. И вдруг зеленоглазый монстр ожил и мертвой хваткой вцепился в него, не давая вздохнуть. Прибранный к рукам доктором Смитом дом еще можно было вернуть, но с чего он решил, что Пенелопа будет рада его появлению через полтора года после того, как он так внезапно исчез, подвергнув ее такому позору? Почему он решил, что имеет какие-то права на нее, когда ничем, кроме кольца за пять фунтов, она ему не обязана?
И вот тут Фаберовский почувствовал себя по настоящему скверно. Бешеная ревность к женихам и ненависть к доктору Смиту охватила его, и это как-то отразилось в его лице, так что Розмари испуганно отступила от него на шаг. На грохот сковородки в кухню прибежал Батчелор.
— Джо, это же мистер Фейберовский! — сказала Розмари, поворачивая к мужу счастливое заплаканное лицо.
Когда Фаберовский, оставлявший на полу мокрые следы своих хлюпающих ботинок, с Батчелором появились в гостиной, последнему пришлось опустить взгляд, чтобы не выдать присутствующим своей радости. Он довольно потирал руки и иногда, забывшись, бил кулаком в ладонь.
— Так ты когда-нибудь решишься выйти за кого-нибудь из этих оболтусов замуж? — донесся до поляка знакомый голос доктора Смита, говорившего так громко, что перекрывал шум разговоров и его слышали все находившиеся в гостиной.
— Не знаю отец, ведь у меня уже был жених! — отвечала Пенелопа.
— Твоего жениха давно сожрали рыбы в Немецком море!
— Это вы, отец, своими беспочвенными подозрениями убили его. Это вы безо всяких на то оснований, огульно обвинили Стивена в том, что он Джек Потрошитель. Может, вы и сейчас, после убийств, совершенных настоящим Потрошителем на Пиншин-стрит и на Коммершл-стрит в прошлом году, станете обвинять его в этом?
Фаберовский криво усмехнулся и оглядел гостиную. Все здесь было теперь не так. Паркет был так надраен, что в нем отражалась люстра с пятью газовыми рожками. Всюду в вазах стояли цветы, принесенные, по-видимому, женихами. Стены были оклеены новыми бумажными обоями и завешены разнообразными гобеленами с изображением медвежьей охоты, олеографиями медведей и даже гравюрами Гюстава Дорэ, изображавшими приключения барона Мюнхгаузена в России. Из старой мебели остались только два дивана-честерфилда углом да фортепьяно «Джона Бродвуда и Сыновей», зато гостиную заполнили венские стулья. У окна стоял столик гнутого дерева, на который была водружена аспидистра в глиняном горшке. На полу около камина лежала шкура громадного белого медведя с оскаленной пастью, которая напоминала зевающего Артемия Ивановича. От этого поляк, и без того разозленный видом захваченного дома, совершенно взбесился. Трясущей рукой полез он в карман, нащупывая там очки, чтобы как следует разглядеть присутствующих.
Прямо напротив него, справа от камина, восседал в качалке мрачный доктор Смит с бокалом кларета, не отрывая взора от вина и даже не подняв головы при входе поляка. Доктора мучил страх за свой дом на Харли-стрит, который он вынужден был оставить сегодня вечером ради этого дурацкого сборища.
Накануне комиссар Столичной полиции Бредфорд сообщил особой повесткой всем домохозяевам в Вест-Энде, чтобы в связи с волнениями среди полицейских и возможным отказом констеблей нести ночное дежурство они заблаговременно заперли вечером двери домов для ограждения себя от покушений со стороны воров. Одновременно распространился слух, что правительство для ограждения спокойствия и порядка обратилась к войскам, которые однако, отказались нести полицейскую службу.
Позади аспидистры под боком у доктора Смита сидел на венском стуле Проджер, частный сыщик, которого Смит нанимал для слежки за Фаберовским полтора года назад. Доктор хотел сперва на именно на Проджера возложить охрану дома этим вечером, но потом побоялся, что из-за отсутствия констеблей на улице может подвергнуться нападению уличных грабителей, и взял Проджера с собой.
Эстер, молодая жена доктора Смита, ерзала на вращающемся табурете у пианино, а стоявший у нее за спиной Каннингем изо всех сил фальшивил под ее аккомпанемент. На том месте, где раньше стояла у окна любимая пальма Артемия Ивановича, теперь под аспидистрой сидела в инвалидной коляске старая дама и вместе с пристроившейся рядом на стуле такой же старой мужеподобной леди в сером платье вышивала что-то на пяльцах. Сама Пенелопа стояла по другую сторону от доктора, положив руку на каминную полку. На диване сидела незнакомая Фаберовскому леди, окруженная двумя любезными кавалерами, низколобым джентльменом со сломанным носом и ангелоподобным юношей в светлых кудряшках. Доктор Гримбл, сидевший на втором диване рядом со своей дамой достаточно непривлекательного вида, тем не менее пристально следил за каждым движением Пенелопы.
Прежде чем пройти дальше, Фаберовский попросил Батчелора представить его присутствующим, и Батчелор охотно согласился.
— В инвалидной коляске сидит миссис Триппер, — зашептал он на ухо поляку, — всю свою сознательную жизнь свято оберегавшая свою девичью честь, за что была прозвана поклонниками Гонореей [9]. Она вышла замуж за мистера Триппера совсем недавно, он последний из доживших до настоящего времени ее женихов и уже никак не может покуситься на ее девство. Рядом сидит мисс Гризли, тоже старая дева, не вышедшая замуж по причине благоговейного ужаса, который она вызывала своими размерами и повадками у потенциальных женихов. Она тайно обожает доктора Смита, который когда-то предлагал ей свою руку и которому она тогда отказала. Вон там, у пианино один из женихов мисс Пенелопы, лейтенант Каннингем из 2-го батальона Ирландских королевских стрелков. В прошлом году его батальон перевели из Индии в Египет, а в этом он выслужил отпуск, почему и решил обзавестись семьей.
— Я видел этого лейтенанта на обеде у доктора Смита вместе с его отцом, полковником Каннингемом, полтора года назад.
— Тот курчавый молодой человек с ангельским выражением лица — ординатор лечебницы доктора Пекхема. Он увлекается антропологической системой Бертильона и теорией Ломброзо, и пытается очаровать мисс Пенелопу, предлагая обмерить ее всю с ног до головы, чтобы доказать, что она не относится к прирожденным проституткам, как постоянно твердит доктор Смит. А вон тот низколобый мужчина — третий жених мисс Смит, ее приятель по клубу фехтовальщиков и известный среди любителей спорта боксер. С ним нам придется повозиться.
— А доктор Гримбл, он что, больше не добивается руки Пенелопы? — Фаберовский перевел взгляд на доктора Гримбла.
С тех пор как он видел того в последний раз, Гримбл несколько изменился. В его лице появилась какая-то нервность, но он остался все таким же щеголем, и монокль блестел у него в дергающемся глазу, когда он смотрел на кого-нибудь. Сидевшая рядом с ним худая, костлявая девица со следами оспы на длинном некрасивом лице с глупым видом подтягивала сползавшие нитяные перчатки на своих больших нескладных руках. Жесткие рыжие волосы она завила, но вместо романтических локонов получилось нечто вроде вороньего гнезда или мотка спутанной ржавой колючей проволоки.
— Он явно оказывает знаки внимания той страшной девице, с которой он приехал сюда.
— Это его младшая сестра. Он вывозит ее в свет в надежде выдать замуж. Это довольно трудно, особенно в связи с тем, что она заикается после одного случая, когда еще в детстве он напугал ее, подложив ей в кровать свиные потроха, которые стащил с кухни. Каннингем, как увидел ее, так сразу заорал: «Бомбейский Монстр, Бомбейский Монстр!»
— Странное имя для девушки.
— Она с мамашей ездила на Рождество в Индию искать жениха, там ее так и прозвали — Бомбейский Монстр.
— А это кто такая, между боксером и ординатором?
— Это компаньонка мисс Пенелопы, сэр, по имени Барбара Какссон. Вскоре после вашего отъезда полковник Каннингем рекомендовал мисс Какссон доктору Смиту как отличную гувернантку, сумевшую выдрессировать детей его товарища полковника Маннингема-Буллера, но оставшуюся не у дел после трагической смерти последнего. Доктор Смит приставил ее к своей дочери в обмен на разрешение ей держать при себе в этом доме меня и мою жену Розмари.
— Позвольте представить, леди и джентльмены, — сказал Каннингем, прекращая петь, и Эстер, не отрывая пальцев от клавиш, повернулась на табуретке, чтобы взглянуть на пришедшего. — Модный французский художник, мистер… ээ…
— Ренуар, мсье, — подсказал поляк, выходя на середину гостиной. — Мсье Огюст Ренуар к вашим услугам.
Эстер перестала третировать фортепьяно и в гостиной на мгновение стало тише.
— Ренуар?! — удивилась Пенелопа.
— Так, мадемуазель, меня зовут Огюст Ренуар. И этот достойный джентльмен у пианино попросил меня оказать вам честь написать ваш портрет.
— Да-да, Пенелопа, мистер Ренуяр готов нарисовать ваш портрет и ему нужны только краски и ваш альбом.
— Барбара, — обратилась Пенелопа к мисс Какссон. — Принесите мне из спальни альбом, подаренный доктором Гримблом.
Компаньонка поднялась с дивана и удалилась, а Фаберовский решительно прошел к камину и сел на череп медведя.
— Батчелор, что вы встали как вкопанный, принесите нам промочить горло.
И тут по тому, как сжались ее губы, как жалобно хрустнул китайский веер у нее в руке, Фаберовский ощутил, в каком напряжениии находится Пенелопа. Девушка не только узнала поляка, она была потрясена этим и в первое мгновение все ее усилия были направлены на то, чтобы не выдать своих чувств. Уже потом ее охватила паника, она не знала, как ей поступать и c какими намерениями вернулся с того света ее жених.
Упавшим голосом Пенелопа попросила Каннингема проводить ее к дивану и села между боксером и кудрявым антропологом.
Поляк знал, что сейчас за ними пристально наблюдает, по крайней мере, половина присутствующих, как и Пенелопа, узнавших его и гадающих, что теперь будет. Все эти люди дорого бы дали, чтобы он и в самом деле умер. Но тут в гостиную вошел Батчелор с подносом в руках, на котором стояли, позванивая друг о друга хрустальными боками, бокалы с кларетом. Каннингем взял один, и поляк немедля последовал его примеру. Ощутив на губах терпковатый вкус вина, Фаберовский подумал, что надо будет попросить Батчелора принести ему еще. Для куражу.
— Леди и джентльмены! — обратился ко всем лейтенант, поднимая свой бокал. — Выпьем за великую силу искусства. За все время, что я знаю мисс Пенелопу, еще никто не сумел рассердить ее по-настоящему. А теперь танцы!
Эстер освободила место у «Бродвуда» мисс Какссон, которая считалась мастером по части выколачивания танцевальных мелодий из этого несчастного расстроенного инструмента. Пробежав пальцами по клавишам, компаньонка с воодушевлением заиграла. Звуки «Конькобежцев» Вальдтейфеля заполнили гостиную, Фаберовский взял у Батчелора последний оставшийся на подносе бокал и сел на диван.
— Мисс Пенелопа, разрешить пригласить вас на танец, — сказал Каннингем, подходя к девушке и склоняя перед ней голову.
— Нет, лейтенант, — ответила та, искоса взглянув на сидевшего в двух шагах от нее поляка. — В следующий раз. Сейчас мне хотелось бы посидеть.
Каннингем еще раз кивнул и предложил танец Эстер. Та не стала артачиться.
Покрутив головой во все стороны и поняв, что его сестру опять никто не желает приглашать, доктор Гримбл взял на себя эту нелегкую обязанность и вместе с ней вышел в центр гостиной, чтобы присоединится в вальсе к лейтенанту, танцующему с женой доктора Смита.
— Мисс Пенелопа, — сказал ординатор лечебницы доктора Пекхема. — Взгляните на этого Ренуара повнимательней. Совокупность признаков данного индивидуума изобличает в нем натуру грубую и невоспитанную, склонную к эпатажу и разного рода выходкам. Посмотрите: он сутул, хотя и пытается это скрыть, у него глубоко сидящие глаза, все строение его скелета выдает в нем возможного преступника…
— Вот вы и ошибаетесь, — бросила на ходу Эстер, которую Каннингем вел в это время в вальсе мимо сидевших на диване. — Я сейчас как раз изучаю лепку в Национальной Школе Обучения Искусствам в Южном Кенсингтоне, мы лепим живые модели. Мистер Лантери по договоренности с полицией берет натурщиков среди арестованных бродяг и среди обитателей работного дома на Марлиз-роуд, это дешевле. Вот где настоящие злодеи! Настоящие Квазимодо, когда с них снимают все их тряпье! Кто их только рожает! Наверное, какие-нибудь гулящие девки.
Она не успела больше ничего сказать, потому что Каннингем увлек свою партнершу в другой конец гостиной.
— Это правда, что если обмерить проститутку согласно системе Бертильона, то размеры ее тела будут отличатся от таких же размеров у обычных женщин? — поинтересовался у поклонника Бертильона и Ломброзо поляк, воспользовавшись темой, предложенной миссис Смит.
— Обмерить в каком месте? — переспросил боксер.
Танец закончился и кавалеры вернули своих дам на диваны. Дамы тяжело дышали, они раскраснелись и обмахивались веерами. Фаберовский наклонился к уху боксера и что-то прошептал, не обращая внимания на задохнувшуюся от негодования Пенелопу.
— Ага, — сказал боксер удовлетворенно. — Я так и думал. Сколько я знал в своей жизни проституток, все они имели очень большие…
— Боже! — закрыла лицо руками Эстер.
— Ну, хватит! — воскликнула Пенелопа, краснея.
— Но дорогая мисс Пенелопа, я кажется не позволил себе ничего такого, — стал оправдываться боксер. — Я только говорил, что у гулящих женщин всегда очень большие мочки ушей.
— Неужели вы думаете, что я могу отдать свою руку человеку, который ссылается на свой большой опыт в общении с известного рода особами?
Фаберовский понял, что боксер выведен из игры, и переключил внимание на кудрявого антрополога.
— Нет, нет, вы все напутали, мистер Ренуар, — сказал тот. — Теорию о проститутках развил не мистер Бертильон, а мистер Ломброзо. Он говорил о так называемых антропологических стигматах, признаках, позволяющих отличить преступника от обычного человека.
— Неужели вы тот самый Огюст Ренуар, про которого нам прожужжал все уши мистер Лантери? — растерянно спросила Эстер. — Я представляла вас совсем другим. Не таким диким, что ли.
— Мы, художники, всегда дикие. В этом мы похожи на русских и поляков. Женщинам это должно нравиться.
— А что вы можете сказать о мистере Ренуаре, исходя из положений теории Ломброзо? — спросила Пенелопа, с гневом глядя на Фейберовского.
— Видите ли, мисс Пенелопа, наблюдая и измеряя различные особенности преступников, такие как размер и форму черепа, мозг, уши, нос, цвет волос, почерк и чувствительность кожи, татуировки и психические свойства, профессор Ломброзо пришел к выводу, что в преступном человеке живут, в силу закона о наследственности, психофизические особенности отдельных предков.
— У меня есть татуировка на заднице, — сказал боксер, хотя от него уже ничего не требовали.
— Покажите ее мне! — загорелся антрополог. — Я проводил собственные исследования в Лондонском госпитале, выводя коэффициент отношения и расстояния от … до … у проституток Восточного Лондона, и вывел, что такой коэффициент отличен от тех, что мне удалось получить в борделях Западного Лондона.
— При чем тут моя татуировка! — возмутился боксер. — И расстояние у шлюх от … до …
Тут боксер сказал такое, что даже Фаберовский смутился. Эстер нервно затеребила оборки своего платья.
В гостиной воцарилась тишина, было слышно, как жужжит муха в столовой и доктор Смит, глядя на Фаберовского, бормочет под нос: «Лучше я сдохну, чем допущу это!» Потом лейтенант Каннингем рассмеялся:
— Бог мой, вы не служили случаем в Индии? Ваша речь так напоминает мне полковые офицерские вечера у нас в бунгало, который мы снимали на шестерых! Давайте еще станцуем!
— Мне так нравится этот лейтенант, — сказала миссис Триппер своей подруге. — Он напоминает мне моего мужа в молодости, когда я с ним еще не познакомилась. Ему было тогда всего пятьдесят лет и он командовал похоронной командой в Бирме…
Какссон заиграла следующий вальс, но даже он не смог заглушить слов, которые сказал сам себе доктор Смит:
— Нет! Вы видели где-нибудь еще такое хамство? Мало им, что воры того и гляди ограбят мой личный дом, так еще разные покойники хотят меня лишить этих владений!
Пенелопа резко встала и подошла к Каннингему.
— Лейтенант, может, вы пригласите меня?
— С удовольствием.
Какссон еще громче заиграла и Каннингем закружил Пенелопу. У Какссон действительно неплохо получались вальсы, и даже Проджер рискнул выйти из своего укрытия за аспидистрой и пригласить на вальс Эстер.
— А почему вы, милочка, не идете танцевать? — спросила старая Триппер у своей приятельницы, стоявшей позади ее коляски.
— Танцевать? — воскликнула Гризли. — С этими молодыми нахалами, для которых девичья честь и скромность — пустой звук? Если бы я и пошла с кем-нибудь тут танцевать, то только с доктором Смитом. Я не постеснялась бы даже его жены, которая готова танцевать с любым, кто только пригласит ее, как какая-нибудь гулящая и распутная женщина!
Сгорая от ревности, Фаберовский последил несколько минут за Пенелопой, кружившейся в вальсе с лейтенантом, затем решительно пересел на диван рядом с Гримблом.
— Скажите, мистер э-э-э…
— Доктор Энтони Гримбл, к вашим услугам, — презрительно ответил Гримбл.
— Доктор Гримбл, а вы разбираетесь в искусстве?
— Нет, б-б-брат не разб-б-бирается, — сказала, отчаянно борясь с заиканием, сестра Гримбла. — А я очень п-п-почитаю х-ху-ху-ху…
Больше всего Гримбла раздражало в сестре то, что когда она с умным видом начинала что-то говорить, все вокруг замолкали, чтобы посмотреть, справится ли она с заиканием, дабы произвести на свет очередную глупость.
— …Ху-ху-художников. Artes molliunt mores — искусства смягчают нравы. — Сестра торопилась высказать все, что она заучила из сборника «Изречений и афоризмов на все случаи жизни для маленьких леди и джентльменов», зная, что брат не даст ей долго разглагольствовать. — Искусство наведения ск-к-куки — это желание ск-к-казать все. Искусство т-требует жертв. П-п-п-п-п-п-пролетарии всех стран — соединяйтесь.
Брови Фаберовского удивленно взлетели вверх.
— Искусство — это п-п-поиск б-б-б-б-бб-бесполезного, — поправилась Клара.
— Я тоже считаю, что искусство хорошо для бездельников, — подхватил Гримбл. — А когда человеку приходиться в поте лица трудиться, чтобы обеспечить семье приличное существование, ему некогда интересоваться всякой мазней. Даже в служителе морга, который гримирует трупы, прежде чем уложить в гроб, больше толку, чем от Макхуэртера.
— Но Энтони, ху-ху-ху-художники служат возвышенным д-д-добродетелям!
— Художники, Клара, прикрываются высокопарными фразами, а сами служат откровенному разврату. Они под любым предлогом норовят раздеть женщину, чтобы поглазеть на нее, а потом нарисуют какую-нибудь мазню и вроде дело шито-крыто.
— Вы, доктора, даете нам в этом фору, — заметил Фаберовский.
— Да много ли вы знаете о докторах! — взвизгнул доктор Гримбл. — Чтобы пощадить скромность порядочных женщин, мы вынуждены осматривать их в темноте и отвернувшись.
— Представляю, что вы там вытворяете в темноте. Мы, художники, по крайней мере делаем это открыто.
— А я х-х-хочу выйти замуж за х-х-художника! — вмешалась сестра Гримбла и с вожделением воззрилась на поляка.
— Вам не нужна жена, мистер Ренуар? — издевательски спросил у Фаберовского Гримбл. — При нынешней распущенности среди молодежи она девственница, могу вам это гарантировать как врач.
— Это и так видно. И давно она девственница? Я хотел сказать, давно ли вы выдаете ее замуж? За себя я ее не возьму, но по сходной цене мог бы написать ее портрет и вы рассылали бы его потенциальным женихам.
— В г-г-голом виде? — испугалась мисс Гримбл.
— Заткнись, Клара! Я готов прямо тут, публично раздеть тебя, если бы был уверен, что кто-нибудь позарится.
— Энтони, ч-ч-что т-ты т-т-такое г-г-говоришь!
— Я говорю, что потратил на то, чтобы сплавить тебя с рук, столько денег, сколько не стоит все твое приданое!
— А что, велико ли приданое? — опять спросил Фаберовский.
— Да какое там приданое! Было бы приданое, я бы давно ее выдал замуж! Один раз мне удалось подцепить для нее мелкого банковского клерка, которому нечем было оплатить за лечение. Я поил его джином целый месяц, мне даже пришлось занимать денег у доктора Смита, прежде чем я сумел уговорить его взять Клару замуж. Но не мог же я допустить, чтобы жених пьяным, как лорд предстал перед алтарем. Он протрезвел и сбежал прямо из-под венца.
— Какой негодяй!
— Д-да, он д-д-даже не сказал мне ни одного с-слова любви!
— Дура! Дура! Дура! Дура! — замахал руками Гримбл. — Когда ты перестанешь меня позорить! Я стараюсь, ищу для себя женихов, а они бегут из-под венца, как крысы с тонущего корабля! И ты пальцем не шелохнешь, чтобы удержать их! Стоит тебе открыть рот, и все мои труды пропадают прахом!
Танцующие остановились, а Гримбл продолжал кричать, тыча пальцем в Пенелопу:
— Что за время такое ужасное, в котором мы живем! Сперва какой-нибудь негодяй едва не доводит девушку до постели, затем скрывается, пока все ждут его в церкви, а потом униженным родственникам приходится устраивать ей собачьи свадьбы, на которых порядочным людям всучивают испорченный товар, утверждая, будто это лучшая и самая порядочная невеста в Лондоне!
Доктор Гримбл умолк и обнаружил, что указывает рукой прямо на хозяйку, которая, не снимая правой руки с плеча лейтенанта, стояла посреди гостиной и смотрела на Гримбла.
— Прошу прощения, Пенни, я вовсе не намекал на вас, — сказала он тоном ниже.
— Вы прямо указывали на меня пальцем, Гримбл, — ледяным тоном ответила Пенелопа. — Какие уж тут намеки!
— Послушайте, Ренуяр, может быть вы все-таки нарисуете портрет мисс Пенелопы? — окликнул Фаберовского Каннингем. — Ну, пусть она будет хотя бы в одетом виде. Какая в сущности разница? Тот, кому она достанется, будет рассматривать остальное потом до самой своей смерти, до омерзения, можно сказать.
— Так-так, конечно, — Фаберовский поднялся с дивана и подошел к лейтенанту.
— Может быть, хватит?! — с вызовом спросила Пенелопа у поляка.
— Как вам будет угодно, мадемуазель, — склонился перед ней Фаберовский.
В гостиную опять вошел Батчелор с подносом, неся для мужчин бокалы с вином, а для дам меренги в виде небольших колечек, на которые сверху были поставлены шарики мороженого. В столовой загремела тарелками Розмари, накрывая стол для обеда. Словно откликаясь на этот шум, гости оживленно завозили носами, втягивая донесшийся из столовой запах гуся.
— Вы знаете, Ренуяр, бедняга Гримбл кое в чем прав, — сказал Каннингем, убедившись, что Пенелопа отошла достаточно далеко, и потер нос, в котором щекотало от вкусного аромата. — Реноме мисс Смит действительно несколько подмочено. С ней случилось именно то, что он сказал. У ней завелся женишок, какой-то поляк с сомнительной репутацией. Я видел его однажды на обеде у доктора Смита, неплохой парень, но он связался с каким-то русским, из-за которого, говорят, у него возникли неприятности с полицией и ему пришлось сбежать накануне венчания. Вон там, видите, веснушчатый медноволосый валлиец. Это частный детектив Мелвин Проджер. По просьбе доктора Смита он следил одно время за женишком, а потом установил, что тот утонул в Канале на «Флундере». Кстати, ходили слухи, что русский, о котором я упоминал, подпортил и невесту, но точно это сможет подтвердить или опровергнуть только тот, кто на мисс Пенелопе женится. А еще из-за этого русского тронулась умом жена доктора Смита. Это она завесила этот дом картинками с медведями.
— Если мисс Пенелопа такой порченый товар, почему же вы оказались среди ее женихов? — мрачно спросил Фаберовский.
— Я уехал из Индии, как у нас говорили, «пустым», то есть без жены. Хотя перед рождеством в Бомбее каждый год высаживался целый «рыболовный флот» из девушек и их компаньонок, ищущих себе женихов, но всем им нужны были лишь «черные сердца», богатые холостяки из старших офицеров. Пенелопа же девушка состоятельная, и довольна красива. А что касается ее прошлого, то мы с ней скоро уедем в Египет, в Каир, где никто не будет знать об этом. Мне пошла бы даже сестра Гримбла, хотя Сфинкс в Гизе с отбитым мамелюкскими ядрами носом кажется симпатичней ее. Но Сфинкс спит сам по себе, а мне пришлось бы спать вместе с ней. Вы знаете, вода в Ниле очень илистая и феллахи, чтобы сделать ее прозрачной, намазывают кувшины изнутри особой графитной пастой, которая осаждает ил. Если сравнить «Бомбейского монстра» с нильской водой, доктору Гримблу придется дать ей в приданое слишком много такой пасты.
— Я узнал вас, мистер Фейберовский, — вдруг громко сказал Проджер, только что проводивший после танца на место свою даму. — Как только вы вошли. Если вы хотели сохранить свое инкогнито, вам надо было лучше гримироваться. Леди и джентльмены, хочу вам представить: мистер Фейберовский.
— Да что же за дьявол наслал на нас такую порчу! — гневно взревел доктор Гримбл, вскакивая с дивана, и монокль выпал у него из глаза, закачавшись на шнурке около причинного места. — Убирайся, пока тебя не выкинули отсюда силой, польский ублюдок! — и, подойдя к поляку, Гримбл грубо толкнул Фаберовского в грудь.
— Вы слишком несдержанны на язык, доктор Гримбл, — заметил стоявший рядом с Фаберовским лейтенант Каннингем. — У нас в Индии за такие слова вас бы просто убили. На вашем месте я бы постеснялся выражаться так хотя бы при дамах.
— Вы, доктор Гримбл, настоящий хам! — поддержала его Эстер.
— Ой, как я люблю, когда мужчины дерутся! — воскликнула миссис Триппер, обращаясь к мисс Гризли. — Милая, там у меня сзади в сумочке лежит лорнет!
— Гримбл, оставьте этого человека в покое, он вам не мешает! — возмущенно воскликнула Эстер, когда доктор очередной раз толкнул поляка.
— Проджер, я не нанимал на этот вечер констебля, понадеявшись на вас, — подал голос доктор Смит. — Выкиньте этого самозванца, иначе я сойду с ума. Я не хочу отдавать ему дом.
— Сколько раз из-за меня выходили на дуэль прекрасные молодые люди, — сказала миссис Триппер, прикладывая к глазу старинный лорнет, — заступаясь за мою девичью честь.
— Я всегда сама защищала свою честь, — сказала мисс Гризли, продемонстрировав подруге увесистый морщинистый кулак. — И не поручала это посторонним мужчинам.
Поляку надоели толчки Гримбла и он в свою очередь тоже толкнул доктора в грудь ладонью.
— Лейтенант, они же сейчас будут драться! — испугалась Эстер. — Сделайте что-нибудь!
Миссис Триппер потребовала, чтобы ее коляску подкатили поближе к рингу. Влекомая мощной рукою мисс Гризли, она тотчас была доставлена прямо к месту будущего сражения. Лейтенант Каннингем встал между Фаберовским и Гримблом и сказал:
— Не дело вы затеяли, джентльмены. Если у вас чешутся кулаки, выйдите на улицу. Мистер Ренуяр, не устраивайте тут драки, я не для этого вас приглашал.
— Послушайте, Каннингем. — Фаберовский постучал лейтенанта костяшкой пальца по лбу. — Я такой же Ренуар, как вы — писсуар.
— Во, черт побери! — восхитился Каннингем, оглядывая всех кругом. — Мне кажется, мы с вами сможем поладить, мистер Не-знаю-как-вас-там. Вы самый остроумный человек из всех, что мне встретились пока в Лондоне.
— Если моя плоская шутка пришлась вам так по душе, лейтенант, то вы, вероятно, общались только с доктором Смитом и присутствующими здесь женихами.
— Но нет, почему же! — возразил Каннингем. — Я еще целую неделю по приезде не вылезал из борделя.
При этом он галантно поклонился Пенелопе. Пенелопа в ярости выхватила из вазы на каминной полке букет роз и хлестнула им молодого офицера по лицу.
— Ну вот, теперь у нас началось настоящее веселье! — радостно закричал Каннингем, вытирая платком исцарапанное шипами лицо. — Давайте еще раз спляшем и поедем гулять!
— Ну что, Пенни, доигралась в любовь? Ты такая же шлюха, как и твоя мать, и твоя мачеха! — доктор Смит ткнул пальцем в сторону своей жены. — Да, не смотри на меня так, имущество твоего бывшего жениха по закону принадлежит мне, и я желаю проживать здесь один! Не могу больше терпеть рядом твою сумасшедшую мачеху, каждый день упивающуюся пуще всякого пьяницы хлоридином [10] якобы для облегчения болей или вызывания сна, и устраивающую здесь на стенах иконостасы из дешевых картинок с медведями!
Эстер побагровела от стыда и негодования, так что стоявший рядом лейтенант Каннингем отодвинулся подальше к камину, чтобы о нем не подумали ничего плохого.
— Вы знаете, доктор Смит, — прервал он разошедшегося доктора, — хотя я даже написал о своем сватовстве отцу в Нубию, но при таких обстоятельствах женитесь-ка сами на своей дочери.
— Какой вопрос! — воскликнул Гримбл. — Вопроса не существует. Пенелопа выйдет замуж за меня.
— Сейчас я раскровеню вам лицо, Ренуар! — с внезапной горячностью воскликнул боксер, подскакивая на диване и вставая в стойку.
— Милочка, — донесся из инвалидной коляски голос миссис Триппер. — Подвезите меня поближе, они опять собираются драться.
— Должен сказать вам, доктор Смит, — блеющим голосом произнес с дивана курчавый приверженец системы Бертильона. — Я более чем уверен, что если обмерить члены тел всех членов вашего семейства, можно будет вывести закономерность о наследственной порочности, присущей всем вам.
— Вон! — заверещал доктор Смит, указывая жениху на дверь.
— Мне хотелось бы прекратить эту комедию, — возвысил голос Фаберовский, перекрыв все другие голоса в гостиной. Он пристроил на привычное место очки и взял из камина кочергу. — Разве мистер Проджер невнятно объяснил вам, что я — мистер Фаберовский? Значит, этот дом мой и только я имею право распоряжаться здесь.
— Боже мой, какой пассаж! Так вы не Ренуяр! — нарушил тишину лейтенант. — Ужас-то какой! Я так много слышал о вас, мистер Фейберовский, и об убийствах, которые вы совершали в Уайтчепле! Ума не приложу, как вас могли принять за покойника! От вас, конечно, воняет, но значительно сильнее, чем от трупа, и совсем не так. Рад был познакомится.
— Мне тоже приятно познакомится с вами, лейтенант. У вас так здорово получалось расстреливать сипаев.
— В пятьдесят восьмом я еще срал в пеленки, когда наши подавили Большой бунт сипаев!
— А я колол дрова в Сибири, когда Потрошитель продолжал резать женщин в Уайтчепле!
Внезапно доктор Гримбл издал нечеловеческий крик и бросился на Фаберовского с кулаками. Не дожидаясь сигнала поляка, Батчелор отшвырнул поднос, с криком «Ура!!!» перехватил доктора, вцепившись своей рыжей громадной лапой в штаны и, подняв, швырнул его в окно над головой мисс Триппер. Доктор Гримбл в водопаде разбившегося стекла рухнул на запущенную цветочную клумбу. Фаберовский тут же двинул в ухо Проджеру. Батчелор немедленно двинул валлийцу в другое и тот как срезанный сноп повалился на пол.
Перед Батчелором в классической стойке, выставив плечо вперед и наклонив низколобую голову, возник боксер. В своем кругу он считался совсем неплохим спортсменом и Батчелору, возможно, пришлось бы туго, но Фаберовский совсем неджентльменским приемом ударил боксера по голове кочергой, вызвав звук, похожий на звон пожарного била.
— Мне пора пить слабительное, — сказал доктор Смит, машинально достав из жилетки часы. Тут уж Батчелор не упустил открывшейся возможности и сжал боксера сзади с такой силой, что кости у того жалобно захрустели. Донеся боксера до двери, Батчелор, не разжимая объятий, стукнул его пару раз головой о косяк и выкинул на улицу.
— Кто бы мог подумать, что за внешностью французского художника скрывается такой замечательный экземпляр… — приближение Фаберовского заставило курчавого любителя антропологии умолкнуть и поспешно ретироваться следом за двумя первыми женихами, не дожидаясь насильственного выдворения.
— А теперь, дорогие гости! — Фаберовский громко хлопнул в ладоши. — Все в экипажи! Так-так, и вы, на колясочке, тоже!
— Да как вы смеете говорить мне такое в доме доктора Смита! — возмутилась миссис Триппер.
— Зашей свою дырку нитками, старая калоша! — оборвал ее Батчелор, выкатывая инвалидную коляску прочь из гостиной.
— Лейтенант Каннингем, вы не останетесь с нами, чтобы отпраздновать мое возвращение? — спросил Фаберовский у лейтенанта, уже собравшегося уходить.
— С удовольствием.
— А вас, доктор Смит, попрошу навсегда покинуть этот дом.
Доктор Смит наконец пришел в себя, глаза его засверкали и расслабленное состояние кончилось. Он снова обрел цель в жизни.
— Я еще вернусь, мистер Фейберовский, и тогда вы пожалеете об этом.
— Мы с Пенелопой не смели и надеяться снова увидеть вас, — сказала Эстер, когда ее муж ушел.
И тут Пенелопа, повалившись на диван, разрыдалась в голос. Барбара Какссон бросилась к ней с утешениями, а лейтенант недоуменно переминался рядом, не зная, чего ему делать.
— Я тоже не надеялся вернуться, — сказал Фаберовский, отворачиваясь к камину, чтобы не глядеть на рыдающую Пенелопу.
— Но коль уж одно чудо произошло, может быть вы переведете мне послание мистера Гурина, которое я получила перед тем, как вы оба так внезапно исчезли?
Эстер достала из-за корсета аккуратно сложенный и перевязанный розовой ленточкой гостиничный счет, на обратной стороне которого поляк прочел следующее:
«Дорогая Асенька!
Покидая Аглицкия пределы, сохраняю в своей душе живопробужденный и незатухлый огонь возвышенной страсти, возбужденной незабвенной рукою прекрасной особы, память о каковой сохраню вечно и непременно прибуду!
Твой вечно Артемий Гурин.»
Слеза навернулась на глаза Фаберовскому. Он уже отвык от того, что Артемия Ивановича Владимирова здесь, в Англии, звали Гуриным, но от этого письма на него вдруг повеяло чем-то родным и близким.
— Что там написано? — спросила Эстер, замирая.
— Обещает прибыть.
— Так он жив?!
— Еще как! Только о встрече с вами и грезит! — сказал Фаберовский и заглянул в столовую.
Здесь в углу на стуле сидела, опустив руки, Розмари, и печально глядела на накрытый стол, ломившийся от блюд, к которым даже никто не притронулся. Поляк улыбнулся ей и, отломив корочку хлеба, отправил ее в рот.
— Скажите, Эстер, — обратился он к миссис Смит, заметив, что она проследовала за ним, — а что сталось с моими часами? В них еще заедала кукушка.
— Их уничтожил мой муж. Он сказал, что они слишком напоминают ему моего милого Гурина.
— Чем же именно мои часы напоминали ему Гурина? Гирями, которые он из них выдрал, кукушкой, которая стала от этого заедать или крышей, которая едва держится?
— Да, Гурин был сильным мужчиной, — подтвердила Эстер. — Как медведь.
— А куда делась моя мебель?
— Разве можно, Стивен, жить в окружении такого старья, словно в антикварной лавке?! Мы с доктором Смитом купили Пенелопе новую, модную мебель, чтобы ей не стыдно было принимать у себя гостей. А старую мы велели Батчелору и Розмари отнести в бывший ваш кабинет, пока не придет оценщик. Мебель не бог весть какая и много за нее старьевщики не дадут, но за эти деньги можно будет заменить диваны в гостиной. Да еще эти книги, от них столько пыли…
— В кабинет, говорите? А что вы еще отнесли ко мне в кабинет?
— Доктор Смит велел стащить туда всю рухлядь, которая напоминала о вас, все эти старые картины, никому не нужные книги и фотографии.
Фаберовский отстранил Эстер с прохода, вошел в гостиную и по винтовой лестнице поднялся к себе в кабинет. Кабинет напомнил ему чердак какого-нибудь старинного особняка, где столетиями скапливался всякий ненужный хлам. Все, что находилось там, было покрыто толстым серым покрывалом пыли. Он подошел к столу и, смахнув с него рукавом пыль, взял вынутый из рамки фотопортрет своего отца.
— А где рамка отсюда? — крикнул он показавшейся из лестничного проема над полом голове Эстер.
— А, это… — Эстер небрежно махнула рукой. — Пойдемте ко мне в спальню, я вам покажу. Нет-нет, через дверь вы не пройдете, она закрыта снаружи, потому что сюда никто не ходит.
Фаберовскому пришлось опять спуститься по винтовой лестнице в гостиную, где на диване обессилено всхлипывала Пенелопа, и подняться на второй этаж уже по парадной лестнице.
— Я сделала из этой рамки премилую вещицу, — сказала Эстер, открывая дверь в одну из спален.
Царственным жестом она пригласила поляка и указала ему на туалетный столик, где рядом с огромным медным самоваром стояла фотография Артемия Ивановича на фоне знакомого уже Фаберовскому готического вокзала в Новом Петергофе. Верхний уголок фотографии, вставленной в рамку из-под портрета Фаберовского-старшего, был повязан черной траурной ленточкой.
— Мой милый жив, мой милый жив, — пропела Эстер, пританцовывая, подбежала к фотографии и, оставив на стекле мокрый отпечаток своих губ, сняла ленточку. Она протянула портрет поляку и очень удивилась, что тот не поцеловал фотографию, как она ожидала. Вместо этого Фаберовский освободил рамку от ее содержимого, и бросив карточку на пол, повернулся и ушел открывать кабинет.
— Но постойте, что вы делаете! — закричала Эстер, бросаясь за ним следом.
— Начинаю очищать свой дом от вашего дерьма.
Эстер замерла, хватая ртом воздух и не могла произнести ни слова в ответ. Фаберовский ногой вышиб замок в двери кабинета и исчез за нею.
— Пенни! — взвыла Эстер так, словно ей только что из-за портьеры явилось привидение, и бросилась вниз в гостиную. — Пенни, он хочет все выбросить! Все, все, что я с таким трудом выбрала и уговорила доктора Смита купить для тебя, он хочет выбросить! И аспидистры, и венские стулья, и все эти произведения искусств! Я не удивлюсь даже, если он начнет срывать мои чудные обои со стен!
— Что ты голосишь, Эсси, — оборвала ее уже пришедшая в себя Пенелопа. — Ты застраховала все в русском страховом обществе «Якорь». Они возместят тебе весь ущерб.
— Вместо того, чтобы поддержать меня, ты еще и издеваешься! Они не возмещают ущерб от вернувшихся покойников! Ты, наверное, сама готова выкинуть все, что с таким трудом я собрала здесь за эти два года! А все потому, что ты никогда не любила Гурина! Ты всегда ненавидела его! Потому что он побрезговал тобой тогда в Гайд-парке!
И Эстер, бросившись лицом на соседний диван, в голос зарыдала.
— Барбара, дайте миссис Смит воды, — сказала Пенелопа, вставая и оправляя на себе платье.
— Пойдите, сполосните лицо под холодной водой, Пенелопа, — посоветовал ей Фаберовский, спустившийся вниз, чтобы взглянуть, что происходит между его бывшей невестой и ее мачехой. — В конце концов, Розмари приготовила отличнейшего гуся, и мы многое потеряем в этой жизни, если он остынет. Батчелор, присоединяйся к нам, потом нам с тобой предстоит перетащить всю мою мебель из кабинета на свои места.
— Только не шкуру! — мгновенно перестав рыдать, выкрикнула Эстер. — Она напоминает мне о милом Гурине!
— Купите лучше себе живого медведя, — сказал поляк и вошел в столовую.
Здесь еще пахло прежними гостями и он распахнул дверь на выходившую в сад террасу, откуда в столовую ворвался свежий после дождя воздух. Он вышел на террасу, посмотрел в сторону соседнего дома и остолбенел. За обрушившимся забором, отгораживавшим прежде его сад от соседнего, не было ничего. Не веря своим глазам, он спустился в сад и подошел к стене. Действительно, вместо соседского дома, который он так привык видеть из окон столовой, в земле зияла огромная черная яма.
— Этот дом взорвался вскоре после твоего отъезда, Стивен, — раздался с террасы голос Пенелопы.
Фаберовский вспомнил, что, убегая на континент, они в спешке зарыли в соседском саду чемодан с динамитом, которым Ландезен пытался взорвать их накануне.
— После твоего отъезда, Стивен, этот дом разлетелся в щепки, как и моя жизнь.
— Конечно, я выродок и сатана, — не сдержался Фаберовский. — А вы, мисс Пенелопа, святая, как ангел. Он не видел лица Пенелопы, которая лишь темным силуэтом выделялась на фоне ярко освещенного окна в столовой, но почувствовал, что его слова задели девушку.
— Но коли вам так хочется, я уйду, и пропадите вы все пропадом! Только не забудьте, мисс Смит, что вы должны мне десять фунтов за сообщенные сведения о вашем женихе.
— Оставайтесь у себя дома, мистер Фейберовский, я еду следом за отцом, — ледяным тоном, в котором чувствовалось даже какая-то ирония, сказал Пенелопа. — Барбара, возьмите у меня в спальне мою сумочку. Лейтенант, вы проводите меня?
Девушка покинула террасу и когда поляк вернулся из сада в дом, то услышал, как в коридоре Каннингем говорит ей что-то, помогая одеться.
— И не забудьте забрать с собой эту свихнувшуюся стерву вместе с ее медведями! — в остервенении крикнул Фаберовский им вослед.
Глава 5. 14–15 июля
Квартира заведующего Заграничной агентурой Петра Ивановича Рачковского сильно изменилась. В столовой появилась горка с дорогим фарфором, булевское бюро и в кабинете — золотой письменный прибор, заменивший обычную бронзовую чернильницу. Но все так же окна были зашторены тяжелыми, почти непроницаемыми для света занавесками. Из-за этих штор в квартире постоянно царил полумрак, в котором ярким пятном светилась лампада у католического распятия на стене, отражавшаяся в стекле, прикрывающем портрет французского президента Лубэ с дарственной надписью. У Рачковского с женой даже появилась горничная-француженка, которая стойко сносила как приставания Петра Ивановича, так и постоянно горевшие у нее на лице следы от когтей его супруги.
Рачковский стал другим человеком. Он исподволь трудился, пытаясь завоевать доверие императора Александра III, завести связи при дворе и стать влиятельным человеком в отношениях между Францией и Россией. И это ему, наконец, стало удаваться. Но вдруг все, чего он добился, оказалось под угрозой и могло рухнуть, как карточный домик. Дурацкая история, безумный план, который он затеял два года назад и который так бесславно провалился. Несмотря на истерию вокруг убийств, совершенных Джеком Потрошителем, ни один русский нигилист так и не был выслан из Лондона, Джеймс Монро, назначенный комиссаром Столичной полиции не без помощи русских, недавно отправлен в отставку, и вообще эта история не принесла совершенно никаких дивидендов. Он уже стал забывать о ней, как забывается утром дурной сон, когда давно прошедший кошмар сам напомнил о себе.
Рачковский подошел к окну и слегка отдернул тяжелую штору, так, чтобы дневной свет падал на телеграмму, которую он держал в руках.
— Послушайте, господа, — сказал он двум своим гостям, — что я сейчас вам прочитаю.
Гостями были двое сотрудников Заграничной агентуры, оба из наружного наблюдения. Один, бывший околоточный, чухонец Продеус, был настоящим русским богатырем: косая сажень в плечах, огромные кулаки и голова с оттопыренными ушами, которые делали ее похожей на медный пивной котел с двумя ручками. Второй казался полной противоположностью ему. Это был Анри Бинт, француз, один из старейших агентов, завербованный еще во времена Святой Дружины, сразу после убийства Александра II в марте 1881 года. Он был невысок, плотен и необычайно экспансивен, каким бывают только маленькие толстячки. Холеные полные руки и напомаженные усы, за которыми он тщательно ухаживал, показывали, что Бинт очень любил себя.
— Эту телеграмму я получил от Аркадия Гартинга, — сказал Рачковский. — Так теперь называется наш Ландезен. Он устроился в Бельгии и сменил фамилию. Так вот, Гартинг пишет: «На пароме встретил Фаберовского, возвращавшегося в Лондон».
— Это какой Фаберовский? — спросил Продеус. — Это которого я в Остенде с английской шхуны полудохлого вместе с Гуриным снимал?
— Да, это тот самый Фаберовский. И его, и Гурина я упрятал в Сибири, полагая, что больше никогда не увижу и не услышу о них. Однако я, похоже, ошибся. Видимо, они сумели бежать из Якутска.
— Но ведь это невозможно! — воскликнул Продеус.
— До того, как ты сбежал из психушки в Шарантоне, считалось, что оттуда тоже невозможно бежать. Да будет тебе известно, что двое из осужденных по делу бомбистов совершили побег из Якутска в прошлом году, после чего оказались в Париже.
— Разве мсье Продеус был заключен в Шарантоне? — боязливо покосился на бывшего околоточного Бинт и придвинулся поближе к Рачковскому.
— Это дурацкий Владимиров посоветовал подменить мною на время в Шарантоне Потрошителя, которого Петр Иванович отправили в Лондон! — обидчиво сказал Продеус, потирая кулаками уши. — Если только Владимиров сюда заявится, я ему шею сверну!
— Но Владимиров не может осуществить никакого побега! — сказал Бинт. — Я хорошо его знаю, мы вместе громили народовольческую типографию в Женеве четыре года назад. Никто его с собой не возьмет, разве что съесть в дикой тайге. И откуда у вашего поляка деньги, чтобы добраться до Лондона?
— Тогда это Селиверстов и прочие паразиты из охранки, — сказал Рачковский. — Больше ему взять денег неоткуда. Мне уже плохо от одной мысли о том, что Фаберовского они отпустили, а Владимиров сейчас дает показания в кабинетах Департамента полиции.
Из спальни вышла жена Рачковского с пухлым полуторагодовалым мальчиком на руках.
— Пьер! — вызывающе начала она и с надрывом в голосе сказала: — Маленькому Андре пора спать, а ты тут кричишь, как какой-нибудь сельский кюре, стукнувший себя по пальцу молотком!
— Какой милый мальчуган, — улыбнулся во весь щербатый рот Продеус и сделал своими большими корявыми пальцами Рачковскому-младшему «козу». При виде этих двух заскорузлых грязных бревен, направленных ему прямо в глаза, Андрюша заревел от испуга и Петр Иванович, доведенный до белого каления, заорал в бешенстве на жену:
— Ксения! Заткни этого говнюка чем-нибудь!
Обычно Ксения сама орала на мужа, поэтому она была шокирована такой несдержанностью супруга и гордо удалилась, на ходу стараясь убаюкать кричащего сына.
— Пьер, мне кажется, вы слишком волнуетесь из-за встреченного Ландезеном поляка, — сказал Бинт, проводив ее взглядом. — Разве он так страшен?
— Сам он, может, и не страшен, — ответил Рачковский, все еще тяжело дыша, — а вот то, что он, возможно, оказался в руках Секеринского и его клики, страшно. Два года назад, Анри, я совершил ошибку, возложив одно щекотливое дело на Гурина и Фаберовского. Они должны были выполнить некую черную работу и исчезнуть. Но они, как видите, не исчезли. А за то, чем они по моему плану занимались, по головке нас ни в министерстве, ни в департаменте не погладят. Если все это всплывет на свет, на моей карьере будет поставлен жирный крест, сам я могу угодить в Сибирь, а тот, кто сменит меня на этом посту, может не пожелать возобновлять контракт с вами, Бинт.
— Надо мне было раздавить их еще тогда, в Остенде! — сжал свой огромный кулак Продеус. — Эх, если бы у нас на хвосте не висел Селиверстов!
Петр Иванович нервно покрутил обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.
— Полагаю, — сказал он, — что если это Селиверстов добился возвращения Фаберовского из Якутска, то появление поляка в Лондоне означает только одно: его послали туда, чтобы поднять шум. Даже если у Секеринского, Селиверстова и компании не хватит сил заставить министра снять меня после наших успехов с бомбистами, они могут лишить меня возможности находится во Франции и вообще заграницей, устроив скандал вокруг Потрошителя.
— Я понял, про какое щекотливое дело вы только что говорили, Пьер, — сказал Бинт. — Но не пугайтесь, я буду нем, как рыба. Слово чести. Это говорю вам я, Анри Бинт, а не какой-нибудь там Ландезен. А как вам удалось запрятать поляка и Гурина в Сибирь?
Рачковский оглянулся на дверь, ведущую в комнату его жены. Ребенок, как назло, умолк, и ему пришлось наклониться к уху Бинта.
— У меня была одна приятельница, — зашептал он. — Княгиня Радзивилл. Очень красивая дама, мы провели с ней немало приятного времени, когда она приезжала в Париж. Сейчас она живет с начальником царской охраны генералом Черевиным и по моей просьбе уговорила Черевина выслать обоих в Якутск в административном порядке.
— Тогда еще один вопрос. Если я правильно вас понял, Пьер, вы хотите поручить мне разрешение сложившейся опасной ситуации? — спросил Бинт.
— Да, Анри, мне больше не на кого положиться. Из стоящих агентов, кроме вас, у меня был только Ландезен, но теперь он был вынужден покинуть Париж.
— Вы не пожалеете об этом, Пьер. Старый мсье Дантес оказал Российской империи две значительные услуги, за которые благодарная Россия должна была бы поставить ему памятник: он застрелил вашего мерзавца Пушкина и порекомендовал мне поступить на службу в русскую Заграничную агентуру.
— Ну, замолол! — проворчал Продеус. — Павлин французский. Теперь до вечера себе аллилуйю петь будет.
— Вы поручили дело Бинту, Пьер, — сказал француз. — Поэтому можете быть спокойны. Бинт не знает поражений. Первое, что нам необходимо сделать, это отправить Ландезена в Петербург, чтобы он разыскал там княгиню Радзивилл. Возможно, она сможет разъяснить происходящее.
— Проще написать ей письмо, — сказал Продеус.
— Ты уже столько лет работаешь в сыске и не знаешь, что ли, что в России имеют привычку письма из-за границы перлюстрировать? — укорил его Рачковский.
— Надо только предупредить княгиню Радзивилл, что к ней приедет от вас человек, — добавил Бинт.
— Опять эта потаскуха Радзивилл, Пьер! — раздался разъяренный визг Ксении и ребенок зашелся плачем. — Я выцарапаю тебе глаза!
— Убирайся к черту, пампукская хрюля! — по-русски выругался Рачковский, когда она, растопырив пальцы с острыми ногтями, ворвалась в гостиную. От его дрожащего в ярости голоса жена примолкла, только сын продолжал испуганно плакать. — Анри, садитесь и пишите Ландезену письмо. Пусть немедленно выезжает из Брюсселя в Петербург. Не забудьте напомнить ему, что если он встретит Гурина, его следует приголубить и обласкать, пообещать пряник и пригрозить кнутом. Мне кажется, что Гурин сразу прибежит обратно ко мне. И пускай непременно передаст княгине Радзивилл мои пламенные поцелуи!
— Простите, Петр Иванович, а кто такая пампукская хрюля? — спросил Продеус.
— Откуда мне знать! — огрызнулся Рачковский. — Что мы будем делать с поляком?
— Фаберовского, я думаю, необходимо запугать, — ответил Бинт. — Из Лондона до Парижа ближе, чем до Петербурга. Так что Продеусу до него добраться — меньше дня пути.
* * *
Еще издалека Пенелопа заметила черный столб дыма, уходивший прямо в нависшее над Эбби-роуд низкое свинцовое небо. Кэб не спеша вез ее и мисс Барбару Какссон к дому Фаберовского, и по пути она, глядя на этот дым, думала, что вот так же, дымом, развеялись вскоре после бегства поляка ее мечты, что он вернется к ней, как рыцарь Ланселот в сказке, и спасет ее и от тронувшейся мачехи, и от третировавшего ее отца, который непрестанно стал приводить к ней женихов, требуя, чтобы она скорее выходила замуж. Фаберовский вернулся, но его возвращение не принесло ей ни облегчения, ни радости. Наоборот, ей стало во сто крат хуже, чем было.
Чем ближе она подъезжала, тем яснее становилось ей, что дым поднимается над домом Фаберовского. Сперва на ум ей пришла мысль, что он специально поджег свой дом, чтобы сделать ей гадость, а сам уже уехал из Лондона. Но потом она стала беспокоиться, не случилось ли что со Стивеном. После того, как он повыбрасывал из дома ее женихов, у него появилось много недоброжелателей, которые могли захотеть отомстить ему.
— Смотрите, мисс Смит, вашего жениха, кажется, сожгли! — радостно воскликнула Какссон, тоже заметив дым. — Наверное, это кто-нибудь из ваших гостей, с которыми он так не по-джентльменски обошелся.
— Стивен сделал то, что следовало бы сделать мне самой, — огрызнулась Пенелопа. — Но надеюсь, что вы рано радуетесь, Барбара.
Выбравшись вместе с Какссон из кэба и расплатившись с извозчиком, она поняла, что дым идет не из дома, и что его источник находится за домом в саду.
— Добрый день, мисс Смит, — подошел к ним почтальон. — На ваш адрес телеграмма для какого-то мистера Фейберовского.
— Вы не знаете, что это за дым? — спросила она, забирая конверт.
— Не знаю, мисс, пожарные уже уехали.
Пенелопа толкнула калитку и поспешила по дорожке к крыльцу дома. Дверь была не заперта, и она вошла внутрь. В доме было непривычно тихо. Она заглянула в гостиную, потом прошла по коридору и проверила кухню. Там никого не было. Пусто было и в столовой. Сверху тоже не доносилось ни звука. Везде, куда бы не падал ее взгляд, был беспорядок. Со стен были содраны любовно развешанные ее мачехой картины и гобелены, несколько сломанных венских стульев горой лежали в столовой у выхода на террасу.
В душу к ней проник ужас.
— На пожар это непохоже, — сказала Какссон. — Наверное, дым произошел из-за кремации трупов где-нибудь в саду. Я бы этому не удивилась. Давайте лучше вызовем полицию.
«Что могло случиться со Стивеном и остальными?» — со страхом подумала Пенелопа, инстинктивно прижимая сумочку к груди, словно та могла защитить ее от неизвестной опасности. Ей захотелось немедленно уйти, но вместо этого она спросила дрожащим голосом:
— Есть тут кто нибудь? — и добавила робко: — Живой?
Ей никто не ответил и она рискнула войти в столовую. Через полуоткрытую дверь в сад она услышала треск костра и в нос ей ударил запах паленых тряпок.
— Давай, Батчелор, бросай, — слышался из сада решительный голос Фаберовского. — Подумаешь, кресло! Смит часы мои разломал с кукушкой — и то ничего!
И тут Пенелопа разозлилась. Она решительно толкнула стеклянную дверь и вышла на террасу. Батчелор и поляк, в штанах и нижних рубашках, потные и черные от копоти, швыряли в громадный костер разломанную мебель. Кругом по саду и на кустах были разбросаны полуобгоревшие литографии с медведями.
— Что вы тут делаете? — воскликнула она.
— Просто варвары какие-то! — поддакнула Какссон, высовываясь из-за ее плеча.
— Это ты что тут делаешь, Пенни? — спросил Фаберовский, даже не поворачиваясь, в то время как смущенный своим видом Батчелор отпрыгнул в кусты и окольными путями пробрался в дом.
— Вот видите, Пенни, вы беспокоитесь, не случилось ли что-нибудь с вашим женихом, а в это время он в таком виде вместе со своим слугой жжет в саду костры. Можно подумать, что мы не в цивилизованной Англии в конце просвещенного девятнадцатого столетия, а где-нибудь в Африке среди каннибалов и пигмеев.
— Тебе принесли телеграмму, Стивен, — сказала Пенелопа.
— Брось ее в костер.
— Может быть, ты ее все-таки прочитаешь? Возможно, это мистер Гурин извещает тебя о своем приезде.
Возможность приезда Владимирова шокировала Фаберовского. Его положение и так было сложным, а с приездом Артемия Ивановича оно становилось совсем безнадежным. Он взял у Пенелопы телеграмму и облегченно вздохнул, увидев, что она не распечатана. Значит, слова о приезде Владимирова не более, чем предположение.
— Может быть, и прочитаю, — поляк сунул телеграмму в карман штанов.
Пенелопа пришла сюда для серьезного разговора с поляком об их отношениях, но теперь она сама удивлялась тому, что, разговаривая с Фаберовским, она только ищет повода для скандала.
— Зачем ты сжигаешь мебель? — с вызовом спросила она.
— Первобытное варварство! — квакнула Какссон.
— Это не мебель, — охотно принял этот вызов Фаберовский. — Это набор дешевых гнутых деревяшек. Скажи еще, что я жгу картины, — он подцепил палкой тлеющую раскрашенную олеографию, изображавшую танцующее под дудку странное животное, подпись под которым утверждала, что это медведь на ярмарке.
— Тебе не жалко Эстер, которая вложила во все это столько души?
— Миссис Смит так много сделала для вас, мистер Фейберовский, стремясь воспитать у вас вкус и понятия о приличном, — поддержала ее Какссон, — но из вас никогда не получится даже жалкого подобия настоящего британца.
— Пусть бы она помогала лучше нищим в Ист-Энде! — огрызнулся поляк.
— Мало вы причинили горя, мало вы опозорили благородного доктора Смита, настоящего джентльмена и христианина, мало вам слез и невзгод, выпавших на долю его несчастной дочери после вашего постыдного бегства, — продолжала Какссон, испепеляя взором поляка, — так вы еще, вернувшись, позволяете себе измываться над почтенным семейством Смитов, так много испытавшим из-за вашей подлости и коварства!
— Убери свою шавку, Пенни, — бросил своей невесте Фаберовский. — Не для того я возвратился в Англию, чтобы слушать в своем доме всю эту чушь.
На глазах Пенелопы выступили злые слезы обиды.
— Я пошла на такой позор ради тебя, я приехала даже в церковь, чтобы дать тебе время скрыться из Лондона, а ты не послал мне даже телеграммы, что ты спасся. Лучше бы ты утонул!
— Да, мистер Фейберовский, вам следовало бы утонуть! — объявила мисс Какссон. — Когда тонул крейсер «Блудхаунд», ради спасения находившихся на борту женщин офицеры предпочли вовсе не садиться в шлюпки и с честью погибнуть в пучине. А вы вернулись и еще смеете всем нам указывать, что нам делать, а что нет!
— С вами, мисс Какссон, я вовсе не разговариваю, — сказал поляк. — Потрудитесь покинуть мой дом.
— Сейчас! Как же! Она приехала со мной и со мной же уедет!
«Боже! — подумала Пенелопа про себя. — Что я такое говорю! Если мы начали говорить таким образом, то чем же мы закончим?»
Фаберовский тоже чувствовал, что разговор идет не туда, и если не успокоить Пенелопу, то она, при подуськивании со стороны Какссон, непременно вцепится ему в глаза.
— Я не мог послать тебе телеграммы! — сдерживаясь, сказал он. — Там нет телеграфа!
— И где же такое место на земле, хотели бы мы знать, где нет телеграфа? — спросила Какссон.
— Я был в Якутске, это в самом центре Сибири.
— И что, в этом Якутске нет телеграфа? — Пенелопа решилась говорить как можно спокойнее, но бессовестная ложь Фаберовского привела ее в негодование.
— Нет, телеграф там отсутствует, потому что телеграфная линия доведена только до Омолоя.
Безупречно честные глаза Фаберовского и уверенный искренний тон поляка, которым он нес всю эту чушь, нервировали ее больше всего.
— Ну так съездил бы в этот Омолой, — сказала она.
— От Якутска до Омолоя как отсюда до Петербурга!
— Ну хорошо, там нет телеграфа, — согласилась Пенелопа. — А письмо ты послать мог?
— Кто бы мне разрешил послать оттуда тебе письмо! — взорвался Фаберовский. — А даже если бы и разрешили, то идет оно оттуда по полгода!
— Боже! Письмо идет полгода! — фыркнула Пенелопа, и картинно всплеснула руками. — Да за кого ты меня принимаешь, Стивен! Так я и поверила, что ты был в Сибири! И что там не было телеграфа, и что письмо идет оттуда полгода! Ты был на рудниках? Нет? Тогда чем же ты занимался там? Только не ври, ради Бога.
— Служил швейцаром в женской гимназии, — сказал Фаберовский и поник.
— Знаешь, Стивен, всю эту чушь про Сибирь ты можешь рассказывать моей мачехе. Эстер тебе поверит.
— Да, мистер Фейберовский, не следует держать нас за идиоток! — подхватила Какссон. — В наше время уже нет таких мест, где существует женская гимназия, но нет телеграфа!
— Курвины дочери!
Фаберовский в сердцах схватил медвежью шкуру, которую он приберегал на последний момент, сомневаясь, стоит ли ее предавать огню, и швырнул ее в костер, отчего сад сразу же заполнился вонью от паленой шерсти. Затем он вытер очки от пепла, налипшего на стекла, и, обойдя Пенелопу, пошел наверх, в комнату, служившую иногда спальней Эстер, где та скрывалась от домогательств доктора Смита.
Распахнув дверь, он увидел Батчелора, приникшего к стеклу.
— Что ты здесь делаешь? — спросил он.
— Подслушиваю, сэр! — ответил Батчелор.
— Пойди отсюда вон!
Фаберовский подошел к кровати и скинул на пол белье, чтобы достать матрас мерзкого розового цвета с кружавчиками, который безмерно раздражал его. Под матрасом он увидел половинку листа бристольского картона, на которой свинцовым карандашом была поставлена в углу подпись Макхуэртера. Заинтересовавшись, поляк взял картонку в руки и на обратной стороне увидел фривольный рисунок тем же свинцовым карандашом, изображавший римского бога Приапа, мужичка с фаллообразной головой, держащего в руках корзину с фруктами и при этом совокупляющегося обоими своими членами сразу с двумя медведицами. В лице Приапа явственно проступали черты Артемия Ивановича, срисованные с той самой фотографии на Петергофском вокзале.
— Может ты объяснишь мне, почему он совокупляется с двумя медведицами? — подчеркивая слово двумя, спросил у Пенелопы поляк, вернувшись в сад и показывая ей рисунок. — Одна медведица — это Эстер, а вторая кто? Ты?
— Да ты сошел с ума! — взвилась Пенелопа, взглянув на картинку. — Похоже, что мой отец совершенно прав: тебя вместе с моей мачехой надо поместить в психиатрическую лечебницу.
— Там вам будет самое место, мистер Фейберовский, — опять квакнула Какссон.
— Так вот ты какие речи завела, Пенни! — сжал кулаки поляк и швырнул в костер скомканную картонку. — Хочешь посадить меня в психушку, а сама завладеть этим домом?
Пенелопе оставалось сделать еще один шаг, и полный разрыв был бы неизбежен. Но ее рассудок взял верх над эмоциями и она проговорила сквозь зубы:
— Только благодаря тому, что я изо всех сил цеплялась за этот не нужный мне совсем дом, твой Батчелор с женой не оказались на улице, а дом не был продан моим отцом с молотка или не сдан в долгосрочную аренду.
— Это правда, мистер Фейберовский, — на террасе появилась Розмари, вернувшаяся с рынка, а за ней в дверях маячил встревоженный Батчелор. — Мисс Пенелопа была очень добра и даже согласилась терпеть в доме мисс Какссон, чтобы нас не выкинули отсюда.
— Какая наглость! — возмутилась компаньонка Пенелопы. — Почему вы позволяете прислуге оскорблять порядочных женщин, пришедших к вам в гости.
— Доктор Смит, — продолжала Пенелопа, — спал и видел, как он выдает меня замуж и я переезжаю к мужу, а в «Таймс» появляется объявление. — Пенелопа скрипучим голосом, подражая интонациям доктора Смита, прочитала на память давно заученный текст:
«По распоряжению владельцев. — Жилые дома для инвестиции или временного пользования на долгие сроки с низкой арендной платой за землю и расположенные в северных и северо-западных районах Лондона.
ГОСПОДА ФАРБЕР, ПРАЙС и ФАРБЕР будут ПРОДАВАТЬ с АУКЦИОНА, в Аукционном зале, Токенхауз-ярд, В.Ц., во вторник, 29 июля, ровно в 2, следующее ИМУЩЕСТВО: —
СЕНТ-ДЖОНС-ВУД. — № 9, Эбби-роуд, в хорошем состоянии. Сдается в наем еженедельному арендатору.
Подробности и условия продажи можно получить у Р.У.Басби, эскв., поверенного, Джон-стрит, 28, Бедфорд-роу; в Аукционном зале; или в конторах по аукционам и земельной собственности, Уорик-кортс, Грейс-инн ».
Фаберовский понимал правоту доводов Пенелопы, а найти достойных возражений не мог. Поэтому он пошел по самому легкому пути и закричал:
— Твоя мачеха и твой отец превратили этот дом в хлев! Нет, не в хлев, а в цирковой балаган с дешевыми фанерными декорациями! Они свалили прекрасную мебель, доставшуюся мне от отца, в кабинете, а кругом понаставили этих грошовых стульев! Они завесили все дурацкими картинками!
— Я не повесила в этом дурацком доме ни одной картинки! И я же не пеняю тебе за то, что потратила целых тридцать фунтов, чтобы разыскать твою мифическую индюшачью ферму, заботится о которой меня попросил перед вашим с ним бегством мистер Гурин, когда приходил просить деньги на лекарства для индюков! Я была посмешищем всему Лондону, когда наводила справки через клуб фермеров, а затем поместила в «Дейли Телеграф» объявление о розыске сведений об индюшачьей ферме мистера Фейберовского и ко мне пришел твой знакомый, инспектор Пинхорн, и взял с меня три фунта за то, что по его достоверным сведением, ты никогда не занимался разведением индюшек, а только мелким шантажом и слежкой за неверными женами!
— Да, вы шантажист и вымогатель! — взвизгнула мисс Какссон.
— Но это же не я просил тебя заботится о ферме! — в отчаянии крикнул поляк. — Я не могу отвечать за Гурина!
— За это тебе большая золотая медаль Йоркширской сельскохозяйственной выставки и в нос кольцо без заусениц.
Фаберовскому вдруг стало смешно и он сказал, пряча улыбку:
— Я вижу, ты за время поисков моей фермы сильно поднаторела в сельском хозяйстве.
Пенелопа сразу почувствовала, что его настроение изменилось, и страшное напряжение, в котором она находилась с того момента, как узнала его во французском художнике три дня назад, отпустило ее.
— И еще я поднаторела в отваживании твоих кредиторов, — сказал она. — Например, мистера Ааронса.
— Какого еще Ааронса?
Фаберовский не помнил никакого Ааронса, которому он был бы что-то должен.
— Стивен, в практическом отношении ты совершенное дитя! Мистер Ааронс — казначей Уайтчеплского комитета бдительности, которому вы с Батчелором обязались найти Джека Потрошителя. Если бы только знал, сколько сил и денег у нас ушло, чтобы уладить претензии мистера Ааронса! Батчелору пришлось продать агентство ради того, чтобы рассчитаться с ним.
Весь запас бешенства, раздражения и гнева у них вышел и Пенелопа с Фаберовским надолго замолчали. Только Какссон продолжала вдохновенно говорить, бичуя всевозможные грехи инородцев, топчущих древнюю британскую землю.
— Барбара, сходите на улицу и возьмите кэб, — сказала Пенелопа, желая поскорее отослать куда-нибудь свою компаньонку, чтобы остаться с поляком наедине.
— Я не могу оставить вас тут одну с этим варваром, милая Пенни, — заявила та. — Тем более что в эти места редко заезжают кэбы и мне придется слишком долго стоять на улице, чтобы нанять его. Неужели нельзя послать прислугу?
— Я прошу вас, Барбара. Я не могу приказывать прислуге в этом доме, а мистер Фейберовский едва ли окажет нам такую любезность.
— Пенелопа права, мисс Какссон. От меня вы любезности не дождетесь. Катитесь отсюда на улицу и чем дольше вы там будете находится, тем лучше.
— Вы наглый, невоспитанный хам! — вскричала Какссон.
— А еще я Джек Потрошитель. Батчелор, вышвырните эту даму за дверь, если она добровольно не желает покинуть эти стены.
— Но Стивен, это слишком жестоко!
— Зато правильно.
Батчелор направился к мисс Какссон, растопырив свои громадные, поросшие рыжей шерстью лапы, словно собираясь поймать курицу, и компаньонка, презрительно фыркнув, удалилась. Спустя минуту Батчелор вынес в сад два еще не сожженных венских стула и поставил их под деревом, жестом пригласив Фаберовского и девушку садиться.
Они сидели и не отрываясь глядели друг на друга. Пенелопа заметила, как постарел поляк, его лицо осунулось, приобрело землистый цвет, вокруг глаз появились глубокие морщины, а руки стали обветренными, мозолистыми и с обломанными ногтями. А Фаберовский думал, что Пенелопа за эти полтора года еще похорошела, и приобрела какую-то внутреннюю силу, которую прежде он не замечал в ней.
— А ко мне вчера прибежал взволнованный Макхуэртер, — нарушил тишину поляк. — Макхуэртеру сказали, что к нему из Франции приезжал великий Ренуар, но по ошибке попал к одному из его соседей.
— А почему ты ходишь босиком? — в свою очередь спросила девушка и в голосе ее слышалась искренняя забота. — Разве у тебя нет обуви?
— Розмари говорит, что всю ее пожгла еще в прошлом году Эстер. Хотя одни из моих ботинок я заметил на Макхуэртере.
— Но ты же приехал в каких-то ботинках!
— Они развалились после ливня, в который я попал в день приезда.
— Это еще ничего. Под тем же ливнем, катаясь с мужем в экипаже в Гайд-парке, вымокла герцогиня Файфская, и, простудившись, родила мертвого мальчика.
— Какое странное место этот Гайд-парк, — покачал головой Фаберовский. — Опасность вымокнуть в этом парке всегда грозит обернуться катастрофой для семейного счастья. На нашу удачу я не был в парке, иначе непременно родил бы какого-нибудь мальчика или, того пуще, искупался бы в Серпентайне. Мальчика я не рожал, но насморк тоже подхватил.
Еще секунду назад ему хотелось встать, подойти к Пенелопе и крепко обнять ее, что было бы очень уместно к этому моменту, но теперь при воспоминании о Серпентайне совсем некстати к нему в голову непрошеным гостем явилась мысль о телеграмме, которая лежала в кармане его штанов. Неужели Гурин действительно решил приехать в Лондон? Это будет катастрофа. Уже вставая со стула, он сунул руку в карман, разорвал конверт и достал телеграфный бланк.
— Что? — встревожено спросила Пенелопа, увидев, как изменилось его лицо. — Гурин?
— Нет.
— Тогда ты опять собираешься на континент?
— Нет. Я думал, что навсегда избавился от старых неприятностей, а они лишь заснули на время и опять пришли ко мне.
Он протянул ей телеграмму и она прочитала весьма немудреный текст:
«Советую вам исчезнуть также, как исчез Ландезен, иначе будет плохо. Рачковский»
— Ты мне ничего не объяснишь? — спросила Пенелопа.
— Нет.
— Но что мы тогда будем делать?
— Я хочу тебе еще раз предложить свою руку.
— Я согласна, — сказала Пенелопа и пригрозила поляку пальчиком: — Но только попробуй еще раз не прийти в церковь!
Глава 6. Петергофский праздник
3 августа, воскресенье
Жизнь у Артемия Ивановича была не в пример спокойнее, чем у Фаберовского. Расставшись с поляком на Балтийском вокзале, он пробродил целый день по Петербургу, дошел до Невы и даже плюнул в нее, стоя у часовни на Николаевском мосту. Хотя Черевин велел им и носа не показывать в Петергофе, Владимирова с каждым часом все больше и больше тянуло обратно. После встречи с царем его жизнь обрела новый смысл, а вкус коньяка из крышки от царской фляжки до сих пор держался у него во рту. Но Артемий Иванович знал, чувствовал всеми фибрами своей верноподданнической души, что они с Государем недоговорили тогда, что он, Артемий Иванович, не успел рассказать обожаемому монарху, как он любит его, как он готов положить за царя на алтарь Отечества живот свой и все имущество свое, которое состояло из одной сорочки без пуговицы как раз напротив жертвуемого живота, потрепанного пиджака, висевших на коленях пузырями брюк и порыжевшего от дождей котелка. Артемию Ивановичу надо было бы еще раз встретиться с императором, пасть восхищенно на колени и растолковать ему получше, какое именно местечко мог бы Государь ему устроить и какую пользу бы смог Артемий Иванович приносить Государю на этом местечке. Но чтобы встретится с императором, надо было вернуться в Петергоф, что Артемий Иванович, не задумываясь, и сделал.
В Петергофе его постигло страшное разочарование. Император вместе с семейством, так и не дождавшись разговора, отбыл на отдых в финские шхеры. Посетив последовательно колбасную, «Вену» и монопольку, Артемий Иванович вышел с опустошенной душой и карманами на Петербургский проспект и потащился по нему куда глаза глядят. А глаза его глядели в сторону Ораниенбаума, не доходя до которого на берегу залива, можно было попытаться пристроится в одной из дач близ деревни Бобыльская, где надзор за дачниками был слабее и где от владельцев дач не требовалось подавать на них никаких сведений в Дворцовое управление.
Дачи эти находились у западной границы громадного парка, владения принца Ольденбургского, протянувшегося узкой полосой вдоль взморья. Дом, на который вывел Артемия Ивановича запах жарящегося мяса, принадлежал надворному советнику Стельмаху и представлял собою подобие швейцарского домика-шале, по стенам которого вились гортензии, а перед домом была разбита огромная клумба, по которой Артемий Иванович сразу же и прошелся.
— Не сметь ходить сюда! — заорал на него сам хозяин, который в это время с женой и двумя перезрелыми дочерьми пил чай на веранде. — Здесь не подают.
— Я из охранного отделения, — сказал, не смущаясь, Артемий Иванович. — Мне показалось, что вы говорили что-то про государя.
— Нет-нет, мы говорили о государыне, — нервно сказал Стельмах. — В этом году на ее тезоименитство в Петергофе будет большой праздник.
При этом надворный советник слащаво улыбнулся.
— Вам самому-то не противно нести такую чушь? — спросил Владимиров, переминаясь на когда-то великолепных хризантемах. — Что вы там такое жарите?
— Не знаю, — неизвестно зачем соврал Стельмах. — Надо спросить у кухарки.
— Тогда проводите меня к ней. Да, и еще. Меня прислали к вам для охраны особы государя от крамолы. Поэтому я буду жить у вас в дровяном сарае.
Стельмах покорно согласился и провел Артемия Ивановича на кухню, где оставил его наедине с кухаркой. Осмотр сей особы вполне удовлетворил Владимирова. Это была цветущая румяная девка по имени Февронья с толстой, пшеничного цвета косой, с которой ему не стыдно будет в случае чего выйти на люди.
Не решившись требовать со Стельмаха еще и пищевого довольствия, Артемий Иванович для столования при его кухне отбил кухарку у ее прежнего ухажера, пожарного из ораниенбаумской брандкоманды, который в отместку за это с тех пор регулярно делал отбивную из Артемия Ивановича. Пожарник был силен как бык и часто чистил своей надраенной медной каской лицо Артемия Ивановича, но Владимиров не сдавался, иначе он просто умер бы с голода. Его основным преимуществом было галантерейное обращение, от которого девка млела и таяла, отбирая Артемию Ивановичу самые вкусные куски из того, что она могла утаить от барского стола.
В качестве орудия главного калибра в битве за расположение Февроньи Артемий Иванович использовал щедрые обещания сводить ее в ресторан «Бель-Вю» у Купеческой пристани, на Петергофский праздник и свозить в город на какое-нибудь представление. Свои обещания он стал выполнять в обратном порядке, посетив с нею на Царицыном лугу за рупь представление «Дикая Америка», афишку которой «Дикие индейцы, отважные американские пастухи, дикие лошади, дикие быки. Замечательный стрелок В.Карвер» он видел на тумбе в Новом Петергофе, когда заходил в гости к швейцару в гимназии.
Сидя задами прямо в лужах, стоявших после проливного дождя на клеенчатых сиденьях стульев и кресел, они оба с увлечением следили за верховой ездой обряженных в лохмотья людей верхом на крашеных лошадях, которые целый час беспощадно стреляли из ружей и револьверов, изображая то мексиканцев, окруженных индейцами, то индейцев, нападающих на мчащийся вокруг ипподрома дилижанс. Февронья ахала, когда подбрасываемые в воздух стеклянные шары разлетались от пули, выпущенной из винчестера господином Карвером, и верещала от восторженного испуга, когда «дикие волы» доверчиво пытались просунуть морды сквозь ограждение к ним в дешевые места.
Теперь настала очередь Петергофского праздника. Его начало было намечено на шесть часов вечера, поэтому всю первую половину дня Артемий Иванович мог проводить как угодно, не рискуя потерять благоволения кухарки. В одной из газет, которые он ежевечерне находил в нужнике в треугольном ковровом кармашке для подтирки и которые изучал от корки до корки, не покидая отхожего места, Артемий Иванович вычитал, что утром большого выхода императора и императрицы не будет. Прежде он рассчитывал, что сможет использовать возможность увидеть императора во время большого выхода для серьезного разговора с ним, но сейчас, в свете открывшихся обстоятельств, решил для себя, что караулить царя около Большого дворца бесполезно. Повинуясь безотчетному порыву, он двинулся от дворца по Александринскому шоссе вдоль Нижнего сада по направлению к Александрии.
За несколько дней до дня тезоименитства государыни императрицы Петергофский парк был приготовлен к вечерней иллюминации. Несмотря на дурную погоду, Новый Петергоф принял праздничный вид. Всюду мелькали флаги, щиты, ковры и транспаранты. Рано утром прошел сильный дождь, потом он прекратился, а в десять часов возобновился опять. У Большого дворца стояла, невзирая на ливень, толпа народа, жаждавшая увидеть их императорских величеств. Артемий Иванович снисходительно посмотрел на них и прошел мимо, шлепая калошами по рябившим от капель лужам. У готических домов он увидел собрание хорошо одетых людей с кожаными папками под мышками и с раскрытыми зонтиками, перед которыми держал речь сам Черевин.
— Когда мы подойдем к Фермерскому дворцу и я проведу вас внутрь собственного садика Их Величеств, вы все должны будете встать не ближе двадцати саженей от террасы. Никаких разговоров не допускается. Никто из вас не должен самостоятельно произносить поздравления государыне императрице. Вы встанете и молча будете ждать, пока их величества не соизволят выйти к вам сами. И не сметь выходить из строя! По знаку профессора Черни вы начнете петь ваши куплеты. По окончании пения профессору Черни будет дозволено преподнести ее величеству букет. Если императрица милостиво согласиться выслушать еще несколько ваших куплетов, вы можете исполнить их, но не более чем десять минут.
Пожилой мужчина с огромным букетом живых цветов, увитым лентой с надписью «От общества хорового пения «Liedertafel», согласно кивнул.
— И чтоб ничего лишнего. Вот эти два человека будут находиться среди членов общества…
— Но они же не умеют петь! — воскликнул профессор Черни.
— Как? Они не будут сопеть! Они будут охранять императора, — отрезал Черевин, не расслышав. — Они это умеют.
— Я тоже умею охранять императора! — воскликнул Артемий Иванович.
При виде его глаза начальника царской охраны округлились, а усы зашевелились от изумления.
«Хитер, шельма! — подумал Черевин. — Его Федосеев по всей империи ищет, уже попугай его только и скрипит: «Где Владимиррров? Где Владимиррров?», а он вон где! В Петергофе!»
Черевин поднял глаза и увидел в окне своей канцелярии узкую спину Федосеева, который наливал из лейки воду попугаю.
— Я за государя хоть в огонь, хоть в воду! — продолжал Артемий Иванович, истово крестясь. — Любой грех на душу приму! Хоть наследника, хоть …
— Молчать! — закричал на него Черевин, холодея от страха, и даже его грачиный нос пуще покраснел, словно на морозе. — Смирно! Встать в строй!
Артемий Иванович послушно сделал поворот кругом и приложил правую руку к полям котелка. Поняв, что в сложившейся ситуации безопаснее всего взять Владимирова с собой, Черевин построил хористов в колонну по двое и повел их по аллее мимо Готической капеллы к Фермерскому дворцу, окрашенная в соломенный цвет крыша которого просвечивала за деревьями. Дождь прекратил лить, и хотя профессор беспокоился, что сырость не позволит исполнить намеченную программу должным образом, было решено мероприятие не отменять.
По приказу начальника царской охраны оба его агента, косясь на Артемия Ивановича, провели хористов в довольно обширный садик с востока от дворца, замкнутый с трех сторон перголой из двух рядов четырехгранных колонн из бременского песчаника. Колонны заплетал плющ, витис и камчатская шизофрагма, которые лезли из терракотовых ваз, венчавших колонны, и извивались по деревянной обрешетке.
Ближе к оштукатуренной кирпичной стенке, замыкавшей садик с востока, пространство заполняли пышные цветники и пальмы в кадках, над которыми возвышалась скульптура томно потягивавшейся обнаженной «Ночи». Где-то у ног «Ночи» журчал фонтан, но за высокими листьями растений его не было видно. Покрытая дождевыми каплями темная бронзовая кожа «Ночи» заставила Артемия Ивановича передернуть плечами от холода и он поспешно отвернулся от нее, не в силах выносить вида этой пусть и металлической, бездушной, но все-таки совершенно голой девушки в такую дурную дождливую погоду.
— Господин профессор! Построить песенников в две шеренги! — приказал Черевин. — Что бе-бе, ме-ме? Я сказал: в две шеренги! Как? Раком! Вот от сих и до сих. Ты, — Черевин ткнул пальцем в Артемия Ивановича, — на правый фланг в третью шеренгу. И чтоб я тебя не видел!
Профессор поставил своих хористов лицом ко дворцу и велел раскрыть папки. Черевин подскочил к одному из хористов и вырвал у него из рук папку.
— Будете смотреть к соседу! — отрезал он и подошел к Артемию Ивановичу. — Грибы! — заорал он. — Откуда у вас грибы?!
— У входа росли-с! — испугался Артемий Иванович, не понимая, почему обычные грибы привели в такое возбуждение начальника царской охраны. — Гриб-боровик, отличный. Без червяков-с! — Артемий Иванович разломал гриб и сунул его прямо в нос Черевину.
Черевин выбил гриб из рук Артемия Ивановича и тот разлетелся мелкими шмотьями.
— Держите папку! Хоть руки будут заняты.
Артемий Иванович последовал его указанию и обнаружил у себя в папке разграфленные листы, испещренные мелкими загогульками нот. Владимиров ничего не смыслил в нотах, и на фортепьяно «Собачий вальс» и «Чижика-пыжика» предпочитал играть без нот, поэтому он просто перевернул листы обратной стороной вверх, чтобы они не путали его. Гораздо хуже нот для него было то, что из-за спин рослых хористов, позади которых Черевин специально его поставил, Артемию Ивановичу совсем ничего не было видно.
— Смирррно! — рявкнул на хористов Черевин. — Император идет! Животы подобрать! Стыдно, господа хористы, какие мамоны отрастили!
Смирные хористы втянули животы и замерли.
— Пожирать глазами Их Величества!
— У, дубины вымахали! — громко сказал Артемий Иванович и подпрыгнул.
В тот краткий миг, когда он взлетел над головами хористов, он успел заметить, как стеклянная дверь на террасу раскрылась и появилась громоздкая фигура Александра III: в красном супервесте поверх сверкающей медной кирасы, в белом кавалергардском колете и с огромной медной каской с Андреевской звездой на лбу и двуглавым орлом на макушке. Каску император держал в руке за чешуйчатый подбородный ремень, словно котелок. Широкую грудь царя пересекала голубая Андреевская лента.
Еще один прыжок позволил Артемию Ивановичу рассмотреть и императрицу — маленькую черноволосую женщину в белом платье. Он хотел подпрыгнуть еще раз, но тут он увидел багровое от ярости лицо Черевина, делавшему ему страшные глаза, и решил воздержаться от прыжков. Он не увидел, как следом за императорской четой вышли царские дети — красивая пятнадцатилетняя девушка с сестрой, еще совсем ребенком, и младший сын царя Михаил. Последним появился сам наследник престола, цесаревич Николай: усатый, коротко стриженый, с зачесанными назад волосами низкорослый юноша в белой лейб-гусарской венгерке, с закинутым на спину, на опаш, доломаном и с меховой бобровой шапкой подмышкой.
По знаку Черевина профессор Черни сунул в рот нечто вроде охотничьего манка и издал ноту «ля». Хористы прекратили откашливаться и послушно прогудели эту же ноту. Артемий Иванович захотел присоединиться к ним, но, к счастью, оказалось, что от волнения у него пересохло в горле и он лишь издал сдавленный хрип. В другое время ему бы тотчас позвали врача, но сейчас всем было не до него и Артемий Иванович решил самостоятельно избавиться от сухости в горле. Он встал на четвереньки и по мокрой траве пополз к фонтану между цветником и пальмой в кадке, думая про себя: «Только бы не задеть пальму». Он уже почти прополз ее, когда зацепился штаниной правой ноги за плохо вбитый гвоздь, торчавший из кадки, и пальма упала. Штанина затрещала. Артемий Иванович так перепугался, что сразу почувствовал, что ему хочется не только пить, но и совершить противоположное действие, которым часто заканчиваются приступы страха.
Когда все семь пьес, входивших в серенаду, были исполнены и воцарилась предшествовавшая аплодисментам тишина, стало слышно громкое и необычное журчание, не похожее ни на звуки лившейся с крыши воды, ни на мелодичные звуки фонтанных струй.
Императрица выразила свое восхищение пением и милостиво похлопала в ладоши.
— Что-то фонтан как-то странно журчит, — сказал царь.
— Может, там течет из какой-нибудь другой трубочки? — предположил наследник и под напомаженными на концах усами по его полному лицу расползлась довольная улыбка.
Шутку цесаревича никто не поддержал, а Черевин, бросая через плечо опасливые взгляды, поспешно пояснил:
— Это вода из-за дождей в водоводе поднялась, потому и напор сильнее.
Он подал знак профессору Черни и тот понес императрице букет. Все тотчас забыли про таинственное журчание и только Черевин продолжал метать в сторону фонтана яростные взгляды. К счастью, журчание затихло, а императрица, милостиво приняв букет, благосклонно пожелала выслушать еще несколько вокальных пьес.
— Да-да, спойте еще что-нибудь, — поддакнул Николай своей матери и тут же умолк под суровым взглядом родителя. Император дал отмашку замшевой кавалергардской перчаткой и хор вновь затянул песню. Воспользовавшись этим, Артемий Иванович выполз из цветника и быстро, на карачках, добрался до своего места в хоре.
За те десять минут, что он провел в цветнике, ничего не изменилось — из-за спин хористов ему все так же ничего не было видно. А Владимирову непременно надо было перекинуться парой словечек с обожаемым монархом. Артемий Иванович подпрыгнул. Оказалось, что теперь это стало намного легче сделать, он неожиданно для себя взлетел на целую голову выше самого высокого хориста и, зависнув на мгновение в воздухе, встретился с недоумевающим взглядом ясно-голубых глаз наследника. Цесаревич дернул отца за рукав.
— Чего надо?! — отвлекаясь от пения, спросил царь.
— Там хорист подпрыгнул.
Александр наклонился к сыну и сказал ему на ухо покровительственно:
— Признайся мне, Ники, вчера с Барятинским вы совсем не о предстоящем тебе путешествии разговаривали. Уж я-то знаю, сколько надо выпить, чтобы даже на утро хористы в глазах прыгать продолжали. Только ты мне эти лагерные привычки тут брось! Завтра уедешь с мамашиных глаз в Красное Село, там хоть свинячьими корытами шампанское лакай.
И тут он своими собственными глазами увидел, как над хором взлетел один из хористов и призывно махнул ему рукой. Александр перекрестился и перевел недоуменный взгляд на жену. Вчера он спиртного даже в рот не брал, он ездил на яхте «Александрия» с семейством из Петергофа на молебен в Петропавловскую крепость! Однако, императрица тоже имела очень удивленный вид, и царь сразу же успокоился.
Взглядом опытного царедворца и охранника Черевин отметил странное поведение царского семейства, и когда краем глаза уловил движения, которые производил Артемий Иванович, прыгая позади хора и размахивая руками, все у него внутри опустилось.
А Артемий Иванович все прыгал и прыгал, вне себя от мысли, что царь уйдет, так и не поговорив с ним. Хористы замолкли и, выразив свою монаршую благодарность членам общества, царь с царицей собрались удалиться с веранды во внутренние покои. Тогда Владимиров решился. Он уже открыл рот, чтобы выкрикнуть: «Ваше величество! Обождите! Мне нужно вам кое-что сказать!», когда оба агента по знаку Черевина навалились на него и заткнули ему рот пучком травы, выдранной из газона.
— Откуда-то я помню лицо этого хориста, — задумчиво произнес император, поворачиваясь спиной к садику и стоявшему посреди хору.
— У тебя, папа, всегда была хорошая память на лица, — сказал Николай, открывая стеклянную дверь. — А я вот лиц вообще запоминать не умею.
— Первое правило для царя — запоминать лица, — император отвел руку, словно собираясь дать наследнику затрещину, и тот сразу сжался, став еще меньше ростом. Однако Александр только подтолкнул его к двери и Николай, распрямляясь, пообещал:
— Я запомню лицо это хориста, папа.
А в это время за спинами хористов два агента Черевина мутузили Артемия Ивановича и возили рожей по траве, отчего рожа его приобрела странный зеленый цвет, так что наследник едва ли смог бы узнать Владимирова даже несмотря на данное императору обещание.
Черевин прервал избиение. Велев хористам убираться к чертовой матери вместе со своим … профессором, он поднял Артемия Ивановича с земли и, взяв за грудки, взглянул прямо в глаза.
— Приезжайте, ваше высокоблагородие, к нам в Париж, — отплевываясь от травы и забившей рот земли, сказал Артемий Иванович. — Вместе со своими людями. Или в Лондон, на Эбби-роуд.
— Вон! — заорал Черевин так громко, что в окне дворца показалось бледное лицо среднего сына императора, Георгия, которого с утра лихорадило и он не рискнул выйти вместе со всеми на воздух.
* * *
Приняв вместе с букетами цветов поздравления от командира и офицеров кавалергардского и лейб-гвардии кирасирского полков, отстояв почти час в церкви Большого Петергофского дворца, где придворное духовенство во главе с протопресвитером Янышевым при пении придворной певческой капеллы совершило божественную литургию и молебствие с провозглашением многолетия, и позавтракав в Петровском зале под звуки придворной музыки, императрица с мужем и своим семейством вернулась в Александрию и отправилась отдыхать, а император с цесаревичем Николаем, переодевшись, вышли на террасу подышать свежим после очередного дождя воздухом.
Александр хотел поговорить с сыном о его поведении, шокировавшем не только императрицу, но даже присутствовавших на завтраке министра императорского двора с супругой и министра внутренних дел. Наличие на завтраке большого количества кавалергардских и кирасирских офицеров, сидевших за столом напротив, заставило цесаревича забыться, и он налегал на водку так основательно, словно присутствовал на полковом празднике. Но терраса вызвала у императора воспоминание о прыгавшем поутру хористе и сразу изменила ход мыслей. Ему вдруг стало смешно, что он заподозрил Ники в том, что тот мог упиться с князем Барятинским до прыгающих певцов!
— Так о чем же вы с Барятинским на самом деле говорили? — спросил он у сына, вместо того, чтобы пожурить его за чрезмерное увлечение водкой за завтраком.
— Он рассказал, что программа моей поездки разработана учеными из Географического общества. О большом историческом и политическом значении, которое будет иметь мое путешествие на Восток. А еще он рассказал, что Эдди тоже ездил в конце прошлого года на восток в Индию, и вернулся домой в мае, отдохнувший и набравшийся знаний и жизненного опыта.
Принц Эдди, как фамильярно называли в правящих домах Европы принца Альберта Виктора, наследника английского престола и старшего сына принца Уэльского, пользовался, как и его папаша, довольно дурной славой. Александр хмыкнул и вывел сына в садик, чтобы их не могла услышать императрица: по мокрой траве в обход цветника, окружавшего бассейн с фонтаном, над которым потягивалась статуя Ночи, к каменным скамейкам, прятавшимся за буйной зеленью у восточной стенки. Но дождевые лужицы все еще блестели на поверхности камня, поэтому Александр сел на край роскошной мраморной ванны, в которую плевались водой две львиные головы по ее сторонам, торчавшие на столбах перголы.
— Да, про его жизненный опыт мы слыхали, — сказал император. — Его и отправила-то бабка Виктория из Англии подальше, после того как его в борделе с мальчиками застукали.
— А вот и нет, папа! — решился возразить Николай. — Он не такой, он не как дядя Сергей.
Подобных разговоров о своем брате Александр не терпел, поэтому сразу же грубо оборвал сына:
— Заткнись. Слушай, что тебе отец говорит.
— Он уехал, потому что сделал предложение Аликс Гессенской. Но был отказан. Она написала ему, что решение отвергнуть его причиняет ей сильную боль, однако она не может выйти за него замуж, потому что хотя она находит его приятным как кузена, но они не смогут быть счастливы вместе.
Николай был юношей влюбчивым, и влюблялся во всех девушек, с которыми ему удавалось познакомиться чуть поближе. К принцессе Алисе он тоже чувствовал влечение, когда вспоминал ее, и тогда его охватывало желание непременно жениться на ней. Впервые Николай встретился с гессенской принцессой Алисой шесть лет назад. Она, в то время двенадцатилетняя девочка, приехала из Дармштадта на свадьбу своей сестры Элизабет с братом царя, великим князем Сергеем Александровичем. Николай обратил на нее внимание во время венчания в Георгиевской церкви в Зимнем дворце. Принцесса показалась ему очень красивой в своем белом муслиновом платье, с розами в длинных, до пояса, золотистых волосах. Через несколько дней на детской половине шестнадцатилетний Николай, страшно смущаясь, сунул юной принцессе в ладошку маленькую брошку, которую та через некоторое время застенчиво возвратила. С тех пор образ принцессы неотвязно преследовал Николая, и, когда она весной прошлого года опять приехала к сестре в Петербург, он стал частым посетителем дворца Белосельских-Белозерских, где жила Елизавета со своим мужем. Молодые люди ходили кататься на коньках, а вечерами он сопровождал ее на концерты и балы.
— Тебе бы, Ники, тоже следовало жениться, — Александр забарабанил пальцами по чугунной балюстраде, глядя на восторженно-глупое лицо сына с покрытыми светлым пушком щеками. — По крайней мере, не сопьешься. А то за завтраком ты слишком на водочку налегал. Даже мать заметила.
— Именно об этом я и мечтаю, папа!
— Вот как? Женилка, стало быть, зачесалась? И кого же ты себе присмотрел на этот раз?
Среди прочих влюбленностей прошлого года числилась у Николая и Маргарита, сестра германского императора Вильгельма, девушка некрасивая и неумная, но познакомившись с которой, наследник русского престола тотчас объявил о своей неземной любви к ней и намерении жениться, что едва не привело к большому скандалу и охлаждению в отношениях между Францией и Россией. К счастью для цесаревича, Вильгельм не дал согласия на эту свадьбу.
— Может быть, опять на Маргарите? Тогда я тебе быстренько шею сверну, — царь ласково положил свою большую руку сыну на голову.
Николай всегда робел, когда ему приходилось серьезно разговаривать с отцом, и хотя он очень любил отца, это был единственный человек, которого он по-настоящему, безумно, боялся. Словно ища поддержки, Николай оглянулся и скользнул взглядом по обнаженной спине и подтянутым ягодицам бронзовой «Ночи», все также целомудренно потягивавшейся в беспечной истоме, как и утром, когда Артемий Иванович пел в хоре перед императрицей. С трудом ему удалось преодолеть страх и он сказал тихим голосом, нервно потерев ус тыльной стороной ладони — жестом, укоренившимся во время пьянок на полковых праздниках:
— Я хочу жениться на Аликс Гессенской.
— Но Ники, мальчик мой, она же холодная, как селедка! — воскликнул Александр, не убирая руки с его головы. — Я видел ее прошлой весной у Сергея. Просто устрица какая-то, хоть шабли ее запивай!
— Нет, папа, это неправда! — с горячностью воскликнул Николай, строптиво дернув головой в надежде сбросить тяжелую руку отца. — Я знаю ее лучше чем ты! Да, она кажется серьезной и застенчивой, но в груди ее прячется страстное сердце! Самой живой струной моей души, той мечтой и надеждой, которыми я живу изо дня в день, является жениться на Аликс. Я давно люблю ее, папа, но еще глубже и сильней после тех шести недель, что она провела в Петербурге в прошлом году.
— Чушь!
— Я долго противился моему чувству, но теперь Эдди отставлен и между нами нет больше никаких препятствий. Папа, я уверен, что наши чувства взаимны! — Николай уставился на отца голубыми глазами, потом, опомнившись, опустил их, но было уже поздно.
— Черт побери, Ники, да ты просто олух Царя Небесного! — рассердился царь и встал. — Да все Гессенское княжество поместится у меня на ладони! — Александр выразительно хлопнул кулаком по раскрытой руке. — Русские наследники на улицах не валяются. Мало того, что в герцогстве Гессенском у России нет теперь даже посла, она же совершенно ненормальна! Она упертая лютеранка, она никогда не согласится перейти в православие. Ты не сможешь взять ее в жены, потому что ты не какой-нибудь купчишка, ты будешь когда-нибудь русским императором, чтоб тебе пусто было, а русская императрица не может быть лютеранкой! Мальчишка! Ты должен думать не только о … — Царь запнулся на полуслове и кашлянул в свой большой кулак. — Но и о благе державы.
— Аликс написала мне, что приедет к Сергею и Элле в Ильинское этой осенью, — пролепетал Николай.
— И ты хочешь к ней съездить? Не думаю, что это будет хорошая идея, — Александр покачал головой и взглянул на небо, откуда опять стал накрапывать дождь, изредка срываемый порывами западного ветра. Потом тяжелым шагом пошел к дверям из столовой. — Полагаю, морское путешествие пойдет тебе на пользу и выбьет эту дурь у тебя из головы.
Император окинул взглядом низкорослую и щуплую фигуру сына. Видок у того был совсем не царский. Если его посадить верхом, то еще ничего, но без коня и смотреть стыдно.
— Не забывай, что ты — будущий царь, — с брезгливым отвращением сказал он, — и твой брак — не твое личное дело, но дело всей державы. А об Алисе и не мечтай.
— Да, папа, — промямлил Николай.
Александр молча кивнул и цесаревич быстро покинул террасу. За шпалерами кустов царь заметил прогуливавшегося Черевина и подозвал его к себе.
— Во сколько, ваше величество, вы намечаете выезд в Нижний сад? — спросил, робея и моля Бога, чтобы император не вспомнил об утреннем казусе с Владимировым, начальник царской охраны.
— После обеда, часов в девять вечера, чтобы посмотреть иллюминацию, откушать чаю в Монплезире и вернуться до начала фейерверка обратно сюда, — ответил царь. — Ты знаешь, что Ники сегодня учудил? Сказал, что хочет жениться на Алиске Гессенской! Оболтус. У тебя есть чего-нибудь выпить, Черевин? Тогда пошли вон туда, за фонтан, спрячемся. Там нас не увидят. А то взгреет меня императрица в честь своих именин!
Они скрылись за буйными зарослями цветов, сев на корточки, и Черевин достал из-за своего голенища фляжку.
— Что мне в тебе нравиться, Черевин, так это манера говорить все прямо, начистоту. Скажи мне, что ты думаешь о перспективах Ники как жениха. Какую невесту ему подобрать?
— Не знаю, ваше величество. Как вы знаете, я был свидетелем на свадьбе вашего покойного батюшки с княгиней Юрьевской. Если женить наследника насильно, он может повторить путь своего деда.
Александр потемнел лицом.
— А что говорят об этом люди?
— В Петербурге ходят слухи, что обучать цесаревича искусству любви поручено Марии Лабунской.
— Это одна из тех, что крутятся вокруг Ники на катках и прочих увеселениях?
— Еще та штучка, ваше величество. Как танцовщица весьма посредственна, но зато очень любит наряды и украшения.
— Наследник действительно водит с ней шашни? Может, стоит ее выслать из столицы?
— Сколько мне известно, Лабунская не ближе к цесаревичу, чем все другие девушки. Мне донесли, что с тех пор, как две недели назад открыл сезон Красносельский театр, наследник посещает почти все представления, где танцует Кшесинская-Вторая, и ходит к ней с цветами за кулисы.
— У нее рожица-то будет посимпатичнее, чем у гессенской селедки, — заявил Александр. — Правда, ножки короткие, зато глаза большие. Если Ники скоро не оженить, он превратится в обычного б…, как его дядья. И дал же мне Бог такого сукина сына!
Грубые слова царя напомнили Черевину о замышляемом им заговоре и еще больше утвердили его в решимости довести дело до конца. Но одновременно откуда-то к нему пришла мысль, что он уже стар и болен, чтобы влезать в подобные авантюры с вместе с такими людьми, как Владимиров, что ему следовало бы спокойно дожить остаток дней и не заниматься глупостями. А до смерти осталось ему не так уж и много.
— Чего ты-то такой смурной, Черевин? — спросил Александр.
«Увижу ли я до своей смерти, как царь будет радоваться наследнику престола?» — подумал начальник охраны. Ему опять вспомнился Артемий Иванович, прыгающий позади поющих хористов и машущий императору рукой.
— Чего молчишь, Черевин? — опять спросил царь.
— Чую, смерть близится моя. Если я умру, будете ли вы горевать и плакать обо мне, ваше величество?
— Опять ты за свое, Черевин, — поморщился Александр. — И без твоих вздоров тошно.
— Мне не так жалко думать о своей кончине, ваше величество, как о том, что смертью своей я огорчу вас.
— Да ничего ты меня не огорчишь! — царь поправил сползшую на плечо Андреевскую ленту. — И что на вас на всех сегодня нашло, с самого утра пристаете ко мне со своими благоглупостями! Просто сапоги всмятку какие-то!
— Может вы, ваше величество, пожалуете мне до кончины моей ленту Александра Невского? Все мои сверстники давно носят эту ленту, вот и сегодня вы пожаловали ее Клему и Апухтину. А кто такой Клем? Всего лишь генерал от инфантерии, помощник командующего войсками Виленского военного округа. А кто такой Апухтин? Всего лишь тайный советник, попечитель варшавского учебного округа. А я, ваш преданнейший слуга и начальник вашей личной охраны, до сих пор имею только ленту ордена Белого Орла!
— Ну вот что, Черевин, — рассердился царь. — Ты просил меня объявить директору Департамента полиции Дурново благодарность за отлично-усердное и примерное исполнение лежащих на нем обязанностей? Три дня назад я сделал это, хотя даже не знаю, чем он так выслужился перед тобой. Так какого черта ты еще ко мне пристаешь?! Кстати, сегодня утром я видел в хоре профессора Черни одного из твоих минных инженеров. Его фамилия была в списке петергофских дачников, поданных мне утверждение Воронцовым-Дашковым? Да? Какой-то он непрезентабельный, этот инженер, словно из задницы достатый. И скочет, словно заяц. Кто его только допустил поздравлять императрицу с тезоименитством!
— Я разберусь, ваше величество.
Черевин понял, что больше разговоров с царем сегодня не будет и, скоро раскланявшись, поспешил покинуть парк Александрию. В преддверии царского выезда в Нижний сад ему и так предстояло много хлопот с организацией охраны их величеств и высочеств среди толп разношерстного народа, который соберется к этому времени в парке. Заглянув в контору к Федосееву, он застал там заведующего императорскими дворцами и парками полковника Сперанского, петергофского коменданта генерала Фрейганга, почти лысого, с делающими его похожими на мусульманина бородкой и усами начальника императорского Конвоя Шереметьева, петергофского полицмейстера полковника Вогака, начальника дворцовой полиции Осипова и помощника начальника Петербургского охранного отделения ротмистра Крылова. Заглянув через плечо Вогака, он разглядел на столе вычерченный на огромных листах ватманской бумаги план Нижнего петергофского сада с обозначенными на нем в масштабе деревьями, в который Шереметьев тыкал лишенной большого пальца правой рукой, объясняя маршруты конвойных казаков.
— Вот здесь, — он поставил винную пробку, изображавшую императора, на квадрат, обозначавший площадку перед Шахматной горой, — кортеж свернет вниз по Монплезирскому проспекту до Марлинской аллеи.
— Смотрите тут в оба, — заметил Черевин. — Экипажи замедляются на повороте, а народу будет масса, если не испугаются дождя. И бомбой попасть проще.
— Далее кортеж проследует к Марли, объедет кругом пруды и дворец и двинется к Эрмитажу.
— Заметьте, что у Эрмитажа на берегу всегда полно разного сброду, — опять вставил Черевин. — Поставьте там самых опытных агентов, а казакам велите оттеснить всех подальше. Разворот там самый узкий, так что лучше места не придумаешь.
— От Эрмитажа кортеж вывернет на Морскую аллею и поедет к Монплезиру.
— Не забудьте осмотреть оба моста на предмет адских машин. Прямо сейчас, немедленно. И поставьте под мостом кого-нибудь с лодкой, чтобы не отлучался оттуда ни на миг.
Черевин сделал еще несколько обычных распоряжений, — больше и не требовалось, потому что процедура охраны царского семейства во время петергофских праздников была отработана до мельчайших деталей, — и отправился к себе переодеться в парадный мундир: позднее сделать это ему уже не будет времени.
Дождь прекратился и появилась надежда, что к вечеру прояснится. По всему Александринскому шоссе вдоль ограды Нижнего сада стояли придворные экипажи с кучерами в парадных, расшитых золотом придворных ливреях и треуголках. Прямо у своих дверей Черевин обнаружил щегольской частный экипаж, узнав в сидевшем на козлах лакее служившего у княгини Радзивилл кучера. Поднявшись к себе в квартиру, он в самом деле обнаружил там княгиню. Она сидела на диване, заложив ногу за ногу и читала какую-то французскую книжку.
Княгиня Екатерина Радзивилл была очень красива, это отмечали все встречавшиеся с ней. Глядя на ее лицо, становилось понятно, почему Бальзак бросил Париж ради того, чтобы женится в Малороссии на Еве Ганской, приходившейся княгине по отцу родной теткой. При первом взгляде на нее людям незнакомым казалось, что она еще совсем юна, и только потом они начинали замечать морщинки около глаз, и становилось ясным, что она уже немолода: на самом деле в конце марта ей исполнилось тридцать два года.
— Петр, его величество пригласил тебя сегодня на чай? — спросила она, заметив Черевина и откладывая книжку в сторону.
— Конечно, — ответил Черевин и велел денщику принести парадный мундир.
— Жалко. Я думала, что ты покатаешься со мной в экипаже и посмотришь фейерверк.
— Твое влияние в обществе зиждется только на том, что царь все еще приглашает меня на чай.
— И на пьянки, — добавила Радзивилл.
Денщик принес темно-зеленый, шитый золотом свитский мундир с белой выпушкой и аксельбантом и синие шаровары с красным двухрядным лампасом. Перед Черевиным были поставлены высокие, надраенные до блеска сапоги, а на столик аккуратно положена белая мерлушковая шапка с красным дном. Денщик помог генералу стянуть испачканные в глине сапоги и удалился с ними из комнаты.
— Что смотришь, Катенька, стар стал для тебя? — спросил Черевин, стягивая шаровары и обнажая худые волосатые ноги. — Думаешь, помру скоро? Может, к своему хахалю хочешь парижскому, к Рачковскому?
Княгиня Радзивилл вздрогнула, но Черевин не заметил этого.
— Никакой он мне и не хахаль, — сказала она с притворным возмущением. — Просто знакомый.
— Рассказывай — знакомый. Чего же ты тогда ради просто знакомого просила меня отправить в Якутск тех двух, которых он тайком привез в Россию?
— Но ведь ты вернул их.
— Вернул. Да только это не твое дело, Екатерина. Как вернул, так и обратно отправлю, если надо будет. А твой Рачковский тебе точно не хахаль. Беден пока, взять с него нечего. Но он быстро идет в гору, Катенька. Ну как, бросишь меня, старика?
Он знал, что она никогда не бросит его. Ее отец, Адам Радзивилл, был камер-юнкером у Николая I, а мать в Одессе держала литературный салон, в который захаживал сам Пушкин. Пятнадцати лет от роду она вышла замуж за прусского офицера, камер-юнкера князя Вильгельма Вильгельмовича Радзивилла, родив ему нескольких детей. Однако князь Радзивилл не имел никакого веса и был совершеннейшим ничтожеством. Он не мог дать честолюбивой красавице того, что желала ее душа. Княгиня поставила крест и на муже, и на детях, до которых ей, собственно, не была дела, нашла себе влиятельного содержателя, генерала Черевина, и благодаря сожительству с ним приобрела даже некоторый вес в свете. Лишиться покровительства Черевина означало для нее лишиться даже своего небольшого влияния.
Княгиня встала с дивана, подошла к Черевину и холодно поцеловала его в лоб.
— Я люблю тебя, Петр. Разве я могу тебя бросить?
— Любишь, как собака палку, — Черевин взял принесенные чистые шаровары и, по-стариковски кряхтя, стал натягивать их.
Вернулся денщик и помог генералу облачиться в мундир. Нацепив темно-синюю ленту ордена Белого Орла, привесив положенные ордена и горько вздохнув, Черевин поцеловал на прощание княгиню и отправился обратно в контору к Федосееву, чтобы присоединиться к обсуждению сегодняшнего вечера.
Княгиня почитала еще немного, потом велела черевинскому денщику принести ей вина и чего-нибудь перекусить. Денщик был привычен к такому. Радзивилл постоянно наведывалась к Черевину, где бы он ни жил — в Петергофе, в Гатчине или в своей мрачной квартире на Сергиевской, и столь же часто оставалась у него на ночь. Взяв с подноса рюмку, княгиня откинулась на спинку дивана и задумалась. Почему Черевин именно сегодня спросил о Рачковском, хотя никогда в разговоре с ней сам не упоминал его прежде? Почему именно сегодня, когда она должна встретиться с человеком Рачковского во время петергофского гуляния, о чем Рачковский слезно умолял ее в своем письме?
У нее не было на этот вопрос ответа.
В шесть часов вечера, когда по всему Нижнему саду заиграли духовые оркестры, она покинула черевинскую квартиру и велела кучеру везти ее в парк. К концу дня распогодилось и появившееся солнце подсушило песок дорожек и листву на кустах и деревьях. По аллее, шедшей от кавалерских домов вниз к Нижней дороге и от Шахматной горы по Монплезирскому проспекту коляска покатила к морю. Вдоль Морской аллеи уже медленно разъезжали придворные и щегольские частные экипажи. Оркестры полковой музыки играли почти непрерывно, собирая около себя толпы народа, все прибывавшего и прибывавшего безостановочно, полчищами вываливавшего с пароходов и из поездов. Едва смолкал один хор, как начинала греметь полковая музыка в другом месте, сливаясь с бесконечным говором толпы и плеском фонтанов. Широкие аллеи, дорожки и лужайки парков были заполнены массами гулявшей публики, то рассматривавшей редкости и прелести петергофских дворцов и парков, то толпившиеся у музыки или же собиравшиеся на Морскую и другие аллеи поглазеть на экипажи.
Постепенно смеркалось. Княгине уже надоели поездки туда и обратно по Морской аллее, а посыльный Рачковского до сих пор не появлялся. В девять вечера разошедшиеся по парку пиротехники начали зажигать иллюминацию и в течение нескольких минут погрузившийся было в темноту парк осветился тысячами огней.
По сторонам аллеи бесконечными лентами загорелись от Монплезира до Марли ленты огненных щитов самых затейливых узоров с разноцветными шкаликами. Стало светло, как днем, в свете щитов блеснул плешью шедший рядом с экипажем еврей и дотронулся рукой в лайковой перчатке до руки Екатерины Радзивилл.
— Прошу прощения, ваша светлость, меня прислал к вам господин Рачковский.
— Я давно жду вас. Садитесь, — Радзивилл указала на сидение рядом с собой.
Еврей забрался в экипаж и княгиня велела кучеру везти их к Марли.
— Меня зовут Аркадий Гартинг, — представился еврей. — Когда-то у меня была другая фамилия, а еще раньше, в Пинске, еще одна, но события заставили меня сменить ее этим летом, чтобы избежать несправедливого осуждения на пяти лет тюрьмы.
— Я кажется догадываюсь. Вы — тот самый Ландезен, которого французы заочно приговорили как агента-провокатора?
Гартинг утверждающе кивнул.
— Что же привело вас ко мне, господин Гартинг?
— Меня интересует любые сведения, связанные с возвращением из Якутска тех двух людей, которых в свое время благодаря вашей помощи удалось отправить в Сибирь.
— Господин Рачковский говорил вам, наверное, что мой близкий друг, генерал Черевин, по моей настойчивой просьбе согласился отправить этих двух в Сибирь тихо и без огласки, административным порядком. Но, к сожалению, дело это оформлялось через начальника его канцелярии камергера Федосеева. Который, как оказалось, состоит в близких отношениях с генералом Селиверстовым и полковником Секеринским. Последние двое имеют что-то против вас и очень заинтересовались двумя таинственными ссыльными. Увы, мое влияние на генерала Черевина не простирается так далеко, чтобы уговорить его запретить кому-либо совать нос в это дело.
— И что же, генерал Селиверстов добился их возвращения?
— Господин Федосеев и полковник Секеринский уговорили Черевина поднажать на директора Департамента полиции и тот вернул их обратно.
— И что же господа Секеринский и Ко. собираются делать с Владимировым и Фаберовским?
— Полагаю, они хотят использовать этих двоих против Пьера… простите, против господина Рачковского. Как мне удалось узнать, они замышляют что-то серьезное.
— Царь Соломон, семьсот его жен и триста наложниц, да вот же он! — закричал вдруг Гартинг и замолотил тростью по спине кучера, требуя остановится.
— Да кто, кто там?! — затеребила еврея княгиня.
— Это Владимиров, я узнал его! — выкрикнул Гартинг и, соскочив на землю, бросился в толпу гулявших.
То и в самом деле был Артемий Иванович. И не один.
Вернувшись из Александрии после несостоявшегося разговора с императором обратно в Бобыльское, злой и промокший Владимиров был плотно накормлен и обогрет Февроньей на теплой кухне. На такое обхождение у кухарки был свой расчет — сегодня Артемий Иванович должен был повести ее в Нижний сад на праздник, а как гласит английская поговорка, которую Владимиров любил ей повторять при всяком случае: «Голодный мужчина — злой мужчина». Злой мужчина никогда не поведет ее на праздник. После еды Артемий Иванович стал достаточно добрым мужчиной, и когда к шести вечера распогодилось, велел ей собираться. Она вычистила ему одежду, пока Артемий Иванович пил чай на кухне в серых пожарных штанах и халате надворного советника, затем сама оделась и накрасилась свеклой для завтрашнего борща и надушилась господскими духами, а также вспрыснула своего кавалера дорогим кельнским одеколоном г-на Стельмаха.
Они чинно отправились по Ораниенбаумской дороге к Марли. Артемий Иванович пообещал показать своей барышне, как ручные карпы приплывают на звон колокольчика. Он знал, что время кормления карпов, которые приучены приплывать к площадке перед дворцом на звон медного колокола, уже прошло, поэтому по пути оторвал колокольчик от нижней калитки дачи известного композитора и пианиста Антона Рубинштейна, пояснив Февронье, что г-н Рубинштейн проводит нынешнее лето в Шварцвальде и ему колокольчик сегодня без надобности, а утром его можно привесить обратно.
По прибытии в Нижний сад Артемий Иванович долго ходил вокруг большого прямоугольного Марлинского пруда, низкие берега которого были обложены деревянной свайной стенкой, и звонил в колокольчик, вызывая всеобщее недоумение и тем очень смущая кухарку.
— Бог с ними, Артемий Иванович, с поликарпами вашими, — конфузясь, говорила она, но Владимиров с упорством маньяка продолжал свое занятие, словно прокаженный, звякая своим колокольчиком. Наконец, когда стемнело и зажгли иллюминацию, он утомился. Они встали у Косых прудов напротив залитого светом павильона Марли, эффектно отражавшегося на зеркальной поверхности воды, и замерли, любуясь великолепным видом.
— А вы женитесь на мне, Артемий Иванович? — спросила Февронья, прильнув к плечу Владимирова.
— Непременно-с! — прокашлявшись, ответил тот, подумав про себя: «Нашел черт ботало, сам теперь не рад!». — Непременно-с женюсь. Вот только жалование получу-с — и тотчас в церковь. А без жалования какая женитьба!
И тут Артемий Иванович услышал голос Гартинга. Он не слышал его уже два года, но какая-то глубинная память заставила его бежать, хотя мозги его еще не осмыслили, что он нарвался на Ландезена и ему следует скрыться. Схватив кухарку за руку, он поволок ее в толпу, через фруктовый питомник к высокому валу, защищавшему деревья от северного ветра с моря. Судя по грубым выражениям, вспоминавшим жидовскую мать и все ее иудейское семя, которые раздавались где-то за его спиной, но относились явно не ко Владимирову, Ландезен преследовал его и не отклонялся от правильного направления. Они взбежали по мраморной лестнице на гребень вала и устремились в сторону Эрмитажа. С высоты вала на море были видны растянувшиеся цепью на Петергофском рейде плашкоуты, с которых должны были запускать фейерверк.
Где-то вдали, со стороны Александрии, раздалось громкое «ура!», подхваченное тысячами голосов, волною прокатилось по всему парку, достигло Марли и долго-долго еще не смолкало — это в парк въехал императорский кортеж. В иной раз Артемий Иванович непременно присоединился бы к изъявлению верноподданнических чувств, но сейчас ему было не до того. Кубарем скатившись с вала, он добежал до Эрмитажа, где какой-то разъяренный чиновник, которому Артемий Иванович наступил на ногу, едва не скинул его в окружавший павильон ров, и потащил кухарку вправо к Львиному каскаду и Марлинской аллее, поскольку дорожка от Эрмитажа вдоль моря была плотно забита народом.
Они успели добежать по широкой Марлинской аллее до фонтана Ева, скульптура которой напоминала своим пышным телосложением Февронью, прежде чем конвойные казаки преградили им дорогу и оттеснили на траву, назад к Эрмитажу.
— Кто за нами гонится, Артемий Иванович? — переводя дух, спросила кухарка.
— Жид проклятый! И не отстанет, анафема! Как он нас в такой толкотне находит!
— Да вы бы колокольчик придержали! — отдуваясь, посоветовала Февронья.
— Вот зараза! — в сердцах выкрикнул Артемий Иванович и сорвал колокольчик с шеи, порвав черный шелковый шнурок.
— Куда прешь, жидовская морда! — раздался где-то совсем неподалеку злобный крик и Артемий Иванович в панике огляделся.
Императорский кортеж уже пересек Самсониевский канал и приближался к фонтану Ева.
— Господин Гурин, вы сегодня на празднике по службе или сами по себе, гуляете? — окликнул Владимирова знакомый голос и Артемий Иванович, обернувшись, увидел сладко улыбающегося Стельмаха.
— Вот, держите, — Владимиров сунул надворному советнику колокольчик и добавил: — Как увидите государя, звоните изо всех сил. Хавронья, за мной!
И побежал прочь в сторону моря, волоча даму за собой, чтобы добраться до берега, где в толпе терпеливо ожидавших фейерверка было бы легче скрыться.
— Я Февронья! — успела крикнуть она, прежде чем они врезались в толпу и были накрыты накатившимся сзади ревом «ура!», в котором ясно был слышен лихорадочный звон колокольчика.
Вскоре они застряли, не в силах сдвинуться ни на шаг, зажатые со всех сторон людьми. Артемий Иванович пытался толкаться, но был выдавлен наверх, так что его ноги перестали касаться земли, и тем был лишен всякой возможности к активным действиям. Зато, оказавшись на голову выше всей окружавшей его публики, он получил прекрасную возможность для созерцания. Ему было видно, как императорский кортеж, состоявший из запряженного цугом, на французский манер, четверкой белых лошадей шарабана, с жокеями и форейторами, в котором ехал сам император с женой и детьми, и трех открытых фаэтонов, забитых под завязку великими князьями и княгинями, проследовал вокруг Марли и направился к Эрмитажу. Впереди конвойные казаки и дворцовая полиция вежливо, одними только нагайками и саблями плашмя, расчищали ему дорогу.
С императорского кортежа Артемий Иванович перевел взгляд на Стельмаха, которого легко было найти по звуку колокольчика. Стельмах бился в руках двух здоровых агентов, знакомых Владимирову по обществу хорового пения, отчего колокольчик жалобно звякал при каждой попытке надворного советника высвободиться из схвативших его рук. В двух шагах от Стельмаха Владимиров увидел обескураженного Ландезена-Гартинга, переводившего недоуменный взгляд с ничего не понимавшего надворного советника на торчавшего над толпой, словно пень на болоте, Артемия Ивановича.
Артемий Иванович понял, что ему надо тикать. Он засучил ножками и был тотчас допущен к земной тверди, по которой понесся, сломя голову, к Самсонову каналу, разбрасывая всех вокруг.
— А меня! А меня! — завизжала Февронья и бросилась за ним.
Они кричала, не на секунду не умолкая, и послужила Гартингу прекрасной заменой колокольчика, поэтому он, оставив в покое Стельмаха, побежал на крик.
У фигурного мостика через Самсонов канал, шедший от Большого дворца к военной пристани, дело опять застопорилось из-за наплыва толпы, которая любовалась видом самого Самсона и спускавшихся от Дворца каскадов с золотыми статуями, отражавших бесчисленные, светившиеся под ними в углублениях, разноцветные огни. Артемию Ивановичу захотелось, чтобы вся иллюминация вдруг разом бы погасла, но вместо этого и величественные лестницы, и изумрудные газоны светились тысячами огней. Чуть не на каждом дереве, едва ли не под каждым цветком на клумбе горели разноцветные огоньки или шкалики. У пристани канал заканчивался колоссальным, в хороший пятиэтажный дом, щитом в виде звезды из серебряных лучей, в центре которого, оттеняемые снопами электрического света, выделялись огненные вензеля Их Императорских величеств. Огромные ленты вокруг фонтанов и по карнизам златоглавых восточных павильонов и клумб цветов делали картину настолько чарующей, что от нее трудно было оторвать взор. Но Артемию Ивановичу было не до красоты — он спасал свою шкуру. Его даже не взволновал, как это всегда бывало прежде, позолоченный Геракл с дубиной и в шкуре Немейского, или, как всегда объяснял своим барышням Владимиров, немецкого льва, на которого, по их льстивым уверениям, он был очень похож.
— Я здесь, Артемий Иванович! — прокричала Владимирову прямо на ухо Февронья, но он тотчас зажал ей рот рукой и потащил через газон к Морской аллее, по которой надеялся перебраться через канал. Когда они оказались на другой стороне, он отнял руку и кухарка опять закричала:
— Да что вы себе позволяете! Я вас не буду кормить!
Однако нескольких минут тишины, предшествовавшей этому моменту, Владимирову хватило, чтобы окончательно оторваться от Ландезена-Гартинга.
Вдоль Морской аллеи и на берегу вокруг Монплезира было так много народу, что, казалось невозможным вздохнуть, а не то, что протиснуться вперед через толпу, которая здесь была более пестрая, чем где-либо. Все валуны на берегу были усеяны народом. Некоторые влезали на деревья, чтобы лучше видеть. Здесь перепутались все, без различия возраста, состояния и положения, здесь не обращалось внимания на соседей, так как оно все было обращено на темный фон моря, в сторону Петергофского рейда, откуда с плашкоутов вскоре должен был быть пущен фейерверк. Здесь в толпе чухонцев стояли нарядные дамы, а там среди блестящих мундиров красовались крестьянки из окрестных деревень в их пестрых нарядах.
Монплезир и императорская купальня были красиво убраны разноцветными шкаликами и фонариками и представлялись настоящим огненным царством; разнообразие, причудливость, красота и изящество иллюминации которого очаровывали всех. Даже Февронья перестала голосить и не обиделась на Артемия Ивановича, когда он назвал ее в очередной раз Хавроньюшкой и поднес сорванную прямо тут же, на клумбе перед Монплезиром, розу.
Внезапно раздались окрики конвойных казаков, толпа подалась назад и Артемий Иванович, упиравшийся спиной в дерево и потому не унесенный назад вместе с остальными, оказался в первых рядах любопытствующей публики. Бородатый казак, в котором Владимиров узнал Стопроценко, замахнулся было нагайкой, но потом, в свою очередь узнав Артемия Ивановича, подмигнул ему и проехал дальше, заставляя свою лошадь грудью отодвигать людей подальше от аллеи. Кухарка была унесена прочь и Владимиров смог полностью отдаться охватившему его чувству. Завидев императорский кортеж, он первым крикнул «Ура!» и даже подкинул в воздух котелок, который был тотчас куда-то унесен ветром.
Выбравшись из экипажей прямо перед глазами Владимирова, так близко, что он казалось, мог дотянуться до них рукой, величества и высочества с громким гомоном пошли к Ассамблейному залу — одному из трех одноэтажных флигелей, примыкавших к Монплезиру с востока, где им был накрыт чай. За сегодняшний день Артемий Иванович так сроднился с императорской семьей, что уже чувствовал себя полноправным ее членом, и был ужасно удивлен, когда, двинувшись за ними следом, был схвачен еще более изумленным Стопроценко за шиворот.
Приглашенные к чаю сенаторы и министры в расшитых золотом мундирах обошли Артемия Ивановича и тоже направились к Ассамблейной зале. Артемий Иванович успел заметить скромную фигурку Черевина, которого даже высокая мерлушковая папаха свитского генерала не делала выше.
— Если я тебя еще раз увижу, Сибирью не отделаешься, — бросил он на ходу все еще болтавшемуся на руке Стопроценко Владимирову.
Когда спустя полчаса императорское семейство и приглашенные лица покинули павильон, Артемия Ивановича в Нижнем саду уже не было. Его больше не интересовали ни фейерверк, когда в десять часов на море плашкоуты закутались в плотный белесый дым, со свистом посылая в воздух модскюгели, которые взрывались в ночном небе разноцветными огнями, ни то, что, как потом оказалось, фейерверк этот отсырел и прошел не вполне удачно: некоторые части его были пропущены, а конец вовсе отменен. Он в это время прятался в дровяном сарая надворного советника Стельмаха, баррикадируя все входы в сарай горами березовых чурок. Последние слова Черевина привели его в такой ужас, что он даже забыл про обиду, причиненную ему царской челядью, не допустившей его к долгожданному разговору с обожаемым монархом.
Глава 7. Наводнение
27 августа, среда
До самого своего дня рождения, целых три недели после Петергофского праздника, Артемий Иванович не мог забыть угроз Черевина и отказывался днем покидать дровяной сарай. Поэтому Февронье приходилось кормить его по ночам, когда Артемий Иванович разбирал баррикады, чтобы посетить отхожее место и ознакомиться там с газетными сообщениями о происходящем в мире. Такая его стойкость покорила даже Стельмаха, который первое время тоже не выходил из дома, после того как побывал с колокольчиком в Придворном госпитале и там ему поставили диагноз временного помрачения рассудка. Но дома он смог просидеть только полторы недели. И когда Февронья сообщила хозяину, что их странному постояльцу исполняется тридцать шесть лет, устроил в честь Артемия Ивановича скромный ужин и даже разрешил ему ночевать в доме, на железной пружинной кровати без матраца в освободившейся кладовке.
Через два дня после торжественного ужина Артемий Иванович лежал в своей кладовке и читал «Петербургский листок», который теперь попадал ему в руки прежде, чем отправлялся для известных надобностей в сортир, о том, что, поднимаясь на Монблан, граф Верланов упал в пропасть с шестью спутниками. Шел восьмой час вечера и приближалось время обеда, поскольку Артемий Иванович до сих пор обедал после того, как семейство Стельмаха покидало стол. Внезапно он услышал странный глухой звук, похожий на выстрел орудия. Через некоторое время звук повторился. Отложив в сторону газету, Артемий Иванович вышел на веранду и взглянул на небо. Порывистый западный ветер стремительно нес редкие облака, раскачивал темные деревья. Полная луна висела на холодном звездном небе.
— Артемий Иванович, идите кушать! — позвала из дома Февронья.
Владимиров вернулся в дом, где было так тепло и уютно, и сел за стол.
— Вы что будете? Вот, их благородие ножку куриную не докушали. А здесь их супруга салатику оставила.
— А что в той рюмке, портвейн? — заинтересовался Артемий Иванович.
— Да, муха попала. Вот их благородие и пить не стали.
— Вынь муху и давай сюда, — велел Артемий Иванович. — А ты не слышала, Феврония, странных звуков?
Кухарка засмущалась и принюхалась.
— Я господам на завтрак гороховицу варила и сама немного употребила. Может быть, вы тоже хотите? У меня осталось.
— Нет уж, увольте, — сказал Артемий Иванович. — После гороха не пропердишься. О, опять!
На этот раз звук повторился дважды.
— Это, наверное, в Кронштадте из пушек стреляют.
— Раз по два раза стреляют, быть большому наводнению, — рассудительно сказал Артемий Иванович.
Завершив трапезу, он вернулся в кладовую и опять завалился на кровать. Последнее время ему все чаще вспоминался Лондон, и какая мягкая кровать была у Эстер, и как она любила и восхищалась им. Не то что эта свинья, которая кормит его объедками. В мечтаниях он задремал, а потом и вовсе заснул.
Проснулся он от неприятной мокроты простыни под ним. Подобные ощущения он испытывал последний раз лет тридцать назад и потому был неприятно удивлен. «Надо бы сходить до ветра, — не открывая глаз, подумал Артемий Иванович. — Только зачем? Все равно уже поздно.» Однако, все также не открывая глаз, он задрал кружевной подол фланелевой ночной сорочки, подаренной ему из своего сундука с приданным Февроньей, сел и спустил ноги с кровати. Странное ощущение, охватившее его ноги, заставило его открыть глаза, но в темноте не мог ничего разглядеть. Противно дребезжало стекло в окне, иногда взрагивая с грохотом, словно в него запустил камнем какой-нибудь рамбовский хулиган. Тогда Владимиров протянул руку к полке, где хранилась слежавшаяся в большие куски соль, нащупал там коробок спичек и свечку и зажег ее. Дом тотчас огласился его испуганным ревом. Он стоял по колено в воде, заполнявшей его кладовку, а вокруг его ног по ее черной поверхности плавали дохлые мыши и тараканы. Мимо в сторону двери важно проплыл ночной фарфоровый горшок без крышки с сидевшей внутри жирной серой крысой, зло поблескивавшей на Артемия Ивановича черными глазками. На крик Владимирова таким же истошным воплем отозвалась где-то за стеной хозяйка, госпожа Стельмах. Вздрогнув, Артемий Иванович уронил свечку и она, упав в воду, с коротким шипением погасла. Ничего не понимая, Владимиров утер лицо ночным колпаком, опять натянул его на уши и, подойдя к окну, и распахнул его. Тут же в кладовую ворвался ветер, грохнул оконными рамами о стену так, что стекла со звоном лопнули. Артемий Иванович высунулся наружу и его глазам предстала чудовищная, совершенно апокалипсическая картина. При свете огромной зловещей луны на ясном небе по черной поверхности моря катились поднятые бурей волны, сверкая белыми барашками на своих гребнях. Местность кругом разительно изменилась. Теперь везде, даже там, где раньше была привычная и безопасная суша, расстилалось бушующее море, из волн которого черными безжизненными коробками торчали дачи с сорванными крышами и поломанные деревья. В воздухе носились листья, прямо перед окном горел сарай с известью, а на месте любимого сортира вообще ничего не было. Откуда-то из темноты доносился детский плач и крики о помощи. Артемий Иванович потряс головой, но страшное видение не исчезло. Он увидел, как мимо него на лодке с деловым видом проплыл знакомый рыбак в надвинутом на глаза картузе и скрылся за соседним домом.
— Мама! Господи милосердный! — закричал Артемий Иванович и, не размышляя, сиганул в окно.
Три часа между тем моментом, когда Артемий Иванович лег спать, и его прыжком из окна в бездну, были заполнены многими событиями. Несмотря на пугающие пушечные выстрелы из Кронштадта, семейство надворного советника Стельмаха и вся его прислуга все-таки легли спать. Тем временем западный ветер продолжал нагонять воду. Буря, с сильными порывами, превращавшимися порою в ураган, разметала сложенные на берегу стога сена, угнала множество лодок, срывала крыши с домов, повалила множество деревьев. Была сорвана крыша и с дачи Стельмаха. Во втором часу ночи бушующее море начало заливать берег, и к двум часам высота воды была настолько велика, что рыбаки, живущие на самом берегу, принуждены были спасать свое имущество, причем переезжали через Ораниенбаумскую дорогу на лодках, словно здесь никогда не было суши.
Вода заливала нижние этажи дач, низкие дачные домики, дачные погреба и службы. По мере увеличения воды, дачников, большая часть которых уже спала, охватила паника. Раздавались крики, то и дело слышался плач; жильцы нижних этажей бегали оторопело, умоляя соседей принять их домашний скарб и спасти вопивших детишек. Начали разыскивать лодки, заготовлять легкие плоты, в виду страшной перспективы бегства от воды. Семейство Стельмахов тоже бегало, словно угорелое, и таскало вещи снизу на второй этаж, в горницу к старшей стельмаховой дочери. Тут, как зловещий знак, загорелся сарай с негашеной известью, а нужник рухнул под напором воды.
Из Ораниенбаума приехал на извозчике пожарный, соперник Артемия Ивановича в борьбе за расположение Февроньи, откомандированный тамошним брандмейстером для помощи жителям деревни Бобыльской. Стельмах за громадные деньги — по три рубля за человека, — договорился с извозчиком, что тот отвезет их на дачу к Рубинштейну, с которым Стельмах был знаком и даже бывал пару раз в гостях. Дача Рубинштейна стояла наверху, но сад спускался к ораниенбаумской дороге. Когда извозчик подвез к калитке самого Стельмаха, вода уже выступила на дорогу. Надворный советник, шлепая туфлями прямо по воде, бросился к калитке, но та оказалась заперта. Не было рядом и никакого колокольца, чтобы позвонить и привлечь внимание хозяев.
Несчастный Стельмах даже попытался перелезть через забор, но это оказалось ему не по возрасту и не по силам. На его удачу на во двор вышел садовник Рубинштейна — взглянуть, не упало ли какое-нибудь дерево на оранжерею, — и калитка была отперта. Извозчик совершил еще несколько рейсов по уже заливаемой водой дороге, каждый раз поднимая расценки на рубль. Последней в даче осталась супруга Стельмаха, которая собирала в несессер пудру, румяна и прочие женские принадлежности. Но когда пришла очередь ехать за нею, извозчик наотрез отказался, так как вода стояла уже слишком высоко и лошадь не желала идти в нее. Стельмах плакал, валялся на коленях, умоляя жестокосердного извозчика спасти его драгоценную половину, обещая за это беленькую [11]. Но тот был неумолим и вскоре уехал, оставив Стельмаха один на один с его горем.
В тот миг, когда Артемий Иванович ринулся из окна, госпожа Стельмах уже поняла, что спасения ей ждать больше некуда, и, перестав кричать, завыла в голос.
«Господи, разве волки воют на луну в такую бурю?» — успел подумать Артемий Иванович, прежде чем грянулся о какие-то доски. Мокрые и скользкие, доски закачались под его босыми ногами. Рука Артемия Ивановича непроизвольно нащупала какую-то ручку, такую знакомую и придававшую ощущение надежности среди окружающего хаоса. Однако это был вовсе не «Наутилус» из романа Жюля Верна, это был сортир Стельмаха с вырезанным над дверью готическими буквами девизом «Der Tempel der einsamt Ьberlegung» — «Храм уединенного размышления», поваленный бурей и прибитый волнами к стенам дачи.
Прыжок Артемия Ивановича вкупе с усилием волны, ударившей в этот момент в стену дома и отразившейся от нее, стронули сортир с места и он, совершая медленное круговое движение, стал неторопливо отплывать во тьму.
— Караул! Спасите! — закричал Артемий Иванович, стоя на четвереньках на колеблющемся в воде нужнике и озаряемый отблесками пламени, пожирающего сарай. — Я туда не хочу!
Внутри сортира что-то булькало и гукало, словно филин, и Артемий Иванович, бормоча про себя «Боже, кто там еще сидит», взмолился к Господу, чтобы этот кто-то не вздумал открывать дверь. Надо было бы ему заглянуть внутрь, но Владимиров боялся отпустить руки, которыми он изо всех сил держался за ручку, поэтому опустил в воду ногу и стал болтать ей, отчего отхожее место еще сильнее стало поворачиваться.
— Нет! Верните меня обратно! Я знаком с самим царем! Господи милостивый, помоги!
Понемногу волны вернули туалет к дому надворного советника Стельмаха, и Артемий Иванович, отпустив наконец ручку, стал хвататься руками за вившиеся по стенам гортензии в попытках остановить движение сортира. Не тут то было. Гортензии рвались и сползали вниз, как старые отставшие обои, а проклятый нужник и вовсе не желал его слушаться. Подгоняемый волнами и сдирая со стен заботливо взращиваемые Стельмахом полотнища гортензий, он перемещался все дальше и дальше вдоль стены на юг, пока не доплыл до веранды, на которой, словно Геро, ожидающая своего возлюбленного Леандра на берегу бушующего Геллеспонта, стояла мадам Стельмах. На самом деле, она уже никого не ожидала, потеряв надежду не только на извозчика, но даже на пожарника, который, стоя на сухом месте час назад, объявил ей, что не умеет плавать и посоветовал ей найти где-нибудь багор и поймать какую-нибудь лодку или подобие плота.
Поэтому, когда из темноты верхом на переваливавшемся на волнах с боку на бок нужнике вдруг вынырнул визжащий от ужаса Артемий Иванович в длинной женской сорочке и с криком «Держи, держи! Ах, проклятая!» вцепился обоими руками ей в юбку, она потеряла сознание и мешком рухнула на него сверху.
Истошный крик вырвался из горла Артемия Ивановича, едва не свалившегося со своего ненадежного корабля в бушующие волны. Он упал на спину и забарахтался, стараясь стряхнуть с себя супругу Стельмаха, придавившую его словно многопудовым прессом. Постепенно ему удалось, не слишком раскачивая туалет, выбраться из-под мадам Стельмах.
Набрав воздуха в грудь, он принялся спихивать непрошеного пассажира за борт, но это оказалось не так-то просто. Госпожа Стельмах находилась в глубоком обмороке, но мертвой хваткой держалась одной рукой за ручку двери, а другой за голую щиколотку Артемия Ивановича. Вокруг них ветер завивал кутерьму из пожухлых листьев и ломаных веток. Здоровенный сук, неспешно кружась в воздухе, треснул Владимирова по макушке и тот немедленно оставил госпожу Стельмах в покое, решив, что сук являет ему волю Господню. За время, проведенное в Якутске, Фаберовский приучил его, что если Артемий Иванович чем-то занят и получает при этом по голове, такое дело ему нужно немедленно бросать.
В сполохах пожара, освещаемый луною, мимо проплыл тот самый рыбак на лодке, которого Артемий Иванович приметил прежде чем выпрыгнуть из окна. Этот рыбак частенько ходил по дачам и предлагал покупать у него рыбу. Сейчас он был больше похож на Харона, перевозившего души умерших через Лету, только вместо душ лодку его занимали разные вещи, а сзади на веревке он буксировал перевернутый вверх ножками дубовый стол, также набитый различным скарбом и барахлом, награбленным в брошенных дачах.
— Эй, эй! — вскочил на ноги Артемий Иванович и замахал рыбаку руками. — Спаси нас! Я агент царской охраны!
Резкое движение Владимирова раскачало и без того постоянно колебавшийся сортир и тот едва не опрокинулся, так что Артемию Ивановичу пришлось броситься плашмя сверху на мадам Стельмах и вцепиться ей в волосы.
Супруга надворного советника пришла в себя и истошно заорала. Не выпуская волос, Артемий Иванович только поплотнее намотал их на кулак.
— Не ори, дура, если я упаду, ты без меня изгибнешь! — прошипел он ей, но она уже не слышала его, вновь погрузившись в спасительный обморок.
Артемий Иванович оглянулся в поисках рыбака и увидел, что тот, обрезав веревку, соединявшую его лодку со столом, удирает прочь в ночной мрак, налегая на весла. Он собирался прошвырнуться по господским дачам и спасение агентов не входило в его планы.
Неуклюже покачиваясь, гонимый волнами нужник продолжал плыть в темноте на юг, курсом прямо на торчавшую в небе луну. Переведя дух и поняв, что его судно не собирается пока переворачиваться, Артемий Иванович уселся верхом на госпоже Стельмах, которая была мягкая, как пуховая перина, и держась одной рукой за ее волосы, а другой за ручку двери, вверил свою дальнейшую судьбу воле Божьей. Временами волны перекатывались через палубу, но уже не вызывали у Владимирова того ужаса, что прежде.
Первая паника у него прошла и он смог более трезво взглянуть на происходящее вокруг. Встававшая из воды стена деревьев слева от них была парком принца Ольденбургского, а черневшая в темноте гора впереди являлась Ораниенбаумским спуском, который означал для них спасение из этого ада. Движение сортира замедлилось. До подножия Арарата их ковчег не доплыл двадцати саженей и, подгоняемый уже совсем другими силами, свирепым западным ветром, двинулся вдоль Ораниенбаумской дороги к Нижнему саду.
Как раз в том месте, где Артемий Иванович сменил курс, из пенившихся волн торчал дуб, на ветвях которого, словно русалка, сидел пожарник, поджав под себя ноги так, чтобы до них не доставала бушующая вода. Завидев, что кто-то проплывает мимо, пожарник зажег фальшфеер и при ослепляющем после почти непроглядной темноты свете магния увидел страшную картину: на длинном колышущемся предмете, напоминавшем гигантский гроб, лежала прилично одетая женщина, а сверху сидел какой-то безумец в мокрой женской сорочке и ночном колпаке, словно словно вышедший из могилы мертвец, и болтал голыми ногами, опустив их в воду.
— Спасите, — неуверенно сказал пожарник, узнав в мертвеце своего соперника, и проворно бросил вниз свой фальшфеер, который громко зашипел и затрещал, продолжая гореть в воде. Пожарный на дубу погрузился во мрак, а Артемий Иванович продолжил свой путь, хлопая по бокам Стельмах в надежде найти хотя бы мерзкие вонючие дамские папироски, которые курила жена надворного советника. Папироски нашлись, но они были такие мокрые, что он в сердцах вышвырнул их за борт.
«Было нам спастись не трудно,
нужником звалося судно», —
пришли ему на ум гениальные стихи.
«Если нас и дальше так будет нести, я приплыву прямо в Александрию. А там император плавает на своем царском нужнике с малахитовым унитазом и золотым стульчаком. А камень и металл не плавают. Значит я обязан спасти Государя! — подумал утомленный ужасами сегодняшней ночи Артемий Иванович. — Только сперва мне бы самому по большой нужде…»
Его утлое судно содрогнулось от страшного удара, дверь, служившая ему палубой, распахнулась, сбросив его вместе с госпожой Стельмах в воду, и из двери вылезла черная, похожая на гигантскую руку коряга, протягивая ему хорошо знакомый ковровый кармашек с вымокшей подтирочной бумажкой.
— Ох, Святый Господи! — перекрестился Артемий Иванович, вынырнув из холодной воды и хватая за шкирку поплывшую было дальше супругу Стельмаха. — Помилуй меня грешного!
Навалив мадам Стельмах на нужник, Артемий Иванович встал на дно, ухватился за край сортира и, поднатужившись, снял ковчег с коряги, затем запрыгнул на него сверху, сел на свое привычное место ниже поясницы надворной советницы и они продолжили свой путь. За час неторопливого плавания они преодолели почти полторы версты и, судя по встреченному ими могильному кресту и прибившемуся к ним венку, добрались до Свято-Троицкого кладбища. И тут плавание их застопорилось. То ли дальше местность пошла в гору, то ли вода пошла на убыль, но только нужник стал царапать дно, а затем и вовсе встал.
— Проклятье! — закричал Артемий Иванович, как заправский пират, и пригрозил небу кулаком. Идея спасти императора плотно села на мель.
— Миленький ты мой! Спаситель! Господи! Какое счастье! Скорее все сюда!
Оказалось, что они находятся прямо у нижней калитки дачи Рубинштейна, и сам надворный советник Стельмах с фонарем в руке, мокрый и трясущийся от холода, стоит по колено в воде и рыдает, размазывая свободной рукою слезы по щекам.
Артемий Иванович вспомнил, что и сам он тоже насквозь мокрый, что на нем надета одна только женская ночная сорочка с неприличными его полу кружевами, что он сидит верхом на госпоже Стельмах, и оттого тоже затрясся крупной дрожью от стыда, холода и страха.
— Дайте ему скорее что-нибудь надеть! — закричал Стельмах и побежал наверх к даче.
Через минуту он вернулся с великолепным пальто самого Рубинштейна из добротного английского сукна с каракулевым воротником, которое он снял с вешалки в прихожей, и накинул его на плечи Артемию Ивановичу. Прислуга следом за ним спустилась из дома и сняла с застрявшего сортира супругу надворного советника вместе с дверью, на которой ее и унесли наверх через сад.
— Поедемте, дорогой Артемий Иванович, наверх, Антон Григорьевич напоит вас с горячим чаем.
— С коньячком, — добавил Артемий Иванович, лязгая зубами, и вместе со счастливым Стельмахом они пошли к даче.
Перед двухэтажным домом с восьмиугольной башней, в которой находился кабинет Рубинштейна с его любимым роялем, с роскошным входом через террасу с четырьмя колоннами, был разбит великолепный цветник, по которому Артемий Иванович не преминул пройтись, да еще собственным примером увлек туда же Стельмаха, который бормотал, не останавливаясь ни на минуту:
— Спаситель! Благодетель! Я ему говорю — у меня там жена. А еще говорю, что там спит агент Департамента полиции, мы забыли его разбудить. Так Антон Григорьевич мне говорит — жена, дескать, это дело частное, а вот агент департамента совсем иное, тут лучше вам сразу утопиться, а то к ним в руки попадешь, отвезут в больницу, скажут, что псих, у них, дескать, это принято. А я сам это знаю! — истерично выкрикнул Стельмах.
— Ничего, — успокоил его Артемий Иванович. — Неприятностей у вас не будет. Конечно, кой-кого подмазать придется, тут уже ничего не попишешь, но двух беленьких довольно будет. Вы их мне отдадите, а я сам все устрою.
— Артемий Иванович! Жив, голубчик! — выскочила им навстречу Февронья и бросилась Владимирову на шею. — Герой вы наш!
— Да, да, настоящий герой! — поддакнул Стельмах, обрадовавшись. Он боялся, что спаситель его супруги в награду за свой подвиг и за утаивание истории о том, как, убегая, забыли разбудить тайного агента полиции, потребует руку одной из его дочерей (лучше, конечно, старшей, ведь Стельмах не так ее любил и ее не водили на прослушивание к Рубинштейну). — Супругу мою спас. Я буду ходатайствовать о награждении вас медалью «За спасение утопающего».
— Нет, нет, огласки не нужно, — возразил Артемий Иванович. — Нам, агентам, это не положено.
— Но чем же вас отблагодарить, родимый вы наш? — хлопотал Стельмах, все еще опасаясь заполучить его в зятья. — Февроньюшка говорила, что вы хотите жениться на ней и дело только в средствах? Так это мы устроим. Я сам дам за нею большое приданое, рублей двести. Да мы и по кругу скинемся, у нас тут отличнейшие люди. Вот и Антон Григорьевич чего-нибудь даст. Сколько вы можете дать нашему скромному герою?
На террасу вышел красивый пожилой мужчина с усами в шелковом шлафроке на ватном подбое и сказал, недовольно глядя на свое пальто:
— Пять рублей. Скромному герою — скромное вознаграждение. Надеюсь, что вшей у него нет.
— Это не вознаграждение, это ему на свадьбу с нашей Февроньюшкой. Мы его на даче забыли, а он мою благоверную спас.
Стельмах указал на зардевшуюся кухарку, нежно державшую Артемия Ивановича за руку. Пожарник, который, возможно, до сих пор сидел на дубу, был раз и навсегда отставлен.
— Ну хорошо, господин Стельмах, еще пять рублей, — сказал Рубинштейн, желая поскорее отвязаться от назойливого гостя. — Только учтите, завтра рано утром мне ехать в город, я председательствую на завершении конкурса композиторов и пианистов, и намерен после завтрака привезти сюда к себе на дачу на пароходе жюри и лауреатов. Мне не хотелось бы объяснять им, кто вы все такие, в том числе и этот агент… гм-гм… правительства.
Антон Григорьевич Рубинштейн недавно вернулся из-за границы и с трудом переносил все эти дикие азиатские порядки и нравы, привычные в России. Великий композитор как раз сидел у себя в башне за роялем и сочинял музыку, вдохновленный ревом бури за окном и видом зарева над Кронштадтом, когда ему как снег на голову свалилось семейство Стельмаха со своими узлами, кастрюлями, бездарными дочками, а теперь еще и с агентом презираемой им тайной полиции, о которого испортили купленное им в Шварцвальде пальто. Он круто повернулся и ушел внутрь дома, а Стельмах побежал за ним, на ходу причитая:
— Вы не думайте ничего плохого, Антон Григорьевич, мы съедем от вас, как только рассветет. Сами понимаете, почивали мы вдруг спокойно, а вдруг такая катавасия!
— Какие же, однако, хамы эти жиды, пусть даже пианисты! — крикнул вслед Рубинштейну Артемий Иванович и в сердцах запрыгал босыми ногами по увядающим цветам на великолепной клумбе. — Да я, если захочу, тебя в бараний рог скручу! Я с самим царем знаком! Завтра же поедешь в Якутск по этапу! Будешь там в моей гимназии на фертепьянах блямкать, жидовская морда!
— Какой вы смелый! — восхищенно сказала Февронья, прильнув к груди Артемия Ивановича.
Тревожный сигнал опасности прозвучал у него в голове, сообщая о грозящих узах брака и мрачноватых его последствия, но тут же победные фанфары заглушили все опасения.
— Ты меня еще, Хавронья, не знаешь, — сказал кухарке Артемий Иванович, царственным жестом распахнув пальто, чтобы упереть руки в бока, и обнажив кружева на груди. — То, что я твою мать спас — сущие пустяки.
— Она мне не мать, ягодиночка мой, она мне хозяйка.
— Да какая разница, они все как задницы! Вот ты тут сидишь у Стельмаха на кухне, кушать ему готовишь, и нет у тебя никакого кругозору! Не знаешь даже, что граф Верланов с шестью спутниками с Монблану упавши. А мне такие вещи ведомы, каких даже сам царь не знает! — Артемий Иванович ударил себя кулаком в кружевную грудь. — Всего три человека во всей империи знают, да поди и во всем свете, что когда наследник цесаревич поплывет этой осенью в Египте вверх по Нилу, на него будет совершено покушение с подводного потаенного судна! Не веришь?! Эх ты, Хавронья, хрюшка ты неблагодарная!
Глава 8. «Память Азова»
2 сентября, вторник
Не прошло и недели после наводнения, нанесшего огромный ущерб не только в деревне Бобыльской, но также Кронштадту и Петербургу, как государь император с императрицей, будущим императренком и его младшим братом отправился осматривать новый полуброненосный фрегат-крейсер «Память Азова», на котором наследник должен был пуститься в кругосветное плавание. Их сопровождали флаг-капитан свиты контр-адмирал Басаргин, который два дня назад был назначен председателем комиссии для окончательного испытания «Памяти Азова», и брат царя генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович, известный во флоте с легкой руки директора Балтийского завода Кази под прозвищем «Семь пудов августейшего мяса».
Погода была ясная, дул легкий ветерок, и в половине четвертого яхта морского министра «Марево» вышла под брейд-вымпелом императора из Петергофа и прошла прямо на Большой рейд, где встала на якорь вблизи фрегата «Память Азова». Здесь император и все бывшие с ним пересели на паровой катер «Петергоф», который поднял брейд-вымпел императора и подвалил к борту трехмачтовой громады фрегата, расцвеченного от носа до кормы разноцветными флагами, полоскавшимися на ветру. После спуска на воду и достройки он был выкрашен в белую средиземноморскую окраску, как и положено крейсерам 1 ранга, но теперь его стальной корпус был перекрашен матовой бежевой краской на льняной олифе с затиркою английской сажей, с получением матового черного цвета. Солнце играло на светло-желтой краске надстроек и мостиков, а одна из трех охряно-желтых труб с черной полосой по верху пускала в небо жидкий черный дым от скверного ньюкаслского английского угля, который был заготовлен еще двадцать лет назад и содержал много серы и землистых веществ. Над выдававшейся в воду округлой шишкой тарана, ниже носового погонного шестидюймового орудия, торчавшего из пушечного порта прямо под бушпритом, нос фрегата украшал стовосьмидесятипудовый орден Св. Георгия в лентах с бантами, с императорской короной, лавровым венком и пальмовыми ветвями. По бортам из амбразур броневых казематов высовывались стволы шестидюймовых орудий, над бортами грозно торчали из бронированных дюймовыми стальными листами щитов жерла двух восьмидюймовых пушек, а верхняя палуба и надстройки ощетинились сорокапятимиллиметровыми скорострельными пушками Гочкиса и пятиствольными револьверными тридцатисемимиллиметровками. Реи крейсера темнели от матросов, которые были посланы туда сразу после того, как командир корабля завидел яхту под императорским брейд-вымпелом.
На катере были вывешены за борт набитые пробкой плетеные кранцы; он подвалил к парадному трапу, который по распоряжению главного корабельного инженера Петербургского порта Субботина был удлинен на две ступеньки во избежания ломания августейших костей наследника в случае падения оного в шлюпку. Кранцы скрипнули о трап, двое фалрепных на нижней площадке в черных двубортных мундирах с эполетами и в фуражках, один — мичман князь Голицын, другой — августейший мичман Георгий, средний сын царя, приняли концы и намотали их на кнехты. Посланные по реям матросы приветствовали императора шестикратным «ура»; салютуя, ударили орудия, окутав белым дымом верхнюю палубу.
— У тебя хорошо получается, Георгий, с своим концом обращаться, — сказал брату Николай, стоя у борта катера. — Старайся, старайся, станешь после дяди Алексея генерал-адмиралом.
Генерал-адмирал недовольно поморщился глупой шутке племянника, свысока глянув на цесаревича, рука царя оттянулась назад для подзатыльника, но, встретившись со взглядом императрицы, царь опустил руку и взялся ею за обтянутый шелком леер.
— Оставь его, Александр, он же еще мальчик, — сказала Мария Федоровна, одаривая старшего сына ласковым взглядом. — Он просто шутит.
— Рад стараться, ваше императорское высочество! — по уставному ответил брату Георгий, ухмыльнувшись в юношеские усики.
Император первый поднялся на палубу, помогая преодолевать ступеньки жене, за ним полезли Николай и Михаил, а следом повлек наверх свое грузное тело генерал-адмирал, поддерживаемый сзади Басаргиным, самым расфранченным из присутствовавших на церемонии, в серебряных эполетах с вензелями и черными орлами и двууголке.
У трапа на палубе прибывших ожидали капитан 1 ранга Ломен и вахтенный офицер. Остальные офицеры в мундирах с эполетами на плечах и в фуражках выстроились во фронт на шканцах, а матросы в черных рубахах и штанах с белыми брезентовыми ремнями и белыми бескозырками повахтенно на шкафутах и баках. На правом фланге второй вахты стоял караул и далее, на шканцах, хор судовой музыки.
— Смирно! — скомандовал вахтенный начальник, завидев показавшуюся над палубой голову императора.
На крейсере стало тихо, только оснастка скрипела да хлопали флаги, развешанные по штагам. Двое палубных и фалрепный, тоже из младших офицеров, приветствовали императора у трапа на палубе и вручили сошедшей на палубные доски императрице цветы. Тотчас хор судовой музыки заиграл встречу.
— Ваше императорское величество, — вытянулся, приложив правую руку к фуражке, Ломен. — На вверенном мне крейсере 1 ранга «Память Азова» все обстоит благополучно, чрезвычайных происшествий никаких не случилось. Корабль находится в кампании.
Николай с интересом огляделся. В отличие от брата Георгия, этим летом каждый день ездившего на своем катере «Бунчук» из Петергофа на крейсер, наследник впервые видел вблизи корабль, на котором ему предстояло жить более года. Он не произвел на него должного впечатления. Палуба была тесной, штатный невод, намертво принайтовленный к борту, чтобы скрыть следы строительных работ, делал ее еще более узкой. Народу на крейсере было много, с камбуза из бочки, которую по оплошности ревизора забыли накрыть брезентом, пахло квашеной капустой, и ее запах смешивался с резким запахом угольного дыма. Нет, это была вовсе не императорская яхта «Держава», на которой император с семейством ездил в Европу. И никакие потуги, ни обшитые шелком леера, ни бронзовые цепи выстрелов парадного трапа, снятые с «Полярной Звезды», ни спешная окраска корабля выписанной из Англии сажей, ни приказ главного начальника порта не лопатить и не окачивать палубу, покрытую мастикой, чтобы до приезда императора та сохранила свой девственный первозданный вид, не могли превратить обычный боевой крейсер в плавучий дворец.
— Папа! — повернулся Николай к отцу, но тот уже двинулся вдоль фронта офицеров, затем остановился напротив караула.
— Здорово!
— Здравия желаем, ваше величество! — гаркнули матросы, и судовой оркестр тотчас грянул «Боже, царя храни!». Одновременно на грот-брам-стеньге фрегата взвился черно-желтый брейд-вымпел императора.
— Что ты хотел, Ники? — спросил император, оглянувшись на сына.
— Я понимаю, что ты не мог дать мне для путешествия твою «Державу», — сказал цесаревич. — Но почему ты не разрешил мне плыть на «Полярной Звезде», которую уже почти достроили, а заставляешь меня целый год плавать на этом железном вонючем чудовище?
— Будь моя воля, я бы тебе никакой державы не доверил, — пробормотал про себя царь, но никто не расслышал его слов за музыкой гимна. Только Черевин, как человек на ухо глухой, по губам прочитал то, что сказал царь, и в который раз утвердился в правильности своего решения.
— «Полярная Звезда» еще не достроена, — сказал Александр громко. — А я не могу откладывать твое путешествие еще на год. Плыви на чем есть.
И император с семейством и свитой пошел дальше вдоль фронта нижних чинов. За ним тронулись и все сопровождавшие его особы.
— А правду мне сказал Георгий, — с обидой в голосе спросил цесаревич, — что этот крейсер еще никуда не плавал и никто не знает, каков он в море, и что он чуть не опрокинулся здесь, в Кронштадте? И что это плавание будет ему своеобразным испытанием, а если с ним что-нибудь случится в южных морях, я не буду наследником?
— Георгий пошутил, — опять вмешалась императрица. — Он же сам поплывет на этом посудне с тобой. Он не может хотеть утонуть вместе с Ники!
— Тогда я стал бы наследником, — мрачно сказал юный Михаил.
— Хватит! — оборвал их император. — Мы на смотре, а не в садике Фермерского дворца!
Он решительно зашагал дальше, но через мгновение был остановлен начальником своей охраны.
— Позвольте показать, ваше величество, — сказал Черевин. — Вот этот матрос назначен состоять вестовым при особах свиты.
Стоявший в ряду других нижних чинов невысокий хохол с висящими запорожскими усами вытянулся еще больше, если только это было возможно, и выпучил глаза.
Старший офицер Энквист забежал вперед и сообщил императору, аттестуя своего подчиненного.
— Матрос первой статьи Тарас Курашкин, артиллерист. В службе исправен, взысканий нет.
— Малоросс что ли? — спросил у Курашкина царь.
— Так точно, ваше императорское величество! — гаркнул Курашкин, так что даже Черевин затряс головой.
— Скажи-ка мне, Курашкин, как будет по-вашему… э-э-э… водка.
— Горилка, ваше императорское величество!
— Хороший матрос, толковый. Ступай за нами, — сказал Александр и вслед за Басаргиным направился к люку, ведущему вниз в адмиральское помещение. Вперед в чрево корабля полезли вахтенный офицер и Энквист, а затем уже царь стал медленно спускаться вниз. Ступеньки из красного дерева под его тяжестью заскрипели.
— А почему именно Курашкин? — спросил Александр, остановившись на трапе и обернувшись назад к Черевину.
— Я не понимаю, ваше величество, — приложил руку к уху начальник царской охраны.
— Твои креатуры начинают вызвать у меня подозрения, Черевин. Особенно тот потертый минный инженер, который пил с нами в Александрии коньяк, а потом прыгал во время поздравления моей жены, словно его в зад ужалила оса. Кстати, напомни мне на обратном пути спросить у Курашкина, как по-малоросски будет коньяк.
— Курашкин не моя креатура, ваше величество. Он является агентом Петербургского охранного отделения, старый морской волк, ходил артиллеристом на броненосце «Петр Великий», когда им еще в чине капитана 1 ранга командовал Басаргин. Знает разные языки. Его лично рекомендовал мне полковник Секеринский. Так что Курашкин не мой протеже.
— Адмирал, — Царь глянул наверх, где у люка топтался адмирал, которому Черевин знаком запретил идти за ними, когда трап угрожающе заскрипел, — вы помните этого Курашкина?
— Помню, ваше величество, — соврал Басаргин, теребя свою двурогую бороду. — Отличный матрос.
— Черевин, а на корабле твои минные инженеры не идут? Как фамилия того, что прыгал?
— Гур… Гу… Гурьев-Иванов.
Так Артемий Иванович приобрел еще одно имя.
— Командира ко мне.
Басаргин отдал короткую команду и тотчас с палубы вниз по трапу скатился капитан 1 ранга Ломен.
— В вашем экипаже числится… как ты сказал? Числится Гурьев-Иванов?
— Никак нет, ваше величество! — ответил Ломен.
— Черевин, а второго как звали?
— Романов, — зло ответил Черевин.
— Чего?! Белены объелся, Черевин? Смотри, ты у меня дошутишься!
— Нет, не будете, — покачал головой Черевин.
— Что не буду?
— Горевать не будете. Когда я умру.
— Слушай, Черевин, а ты не хочешь прокатиться по морю с нашим наследником, а Курашкин тем временем меня охранять будет?
— Никак нет, ваше императорское величество! Не хочу.
— То-то же.
Басаргин помог спуститься вниз императрице и, дождавшись, пока спустятся наследник и его брат, повел всех в каюту по правому борту, предназначенную для путешествия Николая. Это было довольно просторное, по корабельным меркам, помещение, отделанное красным деревом, орехом и тиком из спальни, состоявшее из гостиной и туалетной комнаты с ванной и прятавшимся между бортом и ванной ватерклозетом. В спальне стоял большой мягкий диван, по стенам прыгали солнечные зайчики, отражавшиеся от волн и проникавшие внутрь через иллюминатор над умывальником и через два иллюминатора в гостиной, между которыми в простенке стояло бюро со стулом. Портила впечатление только нестерпимая вонь от казеинового клея, стойко державшаяся и в каютах, и во всей батарейной палубе, хотя линолеум был настелен еще в июне.
— Здесь будет так скверно пахнуть весь год? — спросила императрица, закрывая нос надушенным платком.
— Командир, поясните императрице, — сказал великий князь Алексей Алексеевич.
— Никак нет, ваше императорское величество! — отрапортовал Ломен. — В два дня выветрится!
Басаргин показал ему за спиной кулак в белой перчатке.
— Простите, ваше величество, — поправился Ломен. — В три дня.
Через два дня крейсер уходил в море и верности его ответа уже никто не мог проверить.
— Мы можем пройти на балкон, ваше величество, — предложил Басаргин. — Там все-таки свежий воздух.
Оставив цесаревича осматриваться в своей будующей каюте, он повел императрицу и генерал-адмирала с юным Михаилом через украшенную портретами членов царской семьи и генерал-адмирала Алексея Александровича столовую наследника на балкон, а император на секунду задержал Черевина в столовой, и, обратившись к Ломену, спросил:
— А как вы намерены предохранять ваших офицеров при съезде на берег от дурных болезней? Я слышал, что даже особы императорской крови одной из Европейских держав умудрялись подхватывать сифилис, съезжая на берег в Западной Индии.
— Сифилис, ваше величество, он любую кровь заражает, — сказал Черевин, отводя взгляд от царя в сторону, на картину Наваринского боя на стене столовой. — Хоть мою, хоть вашу.
— Нет, Черевин, сегодня я с тобой в «тетку» вечером играть не буду. Боюсь, не сдержусь.
Ломен выпятил глаза на царя, не понимая, что это за игра в тетку и почему царь, опасаясь сифилиса, решил в нее этим вечером не играть с начальником охраны.
— Его величество всегда меня наказывает, отказываясь в карты играть, — пояснил Черевин, поняв изумление капитана. — Но вы не ответили на вопрос императора.
— Корабельный врач по секретному распоряжению начальника порта получил специально из Англии выписанных для нашего плавания кондомов из рыбьего пузыря целый ящик; они будут выдаваться поштучно каждому увольняемому на берег офицеру, — доложил Ломен.
— Моему сыну выдавайте двойную норму, — распорядился император, хлопнув наследника по спине так, что едва не сбил того с ног. — Малый он пока неразумный, а ему еще здорового наследника империи рожать. И вели, Черевин, позвать того матроса, которого так хорошо помнит Басаргин. Пусть покажет цесаревичу в каюте, что к чему.
Он покинул вместе с Ломеном столовую, оставив в ней цесаревича, а Черевин вышел в адмиральское помещение и попросил вахтенного офицера прислать вниз Курашкина, который неловко топтался на палубе перед открытым люком.
— Ну, что скажешь, Курашкин? — спросил он у матроса, убедившись, что они одни.
— На корабли, ваше превосходительство, все спокийно, — доложил Курашкин. — Матросы зайняты своею справою, розмов лишних не ведуть, офицеры тож. Поговаривают, темную мени зробыти хочуть. Я так думаю, це все их Басаргин подбивает. У нього на мени зуб еще когда я с его сраного броненосця в Глазго драпу дав.
— А где не спокойно? — спросил Черевин.
— А не спокийно, ваше превосходительство, в Петергофе. Я давеча до полковника Секеринського с репортом ездыв и на базар в Петергофе зашел, щоб сало купыти. Тут на крейсери сало погане, чорне и из тощей свыньи. Жира в ньому зовсим немае. Так вот на базари я почув, як жинки про нашого наследника говорять.
— И что же они говорят о вашем наследнике, господин Курашкин?
— А говорять воны про мого наследника… Тьфу, щоб тоби загинуты! Говорять воны про цесаревича, що коли той буде в Ефиопии да пойде вверх по реке Нылу, на нього будет сроблено покушенье с пидводной лодки.
— Водки? — рассердился Черевин. — За что тебе водки? Погоди, что ты сказал?! Вверх по Нилу?!
— Так точно, ваше превосходительство. Да прямо с-пид воды его высочество с потайного судна як пидирвуть! Тильки кышки его августейшие по пырамыдам розлетяться!
Долгое нахождение в революционной среде во времена пребывания в Лондоне не прошли даром для Курашкина.
— Ты мне такие речи брось! — набросился на него Черевин. — Ты можешь точно указать мне бабу, которая тебе все это наболтала?
— Так якщо б то тильки одна жинка була. Таких майже весь базар був. Одна с них особлыво голосно про це крычала, що вона не сама це прыдумала, а ее жених под велыким секретом росказав, що знает больше самого императора и едва не спас его величество в час наводнения, разъезжая по води на отхожем мисци.
— Как это в миске?
— Ни, вин не в мыске ездыв, а верхом на гальюне! — пояснил Курашкин.
Еще несколько минут назад, когда царь, стоя на палубе, бормотал про нежелание доверять своему наследнику державу, Черевин был уверен, что действует правильно. Теперь его вдруг охватила смертельная тоска.
— Знаешь, Курашкин, я и сам не буду сильно горевать, когда умру, — сказал задумчиво Черевин.
План соблюдения секретности в отношении предстоящего путешествия и связанной с ним безопасности наследника и сопровождавшей его свиты был разработан Секеринским во взаимодействии с Федосеевым и был одобрен государем, когда Черевин принес его императору на подпись. Среди мер безопасности, до выхода судна в море на первое место было поставлено соблюдение тайны маршрута и цели плавания, в которое готовили «Память Азова». Распоряжением главного инженера порта было предписано в работах следует сколь возможно менее использовать вольных наемных и более обходиться силами экипажа, не привлекая людей из береговых экипажей и частей. Кроме того, следовало избегать излишних разговоров и разъяснений о работах. Все запросы относительно «Памяти Азова», кроме взятия имущества с яхты «Полярная Звезда» и из Гвардейского экипажа, дозволялось производить только через начальника порта. Начальнику же порта следовало немедленно докладывать о всех предложениях частных подрядчиков, могущих иметь место. Но таких предложений не поступило, поэтому можно было считать, что необходимая степень секретности была соблюдена. И вдруг перед самым отплытием крейсера в Петергофе, в резиденции царя, распространяются слухи, которые говорят не только о путешествии вверх по Нилу, чего никто знать не мог, но даже о задуманном им покушении! А источник этого мог быть только один — вытащенный им из Якутска Владимиров.
— По возвращении на берег надо будет разыскать этого жениха и заткнуть ему рот. — сказал Черевин. — А теперь иди в каюту, там тебя дожидается его высочество наследник цесаревич. Покажешь ему, как там и что. Да смотри, не сболтни лишнего.
— Вот тут, ваше высочество, находыться гальюн, що по морському значыться — ватерклозет, и ванна, — деловито начал Курашкин объяснять Николаю, когда они остались в каюте вдвоем, и открыл дверь в сортир. — Коли вам потреба одолеет, задныцу потребно ставити сюди, на цей деревянный стульчак, а потом, колы встанете, натыснить на цю педаль нанизу.
— Я и без тебя знаю, как в сортир ходить, — оборвал цесаревич, уныло оглядываясь вокруг себя. Хотя каюта и была шикарно отделана, а на всю отделку корабля в связи с предстоящим плаванием угрохали 79 тысяч рублей серебром, ей было очень далеко до просторных и удобных кают императорской яхты «Держава».
— Вода с крану просто так не льется, вам треба будет тож на пыдаль натыскати кажный раз, як руки подставыте.
— Ладно, ладно, я и без тебя разберусь, что и кого тут тискать, — Николая подошел к бюро с большим зеркалом и подергал за бронзовые ручки запертые ящики. — Ты мне лучше скажи, ключ от моего стола у тебя?
— Никак нет, ваше императорское высочество! Ключи от каюты и от стола все находяться у этой сук… у его превосходительства контр-адмирала Басаргина, — сообщил Курашкин.
Цесаревич положил на стол большую кожаную папку, которую держал под мышкой, и развязал тесемки. В папке оказалась целая россыпь различных фотокарточек, которые Николай тотчас стал расставлять на столе. Оглянувшись на Курашкина, он велел ему: «Ну-ка, помоги мне тут все расставить», а сам потянулся ко включателю, зажигавшему две электрические лампы на стене по сторонам зеркала.
— Обережно, ваше высочество, ця электричные лампы, в них пальцы засовывати не можна, — перехватил его руку Курашкин. — Воны знаете, ваше высочество, чем добры? Воны не те що керосынови, в них таку штучку повернув — и вона запалылася.
— Ну так включи ее, — сказал наследник, брезгливо стряхнув руку матроса.
— Це, навирно, видразу не отрыматися, — замотал головой Курашкин. — Треба, навирно, командыра покликать, щоб пары розвив.
— Обойдусь без командира, — Николай щелкнул включателем и каюту озарил мягкий электрический свет, а лампочки под матовыми колпаками задребезжали, словно мухи, попавшие под стакан. — Посмотри, где там мой отец.
— Есть, ваше императорское высочество!
Император со свитой был все еще на балконе, тогда из папки цесаревич бережно достал фотографию красивой молодой девушки в белом платье и с распущенными по плечам волосами, и прикрепил ее к зеркалу.
— Чем бы ее прикрыть, если отец обратно через мою каюту пойдет? — спросил он сам себя.
— У мени тельняшка старая есть, — хлюпнул носом Курашкин.
Если бы на месте наследника оказался кто-либо из корабельных офицеров, Курашкин тотчас же схлопотал бы по морде, но наследник, поглощенный созерцанием лица на портрете, даже не расслышал слов матроса. Тогда Курашкин, привстав на цыпочки, заглянул через плечо цесаревича и почтительно сказал:
— А що це за красуня?? Ах, ах, яка краса!
— Это принцесса Алиса Гессенская, — явно польщенный, ответил Николай. — Она недавно приехала к своей сестре в Ильинское и вот прислала мне свою карточку.
— Прынцесса вона чи ни, а такой красы я еще отродясь не бачил, — Курашкин понял, что нащупал самое уязвимое место наследника русского престола, и пригладил удовлетворенным жестом свои запорожские усы. — И бровки у ней дугою, и носик у ней прямый, чисто бушпрыт, и румянець во всю щоку. А очи як диаманты свитятся в темноте.
— Значит, она тебе нравится? — спросил цесаревич.
— Так точно, ваше императорское высочество! — ответил Курашкин, восторженно выкатывая глаза. — Еще як!
— Мне она тоже очень нравится. Я помню ее еще с тех пор, как она была совсем девочкой. Я хотел бы на ней жениться.
— И знаете, що я вам еще скажу, ваше высочество — це правильно, оженитесь на ней. Була б у мени така наречена, я бы все побросал да оженився на такой гарной дивчине.
От таких слов сердце наследника растаяло. Если бы оно было из леденцов, мухи тотчас бы слетелись сюда со всего Кронштадта, а может даже из Петергофа.
— Я хочу жениться, но родители не дают своего благословения, — пожаловался будущий царь матросу.
— Як я вас розумею, ваше высочество. Мои батьки тож булы самодуры.
— Но-но, ты не очень-то! — осадил Курашкина Николай.
— Я хочу сказаты, що воны тож не дали мени благословиння, когда я кохался в дивчину, — поправился матрос. — Мени батенько прямо так и сказав: «Дурак ты, Тарас. Со всього села выбрав саму худу и строптиву. Вона же, каже, холодна, як жаба, и сала в ней немае ни пуда. А в справной жинке и титьки повынны буты як вымя, и бедра ширше плечей, щоб можна було ее и за боки ухопыти, и за титьки посмыкати».
— И что же ты делал? — спросил цесаревич, любуясь на портрет Алисы.
— Покохал я мою Оксану трохи так, без благословиння и без церковного венчання.
— Эх, а мне так нельзя, — Николай перевернул карточку и положил ее на полочку под зеркалом. — Я могу только Матильду Кшесинскую любить, пока отец не узнал. Ну, а что было дальше?
— А далее вот що: мени во флот призвали, зовсим як вас, ваше высочество, и поплыв я в дальние края.
— А что же твоя нареченная?
— Не могу знать, ваше высочество! — гаркнул Курашкин. — С тех пор я ее не бачив. Поди, уже замуж моя Оксана выйшла. До ней коваль сватався.
— Вот и к моей Аликс Эдди сватался. Но она дала ему от ворот поворот, — цесаревич облизнулся. — А кто тут на корабле водкой заведует?
— Ревизор Петров, ваше высочество. А еще есть баталер, який горилку выдает.
— И часто ее вам выдают?
— Раз в день.
— Кошмар! — расстроился Николай. — Я так не сумею. А не мог бы ты, Курашкин, у ревизора ключик от ахтерлюка на денек одолжить, слепок сделать? Я бы брата попросил, только неудобно. Царем буду, за мной не пропадет. Я тебя, может быть, дядькой к своему сыну приставлю. Куда мне теперь идти?
— Так от сюды, ваше высочество, через салон мимо кают и библиотеки да прямо до балкону, — показал Курашкин, открыв дверь в кают-компанию. — Його императорское величество назад не выходыло, выдать, так с ее величеством с балкону на воду дывляться. Це само прыемно заняття — на воду дывытися, а вода-то за бортом пенытся, як горилка бродыть, и так в нее плюнуть хочеться, просто сил немае. А ще можна на далекисть плювать.
— Дальше моего папа никому не плюнуть. Он на всю Россию наплевать может, — сказал наследник, выходя в столовую, прошествовал по коридору мимо кают адмирала, командира, и еще трех, предназначенных для свиты, и затем через устроенную среди орудий «библиотеку», снабженную массивным столом, узенькими диванчиками и книжными полками подошел к балкону, в дверях которого была видна мощная фигура Александра III.
— Где ты был, Ники? — спросила его императрица. — Мы тут с папа и Мишей смотрели на воду, она так приятно пенится.
— Осматривал свою каюту, — ответил матери наследник. — И кто из вас дальше плюнул?
— Чего?! — переспросил царь.
Николай струсил и быстро пробормотал, боясь навлечь на себя гнев отца:
— Мама, вы уже уходите? Я тоже уже иду, только скажу несколько слов папа.
Он нырнул под руку Александра и выскочил на адмиральский балкон, с которого был виден Кронштадт и вдали в дымке проглядывал Петербург, блестя куполом Исаакиевского собора. Взявшись за обтянутый шелком леер, чтобы не поскользнуться на клеенчатом полу, Николай взглянул на воду. Она действительно пенилась, у самой воды из какой-то трубки вывалилось дерьмо и весело затанцевало на сверкающей в лучах солнца волне, отираясь коричневым боком о красную полосу ватерлинии. Император все еще стоял на балконе, повернувшись спиной к сыну, и курил папиросу, задумчиво глядя вдаль. Николай украдкой плюнул, но в дерьмо не попал, поэтому обратился к отцу, воодушевленный разговором с простым русским матросом, так хорошо понявшим волновавшие его чувства:
— Боже! Папа! Как мне хочется поехать в Ильинское, там теперь гостят Виктория и Аликс. Иначе, если я не увижусь с нею теперь, то еще придется ждать целый год, а это тяжело.
— Ты опять за свое, Ники? — обернулся Александр и бросил недокуренную папиросу за борт. — Я же сказал тебе, что эта Алиска — форменная селедка. И потом, Ники, через три дня ты отбываешь на маневры в Волынскую губернию. А вот после маневров посмотрим. Там останется совсем мало времени до твоей отправки в путешествие. Пошли, Минни с Мишей и дядей Алексеем нас уже ждут.
Через предназначенную для главы свиты Барятинского каюту, шедшую по левому борту параллельно каюте наследника и лишь немного уступавшую ей размерам, император с сыном вернулись в адмиральское помещение и присоединились к остальным, которых Басаргин провел на обшитую деревом батарейную палубу, чтобы взглянуть на судовой образ Георгия Победоносца в маленьком алтаре, прилегающий к перегородке, отделявшей «чистых» от «нечистых». Слева от алтаря, по другую от выхода из адмиральского помещения сторону, стоял навытяжку часовой, старательно поедая проходившее мимо высочайшее и августейшее начальство.
— Папа, а лошадей мы с собою повезем? — спросил Николай, осматривая громадное пространство почти не освещенной палубы, в котором темными непонятными силуэтами чернели исполинские шестидюймовые орудия. — Вон там между пушками можно было бы устроить денник для моего Ворона.
— И ты будешь совершать на нем каждое утро прогулки верхом вокруг мачты, — сказал Александр, похлопав по маслянистой поверхности казенник ближайшего орудия. — Научи его плавать. Адмирал, покажите мне, где будет жить Георгий.
— Нам нужно будет для этого вернуться в библиотеку и оттуда спуститься на жилую палубу, ваше величество, — сказал Басаргин.
На жилой палубе в кормовом кубрике кроме положенных по проекту кают младших офицеров и кондукторов, занятых теперь выселенными свитой старшими офицерами, была устроена выгородка на двадцать кают из каютных щитов, еще одна выгородка включала временную офицерскую кают-компанию и несколько устроенных прямо позади кают-компании кают, в том числе для Георгия, устроенной прямо позади кают-компании.
— Вот видишь, папа, а ты смеялся надо мной! — сказал Ники и похлопал рукой по фанерной стене выгородки. — Здесь уже сделали денники для лошадей. А вот в той отдельной я поставлю Ворона!
— Нет, ваше высочество, в той каюте будет проживать ваш брат, его высочество великий князь Георгий Александрович, — смущаясь императора, подобострастно сообщил Басаргин.
— Ты, Ники, мне про свою Алиску талдычишь, — сказал Александр, заглядывая в каюту Георгия, — а твой брат будет целый год в деннике жить! Да у него тут даже нужника нет.
— Но почему Ники сделали сортир, а Георгию — нет? — возмутилась Мария Федоровна. — Александр, скажи им, ты все-таки император!
— Почему в каюте у великого князя нет нужника? — повинуясь просьбе жены, спросил царь.
— Это невозможно, ваше величество! — вытянулся Ломен. — Технически невозможно.
— Алексей, когда ты плавал на кораблях, у тебя был свой нужник? — спросил император у своего брата.
— Какой, к черту, нужник! — воскликнул генерал-адмирал. — Когда я плавал в Атлантике на фрегате «Александр Невский», мне приходилось пользоваться горшком, а матросы гадили прямо в море, повиснув на гальюнных сетках. И на «Светлане» срали, кто как может, некоторые даже с реи. Потому она так и называется — «рея». Простите, ваше величество.
Алексей Алексеевич улыбнулся императрице и пошевелил завитыми вверх усами.
— Ну что я могу сделать, Минни? — развел руками Александр III. — Вот видишь, технически невозможно. Даже Алексей говорит об этом.
— А какие еще удобства предусмотрены для моих сыновей? — спросила императрица.
— Первоначально предполагалось во всех каютах установить телефоны системы лейтенанта Колбасьева, — сказал Басаргин. — Однако на испытаниях они оказались слишком сложными и ненадежными. Приходилось посылать вестового к тому, кому звонишь, чтобы он снял трубку. Зато в каждой офицерской каюте есть электрический звонок, чтобы в любой момент можно было вызвать к себе вестового.
Осмотр фрегата закончился жилой палубой, причем императорское семейство и свита посетили лазарет, в котором находилось несколько больных, и царь с царицей задали им несколько вопросов. В начале пятого Александр III с женой и сыновьями вернулись на верхнюю палубу. Прежде чем направиться к правому трапу, император встал перед фронтом нижних чинов и, нащупав глазами Курашкина, который уже вернулся в строй, мрачно вперил ему в лицо свой взгляд и сказал обомлевшему от ужаса и благоговейного страха хохлу:
— На вот тебе на водку, братец.
Царь отдал монету Черевину, которую тот сунул матросу, шепнув:
— Я буду разговаривать с Басаргиным и Ломеном, чтобы завтра же тебя списали на берег. Мы должны найти ту бабу и прекратить всякое распространение подобных слухов. Явишься прямо ко мне лично во всякое время, а больше ни к кому!
Курашкин благодарно спрятал царский полтинник в бескозырку, когда мимо него прошел Басаргин.
— Почему я должен тебя помнить? — спросил он.
— Не могу знать, ваше превосходительство! — вытянулся Курашкин.
— Совершенно не помню, — пожал плечами в серебряных эполетах контр-адмирал и прошел дальше.
Последним из приезжих, кто обратил на Курашкина внимание, был наследник.
— На вот тебе, снимись у какого-нибудь фотографа и пошли карточку своей Оксане, — сказал он, засовывая в руку матросу пять рублей. — Может, она еще не замужем, может, тебя дожидается.
— Есть, ваше величество!
— Ну, Курашкин, завтра, тебя, может и спишут на берег, а пока я еще тебе начальник, — сказал боцман, когда наследник удалился на порядочное расстояние, и намотал на кулак цепочку от дудки. — Давай мне пять рублей и марш на рею «ура!» кричать. Я за тебя сфотографируюсь.
Остановившись у трапа, император пожелал офицерам счастливого плавания. Прозвучала команда вахтенного начальника «Катер к правому борту!», после чего августейшая чета, их сыновья и генерал-адмирал Алексей Александрович с Басаргиным проследовали на стоявший у борта паровой катер «Петергоф». Проходя мимо брата, стоявшего на нижней площадке парадного трапа в ожидании момента, когда надо будет отдать швартовы императорского катера, Николай, не поворачивая головы, сказал так, чтобы его слова могли быть услышаны только тем, кому они предназначались:
— Да, Георгий, в такую маленькую каютку, как у тебя, и даму приличную пригласить стыдно. Маленькая, словно денник, и нужника нет. Да и то сказать — пригласишь даму, а все в кают-компании услышат. Так и останешься девственником.
Отвалив от борта, «Петергоф» под брейд-вымпелом императора направился к броненосному кораблю «Император Александр II», провожаемый единодушным «ура» нижних чинов, посланных по реям, и при громе установленного салюта.
Когда катер пошел вдоль высокого черного борта крейсера, так близко, что на нем можно было рассмотреть все заклепки и даже дотронуться до них рукой, наследник поднял глаза вверх и увидел на ноке рея Курашкина, который среди прочих матросов кричал «ура!».
«Не только у меня, но и у всего простого русского народа в любви не все складывается», — подумал он.
15 сентября, вторник
Отъезд Николая в Спалу. «Много думал о том, позволят ли мне съездить в Ильинское или нет после маневров».
Глава 9. Курашкин и Продеус
24 сентября
Супруги Стельмахи и их кухарка Февронья съехали с дачи сразу после наводнения. Причиною тому был страх повторения бедствия, возможность которого подтвердило поднятие воды через день, и совершенная невозможность жизни в разоренной даче, потерявшей не только крышу, клумбы и обвивавшие стены гортензии, но и часть мебели, вывезенной кем-то до их возвращения от Рубинштейна и найденной потом покоробившейся и растрескавшейся вместе с соседским обеденным столом на Ораниенбаумском спуске прямо под Собственной дачей. Артемий Иванович, спаситель и всеобщий герой, который не только спас надворную советницу Стельмах, но и сумел поставить на место нахального жида и выкреста Рубинштейна, остался в Бобыльской чинить дом, пообещав Февронье приехать в город, как только все закончит, и сразу же отправиться с нею под венец.
Ему были оставлены для пропитания все припасы, которые не были подмочены водою или могли быть высушены, кроме того он в изобилии пользовался рыбой, так как знал, почему и чьими усилиями мебель Стельмаха заплыла так далеко от дома. Кроме продуктов, Стельмах оставил ему денег на ремонт, и Артемий Иванович еженедельно совершал поездку в город с докладом о ходе работ, расписывая наведенную на дачу красоту, непромокаемость высокой черепичной крыши, резные балясины перил и высаженные на клумбах озимые чилибухи — других экзотических растений, равно как других сельскохозяйственных терминов Артемий Иванович не знал. Обычно после каждого приезда надворный советник, поражаясь трудолюбию Владимирова, угощал его наливкой и, дав на водку рубль, отпускал назад в Петергоф.
Но на этот раз все было как-то не так. На привычный вопрос Стельмаха о делах он ответил с сияющей улыбкой:
— Башня теперь у нас на даче повыше чем у этого жида Рубинштейна.
— Башня?! — поразился Стельмах, даже охрипнув от волнения.
— Папенька! Папенька! Можно у меня в этой башне светелка будет? — захлопала в ладоши младшая дочь с толстой косой.
— Нет, папенька! — заголосила старшая. — Почему всегда ей достается все лучшее? И платье самое красивое ей, и к Антону Григорьевичу на прослушивание ее возили, и шляпку ей на Троицу вы подарили, а мне веер какой-то китайский! И куда я его засовывать, по-вашему, буду?
Артемий Иванович хотел было услужливо подсказать, куда она может его засунуть, но не успел, так как советник велел убраться своим дочерям вон и не приставать к нему с глупыми вопросами. В этой башне он сделает себе кабинет, как у Антона Григорьевича, и будет оттуда в телескоп смотреть на Кронштадт.
— На соседние дачи ты будешь пялиться! Разве я не видела, как ты на цыпочках у окон Анисьи Петровны стоял и туда заглядывал, когда она натирала поясницу гусиным салом?! — сварливо сказала его супруга и тут же была выставлена вслед за дочерьми.
— Ну, рассказывайте, любезный, рассказывайте мне про башню. Эти бабы ничего не понимают в башнях. На кой черт мне сдалась ее Анисья Петровна, если мне в телескоп петергофский пляж будет видно!
— Да что там телескоп! Моя башня не простая какая-нибудь жидовская, а с колокольчиком да с позолоченной маковкой!
— С золоченой маковкой? — перехватило дыхание у Стельмаха. — Неужто денег хватило?
— Еще как хватило! Мне батюшка из Троицкой церкви сусального золота одолжил, что у него после ремонта осталось.
У Артемия Ивановича действительно были деловые отношения с настоятелем кладбищенской Свято-Троицкой церкви. Стельмах велел ему ходить по воскресеньям к батюшке и заказывать благодарственные молебны за чудесное избавление от гибели его благоверной супруги, а также пожертвовал сто рублев на восстановление и украшение храма, пострадавшего от стихии. Артемий Иванович посчитал богохульством обманывать святого человека и присваивать себе все деньги. Он решил, что будет чист перед Богом и людьми, если выплатит церкви за десятину со своего дохода, как это исстари повелось, и отнес десятую часть денег священнику.
Тот долго мусолил в руке бумажки, жевал седую бороду, проницательно глядя на Артемия Ивановича, потом сказал, хлюпая простуженным носом:
— Знаете что, господин Гурин? Давайте мы эти деньги в приходную книгу записывать не будем, а вы уж будьте добры, скажите господину Стельмаху, что молебствие вы прослушали и все нужные требы мною совершены. Вот вам за это свечка бесплатно, помолитесь за избавление Господом души нашей от грехов и мирских соблазнов.
На том их отношения и прервались. Золота же сусального ни тот, ни другой никогда и в глаза не видели.
— Так вы, стало быть, золотить умеете? — спросил Стельмах, восхищенно заглядывая в глаза Артемию Ивановичу.
— Я, папаша, всем золотарям золотарь! — покровительственно похлопал надворного советника по плечу Владимиров.
— Господи, какое чудо! Может вам, Артемий Иванович, не торопиться с Февроньей, может мне выдать за вас мою младшенькую, любимую, которая с косою?
— Как это с косою? — не понял Артемий Иванович, который уже выпил наливку и собирался уходить, ожидая только рубля на водку. — Косуху что ли, маленькую? Ну выдайте, на неделю мне хватит.
— Но почему только на недельку? Священный брак — это на всю жизнь.
— Одна бутылка — на всю жизнь? — фыркнул Артемий Иванович. — Лучше уж рубль.
— Ну вы, батенька, и шутник, — принужденно рассмеялся Стельмах. — Я вам про свою дочь говорю.
— Да при чем тут дочь! Вы мне рубль выдайте и я поехал, — сказал Артемий Иванович и пошел в коридор.
Слушая, как Владимиров кряхтит, влезая в рубинштейновское пальто, которое Стельмаху пришлось выкупить у композитора, брезгливо отказавшего взять его после того, как оно было ношено полицейским агентом, надворный советник почувствовал, как спадает с его глаз наваждение и сомнения относительно башни с золотой маковкой тотчас прохватили его.
— Февронья, ты не хочешь на дачу с женихом съездить?
— Это еще зачем? — искренне удивилась та.
— На башню слазишь, а потом мне доложишь, видать ли оттуда в телескоп Петергоф.
— Да как же это — в телескоп?
— Ну, без телескопа. В кулак глянешь. Собирайся и езжай.
— А обратно я могу не успеть, — деланно смущаясь, сказала Февронья. — Может, мне и на ночь придется оставаться.
— Ничего не знаю, — сказал Стельмах. — Я что, по-твоему, без ужина сидеть буду? Взглянешь на башню — и назад.
Так Артемий Иванович нежданно-негаданно получил себе попутчика. Извозчик, который вез их на Балтийский вокзал, то и дело оглядывался на потемневшего лицом Артемия Ивановича и даже хотел свезти его к доктору, но Владимиров отказался. На поезд в Петергоф, отходивший в пять минут шестого, на котором обычно возвращался Артемий Иванович, из-за долгих сборов Февроньи они опоздали, но следующий, к счастью, отправлялся через двадцать пять минут и они сели на скамейку в вагоне третьего класса. Кухарка выпросила у Артемия Ивановича купить ей семечек и стала лузгать их, сплевывая в кулак.
— Разве вы не рады, что я поехала с вами? — спросила Февронья. — Все время молчите, как пень. И то верно, чего радоваться, мне сегодня возвращаться надо. Посмотрю вашу башню — и сейчас назад тронусь.
В мыслях Артемия Ивановича царил совершеннейший кавардак. Он понимал, что эта поездка — полный его крах, что вот сейчас, менее чем через час, станет ясно, что все деньги Стельмаха он профукал, и ему останется только поспешно скрываться, а денег на бегство у него осталось рублей двадцать. И отвечать на вопросы Февроньи было нечего.
Желающих ехать в Петергоф было мало. В вагоне сидели несколько военных, рядовых конногренадер и улан, в дальнем конце сидели несколько женщин-паломниц в черных платках, а совсем рядом от Артемия Ивановича и его дамы расположился старый монах из Троице-Сергиевой пустыни с длинной сивой бородой и несколько молодых послушников, реденькие бороденки которых походили скорее на пародию на этот признак мужественности, чем на собственно бороды.
— Можна, ваше благородие, я тут рядом с вами сяду? — гнусаво спросил Владимирова вошедший в вагон господин в худом казенном пальтишке мышиного цвета и в морских сапогах поверх штанин. — Мени не далеко ехаты, тильки до Петергофу.
— Да сидите уж, — сказал Артемий Иванович, которому сейчас было совершенно наплевать, с кем им придется проделать путь до Петергофа. Он был озабочен поисками выходов из своего ужасного положения, а выходы никак не находились.
— Може, вы хотите отведать яблучек? — спросил их попутчик и, шмыгнув простуженным носом, протянул бумажный пакет с яблоками.
— Да подавись ты своими яблоками! — огрызнулся Владимиров. — Может, они у тебя отравлены.
— Зовсим и не отрувлены. Трохи червывые, так у нас на крейсери для матросив все червывое.
— Мозги у вас, сударь, червивые! — заявил Артемий Иванович.
— Дозвольте тоди вас угостыть, сударыня, — настырный попутчик вытер мокрый нос о шарф, обмотанный вокруг шеи, и протянул Февронье яблоко в черной руке с грязными обгрызенными ногтями.
— Артемий Иванович, можно мне скушать яблочко? — спросила кухарка у Владимирова.
— Скушай, скушай, Хавронья, может, подавишься, — пожелал ей Артемий Иванович, так и не придумавший, как ему избавится от нежелательной спутницы.
— Не ешь, дева, сие яблоко, — встрял в их разговор сивобородый монах, которому надоело поучать послушников, покорно кивавших на любую его реплику, — потому как этот зловредный хохол, козел смердючий, словно Диавол, принявший на себя вид змея, хочет соблазнить тебя сим плодом, как Еву искусил он плодом запретным, чтобы поссорить тебя с твоим муже, которого ты есть кость от кости его и плоть от плоти его, и оставил муж твой отца своего и мать свою и прилепился к тебе, чтобы были двое одна плоть.
— Это не я к ней прилепился, это она ко мне пристала, как дерьмо к ляжке! — гневно возразил монаху Артемий Иванович.
— А вы, святой отец, замовчите, тому як видкиля вам знаты про плоть, и до ниж вона прылепляется, — набросился на монаха хохол.
Встав, он опустил окно и высморкался на ветер, несший мимо густой черный дым из паровозной трубы вперемешку с огненными вкраплениями искр. — У нас в Лондоне за таки мовлення в суд ташшыли!
— Я до пострига служил в Преображенском полку и не одну девку испортил, прости Господи! — обиделся монах в свою очередь, тряся бородой. — Каковые грехи теперь и замаливаю слезно, — добавил он, заметив изумленные взгляды послушников.
Они проехали станцию «Лигово», потом «Сергиевскую Пустынь», где монах с послушниками вышли. Артемий Иванович, насторожившись при упоминании Лондона, все время внимательно разглядывал попутчика и теперь был уже уверен, что это тот самый беглый матрос Курашкин, которого он вывез на шхуне из Англии. Куда делся Курашкин в Остенде, после того как они все вместе попали в руки Продеуса и были доставлены к Рачковскому, он не знал. По его виду и по его подходам в разговоре можно было предположить, что хохол не оставил ремесло шпика и провокатора. А вдруг он столковался еще тогда с Рачковским и Петр Иванович подослал Курашкина после неудачной попытки Ландезена схватить Владимирова на Петергофском гулянии?
— Господи! Очам своим не верю! — вскричал вдруг Курашкин и хлопнул Владимирова по колену. — Товарыш Гурин! Вы мени не дознаетеся? То ж я, Курашкин! Давно мы с вами не бачилыся, скильки лет мынуло!
«Все, пропал! — подумал Владимиров. — Вляпался как между молотом и наковальнею».
Он оглянулся на наковальню, которая плевалась семечками и недоуменно переводила взгляд с жениха на Курашкина.
— Я бачу, вы добре пристроилыся, — улыбался во всю пасть Курашкин. — И пальте на вас с доброго сукна. Где же вы теперь подвызались? Чи знову просто так, товариш Артемий?
— Но-но, руками-то не лапь, — отвел руку Курашкина от рубинштейновского пальто Артемий Иванович. — Чай не казенное. Своего начальника можешь щупать.
— Мого начальныка зараз щупать не можна, — замотал головой Курашкин. — Мий начальнык самый полковник Секеринский.
— Подумаешь, а у меня сам Государь начальник! — не сдержался Артемий Иванович, видя такое неприкрытое бахвальство. И тут же испугался еще больше. Если Курашкин состоит на службе у Секеринского, то это еще хуже, чем Рачковский.
— Так чем же вы теперь займаетеся? — настойчиво поинтересовался Курашкин.
— Он у нас дачу ремонтирует, — вставила Февронья, когда Артемий Иванович безнадежно уткнулся носом в стекло, совершенно не в состоянии придумать выхода.
— Государю? — спросил Курашкин, пристально глядя на Февронью. Где-то в его голове бродила мысль, вызванная видом Февроньи, но поймать эту мысль ему никак не удавалось. Чертов боцман выбил из него последнюю способность соображать.
— Да нет, хозяину моему, надворному советнику Стельмаху, в Бобыльской.
— Заткнись, дура! — шикнул на нее Артемий Иванович.
— А я теперь снову по флотськой части, — сказал матрос. — Прызначеный служыти на крейсер «Память Азова».
— Заливай это кому-нибудь другому. Я своими глазами видел, как три недели назад этот крейсер из Кронштадта ушел!
— Вин-то пишов, це правда, але я його потом нагоню.
— Бегом, что ли?
— Навищо бегом? — обиделся Курашкин. — Меня через неделю вкупи со сменою матросив для «Владымыра Мономаха» до Одессы на поезди повезуть, а оттуды на пароходе в Средыземно море, до грекив в Пырей. А оттуды я пиду уже на крейсери до Японии.
— Уж не к наследнику ли тебя, Курашкин, Секеринский приставил?
— Ни, — испугался Курашкин. — Мени командыр наказав выполняти обязанности псаломщика при еромонахе Фыларете.
— Чего это ты так испужался, Тарас? — в отчаянии перешел в атаку Артемий Иванович. — Как же ты по флотской части, если служишь у Секеринского и ходишь в штатском? Или теперь на «Памяти Азова» Секеринский свое охранное отделение открыл?
Артемий Иванович увидел, что все сидевшие в вагоне паломницы и гвардейцы уже давно с интересом наблюдают за их перепалкой. Он умолк и почувствовал, как взмокла у него спина от пробившего его холодного пота, как потекли струйки по лбу, а испуганные удары сердца отозвались где-то в животе.
— А мой Артемий Иванович агентом почище вас будет, — в полной тишине, нарушаемой лишь ритмичным стуком колес, с вызовом сказала Февронья, сплюнув прямо на пол с языка черные лепестки шелухи. — Он знает такое, чего даже Государь не знает: что бунтовщики хотят убить нашего цесаревича с подводного аппаратуса, когда он поплывет в Эфиопии вверх по Нилу.
— Дура! — прошипел Артемий Иванович, окончательно падая духом. — Я тебе по секрету, а ты, свинья, на весь вагон!
Только тут Курашкин понял, что спутница Владимирова и баба, рассказывавшая на базаре о покушении на цесаревича — одно и то же лицо. А значит, ее жених, плававший на отхожем месте и поведавший ей о таких планах — и есть Артемий Иванович. Нужно было немедленно сообщить обо всем Черевину.
Помня о том, каким хитрым и коварным оказался в Лондоне Владимиров, Курашкин решил запудрить ему мозги пустыми разговорами, чтобы он не догадался ни о чем до приезда в Петергоф и не помешал ему.
— Эх, пан Гурин, — с ностальгическим всхлипом сказал Курашкин и опять высморкался в окно. — А памятати, як мы у нас в Лондоне седовали разом в трактыре? Чудные булы времена!
Февронья дернула жениха за рукав.
— Вот вы, Артемий Иванович, с этим субъектом в трактире сидите, а меня обещали сводить в «Бель Вю» и не сводили! А он скоро закроется на зиму.
Артемий Иванович просиял. Ему, конечно, надо было бы бежать к Черевину и сообщить, что теперь через Секеринского обо всем узнает Федосеев и Селиверстов, но он решил, что лучше промолчит, авось обойдется и так.
— Душечка, Хавроньюшка моя, да ты просто прелесть! — сказал он Февронье и поцеловал ее в щечку, отчего та зарделась, как маков цвет. — Конечно же, «Бель Вю»! Совсем запамятовал со всеми этими ремонтами! Прямо с вокзалу туда и направимся.
— А как же башня? — спросила кухарка.
— Вздор. Башня обождет. Скажешь хозяину, что башня отличная и весь пляж виден.
— А що така за башня? — оживился Курашкин.
— Это Артемий Иванович построил на даче в Бобыльском башню с золотой маковкой, — пояснила Февронья.
— И высока та башня буде?
— Сажен пятнадцать будет, не меньше, — с мстительной ноткой в голосе заявил Артемий Иванович.
— Це от земли?
— Да нет же, от крыши!
— Так цю башню с Петергофу да с Кронштадту видать повинно, а я ее на берегу щось не памятаю, — Курашкин озадаченно почесал потылицу.
Однако на разговоры у него уже не было времени, потому что поезд въехал под крышу Ново-Петергофского вокзала и, распрощавшись с Владимировым и даже поцеловавшись с ним троекратно по православному обычаю, Курашкин выскочил на дебаркадер.
В другом случае он пошел бы к Черевину пешком, но сейчас было не до экономии и он взял извозчика в надежде, что генерал оплатит ему проезд. Извозчик высадил его у зданий конюшни и потом Курашкин долго метался, спрашивая у всех встречных городовых и военных, где ему найти начальника царской охраны, пока какой-то полицейский не отвел его за шиворот в канцелярию Черевина и не сдал на руки дежурному офицеру.
— Мени потребно до самого головного начальныка царськой охраны, — объявил Курашкин, но дежурный в ответ кулаком в перчатке дал ему в ухо.
— Ой, навищо вы деретыся, ваше благородие! — заверещал хохол. — Вин же мени самый наказав до нього прямо заявытися, якщо я чого про слухы в Петергофе дознаюсь! А я не тильки про слухы, я и жинку ту самую знайшов!
Дежурный не получал никаких указаний насчет возможного прихода агентов со слухами в Петергофе, однако позвонил наверх Федосееву и через минуту Курашкин стоял посреди готического кабинета.
Черевин с заведующим своей канцелярии сидели за столом, перед ними была початая бутылка водки, икорка в вазочке, тарелка с солеными огурцами и капустой — они отмечали вчерашнее производство камергера Федосеева за отличие из советников коллежских в действительные статские.
— Чего тебе? — спросил Черевин, не узнав Курашкина и одарив его мутным непонимающим взглядом.
— Вы мне велели одному доложить, вот я вам одному и докладываю: тильки що я ехав в поезди с господыном Гуриным, що мени с Лондону два году тому украв. Я дознався ее!
— Вот чертов язык! — Черевин налил себе еще водки. — Не ее, а его.
— Якраз ее, а не його. Його то я по першести и не дознався. То есть я його дознався, тильки це був не вин. Я дознався ту жинку, що на базари про пидводну лодку казала. А ейный жених, що на гальюне плавав, и есть Гурин.
Черевин почувствовал, что весь хмель из головы как-то внезапно выветрился. Господи, этот хохол явился в присутствии Федосеева и даже не подумал попросить остаться наедине с начальником охраны!
— Молодец, матрос, — сказал Черевин, сдерживаясь. — Можешь идти. Я распоряжусь, чтобы тебе по возвращении на корабль дали как следует этого… водки.
— Ни, ни, ваше благородие, я ще не розказав, где вин живе! — никак не мог угомониться Курашкин.
— Мы сами это узнаем, — сквозь зубы сказал Черевин и встал, чтобы вытолкать матроса из кабинета, пока тот не наболтал еще чего-нибудь.
— Пусть расскажет, ваше превосходительство, — сказал Федосеев Черевину, подхватив вилкой ворох капусты. — Мы его несколько месяцев уже ищем и еще столько же искать будем.
— Я у них все спытав, — обрадовано сказал Курашкин, оборотившись лицом к Федосееву. — Гурин живе в селе Бобыльская на дачи якого-то Стельмаха. И дома цего легко дознатися, бо у нього высока башня в пятнадцать сажен да с золотой маковкой, а с башни цией видать пляж в Петергофе.
Федосеев отложил вилку и тоже встал.
— Я должен немедленно известить об этом Секеринского. Раз он только что ехал на дачу в Бобыльскую, значит у нас есть по крайней мере несколько часов, чтобы его схватить. А дачу мы быстро отыщем по башне.
Черевин в полном смятении чувств кивнул. Он не мог запретить Федосееву связаться с Секеринским, чтобы не раскрыть себя, но поимка Владимирова была для него смертельной опасностью. Оставив Федосеева на телефоне, Черевин быстро спустился вниз и направился к себе домой. Он увидел спину Курашкина, возвращавшегося обратно на вокзал, чтобы сесть на поезд в Ораниенбаум и добраться оттуда в Кронштадт. Черевин окликнул хохла и тот, обернувшись, радостно подбежал.
— Ваше превосходытельство, чи не изволыте вы заплатыти мени сорок копеек на извошшыка, що я вытратив, щоб скорише до вас добратыся?
— Я тебе сейчас заплачу! — всхрапнул Черевин и заехал Курашкину в еще не тронутое сегодня ухо.
— За що? — заорал Курашкин, хватаясь за голову, которая звенела, словно корабельная рында.
— Чтоб знал, кому и о чем можно говорить!
Черевин круто повернулся на каблуках и зашагал к себе домой. Здесь он подозвал денщика и отрядил его немедленно разыскать урядника Стопроценко и привести его.
— Я думала, что вы с Федосеевым будете праздновать до утра, — удивилась его возвращению княгиня Радзивилл, читавшая на диване французский роман. — А потом еще поедете в город к Кюбэ.
— Ой, заткнись, Катенька, не до тебя, — отмахнулся от нее Черевин.
Стопроценко приехал через десять минут с двумя казаками.
— Вот что, Стопроценко, — сказал Черевин. — Помнишь тех двух людей, которых я вытащил из Якутска?
— А как же, ваше превосходительство, помню, словно сегодня видел.
— Видел?
— Де нет же, помню!
— Так вот один из них, Владимиров, объявился в Старом Петергофе.
Княгиня оторвалась от книги и заинтересованно взглянула на Черевина, а тот продолжал, не замечая этого взгляда:
— Тебе надо во весь дух мчаться в деревню Бобыльскую, найти там дачу Стельмаха с башней и увезти оттуда Владимирова, чтобы он не попал в руки людям Федосеева и Секеринского. Прежде я хочу сам с ними переговорить.
Спустившись вниз от Черевина, Стопроценко вскочил на своего жеребца и, лихо гикнув и стегнув коня нагайкой, понесся вдоль ограды Нижнего сада, через Верхний сад в сторону Ораниенбаума. Остальные двое казаков помчались следом. Когда они галопом миновали высокий мостик через Фабричную канавку и скакали по Знаменской улице, в районе двухэтажного каменного дома канцелярии конно-гренадерского полка и белой полковой церкви с зелеными куполами, им навстречу попалась мирно прогуливавшаяся парочка, в которой Стопроценко, разгоряченный скачкой, не узнал Артемия Ивановича и его барышню, шедших от Старого Петергофа ради экономии на извозчике пешком в «Бель Вю».
Добравшись до Бобыльской, они объехали опустевшую слободу, расспросили местных рыбаков, никогда и не слыхавших о башне, но честно показавших дачу Стельмаха, и спешились у полуразрушенного строения. Было совершенно ясно, что здесь никто не жил, да и не мог бы жить. Стопроценко обошел дом вокруг и, не найдя никаких следов человеческой деятельности снаружи, заглянул через окно внутрь. Там было пусто и голо, по полу бегали наглые мыши, а на столе рядом с керосиновой лампой, стеклянный колпак которой был почти черным от давней копоти и покрыт пылью, валялся заплесневелый кусок хлеба.
Не солоно хлебавши, казаки вернулись к Черевину.
— Не живет там никого, ваше превосходительство, — уверил начальника царской охраны Стопроценко. — Совсем дом пустой, и крыша повалена. А по огороду что табун лошадей проскакал. И башни там никто никакой никогда не видал. Набрехал вам все этот хохол.
Немного успокоившись, Черевин вернулся в канцелярию. Там уже собралось все петергофское полицейское начальство — сам полицмейстер полковник Вогак, двое участковых приставов, смотритель по наружной полицейской части при дворцовом управлении полковник Осипов, исправник уездного Петергофского полицейского управления Колмаков со становым приставом и только что привезший с собою из Петербурга от Секеринского пятерых филеров ротмистр Крылов.
— Вы, Владимир Константинович, как полицмейстер должны знать все приметные строения в Петергофе и окрестностях! — горячился Федосеев, глядя на полковника и передергивая узкими плечами. — Как же вы можете не знать башни в пятнадцать сажен высотой!
— Дурак, дурак! — поддерживал его попугай, взбудораженный всеобщим волнением и энергично бивший крыльями.
— Бобыльское по надзору не мне принадлежит, а уезду, — возражал полковник, показывая на уездного исрпавника. — Пусть Константин Николаевич скажет, где у него башня.
— Когда я был в Бобыльском этим летом на даче у купца Фишкина, там не было вовсе ни одной башни! — оправдывался исправник Колмаков. — Если в тех местах и есть какая башня, то на даче у господина Рубинштейна.
— В общем так, — подвел итог Федосеев и строго взглянул на исправника. — Вы, ваше высокородие, берете своих стражников, полковник Вогак выделит вам на подмогу десяток конных городовых из резерва, да еще агенты ротмистра Крылова — и едете в Бобыльское. Приметы разыскиваемого человека я вам сейчас составлю.
Он сел за стол и своим аккуратным почерком стал записывать характерные черты человека, которого он видел всего один раз три месяца назад. А этот человек, то есть Артемий Иванович, как раз дошел с Февроньей до двухэтажного здания вокзала «Бель-Вю» около длинной деревянной эстакады Купеческой пристани, у конца которой со стороны моря дымил пароходик, собиравшийся отчаливать обратно в Петербург. Танцевальный зал в вокзале по причине окончания сезона был закрыт, номера тоже пустовали и только ресторан гостеприимно принимал тех, кто еще заезжал в Петергоф прогуляться по осеннему саду или просто по делам.
В дверях ресторана к Артемию Ивановичу с Февроньей подплыл величавый метрдотель в визитке с полосатыми брюками, с черным жилетом и черным бантиком на шее, и спросил своего постоянного посетителя:
— Где вам будет угодно, Артемий Иванович?
— Хочу сидеть с видом на море! — капризным тоном, изображая из себя настоящую барышню, заявила Февронья. Артемий Иванович согласно кивнул. Они выбрали стол у самого окна, откуда были видны игравшие на солнце волны в заливе, пароходик и эстакада Купеческой пристани на сваях, но откуда ужасно дуло, так что даже скатерть, свисавшая со стола, шевелилась.
— Чего изволите-с, ваше степенство? — спросил метрдотель, незаметным жестом подзывая официанта-татарина в черном пиджаке и подвязанном под черный же жилет белом накрахмаленном фартуке длиной чуть ниже колен.
— Как всегда, — ответил Владимиров.
Официант исчез и через минуту также бесшумно и незаметно появился, неся на подносе в белой нитяной перчатке большой, запотевший графин водки. После первого стакана водки Артемий Иванович забыл о Курашкине, башнях с позолоченными маковками и развеселился.
— А теперь нам с дамой чего-нибудь на закуску, — сказал он метрдотелю.
— Очень советую вашему степенству отведать «Соте де воляй», — предложил тот. — А на закуску есть либо копченая селедка, либо соленая с луком, с отварным картофелем и подсолнечным маслом. Могу предложить также печеные пирожки с луком или грибами.
Артемий Иванович согласился и официант тотчас же поставил на стол блюдо из небольших обжаренных, а затем тушеных кусочков мяса с косточкой.
Гордо взирая на Февронью, Владимиров объяснил кухарке, что его тут, в «Бель-Вю», все хорошо знают, потому как он часто заходит сюда — исключительно по вопросам тайной полицейской службы, конечно. И тут почувствовал, что кто-то сзади положил ему на плечу словно бы чугунную руку, придавившую его к стулу. Он запрокинул голову и увидел склонившееся над ним лицо Продеуса.
Артемий Иванович, уже порядочно набравшийся, глупо улыбнулся.
— Я тебя, слизняка, пятый день разыскиваю, — сказал Продеус, еще сильнее сжимая плечо Артемия Ивановича своей железной лапой, так что лицо Владимирова перекосилось от боли. — Хорошо, мне только что княгиня Радзивилл сказала, что ты где-то в Старом Петергофе обретаешься. Ну, думаю, где ж тебе быть, как не в ресторане!
— Не бейте его, — сказала кухарка, со сложными чувствами оглядывая исполинскую фигуру Продеуса. — Он знает, что когда цесаревич поплывет вверх по Нилу в Эфиопии, его убьют подводным аппаратусом.
— Это я еще не бью его, — сказал ей Продеус и, отпустив плечо Владимирова, грузно уселся за стол между Артемием Ивановичем и Февроньей. — Бить я его потом буду. Эй, человек, графин водки! Уф, неделю уже в любезном Отечестве, а все не отопьюсь.
Метрдотель отдал распоряжение официанту и тотчас на столе появился второй графин, еще холодный и запотевший. Обомлевший от страха Владимиров и кухарка зачарованно следили, как Продеус выпил весь графин — целый штоф — до дна, один за другим опрокидывая стаканы в глотку и даже не закусывая. Занюхав хлебцем, бывший околоточный надзиратель крякнул и сказал, обращаясь к Февронье:
— Ты откудова такая будешь? Женой ему будешь? — он стукнул Артемия Ивановича ладонью по спине и тот закашлялся. — Чего раскашлялся, может стукнуть?
Артемий Иванович замахал руками, от кашля на глазах у него выступили слезы.
— Невеста я ему, — пролепетала Февронья, с жалостью смотря на страдания жениха.
— А живешь где?
— В городе, у надворного советника Стельмаха.
— Вот тебе рупь, девка, и вали отсюда, — Продеус выудил из кармана рубль и выложил на стол. — А нам с твоим женихом потолковать нужно. Он приедет за тобой следом.
— Он сейчас живет тут в Бобыльской, у Стельмахов на даче, — Февронья взяла рубль, поднялась из-за стола и попятилась к выходу. — Я поеду, Артемий Иванович, ладно?
— Хавронья! — только и смог прохрипеть Артемий Иванович, видя, как вместе с кухаркой удаляется его единственная надежда на спасение.
— Езжай, езжай! — помахал ей своей лапищей Продеус и взял Владимирова за шкирку. — Значит, на даче живешь? Ну, пошли к тебе на дачу, любезный дружок, побеседуем.
Он выгреб у Владимирова все имевшиеся у того деньги и расплатился с метрдотелем, после чего они в обнимку, словно лучшие друзья, покинули ресторан. Февроньи уже не было, она взяла извозчика и в страхе укатила на вокзал. Через четверть часа Продеус и волочившийся за ним Артемий Иванович дошли до Бобыльского.
— Где? — спросил Продеус и крепко встряхнул Артемия Ивановича.
Тот покорно указал на дом с обрушенной крышей, с увядшими рулонами гортензий, сорванных со стен, и с разбитыми в некоторых окнах стеклами. Войдя внутрь и сев за стол, Продеус поймал Владимирова за лацканы пиджака и притянул к себе. Толстые и сильные пальцы бывшего околоточного надзирателя мертвой хваткой держали пиджак, он приблизил свою грубую красную рожу прямо к лицу Владимирова и сказал, дыша перегаром:
— Ты знаешь, что Петр Иванович тебя любит? Не веришь? А зря, — Продеус скверно осклабился, показав желтые зубы. — Рачковский мне так прямо и сказал: привези, мне дескать, моего дорогого Гурина живым или … эта … хотя бы, значит, не мертвым. Ну что, поедешь?
Артемий Иванович дернулся и почувствовал, как один из лацканов пиджака выскользнул из кулака Продеуса, предоставив некоторую свободу вращаться вокруг все еще удерживаемого Продеусом лацкана. Слегка осмелев, Владимиров спросил, зажмурив глаза в ожидая удара:
— А если нет?
— Не поедешь? Га! Поедешь! — рыкнул Продеус. — Вприпрыжку побежишь!
Его незанятый пиджаком кулак оказался в неприятной близости от носа Артемия Ивановича, но тут за стеной дома раздалось лошадиное ржание, всхрапнула еще одна лошадь и стали слышны мужские голоса, которые что-то бурно обсуждали.
— Кто это еще? — Продеус прислушался к голосам, раздавшимся снаружи дома, и цыкнул на Артемия Ивановича, открывшего было рот.
— Я же говорил его превосходительству, что нет тут никакой башни! — говорил голос исправника прямо под окном. — Может, ты знаешь, где тут башня с золотой маковкой?
— Нету тут никаких башен, вашбродие, — отвечал кто-то, то ли урядник, то ли сам становой пристав. — Ни с маковкой, ни без маковки.
— Остолоп! У него башня в пятнадцать сажен, а он ничего о ней не знает! Выкопай ее мне хоть из-под земли!
— Может, ее во время наводнения снесло … Говорят, тот человек, которого мы ищем, на какой-то башне еще тогда в море уплыл.
— Его сегодня агент Охраны в поезде видел. Какое может быть море?
Продеус бросился на пол и увлек за собой Артемия Ивановича.
— Кто это? — прошептал он, прижимая голову Владимирова носом к полу.
— Нос сломаешь, анафема, — ответил Артемий Иванович. — За мной это пришли, от Секеринского с Федосеевым. Их Курашкин, тот матрос, что я из Лондона привез, навел.
— Надо бежать, — заявил Продеус и, отпустив Владимирова, на четвереньках проследовал в комнату, бывшую когда-то спальней младшей из дочерей Стельмаха. Здесь он встал на ноги и глянул в раскрытое окно. Прямо под окном виднелась голова спешившегося городового в черной мерлушковой шапке с оранжевым кантом крест накрест на донышке, за которую Продеус не преминул ухватиться. Втянув городового, он ударом своего кулака вышиб из того дух, отобрал висевший на шее «смит-вессон» на оранжевом шерстяном шнуре и вернулся к Артемию Ивановичу. Тот лежал ни жив ни мертв. Совещавшиеся у дверей полицейские чины наконец пришли к единому мнению о том, что башня — это просто ошибка, а разыскиваемый ими человек просто прячется на даче Стельмаха. О том, где находится дача Стельмаха, равно как и о правильности их выводов им сообщил рыбак, у которого Артемий Иванович ежедневно вымогал рыбу, угрожая рассказать о мародерстве во время наводнения.
Дверь, которую Продеус предусмотрительно велел Владимирову запереть еще когда они только вошли на дачу, затрещала под мощными плечами городовых. Продеус схватил Владимирова в охапку и поволок в спальню, где выбросил в окно, нимало не заботясь о его сохранности. Выпрыгнув следом, он сграбастал Артемия Ивановича и побежал, перепрыгивая через канавы, в сторону парка принца Ольденбургского. Поскольку городовой, в обязанности которого вменялось следить за этой частью дома, лежал без сознания внутри, а лошадь паслась рядом на клумбе, не проявляя беспокойства, их увидели, когда они были уже в полуверсте от Бобыльского, у самого парка. Исправник Колмаков немедленно снарядил погоню, выделив для этого всех конных городовых, стражников и филеров и отдав их под начало приехавшего с ним урядника. У парковой ограды конной страже и городовым пришлось спешиться и, подгоняемые командами урядника, преследователи перепрыгнули через мелиоративную канаву, перебрались через ограду и побежали вглубь парка.
Нести Артемия Ивановича было тяжело даже Продеусу, поэтому он, добежав до пруда, бросил его на берегу и велел Владимирову дальше бежать самому.
— Мне плохо, — прохрипел Артемий Иванович.
— Сейчас тебе будет хорошо, аппаратус подводный! — взревел Продеус и швырнул Владимирова в пруд. Тот пролетел пару саженей и плюхнулся в воду.
К счастью, у берега было не глубоко и Артемий Иванович вскоре выбрался на сушу, мокрый и злой. Точно также миллионы лет назад из моря на сушу выползали первые сухопутные позвоночные. Единственным отличием было то, что на берегу их не ожидал страдающий отдышкой Продеус, державшийся за бок и устроивший Владимирову купание, чтобы немного передохнуть.
Дальше они оба бежали уже самостоятельно. Купание освежило Артемия Ивановича и придало ему прыти, но они потеряли на этом драгоценные минуты. Внезапно беглецы выскочили из леса на открытое место, где позади поля в сгущавшихся сумерках виднелись светившиеся в закатном солнце окна здания фермы.
— Куда нам теперь? — тряхнул Владимирова Продеус, затравленно озираясь.
— К морю! — Артемий Иванович выплюнул набившуюся в рот тину и первым бросился через кусты, которым была обсажена дорожка, в сторону купальни, где он однажды катался с Февроньей на лодке. Сбоку, в парке, уже слышались свистки перекликавшихся городовых — погоня приближалась.
— Стой! — Продеус догнал Артемия Ивановича и изменил его курс на 90 градусов. Теперь они бежали вдоль берега прямо к Свято-Троицкому кладбищу, где среди склепов и крестов легче было схорониться. Перекинув Владимирова через канаву и ограду и перебравшись сам, Продеус доволок Артемия Ивановича до середины кладбища, до деревянной кладбищенской церкви Св. Лазаря, и в изнеможении рухнул на могильную плиту, надпись на которой извещала, что она принадлежала некоей баронессе Ольге Георгиевне Сталь фон Гольштейн.
— Я больше не могу, — простонал Продеус, держась за колющий бок.
— Чего это ты такой малохольный? — спросил Артемий Иванович, у которого при виде мучений бывшего околоточного надзирателя открылось второе дыхание. — Подожди меня здесь.
Он понимал, что полиция настигнет их раньше, чем спасительная темнота окончательно накроет землю. И он направился к каменной приходской Свято-Троицкой церкви за деревьями в примыкавшем к торговым баням и каменным оранжереям принца Ольденбургского углу кладбища. В эту церковь в свое время он удачно отнес десятую часть выданных ему на ее восстановление денег. Священник, измученный ревностью костлявый мужчина с острым длинным носом, спутанной черной бородой и густыми черными бровями, в это время сидел у себя в доме позади церкви и при свете керосиновой лампы с розовым абажуром пил чай из самовара с баранками и вареньем. Рядом с ним по одну руку восседала его дочь, перезрелая румяная особа из тех, кого называют кровь с молоком, пухлыми ручками макая баранки в варенье, а по другую — такая же пухлая попадья, раздобревшая на мучном, которая макала баранки в чай, причитая, что у нее совсем уже зубов не осталось.
— Батюшка, спаси, ради Бога! — ворвался к священнику Артемий Иванович и с разбега грянулся на колени, едва не своротив на лету стол. — Преследуют меня, окаянные! Пропаду ни за грош! Я же вам помогал, я же не сказал Стельмаху ни о чем!
Все трое сидевших за столом замерли, ошарашено разглядывая покрытую тиной, ряской и грязью фигуру.
— Ах, это ты, сын мой! — узнал его священник. — Ну что ж, долг платежом красен. Мелания, — обратился он к своей дочери, — отведи этого господина к себе в спальню и раздевайся.
— Батюшка! — всплеснула поповна мягкими розовыми ручками, покрываясь пунцовым румянцем и роняя баранку в варенье.
— Делай что сказано. Спрячешь его под кровать, а сама ляжешь в постель и скажешься больной.
— Лгать грешно, батюшка, — сердито сказала попадья.
— Благословясь, не грех. Было б грешно, матушка, так чай пили бы пустой и без бубликов! — заявил священник и встал, поддернув рясу.
— Только я не один, — сказал Артемий Иванович, поднимаясь с пола. — Там еще один на кладбище, его тоже надо бы припрятать.
— Ну вот что, матушка, приведи этого человека в дом и спрячь в погребе. Там хоть и вода, зато не найдут.
— Может, мне тоже раздеться? — поддела мужа попадья.
— Еще чего удумала, старая ведьма! — взбеленился поп и, схватив ухват, замахнулся на жену. — Я сам за ним схожу.
— Идемте, идемте скорее, — сказала поповна и, взяв Артемия Ивановича за руку, увлекла в свою спаленку. Из столовой раздалось несколько глухих ударов ухватом по попадье, затем хлопнула дверь — это поп отправился за Продеусом.
Спаленка поповны была крохотной и уютной. В красном углу висел киот с образом Богоматери, теплилась лампадка, а прямо в изголовье большой кровати к стене была приклеена раскрашенная от руки самой поповной литография, на которой кавалер целовался с барышней. Кровать была железной, с пружинами, поверх которых была постелена толстая пуховая перина.
— Лезьте под кровать, — велела поповна и Артемий Иванович покорно встал на четвереньки. Под кроватью было мало места и когда он наполовину втиснул под нее переднюю часть своего тела, его филейная часть застряла, оставив ноги снаружи.
— Так вас видать, — сообщила поповна и ушла в столовую, откуда вернулась с ухватом. Ухват оказался действенным средством и сообщил Артемию Ивановичу необходимую ловкость и пронырливость. Поставив ухват рядом с кроватью, поповна стала быстро раздеваться, тем более что раздался стук в дверь и в столовой зазвучали чужие мужские голоса. Артемий Иванович видел из своего убежища, как упала на пол юбка, за ней другая, кружевная, как полная белая рука поповны подобрала их, затем перед его носом мелькнули розовые девичьи пятки и неимоверная тяжесть тела поповской дочки в тот же миг сквозь пружины кровати распластала его по полу, словно камень — святого Артемия Великомученика.
— А здесь у вас кто? — спросил исправник, открыв дверь в спаленку поповны.
— Дочка тут у меня хворает, — сказал священник.
Артемий Иванович почувствовал, что он не может даже вздохнуть, он попытался немного приподнять поповну спиной и задом, чтобы хотя бы на миг освободить свои легкие для вдоха, и изумленный исправник Колмаков увидел, как кровать с поповской дочкой перед его глазами закачалась вдруг, словно лодочка на волнах. От испуга кровь у поповны отлила от лица и она вмиг стала бледна как смерть.
— Что это с кроватью? — недоумевающе тряхнул головой исправник Колмаков, словно сбрасывая с глаз наваждение.
— Лихоманка замучила, — нашелся батюшка. — Уж третью неделю так и колотит, так и корежит.
— Эка как ее трясет, — пожалел девушку исправник. — А она не заразна?
— Да кто ж ее знает, — пожал плечами поп. — У меня жена уже третий год на мужиков бросается, а какие тут мужики, прости Господи, когда кругом одни покойнички. Тож не ведаю, может, она заразу подхватила какую, а может, бес блудный напал…
— Так вы, батюшка, говорите, что не видели никого? — еще раз спросил исправник.
— Вот вам истинный крест, говорю как на духу — никого! — перекрестился поп и они с полицмейстером покинули спаленку.
Артемий Иванович рванулся на свободу, к воздуху, и поповна, взвизгнув, вместе с кроватью переехала к другой стенке. Тогда Владимиров бросился в другую сторону, но кровать, намертво оседлав его, двинулась следом, с грохотом ударив в дверь.
— Что здесь? — подскочил к двери собравшийся было уже уходить Колмаков и распахнул в спальню поповны дверь, так что визжащая от ужаса поповская дочь едва успела прикрыться одеялом.
— Эпилепсия у ей, — сказал священник. — Кажен месяц после припадков дом перестраиваем.
А Артемий Иванович, уже впавший в состояние, похожее на амок у индийских слонов, продолжал бить кроватью о стены в тщетных попытках вырваться из кроватных объятий. На этот раз поповна слетела с кровати на пол вместе с пуховой периной и, отбросив всякий стыд вместе с одеялом, в одной сорочке, схватила ухват и засадила его рогами под кровать. Все словно по мановению волшебной палочки прекратилось. Поповна подобрала одеяло и взгромоздилась обратно в постель. Исправник аккуратно притворил дверь и спросил у попа шепотом:
— А зачем она ухватом?
— Не видите, что ли, ваше благородие, кровать тормозила, чтоб не ерзала, — ответил священник.
— Вы бы, что ли, разорились на ее лечение, святой отец, на свою кровиночку расходы велики не бывают.
— Не могу-с, сын мой. Каков приход, таков и расход. Вы бы пособили, похлопотали, чтоб меня к Ново-Петергофскому приходу причислили: там и доходов больше, и священник в гимназии законоучителем служит.
Но исправник отговорился, что у него в поповской среде связей нету, на том дело и кончили. Когда в доме все успокоилось и даже продрогшего Продеуса извлекли из погреба, поповская дочь рискнула слезть с кровати и, встав на колени, заглянула под нее. Ее встретили безумные глаза Артемия Ивановича и раскрытый в изнеможении рот. Поднатужившись, она приподняла кровать за край и босой ногой вытолкнула Владимирова в незанятое кроватью пространство комнаты.
— Пить! — совсем некстати сказал Артемий Иванович.
— Вы зачем там под кроватью бесились?! — набросилась на него поповна.
— А если бы я на вас сверху так взгромоздился? — сказал Артемий Иванович, постепенно приходя в себя. — Каково вам тогда было бы?
— Только попробуйте, — ответила поповна, берясь за ухват. — Меня батюшка тогда уже точно никогда замуж не отдаст.
Глава 10. Бегство
28 сентября
Поезд быстро приближался к Парижу и Продеусу уже виделись немалые наградные, которые Рачковский обещал ему отвалить, если ему будет доставлен живой и невредимый Владимиров. А Артемий Иванович, действительно живой, хотя и не столь невредимый, как ему того хотелось бы — нос у него был заложен после купания в пруду парка принца Ольденбургского, а бока болели после знакомства с ухватом поповны, — с тоской смотрел в окно, где предместья Парижа освещались всходящим солнцем, и чувствовал себя агнцем, ведомым на заклание. Чем ближе они подъезжали к Парижу, тем больший страх охватывал Владимирова. Он чувствовал себя мухой, прочно застрявшей в паутине, которая видит приближающегося к ней паука, но не может шелохнуться, прилипнув к клейкой сетке, раскинутой безжалостным охотником.
За окном замелькали большие дома, горизонт затянулся легким дымком из высоких фабричных труб, и вот на фоне рассветного неба возник темный силуэт Эйфелевой башни, которую Артемий Иванович видел возведенной только на треть в свое последнее посещение Парижа два года назад. Поезд замедлил ход, заскрежетали тормозами вагоны, и состав остановился у платформы, заполненной вперемешку встречающими и блузниками в кепи и с бляхами на груди. Пассажиры стали вынимать из веревочных сеток над головами ручной багаж. Артемий Иванович тоже встал и чуть не упал обратно на диван — ноги его были ватными и непослушными, противно дрожали в коленках от страха и все время норовили подогнуться.
— Что ты стоишь истуканом! Выметайся! — велел Владимирову Продеус, когда кондуктор отворил перед ними дверь купе. — Сам Петр Иванович приехал тебя встречать.
Артемий Иванович обречено взглянул на платформу и увидел высокую упитанную фигуру Рачковского, рядом с которым казался совершеннейшим карликом низкорослый круглый Бинт в полосатом костюме и в соломенном канотье. В тот же миг сильным толчком в спину Продеус вытолкнул Владимирова из вагона.
— Сладкий мой, приехал таки! — раскрыл свои объятия Петр Иванович и Владимиров, хлюпая носом от жалости к себе и страха, внушаемого ему заведующим Заграничной агентурой, уткнулся лицом в надушенный сюртук Рачковского. — Наконец мы все снова вместе! Боже мой, какое счастье видеть тебя здесь, в Париже! Совсем не изменился, только пальто новое на тебе, да какое хорошее! Пойдем же, милый мой дружочек, экипаж уже ждет нас.
Ласковый голос Петра Ивановича подействовал на Владимирова как ядовитый укус паука, схватившего наконец свою жертву. Ноги у него отнялись, чтобы не упасть, он повис на руке Рачковского и так был выведен Бинтом и Петром Ивановичем на привокзальную площадь, где дворники сметали мусор в огромные кучи и где среди омнибусов и частных фаэтонов ожидал русских четырехместный наемный фиакр. Французский полицейский в кепи и пелерине повелительным жестом разрешил экипажу подъехать к тротуару и Рачковский под локоток посадил в него Артемия Ивановича, усевшись с ним рядом. Бинт с Продеусом также втиснулись в тесный неудобный экипаж, и извозчик повез своих пассажиров на улицу Гренелль, где располагалось русское посольство.
Уже на Гренелль им навстречу попалась запоздавшая громадная ассенизационная арба, влекомая двумя здоровенными першеронами, и Рачковский, редко встававший в такую рань, зажал нос кружевным платочком, а Артемий Иванович, проводив телегу с нечистотами долгим взглядом, подумал: «Вот так служишь, служишь Отечеству, а в награду тебя рожей в дерьмо. Да еще и не по разу.» У ворот посольства они слезли, Петр Иванович заплатил извозчику два франка и сверху еще 15 сантимов на чай, после чего провел Владимирова через ворота в пустой двор, где постучал в дверь флигеля, занимаемого консульством. Швейцар Афанасий немедленно открыл и пропустил приехавших внутрь.
— Есть еще кто-нибудь в консульстве? — спросил Рачковский.
— У нас прием в канцелярии с часу до четырех, — обиделся Афанасий. — Кто ж сюда в такую рань явится? До одиннадцати никого не будет.
— Тем лучше. Узнаешь, Афанасий, блудного сына? — Рачковский хлопнул Владимирова по плечу и пошел в дальний конец коридора, где находились две комнаты, отведенные Заграничной агентуре. Бинт отпер двумя ключами запор на двери и они вошли в помещение канцелярии в два окна, стены которой были закрыты тяжелыми шкафами, доверху набитыми делами, а пространство посередине комнаты делили три письменных стола.
— Ты можешь идти, Продеус, отдыхай, — сказал Рачковский, входя в кабинет, занимавший следующую комнату, и усадил Артемия Ивановича на диван. Тяжелая портьера на двери, опустившись, бесшумно отделила их обоих от внешнего мира, вызвав у Владимирова очередной приступ панического ужаса.
— Рад стараться, вашбродие, — гаркнул за портьерой Продеус и громко чихнул, так что тяжелый бархат от его чиха взволнованно заколыхался: сидение в сыром поповском погребе не прошло даром. — Только вот слышал я в Петергофе странные слухи, будто бы на наследника цесаревича замышляют покушение в Эфиопии во время путешествия по Нилу, да не просто так, а с какого-то подводного аппаратуса. А девка, с которой я Гурина в «Бель-Вю» застал, говорила, будто бы он об этом один знает, даже государь не знает.
— Иди, Продеус, иди, — скривил губы Рачковский, отодвигая портьеру и впуская в кабинет Бинта. — Сколько времени ты в «Бель-Вю» просидел, прежде чем туда Гурин со своей барышней явился? Отдыхай, дорогой мой, отдыхай. Благодарю за службу.
И Петр Иванович решительно задернул портьеру. Стоявший посреди кабинета Бинт сказал, с любовью разглядывая себя в настенном зеркале:
— Не понимаю, Пьер, как вы можете держать на такой ответственной должности, как агент наружной агентуры, таких примитивных субъектов вроде Продеуса. Вам нужны умные, деятельные, незаурядные натуры. Вроде меня.
— Ты, Анри, такой один на весь Париж. И мне приходится довольствоваться вот этим, — Рачковский повернулся к Артемию Ивановичу, сидевшему нахохлившись на диване с поднятым на рубинштейновском пальто воротником.
Владимиров оцепенел, по-кроличьи глядя прямо в черные глаза Рачковского.
— Ну а ты, любезный, что скажешь мне о подводном аппаратусе? — спросил тот у Владимирова и уселся за свой большой стол красного дерева. — Наверное, и не просыхал, как от Федосеева с Секеринским сбежал?
— Нет-с, — трепещущим голосом ответил Артемий Иванович, сидя не жив ни мертв. — Ничего-с.
— Что значит твое «ничего», сладенький?
— Ничего-с не значит, — еще пуще испугался Владимиров. Его тело затрясла крупная дрожь, отчего он никак не мог зажечь папиросу, все время выпадавшую у него изо рта, стоило ему поднести к ней зажженную спичку.
Рачковский достал из погребца початую бутылку коньяка и налил Владимирову. Тот опрокинул рюмку и затрясся еще сильнее.
— Еще, что ли? — спросил Петр Иванович.
Артемий Иванович сглотнул слюну, молча кивнул и по щеке его скатилась крупная слеза.
— Ну, держи, — Рачковский налил Владимирову еще одну рюмку.
Однако это не помогло. У Артемия Ивановича застучали зубы, стало дергаться правое веко, а руки так ходили ходуном, что опорожненная рюмка свалилась на пол и разбилась всего лишь спустя мгновение после того, как была поставлена обратно на стол. Рачковскому пришлось схватить перчатку и отхлестать ею Владимирова по небритым щекам. Тот разрыдался в голос, а волосы у него встали дыбом. Тогда Рачковский обломал о его спину свой новый зонтик, ободрал пальцы о его зубы, пустив в ход кулаки, и даже пнул ногой в колено. Артемий Иванович, скукожившись, повалился с дивана на пол и завыл.
— Анри, что с ним? — не на шутку перепугался Рачковский, взывая к Бинту о помощи.
— Доверьте это дело мне и через десять минут вы будете знать все, что хотите, — заявил Бинт, отходя от зеркала и дотрагиваясь до воющего на полу Владимирова концом своей щегольской трости.
— Делайте, что хотите, — сказал Петр Иванович и, сев за стол, налил себе чайный стакан коньяку. — Я хочу знать только, зачем он и Фаберовский понадобились Федосееву и компании.
Положив тросточку на диван, Бинт подошел к двери, ведшей из кабинета в помещение канцелярии, и изящным резким движением сорвал тяжелую портьеру, которой укрыл Артемия Ивановича с головой. Еще несколько минут из под портьеры доносились всхлипывания, но потом и они затихли.
Француз взял со стола заведующего Заграничной агентурой вазу, вынул из нее розы — невостребованный подарок для одной знакомой Рачковского, отказавшейся поехать с Петром Ивановичем на квартиру, — и, приподняв портьеру, плеснул туда воды. Тотчас же из-под портьеры показалась мокрая голова Артемия Ивановича и огляделась кругом с вполне осмысленным видом.
— Ты слышал, что от тебя хочет мсье Рачковский? — спросил Бинт, наклоняясь над ним и поддевая его подбородок носком лакированной туфли. — Зачем вы с поляком понадобились мсье Федосееву?
— Я не знаю-с, — ответил Артемий Иванович, убирая подбородок с туфли, и спрятался обратно под портьеру.
— Отвечай на мои вопросы! — заревел Рачковский и, выпрыгнув из-за стола, содрал портьеру со Владимирова, в гневе отшвырнув ее прочь.
— Нам дали по пять рублей и отправили столоваться в Официантский корпус, где нам давали маленькие пирожные, — промямлил Артемий Иванович, отползая на брюхе к двери. — Сказали-с, что потом мы еще потребуемся им, но мы с поляком убежали.
— Далеко ж ты убежал, — сказал Рачковский, немного успокаиваясь. — В Бобыльское! А убежать подальше, как поляк, мозгов не хватило?
— Денег, Петр Иванович, — снова всхлипнул Артемий Иванович. — Я даже строительными работами занялся на дачах и за государем на сортире-с в бурю плавал.
От греха подальше Рачковский поспешно накрыл его портьерой.
— Ну что, Анри, можно ему доверять? — спросил Петр Иванович у француза растеряно, предварительно переведя ответ Владимирова.
— У него типичная нервная горячка, — отозвался Бинт, возвращаясь к зеркалу и расчесывая усы крохотным гребешком. — В таком состоянии человек не может контролировать ни свои поступки, ни свои слова. Мне кажется, если бы он что-нибудь знал, он бы нам непременно все выболтал.
— Я думаю, ты прав, — согласился Рачковский. — Мне и так известно, зачем он был нужен этой департаментской клике. Просто хотел еще раз убедиться. Вставай, Артемий Иванович, допрос окончен. Извини, мой сладкий, я не думал, что возвращение в родные пенаты вызовет у тебя такое нервное потрясение. Тебе нужно укреплять нервы, мой драгоценный, иначе ты не сможешь служить внутренним агентом и тебе придется, как Продеусу, следить за революционерами на улицах.
— Ага, — сказал Артемий Иванович и выглянул одним глазом из-под портьеры.
— Бинт согласился совершить с тобой прогулку за город. Ведь вы с ним старые приятели с давних пор. Сколько дел вместе ворочали, даже типографию в Швейцарии громили вместе. Куда бы тебе хотелось съездить?
— Эх, мне бы сейчас подальше от Парижа! — воодушевился Владимиров. — Покормить карпов в Марли, полюбоваться на фонтаны…
— Марли? — Рачковский переглянулся с отражавшимся в зеркале французом, сменившим гребешок на расческу, которой он теперь приглаживал напомаженные волосы. — Ну что ж, очень хорошо. Анри, помнишь, мы с тобой разок ездили в Марли и в Версаль? Там недалеко от Рюэй в сторону Ла-Сель-Сен-Клу по дороге есть лесок, а в нем озеро. Там вы карпов, хе-хе, и покормите. Устроите пикничок, пригласите барышень. А потом в Версаль на фонтаны съездите посмотреть. И следи за нашим другом хорошенько, чтоб не потерялся. Полагаю, деревенский воздух пойдет ему на пользу.
— А грибы там есть? — спросил Артемий Иванович, наполовину выбираясь на божий свет из своего убежища. — Я в Александрии знаете какие находил? Во! — Артемий Иванович выпрямил руку и стукнул другой по сгибу локтя. — По пол-аршина в поперечнике! Их, наверное, сам царь ест!
— Конечно, конечно, — ласково произнес Рачковский, помогая Артемию Ивановичу встать. — Он их непременно ест. Давай, Бинт, отправляйся за продуктами и барышнями. И шампанского купи побольше, да коньяка хорошего. Ну да что тебе говорить. А Гурин пока тут посидит, придет в себя.
— Я быстро вылечусь, — заверил Артемий Иванович. — Если поганок не наемся. Так вы меня прощаете, Петр Иваныч?
— Ну что ж с тобой сделаешь, конечно, прощаю. Давай с тобой поцелуемся, сладкий мой, по нашему христианскому обычаю трижды. Чай не нелюди какие.
Они звучно поцеловались и Артемий Иванович даже пустил слезу облегчения. Тяжелый камень страха и вины, лежавший на его душе, откатился в сторону.
Бинт не мог больше выдерживать эту сентиментальную сцену и покинул консульство. Судьба Артемия Ивановича была решена им вместе с Рачковским задолго до прибытия Владимирова в Париж. У них было продумано несколько вариантов, отличавшихся друг от друга только местом действия, каждое из которых находилось у какого-нибудь удаленного от поселений водоема в лесу. По мнению Рачковского, лучшим решением было Владимирова отравить, подсыпав отраву в вино или еду, а потом сбросить труп в воду. Но Бинт придерживался иного мнения. Будучи прежде сам полицейским, он желал обделать все чисто, не оставляя малейших следов. Для этого он пригласил свою землячку Шарлотту де Бельфор, известную всей Заграничной агентуре куртизанку, которую завербовал еще в начале своей карьеры в Сюртэ.
Мадам де Бельфор была выдающейся особой и держала в руках всех членов русской агентуры, падких до женского пола. Перед ее чарами не устоял даже Рачковский, и цветы, стоявшие у него в кабинете, предназначались как раз мадам Шарлотте. Ей не поручали следить за революционерами, но в деле обольщения различных русских чинов и сановников, приезжавших в Париж, она не имела равных. Благодаря Шарлотте де Бельфор Петр Иванович Рачковский получил рекомендацию делопроизводителя Семякина, обеспечившую ему назначение на его пост. Именно ей он был обязан многими своими связями, завязавшимися у него при дворе, в том числе и знакомством с княгиней Екатериной Радзивилл. Покровительство Рачковскому со стороны русского посла Моренгейма тоже во многом было ее заслугой, так как она по настоянию Петра Ивановича стала приятельницей виконта Эдуарда де Сез, лейтенанта квартирующего в Бурже 95-го пехотного полка, а через него — лучшей подругой невесты де Сеза, баронессы Марии Моренгейм, дочери посла.
По протекции Бинта мадам де Бельфор была введена в скандально известный франко-русский кружок Мишеля Бернова, где познакомилась с генералом Селиверстовым и обворожила его. Именно она выведала у Селиверстова точное время прибытия шхуны «Флундер» в Остенде с Владимировым и Фаберовским на борту, что позволило Продеусу и Ландезену опередить генерала и первыми приехать на пристань.
Теперь Бинт намеревался поручить ей избавить Заграничную агентуру от смертельной опасности, которая была связана с Артемием Ивановичем. План француза был прост и гениален. Прекрасно зная, что Владимиров не умеет ничего, а следовательно, и плавать, он был уверен, что Владимиров, будучи мужчиной, не откажется от удовольствия искупаться наедине с красивой нагой женщиной и воспользоваться случаем, чтобы получить все прочие удовольствия, которые можно ожидать в подобном случае. А это значило, что умеющая прекрасно плавать мадам де Бельфор могла без особых трудов устроить так, чтобы подпоенный Артемий Иванович оказался на дне.
Продукты, фрукты и вино для пикника были закуплены еще накануне, как только от Продеуса поступила телеграмма о том, что он вместе с Артемием Ивановичем достигли границы в Эйдкунене, поэтому Бинту оставалось только заехать на бульвар Араго, взять там Шарлотту де Бельфор и ее подружку, корзины с провизией и вином и спуститься вниз, где уже ждало запряженное парой гнедых ландо с кучером из новых сотрудников агентуры, не знакомых еще Гурину.
Путешествие до Рюэя в обществе двух веселых и беззаботных дам Артемию Ивановичу было приятно и не утомительно. Погода была прекрасная, осеннее солнце ласково освещало по сторонам дороги скошенные поля со стогами сена, могучие дубы и леса, уже тронутые желтизной. Бинт посадил Владимирова рядом с Шарлоттой, которая весело щебетала, рассказывая о прошлогодней Всемирной выставке, и все время кокетливо поправляла соломенную шляпу с розовыми бантами и цветочками, пытаясь произвести на Артемия Ивановича впечатление. Но усталый после дороги, измученный страхом перед встречей с Рачковским и обессиленный утренней истерикой в кабинете у начальника Заграничной агентуры, Артемий Иванович обнял мадам де Бельфор за стянутую корсетом осиную талию, притулился к ее плечу, уткнувшись носом в жабо из черного плиссе, и уснул. Сон его был тих и спокоен, доброта Петра Ивановича изгладила все страхи из его души, так что он мирно проспал почти всю дорогу. Он даже не проснулся в Рюэй, когда ландо покинуло городок и свернуло с шоссированной дороги на проселок. Вскоре ландо въехало в прекрасный дубовый лес, прокатилось по мостику через маленькую речку, миновало овчарню и остановилось. От проселка к лесному озеру вела нахоженная через лес тропинка, которой летом часто пользовались веселые компании, приезжавшие на озеро на пикники.
— Мсье Гурин, проснитесь! — пропела в ухо Артемию Ивановичу мадам де Бельфор, щекоча его губами и обворожительно улыбаясь в ответ на сонный и очумелый взгляд Владимирова.
Уставший от долгого сидения Артемий Иванович соскочил на землю и сделал несколько энергичных движений руками и ногами, разбрызгивая во все стороны грязь из дорожной лужи, в которой он оказался.
— Какое прелестное местечко, — сказал он, чувствуя, как вода заливается в ботинок через прохудившуюся подошву.
— Вы уже любите меня, мсье Гурин? — захлопала в ладоши Шарлотта и упала в объятия Артемия Ивановича, потянувшегося за корзиной с продуктами.
— Боже! — ахнул он, едва не упав вместе с повисшей у него на шее дамой. — На ногах нужно лучше держаться, мадам! Я из-за вас чуть еду не уронил!
Шарлотта бросила на него укоряющий взгляд и встала на обочине, отряхивая испачканный подол своего изящного платья из черного индийского шелка с розовыми и желтыми цветочками. Но уже спустя мгновение ее лицо вновь озарилось вполне искренней улыбкой, и она продолжила охмурять Артемия Ивановича. Это было довольно трудной задачей, поскольку Артемий Иванович был голоден, как волк, а в корзинках находилось то, что околдовывало его значительно сильнее — вкусная снедь и несколько бутылок хорошего коньяка.
Бинт быстро понял затруднение мадам де Бельфор. Посоветовавшись с подругой Шарлотты, которую та представила как мадемуазель Камиллу, Бинт подхватил корзинки и спешно направился по тропинке в сторону озера, чтобы как можно скорее приступить к пикнику и удовлетворить законное желание Владимирова позавтракать. Артемий Иванович взял оставшиеся корзинки и устремился за мелькавшей за кустами полосатой фигуркой француза в канотье. На берегу озера было много прекрасных мест для пикника и, выбрав то, где было меньше намусорено, они расстелили пледы, все четверо уселись на траве и принялись за трапезу.
Солнце припекало, словно летом, и только уже желтеющие кроны деревьев да плавающие на поверхности озера листья говорили о том, что в природе царит осень, а на календаре конец сентября. Приняв первую рюмку коньяку, Артемий Иванович распахнул рубинштейновское пальто и с еще большим усердием взялся за жареных рябчиков и коньяк. Впервые Бинт с удовольствием наблюдал, как нагружается коньяком и пьянеет на глазах этот русский. Последний раз, когда он видел такое зрелище, случился четыре года назад в Женеве, когда он с Гуриным и Ландезеном готовились громить народовольческую типографию. В тот раз Бинт нашел швейцарца Мориса Шевалье, специалиста по вскрытию разных замков и запоров, и уговорил его за некоторую сумму помочь им проникнуть в типографию. На его несчастье, в то время он еще не так хорошо был знаком с русской психологией и предложил, как это всегда делают французы, своим подельщикам обсудить план разгрома типографии в кафе «Олень». Тогда-то Артемий Иванович и показал себя Бинту во всю свою силу. Пока другие обсуждали дело, он вылакал один две бутылки коньяка. Ночью, когда пришло время выходить на дело, до типографии его пришлось нести, а он при этом так храпел, что недовольные женевцы, привыкшие к полнейшей тишине ночью, когда не ходят ни поезда, ни пароходы, выглядывали из окон и ругались. В типографии Артемий Иванович проснулся, начал буянить и кричать, потом поймал черта и пытался раздавить его печатным прессом, но вместо него прижал собственный кулак, в котором держал зеленого рогатого мерзавца. Опасаясь, что на вопли Владимирова прибежит полиция, его вытолкали наружу, но он прихватил с собой наборную кассу и потом долго бродил по ночной Женеве с кассой в одной руке, с лицом, синим от коньяка и свинца, разбрасывал шрифт, то воображая посев своих любимых озимых «разумного, доброго, вечного», то кормя им рыб в Женевском озере, а какую-то даму, осмелившуюся помешать ему, сбросил в озеро и потом еще долго бродил так по ночной Женеве, раздирая тишину ночного города дикими воплями и одной рукой прижимая к груди опустевшую кассу.
— Вы бы, мсье Гурин, рассказали нашим дамам о своих подвигах в Женеве, помните, когда мы с вами громили типографию, а потом вы едва не утопили в озере какую-то прохожую, — сказал Бинт и незаметно подмигнул мадам де Бельфор.
— Мы, внутренние агенты, никогда не распространяемся о своих подвигах, — гордо изрек Артемий Иванович и скинул с плеч на траву тяжелое рубинштейновское пальто. — А дело было так. Мы с мосье Бинтом, каким-то швейцарским медвежатником, не упомню его фамилии, и Ландезеном, отправились на дело.
— Ах, мсье Ландезен! — воскликнула мадам де Бельфор. — Какой пылкий был мужчина! Где он теперь, мсье Бинт? Я давно его не видала.
— Ландезена больше нет, мадам, — холодно ответил Бинт, который, как и любой в Заграничной агентуре, ревновал мадам Шарлотту к еврею-прощелыге, хотя знал, что она принадлежала также и многим другим мужчинам кроме Ландезена.
— Как жаль! — качнула красивой головой Шарлотта и тут же забыла о еврее. Артемию Ивановичу вновь было предоставлено слово и он продолжил, все более и более возбуждаясь:
— Была ночь и женевцы мирно почивали у себя в Женеве. И только мы, как тати в ночи, крались из трактира «Олень» к подпольной типографии, боясь привлечь внимание местной полиции. Наконец мы дошли и швейцарец ловко взломал дверь. Внутри мы зажгли свечу. Чего там только не было! И печатные станки, и наборные кассы, и стопа бумаги, и тираж «Вестник «Народной Воли», и даже целый ящик коньяку! Как мы там все громили! Как настоящие громилы!
Артемий Иванович замолк, бормоча себе под нос: «Как же там было написано?». Он тщетно пытался вспомнить полицейский протокол, составленный по случаю его хулиганских выходок по отношению к незамужней девице еврейской национальности и русского подданства, мадемуазель Фанни Березовской — единственный источник его воспоминаний о той ночи. Его собственные воспоминания решительно обрывались на том моменте, когда Бинт указал ему на ящик с коньяком.
— Кидался свинцовыми литерами кеглем в 36 пунктов, — сказал Владимиров наконец. — Так было написано в полицейском протоколе, — добавил он.
— Куда кидались? — переспросила мадам де Бельфор.
— В ту мамзель. Я шел по берегу с ящиком, полным кеглей … кажись … — Артемий Иванович вопросительно посмотрел на криво усмехавшегося Бинта. — И этих, как их … пунктов. Тридцать шесть штук. Я всем их раздавал с улыбкой и доброжелательством. А она шла мне навстречу. И не хотела посторониться. Подумаешь, какая фифа! Одна на всей набережной, а не хочет уступить мне дорогу, цыбулька прогорклая. Я ей так и сказал: «Отойди в сторону, **** ******!» А она мне в ответ назвала меня собачим мужским естеством. Какое же я естество, если я православный?! Мы, православные, не обрезаемся и не крестимся, словно жиды.
— Она была красива, эта мадам Березофски? — спросила Шарлотта.
— Красивая?! А как же некрасивая! Возьми тухлую капусту, воткни вместо головы свеклу — вот тебе и мадам Березовская. А худая — на ребрах морковку тереть можно, а задницей одежду шить, коли ушки игольные проделать.
— Вы правы, мсье, ни один мужчина не останется с худой женщиной, чьи ягодицы он может держать в одной руке, — согласилась Шарлотта. — Но во мне вы не разочаруетесь.
— Вот и я подумал, а поместится ли ее задница у меня в руке? — подхватил Артемий Иванович, хотя тогда он не думал вовсе ни о чем, да и не помнил он сейчас, что же на самом деле произошло. — Да как схвачу! А она в воду! С берега дул ночной бриз и она вдруг как поплывет в озеро, словно крыса в ночном горшке! И не тонет! Юбка у ей надулась, как мочевой пузырь после пива, плывет себе да руками машет.
— Чем же махает мочевой пузырь? — спросила Шарлотта, нежно взяв Артемия Ивановича за руку своей красивой рукой с длинными пальцами, унизанными перстнями, сверкавшими на солнце гранями брильянтов.
— Да уж чем-то махал. И кричал на всю Женеву. Я уж и кеглями в нее бросался, и пунктами, и еще чем-то с мудреным названием. Бинт, вы не помните, какое там слово было еще написано?
— Гарнитура, — француз снял соломенное канотье и вытер надушенным платком с монограммой вспотевший лоб.
— И гарнитурами в нее бросался, думал, потонет. Но выплыла, стерва. И что самое то обидное — нет, чтобы тут же извиниться, в участок стучать понеслась!
— Когда мадемуазель Березовская пришла на набережную вместе с полицией, мсье Гурин от них ручкой от печатного пресса еще полчаса отбивался, — добавил француз. — И в участке он дебоширил, насилу мы с Ландезеном его уняли.
— А вы, оказывается, очень темпераментный кавалер, — улыбнулась мадам де Бельфор. — По вам и не скажешь.
— Это еще что! — сказал Артемий Иванович, расцветая от льстивого комплимента. — Вот в Петергофе недавно во время наводнения я спас тайную советницу Стельмах и сам царь мне со своего плеча эту шубу подарил! — Владимиров встал, вновь одел пальто и принял героическую позу, чтобы в самом выгодном свете предстать перед мадам Шарлоттой.
— Будь я русским царем, я наградила бы вас самым высшим орденом, — сказала де Бельфор. — Но я всего лишь простая женщина, и единственное, чем могу наградить вас…
— Это сифилисом, — не удержался Бинт.
— Могу наградить вас своим поцелуем, — закончила Шарлотта, испепеляя негодующим взглядом француза из-под полей своей соломенной шляпки.
Артемий Иванович покраснел от смущения. Рассказывая этой замечательной женщине о своих подвигах и являясь уже почти членом царской семьи, он опустился до того, что повысил какую-то надворную советницу до тайной, а Рубинштейна, истинного владельца пальто, возвел в монаршее достоинство! Тем не менее он с готовностью подставил мадам де Бельфор свою покрытую жесткой щетиной щеку. Шарлотта поняла, что нашла в Артемии Ивановиче уязвимое место и решила ковать железо, пока горячо.
— Я никогда не видела воочию не то что русского императора, но даже нашего президента Лубэ, — сказала она. — Какие же красивые и полные восхищения вашим подвигом слова говорил вам ваш монарх?
Артемий Иванович затравленно оглянулся на присутствующих. Бинт с ехидной улыбкой сидел на пледе, расстегнув пуговицы полосатого пиджака, а мадемуазель Камилла с закрытыми глазами полулежала, пристроив у него на коленях свою кудрявую белокурую головку. Но восхищение мадам де Бельфор подвигами Владимирова было настолько искренним, что он отмел всякие подозрения в розыгрыше.
— В тот день император пригласил меня к утреннему чаю, и когда я пришел, он сидел вместе с императрицей, наследником цесаревичем и прочими своими детьми за накрытым всякими необыкновенными яствами столом. Увидев меня, все встали, и царь с поклоном провел меня к почетному месту во главе стола. «Я хозяин земли русской, — сказал он. — Но даже я склоняю голову перед такими самоотверженными людьми, как господин Владимиров. От Дмитрия Донского и Александра Невского до Суворова и генерала Скобелева не было больше на Великой Руси таких героев.» И вручил мне высший орден Андрея Первозванного с алмазами, мечами, портретами царя и разной прочей херней на голубой Андреевской ленте.
Шарлотта де Бельфор бросилась перед Владимировым на колени и приникла губами к его руке.
— Ну что вы, что вы, я простой и скромный герой, не то что некоторые, — сказал, потупив взгляд, Артемий Иванович. — Мне таких почестев, чтобы руки целовать, не надо.
— Что же мне дозволено будет вам поцеловать?
— Я не могу больше слушать всю эту чушь! — вскричал Бинт и скинул с колен голову задремавшей Камиллы. Шарлотта слишком хорошо играла свою роль и он не мог сдержать охвативших его ревности и раздражения.
— Тогда мы с мсье Гуриным уйдем от вас, — сказала она, с вызовом глядя на француза, красного от возмущения. — Ведь мы прогуляемся с вами к дальнему озеру, мсье Гурин, не правда ли?
— С вами, мадам, я готов прогуляться хоть на край света, — сказал Артемий Иванович, которому за всю жизнь никто еще так удачно не льстил. — А вы, мосье, сидите тут и жрите своих рябчиков!
Владимиров предложил своей почитательнице руку и они степенно пошли прочь по тропинке. Какое-то время Бинт вприскочку шел за ними, что-то гневливо бормоча под нос, но затем служебный долг взял верх над чувствами, и он отстал. Второе озеро было не очень далеко от того, где они расположились на пикник, и минут через пятнадцать за деревьями заблестела неподвижная гладь воды.
— Какая-то веточка попала мне за корсет, — вдруг остановилась Шарлотта. — Мне так неудобно просить вас, мсье Гурин, но никому тут, даже Камилле, я не могу довериться. Не будете ли вы так любезны помочь мне расшнуроваться?
— Это спереди или сзади? — учтиво осведомился Владимиров.
— Ах, шалун, — пригрозила ему пальчиком мадам. — Не поверю, что вы никогда не расшнуровывали корсетов у дам. Застежка у корсета спереди, на планшетке, а шнуровка сзади.
Не дожидаясь ответа, Шарлотта запустила руку под жабо, расстегнула пуговички и спустила платье со своих великолепных плеч, явив Владимирову шитый черным и золотом корсет из красного репса в пене газовых кружев и рюшек. Артемий Иванович деловито обошел ее кругом и встал за спиной, напряженно сопя.
— Чего вы там сопите? — спросила она его, когда сопение затянулось.
— На кой ляд вам все это надо? — недовольно спросил Артемий Иванович, ковыряя у нее в спине пальцем. — Крючочки, шнурочки…
— Ученые считают, что талия женщины, не затянутая в корсет и предоставленная сама себе, будет становиться все большей и большей каждый год, пока не вырастет почти до таких же размеров, как бюст!
— Как у меня… Ну, и что здесь развязывать? Тут целых три шнурка! Пока я их буду развязывать, Бинт с той мамзелью всю нашу дичь сожрут.
— Развяжите сперва средний шнурок, на талии, — посоветовала Шарлотта. — А затем уже нижний и верхний.
Для Артемия Ивановича это оказалось нелегким делом. Его опыт общения с корсетами заключался в единственном пребывании внутри корсета при посещении публичного дома, когда он едва не задохнулся, и в наблюдении в Лондоне за тем, как расшнуровывал корсет своей сожительницы Иван Коновалов, он же Джек Потрошитель. Однажды в доме Смитов ему попался старое приложение к «Журналу английских домохозяек», целиком посвященное корсетам и когда-то бывшее мечтой всех английских фетишистов, но Владимиров был не любопытен и не воспользовался случаем просветить себя на этот счет. Наконец де Бельфор была освобождена от корсета и обе его половинки полетели на землю, а мадам осталась в одной тонкой рубашке, защищавшей тело от грубых корсетных швов. С томной медленностью она повернулась к Артемию Ивановичу, приготовившись увидеть его восхищенный и полный неудержимой страсти взгляд, какой всегда встречала в подобных случаях у мужчин, но Владимиров невозмутимо стоял и ковырял в носу.
Шарлотту де Бельфор передернуло от отвращения к подобному хамству, непочтительности и полному отсутствию самой элементарной галантности. Но за свою жизнь она научилась выдержке и даже не подала виду. Улыбнувшись, она спросила, закладывая тонкие руки за голову и разворачивая локти так, чтобы ее грудь еще больше выдавалась вперед:
— Зачем вы порвали шнурок от корсета?!
Но это не произвело на Владимирова совершенно никакого впечатления.
— Я не порвал, я перекусил, когда узел развязывал, — серьезно сказал он. — Вы не волнуйтесь, сейчас свяжу оба мутузочка вместе.
— Как же я тогда его с узлом в ушки вдену?
— Как-нибудь вденем, — уныло сказал Артемий Иванович. — А может, вы как-нибудь без корсета? Я слышал, что если женщины сильно стягивают себе грудную клетку шнуровкой, у них краснеют носы, как у горьких пьяниц.
— Без корсета я чувствую себя все равно что голой.
— Да у вас и так цыцка вывалилась. — Артемий Иванович протянул руку, подобрал полную грудь с розовым соском и запихнул ее Шарлотте обратно в рубаху.
— Тогда вы вдевайте шнур, а я поищу веточку.
Мадам де Бельфор сняла свое шелковое платье, отвязала небольшой турнюр, спустила нижнюю юбку, скинула рубаху и кружевные панталоны и осталась бы перед Артемием Ивановичем, можно сказать, только в шляпке да в чем мать родила, когда бы матери рожали девочек сразу в чулках и подвязках.
Владимиров бросил на нее беглый взгляд, скинул на землю пальто и, сев на него сверху, покорно стал просовывать шнур с узлом сквозь ушки корсета. Напевая себе под нос, он продевал шнур через пришитое к краю корсета кольцо ушка до тех пор, пока толстый узел не застревал в нем, потом с силой дергал и колечко тотчас отрывалось.
Вырвавшееся из уст Артемия Ивановича ругательство означало, что четвертое ушко оказалось слишком сильно пришито.
— Что вы делаете, мсье! — вскричала мадам де Бельфор. — Так вы совсем испортите мне корсет!
Владимиров оборвал свою песнь о бродяге в золотоносных степных горах Забайкалья и виновато отложил корсет в сторону.
— Отец твой давно уж в могиле, — сказал он по инерции и совсем умолк.
— Ах вы, мой просьонк, — смягчаясь, промолвила Шарлотта.
Русское слово «поросенок» она часто слышала от генерала Селиверстова, когда тот, оставаясь с ней наедине, ласково гладил ее по упругим ягодицам, обтянутым розовыми кружевными панталончиками с пришитым поросячьим хвостиком, а она радостно визжала и похрюкивала при этом.
— Я подумала, что узел не будет мешать, ведь если шнуровать, как положено, от шеи к талии и снизу к талии, то узел вовсе не потребуется продевать в ушки.
— Какая вы умная! — сказал Артемий Иванович. — Пойдемте тогда есть рябчиков.
— Но подождите, разве вы не видите, что я совсем голая?
— Да, действительно, — согласился Владимиров. — Ну, так скорее одевайтесь.
— Неужели вы ничего-ничего не хотите? — мадам де Бельфор была изумлена и убита. Впервые за двенадцать лет, что прошли с тех пор, как она впервые познала мужчину, ей еще не приходилось познавать таких стойких к ее чарам кавалеров.
— Еще как хочу! Но если вы не поторопитесь, нам с вами останутся одни кости.
Ей стало ясно, что обычными средствами Владимирова не прошибить. Но она уже знала его «формулу любви». Чтобы возбудить его, ей надо было продолжать льстить и восхвалять его, а затем предложить себя в качестве награды.
— Боже мой, — сказала она. — Это всегда так поражает, когда люди выдающиеся и героические хотят, как и мы, простые смертные, есть и пить, но значительно больше поражает, когда они проявляют такую неслыханную твердость духа в отношении к попыткам слабых женщин обольстить их!
Ее лесть пропала втуне, так как Артемий Иванович, давно уже не разговаривавший по-французски и подзабывший язык, не сумел понять столь длинной фразы, да и голодные спазмы в желудке все больше и больше отвлекали его внимание. Она видела по его лицу, что он уловил только три слова: «пить», «есть» и «Боже мой».
— Вот вам и «мон дью», — сказал Артемий Иванович, прислушиваясь к звукам в своем животе. — Пока мы до них дойдем, хорошо, если каких круассанов или винограду оставят. Я Бинта знаю, он такой! А ваша подруга тоже прожорлива, потому что тихоня.
— Перестаньте причитать и помогите мне зашнуровать корсет, — перебила его Шарлотта.
Вздохнув, он поднял корсет, приложил обе половинке к ее груди и, зайдя сзади, наскоро связал шнурком два ушка около шеи и два ниже талии.
— Так не пойдет! — заявила де Бельфор. — Шнуруйте как положено!
Она не стала даже надевать под корсет рубашку, так как была уверена в своих силах. Артемий Иванович уже никогда не покинет берег этого озера. Прежде чем он зашнурует ее корсет хотя бы наполовину, она достаточно разогреет его, чтобы он бросился за ней хоть в озеро, хоть в жерло вулкана.
— Российский император должен быть счастлив, что имеет таких героических подданных, — сказала она. — Я знала многих мужчин, но никогда еще мне не приходилось встречаться с таким, как вы. Шнуруйте, мсье Гурин, шнуруйте. И затягивайте посильнее. Когда ваши нежные и уверенные пальцы касаются моей спины, словно электрический ток пробегает по моим жилам, заставляя трепетать все тело.
В этот момент мадам де Бельфор показалось, что в спину чуть повыше копчика со всего размаху ей вонзили кол, и в тот же миг корсет тисками сдавил ей грудь, так что красный репс затрещал и сквозь него разом продралось четыре десятка сломанных и расщепленных ротанговых косточек. Это Артемий Иванович уперся в ей в спину коленом и со всех сил потянул за концы шнурка.
— Ух ты! — восхитился он, глядя на безнадежно испорченный корсет. — Не баба, а чисто еж!
— Хватит! — просипела Шарлотта, тщетно пытаясь руками ослабить давление корсета. — Отпустите меня!
Владимиров послушно отпустил шнур и отошел в сторону. В животе у него громко урчало, так что даже дальнее эхо, казалось, журчит где-то за озером.
— Вы настоящий Геркулес, мсье Гурин, — сказала мадам де Бельфор, вздыхая полной грудью. Она скинула туфли, распустила атласные подвязки, сняла белые шелковые чулки и аккуратно сложила всю свою одежду на траве, оставив на себе только соломенную шляпку, все так же кокетливо сидевшую у нее на голове. — Ни один герой и силач в мире никогда так не воспламенял меня, как вы. Любая женщина готова была бы пожертвовать всем ради мига любви с вами!
И Шарлотта пошла к озеру, в зеркальной поверхности которого отражался лес и голубое небо, по которому медленно и величаво плыли облака.
— Неужто французы хуже меня? — самодовольно спросил Артемий Иванович, у которого от ее льстивых слов замолчал даже бурлеж в животе.
— Среди французов нет по-настоящему самоотверженных мужчин, готовых ради женщины броситься в бушующее море, — ответила Шарлотта и, войдя в воду, поплыла прочь от берега.
Плавала она хорошо и Артемий Иванович даже залюбовался ею и раскурил папироску, размышляя, чем же он так лучше французов. «Вероятно, душевной красотою», — подумал он.
— Помогите! — вдруг закричала мадам де Бельфор и забарахталась, поднимая тучи брызг руками, которыми она изо всех сил лупила по воде. — Тону! Помогите!
Артемий Иванович снял ботинки и поставил их рядом с пальто, закатал по колено брюки и вошел в озеро. Вода была холодная и не располагала к купаниям.
— Я дальше не пойду, — крикнул он Шарлотте. — Там глубоко, а я не умею плавать!
— Спасите, мсье Гурин! — продолжала надрываться Шарлотта де Бельфор. — Только вы с вашим героическим характером можете сделать это!
Слова о «сильном характере» бальзамом легли на душу Артемию Ивановичу и он, вернувшись на берег и сняв штаны вовсе, зашел на этот раз по пояс.
— Боже! — кричала мадам де Бельфор. — Я такая молодая!
Но Владимирову все еще трудно было пересилить свой страх перед водой. Он вышел из воды и подобрал с земли длинную суковатую палку.
— Держитесь! — крикнул он, запуская палкой в голову барахтающейся Шарлотты. — Держитесь за палку! Я вас вытащу!
Первая пущенная им дубина не долетела до мадам де Бельфор и Артемий Иванович взялся за следующую. В этот раз вышло удачнее. Она сбила соломенную шляпку и треснула утопавшую прямо по макушке. Шарлотта разразилась грязными ругательствами.
— Сейчас! — кричал ей с берега Владимиров. — Сейчас найду какое-нибудь подсобное средство! В Гайд-парке специальные багры и аппаратусы были, а у вас даже палки кончились!
— Мсье Гурин, ради всего святого! — заверещала Шарлотта, видя, как кровь из рассеченной кожи на голове, стекая по носу, подкрасила воду около лица в розовый цвет. — Ради вашего русского императора! У меня уже сводит ноги!
Ноги у нее уже и в самом деле начало покалывать. Ей вдруг стало страшно, что судороги могут настичь ее прежде, чем она утопит Владимирова и выберется обратно на берег.
— Президент Лубэ пошлет рекомендательное письмо царю, если вы спасете меня!
Против такого аргумента Артемий Иванович не смог устоять. Ему вдруг привиделось, что он — начальник первой опытной спасательной станции в Петергофе, и он каждый день спасает императрицу, получая от царя то ящик водки, то какой-нибудь орденок. Не снимая ни пиджака, ни жилетки, ни рубашки, ни даже котелка, с разбегу он бухнулся в воду и, как ему показалось, поплыл. На самом деле он болтался в воде около берега, отчаянно молотя руками и ногами, при том совершенно не сдвигаясь с места. Рядом плавал котелок, качаясь на поднятой Владимировым волне. Шарлотте де Бельфор пришлось самой подплыть к нему. Ей удалось вскарабкаться на барахтающегося Артемия Ивановича и силой заставить его опустить голову в воду. Это было ее ошибкой. Наглотавшись воды, он совершенно потерял ориентацию и вместо того, чтобы пытаться всплыть, пошел, словно настоящий подводный аппаратус, на глубину, увлекая мадам де Бельфор за собой.
Шарлотта отпустила его и всплыла на поверхность, чувствуя, как леденящий холод осенней воды сковывает ей мышцы, сводит судорогой ноги. Артемий Иванович, булькая, тоже всплыл невдалеке от нее, и заорал во всю мощь:
— Мама! Караул, тону!
Но его крик тут же прервался. Словно акула или страшная русалка из утопленниц, белое тело Шарлотты в стремительном броске рассекло воду, ее ледяные мраморные руки обвились вокруг шеи Артемия Ивановича и он, судорожно глотнув воздуха, погрузился в воду.
— Вот видишь, Шарлотта все-таки справилась с ним, — сказал Бинт Камилле, заворачивая обглоданные кости рябчиков в салфетку. — Сейчас она возвратится и мы поедем домой. Неужели я никогда больше не увижу Гурина? Господи, я сегодня же пойду в собор Парижской Богоматери и поставлю свечу в фунт воску!
Глава 11. Телеграммы
29–30 сентября
В заторе, образовавшемся на Марилебон-роуд у станции подземки Бейкер-стрит, высокий двухколесный хэнсомский кэб застрял безнадежно и надолго. Низкое серое лондонское небо, растянувшись над городом словно грязное одеяло, сочилось мелким противным дождем. По тротуарам, укрываясь от мороси под черными зонтами, угрюмо спешили люди. Настроение сидевшего в кэбе Фаберовского соответствовало тому, что творилось вокруг на улицах. Воспользовавшись остановкой, он разложил на коленях две телеграммы, повергнувшие его сегодня утром в состояние мрачного возбуждения.
Одна телеграмма пришла из Петербурга и была ясной и понятной:
«Я узнал, что наш общий знакомый, известный вам как господин Гурин, исчез то ли сам, то ли людьми Рачковского вывезен в Париж. Предоставляю вам самому решить, как с ним поступить, но если вы хотите, чтобы известные вам протоколы не попали в руки английской полиции, пришло время вспомнить, что на дворе уже конец сентября и пора начинать дело.
Черевин .»
Два с половиной месяца с тех пор, как угрожающая телеграмма Рачковского последний раз напомнила ему о существовании где-то на востоке Российской империи с ее царем, наследником и Департаментом полиции, Фаберовский не думал вообще ни о Черевине, ни о Владимирове. Последнее время он даже перестал, укладываясь спать, по якутской привычке отворачиваться к стене и класть на голову подушку. И вдруг, как гром среди ясного неба, они оба в один день напомнили о себе. Да-да, именно оба, потому что вторая телеграмма, во столько же крат ужаснее, во сколько и непонятнее, пришла от Артемия Ивановича.
«Срочно приезжай в Париж! — взывал к Фаберовскому Владимиров. — Утопил бабу Бинта, поэтому вернуться к Рачковскому не смею. Денег нет. Жду каждый день внизу у Эйфелевой башни. Твой Артемий. »
От слов «твой Артемий» поляка в который раз за сегодняшнее утро передернуло. Черт побери! Что означает эта телеграмма? Было ясно, что Владимиров находится в Париже и, видимо, встречался с Рачковским. По доброй воле это было сделано или нет, Фаберовскому было неизвестно. По собственной ли инициативе послал эту депешу Артемий Иванович либо по наущению Рачковского — тоже оставалось загадкой. Телеграмма вполне могла оказаться ловушкой и быть посланной, чтобы заманить поляка в Париж. Но в любом случае разрешить все эти вопросы можно было, только встретившись с Владимировым в Париже, а телеграмма Черевина не оставляла времени на раздумья.
Решив, что он сегодня же отправится на континент, Фаберовский направлялся в дом доктора Смита на Харли-стрит, чтобы известить об этом Пенелопу. Предчувствие неприятного объяснения с невестой еще больше усугубляло его и без того скверное настроение.
Кучер щелкнул длинным кнутом, стегнув со своего высокого сиденья лошадь по мокрому блестящему крупу, и кэб в потоке экипажей поплыл дальше. Фаберовский убрал телеграмму Черевина в карман, а депешу Владимирова поднес поближе к забрызганному водяной пылью окошку кэба, через которое падал рассеянный серый свет.
«Утопил бабу Бинта». Что бы это могло значить? Сколько Фаберовскому было известно, фамилию Бинт носил один из агентов Рачковского, но он был мужчиной. Может быть Рачковский подослал Бинта избавиться от Владимирова, но француз оказался тряпкой и Владимиров смог одолеть его? Тогда было понятно выражение «баба Бинт».
И вдруг Фаберовского осенило. Тростью он постучал в потолок и кэб, свернув к тротуару, остановился.
— Мне надо купить газету, — пояснил поляк заглянувшему через окошечко кэбмену. Откинув мокрую полость, Фаберовский высунулся из кэба и жестом подозвал мальчишку-газетчика, прятавшегося от дождя под портиком церкви Сент-Марилебон. Купив у него за пенни свежий «Дейли Телеграф» и усевшись обратно на сиденье, поляк стряхнул с рукавов капли дождя, сдул влагу с шелковой крышки цилиндра и велел кучеру трогать дальше. К царившему в кэбе запаху сырости и преющей конской упряжи примешался аромат типографской краски.
В разделе иностранных новостей ему сразу бросился в глаза заголовок:
«СТРАШНОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПАРИЖА.
От нашего собственного корреспондента.
Париж, 29 сентября. — Вчера вечером бывший полицейский инспектор Бинт донес полицейскому комиссару в Марли об обнаружении им мертвого тела на берегу озера в трех километрах от Марли близ дороги на Версаль. Тело принадлежит женщине двадцати пяти-тридцати лет от роду, брюнетке, рост 5 футов 5 дюймов, принадлежащей к состоятельному классу. Ее одежда, состоявшая из шелкового платья в розовый и желтый цветочек по черному полю, нижней белой юбки, панталон, красного репсового корсета и черных туфель, была найдена на берегу аккуратно сложенной, как если бы покойная собиралась купаться. Полиция пока исключает ограбление как мотив убийства, так как в одежде были найдены принадлежавшие жертве драгоценности.
Несчастная жертва была зверски изуродована. На шее были видны следы удушения, при наружном осмотре тела было обнаружено, что грудная клетка покойной раздавлена, словно паровым прессом, хотя на теле не имеется никаких следов побоев.
Рядом с мертвым телом было также найдено добротное пальто с каракулевым воротником, имевшее на подкладке метку кириллическими буквами: «А.Г.Рубинштейн». Полиция полагает, что эта метка может стать ниточкой, которая приведет их к преступнику. Однако совпадение инициалов и фамилии с фамилией известного публике русского композитора Антона Рубинштейна, автора «Демона», «Нерона» и «Персидских песен», считают не более чем случайностью.
Вызванные комиссаром на место преступления судебный следователь Гильо и начальник Сюртэ мсье Горон распорядились перевезти тело для вскрытия в Париж.
— ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ:
Тело вчерашней жертвы сегодня утром было опознано мадемуазель Камиллой Лавуа в городском морге на острове Ситэ как тело мадам Шарлотты де Бельфор, вдовы инженера из Страсбурга Эмиля де Бельфора.
На вскрытии, произведенном полицейским доктором Бернарделем, было выяснено, что у покойной сломаны три ребра и имеется трещина в грудине. На голове также обнаружена засохшая ссадина, по времени совпадающая с нанесением других повреждений. Легкие покойной были частично наполнены водой, что вместе с нахождением в пруду у берега принадлежавшей покойной большой соломенной шляпы, гарнированной розовыми бантиками и розовыми и цвета сливок цветами, указывает, что какое-то время жертва находилась в воде. Однако, по утверждению доктора Бернанделя, смерть последовала в результате удушения.
Полицией был допрошен пастух, пасший овец неподалеку от места убийства, который показал, что в день убийства к нему обратился вышедший из леса человек подозрительной наружности, по виду — бродяга, и на плохом французском языке спросил его, как попасть в Марли. Пастух дал полиции полное описание примет незнакомца.
Жестокость, с какой была убита несчастная мадам де Бельфор, заставляет полицию предполагать, что и в этом случае виновником преступления мог быть таинственный лондонский убийца Джек Потрошитель, наводивший ужас на Лондон последние несколько лет. »
Выходило, что Владимиров не наврал. Он действительно утопил женщину, и «баба Бинта» — мадам Шарлотта де Бельфор. Но зачем он это сделал? Какое отношение имела де Бельфор к сотруднику Рачковского и почему Владимиров оказался с нею у пруда, и, видимо, один на один, раз Бинт не помешал ему? Может, вдова де Бельфор была невестой Бинта? Тогда, ясное дело, Артемий Иванович поехал купаться с нею в пруду, как когда-то проделал это с Пенелопой в Серпентайне. Пенелопу спасли, поскольку, на ее счастье, они купались прямо напротив спасательной станции Гайд-парка, а здесь таковой не оказалось. Но почему мадам де Бельфор имела такие жестокие телесные повреждения? Неужели Артемий Иванович тронулся умом после встречи с Рачковским?
Фаберовский представил себе Владимирова, сидящего под Эйфелевой башней с высунутым изо рта розовым языком и струйкой слюны, стекающей с уголка губ. Нет, Артемий Иванович не мог убить человека таким страшным образом даже в пьяном угаре. Значит, это все-таки ловушка. Возможно, его напоили, а потом убедили, что это он сделал, чтобы заполучить себе в руки поляка.
Кэб остановился у знакомого подъезда доктора Смита, куда Фаберовский часто приезжал с визитами, привозя красивый букет фиалок. Сегодня он приехал без цветов и готовился к тому, что ему могут в конце разговора просто указать на дверь.
По-мышиному взвизгнул электрический звонок, дверь открылась и в щель высунулась хищная кунья мордочка мисс Барбары Какссон.
— Мисс Какссон, надеюсь, мисс Пенелопа одна? — спросил он, входя в сумеречную прихожую, освещенную только круглым окошком над дверью.
— У мисс Смит с самого утра находится друг нашей семьи доктор Гримбл, — сквозь зубы ответила мисс Какссон, неприязненно глядя снизу вверх на поляка.
— Значит, друг вашей семьи? Гримбл? — Фаберовский нехорошо посмотрел на невозмутимую компаньонку своей невесты. — И Пенелопа считает возможным чуть не каждый день принимать у себя этого хлыща? А вы, мисс Какссон, полагаете, что, будучи ее компаньонкой, имеете право так спокойно говорить об этом мне, когда вашей прямой обязанностью является предостерегать мою невесту от общения с субъектами, которые могут скомпрометировать ее?
— Я плохо понимаю ваш скверный английский, сэр, — высокомерно ответила Какссон. — Но если вы считаете, что такой достойный и благородный джентльмен, как доктор Гримбл, который никогда не оденет для визита пиджак, тем более с крахмальной рубашкой и белым галстуком, может скомпрометировать вашу невесту, я буду вынуждена сказать, что появление католика и инородца в этом доме компрометирует любого, находящегося под этой крышей.
— Как только Пенелопа станет моей женой и переберется под крышу ко мне, — сказал поляк, снимая и отряхивая цилиндр, — я не подпущу вас к своему дому на расстояние пушечного выстрела, мисс Какссон.
— Мне бесконечно жаль милую Пенелопу, которую угораздило связаться с таким чудовищем, как вы, — с чувством ответила Барбара Какссон, давая волю распиравшему ее чувству ненависти ко всему инородному. — И я уверена, что слухи о том, что вы были Джеком Потрошителем, не лишены оснований.
Понимая, что ему не удастся перелаять эту британскую куницу, Фаберовский молча отодвинул Какссон в сторону и, не раздеваясь, пошел вверх по лестнице, с удовольствием пачкая своими мокрыми ботинками устилавший лестницу ковер.
— Может, вы потрудитесь снять мокрую верхнюю одежду и головной убор, мистер Фейберовский, — двинулась следом за ним Какссон. — Ваше темное и нечистое иностранное происхождение еще не дает вам права выказывать неуважение к хозяевам этого дома.
— Какое тебе дело до моего происхождения?! — рявкнул на нее Фаберовский, оборачиваясь.
— Поляки всегда были ворами и проходимцами, — не умолкала Какссон. — Пользуясь благородством и сочувствием британцев, после разгрома русскими восстания в Варшаве поляки проникали в английские дома, ели там, пили и обкрадывали гостеприимных хозяев без всякого зазрения совести. Мой отец, майор Чарльз Генри Какссон, пенсионер 60-го пехотного полка, пострадал от одного такого негодяя, фамилия которого была точно такая же, что и у вас. Этот мерзавец, который, возможно, даже был вашим отцом, вчистую обокрал моего отца и вверг его в нищету, а я вынуждена была провести свою жизнь в бедности и тяжком труде.
— Я все понял, — сказал поляк, останавливаясь на верхней площадки лестницы, среди гипсовых статуй и развешанных по стенам репродукций Арундельского общества поощрения искусства.
Он снял забрызганные дождем очки и тщательно вытер их платком.
— Но ваши претензии на наше с вами родство неосновательны. Мой папаша не мог породить такую надменную и надутую идиотку, как вы. Бритам, англам, саксам и норманнам потребовалось не одно столетие насиловать здешних женщин, пока не вылупилась такая чистокровная в своем идиотизме британка, как вы. Пойдите к черту, пока я не спустил вас с лестницы, мисс Какссон!
Фаберовский даже замахнулся тростью, но мисс Какссон не шелохнулась. Опустив трость, поляк продолжил свой путь, кипя как готовый взорваться перегретый паровозный котел.
— В сравнении с доктором Гримблом вы грязный, гнусный и подлый варвар! — крикнула она ему вслед.
Не обращая более на нее внимания, Фаберовский вошел в гостиную, уставленную пухлыми мягкими табуретками и столиками, загроможденными подставками для букетов и фотографиями в плюшевых рамках, и увидел одетую в свободный фуляровый капот Пенелопу, сидевшую в кресле рядом с творением ее мачехи. Творение это было единственным результатом изучения миссис Смит лепки в Национальной Школе Обучения Искусствам в Южном Кенсингтоне и представляло собой вылепленную из глины копию статуи отдыхающего Геракла, причем лицу были приданы черты Артемия Ивановича, но сходства между оригиналом и собственно шедевром было не больше, чем в знаменитом «якутском портрете» Александра III кисти Владимирова. Лучше всего у Эстер вышел пень, на который опирался Геракл, причем голова Артемия Ивановича имела разительное сходство с этим же пнем.
Пенелопа вышивала на пяльцах, а рядом с ней на скамеечке примостился с книжкой в руках доктор Гримбл, который правильно поставленным голосом без всякого акцента читал ей роман Роберта Бониера «Поцелуй Майны» о современных нравах в Индии.
— Вот видите, мистер Фейберовский, — раздался с лестницы у поляка за спиной голос Какссон. — Доктор Гримбл читает даме прекрасные книги, а вы кроме ваших пошлых цветов, которыми каждый раз после вашего ухода бывает забита мусорная корзина, никогда ничего не дарите мисс Пенелопе.
Поляк посмотрел на нее сквозь очки таким пронзительным и страшным взглядом, что Какссон присела от испуга и укрылась за гипсовой статуей на лестнице.
— Привет, Пенни, — поздоровался поляк. — Где мой будущий тесть?
— У себя в кабинете. Разве ты не слышишь?
Фаберовский действительно услышал характерный хлопок откупоренной бутылки с шампанским и затем какое-то гудение — видимо, доктор Смит запел.
— После того, как вы объявились в Лондоне, старик стал совсем плох, — сказал Гримбл. — Он слишком часто стал пить и, поверьте мне, я врач и знаю это — скоро совсем сопьется. Он не сможет работать. Я уже говорил об этом с Чарлвудом Турнером.
— И вы метите на его место? А на мое место, доктор Гримбл, вы тоже все еще метите?
— Полагаю, — ответил Гримбл, сверкнув моноклем, — что за оставшиеся три с половиной недели я сумею открыть мисс Пенелопе глаза на вашу истинную сущность во всей ее отвратительности.
Пенелопа, явно обрадованная приходом Фаберовского, улыбнулась.
— И женитесь на ней сами? — ухмыльнулся ей в ответ Фаберовский.
— Да, — подтвердил Гримбл. — И уж будьте уверены, я не допущу вас в свою комнату в нашу с Пенелопой брачную ночь.
— Гримбл, что вы несете! — возмутилась Пенелопа. — Какая брачная ночь?! Даже если бы я решила не выходить замуж за Стивена, я бы никогда не согласилась стать вашей женой.
— Но почему?! — изумился Гримбл и даже книжка выпала у него из рук. — Неужели этот сомнительный субъект ближе вашему сердцу, чем я, англичанин до костного мозга и врач с большим будущим? Я, написавший монографию «Посмертные исследования глистных паразитов у трупов в сильной стадии разложения», которую отметили похвалой почти все известнейшие лондонские врачи?
— Вы знаете, Гримбл, — раздался из-за двери кабинета дребезжащий голос доктора Смита, — что в том препарате, который вы сегодня принесли, я не обнаружил никаких туберкулезных палочек? По-моему, это яйца аскарид. Вам, как специалисту по глистам, должно быть стыдно. Если бы вы вдруг стали моим зятем и лечили бы мою дочь от туберкулеза, вместо того чтобы дать ей слабительное, я выгнал бы вас вместе с нею из дома!
— Настоящий врач всегда имеет право на ошибку, — с достоинством ответил Энтони Гримбл. — Я же не упрекаю вас в том, что вы покойному мистеру Джонсу, страдавшему носовыми кровотечениями, наложили жгут на шею, или в том что вы…
— Перестаньте, Энтони, я не желаю слушать ваши с отцом препирательства о глистах! — воскликнула Пенелопа. — Вам что, больше не о чем говорить?
— Мы можем поговорить о других паразитах, — с вызовом сказал Гримбл. — Например, о вашем женихе, мистере Фейберовском. Развратный, гнусный тип, наложивший грязные лапы на само воплощение невинности и непорочности!
— Правильно, — подал голос доктор Смит. — От грязных рук и заводятся глисты.
— У меня появляется непреодолимое желание наложить свои грязные лапы вам на шею, Гримбл.
Быстрым, словно бросок кобры, движением Фаберовский цапнул Гримбла за воротник. Гримбл шарахнулся со стула и белый накрахмаленный воротничок, отстрелив запонки, которыми он крепился к рубашке, остался в руке у поляка.
— Не смейте его трогать! — взвизгнула Барбара Какссон, выскакивая из своего убежища. — Я вызову полицию! Он настоящий англичанин и будущее светило врачебной науки, один из самых выдающихся медицинских умов Британской империи!
— Пусть сначала научиться отличать своих глистов от чужой туберкулезной палочки, — неожиданно поддержал Фаберовского из-за двери кабинета доктор Смит. — Светило! Ха!
Поляк расправил воротничок Гримбла и вручил его мисс Какссон.
— Страшно подумать, дорогой тесть, — сказал он, повернув голову в сторону двери кабинета, — что этот идиот Гримбл осмеливается равнять себя с вами или даже ставить себя выше вас. Подумаешь, про глистов написал! Да имей я такую сестру, как он, каждый месяц писал бы по статье в «Британский медицинский журнал» и «Ланцет» о прогрессирующем идиотизме при отсутствии сдерживающих факторов и нормальной половой жизни.
— Да как вы смеете говорить такое о Кларе? — подскочил к поляку, словно драчливый бентамский петух, доктор Гримбл. — Моя сестра несчастна, но это не дает вам права трепать здесь ее имя! Вот видишь, дорогая Пенни, за кого ты собираешься выйти замуж? У него же нет ничего святого! Ему все равно, кого обливать грязью!
— А что ему остается, если вы с Какссон набросились на него, как свора собак, — вступилась за жениха, едва сдерживая смех, Пенелопа.
— Я не сплю по ночам, мечтая о ее счастье, а она обзывает меня собакой! — повысила голос Какссон. — Вы слышали, доктор Смит? А вы, когда нанимали меня, говорили, что такого больше не повторится!
За лестницей скрипнула дверь одной из спален и в гостиную вошла Эстер Смит, поразив всех фиолетовыми мешками под глазами.
— Так вы тоже не спите? — спросила она тоном умирающей у Барбары Какссон. — Я тоже последнее время мучаюсь бессонницей. Этот зверь Гилбарт запретил мне покупать хлоридин.
— Разве я не прописал тебе курс лечения электрическим массажером для получения истерических пароксизмов, коли уж ты законного супруга не подпускаешь к своей постели? — выкрикнул доктор Смит.
— Неужели ты думаешь, Гилбарт, что эта гадкая механическая штука способна заменить мне настоящего любящего мужчину! Она может заменить только такую бездушную деревяшку, как ты. Если бы от нее не било током.
— Не надо обманывать ни себя, ни других, Эсси. Причиной твоей бессонницы является не хлоридин, — сказала Пенелопа, — а отсутствие мистера Гурина, будь он проклят.
— Вот уж верно, — проворчал Фаберовский. — Чтоб ему на том свете пристани не было.
— Но отец никогда не допустит повторного появления Гурина в этом доме.
Услышав дважды повторенное в гостинице имя ненавистного Гурина, доктор Смит выскочил из кабинета, даже не выпустив из рук бутылки шампанского:
— Я не только не дам тебе хлоридина, Эстер, но еще приставлю к тебе Проджера, чтобы он следил за каждым твоим шагом. И только посмей разыскать этого Гурина! Я немедленно начну бракоразводный процесс и ты останешься без гроша. Кроме того, я нанял миссис Гризли, которая будет приставлена к тебе в качестве шампаньонки.
— Кого? — переспросил поляк. — Вы, дорогой тесть, хотели сказать «коньячки»?
— Да-да, именно это я и хотел сказать. Тьфу! Какого дьявола, Фейберовский?! Я хотел сказать компаньонки! Где ваш Гурин?! Он что, приехал в Лондон?
— С чего вы взяли, доктор?
— А почему тогда вы в пальто, когда все другие раздеты?
— В самом деле, Стивен, почему ты не оставил пальто внизу? — насторожилась Пенелопа.
— Я боялся, что там его сожрет моль.
— У нас в доме нет моли! — рассердилась Какссон.
— Я имел в виду вас, моя драгоценная мисс Барбара.
— Я не ем польт, мистер Фейберовский. Это недостойно настоящей англичанки.
— Что же тогда вы едите?
— Я сегодня еще не обедала. Только варвары нажираются утром, а мы, британцы, ограничиваемся легким ленчем, чтобы кровь не отливала от головы к желудку и не мешала думать в течении дня.
— Не знал, что у вас, англичан, такая прямая зависимость между желудком и головой, мисс Какссон.
— Точно такая же, Стивен, была у твоего друга мистера Гурина, — вставила Пенелопа.
— Голова в связи с ее практически полным отсутствием не была связана у Гурина вообще ни с чем, — сказал Фейберовский с легким оттенком раздражения. — А желудок связывается со ртом через пищевод — и все. Никакой другой связи и надобности в голове. Ты не могла бы, Пенни, уделить своему жениху несколько минут наедине, без присутствия всех этих надоедливых особ вроде Гримбла и мисс Какссон?
— Хам! — бросила ему Какссон. — Скорее бы уж мисс Пенелопа вышла за вас замуж. Я буду счастлива больше никогда вас не видеть.
Гримбл чуть не захлебнулся от гнева и набросился на Какссон, брызгая слюной:
— Что ты говоришь, Барбара! Я не могу допустить, чтобы несчастная Пенелопа была принесена в жертву этому польскому чудовищу, этому длинному очкастому солитеру!
— Она сама выбрала себе такую участь, — стала оправдываться Барбара. — И тебе нельзя жертвовать собою, Энтони, чтобы отвратить ее от этого брака. Не может же будущее британской медицины пострадать из-за капризов какой-то ветреной дамочки!
— В вашей музыкальной машине, к сожалению, на валике только одна мелодия, а он сделал уже полный оборот, — устало сказал Фаберовский. — Во всяком случае, вы уже говорили нечто подобное, когда я сюда пришел.
Он взял Пенелопу под локоть и повел свою невесту к ней в спальню.
— Ты видел, Стивен, как позеленела от злости Какссон, когда ты сказал о музыкальной машине? — спросила она, притворяя дверь. — Дело в том, что для празднования юбилея королевы Виктории в восемьдесят седьмом году один патриотический изобретатель запатентовал турнюр с устроенной в нем музыкальной шкатулкой, которая должна была играть «Боже, храни Королеву» всякий раз, когда владелица турнюра садилась. Единственным человеком во всем Лондоне, купившем такой турнюр, оказалась Барбара Какссон. Тогда отец и познакомился с ней. Его знакомый, полковник Каннингем, снял места на скамейках рядом с отцом для своего сына и мисс Какссон, которой он оказывал покровительство как дочери его полкового товарища, майора Чарльза Какссона, и даже пристроил гувернанткой к детям полковника Маннингема-Буллера, командира стрелковой бригады в Вулидже. Как только Барбара садилась, шкатулка у нее в турнюре начинала играть британский гимн, так что ей, как и всем остальным, приходилось вставать. Потом гимн прекращался, она садилась и все начиналось сначала. По окончании шествия отцу пришлось отвезти ее в больницу с диагнозом «нервное и физическое истощение».
— Эта шкатулка была пневматической или работала от гальванической батареи, как аппарат твоей мачехи?
— Не знаю, Стивен, думаю, она работала от пружины.
— Тогда понятно, почему эта Какссон все время такая взвинченная. Турнюр со шкатулкой она сняла, а пружина в заду так и осталась.
Молодая женщина внимательно посмотрела своему жениху в лицо.
— Сегодня ты что-то слишком злой, Стивен. Что-нибудь случилось? И почему ты все-таки не пожелал раздеваться?
— Утром я получил телеграмму…
— Ты уезжаешь? Не надо мне показывать телеграмму, ты мне только скажи: «Да» или «Нет». Я так и думала. Хорошо, что ты хотя бы зашел и предупредил меня за три недели до нашего венчания, а не за день, как в прошлый раз. Сколько лет тебя ждать на этот раз? Пять, десять?
— Я не знаю, — передернул плечами Фаберовский. — Я же не виноват, что кроме тебя, с мистером Гуриным купаются и другие дамы, но не всегда так удачно, как это получилось у тебя с ним в Серпентайне.
— Ну конечно, Гурин… Опять этот Гурин! Я бы своими руками задушила его, попадись он мне в руки. Только все начало налаживаться, даже мой отец стал лучше относиться к тебе, как ты опять собираешься все разрушить из-за этого русского недоумка!
Красивое лицо Пенелопы покрылось красными пятнами и поляк понял, что она действительно сейчас готова задушить Артемия Ивановича. Медленно, тщательно подбирая слова, он стал объяснять ей причину своего отъезда:
— Видишь ли, Пенни, один очень приближенный к русскому императору человек, вытащивший нас с Гуриным из Сибири, сегодня утром телеграммой потребовал разыскать Гурина, которого я не видел, да и видеть не хочу, с тех пор как мы расстались с ним в Петербурге. В случае моего отказа я вновь попаду обратно, и никто, ни английская полиция, ни правительство, ни сам дьявол не помогут мне этого избежать. Сейчас Гурин в Париже и я просто вынужден туда ехать, если хочу через три недели стоять с тобой под венцом, а не идти в кандалах где-нибудь по Сибири.
Пенелопа скривила губы в язвительной улыбке.
— Эсси! — Она распахнула дверь своей спальни и позвала мачеху. — Мой любезный женишок собирается ехать в Париж искать там твоего Гурина. Может, и ты хочешь поехать с ним на поиски этого козла?
— Ты не смеешь так говорить о Гурине, Пенни! — крикнула та, мгновенно появляясь на лестнице из гостиной.
— Это я-то не смею о нем говорить! Еще как смею! Вы с ним нашли друг друга! Он недоумок, а ты — опившаяся хлоридина дура, свихнувшаяся на медведях!
— Всех моих медведей сжег твой жених, а тех, что он не сжег, я бросила в камин сама!
Но не успела Эстер пересечь верхнюю площадку лестницы, как среди гипсовых статуй мелькнул шелковый шлафрок доктора Смита.
— Вы, Фейберовский, оправдываете мои самые худшие ожидания, — заявил доктор, достигнув дверей спальни своей дочери одновременно с женой. — Если вы посмеете привезти сюда вашего Гурина, я размозжу вам обоим головы! Я вас кастрирую прилюдно, на глазах у моей жены и русского посла.
— Но при чем тут русский посол мистер Стааль? — спросил поляк, глядя на доктора поверх очков. — Лучше уж на глазах у посланника турецкого султана. Тогда, быть может, нас с Гуриным возьмут евнухами к султану в гарем.
— Как вы смеете рассуждать о гаремах, собираясь жениться на моей дочери! — воскликнул Смит.
— Вы тоже хороши, доктор Смит. Как я женюсь на вашей дочери, если вы меня кастрируете?
— Если я вас кастрирую, тогда я выдам ее замуж за…
— За турецкого султана, — подсказал Фейберовский.
— Нет же! Я выдам ее…
— За русского посла.
— Проклятье! Вы меня запутали. — Доктор Смит развернулся и проорал в сторону гостиной: — Гримбл!
— Да, отец, — тотчас откликнулся тот, появляясь на лестнице.
— С каких это пор я тебе отец? — недовольно спросил Смит.
— Разрешите мне вас так называть, доктор, ибо ради вашей дочери я готов сам кастрировать поляка.
— Я лучше выйду за кастрированного Стивена, чем за полноценного Гримбла, — решительно заявила Пенелопа.
— Но твой поляк никогда больше не вернется из Парижа, разве ты не понимаешь этого?! — закричал на нее доктор Гримбл, теряя из глаза монокль.
— А это уже не ваше дело, Энтони. Может быть, я вместе с ним поеду в Париж.
— Я тоже поеду в Париж, — внезапно сообщила Эстер.
— Ты?! — зарычал доктор Смит и его длинная шея побагровела, а лысина покрылась испариной. — К Гурину?! Убью!
Все время прислушавшаяся к разговору Барбара Какссон не замедлила появиться на сцене и вмешаться, нравоучительно заявив доктору Смиту:
— Я вам говорила, что вы совершаете большую ошибку, доктор Смит, оказывая доверие всякого рода проходимцам вроде мистера Фейберовского. Мало того, что он похитил, и теперь уже навсегда, у английской нации вашу дочь, которая будет рожать нам полукровок, так он еще развратил вашу жену…
— Он развратил ее не сам, — встрял Гримбл. — Он развратил ее при помощи своего русского борова, так что теперь вашей жене самое место в лечебнице для душевнобольных.
— Я разберусь сам, куда мне помещать свою жену, доктор Гримбл! — закричал Смит и указал пальцем вниз на лестницу. — Убирайтесь! Он мне еще будет советовать! Да пусть сперва со своими глистами разберется! Мистер Фейберовский, вышвырните его вон. Вы, конечно, негодяй, но зато вы не даете мне дурацких указаний.
Фаберовский немедленно двинулся к доктору Гримблу, но тот предпочел ретироваться сам, без посторонней помощи, и уже снизу, от дверей прокричал:
— Вы мне еще ответите за это, доктор Смит! Пенелопа, я люблю вас! И я не дам вашему жениху обвенчаться с вами, так и знайте. Вы все равно будете моей!
— И не воображайте себя медицинским светилом, Гримбл, — крикнул ему сверху доктор Смит, перегибаясь через перила. — Цена вам как врачу — дерьмо, в котором живут разлюбезные вам глисты!
— Скажите, доктор Смит, — дотронулась ему до плеча мисс Какссон, — разве маниакальное желание жениться на вашей дочери, ярко выраженное у доктора Гримбла, не являются симптомом психического расстройства? Его следовало бы поместить в частную клинику, а я пошла бы к нему сиделкой. Я уверена, я смогла бы выходить его.
— Обойдусь без ваших советов. Ваше дело следить за моей дочерью! — рявкнул на нее доктор. — И только для этого я нанял вас к ней в компаньонки. И что плохого в том, если мужчина любит мою дочь до безумия. Вот мистеру Фейберовского иметь хотя бы капельку такого безумия…
Поляк заткнул уши руками и сказал, мотая головой:
— Я больше не могу, Пенни! Мне необходимо срочно покинуть этот сумасшедший дом!
— Ты не хочешь взять меня с собой в Париж? — спросила Пенелопа, уже оправившаяся после первого шока, вызванного сообщением жениха о необходимости ехать в Париж к Гурину.
— Нет. Разве тебе не терпится увидеть Гурина?
— Это мне не терпится увидеть Гурина, — заявила Эстер.
— О вас, миссис Смит, речи не идет. Напишите ему письмо, я передам.
— Только попробуй! — взвился доктор Смит. — Я сожгу всю бумагу в этом доме!
— Передайте ему на словах, Стивен, что не было в моей жизни другого мужчины, которого бы я так любила, как его, — Эстер всхлипнула и, достав помещенный на лифе между двух застежек платок, промокнула глаза.
— Как все тут у вас романтично выходит, — сказал Фаберовский. — Все одержимы любовью. Пенни, а ты меня любишь?
— Возможно, — дипломатично ответила та.
— Приятно иметь дело с нормальным человеком.
— Так что насчет Парижа?
— Насчет Парижа, Пенни, я могу сказать тебе только одно. Там где Гурин, там непременно вляпаешься в какую-нибудь скверную историю.
— Вроде женитьбы на мне, так, Стивен?
— Пусть уж я вляпаюсь один.
— Хочешь стать двоеженцем?
Барбара Какссон, едва не лишившаяся чувств после позорного изгнания доктора Гримбла, постепенно очухалась и уже могла вновь вставлять в разговор ценные замечания.
— Я читала, что многоженство принято среди варварских народов Востока, мисс Пенелопа, — сказала она. — Например, у турок.
— То-то он все про гаремы да про султанов сегодня намекал, — злорадно потер руки доктор Смит. — Да, ты уж сыскала себе женишка, доченька!
— Вас не спрашивала, — огрызнулась Пенелопа.
— Видела бы тебя твоя покойная мать…
— Моя мать тридцать лет назад тоже нашла себе женишка, такого, что не позавидуешь.
— Это ты о своем отце, мерзавка?!
Пенелопа демонстративно отвернулась от отца и сказала поляку со скрытым сарказмом в голосе:
— Стивен, когда приедешь в Париж, пришли мне телеграмму, что у тебя все в порядке. А если тебя сразу пошлют в Сибирь, сделай это прежде, чем доедешь до этого, как его…
— До Омолоя, душенька, — улыбнулся Фаберовский.
— Прощай, мой милый, передавай привет мистеру Гурину.
— А как же мое письмо?! — встрепенулась Эстер, но ее тут же прервал грозный окрик мужа:
— Я тебе покажу письмо!
— Скажи мистеру Гурину, — сказала Пенелопа, — что не только у вас в России, но и у нас в Англии встречаются такие ненормальные, как он, чему примером мой отец со своей женой, его чудесные коллеги и я сама, связавшаяся с тобою и с ним.
Глава 12. Джевецкий
1 октября
Мысль о возможной ловушке не оставляла Фаберовского до самого Кале. Поэтому, взяв билет до Парижа, он сошел с поезда минут за пятнадцать до Северного вокзала, в Сен-Дени, сделав вид, что ему интересна знаменитая базилика с гробницами французских королей. На самом деле он сел там на конно-железную дорогу и за пятьдесят сантимов добрался до Парижа, где поселился в большом многоэтажном отеле «Ливерпуль» на улице Кастильон, облюбованном англичанами. Здесь он за пять франков снял на день номер и оставил там свой саквояж.
Почти целый день он потратил на то, чтобы разузнать парижский адрес Джевецкого, изобретателя подводной лодки, которую им придется использовать. Когда уже в сумерках поляк позвонил наконец в дверь дома Джевецкого, прислуга сообщила, что мсье Джевецкий уехал обедать на Эйфелеву башню.
Теперь уже сам Бог повелевал ему поехать к этой пресловутой башне и сразу встретиться и с Владимировым, если тот там вообще появлялся, и с Джевецким. Добравшись до Военной школы, он прошел к Марсову полю, но не направился прямо к башне, а сперва осмотрел ее со стороны, стоя у опустевшего огромного Промышленного павильона прошлогодней Международной выставки.
Гигантская рыже-красная ажурная железная башня, освещенная белыми матовыми лампионами на всех своих трех этажах, монументально стояла на берегу Сены напротив Иенского моста четырьмя слоновыми ногами, вознося свою вершину ввысь на триста метров. С фонаря башни ночной мрак над Марсовым полем разгонял мощный луч друммондова света. Светляками ползали по башне вверх-вниз между этажами подъемные машины. Между ног башни в центре роскошного цветника бил фонтан, струи которого подсвечивались разноцветными огнями.
В парке оркестр играл вальс Вальдтейфеля, и Фаберовский пошел по дорожке на его звук, внимательно вглядываясь в лица гулявших. От оркестра он повернул к башне и обошел ее кругом, но Артемия Ивановича не разглядел. Он решил, что либо его тут никогда и не было, либо он уже покинул свой пост, как где-то за спиной услышал знакомый голос, требовательно просивший на смеси языков:
— Ун ситуасьон десеспере… Нужда и лишения…. Плиз, мэм… Подайте нищему агенту русской заграничной агентуры в Париже!
Фаберовский обернулся и увидел фигуру Владимирова, который донимал какую-то пожилую английскую пару — грузного джентльмена с седыми бакенбардами в тяжелом пальто-честерфилде с пелериной и его супругу, тощую высохшую старуху с надменным лицом. Артемий Иванович еще не освоил все богатство нищенских приемов, поэтому он ходил за одним и тем же человеком и беспрестанно канючил, пока его не прогоняли палкой прочь либо не давали десять-пятнадцать сантимов. Было очевидно, что Владимиров действительно находится в нужде.
— Пан Артемий! — окликнул его Фаберовский. — Может быть, нищий агент охранки соизволит обратить на меня свое благосклонное внимание?
— Пошел к черту! — огрызнулся Владимиров.
Внезапно его осенило, котелок выпал у него из рук и с трудом собранные монетки раскатились по желтой дорожке. Артемий Иванович бросился на шею не готовому к такому бурному изъявлению чувств поляку и они оба рухнули в цветник.
— Сумасшедшие французы! — неодобрительно покачал седой головой в цилиндре пожилой джентльмен и постучал пальцем по виску. — Нажрутся лягушек с улитками, а потом вон что вытворяют.
— Как ты здесь оказался, Степан? — спросил Артемий Иванович, когда они с Фаберовским выбрались из поломанных цветов. — Ну, у тебя и нюх. Найти меня в Париже в единственно возможном месте!
— Я читал телеграмму пана Артемия, — растерянно сказал поляк и вновь всплыли в мозгу мысли о подстроенной Рачковским ловушке.
— Ах, да! Но я ни в чем не виноват. Она пошла купаться и стала тонуть. Я не мог остаться в стороне и спокойно смотреть, как она тонет. Поэтому я бросился на помощь.
Фаберовский перевел дух. Он уже отвык от своеобразной логики и быстрых переходов в мыслях Артемия Ивановича, которые скакали у того в голове, как блохи.
— Сколько мне известно, пан сам не умеет плавать, — заметил поляк. — Почему тогда Шарлотту де Бельфор нашли на берегу?
— Я не знаю, — ответил Артемий Иванович, подбирая с дорожки монетки и складывая их обратно в котелок. — Я стал тонуть и хвататься за что попало. Потом я ухватился за что-то подо мною, что плыло к берегу. Когда я очухался, я увидел, что она лежит бездыханной лицом в воде рядом со мною у самого берега. И я вытащил ее из воды.
— Газеты писали о страшных увечьях.
— Я только делал ей искусственное дыхание, как учили в гимназии.
— И как же это, пан, выглядело?
— Встать коленями на грудь и надавить со всей силы на шею руками, пока вода горлом не пойдет.
— Понятно, — Фаберовский вдруг понял, что два года назад за спиной у его невесты во время их совместного с Артемием Ивановичем купания в Серпентайне стояла в образе Владимирова сама Смерть с уже занесенной косой. Он похлопал Владимирова по спине. — Пан Артемий настоящий бич Божий. Просто русский Аттила какой-то!
— Черт возьми! — воскликнул Артемий Иванович. — В последнее время я слышу столько комплиментов, что страшно становится. И Рачковский хвалил, и мадам де Бельфор хвалила, теперь ты, Степан, хвалишь. Уж лучше бы ты меня поленом хватил.
— Где я тебе, пан Артемий, тут в Париже полено возьму? Но с башни я тебя сброшу в случае чего, за мной дело не станет. Пошли до касс, нам нужно будет встретиться на башне с одним человеком. Кстати, что ты там говорил насчет похвал от пана Рачковского?
— Видишь ли, Степан, когда Продеус обманом захвативши меня в Петергофе и привез в Париж, некоторое время мне пришлось провести в обществе Рачковского и его агента Бинта. Но я им ничего не сказал, хотя они меня даже портьерой удушить пытались.
— Врешь ты, пан Артемий. Никто тебя не пытал. Коньячком тебя угостили, в это я поверю. А что ты на озере с барышней делал?
— Бинт повез нас с дамами на пикник.
— После пыток, — понимающе сказал Фаберовский и встал в хвост очереди, тянущейся к кассе.
— Нет, правда, он повез нас в Марли на пикник. Но обманул. Мы, оказывается, до Марли не доехали. Я, как бабу-то ту того, я потом эту Марли три часа разыскивал. Думал, так и останусь в ентом лесу навечно.
— Ну и как, нашел?
— Нашел. Я там на омнибус сел из Версаля и в Сен-Жермен доехал, а оттуда на поезде сюда. Боялся, что Бинт бабищи хватится и в полицию заявит.
— Так он и заявил.
— Вот скотина!
— Пан Артемий еще хорошо отделался. Полагаю, вместо мадам де Бельфор в пруду должны были найти твое тело.
— Ну, теперь, когда ты, Степан, приехал, мне уже ничего не страшно.
— Знаешь, пан Артемий, меня не покидает мысль, что господь бог в наказание за какие-то грехи судил мне твое вечное присутствие рядом, словно я прикован к тебе, как каторжник к ядру. Два билета на первый этаж, — поляк сунул в окошечко кассы четыре франка и они направились к подъемной машине.
Кондуктор пробил у них билеты и Артемий Иванович вместе с Фаберовским уселись в просторной, человек на сто, карете на одну из стоявших в ряд деревянных скамеек. Кондуктор задвинул дверцы кабины, подал свисток, и громадная карета, глухо постукивая колесами о рельсы, плавно покатила вверх. Чтобы не глядеть на проваливающуюся вниз землю, Артемий Иванович вперил испуганный взгляд в висевший на стене барометр и сидел так неподвижно, пока подъемная машина не остановилась и кондуктор не открыл дверцу.
Они вышли на платформе первого этажа, окруженной крытой галереей. Здесь, на этаже, было совсем не страшно, вокруг под ручку с кавалерами гуляли нарядно одетые дамы с черными зонтиками.
— С кем мы тут будем встречаться? — оживился Артемий Иванович, заслышав доносившуюся из ресторанов музыку и втянув носом богатые кулинарные запахи.
— Нам потребно отыскать пана Джевецкого, чью лодку Черевин намерен использовать в Египте.
— А как мы его узнаем?
— Будем искать человека с солдатским Георгием на лацкане пиджака. Чтобы не пропустить его, разделимся. Я пойду посолонь, а пан Артемий в противоположном направлении.
— А есть мы будем?
— Купите, пан Артемий, булочку на те деньги, что вы выклянчили у туристов.
Не откликаясь больше на скулеж Артемия Ивановича о голодных днях, проведенных им в Париже, Фаберовский решительно направился к ближайшему ресторану. Никого, кто походил бы на Джевецкого, там не было. Не оказалось никого и в следующем ресторане. На галерее Джевецкого тоже не было. Фаберовский постоял немного у перил, любуясь на Сену и Трокадеро за Иенским мостом. Пора бы было Артемию Ивановичу закончить осмотр своей половины башни и появиться здесь, но его все не было. Поляку пришлось двинуться к нему навстречу. Он увидел его в дверях одного из ресторанов почти на том же месте, где они расстались. Владимиров стоял неподвижно, чуть откинувшись назад и широко расставив ноги. Кончики пальцев его нервно тряслись, а взгляд был прикован к официанту, разносившему на подносе заказанные блюда к столикам. Когда гарсон проходил мимо, с уголка рта Артемия Ивановича выползала тонкая струйка слюны, которую он громко сглатывал.
Фаберовский вывел его из оцепенения, ткнув его в бок кулаком.
— Ну как, пан Артемий, кого-нибудь нашли?
— Он пронес передо мной яичницу с печенкой… — Артемий Иванович вытер рот рукавом.
— И куда он направился?
— Да вон же, он вино откупоривает, — Владимиров указал пальцем на гарсона.
— Пфе! — фыркнул поляк. — От голода пан Артемий совсем потерял разум. Нам надо подняться на второй этаж и там я вас накормлю.
— Ага! — Артемий Иванович кивнул головой и покорно поплелся к лифту, все еще оглядываясь на ресторан.
Фаберовский купил билеты для подъема на следующий этаж. На этот раз каретка подъемной машины была поменьше, а поднимались они выше, да и барометра не было на стене, так что Артемий Иванович вцепился в край скамейки, словно в случае опасности скамейка могла спасти его.
На этот раз они отправились искать Джевецкого вместе. И им повезло. Почти сразу в ресторане за столиком у самого окна с видом на Сену они увидели невысокого мужчину с нафабренными усами и бородкой клинышком, в одиночестве поедавшего свой обед. В том, что это был именно Джевецкий, их убедил скромный Георгиевский крест, приколотый на лацкане пиджака.
Они подошли к Джевецкому и поляк, приподняв цилиндр, представился:
— Если не ошибаюсь, Степан Карлович Джевецкий? Меня зовут Стефан Фаберовский, а это мой коллега, господин Гурин. Вы разрешите сесть рядом с вами?
Узнав соотечественников, Джевецкий улыбнулся и широким жестом пригласил их сесть.
— Я совсем недавно из Петербурга, но уже соскучился по русскому языку, — радостно сказал он и, подозвав гарсона, велел ему принести бутылку «Вдовы Клико». — А вам, господа, советую заказать новейшее увлечение парижских гурманов: рагу из фаршированных устриц.
— Никогда не слышал о подобном кушаньи, — сказал Фаберовский.
— Это очень просто. Берут пять или шесть устриц, затем их перемешивают с фаршем из дичи, вспрыскивают лимоном, поливают хорошим шабли, — и блюдо готово.
— Полагаю, что нам придется ограничить себя более привычной пищей, — сказал Фаберовский и заказал жареный картофель. — А ведь мы, Степан Карлович, забрались сюда, на такую высоту, по вашу душу.
— Как интересно, — изумился Джевецкий. — По мою душу на седьмое небо. Вы слышали, что вчера близ Нуазиле-Сек увеселительный поезд восточной железной дороги, состоявший из двадцати шести вагонов, столкнулся с товарным поездом? Несколько вагонов разбито и двадцать шесть человек легко ранены.
— Видите ли, нас интересуют ваши подводные лодки.
— Подумать только, еще остались люди, интересующиеся этой старой рухлядью! — улыбнулся Джевецкий и подал своим гостям бокалы с холодным шампанским, которое только что принес и разлил гарсон.
Со стороны эстрады забренчал какой-то странный трехструнный инструмент и застучал тамбурин. В тот же миг в зал ресторана вплыли несколько японок в ярких красно-синих кимоно и с раскрытыми бумажными веерами. Лица их были густо набелены, брови подведены гигантскими дугами, а на губах нарисован маленький ротик, отчего они казались приводимыми в движение пружиной фарфоровыми куклами в заводной музыкальной шкатулке. С застывшими улыбками танцовщицы начали свой танец вееров, выделывая ими разные выкрутасы и плавно кружась.
— Все французы в восторге от искусства танцовщиц из Нагасаки, — сказал Джевецкий Артемию Ивановичу, который пялился на японок, как баран на новые ворота. — Какие они устраивают штуки со своими веерами! А всего несколько недель назад Париж был покорен неграми и негритянками, а в светских салонах танцевали африканский танец «Бамбула», вытеснивший моду на «танец живота». Но вернемся к лодкам. Чем же они вас так заинтересовали?
— Возможно, вы слышали, что на днях английский генерал Скотт Монкрифф выехал по приглашению русского правительства из Каира в Мерв для осмотра русских хлопковых плантаций, — начал Фаберовский издалека. — Но вам едва ли известно, что в уплату за советы по разведению хлопка англичане попросили предоставить один из ваших подводных аппаратов для осмотра катаракта на Ниле с целью в дальнейшем построить дамбу, которая позволила бы египтянам не зависеть от разливов Нила. Эту работу по обследованию первых нильских порогов поручили нам с господином Гуриным.
— Бывал я на первом катаракте три года назад. Чего это с ним так носятся? Нева на Ивановских порогах и то быстрее бежит. Я вам сразу дам совет. Арабы будут пытаться всучить вам разные мумии, так вы их не покупайте. Я одну такую купил — голову какой-то египетской красавицы в возрасте четырех с половиной тысяч лет, так потом с нею намучился.
— Сварливая попалась? — сочувственно спросил Артемий Иванович. — У моего знакомого, надворного советника Стельмаха, жена тоже очень сварливой была, пока я ее на нужнике не прокатил.
— Уж не знаю, какая моя красавица была сварливой, но сварливей наших одесских таможенных чинов во всем свете, наверное, не сыщешь. Он, видите ли, никак не могли решить, под какую статью тарифа подвести сию часть мертвого тела. Знали бы вы, сколько бумаг мне пришлось исписать! Да, а потом еще лучше было: одесская полиция потребовала от меня разъяснений, откуда я эту мертвую голову получил и не кроется ли тут убийства. Насилу от них отвязался. А зачем вы катали госпожу надворную советницу на нужнике, господин Гурин?
— Наводнение было, больше везти оказалось не на чем, — объяснил Артемий Иванович. — А нужник, я вам скажу, такая интересная штука, что твоя подводная лодка — весь под водой, а сверху одна только ручка от двери…
— Мы решили воспользоваться случаем и узнать из первых рук о вашем аппарате, который как нам известно, был принят в серийное производство, — перебил Артемия Ивановича Фаберовский и огляделся в поисках гарсона, так как только прибытие еды могло удержать Артемия Ивановича от разговоров. К счастью, официант не замедлил появиться и Артемий Иванович тут же занялся уничтожением утки по-руански.
— Действительно, моим первым подводным минным аппаратом заинтересовалось Военно-инженерное ведомство как средством обороны приморских крепостей, — сказал Джевецкий, с завистью к хорошему аппетиту глядя, как исчезает утка в пасти у Владимирова. — Я построил его на одесском заводе Бланшарда на свои же шиши в семьдесят седьмом году. Он был одноместным, было в нем несколько менее пяти метров, и приводился он в движение гребным винтом, вращавшимся ногами, как колеса велосипеда. Чтобы можно было длительное время дышать внутри аппарата и не всплывать на поверхность, я устроил резервуар со сжатым воздухом для дыхания. При этом испорченный воздух удалялся непрерывно маленьким насосом, приводившимся в действие от вала гребного винта. А чтобы уравновешивать аппарат в подводном положении, применил балластную цистерну и цилиндр с поршнем. Перемещением поршня можно было либо принять, либо вытеснить воду. Чтобы, сидя внутри аппарата, я мог наблюдать за окружающим меня миром, в верхней части аппарата я устроил стеклянный колпак, а для прикрепления мин к неприятельскому кораблю использовал два рукава с резиновыми перчатками. Чтобы взорвать мину, нужно было отойти на достаточное расстояние и пустить ток по электрическим проводам.
— И что-с, вы плавали на таком аппаратусе? — спросил Артемий Иванович, дожевывая последний кусок утки.
— Еще как! Пять месяцев я испытывал ее на одесском рейде. Однажды я решил пронырнуть под паровой яхтой самого командующего черноморским флотом «Эриклик», которая в то время стояла в Практической гавани. Это был красивый белый корабль с двумя гребными колесами. Пристаю я к трапу, выхожу на палубу и спрашиваю у вахтенного начальника: «Сколько воды под килем?» «Больше десяти футов», — отвечает тот. Прикинул я, что высоты в моей лодке всего шесть футов, и решил, что в аккурат под килем яхты пройду. Отошел я на лодке от борта, занял место на траверзе яхты, опустил свой перископик — совсем-совсем примитивный, я его из разбитого родительского зеркала и газовой трубы сделал — и пошел к яхте, работая ногами. А голова у меня торчала наверху в стеклянном колпаке, укрепленном крестом из шестимиллиметровой железной проволоки. Что у меня внизу, я не вижу, и ориентируюсь только по обросшему водорослями днищу «Эриклика». Прямо перед глазами в расстоянии уже меньше двух футов вижу фальшкиль «Эриклика». Еще немного — и пройду. И вдруг снизу скрежет, колпаком о днище — в общем, попал я, как черт в рукомойник. Сообщил я своей лодке наибольший возможный дифферент на нос, дал задний ход, продвинулся фута на два и опять застрял. Оказалось, зацепился рымами [12] за киль.
— Я, когда на сортире плыл, тоже за корягу зацепился, — сказал Артемий Иванович, разделавшись с уткой.
— Гарсон, — щелкнул пальцами Фаберовский. — Повторите этому мсье. Только побыстрее. А как долго вы могли сидеть в своей лодке без воздуха, Степан Карлович?
— Минут двадцать, не больше. Я, господа, бился с турками на «Весте» и даже получил за это орден, но тут я даже струхнул. Понимаете, я не мог из нее вылезти, ведь колпак-то мне не открыть, он к днищу «Эриклика» прижат! В животе плохо, в голове пусто. Налег я с перепугу на педали, верчу их, ничего не соображая, словно белка в колесе. Вдруг меня колпаком о днище «шмяк», потом «бац», проволока погнулась, ну, думаю, все, доплавался! А моя лодка вдруг ни с того не сего задом наверх пошла. И вот я уже качаюсь на волне у самого колеса «Эриклика». Солнышко светит снаружи, чайка мне на колпак села. Я колпак открыл, ее согнал и вылез наружу. И сейчас на трапу наверх — вахтенному рожу чистить. Вылез на палубу, вижу — мимо буксирный пароход пыхтит. Он волну развел, «Эриклик» качнуло, только благодаря этому я и выплыл. Я к командиру, он лот приказывает кинуть. Выясняется, что не десять футов под килем, а и пяти нет! Командир передо мной извинился, а затем как заорет на вахтенного: «Он, видите ли думал, что у него десять футов под килем! В жопе у него десять футов, запор китовый!» Простите, господа, я увлекся.
Джевецкий взглянул на Артемия Ивановича, который с раскрытым ртом, зажав в кулаке пустую вилку, раскачивался на стуле, потрясенный услышанным рассказом. До сих пор он не задумывался о том, что ему предстоит, а сейчас видения одно страшнее другого проходили перед его глазами. «Эриклик» в его воображении заменился на «Память Азова», тем более что по днищу в видениях Владимирова все равно было их не различить, он задыхался без воздуха в стальной утробе лодки, а акулы смеялись над ним и пачкали разными непристойностями прозрачный стеклянный колпак.
— А акулы в Египте есть? — спросил Артемий Иванович у Джевецкого.
— Акул нет, но, говорят, есть крокодилы.
— А что будет, если мы на вашей лодке на этого крокодила наедем?
— Господин Гурин, видимо, ваш русский начальник, не так ли, пан Фаберовский? — Джевецкий заговорщицки подмигнул своему соплеменнику.
— Да, я начальник, — самодовольно подтвердил Артемий Иванович, стараясь не глядеть в сторону поляка. А взглянуть ему очень хотелось, поэтому, чтобы не поддаться искушению, Владимиров принялся со скучающим видом рассматривать испещренные карандашными надписями белые стены ресторана. Большей частью это были просто имена и фамилии, такие же имена были выцарапаны на стеклах бриллиантовыми кольцами разных французских и английских «саврасовых».
— Как я вас понимаю, пан Фаберовский! — усмехнулся Джевецкий. — У меня тоже было всегда много разных русских начальников вроде господина Гурина.
— Нет, а правда, Степан Карлович, — сказал Владимиров, отвлекаясь от надписей, — как с крокодилом-то быть?
— Крокодилов я возьму на себя, пан Артемий, — успокоил Владимирова Фаберовский. — Но мы со своими крокодилами перебили вас, Степан Карлович.
— Мой аппарат не только с крокодилами, он даже с чиновниками из Инженерного ведомства справлялся. А там крокодилы так крокодилы, даром что ли в зеленых мундирах. Как сейчас помню: было это в конце октября семьдесят восьмого — числа двадцать четвертого. Я на глазах у крокодилов из назначенной комиссии прикрепил под водою мину к плашкоуту, стоящему на якоре, и взорвал его. Мой аппарат был одобрен, мне повелели только несколько переделать его. Скорость хода у него показалась маленькой, да время пребывания под водою, а еще слишком трудно оказалось ее удерживать на нужном направлении. На следующий год я заказал новый вариант лодки на Невском заводе в Санкт-Петербурге. У него было четыре человека экипажа, два поворачивающихся винта системы Губэ, один в корме, а другой в носу, и ряд иных усовершенствований. Но тут убили императора Александра Николаевича, и я думал, что на аппарате поставят крест. Однако совсем неожиданно мой бывший командир, который командовал пароходом «Веста» во время боя с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд», — Джевецкий дотронулся до солдатского Георгиевского креста у него на груди, — г-н Баранов по протекции обер-прокурора Победоносцева был назначен петербургским градоначальником и оказал мне протекцию. Он был настоящим русским начальником и в то время был одержим идеей о вездесущности террористов, которых везде видел и чьи происки везде находил, истинные и мнимые. Поэтому он представил императору о моем проекте как о средстве береговой обороны и для подводного осмотра прудов и озер в императорских парках на предмет наличия взрывных устройств. Государь заинтересовался и повелел привезти аппарат в Гатчино для показа ему.
— Он действительно был хорош? — спросил Фаберовский.
— Скажу вам честно — аппарат мой был порядочной дрянью. Но мне нужны были деньги для его совершенствования. Поэтому его недостатки пришлось компенсировать дипломатией. Я разузнал, что любимыми цветами императрицы были орхидеи, и заказал в цветочном магазине на Невском великолепный букет. Для всех эволюций под водою мне было выдано три матроса из придворных гребцов, с которыми я несколько дней плавал по Белому озеру перед дворцом и учился приставать к пристани под террасой. Но вот настал Судный день. Мы вчетвером с матросами влезли в аппарат, они должны были вертеть педалями, а я сидел, прижав к себе букет, и молился, чтобы он дожил до момента, когда мы вернемся к пристани.
— Скажите, а если бегемот, или, хуже того, гиппопотам взлезет на лодку? — встрял Артемий Иванович, до этого молча размышлявший о крокодилах и своей несчастной жизни. — Ее раздавит?
— Пан Артемий слышал хотя бы, о ком только шла речь? — одернул его поляк.
— О бегемотах? Нет? Тогда о гиппопотамах. Неужели о крокодилах?
— Пан Джевецкий рассказывает о государе и высочайшей семье, а пан Артемий лезет со своими бегемотами! На кого это вы намекаете?
Артемий Иванович, чья верноподданническая душа ушла в пятки при одной мысли, что о нем могли подумать, будто он посмел сравнить обожаемого монарха с бегемотом, вскочил и со словами: «О бегемотах ни слова!» выбежал в уборную.
— Так вот, государь с императрицей сели в шлюпку и вышли на середину озера, — продолжил Джевецкий, — а мы взялись маневрировать вокруг да около и пару раз даже прошли под шлюпкой, рискуя задеть рубкой за дно. Скажу вам по секрету, как поляк поляку, пан Фаберовский, русские государи не могут долгое время сосредотачивать свое внимание на одном предмете. Спустя скорое время император, наскучившись лицезрением наших маневров, пожелал выйти на пристань. Один из гребцов постучал на в рубку веслом и они пошли к пристани. А мне же пришлось еще некоторое время провести под водою, придумывая, как бы поэффектней преподнести орхидеи государыне, чтобы у этой истории не случился скучный конец. Наконец мы всплыли и ловко пристали рядом с императорской шлюпкой. Держа в одной руке чертовы цветы, другой я отвинтил люк и вышел на пристань. Если бы вы видели тогда мой букет, пан Фаберовский, за который я заплатил пятьдесят рублей! Он увял и весь был унизан капельками ржавой воды! Но делать было нечего, я преклонил перед государыней колено и подал, наконец, ей свой многострадальный букет. Это было все равно как на первом свидании с женщиной, в голову лезли всякие пошлости. «C’est le tribut de Neptune a Votre Majeste!» [13] — говорю я Ее Величеству, а Его Величество мне: «Ты, каналья, по-русски сказать, что ли, не можешь? Не под французами, а под русским царем, чай, плавал!»
— Говорят, император Александр очень грозен.
— Ничуть. Пока императрица рассыпалась в комплиментах, мы с государем выпили за русский флот, его здоровье и плававший в воде аппарат, в котором громко кряхтели трое матросов, не смея выйти наружу пред царские очи. Государь остался доволен, поблагодарил меня за доставленное ему и императрице развлечение, после чего велел дежурному генерал-адъютанту передать военному министру озаботится постройкой пяти десятков таких лодок, а мой экземпляр оставить в Гатчино, чтобы он мог под водой от жены скрываться да с начальником своей охраны в тишине коньяк пить. А мне за это сто тысяч отвалили.
Их разговор внезапно был прерван вспыхнувшим у дверей ресторана скандалом. Сидевшие за столиками французы вскочили и громко и возмущенно кричали что-то, но всех их перекрывал голос Артемия Ивановича:
— Сам ты козел! Колбасник! Пивное брюхо! Да я тебя сейчас с башни сброшу!
Фаберовский бросил на стол салфетку и вскочил.
— Что там происходит? — спросил Джевецкий недоуменно.
— Сейчас, одну секундочку. Мне, кажется, надо вмешаться.
И Фаберовский, расталкивая возмущенных французов, протиснулся к месту событий.
Он увидел толстого немца, стоявшего на коленях на полу, и Артемия Ивановича, который держал его за шиворот и то и дело тыкал лицом в стену, приговаривая:
— Лижи, сволочь! Если языком не слижешь, слетишь с башни!
Причина такого странного отношения Владимирова к этому на вид достаточно добропорядочному немцу Фаберовскому пока была не понятна, но он сразу почувствовал, что Артемий Иванович пользуется горячей поддержкой со стороны окружавших его французов.
— Ты только посмотри, Степан, что этот гад на стене написал! — сказал ему в пол-оборота Владимиров и опять ткнул немца в загривок.
Поляк увидел на стене в том месте, куда с такой настойчивостью тыкал немца носом Артемий Иванович, немецкую надпись:
…
Die Franzosen und Russisch — Die schdndlichen Bocke
— Ну, как тебе? Французы и русские — вонючие козлы! Мы тут решили, что он должен слизать этот позор языком.
Французы одобрительно загалдели.
— У вас решительный начальник, — сказал поляку подошедший Джевецкий. — В некоторых случая это вызывает уважение.
Свекольно-красный немец высунул свой широкий и натруженный язык и с видом покорной коровы приложил его к грязной стене.
— Давай, давай, шевели, старайся, — пнул немца в толстый зад Артемий Иванович, и несколько молодых мосье последовали его примеру.
— Зачем вы издеваетесь над этим господином? — вмешался пожилой, лет шестидесяти француз с аккуратной темной бородкой, и сказал, обращаясь к Джевецкому:
— Этьен, почему ты не вызываешь полицию?
— Друг Густав, я не могу, да и тебе не советую, мешать господам выражать свои патриотические чувства. Эта ливерная колбаса написала свинцовым карандашом на стене твоей башни ругательства в адрес наших с тобой народов. Мой новый знакомый, мсье Гурин, бдительно заметил это и потребовал удовлетворения за свои оскорбленные чувства.
— Вы тоже считаете, что им незачем мешать, мсье? — спросил француз у Фаберовского.
— Конечно.
— Густав Эйфель, — представил незнакомца Джевецкий. — Мой товарищ по Центральной школе искусств и ремесел. Он построил эту башню. А это еще один мой новый знакомый, мсье Фаберовский.
— Ну что ж, Этьен, — сказал Эйфель, — возможно, ты и прав. Однако не мог бы ты попросить своего знакомого все-таки оставить немца в покое? Вместо этого я мог бы пригласить вас всех к себе на чашечку кофе.
Артемий Иванович не заставил себя упрашивать. Немец был оставлен на растерзание французам, которые, похоже, вознамерились принудить его облизать всю башню или хотя бы ресторан второго этажа. Вслед за Эйфелем они сели в отделанную красным деревом кабинку подъемной машины, которая повезла их наверх. Где-то на середине пути она остановились у железного мостика и кондуктор предложил всем выйти и пройти в точно такую же кабинку на противоположном его краю. От высоты у Артемия Ивановича перехватило дух, он вцепился обоими руками в холодные железные перила и только помощь опытного кондуктора и усилия спускавшихся сверху пассажиров, прибывших на встречной кабинке, позволили оторвать его и в конце концов доставить на третий этаж.
Высота в двести семьдесят шесть метров казалась совершенно нереальной и ощущение страха, охватившего Владимирова во время пересадки, почти отпустило его. Он даже решился подойти к наружной стене галереи и взглянуть через закрытый сдвижной стеклянный ставень на Париж. Эйфель предупредительно взял со стола, заваленного картами окрестностей Парижа, биноклями и зрительными трубами, одну такую подзорную трубу и подал ее Артемию Ивановичу.
— Взгляните через нее, мсье, вы будете поражены.
— В какой стороне находится Марли? — спросил Владимиров.
— На западе, — подсказал Джевецкий. — Вам нравится Марли?
— Нет, но там осталась одна моя знакомая.
— Мсье Гурин хочет посмотреть, не изменяет ли ему эта ветреная особа с тамошним префектом, — сказал Фаберовский и решительно отнял у Владимирова трубу. — Пан Артемий, купите в буфете к кофе каких-нибудь профитролей, буше или эклеров.
Пока Артемий Иванович ходил в буфет, Эйфель отпер дверь и провел Фаберовского с Джевецким к себе в кабинет. Его оригинальное жилище располагалось посреди восьмиугольной платформы третьего этажа между четырьмя железными арками, сходящиеся вершины которых служили опорами следующей площадке, на которую вела винтовая лестница. Как объяснил хозяин, публику туда не пускали, поскольку там располагался гигантский электрический прожектор, могущий освещать пространство до семидесяти верст в окружности, а также термометры, психрометры, барометры и ветромеры.
— Я так увлекся, Этьен, зрелищем колбасника, которого твой знакомый заставил облизывать мою башню, — вдруг спохватился Эйфель, — что забыл в ресторане внизу свой золотой портсигар. Прошу прощения, я оставлю вас ненадолго. Если вам будет скучно, можете прослушать что-нибудь на фонографе, — Эйфель кивнул на диковинное сооружение с горизонтальным металлическим барабаном и раструбом наверху. — В прошлом году мне подарил его во время выставки сам Томас Эдисон; между прочим, это единственный фонограф в Европе.
Он поспешно оставил свое жилище, а Джевецкий, повертев в руках бумажный барабан с записью, безо всякого интереса вернул его обратно на столки и уселся на стул.
— Пока вашего начальника нет, — сказал он Фаберовскому, — должен предупредить, если вы этого еще не знаете. Мои лодки уж несколько лет как признаны утратившими боевое значение и поставлены на прикол. Вы никогда не пробовали на велосипеде сдвинуть груженую телегу, пан Фаберовский? А вот если бы попробовали, то поняли, что человек слишком слаб, чтобы использовать его силу в качестве движителя. В восемьдесят пятом году я решил поставить на одном аппарате электрический двигатель и вооружить его торпедами, а второй оборудовать гидрореактивным движителем. Мой приятель, инженер Дюфлон, предложил разместить заказ на электродвигатель в фирме «Бреге», которую он представлял в Петербурге, но она отказалась его выполнять. Пришлось мне самому проектировать электродвигатели в одну лошадиную силу и электроаккумуляторные батареи. Я испытывал оба аппарата на Неве и тот, что с электродвигателем, показал скорость против течения четыре узла, а с гидрореактивным двигателем — меньше трех. И потом гидрореактивный движитель на деле оказался слишком сложным, чтобы с ним стоило продолжать возиться. Поэтому мой вам совет: оборудуйте аппарат, который вам выделят, электрической машиной. Я сам требовал переделать все построенные аппараты в аккумуляторные, но в морском министерстве не верят в будущее электродвигателей.
— Да, — согласился Артемий Иванович, входя с полной эклеров коробкой в кабинет, — я тоже это электричество не люблю. Я однажды уже помогал в гимназии учителю физики показывать опыты с электрической индукционной машиной, потом до конца урока из глаз искры сыпались… Какое уж тут будущее!
Джевецкий удивленно посмотрел на Владимирова:
— Ну, как знаете…
— Если б хоть на паре, куда бы ни шло… — Артемий Иванович поставил пирожные на стол и скептически оглядел жилище Эйфеля. — Очень похоже на каюту в подводной лодке. Даже балки с заклепками, о которые бьются головой. Скажите, Степан Карлович, а на вашей лодке есть орган, как на «Наутилусе» господина Жюля Верна?
— Конечно, есть. Педальный.
— Как жаль, — расстроился Артемий Иванович. — Я совсем не умею играть на органе. Но вот орган, Степан Карлович, можно было бы сделать и на электричестве.
Не приученный к столь пародоксальному мышлению Артемия Ивановича, Джевецкий некоторое время растерянно молчал, но потом счел за благо сделать вид, что просто не заметил дурацкой реплики Владимирова, и вновь обратился к поляку:
— В четырех сентябрьских нумерах «Русского инвалида», господин Фаберовский, было пропечатано обозрение господина Щавинского под названием «Подводные лодки». Он описывает там иностранные лодки и они практически все двигаются за счет электричества. На французской «Жимно», например, стоит динамо-машина Кребса в пятьдесят пять лошадиных сил, а на лодке Губэ — динамо-электрическая машина Эдисона. Впрочем, Норденфельд оснастил свою лодку паровой машиной. Только она ни на что не годна. Я сам подал три года назад великому князю генерал-адмиралу Алексею Александровичу эскиз лодки с паровым надводным движителем, но под водой его использовать невозможно.
— Нам не дадут денег на переоборудование лодки, — сказал Фаберовский. — Поэтому расскажите нам о ней о такой, какая она есть.
— Вам уже приходилось иметь дело с какими-нибудь подводными аппаратами?
— Я видел на Ливерпульской выставке в 1885 году лодку Уоддингтона «Порпос», которая получила награду. А в следующем году меня пригласили посмотреть на испытание на Темзе в доке Тилбури подводной лодки «Наутилус» по проекту Кемпбелла и Аша. Целый корабль! Водоизмещение 250 тонн, длина 60 футов, два электродвигателя в 45 лошадиных сил, торпедные аппараты системы Уайтхеда на верхней палубе! Но на испытаниях засорились боковые отверстия впуска воды в цистерны, а для стрельбы водолазам потребно было вылазить на палубу. Так что ее не приняли.
— Вот видите, господин Фаберовский, англичане тоже пришли к необходимости электрического двигателя. Между прочим, под водой «Жимно» прошел на аккумуляторах со скоростью 5 узлов 45 миль. А на педалях скорость моей лодки составляет под водой всего половину узла. Так что подумайте все-таки об электричестве.
— Давайте все же вернемся к вашей лодке, господин Джевецкий. С педальным органом.
— Ее водоизмещение около 6 тонн, длина 20 футов, экипаж три-четыре человека. Гребной винт рассчитан на вращение двумя человеками с помощью педального привода. На аппарате имеется кормовой поворотный винт системы Губе, поворачивающийся в плоскости руля. От оси гребного винта работают два насоса: один для выкачивания водного балласта, другой воздушный для регенерации, который прогоняет воздух через раствор едкого натра, бертолетовой соли и извести, поглощающий углекислый газ, после чего воздух снова поступает для дыхания. К этому воздуху периодически и автоматически добавляется кислород из особого бронзового кислородного баллона.
— Скажите, господин Джевецкий, а долго можно просидеть в вашем аппаратусе под водою, не всплывая на поверхность? — спросил Артемий Иванович. — Если зацепимся за какую-нибудь корягу?
— На испытаниях под командой лейтенанта Чайковского с экипажем из двух штрафных матросов 2 роты Балтийского экипажа мой аппарат за 57 ходовых дней пробыл под водой в общей сложности 96 часов. Расчетного же запаса кислорода и раствора должно хватит для дыхания в течении 50 часов. Для продувки балласта и всплытия аппарат имеет в баллоне запас сжатого воздуха под давлением 100–120 атмосфер. Для остойчивости под водой я применил подвижные грузы, перемещаемые по рейкам по длине аппарата вдоль ее киля. Но будьте осторожны, вращая маховик: аппарат может клюнуть носом или кормой. И не погружайтесь глубже чем на тридцать футов.
— Так глубоко! — испугался Артемий Иванович. — Я тут намедни близ Марли купался, и то едва не утоп. А тут, шутка ли, целых тридцать футов! Кстати, в «Бель-Вю» был очень красивый аквариум с живыми рыбами. Очень, знаете ли, красиво они там хвостами шевелят. Вы, когда в Неве плавали, тоже рыбов видели?
— Действительно, Степан Карлович, а как мы будем наблюдать за тем, что происходит вокруг? — спросил Фаберовский.
— Аппарат имеет небольшую рубку с иллюминаторами, кроме того для рулевого я установил в рубке оптическую трубу с призмами и увеличительным стеклом в нижней части, подняв которую, вы сможете обозревать поверхность, не всплывая.
— А вот у капитана Немо окно было прямо в салоне, и никакой оптической трубы с клизмами, — уничижительно произнес Владимиров. — А что, если мы на вашей лодке утопнем?
— Надо будет открыть люк, впустить внутрь лодки воду, чтобы уровнять давление внутри и снаружи, и потом, покинув лодку, всплывать на поверхность.
Артемий Иванович без особого воодушевления воспринял слова Джевецкого. Все его водные приключения всегда кончались нехорошо.
— Мне кажется, — вдруг сказал Джевецкий, — что вы забыли задать самый главный вопрос. Я понимаю, что вы собираетесь ехать в Египет с мирными целями, чтобы осматривать пороги, — он заговорщически подмигнул поляку, — но если вдруг вы станете плавать в море и английские корабли пожелают помешать вашим исследованиям, а у вас на то будут особые полномочия, вы можете отправить их к праотцам при помощи двух закрепленных в особых полостях в корпусе мин с резиновыми надувными мешками, которые освобождаются при нахождении под кораблем, всплывают и присасываются к днищу, а потом взрываются током от гальванической батареи по проводам.
— Нет, это нам не понадобится, — уверенно заявил Артемий Иванович. — Мы эта… мы будем на Ниле глядеть, так сказать, пороги. И крокодилов.
— И играть на органе, — добавил Фаберовский.
— Ну что ж, дело ваше. Однако, если вы обладаете на ваши исследования некоторыми денежными средствами, я могу предложить вам арендовать мой личный экземпляр, с динамо-машиной. Я перевез его в Париж, чтобы всегда иметь его под рукой, но он пока без дела пылится здесь в Париже.
— Мы рассмотрим ваше предложение, Степан Карлович, — сказал поляк. — Полагаю, мы сумеем убедить наше с мсье Гуриным начальство в целесообразности такого шага.
Глава 13. Спала
2 октября, четверг
Вечер у гостеприимного создателя Эйфелевой башни удался на славу. Хотя все началось с кофе, через час все четверо опустошили половину запасов в погребце хозяина. Даже обычно сдержанного и прагматичного Эйфеля потянуло похулиганить. Он первым предложил залезть на верхнюю площадку и Фаберовский с Джевецким с энтузиазмом поддержали его. Артемий Иванович, потерявший всякое представление об окружающем мире, дважды съезжал вниз по перилам, потом ходил по карнизу балкона и плевался вниз. В конце концов Эйфель принес на площадку подзорную трубу и они влезли в фонарную будку у них над головой, где стали вращать гигантские рефлекторы, выхватывая снопами лучей в темноте то один, то другой известный дом, а потом Артемий Иванович долго выискивал дом Рачковского и квартиру на бульваре Араго, но не смог найти ни того, ни другого.
Утро застало их спящими все там же, в маяке, и стоило большого труда спустить проспавшегося Артемия Ивановича вниз. Он не переставая орал от ужаса и цеплялся за все, что попадалось ему под руки, поэтому ему завязали глаза, как пугливой лошади, и снесли вниз головой сперва на метеорологическую площадку, а потом по винтовой лестнице в кабинет Эйфеля. Здесь, чтобы не смущать публику, повязку с него сняли, но в лифте встали вокруг него так, чтобы он не мог видеть то, что происходило за окнами кабинки, а по переходу между кабинами протащили волоком, зажав глаза и рот ладонями.
— Здорово! — сказал Эйфель на прощание Фаберовскому с Владимировым. — Если в России вы все такие, я непременно приеду к вам что-нибудь строить.
Оставив Артемия Ивановича опохмеляться в одном из ресторанчиков первого этажа башни, Фаберовский спустился вниз и поехал на Страсбургский вокзал, чтобы купить билеты на поезд. Но здесь он обнаружил необычно много полицейских и лиц в штатском, принадлежность которых к полиции легко угадывалась любым наблюдательным человеком. Поляк был уверен, что чрезмерная активность сыщиков была вызвана убийством в Рюэй и каждый из них имеет описание, а то и фотографию Артемия Ивановича, полученную от Рачковского или Бинта. Поэтому Фаберовский поспешно покинул вокзал, забрал Артемия Ивановича и к часу дня на перекладных они добрались по правому берегу Сены до Пуасси, где сели в поезд на Руан. В Руане они пересели на другой поезд, и поздно вечером были уже за границей Франции, в Брюсселе.
В станционном буфете Артемий Иванович наконец поинтересовался, куда же они направляются и не проще ли было ехать в Англию через Кале, а не через Бельгию.
— Мы едем в Варшаву, а оттуда ко мне на родину, в Спалу, — огорошил Владимирова Фаберовский.
— Но я думал, что завтра уже увижу мою дорогую Асеньку, — всплеснул руками Артемий Иванович. — Думал, что куплю ей в подарок этих, брюссельских…
— Кружев?
— Да нет, капустов.
— Вы кавалер, пан Артемий. Непревзойденный по своей учтивости. Кочерыжку в подарок! Думаю, что даже Пакер, владелец овощной лавки на Бернер-стрит, ухаживал за своей супругой более утонченно. Ради пана Артемия миссис Смит отлучила своего законного мужа от супружеского ложа, два долгих года она питалась только воспоминаниями, хлоридином и медвежатиной, и вот является предмет ее грез с кочерыжкой в руках и даже без пальто, брошенного им где-то на берегу озера, когда этот предмет душил мадам де Бельфор.
— Так вы ее видели?
— Читал в газете.
— Про Эстер?
— Про мадам де Бельфор! А Эстер на моих глазах доктор Смит едва не изувечил, когда она возжелал написать пану Артемию письмо.
— Я убью этого пакостного докторишку! — закричал на весь буфет Артемий Иванович. — Немедленно в Лондон!
— Но пан, а как же царь?
— Какой еще, к черту, царь?
— Обычный самый, русский. Разве пан знает еще других царей? Государь находится сейчас в Спале и не может охотится без пана Артемия. Даже Черевин уже не может утешить его.
— Что же мне делать? — растерянно спросил Артемий Иванович, в душе которой неугасимая любовь к монарху столкнулась вдруг вот так в лоб со вспыхнувшей с новой силой любовью к женщине.
— Полагаю, что Эстер подождет.
— Тогда немедленно дай мне денег!
— Пфе! Не дать ли еще чего?
— Я должен отправить Асеньке телеграмму! Я два года уже без женщин!
— Не считая несчастной мадам де Бельфор и еще дюжины других, до сих пор не сумевших оправиться от общения с паном Артемием.
— Ну и что! Ну и что! Подумаешь, Февронья! Вовсе и не собирался я на ней жениться.
— Так пан, оказывается, подлец. Напакостил, а женится не хочет.
— Вот и не хочу! Потому что я у ней только столовался, а спал один в дровяном сарае у надворного советника Стельмаха! А то, что я ехал на советнице верхом во время наводнения, то тут и вовсе я ни при чем, можешь спросить у пожарного, который на ветке с факелом сидел.
— Ради Бога, пан Артемий, ни слова больше! — Фаберовский замахал на него руками. — Я хочу сохранить здравый рассудок. Вот вам пять франков, только умолкните!
Обрадованный Владимиров побежал в телеграфную контору, а поляк, воспользовавшись его отсутствием, купил в кассе два билета на Варшаву.
Прибыв туда на следующий день, в пятницу, в Варшаве они не задержались и сразу же уехали на домбровском поезде до станции Олень, а с нее в Томашев, где Фаберовский нашел своего старого приятеля-односельчанина, согласившегося подвезти их в Вапельна Пекло к родной тетке поляка, Ханке Лёньчинской. Фаберовский предпочел бы не заезжать туда вовсе, но они собирались проникнуть в Спалу без всякого приглашения и потому приходилось терпеть неудобства, связанные с общением со старыми знакомыми и родственниками.
Тетя Ханка оказалась шумной говорливой женщиной и Владимиров был просто подавлен ее шипением и цоканьем, едва они переступили порог ее мазанки с соломенной крышей. Поляк, который всегда разговаривал с ним по человечески, то есть по-русски, тоже стал шипеть, цокать и говорить непонятные слова. Они были сразу же усажены за стол, пани Лёньчинская поставила на стол тарелки с супом из квашеной капусты, блюдо с сытным фряки, бруснику с хреном, сметану, крынку топленого молока и яблоки из собственного сада.
Смешанные чувства одолевали Фаберовского. С одной стороны, он давно уже отошел от этого мира, он забыл вкус польской пищи, он даже разучился правильно разговаривать по-польски и тетка отметила, что он говорит с каким-то странным акцентом. Но с другой стороны, приезд в родную деревню вызвал у него такую щемящую ностальгию по своему детству, что впору было кричать в голос.
Чтобы как-то избавится от этого непривычного и неудобного ощущения, он предложил пани Лёньчинской перейти на русский язык, который она неплохо знала, чтобы и Артемий Иванович мог участвовать в разговоре.
— Твой прияцель, Стефан, плохо ест, — сказала она, глядя на измазанное в сметане лицо Владимирова. — Ему потребно оженицься. Може, мы сыщем ему у нас наречону? Ото, дочурка Марковских засиделась в паненьстве, такая деликатка, да и у Косьцинских дзевчина на выдаванье.
— Почему же она засиделась в девках? — заинтересовался Артемий Иванович.
— Мувят, цо она кривая. Но якая ж она кривая, коли око у ней стеклянно! Пред тем он выпадал, но недавно доктор Косинский с Варшавы зробил ей новый, совсем как настоящий. А то, цо сплетничают, як она с ним заплатилась, так то полна бздура. Стоит взглянуть на ее рябое лицо и сразу ясно, цо она порядочная паненка.
— Что-то мне не хочется, — сказал Артемий Иванович. — У вас, госпожа Лучинская, водочки какой нету?
— С водкой каждый дурак на панну Марковскую влезет, — грубо ответила тетя Ханка. — А ты, Стефан, еще не мыслил ожениця?
— Уже. Почти.
— С кем?!
— С женщиной, конечно, — ностальгия в душе Фаберовского стала быстро пропадать, сменяясь привычным раздражением.
— На англичанке он женился, — объявил Артемий Иванович, почувствовал, что угроза женитьбы на кривой и рябой девке миновала и что нужно поддержать товарища. — По безумной любви женился. Даже католичество свое похерил. Он теперь невесть какой веры, а ихней собственной английской.
В воздухе повисло грозное молчание. Фаберовский выругался про себя, что не догадался предупредить Артемия Ивановича, как вести себя в случае появления в разговоре такой щекотливой темы, как религия.
— Ноцовать будете в риге, — сказала наконец пани Лёньчинская и встала из-за стола.
— А полено в риге есть? — спросил Фаберовский.
— Зачем еще? — насторожился Артемий Иванович.
— Под голову положить.
— В сарае возьмешь, — сказала тетя Ханка. — А теперь убирайтесь. И больше на мои очи не показывайтесь! Ренегат!
Они покинули ригу пасмурным дождливым утром и, оставив Вапельна Пекло, быстро направились на восток, где речка Чарна, впадавшая у самой деревни в небольшое озерцо, преграждала им путь к лесу, на краю которого то там, то здесь виднелись в сыром мареве осеннего дождя фигуры вооруженных всадников. Спустившись к речке, Фаберовский решительно вошел в ее холодные воды и, преодолевая несильное течение, пошел к противоположному берегу. Артемий Иванович, убедившись, что поляку нигде на всем пути не было воды выше подмышек, поспешил за Фаберовским, перестав прикладывать к свежей шишке на лбу медный пятак.
* * *
Ежегодно 42-й митавский драгунский полк командировался под город Томашев для охраны лесов Спалы. Охранение заключалось в том, что все леса Спалы день и ночь были окружены цепью конных постов, коим строжайше вменялось в обязанность, не вступая ни в какие разговоры со всеми проходящими и проезжающими, направлять их на ближайшие пропускные посты, где дежурили разные особые административные чины, кои одни и ведали, кого и как надлежало пропускать.
Каждому драгунскому разъезду был определен свой участок, который они охраняли, перемещаясь вдоль него по двое. Одному из таких разъездов случилось как раз перекрывать участок на границе соснового леса, подходы к которому заросли мелким густым ельником и ольхой. Едва драгуны, беседуя друг с другом о качествах девок из деревенек Вапельна Пекло и Сук, что на берегу озера, проехали мимо группы елок, у них за спиной раздался громкий шепот:
— Пошел!
И две фигуры, пригибаясь, пересекли выбитую копытами драгунских лошадей черную полосу. Добежав до сосен, они с разбегу нырнули в поросшую кустами узкую сырую лощину и Артемий Иванович сказал Фаберовскому, тяжело пыхтя:
— Кажись, проскочивши.
— Теперь ползком с четверть версты по кустам вдоль этой лощины и можно будет встать.
— Попрошу не забываться! — зашипел Владимиров. — Я чиновник! Я самим государем…
— Тут в лесу любая палка вместо полена сгодится, пан Артемий, — был ему ответ.
— Ну, тогда ползем. А где царь будет охотиться?
— Если панна Цыбульская не наврала, то в половине двенадцатого вся кодла будет завтракать на берегу ручья в урочище Войцешек близ лесной усадьбы Коневки, где новый дворец великого князя Николая Николаевича. Затем император и маркиз Велепольский поедут охотиться с подъезда в дачи Коневка и Щурек, а часа через полтора наследник цесаревич и лица свиты направятся в парк, в зверинец.
— И далеко до твоей Коневки?
— Мы, пан Артемий, не к императору, мы пойдем в зверинец, чтобы встретиться с генералом Черевиным.
От внезапного крушения надежд встретиться с императором Артемий Иванович даже встал и Фаберовскому пришлось, дернув его за ноги, уронить обратно на землю.
— Если нас увидят драгуны, мы отправимся в Якутск, и пан Артемий уже никогда не увидит императора, разве что на портрете собственного письма, — зашипел поляк.
— Я больше не буду, — пообещал Владимиров и пополз по лощине.
Когда драгуны остались достаточно далеко позади, Фаберовский позволил Владимирову встать и повел его на берег Пилицы, в пределах видимости которой можно было идти, не боясь заблудиться в лесу в отстутствии компаса. Если бы не мелкий противный дождь и не мокрая одежда, то здешний лес показался бы им почти что раем. Редкие осинки алели листвой на фоне мелкого темно-зеленого ельника, по соснам прыгали, распушив хвосты, совершенно непуганые белки, взгляд то и дело натыкался в траве на крепкие шляпки белых грибов либо задерживался на красноголовых подосиновиках. Иногда в туманной дымке им являлся олень, гордо неся увенчанную рогами голову, а наверху, где-то в вершинах сосен, постукивал дятел.
Но для Владимирова и Фаберовского лес никак не был раем. Паутина липла к лицу, дождь застилал поляку очки и их приходилось то и дело протирать, а Артемий Иванович изнемогал без курева, которое он забыл вынуть из кармана, влезая в реку. Наконец поляк свернул в сторону и пошел по направлению перпендикулярно к Пилице. Спустя некоторое время они, осторожно оглядываясь, пересекли дорогу, шедшую между Спалой и Томашевым, и вновь углубились в лес. Раз где-то впереди раздалась беспорядочная стрельба, затем все смолкло, и они вновь продолжили свой путь в тишине.
В одном месте им пришлось перелезть через изгородь, которой, как объяснил поляк, был обнесен зверинец. Теперь на земле стали встречаться порои кабанов, содранный клыками дерн, ободранные сосны с пучками жесткой щетины. Стрельба больше не возобновлялась, видимо, егеря и лесничие повторяли облаву, чтобы выгнать опять кабанье стадо на линию стрелков. На берегу небольшого лесного ручейка Фаберовский остановился, и Владимиров тоже встал рядом, придвинувшись поближе. Он не любил лес так же, как и воду, да и кабанов побаивался тоже.
— Куда теперь? — спросил он у Фаберовского.
— Подождем, пока опять начнут стрелять, — сказал поляк и сел на землю.
— Боже, как я устал, — Владимиров с кряхтением повалился рядом и закатил глаза.
Оба они были мокрые по грудь, с небритыми рожами, немытые и голодные. Перекатившись на живот, поляк протянул руки к ручью и зачерпнул пригоршней воды.
— А драгуны нас здесь не найдут? — спросил Артемий Иванович.
Поляк вытер с губ воду и сказал, отдуваясь:
— Если пан Артемий не будет орать на весь лес, не найдут.
— Я могу вообще молчать, — обиделся тот.
— Вот и молчи, и не вздумай с Черевиным разговаривать, когда его найдем.
Артемий Иванович вытащил из кармана промокшие и слипшиеся в комок папиросы, посмотрел на них и выбросил вон. Это была та соломинка, которая переломила хребет несчастного верблюда, измученного за последние два месяца погонями, убийствами, голодом и сном в нечеловеческих условиях.
— Жил я без тебя, Степан, и в ус не дул, — медленно начал верблюд. — А как ты появился, так все псу под хвост пошло. Какие-то Потрошители, докторы Смиты, Якутски, Черевины! Я уже забыл, когда в постели ночевал! А теперь из-за тебя мне даже покурить нечего. Если бы у меня была тетка, я бы нашел способ ее приструнить! Да и ты сам хорош. Вера тебе не портянки, чтоб ее каждые десять лет менять! Но, но, ты что?!
Увидев, что поляк медленно приподнимается с земли, сжав в руке палку, Артемий Иванович вскочил, как ошпаренный и попятился прочь. Но накопившееся раздражение придало ему смелости.
— Степан, Степан, ты, пожалуйста, аккуратней, а то драгуны услышат. Ой, подожди, у тебя комар на лбу!
Поляк провел по лбу рукавом, и Артемий Иванович, воспользовавшись тем, что тот отвлекся на секунду, подскочил к Фаберовскому и сбил с него очки, тотчас же встав на них каблуком, и крутил ногой, пока не удостоверился, что стекло превратилось в крошево.
— Это мне показалось, или у тебя очки были? — спросил он, отбегая в сторону. — Ты где-то очки потерял.
Поляк сел на корточки и, близоруко щурясь, стал шарить по траве руками. Владимиров наблюдал за ним издалека, готовый в любой момент дать деру. Фаберовский нашел комок мятой золотой проволоки — все, что осталось от его очков, — и поднялся. Расплывающийся лес кругом и смутная человеческая фигура с розовым пятном вместо лица — больше он ничего не мог толком разглядеть.
— Я тебя убью, — сказал Фаберовский в сторону розового пятна.
— Слышали уже, — ответило пятно. — Очки протри сперва, четырехглазый.
Поляк бросился на обидчика и Артемий Иванович, не разбирая дороги, помчался прочь, улепетывая что было сил. Фаберовский бежал следом, ориентируясь на треск сучьев у него под ногами. Они бежали минут десять, Фаберовский уже начал задыхаться, а Владимиров впереди и вовсе сипел, как дырявый кузнечный мех, когда впереди раздался грохот выстрелов и тотчас лес огласился немецкой руганью:
— Убили! Убили! Хабен гетотен! Этот идиот отстрелил мне ногу! Доннерветтер!
Фаберовский не мог ничего разглядеть, кроме белого облака порохового дыма, расплывавшегося по лесу. Артемий Иванович бросился обратно к поляку и схватил его за руку:
— Там егеря, и охотники, и целое стадо кабанов!
— Идиот! — прошипел Фаберовский.
— Кабанов было штук тридцать, и секачи, и хрюшки с подсвинками, а тут они как пальнут!
— Заткнись и отвечай только на мои вопросы. Среди охотников есть царь?
— Нет, только наследник и генерал Черевин. И еще куча разного народа, императрица с какими-то дамами, все с ружьями, один валяется на траве и орет, а сам за колено держится, а другой с ружьем вокруг ходит и причитает.
Фаберовский и сам услышал, как немного картавящий голос оправдывался, обращаясь к раненному немцу:
— Но генерал, я вовсе не собирался в вас стрелять. Я стрелял в кабана, но тут подвернулись вы…
— Русский осел! — заорал раненый. — Найн, найн, не подпускайте его ко мне! Привезите мне профессора из Варшавы!
Затем раздался уже знакомый Владимирову голос цесаревича Николая:
— Бедный Вердер! Я вам так соболезную. Я готов подарить вам одного из своих десяти кабанов, лишь бы вы не кричали.
— Я не кричу, ваше высочество! Аааааа! Не трогайте мою ногу! Убирайтесь отсюда вон, Густав Иванович. Засуньте себе свое ружье в задницу, если не умеете стрелять!
— Дайте-ка сюда ружье, доктор Гирш, — сказал Черевин и отнял дробовик у незадачливого лейб-хирурга, который выстрелил, когда кабанье стадо, теснимое загонщиками, как раз прорывалась сквозь линию охотников, и вместо подсвинка угодил крупной картечью генерал-адъютанту германского императора Вердеру в ногу.
— Где Черевин? — спросил Фаберовский, безнадежно вглядываясь в неверный нерезкий мир вокруг него.
— Сюда идет. Ты что, курица слепая, вообще ничего не видишь? Ну, да ты не нервничай, я буду твоим поводырем.
— Эти немцы так дурно воспитаны! — услышал поляк приближающийся голос Черевина и разглядел группу людей, шедших прямо по направлению к ним. — Подумаешь, в ногу картечью попал! Не голову же отстрелил! А вы что тут делаете?
Этот вопрос относился уже непосредственно к поляку со Владимировым. Фаберовский показал Артемию Ивановичу за спиной кулак и обратился к той расплывчатой фигуре, которая показалась ему более всего похожей на начальника царской охраны:
— Я не мог не откликнуться на телеграмму пана Черевина. И вот мы с паном Владимировым тут.
— Давайте отойдем в сторону, — маленький Черевин взял обоих за рукава и отвел в сторону, где их не могли услышать ни егеря, ни члены свиты цесаревича. — Полагаю, что вы хотите получить деньги. А известно ли господам Фаберовскому и Владимирову, что в Петербурге уже многим известно о намечаемом покушении? И что виною тому господин Владимиров? Весь Петергоф болтает о подводном судне, с которого будет убит наследник на Ниле!
— А что я? Я был нем как рыба, — подобострастно встрял Артемий Иванович.
— Чудесная компания. Один нем как рыба, другой слеп как крот.
— Еще третий бывает глухарь, — услужливо подсказал Артемий Иванович и похолодел от испуга.
— Как? Почему на глухарей? — не расслышал Черевин. — На кабанов. На глухарей государь охотится редко, не царское это дело — тетеревиная охота. Но вы мне зубы не заговаривайте. Как вы проникли через оцепление?
— Видите ли, ваше превосходительство, — опять вмешался Владимиров, — поляк, раззява, очки куда-то задевал, вот сослепу и привел меня сюда.
— Вы понимаете, что стоит сейчас кому-либо на вас обратить внимание, и мне не останется ничего иного, как арестовать вас обоих и отправить в Якутск от греха подальше? Я уже жалею, что связался с такими болванами, как вы.
— Это не я болван, это поляк. Это он меня сюда из Парижа привез.
— А с чего вы в Париже вдруг оказались, когда я вас по всему Петергофу разыскивал?
Фаберовский понимал, что обострение отношений с начальником царской охраны может кончится для них катастрофично, поэтому, заглушил в душе гнев на своего компаньона и выступил на его защиту:
— Пан Владимиров был похищен агентами Рачковского, а когда на допросе он отказался что либо сказать, несмотря на пытки и избиения, — по знаку Фаберовского Артемий Иванович продемонстрировал Черевину свежую шишку на голове, — его отвезли в лес, чтобы избавится от опасного свидетеля. Но он бежал, убив агентку Заграничной агентуры. И теперь готов вновь положить свою никчемную жизнь на алтарь Отечества.
— Тихо! — вдруг оборвал поляка Черевин. — Сюда идет наследник. При нем ни слова. Говорить буду только я.
— Черевин, кто это? — спросил цесаревич, подходя ближе и указав на Артемия Ивановича стволом ружья, которое держал под мышкой.
— Чиновники из внутренней охраны, — ответил генерал.
Николай внимательно всмотрелся в лицо Владимирова, оценивающе окинул взглядом его потертый котелок, мятый пиджак, насквозь промокшие брюки и испачканные в земле ботинки с распущенными шнурками.
— Я где-то видел этого господина, — сказал цесаревич. — Подождите, сейчас вспомню… Точно, вспомнил! Я видел его в Александрии во время праздника в честь именин мама. Он был в хоре и вдруг начал прыгать. Зачем вы прыгали?
Черевин скривился, как от зубной боли, и рявкнул на Владимирова:
— Отвечать государю наследнику цесаревичу!
— Так точно, никак нет! — гаркнул Артемий Иванович, вытягивая руки по швам и выпячивая вперед свое, изрядно похудевшее, брюшко. — Мне было ничего не видно. Ура!
— Чтобы не нарушить спетого хора, — бросился на подмогу Черевин, — профессор Черни просил меня поставить нашего агента позади, но, к несчастью, впереди него оказались два рослых хориста и ему пришлось подпрыгивать, чтобы исполнять свой служебный долг.
— Как это интересно! — восхищенно сказал наследник. — Мне редко приходится замечать скромных тружеников нашей полиции, обеспечивающих безопасность нашей семьи. Скажите, а за границей вы тоже нас охраняете?
— Мы вас везде охраняем, — ответил Владимиров и снова крикнул «ура!».
— Черевин, скажите, а как его фамилия? Он кажется мне смышленым и деятельным человеком. Я попрошу отца, чтобы его назначили в мою охрану в кругосветном путешествии.
— Не стоит, ваше высочество, — сказал генерал. — Его долг — находиться тут, в России.
— Ура! — во всю глотку заорал Артемий Иванович. — Ура!! Ура!!!
— И все-таки я поговорю с отцом, Черевин. Мамá, я нашел еще одного надежного человека, который будет охранять нас с Георгием во время путешествия.
— Я не вижу человека, — сказала императрица. — Здесь только два оборванца. Твои пристрастия к сомнительным людям меня пугают, Ники. Сперва этот матрос, которого ты готов разве что не на руках носить, теперь какой-то бродяга с тупым лицом, безостановочно кричащий «Ура!». Ты должен следовать примеру своего отца, который умеет выбирать людей умных, а не тех, кто ему нравится.
Артемий Иванович снял котелок с головы и поклонился императрице в пояс.
— Передавайте, Марья Федоровна, привет от меня вашему супругу, — сказал он, выпрямляясь и расплываясь в счастливой улыбке.
По счастью, императрица не поняла его, а наследник, наоборот, был даже восхищен таким простонародным и непосредственным выражением любви простого охранника к его августейшему отцу. Но тут вдалеке раздались крики егерей и охотники поспешили на свои места на штреке — начался новый загон.
Черевин проводил его взглядом и спросил у поляка:
— Почему вас никто не заметил ни в одной из ближних к Спале деревень? Ничего не понимаю. Вы откуда шли?
— Из Пеклы, — сказал Артемий Иванович, надевая котелок.
— Кто там у нас в Пекле? — задумался Черевин. — По-моему, старая карга Лёньчинская. Ну, я ей задам! И как она могла вас просмотреть?
— Пани Лёньчинская приходится мне тетушкой, — сказал Фаберовский.
— Это она-то душка? Да такой карги по всей округе не сыщешь. Что же мне с вами делать? Все идет из рук вон плохо. Федосеев и Петербургская охранка благодаря болтливости господина Владимирова слышали о покушении. Наследник обратил на него внимание и запомнил. Мне кажется, по вам все-таки плачет Якутск.
— Ваше превосходительство, это была случайность, я уверен! — заговорил поляк с удвоенным жаром. — Пан Владимиров действительно смышлен и очень способен. Уверен, что информация о подводной лодке просочилась не по его вине. Я еще не спрашивал у него, но, вполне возможно, его ослабленный якутской ссылкой организм не сумел противостоять какой-нибудь горячке и тот, кто ухаживал за ним, услышал что-то, произнесенное в бреду.
— Да-да, это был совершеннейший бред, — подтвердил Артемий Иванович. — Я тут ни при чем. Обычная горячка ослабленного организма. Полный бред. Я молчал как рыба. Можно, я больше не поеду в Якутск, а?
— Готов поручиться, ваше превосходительство, что все пройдет как по маслу. Слухи, гулявшие по Петергофу, не более чем слухи. О них уже забыли. Пана Владимирова там больше не увидят. Да и наследник никогда больше его не увидит, ведь мы будем атаковать его из-под воды. Вы должны нам поверить. Отправить нас до Якутску несложно, но вы потеряете драгоценное время, упустите, быть может, единственную возможность спасти Россию и династию. У вас уже нет времени заменить нас в вашем плане.
— У меня даже нет времени тут с вами разговаривать! — сказал Черевин, снимая ружье с плеча. — Сейчас начнется следующий загон, а мое место по левую руку от императрицы.
— Я хотел только сказать, ваше превосходительство, что мы с паном Владимировым уже предприняли серьезные шаги по пути сюда к подготовке к операции.
— Как? Кастрация? Но зачем вам кастрация? — не понял Черевин.
— Я пана Владимирова среди евнухов в каком-нибудь гареме в Каире прятать буду.
— Вы что, очумели оба? Хорошо, что я вам денег не успел дать.
— Холера ясная! — рассердился поляк. — Я ему про Фому, а он мне про Ерему!
— Никаких сообщников! И Еремина не надо. Так и быть, я дам вам денег, но не вмешивайте больше сюда никого!
— Мы встретились в Париже с изобретателем подводного аппарата паном Джевецким… — сказал Фаберовский, сдерживая раздражение.
— Да, на Эйфелевой башне, — подтвердил Артемий Иванович. — Такую высоченную отстроил, просто страсть.
— Да, кстати, а куда делась башня, которую вы построили в Бобыльском? — вдруг спросил у Владимирова Черевин.
— Да кто ж ее знает! — пожал плечами Артемий Иванович. — Я ее сам в глаза не видел. Врут все, наверное. Есть же такие люди, что соврут — не дорого возьмут. Совсем бесстыжие. А сколько вы нам отвалите на первое обзаведение, ваше превосходительство?
Фаберовский резко одернул за полу пиджака Владимирова и вновь взял слово.
— Мы обговорили с Джевецким нюансы управления аппаратом под водой, а кроме того, договорились об аренде имеющегося в его личном распоряжении аппарата с электрическим двигателем.
— Зачем вам еще один аппарат?
— Мало ли, что может случится. Русская таможня не выпустит подводную лодку за границу, египетская таможня не позволит русскому кораблю ввезти такое потайное судно на свою территорию. В конечном счете, может нам вовсе не удастся получить его в Инженерном ведомстве или Морском министерстве.
— Об этом не беспокойтесь. В середине сентября в Севастополе побывал управляющий морским министерством Чихачев. По моей просьбе он должен был договориться насчет лодки.
— Но вы поймите: если у нас будут две лодки, мы можем расставить их в разных точках пути наследника, с тем чтобы гарантировать успех.
— Черт, наследник уже машет мне рукой! Вы мне оба очень не нравитесь с некоторых пор, но времени действительно осталось слишком мало, чтобы что-то менять. Я соглашусь даже приобрести в аренду у Джевецкого его личную лодку. Второй экземпляр вы должны будете забрать из Севастополя в ближайшее время и отправить его из Одессы в Александрию. Забирать лодку следует в воскресенье, когда большая часть начальства в порту отсутствует. Вечером я заеду к Лёньчинской, будьте там — я передам вам деньги. И учтите — с цесаревичем поедет мой доверенный человек, урядник Стопроценко. Он будет по мере возможности помогать вам и доносить обо всем мне. Через него же я буду держать с вами связь в Египте, если понадобится. Но коли случится такое дело, что вы захотите предать меня или улизнуть в самый ответственный момент, он позаботится, чтобы вы никуда не делись и были достойно похоронены на одном из коптских кладбищ в Каире.
Глава 14. Одесса
6 октября (?), понедельник
Вечером в понедельник 6 октября Владимиров с полученными от Черевина деньгами прибыл по Варшавско-Тираспольской железной дороге в Одессу и поселился в «Лондонской гостинице». Хотя поезд прибыл утром и у Артемия Ивановича было время сходить на море и прогуляться по городу, однако он решился покинуть номер только следующим днем, когда синяк под правым глазом, полученный в доме пани Лёньчинской, стал не так заметен. К тому же, он должен был, наконец, выспаться.
Поболтавшись по Дерибасовской и Ришельевской, мимо пустых террас кафе, завешенных сухими плетьми плюща, и вдоволь наглазевшись на выставленную в огромных зеркальных окнах дорогих магазинов японскую и китайскую фарфоровую посуду, на яркие призывные щиты табачных лавок и лакированные черные табакерки с цветными картинками на крышке на прилавках, на россыпи карманных часов в витринах часовых мастерских и обилие экзотических кокосов, ананасов и мангустанов у продавцов фруктов, Артемий Иванович зашел в аптекарско-косметический магазин Боссе, здесь же на Ришельевской, чтобы купить поляку очки. Совесть редко просыпалась у Артемия Ивановича, но во время поездки по железной дороге у него было время подумать и что-то она его замучила. Он вышел из магазина, нагруженный очками, потому что не знал, какие стекла нужны Фаберовскому, а на деньги можно было не скупиться и он купил каждого вида очков по несколько пар с разными оправами. Кроме того, он купил в подарок Эстер вращающуюся щетку для зубов «Ротифер», которую тут же сломал у себя во рту, и очень рекламируемый «Одесским листком» «Купрессин», средство для укрепления волос и уничтожения перхоти К.К.Боссе, причем назначение средства он понял неправильно, решив, что оно не от перхоти, а от похоти.
Потом он опять бродил по городу, пил водку в кабаках и даже участвовал во встрече православным священством и зеваками у входа в Крестовскую церковь чудотворной иконы Касперовской божьей матери, которую доставил в Одессу херсонский пароход.
Под вечер в Одессе разыгралась сильная буря и Артемий Иванович пошел посмотреть, как будут тонуть в море пароходы. Пароходы не тонули, но, как сказал какой-то господинчик, пришедший на Приморскую улицу с теми же целями, на Ажарской косе можно было увидеть в подзорную трубу паровую яхту «Эриклик», севшую там на мель. К сожалению, николаевское адмиралтейство зафрахтовало землечерпальную машину, которая прорыла на косе довольно глубокий канал, и вчера самый сильный в Одесском порту ледовый буксирный пароход «Полезный» ходил снимать яхту с мели. Это ему не удалось, но, как утверждал господинчик, завтра ее обязательно стащат.
Про «Эриклик» Артемий Иванович что-то недавно слышал или читал, поэтому подарил господинчику очки и отправился в гостиницу. Следующий день он провел также бесцельно, болтаясь по городу и ничего не делая. Вечером, сидя в номере, он раскрыл «Одесский листок» и обнаружил, что накануне в Одессу по железной дороге прибыла судовая команда Балтийского флота, состоящая из шестидесяти человек нижних чинов, назначенных на броненосный фрегат «Владимир Мономах», находящийся в Пирее. Со слов Черевина Артемий Иванович знал, что «Владимир Мономах» должен будет присоединится к «Памяти Азова», и потому утром отправился в Карантинную гавань, чтобы выяснить, нельзя ли будет вместе с матросами переслать на фрегат лодку, чтобы ее затем доставили прямо в Египет. Так было бы и быстрее, да и денег можно было бы сэкономить.
Суетливая Карантинная гавань встретила его резким запахом камня, угля и железа, который забивался едкой вонью нечистот, хлорной извести и карболки, исходившей от каменных нужников при входах на молы. Свистели маневровые паровозы, подтаскивая по рельсам вагоны с углем, с эстакады прямо из вагонов грузился на несколько иностранных пароходов хлеб.
Полуголые грузчики-турки в широких штанах и грязных фесках грузили товар на выстроившиеся вдоль набережной, кормой к берегу, плоские широкозадые фелюки с косыми парусам и под греческими и турецкими флагами. С привалившихся между Карантином и волнорезом иностранных пароходов, резко отличавшихся от аляпавато и ярко раскрашенных парусников своими огромными серыми либо черными корпусами, доносилась русская ругань и отчаянные крики «Майна! Майна! Хабарда!»
* * *
Памятуя наказ Черевина забрать лодку непременно в воскресенье, Артемий Иванович наметил выезд в Севастополь на субботу. Пароходы в Египет ходили из Одессы не слишком-то часто, поэтому субботним утром, явившись в порт, он первым делом направил свои стопы в Карантинную гавань узнать о ближайшем рейсе на Александрию. Весь город был убран флагами, играла музыка, что очень смутило Владимирова и, когда он не сумел пробиться к Карантинному трапу через толпу одесситов, восторженно кричавших «Ура!», то поспешил укрыться в погребке. Здесь он заказал себе скумбрии и кварту дешевого красного вина за двадцать копеек, решив переждать, когда страсти из-за его отъезда утихнут.
Он успел уже изрядно нагрузиться, когда внезапно кто-то схватил его за рукав. Владимиров обернулся и оказался лицом к лицу с Курашкиным в матросской форме.
— Господин Гурин? От не чекав встретыть вас в Одессе!
— Да и я тоже не чаял тебя тут видеть, — проговорил Артемий Иванович, силясь попасть вилкой в двоящуюся скумбрию. — Они там уже кончили мне «ура» кричать?
— Так хиба ж це вам воны крычать, господин Гурин?! Проспись! Ты що, велыкий князь?
— Нет, мы не родственники. Моя матушка с царями себе ничего такого не дозволяла. А что, они решили, что я великий князь?
— Це велыкий князь Михаил Мыколович с жинкою и сыном на вокзал прыбули та зараз до порта направляються, где сядуть на пароход «Князь Потемкын». Зовсим очи залил, чи що?
— Послушай, Курашкин, чего ты ко мне пристал? — капризно сказал Артемий Иванович и долил себе в стакан остаток водки в графине. — Тебе очки надо, чи що?
— Яки очки? — поднял брови Курашкин.
— Начальству втирать, — Артемий Иванович загоготал и заказал еще графин водки.
— Так вы тепер що, по комерцийной части? — спросил матрос, сглатывая слюну. — Торгуете, так сказаты, аптекарськыми товарами?
— Да какой из меня коммерсант! — Владимиров хлопнул стаканчик и удовлетворенно крякнул. — Хотел тут с вами лодку за границу отправить, так не взяли. Может, подсобишь?
— Уж не про пидводну чи лодку вы говорыти?
— А где ты другие-то видал!
— Так давайте же ее скорейше. А то мы сьогодни уходым до Смырны на пароходе «Лазарев». Разом с нами иде на место свого служиння русский военный агент в Афинах полковнык Генштабу Рауш фон Траубенберг, вин ждати не буде.
— Ха! Тебе отдать! Да как же я ее тебе отдам, когда в ей, может, на тыщу пудов, да и той у меня нет?
— Може, отхлебнуть дадыте хоча бы? — кадык на тощей шее Курашкина перекатился на верх под самый подбородок и съехал обратно в воротник.
— Чего уставился? — закричал на него Артемий Иванович. — Очков у тебя нет? Вот и катись отсюдова! Тут подают только интеллигентным людям! В очках или, как у меня, в пенсне.
12 октября, воскресенье
Действительный статский советник Селиверстов слез с извозчика у здания градоначальства и вошел в парадный подъезд. Было еще достаточно рано, да и воскресенье было днем неприсутственным, так что дверь ему открыл дежурный жандарм. Приняв у Селиверстова шинель и шляпу, жандарм повесил их на вешалку и повернулся, чтобы проводить генерала в помещения Петербургского охранного отделения, где его уже с нетерпением ждали. Но Селиверстов уже сам поднимался по лестнице, и сзади его вицмундира с опушкой Ведомства императрицы Марии был приделан пышный бант из ленты, которой в обычных условиях дамы подвязывают чулки.
— Чего вам засвербило так рано встречаться? — с порога спросил Селиверстов у ожидавших его Федосеева и Секеринского.
— Неужели вам не хватило времени этой ночью? — спросил Федосеев.
— Я всю ночь работал. Писал мемуары.
— Ленточки муаровы, пишем мемуары мы, — хмыкнул полковник Секеринский. — У вас в заду подвязка от чулок. Полагаю, вы привязывали ею себя к стулу, чтобы не упасть, если заснете за столом?
Генерал побагровел от смущения и оторвал подвязку вместе с форменной пуговицей, к которой та была привязана. Пуговица ударилась в стену, отскочила и запрыгала по полу.
— Ротмистр! — высунулся в коридор Секеринский. — Принесите кофе его превосходительству.
Он закрыл дверь и добавил, глядя на старого ловеласа:
— Он всю ночь хреном мемуары писал.
— Если вы пригласили меня для того, чтобы поиздеваться надо мной, я немедленно уеду! — рассердился Селиверстов.
— Погодите, ваше превосходительство, — сказал Федосеев. — Разве мы оторвали бы вас от такого важного дела, не будь у нас на то серьезных причин.
— Вы уже знаете, что его превосходительство директор Департамента Петр Николаевич Дурново поручил организацию охраны наследника цесаревича во время его кругосветного путешествия, на пути через Европу до Египта, Петербургскому охранному отделению и лично мне? — спросил Секеринский, принимая серьезный вид. — Я получил его указания в пятницу. И вдруг вчера вечером из Одессы поступила срочная депеша от нашего секретного сотрудника, направлявшегося на «Память Азова» вместе со сменой нижних чинов для «Владимира Мономаха».
— Ну и что? Какое я имею отношение к охране наследника?
— Вы, ваше превосходительство, имеете прямое отношение к человеку, о котором сообщается в депеше.
— Что?! Нет! Не может быть!
— Вот что в ней написано: «Ныне в Одессе обретается господин Гурин, каковой собирается направить подводную лодку в Египет. Тарас».
— Все складывается одно к одному, — сказал Федосеев. — Мы добиваемся возвращения Фаберовского и Гурина, он же Владимиров, из Якутска в Петербург, чтобы устроить процесс против Рачковского. Внезапно оба они бесследно исчезают. Затем по Петергофу начинают распространятся слухи о готовящемся покушении на наследника во время его поездки по Нилу, источником которых, как мы устанавливаем, является все тот же Гурин. Но когда мы отправляем полицейскую стражу и городовых арестовать Гурина, он бежит вместе с неким субъектом, в котором один из городовых узнает своего бывшего околоточного надзирателя Продеуса. Который, как нам удалось узнать, является агентом наружного наблюдения у Рачковского в Париже. Теперь Гурин объявляется уже в Одессе, откуда отправляют нижних чинов на корабль сопровождения, и вновь ведет какие-то разговоры о лодке: на этот раз о ее отправке в Египет. За всем этим чувствуется умелая рука Рачковского. Но мы не знаем, чего добивается Рачковский.
Секеринский раскрыл папку:
— Только что пришел ответ на мой запрос от начальника губернского жандармского управления Одессы генерал-майора Цугаловского, что господин под фамилией Владимиров, соответствующий присланным нами приметам, проживал до субботы в течении пяти дней в гостинице «Лондон», после чего исчез, не забрав вещи и не расплатившись за нумер, в неизвестном направлении. Также удалось установить, что он скупил партию очков в количестве шести десятков, в известной аптеке на Ришельевской улице.
— Боже мой, они нас опередили! — воскликнул Селиверстов. — Я знаю, зачем ему столько очков!
— ???
— Чтобы маскировать свою внешность. Гурин был внутренним агентом у Рачковского и прекрасно умеет это делать. Он не по зубам провинциальным жандармским олухам.
— Ленточку к своему вицмундиру вы тоже, полагаю, прицепили для маскировки? — съехидничал Федосеев.
— Я не маскировался, даже когда была жива моя жена! — заявил Селиверстов. — И вы зря смеетесь. Я положительно уверен, что Рачковский задумал заговор из прежних своих революционных настроений, каковые были у него во времена моего начальства Третьим Отделением, и решил использовать своих прежних сотрудников, бывшего студента Владимирова и такую сомнительную личность как Фаберовского, который ни одно порученное ему дело не мог толком исполнить, а пенсию от Департамента полиции, наверное, до сих пор получает!
— Мне кажется, вы преувеличивает, Николай Дмитриевич, — сказал Федосеев. — Рачковский — интриган, но никак не революционер. Мне кажется, что он, прознав про наши с вами планы в отношении процесса и про вызов нами двух его бывших сотрудников из Якутска, решил обратить их приезд против нас. Возможно, он загладил пред ними свою вину за то, что направил их в Якутск, выплатив им значительную сумму денег. Тогда, убив при помощи этих двоих наследника во время путешествия, когда именно полковнику поручено охранять цесаревича, Рачковский сможет выставить нас перед государем и Дурново в дурном свете. Получится, что это мы задумали злодейство, доказательством чего будет служить вызванные по нашему настоянию Владимирова и поляк. Мы должны немедленно донести обо всем его превосходительству директору Департамента.
— Господа, вы очумели! — вмешался Секеринский. — Ведь речь-то идет не о том, чтобы просто застрелить наследника или бросить в него бомбу, а о том, чтобы утопить его во время путешествия по Нилу с подводной лодки. Причем вывезти эту лодку из России, где их отродясь не было!
— Но Петр Васильевич, помилуйте! Наверняка какие-нибудь и у нас были. Я тут читал статью в «Русском инвалиде»…
— Я тоже читал эту статью, Николай Дмитриевич. Но там говорится об иностранных лодках. И ни слова о русских.
— Потому что про наши лодки все засекречено. И потом, Рачковский мог по иностранным образцам заказать лодку в какой-нибудь мастерской в Одессе.
— А тридцать пар очков Владимирову понадобились, чтобы сделать на лодке окошки и любоваться рыбками. Вы мне скажите, откуда Рачковскому взять такие деньги на постройку лодки? Сама идея покушения с подводной лодки на Ниле, где вода, как известно, мутная и непрозрачная, абсурдна и практически неосуществима. Рачковский не кажется мне таким дураком, который может потратить львиную долю выделяемых ему Департаментом средств на столь сомнительное по результатам предприятие. Такое могло прийти в голову только Николаю Дмитриевичу.
— Что вы имеете в виду? — спросил Селиверстов, усмотрев в словах полковника скрытый намек.
— Мы тут все люди не бедные, но только вы, Николай Дмитриевич, при вашем громадном состоянии, можете на свои средства построить подводную лодку, неважно, будет она потом плавать или нет. Я уверен, что Рачковский и не помышляет в действительности устраивать настоящего покушения. Если мы не предпримем сейчас меры, он выставит нас безответственными тунеядцами, которые, зная о грозящей опасности, не предприняли мер. А если мы забьем сейчас тревогу, то он выставит нас идиотами, поверившими бабьим сказкам на Петергофском рынке.
— Ну, а Гурин? — злорадно усмехнулся Селиверстов. — Что вы скажете про Гурина?
— Не имел чести быть с ним знакомым, но из того, что слышал о нем, могу сказать, что ваш Гурин ровным счетом ничего из себя не представляет.
— Не представляет? — Селиверстов по-бабьи упер кулаки в бока. — Сейчас я вам расскажу о нем кое-что. Во-первых, надворный советник Стельмах лишился практически своей дачи, а сам попал в заведение для душевных больных на Пряжке. Во-вторых, советница Стельмах, его супруга, и обе его дочери вынуждены лечить нервное расстройство из-за пережитого потрясения. В-третьих, пожарный Ораниенбаумской бранд-команды Жилкин вот уже второй месяц воображает себя русалкой и требует обливать себя водой из пожарной машины, чтобы у него не шелушилась чешуя на хвосте. Да плюс еще городовой, которого за голову втащили внутрь дачи Стельмаха и который годится теперь только для инвалидной команды. В-четвертых, великий композитор Рубинштейн хитростью господина Гурина лишился своего пальто а теперь вынужден давать показания полиции, которая по просьбе своих коллег выясняет, каким образом его пальто могло оказаться на берегу лесного озера под Парижем, где было совершено зверское убийство Шарлотты де Бельфор! Бедная Шарлотта!
— И попугай сдох, — грустно добавил Федосеев. — Кстати, полковник, в отношении способностей Гурина и его подельщика я солидарен с мнением Николая Дмитриевича. Если вы читали протоколы их показаний, копии которых я вам пересылал, то могли бы усмотреть из них, что они успешно выполнили поручение Рачковского в Лондоне и, убив пятерых проституток, добились снятия Уоррена с поста комиссара полиции, причем сами так и не были обнаружены.
— Ну, не знаю.
— Вы, Петр Васильевич, правы в одном: если мы сейчас пойдем к Дурново со своими воображениями о лодке и о планируемом с нее покушении на Ниле, он нас просто засмеет.
— А если это не воображения, как вы изволили сказать?! — спросил Селиверстов. — Если заговор действительно существует? Отечество тогда не простит нам преступной небрежности! Я не собираюсь рисковать всем своим состоянием!
— Я думаю, — подытожил Федосеев, — что докладывать нам не стоит, а все зависящие от нас меры предосторожности следует обеспечить. А то как бы чего не вышло.
— Вы меня убедили. Почти. В понедельник я войду с отношением к генералу Шебеко, чтобы он дал указание Одесскому жандармскому управлению установить надзор за всеми грузами, отправляемыми из Одессы судами александрийского рейса.
Глава 15. Предсвадебные хлопоты
Последние пару лет Фаберовский имел довольно скверное отношение к окружающей его жизни, которое проще всего можно было бы выразить словами: «Глаза б на нее не глядели». После подлого поступка Артемия Ивановича с его очками в Спале он и впрямь перестал на эту мерзкую жизнь глядеть. А чего на нее глядеть, если все равно ничего не видно! Сидя в купе дуврского почтового, Фаберовский размышлял о невидимой, или, точнее сказать, о нерезкой жизни, которая выкинула очередной фортель. Вместо того, чтобы отговорить Черевина от безумного плана покончить с наследником русского престола, ему пришлось настаивать на том, чтобы начальник царской охраны не переменил своих планов и не отказался сотрудничать с ними в этой сумасшедшей затее. А потом он был вынужден отправить Артемия Ивановича одного в Одессу с деньгами покупать лодку!
По правде говоря, было ясно с самого начала, что ничего у Артемия Ивановича не выйдет, хотя бы потому, что получив от поляка внушительную сумму, он тут же купил из соображений милосердия и благотворительности у родной тетки Фаберовского сарай в Вапельно Пекло с охапкой сена, чтобы пани Цыбульская могла там принимать своих кавалеров, паче вдруг такие образуются. Кроме того, Артемий Иванович купил у панов Цыбульских поросенка, оплатив заранее его проезд для Лондона, и длинную, сажен в пять, голубую ленту, которой поляк должен был обмотать указанного поросенка, прежде чем вручить бесценной Эстер. Этот поросенок, уже в виде молочной поросятинки, в которую превратился еще в Варшаве, ехал в котомке поляка, где кроме поросенка лежали также несколько веток из траурного венка с пекловского кладбища с засохшими цветами и огромный размокший гриб, завернутый в нумер «Варшавского дневника» — все, что Артемий Иванович на скорую руку насобирал в подарок своей Дульцинее.
Уверенность в том, что Владимиров не справится со своей задачей, даже грела душу Фаберовского, ибо он надеялся, что тот либо попадется в полицию и его сошлют куда-нибудь подальше, либо Артемий Иванович вовсе сгинет каким иным способом. А Черевину поляк купит лодку у Джевецкого и сделает все с Батчелором на пару.
В отличие от Владимирова поляка на пути из Спалы совесть не мучила. Она не проснулась ни тогда, когда он выбрасывал на вокзале Виктория гриб с венком, ни когда дома обрадованная его возвращением Розмари приготовила из подарочного поросенка отменный обед. Деловая телеграмма от Черевина, пришедшая во время пятичасового чая, и гласившая: «Товар будет привезен в Петербург 2/14 октября и отправлен к вам 25 октября/6 ноября. Встречайте в Каире в 20 числах ноября по вашему стилю», только укрепила Фаберовского в надежде, что Владимирова он больше не увидит.
Не выходя из-за стола, он составил две телеграммы, заодно попросив почтальона отправить их. Первая телеграмма предназначалась невесте и извещала Пенелопу о возвращении ее жениха и о его намерении посетить ее этим вечером. Вторая телеграмма должна была уйти в никуда, в Одессу: по их договоренности Артемий Иванович должен был раз в три дня ходить на почту и справляться о телеграммах на имя мистера Смита — такую фамилию пожелал взять сам Артемий Иванович в честь своей ненаглядной. В телеграмме говорилось, что встреча назначается на полдень 27 октября по Григорианскому стилю, в понедельник, в Венеции на площади Св. Марка. Такой срок — до выезда наследника цесаревича из Петербурга останется одна неделя — поляк счел достаточным, чтобы убедиться в окончательном исчезновении Владимирова и взяться за дело уже самому, не боясь помех от своего непутевого компаньона.
Время шло, и чем ближе стрелка старых часов на стене в гостиной подходила к семи часам, тем меньше Фаберовскому хотелось покидать дом и ехать к Пенелопе. Не то, чтобы ему не хотелось видеть ее, даже наоборот, он с удивлением обнаружил, что соскучился по ней, но ему страшно не хотелось встречаться с доктором Смитом и его женой. К тому же аромат свиного жаркого, доносившейся с кухни, словно липкая паутина, обволакивал его, приковывая к креслу.
«До дьяблу! — вскочил он наконец с кресла и решительно направился в кабинет, чтобы переодеться для визита на Харли-стрит. — Нельзя же окончательно превращаться в пана Артемия!»
Требовательный звонок остановил его на полпути наверх. Перегнувшись через перила, он с интересом прислушался к разговору, который вполголоса вел Батчелор с пришедшим. Может быть судьба улыбнулась ему и Пенелопа сама приехала сюда, избавив его тем самым от необходимости свидания с доктором Смитом и миссис Эстер Смит?
— Мистер Фейберовский, — Батчелор вошел в гостиную и, обратив лицо наверх к поляку, доложил растерянно: — К вам доктор Смит.
«Стоило мне только поступить по гурински, как судьба мгновенно наказала меня! — подумал поляк, медленно спускаясь по винтовой лестнице вниз. — А вот пана Артемия она не наказывает никогда! Теперь доктор Смит еще и моего поросенка сожрет.»
— Не соизволите ли вы ответить мне, как вашему будущему тестю, где вы шлялись последние дни, дрянь паршивая? Вы были в Варшаве? Я так и думал! А в Брюсселе? Значит, были. Вот что я вам скажу, мистер Фейберовский: вы подлец и негодяй. Вы специально ездили на континент, чтобы бомбардировать оттуда мою жену бесстыдными телеграммами от имени вашего Гурина с целью разрушить мой и так уже пошатнувшийся благодаря вам брак.
— Хорошо сказано, доктор Смит, — похвалил гостя Фаберовский. — Но вы не допускаете, что телеграммы вашей жене посылал сам мистер Гурин?
— Не допускаю ни на минуту! Я раскрыл ваши гнусные шашни! Вы специально перед отъездом на континент завели разговор о Гурине, чтобы напомнить о его существовании моей несчастной, тронувшейся умом жене. А о настоящем Гурине вот уже два года нет никаких известий, потому что, — я уверен, — он пребывает в тюрьме или психушке, если только не сдох и не покоится на кладбище для бедных в какой-нибудь номерной могиле.
— Должен вас огорчить, доктор. Мистер Гурин жив и даже прислал вашей супруге поросенка, которого, однако, я ей не отдам.
— Это еще почему?!
— Исключительно из желания сохранить мир и спокойствие в вашей семье.
— Какой, к дьяволу, мир! Из-за этих телеграмм я сегодня вдрызг разругался с женой и дочкой, так что мне пришлось запереть их дома!
— Так вы бежали из дома, заперев там свое семейство? Оригинальный ход. На вашем месте я бы выгнал их. Но раз уж так получилось, приглашаю вас к столу. Выпьем коньячку, а там и поросенок поспеет. Розмари приготовила его по моему рецепту, как готовят у нас в Вапельна Пекло, с хреном.
— Если бы вы знали, мистер Фейберовский, как мне стало тошно жить с тех пор, как вы познакомили нас с Гуриным. Мне не стало покоя на этом свете. Мой вам совет: бегите. Бегите, пока не поздно, пока цепи брака не сковали вас по рукам и ногам неподъемными кандалами, разорвать которые не под силу цивилизованному человеку.
— Давайте вместе с вами поедем в Центральную Африку, по следам Стэнли и Ливингстона. Станем миссионерами, вы будете калечить больных туземцев, составляя конкуренцию местным колдунам, а я нести дремучим аборигенам слово Божье и прочую подходящую случаю околесицу.
— Я согласен, но сперва женитесь на моей дочери, чтобы я мог быть уверен, что она будет получать хотя бы пенсию после вашей смерти в желудках каких-нибудь черномазых каннибалов, которую станет выплачивать ей Миссионерское общество. Черт побери, что за жизнь! Моим зятем становится Джек-Потрошитель…
— Вы сгущаете краски, доктор.
— …Джек Потрошитель, которого я почти отправил на виселицу. Против воли он отобрал у меня единственную дочь, а в итоге его дом становится единственным местом в Лондоне, где я могу укрыться от своего семейства и поплакаться кому-то в жилетку! Да, я, быть может, скверный врач и мои пациенты дохнут значительно чаще, чем следует. Но при чем тут моя личная жизнь? Все пошло наперекосяк. Жене я не нужен, дочь выходит замуж. Скажите, что мне делать, мистер Фейберовский?
— Как ваш будущий зять, смею подать вам хоть и жестокий, но очень действенный совет. Вот вы работаете в Королевской больнице грудных болезней. Как вы боретесь с запущенными формами чахотки?
— Существуют новейшие методы, позволяющие хирургическим путем удалить пораженную часть легкого.
— Не думаю, что больному это приятно, но в итоге он все-таки остается жить. Так вот. Чтобы вернуть расположение вашей жены, предлагаю вам дать ей возможность провести наедине с Гуриным не несколько дней, как это было полтора года назад, а пару недель.
— Но это невозможно!
— Пересильте себя, и уже через неделю миссис Смит приползет к вам на коленях, умоляя взять обратно, если только не лишится дара речи от постоянного общения с мистером Гуриным.
— То, что вы говорите, чудовищно!
— Уверяю вас, после небольшого курса лечения в какой-нибудь частной психиатрической лечебнице вы получите самую тихую, самую преданную и самую любящую жену по эту сторону пролива.
— Я лучше убью его.
— Доктор Смит, — с сожалением сказал Фаберовский. — Вы слишком самонадеянны. Боюсь, что если вы решитесь покончить с Гуриным, уже не вашу жену, а вас самого ждет психиатрическая лечебница, причем не краткий курс в ней, а пожизненное заключение.
— И дьявол же меня дернул жениться во второй раз, да еще на молодой женщине! Я не понимаю, мистер Фейберовский, как вы могли хотеть оказаться в гареме. Ведь там десятки, сотни женщин, и каждая со своим норовом, и каждой нужен мужчина, а не вы или ваши евнухи. Уж лучше сразу повеситься.
— Ну что вы, доктор Смит, то была неудачная шутка. Гаремы — это нецивилизованно и негигиенично. Я прочитал в газете, что даже мормоны на бывшем 6 октября в Солт-Лейк-Сити совещании решили отменить многоженство согласно «Манифесту» Вудруфа от 12 сентября. Мне ли тогда стремится к многоженству?! Я даже к своей единственной невесте сегодня не сумел добраться, вместо этого сижу тут и вместе с вами поедаю поросенка, посланного мистером Гуриным вашей жене. Как неудобно все получилось.
— В самом деле, — сказал доктор Смит, с отвращением выплевывая недожеванный кусок свинины. — Неудобно.
И тут Фаберовский действительно почувствовал себя неудобно.
«Эта гадина Владимиров сумел добиться даже того, что я чувствую себя перед ним виноватым, — подумал поляк. — Теперь этот поросенок просто не полезет мне в горло».
Он отложил в сторону вилку с насаженным на нее куском свинины и переключился на другие блюда, украшавшие стол. Доктор Смит тоже отверг поросятину и налил им обоим виски. Постепенно беседа приняла совершенно мирный и светский характер. Со временем разговор даже съехал на политику и они едва не поссорились, обсуждая взгляды доктора Смита на вопрос о передаче Гельголанда Германии в обмен на Занзибарские владения в Центральной Африке. Спору не суждено было разгореться, так как он был прерван внезапным явлением доктора Энтони Гримбла, нагло ворвавшегося в дом.
— Отвечайте, Фейберовский, — заорал Гримбл, не узнавая доктора Смита, сидевшего к нему спиной. — У вас есть ключи от дома вашего тестя?
— Порядочные джентльмены сперва здороваются, — заметил поляк. — А что вам нужно в доме моего тестя?
— Он запер Пенелопу и миссис Смит, а сам куда-то постыдно удрал. Бедные женщины не могут даже поговорить со мною не через дверь.
— Полагаю, они скорее счастливы, что дверь отделяет их от вас, доктор Гримбл. К сожалению, Батчелор не запер дверь после прихода доктора Смита.
— А, так вы здесь, доктор! — взвился Гримбл и подскочил к Смиту, потеряв на ходу монокль из глаза. — Немедленно отдавайте ключи.
— Может быть джентльмены хотят, чтобы я выкинул этого субъекта? — спросил Батчелор, появляясь в дверях гостиной.
Оба джентльмена молча кивнули головами и в тот же миг Гримбл отправился на улицу, распахнув собою дверь и пробежав по грязной мокрой дорожке от крыльца до калитки на четвереньках, а семейная идиллия была продолжена. Когда уже под полночь доктор Смит собрался уезжать, перед тем, как надеть пальто, он наклонился к уху поляка и сердечным отеческим тоном сказал:
— Мы с Пенни будем счастливы видеть вас завтра у себя к обеду. Но о поросенке — молчок!
* * *
Обед, на который доктор Смит пригласил Фаберовского, так и не состоялся, хотя тот честно приехал в указанное время. Доктор Смит уехал к пациенту, к тому же, по уверению мисс Какссон, он утром так поносил мистера Фейберовского и его дружка Гурина, что ни о каком торжественном обеде и речи не могло быть. Но поляк был уверен, что все выйдет именно таким образом, поэтому вовсе не расстроился.
— Мы все были очень огорчены, мистер Фейберовский, когда ваша невеста, мисс Пенелопа, сняла после вашего отъезда на континент подаренное вами на вашу помолвку кольцо и сказала, что больше никогда не оденет его, потому что вы никогда больше не вернетесь. Вы бы видели зато мисс Пенелопу, когда пришла ваша телеграмма. Как она была рада! Обратите внимание, ваше кольцо опять у нее на пальце. Вчера вечером она даже танцевала сама с собою, пока доктор Смит не устроил отвратительную сцену своей жене и не уехал, заперев дом.
— Приятно об этом слышать.
— Я даже подумала, что вы не такой уж дикарь. Уверена, что со временем вы сможете научиться держаться вполне достойно в порядочном обществе. Вам следует брать уроки английского языка, например у моего знакомого, мистера Бриттана из скотобойни Барбера на Олдгейт.
— Спасибо, мисс Какссон. Я непременно воспользуюсь вашим советом. Надеюсь, там наверху я не встречу доктора Гримбла?
— К счастью, там его нет. Уповаю на то, что он оставил свои бесплодные попытки завоевать сердце мисс Смит. И еще, мистер Фейберовский, хочу вас предупредить. Мне кажется, что некоторые из ее бывших женихов замышляют против вас что-то недоброе после позора, что вы заставили их пережить. Я видела в прошлое воскресение в церкви этого дрянного валлийца мистера Проджера, он разговаривал с джентльменом, присутствовавшим на вечеринке во время вашего эффектного появления и которого вы так изящно вывели на чистую воду.
— Меня смущает ваш прилив добрых чувств ко мне. Вероятно, вам нужно, чтобы Пенни побыстрее вышла за меня замуж и вы смогли бы завладеть доктором Гримблом?
— Да, у меня есть в том свои интересы. Будьте осторожны, иначе Пенелопа может стать вдовой, едва успев выйти замуж.
По лицу Пенелопы Фаберовский сразу определил, что она действительно рада его возвращению.
— Скажу честно, Стивен, я не думала, что ты так скоро вернешься, — улыбнулась она ему, выходя навстречу. — Я была уже готова поверить, что раньше чем через два года тебя не увижу. Надеюсь, больше ты никуда не поедешь.
Фаберовский натянуто улыбнулся, чувствуя, что необходимость сообщить Пенелопе о своем скором отъезде в Венецию к Гурину, а затем вместе с ним в Каир приводит его в ужас.
— Что-нибудь случилось? — спросила Пенелопа, сразу уловил изменившееся настроение жениха. — Ты мне лучше сразу скажи, не жди, пока до нашей свадьбы останется три дня.
— Нет, нет, что ты, ничего не случилось, — поспешно уверил ее поляк. — Просто присутствие мисс Какссон несколько портит нашу семейную идиллию.
— А почему у тебя очки такие дрянные?
— Сломались, — ответил он и подумал: — «Сейчас она меня в два счета выведет на чистую воду».
— Уж не дрался ли ты с мистером Гуриным?
— Нет, я их еще в Якутске сломал. Но действительно посредством мистера Гурина — полено от головы отскочило…
— Завтра же мы поедем в магазин Джексона на Стрэнде и я выберу тебе красивые очки. А то ты всегда покупаешь себе такие странные круглые очки, которые совсем тебе не идут, ты похож в них на ростовщика. Я уже присмотрела тебе очень хорошие очки в золотой оправе. Кроме того, тебе надо обновить свой гардероб. А то у тебя какой-то потасканный вид. Сейчас ты не слишком отличаешься от своего друга мистера Гурина.
— Совершенно верно, — вмешалась мисс Какссон, — настоящий джентльмен должен иметь как минимум четыре костюма. Это обойдется вам всего в 15 фунтов.
«Как она мягко стелет, — думал Фаберовский, исподлобья глядя на невесту. — А глаза тревожные. Сейчас ударит. Но я не могу ничего сказать ей. И уехать просто так не могу. Иначе обратно в Лондон мне лучше не возвращаться. Придется что-нибудь соврать.»
Ему почудилось, что в воздухе возникла рожа Артемия Ивановича, которая нагло подмигнула ему и сказала: «А все потому, что поросенка съел, Степанушка!»
— Мисс Какссон совершенно права, — сказала Пенелопа. — Вряд ли можно считать нормальным, когда жених является к своей невесте со странной голубой лентой, свисающей из кармашка сюртука.
— Это подарок мистера Гурина миссис Эстер Смит. — Поляк достал из нагрудного кармана ленту от поросенка и протянул ее Пенелопе.
— И что же символизирует этот подарок?
«Кажется, начинается. Как же мне сказать ей о том, что я должен буду уехать? Что мне такого соврать?»
— Что б ты, гадюка, повесилась, — вслух и по-русски сказал Фаберовский.
— Что? — переспросила Пенелопа.
— Символ любви и верности. Орден Андрея Первозванного.
— Не подозревала в твоем друге такой романтичности. Если бы ты подарил мне такую ленту, я бы решила, что ты предлагаешь мне повеситься.
— Ты слишком мрачно смотришь на жизнь, Пенни. Мне бы такого и в голову не пришло.
— Не так уж и мрачно. Просто реалистично.
— Давай проверим. Предположим, ты слышишь, как я говорю кому-нибудь, что сразу после свадьбы покину Лондон на некоторое время.
«Боже, чего я несу! Выноси, кривая!»
— Ну уж нет, Стивен. После свадьбы ты покинешь Лондон только на кладбище. Если ты действительно хочешь удрать, сделай это до нашего венчания.
— Что я говорил, а? А ведь на самом деле я подразумевал, что мы вместе с тобой отправляемся в свадебное путешествие и поэтому некоторое время мы будем отсутствовать. И ничего иного.
«Куда же эта кривая меня вынесла!»
— Это правда? — спросила Пенелопа и лицо ее просияло.
— Конечно, — губы Фаберовского растянулись в глупой шутовской улыбке и он понял, что действительно превращается в Артемия Ивановича. — Сперва мы посетим жемчужину Средиземноморья, великолепную Венецию с ее каналами и гондольерами. А оттуда на пароходе мы направимся в Египет, сперва в Александрию, а потом в Каир, где посмотрим знаменитые пирамиды в Гизе. Мы купим тур Кука и поплывем на красивом белом пароходе вверх по Нилу к первым порогам.
— Стивен, ты просто чудо! — воскликнула Пенелопа и бросилась поляку на шею. — Я и не смела мечтать о таком! Может быть, мы поедем из Венеции в Рим и Неаполь?
— Видишь, дорогая Пенни, — начал поляк, осторожно, словно готовую взорваться бомбу, обнимая девушку за плечи. — Мой интерес к Египту не совсем бескорыстен. Я связался с Дервьё и Кеносом, владельцами страусиной фермы, и в Египте у меня будут кое-какие дела, правда, совсем незначительные.
— Я даже успокоилась, Стивен! — улыбнулась Пенелопа. — Я была несколько напугана твоим безграничным благородством. Но теперь все в порядке.
— Видишь ли, путешествие в Египет очень дорого, а так я могу рассчитывать возместить хотя бы часть денег и дать одновременно тебе возможность увидеть, например, бегемотов и пирамиды.
— И Гурина. Или я не права?
— Ну, может самую малость.
— Но все равно я очень счастлива, — Пенелопа припала к его груди и на этот раз Фаберовский уже без опаски обнял ее. — Ты собираешься высиживать в Египте страусиные яйца?
— Высиживать их будет мистер Гурин. А мы будем с тобою путешествовать.
— Боже мой, Гурин на страусиной ферме! Какой убыток будет Дервьё и Кеносу.
— Это ему расплата за индюшачью ферму, — сказал Фаберовский.
Артемий Иванович в воздухе медленно растаял.
— Надо отдать ему должное, то была неплохая идея. Может быть, когда мы вернемся из путешествия, нам стоит заняться разведением индюков? Главное, что мы сможем поселить на ферме мистера Гурина, ведь это будет довольно далеко от Лондона. Судя по твоим словам, он разбирается в птицеводстве.
— О, да. Он вообще большой специалист. Особенно по части озимых и занимания денег.
— И когда мы с тобой поедем?
— Я хочу числа двадцать седьмого октября быть в Венеции. А потом в Египет.
— Меня смущает только, что в Каире я могу встретить лейтенанта Каннингема. Недавно он прислал мне письмо, спрашивал, когда у нас с тобой свадьба и просил передать тебе свои наилучшие пожелания.
* * *
Кроме дел семейных Фаберовскому пришлось заниматься и иными делами, связанными с покушением на наследника. Самой большой проблемой было организовать ввоз на территорию Египта подводной лодки из Парижа, или же двух подводных лодок, если случится чудо и Артемий Иванович не только не исчезнет, пропив деньги или попавшись полиции, но даже сумеет раздобыть вторую лодку в Севастополе и отправить ее в Александрию (желательно не в ту, что в Петергофе, а в ту, что в Египте). С этой целью Фаберовским была задумана операция, идеей которой было прикрыть ввоз лодок благовидными коммерческими намерениями и соответствующими бумагами.
Первым местом, которое он посетил, была адвокатская контора «Генри Хоумвуд Крофорд, Сэмьюэл Честер & Ко» на Кэнон-стрит, 90 в Сити. Его старый знакомый, стряпчий Крофорд, два года назад оформлял брачный контракт Фаберовского с Пенелопой Смит, и по настоянию поляка добился на коронерском суде неразглашения примет человека, которого подозревали в том, что он был Джеком Потрошителем (как то и было на самом деле). Крофорд встретил Фаберовского не слишком-то ласково.
— Если бы я знал, чем кончится мое участие в подписании вашего брачного контракта, мистер Фейберовский, я никогда не связался бы с вами и тем более с сумасшедшим семейством вашей невесты в лице ее отца доктора Смита. За эти два года он вымотал у меня семь миль моих нервов и выпил восемь галлонов моей крови!
Поляку пришлось задобрить Крофорда будущим плодотворным сотрудничеством с каирской фирмой господ Дервьё и Кеноса. Однажды, в самом начале своего знакомства, они уже сотрудничали с этой фирмой, получив каждый за услуги от ста до двухсот фунтов, а также по красивому страусиному яйцу на подставке из черного дерева и по килограмму страусиных перьев. Попрепиравшись для приличия, в конце концов Крофорд согласился помочь.
Помощь его заключалась в следующем: Фаберовский заключал контракт с Дервьё и Кеносом на поставку на страусиную ферму в Эль-Матарие под Каиром парового котла для обогрева инкубатора, затем Крофорд составлял текст контракта на двух языках: на французском для Дервьё и его компаньона, и на английском для Фаберовского. При этом в английском варианте указывался не один котел, а три. На основании английского варианта оформлялись все необходимые документы и накладные, чтобы затем предъявить их в Александрии вместе с паровым котлом для страусиной фермы и двумя подводными лодками.
На эту мысль Фаберовского навела похожесть подводной лодки «Наутилус» Кемпбелла и Аша, испытания которой он видел в доке Тилбури в восемьдесят шестом году, на железный котел с крышкой наверху. Лодки Джевецкого он не видел, но подозревал, что едва ли в этом отношении она сильно отличалась от своей английской сестры.
Мсье Дервьё приехал из Каира в Лондон всего через день после разговора Фаберовского с Крофордом. Ни о чем не подозревая, он с радостью принял предложение последних помочь ему в деле с котлом и почти неделю поляк ездил с французом по разным мастерским и заводам в поисках подрядчика. Каждый вечер, закончив дела с Дервьё, перед тем, как отправится домой, Фаберовский заезжал на Харли-стрит к своей невесте, но ему так ни разу и не удалось ее застать — она с Эстер и мисс Какссон деятельно готовилась к свадьбе, проводя целые дни в магазинах и в салонах модных портных.
Наконец, контракт между Дервьё, положившимся на честность партнеров в составлении аутентичного текста на английском языке, которого он не знал, и Фаберовским был подписан и удостоверен нотариусом в адвокатской конторе Крофорда. Проводив Дервьё на вокзал, Фаберовский направился на Харли-стрит. Выбравшись из кэба и расплатившись с кучером, он подошел к двери, но, прежде чем успел нажать на звонок, она распахнулась и в проеме появилась Эстер.
— Я увидела вас через окно, мистер Фейберовский, — сказала она. — Меня оставила Пенелопа специально, чтобы я вас дождалась. Почему вы не заезжаете к нам по утрам? После ленча мы всегда отправляемся по магазинам.
— Перестаньте тарахтеть, Эстер, — прервал ее словоизвержение поляк. — Сколько можно ездить по магазинам?
— Сегодня она с доктором Смитом и мисс Какссон поехали забирать свадебное платье у портного. Пенни просила меня передать вам, Стивен, что она надеется, что вы будете выглядеть на венчании достойно, что у вас уже куплен фрак и все необходимое.
— Покупать фрак мне не по карману. Я возьму его напрокат у «Братьев Мосс». А как поживает доктор Гримбл? Он поехал вместе с ними покупать свадебное платье?
— Я давно его не видела. Мисс Гризли, которая иногда встречается с его сестрой, мисс Кларой Гримбл, говорит, что бедный Энтони совсем пал духом. Если раньше он еще надеялся, что ваша с Пенни свадьба расстроится, то нынешние приготовления уже не оставляют ему никакого шанса.
— Передайте ему, что лучший способ развеяться — купить нам с Пенни свадебный подарок. Вот я тут в «Таймс» даже объявление отметил. Взгляните:
«Свадебные подарки. Господа Торнхилл и Ко. нынче имеют ВЫСТАВЛЕННЫЙ НА ОБОЗРЕНИЕ в их демонстрационных залах большой выбор весьма отборных и вполне оригинальных ИЗДЕЛИЙ, некоторые из которых достаточно уникальны по замыслу и были специально изготовлены для этого сезона. Приглашаем на осмотр.
Свадебные несессеры (Специальный ассортимент)
Торнхилл и Ко., Нью-Бонд-стрит, 144 »
— Вы хотите, Стивен, чтобы несчастный доктор Гримбл подарил свадебный несессер? — удивилась Эстер.
— Почему бы и нет? Сразу после венчания мы с Пенни отправимся в свадебное путешествие. Сперва в Венецию, а потом в Каир.
— Ах! А Пенни ничего мне не говорила!
— Она просто не хотела вас расстраивать, дорогая Эстер. Еще начнете завидовать…
— Вы не в моем вкусе, Стивен. Вы слишком обычный, — Эстер вздохнула. — Вот если бы в вашем путешествии вас сопровождал мистер Гурин, тогда я просто извелась бы от зависти.
От неожиданности Фаберовский поперхнулся и закашлялся.
— Как?! Так мистер Гурин действительно с вами едет? Вы должны мне все рассказать. Я получила от него две телеграммы, но он опять написал их на вашем непонятном языке. Стивен, вы мне их переведете?
Она метнулась к себе в спальню и вышла оттуда с картонной папкой, перевязанной куском голубой свинячьей ленточки. Развязав ленту, она извлекла из папки две телеграммы и протянула их поляку.
— Первая телеграмма из Брюсселя, — сказал поляк, беря в руки телеграфный бланк. — Мистер Гурин шлет вам пламенные поцелуи и надеется на встречу. Ничего интересного. Вторая телеграмма из Варшавы. «Милая Эстер. Купи поляку очки вместо разбитых иначе он не найдет у своей невесты в брачную ночь п… поросенка.» Какого поросенка? А, это он уже дальше пишет! «Поросенка посылаю как символ моих чувств завязанного в голубую ленту и гриб с букетом прекрасных роз с императорской охоты на диких кабанов. Подпись: Русский Атилла»
— Он был на императорской охоте! — воскликнула Эстер. — Как бы я хотела в то время находится рядом с ним! Поросенка он наверное сам застрелил из ружья!
— Нет, он в честном поединке поймал его на рогатину.
— Что такое рогатина?
— Это что-то вроде вилки, только с длинной ручкой. У нас в России пойманных на рогатину кабанчиков сразу же зажаривают и съедают.
— А где же мой поросенок? Ведь Гурин написал, что посылает его мне.
— Это он фигурально выразился. Он преподнес кабанчика на вилке императору и взамен получил голубую Андреевскую ленту, которую я уже имел удовольствие передать вам.
«Совсем заврался, Степанчик, — раздался в голове у Фаберовского противный голос Артемия Иванович. — Боком тебе выйдет кабанчик».
— Решено, — решительно заявила Эстер. — Я поеду с вами. Я не могу жить без Гурина.
— Без Гурина только жить и можно. И с нами вы не поедете. У нас и без того бедлам будет порядочный.
— Тогда я поеду сама. Доктор Смит давно предлагал мне съездить куда-нибудь в морское путешествие, подлечить свои нервы и избавится от навязчивых идей о Гурине.
— Но вы же собираетесь ехать к Гурину!
— А кто об этом будет знать? Или, быть может, вы, Стивен, скажете об этом доктору Смиту? Я уеду сразу после вашего венчания в Святую Землю, взглянуть на Гроб Господень. Вы не сможете доказать, что я намереваюсь встретится с Гуриным. А когда он окажется в Египте, вы не посмеете помешать мне встречаться с ним. У нас тоже будет свадебное путешествие. А когда я вернусь, я начну на бракоразводный процесс. Мисс Гризли, подойдите сюда.
Откуда-то из глубины гостиной показалась мощная фигура Гризли и почтительно остановилась в отдалении.
— Хочу тебе сообщить, что сразу после венчания Пенни с мистером Фейберовским я отправляюсь в путешествие через Египет и Синай в Святую Землю. Поскольку доктор Смит не отпустит меня одну, я прошу вас меня сопровождать. По крайней мере он не станет терзать себя пустыми подозрениями насчет моих любовных приключений вдали от семейного очага. Ему надо отдохнуть и поправить свое расстроенное здоровье, он так переживает за всех нас.
— Наконец-то вы хоть что-то доброе сказали о вашем муже, — пробасила Гризли. — Доктор Смит настоящий идеал мужчины: благородный и великодушный джентльмен, которого окружают неблагодарные люди вроде Гримбла. Как я рада, что нашей дорогой Пенни повезло в жизни и она выходит замуж за мистера Фейберовского — пусть и не англичанина, но очень достойного и порядочного человека! Теперь этот мерзкий Гримбл не рискнет переступить порог нашего дома!
— Можешь идти, Гризли. Теперь, Стивен, вы скажете мне, где находится сейчас мистер Гурин, чтобы я могла сообщить ему о нашей скорой встрече?
— Нет. Я не знаю, где он сейчас.
— Вы меня обманываете, Стивен. Ведь вы встречались с ним на имераторской охоте и даже привезли от него мне голубую ленту.
— Мне известно только, что мистер Гурин из Варшавы выехал в Россию. О том, куда он направился, полагаю, я узнаю от вас. Когда вы попросите меня перевести очередную телеграмму.
Глава 16. Венчание
22 октября, среда
Канун свадьбы стал для Фаберовского настоящим испытанием, к которому он оказался совершенно не готов. Уже заполночь, закончив наконец с Батчелором и Розмари двигать мебель и прибираться к завтрашнему приезду из церкви новобрачных, он добрался до своей спальни и рухнул на кровать, думая тут же забыться беспробудным сном. Но не тут-то было. Едва дрема стала охватывать его, как откуда-то издалека из сонных глубин до него донесся омерзительно знакомый голос и расплывчатая фигура в белой, женского покроя, ночной рубахе с кружевами явилась перед ним.
— Угадай, кто я, — предложила фигура. — Нет, я не женщина. Какой же я мужчина, если я тебе снюсь? Вот и не угадал, я не сволочь, а твой лучший друг. А ты моего поросеночка съел.
— У меня поутру свадьба! — сказал фигуре поляк. — Отстань от меня хотя бы на сегодня!
— Ничего из твоей свадьбы не выйдет, шлюхтич проклятый. Потому как ты врун и вор.
— Это я-то вор?! А кто на индюков деньги брал?
— Нашел, чем попрекать! — фигура развела руками. — А зачем ты мой гриб выкинул? Вот ужо я тебя поленом-то приложу.
Измученный Фаберовский встал, нашел в шкафу опиумную настойку и выпил слоновью дозу, после чего лег на кровать и закрыл глаза, надеясь заснуть мертвым сном.
— Зря снотворное принимал, — тотчас сказал ему Артемий Иванович, став после проделанной поляком процедуры менее расплывчатым.
— Почему?! — заорал Фаберовский на всю спальню.
— Да ведь я же тебе снюсь. Теперь ты от меня уже вовсе не отделаешься. Давай беседовать.
— Не хочу я беседовать, мне спать надо! Отстань!
Поляк перевернулся на живот и закрыл голову подушкой.
— Да ты же спишь! — сказал со смешком Артемий Иванович. — Вот мы до утра побеседуем, утром проснешься, успокоительного выпьешь и поедешь на свадьбу. Сейчас, только кенгуру распрягу.
Пред мысленным взором Фаберовского мелькнул длинный кенгуриный хвост и обтянутый сорочкой зад Артемия Ивановича со вздувшимися на нем от натуги буграми мышц.
— Господи, что это! — взмолился поляк. — Я не хочу!
— Это кошмар. А кошмаров никто не хочет. Но вот и бутылочка, — Артемий Иванович достал из сумки на животе кенгуру бутылку поповки. — Вспрыснем твою свадебку. И не верти головой своей дурацкой, тут в буше на триста верст ни одного полена нету. У нас в Австралии только бушмены и бушвумены.
— Ой, бред! — Фаберовский слез с кровати и спустился вниз, где сунул голову в умывальник и вылил на себя всю воду. Затем он смочил водой полотенце и, вернувшись в кровать, положил его себе на лоб.
— Ты чего мокрый? — спросил его Артемий Иванович, едва поляк сомкнул глаза вновь. — Мы тут тебя с братцем моим одноматерным не дождались, он охоч до водочки, братец-то мой.
И Владимиров указал на сидевшую рядом с ним в темноте кошмара образину с поросячьим рылом.
— Слушай, Степанушка, а может, тебе вовсе не жениться? На что она тебе сдалась. Мы тебе другую невесту подберем. Вот хотя бы брат у меня до сих пор холостой.
Образина довольно хрюкнула и кокетливо пошевелила пятачком.
— Пшел до дьяблу! — разъярился полк.
— Ну, тогда до завтра, — ответил Артемий Иванович, растворяясь. — Если доживешь.
— Постой! — Фаберовский даже сел на кровати. — Пан Артемий! Как это до завтра? Я завтра не один буду.
— Это-то и интересно, — донесся откуда-то издалека голос Владимирова. — Да и мы всей толпой придем. Хочется знать, честная ли девица твоя невеста или я ее тогда в Серпентайне все-таки испортил.
— С вами все в порядке? — встревожено постучала в дверь Розмари.
— Все хорошо, Рози, иди спать! Даже здесь от него нет никакого покоя! — и поляк в сердцах запустил в стену подушкой.
К завтраку он спустился уставший и с мешками под глазами, так что Розмари ужаснулась его совершенно не свадебному виду. Чтобы хоть как-то скрыть следы бессонной ночи, она припудрила лицо Фаберовского, причем от ее старания он стал похож на Пьеро, к тому же проведшего все время от заката до рассвета с неутомимой Коломбиной.
Батчелор, которому выпало исполнять роль шафера, был уже готов. Даже бутоньерка с цветком была приколота к лацкану фрака, а цилиндр лежал на столе в гостиной, готовый украсить его рыжую голову.
— У нас все готово? — вяло спросил Фаберовский, оправляя перед зеркалом неловко сидевший на нем прокатный фрак.
— Экипаж уже ждет, — ответил Батчелор. — Можем ехать.
Фаберовский сунул ему кошель с деньгами, из которых шафер должен был оплатить все бесчисленные расходы: гонорары священнику, органисту и хору, чаевые церковнослужителям, листы с напечатанным текстом службы, цветы в церкви, букеты для невесты и ее подружек и букет для миссис Смит. Сегодня поляк потратит практически все свободные деньги, которые мог позволить себе выделить из черевинской суммы, и останется с пустыми руками.
Тяжело вздохнув, Фаберовский отдал Батчелору футляр с обручальными кольцами, и вышел на улицу к коляске, в которой уже сидела Розмари.
— Надеюсь, доктор Смит не заказал для торжественного завтрака поросенка, — сказал поляк, когда Батчелор сел рядом с ним и коляска покатила в приходскую церковь Сент-Марилебон на Марилебон-роуд.
Пенелопа и вся шатия-братия с ее стороны уже были на месте. Девушка вышла из экипажа и стояла в портике, опираясь на руку отца. На ней было украшенное цветами флердоранжа тяжелое белое атласное платье с воротником-стойкой и длинным шлейфом, придававшее Пенелопе солидный вид. Спереди лиф подвенечного платья был украшен мелким жемчугом, буфчатые рукава доходили до локтя, откуда дальше вниз до запястья руку прикрывали фламандские кружева. Белая вуаль длиной до колен ниспадала с плеч.
Рядом с доктором Смитом понуро стоял доктор Гримбл, совершенно убитый свершающимся на его глазах неотвратимым крушением его мечты о браке с Пенелопой. Гримбл был, как всегда, на высоте модных веяний, хотя монокль в его глазу не светился воинственно, как это бывало прежде, и только церковные свечи изредка тускло отблескивали в окуляре. Безукоризненно сшитое из тяжелого мельтоновского сукна облегающее пальто-«скарборо» с пелериной до локтя было расстегнуто, открывая взорам викуньевый, облицованный по лацканам черным шелком фрак. Тонкая ротанговая тросточка выстукивала по каменным плитам пола причудливый ритм, свидетельствуя о том, что ее хозяин нервничает и в полном упадке духа.
Среди приглашенных доктором Смитом гостей Фаберовский узнал также мистера Проджера, мисс Гризли, приставленную Смитом к своей жене, и старую миссис Триппер в инвалидной коляске. Все остальные, за исключением, конечно, Эстер и мисс Какссон, выполнявшей роль подружки невесты, были поляку неизвестны, да и не очень ему хотелось что-либо о них знать.
Доктор Смит, заметив приезд жениха, наклонился к уху Пенелопы и зашептал:
— Выслушай, дочь, своего отца. Еще немного и ты уйдешь из моего дома к своему мужу. Он нехороший человек и, наверное, я редко стану видеть тебя, а уж до вашего отъезда в свадебное путешествие он точно не позволит мне тебя посетить.
— Когда ты сбежал от нас, отец, заперев в доме, ты, между прочим, нашел приют именно в доме у Стивена, — ответила ему Пенелопа и, оставив отца, подошла к Фаберовскому.
Сдержанно кивнув гостям, поляк вручил ей букет цветов и велел Батчелору пойти уведомить викария о их приезде. Они приехали раньше времени и священник мог быть еще не готов. Следом за Батчелором в церковь вошли и участники свадьбы.
— У вас такой вид, мистер Фейберовский, словно вы всю ночь накануне свадьбы предавались тайным порокам, — сквозь зубы сказала поляку мисс Какссон, которую сделали подружкой невесты по настоянию доктора Смита.
— Если вы не угомонитесь, мисс Какссон, я вам случайно наступлю на ногу, — с легким поклоном сказал поляк. — Каблуком.
— Вам нужно носить не фрак, а мешок с тремя дырками, — сказала Какссон, обворожительно улыбаясь в ответ. — На вашей горбатой спине не будет сидеть никакая человеческая одежда.
— Скажи, Пенни, я и в самом деле такой урод?
Пенелопа смутилась.
— Должна сказать тебе, Стивен, что ты действительно ужасно выглядишь во фраке. Но тебя извиняет то, что на этот раз ты все-таки пришел. Я боюсь, что что-нибудь случится в самый последний момент.
И она тревожно оглянулась на Гримбла. Месяц назад во время утренней воскресной службы в соборе Св. Павла застрелился некий сорокалетний мистер Истон, страдавший прогрессирующим параличом. Его тело позднее было кремировано в Уокинге, а в соборе пришлось проводить службу Примирения после осквернения собора самоубийством. С самого утра Пенелопу преследовала мысль, что Гримбл тоже может застрелиться в церкви во время их венчания со Стивеном, чтобы расстроить свадьбу. Но Гримбл был тих и печален и вовсе не походил на человека, способного застрелиться.
В церкви находилось несколько посторонних, сидевших в разных местах на скамейках. Фаберовский предложил невесте сесть, пока священник облачится и выйдет к ним. Доктор Смит немедленно пристроился по другую сторону от дочери и опять заговорил, достаточно громко, чтобы поляк мог расслышать его слова.
— Должен тебе сказать, Пенни, что будь на то моя воля, я не позволил бы вам ехать в свадебное путешествие. Я положительно поддерживаю мнение доктора Сканцони, что путешествия, сопряженные с длительными железнодорожными переездами, с недостатком удобств, досуга и отдыха, подвергают здоровье новобрачных опасностям. Ты должна предупредить своего мужа о том, что он должен в интересах твоего здоровья соблюдать умеренность в половых сношениях, а также заботиться о своевременных остановках в дороге для доставления тебе необходимого покоя. Еще раз умеренность и умеренность! — доктор Смит выразительно посмотрел на Фаберовского, но тот в ответ только презрительно ухмыльнулся. — Слишком частые половые сношения подают повод к различным неприятностям. Если вы не последуете моему совету, то уже вскоре после свадьбы, Пенни, у тебя начнутся проблемы с регулами, они могут запаздывать на несколько дней, будут слишком обильны, иногда даже сопряжены с сильными болями, так что вам придется остановиться в каком-нибудь отеле, где ты должна будешь оставаться в постели в течении нескольких дней. Если выяснится, что вы не можете рассчитывать на свое благоразумное воздержание, то советую вам спать в отдельных комнатах.
— Я хочу вам сказать, что любовь в святом супружестве может быть сохранена только при строгой умеренности чувств, ибо брак заключается между людьми для пресечения прелюбодеяния и порождения законных детей, — обернулась назад мисс Какссон, севшая на скамью впереди.
— Сперва сами выйдите замуж, а потом уже будете учить мою дочь, — оборвал ее доктор Смит. — Так вот, Пенни, для вашего же с мистером Фейберовским блага и для блага вашего потомства умеренность в половых сношениях должна идти рука об руку с умеренностью в еде и питье. Количество крови в организме очень ограничено. Кровь приливает то к одному органу во время его действия, то к другому…
При этих словах поляк почему-то представил себе полупрозрачного, словно из дымчатого стекла, Артемия Ивановича, плавающего и кувыркающегося в воздухе перед алтарем, причем кровь внутри него при каждом перевороте медленно переливалась с достойным зловонной ист-эндской канавы журчанием, наполняя те или иные члены.
— …В случае сношений после обильного обеда, — продолжал доктор Смит, — кровь отвлекается половым актом к половым органам и вследствие этого происходит неправильное пищеварение, катар желудка и кишечника со всеми вытекающими из этого тягостными последствиями. Кроме того, чрезмерно наполненный желудок в ночное время причиняет возбужденные сны, требующие полового удовлетворения.
Тяжелый горький вздох Гримбла с задней скамьи заставил доктора Смита обернуться.
— Вы не представляете, Гримбл, как я сегодня счастлив, — сказал он. — Возможно, меня не будут пускать в дом к новобрачным, чтобы поболтать с мистером Фейберовским за рюмкой коньяка, как в старые добрые времена. Зато и я тоже смогу не пускать их к себе. Но главное, что теперь и вам нечего будет делать в моем доме!
Гримбл совсем пал духом и стал даже меньше размером.
— Не стоит терзать бедного Гримбла, — вступился за неудачливого конкурента поляк. — Он и так уже страдает недержанием монокля.
Доктор Смит отвернулся от Гримбла и опять взялся за свою дочь.
— Ты, Пенни, как дочь известного врача, должна знать, что между центральной нервной системой и половым аппаратом существует связь, в чем твой муж скоро и горько убедится, если будет злоупотреблять наслаждениями любви. Сперва у него ослабеют духовные способности, как-то: память, внимательность, размышления и способность заниматься продолжительной умственной работой, между тем как способности воображения, красноречия и музыкальности могут даже значительно повысится, — все слушавшие доктора Смита заметили, как какой-то внутренний огонь загорелся в его глазах по мере того, как он начал разворачивать эпическую картину гибели и распада своего зятя. И только мисс Какссон, смотревшая не на Смита, а на доктора Гримбла, подметила такую же перемену в отвергнутом женихе. — Силы пропадут, — голос доктора Смита окреп и теперь разносился по всей церкви, возвращаясь эхом из-под ее высоких сводов, — чувства возбудятся и перед нами предстанет типическая картина нервного гипохондрика, жалующегося на всевозможные страдания, в особенности на головные боли в затылке или на боль половины лба!
Гримбл распрямил плечи и вставил в глаз монокль. Он больше не выглядел жалким, кровь его забурлила, подогреваемая вновь вспыхнувшей надеждой.
— Потом он станет жаловаться на затруднения пищеварения, запоры и прочее, откуда проистекут и другие последовательные большие или меньшие затруднения в отправлениях различных органов. Ослабленный таким образом организм потеряет свою способность сопротивляться болезнетворным причинам, откуда явятся катары слизистых оболочек носа, горла, глаз и кишечника, которые будут влиять теперь на него сильнее, чем в прежнее время неослабленного здоровья, — Смит встал со скамьи и указал пальцем на Фаберовского. — Наконец, расслабленный организм сделается добычей чахотки, рака или какой-нибудь повальной болезни, и он умрет!
Гримбл вскочил и в восторге зааплодировал. Хотя он и считал себя высококлассным специалистом, но тут доктор Смит показал ему всю мощь своего аналитического ума и энциклопедических познаний. Он открыл Гримблу глаза на его светлое будущее и тот не мог не отдать должное своему учителю и будущему тестю — как только Пенелопа в скором времени овдовеет. Мисс Гризли присоединила свои аплодисменты к аплодисментам доктора Гримбла.
— Доктор Смит, — выкрикнула она, напугав вышедшего к ним в облачении викария. — Вы просто великолепны!
Служка раздал гостям листы с напечатанным текстом службы и пригласил всех проследовать к алтарю и разместиться на передних скамьях: слева гости невесты, а справа — жениха. Величественные звуки органа огласили своды церкви. Под руку с Пенелопой Фаберовским поднялся по ступеням в алтарь и встал перед викарием.
Дальнейшее он запомнил плохо. Священник задавал вопросы, они отвечали. Несколько раз поляк оглядывался назад и натыкался взглядом на сияющего Гримбла, пытавшегося знаками показать невесте, что обручальное кольцо не навечно, что вскоре наступит день освобождения и тогда уже она станет его счастливой супругой. Но доктор Гримбл был плохим мимом, а может сказывался его медицинский интерес к глистам и прочим похожим предметам, потому что все его ужимки и жесты выглядели совершенно неприличными и недопустимыми в респектабельном обществе, так что даже влюбленная в него мисс Какссон покрылась пятнами стыда.
— Согласна ли Пенелопа Смит взять в мужья Стивена Фейберовского и подчиняться… — раздался голос викария.
— Да, — твердо ответила Пенелопа.
— Кольцо пожалуйста, — викарий принял из рук Батчелора футляр с кольцами и подал их новобрачным. Они обменялись кольцами и священник торжественно провозгласил: — С благословения Господа нашего пусть это кольцо станет для Пенелопы Смит и Стивена Фейберовского символом вашей любви…
После церемонии поляк с Пенелопой торжественно спустились со ступеней алтаря и в сопровождении гостей направились в ризницу подписывать брачное свидетельство. В тот же миг Гримбл оказался рядом с невестой и заговорил, захлебываясь словами:
— Послушайте меня, Пенни. Вы слышали, что сказал вам ваш отец? Ваш муж все равно скоро умрет. Но я не хотел бы, чтобы мне досталась вдова с детьми, прижитыми от мужа-инородца. Поэтому я умоляю вас внять моим советам опытного врача. Во-первых, обязательно нужно спать в разных комнатах. Во-вторых, если нельзя вовсе избежать сношений с мужем, совершайте их реже и без всякого чувства. В качестве средств, уменьшающих половую похоть, советую вам давать своему мужу препараты йода, такие как йодистый калий и йодистый натрий, а также камфору.
— Доктор Гримбл, немедленно перестаньте! — зашипела на него Какссон. — Миссис Фейберовская никогда не будет вашей женой!
Но Гримбл не мог остановится и продолжал говорить, не взирая на неприкрытое отвращение, отражавшееся на лице Пенелопы:
— Я, конечно, не поклонник мальтузианства, но вы должны непременно пользоваться всеми доступными средствами, которые могут предохранить вас от беременности. Некоторые вводят, просовывая как можно дальше к самому рыльцу матки, маленькие губки, но они бесполезны и даже опасны, поскольку могут сдвинуться и причинить повреждения. Лучше всего пользоваться продающимися в аптеках так называемыми пессариями или влагалищными супозиторями в виде свечек и шариков, состоящих из масла какао и сернокислого хинина. Вследствие теплоты тела пессарии растворяются, а хинин убивает семенные тельца. Стоит также приобрести pessarium occlusivum, закрытый пессарий, предложенный доктором Менсингой из Фреденборга. Он представляет собой кольцо, на которое натянута тонкая непроницаемая каучуковая перепонка. Этот пессарий вам нужно будет ввести так, чтобы его перепонка закрывала отверстие рыльца матки во время совокупления. Кроме того, существуют кондомы…
— И существует еще вот это, — поляк сунул под нос Гримблу обтянутый белой лайкой кулак. — Он предохранит вас от излишней болтливости и глупых надежд. Я намереваюсь прожить еще не меньше полувека.
— Если Проджер не наврал, быть может вы не доживете даже до вечера! — злорадно объявил Гримбл.
Торжественный завтрак, устроенный после церкви в том же ресторане Пагани на Грейт-Портланд-стрит, где доктор Смит собирался устроить празднество два года назад, прошел на удивление тихо и благопристойно. Батчелор позаботился рассадить гостей таким образом, чтобы не допустить никаких свар, рядом с Гримблом была посажена Какссон, а миссис Эстер Смит Батчелор тайком поручил удерживать доктора Смита от каких-либо инсинуаций.
После ресторана новобрачные распрощались с гостями и направились к себе домой. Розмари поехала с ними, а Батчелор, следуя поручению Фаберовского, остался проследить за Проджером, чтобы выяснить, стояло ли что-нибудь за словами Гримбла.
На Эбби-роуд близ баптистской часовни они заметили странный пароконный фургон, очень похожий на тот, что перевозит мебель. Но никто из соседей, насколько было известно Фаберовскому, ни переезжать, ни покупать новую мебель не собирался. Когда коляска остановилась у калитки, поляк помог спуститься невесте и Розмари и первый прошел за ограду. Все произошло, когда он находился на полпути между калиткой и домом. Откуда-то сзади — видимо, прятались по сторонам дорожки за кустами — на него набросилось сразу четверо человек. Еще двое схватили обеих женщин. Нападавшие были вооружены тяжелыми, залитыми свинцом дубинками, так что первый же удар, пришедшийся по голове, лишил поляка возможности сопротивляться. За первым последовал еще один удар, с хрустом переломивший ему кость предплечья левой руки. Пенелопа истошно завизжала, пытаясь вырваться, но громила крепко держал ее. Розмари и вовсе лишилась чувств, так что помощи от нее не было никакой.
Фаберовский упал на песчаную дорожку и его тут же стали избивать ногами, пока он вовсе не перестал стонать и шевелиться. Потом Пенелопу и Розмари швырнули на кусты и громилы выскочили за калитку, где их уже поджидал подъехавший от баптистской часовни мебельный фургон.
Глава 17. Севастополь
17 октября, пятница
В пятницу вечером, спустя неделю после встречи с Курашкиным, Артемий Иванович был вышвырнут из погребка рукой свирепого кабатчика. Запас очков кончился, да и те последние дни нехотя принимали к оплате. За всю свою долгую жизнь в Одессе кабатчик никогда не видел такого. Бывали английские матросы, которые пропивали у него контрабандный табак и портвейн, были французы, который заплатили за выпивку каким-то образом вывезенной из Марселя портовой шлюхой. Однажды трое русских матросов с парохода Добровольного флота предложили ему огромную рыжую обезьяну с острова Борнео. Но чтобы не целую неделю выпивоха платил исключительно очками — такого еще не было. Кабатчик даже на всякий случай заявил в полицию, но те подтвердили законность обладания Артемием Ивановичем имеющимися у него очками.
Оказавшись на улице, Владимиров долго стоял перед погребком, пытаясь вспомнить, кто он такой и как здесь очутился. Место было не слишком фешенебельное — кругом лишь грязные лавчонки, харчевни и неказистые дома, а улицы забиты босяками и пьяной матросней. На расспросы о том, где же он находится и как пройти в Бобыльское, прохожие либо вовсе не отвечали, либо откровенно издевались, говоря, что он стоит в Одессе на улице Карантинной против Лонжероновского спуска. Несмотря на все потуги, сам Артемий Иванович сумел вспомнить только, что все дни он проводил в том самом погребке, откуда его так беспардонно выкинули, но где он проводил ночи, так и осталось для него загадкой. Память удержала также какую-то смутную картину подвала, где ночевали на нарах, да видение некой босяцкой обжорки с обитыми цинком столами, на которых стояли фаянсовые миски с борщом, переперченным до безумия, и с макаронами в бараньем сале по 3 копейки. Удрученный своим беспамятством Владимиров побрел прочь и шел так, пока не вышел на красивую площадь с памятником какому-то мужику в тоге на постаменте и видом на море с длинной цепью парусных шхун вдоль набережной внизу. Здесь он присел на скамейку вблизи голой акации и в поисках ответа стал изучать содержимое своих карманов, надеясь, что хоть что-нибудь ему что-то напомнит.
Первым у его ног на голубоватую известняковую плитку тротуара легло что-то плоское, завернутое в кусок грязной голубой тряпочки и перевязанное куском размусоленной пеньковой веревочки, от которой дурно пахло средством от перхоти. Артемий Иванович с отвращением выбросил сверток в прибитую к акации жестянку для поения собак. Сверток стукнул о дно банки. Затем Артемий Иванович достал само средство и сломанную щетку «Ротифер» с вращающейся головкой. Следующий предмет, отрытый им во внутреннем кармане пиджака среди набитых туда клочков газеты, привел его в неописуемое волнение. В его дрожащих руках трясся и позвякивал брелком ключ от номера гостиницы «Лондонская».
«Неужели я в Англии?» — подумал он и затравленно огляделся, страшась увидеть за кустом констебля, который привлечет его за бродяжничество. Констеблей не было и он слегка успокоился. Из правого кармана пиджака он выудил две визитные карточки: «И.Г. Затирка, ломовой извоз» и «Порфирий Маломуж, дамский мастер», а также вырезку из какой-то газеты: «Строгая дама ищет богатого ученика». Везде были напечатаны одесские адреса, что очень его разозлило. Он встал и сунул руку в задний карман штанов. Любой другой человек удивился бы, обнаружив там стальную вилку со зверски загнутыми и закрученными зубцами. Но Артемий Иванович обрадовался. Наконец-то он понял, почему так больно было сидеть на этой стороне задницы! Более того, он даже вспомнил историю, сопровождавшую появление у него этой вилки. В тот раз он поспорил с каким-то корабельным буфетчиком, что остановит вращение земли, для чего воткнул в стол вилку и принялся тормозить. Все очень веселились и утверждали, что ему это удалось. А буфетчик, прослезившись, даже проставился.
«Велики силы небесные!», — подумал Артемий Иванович, глядя на скрученную штопором вилку, и без сожаления бросил ее все в ту же собачью поилку.
Последними предметами, отысканными им в табачном крошеве, наполнявшем все его карманы, были несколько дужек от очков и две половинки расколовшегося стекла. Больше в карманах ничего не оказалось. Как за последнюю надежду узнать о своем прошлом и о нынешнем своем местопребывании он ухватился за странный сверток, выкинутый им в поилку на акации, развернул его и схватился за сердце. В тряпку была завернута сложенная пополам увесистая пачка белых пятидесятирублевых банкнот с портретом Николая I.
Запрятав сверток за пазуху, он бросился с площади обратно к погребку, но половой не пустил его, а когда Владимиров стал упорствовать, дал ему по загривку и вытолкал взашей на улицу.
— Эй, прохожий, — окликнул Артемий Иванович проходившего мимо священника, на животе которого почти горизонтально, словно могильная плита, лежал большой золотой крест, слегка колыхаясь вместе со своей опорой при каждом шаге. — У вас тут пароходы плавают?
— Еще как плавают! Одесса ж!
— Сам ты ж…! — сердито сказал Владимиров. — В рясе. В Петергоф они тут у вас плавают?
— Не слыхал, сын мой. В Афон плавают.
— А в Александрию?
— В Александрию плавают. Идите в порт, сын мой, там вам все скажут.
И Артемий Иванович направился в порт. Ему было как-то неудобно ехать в Александрию, потому что там у царя наверняка будет Черевин, да и кабаков там не держат, а около петергофской пристани находится любимый «Бель Вю», но раз уж в Петергоф ничего нынче не ходит, то придется ехать через Александрию.
В порту он заглянул в контору Российского общества морского, речного, сухопутного страхования и транспортирования кладей и спросил, не могут ли они вместе с кладью доставить его в Александрию, на что полусонный служащий, продававший билеты, ответил, позевывая в кулак, что пароходы на Александрию ходят из Карантинной гавани, а суда их общества из Практической гавани могут доставить его и с кладью и без оной вдоль всего берега вплоть до Кавказского побережья, хоть в Севастополь, хоть в Евпаторию.
Услыхав про Севастополь, Артемий Иванович мгновенно забыл про Александрию. Не то, чтобы он вспомнил, где находится, но он осознал, что зачем-то ему надо было непременно попасть в Севастополь. И он взял билеты на отходящий через несколько часов крымско-кавказским товаро-пассажирским рейсом с заходом в Евпаторию пароход «Новосельский».
19 октября, воскресенье
Сопровождаемый звоном колоколов, возвещавших начало воскресной службы, и перезвоном склянок на кораблях, заполнявших обширную севастопольскую бухту, Артемий Иванович торжественно сошел с парохода «Новосельский» на Графскую пристань. Несмотря на то, что теперь у него под ногами находилась земная твердь, качка для него продолжалась, ибо за ночь со страха он выдул на пароходе две бутылки «поповки» и графин местной пароходной водки в буфете, а закуску заменил разговором с соседями по столику о своих подвигах по спасению государя императора во время наводнения в Петергофе.
У колоннады пристани сидел на корточках одинокий татарин и скучал над корзиной с апельсинами, которые никто по причине холодной погоды не желал у него покупать. Артемий Иванович подошел к нему и встал, угрожающе накренясь над корзиной. Сжавшись перед явной угрозой, татарин испуганно смотрел на него снизу вверх.
— Апельсины продаешь? — спросил Владимиров, который чуствовал настоятельную потребность заткнуть себе чем-нибудь горло, через которое просилось наружу содержимое его желудка.
— Канэшна, — робко ответил татарин, подвигая корзину с апельсинами к себе поближе. — Можит, нужна?
Артемий Иванович кивнул головой и это движение вывело его из неустойчивого равновесия. Севастополь со своими храмами, пристанями, бухтами и кораблями вдруг кувырнулся и навалил татарина вместе с его корзиной прямо на Владимирова. Артемий Иванович издал страшный рев, так что даже собаки, мирно спавшие между колоннами, повскакивали и бросились наутек. Апельсины раскатились по пристани и мальчишки, прежде мирно удившие рыбу, бросились подбирать те, что укатились дальше всего от хозяина. Только один из мальчишек, свалившийся от крика Артемия Ивановича с пристани в воду, не присоединился к своим приятелям. Он выбрался на причал и, мокрый и дрожащий, встал рядом с татарином и с благоговейным ужасом глядел на Владимирова, барахтавшегося среди фруктов.
— Татарин? — спросил Артемий Иванович у торговца, с трудом вылезая из сломанной корзины и поднимаясь с четверенек посреди давленных апельсинов.
— Разумейся, — ответил татарин, ползая на коленях и собирая те апельсины, что не погибли под Артемием Ивановичем и не были украдены мальчишками, — бывает татарин, бывает русский, да?
— А это что за грязные рожи? — Владимиров обратил свой мутноватый взор на стайку мальчишек с самодельными удилищами, которые бросили свое занятие и теперь присоединились к своему искупавшемуся товарищу.
— Это малчик. Они рыбам ловят, да?
— Так, так, так, так… — Артемий Иванович отошел в сторонку и съел апельсин, не счищая с него даже кожуры. Попав в желудок, апельсин пробыл там несколько мгновений и тут же выскочил обратно. Владимиров смущенно затер получившееся безобразие ботинком и поспешно вернулся к торговцу. Ему было ужасно скверно и он с черной завистью взглянул на хозяина корзины, которому было хорошо.
— Послушай, татарин: зачем вы, татарины, водку не пьете? — спросил он.
— Мы ему не пьем, потому нилзя, — пояснил тот, загораживая корзину с уцелевшими апельсинами своим телом.
— Вздор, вздор, — загорячился Артемий Иванович. — Это вы, наверное, Корана не поняли как следует… Давай сюда Коран, я тебе покажу место, где можно пить…
Артемий Иванович протянул руку к татарину, но тот, на вставая с корточек, попятился:
— Которы человек пьяны, тот ходит, шатайся, апельсинов давит…
— Вот ты, значит, ничего и не понимаешь… — покровительственно заявил Владимиров. — «Шатается, шатается». Разве я сам шатаюсь? Это водка меня шатает. Я тут ни при чем.
— Сё равно. Идот, упадот — кричит, как осел, собакам пугает, рази можно?
— А ежели весело, так почему же не упасть?
— Которы падат себе дома — так, канэшна, дествительна, ничего; а которы пьяный падат, апелсин давит, так хозяин даже обижается, да?
— Послушай, татарин, татарин! Так наплевать же на хозяина? Понимаешь? Лишь бы мне было весело, а тебе, если не нравится, — тоже пей.
— Ему, который што — пьяный, упал посреди улиса, лежать в апелсин, спит, как мортвый, а ему обокрасть можно, да?
— Чушь это. Слышишь, татарин?! Бредятина! Если человек уже сваливши, — его уже нельзя обокрасть!
— Что такой — нелзя? Он гаворит — нелзя. Почему, которы падлец, вор, так он возьмет да обокрал, да?
— Да как же его обокрадут, чурбан ты татарский, ежели, когда он сваливши — так уже, значит, все пропито.
— Сё равно. Началство, которы где человек служит да скажет ему: «Почему, пьяный рожа, пришел? Пошел вон!»
Артемий Иванович скорчил презрительную мину.
— Мальчик, вот ты, мокрый, — позвал он. — Поди сюда. Да не бойся, я тебя не укушу. Как тебя зовут?
— Аркаша, — застенчиво ответил мальчишка, скромно выйдя на шаг из толпы сверстников.
— Твой папаша кем работает?
— Он лавку держит. «Галантерейные товары от Тимофея Аверченко».
— Спроси у него: можно ли пить при начальстве. И он тебе скажет, что можно и даже нужно. Потому как начальство тебя должно уважать. А ежели оно не уважает, то и трезвому скажет: «Почему, трезвая рожа, пришел. Пошел вон!» А коли уважает, то и за пьяным поухаживает. Купание, пикники, женщины. А то еще перстень наградной поднесет или часы.
— Нилзя пить, — упрямо сказал татарин, хотя аргументы, приведенные Владимировым, убедили даже девятилетнего Аркашу.
— Да почему? — воскликнул Артемий Иванович. — Господи Боже ты мой, ну почему?!
— Ему… — промямлил татарин, тщетно подыскивая ответ, и вдруг скуластое лицо его просветлело. — Канэшна — диствителна разумейся — водка очин горкий.
— Ничего это не разумеется. Правда, Аркаша? Ты, татарин, сладкую пей, ежели горькая не лезет.
— Скажи, пажалста, гасподын, — не сдавался татарин. — Почему мине пить, если не хочется, да?
— Как так не хочется? — изумился Владимиров подобной дикости. — Как так может не хотеться? А ты знаешь, как русский человек через «не хочу» пьет? Сначала действительно трудно, а потом разопьешься — и ничего.
— Ты мени, гаспадын, скажи па совести, как лучше здоровье — человек, которы пьет или которы не пьет — да?
Артемий Иванович посмотрел на татарина с его здоровым румянцем на щеках и прислушался к своему организму. Внутренний тошнотный голос подсказывал Владимирову, что татарин был прав.
— Но только… что ж делать? — развел Артемий Иванович руками. — Тут уж ничего не поделаешь… Вот так всегда, Аркаша… Не найти правды русскому человеку.
Владимиров полез в карман, достал портсигар и с наслаждением закурил сигаретку. Омерзительные ощущения у него в животе постепенно отступали, и жизнь кругом с каждой затяжкой начинала казаться Артемию Ивановичу все лучше и лучше. И тут он вспомнил, ради чего он проделал опасный морской путь ночью по неспокойному морю и с какой целью приехал из Одессы в Севастополь.
— Послушай, татарин, — опять обратился он к торговцу апельсинами, который уже стал успокаиваться, считая, что победой в споре с русским завоевал право тихо сидеть со своими апельсинами, не подвергаясь более никакому разорению. — Мне мое начальство велело тут у вас лодку купить подводную. Есть там у них, говорит, ненужные, ты, говорит, туда в воскресенье приезжай, когда никого не будет, и какому-то ихнему севастопольскому начальнику на лапу дай. Но вот кому — позабыл. Вот, Аркаша, до чего пьянство доводит.
— Тебе Рыло надо дать, да? — сказал татарин. — Канэшна, разумейся, надо дать Рыло.
— Ах ты, подлец! — взорвался Артемий Иванович. — Это за что же мне в рыло? Мало того, что из-за вас, татаринов, водку не пей, так еще и в рыло?! Я тебе сам сейчас в рыло!
Он подбежал к татарину, вырвал у него корзину и бросил в сторону мальчишек. Те похватали апельсины и разбежались, понимая, что больше им уже ничего не достанется, а дело, скорее всего, кончится на этот раз полицией. И только маленький мокрый Аркаша продолжал стоять на пристани и, стеснительно глядя на бушующего Владимирова, бормотал:
— Дядечка, не надо его бить, Рылло — это не ваша рожа, это другой такой дядечка, его у нас все знают. Он что хочешь вам продаст.
— Что? — переспросил Артемий Иванович.
— Дядечка Рылло живет вон там, в углу Южной бухты на складе. Папа о прошлом годе у него за сто пятьдесят рублев огромные часы купил. У них на маятнике качалась моя сестренка. А до того папа купил чудовищный умывальник — с яхты «Ливадия», красного дерева с мраморной доской. Потом мама его с трудом кому-то втюхала и еще пять рублей сверху приплатила. И сказала, что в следующий раз этого Рылло убьет.
— Еще не убила?
— Нэт! — вдруг вмешался татарин. — Он гаворит — убил. Вчера Рыло которы мою корзинам забрал, обратно не дает, гаворит — его корзина. Канэшна, разумейся падлец, какой военный карзина! Не военный, я корзинам сам плету! А он гаворит, што в моих карзинам снаряды к пушкам подносили, когда он молодой человек был? Ты тоже мой апелсин давил, плати, да?
— На, на, подавись. — Артемий Иванович отсчитал медяков на пару рублей и сунул их татарину. — И как мне, Аркаша, до этого Рылла добраться?
— Туда лучше всего ялик нанять.
— Это правильно. Эй, татарин, подай-ка нам с Аркашей пяток апельсинов. Почем они у тебя? По десять рублей? Ничего себе! Вот ведь жиды проклятые! Ну да ладно, держи.
Он забрал апельсины и они с мальчишкой сели на краю причала, свесив ноги. Артемий Иванович заметил, что Аркаша дрожит в мокрой одежде от холода и по отечески набросил ему на плечи свой пиджак.
— Ты кем хочешь стать? — спросил он у своего маленького приятеля.
— Я хочу как вы, — робко ответил мальчик, стараясь не обидеть привязавшегося к нему дядю.
— А ты знаешь, кто я? — спросил Артемий Иванович. — Я писатель.
— Вы, наверное, Толстой?
Владимиров едва не подавился апельсином. К подобным провокациям он всегда был очень уязвим.
— Как ты угадал? Ведь я приехал инкогнито, без бороды.
— Я вас узнал. Мне папа рассказывал, что во время войны, когда он был совсем маленьким, он вас часто встречал, вы тогда тоже все время напивались, когда к моей бабке в гости приходили. Папа говорит, что вы нашей семье до сих пор сто рублев должны, которые моему деду проиграли.
— Я вижу, что тебя, Аркаша, тоже точит изнутри глист писательства. Становись писателем, не пожалеешь.
— А что вы, Лев Николаевич, сейчас пишете?
— Сказки я пишу нравоучительные для юношества. Хочешь, я тебе одну прочитаю?
Аркаша не был уверен, что ему хочется слушать нравоучительную сказку, однако благоговение, которое внушал ему граф Толстой, и врожденная застенчивость помешали ему отказаться от слушания.
— Сказка называется «Волшебная клизма», — начал граф Толстой. — Очень нравоучительная. Про маленького мальчика, который любил ставить клистиры всем своим домашним. Животным.
Тут Артемия Ивановича застопорило. Название сказки он придумывал в Якутске долгими ночами, но дальше варианта «Волшебная клизма Аладдина» дело не пошло. Не пошло оно и сейчас.
— В общем, э-э-э… — граф Толстой замолчал. — В общем, как книжка выйдет, я тебе ее пришлю. С дарственной надписью и своим гравированным портретом на первой странице. А где тут к Рылле возят?
— Да вот же ялики стоят. У любого спросите, вам скажут, — обрадовался Аркаша, что сказку можно не слушать. — А я непременно писателем стану.
— Главное — учись хорошо да папашу слушай, — сказал Артемий Иванович, погладил мальчика по влажным еще после купания волосам, отнял свой пиджак и направился к яличникам. — Да, скажи своему папаше, чтоб приезжал ко мне в Ясную Поляну за деньгами, — обернулся он к продолжавшему стоять на пристани Аркаше, прежде чем влезть в ялик. — Верну с процентами. Эй, яличник! Вези меня к Рылле. За пятак.
— Что ты, что ты! — замахал руками яличник на Артемия Ивановича. — Как можно к Рылле! Да мне ж потом у него ни в жизнь свой ялик не выцарапать будет. Я к нему возил самого коменданта полковника Древинга, так он мне ялик не отдавал. Похищен, говорит, сей ялик из морского ведомства в 1855 году. Если б комендант за полтинник не выкупил нас, плакал бы мой ялик. Я вас на Корабельную сторону перевезу, а там вы найдете. Там пешком недалеко.
Вся Южная бухта была затянута обычным в это время года туманом, сквозь который были слышны гудки пароходов. Слева, у Корабельной бухты, в тумане вырисовывались черные контуры новых броненосцев. Оттуда доносился грохот паровых лебедок и страшная ругань — это свозили на берег корабельное имущество. Выше, на горе, виднелись громадные корпуса Лазаревских казарм. Яличник, перевозивший Артемия Ивановича от Графской пристани, подробно объяснил ему, как найти Рылло, но везти к самому пакгаузу напрочь отказался. Артемий Иванович понял только, что ему надо держать путь вдоль берега Южной бухты направо, до какой-то не то балки, не то слободки. Путь оказался нелегок, зато по дороге хмель окончательно выветрился из Артемия Ивановича. Весь берег был застроен и загроможден бесчисленным множеством сарайчиков, хибар, огородов, перегорожен заборами, из-за которых на Артемия Ивановича бросались собаки, так что ему то приходилось то обходить препятствия под самым обрывом, чавкая по совершенно белой севастопольской грязи, то пробираться берегом, между лодок, пристаней, рыбачьих сетей и всякого ржавого железного хлама.
Именно к интенданту Рылло и держал путь Владимиров. Этот пакгаузный надзиратель слыл среди портовых рабочих чудаком, потому что хозяйство его состояло из большого амбара при мастерской, куда сваливали всякое барахло, однако являлся туда исправно каждый божий день, даже по воскресеньям, делая исключения только для праздников и табельных дней. В праздники же и по табельным дням он рыскал вдоль необъятных берегов Севастопольских бухт и бухточек, выискивая и стаскивая к себе на склад разнообразное брошенное за ненадобностью или по недосмотру имущество морского ведомства, не брезгуя при этом и имуществом коммерческих учреждений и частных лиц. Частные лица, главным образом севастопольские рыбаки и яличники, а также местные татары из уважения к местной достопримечательности и ветерану обороны его не били, хотя Георгий Константинович в этом вопросе вел себя совершенно как Плюшкин и выручить обратно свою вещь, если она уж попала к нему на склад, было вовсе невозможно. По утверждению яличника, к г-ну Рылло попали и четыре лодки, предназначенные для изготовления бакенов, одну из которых вполне можно будет заменить парочкой корпусов от мин заграждения, которых у Рылло видимо-невидимо. Яличник рассказал, как месяц назад на торпедных стрельбах в Балаклавской бухте утонули три самодвижущихся мины и как водолазы со всего флота искали их неделю. Две нашли, а третья, как утверждал севастопольский полицмейстер Плетнев, наверняка находится у того же Рылло на складе.
Найдя на портовых задворках заветный сарай, Артемий Иванович без стука отворил огромную скрипучую дверь и вступил в полумрак помещения, напомнившего ему заваленный хламьем чердак петергофской гимназии, на котором он в бытность там классным надзирателем прятался после выпуска от гимназистов, жаждавших намылить ему шею.
— Мне бы лодочку прикупить подводную, — сказал Артемий Иванович в пустоту.
Из темноты раздалось энергичное кряхтение и на свет явился г-н Рылло собственной персоной, невысокого роста, коренастый старик в морской шинели и в фуражке времен севастопольской обороны. На длинном подвижном носу ветерана красовалась огромная круглая бородавка с торчащими во все стороны седыми волосами, напоминавшая плавучую морскую мину.
— Может, шинельку адмирала Нахимова желаете? — спросил Рылло, подслеповато разглядывая пришедшего. — Вот она, шинелька, на мне. Извольте видеть, даже кровь адмиральская на воротнике, еще не отстиралась.
— Нет, мне лодку нужно подводную, системы Джевецкого, — Артемий Иванович скосил глаза на страшную волосатую бородавку.
Старик отступил в темноту, в темноте что-то зашуршало, упало с жалобным звоном и покатилось в дальний конец пакгауза, а из темноты вынырнул Георгий Константинович, держа в руке что-то, похожее на хомут, только почему-то из красного дерева.
— Стульчак с яхты «Ливадия». Царский, на обратной стороне вензель. Всего за рупь с полтиной.
— Зачем он мне нужен, стульчак ваш? — опешил Артемий Иванович.
— Не мой, а покойного государя батюшки.
— Мне бы все-таки лодочку.
— Упрямый вы какой болван, — расстроился Георгий Константинович. — Ну да ладно. Пойдемте, покажу. Всего одна осталась. С руками отрывают.
— Сколько возьмете?
— Десять.
Цифра в десять тысяч рублей неприятно поразила Артемия Ивановича, который уже сильно потратился и не знал, найдется ли у него такая сумма.
— Да у меня и денег таких нет.
— Ну и жмот же вы, господин хороший. А сколько у вас есть?
— Ну, пять, может быть, найдется.
— Черт с тобой, крыса сухопутная, — проворчал Рылло. — Грех упускать, коли само в руки плывет. Может быть полтинничек накинете? Все-таки имущество казенное. Нет? Ну и ладно, давайте ваши пять рублей. Только я вас должен для порядку в книгу записать.
Интендант подвел Владимирова к своему столу и спросил, ткнув грязным пальцем в маленькое ржавое ядро, придавливавшее бумаги на столе:
— А вот, не желаете ли ядрушко английское? Лично мне самому этим ядром чуть голову не снесло. — Рылло снял нахимовскую фуражку и перекрестился.
— На кой оно мне? Разве что орехи колоть…
Георгий Константинович укоризненно вздохнул и раскрыл огромную пыльную книгу, столь древнюю и столь толстую, что если бы на первой странице Артемий Иванович увидел бы запись «Получено от г-жи Евы Боговны Адамовой 3 рубля за райское яблочко», он ничуть не удивился бы.
— Вот тут вот есть у меня особая графа, — ткнул пальцем в желтый лист Рылло. — Как ваша фамилия?
Артемий Иванович замялся. Он не мог без особой надобности врать при заполнении официальных бумаг.
— Владимиров Артемий Иванович, — сообщил он после некоторых колебаний.
— Для себя покупаете или для какого барина? — поинтересовался интендант, шмыгнув носом, и бородавка зашевелила волосами.
— Для генерала Черевина, — с дрожью в голосе произнес Владимиров, отступив на шаг.
— Так и запишем: «для генерала Черевина», — заскрипел пером по бумаге Георгий Константинович. — А с какой целью?
— Наследника убивать.
— Ха-ха! Ну вы, батенька, шутник. — Рылло даже покачал головой. — Вот тут у меня помещик Волынский покупал лодку, так хотел тайно к своей соседке во время купания подкрасться и ей незаметно своего наследника сделать через перископ.
— Через перископ можно, — сказал Артемий Иванович. — Через перископ не заметит. Но естественным образом надежней. Мы же не рыбы какие, чтобы в воде размножаться.
— А теперь прошу внести денежки и пойдемте глядеть на лодку.
Артемий Иванович развернул тряпицу и тут интендант вдруг закричал, гневно выпучивая глаза:
— А говорили, у вас денег нет!
— Это не мои, — пояснил глупому интенданту Владимиров. — Это деньги казенные, выданы мне самим директором Департамента полиции.
— Так вы из полиции? — испугался вдруг Рылло. — От полицмейстера Плетнева? Торпеду я вам не отдам. У меня ее нету. Она сам ко мне в пакгауз заплыла. Смотреть надо, куда стреляете.
— Ну что вы, разве я похож на полицейского?
Георгий Константинович утвердительно кивнул.
— Глупости это все, — сказал Артемий Иванович, почувствовав себя сразу значительно увереннее. — Извольте получить червончик. Сдачу в размере четырех рублей пятидесяти копеек оставьте себе на водку. Ну, где тут у вас лодка?
Рылло принял червонец и долго рассматривал его при свете керосиновой лампы, потом упрятал красненькую в ящик стола и повел Артемия Ивановича в противоположный конец пакгауза, где большие ворота на намертво заржавевших петлях вели на гнилую деревянную пристань. Покинув склад через небольшую калитку, они подошли к дальнему задранному краю пристани, у которого стоял небольшой грязный угольщик. Артемий Иванович критически оглядел прилегающую к пристани акваторию, но кроме плававших в большом маслянистом пятне мусора и пены и ржавой полузатонувшей железной бочки с открытым для наполнения мазутом отверстием, привязанной за кольцо к свае, ничего не обнаружил.
Чуть дальше в сторону горловины Южной бухты и Лазаревского адмиралтейства на воде лежало какое-то странное круглое судно, похожее на сковородку с двумя трубами и сохнущим бельем на веревке между ними.
— Что это? — спросил Артемий Иванович, и ужас от того, что видимое им сейчас несуразное судно может оказаться подводной лодкой, нахлынул на него.
— Наша «поповка», — пояснил старик интендант. — Вторая на ремонт пошла в Николаев.
Артемий Иванович сглотнул слюну. Он хорошо знал, что такое «поповка». Не далее, как нынче на пароходе он приговорил две бутылки «поповки». Но никогда в жизни он не слышал, чтобы какая-либо водка ходила на ремонт. Единственным разумным объяснением было, что это круглое судно служило цистерной и в Николаев водку отвезли рабочим ремонтных мастерских.
— Так значит, это не подводная лодка? — с надеждой спросил Артемий Иванович.
Рылло очень обиделся.
— Какая лодка! Это броненосец береговой обороны, изобретения, как изволите видеть, вице-адмирала Попова.
Ну конечно, Артемий Иванович сразу понял, что такой круглый броненосец мог быть изобретен исключительно адмиралом Поповым. Да и то лишь после обильного принятия «поповки».
— А почему она не стеклянная?
Рылло обиделся еще больше. С тех пор, как этой весной вместо обеих «поповок» в состав Практической эскадры были назначены новопостроенные броненосные корабли «Екатерина II», «Чесма» и «Синоп», Рылло уже числил изобретения вице-адмирала Попова своей собственностью и потому очень болезненно относился ко всяким издевательствам и анекдотам про дурацкие круглые суда, которые прежде в достаточном количестве ходили по России и даже по всему миру.
— И каких только слухов не распускают! — проворчал он — И что она при выстреле вращается. Да она и ходит-то еле-еле, куда ей вращаться! Невежество-с!
— Ну, а где же моя лодка? — спросил потерявший интерес к «поповке» Артемий Иванович, оборачиваясь к Рылло.
— Да вот же, в воде плавает, — ответил Георгий Константинович, указывая на то, что Владимиров принял за железную бочку для мазута.
Артемий Иванович был поражен в самое сердце.
— А где же тут орган поместится? — спросил он.
— Да вы себе пищик в задницу засуньте, как педали вертеть будете, и будет вам орган, — потирая ручки, посоветовал Рылло и пошевелил волосатой бородавкой на носу.
Встав на гнилые доски причала коленями, Артемий Иванович наклонился над люком лодки и опустил туда голову. Измазанные мазутом маленькие иллюминаторы, шедшие по периметру едва выступавшей из корпуса рубки, почти не пропускали свет и Владимиров лишь в общих чертах сумел разглядеть какие-то механизмы, прятавшиеся в корпусе лодки. Где-то на дне плескалась вода.
— Угу! — крикнул Владимиров в темноту и эхо гулко ответило ему.
Старик терпеливо ждал окончания осмотра.
— Сойдет, — наконец вынес приговор Артемий Иванович. — Мне бы в Одессу ее доставить.
— Сто пятьдесят рублев-с, — ответил Рылло. — И ни копейкой меньше. Если вы заплатите мне деньги прямо сейчас, то уже завтра на пароходе «Трувор» крымско-кавказской срочно-грузовой и пассажирской линии ваша лодочка поедет в Одессу. Вон он стоит, «Трувор»-то. Я попрошу боцмана, он все мигом обтяпает. Георгия Константиновича Рылло на Черном море каждая собака знает.
— Мне бы за границу ее надобно представить.
— Так что ж вы сразу-то не сказали! Это ведь вовсе невозможно. Государственный секрет-с! Тут вам никто помочь не сможет. Категорически не допускается. Рубликов пятьдесят придется вам выложить сверху.
— А как же все будет?
— А очень просто. У меня имеется приятель в отделении транспортной конторы Южных железных дорог на пристани РОПиТ. Там они багаж за границу отправляют, всякие таможенные обрядности совершают, упаковку да укладку отправляемых товаров и все прочее, потребное к случаю. Там мы все таможенные обрядности и совершим-с.
— Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь знал… — засомневался Артемий Иванович.
— А никто и знать не будет. Я лодочку прямо тут в ящичек запакую, у меня есть даже дубовый, в нем из Англии еще в тридцать втором паровую машину для парохода «Успешный» доставили. Формальности все справим, оформим, как резервуар особой прочности для паровой машины, опечатаем, и в таком виде можно везти хоть в Лондон, хоть в Марсель, хоть в Александрию. А вечером, как туман сгустеет, мы вашу лодочку на катере к «Трувору» прямо в ящике отбуксируем да стрелой на борт и поднимем. В Одессе ее перегрузят, куда следует, и можно дальше ехать.
— А я в этом ящике поехать могу? — спросил Владимиров.
— Нет, сударь, этого совсем не возможно, — отказал старик. — Вам надо взять билеты в конторе Российского общества страхования и транспортирования кладей на пристани в Южной бухте или в городской конторе на Нахимовском проспекте в доме Мазурова. А потом хоть на якоре верхом езжайте.
21 октября, вторник
Пакгаузный надзиратель Георгий Константинович Рылло, несмотря на свою скромную должность, имел обширные связи во всех русских черноморских портах. Даже если в Одесском порту требовалось заменить какую-нибудь изношенную деталь на пароходе или ином судне, а таковой вдруг не оказывалось, капитан над Одесским практическим портом барон Бистром или его помощники Телегин и Перелешин посылали в Севастополь какого-нибудь человека, которым чаще всего оказывался делопроизводитель Лащинский, и ближайшим же обратным пароходом такая деталь доставлялась. Взамен начальство сквозь пальцы смотрело на некоторые грешки Георгия Константиновича, такие как провоз неоформленных грузов или продажа никому не нужного лома частным лицам.
Именно таким неоформленным грузом и была доставленная в Одессу «Трувором» вместе с новым владельцем подводная лодка. За небольшую мзду Лащинский, к которому по совету интенданта Рылло обратился Артемий Иванович, лодка была сгружена на берег, и вместе с деревянным ящиком, в который была упакована, нашла временный приют среди тюков с египетским хлопком.
Не решившись более поселяться в гостинице «Лондонская», Владимиров нашел себе пристанище у шумной многодетной рыбачки, сдавшей ему одну комнату в своем доме на Карантинной. После севастопольского «Гранд-отеля» на Екатерининской улице близ агентства РОПиТ, где номер на ночь стоил десять рублей, рыбачья лачуга казалась Артемию Ивановичу разве что не хлевом, но зато здесь Владимиров чествовал себя в безопасности от возможных кредиторов. К вечеру подул сильный юго-восточный ветер, к ночи превратившийся в настоящую бурю, и Артемий Иванович пал жертвой сильнейшего приступа морской болезни, случившейся с ним от одной мысли, что отправься он из Севастополя на день позже, и шторм застиг бы его в море. Преодолевая тошноту, Владимиров вышел на улицу и под проливным дождем пошел к морю. Здесь ему стало еще хуже. Огромные волны накатывали на берег, заливая брекватер и набережную и обдавая палубы стоящих в порту пароходов, которые высоко взлетали на волнах и бились о гранитную набережную. Вдоль всего берега стояли портовые стражники, следившие за сигналами пароходов в открытом море. Морская болезнь взяла свое, но после рвоты Артемию Ивановичу полегчало и он поспешил домой из-под ледяного дождя обратно в теплую постель.
Весь следующий день свирепствовал северный ветер, пароходы не выходили, а портовая полиция с подзорными трубами следила за возможными сигналами бедствия на море. Последовав примеру пароходов, Артемий Иванович тоже никуда не выходил, день деньской распивая с хозяйкой чаи. В четверг к утру буря наконец стихла, зато на улицы Одессы выпал снег. Всю одежду Артемия Ивановича составлял только его пиджак, и Владимиров совсем затосковал, глядя на побелевшие тротуары. Ему захотелось в теплые края, поэтому, одолжив у рыбачки армячок, принадлежавший служившему когда-то в доме кухонному мужичку, он отправился в агентство РОПиТ в Карантинной гавани, чтобы выяснить, когда же отбудет ближайший пароход на Александрию. Оказалось, что он едва не опоздал: пароход «Россия» отходил из Одессы александрийским рейсом через два дня. Предполагалось, что если позволит погода, он выйдет из Карантинной гавани в субботу в четыре часа пополудни, погрузив перед этим на борт пятнадцать машинных частей для доставки их на «Память Азова» в Порт-Саид, которые должны будут прибыть в Одессу по железной дороге утром в день отправления. Явившись к Лащинскому, Владимиров известил его, что желает вместе с грузом отбыть на «России» и после подсовывания под тяжелое пресс-папье соответствующей мзды дело было улажено.
Теперь Артемию Ивановичу оставалось незаметно миновать границы империи, а там по пути сойти с парохода и на каком-нибудь другом добраться до Венеции, где его должен был ждать Фаберовский. Но прежде следовало посетить почту и получить корреспонденцию от поляка, чтобы узнать точное место и время встречи.
— Тут на мое имя должна поступить заказная корреспонденция, — заявил он почтовому служащему, явившись на почту слегка навеселе, потому что не удержался и посетил несколько попутных кабаков.
Серьезный служащий раскрыл гроссбух и вопросительно посмотрел на Артемия Ивановича.
— Что-то не так? — спросил Владимиров и смущенно принялся застегивать штаны.
— Фамилия?
— Чья? Моя, что ли? Владимиров.
Служащий долго рылся в гроссбухе, потом сказал:
— На ваше имя ничего не поступало. Можете сами убедиться.
Артемий Иванович нацепил пенсне и в свою очередь пролистал весь гроссбух от начала до конца. Фамилии «Владимиров» в нем не было.
— Но как же я в Венецию поеду?! — возмутился Артемий Иванович. — Ищите, должна быть.
— Но вы же сами видели, что фамилии «Владимиров» здесь нет! — хлопнул по гроссбуху почтовый служащий.
— Так ее там и не должно быть! Я по паспорту Гурин.
Сидевший в уголке невзрачный человек в котелке заинтересованно поднял голову.
— А вы чего на меня уставились?! — набросился на него Владимиров. — У вас самого, небось, другая фамилия! А ну-ка, покажите мне ваш паспорт!
— Да я чиновник Одесского охранного отделения! — вскочил человек.
— Испугал ежа голой задницей. Я у самого Рачковского в заграничной агентуре служил. Я и теперь секретную миссию исполняю, а не штаны по почтам просиживаю.
— Господин Гурин, — окликнул разошедшегося Владимирова почтовый служащий. — Но и на Гурина нет никакой корреспонденции!
— Дурак! Для конспирации вся корреспонденция адресуется на фамилию Кузнецов. Это у меня любовница в Англии была с такой фамилией. И побыстрей ищи! У меня в субботу пароход в Александрию уходит, а я до сих по не знаю, где мне с моим агентом встречаться.
— Сударь, сударь, нельзя ли побыстрее, — забеспокоился какой-то чиновник.
— Молчать! — рявкнул Владимиров и оглядел очередь, выстроившуюся позади него. Под этим мутным бычьим взглядом самые робкие попятились, а человек в котелке надвинул котелок на глаза.
— Я по личному повелению государя императора. Я вас тут всех в порошок!
— И Кузнецова нет… — пискнул служащий за конторкой.
— Я же тебе объяснил, скотина неученая: это в Англии у меня была любовница, а по ихнему Кузнецова на русском языке Смит будет!
— Имеется, имеется! — обрадовано закричал служащий и в очереди облегченно вздохнули. — Целых четыре телеграммы.
— Читай! — велел Артемий Иванович.
Очередь оцепенела, шпик насторожился и подался вперед, и чиновник тонким дрожащим голосом стал читать:
— «Жду Венеции полдень 27 октября Григорианскому стилю в понедельник площади Св. Марка Фаберовский ».
— В аккурат успею, — довольно сказал Артемий Иванович, забирая телеграмму. Он уже направился к выходу, когда боковым зрением заметил, как шпик тщится записать что-то на телеграфном бланке скверным казенным пером.
Свернув со своего пути, он подошел к увлеченному своим занятием сыщику и, ухватив котелок на голове шпика за поля, натянул тому шляпу по самые плечи. После чего скомкал бланк, на котором ужасным почерком излагался текст телеграммы Фаберовского, и со словами: «Память надо лучше иметь», гордо удалился.
Глава 18
25 октября, суббота
Не прошло и двух недель с того момента, как заведующему Заграничной агентуры в Париже Петру Ивановичу Рачковскому стало известно о секретном указании генерала Шебеко Одесскому жандармскому управлению следить за всеми подозрительными лицами, отбывающими из Одессы в Египет, как новая телеграмма от своего человека в жандармском управлении известила Рачковского о том, что некий субъект, который, вероятно, и является разыскиваемой личностью, сел в Одессе на пароход «Россия», отправляющийся в Египет александрийским рейсом.
Спустя два дня Рачковский получил от того же агента срочное письмо, сообщавшее подробности:
«Указанный господин устроил на почте дебош, требуя, чтобы ему представили корреспонденцию poste restante на имя некоего Владимирова, а когда таковой не оказалось, то на имя Гурина. В конце концов оказалось, что его настоящая фамилия Кузнецов, но для конспирации он избрал написание ее на английский манер — Смит. При всех тех безобразиях, который были им учинены, он постоянно упоминал, что на уходящем в субботе пароходе (а таковым был вышеуказанный пароход РОПиТ «Россия») он отправляется в Венецию, а не в Египет, как я ошибочно указывал в телеграмме. Мне удалось записать текст полученной им депеши, которую я привожу здесь полностью: «Жду Венеции полдень 27 октября Григорианскому стилю в понедельник площади Св. Марка Фаберовский» .
— Что, Петр Иванович, плохо? — участливо спросил Продеус, сидевший на диване напротив.
— Просто дрянь, — Рачковский отложил письмо и встал из-за стола. — Опять этот Гурин! Навязался, что слепень в жару.
— Зря вы с ним так мягко, Петр Иванович. Все доброта ваша. Не надо было вам этого хлыща Бинта посылать. Курочки, рюшечки, бабы с шампанским… Я бы ему просто шею, как гусенку, свернул, да и в реку.
— А ведь, казалось, Бинт человек опытный, дольше меня в тайном сыске работает, а так опростоволосился.
— Да что он супротив нашей русской натуры может! Владимиров-то чай не лыком шит! Если б не он, нас городовые на кладбище непременно бы сцапали. Хитрый он, Гурин, ой хитрый…
— Да идиот твой Гурин! И я идиот, что в свое время связался с ним. Теперь вот расплачиваюсь.
— А что он такого на этот раз натворил?
— Пока что ничего. Едет в Венецию.
— Прикажете изловить?
— Да ты пока до Венеции доберешься, он уже исчезнет. Придется просить Бинта, он сейчас ближе, в Австро-Венгрии, в Триесте. Морем до Венеции верст сто будет всего.
— Попомните мое слово, Петр Иванович, Гурин опять у Бинта сбежит.
— Не сбежит. Пусть он только найдет мне Гурина, а там уж и твой черед придет.
— Это хорошо, это я хоть сейчас готов.
— Сейчас ты пойдешь телеграмму Бинту отправлять.
Итак, не оставалось никаких сомнений, что оба его врага, возможно при содействии Селиверстова или Федосеева, намеревались собраться в Венеции. Целью их сборища, как полагал Рачковский, должен был стать план возбуждения процесса против него по обвинению в превышении полномочий и учинению уголовных преступлений на территории иностранного государства.
/Немедленно отправляйся./
27 октября, понедельник
Узкая черная гондола бесшумно скользила по глади венецианской лагуны, направляясь от только что вставшего на якорь австрийского парохода из Триеста прямо в створ площади Св. Марка между двумя колоннами. На сидении, развалившись, сидел Анри Бинт. Его соломенное канотье было надвинуто прямо на глаза, чтобы защитить француза от ярких бликов, на которые дробилась солнечная дорожка на мелкой водной ряби. Опущенная в теплую воду холеная ручка вызывала тихое журчание около борта, что страшно раздражало бородатого гондольера, который то и дело прерывал свою песню, чтобы выругаться и посмотреть, произведет ли его ругань какой-нибудь эффект на пассажира. Но его бурная итальянская речь вызывала реакцию только на других гондолах, свозивших на берег туристов с этого же австрийского парохода.
Бинт же не обращал на своего возницу ни малейшего вимания — он был слишком раздражен поездкой в Венецию. Он приезжал сюда второй раз в жизни, и опять не для развлечения, а по служебной надобности. В свой первый приезд, еще в бытность французским полицейским, по крайней мере он охотился за нормальным преступником, вором Жозефом Филипом, а не за сумасшедшим русским, действия которого были совершенно непредсказуемы, а всякая встреча с ним грозила неприятностями. Своей загадочностью Артемий Гурин напоминал Бинту сфинкса, с тою лишь разницей, что Гурин не лежал безмолвно в египетской пустыне, а был вечно пьян, суетлив и стихиен.
После своего фиаско с пикником на озере француз твердо для себя решил, что на этот раз он будет действовать быстро и без всяких хитростей. И если ему посчастливится поймать Гурина, он избавится от него самым простым и скорым способом, какой только представится ему. Представив, как он убивает Гурина из револьвера, Бинт физически почувствовал, как у него чешутся кулаки сделать это поскорее, и, вынув руку из воды и встряхнув ею, француз обернулся к гондольеру и властно прикрикнул на того, велев поторапливаться.
— Я доплачу тебе 50 чентезимо, если ты довезешь меня до пристани раньше, чем туда прибудут все остальные пассажиры с моего парохода!
Гондольер налег на весло, и прежде чем другие гондолы также сорвались с места, они растолкали носом с начищенной до блеска алебардой пустые гондолы у пристани перед Пьяцеттой.
— Синьор обещал заплатить мне на пол лиры больше, — напомнил гондольер, когда Бинт полез в кошелек. — И пусть синьор сделает это прежде, чем сойдет на берег. А то мне сегодня днем один русский синьор пообещал тысячу лир, если я домчу его на гондоле от Палаццо до моста Риальто за пятнадцать минут. Однако когда я подплыл к мосту, его почему-то в гондоле уже не было. Куда он делся с моей тысячью лир — до сих пор не знаю.
— Знаю я этого синьора, — вмешался другой гондольер, — Он мне всю гондолу заблевал, когда я его сегодня утром с парохода на берег перевозил.
Отметив про себя, что кажется догадывается, о ком идет речь, Бинт расплатился и сошел на берег. Похоже было, что он напал на след и дело начинает складываться. Распорядившись, чтобы вещи были доставлены в «Гранд-Отель Даньели» неподалеку на набережной Скьявони, француз направился на площадь, куда первым делом всегда устремлялись туристы, прибывавшие в Венецию. Беглый осмотр показал, что среди толпившейся на Пьяцетте и сидевшей за столиками праздношатающейся публики Гурина не было. Люди беззаботно пили кофе и увлеченно кормили зернами маиса наглых жирных голубей, которые дрались, хлопая крыльями и отгоняя друг друга. Никому не было дела до Бинта с его проблемами, что опять вызвало у француза прилив желчи.
У одного из флагштоков с громадными красно-зелено-белыми флагами, выстроившихся в ряд перед собором Св. Марка Бинт заметил какую-то суету и направился туда. Подойдя ближе, он увидел муниципального полицейского чиновника, терпеливо отгонявших любопытных зевак и назойливых детей от кучи дохлых откормленных голубей, сложенной рядом с ним.
— Простите, мсье, — обратился к полицейскому француз. — Я только что приехал и еще не читал газет. Эти мертвые птицы — следствие какой-нибудь эпидемии? Возможно, холера или чума?
— Нет, синьор, — ответил полицейский, оглянувшись на кучу. — Это один пьяный русский синьор передавил их сегодня днем, когда гонялся за единственным на Пьяцетте белым голубем.
— Странные действия для нормального человека, — заметил Бинт, на которого куча дохлых голубей произвела угнетающее впечатление, живо напомнив ему картину растерзанной Шарлотты де Бельфор на берегу лесного озера.
— Синьор утверждал, что это почтовый голубь, и что он прислан ему русским царем с депешей. Нам пришлось сообщить в русское консульство и после долгих переговоров мне велели этого синьора Бинта отпустить.
Бинт был потрясен до глубины души. Он отошел от полицейского чиновника и осаждавших его ротозеев и остановился в полной растерянности. Если этот подозрительный русский синьор действительно Гурин, то, значит, он знает о приезде Бинта в Венецию и специально совершает всякие невообразимые глупости, и затем выдает себя за Анри Бинта, чтобы затруднить французу выполнение его задачи. Во всяком случае, после того, что поведал полицейский, Бинту следовало посетить русское консульство. Что он и сделал, направившись на Сан-Самуэле во дворец Моро-Лин, где размещались консульские службы Российской империи.
— Синьор, снимитесь на память о прекрасной Венеции, — окликнул его на площади Сан-Анжело фотограф, сидевший на скамеечке рядом со своим громоздким аппаратом на треноге и посасывавший вино. — Всего десять сольдо. Пять сольдо за любой из видов Жемчужины Средиземноморья! Имеются интересные открытки французского жанра! — при этом фотограф понизил голос и ухватил Бинта за рукав.
— Мне некогда! — огрызнулся француз.
— Как может быть некогда, синьор, когда я предлагаю вам такой прекрасный товар. Взгляните на эту очаровательную девушку. На ней почти совсем нет одежды. Если вы, конечно, не женаты, синьор.
Чтобы отвязаться от назойливого фотографа, Бинт залез в карман и протянул было тому монету в пол-лиры, когда взгляд его наткнулся на выставленную в качестве образца фотографию, изображавшую нарисованную на холсте полногрудую русалку (этот холст с дыркой вместо головы стоял у фотографа за спиной) с мужским лицом, в котором Бинт мгновенно узнал своего противника.
— Скажите, мсье, что это за фотография?
— О, синьор, не обращайте внимания. Это всего лишь образец. Обычно с этим фоном у нас снимаются девушки. Для мужчин у меня есть фон в виде славного гондольера, плывущего по большому каналу на гондоле на фоне моста Риальто и распевающего баркароллы.
— Меня интересует именно эта фотография.
— Увы, синьор, клянусь Мадонной, но она заказана одним русским синьором. Он большой чудак, сказал, что скоро тоже будет плавать под водой, как русалка и потому желает сняться именно в таком странном для мужчины виде. Он обещал забрать карточку завтра.
— Напечатайте ему другую. А эту я заберу с собой.
— Но синьор!
— Вот тебе лира и угомонись, — Бинт добавил к половине лиры еще одну такую же монету и, забрав карточку, продолжил свой путь.
Такие явные следы жизнедеятельности Гурина, встречавшиеся ему буквально на каждом шагу, куда бы он не направлял свой путь, показались ему подозрительными. Не кроется ли за всем этим какая-нибудь ловушка?
С замиранием сердца он вошел в здание дворца, выходившего фасадом на Большой канал прямо напротив палаццо Джустиниани. В фойе отдал лакею свою визитную карточку и стал дожидаться, когда его пригласят для беседы. Ждать пришлось на удивление недолго.
— Что вы там натворили, господин Бинт?! — с возмущением обратился к нему молодой человек с всклокоченными бакенбардами и кривыми ножками ижицей, уперев руки фертом. — Нам едва удалось договориться с префектурой, чтобы вас отпустили. Иначе представляете какой возник бы скандал! Тайный агент русского правительства попирает достояние Венеции, давя голубей на площади Св. Марка! Нам пришлось бы объявить вас душевнобольным и дезавуировать ваши действия.
— И вы, конечно же, посылали запрос в Париж? — обреченно спросил Бинт.
— Да уж, пришлось нашему консулу графу Бенбо порадовать и вашего начальника господина Рачковского, и парижского консула Карцова. Уж не знаю, докладывали ли они послу барону Моренгейму, но телеграмма о том, что мы любым способом должны избежать огласки вашего пребывания в Венеции и не допустить ареста властями, пришла нам не из консульства, а из посольства.
«Хитрый, дьявол!» — подумал француз, холодея. Он представил, какой разнос учинит ему Петр Иванович по возвращении в Париж, ведь Рачковский не знает, что все эти инсинуации происходят от Гурина. Мало того, Рачковский, скорее всего, понял дело так, что задержание Бинта связано с тем, что он убил Владимирова и теперь был страшно обеспокоен.
— Я бы вам советовал, господин Бинт, — сказал молодой человек с ногами ижицей, — чтобы вы по крайней мере на неделю исчезли из Венеции или затаились где-нибудь, пока все не успокоится. Иначе даже наших возможностей может не хватить, чтобы замять ваш дурацкий поступок.
Бинт знал, что оправдываться ему бесполезно. Он покинул консульства и вернулся на Пьяцетту, где сел за столик и заказал себе кофе. Проклятые голуби тут же насели на него, они садились на плечи, на щегольское соломенное канотье, бродили по столу и едва ли не лезли в рот. Дважды он вынужден был выуживать из кофе голубиные перышки, не решаясь даже шикнуть на мерзких птиц, чтобы его, не дай Бог, не обвинили в покушении на достояние Венеции и не заставили назвать свою фамилию.
На какое-то время он оказался избавлен от голубей, когда к нему подошел монах в сутане и стал трясти жестяной кружкой перед носом, призывая пожертвовать на церковь. Однако он оказался не менее назойливым, чем голуби, и Бинт все-таки потерял терпение. Француз вскочил и наорал на опешившего монаха, который не привык к такому обращению и поспешно ретировался в собор, уступив место обратно голубям.
Знакомая русская речь, раздавшаяся за спиной у Бинта, заставила его обернуться. От резкого движения голуби с шумом взлетели и француз увидел, как к нему тотчас направился полицейский чиновник.
— Смотри, папенька, этот дядя тоже гулей пугает, — сказал маленький русский мальчик своему отцу, с которым они занимали соседний столик.
— Ну что ты, Петенька, он же не бегает по площади! — ответил папаша.
Мальчик встал из-за стола и, подойдя к Бинту, заглянул в глаза.
— Дяденька, поймай гулю, — шепотом попросил он.
Бинт не очень хорошо знал русский язык, но просьбу мальчика он понял сразу.
— Убрайся прочь, маленький негодяй! — зашипел он на мальчика. — Иначе я отдам тебя полицейскому. — И Бинт указал на остановившегося невдалеке полицейского чиновника.
— А тот русский дядя поймал мне гулю, — презрительно сплюнул мальчик.
— Петенька, зачем ты плюешься! — вмешался отец. — Это неприлично.
— Дяденька Бинт сказал мне, что он не только гулю, он мне и журавля поймать может. А у этого французишки кишка тонка!
— Ну-ка, мальчик, подойди сюда! — зарычал Бинт, так что даже голуби на соседних столиках на мгновение перестали попрошайничать и приставать к людям. — Вот это твой дяденька Бинт?
И он продемонстрировал испуганному мальчишке карточку с Артемием Ивановичем в виде русалки. Мальчик утвердительно кивнул, а потом вдруг закричал отцу, срываясь на петушиные нотки:
— Папенька, папенька, почему он мне картинки с голыми тетками показывает, какие я у тебя в бюро на пасху нашел!
— Как вы сметее! — вознегодовал папаша и стал подниматься из-за стола. Пролицейский, собравшийся было удалиться, вновь обратил внимание на Бинта и переместился ближе к сцене событий.
Положение складывалось не в пользу Бинта и он, спрятав фотографию и заплатив за кофе, поспешно бежал с Пьяцетты на набережную. Усталый и убитый появлением неприятного двойника, он решил укрыться до утра в гостинице, куда уже должны были доставить его багаж. А утро, как утверждает пословица этих невозможных русских, вечера мудренее.
Гостиница находилась в богато украшенном красном четырехэтажном здании в остроарочном стиле XV века с желтой вывеской «Отель Роял Даньели», с бело-голубыми полосатыми тентом над набережной и маркизами над окнами.
— Сколько у вас стоит одноместный нумер? — спросил Бинт у портье внизу, войдя в сумрачный и прохладный после уличного света холл.
— Наши номера от пяти лир. Стол для проживающих в отеле полторы, три с половиной и пять лир, пансион от двенадцати лир и больше.
— Я согласен, — устало сказал Бинт. — Отнесите мои вещи в номер. — И он подал свою визитную карточку портье.
— Я не могу этого сделать, синьор, — возвратил карточку тот. — С нас хватит одного Бинта. Если вас что-то не устраивает, обращайтесь к хозяину, синьору Боцци.
— Ненавижу! — воскликнул Бинт и его тоненькие напомаженные усики распушились от гнева. — Будь проклят этот Гурин и ваш дурацкий отель вместе с синьором Боцци!
Глава 19
1 ноября, суббота
Синьор Боцци нетерпеливо прогуливался в холле своего отеля и с заметным раздражением поглядывал через открытую дверь на улицу, где прямо перед входом в отель на набережной бесновалось полтора десятка женщин, своим видом и поведением не оставлявшие сомнений в своей принадлежности одной из древнейших профессий. Вот уже третий день подряд эти женщины торчали перед его гостиницей, пугая сидевших за столиками уличного кафе при отеле постояльцев. Для безупречной репутации одного из самых дорогих и фешенебельных отелей в Венеции, каковым был «Гранд-Отель Даньели», это был серьезный удар. И сейчас синьор Боцци ожидал кардинального разрешения этой проблемы. Откуда-то сверху раздался шум и он выжидательно взглянул на лестницу. Вскоре показались два дюжих лакея в ливреях отеля, тащившие изо всех сил упиравшегося Артемия Ивановича. Еще один лакей нес следом небольшой потертый чемоданчик.
— У меня тут заплачено! — визгливо выкрикивал Артемий Иванович и возмущено сучил в воздухе ножками. — Канальи!
Ругательство «канальи!» казалось ему наиболее подходящим для местных жителей, живущих среди зловонных каналов.
Лакеи встряхнули его, приводя в чувство, и поволокли дальше. Артемий Иванович знал, что ничего у него не заплачено, и что он должен за пятикомнатный номер с двумя ванными ценою двадцать лир за три дня, но не мог смириться с итальянской бесцеремонностью. Он бывал во многих европейский городах, но нигде с ним не обращались так грубо, выкидывая из местного «Гранд-Отеля».
— Канальи! — крикнул он еще раз и забился в руках у лакеев еще сильнее, завидев толпу женщин у входа.
Завидев Артемия Ивановича в темной глубине отеля, женщины взревели и в воздух гневно взметнулись пятнадцать кружевных зонтиков с крепкими ротанговыми ручками.
— Каччо!
— Мадонна путтана!
— Ла френья ди туа соррелла!
— Минкьоне!
— Каццо!
— Мерда!
Поток непонятных гневных ругательств, извергнутых жрицами любви на голову Артемия Ивановича, не на шутку испугали его. Он вырвался из рук лакеев и бросился обратно на лестницу, сбив с ног того, что не спеша шел с его чемоданчиком. Проститутки ворвались в отель, смяв сопротивление швейцаров, и ринулись следом за Владимировым.
— Синьор Бинт! — заверещал Боцци. — Вай ин мона! Ватти а фаре уна пипа!
— Сам ты пипа! Суринамская! — успел выкрикнуть хозяину отеля Артемий Иванович, прежде чем был настигнут разъяренными женщинами.
Такое непонятное для большинства обитателей гостиницы поведение путан объяснялось очень просто. В первый же день своего пребывания в Венеции, отпущенный с извинениями из префектуры на поруки русскому консульству, он вернулся в гостиницу, сняв по пути всех проституток на набережной Скьявони от площади Св. Марка вплоть до Публичного сада. Их оказалось ровно пятнадцать штук. Приведя их к себе в номер, он усадил растерянных жриц любви на диваны и, взяв в спальне со столика только что оконченную рукопись своей нравоучительной сказки для юношества о пользе промывания желудка раствором марганцовки в пропорции 1:3, озаглавленную «Волшебная клизма», принялся за чтение. Вскоре он устал и удалился в спальню, где крепко уснул, предварительно заперев дверь. Ожидавшие неистовой оргии, буйной вакханалии и чудовищных непристойностей, проститутки ждали продолжения почти до пяти утра. Поняв, что дело обстоит как-то иначе, они стали стучаться в спальню к Артемию Ивановичу, пока соседи его по коридору не пожаловались синьору Боцци, и по его указанию лакеи и швейцары не вытурили их из отеля. Следующие три дня «Гранд-Отель Даньели» находился в настоящей осаде, а Артемий Иванович не рисковал даже носа высовывать из номера, забаррикадировав дверь мебелью. Зато он нашел себе отменное развлечение. Взяв большую резиновую клизму, служившую ему для вдохновения при написании сказки и одолженную у гостиничного доктора, он набирал в нее воды и прыскал в прохожих, гулявших по набережной. И вот наступила расплата.
Чей-то зонтик, зацепив Артемия Ивановича за ногу, прервал его стремительный бег вверх по лестнице и он упал, покатившись вниз по ступенькам. Словно снежный ком, он оброс сбиваемыми с ног женщинами и докатился до самого синьора Боцци, оставшись совершенно невредимым в отличие от своих преследовательниц. Он выбрался из груды визжащих и матерящихся тел, ударил головой синьора Боцци в живот и выскочил на набережную. Его растрепанный вид, оторванный у пиджака рукав и яркий венецианский фонарь под глазом распугал публику, которая мгновенно освободила ему путь.
Артемий Иванович успел добежать до горбатого мостика перед Дворцом дожей, прежде чем из отеля с воем, словно рой разъяренных лесных пчел из разворошенного медведем гнезда, вылетела орава путан и кинулась в погоню. Оказавшись в роли Орфея, преследуемого неистовыми вакханками, Владимиров, словно лань, полетел по набережной к Пьяцетте. Из вынесенных из гимназических коридоров знаний он смутно припоминал, что оторванная голова Орфея по какой-то реке доплыла до острова Лесбос и там вещала всякие пророчества местным жителям, лесбиянам и лесбиянкам. Размышляя о сих приятных перспективах, он не замедлял ход, будучи уверен, что вонючим венецианским каналам его голова может, конечно, волею судеб вместе с дохлыми крысами и расколотыми гнилыми арбузами выплыть в море, но уж точно не доплывет до Лесбоса.
При его появлении на площади Св. Марка огромная стая жирных голубей поднялась с мостовой, сизой тучей закрыв небо, и тут же попадала обратно, не умея толком летать. Полицейский чиновник истошно закричал и бросился к Артемию Ивановичу наперерез, но он был такой же жирный и не приспособленный к быстрым телодвижениям, как и голуби, так что через несколько шагов вынужден был остановится, чтобы перевести дух.
— Папа! Папа! — раздался на всю площадь звонкий мальчишеский голос. — Это же тот дядя, который поймал белую гулю!
Артемий Иванович встретился взглядом с восхищенными глазами мальчика, сидевшего со своими родителями за одним из столиков, и оглянулся. Он сильно опередил своих преследовательниц, которым тяжело было бежать на высоких каблуках. Остановившись и расправив грудь, Артемий Иванович приветственно махнул мальчику рукой. Он хорошо запомнил его с того злополучного дня, когда в ожидании прихода Фаберовского на площади Святого Марка ловил для мальчика голубей.
— Чего это он, Тит Спиридонович, от женщин бегает? — спросила у мужа мать мальчика. — И господин вроде приличный, Кирюше вот гулю словил…
— Потому что наш, природный русак, — с гордостью ответил Тит Спиридонович. — Говорят, что несколько дней назад он заперся в номере с пятнадцатью магдалинами и демимонденками, и к утру свел их всех с ума. Во как! Знай наших!
Жена проводила взглядом Артемия Ивановича, вновь начавшего свой бег в сторону собора, и только тяжело вздохнула.
— Вот он пятнадцать, а ты… только и можешь картинки срамные покупать! Весь саквояж ими забит. А если Кирюша их увидит?
— Да видел я эти картинки! — презрительно ответил Кирюша. — У нас в гимназии второгодник Поросятьев и не такие приносил. На одной, значит, вот что: стоит баба голая, а он ее…
Отцовская затрещина прервала его монолог. Полицейский чиновник, улыбнувшись, отвратил свой взор от уже не достижимого Владимирова и направился к нарушающему общественный благопорядок семейству русских туристов. А Артемий Иванович пробежал между Кампаниллой и собором и с новыми силами понесся дальше, все больше и больше углубляясь в лабиринт узких и кривых венецианских улочек. Очень скоро он совершенно потерял ориентацию, запутавшись в бесконечной череде мостов через тихие каналы, маленьких площадей с церквями и одинаковых в своей пестроте домов со стрельчатыми окнами. Еще с четверть часа после того, как за его спиной затих стук каблуков последней из державшихся преследовательниц, он зайцем метался то вправо, то влево, не осознавая, что опасность миновала и можно остановится, потом колени у него задрожали и он плюхнулся на ветхую скамейку между игравших на ней полуголых детишек.
Владимиров огляделся и животный ужас, с которым не мог сравниться легкий страх, испытанный им при мысли о том, что его могут разорвать неистовые фурии, пробрал его до самых кишок. Кругом был совершенно незнакомый ему город, никак не походивший на ухоженную Венецию Большого канала, Пьяцетты и набережной Скьявони. Огромные девятиэтажные дома, с грязными, испещренными зелеными пятнами плесени стенами, исполосованные со стороны зловонного канала потеками нечистот, с обвалившейся и обнажавшей язвы крошащегося красного кирпича штукатуркой, окружали его. В домах не было ни одного целого стекла, которое везде заменяла обычная серая бумага. Он находился в самом центре еврейского квартала позади канала Канареджио, в знаменитом венецианском гетто.
— Уж лучше бы я остался с теми пятнадцатью шлюхами, — пробормотал Артемий Иванович и крупная слеза жалости к себе навернулась ему на глаза.
— …юхами …юхами, — вяло ответило ему эхо, отразившись от разрушающейся и выветрившейся кладки высоких домов.
Владимиров прислушался. Слезы быстро высохли и он, набрав полную грудь воздуха, крикнул во все горло:
— Да лучше бы я остался один на один с пятнадцатью шлюхами, чем оказаться в этом жидовском гнезде!
Слово, которое, как ему показалось, было возвращено эхом, оказалось столь неприличным, что он даже покраснел. «Вот ведь, эхо итальянское, а отвечает по-русски, да еще матом!» — подумал он, одобрительно покачав головой.
— Кому не спится… — начал было Артемий Иванович, чтобы еще раз подтвердить свои предположения об особых талантах в части знания русского языка у здешнего эха, когда картавый женский голос сказал у него прямо над ухом с оттенком нескрываемого восхищения:
— Это-таки правда, что говорила мне Цивля за русского мущину, познавшего одной ночью пятнадцать женщин! Что скажет русский мущина за то, чтобы Рухля-Шейна Блидштейн прибрала такое сокровище к своим нежным грудям?
Артемий Иванович затравленно огляделся. Он уже был уверен, что ушел от погони, как вдруг его настигли в таком страшном месте.
— Не подходите! — сказал он, вцепляясь ногтями в гнилые доски скамейки. — У меня нет денег.
— Пятнадцать шикс стоят очень дорого, — согласилась женщина, назвавшая себя Рухлей-Шейной. — Я отдамся русскому мущине бесплатно. Я даже буду кормить русского мущину, если Цивля мне про него не наврала.
Артемий Иванович, который за все три дня, проведенные им в осаде, не имел во рту ни крошки, громко сглотнул слюну.
— Я не ел уже три дня, — робко сказал он.
— Русскому мущине было некогда? Когда у тебя пятнадцать женщин, тут уж не до еды.
— Я брызгал в окно на прохожих и на шлюх, которые поджидали меня внизу.
— Зачем же русский мущина растрачивал свое богатство понапрасну?
— Да у меня богатства-то с гулькин нос! — махнул рукой Артемий Иванович.
Рухля-Шейна молниеносным движением протянула руку к штанам Владимирова и он подскочил как ужаленный, спугнув ребятишек, которые давно уже перестали играть и с интересом следили за ним и тетей Рухлей.
— Не прибедняйтесь, — сказала Рухля. — Если у вас нет денег на проституток, это не значит, что надо спускать свою мужскую силу в окно. Пойдемте, мое сокровище.
Она крепко ухватила Артемия Ивановича за плечо и заставила встать. Пока они поднимались на девятый этаж, где в крохотной убогой комнатенке проживала Рухля Блидштейн, неожиданно свалившаяся на голову Артемия Ивановича покровительница поведала ему, что ее мать происходит из богатого флорентийского рода Лори, а она сама, влюбившись в молодого русского помещика Клушина, приехавшего посмотреть Флоренцию, увязалась за ним в Россию, но там была отправлена в черту оседлости, а этим летом среди прочих иностранных евреев выдворена за границу Российской империи. Домой она показаться не смеет, вот и живет теперь здесь изгоем у своих дальних родственников по отцовской линии, которые хотя и приютили ее, но, как и прочие обитатели Гетто, не жалуют ее, называя про себя «русской».
— Мне нужен друг, — сказала она Артемию Ивановичу, толкая скрипучую дверь без замка, которая вела прямо к ней в комнату. — Который бы любил меня днем и охранял от нечестных гостей.
Владимиров понял, что эта странная женщина предлагает ему стать сутенером и не стал отказываться. «Ведь надо же на что-то жить, пока приедет Фаберовский, — оправдываясь, подумал он. — Ведь я же только деньги с ее гостей получать буду. А потом распределять их и расходовать».
От последней мысли ему даже показалось, что убогую комнатенку осветило солнце, никогда не заглядывавшее сюда из-за плотной промасленной бумаги в окне.
— Вот здесь мы будем спать, — сказала Рухля и указала на широкую рассохшуюся кровать, отделенную от остальной части комнаты с буфетом и столом высокой ширмой. — Сейчас!
Она плотоядно облизнулась и глаза ее загорелись не сулившей ничего хорошего Владимирову похотью.
— Да-да, мне очень надо спать, — промямлил Артемий Иванович, отступая на лестницу. — Я так устал, что я просто без сил.
Рухля оценивающе оглядела его с ног до головы, осмотрела разорванный пиджак и синяк под глазом. Было очевидно, что он не врет и он действительно бессилен. Огонь в глазах у мадам Блидштейн потух и она сказала с сожалением:
— Ложитесь спать, русский мужчина. Я подожду до завтра. У вас есть время до ночи.
— А что ночью? — испуганно спросил Артемий Иванович.
— Ночью вам придется погулять, русский мущина. Ночью на этой кровати я буду зарабатывать нам еду.
Рухля вышла на лестницу, оставив его в комнате одного, и стала спускаться вниз. Владимиров подскочил к окну и пальцем проковырял в бумаге дырку. Но он зря надеялся — мадам Блидштейн не оставила ему никаких шансов на спасение, усевшись прямо напротив входной двери на скамейке, где всего десять минут назад он прервал свой свободный бег.
В расстройстве Артемий Иванович пошарил в буфете и нашел там зачерствевший кусок хлеба. Больше из съестного ничего не было и ему пришлось удовлетвориться сей непритязательной трапезой. Грызя невкусный хлеб, он вспомнил поросенка, отправленного через поляка своей возлюбленной Эстер. И тоска с невероятной силой овладела всем его существом. Оставив хлеб, он взял с буфета тетрадку в черном коленкоровом переплете, в которую его новая хозяйка педантично записывала химическим карандашом в одну колонку расходы на еду и квартиру, а в другую доходы, приносимые ей ее непотребным промыслом. В ней оставался чистым только один лист, слегка подпорченный единственной надписью на идиш. Артемий Иванович германо-еврейского жаргона не знал, поэтому, перевернув лист, взял вставку со скверным пером, макнул в чернила, и, проливая слезы умиления, начертал на обратной стороне листа:
«Дорогая Асенька!
И из Сибирских лесов, и из каналов зловонной Венеции спешу к тебе всем своим сердцем, которое просто пучит от любви и нежности к тебе. Никогда в жизни меня еще так не пучило, разве что один раз, когда в детстве соседка моего отца с кровосмесительной фамилией Братолюбова дала мне выпить козьего молока. Тоскуя о тебе здесь в Венеции, с нетерпением жду Фаберовского с деньгами, которых у меня уже и в помине нет, чтобы ехать в Каир к фараонам, и который обещался приехать четыре дня назад. Если сможешь, приезжай туда, иначе иссохну от любви, как древние организмы фараонов от любви к мумиям, сиречь фараоншам, не знаю только, как это будет по-египетски. Целую крепко, пока не пришла мадам Рухля-Шейна Блидштейн и не заподозрила, что я ей изменяю с тобою и не перестала кормить, чего она и так не делает, а корочка хлеба — разве еда, чтобы я как Иисус пятью хлебами насытившись, не мечтал о тебе и о поросенке, которого вы все наверняка съели и обо мне даже не вспомнили, сволочи неблагодарные.»
Тут Артемий Иванович представил себе Фаберовского, вместе с отвратительным доктором Смитом пожирающего его поросенка, вместо того, чтобы ехать в Венецию, и слезы закапали прямо на письмо, расплываясь чернильными пятнами по бумаге.
Глава 20
7 ноября, пятница
Вторые сутки над Британскими островами бушевала жесточайшая буря. Ураганный ветер гнал в наступивших сумерках вдоль пустынной Эбби-роуд ломаные сучья и увядшие листья. Одинокий фонарщик перебегал от одного фонарного столба к другому, взбираясь на лестницу и всякий раз почти заворачивая фонарь в свою куртку, чтобы прикрыть от ветра слабое пламя фитиля. Внезапно налетавший дождь так же вдруг прекращался, оставляя мокрые капли на дрожащих стеклах домов.
В доме Фаберовского горел неяркий свет только в спальне Пенелопы да в кабинете хозяина, где он поселился после жестокого избиения в день своего венчания. Поляк возлежал в кресле-качалке перед ярко горевшим камином, протянув к огню свои длинные, закутанные в плед ноги. Его голова была откинута назад — он спал, и ему не мешал даже рев ветра в каминной трубе. Лицо его все еще носило следы побоев в виде желтых пятен на щеках, однако явных кровоподтеков уже не было и спустя неделю оно должно было приобрести совершенно здоровый вид. На коленях у Фаберовского была раскрытая газета, в которой в отделе европейских новостей красным карандашом была отчеркнута маленькая заметочка: «От нашего римского корреспондента:
Пьемонтская газета сообщает, что Джек-Потрошитель, несколько лет подряд наводивший ужас на Лондон, в настоящее время находится в Пармской провинции, о чем уже сообщено английскому правительству.»
Дверь в кабинет приоткрылась и вошла Пенелопа в пеньюаре. Две недели она преданно ухаживала за мужем, которому первое время действительно было очень плохо. Последнее время ему стало намного лучше, но он не торопился переселяться в их спальню, считаясь по прежнему больным. Пенелопа подошла к мужу и нежно поцеловала его в лоб. Он приоткрыл один глаз и издал тяжелый протяжный вздох.
— Как ты себя чувствуешь, мой дорогой?
— Ужасно, — поляк опять утомленно закрыл глаза. — По-прежнему чувствую себя ни на что неспособным. Все еще болят почки и подташнивает.
— Какая жалость, — грустно вздохнула Пенелопа. — Эстер, между прочим, уже смеется надо мной и называет соломенной вдовой. Может быть, нам стоит вообще отложить наше свадебное путешествие? В таком состоянии тебе может быть опасна длительная поездка. Ты только напрасно потратишь силы, которых тебе не хватает даже на самые естественные для молодоженов нужды.
Не открывая глаз, Фаберовский, тем не менее, бодро улыбнулся: — Да при одной мысли о том, что мы уедем из Лондона и мне не придется каждый день принимать визиты твоих ближайших родственников, я становлюсь здоровым. И способным на все. Кроме того, мне надо срочно сменить обстановку. Здесь меня постоянно мучат кошмары.
— Что же тебе приснилось на этот раз? — Пенелопа пододвинула стул и, присев рядом с мужем, взяла его за руку.
— Мне приснилось, что к нам в гости приехал мой университетский товарищ, Витольд Блянк-Блянкер.
— Ну и что же в том плохого?
— А ничего, — Фаберовский поднял голову. — Он привез с собой Гурина в деревянной клетке, выкрашенной зеленой краской. Сказал, что это подарок к нашей свадьбе.
— Успокойся, это всего лишь сон. — Пенелопа погладила поляка по голове. — Я принесу сейчас сладкого чаю. Тут тебе принесли телеграмму из России, я положу ее на стол, может потом почитать.
— Я прочитаю ее сейчас.
Пенелопа протянула ему телеграмму и тихо вышла, а Фаберовский, пробежав ее глазами, застонал и в сердцах бросил скомканный телеграфный бланк в камин. В депеше за подписью Черевина извещалось, что вчера наследник цесаревич отбыл на поезде из Петербурга через Вену в Триест. Последняя надежда на то, что безумной затее с покушением не будет дано хода, расстаяла бесследно.
— Что-нибудь случилось? — спросила его жена, вернувшись с чашкой чая на небольшом серебряном подносике.
— Пенни, будь добра, дай мне с полки каталог фирмы «Поттер», который приобрел мне на прошлой неделе Батчелор.
— Что ты задумал?
— Надо купить кое-какие морские приспособления для нашего свадебного путешествия.
— А мне купи фотографический аппарат.
Поляк встрепенулся и сел, удивленно уставившись на жену:
— Зачем тебе фотоаппарат?
— Чтобы я могла снимать египетские виды и разных там зверушек и птичек.
— Кстати о птичках. Надо бы еще купить ружье и пять коробок патронов, чтобы было чем заниматься на пароходе. А пока позови ко мне Батчелора.
Он опять бессильно откинулся в кресле, отправив в камин газету и разложив на коленях каталог. Список морских приспособлений, составленный по «Каталогу Поттера» и представленный явившемуся Батчелору, оказался достаточно внушительным. Подсчитав сумму, поляк пришел в ужас и список значительно сократился, сохранив только самое, по мнению Фаберовского, необходимое для плавания на подводной лодке: 1. Морской шлюпочный компас в бронзовом котелке;
2. Лот с пятикилограммовой гирей и бухтой пеньковой веревки в 30 морских сажен; 3. Лоция Суэцкого канала и лоция Нила в его нижнем течении; 4. Морская карта прилегающего к Суэцу района Красного моря; 5. Морской 22-кратный бинокль и
6. Театральная зрительная труба на ручке от лорнета специально для Артемия Ивановича, который, возможно и не был пойманным в Пармской области Джеком Потрошителем, как поляк подумал вначале, а вполне мог уже дожидаться Фаберовского в Венеции.
— Завтра поедешь на Майнорис, в наши потрошительские угодья, и купишь там у «Поттера» все это, — сказал Батчелору поляк. — Кроме того, тебе надо будет заехать в Саутворк на Ред-кросс-стрит к мистеру Зорабалсу. Он грек, инженер, участвовавший со стороны Греческого королевства в комиссии по покупке подводной лодки у Норденфельда. Инженер Зорабалс согласился помочь нам в нашем деле. Ты должен договорится с ним через пару дней отправиться в Париж и забрать там у мистера Джевецкого электрическую подводную лодку, которую он нам любезно согласился предоставить. Эту лодку вы доставите в Марсель. Туда же ты отправишь морем котел для фермы мистера Дерьвьё. Из Марселя вы с Зорабалсом отвезете оба груза в Александрию и оттуда в Каир. Запомни, что Зорабалс ничего не ведает о покушении и убежден, что лодка нам нужна хоть и для неофициальных, но совершенно мирных целей — исследований первого Нильского порога на предмет постройки там плотины. В Александрии следует проверить на всякий случай, не был ли доставлен из России под видом парового котла или других частей паровой машины. Если такой груз существует, то Зорабалсу придется отвезти электрическую лодку к порогам и там дожидаеться нашего прибытия.
— Когда мы должны выехать? — деловито спросил Батчелор.
— Чем быстрее, тем лучше. Где там моя жена?
— Кто-то постучал и она пошла открывать дверь.
— Господи, опять! — вскричал поляк. — Ну все, иди, Батчелор, иди. Я немощен и ослаблен.
Он метнул каталог на стол и притворился спящим. Едва за дверью стихли тяжелые шаги Батчелора, как он услышал шуршание платьев и голос Эстер сказал: — Ну как, Пенни, тебе в роли молодой жены? Никакого сравнения с одинокими ночами девичьей постели! Стоит отведать настоящей любви…
— Я же тебе говорила, Эстер, — несколько раздраженно оборвала свою мачеху Пенелопа. — Стивен еще не оправился после того злодейского нападения.
— Понятно… Мужчины выказывают себя горячими любовниками только до свадьбы, а потом их и силком ни к чему не принудишь. Мне кажется, что твой Стивен просто притворяется.
— Успокойся, Эсси. Он совсем не похож на твоего Гурина. Ему нет нужды притворяться.
— Что за чушь вы там несете? — крикнул им Фаберовский, рассердившись. — Если вам чего-то от меня надо, то заходите, мне пора принимать лекарства и ложиться спать. И нечего перемывать мне кости, стоя за дверью!
Обе женщины смущенно вошли и встали у дверей.
— Ну, что? — повернулся к ним поляк и взял со стола чашку с чаем.
Эстер покраснела и сказала, опустив глаза:
— Мне пришло письмо от Гурина, но опять на русском языке.
Чайная ложка задребезжала о края чашки и поляк поспешил вернуть чайный прибор обратно на стол.
— И вы, миссис Смит, желаете, чтобы я вам его перевел? — спросил он у Эстер слабеющим голосом и протягивая руку за замусоленным листоком, который миссис Смит сконфуженно мяла пальцами. — Извольте: «Доктору Джованни Де Векки за пять гранов ртути от сифилиса 3 лиры».
— Это я и сама поняла, — сказала Эстер. — Только не надо ехидничать, Стивен, надпись не гуринской рукой. Вы мне переведите то, что на обороте.
Фаберовский взглянул на бумажку и сказал, что, судя по письму, Артемия Ивановича пучит.
— Уверяет, что от любви, но кажется, что с козьего молока своей соседки. И угрожает, что иссохнет, если вы не приедете к нему в Каир.
— А, так вы все-таки будете там с ним встречаться! — в радостном возбуждении воскликнула Эстер. — Решено! Я еду с вами.
— Ни в коем случае, — сказал Фаберовский. — Мистеру Гурину там будет не до любви.
— Но вы же берете с собою Пенни!
— Пенни — моя жена, и мы с ней едем в свадебное путешествие.
— Тогда я еду с вами в свадебное путешествие в качестве компаньонки!
— Но со мной уже едет компаньонка! — заявила Пенелопа, испугавшись перспективы весь медовый месяц провести рядом с мачехой. — Мы берем с собой мисс Какссон. Тем более что отец настаивает на этом.
Поляк кашлянул в кулак, не зная, что хуже — иметь с собою Какссон или жену доктора Смита.
— Тогда я сама поеду в Каир! — гордо заявила Эстер. — И вы не сможете мне помешать!
Она гневно отобрала у Фаберовского письмо Артемия Ивановича и покинула дом поляка. На улице ее дожидался кэб, кучер которого уже проклял все на свете, стараясь удержать на месте свою лошадь, которая безумно пугалась треска ломавшихся под напором ураганного ветра сучьев в садах за оградами коттеджей. Едва только миссис Смит забралась в экипаж, кэбмен щелкнул кнутом и поспешил вернуться на более цивилизованные улицы, где хотя и поливал также дождь, и ветер был отнюдь не тише, но звуки, окружавшие его и лошадь, были привычными городскими звуками, а не пугающими пушечными выстрелами ломающихся ветвей.
Приехав домой, Эстер прошла к себе в спальню, хлопнула для успокоения флакон хлоридина из своих давних тайных запасов, и решительно постучала в кабинет к мужу.
— Гилбарт, мне надо поговорить с тобой!
— Мне некогда, Эстер, — раздался голос доктора Смита из-за двери. — Гримбл попросил прочитать его новую статью о пищеварительном аппарате у аскарид.
— Аскариды Гримбла никуда не денутся.
— Но ведь ты тоже никуда не денешься.
— Проклятье, Гилбарт! — Эстер сердито топнула ножкой. — Мы так и будем разговаривать с тобой через дверь? В отличии от аскарид я очень даже денусь!
— Куда это ты собралась деться?! — выскочил из кабинета доктор Смит.
— Я устала от тебя. Я хочу поехать в какое-нибудь путешествие. Например, купить тур Кука в Египет и подняться на пароходе вверх по Нилу.
Брови доктора Смита изумленно взметнулись вверх.
— Но я не могу оставить прием своих амбулаторных больных в Лондонском госпитале на Чарлвуда Тернера! Он и так меня все время подсиживает!
— Ты не понял меня, Гилбарт, — сказала Эстер и пояснила, отделяя каждое слово значительной паузой: — Я Хочу Поехать Без Тебя — Одна. Мне нужно от тебя отдохнуть.
— Вот как? И я целый месяц буду один?
Легкая улыбка пробежала по нервному лицу доктора.
— Да, ты будешь один.
— Да здравствует свобода! — Доктор вдруг исчез в кабинете и выскочил обратно, уже держа в руке рюмку с коньяком. — Твое здоровье! Сколько тебе нужно денег?
— Фунтов сто.
— Ты получишь их, моя дорогая.
— Боже, как это чудесно! — Эстер захлопала в ладоши. — Гилбарт, сегодня я даже люблю тебя.
— Но тебе придется взять с собою мисс Гризли, — злорадно сказал доктор Смит и не по-джентльменски, махом, выпил коньяк. — Я не могу допустить, чтобы моя жена путешествовала одна.
— Ну что же делать… — Миссис Смит пожала плечами. — Но мисс Гризли — еще сто фунтов.
— Репутация моей жены стоит ста фунтов! — торжествующе сказал доктор Смит и наставительно воздел указательный палец.
Перед сном Эстер заперла дверь спальни, опасаясь, что доктор Смит на радостях может пожелать исполнить свои супружеские обязанности, и предалась сладостным мечтам. Результатом ее мечтаний стало письмо, которое после нескольких черновиков и бесконечной правки приняло следующий вид: «Милый Гурин!
Вы даже не представляете себе, до какой степени я счастлива, что скоро смогу увидеть вас в Каире. В ближайшее время я поеду с туром агентства «Кук и сыновья» в Египет и буду ждать вас там. Фаберовский скоро к вам выезжает вместе с женой. Когда вы тоже окажетесь в Каире, оставьте в агентстве Кука письмо на мое имя с вашим адресом, чтобы я смогла разыскать вас.
Целую тысячу раз
Ваша Эсси. »
Глава 21
11 ноября, вторник
Бельгийский инженер мсье Аркадий Гартинг, еще полгода назад бывший Мишелем Ландезеном, сошел с поезда подземки на станции Мальборо-роуд и пешком направился к дому Фаберовского, до которого было минут семь ходьбы. Его появление в Сент-Джонс-Вуд было вызвано требованием Рачковского немедленно отправиться из Остенде в Лондон и расправиться с поляком. Получив из Петербурга от своего человека сообщение, что в один день с отъездом заграницу наследника цесаревича в Париж выехал генерал Селиверстов, Петр Иванович решил, что задуманная селиверстовской кликой провокация вступила в решающую стадию и приготовился нанести упреждающий удар. В Венецию Рачковский направил Анри Бинту аналогичное указание расправится с Гуриным.
Гартинг мог считать себя польщенным, ведь задача, поставленная Рачковским перед ним, казалась почти невыполнимой. В свое время они с покойничком Леграном уже пытались отправить Фаберовского на тот свет динамитом, и у них ничего не вышло, хотя тогда операция была подготовлена куда как тщательнее и был даже снят соседний пустующий дом.
Возможно, с его стороны было глупым и неблагоразумным заявляться к человеку, которого он собирался убить, но Гартинг не видел другого способа быстро покончить с поляком. В кармане у него лежал револьвер, которым он собирался сразу воспользоваться, если Фаберовский окажется дома один. Если же дома, кроме него, случится еще служанка, которая была у поляка два года назад, ему придется заводить знакомство, дабы выяснить, когда поляк бывает дома в одиночестве.
Открыв калитку, Гартинг осторожно двинулся по посыпанной песком дорожке, представляя себе, как сейчас поляк откроет ему дверь и скажет: «Мне кажется, господин Ландезен, я оставил вам немного денег на дорогу из Лондона в обмен на ваше обещание убраться в Бельгию и больше не вставать у меня на дороге. Зачем вы опять появились здесь?» А он ответит ему: «У меня к вам выгодное предложение от господина Рачковского. Мы одни дома?» И тогда Фаберовский, кивнув утверждающе, пригласит его в дом. Он пойдет впереди по коридору, провожая нежданного гостя в гостиную или столовую. За это время можно будет понять, действительно ли нет слуг в доме. От лестницы на второй этаж хорошо просматривается и столовая, и кухня. Тогда останется достать револьвер и разрядить его в мерзкую очкастую голову поляка.
Поднявшись на крыльцо по ступенькам, Гартинг протянул руку к дверному молотку, но тут дверь сама собой распахнулась и оттуда из темноты коридора сверкающей молнией вылетела навстречу его лоснящемуся от пота лбу начищенная до блеска чугунная сковородка.
— Надеюсь, у вас хватит мозгов, мсье Ландезен, по выходе отсюда не обращаться в полицию, ведь вы все еще приговорены французским судом к пяти годам тюрьмы, — сказал Фаберовский, когда Гартинг пришел в себя, сидя у поляка в столовой в старом глубоком кресле. — Нет-нет, не стоит хвататься за карман, ваш револьвер я оттуда забрал. Вот он, у меня в руках.
Застонав от ярости и боли, раскалывавшей его череп, еврей опустился в кресло.
— Я заметил вас из кабинета, мсье Ландезен, — продолжал поляк. — И поскольку от вас мне ничего хорошего ожидать не приходилось, пришлось слегка обезопасить себя.
Гартинг осторожно ощупал огромную шишку, украшавшую его лоб.
— Когда-то в этом кресле с вот такой же шишкой сидел господин Гурин. Вы так на него сейчас похожи. Если сильно болит, приложите что-нибудь металлическое.
Гартинг пошарил взглядом вокруг и наткнулся на огромную сковородку на длинной, как у ухвата, ручке.
— Клин клином, как говорят русские, мсье Ландезен. Сковородка слишком тяжелая, но если положить ее на пол и встать рядом на четвереньки, можно приложиться к ней лбом. Не хотите? А зря. Пенни, ты не принесешь джентльмену мокрое полотенце на лоб?
Только тут Гартинг разглядел, что позади Фаберовского стоит молодая женщина, лицо которой показалось ему знакомым. Наличие женщины в данной ситуации показалось ему благом — ведь не станет же поляк стрелять при этой женщине, кем бы она ему не приходилась.
— Может быть вы все-таки позволите мне встать? — спросил он у Фаберовского, продолжая разглядывать женщину. — У вас в руках заряженный револьвер и сковородка под рукою, а у меня ничего нет, вы можете меня не опасаться. Я не привык сидеть в присутствии дам.
И не дожидаясь разрешения поляка, Гартинг вскочил на ноги.
— Позволь тебе представить, Пенни, — сказал Фаберовский. — Господин Ландезен, русский шпион и террорист. В июне этого года он приговорен французским судом к пяти годам тюрьмы за подготовку взрывов, но убежал.
— Вы наверно и не знаете, мадемуазель, — Гартинг заметил на руке Пенелопы кольцо и поправился: — Простите, мадам, — что этот господин и есть тот самый Джек Потрошитель, который убивал массу женщин в Лондоне, — отпарировал Гартинг, морщась от боли и растирая лоб рукой.
— Я хорошо это знаю, — спокойно ответила Пенелопа, — мой отец, доктор Смит, все время только об этом и говорит. Так что все эти басни не представляют для меня ничего нового. Мне кажется, что я вас где-то видела раньше?
— Ну да! Ну да! — вскричал Гартинг. — Я видел вас два года назад в Уайтчепле, как раз когда происходили эти зверские убийства.
— Нет, нет, — обеспокоено сказала Пенелопа, узнав Ландезена, который два года назад был свидетелем их препровождения в участок после того, как они пытались вместе со своей мачехой поймать Джека Потрошителя. Эта позорная страница в ее жизни была единственной, которую она сохранила в тайне от мужа.
— Помните нашу ночную поездку в Уайтчепл в октябре восемьдесят восьмого? — спросил еврей, целуя молодой женщине ручку. — Для вас она окончилась только разодранным платьем, а для меня — сломанной рукой и двумя ребрами. Жалко, что мы больше не встречались с вами после того, как расстались в полицейском участке!
— В каком еще участке? — не понял Фаберовский, с подозрением глядя то на жену, то на Гартинга.
Этот вопрос подхлестнул еврея, который почувствовал, что нащупал больное место поляка.
— У вас очень красивая жена, — сказал он, приглаживая усы. — Я не польщу ей, сказав, что она прелестна, особенно в зеленоватом свете газовых фонарей в Уайтчепле.
— Это становится интересно, — промолвил поляк, пристально глядя на Пенелопу. — Я не знал, что ты была знакома с этим хлыщом и проводила с ним время в Уайтчепле.
— Мы с Эстер пытались поймать Потрошителя. Стивен, я тебе потом все объясню.
— Так он еще и с моей драгоценной тещей знаком?! О сколько нам открытий чудных… — поляк подошел к окну и уставился невидящим взглядом в сад.
Злорадно улыбаясь, Гартинг встал рядом и тоже взглянул в окно.
— Где же тут был дом?
— Ваш динамит, мсье Ландезен, которым, к сведению моей жены, вы собирались взорвать меня и всех бывших со мною в доме, был закопан перед нашим отплытием в саду соседнего дома и в мое отсутствие взлетел на воздух вместе с тем домом.
— Я действительно хотел взорвать вашего мужа, мадам — целую ваши нежные ручки, — но мне помешал один джентльменчик, возможно, вы даже его знаете: некий Гурин.
— Еще бы я его не знала!
— Так вот этот Гурин умудрился разбить стеклянный резервуар с электролитом и спутать и разорвать все наши провода!
— Но зачем вам нужно было убивать Стивена?
— Видите ли, мадам, два года назад ваш муж был нанят начальником русской тайной полиции в Париже мсье Рачковским для компрометации русских революционеров в Лондоне.
— Пенни, тебе стоит уйти. А вам, Ландезен, я посоветовал бы помолчать.
— Ну почему же, Стивен, пусть продолжает. Не только же тебе узнавать страшные тайны обо мне. Должна же и я узнать о тебе что-то такое, что ты тщательно скрываешь.
— Ваш муж, мадам Пенелопа, благороднейший человек. Он перешел дорогу господину Рачковскому, чем вызвал его ненависть. А я лишь маленький исполнитель при всех моих остальных мужских качествах. И вы знаете, я рад, что мне не удалось осуществить план Рачковского, искренне рад. Рачковский жестокий и неблагодарный человек, он совсем не дорожит своими людьми. Если вы читали о парижском процессе против русских бомбистов, то знаете, что он бросил меня на произвол судьбы, а все потому что не захотел простить мне, что я не убил вашего мужа. Порою лучше иметь настоящего врага, как ваш муж, чем такого друга, как Рачковский.
— Нечто похожее любит повторять мне мой тесть, — сказал поляк. — Так что оставьте ваш романтический тон. Что вам от меня было нужно?
— Мне просто хотелось излить вам душу.
— Я не помойная яма.
— Стивен!
— Вот, моя жена хочет подставить вам свою жилетку. Но учти, Пенни, от темных делишек этого человека дурно пахнет.
— Ты несправедлив к нему. Ведь он же не убил тебя!
— Велика заслуга — не суметь меня убить! Да если б не головотяпство Гурина, у мсье Ландезена все распрекрасно получилось бы.
Гартинг повернулся к поляку и по лицу его понял, что тот начинает звереть. Еще один удар сковородой по голове не сулил ему большого удовольствия.
— Мне кажется, мадам, что ваш муж сегодня не в духе. Я действительно не желаю ему зла, он единственный человек в этом чужом для меня городе и мне не хотелось бы окончательно испортить с ним отношения из-за каких-то пустяков. Я полагаю, что мне лучше будет сейчас удалиться, а вы на досуге растолкуйте ему, что в факте моего существования и знакомства с ним нет ничего для него угрожающего. А я загляну к вам через несколько дней. Вы всегда дома или иногда все-таки отсутствуете? Мне не хотелось бы оказаться с вашим мужем один на один, если рядом с ним не будет его прекрасной половины, способной урезонить его возвышенный и пылкий нрав.
— Убирайтесь, Ландезен, я не желаю вас видеть. И надеюсь, что не увижу. Никогда.
— Мы со Стивеном через день уезжаем на континент в свадебное путешествие, — Пенелопа с улыбкой простерла руку в сторону груды вещей, лежавших в углу столовой. Были здесь и ружье для стрельбы по птицам и пять коробок с патронами; ракетки для лаун-тенниса; одежда для пустыни; белый пробковый шлем с зеленой вуалью, канотье для Пенелопы и норфолкская куртка цвета перца с солью.
Гартинг подумал, что чутье не подвело Рачковского. Что может быть лучшим прикрытием для поездки террориста в Египет, чем свадебной путешествие молодого респектабельного джентльмена со своей очаровательно женой? А раз так, то у него действительно было в обрез времени для того, чтобы привести распоряжение Петра Ивановича в жизнь.
Убить Фаберовского немедленно он не находил способа. Ему оставалось только проследить за поляком и попытаться прикончить его в поездке, дождавшись удобного момента.
Выйдя из дома Фаберовского, Гартинг заметил коляску, стоявшую прямо напротив калитки на противоположной стороне Эбби-роуд. В коляске сидел молодой джентльмен в лощеном цилиндре и с недовольным выражением лица выслушивал отповедь женщины, стоявшей на мостовой с корзинкой в руках.
— А что касается ваших отношений с миссис Фейберовской, то над вами потешается уже половина Лондона. Ну, если не половина, то по крайней мере все лондонские врачи! Говорят, что о том глисте, которого вы открыли в прошлом году и на название которого в мою честь я рассчитывала, была опубликована в «Ланцете» ваша статья, где он называется Ascaris Penelopi! Да будет вам известно, доктор Гримбл, что никому не позволено так откровенно пренебрегать чувствами Барбары Какссон!
— Умоляю вас, Барбара, отойдите, — зашипел на нее Гримбл. — Вы привлекаете ко мне внимание.
Какссон переложила корзинку в левую руку и назидательно ткнула указательным пальцем освободившейся руки в сторону доктора:
— Энтони, ваше поведение недостойно британского джентльмена. В чем испачканы ваши штаны?
— Я лазил на дерево, но оттуда тоже ничего не видно, — оправдывающимся голосом ответил Гримбл, вжимаясь в угол кожаного сиденья.
— Когда младший сын полковника Маннингема-Буллера лазил на дерево, чтобы подглядывать за соседскими девочками, я без раздумий порола его розгами! — сказала мисс Каксон и погрозила Гримблу пальчиком. — Немедленно уезжайте домой, скверный мальчишка!
— Тиш-ш-ше, Барбара! Умоляю, тиш-ш-ше!
— Сколько можно, Энтони! — Какссон попыталась дотянуться до Гримбла, но он лишь сильнее вжался в сиденье и даже подобрал ноги. — Не будьте же идиотом. Торча здесь под окнами у миссис Фейберовской, вы ничего не добьетесь, поверьте мне.
— Как же по-вашему я должен действовать?
— Ничто так не задевает женщину, как пренебрежение и невнимание. Уж я то знаю это, Энтони. Покажите этой мерзавке, — мисс Каксон обернулась в сторону дома Фаберовского и проследила удивленным взглядом за вышедшим из калитки и вставшим неподалеку от экипажа Гартингом, — покажите ей, что вам совершенно наплевать на нее, что вы можете увлечься другой женщиной, которая значительно лучше ее, например, мною.
— Но как я могу вами увлечься, Барбара?! — искренне изумился Гримбл. Что-то похожее на улыбку впервые со времени возвращения Фаберовского промелькнуло на его губах. — Что вы, право, такое несете? Я же люблю Пенелопу!
У мисс Какссон от ярости затряслись губы, она скрипнула зубами и процедила, не разжимая челюстей:
— Дурак! Вы еще пожалеете, что отвергли мою любовь! Я расскажу все мистеру Фаберовскому и он сделает из вас при помощи своего нового ружья и картечи краснож… — она перевела дыхание, — бесхвостого павиана, когда вы очередной раз будете висеть на ветке у него под окном!
Мисс Барбара Какссон круто повернулась, вошла в калитку дома и с треском захлопнула ее. Гримбл с облегчением вздохнул, но тут его внимание привлек стоявший у самого экипажа Гартинг.
— Простите, доктор Гримбл, что я обращаюсь к вам, не будучи вам представлен…
— Кто вы такой, что выходите из дома моей невесты?! — набросился на него доктор.
— Простите, сэр? — поднял брови Гартинг.
— Мисс Пенелопа Смит была когда-то моей невестой, — доктор Гримбл даже привстал в коляске.
— Насколько я понял, она теперь жена мистера Фаберовского.
— Да, но мне обещали, что скоро она станет его вдовой. Он истощит свои силы в чрезмерных любовных утехах и сдохнет как собака, когда его ослабленный организм поразит какая нибудь холера или чахотка! — Гримбл встал во весь рост и простер правую руку к небу, словно какой-нибудь библейский пророк, но тут смысл слов об «любовных утехах» дошел до него и он, сразу угаснув, опустился на сиденье.
— Почему бы вам самому не ускорить этот процесс? — спросил Гартинг, облакачиваясь на блестящее лакированное крыло коляски. — Не оставляя поляку время для любовных утех.
— То есть как? — встрепенулся Гримбл.
— Разрешите мне сесть к вам в экипаж, — не дожидаясь разрешения, Гартинг забрался в коляску и поместился рядом с Гримблом. — Обсуждать подобные дела, стоя посреди улицы, не годится.
— Да-да, конечно, если вам куда-нибудь надо, я могу вас подвезти.
— Подвезите меня к ближайшей станции подземки. В этой глуши так долго дожидаться кэба.
— Так что вы, мистер … — начал доктор Гримбл, когда экипаж тронулся.
— Мистер Штайнер, сэр.
— Так что вы, мистер Штайнер, говорили об ускорении? — Гримбл почувствовал, что силы возвращаются к нему. — Ведь его уже пытались убить сразу после венчания, но он выжил.
— Вы пытались?
— Нет, другие женихи Пенелопы. Они наняли громил и те избили его до полусмерти прямо перед этим крыльцом.
— Если беретесь избивать, то делайте это до смерти, — посоветовал Гартинг. — Кстати, если вы дожидались, пока Фаберовский издохнет от любовных упражнений, то зачем вы следили за его домом? Надеялись увидеть его агонию? Но за пятнадцать лет моих неустанных трудов на любовном ристалище я все еще слишком далек от смерти.
— Но вы не знаете Пенелопу!
— Нет, но все еще можно исправить. И не надо так дергаться, посмотрите, вы ногтями порвали кожу на сиденьи. Так зачем вам понадобилось следить за поляком?
— Иногда я готов своими руками убить его!
— Вы уже знаете, как будете осуществлять свою затею? — Ландезен положил интимным жестом руку в лайковой перчатке доктору на плечо. Доктор Гримбл отодвинулся и с подозрением оглядел еврея.
— Вы, случаем, не из полиции?
— Наоборот, мои цели совпадают с вашими.
— Вы тоже хотите жениться на Пенелопе? — напрягся Гримбл.
— Что вы! — замахал руками Гартинг. — Эта женщина не в моем вкусе. Англичанки слишком холодны и рассудочны. Полагаю, вашему поляку вовсе не грозит смерть от половых излишеств. Но давайте к делу. Мне нужен мертвый Фаберовский, а вам — его вдовушка. Мы можем заключить с вами союз. Кстати, хочу вам сообщить важную вещь: послезавтра наши молодожены отбывают в свадебное путешествие. Это значит, что нужно торопиться.
— Но куда они уезжают?
— Мне этого сказано не было. Полагаю, что конечной целью их путешествия должен стать Египет, но туда они не должны добраться. Так вы готовы заключить со мной союз против мистера Фаберовского?
— Да. Вот вам моя рука, мистер Штайнер, — Гримбл протянул Гартингу свою руку и тот легонько пожал ее. — Мне кажется, что мы с вами должны в ближайшее время…
— Скажу откровенно — так как между компаньонами не должно быть недомолвок, — что я не в восторге от ваших мыслительных способностей, и поэтому я буду разрабатывать наши планы.
— Чем же вас, Штайнер, не устраивают мои умственные способности? Я, между прочим, уважаемый в научных кругах врач и опубликовал ряд работ в «Британском медицинском журнале» и «Ланцете», посвященных кишечным паразитам!
— Если бы вы были умнее, Гримбл, вы воспользовались бы любовью той дамы, с которой вы только что разговаривали, и через нее всегда имели бы возможность знать, что думают и собираются делать наши враги. Она сидела бы у них внутри, словно ваши паразиты в кишечнике. Вы же с ней разосрались, как последняя торговка на базаре!
— Но что же тогда делать?
— Будь у меня больше времени, я соблазнил бы ее и мы заимели бы свою шпионку в стане врага, но у нас этого времени нет, а в дом к Фаберовскому меня, как и вас, не пустят. Поэтому я предлагаю следующий план: в пятницу я с самого утра отправлюсь в Дувр. Поскольку, по моим сведениям, не позже чем через десять дней Фаберовский должен быть в Каире. Они вряд ли отправятся пароходом кругом Европы, а скорее всего переберутся на континент и поедут в Венецию, где встретятся с неким мистером Гуриным.
— Гуриным?! — дернулся Гримбл.
— Вы знакомы с ним? — с интересом посмотрел на доктора Гартинг.
— Еще бы! Я на всю жизнь запомнил этого мерзавца!
— Вероятно, Гурин уже мертв или вот-вот простится с жизнью, — Гартинг полагал, что Бинт уже справился со своей задачей в Венеции, и потому говорил об этом с такой уверенностью. — Нам с вами нужно, чтобы и поляк последовал этим путем. Оказавшись в Дувре, я буду дожидаться там приезда молодоженов и во все глаза разглядывать пассажиров прибывающих поездов, чтобы не упустить их.
— А что буду делать я? — спросил Гримбл.
— Вы будете дежурить у дома Фаберовского, с тем чтобы немедленно сообщить мне об их отъезде на тот случай, если они все-таки поедут на пароходе. Если же все будет нормально, вы приедете вместе с ними ко мне и дальше мы уже будем действовать вдвоем.
— А как вы собираетесь прикончить поляка?
Гартинг усмехнулся и взглянул на Гримбла.
— Полагаю, что мы сделаем это в поезде. Выкинем на ходу труп из вагона и сойдем на первой же станции.
— А что же будет с Пенелопой?
Еврей по дружески хлопнул англичанина по плечу.
— Вот вам уже и предоставляется ее утешить и проводить обратно в Лондон.
Хитрый Гартинг быстро сообразил, какие выгоды сулит ему сообщничество такого неуравновешенного и одержимого компаньона, о лютой ненависти которого к поляку было известно буквально всем. Он будет первым подозреваемым, а пока полиция будет идти по ложному следу, он сумеет скрыться. Когда он слез с коляски у станции Бейкер-стрит, они уже были с Гримблом лучшими друзьями и тот даже приглашал Гартинга заглянуть до отъезда к нему домой, чтобы познакомится с его красавицей-сестрой, а заодно познакомится с коллекцией уникальных препаратов.
Глава 22
12 ноября, среда
Первые дни из тех полутора недель, которые Артемий Иванович провел в обществе и на содержании Рухли Блидштейн, показались ему настоящим адом. И дело было даже не в том, что она кормила его исключительно пустыми спагетти с чесноком. Артемий Иванович катастрофически не высыпался. Днем за стенкой шумные еврейки голосили так, что дрожала тонкая дощатая перегородка в разводах от раздавленных клопов и изсверленная любопытными соседскими детьми. А ночью Артемий Иванович безжалостно выгонялся на улицу теми отвратительными типами, которых приводила к себе мадам Блидштейн, и он вынужден был спать на скамейке под открытым небом у вонючего канала, если успевал занять это место раньше других таких же как он бедолаг-сутенеров, изгнанных заступившими на трудовую вахту супругами.
Сперва он им искренне завидовал. Редко кто из них появлялся около скамейки чаще двух раз в неделю. Но вскоре ему открыли глаза на положение вещей. Произошло это после того, как один из претендентов на скамейку принес с собой бутыль изюмной водки. Выяснилось, что среди своих коллег Артемий Иванович находится в наилучших условиях, так как те были мужьями проституток, а Владимиров — вольным орлом, который мог улететь в любой момент, кабы не держали харчи. Кроме того, поскольку супруги его односкамейников пользовались у сильной половины человечества гораздо меньшим успехом, чем мадам Блидштейн, в светлое время суток доморощенные горе-сутенеры вынуждены были еще сами заниматься разным гешефтом: починять лапсердаки соотечественникам, тачать обувь, скупать старье и вылавливать всякий хлам из каналов.
Спустя еще несколько ночей Артемий Иванович настолько сошелся с бедолагами, принося им иногда на закуску холодные слипшиеся спагетти в куске обоев, что те согласились обучить его итальянскому языку, не требуя за то никакой платы. Не умея объяснить по-русски тонкостей итальянского языка и его отличий от германско-еврейского жаргона, на котором изъяснялись сами, его новые товарищи записывали их в коленкоровую тетрадку мадам Блидштейн, снабжая рисунками вместо переводов. К концу недели пребывания в гетто Владимиров мог бегло здороваться по-итальянски, просить милостыню и благодарить в надежде на дальнейшие подаяния. На десятый день скамейные его друзья решили, что Артемий Иванович дозрел до более серьезных понятий, и покрыли листки в коленкоровой тетрадке его хозяйки новыми лингвистическими единицами, на этот раз без рисунков. На следующее утро, едва последний гость покинул жаркую постель Рухли Блидштейн, Артемий Иванович бросился к своей сожительнице за разъяснениями.
— Рухлечка, Рухлечка, скажи-ка мне, что значит по-русски: «пискатойо»?
— Нужник.
— А «какатойо»?
— То же самое.
— Надо же! Дерьмо и по-итальянски «кака»! — удивился Артемий Иванович. — Тоже мне латыняне! Тацитусы-вергилиусы! Колизеи! Слушай, а как по-русски слово «каццо дуро»?
— Это такое качество некоторой мужской части, которого у твоей части я никогда не видела, — огрызнулась мадам Блидштейн.
— Ну, если ты говоришь про голову, то никакой «каццо дуро» в ней не сыщешь. Петр Иванович Рачковский однажды даже сказал обо мне нашему послу в Париже барону Моренгейму: «Самая светлая голова во всей Заграничной агентуре».
Артемий Иванович, конечно, соврал. Разговор об исключительных качествах верхней конечности Владимирова между Моренгеймом и Рачковским действительно состоялся, однако слова Рачковского были чуть более точны в определениях: «Самая пустая голова», — сказал тогда Петр Иванович. Но Владимиров быстро позабыл эти несущественные ньюансы и сейчас был совершенно искреннен в своей лжи.
— А сейчас я сам угадаю. Интересно, если итальянский язык столь похож на русский, то почему я ни черта их не понимаю? Слово «фоттере» означает «фатеру», правильно?
— Оно означает то, ради чего я тебя сюда притащила! Ты утверждал, что имел это самое «фоттере» с пятнадцатью шиксами за одну ночь? Так почему же тебя не хватает на одну меня?! За эти полторы недели ты еще ни разу не переспал со мною!
— Но Рухлечка, душка, подумай сама: как я могу с тобой переспать, когда ты всю ночь занята, а я сплю на улице на скамейке!
— Днем я, между прочим, свободна.
— Зато я занят.
— Чем это ты, поц собачий, занят?
— Отсыпаюсь после бессонной ночи.
— Нахал! Это у меня бессонная ночь, потому что я должна всю ночь кувыркаться со всякой дрянью, чтобы прокормить тебя.
— Подумаешь! В постели и я мог бы кувыркаться! Хоть пятнадцать раз за ночь! Кувыркайся себе и кувыркайся. Вот попробовала бы ты покувыркаться с мужьями всех этих ваших Сайр, Мойв и Сар на скамейке внизу!
— А нет ли у тебя в тетрадке слова «finocchio»? Мне кажется, оно к тебе очень подходит.
— С чего это я вдруг Пиноккио? — встрепенулся Артемий Иванович, который из всей итальянской литературы знал только сказку про старого дурака Карло и его деревянного сына. — У меня нос, чай, не торчит, как палка!
— Да у тебя ничего не торчит, жопник ты паскудный! Толку от тебя никакого! Ты должен меня охранять, а вчера днем, когда ко мне стали приставать двое отвратительных типа, ты убежал!
— Я за помощью побежал!
— И деньги утром из чулка вытащил.
— Так положено. Мне мужики здешние все обяснили.
— Положено красть мои деньги?!
— Это вовсе не кража. На правах более старшего и опытного я взял управление финансами в свои руки.
— Ну вот что, мущина. Сегодня ко мне вечером придет очень богатый американец. Но ты не будешь этой ночью спать на скамейке. Это ночью будет и для тебя гешефт. А днем, если ты не покажешь себя настоящим мужчиной и окажешься финоккио, я выгоню тебя из дома!
— И какое же ты мне дело припасла?
— Я одолжу у старого ребе Зильберштейна ширму, мы отгородим кровать от коридора так, чтобы клиент не мог видеть, что происходит у него за спиной. Пока я буду ходить на рынок, ты смажешь маслом петли двери, чтобы она не скрипела. А ночью, когда американец будет со мною, ты останешься караулить в коридоре. В нужный момент я издам условный стон, ты должен тихо войти, взять со стула его одежду, найти портмоне и также быстро уйти. Ты видишь, как я тебе доверяю? Но не вздумай обмануть тебя. Тебе не укрыться от меня в Венеции!
Исполнив все поручения мадам Блидштейн, ближе к вечеру Артемий Иванович перешел канал Канареджо и направился к железнодорожному вокзалу, чтобы узнать, не пришло ли от Фаберовского какой-нибудь корреспонденции. В душе он надеялся, что поляк уже в Венеции и поможет ему избежать уголовщины, навязываемой ему его содержательницей. Однако в почтовом отделении на имя Смита не было ничего, а на имя Гурина, к его великому изумлению, оказалось письмо из Англии, пахнувшее духами Эстер Смит. Мельком пробежав глазами французский текст, Артемий Иванович зацепился взглядом за сообщение о скором приезде Фаберовского, да еще с женой, и настроение его существенно приподнялось. Артемий Иванович любил жен. Значит, в Каире за ним будут ухаживать две чужих жены.
Солнце, садившееся за стрелами портовых кранов, и теплый бриз, дувший со стороны лагуны, вызвал в душе у Владимирова романтические позывы и сентиментальные спазмы в желудке. «Эстер непременно привезет мне кусочек моего поросенка, — подумал он и отправился прогуляться по вечерней Венеции, чего не делал еще ни разу с самого своего сюда приезда. — Надо только не забыть с собою в Каир обоев взять со спагетти у этой стервы Блидштейн. А то разве в Египте каких обоев найдешь! У них там окромя мумиев вовсе, наверное, ничего нет.»
Артемий Иванович не знал и даже не предполагал, что с этим письмом, вызвавшим у него прилив самых возвышенных чувств и бурление в пустом желудке, едва ли не в то самое время, когда он читал его на почте, ознакомился другой человек — доктор Гилбарт Смит. Отправив жену в путешествие, доктор не смог удержаться от того, чтобы порыться у нее в вещах. Доктор подошел к этому делу с медицинской тщательностью. Он вызвал к себе на дом Проджера ассистировать при этой операции, комната Эстер была разбита на квадраты и поиски начались. Шли они почти целый день, доктор Смит даже отказался ехать к тяжело больной миссис Д., и та к полуночи скончалась, проклиная всех членов семейства Смитов по отдельности и всех врачей скопом. Но доктору Смиту было наплевать на проклятья старой карги — он был уверен, что отъезд его драгоценной половины не был пустой блажью. И маленький, сложенный вчетверо листок бумаги, оказавшийся черновиком письма Гурину, стал ему наградой.
— Проджер, я должен отомстить за свою поруганную честь! — торжествующе возгласил доктор Смит, тыча валлийцу листок в лицо.
— Прошу прощения, доктор Смит, — пытался уклониться от листка Проджер, — но поруганная честь — привилегия лиц женского пола.
— Какая разница! Мы едем с тобой к пирамидам в Каир, Проджер! Там, в этих величественных декорациях я прикончу Эстер и стану свободным вдовцом! И тогда никто не посмеет назвать меня разведенным рогоносцем!
Всего этого Артемий Иванович не знал и никакие волнения не бередили его душу до того самого момента, когда он уже затемно вернулся домой. Поднявшись на последний этаж, он понял по звукам, доносившимся из комнаты, что на свой гешефт безнадежно опоздал. Еще он понял, что ужина ему сегодня не видать, если только не предпринять прямо сейчас какие-нибудь экстренные меры. Артемий Иванович снял ботинки, и поставил их в коридоре у порога. Немного спустя рядом плюхнулась пара носков. Он осторожно приоткрыл дверь, которая благодаря тому, что днем была им самолично смазана маслом, не скрипнула, и вошел в темноту комнаты. Гость мадам Блидштейн старался получить от нее на свои деньги все причитающееся и даже более того, поэтому кровать под ними ходила ходуном и Артемий Иванович даже забоялся, как бы ему днем не пришлось спать на полу. Оба так пыхтели и производили столько шума, что можно было не опасаться, что шаги босых ног Владимирова кто-либо из них услышит. Поэтому он решительно направился к буфету, но, на его беду, путь преградила проклятая ширма старого ребе Зильберштейна, тяжеленная дубовая ширма с бронзовыми конскими головами наверху точеных стоек. Она появилась в комнате, пока Артемий Иванович гулял, и Владимиров никак не мог предвидеть, что встретит ее на своем пути к буфету. Со всего размаху он врезался в ширму головой и она, покачнувшись, рухнула на кровать. Из-под ширмы раздался испуганный визг Рухли Блидштейн и грязные богохульства ее гостя, который, судя по постоянному упоминанию китов, Господа Бога и американских президентов, с которыми предлагалось проделать различные извращения при помощи гарпунов, бушпритов и других предметов морского быта, принадлежал к разряду морских волков. Не в силах остановить свое движение к заветному буфету, Артемий Иванович перепрыгнул через ширму и распахнул его дверцы. Но там ничего не оказалось, кроме засушенной до каменого состояния горбушки хлеба.
— А где мои макароны? — спросил не сулящим никому пощады голосом Артемий Иванович, сжимая в руке горбушку, и обернулся в сторону кровати.
Из-под ширмы выбрался сам морской волк, чья неясная фигура забелела в темноте. Держась за голову, моряк качнулся в сторону Владимирова, и тот, восприняв это за нападение, в отчаянии ударил американца по голове горбушкой. Горбушка в руках Артемия Ивановича обладала столь же разрушительной силой, что и свежая ослиная челюсть в руках Самсона, поразившего, как должно быть известно любому верующему, сим странным предметом тысячу филистимян. Морской волк взвыл, отступил на шаг, подскользнулся, попав ногой в ночной горшок, и упал головой на угол табурета. Наступила тишина, в которой было слышно лишь сопение Блидштейн, выбиравшейся из-под ширмы.
Артемий Иванович, у которого из-за всей этой истории даже пропал аппетит, в сердцах отшвырнул горбушку и пошел надевать носки с ботинками. Блидштейн наконец оказалась на свободе и зажгла в комнате свечу.
— Ублюдок! Сын шлюхи и паршивого кобеля! — завопила Блидштейн. — Что ты наделал?!
— А что?
— Ты же убил его!
Артемий Иванович остановился и, вздохнув, вернулся в комнату. Свет от свечи в руке Блидштейн выхватывал из темноты проломленную голову ее гостя, из которой на пол уже натекла темная лужица густой крови. Владимиров потрогал его босой ногой и пожал плечами. Он не знал, что ему сказать.
В коридор уже повылазили соседи, и даже старый ребе Зильберштейн с клюкой приплелся, чтобы посмотреть, что произошло.
— А чего они индейцев убивают и негров линчуют?! — растерянно сказал им всем Артемий Иванович, разведя руками.
Он и сам понимал, что любые слова будут сейчас звучать неубедительно. Мрачные лица евреев, окруживших его, напомнили Артемию Ивановичу страшный и полный драматизма рассказ батюшки из Крестовоздвиженской церкви, ведшего уроки Закона Божьего в гимназии, о суде иудейских первосвященников и фарисеев над Христом. Он нащупал под рубашкой нательный крест и попытался сотворить молитву побелевшими от страха губами.
— Отче наш, — сказал он и повторил тоже по-латински, полагая, что здесь невдалеке от папы Римского, Господь лучше понимает на католический манер, — избави мя и пронеси.
Владимирову стало так страшно, что последняя часть молитвы показалась ему весьма вероятной в исполнении, отчего он даже зажмурил глаза. Ему представилось, как его, словно Иисуса Христа, распинают на ширме ребе Зильберштейна, и босые ноги его заныли, словно в них уже загнали гвозди.
Евреи загалдели по-своему, и из-под полуприкрытых вех Артемий Иванович видел, как они яростно завертели руками. «Что же за казнь они мне придумают, если так машут конечностями?» — с ужасом думал Артемий Иванович. Но через пять минут непрерывного галдежа и гвалта он начал успокаиваться, так как явственно ощутил, что весь гнев сообщества направлен не на него, а на Рухлю Блидштейн. И хотя он ни слова не понимал на идиш, он оказался прав. Ребе Зильберштейн и остальные мужчины поставили Рухле в вину все, что смогли выдумать: и то, что она спуталась с гоем и бросила ради него свою общину; и то, что когда она вернулась и была принята обратно в общину, она стала отбивать работу у других женщин, отчего их мужьям пришлось заняться дневной работой; а теперь она решила и вовсе превратить жизнь общины в ад, потому что когда сюда прибудет полиция, всем не поздоровится.
— Эта каналья меня плохо кормила, — сказал ребе Зильберштейну Артемий Иванович по-русски, так как в его скудном итальянском словарном запасе слов на эту тему не оказалось. — Каналья кормитто одними макаронни. С чеснокко. А я что, жид что ли в самом деле? Мне мясо нужно. Поэтому я и ширму уронил, от недоедания.
Ребе Зильберштейн одобрительно зацокал языком и Артемий Иванович воодушевился. Он поднял с пола и надел себе на голову морскую фуражку, еще час назад принадлежавшую американцу, и начал, заложив правую за жилетку:
— Да вы только посмотрите на эту блудницу вавилонскую! — Владимиров выпростал руку из жилетки и указал на дрожавшую от холода в одной ночной сорочке мадам Блидштейн. — Если бы вы только знали, какие гадости она мне предлагала! И я говорю уже не о ее, а вообще о жизни! Разве ж это жизнь, которую вы тут ведете! Вы года-нибудь были в Петербурге? Вот там жизнь так жизнь. Однажды я в Петергофе даже русского царя спас от потопа.
Вспыхнувший с новой силой гомон заглушил его речь. Видимо, евреев мало интересовали подвиги Артемия Ивановича на ниве спасения русских царей, а более интересовало то, как наказать Рухлю и избавится от покойника. Тут же по распоряжению ребе Зильберштейна дети были отправлены на улицу за камнями и кирпичами. Вскоре на полу в коридоре рядом с ботинками и носками Артемия Ивановича выросла небольшая кучка этих древних орудий иудейского судопроизводства.
— Я тоже закон Моисея знаю, — сказал Владимиров и, взяв один из камней, запустил им в Рухлю. Камень пролетел мимо ее головы и сделал еще одну дырку в бумаге, закрывавшей окно.
Ребе Зилберштейн что-то гневно закричал и внезапно набросился на него с кулаками. Сперва Артемий Иванович решил, что лицам иных вероисповеданий не дозволяется участвовать в судебных заседаниях и побивать блудниц камнями. Однако затем на труп моряка был надет и застегнут на все пуговицы бушлат. Половина собранных камней перекочевала в карманы этого бушлата, после чего труп был торжественно отнесен в комнату ребе Зильберштейна и выкинут в окно, выходившее на канал. Артемий Иванович высунулся в окно и с интересом смотрел, как тело, плюхнувшись в грязную воду с девятого этажа, медленно ушло на дно. Ему пришла на ум шальная мысль, что вот сейчас точно также будет выброшена и Рухля Блидштейн, и отправится вслед за своим неудачливым клиентам на корм рыбам, если таковые водятся в этой зеленой гнилой воде. Владимиров хотел посторонится, чтобы дать судьям доступ к окну, но тут кто-то ударил его сзади по голове, чьи-то ловкие руки быстро набили камнями его собственные карманы, и ребе Зильберштейн, ухватившись за босые ноги Артемия Ивановича, вывалил его через подоконник наружу.
Спасла Артемия Ивановича от смерти толстая пачка любовных писем, полученных покойным шкипером от ждавшей в Бостоне невесты, которую тот зашил за подкладку фуражки. Любовь неизвестной ему женщины к прежнему владельцу фуражки охранила Владимирова от смертельного удара судьбы, обрушившегося на него в виде клюки ребе Зильберштейна. Сидя на дне и пуская пузыри, Артемий Иванович выложил камни из карманов и с бульканьем всплыл на поверность канала Канареджо. И тут его охватила паника. Он сообразил, что полминуты назад утонул, совершенно не поняв этого. Голося во все горло и глотая отвратительную холерную воду, он замолотил руками и ногами и медленно двинулся в сторону трех других голов, плававших неподалеку, надеясь найти в них товарищей по несчастью.
— Семя Иудино! — кричал Артемий Иванович. — Хорошо, что вы изошли из Египта и нету там больше там вашего чесночного духу! Немедленно в Египет! Подлец Фаберовский! Когда же ты приедешь?!
Наконец, он доплыл до голов, но две оказались двумя сгнившими и испускавшими отвратительный тухлый запах арбузами, а третьей головой был собственный котелок Артемия Ивановича, выброшенный из окна хозяину вослед.
— Он не утонул, — заметил ребе Зильберштейн мадам Рухле, глядя сверху из окна на барахтающегося Владимирова. — Может быть нам стоит спуститься вниз, чтобы он утонул?
— Вы сами будете плавать за ним в канале, ребе? — спросила мадам Блидштейн, и умудренный жизнью старый ребе отрицательно покачал головой.
— Пойди лучше смой кровь у себя в комнате, — сказал он, убедившись, что Артемий Иванович выбрался на набережную на противоположной стороне канала и скрылся в темном проеме между двумя палаццо. — Мало ли что случиться…
И он оказался прав. Едва мадам Блидштейн выплеснула из окна во двор ведро с розовой водой и бросила в угол мокрую тряпку, как в коридоре вновь зашумели соседи и она, выглянув из своей комнаты, увидела двух полицейских чиновников и низенького господина с напомаженными усами в форме велосипедного руля, который с возмущением демонстрировал ребе Зильберштейную мокрое соломенное канотье.
— Синьор Бинт хочет видеть того русского синьора, который уже вторую неделю проживает в этом доме у синьоры по имени Рухля Блидштейн, — пояснил полицейский.
Ребе расплылся в улыбке, суматошно закивал головой и зажестикулировал, пытаясь убедить полицейских, что никто в доме не знает итальянского языка. Однако одного хорошего тумака оказалось достаточно, чтобы обучить этому языку и ребе Зильберштейна, и мадам Рухлю. После долгих переговоров полиции были выданы ботинки и носки Артемия Ивановича. Бинт был вне себя от ярости. Он трижды бегал к окну, в которое, по утверждению Зильберштейна, выпрыгнул Владимиров, тряс старого ребе за грудки и запирался наедине с синьорой Блидштейн. Но ничего о нынешнем местонахождении Артемия Ивановича выяснить ему не удалось. И если история с прыжком Владимирова из окна девятого этажа казалась совершенно неправдоподобной, несмотря даже на представленные доказательства в виде его ботинок, то неведение евреев относительно того, куда он делся, было непритворным.
Глава 23
13 ноября, четверг
От самого Фирвальдштатского озера поезд шел по левому берегу Роны мимо расстилавшихся кругом альпийских лугов, постепенно взбираясь все выше и выше в горы. Затем железнодорожное полотно вдруг завихляло, перескакивая с одного берега на другой и серпантином пробираясь вверх к находившемуся где-то в горах на высоте километра Сен-Готтардскому туннелю. В вагонах было почти пусто и только трое мужчин занимали место на мягких диванах в одном из купе первого класса. Инженер Гартинг сидел у окна, закинув ногу на ногу, и с наслаждением курил толстую сигару, пуская сизый дым в полуопущенное окно купейной двери. Всю дорогу он провел как на иголках, ведь заочный приговор к пяти годам тюрьмы, вынесенный ему в июне французским судом, оставался в силе, и только здесь, близ итальянско-швейцарской границы, Гартинг стал успокаиваться. Напротив него, уставившись в то же окно через монокль безумным взором, притулился доктор Гримбл, казавшийся совершенным заморышем рядом с гигантской фигурой Продеуса, занимавшего собою едва ли не две трети дивана. Бывший околоточный надзиратель присоединился к ним по настоянию Рачковского в Париже и сейчас очень сожалел, что из-за спешки на вокзале не успел прикупить себе чего-нибудь выпить, а у Гримбла с Гартингом с собою тоже ничего не оказалось.
— Помню, когда в восемьдесят четвертом, после провала в Дерпте, мне пришлось первый раз въехать в Швейцарию, — промолвил Гартинг и выбросил в окно недокуренную сигару, — я все высматривал знаменитых швейцарских зобастых кретинов, но так ни одного и не высмотрел.
Страдая без выпивки, Продеус тяжело пыхтел, отчего кадык его ходил на шее, и только свирепо поглядывал на доктора Гримбла. За время их поездки доктор то и дело приставал к нему с дурацким вопросом, что за два кирпича он везет в своем чемодане. Продеус честно пытался объяснить непонятливому англичанину, что это чай, но лучше бы это была водка.
— А почему в кирпичах? — не унимался Гримбл.
— Потому что кирпичный, — следовал ответ и все начиналось сначала.
Эти два кирпича чая вместе с соломенной шляпой Продеусу передал с оказией из России его приятель, бывший агент сыскной полиции еврей Ицка Юдзон, а ныне пасечник малоросс Грицко Юдович, когда узнал, что Продеусу придется ехать в Египет. И радоваться бы такому подарку, так нет же, навязался проклятый доктор со своими вопросами! Пять минут назад Продеус не выдержал, взял один кирпич в правую руку, другой в левую руку, и на вопрос: «А зачем чай в кирпичах?» съездил ими одновременно Гримблу по ушам. Таким ответом доктор, видимо, удовлетворился, потому что больше вопросов не задавал. Но и разговор больше почему-то не поддерживал.
— Скажите, доктор Гримбл, — обратился к англичанину Гартинг, который тарахтел без умолку с тех пор, как они на пароходе пересекли Ла-Манш. — Что вы нашли в этой Пенелопе? Вы меня слышите, доктор Гримбл?
— Что? — растерянно переспросил Гримбл. — Да, я все понял. Чай в кирпичах, золото в слитках, мед в ульях, дрова в поленницах, сыграть в ящик… Это матушка-Россия, это Родина моя… — задрожавшим голосом доктор запел, пытаясь подражать непонятным ему словам русской песни, которые Продеус горланил все пять минут, что прошли после страшного удара по ушам.
— Я тебя спрашиваю, что ты нашел в Пенелопе?
— Квадратная голова, квадратная, — согласился Гримбл. — И чай в кирпичах, и золото в слитках…
— Боже мой, Продеус, что с ним сделал?! — воскликнул Гартинг. — Мы вот-вот приедем в Гёшинен, там уже и до туннеля рукой подать. А Гримбл у нас, что твой зобастый кретин, ничего не соображает.
— Да я его слегка! — стал оправдываться Продеус. — Для порядку.
— Знаю я твое «для порядку». Тогда в Лондоне ты мне руку сломал тоже, я полагаю, для порядку?
Продеус покраснел и, не зная как отвечать, хлопнул Гримбла ладонью по спине.
— Но ты, малохольный! Хватит уже бормотать! Делай, что тебе Ландезен говорит!
— Я готов, — кивнул Гримбл, оглядев их безумными глазами.
— А готовы ли вы во имя своей высокой любви покончить навсегда с ненавистным мужем вашей Пенелопы?
— Чтобы избавить ее от этого Потрошителя, от монстра, от этого чудовища в человеческом образе, я пойду на все.
— Что ты собираешься делать? — спросил, переходя с французского на русский язык, Продеус у Гартинга.
— Сразу за Гёшиненом начнется Сен-Готтардский туннель. Длина его верст пятнадцать, то есть в распоряжении у нас будет чуть меньше четверти часа. Не очень много, но и не так уж мало времени. Года три назад я успел в этой темноте оттараканить двух барышень.
— Врешь, скотина! — сказал Продеус. — Фрау Куэр говорила, что тебя и на пятнадцать секунд не хватает. А если четверть часа на пятнадцать секунд разделить … то сколько же это будет? … черт-те скоко будет … Одна будет, вот что я тебе скажу!
— Если мы сейчас не кончим Фаберовского, Рачковский нас с тобою кастрирует, и тогда уже ни одной не будет, — урезонил бывшего околоточного Гартинг. — Полагаю, что как только поезд войдет в тунель, мы должны отправить Гримбла в купе к поляку. В вагонах будет гореть свет, так что он не должен промазать. А выстрела из-за грохота в туннеле никто не услышит. Потом Гримбл вернется к нам и ты сбросишь его с поезда. Едва состав прибудет в Айрало, ты, как человек солидный и незнакомый в лицо госпоже Фаберовской и ее компаньонке, явишся в полицию и заявишь, что Гримбл вышел из вагона, несмотря на твои попытки удержать и отговорить его, и назад не вернулся. Думаю, вы встретитесь в участке с Пенелопой, так что обнаружение трупа поляка не замедлит себя ждать. Самого Гримбла потом отыщут в туннеле с револьвером, из которого поляк был убит. И все дело шито-крыто — весь Лондон знает, что Гримбл как сумасшедший охотится за Фаберовским.
— А где будешь ты?
— Мне придется отсиживаться в купе, иначе меня сразу же узнают, ведь я был у них в гостях накануне отъезда на континент.
— Что-то мне это не по душе…
— А что делать? Гримбл, — обратился уже по-французски к доктору Гартинг. — Мы продумали план, который позволит нам расправится с поляком… Про кирпичи мы уже слышали. Да прекратите же! Женщины в ульях не живут, женщины живут в публичных домах. А что Пенелопа?
— Пенелопа сидит в купе, — подсказал Продеус.
— Доктор, я дам вам револьвер, и как только поезд въедет в туннель, вы выйдите наружу и пойдете к вагону, где едет поляк с женой. Она еще не вдова, она станет ей, когда вы застрелите Фаберовского.
— Внемли же, олух Царя Небесного, что тебе говорят! — Продеус опять хлопнул по спине Гримбла, который еще не до конца очухался после объяснений о кирпичном чае и спазматически то и дело возвращался в какое-то невменяемое состояние.
— Но как же мы скроемся от полиции? — видимо, дружеские похлопывания Продеуса слегка прочистили Гримблу мозги и он стал более трезво оценивать окружающий мир.
— Ты должен будешь дойти до купэ, выстрелить и вернуться обратно до того, как поезд покинет туннель. Тогда тебя никто из находящихся в поезде не увидит, ведь у них в купэ будет гореть свет, поэтому им будет невозможно разглядеть человека, который в темноте идет вдоль вагонов по подножке.
Поезд заскрежетал тормозами и остановился у платформы с надписью «Гёшинен». Это был маленький аккуратный швейцарский городишко, даже деревня, которая была бы совсем сонной и захолустной, когда бы иногда ее не будили проходившие сквозь туннель поезда, следовавшие из Северной Европы в Италию или обратно. Направо в горы уходила дорога к седловине Сен-Готтардского перевала, через которым почти сто лет назад овладел Суворов по пути из Италии в Швейцарию. Продеусу даже припомнилась солдатская песня «Пойдем, братцы, заграницу бить Отечества врагов» со словами в припеве: «…Нам напомнит каждый шаг, те поля и те долины, где бежал от русских враг», каковой он и исполнил с воодушевлением. Кондуктору, прошедшему вдоль вагонов и предложившему пассажирам включить свет в купэ в связи с тем, что сейчас они окажутся в кромешной тьме туннеля, Продеус велел купить пару бутылок вина и головку сыра, и едва кондуктор получил свой заказ, поезд снова тронулся.
— Ваш револьвер заряжен, Гримбл? — спросил Гартинг.
— Да, — ответил тот, и его спутники увидели, что он ужасно волнуется.
— Тогда взводите курок. Помните, их вагон через три от нашего и второй от паровоза.
Поезд протяжно засипел и с грохотом въехал в туннель. Ландезен повернул бронзовый включатель и над головой загорелась электрическая лампочка в матовом плафоне. Нажав на ручку двери, он распахнул ее и в купе ворвался насыщенный угольным паровозным дымом ветер.
— Ну же, Гримбл, идите! — приказал он доктору и тот нерешительно встал. — У нас меньше четверти часа.
Продеус мягко выдавил Гримбла на подножку и тот, последний раз оглянувшись на сидевших в купе, двинулся к заветному вагону.
А там никто и не предполагал опасности. Фаберовский сидел в уголке и то и дело прикладывался к бутылке, и чем больше он пил, тем сильнее расходилась мисс Какссон, стоявшая посреди купе и произносившая речь о вреде алкоголя вообще и для будущего поколения в частности.
— Если родители воздержаны в питье, то и дети их выходят милыми и хорошими, без дурных склонностей и пороков. Наоборот, дети алкоголиков с детства становятся безнравственными, порочными и приверженными греху и алкоголю. Взять к примеру вас, мистер Фейберовский. Как рассказывал мне мой отец, ваш родитель пил по-черному, как сапожник, результатом чего и явилось то печальное зрелище, которое мы имеем несчастие сейчас наблюдать, — мисс Барбара Какссон ткнула указательным пальцем в Фаберовского, в ответ на что поляк хищно щелкнул зубами, едва не откусив оный.
— Стивен, мне кажется, что тебе больше сегодня не стоит пить, — вмешалась Пенелопа, до этой поры не вмешивавшаяся в разговор. — А вы, мисс Какссон, оставьте свои проповеди на потом.
— Как это на потом?! — вскричала мисс Какссон. — Вы что же, хотите, чтобы я смотрела и молчала, когда другие пьют?!
— Милая Пенни, — подал голос Фаберовский, — готов биться об заклад, что тебе не один раз за время нашей поездки хотелось чего-нибудь выпить, но ты считала неудобным для себя заводить об этом разговор. Вот и мисс Какссон находится точно в таком же положении. А как я определяю по прожилкам на ее носу, у нее большой опыт по части крепких напитков. Хотите, я поделюсь с вами, мисс Барбара?
Какссон сглотнула слюну и сказала сразу осипшим голосом:
— Зовите меня просто Бабз.
Поляк налил ей в походный складной стаканчик джина и протянул его Какссон.
— Пейте, Бабз. Ты будешь, Пенни?
— Буду, — с вызывом сказала Пенелопа.
— За ваше здоровье, милые дамы, — Фаберовский приветственно взмахнул своим стаканчиком и замер в таком положении, глядя как мисс Какссон опрокинула махом свою порцию джина себе в глотку.
— Смотри, Пенни, как у нее краснеет нос! — в восхищении закричал поляк. — Да она же алкоголичка! А ну-ка еще.
И мисс Бабз Какссон, не раздумывая, хлопнула следующий стакан.
— Ты знаешь, Пенни, чем я отличаюсь от этой пьяной бабы? — спросил Фаберовский, вылив в стакан мисс Какссон остатки джина. — Тем что мы, поляки, всегда хорошо закусываем, а вы, гнилая англосаксонская раса, глушите водку просто так, лишь бы опьянеть.
— А мне кажется, что вы с ней ничем не отличаетесь, мистер Фейберовский, — зло сказала Пенелопа. — И наш медовый месяц превратится в одну бесконечную пьянку, на которой я буду совершенно лишняя.
— Ну что ты, Пенни, у меня есть еще одна бутылка джина.
— Ты меня не понял, Стивен.
— Наоборот, я тебя очень хорошо понял.
— Допустим. Но это не значит, что ты можешь обращаться со мной, как с какой-нибудь «леди» из Уайтчепла! Мог бы предложить мне джина как-нибудь поизящнее.
— Человек! Человек! — взревела вдруг Какссон, указывая в темное окно, и обернувшейся Пенелопе показалось, что за стеклом мелькнуло чье-то бледное лицо.
— Я же говорил: они не закусывают, — сказал поляк. — Вот откуда ваша английская вера в привидения.
— Человек!!! Человек!!! — продолжала верещать Какссон. — Откройте же скорее дверь!
— Входите! — Фаберовский распахнул дверь, даже не взглянув в ту сторону. — Чувствуйте себя как дома, мистер Белая Горячка!
— Вы сшибли его! — накинулась на поляка Какссон. — Немедленно достаньте его обратно.
— Пенни, налей многоуважаемой Бабз еще джина.
— Не стоит, Стивен. Мне тоже показалось, что там стоял какой-то человек.
— Это был Гримбл! — завыла Какссон и опустилась перед Фаберовским на колени.
С кривой усмешкой поляк снова открыл захлопнувшуюся от ветра дверь и сказал:
— Мистер Гримбл, вас ждут. Ну, я же говорил, что там никого нет.
На всякий случай поляк выглянул из купе наружу и обе женщины увидели, как лицо его вытянулось от изумления.
— Матка боска, до то ж действительно Гримбл!
Держась за поручни, Фаберовский выбрался в грохочущую темноту туннеля и втащил в купе несчастного доктора, который от удара дверью не только выронил револьвер, но и сам едва не свалился под колеса, повиснув на подножке и суча в воздухе ногами, едва не достававшими земли.
Гримбл был уложен на диван и Пенелопа щедро залила в его полуоткрытый рот джина из бутылки, отчего глаза доктора полезли на лоб и он закашлялся, судорожно хватая ртом воздух.
— Так его и убить можно, — сказал Фаберовский, закрывая дверь. — И чего это вы, доктор, гуляете по подножкам вагонов в туннеле, как мартовский кот ночью по карнизам? Вот даже личико и манишку закоптили.
— Я люблю вас, Пенни, — только и прохрипел Гримбл.
Фаберовский отобрал у Пенелопы бутылку и на этот раз уже сам влил доктору джина. Спустя несколько секунд доктор вырубился и продолжал тихо лежать на диване, даже когда поезд вышел из туннеля на свет, остановился в Айрало и в вагоны стали подсаживаться пассажиры. Впрочем, он недолго занимал место. На пограничной станции Кьясо между Швейцарией и Италией кондукторы попытались добиться у Гримбла предъявления билета, а когда им этого не удалось, при помощи полицейских и таможенников вынесли его из вагона и оттащили в станционное здание. Последнее, что успел сказать Гримбл, прежде чем расстаться с Пенелопой и Фаберовским:
— А джин в России тоже в кирпичах?
— В кирпичах, в кирпичах, — проворчал ему вслед Фаберовский. — Спиртное у нас бывает в штофах, дурак.
Глава 24
14 ноября, пятница
— Вы должены лучше следить за вашей женой, мистер Фейберовский, — сказала мисс Какссон, когда поезд отошел от Кьясо и въехал на территорию Италии. — Я уверена, что доктор Гримбл появился здесь, чтобы украсть Пенелопу.
— Это ваша забота — следить, чтобы с моей женой ничего не случилось, — возразил поляк. — Вам за это деньги платят, чертова алкоголичка. Я не понимаю, как полковник Маннингем-Буллер решался доверять вам детей. Вы не сумеете уследить деже за Пенелопой, если ваш чокнувшийся любитель глистов решится ее похитить.
— Он вовсе не чокнувшийся! Он просто лишился разума.
— Это меняет дело, — подпустила шпильку Пенелопа.
— Если бы вы были джентльменом, мистер Фейберовский, вы не допустили бы, чтобы британец оказался в руках грязных макаронников, да еще полицейских. Вам следовало бы определить поместить на время доктора Гримбла в какую-нибудь хорошую швейцарскую или австрийскую психиатрическую лечебницу, а я, так и быть, согласилась бы остаться сиделкой при нем до тех пор, пока он не выздоровеет.
— Вас саму надо поместить в лечебницу в качестве пациентки, мисс Какссон.
— Стивен! — попыталась одернуть мужа Пенелопа, но того было уже трудно остановить.
— Только в больном, воспаленном алкоголем мозгу могла возникнуть идея, что человека против его воли можно похитить, вытащив из купэ на подножку несущегося по туннелю поезда, и доставить хотя бы в соседний вагон, когда и вне туннеля здоровому мужчине одному трудно пробраться снаружи по узкой подножке между двумя вагонами — для этого нужен опыт поездных кондукторов!
— Конечно, идея с моим похищением кажется фантастичной, — согласилась Пенелопа. — Тут мисс Какссон слишком увлеклась. Но ты не должен оскорблять ее только потому, что она волнуется за доктора Гримбла.
— Вовсе и не волнуюсь! — поджала губы Какссон.
— А я вам скажу, зачем явился любезный нашей алкоголичке доктор Гримбл. Если бы мы вышли в Айрало и вернулись в туннель к тому место, где Бабз заметила Гримбла в окно, уверен, что мы непременно нашли бы там револьвер или какое-нибудь другое похожее оружие.
— Уж не хотите ли вы сказать, что доктор Гримбл собирался застрелить Пенелопу? — ехидно спросила Какссон.
— При чем тут Пенелопа?
— Вы только послушайте, что он несет! Да у него никогда не поднимется на женщину рука!
— Вы, мисс Какссон, не нужны Гримблу, ни в живом, ни в мертвом виде, разве что как питательная среда для его любимчиков. Полагаю, что его целью должен был стать я.
— Подумайте, какое самомнение! Да доктор Гримбл просто презирает вас.
— Мне кажется, Стивен, что ты также склонен к фантазиям, как и мисс Барбара. Все это следствия вашей неумеренности в питье.
— При чем тут питье! Ты помнишь визит мистера Гартинга к нам в дом накануне нашего отъезда? Один раз он уже пытался покончить со мной. Я не догадался проследить за ним в окно, когда он покинул наш дом, но уверен, что он не преминул познакомится с Гримблом, который все время дежурил напротив нашей калитки.
— Уж не о том ли вы отвратительном хлыще еврейского вида вы говорите, который вышел из нашего дома во вторник, когда я возвращалась с рынка? — внезапно воспряла духом Какссон.
— Вероятно, о нем.
— Я видела, как он подошел к экипажу доктора Гримбла и подсел к нему. Теперь мне все ясно. Несчастный Энтони пал жертвой ваших темных делишек. Они силой заставили его пойти на преступление!
— Кто — «они»?
— Я точно не знаю, но полковник Маннингем-Буллер рассказывал, что на Сицилии живут столь же дикие разбойники, как корсиканцы или крестьяне из Пиринеев. Чудовища, воспитанные на страшных традициях кровной поруки и обществ тайных мстителей! Вы имели с ними дело и теперь вас настигла неотвратимая кара за предательство!
— Но при чем тут Гримбл, Барбара? — спросила Пенелопа.
— А при том, милая, что они завлекли его в сети шантажа и не оставили ему иного выбора, как покончить с твоим мужем!
— Вы абсолютно правы, Бабз, — сказал Фейберовский. — Я даже знаю, что именно они использовали для шантажа.
— Что?
— Они похитили колекцию его препаратов и угрожали передавить всех глистов в пробирках, если он не согласится на их условия.
— И даже Ascaris Penelopi? — спросила испуганная Барбара Какссон, введенная в заблуждение серьезным тоном Фаберовского.
— И аскарис пенелопи, и все ваши мемориальные анализы в баночках, и знаменитый экземпляр бычьего цепня длиной в четыре ярда, завещанный Британскому музею…
— Вы издеваетесь надо мной! — поняла наконец Какссон. — Значит, доктор Гримбл приходил все-таки из-за Пенелопы! Как было бы хорошо, если бы он промахнулся и вместо вашего мужа попал в вас, миссис Фейберовская!
— Вы пьяны, Какссон! — рассердилась Пенелопа. — Я приказываю вам замолчать, иначе я вынуждена буду расстаться с вами еще до конца нашего путешествия!
— Как я вас ненавижу! — прошипела мисс Какссон и забилась в угол купе, до самого Милана не проронив больше ни слова.
В Милане Фаберовский вышел на огромный вокзал, шумный и многолюдный. Быстрым шагом он прошел вдоль состава, заглядывая в окна тех купе, где двери были закрыты. Ничего подозрительного он не увидел, но это вовсе не успокоило его. Ничто не мешало Гартингу и его подручным, если он был не один, покинуть поезд раньше или даже просто скрыться в толпе, заметив интерес Фаберовского к сидящим в поезде.
Заглянув в ресторан, поляк купил для успокоения дам бутылку шипучей «Пассереты», пакет спелых груш и у разносчика два мороженых. Вернувшись в купэ, он молча всучил презенты жене и Какссон и сел в дальний угол наблюдать за ходящими по соседней платформе людьми.
— Стивен, я видела мистера Гартинга с каким-то орангутаном, — сообщила Пенелопа после того, как поезд тронулся и начал набирать скорость.
— Когда?!
— Едва ты выскочил из купэ, они прошли с другой стороны поезда и направились в сторону паровоза.
— Холера ясная! — выругался поляк и, встав с дивана, решительно взялся за ручку двери.
— Ты куда?
— Я доложен пройти вдоль поезда! Полагаю, что Гартинг сел в поезд обратно.
— Я не пущу тебя!
— Идите, идите, глупец! Да чтоб вас вообще поездом задавило, как моего прежнего хозяина полковника Маннингема-Буллера, который погиб, выйдя из поезда не в ту сторону! И вместе с вашей женушкой заодно!
— Я знаю, в какую сторону мне выходить, мисс Какссон, — холодно сказал Фейберовский. — А вам с сегодняшнего дня я урезаю жалование вдвое.
— Останься, Стивен, — попросила Пенелопа. — Что ты будешь делать, если найдешь мистера Гартинга? Ты совершенно безоружен перед ними. А Гартинг с его орангутаном легко может сбросить тебя с поезда, сказав, что ты сам не удержался на полном ходу. Впереди еще Верона и Падуя. Если хочешь, я могу помочь тебе и пройти вдоль поезда с другой стороны.
И Фаберовский был вынужден согласиться. Однако ни в Вероне, ни в Падуе им не удалось найти никаких признаков пребывания в поезде Гартинга, хотя мисс Какссон заявила, что пока они бродили вдоль поезда в Падуе, человек, похожий на того еврея, что выходил из калитки дома на Эбби-роуд, заглядывал к ней в окно купе.
Наконец, поезд добрался до берегов Адриатического моря и въехал на длинный железнодорожный мост, пересекавший Венецианскую лагуну, чтобы спустя три минуты остановился у дебаркадера вокзала.
К вышедшему из вагона поляку толпой подскочили посыльные из различных гостиниц и, мешая английские и итальянские слова, стали бурно расхваливать свои заведения. Но взгляд Фаберовского остановился на степенной фигуре стоявшего несколько в стороне комиссионера с надписью «Отель Роял Даньели» на околыше фуражки, и поляк решительно подошел к нему.
— Наша гостиница находится рядом с площадью Святого Марка, на набережной Скьявони близ дворца дожей, синьор, — отрекомендовался комиссионер. — Свое почтовое отделение и железнодорожная касса. Номера от пяти до двадцати лир. Стол полторы, четыре и шесть лир.
— Дороговато, — покачал головой поляк, — но свадебное путешествие бывает лишь раз в жизни. К тому же, сэкономленное жалование мисс Какссон позволяет нам увеличить расходы. Едем!
Комиссионер быстро уладил дела по части багажа и посадил их на небольшой пароходик, ходивший по Большому каналу до Лидо. Ландезен с Продеусом, после позорного провала Гримбла вынужденные на каждой станции покидать купе и прятаться от поляка и его жены, на этот раз не рискнули сесть на тот же пароходик, тем более что теперь они точно знали, где намерен поселиться Фаберовский. Поэтому они наняли гондолу и отправились искать себе отель попроще, где можно было бы оставить вещи и передохнуть.
Тем временем поляк с женою и мисс Какссон прошли на нос маленького пароходика-вапаретто, больше похожего на баржу с рубкой посередине и низкой, чтобы проходить под мостами, трубой, и сели на скамейки под тентом, закрывавшим пассажиров от солнца и копоти. Швартовы были отданы, пароходик отчалил от пристани и попыхтел по Большому каналу мимо бесчисленных палаццо, вспенивая винтом ярко-зеленую непрозрачную воду. Мимо черными тенями скользили изящные гондолы, хотя близ вокзала часто встречались совершенно иные, грубые и тяжелые, наполненные крупными кочанами капусты.
Мисс Какссон, которую не волновали все эти красоты для туристов, сидела отдельно от молодоженов, погруженная в свои мрачные мысли, вертевшиеся вокруг одного и того же предмета — безумного поступка доктора Гримбла в Сен-Готтардском туннеле. Сейчас ей даже казалось, что когда она впервые увидела его за окном купе, стоявшего в темноте на подножке мчащегося в грохочущей темноте туннеля вагона, то в руке у доктора она видела что-то, похожее на револьвер. Два чувства боролись сейчас в ее душе — ревность к Пенелопе, дошедшая до столь крайних пределов, что перешла в желание устранить соперницу любым способом, и страх за доктора Гримбла, которого его безрассудные поступки в попытках заполучить Пенелопу неминуемо приведут на виселицу. Как ей поступать, когда поляк сократил ей жалование и готов вовсе вышвырнуть ее, а вылечить несчастного Энтони от его безумной страсти и навсегда освободиться от Пенелопы можно, только оставаясь в ее нынешнем положении компаньонки миссис Фейберовской?
— Стивен, посмотри скорее туда! — возглас Пенелопы отвлек Барбару Какссон от раздумий, и она взглянула туда, куда та указывала рукою.
По левому борту на набережной, около которой у вбитых в дно канала деревянных столбов покачивались тощие корпуса пустых гондол, сидела, свесив ноги, мешковатая фигура в морской фуражке с американским крабом и мятом черном пиджаке, и ловила удочкой рыбу. Поймав в мутной зеленой воде рыбку размером с палец, фигура клала ее в налитый водою фетровый котелок, который был засален до непромокаемости.
— Тело Бахуса! — вскричала фигура, заметив на пароходе Фаберовского. — Кровь Давида!
— Мистер Гурин! — помахала Пенелопа рукой Артемию Ивановичу. — Мы остановимся в «Гранд Отеле Даньели»! Стивен будет вас ждать.
— Боже, какое убожество! — сказала Какссон. — Будь у меня такие знакомые, я сгорела бы со стыда.
— Хотите, мисс Какссон, мы выдадим вас за него замуж? — тут же предложил Фаберовский. — Молчание — знак согласия.
— Да он же просто оборванец! — негодующе воскликнула Барбара.
— Его можно приодеть, — пожал плечами поляк. — Я куплю ему новый котелок.
— Красивая одежда еще не делает джентльмена.
— Ну, как знаете.
— Брезгливым собакам придется есть грязные пироги, — добавила Пенелопа.
— Вы мне еще ответите за свои издевательства! — прошипела Какссон, но ни поляк, ни его жена не услышали ее, так как с берега донесся истошный крик:
— Я не могу в «Гранд Отель»! Я там из окна прохожих мочил!
— Вот, Пенни, и кончилось наше беззаботное свадебное путешествие, — вздохнул поляк. — Ну, почему он не утонул тут в каком-нибудь канале!
Управляющий гостиницей синьор Боцци радушно встретил их внизу, лично распорядился, чтобы коридорный отнес вещи к ним в номер, и даже рассказал прибывшим англичанам на скверном английском вкратце историю дворца Бернардо-Нани-Мочениго, который ныне занимал его отель. Обычно сам он старался вообще не иметь дела с клиентами, но вот уже неделю гостиница пустовала после выходки русского господина, из-за которой все венецианские проститутки толпами ходили сюда в надежде увидеть героя распространившихся по городу легенд о возвращении в Венецию нового Казановы и отпугивали постояльцев. И теперь синьору Боцци приходилось хвататься за каждого, кого не испугала толпа шлюх перед входом. Устроившись в номере, Фаберовский попросил Какссон заказать в номер обед для троих.
— Вы сами можете обратиться к коридорному! — с вызовом заявила Какссон.
— Вы получаете жалование! — оборвал ее поляк.
— Каждый должен честно зарабатывать свой хлеб, — подражая нравоучительным интонациям Какссон, сказала Пенелопа.
— Верно, — подхватил Фаберовский, — именно этим мы, культурные британцы, и отличаемся от варваров.
Какссон со злости хлопнула дверью и вышла. В ее груди клокотала ненависть и она судорожно хватала воздух ртом.
— Вам плохо, синьора? — испуганно спросил ее коридорный.
— Да. У вас в отеле есть врач?
— Си, синьора.
— Проводите меня к нему, и подайте в этот номер обед на троих, но оставьте его в коридоре, я сама подам его в номер. Вот вам лира за беспокойство.
Врач, пожилой смурной итальянец, был очень удивлен тем, что англичанка обратилась к нему, а не потребовала привести ей ее соотечественика, поэтому безропотно дал ей в ответ на ее просьбу слабительное, даже не поинтересовавшись, чем она болеет. Когда Какссон вернулась к номеру четы Фаберовских, обед на три персоны уже стоял на тележке у дверей. Убедившись, что в коридоре никого нет, компаньонка открыла судок с лапшой-талиателли и втянула носом запах. Лапша не пахла. Зато от фаршированного ветчиной тушеного лука в животе у нее начались голодные спазмы. Какссон встала перед выбором: от какого блюда ей отказаться, чтобы без сожаления отравить его. Поочередно она заглянула во все прочие судки. Здесь были мясные клецки по-венециански в качестве приправы к лапше, минестра — овощной суп с сыром в горшочках, миланский салат с копченой рыбой, и тарелка с сыром горгонцола. Выбор мисс Какссон остановился на лапше. Она открыла полученную от доктора бутылочку со слабительным и вылила его в талиателли. Ей уже рисовалась картина, как ее соперница и отвратительный поляк, мучимые страшным поносом, попадают в холерный барак какой-нибудь венецианской больницы, и заражаются там холерой или дизентерией по-настоящему.
Мисс Какссон вкатила в номер сервировочный столик и, предвкушая месть, накрыла на стол. Расставив приборы, она села на стул и дьявольски улыбнулась Пенелопе.
— А чего вы расселись? — спросил Фаберовский. — Прислуга обедает отдельно и за свой счет, если только вы уже не захотели уволиться.
— Нет, не захотела! — огрызнулась Какссон, мгновенно перестав улыбаться.
— Тогда отправляйтесь к себе в номер!
— Ну и пожалуйста, невоспитанный скот! — Какссон хрустнула сжатыми в кулаки пальцами и направилась к двери, которая прямо перед ее носам распахнулась и впустила чрезвычайно озабоченного синьора Боцци.
— Простите, синьор Фаберовский, — сказал итальянец. — Вам знаком синьор Бинт?
Фаберовский побледнел. Он не был знаком с Бинтом лично, но прекрасно помнил, что имя именно этого агента Рачковского фигурировало и в телеграмме Артемия Ивановича из Парижа, и в газетных отчетах об убийстве Шарлотты де Бельфор. То, что Бинт разыскал его здесь, равно как и присутствие Ландезена в поезде вкупе с неудачным покушением Гримбла в Сен-Готтардском туннеле, означало, что болтовня Владимирова о подводной лодке дошла до Заграничной агентуры и была воспринята Рачковским всерьез.
— Что он хочет? — спросил поляк у синьора Боцци.
— Еще две недели назад, поселившись у меня в отеле, он устроил тут какую-то оргию и мне пришлось его выгнать — несмотря на имевшийся за ним долг. Вы, наверное, видели внизу толпы проституток? Все они ежедневно толкутся по соседству с отелем, ожидая его возвращения. Вы представляете, какое это пятно на репутации моего отеля, считающегося лучшим в Венеции! И вот сегодня он незамеченным пробрался сюда, скрыв свою личность под морской фуражкой; более того, он на весь отель потребовал, чтобы я разогнал шлюх у подъезда и заявил, что пришел по вашему приглашению.
У Фаберовского отлегло от сердца: не стоило труда догадаться, кто скрывался под миенем Бинта.
— Вы понимаете, я не могу его выгнать из гостиницы, потому что его сразу узнают на улице, — продолжал синьор Боцци, — но и здесь я оставить его не могу. Если вы поможете мне, обещаю уменьшить стоимость вашего номера вдвое.
— Я обещаю, что постараюсь в ближайшие дни избавить вас от его присутствия, — сказал Фаберовский. — Но обещать, что он не учудит еще каких-нибудь безобразий, я не берусь.
— Грацио, синьор! — возрадовался Боцци, который не расчитывал даже на такую малость. — Так я приведу его?
— Конечно. А вы, Бабз, собирались удалиться к себе, — напомнил поляк застывшей близ дверей мисс Барбаре Какссон.
Спустя несколько минут двое коридорных в ливреях ввели под руки сияющего Артемия Ивановича. В морской фуражке его действительно не сразу можно было узнать, в ней он выглядел, если можно так сказать, более героически, и даже висящий мешком на его похудевшей фигуре пиджак не портил этого впечатления.
— Где же ваш котелок, пан Артемий? — спросил Фаберовский, жестом приглашая Владимирова войти.
— А я его отпустил вместе с рыбками, — ответил тот, входя и прямиком направляясь к столу. — Пусть хоть у них будет постоянный дом.
Вместе с Артемием Ивановичем в номер вкатила волна нестерпимого зловония, сконцентрировавшего в себе и запахи венецианских каналов, и ароматы еврейского гетто, и просто грязь и пот, которые Артемий Иванович собрал на себе с тех пор, как последний раз по-настоящему мылся на Монастырке в арестном доме. Подсев к столу, Владимиров схватился грязными заскорузлыми руками за тарелку и вывалил на нее из судка горой всю лапшу. Громко сглотнув слюну, он набросился на еду, забыв даже приправить ее мясными клецками.
Пенелопа смущенно отвернулась, а Фаберовский, несмотря на непрезентабельность этого зрелища, счел необходимым поддержать компанию, и сел за стол напротив Артемия Ивановича, взяв себе горшоченк с супом.
— Я вижу, что вы уже поели, — озабоченно сказал Артемий Иванович, проследив взглядом за ложкой супа, исчезнувшей в ненасытной утробе поляка. — Тогда я доем за вами. Не пропадать же добру, в самом деле. Лучше в нас, чем в таз, — и придвинул к себе все судки и горшки.
Утолив первый голод, он стал разговорчивым и пожаловался на свое житье, рассказав, что не ел уже несколько дней, что пытался даже ловить голубей на площади Святого Марка, но туда его не пускает полиция, а сырая рыба застревает у него в горле.
— Вы уже плавали на гондолах, мистер Гурин? — спросила Пенелопа, когда ей, наконец, удалось пересилить отвращение и брезгливость.
— Нет, я их боюсь. Я сам себе гондол, — сказал Артемий Иванович. — Я своим брюхом плаваю.
— Как лорд Байрон, — улыбнулась Пенелопа.
— Не знаю, как плавал Байрон, но когда я на него сел, он только крякнул и тут же сдох.
— Вы были в Миссолунги [14]?
— Нет, это было у вас дома, — не переставая жевать, прочавкал Артемий Иванович. — Мерзкий кобель, будет знать, как меня кусать.
* * *
В крошечном, пахнущем плесенью венецианском кафе, с одним окном и распахнутой дверью, выходившей прямо на канал, сидели за единственным столиком двое мужчин. Иногда к ступеням у входа подъезжали гондолы, но пассажиры, найдя кафе занятым, продолжали свой путь.
— Эй, каффеттьере! — крикнул один из мужчин из-за столика спавшему за стойкой буфетчику. — Я и синьор Гартинг вуоле авере уна бибита! Си порти уна боттилья ди вино!
Буфетчик поднял голову и в воздух взвился целый рой сонных мух, присоединившихся к своим соплеменникам, безумолчно гудевшим под потолком.
— Давай-давай, пошевеливайся! Темпо, или как там по-вашему!
Буфетчик встал и удалился в заднюю комнату, откуда донесся равномерный стук воды, капавшей с потолка в железный таз. Он вернулся с бутылкой вина и поставил ее перед посетителями на стол, после чего вернулся за стойку и продолжил прерванный сон.
Бинт откупорил бутылку и разлил по стаканам. Встреча их в этом захудалом заведении была не случайна. Согласно инструкциям Рачковского, которые каждый получил, прежде чем отправиться в Венецию, ровно через неделю после отъезда наследника цесаревича из России (о чем непременно напишут все газеты), оба должны были явиться сюда в два часа дня. Но ни Бинт, ни Гартинг не знали, кого именно им надлежит встретить, и оба были разочарованы.
Еще с восемьдесят пятого года, с самого назначения Рачковского заведовать Заграничной агентурой, между ними возникли неприязненные отношения. Оба они, бесспорно, были звездами тайного сыска одной величины, каждый из них занимал равное место в иерархии агентуры, только один в наружной, а другой во внутренней, оба умудрялись бороться за расположение одних и тех же женщин, причем Бинт неизменно проигрывал своему сопернику. Бинт презирал еврея за его похотливость и неразборчивость во всех, не только амурных, вопросах, а тот ненавидел француза за высокомерие и самовлюбленность. Но самым большим камнем преткновения в налаживании их отношений были деньги, до которых оба были сами не свои. И здесь Бинт проигрывал своему коллеге, так как сам он получал только жалование, а Гартинг, как тайный агент и провокатор, бесконтрольно тратил выдаваемые суммы, и даже одалживал французу под грабительские проценты. Со времени разгрома народовольческой типографии в Женеве их если что и объединяло, так это взаимная ненависть к Владимирову.
* * *
После первой рюмочки Ландезен начинает издеваться над Бинтом и смертью Шарлотты. Всплывает, что все проделано Владимировым. Бинт говорит, что надеется, что тот мертв. Ландезен, знающий, что Фаберовский работал в паре с АИ, догадывается, что Бинту было поручено устранить Влад. Рассказ о том, что полиция выудила из канала тело мужчины и сообщила о нем Бинту. Тот телеграфировал Рачковскому, что Гурин умер. Но не успел посмотреть на тело, так как собирался сделать это после сегодняшней встречи.
Из слов Ландезена Бинт заключает, что у Владимирова есть сообщник, которого тоже надо было убрать, и что это Ландезену сделать не удалось. После взаимных препирательств и издевательств Ландезен предлагает Бинту помочь ему в уничтожении поляка, тем более что откладывать нельзя, через четыре-пять дней в Египет уже приезжает наследник и им в любом случае надлежит быть там для его охраны.
Бинт за свои услуги по приканчиванию Фаберовского, который не является его целью, требует деньги.
Вечером идут гулять по набережной Скьявони, длинной и красивой набережной от Пьяцетты Св. Марка до Публичного сада, особенно любимой для прогулок осенью и зимой.
АИ вымыт и выбрит, фуражка его вычищена, краб надраен. Орел-мужчина. Сразу у гостиницы переходят мост ponte della Pieta на канале Адмиралтейства (rio — канал любого размера, но по ширине достаточный, чтобы позволить пройти не очень большой барже). Отхожее место (Cessi, плата 10 чент. или 2 сольдо (всего два сольдо!)) на набережной Скьявони (Schiavoni) близ Сан-Бьяджио (S.Biagio).
Артемий Иванович очень беспокоится, что может произойти конфуз. Упрашивает дать ему всего два сольдо сходить в сортир. Он съел всю еду, поэтому ему все и досталось. Он уходит в сортир, когда появляются Ландезен и Бинт. Они ездили смотреть на труп, но того уже похоронили на кладбище для бедных, поэтому они пребывают в неведении, жив или нет Владимиров. Увидев, что поляк прогуливается только с женой, уверовали в смерти АИ. Ландезен дает указания нанятым убийцам утопить Фаберовского в канале, после чего поспешно удаляются. Попытка не удалась, так как АИ, облегчившись, догнал чету как раз в тот момент, когда убийцы напали на них, и в свою очередь напал на них сзади. Те позорно ретировались, а АИ опять стал клянчить на сортир.
Решили вернуться обратно в номер и показать его врачу. Вызванный в номер врач узнает Артемия Ивановича и требует вернуть ему резиновую клизму. В отместку прописывает ему против поноса еще более страшного слабительного.
— Мошенник, каналья! Где моя прекрасная оранжевая гуттаперчевая груша за две лиры?
* * *
— Ну что, пора спать, — сказал поляк, когда Артемий Иванович вышелв очередной раз из сортира. — Пойдем, я поговорю с синьором Боцци, чтобы тебе предоставили отдельный номер, закрывающийся на замок снаружи.
— А вдруг на тебя опять нападут? Кто тебя с женой защитит? Только я. Так что лучше мы все вместе переночуем. Вы тут в гостиной на диванчике около двери, а я как-нибудь в спальне помещусь. И никому не открывайте.
— Да пан Артемий нахал!
— Ни в коем разе. Я не спал по человечески месяца три, если не больше! А вы одну ночку перетерпите.
— У нас свадебное путешествие!
— Ну а я-то чем виноват? Надо было раньше думать.
— В чем дело, Стивен? Он что, собрался ночевать у нас в номере?
— Похоже, что так.
— Так сделай что-нибудь! Дальше так невозможно. В нашем путешествии мы еще ни на миг не остались с тобой наедине.
— Я не могу ничего поделать, Пенни. Во-первых, его слишком опасно отпускать. Ты же видела, что сегодня приключилось на прогулке. А во-вторых, он полагает, что это мы остаемся ночевать у него!
— Вот как?! Мистер Гурин! Вы видели, какие я купила своему супругу очки?
— Ого! Дай-ка посмотреть!
— Во тебе, а не очки! — сунул ему в нос кукиш поляк.
— Мне Эстер перевела совет насчет очков из вашего письма, мистер Гурин. Я специально купила их Стивену, но он так до сих пор ничего не «нашел». И кажется, ему это не очень нужно.
— Просто очки у него, наверное, очень слабые, — сказал Владимиров, не поняв намеков Пенелопы. — Хотите, я вам сам найду что надо. Так чего у нас пропало?
— Главное мое сокровище я еще не потеряла.
— Пенни!
— Чего мне стесняться, имея мужа-импотента и его друга-идиота!
— Я не идиот, — обиделся Артемий Иванович. — Я тоже импотент! И в театры мы хаживали, и концерты в «Аквариумах» глядели! И книжки пишем не какие-нибудь, а высокоимпотентные, для умных.
— Пан хотел сказать интеллектуал, а не импотент, — поправил его Фаберовский.
— А что же тогда импотент?
— По-русски значит бессильный.
— Ой, умора! — захохотал Артемий Иванович. — Поляк — импотент! Импотент! Импотент!
— Я хочу выпить, — объявила Пенелопа, которая еще могла сама сгоряча как-нибудь нехорошо назвать мужа, но другим подобной бестактности дозволить не могла.
— Эй, импотент, налей-ка нам с дамой водочки, — щелкнул пальцами Владимиров. — Импотент! Гы-гы-гы!
Глава 25
15 ноября, суббота
Ландезен отсылает телеграмму о неудаче. Рачковский телеграфирует распоряжение арестовать поляка, но не по политическим мотивам, а как опасного душевнобольного, укравшего женщину (Пенелопу).
Явление Селиверстова к Рачковскому. О нем докладывает Афанасий. Говорит, что человек отказался назвать себя, но он узнал его, у них в Венгрии был поручик лейб-гвардии гренадерского полка Селиверстов, так это он и есть.
У Селиверстова сигаретница или табакерка с двойной крышкой. Первая целомудренна, вторая откровенна. М.б. обвинения в двуличии Рачковского с использованием для примера сигаретницы?
Селиверстов ошалел и остановиться не может. Он является к Рачковскому, обвиняет его в умысле на наследника и предъявляет какие-то доказательства или что-то подобное. А может быть он просто решил убить Рачковского?
Также об убийстве Шарлотты де Бельфор.
Рачковский вызывает Милевского. Говорит, что Селиверстова нельзя больше оставлять на свободе, иначе он может натворить много бед.
— Но у меня есть на примете человек и для него. Вы, быть может, помните вашего тезку, Станислава Падлевского, польского социалиста. Он варшавянин, знает русский, польский, французский и английский языки. Был бы неоценимым человеком для нигилистов, когда б не его импульсивность и нелюдимость. За ним постоянно следят с тех пор, как он в сентябре приехал в Париж. В восемьдесят пятом году, отсидев по приговору в Познани больше двух лет, при вмешательстве Селиверстова он был выдан России и сменил тюрьму на ссылку на Кавказе. Два года назад он объявился в Париже, а в прошлом лете предпринял поездку в Галицию и Кроацию, потом проживал в Вене под именем Виктора Дизека, но был выслан и вернулся в Париж только в сентябре. Месяц Падлевский проживал у Вольского, затем в октябре снял убогую квартирку на улице Симир, 41.
Недавно этому Падлевскому удалось получить место у Мишеля Бернова, главы кружка, на вечера которого раз в неделю собирается избранное общество. Недавно этот Бернов снял новое помещение в институте языков Рюди на улице Рояль, 7 близ площади Согласия и в двух шагах от «Максима». Салон имеет целью пропагандировать художественные творения русского гения под девизом «За Бога, за царя». Я там был, это очень уютно. У них две залы, одна зрительная, белая, лепной работы, другая зеленая, гостиная и фойе, с читальней и двумя уборными. В гостиной у Бернова буфет а ля рюс, с русским чаем, квасом и закусками. Чтобы гостям было не скучно, Бернов приглашает туда красивых женщин.
Падлевский служит у Бернова чем-то вроде рассыльного, разносит приглашения и открывает гостям двери. Получает он по 2 франка в день, а по четвергам 5 франков. Живет в убогой комнатке на улице Симир, 41. Ненависть к Селиверстову и отсутствие денег сделают его послушными нашей воле. Бернов лично знает генерала Селиверстова, так что если Падлевский убедит Бернова послать приглашение генералу, ему не составит особого труда проникнуть к генералу в номер. Каждый год генерал снимает пять комнат в «Гранд-Отеле де Бад» на Итальянском бульваре, 30 и 32 рядом с театром «Нуво». В этом отеле работает доктор Портелье, он наш человек и сообщает мне всегда о передвижениях Селиверстова и о людях, которых тот принимает.
Селиверстов любил женский пол и любил пускаться в рассказы гривуазного свойства.
Он (Селиверстов) родился в богатой симбирской дворянской семье, образование получил в школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, выпущен в 1847 году с правом 1-го разряда корнетом в лейб-гвардии гренадерский Ее величества полк. В 1849 году участвовал в Венгерской кампании. В 1854 году назначен адьютантом к генерал-адьютанту Редигеру. В 1855-58 гг. капитан Селиверстов часто бывал в длительных заграничных отпусках, исполняя служебные поручения. В 1859 году назначен адьютантом к шефу жандармов с переводом в лейб-гвардии кирасирский полк. В 1859 — полковник, в 1861 году для особых поручений при министре внутренних дел. В 1867 году произведен в генерал-майоры с назначением в пензенскую губернию губернатором. В 1872 году по расстроенному здоровью зачислен в запас.
После отставки из Третьего Отделения удостоился ордена Св. Владимира 2 степени за отличную службу.
Глава 26
15 ноября, суббота
Ландезен посещает префектуру на набережной Ка-Корнер (Fondamenta Ca Corner) (1869) и договаривается о помощи. Гримбл проспался и уже приехал.
Погоня на гондолах. Владимиров и Фаберовский вовремя замечают слежку. Когда оказывается, что Владимиров жив, Бинт и Ландезен сходятся на взаимовыгодном обмене.
Находились в это время на маленькой площади у церкви S.M. dei Miracoli, занимавшей угол на перекрестке трех каналов. Заметив слежку, они отбежали с мыса внутрь и по узенькой C.D. Erbe пробежали на восток мимо палаццо Pisani, пересекли по мостику канал Rio di Mendicanti и по чрезвычайно узкой набережной, шедшей от моста к площади Святых Джованни и Паоло, добрались туда.
Ландезен побежал следом. Карабинеры, подплывшие к мысу, вынуждены были вернуться обратно, выйти на канал Rio di S.Marina и уже по нему доплыть до Мендиканти. С севера площадь ограничивала свтло-желтого цвета школа Св. Марка, сделанная в стиле собора Св. Марка. На площади массивное здание красного кирпича — доминиканская церковь Джованни и Паоло. Трехнефная романская базилика с куполом. На оконечностях поперечного нефа звонницы (две с двумя небольшими колоколами. Слева от вход в церковь на высоком узком постаменте с колоннами стоит бронзовая фигура кондотьера Бартоломео Коллеони, покрытая патиной и голубиным дерьмом.
Решают, что наиболее удобным способом удрать от Ландезена будет двигаться вдоль набережной до тех пор, пока не найдут место, где только одна свободная гондола с двумя гондольерами. Найдя такое место с 4-х местной гондолой с двумя уключинами с кожаными, набитыми перьями подушками, заходят в ближайшее кафе, где сидят гондольеры. Покупают четыре бутыли красного вина из Падуи и Вероны (белое гондольеры не пьют вовсе), чтобы поддерживать дух гондольеров в случае погони. Узнают, кто именно гребет на интересующей их гондоле. Это два бородатых гондольера. Фаберовский с Владимировым угощают их вином, чем располагают к себе. Узнав, что Фаберовский и его дама — англичане, оба гондольера обрадовались и сообщили, что у них в Венеции любят англичан и американцев, которые хорошо им платят, а немцы либо ездят по тарифу, либо вовсе ходят пешком — действие, по мнению гондольеров, замечательное своей глупостью. А то сядет немец в гондолу, гондольер двумя взмахами весла отодвинет ее от берега, а с пристани его сфотографируют и все.
Фаберовский говорит, что они щедро заплатят им. Договариваются, что будут платить по часам. Фаберовский показывает им свои часы и, указав на стрелку, говорит «All’ora» (по часам).
По тарифу час с двумя гондольерами для трех пассажиров стоит 3 лиры. За каждые полчаса дальше половина этого тарифа. С начала зажигания фонарей на улицах на 1 лиру дороже. На чай по 50 чентезимо каждому (10 сольдо, существуют монеты в пол лиры).
Быстро покинув кафе, садятся. Гондола 11 м в длину, 1.4 м шириной. Часто покрыта деревянной резьбой, нос украшен украшением, напоминающим алебарду. У гондолы довольно страшный вид, она кажется очень неустойчивой и многие боятся туда лезть, тем более, что для этого нужна некоторая ловкость и привычка. В гондоле ближе к корме имеется кабинка (фелче). Она задрапирована черной тканью. На каждой стороне кабинки имеется окошко, которое может быть закрыто тремя способами: опусканием косоугольного венецианского стекла, зашторивания при помощи отодвигаемых лопастей и полосой ткани, задрапированой поверх. Поскольку кабинка слишком маленькая, чтобы поворачиваться в ней, Владимиров входит в гондолу сзади и усаживается сразу на два задних сиденья, чтобы не нарушать равновесия. Марокканские перьевые подушечки по обеим сторонам. Над дверцей обычно медный щиток, на котором выгравирован гербовой щит владельца, увенчанный короной. На фелче висит, в маленькой рамке, образ Святой Девы, Св. Марка, Св. Георгия или какого-нибудь святого, к которому гондольер испытывает особое расположение. Здесь также вешается фонарь — обычай, согласно которому когда гондола иногда плывет без звезды (судьбы?) спереди, фонарь постепенно гаснет. Судя по расположению герба, святого и фонаря, левая сторона является местом чести: здесь гондольер усаживает Пенелопу. В фелче имеется сдвижная панель, через которую в случае необходимости можно обратиться к гондольеру. На носу имеется похожий на алебарду кусок железа, гладкий и полированый, называемый «ферро», наиболее похожий на гриф скрипки. Ферро служит для украшения, защиты, для противовеса гребцу на корме и проверки высоты мостов. Особой гордостью гондольера является содержание его всегда блестящим как серебро.
Ландезен с Бинтом берут каждый по гондоле и устремляются следом. К ним присоединяется гондола, в которой сидят даже не муниципальные полицейские чиновники, а двое карабинеров в черных с красными выпушками мундирах и треуголках.
— Тело Бахуса!
— Кровь Давида!
— Подлый краб!
— Морской лев!
— Собака!
— Сын коровы!
— Задница!
— Сын свиньи!
— Убийца!
— Головорез!
— Шпион!
— Мадонна твоей пристани — уличная шлюха, не стоящая и двух свечей!
— Твой святой — мошенник, который не знает, как сделать приличное чудо!
После плутаний по каналам выезжают на Большой канал, оставив слева Font. dei Tedeschi (Posta).
Во время погони, пересекая Большой канал, чуть не опрокидывают официальную гондолу, с итальянским знаменем, плывущую сурово, несущую холодное, застывшее должностное лицо в полной форме с иконостасом на груди.
Возможно, подумывают о том, чтобы укрыться в английском консульстве: Санта-Мария дель Джильо, улица Гритти, д.2489 (S.Maria del Giglio, calle Gritti, n.2489 (1869)).
Фаберовский посылает Пенелопу купить три билета на 6.30 утра на пароход «Восточно-Адриатической компании», офис которой находится на площади Св. Марка, 46 (до Александрии 1 кл. — 310 лир, 2 кл. 225 лир, 3 кл. (без койки) — 95 лир).
Сами бегут в отель за вещами. Какссон отравила всю еду мышьяком и довольная ждет их. Но есть некогда. Прежде чем покинуть отель с вещами, дают телеграмму Батчелору в Александрию (48.5 лир за первые 20 слов и 24.25 лир за каждые последующие 10 слов) и в Россию Черевину (11 лир за первые 10 слов и 5.5 лир за каждые последующие 10 слов). Вместе с ними тащится и Какссон, которой пригрозили, что если она хоть пикнет, то порешат и ее саму, и любезного ей Гримбла.
Договариваются с продавцом билетов, и тот показывает им книгу с записью фамилий. Среди них нет никого подозрительного. Встретившись с Пенелопой вновь, Фаберовский предлагает, чтобы хоть как-то обезопасить себя от покушения, скупить оставшиеся билеты 1 и 2 классов, так как пассажиров третьего класса запрут на своей палубе и не выпустят до прибытия. При сходе же третьеклассных пассажиров будут выпускать последними и будет время сбежать от шпиков, если они будут. На этот раз посылают Артемия Ивановича. Он приходит и говорит, что купил все билеты, которые оставались, и потратил 3000 лир.
Глава 27
16 ноября, воскресенье
В 6 часов на пристани в канале Св. Марка напротив Пьяцетты они поднимаются на борт парохода, чтобы уплыть в Александрию (через Бриндизи). Провели всю ночь на улице. Идут с вещами и обнаруживают, что пустых кают практически нет. Фаберовский говорит, что у него закралось подозрение, что 3000 лир ушли не по назначению. Артемий Иванович божится и трясет билетами. Он смотрит на название на борту и кричит, что они просто сели не на тот пароход. Фаберовский отвечает, что пароход-то как раз тот, а билеты он купил на местный пароходик до Неаполя.
Ландезен и Бинт плывут в Неапольском пароходе в третьем классе. Вспоминают о том, что вчера вечером говорил им агент, продававший билеты, и приходят к выводу, что сомнений быть не может: это именно Артемий Иванович, устроив хармидер, скупил все билеты, кроме третьего класса, так что либо они все трое плывут на этом пароходе тоже, либо поляк осуществил дьявольский план, заманив их таким образом в ловушку. Но это ничего, через сутки из Неаполя идет пароход в Александрию. Им пора уже ехать туда, так как на днях в Египет должен прибыть наследник и уже не остается времени рассусоливать, надо организовывать охрану на месте.
Глава 28
18 ноября, вторник
На столе у генерала фарфоровые фигурки под названием «голышки» или «офицерские», которые он всегда возит с собой: «ищущая блох», «стригущие ногти», «надевающая платье».
Во вторник генерал Селиверстов встал, по обыкновению, в восемь утра, умылся, оделся и отправился прогуляться до завтрака по Бульвару пешком. Утро было туманное и дождливое, и он даже вопреки своим правилам нанял фиакр, чтобы вернуться обратно в отель. Когда в одиннадцать часов генерал поднялся к себе в номер, завтрак уже был готов и он приказал камердинеру накрыть его у себя в кабинете. Пока старый финн снимал с подноса тарелки и расставлял их на столе, Селиверстов уселся в большое кресло и задумался.
Последние несколько дней ему стало казаться ошибочным решение явиться к Рачковскому. Тот был очень хитер и действовать против него в открытую было слишком рискованно, да еще парижские газеты раструбили вдруг, что генерал Селиверстов прибыл во французскую столицу не просто за врачебным советом, а с важным политическим поручением от русского правительства. Не крылась ли за этими публикациями рука Рачковского, желавшего настроить против генерала русскую колонию?
— Ступай, Миллер, — велел Селиверстов камердинеру и финн покорно удалился из кабинета.
Определенно, Рачковский должен был что-то предпринять. Но что? Как узнать это? С неприятным предчувствием генерал взялся за ложку и запустил ее в суп. Когда он отставил пустую тарелку в сторону и принялся за второе, в дверь робко постучали.
Миллер прошел в переднюю и открыл дверь. Перед ним стоял среднего роста дурно сложенный брюнет лет тридцати с длинной всклокоченной бородой, взъерошенными грязными волосами и болезненным цветом лица. На нем была бедная, потертая одежда, мокрая от дождя.
— Что вам надо? — с неприязнью спросил финн.
— Меня зовут Падлевский, — ответил пришедший. — Мне надо лично в руки генералу Селиверстову передать письмо.
— Ждите здесь, — Миллер закрыл перед Падлевским дверь и пошел доложить о визитере своему барину.
— Этот человек является автором письма или он только рассыльный? — спросил Селиверстов.
Он подумал, что это, быть может, Рачковский направил ему письмо или кто-то из его агентов уже собрал необходимые сведения о действиях Рачковского и принес ему рапорт. Миллер подошел к двери и молча забрал конверт из рук Падлевского. Тот терпеливо ждал. Дождавшись, пока камердинер принесет ему письмо, Селиверстов вскрыл ножом конверт и, сидя в кресле, развернул сложенный вчетверо лист почтовой бумаги. Его взгляд сразу же метнулся к подписи: «Мишель Бернов». Генерал знал этого юношу по своим предыдущим приездам. Это был безобидный легкомысленный молодой человек, полный всякого патриотического и верноподданнического бреда в голове, который не мог представлять ни малейшей опасности. Письмо тоже не представляло особого интереса и являлось предложением подписаться на франко-русский праздник, бал, даваемый на следующий день в русско-французском салоне г-на Бернова. Текст письма гласил:
В письме было:
«Генерал, приезжайте в четверг в cercle-russe, во-первых — потому, что это очень интересно, а во-вторых — потому что будет много хорошеньких женщин, которые желают с Вами познакомиться. Прилагаю при сем программу и входной билет.
Примите и проч.
Мишель Бернов .»
«Хорошенькие женщины — это все-таки кое-что, — подумал генерал. — Надо расслабится, иначе от всех этих тревог опять начнутся ужасные мигрени».
— Миллер, ступай пригласи просителя, — велел он камердинеру и достал чистый лист бумаги.
Миллер распахнул перед Падлевским дверь, позволив, наконец, войти из гостиничного коридора в номер, и рукой в белоснежной перчатке пригласил следовать за ним. Доведя Падлевского до дверей кабинета, финн оставил его здесь, а сам ушел в переднюю, где стоял буфет красного дерева и где он занимался чисткой столового серебря.
Войдя в кабинет к генералу, Падлевский осторожно прикрыл за собой дверь, стараясь не производить лишнего шума и в то же время приложив усилия к тому, чтобы дверь закрылась достаточно плотно.
— Ну-с, молодой человек, — сказал Селиверстов, — извольте сказать мне адрес господина Бернова.
— Адрес салона или адрес его квартиры? — переспросил прерывающимся голосом Падлевский.
Селиверстов удивленно оглянулся на него, пытаясь понять причину волнения посыльного.
— Конечно, адрес квартиры, — сказал он, так и не сумев ничего прочитать на угрюмом лице посетителя.
— Улица Виньон, 23.
Генерал обмакнул перо в чернила и стал выводить на бумаге:
«23, rue Vignon. Monsieur, je viens de recevoir…» [15]
Увлеченный писанием, он не видел, как Падлевский достал из кармана пиджака небольшой бельгийский револьвер-«бульдог», обмотанный тряпкой, и, стоя за спиной, прицелился ему в затылок. В последний момент рука Падлевского дернулась и пуля попала Селиверстову не в затылок, а слева, за ухо. Генерал дернулся сперва вперед, потом захрипел, голова его откинулась назад и завалилась щекой на плечо, а перо в руке поставило на письме жирную кляксу. Номер заволокло белым дымом, который медленно рассеивался. Падлевский повернулся к двери и в напряжении ждал, когда в комнату войдет камердинер, чтобы тут же покончить с ним из револьвера, который он все еще сжимал в руке.
Но камердинер все еще не приходил. Похоже было, что выстрела, который благодаря намотанной на оружие тряпке был не очень громок, финн не услышал — возможно, его заглушил шум улицы и плотно закрытая дверь. Генерал застонал — он все еще был жив, и Падлевский подумал, не стоит ли еще раз выстрелить Селиверстову в голову. Но, увидев тонкую красную струйку крови, стекавшую из дырки за ухом, вдруг испугался. Ему захотелось как можно быстрее покинуть номер и бежать прочь от этого места.
Он спрятал револьвер, открыл дверь и быстро прошел через переднюю, где Миллер с увлечением натирал до блеска серебряную ложку, напевая себе под нос какую-то чухонскую песню. Камердинер бросил на Падлевского беглый взгляд и как ни в чем не бывало продолжал заниматься своим дело. Выйдя в гостиничный коридор, Падлевский едва сдержал себя, чтобы не побежать. Выбравшись на улицу, он взял первый же попавшийся фиакр и извозчик быстро укатил его прочь, растворившись в тумане.
Прошло минут двадцать, прежде чем камердинер отложил в сторону ложки и неуверенно подошел к двери кабинета. Он не волновался, для этого у него не было причин, но он удивился, почему барин не требует убрать со стола, как это делал всегда. Постояв еще минут пять перед дверью и прислушиваясь к тишине в кабинете, он неуверенно постучал. Ответа не последовало. Тогда он постучал сильнее. То же самое. Миллер решился приоткрыть дверь и заглянул в образовавшуюся щель. Его хозяин без движения полулежал в кресле с запрокинутой головой, а из раны сочилась кровь.
Не медля ни минуты, финн бросился к управляющему отелем. Камердинер знал лишь по-фински и чуть хуже по-русски, поэтому ему стоило больших трудов объяснить французу, что произошло. Поняв, что с русским генералом случилась какая-то беда, управляющий отелем известил доктора Портелье, состоявшего при отеле, и они вдвоем проследовали за Миллером в номер.
— Мой Бог! — воскликнул управляющий при виде опрокинувшегося в кресле генерала. — В моем отеле еще никогда не происходило ничего подобного!
— Это не убийство, мсье, — со знанием дела сказал доктор Портелье, осмотрев голову Селиверстова и несколько пятен крови, капнувшей на письмо. — Это просто несчастный случай. Ваш постоялец получил удар паралича.
— Но вот же у него дырка в голове от пули!
— Мсье, — осадил управляющего Портелье. — Откуда вам знать, как выглядят дырки от пуль? Ведь в вашем отеле никогда не происходило убийств.
— Я воевал с пруссаками и знаю…
— Ничего вы не знаете, мсье. Кровь, которая запачкала лицо несчастного, вне всякого сомнения происходит от раны, полученной при ударе головой об острый край вот этого стола во время падения.
Доктор Портелье честно отработал заплаченные ему деньги. Только через три часа доводы управляющего отелем убедили его в том, что рана на голове генерала огнестрельная, и он согласился известить полицию. Одновременно он уведомил о происшедшем и русское консульство. Поэтому Рачковский приехал в «Отель де Бад» почти одновременно с прибывшими для дознания прокурором республики Банастоном, судебным следователем Гильо и начальником сыскной полиции Гороном.
Обыск в номере показал, что убийство не было совершено ради ограбления. В карманах убитого нашли тысячу триста рублей и в бюро еще сорок тысяч наличными. Полицейский доктор Бернардель, назвав доктора Портелье «безмозглым бараном», установил, что Селиверстов все еще жив, но находится в коме, и по распоряжению Горона к генералу был приставлен агент, чтобы слушать все, что может сказать генерал, если очнется.
Глава 29
18 вечером пароход подходит к Александрии. 19 ноября в среду утром он входит в гавань.
19 ноября, среда
Утром пароход вслед за лоцманской парусной шлюпкой, ведомой бритоголовым египтянином, двинулся в порт Александрии. Артемий Иванович и поляк под ручку с женой поднялись на палубу, оставив, по совету боцмана, вещи в каюте. Владимиров приложил к глазам бинокль и с интересом разглядывал низкий, ровный, пустынный берег, наполовину разрушенные береговые форты с черными дырами проемов от ядер. За голыми мачтами бесчисленных судов, за громадными корпусами иностранных пароходов едва угадывались белые дома, вытянувшиеся вдоль набережной. Пройдя мимо мола из грубо наваленных камней, пароход неторопливо вошел в оглашаемую свистками и окликами египетской таможенной стражи гавань и направился к своей бочке.
На пути к ней на тихой волне плавно покачивалось яркое разноцветное пятно, при рассмотрении в бинокль оказавшееся не цветущей водой, как это можно было подумать сначала, а целой стаей раскрашенных красно-желтых, зеленых и белых лодочек с разноцветными флагами отелей и консульств, шлюпок и баркасов.
По мере приближения к лодкам сидящие в них люди заволновались. Артемий Иванович видел, как гребцы садились за весла, другие вставали и утверждались в наиболее равновесном положении, словно воины, готовящиеся к абордажу.
— Сейчас начнется! — сказал Фаберовский. — Советую пану убрать бинокль от греха подальше, он нам может еще пригодиться.
И действительно, едва пароход миновал какую-то невидимую черту, отделявшую его от лодок, они голодной шакальей сворой метнулись к бортам. Мгновенно откуда-то вынырнул казенный ялик и находившийся на нем египетский полицейский в красной феске, опрокинутой на затылок, и в длинном балахоне с красной же надписью «Полиция» на груди, стал деятельно отгонять лодки, не позволяя никому приближаться к пароходу до прибытия таможенников. Вскоре они приехали на убранном коврами щегольском ялике с египетским флагом (три серебряных звезды и три турецких серебряных полумесяца на красном фоне) на корме и поднялись на борт, чтобы досмотреть пароход, который продолжал свой путь к назначенному ему месту стоянки. Лодки, словно стая шакалов, не отставали от него ни на шаг.
Продолжают разглядывать берег и изготовившихся к штурму арабов в лодках.
Таможенники покинули борт еще до того, как пароход встал у своей бочки. И тут началось невообразимое. Люди из лодок с заглушающим все жужжанием, словно мухи дерьмо, облепили пароход со всех сторон, карабкаясь на палубу по трапам, по якорным цепям и канатам, даже просто по по длинным абордажным шестам с крюками на конце, цепляемым с лодок за решетку верхней палубы.
Пестрая толпа, состоящая из проводников-драгоманов, рассыльных и комиссионеров из александрийских отелей с вышитыми на груди их белых одежд от плеча до плеча названиями гостиниц, продавцов безделушек и носильщиков — арабов, греков, итальянцев и евреев — с отчаянными криками насильно завладела пассажирами и поволокла их вместе с вещами к борту. Разлученные со своим багажом и теряющие надежду когда-либо свидеться с ними снова, пассажиры истошно орали, призывая капитана и матросов на помощь. Какой-то араб вцепился в бинокль Артемия Ивановича, висевший у того в кожаном футляре на ремешке через плечо, и Владимиров, не раздумывая, тут же дал ему кулаком в морду. Вдохновленный этим примером Фаберовский, которого комиссионер и двое слуг из гостиницы «Гранд-Отель Аббат» на руках донесли до борта и уже переваливали в свою лодку, воспользовался тростью и, вырвавшись из их рук, уже никому не позволял подойти к себе ближе чем на полтора метра, вдохновенно размахивая палкой. Вместе с Владимировым поляк отобрал у комиссионеров Пенелопу. А вот Какссон арабы все-таки утащили. Те, кого нахальные посыльные не успели растащить по лодкам, были отбиты матросами, которым капитан приказал очистить палубу.
Капитан любезно порекомендовал Фаберовскому одного из драгоманов из агентства Кука, не по-арабски сдержанно стоявших в стороне, посоветовав довериться ему и не обижаться на те скромные попытки обмануть своих клиентов, которые он будет предпринимать, поскольку финансовые потери при самостоятельной торговле с извозчиками, гостиничной прислугой и всеми прочими, кто встретиться на пути, без знания чрезвычайно запутанной египетской денежной системы выйдут значительно дороже.
Фаберовский согласился, драгоман перенес из каюты в лодку багаж и они поехали к берегу. На таможенной заставе при выходе из порта молодой любезный чиновник спросил на достаточно правильном английском, не везут ли они с собой табак и опиум, бегло осмотрел чемоданы и, получив от драгомана по таксе два франка, дал разрешение на пропуск. У выхода с таможни уже ждали коляски Кука с арабами-кучерами.
Здесь к ним присоединяется Какссон, отбивающаяся зонтиком от требующих бакшиш перевозчиков.
Драгоман погрузил вещи и коляска повезла Владимирова с Фаберовским из порта в город мимо громадных складов хлопка и лесопилок по грязным и невзрачным улочкам, постепенно перешедших во вполне чистые и современные вполне европейского вида улицы с многоэтажными домами.
Пока они едут, драгоман интересуется, откуда они, и, узнав, что из России, восторжено кричит: «Москов, москов! Вива имберор Искандер!» Ненависть к Англии сделала из Египтян сердечных друзей России. Англичане в красных мундирах вызывают у него злобу. Рассказывает, что Александрия на зиму пустеет, все состоятельные люди из-за сырости перебираются в Каир.
Артемий Иванович предлагает Фаберовскому выдавать себя не за англичанина, а за русского. Тот говорит, что в этом нет смысла, но боится, что любовь египтян к русскому царю могут сослужить им плохую службу.
Доехав до большой, обсаженной пальмами и украшенной бронзовым конным памятником Махмеда-Али площади Консулов, агент Кука сдал Фаберовского и Артемия Ивановича на руки хозяину гостиницы «Европа», толстому господину в феске и с вечной сигарой в зубах.
Артемий Иванович с Фаберовским и Пенелопой посвятили день прогулкам по набережной канала Махмудия, смотрели через ограду сад грека Антониадиса, русского подданного, сделавшего себе крупное состояние подрядами в крымскую кампанию и теперь почившего на лаврах Александрии, сад, похожий на сказочный сад Шахерезады, и не идущий даже в подметки ему запущенный и грязный сад самого хедива.
В сады публику пускают только по пятницам, зато можно посетить дворец хедива.
Смотрели также за городом Помпееву колонну, построенную в честь императора Диоклетиана богатым римлянином Помпеем. Потом Фаберовский покинул их, чтобы связаться с Батчелором и узнать о состоянии дел. Вечером поляк заехал в гостиницу, взял Артемия Ивановича и, объяснив жене, что им надо поговорить по делам, отправился в одну из многочисленных кофеен поблизости от площади Консулов.
Уже на площади Консулов к ним пристала юная арабская девочка, на вид лет одиннадцати, и восклицая «Дюа франк!» и тыча пальцем в живот Артемия Ивановича, предложила ему идти за ней. Видя, что он растерянно оглядывается на поляка, она воскликнула «катр франк!» и поспешно объяснила на пальцах, что четыре франка — это уже на двоих. Фаберовский решительно отправил ее прочь, а Владимиров наставительно погрозил юной грешнице пальцем. Прежде чем они скрылись в дверях кофейни, их еще не раз осаждали юные жрицы любви, выкрикивая непристойные предложения и навязчиво предлагая себя всего за два франка.
Укрывшись в кофейне, где они выпили арабского кофе и по стакану тамарина — прохладительного местного напитка из сока плодов, Фаберовский спросил, как Владимирову понравился город. Тот ответил, что все хорошо, они ездили в крепость, чтобы проникнуть в ту ее часть, которая выходит на море и где раньше стоял Александрийский маяк, одно из чудес света. По дороге в крепость кругом груды белых камней, следы английской бомбардировки восемь лет назад. В крепость их не пустил английский часовой, а затем и дежурный офицер, узнав, что кавалер у Пенелопы — русский.
Фаберовский излагает состояние дела, что обе лодки и котел уже в Каире, доставлены по каналу на баржах. Котел будет отправлен из Каира на станцию эль-Матария, где находится фирма Дервье, и что прибытие русского наследника ожидают в Исмаили в воскресенье 23 ноября (н.с.). Котел будет действительно доставлен на ферму, а лодку надлежит разгрузить в Каире, чтобы использовать на Ниле. Вторую, электрическую, Батчелор уже направил вместе с греком-инженером Зорабалсом вверх по Нилу к порогам в Асуан. Орущие и галдящие арабы дают им возможность открыто говорить, не боясь быть кем-нибудь услышанными, и тут они видят входящих в кофейню Ландезена, Продеуса, Бинта и доктора Гримбла, прибывших только что на пароходе из Неаполя. Удирают из кофейни, пытаются запутать следы. Продеус присоединился к ним уже в Александрии.
Глава 30
Утром 20 ноября едут на вокзал, чтобы отбыть 9-часовым экспрессом в Каир.
В 1885 году экспресс из Александрии в Каир в 4 часа 20 минут за 30,5 фр. (117 пиастров) или 20,25 фр. (78 пиастров), обычный поезд в 5.5–6 часов за 97, 65 или 39 пиастров. От Каира до Александрии 128 миль (как от Лондона до Ноттингема, только ехать не чуть более двух часов, а 3.5 часа. Первый класс стоит 117 пиастров, или же 30.5 франков, или около 24 шиллингов (так в 1910-е годы, в 1889 году билет стоит около 40 франков).
В грязных вагонах душно. По своей конструкции вагоны похожи на те, что употребляются на российских железных дорогах: коридор вдоль вагона, в который выходят наполовину остекленные окна купе. Все трое устраиваются на кожаных диванах.
Железнодорожная линия Александрия-Каир напоминала линию Петербург-Москва, поезда здесь ходили быстро и по расписанию. На всех других линиях они плелись подобно тамбовско-саратовским составам и безбожно опаздывали.
После выезда из Александрии справа очень долго тянется озеро Марьют, а слева — канал эль-Махмудия и белые ибисы торчат в пожелтевшем тростнике. На месте озера Марьют (Мареотийское озеро) отвратительные зловонные болота, отравляющие иногда всю Александрию. Железная дорога огибает это огромное озеро и, кажется, на долгое время уходит от моря; но очевидно это — не Средиземноморье, которое каждый видит в течение первой части поездки. Канал Махмудия неширокий, 15–17 (32–36 м) саженей, но движение значительное, т. к. по нему проходит большая часть идущих из внутренностей страны дешевых или громоздких предметов александрийской отправки. Беспрестанно видишь на одном уровне с окном вагона, а иногда и выше их проходят большие треугольные паруса, между тем ни судов, ни воды не видишь. Из узких каналов вычищают скапливающийся во время подъема Нила ил и сваливают его на берег, так что образуются вдоль каналов стены ила, за которыми не видно из поезда ни лодок, ни самого канала. Первым закончилось озеро, потом канал отодвинулся от полотна далеко на север. Мы скоро достигаем района пустыни, и первое интересное зрелище, который видно — деревни и города на каждом шагу, где постройки: не то глиняные, не то навозные кучи, в которых домишки крохотные и слеплены из нильского ила, перемешанного с соломой; теснота невероятная. Из куч домов выделяются только мечети своей белой окраской и стройными минаретами. Видны также длинные вереницы верблюдов. Поезд шел мимо обрывов, поросших целыми рощами кактусов.
Фаберовский читает английскую газету, купленную на вокзале, и узнает, что Селиверстов убит.
В 17 милях от Александрии находится полуразрушенное местечко под названием Кафр-эд-Даввар, в котором поезд не останавливается. Указывая за окно, британский офицер говорит: «В этом месте Араби-паша построил свои самые сильные укрепления после бомбардировки Александрии и занятии нами Рамле (Ramleh) в 1882 году.» Араби построил крепости, чтобы воспрепятствовать английским солдатам, собирающихся на Каир, но он не преуспел в остановке их.
Около (28 км) Кафр-эд-Даввар, где Араби в 1882 году воздвиг сильные укрепления против Александрии и Рамле, где базировались англичане, показываются первые хлопковые поля.
Через час после отъезда из Александрии первая остановка поезда — станция Даманхур в 38.5 милях (62 км) от Александрии. Первая остановка скорого поезда, время в пути — 1 час 15 минут. Даманхур находится в пяти милях от Ливийской пустыни, вокруг хлопковые поля. Стоянка пятнадцать минут. Никакие названия станций не выкрикиваются, поскольку каждый, как полагают, знает их. Едва поезд остановился, как был взят на абордаж толпами арабских лоточников, принесших хлеб, фрукты и яйца вкрутую. Они лезли наверх к окнам, в вагоны, по коридорам, и совершили обычный набег на поезд. Одеты они только в грязные белые туники и в род войлочной гребной шапочки.
— Сколько? — спросила Пенелопа, взяв у одного из мальчишек из корзины несколько особенно красных больших апельсинов, называемых арабами «бортукан».
— Ирш, пожалуйста, леди, — сказал мальчик.
— Но сколько это — ирш?
— Два пиастра.
— Нет-нет, — пришел на помощь Пенелопе офицер, — это всего лишь пиастр. Дайте ему один пиастр или два с половиной пенса в французской монете.
Мальчик взял деньги и ушел, проклиная на чем свет стоит по-арабски английскую армию.
Фаберовский с Владимировым спустились на перрон и поднялись на холм, на котором расположен город, пройдя мимо нескольких хлопковых складов и зданий, в которых хлопок очищаются от семян, и с интересом разглядывали громадные склады тюков хлопка, приготовленных к отправке.
Тюки с плотно прессованным хлопком закованные в 10–11 железных обручей. Вышли на рынок, посмотрели на мечеть и пошли обратно.
И тут они видят Ландезена и Ко., тоже прогуливающихся по платформе. Поезд дает гудок (или кондуктор свисток). Каждый вскакивает в свой вагон. В купе слышаться проклятья по адресу египетских обезьян, так как многие из крутых яиц оказались плохими и несъедобными. Фаберовский велит Пенелопе срочно нацепить на шляпку вуаль, чтобы скрыть лицо от доктора Гримбла, поскольку за стеклянной дверью невозможно все равно укрыться от любопытных взоров. А Какссон вообще отвернуться к стене. Попробуй вякнуть, и я тебя сразу же рассчитаю. Пойдешь на панель — зарабатывать деньги у арабов. Пробежав несколько вагонов по направлению к вагону Ландезена, все трое выбираются из тамбура наружу и далее на крышу. Ландезен, предполагая, что они побегут как раз в обратную от него сторону, пробегает мимо, намереваясь схватить их в последнем вагоне, так как при скорости 60 верст в час они едва ли решатся спрыгнуть с поезда. Лежа на крыше, троица видит, как в последнем вагоне из дверей тамбура на мгновение выглядывает голова Ландезена.
Не обнаружив беглецов в последнем вагоне, Ландезен с Гримблом, Продеусом и Бинтом идут обратно, внимательно вглядываясь в лица тех, кто сидит в купе. Какссон сразу же привлекает внимание Гримбла и агенты Рачковского забираются в купе, решая, что Фаберовский рано или поздно объявится, чтобы вызволить свою жену, даже если это произойдет не в поезде, а в Каире.
Быстро пронеслись песчаные бугры, мызы, перемежающаяся аллеями, и в утреннем блеске разостлалась Дельта с зеленью молодых всходов, со светлыми поймами Нила и светлыми пальмами на горизонте. Появились сады, финиковые пальмы, под сенью которых дачи, деревни и многочисленные кладбища. Так, лежа на крыше, минут через сорок после Даманхура, они переезжают по длинному современному мосту левый рукав Нила, Рашид, впадающий в море у Розетта (Розеттский рукав), через мост Кафр эз-Зайят, при этом Фаберовский вспоминает слышанную им когда-то историю о о дяде нынешнего хедива Ахмед-паше, тогда наследнике престола, который утонул в Ниле на месте, по-видимому этого, железнодорожного моста, вместе с коляской разогнавшись ночью с берега на воображаемый паром, который на самом деле еще не отошел даже от противоположного берега. Сразу за мостом станция Кафр аз-Зайят. Находится в 65 милях и 2 часах езды от Александрии. (105 км, вторая остановка скорого поезда, время в пути от Александрии 2 часа, стоянка 20 минут, ресторан. Стоянка здесь полчаса, чтобы пассажиры иогли размять ноги.
Артемий Иванович и Фаберовский лежат, затаившись, на крыше. Ландезен и Гримбл, знающие искомых им лиц в лицо, спускаются на перрон, чтобы осмотреть поезд с обоих сторон. Ландезен поглядывает на крышу, но ничего не замечает. Бинт остался следить за Пенелопой, поскольку он знает в лицо только Владимирова. Лежащие на крыше боятся, что Ландезен отойдет к ресторану и тогда заметит их, но Ландезен, походив вдоль поезда, возвращается в вагон.
Фаберовский полагает, что им надо выманить Ландезена и Гримбла из поезда на следующей станции и сделать так, чтобы оба отстали от поезда. Поезд трогается дальше.
Далее обработанные поля, в которых можно видеть водяное колесо, т. н. «сакия». Хлопковые плантации, пальмовые рощи и т. д. В полях много работающего народа и скота. Кроме насыпей вдоль каналов, нет ни одного необработанного клочка земли.
Еще через двадцать минут поезд прибывает на станцию Танта (76 миль). Известна своими ярмарками. Стоянка несколько минут. 123 км (время в пути от Александрии 2:45, до Каира 1 час 35 минут.
Наконец, еще минут через 50 (через 25 миль) подъезжают к мосту через восточный рукав Нила, Думьят, за которым сразу станцию Бенха, последняя станция перед Каиром, до которого осталось чуть более получаса. Бенха когда-то была знаменита своим медом, а теперь своим виноградом и красными апельсинами. Городок окружен апельсиновыми деревьями. 163 км. Время в пути от Александрии 3,5 часа, до Каира 45 минут. Стоянка 10 минут, железная дорога на Загазик, Исмаилию и Суэц.
Оба добираются до последнего вагона. Фаберовский спрыгивает на землю еще до того, как поезд остановился, и прячется за ящиками с апельсинами. Остановка на станции очень короткая, очевидно, только чтобы позволить сойти нескольким богатым арабским торговцам, ездившим торговать в обмен на рынки Александрии.
Владимиров сползает сразу после остановки и демонстративно идет вдоль вагонов, чтобы привлечь внимание Ландезена. И это действует. Он видит, как из поезда выскакивают сам Ландезен и доктор Гримбл, и устремляются к нему. Он спасается от них в направлении к ящикам. Когда преследователи уже почти настигают его, из-за ящиков на Гримбла и еврея напрыгивает Фаберовский. (Фаберовский и Владимиров с дубинами, что облегчает им задачу.) Вдвоем они заламывают их и связывают снятыми с них же штанами. Бросив пленников здесь, они окольными путями добираются до последнего вагона так, чтобы Бинт не увидел их, и садятся в поезд, когда тот уже начинает движение. Фаберовский идет в купе к Пенелопе, где около окна мечется встревоженный исчезновением коллег Бинт, успокаиваемый Продеусом. Под видом нового пассажира, спросив разрешения, садится на одном из диванов, а Владимиров ради опасности быть узнанным Бинтом? едет в другом вагоне.
Продеус не узнает Фаберовского, так как тот зарос волосами и в его нынешней одежде мало похож на того человека, которого он снял со шхуны в Остенде два года назад.
Фаберовский изображает из себя пораженного красотой Пенелопы путешественника и оказывает ей всяческие знаки внимания. Какссон, удивленная его очередным появлением, боится что-либо сказать. Через несколько минут после Бенхи, примерно в 16 милях не доезжая до Каира, он показывает в окно на открывшийся вид на пирамиды. Предлагает Пенелопе поехать с ним в номер гостиницы, где они смогут вдвоем обрести счастье. Пенелопа соглашается. Бинт пробует протестовать. Пенелопа говорит, что он вовсе и не муж ей, что он проходимец и негодяй, преследующий ее от самой Александрии. Поднимается шум, офицер в одном купе с Фаберовским также выступает на защиту Пенелопы. От греха подальше, не зная, что случилось с доктором и Ландезеном, Бинт ретируется и уводит Продеуса. Все трое вновь собираются в одном купе.
Но вот за окном стали попадаться дачи, окруженные густой листвой, это загородные жилища богатых обывателей Каира. Свисток, приехали.
В Каире выстроились на дебаркадере в ряд швейцары и комиссионеры отелей. Кондуктор в чалме, просунувшись в окно, отбирает билет. Тут же десяток голов и рук протянулся в окошко за вещами, но удалось отбиться. Их встречает Батчелор. Разыскивает во дворе вокзала омнибус с надписью «Гранд-Нью-Отель» и рядом с ним комиссионера отеля в позументах и галунной фуражке с козырьком, на медной бляхе которой те же слова, что и на омнибусе. Узнает, что номер в гостинице стоит по 20 франков в день с человека с едой. Проводит его к вагону, дает Батчелору деньги и поручает комиссионеру получить багаж и достойно поселить их.
Омнибусы между Биржевой площадью и железнодорожным вокзалом, а также идут к министерствам Хана эль-Халили и аллее Шубра. Тариф на простую поездку 1 пиастр за 1 километр, 2 километра 20 пара.
Артемий Иванович сталкивается с Клеопатрой Федоровной Дмитриевой. М-ль Дмитриева узнает его, вспомнив историю с «мечом» в ограде. Объясняет, что она — одна из тех смолянок, что ее отец был египтологом-любителем и назвал поэтому Клеопатрой. Он умер, но раньше он помогал Голенищеву, и теперь она сама помогает ему.
(Мадемуазель Клеопатра Федоровна Дмитриева. Училась в Смольном институте и помнит АИ с его «мечом» в решетке. Умна, красива, образованна. Сверкает в местном каирском свете. Любимица всех холостых офицеров. Была дочерью геодезиста Федора Дмитриева, египтолога-любителя, который помогал Владимиру Семеновичу Голенищеву в исследованиях. Когда она осиротела, то осталась в Египте и стала сама помогать Голенищеву в раскопках. Параллельно выполняла задания военной разведки и Рачковского.)
Приглашает к себе домой. «Я непременно приеду, Клёпушка».
Глава 31
Фаберовский дает указание Пенелопе поселиться под чужим именем Элизабет Кейвуд, сам с Артемием Ивановичем отправляется на поезде в эль-Матарию в 8 км на север от Каира на страусиную ферму, где тот должен будет на время спрятаться у мсье Дервьё.
Переехали мост, мимо окна поплыли казармы, обсерватория, фруктовые сады и виноградники, дворцы, плантации хлопка и сахарного тростника, оливы, фиги и кактусы, окаймляющие полотно железной дороги.
В деревне эль-Матария каменный купол мечети, резной каменный минарет, окруженные рощицей пальм и других деревьев.
Целая гурьба погонщиков с оседланными осликами предлагает Фаберовскому и Владимирову воспользоваться ими для поездки на страусиную ферму господ Дервьё и Кеноса всего в версте от станции. У ослов неудобные седла с кожаной массивной лукой впереди и еще более неудобные стремена. Песчаная дорога (тропа) с негустыми зарослями алоэ. К животным приставлены мальчишки, которые бегут следом. То трусцой, то галопом, оба едут на ферму. Ослы в Египте жирные и чисто остриженные (как и верблюды). Широкие мягкие седла покрыты красным сафьяном, уздечки украшены ракушками и медными бляхами. Ремни от стремян не прикреплены к седлу, а просто перекинуты через него, так что погонщику следует ухватиться за противоположное стремя, чтобы неопытный седок не упал. Мальчишки-погонщики 12–13 лет бегут следом за ослом, подгоняя ударами, отчего осел виляет задом, чтобы избежать удара.
Значительная часть песчаной равнины обнесена высоким и плотным частоколом. Ворота заперты, их отворил после окрика сторож-негр. Узнав, что господа прибыли из Лондона к мсье Дервьё, ведет их внутрь. Прошли чем-то вроде длинного коридора и вышли на широкий двор, в середине которого двухэтажный дом — жилище хозяев; перед домом цветник. Завод состоит из небольшого крытого помещения и целого ряда открытых огороженных довольно высокой оградой загонов вокруг главного здания полукругом самой разной величины: одни не более комнаты, другие больше, третьи еще больше и, наконец, один площадью десятины в две с половиной или три. В них попарно размещены страусы, которые либо лежат в песке, либо с сердитым видом расхаживают, неприязненно поглядывая на людей.
Негр проводит в главное здание. Поднимаются на второй этаж, где находится кабинет мсье Дервьё. Тот приглашает гостей на террасу, откуда открывается угрюмый и величественный кругозор. Смежная с культурным районом пустыня расстилается на необозримом протяжении тускло желтой поверхности.
Мсье Дервьё рассказывает, что здесь, где сейчас безмолствует степь (эль-Матария находится у пределов древнего плодородного Гошена), раньше был Гелиополис, он же у египтян Ону, а в библии Оон. До нынешних времен остались лишь валы и кучи камней и щебня, занесенные песком, да серый одинокий каменный обелиск, воздвигнутый воинственным фараоном Узертесеном 1-м (обелиск от храма Сенусерта I). Обелиск Озиртазена прячется теперь в довольно глубокой впадине. Тут же около, в ямке, колодец холодной воды. Здесь же, близ эль-Матарии, в марте 1800 года наполеоновский генерал Клебер с 10’000 французов разбил в шесть раз более сильное войско.
Спрашивает, не видели ли оба колодец и сикомор Мириамм, знаменитое дерево Богоматери по другую сторону железной дороги в парке. Отвечают, что нет. Мсье Дервьё советует посетить, правда, лет этой смоковнице всего 250–300. Сад еще 30 лет назад принадлежал одному из тогдашних представителей русской дипломатии в Каире. Вместо того, чтобы подарить или продать его русскому правительству, мудрый дипломат преподнес его хедиву Исмаил-паше и тот отказываться не стал. Позже он подарил сад со смоковницей императрице Евгении. Акт укрепления был заключен во имя французской империи, в доме поселились католические монахи и владеют всем.
По легенде, Богородица скрылась в дупле этой гигантской смоковницы, когда на отдыхе их нагнали слуги Ирода, а дупло чудотворно подернулось густою паутиной. В нескольких шагах от него колодец с кристально прозрачной водой.
Фаберовский говорит, чтобы Артемий Иванович намотал информацию на ус. Если Ландезен найдет его и в эль-Матарии, то Владимиров сможет повторить подвиг Марии и спрятаться в дупле сикомора.
Договариваются с господином Дервьё о том, что Владимиров до прибытия котлов будет жить на ферме.
Мсье Дервьё обясняет, что в ноябре птицы как раз несут яйца и Владимиров сможет помочь им в процессе. Спускаясь вниз, он рассказывает, что сейчас на ферме около 750 птиц, за зиму каждая страусиха откладывает от 15 до 40 и более яиц, но не более половины пригодны для искусственного разведеня. Остальные продают на еду (на приготовление яичницы и тогда берут по 10 франков за штуку) либо выпускают белок и желток и раскрашивают, чтобы затем дорого продать как комнатное или церковное украшение. Просто скорлупу продают по 5 франков. Здоровое яйцо (желтоватое, как слоновая кость) весит до 4–5 фунтов и продается на ферме за 5 франков.
Из затворов ловко выкрадывают яйца, тщательно подбирают. Для этого устроено нечто вроде сарая, в котором только одна входная дверь и маленький вырез в стене в форме страусового яйца. Прежде всего яйцо вкладывают в этот вырез и рассматривают на свет. Если во внутренности его замечают черные небольшие пятна, то, значит, яйцо негодное. Если при осмотре яйца на свет оно окажется совершенно прозрачным, его присоединяют к назначенным для выведения. Яйцо содержится при температуре (39–40° по Реомюру, 50 °C). Для нагрева предназначенной для этого воды и нужен заказанный котел. При нагреваемых аппаратах всегда есть градусник, чтобы температура не менялась и зародыши не остудились. Воздействие 45 дней.
Все трое подходят к одной из загородок. Дервьё говорит, что страусы никогда не привыкают к людям, которые за ними ухаживают. Птицы бросаются на своих сторожей, щиплют их и стараются потоптать, уронив на землю.
Араб, открывавший ворота, начинает дразнить самца, мешая ему сидеть на яйцах, стучит о забор, хлопает в ладоши. Артемий Иванович, стоя у калитки, ведущей в заграждение, с удовольствием присоединяется к нему. Внезапно на калитку всей массой наскакивает громадная серая матка и настойчиво вытягивает шею, чтобы клювом достать обидчика. Артемий Иванович кубарем летит на землю.
Дервьё говорит, что при нападении страусов надевают шляпу на палку и поднимают вверх. Страус, охраняющий свою территорию (загон), не будет нападать на страуса выше его ростом. Артемий Иванович даже с котелком на тросточке оказывается ниже страуса.
Фаберовскому надо ехать обратно в Каир и он прощается, выражая надежду увидеть еще Владимирова живым.
Ночной сад Эзбекия, где пандани и баобабы, оглушительная египетская музыка в китайском павильоне, гроты с таинственным освещением, озеро с челноком для влюбленных и везде фонари. Пенелопа требует объяснить преследования со стороны Гримбла и Ландезена и то, что произошло в поезде. Фаберовский отказывается что-либо объяснять. Если только о причастности Гримбла, чтобы предостеречь против Какссон. Она должна рассказать, что это Какссон сразу же сдала их Гримблу в поезде. Фаберовский хочет рассчитать служанку, но Пенелопа напоминает об обязательствах, которые она ради Батчелора и Розмари взяла перед отцом.
В 22 часа все начинают расходиться, а к 23 часам в отеле гробовая тишина. В гостинице вечером приняли теплые ванны.
«Новый отель» в Эзбекие (арендатор Пантеллини), большое здание с прекрасными аппартаментами, террасой и садом, 12–16 ш. в день.
Глава 32
Пятница, 21 ноября
Фаберовский проснулся в три часа ночи, когда на мощеной площади Эзбекие начали орать голодные ослы. Невыспавшийся и злой, он осторожно выбрался из-под густого кисейного полога над кроватью, призванного защищать от гнуса и москитов, стараясь не разбудить раскинувшуюся на невероятной ширины постели Пенелопу. В маленьком, убранном от пола до потолка портьерами, зеркалами и коврами номере невозможно было повернуться рядом с этой гигантской кроватью и совершенно нечем было дышать. Распахнув настежь стеклянную дверь, он вышел на балкон, надеясь хоть здесь получить отдохновение от душной ночи.
Едва заметная ночная прохлада не могла остудить его мокрое от пота разгоряченное тело. Проклиная ревущих ослов и эту душную египетскую ночь, поляк вытащил на балкон кресло-качалку и улегся в ней, протянув ноги к пробуждающемуся Каиру. Балкон выходил на восток и Фаберовскому была видна пустыня, крутые скалы отрогов Шаиб эль-Мукаттама и уже окрашивающиеся в розовый восходный цвет минареты мечети Мехмета-Али, расположенной на возвышенности и господствующей над всем городом.
Вчерашняя стычка с Ландезеном не способствовала радужному настроению. Ландезен остался на станции Бенха, но если он не добрался до Каира раньше, уже сегодня в полдень он сядет на александрийский поезд и будет здесь. А это значит, что временное преимущество, которое они получили, спрятав Владимирова на ферме и поселившись в Каире, где Бинт знал в лицо только Пенелопу, будет утеряно. Более того, отсутствие Владимирова ослабляет их силы в случае, если они будут обнаружены Ландезеном.
В мыслях Фаберовский засыпает и на этот раз просыпается в пять часов от встающего и бьющего прямо на балкон солнца. Фаберовский заказал себе в номер чай, но когда коридорный принес какое-то противное месиво с очень подозрительными яйцами всмятку; от чая пришлось отказаться и предпочесть кофе.
Просыпается Пенелопа, спрашивает, что они будут сегодня делать. Фаберовский говорит, что намерен вывезти обратно в Каир Артемия Ивановича, чтобы обезопаситься от Ландезена. Предупреждает об осторожности, особенно в отношении Какссон.
Спустившись вниз на открытую, выходящей на главную улицу громадную террасу с колоннами и вьющимися растениями, где туристы, человек тридцать, собирающиеся посетить в этот день пирамиды в Гизе, поднимались с кресел и рассаживались по своим экипажам.
Феллах поливает мостовую: он тащит закинутый на спину огромный бурдюк или мех с водой; отверстие бурдюка он несколько прикрывает рукой, так что струя вытекает половинная и ее он очень искусно расплескивает по улице. Стайки девочек занимаются навозным промыслом, собирая кизяки в корзины. Дети с корзинами на головах подбирают руками свежий помет лошадей и рогатого скота, который потом сушат и употребляют как топливо.
Каждый извозчик возит у себя под ногами ежедневный паек его лошади из берсима, и всякий раз, когда он должен ждать, он спрыгивает и руками подает его лошадям. Частный экипаж, если владелец не занимает высокого положения, обычно использует одну лошадь; уличный экипаж имеет всегда пару лошадей.
Фаберовский высмотрел среди сбившихся у подъезда в кучу извозчиков на запряженных парой лошадей колясках свободный двуконный фаэтон и, поторговавшись для приличия, за десять франков уговорился съездить в эль-Матарию и обратно.
В пяти милях от Каира лежит деревня Матария, а в полумиле дальше Гелиополис. Миновав многие живописные египетские виллы, один из дворцов хедива и много прекрасных садов и пальмовых рощ, мы наконец добрались до оливковой плантации, которая вела в пустынеподобную равнину.
Дорога в эль-Матарию неблизкая. Сначала идет она широким шоссе, усаженным огромными тополями. Это одно из любимых мест прогулок каирцев. За городом вдоль шоссе идут бесконечные постройки кавалерийских казарм. Прежде тут стояла большая часть египетской конницы, но несколько лет тому назад забрался сюда сап. От него пало несколько тысяч лошадей и спешил он таким образом почти всю египетскую кавалерию. С тех пор эти казармы стоят пустые. Вот потянулись лагери местных войск. Свертывают с шоссе и версты две или три едут по убийственнейшей дороге. Но вот поселок. Подъезжают к саду.
Фаберовский забирает Владимирова с фермы и возвращается обратно в Каир. Перед дверью гостиницы их встречает толпа пестро разряженных драгоманов и проводников, все желают услужить и обладают целой кипой аттестатов на всевозможных европейских языках. Как правило, воры и обманщики. Фокусники, окруженные толпой погонщиков ослов, глотают шпаги и живых змей. Каирский заклинатель змей. Заклинатель внезапно бросает свою кобру кому-нибудь под ноги. Также можно видеть варанов. Он напоминает маленького крокодила. Когда заклинатель не работает, его несут на голове, а кобр в мешке. У самых дверей около дюжины мелочных торговцев, продающих: древности, вынесенные из храмов и поддельные, трости, шелковые шарфы (куффийе), тюрбаны, кишмиш, кокосовые орехи и т. д. У одного имеется кадка с молодыми крокодилами (длиной 0.5 аршин (35 см)), которых он предлагает по 5 шиллингов. Артемий Иванович загорелся идеей купить одного из них и Фаберовский едва сумел отвратить его от этого дела.
В половине первого по шикарной мраморной лестнице, устланной пушистым ковром, все четверо спустились в мрачный и огромный обеденный зал к завтраку табльдот. В столовой завтракало не менее полутораста человек; вокруг суетились лакеи во фраках и белых галстуках. Мужчины одеты просто, многие в тропических шлемах с вуалью, дамы одеты достаточно однообразно: недлинные юбки, обыкновенно светлые, а вместо корсажа нечто вроде рубашечки, затянутой широким кожаным поясом; шляпа соломенная с большими полями.
Кельнер-швейцарец посадил их за стол, сервированный изящной посудой и хрусталем, среди роскоши которых неуместным казался необожженный глиняный кувшин с водой.
Обсуждают вопрос о том, что делать дальше. Возникает идея поехать в Исмаилию и покончить дело еще там.
Подачи первого блюда пришлось ждать с четверть часа. Наконец, были поданы какие-то крошечные птицы, состоящие из одних носов, и слоеные пирожки с чем-то незаметным и сомнительным внутри. Блюда, по большей части приправленные кайенским перцем и пикулями, стали чередоваться нескончаемо. Наконец появились бананы и кофе, и завтрак, состоявший из десяти блюд, одно удивительней другого, был окончен.
Фаберовский интересуется у кельнера, не слышно ли что о планах русского наследника, который должен приехать в Египет в воскресенье. Тот говорит, что его самого и еще нескольких лучших кельнеров из шикарных каирских отелей подрядили люди хедива сопровождать наследника в его поездке по Нилу; что они говорили о поездке до вторых Нильских порогов с выездом, если ничего не случится, 27 ноября.
Интересуется также по поводу двух пунктов:
Англо-Египетский банк: находился на Рю Шириф-Паша.
Вино и консервы: у Николо Зигада рядом с отелем Шипарда; около него Монферрато, Дракатос; Н.А.Аблитт, мечеть; Э.Ж.Флорен Бодега (Ф.Класс & Ко.) и Уокер & Ко. на Эзбекие.
Фаберовский решает на случай, если ничего не удастся в Исмаилии, а затем и в Каире, купить билеты на пароход Кука. В Асуане их ждет вторая лодка. Билеты же в случае удачи всегда можно будет сдать. Пенелопа не хочет их сдавать, говорит, что тогда они совершат настоящее свадебное путешествие.
Тем более что вторую лодку надо будет забрать и вернуть Джевецкому.
К этому времени они должны ясно понимать, что за ними охотятся, зная о покушении. Ясно, что пока без повода Ландезен арестовать их не может. Ему легче просто физически избавиться от них. Значит, им надо опередить людей Рачковского — найти место их проживания и прикончить ночью. Фаберовский предлагает начать поиски с отеля «Шеперд».
Встреча на обеде со Смитом и Проджером. Смит требует у А.И. объяснений, где его жена.
Мне откуда знать, где ваша жена? В Каир приехал человек отдохнуть, так и туда приехал спрашивать, где его жена. Следить надо лучше за своей женой.
Возражения Смита, что он читал ее письмо к Владимирову, с гневом отвергаются.
Идут в контору Кука. Внутри по стенам географические карты с красными дорожками «туров Кука».
На пароходе поездка до Асуана и обратно в 1876 году стоила 46 фунтов и продолжалась 20 дней.
Агент усадил Фаберовского в кресло, предложил сигару и рассказал о пароходной линии. Фаберовский покупает два билета на 26 ноября, т. е. на день раньше предполагаемого отбытия Николая по Нилу. Деньги исчезают в ящике стола, 2 раза щелкает ключ в замке. В билете указано, что каюта имеет два номера, т. е. и две койки. За право пользоваться седлами надо при покупке билета доплатить 5 шиллингов.
Агент занес адрес в книгу, пожал руки, на прощание подарил брошюру: «Вверх по Нилу на пароходе» с изображением на заглавном листе чего-то вроде ордена Подвязки, каких-то сплетающихся лент с круговой надписью под ними: «Европа, Америка, Азия, Африка, туры Кука вокруг и по всему свету».
После Кука заходят в отель «Шеперд» и узнают, кто там прописался. Выясняется, что здесь собралась вся свора. Артемий Иванович оставляет свой адрес на почте (для Эстер) с предупреждением, что у него в гостинице живет Смит с Проджером.
Отель «Шеперд», также в Эзбекие, с террасой и садом (владелец Цех, директор Гросс, оба немцы), предпочитается англичанами и американцами, равные цены.
В это время Ландезен и Ко. в своем номере дают инструкции Дмитриевой. Та изумлена и не верит, что АИ террорист. Ей поручено соблазнить Владимирова и через него познакомиться с Фаберовским, чтобы тихо и без шума убрать его. Ландезен должен подъезжать к Дмитриевой с сексуальными домогательствами, но с гневом отвергнут этой раздраженной антисемиткой.
Глава 33
Встречаются в ресторане гостиницы с лейтенантом Каннингемом, который оказывается неплохим малым и гидом по городу. Он рассказывает, что приезд Николая в Каир намечен на понедельник, 28 ноября, примерно около полудня, что из цитадели, где квартирует его полк, при подходе поезда будут давать салют, а сам он с караулом от своего батальона вместе с караулом от 1-го батальона Девонширского полка будет стоять шпалерами на Оперной площади близ «Нового Отеля».
Спустившаяся вниз Дмитриева присоединяется к их столику. Она знакома с Каннингемом, который говорит, что готов жениться на Дмитриевой, если она согласиться. Он поэтому и на Пенелопу не в обиде, так как влюблен в Дмитриеву. Та отшучивается, так как чувства Каннингема могут помешать ей охмурить Владимирова. Приглашает их всех приехать к ней сегодня вечером. Расстаются с ней.
Прогулка по городу.
В европейской части широкие тротуары, металлические решетки, покрытые вьющимися растениями, отделяют от улиц палисадники с деревьями, кустарниками и цветами. Часто по улицам рассажены пальмы. За палисадниками двух-трехэтажные дома с очень высокими комнатами, нижний этаж в публичных, а нередко и в частных зданиях образует снаружи галерею с аркадами. На всех перекрестках круглые площади с бассейном, обсаженным деревьями и кустами; все это обнесено решеткой и обведено тротуаром.
Лейтенант ведет их по городу и показывает:
Исмаилия (европейский квартал Каира) — прекрасно вымощенные широкие улицы, обсаженные акациями, поливаемые из водопроводов, укатываемые паровыми катками. Прекрасные коляски и кареты извозчиков на каждом углу, комфортабельные кафе и рестораны, богатые магазины.
С моста экипажи двигаются по улице Баб эль-Хадид (Баб эль-Хагиг, Ворота канала) к центру города. Площадь Эзбекия среди изобилующего магазинами квартала. Общественный сад с 1870 года.
На Оперной площади у греческого консульства арка с надписями «Греки Каира». При ней эстрада для музыки.
Недалеко от отеля «Шеперд» светло-сиреневая арка высотой более 50 футов (15 м) (с восьмью колоннами, напоминающая парижскую Арку Звезды. С одной стороны приветствие по-русски, с другой по-французски: «Les Français au Tsarévitch (Французы — Цесаревичу)».
У самого вступления в Каир арка с двуглавым орлом. Убрана зеленью и разноцветными венецианскими фонарями. По бокам разбиты два шатра.
Неподалеку от конца излюбленной для прогулок аллеи Шубра эль-Хейма через Кантарат эль-Лемун (мост через канал) украшенная гирляндами двойная арка с надписью «Добро пожаловать», построенная российскими мусульманами (бухарцы и хивинцы, а также обучающиеся при мечети Гама эль-Азхар).
Красивая авеню идет от Шубры до северо-западных ворот столицы; обширная равнина между этой деревней и частью Булака, после которой вырисовывались дальше в виду многочисленные большие дворцы и гаремы, и натыканные почти в любом направлении, были видны хорошенькие загородные дома, принадлежащие европейцам, левантийцам, грекам и мусульманам. На высокой насыпи на северо-восточной стороне стоит единственая обсерватория в Египте (Bayt e’Rasseed).
Гуляния по дороге в Шубру — широкое прекрасное шоссе, обсаженное громадными сикоморами, вереницы дач, садов, балконов, террас, цветников, пальмовых и олеандровых рощ.
Пятница — магометанское воскресенье, весь бомонд Каира катается здесь. Здесь непременно и гаремы богатых египтян, но в закрытых каретах, хоть и с опущенным окном.
Перед пашой саис в белой албанской юбке и расшитой золотом кyртке, а перед консулами и даже консульскими дамами, как и перед хедивом — по два саиса.
Скороходы (саисы). Босоногие, с палками в руках, в расшитых золотом куртках и ярких кушаках, изогнув корпус, откинув назад плечи, они легко несутся перед ретивыми конями и покрикивают на прохожих. Кисточки у головных уборов (тарбушей) прыгают на ходу. Обычно кончают чахоткой.
— Руах! Руах! (Берегись!) — кричат саисы. — Шемалек! (влево) Ималек (вправо)! Уарек! (в сторону).
Хедив Тауфик плотный, бородатый, вальяжный. Он катается каждую пятницу верхом со своими адьютантами и свитой (10 человек с золотыми перевязями через плечо, следующие за ними, рядом один из любимцев на таком же, как у хедива, белом или вороном коне). Египтяне останавливают экипажи, выходят, кучера слазят с козел, быстро прикладывают руку ко рту, лбу, сердцу и к земле.
Европейцы часто просто игнорируют его, иногда лениво приподнимают шляпы и он сразу спешит раскланиваться с ними.
На прогулке они встречают врагов, которые некоторое время идут за ними. Они жалуются на них Каннингему. Они говорят, что эти мрачные русские подонки собираются убить их еще с Венеции, так как они случайно узнали о готовящемся покушении на наследника и известили об этом русские власти. Каннингем сводит их с человеком (арабом), который может им помочь. Он хозяин кофейни. Они сразу же договариваются с арабом, чтобы переехать в надежное место в арабскую часть города.
Над дверями каирских домов, точно у обиталища чернокнижников, прибиты для украшения сухие змеи, ящерицы и другие гады. Иногда чучело небольшого слона. На площади продается рыба в деревянных клетках, переложенные травой карпы широко разевают рты.
С полудня до 15 часов народу в Каире мало, лавки закрыты, собаки спят, свернувшись в клубочки.
Собаки накинулись стаей на противного павиана и вожак отгоняет их палкой и бубнами.
В Каире на улицах постоянная сутолока экипажей, всадников, вереницы верблюдов, мулов под бархатными попонами и с побрякушками на узде, конные полицейские, английские солдаты, туристы в шлемах от солнца, феллахи, бедуины и негры, бородатые мусульмане. Cнуют около колес полуголые мальчишки с бритыми головами. Туземцы побогаче в разноцветных чалмах и длинных шелковых кафтанах. Знатные арабы драпируются в свои просторные халаты. Копты, одетые в темное. Из-за зеркальных стекол элегантных карет смотрят занавешенные белой тканью ревниво охраняемые евнухами обитательницы гаремов. Иностранцы на осликах пробираются сквозь толпу.
Горожане Каира в многочисленных, как капустные листья, одеждах. Здесь значительно больше бедуинов в черных мантиях, чем в Александрии, и, в отличие от Александрии, голубые одежды еще в темно-синюю полоску.
Женщины, неловко закутанные от посторонних взоров в черные и темно-синие плащи. Начиная от носа, вся нижняя часть лица завешивается черной шелковой тряпкой. Поперек лба и на переносице привязывается медная штучка цилиндрической формы (а часто из серебра или золота, украшенная дорогими камнями), искажающая человеческое лицо почти до неузнаваемости.
Женщина на ослике с красным седлом: сама сгорблена как гриб, коротенькие ножки поджаты назад, по оба бока седла плащ развевается как парус, как пузырь, надутый воздухом — не живой человек, а неуклюжий узел, брошенный на спину осла и готовый с него свалиться.
Каир очень шумный город, в нем кричат все с раннего утра до позднего вечера.
Продавцы поддельных древностей повсюду кричат: «Real antic!»
Прохладные, полутемные, всегда несколько сырые и вонючие низенькие коридоры улочек старого Каира. Лабиринт туземных домов, живописных лавок-ниш и отсвечивающих глазурью, разнообразно извивающихся в вышину, окаймленных каменным кружевом минаретов. Второй (жилой) этаж выступает над нижним в сторону улицы, иногда почти смыкаясь с противоположным. Окна без стекол, их заменяет частая деревянная решетка (мухарабие). Веревки, ковры, полосатые одеяла — перекинутые через улицу своеобразные пологи — прикрывают улицу сверху. Разноцветные шали, ковры, платки красные и желтые с полумесяцем, огромные жестяные люстры со стеклянными лампочками и бесчисленные фонарики.
Стаи голодных и никому не принадлежащих собак выполняют роль городских санитаров.
По узким улицам проходят верблюды, нагруженные товаром, свежескошенной травой и бревнами, норовя придавить неосторожного пешехода к стене.
Базарный день. Бесконечные ряды лавок со степенно восседающими владельцами. Купцы в белых тюрбанах, поджав ноги по-турецки, сидят перед своими лавками, покуривая наргиле и прихлебывая кофе из крохотных чашек.
Лимонад и сахарная вода, тамарисковый шербет.
— Сколько стоит этот медный кубок?
— Риял Масри (6 франков или ок. 5 шиллингов)
— Нет, нет, хватит и двух пиастров (ок. 6 пенсов)
Около Цитадели (ал-Кала, здесь квартируют ирландские стрелки) узкие-узкие улицы. Кое-где темнеют массивные, мрачные ворота, уцелели надписи над живописными арками. Бывшие когда-то прекрасными дворы этих домов и сами дома отведены теперь под склады, загромождены бочками и тюками.
Известный магазин Парвиса, где чрезвычайно искусно имитируются вещи античного туземного характера.
Эль-хавагия! — обращение к иностранцу.
Бинт знакомится с Пападакисом. Узнает о Каннингеме. Напоминает, что завтра на придворном поезде надо ехать в Исмаилию для встречи наследника. Они разговаривают о слухах насчет подводных лодок. Пападакис не верит в лодки, рассказывает, как его правительство купило лодку у Норфельда и о другой греческой лодке. Посылает Ландезена и какого-то араба-агента разыскать Каннингема. Тот посылает их подальше. Если у греческого короля проблемы, пусть заедет ко мне или хотя бы напишет как джентльмен джентльмену.
В 1880 году греческий инженер Н. Грипарис построил маленькую подводную лодку под названием «Грипара», которая была испытана в районе Фалиро (Пирей), но эта конструкция не имела никакого дальнейшего развития или эксплуатации.
Греция, военно-морская страна, вскоре после ее освобождения заинтересовалась организацией флота. В 1886 году на первое время была приобретена субмарина, которая была сделана швейцарцем Норденфелтом. Она была движима паром, длиной 33 метра, водоизмещением 160 т и максимальной скоростью 9 км/ч. Она несла одну торпеду и находилась в составе флота до 1901 года.
После Шубры возвращаются к обеду в гостиницу. К обеду все спускаются во фраках и белых галстуках, дамы в шелках, бархате и бриллиантах. Обед длится полтора-два часа, 8–9 блюд, из них 3–4 мясных. После обеда жильцы гостиницы выползают на террасу делиться впечатлениями. На обеде опять видят Смита с Проджером.
После обеда Фаберовский и Владимиров снаряжают в гостинице две мины и гальваническую батарею. Вечером идут в кафе. На людных улицах Каира газовые фонари.
«Кафе Амбарра» — настоящий чертог, с роскошной обстановкой, «Grand Cafe Egyptienne» («Египетские ночи») в том же роде.
Чинная и спокойная обстановка, отличная от шума и гама арабских кафе. Дамы и барышни, чинно сидящие за столиками в то время как их братья и папаши сражаются на бильярде, играют в трик-трак. В глубине зала устроена эстрада, на которую выходят не смуглые египтянки, а белокурые и бледнолицые немки, составляющие неплохой дамский оркестр. Звучат штраусовские вальсы и томные романсы немецких композиторов.
В антрактах скромненькие и миловидные музыкантши обходят публику, самые резвые иногда присаживаются к посетителям для мимолетной беседы.
Во время пребывания в кафе окончательно оговаривают детали операции в Исмаилии и то, что надлежит делать в ней не участвующим. Переезжают на новую квартиру, замотав Пенелопу и Какссон под арабку, велят Пенелопе ни под каким соусом не выпускать служанку на улицу. Утром в субботу в одиннадцать утра уезжают из Каира в Исмаилию, куда прибывают в 16:30.
От Каира до Суэца (245,8 км) 8 часов по железной дороге., 1 класс 116 пиастров, 2 класс 76 пиастров; до Исмаилии (160 км) 5,5 часов за 79 пиастров 20 пара, 52 пиастра 20 пара и 32 пиастра 20 пара. Ежедневно только один поезд.
159,8 километров до Исмаилии. На подъезде открывается вид на голубеющее озеро Тимзу, чрезвычайно поразительный, особенно большие океанские пароходы, чьи мачты возвышаются над низкими домами. Исмаилия конечная, тупиковая станция. Справа от вокзала — арабский квартал. Между вокзалом и гаванью находится на площади Шампольона отель «Париж» с очень скромным оборудованием, но чистый и хороший. У моря маленький отель с морскими ваннами точно так же чистый и удобный, пенсион 12 фр., купание 1 фр. Почта, телеграф и аптека около вокзала. Церковь, мечеть, виллы, настоящие улицы и благоустроенные сады, цветет еще олеандр и в темнозеленой листве дозревает золотистый апельсин.
Глава 34
Суббота, 22 ноября.
Ближе к вечеру. Место в пустыне в получасе езды от Исмаилии около железнодорожного полотна. Колючие кустарники на склонах песчаных холмов и низкие кустарники при болотисто-солончаковой почве. Только телеграфные столбы пересекают окрестности да караваны виднеются вдали. Кругом Исмаилии постоянно встречаются миражи. У Артемия Ивановича мираж — колоссальная бутылка поповки.
«Верблюд-дромадер — драмодер — дармоед». Дромадеры, в отличие от среднеазиатских двугорбых верблюдов, при ходьбе далеко, по-страусиному вытягивают шеи. Чтобы сесть на верблюда, его заставляют лечь, он недоволен и ревет. Садятся верхом, как в обыкновенное седло, ноги в стремена. Обязательно крепко надо держаться за обе высокие луки седла при вставании верблюда. Поднимаясь на задние ноги, верблюд дает при этом такой толчок, что, не держась за заднюю луку, непременно перелетишь через голову. Если он встает на передние ноги, то все то же самое, только в обратном направлении. Идут верблюды медленно и качка ровная, но широкая. Со стороны кажется, что седок специально раскачивается. При беге качка меньше, но становится неприятной и неровной, отчего у непривычных тошнота и даже рвота.
С двух верблюдов слазят Фаберовский с Владимировым. Фаберовский снимает с верблюда ящик, где находятся мины и гальваническая батарея.
Мины они зарывают под рельсами, протягивают провода к гальванической батарее, которую зарывают в ящике рядом с каким-нибудь сухим кустом. Помечают его тряпочкой (трехцветным платком для махания или лентой, приготовленной к встрече наследника). Затем возвращаются обратно в Исмаилию.
Исмаилия в оправе из финиковых пальм. Хорошенькие европейские домики в садах. Церковь, мечеть, виллы, благоустроенные сады, где, несмотря на позднюю осень, все еще вызревают апельсины.
Часть Суэцкого канала, проходящая по озеру Тимза в Исмаилии, поражает оригинальностью вида: канал ограничен справа и слева огромными насыпями, составляющими его берега, а за ними во все стороны тянется бесконечное пространство гладкой, как зеркало воды, с которой только изредка подымаются в воздух целые тучи нарядных фламинго-рыболовов.
Проезжают мимо вокзала, на котором стоит прибывший недавно придворный поезд. У него имеется крытая платформа с сиденьями, соединяющая парадные отделения. Также платформа с придворным экипажем, по приказу хедива присланным из Каира. От вокзала аллея, окаймленная тенистыми нильскими акациями, идет слегка под гору и они быстро добираются до домика, в котором остановились. Темнеет.
Идут на набережную, где смотрят, как три паровых буксира вводят на стоянку фрегат «Память Азова». Один буксирует, другой пришвартован лагом с левого борта, третий одерживает за корму. Лоцман находится у прожектора на мостике, подавая сигналы командиру французского миноносца и агенту компании Суэцкого канала, которые находились на переднем буксире (видимо, это генерал-губернатор Суэцкого перешейка Ибрахим-паша, которому хедив приказал сопровождать фрегат). С самого фрегата также светят прожектора. На грот-брам-стеньге фрегата флаг наследника-цесаревича. Уже в полной темноте подходят к гостинице, где остановились: прибывшие с придворным поездом принц Хуссейн-паша Камил, брат хедива; свита с двумя египетскими сановниками — министром иностранных дел Египта Зул-Фикар-пашой и обер-церемониймейстером Абдар-Рахман-пашой Рушди в синем с золотом, в звездах и орденах, обязательно и постоянно в головном уборе, русский генеральный консул Кояндер, греческий генеральный консул Аргиропуло и секретарь императорского дипломатического агентства надворный советник князь Александр Васильевич Дабижа, железнодорожные инженеры господа Промпт, Никур и Скандер-бей, а также Ибрахим-паша Рушди, генерал-губернатор Суэцкого канала и администрация канала во главе с главным распорядителем Руайль де Рувилем. Здесь присутствуют Пападакис, Ландезен и Ко. Команда должна рассуждать на предмет того, как им найти в Исмаилии террористов. Раз они бесследно исчезли вечером из гостиницы незадолго до отхода обычного поезда сюда, значит, они скорее всего сюда и поехали. Составляют план размещения имеющихся людей вдоль набережной во время высадки, о том, что надо осмотреть набережную до того, как на ней соберется народ, чтобы предупредить закладку мины. Инструктировать на предмет возможного метания бомб и об осмотре паровоза.
Оболенскому и Кочубею по 30 лет, последний был женат (видимо, позже) на княгине Елене Константиновне Белосельской-Белозерской.
При девятисуточном переходе от Плимута до Мальты крейсер выдержал шторм. Были смыты носовые украшения и клеенка настила балкона. Крейсер был все-таки короток для форсирования большой океанской волны, а на переходе в Пирей обнаружил вялость качки, в связи с чем для повышения остойчивости Басаргин ходатайствовал снять и оставить на берегу вместе со шлюпбалками оба минных катера.
В 1890 году КР получил повреждения во время шторма в Северном море — было повреждено носовое украшение, оснастка бушприта и левого якоря. По приходе в Плимут из-за недостатка времени не был произведен надлежащий ремонт, а сделаны временные подкрепления. На переходе Плимут — Гибралтар КР вновь получил штормовые повреждения, из-за чего был вынужден зайти в п. Виго, где был сделан тщательный осмотр и составлена ремонтная ведомость. Ремонт проводился в Марселе. По ремонтной ведомости повреждения следующие: блинда-рей получил трещину, оснастка утлегаря приведена в негодность, гюйсшток сорван и утерян, гальюнные сетки сорваны и утеряны, все временное дополнительное вооружение, заведенное в Плимуте, сорвано и утеряно, планширь полубака и обшивка фальшборта полубака частично сорвана и утеряна, частично удалена во время шторма, носовое украшение весом 180 пудов смыто и утеряно, форпик и установленное 6’ орудие приведено в негодность, створки орудийного порта сорваны и удерживались заведенными тросами. Обнаружена незначительная течь в таранном отсеке и якорном ящике. Для докового осмотра и ремонта не было времени, ремонт произведен следующий: блинда заменен запасным и вооружен по штату, планширь и обшивка заменены и восстановлены силами мастерских порта, шпигаты расширены, крепления носового украшения заделаны и место закрашено железным суриком. Орудийный порт заделан, орудие закреплено по походному. Швы обшивки насколько возможно зачеканены. Гальюнные сетки не восстанавливались. Окраска была произведена уже в море, на ходу. Ожидаемое из России новое носовое украшение не было получено за недостатком времени. Ремонт в Марселе обошелся в 872 рубля 40 копеек.
На переходе с Балтики на Средиземное море традиционные жалобы на уголь. Заготовленный в 1867 (!) году под маркой «ньюкасл» он совершенно выветрился, «содержал много серы и землистых веществ». Это было всегда так, своего угла тогда на Балтике и в других флотах, кроме Дальнего Востока, не было, и в петербургском и Ревельском портах были колоссальные стратегические запасы английского угля, которые неоходимо было обновлять. Была принята традиционная схема: всякий корабль в английском порту, следуя домой, принимал полные ямы угля, причем остаток в Петербургском порту выгружался, взамен принимая очередную партию из запаса.
Переписка командира КР с ГМШ «содержит много язвительных замечаний» по поводу «дружественных» французов, не постеснявшихся содрать за срочный ремонт по тройным расценкам и даже за освещение, хотя все ночные работы проводились при корабельных люстрах. Интересно, что недружественные англичане провели срочную бункеровку по обыкновенным расценкам, «учитывая важный характер плавания и то, что русский флот их постоянный клиент, совсем, как у нас в лавках. Не худо бы учтивым французам поучиться у английского адмиралтейства и наших лавочников».
Ремонт в Нагасаки. Была необходимость в доковании. Обновлен такелаж, выбран цемент в форпике и тщательно заделаны течи в носовой части. Подводная часть очищена от обрастаний, снято 8 т. ракушек. Заменена деревянная обшивка (8 %) и медные листы частью заменены, частью отрихтованы и вновь установлены (20 %). По обыкновению, произведена тройная покрышка японским лаком всей подводной части. Разобрана временная выгородка на 20 офицерских и кондукторских кают на жилой палубе, разобрана временная выгородка на батарейной палубе. Каютные щиты, доски и парадный трап сданы на хранение в мастерские.
В 1896 году на КР «Память Азова» впервые, после испытаний, проводились примерно-боевые стрельбы главным калибром. Результаты повергли всех в недоумение, так как оказалось, что после залпа из обеих орудий, стрелявших черным порохом, весь мостик и носовая часть крейсера на долгое время покрылись облаком густого непроницаемого дыма, так что не только продолжить стрельбу, но даже передать семафор на буксировщик (щита) и принять семафор не оказалось возможным. Дым рассеялся настолько, что можно было что-то разглядеть через 5 1/4 минуты, причем оказалось, что несколько судов несли сигнал «нуждаетесь ли в помощи».
Весь нос крейсера был замотан стальными тросами, удерживавшими поврежденные створки орудийного порта, а вместо роскошного носового украшения весом в 180 пудов, которое было смыто во время шторма на переходе Плимут — Гибралтар, виднелось обширное рыжее суриковое пятно.
В Порт-Саиде приступили к переговорам с администрацией канала о заказе буксирных пароходов, обсуждался порядок следования, обмерялись помещения для расчета уплаты, начали перенос грузов на корму, причем угольные брикеты разместили в адмиральском салоне. Встречал Ибрагим-паша и адмирал египетской службы Привиледжио-паша.
Максимальная осадка допускалась 7,8 м.
Всего в штате компании было 82 лоцмана. Для проводки крейсера был вызван старейший, уже не работающий постоянно лоцман Пейпа. На борт прибыл главный агент Компании Суэцкого канала (Генерал-губернатор Суэцкого перешейка Ибрахим-паша, который должен по приказу хедива сопровождать крейсер?) и его помощник и командир специально вызванного из Бейрута французского миноносца «Ибервиль», часто служившего проводником по каналу. Проводку начали утром и к вечеру достигли Большого Соленого озера, где стали на якорь. Проводка было очень осложнена рекордно большим удлинением крейсера и его чрезвычайной рыскливостью, особенно на малых ходах. Любая попытка подрабатывать своими машинами приводила к наваливанию. Буксировали до озера три буксира — один буксировал, другой был пришвартован лагом с левого борта, один одерживал за корму. Лоцман должен был находится у прожектора на мостике, которым сам управлял. Командир фр. миноносца и агент компании находились на переднем буксире. После озера буксировал один буксир.
На ужин — тушеная капуста или как роскошь — макароны, и то и другое с мясом. Иногда каша. Иногда картошка. Лимоны от цинги. Мясо (1890 г) на две трети солонина, на одну треть «свежее», под которым подразумевалось и мороженое. Для офицеров птица — живая].
Анкерок в два ведра с вином. Принесен Курашкину по распоряжению Николая баталером (кондуктором или унтер-офицером) из ахтерлюка (погреба).
Николай говорит, что если помрет в путешествии, хотел бы почестей, как Нельсону — обратно ехать в бочке с ромом.
Перед отъездом в путешествие Николай через Волкова, находившегося в связи с балериной Татьяной Николаевой, попросил Кшесинскую прислать ему фотографию. Но последняя карточка плохо получилась, а времени делать новую не было и она ничего не послала.
Зато в октябре Елизавета Федоровна прислала ему в письме фотокарточку Алисы, утверждая, что фото Ники, посланное цесаревичем принцессе, стоит у той на столе.
«Посылаю тебе ее фотографию, которую она передала для тебя и просила, чтобы ты хранил ее тайно, только для себя. Твоя фотография, которую я послала ей, находится на ее письменном столе под моей фотографией, невидимая и близкая. И она в любое время может любоваться ею.»
Сцена с Николаем и Филаретом, Курашкиным, Джорджи, собирающимися завтра съехать на берег. Курашкин у Филарета вестовым. Воспоминания об Аликс и Кшесинской. Доктор Смирнов дает наставления, как сохранить свое здоровье в жарком климате. Филарет спрашивает Николая, не желает ли он перед съездом на берег исповедаться. «Я еще не нагрешил». Кочубей разговаривает с Курашкиным и объясняет его задачу. Обозначить Стопроценко.
Отец Филарет — большие руки, круглое лицо, громадная круглая борода, больше даже, чем у Барятинского. Брюхо.
Посуда на поставцах.
Барятинский пристает к Ухтомскому: «Вы чем заняты?» «Книжку пишу.» «Книжка — это хорошо, но вы мне приставлены для письменных занятий, а корабельный писарь намедни у баталера так упился, что сидит под арестом. Надо бы ведомость заполнить про гнилую капусту». Всех надо обозначить. Написать памятку матросам о предохранении от венерических болезней. Вместо этого поп читает проповедь.
Кадки для квашеной капусты — 14 штук.
Глава 35
Вернувшись домой, на радостях напиваются.
В пять часов (?), за полчаса до подъема флага, свист дудки на верхней палубе и крик вахтенного унтер-офицера:
— Команде вставай, койки вязать!
В 5:10 койки выносили наверх и раставляли в коечные сетки. Затем умываться.
Затем команда «Команде строиться на утреннюю гимнастику!». Обычно во флоте никакой гимнастики не производилось, но тут из-за присутствия на борту наследника приходилось целую четверть часа бесцельно махать руками и ногами.
Потом раздавалась команда «На молитву!». На верхнюю палубу вышел отец Филарет и затянул «Отче наш». Полчаса полагается на завтрак — чай с сахаром и хлебом. С семи часов на фрегате начиналась уборка. В 7:45 уборка заканчивается. Ничто не давало повода ни старшему офицеру, ни командиру к чему-либо придраться. Убедившись в этом, вахтенный начальник командует:
— Боцман, рапорт!
Кондуктор Саем, этот прожженный сорокалетний морской волк, находился поблизости. Твердыми шагами он направился к вахтенному начальнику, на ходу подкручивая свои густые усы. Остановился. Резко подкинул правую руку к козырьку, а левой передавая написанную рапортичку, заговорил:
— Ваше благородие, на броненосном фрегате «Память Азова» состоит…
Дальше он перечислял сведения из рапортички — сколько на судне команды, сколько больных и арестованных, какое количество тонн угля, на какое время хватит пресной воды и машинных материалов.
Вахтенный начальник приблизился к старшему офицеру и, передавая ему рапортичку, повторил все, что слышал от боцмана.
За пять минут до восьми часов он громко провозгласил распоряжение:
— Караул, горнисты и барабанщики наверх! Команда наверх повахтенно во фронт! Дать звонок в кают-компанию!
Церемониал продолжался дальше. На палубе выстроились: караул, горнисты и барабанщики на левых шканцах, офицеры на правых, команда на шкафуте повахтенно.
В то же время рассыльный побежал доложить командиру, что к подъему флага все готово, и когда капитан 1-го ранга Ломен, адмирал Басаргин и наследник появились на палубе, вахтенный начальник скомандовал:
— Смирно!
Сейчас же подал голос караульный начальник:
— Слушай! На-кра-а-ул!
Человек десять матросов привычным движением подбросили вверх винтовки и держали их перед собою, как свечи, до тех пор, пока не поздоровался с ними командир и пока не скомандовал им «к ноге».
После этого к командиру (адмиралу?) последовательно начали подходить с рапортом: старший офицер, старший врач и старшие специалисты. Выслушав их всех, он здоровался с офицерами, потом с кондукторами и, наконец, с командой.
До самого торжественного акта осталась одна только минута.
Вахтенный начальник распорядился:
— На флаг!
А ровно в восемь часов громко и протяжно, с дрожью в повышенном голосе, скомандовал:
— Смирно! Флаг поднять!
Кормовой флаг с синим андреевским крестом, поднимаемый сигнальщиками, развеваясь, медленно шел вверх, к ноку гафеля. В это время винтовки брались «на-краул», все офицеры и команда снимали фуражки, горнисты и барабанщики играли «поход», унтер-офицеры протяжной трелью свистали в дудки, а баковый вахтенный отбивал восемь склянок. Заиграл оркестр. Церемониал кончился.
— Команде разойтись! Караул вниз!
Новая смена вступила на вахту].
Всего этого не видят Владимиров с Фаберовским, они в 8.30 утра с больной головой выходят в садик, откуда видна лазурная гладь озера и темная громада русского фрегата. Под звуки национальной музыки от пристани отваливает паровой катер, на котором в полной парадной форме принц Хуссейн и свита. Хуссейн-паша с большими длинными усами, маленьким подбородком, лопоухий. Выстрелы салюта, прибывшие спустились осмотреть каюты. Египетский флаг содержит три турецких полумесяца и звезды — белые или серебряные — на красном фоне.
Плохо соображая, Фаберовский с Владимировым рассуждают, что как-то слишком рано все началось. Под прощальные выстрелы катер перевозит Николая и свиту в Исмаилию. Наследник коротко стрижен, волосы зачесаны назад, лицо полное, усы на концах напомажены, на щеках пушок, изображающий бакенбарды. В лодке сразу заметен Стопроценко. На пристани их встречают Ибрахим-паша, администрация канала и одетые в белое (с национальными цветами) ученицами местной греческой школы, которые преподносят прибывшим по букету. Темные, наглухо застегнутые «стамбулины» (платье вроде сюртука) и неизбежные фески местных сановников. Прибывшим подан тот самый экипаж, который вчера вечером стоял на платформе придворного поезда. Николая сопровождают: Барятинский, Басаргин, Ону, Оболенский, Кочубей, Волков, доктор Смирнов с «Владимира Мономаха», художник Гриценко и Ухтомский. Рядом суетится Ландезен и Ко.
Сообразив наконец, что они могут вовсе опоздать, Владимиров с Фаберовским бросаются одеваться. Пока они одеваются в арабов, пока седлают верблюдов… Они видят, как несмотря на препятствия, толпа прорывается к Николаю и Джорджи Греческому (впереди дамы, в основном француженки и гречанки). Георгий почти незаметен. Ландезен отвлекается на дам, его одергивает Бинт. Близится девять часов. Пустив верблюдов в галоп, оба несутся вдоль железной дороги.
Их обгоняет поезд. Они кричат ему вслед проклятья и махают руками, накрываемые поднятым поездом густым облаком пыли. Сидящий на открытой платформе Николай спрашивает у Кояндера, кто это такие, и тот поясняет, что это его приветствуют местные жители. Кояндер — густая борода и усы a la Николай II, черный котелок, сюртук. Ландезен сообщает о готовящемся покушении и просит об усилении охраны в дальнейшем.
Обратно из Исмаилии поезд в 23.35, в Каире в 5.25.
Следующий день, утро. На вокзале в Исмаилии в ожидании отправки поезда гуляет начальник вокзала с серебряными локомотивчиками на воротнике. На платформу прибегают Фаберовский и Владимиров со свои ящиком, в котором лежат неиспользованные мины и гальваническая батарея. Интересуются у начальника, когда уходит поезд. Он говорит, что поезд уходит в половине одиннадцатого, но поезда в Египте (кроме курьерского Александрия-Каир) неукоснительно опаздывают. Владимиров и Фаберовский садятся на ящик и рассуждают о том, что им делать дальше.
Глава 36
Базарный день. 24 ноября, понедельник.
Примерно в 16–17 часов Фаберовский с Владимировым, наконец, добираются до Каира и едут с вокзала в логово.
Здесь от возвратившегося со слежки Батчелора они узнают, что вечером, когда стемнеет, в 21 час, греки собираются на площади перед Абдинским дворцом устроить факельное шествие. Кроме того, в городе только и говорят, что русский консул Кояндер намерен устроить в четверг вечером (15 (27) ноября) большой праздник на воде.
Попытка отравить Пенелопу.
За ужином Батчелор рассказывает, что Николай со свитой поселились на левом берегу в предместье эль-Гиза, во дворце Хуссейна, в четверти часа от моста через Нил. Вчера вечером Николай на ландо в сопровождении конной стражи ездил гулять по городу. На Оперной площади его встречала огромная толпа греков. Дымная мгла иллюминации, трепетное бенгальское освещение. В иллюминации особенно выделялась триумфальная арка греческой колонии. За час до полуночи они отправились обратно. Князь Мурузи, русский комиссар при Египетской долговой кассе, устроил встречу Николая туземцами с бенгальскими огнями на мосту Каср эн-Нил. На перилах в живописных одеждах в нескольких шагах друг от друга стояли цепью туземцы.
Сегодня утром Николай посетил греческую церковь, а после полудня музей Гиза. Посещал мечети и цитадель. В цитадели посетил по приглашению командира офицерское собрание ирландских стрелков в одном из дворцов и госпиталь в другом.
Его преосвященство синайский архиепископ Порфирий, благообразный седобородый правитель древней обители на Синае, встречает Николая на Синайском подворье и греческой школе Абета в одном из старых кварталов.
Николай заехал ознакомиться с т. н. «арабским» музеем на улице эль-Гури в мечети фатимидского халифа эль-Хакима (постр. 1003).
В этот день утром для сопровождения Николая откомандирован знаток средневековой старины просвещенный армянин Артын-паша, способствовавший среди прочих возникновению музея.
Затем посещают известный магазин Парвиса, где чрезвычайно искусно имитируются вещи античного туземного характера.
После завтрака у себя во дворце Хуссейна едут смотреть музей древнеегипетской старины у подгородного местечка Гиза неподалеку от дворца.
Днем заезжают в главный дворец.
В Каире к свите присоединился приехавший из Петербурга доктор Рамбах, а также прибыл второй фельдегерь с письмами.
На 7 часов назначен парадный обед в Абдинском дворце у хедива, сервированный на 90 кувертов. Простой, белые длинные и низкие фасады с плоской крышей. Отсутствие растительности.
Внутренняя дворцовая охрана: турки, албанцы, черкесы — высокие фески, коричневые мундиры, золотые шнуры на груди. Церемониймейстеры в синем с золотом, в звездах и орденах, обязательно и постоянно в головном уборе.
Обсуждение с Бинтом и Пападакисом возможных мер предосторожности. Ландезен разговаривает с Дмитриевой о том, что необходимо прикончить незаметно Фаберовского и Владимирова.
Добывают через владельца кафе ружье, патроны. Маскируют подо что-нибудь.
Едва не убиты верблюдом, перевозящим бревна по узким улицам.
Около дома встречают Дмитриеву, зашедшую в старый квартал, чтобы присмотреть какие-нибудь древности, принесенные из храмов. Здешние торговцы хорошо ее знают, она часто покупает у них древности. Дмитриева пеняет им, что они не приехали к ней тогда. Приглашает приехать сегодня. Фаберовский отказывается. Прежде чем войти в дом, заставляет покружить по улицам, чтобы убедиться, что ни Дмитриева, ни какие-нибудь шпионы не следят за ними.
К девяти часам вечера присоединяются к шествию греков, организованному г. Амвросием Синадино (по оценкам газет — 3 тыс., Ухтомского — 6–8 тыс. человек). Шествие сформировалось на Оперной площади и растягивается на всю длину от площади до дворца. Впереди всадники в полицейской форме. За ними многочисленные музыканты (в т. ч. два военных оркестра). По бокам участвующих в процессии, в которую также вошли эллинские школы, идут солдаты туземной пехоты с фонарями. Пламя медленно струится над морем голов в безветренном воздухе. Несмотря на присутствие несметных зрителей вокруг блестящей извивающейся линии, не слышно ни народного говора, ни отдельных голосов.
В десятом часу Николай с Джорджи и Георгием выходят на темный балкон посмотреть шествие. Дойдя до балкона, шествие вдруг охватывается шумным смятением. Гимны гремят в честь хедива и гостей. Несмолкающие ликования потрясают площадь. Греческие «зито!».
Начинается фейерверк. То угасает, то вспыхивает вновь. Среди застилающей зрение темноты одиноко пламенеют иные столбы крутящегося пламени и беспомощно вертятся погасающие огненные колеса. Пароход и локомотив.
Площадь заволакивает густой дым. Артемий Иванович выпускает по вышедшему на балкон Николаю все с трудом добытые патроны, но не попадает ни разу. А Фаберовский в это время отвлекает Ландезена и Ко. и спасается от Смита и Ко., пытающегося его убить. Добравшись до своего логова, Фаберовский сбривает бороду и наголо стрижется для временной маскировки. На вопрос Пенелопы рассказывает ей, что Смит с Проджером едва не убили его сегодня. Выгоняет Какссон, сказав, что после сегодняшнего у них больше нет обязательств перед доктором Смитом.
Около 22 часов Абдинская площадь в густом дыму. Факельное шествие устало скользит по площади обратно к центру города. Среди них растерянный Владимиров, не попавший в наследника.
Вечером Владимиров, потеряв Фаберовского и не сумев найти логово, пришел к Дмитриевой. Она соблазняет его и он остается у нее на ночь. Она кормит его и поит квасом, за которым ездит в посольство. (Окрошка с бананами).
Глава 37
25 ноября, вторник.
Рано утром по договоренности с Фаберовским Артемий Иванович должен был уехать на ферму и укрыться на время там. Однако он, проснувшись в три часа в постели Дмитриевой, вспомнил о договоренности с Эстер и напуганный покушением на Фаберовского со стороны доктора Смита, тайком удрал и поехал к пирамидам, чтобы предупредить Эстер. Договаривается с драгоманом, но за отсутствием денег вынужден нанимать не экипаж, а осла. Драгоман нагружает осла бутылками красного вина, содовой водой, холодной телятиной, завернутой в неизбежную газетную бумагу (газета «Машалла»), и т. д.
На освещенных фонарями улицах ни души. Артемий Иванович вместе с драгоманом садятся на ослов. У каждого для погоняния используется длинная палка, которую держат посередине, действуя то одним, то другим концом. Или погонщики с ними?
Дорога в Гизу к пирамидам: площадь Ипподрома? Каср ан-Нил, железный раздвижной мост с гигантскими бронзовыми фигурами лежащих львов, освещаемые большим висячим фонарем. Полотно моста Каср ан-Нил шоссировано, как и вся дорога. С другого берега виднеются в темноте сквозь пальмы мраморные террасы Каср ан-Нила, дворца вице-короля, и белые корпуса английских казарм. Переехав мост и оставив справа Гезире, повернули от моста на юго-запад по шоссе, идущему сначала берегом Нила, ко дворцу Гизе. Едут по темным аллеям. Изредка то справа, то слева горят фонари, да и те наполовину скрыты за деревьями. От Нила через низменность наискось к горе, к пирамидам, вознесшимся на предгорья у порога пустыни, ведет совершенно прямое шоссе, слегка приподнятое на дамбе над наводняемою окрестностью и обсаженное акациями с чрезвычайно густой листвой; оно выше уровня полей и никогда не заливается рекой.
То и дело их обгоняют туристы в экипажах. Проехали примерно верст с шесть. Начинается рассвет. Аллея кончается, ослы поспешают по гладкой дороге.
Поворот дороги. На гребне горы разом вырисовываются широкие, покрытые лиловатой дымкой грани пирамиды Хеопса. До нее осталось около версты.
Налево, т. е. на юге, виднеется что-то вроде ряда навозных куч. Несколько черных унылых домов без клочка зелени, плетневые трубы чернеют, будто колодцы из-под желтых песков. Это деревня Гиза. От нее по направлению к туристам и к пирамидам бегут десятка полтора-два бедуинов в черных или полосатых черно-белых бурнусах.
Близ дороги, смелым изгибом поднимающейся к пирамидам, построена гостиница для туристов «Мена-Хауз», где сейчас гостит шведская чета. В этой гостинице 12–15 номеров, все, как правило, заняты. Молодежь забавляется охотой в пустыне на шакалов. Здесь можно выпить превосходный кофе. Ослы поднимаются в гору. Море песка надвигается со всех сторон, бессильно замирает только у подножия трех главных пирамид. Саженей за 150 (320 м) подъем в гору становится крут. Каменные ограды по краям дороги около пирамид не предохраняют ее от песчанных метелей и ослы идут, увязая в песке. Остальные туристы вылезают из экипажей.
Перед Владимировым вырастает небольшой павильон (шале) — домик-барак, приготовленный пышным хедивом Исмаилом для встречи императрицы Евгении при открытии Суэцкого канала. Тенистые комнаты павильона, где в обычные дни туристы могут отдохнуть и даже переночевать на диванах.
Кругом все голо, уныло, однозвучно-желтый цвет. Драгоман останавливает осла. Их встречают черные и белые бедуины, все босые, их шейх (староста) Мензи с красной феской, вокруг которой белая чалма, на которой какая-то особенная густая и тяжелая голубая кисть. Арабы приветливо улыбаются, некоторые протягивают руки. Кое-кто пытается даже заговорить на известных им языках. Предлагают свои услуги для восхождения на пирамиду Хеопса (по три-пять проводников на человека).
Артемий Иванович замечает наверху пирамиды фигурку Эстер, приветственно машущую ему рукой. Рядом с ней мисс Гризли.
Уговор с шейхом о цене и количестве проводников. По таксе шейху пирамид надо заплатить 2 шиллинга (в 1889 году за каждого около 5 франков, а потом платится проводникам за услуги).
— Таиб, таиб кетыр (хорошо, очень хорошо), — кивает шейх.
Внизу пирамид дежурят двое полицейских, переменяемых еженедельно.
Нижняя ступень по пояс. Подходят к середине северной грани и идут вдоль пирамиды к ребру между северной и восточной гранями. Это место подъема.
Начинатеся подъем. Поднимаются по грани зигзагами. Ступенька по северной грани, затем два-три шага к ребру и следующая ступенька уже по восточной грани. Двое волокут за руки, один подталкивает сзади, один на всякий случай и несет воду, пятый — «доктор». Этот доктор на отдыхе разминает ноги поднимаемым ими на пирамиду путешественникам. Если присядешь отдохнуть во время восхождения, неотвязный мальчик-туземец соблазняет глотнуть из грязного глиняного кувшина. Воду не пьют, а только полоскают рот. Затем арабы начинают предлагать купить «древние» безделушки, сначала ненароком, а потом все настойчивей и настойчивей.
— Катар эль-херак кетыр (благодарю покорно) «катархерак кетыр», обычно употребляется как просьба о милости.
На пирамидах слово «букра» (букв. завтра) — для того, чтобы отбазариться от арабов. Употребляется также выражение «Мафиш! Оставь меня в покое или Убирайся!», аналог итальянского «non seccarmi».
Но вот Владимиров и наверху. Неровная площадка пространством около 3 квадратных сажень — верхнее острие пирамиды. Посреди площадки груда камней, в нее воткнут шест, показывающий первоначальную высоту пирамиды до того, как несколько верхних ступенек были сняты и употреблены для других строений.
Эстер рассказывает, что из голубой ленты сделала подвязки и сама расшила из золотой нитью, он сможет теперь их развязывать, когда они, наконец, останутся наедине. Владимиров спрашивает, а как ей понравился поросенок, который был обвязан этой лентой? — Какой поросенок? — Которого я прислал через Фаберовского. — Но я не получала никакого поросенка! — Так! А гриб он вам подарил? — Нет. — А прекрасный букет живых роз с могилы каноника Попелюшко? — Нет. — Я этого так не оставлю!
Эстер рассказывает о том, как она укрывалась в Каире от доктора Смита и высказывает опасение, что нелегкая может привести его и сюда. Гризли выступает в защиту доктора Смита.
Мешая Эстер разговаривать с Артемием Ивановичем, за два франка арабы предлагают написать надпись на камне, а они ее высекут специальным инструментом. Показывают надписи принца Уэлльского, Дона Педро, императора Бразильского, и т. д. Скрижали по франку от слова. Это делается, стирая предыдущие надписи о восхождении. Владимиров пишет какую-нибудь чушь и арабы радостно выбивают ее на камне.
Некоторые арабы предлагают за три франка забраться для Артемия Ивановича на соседнюю пирамиду Хефрена за четверть часа, и так же быстро спуститься с нее. Чтобы избавиться от надоедливых арабов, Владимиров соглашается, чтобы его проводники вместе с проводниками Эстер совершили это мероприятие, а они пока подождут их на вершине.
На пирамиду Хефрена путешественников не поднимают, так как на ней наверху широкими пятнами сохранилась полированная гранитная облицовка, являющаяся ровной наклонной поверхностью. Когда арабы поднимаются по ней, они распластываются на ней всем телом и медленно ползут, цепляясь за любую неровность.
Разговаривая с Эстер, Владимиров осматривает окрестности. При взгляде с пирамиды Хеопса: на северо-востоке по направлению к городу полосы зелени сквозят среди следов недавнего наводнения. Муравьиными тропами где-то мелькают дороги. В голубоватом тумане теряются очертания жилых домов, мечетей, минаретов, садов, храмов, дворцов. Горы Шаиб эль-Мокаттам и Цитадель кажутся огненно-красными. На востоке и на юго-востоке тянется долина, в которой широкой лентой искрится Нил. На запад в виде гигантского спуска, идущего от пирамиды, Ливийская пустыня: серо-желтый песок да торчат нагие скалистые возвышения.
Владимиров видит, как к гостинице подъезжает хедив и вместе со свитой заходит внутрь. Спустя некоторое время подъезжает две коляски, в которых Артемий Иванович в бинокль разглядел Ландезена и Ко. Высадившись из экипажей, Ландезен входит в гостиницу, а выйдя из нее, проводит краткие переговоры с шейхом и тот отряжает в помощь своих бедуинов. Ландезен и пр. осматривают павильон окрестности пирамиды и начинают подниматься наверх, чтобы убедиться, что на пирамиде по пути, где будет подниматься Николай, нет взрывных устройств. Вскочив, Артемий Иванович и Эстер пытаются самостоятельно спускаться по другой стороне пирамиды. Мисс Гризли верещит истошным голосом, ничего не понимая. Их догоняют проводники. Владимиров велит им быстрее спустить их. Проводники подхватывают его и Эстер и несут вниз. Гризли не дается проводникам, полагая, что они хотят изнасиловать ее. Спускаются так: один араб разматывает свой тюрбан и обвязывает образовавшееся полотенце вокруг пояса туриста. Двое арабов, держа его за руки, прыгают на ступеньку, а третий за пояс смягчает приземление самого туриста. И тут из-за угла злорадно появляются доктор Смит с Проджером и преграждают им путь. Бурное объяснение, когда доктор говорит, что о месте и времени встречи знал заранее из письма, неосторожно оставленного женой на столе. Он видел, как Артемий Иванович приходил в гостиницу и брал у швейцара письмо на свое имя. Гризли тоже встревает в ссору, и бросив Эстер, переходит в лагерь Смита.
Она будет ухаживать за доктором Смитом, которого любит со времен еще до первой его женитьбы. Она должна капать на Эстер и говорить, что ему нужна такая жена, как Гризли.
Пока производятся разборки, на пирамиду вскарабкивается доктор Гримбл и глядя вниз, узнает, к немалому своему удивлению, Проджера, Владимирова, доктора Смита и его жену. Кричит Ландезену, который еще не поднялся. Владимиров отталкивает Смита и Проджера, и арабы мчат его и Эстер дальше вниз. Доктор Гримбл добегает до Смита и у них тоже происходит объяснение. А Владимиров с Эстер, спустившись, скрываются, убежав по проложенной сыпучими песками дорожке к Сфинксу, который находится в версте от пирамид.
Мамелюки перед битвой с Наполеоном пристреливали по сфинксу свою артиллерию, отбили ядрами часть носа и правой щеки.
Часов в одиннадцать Фаберовский нанимает проводника за пять франков на половину дня и экипаж (парное ландо) по уговору в 2–3 франка в час, которое должно обойтись при расчете на 5–6 часов разъездов 25–30 франков (включая неизбежный бакшиш).
Едет туда специально открыто, чтобы показать, что они всего лишь мирная супружеская пара. Уверен, что Ландезен не станет катить на них бочку, так как выставит себя глупцом. Араб, проходящий мимо, кладет в ухи горящий трут.
— Ялла! — Трогай! — кричит Фаберовский и они с Пенелопой отправляются к мосту Каср ан-Нил. Но тут лошади из-за горящего трута понесли, едва не убив седоков. Мост разведен. Он разводится только на два часа в день. Прямо на коляске влетают в Нил. Выбравшись на берег, сушатся, наблюдают за лодочниками, ссорящимися из-за того, кто пройдет первым.
Продавец воды кричит: «Мои, мои!» Это старик с длинным кувшином за плечами в веревочной плетушке с 2 длиннейшими горлышками. В руках у него две сверкающие чашечки, в которые он позванивает. За пазухой у него заткнуты такие же ярко-сияющие медные бокалы.
Продавцы воды выкрикивают, стуча кружками:
— Я ов вуд Аллах! (что значит: О! Может, Аллах вознаградит меня!)
Другие продавцы воды попроще и подешевле. На них надет сзади через плечо кожаный мешок, весь сочащийся водою, и рукав от этого мешка зажат под мышкой. Из него всякий может пить и наливать сколько душе угодно.
Наконец мост сводят, но одежда еще не высохла и Пенелопа отказывается ехать дальше. Незадолго до полудня в небольшом шарабане появляется Николай со свитой.
Дело близится к полудню. Измученный жарой Владимиров, потеряв всякую осторожность, вместе с Эстер пытается пробраться в гостиницу, но это невозможно. Нет и его драгомана с ослами, чтобы убраться обратно в Каир. Оставив Владимирова одного, Эстер прячется от мужа в гостинице как жилец.
В гостинице в Гизе номеров 12–15. Молодежь забавляется охотою в пустыне за шакалами.
А Артемий Иванович скрывается в пустыне. Они видят, как со стороны гостиницы к павильону подходят шведский принц с женой и хедив. Рядом толпятся туристы, уже знающие, что сейчас приедет русский наследник. В толпе шныряют люди Ландезена, в частности Продеус. При шведском принце адъютант барон Бликсен.
Аллея кончается, шарабан Николая быстрее мчится по гладкой дороге. По бокам ее вырисовываются всадники-бедуины, которые начинают с гиком обгонять вскач шарабан, горячат кровных коней, машут ружьями и значками на копьях.
Проезжают гостиницу «Мена-Хауз». Лошади с трудом тащат экипаж по песку в гору. В 12.05 шарабан подъезжает к павильону императрицы Евгении. Шарабан останавливается. Николая встречает сам хедив со шведским принцем и его супругой.
Филарет отказывается подниматься на языческие памятники. Они напиваются с Курашкиным.
Арабы предлагают свои услуги для восхождения на пирамиду Хеопса. Николай и свита начинают подъем, а вслед за ними и те туристы, кто еще не влезали. Владимиров смотрит со стороны и с удивлением видит бритого Фаберовского, который, воспользовавшись отсутствием Ландезена из опасения того подвергнуться публичному избиению наследником или подвергнуть этому своих людей, вместе с Пенелопой поднимается чуть ниже самого Николая и его свиты.
На пирамиду Хеопса раньше всех всходит Николай. Затем великие князья, шведский и греческий принцы. Великие князья разрешают своим проводникам начертить их имена на камнях.
Здесь Николай впервые знакомится с Пенелопой и разговаривает с Фаберовским. Фаберовский общается с доктором Смирновым.
У пирамид живет фотограф, у которого хранятся фотографии великих князей, побывавших незадолго до февраля 1889 года. Спустившись, все фотографируются. Пападакис предварительно осматривает камеру на предмет сокрытия в ней револьвера.
С пирамиды Хеопса Николай и свита отправились завтракать в павильон (35 человек, некоторые русские лица (в т. ч. Дмитриева), несколько египетских сановников и лица, сопровождающие шведского принца (барон Бликсен-Финеке, граф и графиня де ла Гарди). Николай пригласил Фаберовского с Пенелопой присоединиться к ним.
Фаберовский разговаривает со Стопроценко. Тот дает информацию о дальнейших передвижениях Николая. Поляк предупреждает его, чтобы он не находился во время водного праздника на дхабиях.
Эстер как проживающая в гостинице также приглашена шведским принцем на завтрак. Николай ухаживает за Эстер, а Джорджи за Пенелопой. Ландезен в ужасе, видя обеих дам, которых он знает еще по прошлому роману, и полагает, что они тоже участвуют в заговоре.
После завтрака Фаберовский и Владимиров собираются вместе и решают, что делать дальше. Фаберовский говорит, что предпринимать что-либо сейчас — самоубийство. Говорит, что предвидел это и что Батчелор в Каире должен приготовить лодку к вечернему плаванию. Обсуждение Смита и прочих. Скандал из-за поросенка.
Попытка найти Смита и Ко. и уничтожить. Доктор Смит, Гримбл и Проджер скрываются в пирамиде. Гризли пыталась не пустить поляка с Владимировым внутрь (сама она не пошла), но не получилось.
По уступам взбираются сажен на пять к небольшому четвероугольному отверстию. Ходить одному обычно не дозволяется. Вход в пирамиду широкий с обвалившимися краями, находится на 13 слое камней и в 18 м от земли. Темно, невыносимо жарко, серный дух режет глаза и спирает грудь. Сперва гуськом спускаются по наклонному четырехгранному желобу из отшлифованных камней; на полу, в расстоянии поларшина, насечены углубления в роде ступенек, но и то стертые и годящиеся только для босоногих арабов. Ход не более 1 метра в поперечнике. От обвалившейся глыбы поднимаются другим восходящим коридором в царскую комнату. Колено — самое трудное место, приходится ползти на четвереньках по закопченому узкому каналу; впереди и сзади ползут арабы со свечами. Тишина, иногда лишь летучая мышь начинает метаться, тыкаясь головой в потолок узкого прохода и налетая на огонь.
Пройдя некоторое время по узким темным ходам и едва не подставившись под пули, решено не подвергаться опасности и не устраивать погони в темноте в ходах пирамид. При возвращении и выходе на воздух слышат пальбу. Оказывается, что Николай и свита из павильона вышли на террасу и смотрят «фантазию», устроенную арабским шейхом Мензи — подобие военной игры бедуинов у подножия плато с пирамидами со стрельбой, скачками, набегами и отходами. Встречаются с пьяным Филаретом, который пошел погадить на языческие святыни, и с Курашкиным. Стопроценко в разговоре с Волковым плохо отзывается об умении арабов ездить на лошадях и стрелять.
Затем Николай идет к сфинксу, а Фаберовский и Владимиров с женщинами спешно уезжают обратно в Каир, едва избежав обнаружения Ландезеном.
При восхождении на пирамиду:
Наследник и Георгий Александрович в светлых (серых?) пиджаках, жилетках, котелках, Николай с тростью.
Хедив плотный, бородатый, вальяжный, в черном сюртуке, феске, светлых полосатых шатанах, белой рубашке и белом жилете, в черном галстуке-бабочке, с белым зонтом.
Волков с усами, самый мощный из всех, в сером котелке.
Греческий консул усатый, высоколобый, в темном костюме.
Доктор Смирнов с длинной черной бородой и усами, в черном костюме и широкополой шляпе.
Хуссейн-паша с большими длинными усами, маленьким подбородком, лопоухий, в черном костюме и белой рубахе.
Барятинский высокий, с густой темной бородой и усами, в темном сюртуке и светлом котелке.
Басаргин высокий, с пышными бакенбардами a la Дурново или a la Франц-Иосиф, только покороче, в черном сюртуке и цилиндре.
Дабижа лет сорока, острая бородка, усы, гладко зачесанные волосы, пробор слева, черный сюртук, светлый котелок, трость.
Гриценко худой, среднего роста, с щегольскими усиками, в светлом хомбурге и темном сюртуке.
Кочубей в черном котелке и сюртуке, жилетке, усики, похож на шпика.
Кояндер — густая борода и усы a la Николай II, черный котелок, сюртук.
Ону — очень густые и седые усы и борода средней длины, черная шляпа, сюртук.
Графиня де ла Гарди — в черном, с белой розеткой надо лбом в волосах, с зонтиком, очень надменна (лет 40).
Оболенский во всем черном, с галстуком. Широкое круглое полное лицо, небольшие усики стрелками вниз, показывающие без двадцати четыре.
Шведский принц высокий и худой, длинные усы, напомаженные на концах, небольшая бородка (a la Чехов), мятый светлый костюм, черный галстук и мятая шляпа. Принцесса с розеткой и в черном.
Бриксен — a la Никита Михалков в роли Генри Баскервиля. С пышными усами, в темном котелке, брюках и ослепительно белом сюртуке.
Иванов — шляпа a la канотье, плотная котроткая темная борода и усы, похож то ли на цыгана, то ли на одессита.
Ухтомский невысокий, похож на купца, скуластое лицо, слегка курчавящаяся бородка и усы. Котелок.
Глава 38. Праздник на воде
После возвращения от пирамид Фаберовский с Владимировым оставляют Пенелопу и Эстер в логове, а сами едут в порт к Батчелору. Здесь уже лодка стоит у причала. Вблизи Нил — грязно-бурый.
Они забираются в нее и пытаются разобраться с устройством. Артемий Иванович приляпывает образок Николая Угодника (на слюнях).
Артемий Иванович беспокоится насчет крокодилов. Фаберовский говорит, что крокодилы водятся только выше порогов.
Вверх по Нилу идут барки с турецкими и иногда европейскими товарами, на них толпится масса народа, преимущественно арабы и феллахи.
Барки идут вниз по нескольку штук вместе, под белыми косыми парусами, со страусиными перьями, слоновой костью, черным деревом и лежащими на палубе неграми-рабами из Судана или Дарфура.
Дахабии и большие парусные лодки с рубленой соломой (тиббином).
Обычная грузовая лодка на Ниле очень похожа на лодки, используемые на Женевском озере, неустойчивый, но очень живописный объект. Лодка, загруженная тиббином похожа на плывущий стог, ибо поперек лодки положены доски, которые выступают с обеих сторон и почти скрывают ее из вида. На них построен стог в изумительном порядке, как если бы отрезанный ножом, и никакой ветер, кажется, не способен разрушить его.
Гора вещей, наваленная посреди плоской посудины между неимоверным количеством вант, силящихся удержать мачту с огромным косым парусом. Сзади прицеплена туземная грузовая лодка. «Нуггар» постоянно виден часто загруженым по планширь и его оснастка выглядит мало чем отличающейся от клетки.
Начинает темнеть. Втроем возвращаются к обеду в логово. Окончательно договариваются, как все будет происходить. После обеда к восьми часам вечера возвращаются в порт и спускают лодку. Ночью на реке холодно и довольно сыро.
Делают попытку погрузиться. Доходят до моста Каср ан-Нил и всплывают под ним. Привязывают лодку и Батчелор остается при ней, а Владимиров с Фаберовским возвращаются в логово.
В логове находят связанных, с заткнутыми кляпами ртами женщин. Испуганные Пенелопа с Эстер рассказывают, что к ним ворвались люди, требовали рассказать, где сейчас мужчины и пытались узнать, ведомо ли им про какую-то подводную лодку. Фаберовский догадывается, что это дело рук Какссон, рассказавшей, скорее всего, Гримблу, где они находятся. Дам выводят из логова и владелец кофейни соглашается на ночь приютить их у себя.
Затем оба удаляются под предлогом необходимости обеспечить их безопасность.
Дворец хедива в Гизе. Тенистые сады, высокие ограды, роскошные павильоны. Здесь пребывают зимой и летом бесчисленный гарем прогнанного англичанами Исмаила-паши.
Сад при дворце хедива: длинные аллеи высоких олеандров, залитых вместо листьев курчавыми шапками розовых цветов; вьющиеся дорожки, обнесенные стенками гранитника с цветами, бесконечные ряды громадных агав на красном фоне гераний, пальмы всех видов, магнолии, громадные фикусы, оплетенные ползучими розами, гибкие букеты бамбука в тенистых уголках.
Сегодня дежурил Махмуд и тотчас подбежал в надежде заработать бакшиш, но Фаберовский непререкаемым тоном велел ему убраться прочь. Из номера высунулась Пенелопа и сообщила, что они оделись. Фаберовский взял деньги, сунул их во внутренний карман сюртука, и они вчетвером спустились вниз в холл, удачно не повстречав никого из обитателей отеля.
На ярко освещенном крыльце за столиками сидели люди, но им и дела не было до двух странных пар, одна за другой вышедших из парадных дверей и двинувшихся на улицу навстречу настырным погонщикам ослов, тут же ставших предлагать им съездить за город или поразвлечься с местными красотками. Но Фаберовский взял извозчика с кучером-арабом и они отправились по опустевшим улицам к Нилу. Араб высадил их на песчанном берегу около железного моста.
Батчелор с подводной лодкой уже ждал их, причалив ее у пароходной пристани. Этого места не было видно ни от дворца Каср ан-Нил, ни от английских казарм, а пароход Кука ушел три дня назад. Работы в гавани уже завершились и порт обезлюдел. Через мост то и дело переезжали экипажи с гостями праздника и по освещенной керосиновыми светильниками дороге направлялись к пристани у дворца Гиза, но им и дела не было до того, что творилось у реки. Только львы на постаментах у с обоих концов черной громадины моста, освещенные большими висячими фонарями, могли видеть их — но кому они могли о том рассказать?
— Ты останешься тут, — сказал Фаберовский, пожимая руку Батчелору. — Если все удасться, ты возьмешь наши вещи из гостиницы — вот тебе ключ от номера — и уедешь из Каира в А… Будешь ждать нас там.
Поляк осторожно ступил на горбатую спину сразу закачавшейся на воде подводной лодки и, встав коленями на влажную металлическую поверхность, открыл люк. Изнутри на него пахнуло холодом и сыростью. Сев на край низкой рубки и опустив ноги в черную дыру, он кивком головы попрощался с Батчелором и влез внутрь, пристроившись на место рулевого рядом с оптической трубой. Артемий Иванович перебрался на лодку следующим и спустил Фаберовскому потайной фонарь. Фонарь был зажжен и повешен на ручку маховика. В его свете поляк увидел, как сверху появились ноги Владимирова и энергично засучили в попытке найти опору.
— Ниже спускайся, ниже, — зашипел поляк.
Артемий Иванович утвердился на бронзовом балоне со сжатым газом, находившимся прямо под отверстием люка и служившем спинкой как тем, кто сидел лицом вперед, так и тем, кому приходилось сидеть спиной по ходу движения. Потом, перекрестившись, он словно айсберг, соскользнул на свое место.
Батчелор помог дамам перебраться на лодку и спуститься внутрь, где их приняли Фаберовский и Владимиров.
— Я не хочу сидеть сзади, я хочу смотреть вперед! — заявила Пенелопа, увидев, что оба места впереди уже заняты.
— Я обменяю тебя прямо сейчас на Батчелора, — пригрозил жене поляк и она тут же умолкла.
В последний раз приметив, где какие ручки находятся, Фаберовский приподнялся на сидении и выставил фонарь наружу. Батчелор забрал его, поляк закрыл люк и задраил его, после чего бывший детектив отвязал концы от рымов и оттолкнул лодку от пристани.
Фаберовский не стал спешить погружаться. Он наполнил балластную цистерну нильской водой ровно настолько, чтобы над поверхностью реки торчала рубка с иллюминаторами, а само тело лодки было бы погружено в воду. Они медленно поплыли по течению вдоль берега, пытаясь сквозь иллюминаторы разглядеть, что происходит на левом берегу.
Наконец они увидели цель своего путешествия. К пристани дворца Гиза рядом с древнеегипетским музеем были причалены две придворные яхты, тесно сдвинутые вместе. На всю ширину обеих яхт был сооружен помост с навесом, превращенный в просторный сказочный зал-шатер, убранный экзотическими растениями из знаменитых садов Гезире. Залу пестро озаряли сотни фонарей, спускавшихся с ярко задрапированного искусственного потолка. Вход на сходни к яхтам тоже был весь в зелени, в русских и греческих флагах, цветах и орнаменте из персидских ковров. На судах царило оживление, но наследника и его свиты, судя по всему, еще не было.
Поэтому Фаберовский решил подождать в отдалении, чтобы не привлечь внимание с какого-нибудь из в изобилии находящихся тут иллюминированных судов, и они, заработав педалями, пристали к берегу. Поляк раздраил и откинул люк, впустив вместе с душистым ночным воздухом звуки музыки.
— Это играют кадриль «Турецкие мелодии» Гемеля, — узнала Эстер.
— А теперь «Боккаччо», — подхватила Пенелопа.
— Вам бы только веселиться, — проворчал Фаберовский. — А мы сейчас человека убивать собираемся.
Но знойный аромат арабской ночи был, видимо, настолько силен, что слова его не произвели никакого впечатления, и обе дамы даже стали подпевать, когда оркестр заиграл вальс Вальдтейфеля «Jeunesse dorée». Фаберовский подтянулся на руках и высунулся по пояс из рубки. Он увидел как из дворца, освещаемая факелами, фальшфейерами и бенгальскими огнями, к яхтам приблизилась толпа.
— Ну-ка, пан Артемий, подай мне зрительную трубу, — Фаберовский опустил руку и ему в ладонь лег цилиндрический корпус подзорной трубы.
Поляк приложил окуляр к глазу и направил свой взгляд на яхты. Он увидел, как к сходням подошел наследник в черном фраке в сопровождении своего брата Георгия и греческого принца. Консул Кояндер, которого поляк узнал по густой черной бороде, в котелке и черном сюртуке встречал вместе с женой высокого гостя. Николай галантно взял г-жу Кояндер под руку и прошел на палубу.
— Ну, что там? — затеребил Фаберовского за фалду сюртука Артемий Иванович, который мог довольствоваться только видом через иллюминатор.
— На яхты прибыл наследник, — ответил поляк, возвращаясь на место и задраивая люк. — Пора. Говорят, сюда должен приехать еще хедив и наследный шведский принц. Нам не нужно лишних жертв.
Они отгребли от берега, погрузились под воду и поляк выдвинул наверх свою оптическую трубу, чтобы через ее линзы ориентироваться в происходящем на поверхности. Направив нос подводной лодки под углом к течению, все четверо заработали педалями и двинулись на середину реки.
Их посетили также хедив и наследный принц шведский.
Ряд красиво иллюминированных дахабий (в т. ч. принадлежавшая русскому египтологу Голенищеву) проплыли мимо чертога. Вспыхнул затейливый фейерверк и засвистел над спокойным Нилом.
Сидя внутри лодки, Артемий Иванович просится курить.
Под конец почти вплотную приблизился пароходик с группой греческих артистов-любителей с гитарами и мандолинами. Звуки гимнов. Пение. Пароходик наехал на лодку, все три головы, торчавшие в рубке, разом стукнулись друг о друга затылками.
Ее водоизмещение было около 6 (11?) тонн, длина 5.8 метра. Гребной винт вращали четыре человека с помощью педального привода (скорость 3 узла), сидя спиной к спине. Она была снабжена кормовым поворотным винтом системы Губе, поворачивавшимся в плоскости руля. От оси гребного винта работали два насоса: один воздушный для регенерации, другой для выкачивания водного балласта. Для остойчивости под водой применялись подвижные грузы, перемещаемые по рейкам по длине лодки вдоль ее киля. Вооружение составляли две мины с резиновыми мешками-«присосками», наполненными воздухом, расположенные снаружи в углублениях корпуса и обладавшие положительной плавучестью. При нахождении лодки под неприятельским кораблем мины отсоединялись и взрывались затем током от гальванической батареи по проводам. Воздушный компрессор системы регенерации воздуха (с приводом от гребного вала) прогонял воздух через раствор едкого натра, бертолетовой соли и извести, поглощавший углекислый газ, после чего воздух снова поступал в лодку. К регенерированному воздуху периодически и автоматически добавлялся кислород из бронзового кислородного баллона. Запаса кислорода и средств регенерации воздуха хватало для дыхания в течении 50 часов. Лодка имела в баллоне запас сжатого воздуха под давлением 100–120 атмосфер для продувания балласта. На лодке для рулевого был установлен оптический перископ («оптическая труба») с призмами и с увеличительным стеклом в ее нижней части. Лодка имела в баллоне запас сжатого воздуха под давлением 100–120 атмосфер для продувания балласта.
Николай познакомился с гаремом. Спрашивает у старшего евнуха:
— Давно ли вы состоите на службе у султана (хедива)?
— С тех пор как мне минуло 10 лет.
— И ваш отец был, конечно, также евнухом?
Покушение во время праздника. Через перископ видят Дмитриеву, д-ра Смирнова, Ландезена и Ко. Стопроценко с Курашкиным, пригорюнившись, сидят на берегу и бросают камешки в воду.
В лодке долго плывут около берега, царапаясь о дно.
— И долго мы еще будем раков давить?
Глава 39
25 ноября.
Разговор с лейтенантом Каннингемом. Каннингем просит передать привет его отцу полковнику Каннингему, служащему в Асуане.
Присутствует мадемуазель Дмитриева (т. к. Каннингем также пригласил ее). Очень интересуется Фаберовским. Владимиров говорит, что у того жена и что вообще он сегодня вечером едет в Асуан, чтобы уплыть на пароходе. Рассказывает о вчерашнем налете на их логово.
Батчелору поручается переправить лодку в Суэц, а Артемий Иванович должен привезти вместе с Эстер котел на страусиную ферму и остаться там на несколько дней, а затем поехать в Асьют и нанять судно, но котором догнать пароход Кука.
Оформив вместе с Батчелором доставку в эль-Матарие котла, Артемий Иванович сам приезжает на ферму. Туда же на этом же поезде приезжает Ландезен с арабом и предупреждает г-д Дервьё и Кеноса, что завтра наследник поедет в эль-Матарие к сикомору Мириамм и, возможно, посетит ферму. Ландезен осматривает ферму на предмет охраны наследника и Владимиров, чтобы избежать встречи с ним, напрашивается в помощники к заведующему выводкой. Они идут в отведенное под яйца помещение.
Здесь совершенно темно, стоит огромный ящик сажени три длины и сажени полторы высотой, в нем рядами расположены решетки, на которые накладываются яйца. Ящик наполняется водой, температура которой постоянно поддерживается на 60 °C. Дня за четыре-пять до того, как должен вылупиться птенец, яйца вынимают из воды, укутывают в вату, кладут в металлические ящики очень простой конструкции, на которые непрерывно льется горячая вода. Они вдвоем открывают большой ящик. Заведующий вынимает из ящика яйцо, и приставляет к маленькому овальному отверстию в стене и по мере того, как яйцо ярко освещается извне, оба наблюдают, сами оставаясь в темноте, внимательно определяют происходящий в нем процесс. Затем яйцо укутывают в вату и кладут в маленький ящик, где яйца нагреваются горячим воздухом]. Артемий Иванович тоже вынимает из большого ящика яйцо и тут оно с оглушительным треском лопается у него в руках. Араб объясняет, что это нечаянно попавшее сюда взболтанное яйцо.
В шесть часов вечера Фаберовский с Пенелопой садятся в поезд на станции Булак-Дакур (в предместье столицы на левом берегу). В одном с ними вагоне находится Дмитриева. Извивающаяся туда аллея. Едут в ряде удобных спальных вагонов 360 верст (300) до Асьюта, где полотно заканчивается.
Глава 40. Асьют
26 ноября
Фаберовский, продолжая свадебное путешествие, приезжает чуть свет в Асьют (около 6 часов утра).
Большинство пассажиров вышло на станции, остальных же, не переменяя вагона, провезли до Нила, как раз к пристани.
Главы мечетей и величаво-стройных пальм. Протестантская церковь. Продавцы предлагают изящные трубки — Асьют славится глиняными изделиями. На другом берегу Нила разрабатываются залежи алебастра. Двухэтажные дома, вокруг мазанок предместий лежат на солнце кирпичи из грязи пополам с рубленной соломой.
Город Асьют находится в 2 верстах от Нила, но от него тянутся к реке домики богатых коптских купцов с садиками вокруг в подражание европейским виллам. Длинная большая насыпь, обсаженная широковетвистыми неуклюжими сикоморами, ведет из Асьюта к Нилу. Эль-Хамра, пристань и гавань Асьюта: куча бурых строений на правом берегу. Вдоль берега огромные, толстые сикоморы с иззелено-белой корой и темной, ближе к вершине, листвою. Налево за широкими отмелями густой и развесистый финиковый кустарник.
Все кругом возделано, пальмы, акации, сикоморы.
Вдоль пристани — благодаря конторе Кука и Ко. — нет недостатка в частных пароходах и дхабиях.
Дахабия (нескл. дахабие) — красивые легкие суда с громадными бамбуковыми мачтами. Прекрасно идут как вверх, так и вниз по течению. Кормовая часть его заключает столовую, ванную и несколько (2–3) спальных каюты, часто роскошного убранства; пол их ниже уровня воды и волны близко подступают к широким окнам. Наверху просторная палуба с тентом, уставленная столиками. Кухонная рубка помещается дальше к носу, у мачты с косым парусом. Почти все дахабии имеют английский или американский флаг.
Уже все готово к приезду Николая. У пристани стоят придворные пароходы: лучшая яхта хедива «Фейз эль-Раббани» и конвоирующее судно «Хэхия». Спуск и сходни к придворным пароходам убраны зеленью.
Рядом причалена к берегу какая-то дахабие, откуда нежно и сладостно доносятся звуки рояля.
Из поезда высаживается толпа туристов, которые едут не от Каира, а от Асьюта. Клечатые куртки американцев, ватерпруфы, тропические шлемы с вуалями, связки пледов и пальто с воткнутыми насквозь зонтиками и тростями, всех размеров и видов саквояжи и сундуки на спинах голоногих арабов.
С ними сходит Дмитриева. Она открыто выражает интерес к поляку, чем вызывает ревность у Пенелопы. Среди туристов они видят также Смита с Проджером, и Гримбла с мисс Какссон и Гризли, узнавшими, на какой пароход Фаберовский заранее купил билеты.
На пристани почтовый пароход с колесом сзади. Их строили англичане для своей экспедиции в Судан, чтобы прицеплять по бортам две барки с войсками Потом их продали егоипетскому правительству. Уходит около девяти часов утра.
Пароход «Мазр», идущий до первых порогов. Двухэтажный пароход Кука.
«Мазр» — большой пароход, около 50 кают, занимающих всю кормовую часть. Над ними палуба с подвижным тентом. Здесь раздвижные кресла, на каждом указано, кому оно принадлежит. Носовая часть парохода занята столовой. Кухня и службы посредине рядом с паровой машиной. Пианино в кают-компании.
Команда и капитан — арабы в потерявших всякий цвет военных мундирах, приобретших бирюзовый оттенок от солнца и воды. Капитан-грек Александр, говорящий на всех языках, верткий и угождающий всем господин, два драгомана, говорящие по-английски и по-французски, и 8 матросов на случай, если пароход сядет на мель и его надо будет спихивать. Все остальное время матросы лежат на передней палубе и мурлыкают заунывные арабские песни.
Пароход готов к отплытию, арабы уже перестали таскать с берега уголь в корзинах. На корме парохода красный флаг с белой надписью «Туры Кука».
Звонок, сняли мостки, у руля встал лоцман-араб.
Выставить из каюты на ночь свои ботинки для драгомана.
Команда и капитан молятся на Мекку утром, в полдень и вечером.
Жизнь на пароходе: звонок к утреннему чаю, к завтраку, к обеду и т. д.
Полбутылки сельтерской воды на пароходе стоит 60 копеек (по курсу 1889 года 12.5 франков = чуть более 5 рублей)].
Фаберовский предполагает, что на пароходе непременно будет какой-нибудь человек Ландезена. Присутствие Гримбла, который ехал с Ландезеном и через которого была наводка на логово, еще раз убеждает его в этом, хотя ему понятно, что это не Гримбл, не Какссон и не Гризли. Он подозревает даже Артемия Ивановича, так как ему кажется, что тот непременно при возможности вернулся бы к Рачковскому.
Уже все готово к приезду Николая. У пристани стоят придворные пароходы: лучшая яхта хедива «Фейз эль-Раббани» и конвоирующее судно «Хэхия». Спуск и сходни к придворным пароходам убраны зеленью.
На пароходе Фаберовский встречается со Смитом, Проджером и примкнувшим к ним Гримблом, Встреча бурная, со взаимными угрозами и т. д. Здесь же блюстительница нравственности мисс Гризли. Смит с Гримблом обвиняют поляка в бесчеловечности, в изгании мисс Какссон, и приводят в пример себя, милостиво разрешивших жить рядом с Пенелопой мистеру и миссис Батчелор. В ответ на что поляк открыто обвиняет Смита и Гримбла в попытке покушения и обещает сдать в полицию. Присутствие любопытных пассажиров заставляет прекратить прения. Кроме того, должна быть сцена между Пенелопой, Дмитриевой и поляком.
Глава 41. Покушение на ферме
14 (26) ноября, среда
День рождения императрицы.
С самого утра арабы убирают ворота фермы зеленью и флагами в честь гостей, настежь открывают их. Осень. Плачущее небо. В ноябре здесь редко идут дожди, однако он сильно накрапывает в третьем часу. Артемий Иванович с Эстер (в полинявшем от стирки жаконетовом платье с голубыми цветами при светлой шляпке, гарнированной цветами мака) идут с фермы на станцию. Артемий Иванович наплетает Эстер небылиц про то, чем же они с Фаберовским тут занимаются. Здесь уже стоят придворные закрытые ландо в ожидании приезда наследника. Целая гурьба погонщиков с оседланными осликами. Полицейский, у которого на груди красуется русский орден (получил в год посещения Каира в. кн. Сергеем и Павлом Александровичами). Прибывает экстренный поезд. Эстер хочет присоединится к Николаю, но Артемий Иванович категорически отказывается, так как в свите Ландезен и Ко. Они ссорятся и Артемий Иванович на ослике возвращается на ферму. Ландезен и Ко. допрашивают Эстер, она говорит, что с Владимировым поссорилась и где он — не знает. Ландезен обхаживает Эстер по сексуальному вопросу, а Пападакис исполняет свой профессиональный долг, чтобы узнать, кто она. Эстер обращает внимание на Стопроценко. Волков объясняет, что это казак. Эстер говорит, что любит казаков, и ее бабка тоже любила козаков (Земленухин и Платов). Николай и свита садятся в ландо, Николай приглашает Эстер, и они едут в парк к дереву Богородицы. Выходят из экипажа и под дождем приближаются к невысокой решетчатой ограде, за которой угрюмая сикомора. Присутствует Филарет, рассказывающий легенду о Богородице.
Николай и свита молча осматривают иссохшую, почти безлиственную сикомору. Редкий дождь с тихим шумом падает на землю. Небольшая толпа любопытных собралась у ограды с полицейским во главе.
Обратно на станцию. Погода немного яснеет.
Прибывает кавалькада высоких гостей на осликах. Дервьё и Кенос встречают их перед крыльцом дома. Наследник обходит двор с затворами для птиц, приятно общаясь при этом с Эстер. Ее полинявшее жаконетовое платье кажется свежее от мокроты, но вообще дама в узком облипшем платье внушает сожаления. Кроме того, красный мак полинял, и на платье и шляпе видны слишком ясно следы красной дождевой воды.
Арабы в присутствии посетителей дразнят страусов, мешают им сидеть на яйцах (днем высиживание — обязанность самца), стучат о забор, хлопают в ладоши. Иногда на калитку, ведущую в заграждение для птиц, всей массой наскакивает громадная серая матка и настойчиво вытягивает шею, чтобы клювом достать обидчика.
Наследник брал новорожденных цыплят, жестких на ощупь и похожих на ежей. Директор заведения Дервьё попросил списать свои имена в книгу посетителей фермы.
Покушение с помощью страуса.
Артемий Иванович устраивает открывание двери в загоне, разозлив большого двадцатилетнего самца высотой 3.5 аршина. Ноги его и шея, совершенно голые, наливаются кровью и вместо обыкновенного сероватого цвета становятся красно-малиновыми. Страус нападает на самого Артемия Ивановича. Филарет: «Райские птички в натуральную величину!» Артемий Иванович борется с ним при помощи котелка на палке, потом оседлывает и уносится в пустыню. Из свиты его видит только Стопроценко, который восхищен его мастерством, делясь своим восхищением с Эстер.
В пятом часу Наследник возвращается в Гизу.
Артемий Иванович возвращается и Дервьё требует у него возместить стоимость страуса.
Артемий Иванович едет, разобиженный в пух и прах, в пустом товарном вагоне, так как в ближайшее время нет пассажирских поездов. Находит Батчелора. Он сообщает, что проверил и узнал, что доктор Смит с Проджером и Гримблом еще вчера выехали из отеля. Вероятно, они поехали вслед за Фаберовским. В пользу этого говорит и то, что по утверждению агента Кука люди, схожие с описанными ему Батчелором, действительно интересовались Фаберовским и взяли билеты на тот же пароход. Испуганный таким интересом, агент отказался посмотреть фамилии этих господ. Владимиров собирается пойти начистить морду агенту Кука.
Когда темнеет, Владимиров с Батчелором с минами пытаются пробраться к путям, идущим от станции Булак-Дакур (в предместье столицы на левом берегу), к которой надо идти по извивающейся аллее. По безлюдным улицам проносятся погонщики ослов да мелкие комиссионеры из арабов пристают к подрывникам на улице, предлагая им или «юн-фам» или ночную прогулку за город верхом. Оба доходят до железнодорожного полотна, но по его сторонам сторожевые костры, тысячами расставленные по приказу хедива для бдительного надзора за безопасностью и порядком на линии. Владимирову ужасно хочется взорвать Николая за его шашни с Эстер. Движением руководят те же инженеры, что и при следовании из Исмаилии в Каир. Пападакис озабочен безопасностью пути. Оба вынуждены вернуться на станцию, у которой выстроены войска Гизэсского округа. При фантастическом освещении бесчисленных факелов, несомых феллахами, Николай и свита медленно приходят на станцию. Обер-церемонимейстер Абд ар-Рахман-паша в синем с золотом, в звездах и орденах, обязательно и постоянно в головном уборе, от имени хедива пожелал благополучного пути. Экстренный поезд с удобными спальными вагонами тронулся в Асьют.
Глава 42
За этот день Владимиров должен найти Эстер и помириться с ней. Первая попытка арабов купить у Артемия Ивановича Эстер, когда он привел ее к себе в логово. Они чувствуют, что он не муж ей, потому и торгуются. В АИ просыпается купеческая жилка.
На следующий день вечером Артемий Иванович с Эстер отправляется в Асьют, а Батчелор остается в Каире, чтобы перевезти лодку в Суэц. Прибыв утром в Асьют, Артемий Иванович нанимает там дахабие (с роялем), чтобы догнать Николая и пароход Кука, на котором плывет Фаберовский.
Команда дахабие. Их платье живописно, но едва ли напоминает одеждуматросов; однако, когда они должны идти наверх, наружная одежда снимается. Их около 13 человек, одеты большей частью в балахоны с декольте почти до пупа, в чалмы, один в жилетке. Кормовая надстройка чуть более чем в рост человека, вдоль бортов с нее две лестницы на палубу, перила прорезные в мусульманском растительном стиле.
Глава 43
Сцена, связанная с Фаберовским, Пенелопой, Гримблом и Дмитриевой. Поляк пытается выяснить, кто же из присутствующих на пароходе является шпионом Рачковского. Подозрение в первую очередь падает на Дмитриеву как на русскую со странной биографией и непонятным положением в каирском обществе. Он пытается в разговоре прощупать ее возможные связи с охранкой. Гримбл, увидев их на палубе вдвоем, доносит Пенелопе. Разражается скандал. Пока скандалят, Какссон прокрадывается в каюту и опять пытается отравить вино. Однако Фаберовский на этот раз обнаруживает, что вино отравлено, и пытается заставить выпить его Какссон. Та верещит, на помощь ей бросаются пассажиры, тогда Фаберовский в сердцах разбивает бокал о палубу и что-нибудь угрожает.
Доктор Смит, плывущий на пароходе: «Прекрасное средство от жары — сельтерская вода и капельку рома для вкуса». Англичане в жару совсем не ограничивают себя в воде, пьют ром пополам с сельтерской.
За обед и завтрак на пароходе в 1889 году полгинеи с лица, т. е. по 12,5 франков, т. е. более 5 рублей. Полбутылки сельтерской воды 60 копеек.
Поначалу все стреляют с пароходов по птицам, но бесполезно. Вскоре только при встрече с дхабией или пароходом, под крики «Гип-гип-ура!», пока пароходы свистят и салютуют флагами.
Вблизи Нил — грязно-бурый, вдали отражает голубое небо, а в противоположную сторону один сплошной блик, на который невозможно смотреть. В небе кругами ходят речные ястребы.
Глава 44. Танец Альмей
28 ноября, в пятницу
Пароход Кука подошел к живописному побережью у деревни Луксор (ал-Кусур, «замки»). Над самым берегом стеклянная галерея и вывеска убогой фотографии. Далее покатая к Нилу, омываемая рекой песчаная консульская площадь, в 100 шагах от паоаходов уцелевшая еще массивная колоннада храма Амона (Аменхотепа III): 14 приземистых колонн, на 2/3 погрузившихся в песок консульской площади, справа и слева лепятся вокруг пыльные белые жилища без окон и дверей — полуразрушенные стены из глиняного кирпича вперекладку с пробитыми кувшинами, увенчанные кувшинами же голубятни. Избы, хлевы из соломы и ила, куры, собаки, цыплята, голуби и индейки: все это кричит, кудахчет и летает вокруг колонн священного жилища Осириса.
На пароходе экскурсии:
Гурнэ (в путеводителях Курнэ), гробницы фараонов в скалах долины Бибак эль-Молук, храм Дейр эль-Бахри и Колоссы.
На западном берегу Рамзеум (Мемнониум Рамзеса II), гробницы Шеик Абд эль-Гурне, храм Дейр эль-Мединэ и группа развалин Мединет-Абу.
Луксорский храм, ближайший к гостинице и пристани. Выстроен храм так, что длиной своей он параллелен Нилу. Для защиты его от наводнений возведена была при Птоломеях надежная плотина, вполне сохранившаяся и поныне, у нее находится теперешняя пристань.
Фаберовский поселяется в гостинице для приезжих «Луксор», находящейся на пути к храму. Белые стены, окруженные заросшим миртами и пальмами садом. В саду луксорской гостиницы — пальмы, бамбук, акации, грецкие орехи, лимоны, апельсины, померанцы, рожки, кактусы, алоэ. Щебечут птицы. В луксорской гостинице два служителя, похожих друг на друга: Мохаммед и Махмуд, носят короткие штаны и бумажные рубашки синего цвета. В отеле Луксор имеется лекторий. В отеле есть конторщик. В соседнем номере селится Дмитриева.
— Москов, копт! Кристос, ami, ami, ami! Копт, Ак-падишах, ami, ami!
Поляк больше не желает продолжать путешествие.
На следующий день все отправляются на экскурсию в «долину смерти» (Бибан эль-Молук) (букв. «Царские врата или Долина царей»), в т. ч. Пенелопа (зря что ли платили 5 шиллингов за седла! К тому же она раздражена отказом продолжать путешествие, ее вовсе не радует перспектива ехать дальше на дхабии с Владимировым и мачехой, чем ее пробует утешить Фаберовский). Смит и Гримбл, Какссон, Гризли, а Фаберовский остается, сославшись на недомогание. Делает он это в последний момент, чтобы никто из экскурсантов не мог остаться. Ему нужно остаться в Луксоре, так как возможен приезд Владимирова, а прибытие его и самостоятельное нахождение в Луксоре грозит непредвиденными неприятностями. Дмитриева тоже не едет, так как, по ее легенде, приехала на раскопки в Луксор. Она действительно знакома с французскими археологами, ковыряющимися здесь.
Перевозят желающих на лодках на левый, западный берег. Река двумя рукавами охватывает песчаный остров, мелко и нелегко пристать. На прибрежном обрыве дожидается гурьба погонщиков с ослами. В лодках также привезенные с собой на пароходе горбатые седла для ослов. Лодки останавливаются у песчаного откоса и здесь будут ждать туристов обратно. Дальше едут на отобранных агентом Кука и драгоманами и оседланных для туристов ослах.
После отъезда экскурсии Дмитриева пытается охмурить поляка, признается ему в любви. Ведет его на прогулку.
В храме идут раскопки. Издалека колонны кажутся такими же, как и в других храмах, но поприземистей. Но вот подошли к новому ряду их и за ним обрыв сажени-три-четыре — французы вычистили мусор. В этой части зала колонны обнажились до основания и теперь очевидно, что они так же стройны и легки, как и в других храмах. Выход из храма еще не достаточно очищен от мусора и обломков.
В 1886 году знаменитый профессор Масперо выкупил и снес все хижины внутри Луксорского храма.
В главной зале Луксорского храма, на улице, ведущей к массивным пропилонам, базарная площадь, слева в углу мечеть с минаретом, видимая от берега выглядывающей из-за высоких разрушающихся стен святилища, и грязная лавочка с продажей гвоздей, веревок и мешаной дроби.
Обелиск у входа в первый пилон; прежде их было два, меньший подарен французскому королю Луи-Филиппу и установлен в париже на площади Согласия в 1836 году.
Встречаются с монахом-францисканцем, которому Фаберовский подает милостыню. Она (Дмитриева) просит у него разрешения отлучиться и уходит, сказав, что скоро вернется. Его кто-то сталкивает в раскоп, он не видит, так как к нему подкрались со спины. Затем сверху обрушивается камень. Через полчаса Дмитриева возвращается и кричит его, надеясь, что он не ответит, будучи мертв. «Степан, ты жив?» Но поляк решил схитрить и не отвечает. К тому же он сильно ушибся.
Вернувшаяся с экскурсии Пенелопа, не найдя мужа в номере, заявляется к Дмитриевой и требует объяснить, где поляк. Она подозревает, что поляк не хочет ехать дальше не потому, что его пытаются убить или отравить, во что она не верит, а потому, что решил остаться с Дмитриевой, которая ехала только до Луксора. Та отвечает, что не знает и что думала, что он уехал на экскурсию вместе со всеми. Начинаются поиски. Гримбл со Смитом откровенно злорадствуют.
Вечером, когда темнеет, Фаберовский выбирается из раскопа и пробирается в номер. Он страшен и грязен. Грубо затыкает рот жене, когда она пытается устроить скандал.
Глава 45
17 (29) ноября, суббота
Мошки в Египте с булавочную головку, но после их укуса остается шишка, которая потом лопается и мокнет. С подъемом солнца одолевают мухи, назойливые и верткие, не в пример русским. Египтяне не обращают на них внимания.
К завтраку (в 12.00) пришли яхты с наследником. Дмитриева выходит встречать их и докладывает Ландезену, что с Фаберовским покончено. Николай со свитой пошел осматривать храм Амона. Филарет на этот раз считает долгом пойти и разъяснить наследнику ересь и заблуждения языческие. С ним поспешает Курашкин. В кумирне показывают следы христианской церкви ок. VI столетия. Лики угодников с сиянием у чела не вполне стерлись: сквозь обвалившуюся около них штукатурку как-то призрачно выглядывают древнеегипетские объекты культа. У прежнего алтаря ясно темнеют остатки византийской живописи — полустертые всадники, бархат чьей-то обуви, обрывки греческих фраз.
Здесь встречаются с Фаберовским и Пенелопой. Пападакис сразу же начинает выяснения личностей. Поляк пытается выяснить, кто же столкнул его. К сожалению, песок не сохранил никаких следов. Доктор Смирнов предлагает Фаберовскому осмотреть его. Дмитриева, увидев его живым, в шоке. Ландезен делает ей выговор. Курашкин докладывает о наличие в Луксоре Фаберовского Кочубею и Ухтомскому, тот — капитану яхты Али-бею Абаде. Решают, что Курашкин должен возобновить знакомство с поляком и попытаться выведать у него все, что можно. Наследник со свитой едет на ослах по каменистой тропе в храм в Карнаке (все в чалмах). Пенелопа и Фаберовский едут с наследником в Карнак.
В Карнаке присели отдохнуть. Смотрят на несверженный, подобно собратьям, обелиск. Когда-то был покрыт золотом, привезен из Асуана с извлечением на свет за семь месяцев (более 20.000 пудов). Чудо.
Вдоль дороги Луксор-Карнак изуродованные, поваленные, наклонившиеся сфинксы.
Джорджи и наследник обхаживают Пенелопу. Пападакис предупреждает Джорджи об осторожности. Ландезен пытается убедить наследника и Кочубея, в том, что она террористка, но ему не верят.
Тогда Ландезен отправляется к консулу и пытается договориться с Мустафа-агой об аресте.
Дом консула из пористого камня. Окон много и они довольно велики. Вход крыльцом в 4–5 ступеней. С крыльца стеклянная дверь и рядом два окна. Первая комната длинная, вроде широкого коридора; пол каменный, вдоль стен узкие диваны, также большой деревянный сундук; противоположная входу стена сплошная. Двери направо в кабинет и приемную, большую комнату в пять окон, два по одному и 3 по другому фасаду, кабинет консула на левантийски-европейский лад с портретами царственных особ по стенам. В кабинете книга в полстола, заменяющая всякие «дела», в ней расписываются посетители и делают записи в несколько строк, если хотят. Налево из входной комнаты две двери: первая, ближайшая к входу — в столовую, обставленную широкими турецкими диванами, а вторая в самой глубине, в женскую половину. В столовой посреди стол немалых размеров, круглый, пол аршина в диаметре (35 см).
Его превосходительство луксорский консул.
Мустафа-ага — консул России, Англии, США и Бельгии, старый, как бы поблекший негр с редкой седой бородой, с мутными, как у вареной рыбы, глазами, с расплющенным носом, лишенным вовсе носовой перегородки и несколько объеденным по краям. (Рваные ноздри?). На Мустафе-ага шаровары и халат кофейного цвета. Его сын Ахмет-Мустафа (р. ок. 56 г., мулат) обучался два года в Лондоне, и молодой племянник консула Мустафа Саид.
Мустафа-Ага был нештатным консульским агентом, последняя ступень в дипломатической иерархии на Востоке.
Высокий, красивый, видный, одетый по-европейски; цепочка с брелоками, перстни на пальцах, чистота и модный покрой жилета — русский консул.
Консульство перешло Мустафе-ага по наследству, он консулом уже 30 лет.
Угощает кофе, щербетом, вареньями.
Ахмет-Мустафа — сын Мустафы-ага, 34 года, разговаривает по-английски (учился 2 года в Лондоне). Обращается к русским как к «соотечественникам».
У Мустафы-ага также еще два сына: Мустафа-баша ибн Мустафа-баша, 24 года, и Амин-баша ибн Мустафа-баша, 22 года.
Старшему сыну 49 лет, он вице-консул (или брат?)
Люди луксорского консула частью уроженцы Судана, частью принимавшие участие в экспедиции против Махди.
Подслеповатые глаза Мустафы. Говорит, растопырив в воздухе все 10 пальцев. Отказывается арестовывать английского подданного из-за боязни скандала.
Начальник местной полиции. Полицейский: коротенькие светло-голубые курточки, обшитые золотым позументом, и того же цвета брюки; нижняя часть ноги покрыта белыми штиблетами; сапоги огромные, толстые, в руках у каждого длинная, порядочной толщины бамбуковая трость. На левом боку тесак, на голове красная феска.
Обыск в каюте Фаберовского на пароходе поводов к аресту не дает. То же самое и в номере гостиницы. Присутствует Дмитриева, руководит обыском в номере. Ландезен говорит, что с поляком надо покончить сегодня ночью, раз он и наследник встретились в одном месте, что удобно для покушения. Ландезен пытается посягнуть на Дмитриеву, но у той револьвер.
Стопроценко разговаривает с Фаберовским. Это замечает Курашкин, но никому пока не говорит, решив проверить свои подозрения.
Николай и свита вернулись к яхтам. Толпа вдоль побережья начинает редеть. Николай заехал к русскому консульскому агенту Мустафе-ага, где пили кофе. На Мустафе, при чалме и феске, было мундирное полукафтанье английского ведомства иностранных дел, украшенное звездой Меджидие 4 степени. Консул заказал особую молитву в мечети.
В Луксор приплывают на дхабии Владимиров и Эстер. Оба изрядно пьяные. Их встречает Фаберовский. Пенелопа вместе с наследником в это время приглашена к консулу. Но поляк отказывается, так как боится пропустить Владимирова.
Фаберовский с Владимировым ходят по Луксору, смотрят яму. Они встречают монаха-францисканца, поднимающегося от Нила и направляющегося к монастырю. Фаберовский спрашивает его, не видел ли он вчера, примерно в то время, когда он подал ему милостыню, кого-нибудь в районе храма. Тот отвечает, что видел служителя гостиницы, Мухаммеда. Звон колоколов к обедне вынуждает монаха поспешить. Два нищих поливают из черных козлиных мехов подобие мостовой — узкое пространство между руинами и рекой. На реке двухэтажный пароход компании Кука. Солнце садится, все кругом окрашивается в мертвенно-серый оттенок. Легкий голубоватый туман крадется за Нилом по равнине к черным, резко очерченным скалам. Из-за гор всплывает месяц. Встречаются с Курашкиным. Курашкин с Владимировым идут к нему на дхабию и напиваются, потом идут в Луксор дебоширить. Гоняют по улице кур и всячески безобразничают, пока за одной из колонн у мечети Курашкин не падает пьяный и не засыпает.
Эстер приходит в номер к Пенелопе. Та жалуется на мужа. Явившийся Волков приглашает дам на обед на яхты (уточнив, что желательно без мужчин).
Фаберовский возвращается в гостиницу и видит, что Владимирова по пути на дхабию перехватывает Дмитриева и они вместе идут к нему. В номере габонская гадюка. Он успевает заметить ее и остается жив.
После обеда в 19:00 Мустафа-ага пригласил Николая на вечер с фантазией или, как говорил Мустафа-ага, «авек ун фантазы», т. е. с танцами альмей. Николай идет тайно посмотреть на танцы голых луксорских альмей, которые считаются лучшими танцовщицами. Пападакис стоит у дверей с ружьем, охраняет Джорджи.
В Каире альмей нередко притесняет полиция и лучшие из них перебираются во время сезона туристов в Фивы.
Альмеи: надменная, стройная как пальма нубиянка, прозванная туристами «Савской царицей»; сказочная красавица арабка; нечеловечески ловкая и лишенная грации негритянка.
Сам Мустафа-ага на весь Египет славится своим радушием и пониманием в хореографическом деле. Мустафа-ага сменил форменный наряд на шаровары и халат кофейного цвета, рассаживает одних по стульям, других по диванам-тюфякам.
На полу ковер, на землю помещают масляные горелки. На полу в соседней комнате сбились в кучу музыканты, с круглой однострунной скрипкой (кэманэ), балалайкой, бубном, дудкой, лютнею и двумя небольшими глиняными барабанами (дарабуками).
Танцовщиц у Мустафы-аги много, различных возрастов и различных цветов кожи. Вайнберг упрашивает консула разрешить и ей поучаствовать в танце, надеясь соблазнить Николая. Платья танцовщиц красные с черным, почти сплошь покрыты заработанным золотом: фунтами, наполеонами, дукатами, полуимпериалами, новенькими трехрублевиками, на шее золотое монисто из монет, а с головы на спину и плечи спускается особого рода унизанная червонцами сетка. Волосы у иных заплетены во множество мелких косичек, перевитых золотыми блестками, на подбородке синеет татуировка. У танцовщиц подведены глаза и окрашены в желтое ногти, имеются жестяные кастаньетки, издающие резкий и скорее неприятный звук.
Яркая полосатая шелковая юбка и расшитая позументом куртка, одетая нараспашку поверх белой рубашки. Старухи сильно подкрашивают ей глаза и брови, покрывают смуглые щеки слоем румян, а ногти на руках разрисовывают красным хеннэ (растительным порошком).
Две из альмей (гхавази), пожилые и полные женщины, вышли на сцену последними и сели рядом с музыкантами. Остальные развязно подошли к зрителям и пожали каждому руку.
Музыканты ударили в смычки, старухи запели, закатив глаза и откинув голову назад. Танцовщицы двинулись вперед, пощелкивая и позванивая своими крохотными кимвалами. Плечи и бедра вздрагивают, ноги почти прикованы к месту. Музыка нестройная, такт отсутствует. Гавази покачиваются, вяло поднимают и опускают руки, пристально поглядывают на зрителей. Иногда переговариваются между собой, перекликаются с музыкантами, заунывно и нескладно начинают что-то напевать. Плавность движений совершенна. Ставят на голову бутылку с зажженной свечой, кружатся, сложив руки на груди, садятся, почти навзничь опрокидываются, держа темя неподвижным — и пламя едва колеблется, бутылка даже не наклоняется, кастаньеты все так же стучат. При танце танцовщицы выбивают из ковра тонкую песчаную пыль.
Затем начался танец пчелы (нахлэ). Танцующая делает вид, что ей в платье попала пчела, и старается отыскать сердитое насекомое, которое где-то жужит, но неизвестно где. Не находя пчелы, танцовщица постепенно раздевается, отряхивает и обыскивает различные части своего туалета; наконец, скинув последнюю рубашку и убедившись, что пчела давно улетела, обрадованная, предается бешеной пляске… но, спохватившись, что она раздета, спешит, однако, не сбиваясь с такта и не переставая танцевать, одеться. При этом в танце алмеи выделывали разные штуки со зрителем. По окончании, когда танцовщицы прощаются, зрители намачивают языком несколько пиастров и прилепляют на шею или лоб отличившимся танцовщицам.
Всякие штуки со зрителями. «Они разделись и проделывали все в костюме Евы. Давно мы так не смеялись, при виде этих темных тел, которые набросились на Пупи (Георгия). Одна окончательно присосалась к нему так, что только палками мы освободили его от нее.»
Чтобы избавиться от опеки Барятинского, Николай говорит, что с ним пойдет Филарет. Филарет идет, должный «уберегать наследного помазанника от беса». Волков, смотря на него, злобно говорит, что у священников специально такая форма, чтобы ничего заметно не было. Ландезен пристает к Эстер, но Волков быстро ставит его на место, не слушая возражений про то, что она террористка. Волков приходит на дхабию к Владимирову, где тот сидит с Дмитриевой, и говорит, что его даме следует прогуляться с наследником наедине. Во Владимирове просыпается его купеческая наследственность. Пьяный АИ говорит, что арабы предлагали купить ее у него. Волков соглашается. Артемий Ив. хочет три рубля, а получает пятнадцать.
После танцев Николай уединяется с Эстер.
Ландезен пытается охранять Николая и получает по морде.
Оболенский делает Николаю выговор.
Фаберовский едет на охоту на шакалов в Карнак. В Карнакском харме или возле него англичане любят охотиться на гиен и шакалов, которых собирает сюда падаль, вывозимая арабами соседних деревень. В этой же компании едет доктор Смирнов, егермейстер Барятинский, стонущий постоянно, Стопроценко, Голенищев. Следом едут Смит, Гримбл и Проджер.
Поездка ночью в Карнак. Луна еще не всходила и дорога совсем почти не видна. Не отъехали и полуверсты от Луксора, а в воздухе уже все замерло — ни звука, ни шелеста ветерка. Иногда попадались пальмы, но вот впереди сумрачно и высоко поднимается в небо какая-то темная масса: это первый исполинский пилон. Вот вступили в серединный проезд; глухо отразились от стен его звуки копыт осликов и таинственно глядело темное пространство первого двора. Въехали туда и спешились.
В Карнаке как привидение бродит неизвестно как забредший туда Курашкин. Фаберовский пошел к нему.
(Особенно красивы при луне заваленные мусором проходы пилонов боковых храмов с разросшимися на них пальмами; сквозь возносящиеся к небу ветви этих исполинов прорываются таинственные тени; они то движутся навстречу нам, растут и словно хотят охватить и заполонить нас, то вдруг быстро, словно боязливо трепеща, удаляются от нас и исчезают).
Раздается протяжный, жалобный стон.
Устраивается стрельба. Фаберовский отлучается от основной компании и выуживает из Курашкина разные сведения, когда по нему прицельно начинает стрелять вся троица. Фаберовский тоже отвечает им выстрелами, а Курашкин убредает в темноту.
Араб несет убитого зверя.
— Дэба, азим-дэба, большая гиена! — кричат арабы.
После охоты арабы не хотят отпускать охотников. Сев в гробнице на пол перед миской с буйволовым молоком, хлебаем его, черпая поочередно рюмкой с отбитой ножкой, выпили затем лимонаду из душистых зеленых лимончиков и закурили папиросы, в которые Хейраддин накрошил гашишу. Араб учит, как следует, затягиваясь, жмурить глаза.
Когда они возвращаются все в Луксор, Пенелопа делает ему (Фаберовскому) при Эстер выговор. Ночная прогулка по широкой террассе гостиницы, куда выходят двери комнат. Тепло, воздух насыщен запахом роз и померанца; тихо так, что лист не шелохнется. Тот рассказывает про габонскую гадюку, которая здесь не живет, и про стрельбу в пустыне. Она не верит. Эстер уходит к себе.
Эстер возвращается на дхабию и застает Владимирова и Дмитриеву вместе. Та как раз намеревалась отравить Владимирова и подмешала в вино яд. Вместо отравления выходит скандал.
Глава 46
18 (30) ноября, воскресенье
Прохладное утро.
Фаберовский обнаруживает, что прислуга в отеле сменилась и Мухаммеда нет. К нему прибегает Владимиров и говорит, что у него на дхабии лежит при смерти один из арабов его команды. Фаберовский с Владимировым приходят на дхабию и допрашивают араба. Тот рассказывает, что тайком выпил вино (при этом капитан дхабии говорит, что это его покарал Аллах). Фаберовский предлагает капитану промыть больному желудок, но выражает неуверенность, доживет ли тот хотя бы до полудня. Спрашивает, кто был у Владимирова на дхабии. Тот все отрицает, даже присутствие у него Дмитриевой. Говорит, что они расстались перед сходнями, ведь не мог он изменить своей Эстер! Фаберовский говорит, что возможно, это дело рук Какссон, хотя ему казалось, что сперва она хотела отравить только Пенелопу, а не Фаберовского с Владимировым. Но все так быстро меняется! Идут за доктором Смирновым, но когда тот приходит на дхабию, он просто констатирует смерть.
На придворных яхтах встали в 6 часов.
Чтобы оградить Николая и пр. от нападения ослятников, капитан яхты с командой, полицмейстер и Ландезен должны заранее совершить туда к ним рейд и прибить их.
На противоположной стороне от деревни Луксор находится Бибан-эль-Молук («Долина или Врата царей»). Николай со свитой на лодках едут на левый западный берег. Все с тропических шлемах с хвостиками. Николай лично приглашает Пенелопу и Эстер сопровождать его.
Фаберовский выговаривает Пенелопе, что та не должна ездить без него, ведь он все-таки муж. На что та пеняет ему за Дмитриеву и за вчерашнее отсутствие со враками про гадюку и стрельбу. Эстер поддерживает падчерицу. Ландезен едет охранять наследника, оставив в Луксоре Продеуса с поручением попытаться избавиться тихо от Владимирова и Фаберовского.
Река двумя рукавами охватывает песчаный остров. Мелко и нелегко пристать. На прибрежном обрыве дожидается гурьба погонщиков с ослами. Дальше амфитеатром вырисовываются угрюмые Ливийские возвышенности. В стороне от берега виднеются какие-то развалины; две глыбы исполинских изваяний выделяются в прозрачном воздухе среди равнины, простирающейся к руинам.
По бокам извивающейся дороги, вдоль почти сухого рва, живописной вереницей бегут девочки с кувшинами на головах.
Девочки-водоносы в Луксоре. Одной лет 10, другой 11. Обе босые, в длинных черных платьях, с черными же покрывалами, падающими назад, на плечи; цветные бусы голубые, красные, желтые, белые висят на шее. Обе худощавы, стройны. Путешествие займет 7–8 часов, и девочки побегут следом с кувшинами. Ослики едут рысцой.
Путь идет сначала по песчаному дну реки. Потом взбирается на остров, низкий, тоже песчаный, — обыкновенную нильскую отмель, — затем переезжают проток Нила, в некоторых местах даже по воде, и, наконец, взбираемся на берег, на нильскую долину, каждая пядь которой обработана.
С полчаса едут среди посевов, вызревающей пшеницы, арбузов, огурцов и лука. Изредка попадаются группы пальм, чаще тамариск и касторовое дерево; последним в одном месте усажена тропинка на полверсты и более.
Проехали деревню и за ней канал. Опять поля. Снова перебрались через проток реки и затем сразу очутились в пустыне.
Горы ближе. Окрестности глуше и пустынней. Справа нестройной массой белеют остатки какого-то сооружения вроде храма. Сопровождают египтологи Эмиль Бругш и В.С. Голенищев, которые дают ответы.
Николаю неудобно перед Эстер и он старается больше с ней не разговаривать. Его также смущают укоряющие взгляды Оболенского. Джорджи сперва опять подкатывает к Пенелопе, но та отвергает его — ей больше нравится Николай. Тогда он начинает приударять за Эстер. Огрызается на предостережения Пападакиса.
Дикая долина, быстро сужавшаяся впереди. Дно долины твердое, чуть-чуть прикрытое тонким налетом серого песка и густо усеянное камнями разной величины, от куриного яйца до самой крупной тыквы.
Подъем становится круче, а долина все уже и уже. Вот поворот. Отъехали немного и очутились в замкнутом со всех сторон пространстве. Через угрюмое и узкое ущелье въезжают в «долину смерти». Мрачная пустыня, где нет ни деревьев, ни травы. Кругом изборожденные рытвинами, обрывами, пропастями горы. Ни малейшей растительности или почвы. Глина, кремни, известняк. Солнца не видно за гребнями окружающих высот.
Обнаженные желтоватые горы сдвигаются по сторонам. Темные полосы многочисленных извилин сползают здесь и там к бесплодному подножью. Тихо. Даже ослики беззвучно идут гуськом. Разговоры сами собой смолкают.
Жар разгорается. Чем дальше, тем хуже дорога и уже долина.
Бибан эль-Молук принадлежит извивающейся между каменных кряжей узкой долине, которая верстах в трех от своего устья за очередным поворотом разветвляется на два отрога; каждый заканчивается глубокой котловиной, и тут-то в почти неприступных скатах высечено 25 могильных пещер. Дорога здесь раздваивается надвое, горы над нами становятся ниже. «Это, — говорят нам, — тропа к старейшим местным гробницам».
Они пронумерованы известным египтологом Гарднером Уилкинсоном. Долину было бы правильнее назвать ущельев: основания утесистых гор сходятся так близко, что в иных местах двоим нельзя проехать в ряд, и, кроме неба да камня ничего не видно — даже песку нет; тропинка, пролегающая змейкой на дне, угадывается по сглаженным осколкам. Караван растянулся далеко, и вследствие бесчисленных изгибов теснины, ни спереди, ни сзади не видать товарищей. Едешь один, палимый зноем и мучимый жаждой. Гробовую тишину будит только негромкий топот ослиных копытец да своеобразные понукания.
По узкому каменистому пути бок о бок с ослом мчится девочка-водоноска: рубаха, достающая до середины икры, темная юбка, накинутая сзади на голову и так хитро прихваченная, что не скрывает ни ушей, ни шеи. Вместо серег медные кольца, унизанные большими бусами, и ожерелье из маисовых зерен. Ноги босые. Водоноска берет деньги без улыбки, не как подарок, а как заработанную плату и, поцеловав их, прячет за щеку.
Ущелье пустило от себя отрог вправо, затем прозмеилось еще версты полторы и кончилось, разбившись на несколько исполинских каменных оврагов. В этой-то неправильной котловине находится 21 гробница (остальные 4 высечены в правом отроге). Входы размещены невысоко над уровнем дола, впрочем, снизу их не видать — они скрываются в каменных складках.
Останавливаются у одного «бабб» (входа) перед гробницей № 17. Предстоит спускаться по длинной, довольно крутой лестнице при свете несомых феллахом огней. Николай и прочие сходят по ней в могилу Сети I, считающуюся красивее других. Ее владелец лежит в занавешенной сколько возможно витрине Гизэсского музея в Каире. (Дамам может быть стыдно, что они не бывали в музее из-за своих кавалеров). Гробница была открыта в 1817 г. путешественником Бельцони.
Осмотр гробниц крайне утомителен: без конца спускаешься в земную глубь по завалившимся лестницам, переводя дыхание лишь в редких промежуточных комнатах. Воздух душен и тяжел, поднятая многочисленным обществом пыль выедает глаза; плоские, точно отщербленные от стен и сводов осколки, точно битые блюда, неприятно гремят под ногами; что ни шаг, мелкие камешки обрываются и стремятся вниз, в темную глубину, того гляди полетишь туда и сам, а тут еще следующий турист каплет на вас стеарином. И едва успеваешь мельком взглянуть на стены.
Огни несут впереди. Не только жарко, но и душно. Давит. Дойдя до высокого зала с неуклюжими толстыми столбами, узнаешь, что ниже еще обрыв, с чувством отвращения видишь, как сверху срываются и с писком реют летучие мыши. Факел выхватывает изображения на стенах.
В душном полумраке подземелья прислушиваешься к толкованию египтологов, что здесь отысканы, между прочим, письмена, говорящие об ужасном истреблении рода человеческого разгневанным божеством.
Желтый алебастровый гроб Сети был увезен Бельцони в Лондон, а тело владыки недавно отыскано среди соседних гор. Кроме начертаний смотреть нечего.
При обеднении Фив и приближении к падению стали появляться грабители гробниц и жрецы спасали царские божественные мумии от осквернения, тайно вынося мертвецов в недалекие пещеры и забывая о них или не успевая направить своих преемников на священный след.
Крайне разговорчивый и воодушевленный консерватор Гизэсского музея Бругш-бей занимательно рассказывает о том, как ему, первому из египтологов в 1881 г., посчастливилось увидеть мумию Сети I — в уединенной котловине, среди десятков тел, когда-то снесенных жрецами в общую усыпальницу и случайно отысканных несколькими арабами. Хотя и братья, они, наживаясь от распродажи найденных редкостей, поссорились. Старший выдал (или, точнее, продал за 500 фунтов) секрет властям, которые тотчас наложили руку на находку как на государственное достояние, откровенного же туземца возвели в звание надсмотрщика за здешними древностями.
Вот он перед нами — Мохаммед Абд-эр-Рассул — в простой чалме, в простом кафтане, проницательно вглядывающийся в присутствующих. Когда Бругш-бей вез найденных мертвецов в Каир, на железной дороге будто бы пришлось брать для них «билеты первого класса».
Шествие далее, к № 11 — Рамзес III. Довольно покатый спуск в глубину. Снова рассказ, как именитый усопший плыл через ночь к заре и конечному блаженству.
Просители около гробниц — взрослые феллахи.
Несколько воронов нетерпеливо каркают в вышине по скалам — туристы обычно у гробниц завтракают (но не так на этот раз).
«Из ущелья возвращались не прежней дорогой, а перебравшись целиком через кряж, отделяющий «Долину смерти» от равнины Фив (у подножия кряжа с противоположной стороны стоит храм Дейр эль-Бахри). Извивающаяся вдоль гор песчаная тропа, усеянная, впрочем, преострыми камушками, до того обрывиста и узка. На каменную кручу пришлось подниматься пешком; ослы и без седоков с трудом втаскивались и подсаживались погонщиками. Сверху, с зубцов естественной в 1000 футов стены, огибающей северо-западный угол равнины, открылась обычная чудная картина зеленых нив, плесов реки, каналов, пальм и песчаных полей, усеянных развалинами Древнего Египта. А позади зияет только что покинутая Баб эль-мелюкская теснина, во глубине которой можно различить…»
День близится к полудню, и потому чувствуешь себя просто расплавленным в окружающей атмосфере. Якобы египетские жрецы считали веер эмблемой счастья.
Перевал кончается. Тропа направляется вниз. Обнаженные возвышенности понемногу уступают уылыми отвесными громадами к покинутой нами «долине смерти». Перед глазами расстилается зеленоватая неровная поверхность, с разбросанными по ней памятниками старины, недоразрушенными храмами, изуродованными и уставшими жить колоссами.
Дейр эль-Бахри стоит еще в пустыне, среди возделанных полей (в расстоянии полуверсты около пальмовой рощи) находятся одни разукрашенные пропилоны. Кругом Дейр эль-Бахри реют ласточки серо-желтого цвета.
Мы снова едем верхом к этим древностям. Террасы святилища. Состояние внешних развалин плачевно, а в горе сохранились удивительно.
Грандиозная постройка (в проекте реставрации французского архитектора Брюна).
Дейр-эль-Бахри, «Северный монастырь», — коптский религиозный центр, от которого уцелели невзрачные глинобитные стены.
Груды обломков обезображивают некогда просторную, гладкую и окаймленную коллонадами террасу.
Жара начинает быть невыносимой. Отдохнув несколько минут в соседней к сооружению скале, где прежде, кажется, находилась маленькая коптская церковь, снова приступили к осмотру древностей.
От замечательных колонн остались одни обломки, на которых отчасти уцелели краски. Длинные стены, сохранившиеся от верхней части храма, там, где над ним уже отвесным обрывом довольно близко спускается желтоватая обнаженная гора, и затем пониже, раскрашены сравнительно хорошо уцелевшими начертаниями.
«Сопровождаемые по прежнему гурьбою маленьких туземных девочек-водоносиц с бархатными глазками газелей», окруженные постоянно возрастающей толпой торговцев древностями сомнительного происхождения (какими-то кусками мумий и их раскрашенных гробов, статуэтками, скарабеями и т. д.), подъезжают к развалинам «Рамессума», где назначен довольно продолжительный привал и прислуга с яхты торопливо накрывает завтрак.
Среди массивных столбов, покрытых профилями оцепенелых фигур, импровизированная «столовая» с видом на равнину и горы, на собравшееся окрестное население и обломки минувшего величия. Веселый разговор и пр. все чаще слышатся меж сумрачных развалин. Толпа туземцев смелее придвигаются к трапезе. «Чубукчи» хедива, следующие за высочествами по Верхнему Египту, подают им те же самые трубки (с инкрустациями), которыми правитель страны, уже в первый день приема в Каире, угощал вел. князей.
Придворные «чубукчи в черном подают предлинные чубуки из сандального или вишневого дерева с блестящими подставками для самих трубок. Чтобы не погасли, преклоняют колена. Янтарные мундштуки с алмазными инкрустациями.
Пора собираться в обратный путь.
Перед самым Рамессумом, где длилась желанная полуденная остановка, лежит расколотый на части гранитный колосс, некогда изображавший царственного воителя, в память чьих подвигов сооружался этот храм. При фараонах одна из дверей его была золотая. Каменный исполин восьмисаженный у главного входа имел лицо в сажень ширины, грудь в 3,5 сажени от плеча к плечу, и т. д. Теперь от низверженного Рамзеса остаются обломки. Центральный зал святилища, считавшийся местом появления богини Хатор, служит целью прогулок для туристов.
Осматривают изображение битвы. Египтологи обращают внимания на одну уцелевшую в Рамессеуме подробность: после изображения битвы изображен князь города Алеппо, вытащенный в бессознательном состоянии из реки. Его держат головой вниз, чтобы изо рта хлынула вода. Краски все еще уцелели и можно различить, к какому племени принадлежал пострадавший: волосы и борода у него со светлым, рыжеватым оттенком, глаза голубые.
Неровными тропинками направляется дальнейший путь к старому коптскому селению Мединэт-Абу. Около одной древней постройки туземные дети, собравшись в кружок, проворжают Их Имп. высочеств пением.
Отъезжая и от этой достопримечательности, постепенно приближаются к реке для обратной переправы. Единственная остановка по дороге у пресловутых колоссов, когда-то украшавших бесследно исчезнувшее святилище Аменхотепа III. Они их мокаттамского плитняка, изуродованы, довольно бесформенны.
Попытка Продеуса избавиться от Владимирова. Гризли и доктор Смит знакомятся с Продеусом. Гризли очарована русским богатырем. Все кончается как-нибудь невероятно, вероятно, также при помощи Курашкина.
В 16.00 Николай и свита вернулись на яхту. Ландезен общается с Дмитриевой и Продеусом. Курашкин подслушивает. Дмитриева обещает, что вечером по крайней мере с поляком будет покончено. Продеус же обещает прикончить Владимирова.
Пароход уходит из Луксора, увозя Смита с компанией, а так же Дмитриеву, которой нельзя оставаться в Луксоре, так как Мухаммед должен заколоть Фаберовского.
Пенелопа удовлетворена тем, что Дмитриева исчезла. А Фаберовский удивлен, так как считал ее агентшей Ландезена. На пароходе она все равно не сможет приехать в Асуан раньше их!
Под вечер Эстер с Пенелопой отправляются гулять на набережную. В 19:00 Фаберовский замечает появление Мухаммеда. Он догадывается, что, возможно, с этим связан отъезд Дмитриевой. Мухаммед пытается заколоть Фаберовского кинжалом, но выходит обратный эффект. В это время Николай со свитой идет к Мустафа-аге. При проходе через через заросший миртами и пальмами сад Луксорской гостиницы хозяин вручает венок. Немного выпили. Фаберовский желает наследнику здоровья и благополучия, а также хозяину отеля и всем его служащим. Идут дальше к консулу.
Консул приглашает занести в большую книгу итог охоты. Фолиант заключал множество всяких крупных и бисерчатых записей, например: «Mr. and Lady Elizabeth Z. Melchior Carter and Miss Carter, on their return from Wadi-Halfa shot three crocodiles, but two of them, got away into the river, and the third one was also lost (при обратном следовании из Вади-Хальфы застрелили трех крокодилов, но два из них ускочили в реку, а третий тоже пропал).
Двери дома убраны пальмовыми ветвями, а на веревке, протянутой над песком между ближними деревьями, горит десятка два цветных фонарей. Такие же фонари висят под потолками приемных.
Пришел местный доктор-араб, затем начальник местной полиции, затем губернатор луксорского округа, брат (сын?) консула (His Exellency the Governor of Luxor). Он занимает особый дом в конце деревушки и скорее старшина в сюртуке — мрачный, суровый, почти свирепый, оливковый (49 лет), но под этой маской скрывается болезненная застенчивость.
В 20:30 выходит в кабинет, где собрались все гости, слуги-арабы в белых рубахах и чалмах и в синих балахонах и раздают каждому по полотенцу «футб», а через минуту хозяин приглашает гостей в столовую. Перед входом в нее стоят двое арабов: один держит таз «тишт» с крышкой, в верхней части которого в особо для того украшенном углублении лежит мыло; у другого в руках нечто вроде большого чайника «ибрик». И таз, и чайник из желтой меди с рисунками, вырезанными на металле; обе вещи очень изящные. Приглашают приступить к умыванию.
«Один араб красивым движением снял крышку с таза, а другой стал поливать водой из чайника; умывали над тазом руки, которые обтирали полотенцем и брали его с собой.»
Затем все переходят в столовую. Столовая — довольно большая комната, где уже при отсутствии сидений гости по восточному рассаживаются вокруг маленьких и низеньких столиков (наподобие табурета) с перламутровой инкрустацией, орнаментом из слоновой кости и тонкой узорчатой резьбой (круглый, весьма немалых размеров стол, примерно аршина полтора в диаметре). За спину подкладывается подушка.
Николай, Георгий и часть лиц помещаются с хозяином у одного столика. Остальные весело садятся где попало у следующих.
«Вереницы слуг ставят на столы без скатерти огромные круглые медные подносы такой величины, что из-под них совсем не видны столы. Весь поднос покрыт очень хорошо вырезанными на нем рисунками; края около вершка высоты и изогнуты, как гофрировка дамской кофточки; на краях этих тоже рисунки. Поднос матовый и вычищен превосходно. Места гостей обозначены лежащей у краев подноса напротив каждого места четвертушкой круглого тонкого серого хлебца, обыкновенной серебряной ложкой и другой ложкой костяной, очень тонкой и длинной. В трех местах стоят на подносе блюдечки с салатом из огурцов.» (У Ухтомского из приборов только деревянная ложка).
«Полотенца кладут на колени. Слуга-араб ставит в середину подноса маленькую мисочку с какой-то красноватой жидкостью — это чорба, суп из голубей и баранины, приправленной томатами (помидорами). Каждый берет его своей ложкой из общей миски. Суп вкусен. Кончив суп, гости обтирают свою серебряную ложку кусочком хлеба и, смотря по желанию, или отправляют кусочек этот себе в рот, или кладут на поднос у края его. То же повторялось после всякого кушания, которое ели ложками, ложки же не переменялись.
Второе блюдо бинза — кругленькие маленькие лепешечки, величиной с наши старинные трехкопеечники николаевского чекана. Лепешки эти сделаны из рису, приправлены луком и перцем и сильно обжарены на бараньем сале.
На третье блюдо подали четырех вареных голубей. Хозяин собственноручно разрывал их на части и подавал по куску каждому из гостей. Кости и остатки складывали тут же, на подносе, каждый у своего места.
Четвертое блюдо картофель в бараньей подливке с томатом. Каждый берет его собственными перстами, обмакивает в соус, а после еды пальцы облизывает и потом обтирает полотенцем.
Пятое кушанье фаршированная баранья нога, это plat de resistance хозяев. Приготовление начинки сложное: туда идет перетертое мясо, рис, лук, перец, гвоздика, коринка и еще разные специи; аромат превосходный.
Шестое блюдо мелохия — шпинат в бараньем жире; в него макают кусочки хлеба и обсасывают их; попробывали было и мы, но не могли продолжать — гадость ужасная.
Седьмое кебаб — жареные бараньи позвонки и хвост не представляют ничего особенного.
Восьмое косамаши — то, что мы называем «сальсифи», но начиненное рисом и бараньим фаршем.
Девятое блюдо кофта — бараньи сосиски с огромным количеством перца.
Десятое пилав — рис, вареный в бараньем жире.
Одинадцатое блюдо руз-блябан — рис, вареный в молоке с сахаром, с маленькой примесью миндаля и каких-то специй. Это последнее кушание и едят его костяными ложками.
К концу обеда на подносе против каждого скопилась порядочная кучка отбросов. Питье давали какое-то неопределенное, вроде лимонада. Хмельного видно не было. Чередование сладкого с пресным упраздняет для туземцев потребность в вине. Подают за столом очень быстро. Едва оканчивает еду последний гость, блюдо снимают со стола и сейчас же становится следующее. Надо отведать все, не отдавая предпочтения никакому.
Мясо и птица так распарены, что волокна их расползались сами собою. Если же какая-нибудь индейка или барашек оказывали сопротивление, подоспевшие губернатор и Ахмет раздирали их в четыре руки, а потом уже Мустафа-Ага собственноручно оделял дам самыми сочными кусками, причем, с пальцев жир стекал по его рукам за рукава.
Как только встали из-за стола, началось умывание, на этот раз не только рук, но и рта, усов и бороды. Каждый утирался своим полотенцем и потом отдавал его арабу-слуге. Хозяина за обед не благодарили, а немедленно усаживались на окружавшие комнату диваны, поджав под себя ноги. Хозяин сел даже первый. Оказалось, обед не считался конченым. Едва уселись гости, подали кофе, горячее варенье из айвы, и длинные трубки. Не прошло и получаса после обеда — гости стали подниматься, благодарить хозяина и уходить.»
Гостей с фонарями провожали до гостиницы.
Полицейский жрал за четверых. «Вот утроба-то! И на Москве таких не видел; а сам как спичка… не в коня, видно, корм.»
В конце обеда молодой племяник хозяина Маустава Саид произнес старательно им задуманное и по мере умения оформленное французское приветствие наследнику.
Опять были у альмей. Напоили русского консула. В пьянке участвуют все. На этот раз благосклонностью Эстер пользуется Джорджи. Но прежде Пападакис устраивает осмотр Эстер на предмет дурных болезней доктором Смирновым.
Расходятся около полуночи. Луна.
В это время Продеус как-то пытается прикончить Владимирова. Опять Курашкин, которому достается на орехи.
Последний разговор Фаберовского с Стопроценко по поводу покушения на порогах. Их опять видит Курашкин и докладывает Кочубею, но ему не верят (по причине побитости и пьянства?).
Фаберовский направляется к Владимирову на дхабию, чтобы попросить его помочь избавиться от трупа слуги, который все еще лежит в номере. Надо стащить в темноте труп к берегу, привязать к нему камень, какой-нибудь исторический, и утопить в реке. Владимиров помогает. Вернувшись, поляк застает в номере Пенелопу. Она спрашивает, что это за кровь на постели. Он врет, что кровь пошла у него носом от ужасной жары.
Глава 47
19 (1) ноября, Понедельник
Утро. Яхты готовятся к отплытию. Ландезен в бешенстве. Оба террориста целы, а Продеус пострадал. Курашкин наябедничал Кочубею и тот сделал втык Ландезену. После чего в 6 часов яхта с Николаем уходит из Луксора, а Николай ложится спать дальше. Владимиров и Фаберовский едут на дхабии следом за Николаем.
В Идфу стоит на ночевке пароход Кука со Смитом, Проджером и Гримблом. Все пассажиры уехали осматривать здешний храм, лишь доктор Смит и Гримбл остались в надежде дождаться появления Фаберовского и Владимирова, а также мисс Гризли, которая не может оставить доктора Смита.
В 15.00 придворные яхты пришли в Идфу. Николай со свитой сели на ослов и поехали туда за 1.5 версты осматривать здешний храм. В поездке их сопровождали египетские солдаты на верблюдах. Владимиров и Фаберовский пошли дальше в Асуан, прокричав что-нибудь оскорбительное доктору Смиту и Гримблу. Ответная стрельба из ружей. Замечают на берегу Дмитриеву.
Глава 48
В Асуане Фаберовский встречается с инженером-греком Зорабалсом, сопровождавшим лодку к порогам, узнает, где она стоит, и расплатившись, предлагает ему уехать частным пароходиком, который как раз собирается в обратный путь в Каир. Затем оба вместе с дамами наносят визит полковнику Каннингему, чтобы передать ему поклон от его сына, лейтенанта Каннингема. Каннингем говорит, что его сын пишет, что хотел бы жениться на русской, мисс Дмитриефф. Пьянка.
В 1855 г. Каннингем-старший был младшим офицером в 66-м пехотном полку из Гибралтара. Часть его солдат участвовала в митинге.
Полковник рассказывает о программе пребывания в Асуане Николая (что в Шеллале у пристани стоит большая яхта хедива, на которой одно время предполагалось подняться дальше ко вторым порогам при Уади Хальфе). Узнают, что лодку уже перевезли выше порогов и она дожидается их. Каннингем обещает помочь своим гостям объехать пороги на верблюдах (т. к. этот переезд довольно длинен, он совершается обыкновенно на верблюдах; к тому же в Асуане мало ослов по сравнению с другими египетскими городами), так как по железной дороге, построенной на 20 верст специально для безопасной доставки товаров вокруг катаракта до станции Шеллаль, это сделать невозможно из-за приезда наследника. Однако он запрещает им исследовать пороги, пока тут наследник.
За Идфу в 35 верстах у Сельзеле низкие утесистые горы Шаиб эль-Сильсиле (200 футов, 70 м) сходятся до 150–200 сажен (32-425 м) (1095 футов, здесь были каменоломни). Поборов течение, дахабия выходит на расширяющийся изгиб Нила, стелющийся дальше озерной гладью. Начинается Нубия. Берега желтее и безлюднее, народ темнокожее и обнаженнее, селенья и купы деревьев реже и меньше. Жара до 30° по Реомюру (38 °C). Нет больше феллахских голубятен и женщин, спускающихся за водой. Нагие скалы и светлые струйки песка, пробивающиеся через расселины. Редко в однообразии пустыря мелькают финиковые пальмы. Тускло-зеленые кустарники со свинцовым отливом. Телеграфная линия вдоль берега. Открывается область темно-алого гранита.
Нил гораздо уже, течение его быстрее, вода не так мутна; местами из нее торчат вершины подводных скал. Замкнутая неприветливыми каменными берегами, река как будто не имеет дальнейшего течения.
На восточном берегу, у подножия утесистой горы, скучились арабские селения: перед ними две большие акации шелестят стручками. Это Асуан.
Слева окаймленный пустыней Асуан, справа цветущий остров Элефантина (мозаика из яркой зелени, золотистого песку и обожженных солнцем скал). С севера нечто вроде мола, далеко уходящего поперек реки; с юга бесчисленные острова и гранитные скалы, среди которых кое-где подымаются пальмы, по обоим берегам деревьями: темные сикоморы, жидкая зелень нопалов, акаций и пальм дум с их раздвоенными стволами и листьями веером. Дома, лепящиеся по склону горы, и белый минарет — простая круглая и низкая башня с деревянным балконом наверху, поддерживаемым грубо обтесанными балками.
Берег насупротив города — не материк, а довольно обширный остров, охваченный рукавами реки, арабы зовут его Дезире эль-Захер (Остров цветов). В северной части, на каменистой и пыльной почве, растут одни пальмы; южная, где находилась Элефантина, завалена грудами мусора и обломков. Здесь находятся остатки двух храмов, из которых один сохранился довольно хорошо. Храмы были видны еще в конце прошлого столения. Они были окончательно уничтожены в 1822 году турецким губернатором Асуана, пожелавшим что-то построить из их материала.
Песчаная набережная, заваленная тюками какого-то товара, а на разукрашенных к приему почетных гостей мостках (пристани) толпа голых нубийцев и нубиек. Нубийки в одних передниках, представляющих собой пояс, к которому пришиты тонкие ремешки с кусочками красного воска или раковинами на концах, образующие довольно плотную бахрому. Волосы у них заплетены в мелкие косички и, чтобы они не расплетались, на конце каждой косички прилеплен шарик воска; кроме того, вся голова обильно смазана рицинусовым (касторовым) маслом и блестит издали, как покрытая лаком. Эти косички буклями свисают на щеки и по шее. Слегка татуированы, руки отчасти окрашены в оранжевый цвет листьями хны, края век натерты сурмяным порошком. У здешних мужчин голова выбрита и только на макушке клок волос, заплетенный в несколько тонких косичек.
Опоясанный пышными пальмами город довольно живописен. Здесь томился в изгнании сатирик Ювенал.
Пересекающие русло Нила исполинские глыбы гранита издали чернеют и сверкают на солнце, как спины купающегося стада слонов. Светлые верблюды с красными седлами.
Глава 49
20 (2) ноября, вторник
Яхта наследника пришла в Асуан в 14.00. Температура достойна тропиков. На городской пристани мудир (местный губернатор) Махер-бей, английский полковник Каннингем с батальоном негров-суданцев из освобожденных рабов в почетном карауле. Одеты в темно-синие мундиры с белыми стоячими воротниками. Николай обошел караул перед фронтом.
Пападакис встречается здесь с Зорабалсом, допрашивает его и узнает о подводной лодке.
Дамы были оставлены на дхабии и принимают участие в приеме гостей. Николай рад их присутствию, и приглашает сопровождать их при осмотре порогов. Ландезен пытается отговорить их от этого, убеждая, что они террористки, Николай возражает, что у них нет оружия, а если их кавалеры действительно террористы, то они будут в качестве заложниц. В разговоре должен участвовать Пападакис.
Джорджи еще раз лезет к Пенелопе и опять получает отпор. Его злит ее привязанность к Наследнику. Пападакис делает ей выговор за то, что она смеет отвергать греческого принца. «Вы не уважаете молодую греческую монархию!» — «Чего ее уважать, если мы сами навязали вам короля!».
Владимиров и Фаберовский объезжают пороги на верблюдах. Выезжают из ворот города и направляются прежде всего на юго-восток к древним каменоломням. За Асуаном быстро начинается пустыня. Дорога вдоль порогов идет долиной, из тонкого серого песка кое-где вырастают каменная глыба или могильная часовня с куфической надписью. По дороге проезжают мимо обширного магометанского кладбища. От мусульманского кладбища дорога начинает подниматься в гору. Через полчаса езды они уже среди старинных каменоломен, откуда брали материал (сиенит) для построек и в особенности для статуй и обелисков. До сих пор видно идущие по одной линии дыры, в которые забивались клинья сухого дерева, поливаемые затем водой. Здесь же виден обелиск, лежащий на земле. Одним боком он остался неотделенным от скалы и брошен из-за трещины около верхушки. Красновато-желтый песок, надвигаются бесформенные возвышенности с дикими скалами, теснящими друг друга. Пороги остаются справа, невидимые за возвышенностями.
Отсюда дорога спускается в глубокое ущелье и идет параллельно с Нилом на юг. С обеих сторон подымаются прихотливых форм глыбы базальта и гранита, среди которых живут гиены и шакалы. Едут довольно долго этим ущельем и начинают уже под влиянием жары и беспокойного шага верблюдов ворчать, когда после одного крутого поворота оказываются на склоне высокого холма, откуда открывается вид на Нил, разбившийся на сотню протоков, и остров Филе, находящийся в начале порогов и лежащий почти у ног путешественников.
«Вид Филе очарователен. Этот остров, со своими храмами и зеленью, всплывает над рекой, как чудное видение, как мираж, оставшийся со времен фараонов, с зелеными капителями своих колонн, мешающихся с живыми капителями пальм, с разноцветными фронтонами храмов, осененных роскошной листвой тропической растительности, с резными пилонами и гранитными лестницами, спускающимися в Нил среди кактусов, бананов и гигантских камышей.
Маленькая гавань Махатта, расположенная на правом берегу Нила, напротив Филе и сейчас же над порогами, кишит народом. Сотни лодок и барок всякого размера стоят у берега и погружаются. Пристань для перегрузки товаров, минующих катаракты, именуется на картах Эль-Бербе. Здесь, в тени сикоморы, отдыхая от работ по транзиту, суетились и горланили берберы со всевозможными диковинками.»
Нил потерял свой желтый египетский цвет и течет здесь голубой и прозрачный. На песчаной отмели по колено в реке неподвижно стоят розовые фламинго.
Их догоняет поезд, на котором едет Николай. Дамы машут платочками в окна. В Шеллале пароходная пристань у железной дороги. Здесь стоит большая яхта хедива, на которой предполагалось подняться дальше ко вторым порогам.
При взгляде с Филе на юг лежит Нубия. С этой стороны Нил бирюзового цвета, широк и спокоен, как озеро в тихую погоду. Он течет медленно, едва заметно, мимо пирамидальных холмов, уходящих вдаль и сливающихся с синевой горизонта. На востоке крутой берег зарос непроходимым лесом. Частые пальмы, опутанные ползучими растениями, плотной стеной стоят над рекой и скрывают начинающуюся за ними каменистую пустыню, идущую к Красному морю. С запада виден остров Бига, обрушившийся в Нил, как страшная гранитная лавина. Громадные глыбы камня, почерневшие на солнце, округленные ветром и подточенные ежегодными наводнениями, нагромождены одна на другую и спускаются грядами в воду. Местами стоящие одинокие пальмы лишь усиливают дикую красоту этого пустынного, мертвого озера. На севере Нил останавливается как бы в нерешительности перед порогами и исчезает за стеною скал. Цепь позолоченных лучами солнца песчаных гор замыкает горизонт.
Нил здесь не река, а озеро без предшествующего и последующего течения, стиснутое кольцом из темных скал и валунов, неширокое, глухое озеро, из середины которого горбом подымается каменный остров, увенчанный развалинами храмов; вода с зеленоватым оттенком гладка как зеркало и сравнительно прозрачна.
На остров Филе можно попасть на дхабии. Дхабия — это не красивая яхта, а грязная, грубая неповоротливая расшива, перевозит желающих через рукав, отделяющий остров от восточного материка. Гребут пластинами и расколотыми бревнами.
Отсюда можно спуститься вниз через пороги. Это непременное развлечение туристов, называется «shoot the cataracts» («стрелять катаракты»). Переезд длиться менее часа: дхабия летит стрелой, извертываясь среди скал и надводных камней.
За рукавами Нила, обнявшими остров, высятся темные гранитные утесы, между ними то там, то здесь зеленеет финиковый кустарник или грезят четы стройных пальм.
Западный берег не сплошной: он прорезан невидимым отсюда рукавом, отмежовывающим остров Бигэ. На севере, сузившись, река, со слабым рокотом пропадает у подножия скал, среди крупных валунов.
На восточном берегу, под живым наметом пальмовых вершин, дымится пароход; возле него на зеленой полоске берега, для туристов, только что возвратившихся со вторых порогов, раскинуто несколько белых палаток.
На станции Шеллаль их сразу же замечает Ландезен. Ландезен сообщает Каннингему о том, что они покушаются на жизнь наследника, но полковник не верит ему. Он напоминает о запрете исследовать пороги до отбытия отсюда наследника. Стопроценко говорит о том, куда они сейчас направятся, а поляк — что они сейчас отправятся на лодке. Это слышит Курашкин и идет за террористами. Поляк с Владимировым демонстративно идут прочь от пристани, где Николай усаживается в лодки. На самом деле они идут к месту, где инженер-грек Зорабалс уже приготовил лодку к плаванию. Она стоит так, что ее не видно с пристани. Артемий Иванович опять беспокоится насчет крокодилов, ведь они уже выше порогов. Сперва их встречает сделавший на них засаду Пападакис. Им приходится тюкнуть его. Чтобы он не очухался и не рассказал обо всем, берут его с собой. Тут к ним прилипает Курашкин. Они вынуждены напоить его и тоже взять с собой, усадив в ногах. Теперь они в лодке вчетвером.
Убеждаются, что Ландезен с Ко. и Николай с дамами уплыли, садятся в лодку и отправляются в атаку.
В двух больших лодках (с восемью гребцами, из коих двое то и дело бросаются в воду с веревкою в зубах и тащат лодку в тех местах, где течение было слишком сильным). Николай со свитой отправились вниз по течению, чтобы осмотреть пороги. Худощавые гребцы-нубийцы, подрабатывающие этим промыслом повсюду в Египте, в серых войлочных тарбушах, в цветных рубахах с широкими рукавами, в ситцевых жилетах, застегнутых спереди на множество мелких пуговиц, в шароварах и на босу ногу. Отличаются и от негров и от феллахов с их гороховым цветом лица, напоминающим кофейный цвет самого Нила. Кожа нубийцев красно-бурого шоколадного цвета, их называют «барабра» (множ. от «бэрбэри»). Высокий и прямой лоб, тонкие брови, продолговатый узкий облик без выдающихся скул, толстые губы, не прикрывающие зубов. Запевала ритмичными звуками ободряет товарищей по работе.
Туристов, не желающих плыть на дхабии, доставляют к рождению порогов, откуда на верблюдах сухим путем в деревню эль-Махату, чтобы там взглянуть на полный их разгул.
У деревни эль-Махаты, соответствующей в торговом отношении Асуану (местечко против Фил есть лишь пристань этой деревни), под сикоморами и думовыми пальмами напиваются из общего для людей и скотины колодезного бревна и затем идут мимо куч фиников, одетых, как в серые чехлы, в дорожную пыль. На воздухе, под лучами солнца, плоды превратились в тощие, сухие деревяшки.
Около эль-Махаты те же каменные груды по берегам, то же сильное и могучее течение, но без гула, грохота и плеска горных рек, журчание струй у камней да вечный шепот пены не в силах разбудить мертво-скалистой окрестности.
Пороги не живописны и не величественны. На всем их протяжении нет ни одного водопада. В самой бурливой части, узком проходе Баб-эль-Шелала, 150 футов течения имеют лишь десятифутовый уклон.
Николай со свитой пристают к мыску с пологим подъемом. Стройные пальмы на разбросанных по реке каменистых островках. Туземцы прыгают попеременно с обрыва в стремнину, появляются на поверхности, сидя верхом на бревнах, ловко пристают к берегу шагах в пятидесяти ниже. Выйдя из воды, чрезвычайно ловко взбираются по скользкому подножью утесов и неотвязно молят о бакшише (бакшиш требуют везде по Нилу, но особенно в Нубии).
«Real, Cataracta, Soudan, Nubia…»
Затем Николай со свитой поднимаются вверх. В это время Фаберовский с Владимировым пытаются завести на лодке двигатель. Это не получается. Иных движителей, кроме электродвигателя, у них нет. Они могут попытаться всплыть, но для них это автоматически будет означать конец — Каннингем не простит им обмана. Их медленно сносит прямо в порог. Очухавшийся Пападакис пытается заставить их всплыть. Его убивают. А Николай и иже вышли на пологом мыске и смотрят, как арабы прыгают в воду и плавают через порог. Когда Николай в разговоре с дамами, отвернувшись от воды, смеясь говорит Ландезену о его чрезмерной бдительности, тот вдруг видит стальное тело подводной лодки, пролетевшей через порог. Испуганные арабы выскакивают на берег, не поняв, что это было. А Фаберовский и Владимиров, кувыркаясь, спускаются вниз. Затем, придя в себя, Фаберовский продувает балласт и они всплывают у острова Элефантина.
Обычно на остров высаживаются с восточной стороны острова к набережной, смотрящей на Асуан. Во время низкой воды набережная эта поднимается метров на 15 над уровнем Нила, к которому спускается широкая гранитная лестница, образующая на половине площадку. Внизу лестницы открывается дверь, а наверху ее была небольшая часовня, разрушенная в одно время с обоими храмами. На стенах видны деления, служившие для измерения подъема воды в реке. Это все, что осталось от древних памятников, все остальное превращено в мусор.
Вылезают из лодки, выволакивают Курашкина, и топят ее вместе с телом Пападакиса на середине Нила, а сами плывут к берегу. Упившегося Курашкина там и оставляют. Николай же садится в лодки и поднимается вверх, чтобы посетить храм Исиды на острове Филе, возносящий свои развалины на розовогранитном подножии. Пристает к каменной лестнице с римской аркой в вышине, чуть ли не единственному доступу на остров. Оцепляющая его со всех сторон набережная с убылью воды превратилась в неприступную стену.
Глава 50
Фаберовский с Владимировым довольно побитые после катания через пороги. Фаберовский объясняет жене, что это все Ландезен и Ко. хотят его убить. Она начинает слегка верить. Их выхаживает доктор Смирнов, который удивлен невезением, постоянно выпадающим на долю Фаберовского.
Перед обедом Николай и свита пешком совершает прогулку по Асуану на базар. Николай приглашает Фаберовского с Пенелопой и Владимирова с Эстер, чтобы Пенелопа была рядом с ним (одну он ее пригласить не может). На базаре Продеус встречается с Гризли и они вместе гуляют, одновременно следя за Фаберовским и Владимировым. (Она следит для Смита и Ко). Эстер договаривается с Волковым, что он пришлет к ней этой ночью того самого настоящего казака (Стопроценко). Сам Стопроценко, улучив момент, пытается выяснить у поляка, почему наследник до сих пор жив. Фаберовский предупреждает его насчет Курашкина.
Базар в Ассуане наиболее живописный во всем Египте. Он начинается тотчас за городскими воротами. Солнечный свет, струящийся через сломанные места в крыше, дает очаровательный результат. Над базаром сделан навес из досок, положенных на балки, стоящие на вертикальных бревнах. Доски гнилые и с прорехами.
Здесь продаются вещи из Судана: палицы из черного дерева, луки с колчанами и стрелами, дротики, копья, кинжалы в ножнах из змеиной кожи, надевающихся на руку, щиты из кожи гиппопотамов, ткани, рога антилоп, шкуры пантер, глиняная посуда и музыкальные инструменты, пики с красными мохрами и волосами около лезвия, суданские широкие кинжалы, слоновые клыки, наваленные кучами, массивные серебряные кольца и браслеты, и яркие полосатые ковры. За 25 франков в Нубии можно купить чучело крокодила, набитое соломой. Кроме безделушек, которые продают и на берегу, здесь также продают дешевые материи, предметы домашнего обихода и т. д.
Дети на базаре кривляются, кувыркаются и играют на тростниковых свирелях, взрослые гремят серебрянными деньгами, предлагая разменять соверен или доллар. «Кассура, эль-хавагия, кассура!» (кассура, вероятно, означает мелочь). За это туземец поблагодарит и даже не попросит бакшиша.
Доллар на местном наречии — всякая серебряная монета 5-франкового достоинства. Здесь не обманывают, зато сами очень подозрительны. Получая пиастр за проданную вещь, обнюхивают, рассматривают со всех сторон, пробуют на зуб. «Кайро! Кайро!» — кричит мальчишка (т. е. «фальшивая») и возвращает монету обратно.
Николай и свита купили себе несколько вещей. Николай дарит какую-нибудь безделушку Пенелопе. Он как-нибудь обижает ее (очень откровенно). Фаберовский с Владимировым пытаются следовать за ними, но Ландезен слишком бдительно охраняет, и они уходят, оставив дам со свитой. Зажав где-нибудь в углу Пенелопу, Ландезен пытается выяснить про ее мужа. Рассказывает, что Курашкин утверждает, будто плыл с ними на подводной лодке, но был найден на берегу совершенно пьяный. Но приближение наследника спасает Пенелопу. Появляются Филарет и Курашкин, поп выговаривает хохлу за его пьянство и бредни про лодку.
Джорджи должен переговорить со Владимировым насчет доставления к нему Пенелопы. Деньги он получит утром, если та придет. Должен возникнуть вопрос о том, что Пенелопа может отказаться осматриваться у доктора, и Джорджи просит, чтобы она пришла к нему. Владимиров просит за это больше денег.
Вечером прибывает пароход с Гримблом и Смитом. На нем прибыла также Дмитриева. К ночи было что-то вроде зари и иллюминация. Фонарики на набережной и на палубе пароходов. Зажжен фейерверк. «Розовые» фигуры нубийцев на берегу.
Владимиров встречается с Дмитриевой и они мило беседуют. Договариваются, что Владимиров попробует на сегодняшнюю ночь избавится от Эстер и придет к ней в каюту. Его разговоры с Дмитриевой видят арабы и после их расставания подходят к АИ и говорят, что у них есть к нему один разговор.
В эту ночь по просьбе Эстер Волков должен отправить к ней на дхабию казака Стопроценко, поэтому она, сославшись на недомогание, остается на дхабии одна, отпуская даже арабов. АИ не противится, так как договорился встретиться с Дмитриевой.
Но первым к Эстер заявляется Ландезен. Заперев каюту, заявляет, что изнасилует ее, если она не расскажет про покушение на наследника. Та ничего не знает. Ландезен нападает на нее, но получает ногой в пах (или (Эстер) фехтует его). Явившийся к ней Стопроценко с удивлением видит выходящего от нее вприсядку Ландезена. Потом напившийся казак заваливается куда-нибудь и его никто не замечает.
Этой ночью Смит, возбужденный видом полуголых негритянок, является к Эстер в присутствии полковника Каннингема, которого прекрасно знает еще по прошлому роману, и требует исполнения супружеских обязанностей. Та вынуждена подчиниться. Каннингем уходит. Смит предлагает вместо исполнения обязанностей написать Фаберовскому и пригласить его на яхту. Эстер соглашается только на исполнение обязанностей, которые доктор, как дурак, исполнил. Он заявляет Эстер, что отныне при ней опять будет состоять Гризли, и еще Проджер, чтобы не подпускать всяких мерзавцев вроде Гурина или поляка. (Проджеру за это обещана рука Пенелопы, а Гризли доктор обещает жениться на ней по окончании траура). Вместе с Гримблом они уходят и прячутся в темноте.
К Фаберовскому приходит араб, посланный Смитом, и говорит, что англичанка, живущаяя на дхабии, слезно умоляет прийти к ней, потому что ей угрожает опасность. Благодаря этой глупой ошибке Смита Фаберовский берет револьвер и готов к неожиданностям.
Владимиров приходит к Дмитриевой, но тут к ней в каюту стучат. Владимиров прячется в шкаф. Входит Ландезен, проклиная на чем свет стоит всех англичанок. Дмитриева интересуется, не пытался ли он кого-нибудь изнасиловать. Тот рассказывает про Эстер. Опасаясь, что он при наличии Владимирова в шкафу, начнет говорить с ней на служебные темы, Дмитриева говорит, что не будет жалеть его и выставляет его за дверь. С вылезшим Владимировым договариваются, что встретятся в Ассуане во сколько-нибудь часов. Владимиров уходит и идет к Фаберовскому. Того нет. У Пенелопы АИ интересуется, где ее муж. Та говорит, что он пошел к Эстер, так как какой-то араб сказал об опасности. Вспомнив про обещание Джорджи, АИ говорит, что это ловушка русской охранки, что ее муж схвачен и только ценой своей чести она может спасти ему жизнь. Ей вспоминается утренний разговор с мужем. Однако Пенелопа сразу же выясняет у Джорджи, сдержит ли он обещание, и по удивлению Джорджи понимает, что Владимиров надул ее. Когда она входит, Джорджи сидит на горшке. Увидев ее, он прямо на горшке смущенно уезжает за ширму и ведет разговор из-за нее. Выйдя, она сталкивается с Ландезеном и уходит. Тот решает, что она убила Джорджи или наследника, бросается к ним, но все живы и ничего не понимают. Особенно разъярен Джорджи, которому не дают спокойно пос****.
На дхабию является Проджер и Гризли. Они должны дождаться Фаберовского и убить его и Эстер, сымитировав совместное самоубийство. Эстер, понимая, что Смит задумал что-то (с одной стороны, попытка вызвать через нее поляка, с другой — охрана, чтобы не допускать ее), намеренно вызывает припадок ревности у Гризли, рассказав о визите доктора. Дамы сцепляются. Проджер кидается их разнимать и пропускает пришедшего Фаберовского. Он слышит, как Гризли в ярости проговаривается, что им велено убить и Эстер, и поляка. Фаберовский нейтрализует и валлийца, и Гризли. Смит с Гримблом видят, что ничего не получается. Потеряв самообладание, Гримбл с ланцетом бросается на поляка, Смит кидается на помощь.
Драка с Гримблом и доктором Смитом. Доктор побит и Гримбл ранит поляка в левое плечо ланцетом. Очухавшаяся мисс Гризли участвует в качестве бойца, а потом ухаживает за побитым доктором. Затем оба доктора ретируются и уносят с собой Проджера. Гризли, едва не лишившуюся в драке с Эстер волос, они отсылают на пароход. На пароходе она рассказывает Барбаре Какссон о подвигах Гримбла и о ущербе, который он потерпел в драке с поляком. Мисс Какссон со своим дамским револьверчиком спешит к своему возлюбленному, чтобы отомстить негодному поляку. Несколько позднее Смит приказывает Проджеру и Гримблу покончить с Фаберовским и Эстер, как только он или она покинут дхабию, а затем утопить трупы в Ниле. Арабов на дхабии нет, они все в городе. Предвидя это, Фаберовский велит Эстер запереться в каюте, вооружив своим револьвером, а сам отправляется на поиски, спустившись в воду и двигаясь вдоль берега в сторону, куда ушли Смит и Ко.
Артемий Иванович же в это время встречается с мадемуазель Дмитриевой и продает ее, на этот раз успешно. Узнав цены на женщин, пришел в ужас от того, как он продешевил, и продает ее арабу. Перед продажей она думает об АИ: «Он совсем ребенок, связался с Рачковским». АИ получает деньги и арабы увозят ее в глубь Африки.
Продеус приходит в гости к мисс Гризли, которая сидит одна. «Дозвольте войти к вам внутрь, барышня». Приносит в подарок мумию кошки. Это дохлая кошка, но не простая, а очень старая. Мульон лет в пещере валялась, пока ваши англичане не стали их на удобрения покупать. Вот и я тоже ее вам в подарок прикупил. Называется вроде мымры, только по-ненашему как-то. А, вы все равно не понимаете, дура старая!» Предлагает руку и сердце. Та, завизжав «Насилуют!», бросилась ему на шею.
Эстер становится страшно и она идет в город. Видя, что Проджер сейчас нападет на нее, Фаберовский вынужден поднять шум. Сперва Гримбл и Проджер с оружием в руках загоняют Фаберовского к берегу, чтобы он не мог убежать. Эстер в ужасе бежит. Револьвер она бросила, потому что он был слишком тяжелый. Поляк вынужден броситься в воду. Он не может быстро плыть из-за раненого плеча. Его пытаются подстрелить, но попасть из револьвера невозможно. Тогда Проджер с Гримблом бросаются на поиски лодки. К ним примыкает Какссон, которая сама горит желанием отомстить мерзавцу. Втроем они сталкивают в воду одну из лодок и плывут за Фаберовским. Гримбл пытается ударить поляка веслом, хлопает плашмя по воде и, теряя равновесие, выпускает его из рук. Фаберовский подныривает под лодку и выныривает под бортом с другой стороны. Заметив его, Какссон пробует схватить его за волосы, но рука скребет длинными ногтями по бритой башке. Укусив ее, он опять подныривает под лодку, но на этот раз Проджер пытается прибить его веслом словно гарпуном. Весло входит в воду рядом с отклонившейся головой, поляк хватает за него и роняет Проджера в воду, а лодку отталкивает подальше. Оставшиеся без весел Гримбл и Какссон орут, что не умеют плавать. Хуже всего Проджеру. Он тоже не умеет плавать, но у него нет даже лодки. Он тонет.
Эстер говорит Пенелопе: «Отныне мы не можем никому доверять, кроме Стивена и мистер Гурина. Остальные готовы продать нас». «А что, тебя тоже пытался кто-то продать?»
Пенелопа сообщает поляку о попытке АИ продать ее Джорджи. Экзекуция, несмотря на рану в плече и крайнюю усталость.
Артемий Иванович, узнав о событиях ночи от Фаберовского, возмущается. «Как же можно чужую даму использовать как приманку! Это подло и непорядочно по отношению ко мне. Вот я… Ну, я другое дело…»
«Пан пошел по неверному пути Леграна, занялся торговлей женщинами в Африке.»
Доктор Смирнов лечит побитого Владимирова и раненого Фаберовского.
Глава 51
21 (3) ноября, среда
Разборки со Смитом, заявившимся на дхабию. Гризли поддерживает Смита криками с берега. Избавление от него путем выбрасывания за борт. В разгар сцены вылезает проспавшийся Стопроценко, спрашивает опохмелиться и на глазах у всех спешит на царскую яхту.
Продеус прощается с Гризли. Договариваются встретиться в Париже и обвенчатся.
Расставание дам с наследником и свитой. Ландезен гневно смотрит на Эстер, особенно после того, как увидел прибежавшего с ее дхабии Стопроценко, а та показывает ему язык. Курашкин говорит Кочубею: «Я же говорил, что Стопроценко к ним ходит!»
«Так вот он зачем туда ходил. Не знаешь, зачем козаки к бабам ходят. А ты — террористы!»
Оболенский настаивает, чтобы Джорджи и Николай заплатили мужу Пенелопы. «Но мы же так и не ******** ее!» Но Николай соглашается. Волков передает Фаберовскому деньги.
Николай уходит вниз по Нилу. Избавившись от доктора, отправляются в погоню. Доктор уже не сможет их догнать, т. к. пароход пойдет обратно только через три дня.
Фаберовский ищет следы лодки с Гримблом и Какссон, но их нет.
Сперва яхта наткнулась на мель, а затем пароход основательно застрял. Так как «Хехия» глубже сидит, она чаще задевает мели. На этот раз она села. Раздевшись, туземцы прыгали в воду, плечами упирались в судно, протяжно вскрикивали: «а… иа… Мухаммед!», и убедились в итоге, что толкают на мель, а не с нее. С 12 до 14 часов прождали его напрасно, затем яхта ушла одна. Не доходя часа до Луксора, остановились на ночь где попало, чтобы переждать темноту. Берег высокий, пустынный, с темноголубым отливом река. Издалека доносится собачий лай. С другого берега подошел к водопою верблюд. Вот поселяне и дети, посаженные на осликов и буйволов. Стада мелкого скота бредут перед ними на фоне догорающего неба. Все вскоре поглочено мраком. Чтобы дать сигнал отставшему пароходу «Хэхии», на палубе яхты зажигаются бенгальские огни. Их Высочества сами светят ими с верхнего яруса «Фейз эль-Раббани» навстречу запоздавшему конвоиру, который спустя полчаса обрисовывается вблизи.
— Бисм иллах ар-рахман ар-рахим (во имя Бога благого и милосердного), — тянут арабы, вытаскивая с мели пароход.
Яла, яла, эни яла — египетская «дубинушка».
Николай садится играть с Басаргиным.
— А вот Иван Грозный умел играть в шахматы, — сказал Басаргин Николаю, когда они сели играть в шашки.
— Вот и доигрался, — ответил Николай.
Их обгоняют на дхабии Владимиров и Фаберовский. Эстер кричит наследнику и машет платочком. Ландезену кажется, что сейчас с дхабии будут стрелять. Он бросается на Николая и валит его на палубу, а Продеус валится с Георгием и Джорджем, схватив обоих, как гусей, за шеи. Потом оба долго не могут очухаться. Филарет кричит с укором, обвиняя их в содомском грехе.
Пенелопа: «Русский наследник — не джентльмен».
Семь часов. Обед. Собирается свита (16 человек). Путешественники садятся за стол в передней палубной каюте, блещущей тяжелым убранством от избытка позолоты, резьбы и живописи на стенах. Кельнеры-швейцарцы, взятые по распоряжению хедива на время пребывания Николая в Египте из лучшего каирского отеля, быстро служат за обедом, чтобы без промедления можно было затем перейти на отдых и для курения в соседнюю гостиную с большими шелковыми диванами желтого цвета или подняться наверх: над нею, на крытый тентом длинный помост.
Глава 52
22 (4) ноября, четверг
Утром встречают пароход Кука. Вечером прибывают на дхабии в Асьют. Уезжают из Асьюта в Каир.
23 (5) ноября, пятница
В Каир прибывают в 7 часов утра, Владимиров с Фаберовским идут в банк и поляк кладет деньги за Пенелопу на свой счет. В Каире их поджидает Бинт, который заметив их, пытается заставить патруль ирландских стрелков заставить их арестовать. Но лейтенант Каннингем, возглавляющий его, отказывается это сделать. Интересуется, где мисс Дмитриефф.
24 (6) ноября, суббота
Около 10 утра Фаберовский и Владимиров уезжают в Суэц на станцию Террплен (Terre Pleine), конечный пункт железной дороги по пути в Суэц. Приезжают в 18 часов. Здесь их уже ждет Батчелор.
От Каира до Суэца (245,8 км) 8 часов по железной дороге., 1 класс 116 пиастров, 2 класс 76 пиастров; до Исмаилии (160 км) 5,5 часов за 79 пиастров 20 пара, 52 пиастра 20 пара и 32 пиастра 20 пара. Ежедневно только один поезд.
Суэц
По прибытии на вокзал сильная толкотня и драгоманы, навязывающие свои услуги.
Гостиницы: отель «Суэц», по дороге от вокзала к морю, 1-го ранга, имеются временные квартиры для индийских путешественников и устроенные на английский манер (для английских постояльцев). День 16 шиллингов (на большой срок дешевле). Цены объявлены для двух классов: 1 класс — завтрак 4, Tiffin 4, обед 6 шиллингов, 2 класс — 2,2 и 4 шиллингов. Бутылка эля или портера 1 шиллинг 6 пенсов. Прислуга — индийцы, тихие внимательные люди с тонкими чертами лица и узкой грудью. По понедельникам английская церковная служба. Приятный буфет во дворе отеля, лежат газеты.
«Отель д’Ориент» (Hotel d’Orient», 5 минут от вокзала по главной улице Рю Кольмар. Пенсион 10 франков с вином. Простой, но достаточный для скромных претензий и в общем хорошо поставленный.
Из пивных можно рекомендовать только «У венгерской короны», Рю Кольмар (содержательница фрау Райк, австрийка); остальные ресторации и кафе весьма сомнительны. Дамам нельзя посоветовать прогулки по улицам Суэца после наступления сумерек.
«Но даже сегодня город имеет неутешительный вид, который он приобрел после открытия канала, когда большой торговый порт оказал свое влияние на его развитие; большей частью после открытия канала городская торговля снижается.
Арабский квартал имеет семь незначительных мечетей, европейские улицы с большими домами и торговыми магазинами предоставляют многое, достойное внимания. Арабский базар всегда незначителен, разве у входа постоянно стоят нубийские раковинники, поставляющие коралловые украшения из Красного моря и запрашивающие за них высокую цену.»
Поблизости от отеля «Суэц» имеются торговые ряды с китайскими товарами.
На мусорном (в крайнем случае гравийном) бугре севернее города, недалеко от вокзала и склад английской «Полуостровная и Восточная Пароходная Навигационная компания», которая хорошо знакома путешественникам своей эмблемой «Р-О», находится павильон (вице-короля?) с прекрасным видом на горы Синайского полуострова, море, порт и город. Бугор назван в честь Ком эль-Колзум и известен стелой древнего Колзума (Клизма, с. 244). Немного далее на север проходит канал «Сладкой воды». Большие шлюзы регулируют приток воды и ее поступление в море. Уровень (das Niveau) канала на два метра выше уровня Красного моря. Большие здания севернее — английский морской госпиталь и силовая станция (машинное здание) «Companie des Eaux». Восточнее канала — большая лагерная площадь для приходящих арабских караванов, которые насчитывают до 1000 верблюдов представляют живописнейший и интереснейший вид. Недавно здесь же разбит сад, который снабжается водой через водопровод, принадлежащий компании канала. Равным образом у выхода канала Сладких вод поблизости от шлюзов устроены луга с овощами, салатом, клевером, сахарным тростником и маисом, которые также снабжает водой дирекция канала, которая тем самым предупреждает появление дыр в плотине. По дороге от павильона вице-короля к каналу поражает большое количество соляных луж, которые большей частью имеют красный цвет благодаря живущим в них микроскопическим рачкам из семейства веслоногих. Находящийся поблизости небольшой пригорок называется бедуинским. Восточнее, напротив через дорогу, арабский матросский квартал — грязные глиняные бараки.
Громадная, около 3000 метров длиной дамба шириной 15 метров, построенная из искусственных каменных блоков ведет на юг от партии к находящемуся далеко в море порту. Эта дамба, как и все сооружения порта, построена на твердом основании крюкообразной песчаной отмели и стенки морского канала, образованной массой вынутого при углублении грунта. Затем образовавшаяся поверхность была еще повышена и на ней были размещены арсенал, склад, участки для работ (подразумеваются участки для разбивки и строительства небольших судов) и прилегающие к докам строения. Посредством этой операции немногим менее 20 гектаров земли было получено от моря.
Дамба предоставляет возможность совершить интересную прогулку (в зависимости от имеющегося у вас времени 1–2 часа) с великолепными видами на залив и окружающие горы. Во время отлива можно видеть появляющуюся песчаную банку. Горы Гебель-Алака на востоке выглядят подобно находимым в реке россыпям сверкающих гранатов и аметистов. Они отражаются в волнах, которые, играя, стремятся к их подножию, откатываясь всегда дальше и дальше возвращаясь и всегда видны от валов и строений, которые замыкают гавань и вход в канал. Высокая дамба, по которой проходит железнодорожная колея, соединяет место якорной стоянки больших кораблей с городом, возвышается над всеми остальными сооружениями (им. в виду дамбы, стенки, валы и т. д.), банкам и отмелями, которые оголяются при отливе, превращаясь в острова. Люди на ослах и с верблюдами тянутся здесь, и когда солнце склоняется и его резко очерченный диск спускается за светлую линию горизонта, их черные силуэты ложатся на желто-золотые и фиолетовые стены. Наконец сумерки кончаются и ночь опускается над дорогой.
На конце дамбы находится между прочим маленький бассейн компании канала, с маячной башней (белый огонь) и так называемая набережная Уагхорна с известной всем морякам канала статуей лейтенанта Уагхорна, мужественного британца, который, после того, как он отдал лучшие силы своей жизни организации регулярного сообщения между Англией и Индией через Египет, отвергнутый своим правительством, непризнанный и нищий, умер в Лондоне в 1850 году. Надпись на французском языке, выбитая на западной стороне памятника, свидетельствует почтение герою от Лессепса.
Южный значительный бассейн носит имя Порт-Ибрахим; он способен принять около 50 больших судов и разделен прочной стеной на две части, одна из которых предназначена для военных кораблей и судов, другая — для почтовых и торговых. Шлюзовые сооружения защищены от штормовых волн. Также от штормов защищены доки. Сухой док имеет длину около 112 метров, ширину в свету 23 и высоту 9 метров.
На восточной стороне гавани располагается отмеченный сваями и буями вход в морской канал. Этот вход находится недалеко от северной оконечности залива, к югу он расширяется и становится дорогой в море.
Видна поблизости русская эскадра. Узкой полосой тянется к морю насыпь; среди воды мелькают домики и деревья. Город торжественно убирается, греки готовят торжественную встречу.
Предместье Суэца Тауфик, лежащее между Суэцем и отступившим морем.
Суэцкий канал по обоим берегам осажден песчаными курганами. Вдоль всего канала встречаются денно и ночно работающие громоздкие землечерпальные машины-драги, вычерпывающие песок беспрерывной чередой деревянных кадушек. Канал обмелевает, для прохода кораблей остается только обозначенный плавучими бакенами узкий средний фарватер канала.
Суэц в 1864 году: Место состоит из беспорядочных групп убогих грязных гостиниц и развалившихся полуевропейских зданий из реек и штукатурки. Ни дерева, ни источника или следа растениеводства какого-либо рода. Голубизна неба и моря, в котором несколько пароходов и парусных судов стоят на якоре.
За стоянку в Суэце погиб один матрос, ведший по ж/д полотну обратно своего пьяного товарища. Навстречу шел паровоз. Оттаскивая пьяного с пути, матрос был задет локомотивом и вскоре умер в госпитале.
26 (8) ноября, понедельник
Тезоименитство Георгия Александровича и георгиевский праздник на фрегате.
В 8 часов утра экстренный поезд прибыл в Террплен (Terre Pleine).
Бинт проводит активные розыскные мероприятия, чтобы выяснить, где террористы. Что-то ему удается узнать, что приведет к аресту их на завтрашний день. Они прячутся в каком-нибудь сарае вместе с лодкой, слышат, как Бинт допрашивает хозяина помещения.
Водолазные аппараты (скафандры) — 4. Двое мичманов-водолазов Загорулько и Полуколбасов осматривают днище корабля на предмет возможного прикрепления мин.
Видна поблизости русская эскадра. Узкой полосой тянется к морю насыпь, покрытая народом; среди воды мелькают домики и деревья. Город был торжественно убран, греки устроили торжественную встречу.
Караул от местных войск. Губернатор Мухаммад Рашид-паша, русский вице-консул Коста, другие консулы, капитан над портом Уэстон-бей.
Дамы отправляются на пристань проводить наследника. Стопроценко оглядывается в надежде увидеть террористов. Но их нет.
Николай прощается с сопровождавшими его из Каира министром-президентом (премьер-министром) Риаз-пашой, греческим консулом Аргиропуло, с церемониймейстером Диа-беем и ж/д администрацией, обеспечивавшей безопасность. По насыпи под крики толпы Николай тотчас перешел на на катере на «Память Азова». Салюты (21 выстрел) с русских судов и пришедшего из Порт-Саида английского военного судна «Скаут», который встречался с ними еще в Порт-Саиде по пути в Красное море, где должен был преследовать работорговцев (ком. принц Людвиг Баттенбергский). Матросы военных судов расположились по реям. Корреспонденты сообщают, что завтра на рассвете эскадра уйдет в море, что наследник высадится в Адене (Йемен) и будет завтракать у тамошнего британского резидента.
Из Суэца в Порт-Саид вышел крейсер добровольного флота «Петербург»
Обедня, молебен в батарейной палубе.
Вечер. Зеленое море мерцает чешуей. Убогий коричневый парус арабской ладьи мелькает на окаймленном горами заливе. С египетской стороны высится Джебель Аттака (с нагими, но красиво изборожденными склонами), к Азии тянутся горы Синайского полуострова.
Поздно и темно: но на фрегате царствует необычное оживление. Гости-офицеры наезжают с «Владимира Мономаха» и «Запорожца». Суда иллюминированы, набережная переполнена народом в ожидании факельного шествия с музыкой, устраиваемого греческой колонией.
Вот и оно блистательно прошло, вот и фейерверк (также ракеты с судов, оркестр играет попеременно греческий и русский гимны), единовременно с ним зажженный, отгорел над погруженной в темноту густолиственной аллеей.
В кают-компании «Памяти Азова» долго еще не смолкают разговоры, веселье и тосты. Моряки варят жженку. Состав ее загадочен и посвященные в тайны ее изготовления отмалчиваются, когда их точно расспрашивают о ней. Крепкий напиток, впрочем действует более на вкус, чем на голову.
Глава 53
27 (9) ноября
«Запорожец» уходит обратно в Пирей. Уехали Кояндер и Иванов. На подводной лодке с туземной шлюпкой с продавцами, предлагающими фрукты и овощи, которую прикрепили сверху, подваливают к фрегату. Утром двое мичманов-водолазов Загорулько и Полуколбасов опять осматривали днище корабля на предмет возможного прикрепления мин.
Николай возвращается с канонерской лодки, где прощался с экипажем и дарил подарки, фрегат снимается с якоря, зацепив им лодку. Шлюпка торопливо отчаливает от фрегата, который в сопровождении «Владимира Мономаха» плавно уходит в широко раздвигающийся залив. До выхода из залива на фрегате брейд-вымпел цесаревича, затем поднимается флаг Басаргина. Фаберовский с Владимировым пытаются догнать его на лодке, но безуспешно. На берегу, на виду у дам, их арестовывают Бинт и Ко., лодку затапливают.
Эпилог
23 июня 1891 года. Иркутск
Флаги, зелень, вензеля, транспаранты. К 12 часам набережная от генерал-губернаторского дома до специально устроенной арки близ Кафедрального собора буквально запружена народом.
В 13.30 звон на Крестовоздвиженской церкви, а затем на других церквях. Из кафедрального собора крестный ход с архиепископом Иркутским Вениамином и епископом Киренским Агафангелом.
Около 14 часов пришел сверху пароход «Сперанский» «Ура!» и т. д. Рядом с Николаем стоит казак Стопроценко.
Хлеб-соль. Николай поднялся по лестнице, устланной красным сукном, под арку. Окроплен святой водой, приложился ко кресту.
Из Собора при колокольном звоне в открытой коляске поехал в генерал-губернаторский дом, перед которым смотрел войска.
В 3 часа ночи 24 июня, прибыв из Общественного собрания на пристань у Кафедрального собора, отплыл на пароходе «Сперанский».
Городовой голова и члены городского управления провожали Николая на пароходе «Сокол». Литургия в соборе.
Примечания
1
Петр Николаевич Дурново (1835–1918) — начальник заграничной агентуры Министерства внутренних дел, директор Департамента полиции
(обратно)2
Аргы (якутск.) — водка
(обратно)3
Пшечника (жарг.) — золотой песок
(обратно)4
Петр Иванович Рачковский — заведующий Иностранной агентурой Департамента полиции
(обратно)5
(англ) в качестве жены
(обратно)6
(франц.) княгиня Екатерина Радзивилл
(обратно)7
(франц.) Ищите женщину!
(обратно)8
(евр.) Дерьмо с перцем
(обратно)9
Honor (англ.) — честь
(обратно)10
Хлоридин — смесь морфия, индийской конопли и хлороформа или эфира с прибавлением синильной кислоты, перечной мяты, патоки и воды.
(обратно)11
Пятьдесят рублей
(обратно)12
Кольца, служащие для подъема лодки из воды
(обратно)13
Это дань Нептуна Вашему Величеству
(обратно)14
Миссолунги — греческая крепость, где погиб Байрон.
(обратно)15
Улица Виньон, 23. Мсье, я только что получил…
(обратно)

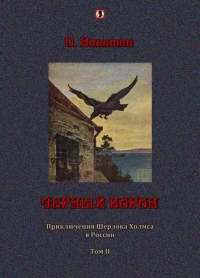

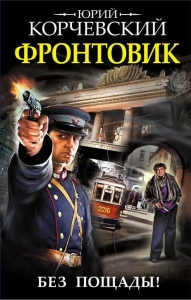
Комментарии к книге «Операция «Наследник», или К месту службы в кандалах», Светозар Чернов
Всего 0 комментариев