Предисловие
Такая повесть или роман должны были появиться. Вот уже более двадцати лет, как корабль России попал в полосу опасных рифов и круто повернул со своего исторического курса.
Роман «Альфа и Омега» Дмитрия Дивеевского в немалой степени об этом. Действительно, такая книга должна была появиться: ведь не молчал народ, не смирялся с неправдой, кривдой и ложью. Хотя казалось, что и нет в нем сил протестовать, возражать, искать выход из путей, которые не вели бы в тартарары, в бездну или сумеречную темноту пещер, полных снотворного и одурманивающего газа.
Чувствуется, что и сам автор нелегко освобождался от дурмана, от лжеаргументов, нащупывал пути спасения. Они не для всех одинаковы. Одни, их очень немного, прошли путь преодоления греха, ощущения острой боли от своей греховности, со своим долготерпением, смирением, молитвой приблизились к совершенству, стали советниками и наставниками попавших в беду людей.
Таков Иван Звонарь – образ живой, убедительный, его путь – естественный и органичный. Ему веришь как герою из фильма «Остров», ибо он вырастает из страданий, мук совести и тоски по истине и правде.
Другой путь державника и «государева человека» (хотя государя-то давно и нету) Данилы Булая. Он служит в разведке, защищая отчизну за ее рубежами. Служит ей, несмотря на то, что многое в ней ему уже не нравится, но он следует мудрому завету русского крестьянина «умирать собираешься, а рожь сей». И Булай на этом служении разведчика глубоко изнутри видит фальшивость и примитивизм, пагубность и порочность западных идей, создавших красочные афиши, выставивших рекламные щиты своего образа жизни. Он возвращается в страну и тоже ищет, как любой истинный русский человек, истинно русский интеллигент, смысл жизни. Аристарх Комлев, историк, диссидент, напоминает представителя старой русской интеллигенции, офицерства, которые не приняли советскую власть, но встали на сторону Отечества в период смертельной схватки с немецкими оккупантами. Встали безоговорочно.
Явно гротескный, фантасмагорический образ Филофея Бричкина, хранителя районного музея. Но с его помощью автору удается вызвать к жизни те поколения, образы времени, которые связывают прошлое и настоящее, показывают жизненность сегодняшних героев, гоголевские и шекспировские черты человеческого характера.
Конечно, есть тут и шукшинские «третьи петухи» (с безусловным различием). Там Ванька поддался вместе с монахами чертям и пустил их в храм. Тут бесы тоже уже окружают всех героев. Но музейные экспонаты уходят со стен, чтобы слиться со всеми живущими сегодня прототипами, стать их выразителями или антиподами.
Духовные искания, путь к храму, служение Отечеству, муки совести – наверное, в этом основная идея романа.
Валерий ГАНИЧЕВ
Председатель Правления
Союза Писателей России
1. Окоянов
Умер старик Булай. Он отдал Богу душу в своем старом деревянном доме, спрятавшемся в зеленых облаках такого же старого сада. В мире больше ничего не случилось. Стоял теплый майский полдень. Над Окояновом висела привычная тишина, нарушаемая лишь ленивой перекличкой петухов да фырканьем редких машин. Река времени ни на секунду не остановилась, приняв в себя смерть старика таким же естественным и простым образом, каким принимала все остальные явления бытия. Только в огороде раньше всех сроков вспыхнул цветок мака. Его пунцовый факелок засиял над сизой порослью грядок, вызывая невольную догадку: уж не прощальный ли это привет мятежной души Булая?
Река времени безостановочно катила свои незримые воды над миром, и тот, кто захотел бы одним взором охватить этот великий поток, увидел бы, что ни в прошлом, ни в настоящем нет ничего столь нового и столь трагического, чего бы ни знало это неумолимое движение. Не было ничего нового и в хаосе, который изо дня в день распространялся на огромном пространстве от Буга до Берингова пролива. Великая Пролетарская Империя не смогла выстоять в мировой схватке за будущее и готовилась с треском обрушиться. Конструкция ее еще стояла, но в воздухе уже витала вибрация катастрофы, будто стаи невидимых гарпий собирались над этой бескрайней землей в предвкушении наживы, и ухо улавливало трепет их секущих крыльев.
– Смутное время, смутное время, – бормотал себе под нос смотритель окояновского районного музея Филофей Никитич Бричкин, дочитав статью в «Известиях». – Всё как тогда, как при Годунове. Бояре друг друга за бороды таскают, а рядом уж выползни зубами щелкают, на трон рот разевают! А Мишка-то дурачок! Империю, точно, ни за грош продаст. Эх, жалко, Сева помер, с кем теперь историю решать будем?
Филофей Никитич не спеша сложил газету, сунул ее в боковой карман заношенного пиджачка и поплелся прощаться с Булаем. Они знали друг друга всю жизнь, а жизнь за спиной улеглась немалая. В отличие от покойного Всеволода, Филофей, происходивший из рода мелких чиновников, никогда надолго Окоянова не покидал. Природа словно в шутку разместила его сердце с правой стороны груди, и стучало оно едва-едва, хотя никаких крупных перебоев не давало. Но этого хватало, чтобы ни одна призывная комиссия не признала его годным к военной службе. Свою трудовую биографию он провел в городских архивах, а выйдя на пенсию, пристроился смотрителем музея.
Солнце еще только поднималось над кровельными крышами города, похороны были назначены на полдень, и Филофей Никитич решил скоротать время на берегу Казенного пруда, от которого до дома Булая было четверть часа ходу.
Окоянов гордился своим Казенным прудом. Водоем этот построили при Николае Втором, когда через город пролегла чугунка. Паровозам была нужна вода, поэтому перегородили плотиной широченный Журавлихинский распад, в котором бились родники, дававшие жизнь светлому ручейку, бежавшему в Тешу. Окрестных крестьян поднарядили свозить на подводах мешки с мукой в основание плотины. Ржаная мука в мешках раскисала и запирала воду. Земляную же насыпку делали сверху, подняв плотину на целых десять сажен. Пруд получился в полторы версты длиной, с голубой гладью и живописными берегами. Со временем его обсадили деревьями и не стало для горожан более любимого места.
Недвижное зеркало пруда отражало небо и купавы старых ив, опустивших косы в его прозрачную воду. Филофей Никитич расстелил газетку на молодой траве, с трудом сгибая суставы опустился на нее и задумался. Вокруг распространялось тихое торжество молодой жизни. Свежая лазурь весеннего неба благовестила радостью, птицы упивались любовным безумием, развернувшаяся на ветвях листва училась покачиваться в такт дуновениям ветерка.
«Благодать-то какая, чистая благодать, – думал Филофей Никитич, – а Севка ушел и уж никакой благодати не видит. И мой час тоже вот-вот пробьет. Не станет больше этого пруда, этого города, наших с Севой разговоров. А ведь, опять же, ничего в мире зря не происходит. И разговоры наши с ним тоже не зря случались. Слышало их чье-то невидимое ухо, вбирало как шелест травы…»
С Булаем они беседовали часто и по-стариковски долго, хотя на многие вещи смотрели по-разному. Подчас ругались до страшных обид, да и в последний раз разошлись неловко. Всеволод уже сильно болел и прибрел в музей, шатаясь от каждого ветерка. Но прибрел все-таки, горела его душа от происходящего в стране безобразия. Бунтовала она против дел Горбачева и всех его приспешников. А кто Севу будет слушать, кроме Филофея? Народ словно одурел, Мишке верил. Явился тогда Всеволод в пустой музей, сел напротив Бричкина, который в одиночестве гонял чаи, и без подготовки спросил:
– Ну и что за херню вы затеяли в нашем населенном пункте построить? Я слышал, вместо коммунистов какую-то потную партию разводить собираетесь, или еще чего смешней?
Филофей Никитич давно привык к язвительной манере приятеля и не очень на него обижался. Сам он, конечно, политик был невеликий, но считал, что с коммунистами случилось иссушение мозгов и пришла пора власть менять. В Окоянове уже вовсю сводили счеты с партией, и процесс возглавил, как и полагается в таких случаях, наиболее прогрессивный гражданин города – редактор местной газеты Матвей Пронькин. Он стремительно перековался в демократа и стал носиться по городу с предложением передовую силу отменить, а вместо нее основать партию освобожденного труда, сокращенно ПОТ, после чего захватить власть в свои руки. Филофей к деяниям Пронькина относился с сомнением, но за перестройку все-таки ратовал. Так он Всеволоду и сказал. Булаю бы согласиться, тем более, что сам он никогда в партии не состоял. Но тут в старой его башке что-то перевернулось, и вместо ожидаемой солидарности Сева начал порочить нарождавшуюся демократию.
– Не то у нас творится, Филя, не то! Ты посмотри, кто за новые порядки агитирует! Порожняк, пустельга, известные проходимцы. Не должно так быть! Хорошую жизнь должны честные люди поднимать, согласен? Ее надо в умной голове выносить, через смелую душу пропустить, так ведь? Вот если бы покойный Куманев сказал: стоп, ребята, не туда пришли, надо все менять, я бы тут же рядом встал. Почему? Потому это была фигура! Всероссийский учитель, педагог, необъятная душа! Он личностью своей в тайны бытия проникал. А эти… Подумать только, дружок твой, Мотька Пронькин, в узники совести записался, едрена Матрена! Пронькин, который только намедни узнал, что в природе существует совесть, тут же записался в ее узники. Не могу, говорит, больше молчать, инда все нутро пылает. А мы-то с тобой, Филя, знаем, какое у него нутро. Прямо скажем, дрянное.
Филофей Никитич, понимая плохое состояние здоровья Булая, в спор с ним особенно не ввязывался, но все-таки замечал, что жизнь менять надо, потому как отстаем от Запада.
– Может и надо, – волновался Булай, – кто спорит! Я и сам за это стою. Но не пронькины же ее должны менять, чуешь? А у нас по всей стране пронькины во главе перестройки скачут! Они же перевертыши. И сам Горбатый такой же пронькин! Ты вспомни, Филя, большевиков. Серьезные были люди, за убеждения на виселицу шли. А эти что? Я намедни видел по телевизору, как какой-то режиссеришка из Ленкома свой партбилет прилюдно жег. И уж так морду свою от омерзения перекосил, что прямо поверишь, будто его в эту гнусную организацию за рога притащили. Это же проституирующий лишай, Филя! Вчера на КПСС проституировал, сейчас на другую партию переползает. Совсем народ ослеп, коли таким пронькиным верит!
Бричкин осторожно отвечал, что, конечно, в перестройке разные люди участвуют, есть и примазавшиеся. Но обновление жизни всегда дело непростое.
Булай глядел на него усталым больным взглядом и сипел ослабшим голосом:
– Эх, Филофей! Хотел бы я, чтобы и в правду у нас обновление было! Только чудится мне, что это не обновление, а сплошная дуриловка. Ведь этим горлопанам одно надо: так жизнь перевернуть, чтобы самим кусок пожирней отхватить. И нас при этом совсем запутать. А мы не видим ничего, потому что Господь нам безумные метания попустил. Возгордились, веру потеряли, себя выше Бога поставили. Вот и получаем сполна! Перед всем миром в шутов гороховых превратились. Другие нации свою страну кирпичик к кирпичику строят. А мы строим и валим, строим и валим. Ты скажи, был ли на свете хоть один народ, чтобы такое учинял? В тридцать втором году сестрица моя покойная, Нюрка-комсомолка, себе тропинку от дороги до дома иконами вымостила. И не она одна. Разве еще где-нибудь, кроме России такое возможно? Я не о вождях говорю, которые храмы взрывать приказывали, а о сеструхе своей с тремя классами образования. Ты ничего в этом случае особенного не видишь? То-то и оно, что для любого нормального народа это – случай умопомешательства, а для нас с тобой – ничего особенного. У нас в головах всесоюзный бардак, Филя. Вот и сейчас на трибуне безмозглый болтун кудахчет, а мы все, как дурачки, радуемся: ура! перестройка, будем в Европах жить! Попомни мое слово: я помру скоро, а ты в Европах точно жить не будешь. А будешь ты у пронькиных в батраках ходить, Филя, в самых что ни на есть презренных батраках.
Не хотел Филофей разделять с Булаем таких нерадостных взглядов, потому что имелась у него надежда на улучшение. Так и ушел его дружок, едва буркнув «прощай», и, как оказалось, ушел навсегда.
В доме Булая беспамятно рыдала вдова, у гроба молча сменяли друг друга родные и близкие, перешептывались посетители. В изголовье замер Данила, старший сын умершего. Он приехал рано утром, и под глазами его темнели круги от бессонной ночи. Смерть отца вырвала его из ГДР, где он недавно начал свою очередную командировку в резидентуре советской разведки.
Филофей своих детей не имел и по-хорошему завидовал Всеволоду. Тот выпустил в свет славных ребят, а старший уже много лет работал за рубежом, объездил полмира и слыл в Окоянове удачливым человеком. Когда Данила вышел на улицу немного отдышаться от навалившей тоски, Филофей последовал за ним. Маленький, в очках с толстыми линзами и заросшими старческим волосом ушами, он подошел к Даниле бочком, сумрачно пошмыгивая носом.
– Здравствуйте, Данила Всеволодович, чаю, припоминаете меня, старика?
– Отчего же, Филофей Никитич, конечно, помню.
– Мы ведь с отцом Вашим последние годы много общались. Можно сказать, приятельствовали. Ох, как тяжело его провожать. Нет возможности выразить.
Филофей достал скомканный носовой паток и вытер выступившие слезы.
– А Вы как живете, в Москве или где?
– Я опять за границей сейчас. В Германии.
– В Западной или в Восточной?
– В Восточной, Филофей Никитич. Там сейчас самые главные дела творятся.
– Ты смотри, а я думал, главные дела сейчас у нас творятся. Ведь такое полоумство, что слов нет!
– Вы правы, конечно, только это не по моей епархии. Моя работа на чужбине.
– Мне, старому, видать, этого не уразуметь, да уж ладно. Хотелось бы мне с Вами подробнее пообщаться. Тут у меня в музее просто чудеса происходят, право слово. И посоветоваться не с кем.
– Что за чудеса такие могут в нашем краеведческом музее происходить, там ведь одни экспонаты?
– Эх, Данила Всеволодович! Раньше я тоже думал, что это мертвые вещи. Какое там, мертвые! Только больше ничего не буду говорить. Не до этого Вам сейчас. Пожелаю Вам, однако, успехов. А как в следующий раз приедете, обязательно заходите. Там и ордена батюшки Вашего хранятся, и много чего другого интересного имеется. Заходите обязательно.
2. Появление «Карата»
Существует распространенное заблуждение, что биография человека начинается в тот самый момент, когда он издает свой первый писк. Это, конечно, не так. До первого писка в лоне матери-природы завязывается таинственный бутон жизни, полный деликатных особенностей и хитросплетений, в которых и заложено предначертание судьбы наметившейся личности. Поэтому логичнее начинать отсчет с той волнующей секунды, когда будущая мамаша решается отдать свою душу и тело избранному кандидату и, тем самым, создает проект желанного чада. Ведь она видит качества папаши и понимает, какие незримые реторты и пробирки опрокинут волшебные жидкости в один сосуд и создадут уникальное в своем роде существо.
Конечно, с приведенной мыслью можно спорить, но мы-то знаем, что предмет нашего описания – британский разведчик Джон Рочестер – определенно несет в себе ошибки, заложенные его родительницей еще на стадии проектирования.
Мать Джона, сегодня уже дряхлая старушенция, в ту послевоенную пору была молодой, кровь с молоком воспитательницей приватного детского садика в городе Сандхорсте, что угнездился в нижней половине пупа земли, которым британцы считают свой насквозь продутый ветрами остров. Город Сандхорст приземист, тих, забросан кипами вечнозеленых лавров, рододендронов и азалий. Жители его движутся гордо и не спеша, с полным осознанием своей принадлежности к наиболее свободной и справедливой части человечества. Попав в этот город, Вы сразу обнаружите множество молодых людей в чистеньких армейских формах, группами и поодиночке оживляющими полупустые улицы. Это слушатели Военной Академии Ее Величества, которой и славен Сандхорст. Славится, славится эта Академия среди народов и армий недоразвитых государств. В каком только уголке земного шара не оставляли следы ее выпускники в былые времена! Да и сейчас они готовы справедливо и безупречно содействовать нациям, не сумевшим согнать со своей шеи какого-нибудь диктатора или другую недостойную тварь. Количество молодых людей в военных одеждах зримо превышает число их гражданских ровесников в Сандхорсте, поэтому ничего удивительного не было в том, что мисс Кровь-с-молоком оказалась возлюбленной лейтенанта Оскара Рочестера, который готовился к назначению в конную лейбгвардию двора Ее Величества и, как Вы понимаете, начавшего атаку по всем правилам конногвардейского искусства. Чтобы Вы не потерялись во времени, читатель, сообщаем вам, что конная лейбгвардия Виндзоров существует и по сей день, а попасть в нее – большая честь. Если вы захотите прогуляться в Гайд-парке рано утром, то увидите, как на специально отведенном поле всадники с пиками наперевес несутся на воткнутые в песок мишени. Этим и кончаются ратные подвиги королевской конницы, что трудно сопоставить с войной за Мальдивы или другим военным цирком.
Скажем правду: имя Оскар не понравилось благовоспитанной и невинной мисс Кровь-с-молоком. Нехорошее, неблагозвучное это имя, напоминающее об отвратительном Оскаре Уальде, столь дерзко и неизгладимо опорочившем все британские идеалы. На острове не любят своего земляка, сквернославного дворянина и мерзкого писателя Уальда за тот позор, который он нанес британскому достоинству. Этот человек глумливо растоптал то, что так бережно выращивал цвет нации – сам облик английского джентельмена, стоявший на высшей ступени пьедестала почета среди других наций. Грязный скандалист, развратник, гомосексуалист и склочник, заслуженно окончивший свои дни в тюрьме – вот кто был этот Оскар Уальд. Конечно, человек с таким именем не мог понравиться мисс Кровь-с-молоком, но жених утверждал, что он богат и знатен, и девушка решила смириться со своими чувствами. Так была сделана первая ошибка в проектировании Джона Рочестера. Вскоре оказалось, что сомнения мучили невесту совсем не напрасно. Единственной правдой из всех тех сказок, которые ей наплел суженый, было его благородное происхождение, которое, как известно на хлеб не намажешь. Что касается поместья в Йоркшире, то, увидев родовое гнездо новобрачного, молодая испытала шок, близкий к потере разума. Перед ней красовалась заброшенная развалина, весьма напоминающая двухэтажную конюшню, сложенную из неотесанных валунов. Гнездо оказалось разорено в той степени, в какой его может разорить только сумасшедший хозяин. Так оно и было. Недавно преставившийся папаша Оскара, с молодости не знавший ни дня без виски, в зрелом возрасте вошел в стадию белой горячки и вышел из нее прямо на тот свет, разбазарив все, что только можно было разбазарить и в без того пропитом наследстве Рочестеров.
Поселившись в единственном пригодном для жизни зальчике этого, простите, «замка», молодая жена долго не могла привыкнуть к запаху кислятины от сгнивших вещей, клубкам паутины по углам и туманным сгусткам привидений, шаставшим через помещение по ночам. К ней эти сгустки не приставали, а, видимо, искали общества мужа, который не часто навещал семью, увлекшись делами конно-гвардейской службы в столице. Впрочем, сам Оскар в компаниях привидений не нуждался, так как скоро выяснилось, что он свято чтит традиции предков и беспробудно пьянствует в кругу лондонских кутил. Джону не довелось видеть родителя в трезвом состоянии, зато он часто наблюдал, в какой увлекательный балаган превращались его редкие наезды на родину. По всему было видно, что мамаша решила не спускать обманщику трагедии загубленной молодости и обнаружила в себе редкий талант английской ведьмы. Она быстро восстановила в имении обычаи сумасшедшего дома, слегка подзабытые соседями со времени кончины старика. В моменты свиданий супругов в замке прятались даже привидения. В результате к трем годам у мальчика образовался нервный тик и истеричность. К тому же, отрываясь от бутыли с виски, родитель пытался прививать сыну законопослушность, порядочность и уважение к старшим. В связи с тем, что папаша работал по сокращенной программе, за которой отпрыск, случалось, не успевал, усвоению помогал широкий кавалерийский ремень. К моменту поступления в школу Джон возненавидел не только конногвардейского отца, но также законопослушность, порядочность и уважение к старшим. Кроме того, он понял, что справедливость не дается даром, и научился бороться за себя с помощью кулаков, зубов и ногтей, что дало однокашникам повод дразнить его «фриком», или, в переводе с английского, «отморозком». Мальчишка был непослушен, ни в грош не ставил правила и законы, призванные воспитывать верноподданных ослов, и мог в любой момент взорваться как дешевая китайская петарда. Частые кровопускания, которые устраивали ему сверстники, довольно рано привели его к необходимости иметь хорошие мускулы. Одна из ошибок мамашиного проекта заключалась в том, что он не мог родиться от пьющего папаши физически крепким ребенком, поэтому набираться сил ему пришлось самостоятельно. Еще в школе Джон стал заниматься теннисом, а игра эта, как известно, требует выносливости, подвижности и быстрой реакции. А главное – сильных рук. Джон вечно тискал в руке маленький мячик, развивая кисть для хлестких ударов ракеткой. В результате из него получился неплохой игрок и драчун.
Трудно сказать, как сложилась бы биография Джона после школы, если бы его родитель раньше срока проиграл битву с «зеленым змием», которую он беззаветно вел всю свою жизнь. Но здоровья у старикана оказалось достаточно, чтобы доползти до звания полковника и члена закрытого клуба «Копье и стремя», а значит, обзавестись и нужными знакомствами для протежирования сыну хорошенького местечка в приличном британском университете. Конечно, Джон мог бы без труда поступить в какой-нибудь заштатный университетишко, но там, где учатся уважающие себя джентельмены, его, прямо скажем, не ждали. Доказательством тому были характеристики молодого человека при выпуске из средней школы. Чтобы не утомлять Вас, читатель, перечислением подвигов выпускника, назовем лишь знаменатель этих документов. Характеристики ясно свидетельствовали о том, что Джон Рочестер видел в гробу Объединенное Королевство, Ее Королевское Величество, существующие законы и порядки, а также населяющее Остров верноподданное стадо. Тем не менее, благодаря усилиям отца, Джон оказался в Кембридже и занялся изучением мировой истории, что сыграло немалую роль в его дальнейшей биографии.
Пребывание в Университете не сильно изменило натуру Джона, заставив его лишь слегка мимикрировать под окружающую фауну. Пристроив отпрыска в Университет, конногвардейский полковник вскоре повстречался с кондрашкой, и тот препроводил его в лучший из миров. Теперь Джон понял, что если его вышибут из кембриджской богадельни, то придется туго. От наследия предков остался только сквозняк в конюшне да старуха-мать на крохотной пенсии. И он начал делать вид, что занимается историей, хотя вся натура его протестовала против бесконечного нахождения в этом студенческом монастыре. Здесь действовали правила, придуманные задолго до прихода к власти беспощадного Оливера Кромвеля, но ни сколько не уступавшие его режиму: один день увольнения в неделю, беспрестанная зубрежка и ненавистные рожи профессоров, которые суют свой нос повсюду. Аскетическая, одинокая келья, больше подходящая для монашеского затвора, чем для учебы, и лицемерие во всем. Лицемерие в дружбе, лицемерие в демонстрации покорности начальству, лицемерие в приемлемости этой идиотской системы обучения. Его ровесники в Германии и Франции жили нормальной жизнью нормальных парней, обучаясь в Сорбонне и Гейдельберге. Они были свободны от условностей, могли ночами кутить в молодых компаниях и спать с девчонками, могли выбирать очередность экзаменов. А здесь, на этом Острове Дураков, насквозь пропитанном притворством, молодых ребят запирали в университетскую мужскую тюрьму, где плодился гомосексуализм, заставляли учить генеалогическое древо английских королевских кретинов и выковывали слуг Альбиона. Тупых, упертых, вонючих слуг Альбиона, не способных быть нормальными людьми. Потом эти субпродукты воспитания начинали включаться в политику Ее Величества, такую же лицемерную и подлую, как века назад. В результате их мелких интриг Альбион скукоживался как шагреневая кожа, теряя приобретенные территории, а главное – собственную гордую независимость. Сегодня Великобритания – второразрядная полуевропейская держава, по всем показателям отставшая от Германии и Франции и только за счет своей интимной связи с Вашингтоном претендующая на положение фаворитки. «Ненавижу, ненавижу это все». – думал Джон Рочестер, и дал согласие пойти на службу в Сикрет Интеллиджент Сервис, соображая, что от таких предложений не отказываются. Он, конечно, не догадывался тогда, что его школьные характеристики драчуна и забияки сыграли в этом предложении свою роль. В английской разведке не любят нанимать на работу пай-мальчиков. Ну, а что касается его отношения к вопросу о верноподданичестве, то кто же всерьез будет принимать обиженные выкрики сопливого мальчишки?
И вот, пройдя за пятнадцать лет немалый путь британского шпиона, Рочестер приехал на работу первым секретарем посольства Великобритании в ГДР.
К этому моменту Джон вполне сложился как тайный враг Объединенного Королевства в целом и Ее Величества внешней политики в отдельности. Наверное, его детская борьба за справедливость залегла где-то в глубине души, и он не мог спокойно воспринимать вероломный характер всей деятельности своей родины. Эта первая в мире демократическая держава успешно унаследовала от далеких предков бесчеловечность в отношении других наций, коварство в дружбе с союзниками и неизмеримый эгоизм в отношении себя. То, что Рочестер узнал за время деятельности в СИС, может привести человека только к одному из двух состояний: либо он становится циником, глухим ко всему на свете, либо в нем начинают тлеть угли протеста. Не минула чаша сия и Джона Рочестера.
Протест этот поначалу был глухим и невнятным, но со временем приобрел осмысленную форму. Толчком к этому новому состоянию стала командировка Джона в Панджерское ущелье, к предводителю Северного Альянса Ахмадшаху Масуду. В то достославное время наш герой служил в резидентуре СИС в Исламабаде и во всю вербовал талибов, которых на американские и английские деньги направляли воевать в Афганистан. Как и все остальные сотрудники резидентуры, Рочестер считал талибов расходным материалом, который бросали в топку войны против СССР. Тупые фанатики, накачанные экстремистскими идеями, эти люди не понимали своей реальной функции. Они шли в Афганистан умирать ради веры, а умирали ради США и Англии.
Наряду с талибами, СИС и ЦРУ стремились взять под контроль и их соперников – моджахедов Северного Альянса, которые также боролись против Кабула и представляли собой серьезную силу. Однако отношения с ними складывались непросто. Альянс принимал военную помощь от англосаксов, но на политическое сотрудничество шел с трудом. Начальство направило Рочестера к Масуду наладить отношения и, по возможности, заключить договор о взаимодействии. Джон считался способным вербовщиком, а сближение с Масудом очень многое давало англичанам. В таком случае они смогли бы дергать за веревочки по обе стороны фронта. В качестве предлога для встречи были избраны переговоры по поставкам Альянсу оружия.
Путешествие из Пакистана через весь Афганистан в Панджерское ущелье само по себе следовало бы описать отдельно. Джон продвигался с группой моджахедов, одетый под афганца, в постоянной готовности встретить смертельную опасность лицом к лицу. Однако, несмотря на массу мелких происшествий, серьезных опасностей не приключилось, видимо, потому, что шли изведанными тропами по земле дружественных племен.
Встреча с Масудом произвела на Джона решающее воздействие. Уже научившийся презирать в лице талибов всех афганцев, он столкнулся с неожиданным проявлением силы духа и разума. Этот красивый, интеллигентный таджик, источавший незримую силу и уверенность в себе, вызывал невольное уважение. Он с ходу отверг предложенный Рочестером способ разговора путем хитросплетения слов и мыслей, что так распространено на Востоке. Масуд стал говорить четко, ясно и открыто.
– Вы предлагаете оружие в кредит, это хорошо. Вы предлагаете нам дружбу, это тоже хорошо. Мы берем ваше оружие и жмем вашу руку. Мы согласны. Только будем предельно честными, чтобы в будущем не было проблем. Мы знаем вас и знаем ваши цели. Вы хотите вместе с американцами учредить у нас демократию. Но Аллаху не угодна такая власть, ведь она презирает сами устои мусульманского мира. А вы не хотите с этим считаться. Вот и происходят потрясения. Посмотрите, что получилось, когда американцы пытались устроить революцию в Иране! Они получили революцию, только не ту, что хотели. Теперь там религиозный режим. Потому что мусульмане не считают ваши порядки справедливыми, потому что эти порядки полны лукавства и обманывают простых людей. Зачем же мы будем сближаться с вами? Мы не хотим ваших порядков и честно вас предупреждаем: не пытайтесь устанавливать их у нас. Это ни к чему не приведет, кроме загубленных жизней и сил. Не пытайтесь, это бесполезно. Поэтому сегодня мы берем ваше оружие, но завтра не пойдем под ваш контроль, вы согласны?
Масуд обезоруживающе засмеялся. Он был невысок ростом, хрупок, подвижен. Его большие глаза отражали свет недюжинного ума.
Джон почувствовал себя неуютно. Он получил задание привезти из Панджера подпись Масуда о сотрудничестве. Но уже с первой минуты стало ясно что это ему не по плечу. Масуд – совсем не тупой и жадный азиат, с которым можно затевать торги во славу Ее Королевского Величества. Он предельно обнажил смысл своего отношения к англичанам и этим лишил Джона любой возможности плести интригу. Что докладывать начальству? Рочестер не сумел найти верной линии и видел, что в ответ на его нескладное бормотанье Масуд лишь понимающе улыбается. Этот командир оказался Рочестеру не по плечу. Потом было еще две встречи, но никакого меморандума о политическом сотрудничестве разведчик не добился. На одной из бесед он полюбопытствовал об отношении Масуда к русским. Тот ответил, что до войны русские были для него «шурави», и после войны они снова станут «шурави», то есть, друзья.
– Русские – наивные люди. Они не поняли, что их втравили в эту войну вы и американцы. А я вынужден изгонять их с оружием в руках. Но ни один афганец не забудет того, что русские сделали для нас. Все, что построено в Афганистане, построено ими, и заметьте, почти бесплатно. Этого, кроме них, никто никогда не делал. Поэтому мы не издеваемся над русскими пленными. Издеваются только ваши талибы. Мы всегда предлагаем им переход в ислам, а если не соглашаются, заставляем работать. Иногда расстреливаем, но для этого должна быть причина. Мы воюем с ними, но мы знаем, что после войны будем с ними дружить. А вот с вашим Королевством, мистер Рочестер, мы дружить никогда не будем. Ведь для вас все слабые народы – это сырье, из которого вы выжимаете прибыль.
Масуд снова весело блеснул своими белыми зубами.
– Хотя я вижу, что вы не такой. Вы не настоящий Лоренс Аравийский. Тот был просто сумасшедший, а вы – нормальный человек. Поэтому вам будет трудно. Но – в сторону политику, давайте договариваться об оружии.
За время, проведенное в штабе Масуда, Рочестер понял, как далеки от реальности его представления об этой стране и об этих людях. Ему понравилось жить среди афганцев и сначала он не мог разобраться в причинах этого чувства. Вокруг бедность, антисанитария, чужой язык, непонятные нравы. Потом стал понимать: при всей сложности мусульманского общества здесь нет того торжества индивидуализма и лицемерия, которое давно поработило всю западную цивилизацию. Их религия и их традиция делают их сплоченными. У них общая боль и общая радость. Они обходительны и душевны. Политика их вождей сплетена из обмана и коварства, а в быту течет совсем другая жизнь, приносящая человеку ощущение духовной цельности.
Джон вернулся из Панджера с новым взглядом на происходящее. Теперь он видел, что США и Великобритания стравили два дружественных народа и питаются мясом этой войны. Впечатление усугубил разговор с резидентом Лесли Хеддоком, которому Рочестер подробно отчитался о встречах с Масудом. Тот воспринял отчет с крайним раздражением.
– Джон, ты давно не мальчик и повидал в разведке всякого. Как ты мог пойти на поводу у Масуда и согласиться с его дурацкими утверждениями?! Разве не ясно, что вместе с США мы ставим в Афганистане заслон коммунистической экспансии!? Русские несут туда свою красную идею, а мы ее изгоняем. Ведь это понятно каждому ребенку. Вот о чем надо было говорить этому разбойнику!
– Ты полагаешь, что идейная война должна приносить столько крови? Ведь русские ввели туда войска почти без выстрела. Кровь полилась, когда мы вооружили и натравили на них моджахедов.
– Уж не прошибают ли тебя слезы при виде дохлых русских или афганцев? Ты хоть понимаешь, что без этого мы ничего не добьемся в этой дикой стране? Или ты стал на ночь читать Устав ООН? Вот это посмешище! Ты хоть знаешь, что сказал об Уставе ООН Уинстон Черчилль? Он сказал, что это самый грандиозный обман человечества после Библии. И он был прав. А тебе пора всерьез заняться своими мозгами. Их слегка перекосило.
Джон не стал углубляться в спор. Он хорошо знал Лесли и понимал, что это может кончиться доносом в Лондон со всеми вытекающими последствиями. Но мнения своего не изменил и попытался понять, к каким берегам несет человечество афганская война, ведь именно в ней столкнулись две мировые системы. Участвуя в работе с талибами, Рочестер все больше осознавал, что скоро они станут большой проблемой для белых господ. Пока что талибский рассадник экстремизма довольно мал, и у него хватает сил только на борьбу с Кабулом. Но талибы настолько заряжены ненавистью ко всему немусульманскому, что однажды они непременно начнут войну против своих благодетелей.
Одновременно Джон стал интересоваться историей России и обратил внимание на то, что, в сравнении со своими соседями, эта огромная страна вела на порядок меньше наступательных войн. Он заинтересовался этой особенностью, начал рыться в научной литературе и сделал вывод, что причины такого коренного миролюбия кроются в православном мировоззрении русского народа.
Прошло время, и Рочестер понял, что в мире существует два лагеря, стоящих на диаметрально противоположном отношении к войне и миру. Один лагерь объединяется вокруг СССР, и для него использование силы носит вынужденный характер. Но судьба забросила Джона в другой лагерь – лагерь хищников, не знающих иного образа жизни, кроме лжи, коварства и нападения.
Теперь то, что было в душе Джона протестом против мерзопакостности собственной родины, превратилось в готовность против этой мерзопакости бороться. Ему не хватало лишь толчка, чтобы это новое состояние перешло в действие.
Вы полагаете, читатель, что этот толчок будет дан каким-нибудь очередным скотским поступком СИС на территории суверенной ГДР? Ничуть не бывало! Жизнь, конечно же, богаче нашего воображения. Представьте себе, что причиной стала жена Рочестера, красавица-креолка Иветта, не придумавшая ничего лучшего, чем попасться мужу, так сказать, во флагранти. Джон познакомился с Иветтой четыре года назад, когда ненадолго приехал в командировку на Ямайку. Что и говорить, девчонка была высший класс. Смоляные кудри, огромные, как черносливы глаза, кожа цвета слоновой кости, высокая, очень высокая грудь и фигура, от которой мужчины впадают в неконтролируемую дрожь. При этом она была способна петь, веселиться и танцевать день и ночь. В чем-то Джон был ей под стать. Ловкая спортивная фигура теннисиста и прирожденная музыкальность делали его хорошим партнером в танце. Он мог так обхватить осиную талию девушки своими мощными руками и приподнять её над землей, что та чувствовала себя на седьмом небе. Если к этому добавить его тонкое бледное лицо под густой копной светлых волос и глаза цвета прибоя у берегов Шотландии, то можно понять чувства нежной креолки. Между ними завязался искрометный роман, который Рочестер, не скупясь, орошал фунтами стерлингов. Парочка недолго тянула с решением пожениться, и вскоре Джон обнаружил себя в цепях Гименея, которые казались невесомыми только первые несколько недель. Через полгода эти штуки уже приобрели вес чугунных вериг, так как представления о супружеских обязанностях у молодых решительно разошлись. Джону нужно было напряженно работать, а Иветта, видимо, полагала, что весь оставшийся отрезок жизни должен быть медовым месяцем, состоящим из непрерывного полового акта с отвлечением на дозаправку вином и сладостями. Вскоре новобрачный осознал, что не в состоянии удовлетворять вулканических потребностей молодой супруги, и перешел к национальному способу восстановления сил в форме посещения пабов и игры в бридж, ограничив любовную лихорадку двумя случаями в неделю. Мыслишки о том, что Иветта не будет иссушать себя супружеской верностью, у него, конечно, были. Но, являясь выходцем из приличного общества, в котором супружеские измены хотя и считаются делом полезным, но практикуются негласно, он не рассчитывал столкнуться с ними лицом к лицу. Увы, его представления о безоблачной семейной жизни не оправдались, потому что Иветта не захотела считаться с приличиями британского общества и глупо влипла в историю из-за своей легкомысленной тяге к блуду. Да ладно бы это был провал какой-нибудь хорошо законспирированной интриги! Ведь чем тщательнее супруга прячет свои приключения от мужа, тем сильнее она его уважает. А он застукал женушку у себя на квартире, где она безбоязненно сочленилась с кавалером прямо перед его приходом на обед. Джон и пришел-то всего на полчаса раньше обычного и, открыв своим ключом дверь, увидел раскинутые по туалетному столику смоляные кудри жены, а позади нее – искаженную страстью рожу собственного начальника, который стоя оприходовал Иветту здесь же, в вестибюле, видимо, в знак признательности за хорошую работу ее мужа. Увидев лицо Иветты, еще не освободившееся от сладостного спазма, Рочестер достал из кармана носовой платок, вытер внезапно вспотевшее лицо и спросил, не надо ли им помочь. В этот момент парочка разъединилась и начальник, подтягивая штаны, выскочил за дверь, а Иветта как ураган промчалась в ватерклозет и заперлась там.
Джон проследовал в свой кабинет, достал из шкафа «Зауэр» двенадцатого калибра, вставил в него патрон с картечью и подошел к ватерклозету.
– Не бойся, – сказал он спокойным голосом, – ты останешься жива. Если откроешь, я только отстрелю тебе твой поганый лобок. Если нет, выстрелю наугад и ты подохнешь.
Дверь открылась, и в проеме появилась его роскошная подруга с вывалившимися из секс-белья грудями. Она уже оправилась от шока и вполне владела собой.
– Джонни, я плохая, я очень плохая. Я постоянно хочу мужчину и ничего не могу с собой поделать. А ты козел, Джонни, настоящий английский козел. Такой же холодный, как статуя вашего одноглазого Нельсона. Она – единственное, что еще стоит в вашей долбанной империи импотентов. Я знаю, ты меня не убьешь, ты слабак. Пошел ты к черту!
Потом она села на маленький диванчик в прихожей, раздвинула ноги, показывая женское местечко, и со страстью прошептала:
– За это любой настоящий мужчина готов отдать все, что у него есть. Потому что я умею любить как никто. Я женщина! А ты что со мной сделал, кембриджский недоносок? Ты хотел превратить меня в бесчувственное бревно или тряпичную куклу? Вот тебе, – закричала она, показывая Рочестеру сразу два кукиша. – Пошел в задницу к своей любимой королеве-бабке!
Потом Иветта встала и, гордо раскачивая бедрами, удалилась в спальню. Джон бессильно опустил ружье и пошел в кабинет, где стоял бар с джином и виски. Конечно же, он не мог выстрелить в женщину. К тому же, приступ ярости уже прошел. Рочестер взял в себя в руки и решил не спешить с завершением драмы. В его душе и разуме ясно проступило понимание того, что со всей этой жизнью, в которой смешалась грязь профессии и грязь брака, надо кончать и решаться на что-то новое. Он всю ночь просидел за бутылкой виски, не теряя трезвомыслия и обдумывая план предстоящих действий.
Вы спросите, а как же месть начальнику? Не скроем, Джону очень хотелось раздавить этого негодяя, как вонючего клопа. Но сделать это – означало бы перечеркнуть задуманное. Сведение счетов он отложил до того момента, когда план будет исполнен. Хотя кулаки очень зудели.
На следующий день Рочестер приехал в советский музей Капитуляции в Восточном Берлине, нашел там заведующего и попросил передать его письмо «за забор». За забором находилось Представительство КГБ при МГБ ГДР, и вскоре письмо попало к советским разведчикам. Такие документы в разведывательной практике появляются не часто, но регулярно. Неизвестный сотрудник британской разведки предлагал свои услуги и назначал через две недели установочную встречу в Потсдаме. В силу того, что письмо было написано по-английски, нельзя было исключать, что другими языками автор не владеет. Поэтому было решено, что на встречу выйдет Данила Булай, прикрытый дипломатической должностью и имевший опыт в работе с СИС.
3. Тайный советник
Збигнев Жабиньский искоса посматривал на президента Джоржа Буша старшего, расхаживающего перед камином со стаканом виски в руке. В голове его тихонько выбивали ритмы «кантри» чьи-то копытца да позванивало банджо. На душе было хорошо от присутствия Джоржа. Он любил этого парня, потому что тот соединял в себе идеальные черты американского политика. Буш старший еще в юности преодолел в себе набожность, присущую потомкам протестантских переселенцев, был сметлив, решителен и интеллигентен. А главное, Джорж всегда знал, чего хотел, и желания его всегда совпадали с желаниями сильных людей Америки. Если бы Збигнева однажды попросили нарисовать портрет идеального руководителя Империи, то он нарисовал бы Буша. Они познакомились еще в бытность Джоржа директором ЦРУ и сразу же сдружились. Приятель Збигнева имел звериный инстинкт, а это главное в мировых делах. Никакое знание не дает большому политику то, что дает инстинкт – ощущение нужного момента для броска. А иногда для бегства. Когда десять лет назад Буш поддержал идею Жабиньского спровоцировать афганскую войну, он, конечно же, опирался на инстинкт. Слишком много неизвестных было в том пасьянсе, чтобы все рассчитать. Но рискнули и не пожалели. Заварили котелок с чертовским зельем, подпустили русским угару: о ненадежности афганских правителей, об антисоветском заговоре, об американских кознях в этой стране. Внесли разброд в среду захвативших власть офицеров в Кабуле, и покатилась советская бронированная армада через границу. А теперь эта война, как сорвавшийся с вершины валун, повлекла за собой лавину распада главного врага Америки.
Так и сложилось, что самые главные вещи они замышляют вдвоем, а потом доводят до узкого круга единомышленников. До того самого, что может варить чертово зелье и рассылать во все стороны видимые и невидимые силы. Збигнев вспоминал, как непросто шла борьба за превращение власти из демократической медузы в железный кулак. Сколько сил было положено на то, чтобы за колоннадой Капитолия, населенного крикливыми чудаками, возникло незримое правительство, действующее не по конституционным сказкам, а по жесткому требованию интересов больших людей Америки. Теперь у этого правительства есть все необходимое, чтобы принимать решения и осуществлять их: тайный совет, тайные деньги, тайные исполнители. Возможности их таковы, что они могут влиять на ход истории. Хорошо, что сегодня сам президент возглавляет этот могучий синклит. Не все президенты США удостаивались этой чести. Вспомнить хоть Джона Кеннеди, не понявшего, с какой силой имеет дело. Эти ирландцы всегда были самонадеянны и упрямы. Он пошел на конфликт с этой силой, выступив против создания атомной бомбы Израилем. Видимо, полагал, что Президент Соединенных Штатов Америки неприкасаем. Оказалось, прикасаем, да еще как. Мир праху его, но политик не имеет права путать место быка с местом Юпитера. Кеннеди подстрелили как зайца, и он даже не успел сообразить, за что. Слава Всевышнему, такие несмышленыши среди президентов США больше не появлялись.
А теперь Америка снова стоит перед выбором. Вот ее президент ходит по ковру, собирается с мыслями чтобы сформулировать главный вопрос. Эй, Джорж! Я знаю, что ты хочешь сказать, но я подожду, не полезу поперед президента Империи. Голова Джоржа болит от того, что Горби окончательно подводит военный блок коммунистов к развалу и через два-три года от этой махины останется только дикое поле. Президенту бы радоваться, но вот беда: как быть с НАТО? Кому этот монстр будет нужен после роспуска оборонительной организации социалистического лагеря? Если большой американский народ решит, что НАТО следует распускать вслед за Варшавским Договором, то нам грозит коллапс, потому что все американское процветание опирается на «войну». На военные заводы, на ползающее, плавающее и летающее стреляющее железо. На бесчисленных людей в зеленых одеждах, на многое другое, что дает работу, заказы, деньги. Если «войну» отменят, то вообще не понятно, что тогда придется делать большому американскому народу. А уж какие денежки уплывут из под носа тех, кто послал Джоржа в Белый дом, даже страшно представить. Глумливые аккорды банджо в голове Збигнева усилились. Ему нравилась эта ситуация.
– Русские разваливаются, Збигнев, сам видишь. Скоро этот медведь превратится в лохматый ковер. Теперь они нам не ровня. Чтобы подстегивать нашего жеребца, нужен другой скакун. Но его нет. Нет, Збигнев! Китай упрямо не хочет выходить на стратегический трек. Он не объявляет никаких глобальных амбиций. Представляешь, дружище! Китаезы как в рот воды набрали, а мы не можем объяснить общественному мнению, зачем нам понадобится ежегодно триллион долларов на военные расходы.
– Да, мой друг, в нашем цирке без фокусов не обойтись. Мало стать самыми сильными, надо еще доказывать «маленькому Смиту», что это хорошо и полезно. Предстоит искать себе нового «плохого парня», иначе будет самим плохо. Но не списывай так быстро русских со счета. До лохматого ковра еще далековато. Они же не собираются сдавать в утиль свои ядерные штуковины. Мы не сможем уговорить Горби разрезать стратегические ракеты также, как СС-20. Задача нереальная. Ему за это выпустят кишки его собственные сограждане. Я не уверен, что в России где-нибудь не спрячут и парочку СС-20 на всякий случай. Уж больно хороша игрушка! Наши «Першинги» по сравнению с ней – детская хлопушка. Надо бы дать Мише гражданство США за то, что он избавил нас от этого кошмара! Хорошо хоть, что их главный конструктор пустил себе пулю в лоб, а то выдумал бы и еще чего похлеще.
– Ну, что теперь об этом вспоминать. Это в прошлом.
– Думаешь, в прошлом? Я другого мнения. Мы еще не раз вспомним Мишу, когда Восточная Европа потянется в НАТО. Все к нам прибегут: и поляки, и чехи, и цыгане, и молдаване. Мы раскроем им объятья, а в знак дружбы попросим разместить на своих территориях ракеты-перехватчики советских ядерных самоваров и этим парализуем их стратегический потенциал. Теперь представь себе, согласился бы на это хоть один вождь, если на него тут же нацелят СС-20? Ведь, к примеру, до Праги эта смерть летит всего четыре минуты. Кто же добровольно полезет в капкан? И вот, благодаря Мише, такая опасность исчезла. Сделай подобное американский президент, ему грозили бы шесть пожизненных сроков или электрический стул. Так что, ослам из Пентагона надо выстроиться длинной шеренгой, встать на колени и ползти мимо Горби, целуя его в румяные ягодицы… Но ты прав, сегодня надо думать, где взять нового врага?
– Я с этого и начал. Конечно, первое, что приходит в голову, – это «желтые лимоны». Я знаю, ты предвидишь войну с ними в будущем. Но когда это еще будет! А что делать сегодня? Американская демократия не потерпит излишней армейской машины.
– А почему бы не заняться мусульманами? Там такой серпентарий, что можно давить ядовитых гадов без конца.
– И как ты это себе представляешь?
– Вообще, судя по всему, наиболее ядовитыми гадами являются талибы. Сейчас они тянут с нас деньги на борьбу с Наджибуллой, но пройдет время, и мы столкнемся лбами. Они тупые фанатики, для них слова «свобода и демократия» – что красные тряпки для быка. Вот покончат с Наджибом и обязательно развернутся против нас. Нам же, в зависимости от потребностей, можно будет либо помочь им, либо задушить с помощью известных средств.
Президент нахмурился и выдавил сквозь зубы:
– Поясни свою мысль поподробнее. Все-таки необычно звучит это предположение о помощи талибам в работе против нас.
Жабиньский весело рассмеялся, отхлебнул виски и потер виски:
– Джорж, давай не будем играть друг с другом в телешоу «Права и свободы». Террор против собственного населения руками наемников существовал всегда и ничем не хуже других средств. Операция «Гляйвиц», которую Гитлер провел, чтобы начать войну против Польши, знает множество исторических подобий. А ведь переодетые в польскую форму гестаповцы убивали собственных граждан!
Конечно, нам с тобой придется плохо, если станет известно, что мы стояли у изголовья талибского терроризма, который ударит по большому американскому народу. Но когда такие вещи становились известными в нашей стране? Никогда! И никогда не станут известными, потому что мы в состоянии заглушить любого, кто захочет об этом пропищать. Но подумай, какую свободу рук получишь, если задумка удастся. Это же прорыв на новые оперативные просторы! Наконец-то наши солдаты зашагают по заморским территориям как защитники человечества от новой, страшной чумы мусульманского террора. Это очень плодотворная идея.
– У меня твоя идея пока не умещается в голове. Уж очень она свежа, да и средств потребуется уйма!
– Ты так полагаешь? А я думаю, что нам надо только не мешать талибам. Пусть пользуются тренировочными лагерями, которые мы им построили, получают наши деньги и добивают Наджибуллу. А потом, когда они станут хозяевами Афганистана, наступит следующий этап. Та агентура, которая сегодня среди них имеется, должна будет получить новые задания. В результате о себе заявит некая террористическая сила, которая нехорошо относится к американским ценностям и хочет нам за это мстить. Знаешь, такая неуловимая, но очень злая и страшная. ЦРУ, конечно же, засвидетельствует наличие этой силы, а она, в свою очередь, подтвердит правоту наших разведчиков парой добрых фейерверков. Конечно, кому-то из американцев придется заплатить за это жизнью. Но таковы жестокие правила игры. Зато с этой силой можно вести бесконечную войну и выкачивать на потребу Пентагона уйму денег.
– Я что-то не верю в твои фантазии, Збигнев. Вечно ты улетаешь в заоблачные выси в своих планах. А мне, грешному, надо думать о делах земных. А все-таки, как насчет войны с этими самыми талибами? Там можно завязнуть надолго, чего, собственно, и хотелось бы.
– Ты понимаешь, прицепиться пока не к чему. Талибы ведь нас пока не задевают. И как бы не попасть в положение русских. Война войной, а конец должен наступать по расписанию. С талибами этот номер может не пройти. Стрелки, скорее, указывают на обстановку вокруг Израиля. Сколько лет не удается расчистить его окружение! Тель Авив не решит вопроса с палестинцами до тех пор, пока не будут нейтрализованы его враги – иранцы, сирийцы, иракцы. Вообще, наши братья в Израиле уже начинают постепенно сходить с ума. Они перепробовали против палестинцев все, что только можно, а толку нет. Там кипит котел ненависти. Думаю, лучше всего начать войну поблизости от Израиля и установить там дружеский режим. Вот все и сдвинется с места.
– Ты предлагаешь поход против Сирии?
– Нет, лучше против Ирака.
– Ты в своем уме, дружище? У Хусейна, или как его зовут в Ленгли, Таракана, самая мощная армия в этом районе. Риск очень большой.
– Это отдельный разговор. Но если мы хотим убить сразу двух зайцев, а именно: расчистить площадку вокруг «земли обетованной» и учредить на ней дружественный режим, то лучше всего заняться Ираком. Во-первых, Ирак больше всего помогает палестинцам, больше сирийцев и иранцев. Перекроем этот ручей – уже станет намного легче. Во-вторых, там можно посадить светское правительство. Иракцы уже практически живут при светском режиме, только с демократией у них плоховато. А мы им от всего сердца подарим демократию и по соседству с Тель-Авивом возникнет свободное, правочеловеческое государство. Друг евреев, враг Ирана. Иранские же шииты наверняка объявят его «исчадием ада», а нам только это и требуется. В любой момент можно подпалить фитиль и отвлечь внимание от Израиля на войну между этими двумя странами. А так как Ирак будет демократическим, и мы не сможем бросить его в беде, участие Пентагона в тамошних делах обеспечено. Мы ведь не бросим в беде островок свободы в арабском мире, правда?
– Несомненно, Збигнев. Ни в одном уголке земли мы не бросаем своего брата-демократа на съедение бесчеловечным режимам. Только совсем не просто свернуть шею Саддаму и завезти туда нашу агентуру.
– Кто же говорит, что это просто? Надо думать, фантазировать, работать головой. У меня, к примеру, кое-какой план уже имеется.
– Очень любопытно.
– Да, любопытно. Как тебе известно, у Таракана не все в порядке с Кувейтом. Кувейт когда-то входил вместе с Ираком в одну английскую зону, и это не дает ему покоя. Очень хочется ему объявить Кувейт исторической родиной. А на самом деле ему нужны соседские богатства. У него долгов не сосчитать, хозяйство почти на издыхании, люди едва сводят концы с концами. В Кувейте же все прекрасно, одними налогами можно снимать огромные сливки. Очень лакомый кусок. Только Таракан побаивается поднять на него руку. Шум будет большой. Союзников-то у него маловато. Но, Джорж! Если Саддам будет точно знать, что США закроют глаза на его бандитскую вылазку, то он обязательно наскочит на Кувейт. Весь трюк должен заключаться в том, чтобы убедить его, что мы и пальцем не пошевелим. Он полезет, бьюсь об заклад! И вот когда его агрессия против суверенного Кувейта случится, никто не сможет остановить возмущенную Америку от активной защиты свободы и демократии в этом многострадальном регионе.
– У нас слишком слабые каналы влияния на Таракана. Я по службе в Агентстве помню их. Он этим людям не поверит.
– Не мне тебя учить, Джорж, как проводятся операции по дезинформации.
– Ты думаешь, Советы его не прикроют? Ведь у них там вложены немалые деньги.
– Прежние генсеки, конечно, прикрыли бы. А Горби… Ну что тут говорить, мистер президент. Ты же лучше меня знаешь ему цену. Здесь все будет в порядке. Мы протащим резолюцию по Таракану через Совет Безопасности ООН и устроим веселую прогулку на танках…
– Узнаю старого доброго Жабиньского, такого же боевого, как в годы юности – с сарказмом ответил Буш. – А ты не забыл, чем кончилась прогулка во Вьетнам, за которую ты так ратовал?
– Времена меняются, Джорж. Мы тоже изменились, да и Советы теперь уже не те. Теперь все получится.
– В общем, ты предлагаешь сценарий войны с последствиями. Если он удастся, то и европейцев можно будет неплохо пристегнуть к этому делу. Немного смягчим разногласия.
– Не знаю, не знаю, Джорж. Вспомни, как немцы и французы плевали в заваренную нами кашу между Тегераном и Багдадом. У них давно зреют претензии к нашим делам на арабском Востоке. «Справедливую» войну они, конечно, поддержат, а вот потом…
– Потом надо будет думать, Збигнев, как взять эту кампанию под более плотный контроль, потому что НАТО чем дальше, тем больше превращается в прокуренную говорильню.
4. Иван Звонарь
В лесном рабочем поселке Первомайске, отдаленном от таких культурных центров, как Муром или Арзамас, народ живет простой, незамысловатый. Досуг у него тоже не весть какой изысканный, в основном в сопровождении водки и самогона, отчего регулярно случаются драки. Взрослые мордуют друг друга довольно редко, только по серьезному случаю, то есть, с перепоя, а молодежь позволяет себе это удовольствие сплошь и рядом. Чтобы упростить подготовку к рукоприкладству, молодые люди собираются на танцплощадке, где и случаются бои местного значения.
Ваня Звонарь был ничем не хуже своих ровесников, и когда перешел в десятый класс средней школы, тоже включился в это увлекательное занятие. С танцев он частенько являлся разукрашенный синими и лиловыми «припарками», но всегда довольный собой. Что-то особенное было в этих боях. Нравились они Ване и, надо прямо сказать, парнишка быстро набирался боевой сноровки. А когда от его руки пал наземь выпускник исправительно-трудового заведения, местный бандит Щербатый, Звонарь понял, что надо выбирать бойцовскую судьбу. История эта началось с того, что однажды темным вечерком Ваня стоял с одноклассницей под черемухой и приспосабливался ее поцеловать. Порывы его вызывали в девушке противоречивые чувства, и она ему как бы не давалась. Короче говоря, все шло своим чередом и, конечно, дошло бы до поцелуя, если бы не местный клоун и редкая гнида Степан Чулков, в миру Чулок, возникший рядом с парочкой. Чулок был мал ростом, кривоног и ненавидел любовные сцены по той простой причине, что девицы отказывались с ним гулять. Он, как всегда, вонял перегаром и нарывался на скандал. Скандал получился быстро. Проходя мимо, Чулок прихватил девушку за талию, а Ваня не стал ждать и врезал ему в ухо. Гнида опрокинулся под кусты, но тут же вскочил и завизжал истошным голосом:
– Ну, тебе конец, гад зеленый. Недолго ждать будешь…
И с этими словами, петляя ногами, он скрылся из виду. Чулок был лет на шесть старше Ивана и входил в избранную группу «джентельменов», накрепко связавших свою жизнь с единственным в поселке питейным заведением. Группа эта в большинстве своем состояла из лиц, познавших горечь несвободы, и всегда была готова устроить представление по любому случаю. А уж поколотить школьника не могло рассматриваться иначе, как изысканное удовольствие. Так оно и произошло. На следующих танцах к Ване, сидевшему у бортика танцплощадки на лавочке, подвалил пьяный Судаков, один из членов вышеописанного клуба. Здоровенная его грудь светила салом из разреза распахнутой рубахи, рыжий ежик блестел каплями пота, а его и без того тупая физиономия смахивала на морду быка.
– Это ты моего другана забидел? – замычал Судаков, пытаясь схватить Ваню за лицо могучей пятерней. – Да я тебя…
Ваня вскочил со скамейки, оттолкнул нападавшего, но в это время у того из-за спины появился другой, более трезвый мститель, по прозванию Щербатый. Глаз его был хищно прищурен, а в зубах зажат окурок «Казбека», призванный указывать на то, что он расправится с Ваней, не вынимая папироски изо рта. Щербатый небрежно покручивал кистью татуированной руки, демонстрируя на пальцах щегольской стальной кастет. Ваня понял, что дело плохо. Эти ребята могут всерьез изуродовать, а то и отправить в могилу. С них станется. Но он не забоялся, не побежал, – ведь на него глядели десятки сверстников. Напротив, какая-то сила подняла парня над деревянным полом. Он легко отпрыгнул вбок и затем широко шагнул на противника, делая ложный замах правой рукой. Не ожидавший такой прыти Щербатый прикрылся от удара, на миг замешкавшись, и в этот момент Ваня что было силы припечатал его ногой под ложечку. Бандит разинул пасть, пытаясь вдохнуть воздух, и кулем рухнул на пол. Кастет на его руке глухо стукнул о деревянный пол. Танцплощадка мгновенно застыла в молчании. Пьяный Судак, забыв про Ваню, принялся тормошить упавшего, который, как потом оказалось, долго не мог встать на ноги. А Ваня, чтобы не накликать новую беду, тихо удалился домой.
Дальнейшее неоднократное участие в нарушениях общественного порядка вплоть до выпуска из школы подтвердило, что Ваня родился бойцом. Тело костистое, подвижное, верткое. Руки сильные, голова от ударов не кружится. Характер хладнокровный, бесстрашный. Не надо думать, что Ваня был прирожденным хулиганом, или, хуже того, резервистом мест не столь отдаленных. Совсем нет. Он был нормальным советским мальчишкой, жившим в той жизни, которая кипела вокруг него. Такова она была, эта жизнь. Да и сегодня она не лучше. Правда, немало его товарищей оказалось не в ладах с законом. Но Ваня счастливо миновал сию планиду и, следуя зову натуры, поступил после школы в серпуховское общевойсковое училище. Здесь ему понравилось. Тренировки, работа над собой, бег, стрельба, военная наука. Все, что требуется человеку, решившему стать по жизни бойцом. А через четыре года лейтенант Звонарь влился в ряды Советской Армии в качестве командира взвода в/ч №N в далеком городе Шауляе, начавшем отсчет длинного и зигзагообразного пути, по которому ему предстояло тянуть армейскую лямку.
Когда в июле 1988 года капитан Иван Звонарь получил от комполка приказ провести конвой из Газни в Кабул, внутри у него что-то привычно напряглось, словно невидимая рука взвела курок. По давней привычке он пробежал по себе внутренним взглядом: касательное ранение на голове зажило, руки на месте, без увечий, на ногах мозолей и потертостей нет, желудок не болит, только легкая изжога. Значит, порядок, можно работать. С этого момента и до конца операции все в нем будет напряжено и сконцентрировано до предела. Таков главный способ выживания на афганской войне, где враг прячется повсюду и выстрела его надо ожидать с любой стороны. Тот, кто не ждет – проигрывает. Иван научился не проигрывать, хотя играть в афганскую рулетку крайне опасно. Но он был профессиональным солдатом и не жалел о своей судьбе. Ему нравилось острое и сладкое ощущение риска, которое заставляет сердце биться бешеными толчками, многократно мобилизует организм, а потом приносит необъяснимое ликование. Такая привычка становится сродни наркотической зависимости, а полюбивший ее человек уже не хочет думать о том, как он рискует, когда вступает в противоборство с роком. Капитан Звонарь славился в полку своей везучестью. Но на самом деле вся его везучесть состояла в умении воевать, которое заключается не только в умении драться и метко стрелять, но и в способности жестко руководить солдатами и правильно оценивать ход боя. Все это было дано Ивану, и теперь он готовился провести очередной конвой на Кабул. Конвои редко доходили до цели без потерь, но их нельзя было не посылать. Они везли в центральный госпиталь тех раненых, которым не могли помочь полевые врачи. Авиация в Газни не садилась, потому что подлеты к вертолетной площадке постоянно обстреливались с близлежащих гор.
Военное положение в Афганистане осложнялось с каждым днем, и было ясно, что дело близится к печальному концу. Мощные вливания американских денег в пуштунские районы делали свое дело. Раскол среди пуштунов, главного афганского племени, к которому принадлежал советский ставленник Наджибулла, достиг своей крайней точки. И хотя Москва не жалела средств на его поддержку, Наджибулла проигрывал. Его партия халькистов планировала построение социализма, полагая, что в суннитском Афганистане, где всегда были сильны светские традиции, этот вариант возможен. Ислам она отодвинула на второе место. Его противники же, напротив, сделали ставку на исламских экстремистов, в массовом количестве тиражируя талибов. Под воздействием талибов движение против Наджиба стремительно превращалось в движение религиозных фанатиков, а эту силу может остановить только поголовное уничтожение. Халькисты не имели такой возможности. Их поражение в войне уже обозначилось.
Два БМП, три крытых ЗИЛа и один танк имели простую задачу: на большой скорости уйти из города и без остановок пройти около полутора сотен километров до столицы. Отдалившись от гарнизона, они оставались лицом к лицу с судьбой, и только возможность в случае засады вызвать вертолет из Кабула давала надежду на благополучный исход. Иван сидел на броне БМП рядом с рядовым Сергеем Седовым, его земляком, призванным из лежавшего неподалеку от его родины городка Окоянова. Сережка был совсем сосунок: девятнадцать лет, тоненький и розоволицый, он сверкал голубыми глазищами из под наезжавшего на глаза шлема и не понимал, что смерть ходит рядом. Да и кто из нас это понимает в девятнадцать лет? Он вообще ничего не понимал в жизни, потому что только начинал жить. А капитан Иван Звонарь знал, что такое жизнь и смерть. Он воевал в Афгане третий год и немало своих боевых братьев погрузил в «черные тюльпаны». Трясясь на броне БМП, Иван посматривал на рядового Седова, и теплое чувство разливалось по его душе. Сережка был ровесником его младшего брата. Тот также казался ему беззащитным перед внешним злом, и Иван всегда бережливо охранял братишку.
Звонарь предчувствовал, что на конвой будет нападение и запасся лишним бронежилетом, который отдал Сережке, велев прикрыть им ноги. Машину потряхивало на выбоинах дороги, жаркий пыльный ветерок задувал в расстегнутые ворота камуфляжей, солнце жгло нестерпимо. Конвой шел днем, потому что ночью не было прикрытия с воздуха. Вертолеты не имеют приборов ночного видения.
Машины прошли почти полпути, когда нарвались на засаду. При первых же выстрелах Иван дал команду «с машин», спрыгнул сам и тут же почувствовал резкую боль в животе, которая охватила весь низ тела. Он увидел рваную рану в пахе и понял, что в него вошел осколок. Засада была небольшой. Они отстреливались минут десять, а затем «духи» скрылись, и вызванная «вертушка» пригодилась лишь для того, чтобы забрать Ивана на борт. В госпитале Звонарю диагностировали повреждение позвоночника и паралич нижних конечностей. Через неделю он уже находился в Москве, в прохладной и просторной палате госпиталя им. Вишневского, но и там светила медицины подтвердили, что остаток жизни ему предстояло провести в коляске. Рядом с ним в палате лежал Сережка, которому разворотило осколками мышцы правого бедра. Если бы не бронежилет Ивана, то быть бы ему без ног, потому что основная масса осколков от минометного заряда попала в прикрытое «броником» место. Сережка благодарно посверкивал глазами на Звонаря и пытался развлечь его как мог. Ивану предстояло лежать еще полгода, когда Сергея выписали и демобилизовали. Прощаясь, он взял адрес командира и сказал, что обязательно навестит его после выхода из госпиталя. Ранение и госпиталь заметно на него повлияли. В лице рядового Звонарь увидел тень решительности, которая свидетельствуют о превращении мальчика в мужчину.
* * *
Когда ранним майским вечерком два санитара закатили коляску с Иваном в купейный вагон поезда Москва – Берещино и посадили его у окна, оживленный разговор попутчиков затих. Санитары пристроили коляску в тамбуре, договорились с проводником о том, что тот поможет Звонарю в месте прибытия, тепло распрощались, и, легко ступив на перрон, растворились в толпе. Звонарь оглядел попутчиков, увидел скромный провинциальный народ, не знавший, как себя повести от вида такого горя, и сказал первым:
– Не смотрите вы на меня так. Афганец я, еду в Первомайск. На родину. Что еще знать хотите?
Все молчали.
– Ну, тогда дайте мне возможность выпить. Мне надо выпить.
Вскоре появилась дешевая горькая водка, кое-какая закуска, и пошел тяжелый, тягучий разговор о жизни, об Афгане, о Горбачеве и о том, что нас не ждет ничего хорошего. Иван пил и не пьянел. На душе его саднило, в голове стоял сумрак. Он понимал, что жизнь его зашла в тупик, но не видел из этого тупика никакого выхода. В госпитале ему иногда приходило в голову, что все происходящее – кошмарный сон, от которого можно очнуться, открыть глаза, увидеть чистое голубое небо, веселых людей, работающих в поле, игру жеребят на лугу, блики воды в реке, побежать по зеленой траве и засмеяться громким, счастливым смехом. Но действительность тут же врывалась в сознание бессилием неподвижного тела и тоской безысходности, придавливавшей его тем тяжелее, чем ближе придвигалась его встреча с родиной. Сейчас ему было невыносимо ехать в тот край, который двенадцать лет назад он покинул выпускником средней школы, полным надежд парнем, отправившимся поступать в военное училище. Тогда его душу распирало от счастья, от чувства обретенной воли, от картин летней России, мелькавших за окном, от ощущения того великого и неизвестного будущего, которое мчится ему навстречу. А теперь его ничего не ждет в Первомайске, кроме убогого прозябания на инвалидную пенсию. Ничего, кроме этого. Ни работы, ни внимания, ни общественной помощи. Крохотная пенсия и полное забвение. Разве что поздравления школьников на 9 мая. Горький протест овладевал его душой. Протест против беспросветного будущего, против равнодушия государства, бросившего его в топку войны и почти забывшего о его жертве, протест против беспомощности и отупелости сограждан, не способных разбудить свои сердца для тех, кто положил за них свое здоровье. Горький, выедающий душу протест против всего света, так круто и несправедливо обошедшегося с ним.
На следующее утро Ивана вынесли из вагона на станции Первомайск. Проводники посадили его в примитивную коляску и устроили военный рюкзак с пожитками на коленях. Поезд коротко гуднул и тронул в направлении Берещино. Правда, здесь все знали, что не в Берещино вовсе он направляется. Это всего лишь крохотная деревенька перед въездом в конечный пункт – Арзамас 16, который с берендеевых времен до Сталина звался городом Саровом. Однако теперь Ивану это было неважно. Он приехал в свой родной поселок, где, впрочем, оставалась лишь дальняя его родня. Родители его отошли в лучший мир, пока он мотался по свету. Батя работал осмотрщиком на железке, но сильно закладывал, и водка его не пощадила. В пятьдесят два годика отчалил этот простой и скромный человек на погост, так и не дождавшись сына с войны. Мама стала после этого сильно тосковать и незаметно свернулась сухоньким листочком в своем опустевшем домике. Младший братишка, последовавший за ним по военной линии, учился в Московском погранучилище. В домике Звонарей поселился двоюродный племянник Ивана Вальгон, парень шальной и диковатый. Его не взяли в армию по зрению, и он терроризировал мать своим пьянством. Мать его, Юлия, учительница начальных классов, как могла боролась с сыном, но силы были не равны. Не было дня, чтобы он не умыкал из дома что-нибудь на пропой. Когда опустел дом Звонарей, она, как единственная наличествующая наследница, спровадила туда сыночка.
Теперь Ивану предстояло разобраться с этой ситуацией, а ситуация уже начала быстро развиваться. Он увидел шагавшего по перрону здоровенного, чернявого парня, в котором едва узнал племянника. Тот широко улыбался, придерживая рукой очки с толстыми линзами, и кричал издалека:
– Дядька Ваня, здорово, с приездом. Вот ты какой, дядек! Ну ничего…, что в каталке. Не такие дела решали…
Он подбежал к Ивану, неуклюже обнял его, повесил вещмешок на плечо и взялся сзади за спинку коляски.
– Ну, поехали домой, там мать уже стол накрывает. Чай, на родину приехал.
Юля была искренне рада увидеть родственника, хотя взгляд ее не мог скрыть боли от его беспомощного вида. Звонарь был когда-то видным женихом и хватким парнем. А теперь… На скромно накрытом столе стояла бутылка водки, миска с картошкой, квашеная капуста и соленые грибы. Аккуратно нарезанная буханка бородинского хлеба, который проводники привозили из Москвы, красовалась посредине этого натюрморта.
Сели за стол позавтракать, да так и засиделись за разговором. Сестра рассказывала уставшим и безнадежным голосом о житье-бытье, о знакомых и друзьях Ивана. Вальгон, крепенько захмелев, сидел молча, лишь часто курил, да иногда ввертывал словечко. Рассказчик он был плохой.
– Главное не в самой нужде, – говорила Юлия, – кто из нас ее не видел. Чай, войну еще не забыли, да и после войны всякое бывало. Богатыми никогда не были. И сейчас ведь не голодаем. Корка хлеба всегда найдется, хотя, конечно, при Брежневе не в пример лучше было. Другое давит, понимаешь, Ваня, другое. Земля из под ног уходит. Ведь человек на земле прямо стоит, пока себя человеком считает, а как только у него это отнимают, то он теряется, падает, понимаешь?
– Неужели перестройка так сильно вас подкосила? – удивился Иван, три года не бывавший дома.
– Не знаю, как сказать. Не перестройка это, а сплошная ложь вокруг. Все врут: Горбачев, его приспешники, газеты, журналы, начальники. Живем во лжи. Чего только не наплели про советскую власть, а нам обидно. Мы при советской власти людьми были, человеками. Зовут нас целину осваивать – идем, осваиваем. Мерзнем, голодаем, а собой гордимся. Мы – покорители целины. Гордимся, Ваня, а сегодня над нами какие-то евреи в Москве глумятся: советская власть нас за дурачков держала! Разве ж это не обидно? Мой папка с целины ничего не привез, кроме ампутированной ступни, отморозил он ее. Ничего, а мы им гордились! Дурачки, значит, были! Дурачки, значит, страну такую отгрохали, самую сильную в мире! А они нам врут, что на зековских костях страна построена. Не хватило бы никаких миллионов зеков для такого подвига. Вот мы и горюем, вот мы и пьем, вот мы и руки опустили, понимаешь?!
В разговор включился Вальгон. Пьяненьким голосом он поддержал сестру, но потянул разговор в свою сторону:
– И что мне такая перестройка, Вань, что я с нее имею? Меня с подстанции погнали – иди отсюда, пьянь. Точка, больше податься некуда. Везде народ лапу сосет. Так что я теперь никакой не электрик, а так, нулевая фаза. Ты что думаешь, я пропаду? Или мы тут все пропадем? Ну, нет! Мы не пропадем! У нас же добра пропасть! Вон мы с дружками сейчас шпалы из запаса продаем. Охраняемые! Продаем и пьем. Вот так-то. И будем продавать. Шпалы кончатся, провода продадим, провода кончатся, за рельсы возьмемся. Вот перестройщики и пусть по воздуху на паровозах летают. При помощи нового мышления. А нам то что! Они – нас, а мы – их.
Ивана пронял озноб от слов Вальгона. Парень он был, конечно, никудышный, с ранних лет к водке пристрастился, работник плохой, в общем, не удался. Но ведь он теперь не за себя, он за «общество» говорит. Неужели так плохи дела на родине?
– А что, и вправду с работой плохо? Раньше, вроде, трудностей не было.
Вальгон раздавил окурок в блюдце и пьяно уставился на родственника:
– Иван, ты что, с луны свалился? Или газет сто лет не читал? Горбатый до такой ручки страну довел, что полные кранты. Он же урод, Горбатый этот, умственный урод, сечешь? Заводы ни хрена не производят. Денег в казне нет. Продукты из загранки мороженые привозят и втридорога продают. А свои колхозы хиреют. На глазах рушимся. А ты – неужели, неужели!
Разговор их нарушили гости, одноклассник Ивана Мишка Колесов с женой, прослышавшие о приезде земляка. Мишка, в свое время с грехом пополам закончивший арзамасский пединститут, в учителях не прижился. Не его это было, не Мишкино, вечно сеять разумное и доброе, поэтому он решил высевать среди местных умов ростки культуры и сделался директором местного культурного очага. В своем новом статусе Колесов решил непременно носить галстук и штиблеты, несмотря на то, что главным дорожным покрытием Первомайска являлась вековая грязь. Грязь эта имела славное прошлое, ходили слухи, что в былые времена в ней даже утоп подвыпивший гражданин поселка. Известна также и посвященная ей частушка: «В Первомайске и округе нынче грязи будет всласть. В этой грязи темной ночью можно без вести пропасть».
Супруга Мишки, Зинаида, тоже была знакома Звонарю, она училась классом помладше. Колесов, как ответственный за мировоззрение граждан, видно, хотел порасспросить Звонаря о «большой жизни». Супруги чинно поздоровались и, последовав приглашению, присели за стол, выставив по местному обыкновению прихваченную с собой бутылку водки.
И снова разговор зашел о перестройке и о том, «что там, в Москве, думают». Первомайск, лесная глубинка, до перестройки жил скромной, упорядоченной и понятной жизнью. Здесь не было политики и власть не подвергалась сомнению. Измучившая московскую интеллигенцию несвобода слова была неизвестна, а товарный дефицит казался такой же естественной трудностью жизни, как холодный климат или отсутствие поблизости большой воды. Зато было то другое, что позволяет спокойно растить детей и не страдать бессонницей в мыслях о будущем – было осознание принадлежности к могучей державе-защитнице, которая худо-бедно в беде не оставит.
Местное население мало волновали трудности с выездом на поселение за кордон и невозможность образовывать партии. Кое-кто из них посетил Европу туристом и никаких склонностей к перемене мест оттуда не привез. Видимо, национальность у них такая, укоренившаяся. Поэтому они никак не могли понять, почему ради этих странных вещей у них отнимают державу-защитницу и лишают общественного попечения. И хотя в государстве ничего революционного еще не произошло, инстинкт безошибочно подсказывал, что им дурят голову. Они чувствовали, что грядет большой обман, и Иван сразу увидел это в первых словах своего одноклассника:
– Ваня, ты много чего повидал. Скажи свое мнение, что за игры с нами играют? Нам здесь ничего непонятно. Вроде бы о хорошем говорят, а жизнь все хуже и хуже.
– Нет, Мишаня, такие дела мне не под силу. За армию могу сказать, может тебе тоже интересно будет. Армия, как рыба, с головы гниет. Ей нельзя говорить, что коммунизм плохой. Она же его защищает. Как только армия услышала, что неправильно на свет родилась, так и пошла гнить со страшной силой. В подробностях лучше не рассказывать. От этого Афган и проиграли.
– Неужели наш солдат так ослаб?
– Да нет, Мишаня. Солдат, он и есть солдат. Он за Родину в бой идет. А мы что с Родиной сделали? «Империя зла» она у нас теперь называется. Вот тебе и причины. Генерал ворует, полковник пьет, капитан беду на сержантах вымещает, сержанты над солдатами измываются. И день ото дня это дело становится все страшней.
– В общем, в армии – как у нас, на гражданке.
– Похоже на это.
– Ну ладно, по всему вижу, ты пока еще из армейской жизни не вынырнул. Политикой не балуешься. Теперь скажи, что делать будешь. Тебе ведь тридцать только, как и мне.
– Вот тут, Мишаня, загвоздка. Руки, у меня, видишь, из жил свитые, а ног, считай, нету. Куда я здесь приспособлюсь? Пока не знаю. Да и не надеюсь ни на что. В поссовет скатаюсь, конечно, разузнаю, как что. Но не надеюсь….
– Будь у меня хоть какая работенка, я б тебя взял. Но нет ничего, Иван. Ничегошеньки. А в поссовете… Там председателем Махонькин. Знаешь его? Нет? Это к лучшему. Такой хорек, прости Господи. Про Афган лучше расскажи, Ваня, как там все на самом деле было.
Разговор затянулся за полночь.
* * *
Майский лес звенел щебетаньем птиц. От свежей листвы исходил сладкий запах молодой неги, первые лесные цветы уже раскрыли глаза и смотрели из-под кустов на мир удивленно и любяще. Вальгон толкал коляску с Иваном по еще не совсем просохшей лесной дороге и по привычке трубил во всю глотку:
– Ну и что тебе этот хрен Махонькин? Да мы таких делали, как хотели… Подумаешь, в трудоустройстве отказал…Безработных, блин, пруд пруди. Да написать в область на него кляузу и прижгут, как миленького. Найдет место какого-нибудь делопроизводителя. Чай там не ногами писать…
– Я, Валя, не для того на войне животом лег, чтобы здесь кляузы сочинять. Не буду я рядом с такой плесенью жить. Да и вообще все мне обрыдло. Один хочу быть, и все.
– Но как же ты там будешь без помощи? Там ведь нет ничегошеньки, только домишко этот, что на пепелище построили, когда Михалыча грохнули. И до поселка шесть верст…
– Михалыч хороший был мужик. И лесник толковый. Мы мальчишками вечно вокруг него увивались. А помощью моей ты будешь, племяш. Вот расположишь меня там, и два раза в неделю прошу в гости. Небось не кинешь?
– Куда ж я тебя кину, дядек? Чай не без души. Сделаю, что скажешь. Но все равно, одному страшно. И страшно и тяжело.
– Мне бояться нечего. А что тяжело, так лучше мне одному, чем других напрягать. Управлюсь. А ты пить кончай, не дури. От безделья это у тебя. Смотри, как батю моего она скрутила. И до тебя доберется. Бросай.
– Чего бросай, Иван! Здесь с тоски загнешься к чертям. Все оборзели, жизни не видят. Водка хоть на пару часов облегчение дает. Ты приехал, и то – свежий воздух. Хоть и инвалид. Эта перестройка нас окончательно задолбала. Все рушится. Все, понимаешь! Я что, один что ли пью? Весь Первомайск пьет как из брандспойта.
– Ну ладно, нам с тобой этого дела не решить, только и загонять себя на тот свет не надо.
Звонарь был переполнен злой решимостью отвернуться от мира. Две недели его пребывания на родине высветили всю безнадежность надвигающегося будущего. Попытки подыскать хоть какое-то занятие, чтобы не чувствовать себя выброшенным из жизни, закончились ничем. Теперь Первомайск стал не тем местом, где можно устроиться руководителем какого-нибудь детского кружка при доме культуры или читать лекции по международному положению. Казалось бы, перестройка должна всколыхнуть умы, оживить жизнь. Но этого не происходило. Отзвук оживления долетал издалека, из больших городов. А в поселке жизнь затихала, превращалась в незаметное, скорбное выживание. Иван понял, что ждать помощи не от кого, и в нем вспыхнуло страстное желание развязать этот узел самостоятельно. Первое, что пришло ему в голову – заняться тренировками своего полупарализованного тела: заставить ноги работать. Врачи говорили ему, что какая-то микроскопическая надежда на это имеется. Но и другое, неодолимое чувство овладело Звонарем. Он не хотел видеть общество людей, отказавших ему во всем. Теперь людской мир разделился на две неравные части: одна – всеобъемлющая, живая, движущаяся по своим законам, почти не замечающая его громада, и другая – он сам, бессильный, отдельный от этой части, не нужный ей. Звонарь не хотел этого странного и страшного положения. Все в нем рвалось к прежнему постоянному участию в ежедневном коловращении, а обида толкала отвернуться и уйти в себя. И это чувство победило, потому что и в самом деле сейчас для его натуры нужна была схватка с бедой один на один. Уйти, чтобы выжить, чтобы самому найти свой единственный, пока непонятно какой путь. Иван знал, как он рискует. Если в этой схватке он не достигнет своего, то перед ним откроется черная пропасть безнадежности. И такой решительностью наполнялась его душа при этой мысли, что лицо бледнело, а по телу пробегал нервный озноб.
Через час они достигли домика лесника в дубравнике, сохранившемся с незапамятных лет в местных лесах. Когда-то давно дуб был здесь главным деревом. Но его промышляли на продажу, и лес постепенно заполнялся смешанными породами. Теперь здесь разлился океан березы и сосны, перемежаемый пестрыми кустарниками.
Звонарь хорошо помнил лесника Михалыча, который присматривал не только за растениями, но по собственной воле помогал зверятам пережить холода. Охотничье хозяйство здесь от века было устроено кое-как, и звери сильно бедовали в снежные зимы. Лоси и зайцы драли горькую кору на осинах и ольхе, но пропитание это было никудышным, кабаны в жестокие морозы не могли продолбить клыками наледь под снегом, чтобы добраться до желудей и съедобных корней, птицы еще до Рождества склевывали рябину и калину и падали мертвыми от ночного окоченения. Всем нужна была помощь человека.
Михалыч смастерил для зверей несколько кормушек с навесами и развесил по лесу старые коробки, в которые насыпал зерен птицам. Старику доставляло удовольствие смотреть, как животные, которых он звал «беспризорниками», ждут очередной кормежки. Рано утром он привозил на ручных санях охапки сена и котел с варевом. При виде его лежавшие на приготовленной им же хвойной подстилке лоси поднимались на ноги и не спеша тянулись к кормушке. Их обгоняли несколько зайцев, нахально прыгавших прямо в лоток и выбиравших из сена остатки благодетельского супа. Куда недоверчивее вели себя кабаны. Они приближались к кормушке и чавкали вареной картошкой только после того, как лесник удалялся от этой столовой.
Позапрошлым летом Михалыч возился в своем малиновом садике, когда в лесничество нагрянул уазик с двумя милиционерами из района. Оба были сильно пьяны. Они бросили старику цинковое ведро и приказали до краев накачать в него меда. Старик пьяных не любил и спокойно им отказал. Тогда они связали его и стали бить. Михалыч был стар и умер после первых же ударов ногой в живот. Обнаружив смерть, милиционеры плеснули на старика водки, открыли один из ульев и засунули его туда головой, имитируя смерть от укусов. Пчелы и вправду покусали дурно пахнувшего хозяина. Убедившись в том, что не остывший еще старик опух, милиционеры уехали из лесничества. По пьянке они не догадались проверить, нет ли в домике кого-нибудь еще. А там спряталась жена старика, которая не высовывалась из избы, сообразив, что и ее в таком случае непременно убьют. Она сразу же примчалась в Первомайск и позвонила взрослому сыну в Горький. Сын тут же выехал в родной поселок, велев матери ни в коем случае не возвращаться домой. И правильно, потому что в ту же ночь ставни домика были подперты снаружи бревнами и дом сгорел. Сын лесника оказался мужиком твердым, подал заявление с показаниями матери в районную прокуратуру, когда же районная медэкспертиза сделала заключение о смерти старика от укусов пчел, настоял на повторной экспертизе областными паталогоанатомами. Эти доктора сделали заключение о кончине в результате побоев, и на том основании он добился взятия дела на контроль областной прокуратурой. В конце концов, следствие приняло нужный ход и закончилось осуждением обоих подонков на длительные сроки. В силу того, что разбирательство наделало в области много шума, повлекшего статьи в газетах и бесконечные комиссии, местные власти, в целях демонстрации своей оперативности, нашли деньги на строительство нового домика для лесничего, только работать там никто не хотел. Тем более, что зарплату платили очень маленькую.
Вот сюда и отправился Иван Звонарев, чтобы начать новую для себя жизнь человека, ушедшего от жизни.
5. Филофей Бричкин
Филофей Никитич брел по старым комнатам окояновского краеведческого музея. Музей располагался в бывшем особняке купцов Чавкуновых и глядел окнами на соборную площадь, где вместо Покровского собора уже много лет стоял неказистый куб Дворца культуры. Старое бревенчатое здание состояло из нескольких больших помещений, собравших в себе нехитрые осколки местной истории.
В одном хранились реликвии древних окояновских времен: утварь первых поселенцев, наконечники стрел и копий, сохи, прялки, кольчуги, шлемы и изъеденные ржавчиной мечи.
Во втором собрались свидетели эпохи установления советской власти. Со стен смотрели лица революционеров и первых красных начальников уезда, просветителей и жертв кулацких восстаний. Рядом висело оружие и личные вещи героев. Об объектах геройства – восставших кулаках и их прихвостнях – местная история не распространялась.
Третий зал повествовал о Великой Отечественной войне и развитом социализме. Снова фотографии героев, их ордена и военные формы, лучезарный портрет бригадира первой в районе бригады коммунистического труда, карта промышленных объектов и новых дорог. Все, как в любом провинциальном музее. Комнаты были богато уставлены чучелами местной фауны и знаменами красного и оранжевого цветов.
Филофей в бесчисленный раз разглядывал лики прошлого, ощущая при этом тревожную ноту в своем неправильно расположенном сердце. Будто на месте сердца сидел какой-то бронзовый сосуд, а от фотографий летели заряды, ударявшие в него и вызывавшие неспокойное гудение. Не зря он звал Данилу Булая сюда в гости. Чем дальше, тем больше музей заставлял его удивляться. Впервые Филофей обратил внимание на необычные явления, когда заметил, что фотографии на стенах регулярно перекашивает. Не все, правда, а некоторые. Уходя вечером, смотритель точно видел, что фото рабкора Силкина висело прямо. А утром приходит – висит вкривь. Чуда здесь, вроде, никакого нет. Здание деревянное, сруб, случается, «гуляет». То по весне, от смещения грунта, то еще от каких погодных неурядиц. Но так как перекосы повторялись постоянно, стал Филофей приглядываться к фотографиям повнимательнее и заметил, что выражение лиц на них меняется. Такое мнится многим людям, дело известное, и Бричкин не стал особо беспокоиться. Бывают вещи и похлеще. По-настоящему испугался он только тогда, когда увидел, что творится с портретом первого в районе комсомольского вожака Евгения Волчакова. Портрет был довольно большой, хорошего качества, снятый в тридцать первом году, когда Волчаков был уже не комсомольцем, а зрелым партийцем. Вожак красовался перед объективом в суконном пиджаке и белой рубашке с галстуком. Выражение лица у него было важное и значительно-задумчивое. Однажды, проходя мимо, Филофей почуствовал какое-то неудобство, словно от портрета шло магнитное излучение. Он взглянул на Волчакова и ужас сковал его тщедушное тело. У портрета не было глаз, точнее, вместо глаз виднелись бельма. Трясясь от страха, Филофей приблизился к фотографии и убедился: точно, бельма. Хуже того, он увидел, что лицо слепого искажено странной, жалкой улыбкой.
Филофей пискнул и стремглав выскочил из помещения. Но, когда на следующий день он притащил к фотографии директора музея, Галину Грошкову, то, как и следовало ожидать, глаза были на месте, а лицо излучало важную задумчивость. Галина глянула на Бричкина с выражением лица, которое говорило только об одном: маразм у дедка крепчал и пора было думать о его замене. Филофей и сам понимал свое положение, но что тут можно объяснить? Ничего… Людям не объяснишь, а самому-то надо разбираться. Иначе точно сойдешь с ума. Бричкин, приученный архивной работой к пунктуальности, решил для начала убедиться, что изменения в фотографиях происходят постоянно. Он стал каждый день изучать лики времени, при необходимости делая пометки в специально заведенном блокнотике. Сегодня он совершал свой ежедневный рейд. День клонился к закату, в помещениях музея сгущались сумерки.
Вот групповая фотография первого уездного исполкома. Трое стоят, трое сидят. В центре Алексей Булай, двоюродный дядя Всеволода. Высок, плечист, статен. Взгляд ястребиный. Погиб при подавлении бунта. Вот отдельной фотографией председатель местной ЧК Антон Седов. Тоже видный парень. Одет в кожу, на боку кобура, пенсне со шнурком. В глазах печаль, видно, чует смертный час. И он погиб от руки восставших. Эти фотографии без изменений.
Снова групповое фото – преподаватели педагогического училища, воинствующие безбожники. Вели борьбу с религией в уезде. А заправлял вот этот – Митя Тапкин. Сам из обедневших помещиков. Имение пустил на распыл еще его дед, поэтому Мите ничего, кроме родословной, не досталось. Но порода в нем видна. Лоб могучий, черты лица правильные, мужественные – красивый человечище. Сила характера у него была неуемная и применил он ее с большим размахом. Водил студентов грабить церкви и делать костры из икон на площади. Да и многое другое из этой же серии за ним числилось. Самого Митю Филофей не припомнит, а вот сын его в Окоянове отличался отчаянным пьянством, умер в запое, да и со внуками в этом тоже не все в порядке. Но фото его тоже без изменений. Пока, во всяком случае.
Филофей не заметил, как в комнатах установился полумрак, и тут ему стало особенно неуютно. Он хотел было вернуться в свой угол в прихожей, но неясное чувство остановило его. В комнате ощущалось присутствие еще кого-то. Страх цапнул за сердце птичьей лапкой, и Бричкин заспешил к выключателю, чтобы осветить помещение. Он сделал два торопливых шага и замер от того, что в этот момент раздался тяжелый мужской кашель. Как будто закашлялся курильщик, многие годы употреблявший зверский местный самосад. Так кашляли мужики в незапамятные времена, когда еще в хождении был табачок домашней выделки. Остолбенев от страха, Бричкин взглянул в темный угол, из которого доносился кашель, и увидел в нем очертания бородатого мужчины в старинном сюртуке.
«Купец Чавкунов», – пронеслась у него в голове страшная мысль. В бытность свою городским архивариусом, Бричкин хорошо изучил родословные знатных фамилий Окоянова и видел фотографии многих известных граждан города. Человек в углу был похож на хозяина дома.
Прокашлявшись, купец поманил Филофея к себе пальцем. Тот, не чуя под собой ног, приблизился.
– Что, думаешь, блазнится тебе? – спросил купец насмешливым голосом. – Не думай, не блазнится. Я здесь хозяин. Был хозяином и буду хозяином. Я этот дом возвел, мне им и управлять. А ты – прислуга, верно?
– В-в-верно – пролепетал Филофей.
– Вот и иди к себе, сторожи дом. И помни, что я здесь хозяин. Знаешь меня?
– Полагаю, Вы – товарищ Чавкунов…
Купец крякнул от возмущения:
– Это ж надо, в товарищи меня записал, дур-р-рак! Поди отсюда, нечего с тобой говорить. Да помалкивай обо мне, а то в приют для слабоумных свезут, мне скучно станет…
Филофей никогда не был верующим человеком, но и в материалисты тоже не рвался. Мог при нужде осенить себя крестным знамением на всякий случай, а в основном на Бога совсем не надеялся. Типичный человек эпохи забродившего социализма. И, может быть, это спасло его слабую психику от катастрофы. Будь он верующим, то решил бы, что к нему явился Сатана посчитаться за содеянные грехи, будь он неверующим, то сделал бы вывод о наступившем помрачении рассудка. В своем же теперешнем состоянии Филофей просто впал в недоумение.
Заперев музей и придя к себе домой, Бричкин цыкнул на жену, собравшуюся было предложить ему вчерашние щи, и стал рыться в своем заветном сундуке. Следует отметить, что, как и любой человек из крови и плоти, смотритель музея имел некоторые слабости. Одной из таких слабостей была склонность прибирать к рукам то, что ни народу, ни государству, по его мнению, уже никогда не пригодится. В городском архиве таких штуковин было более чем достаточно, поэтому сундучок Филофея за сорок лет безупречной службы пополнился довольно забавной коллекцией. Была в нем и тетрадь одного человека, уже давно канувшего в Лету, но в свое время пользовавшегося в Окоянове нехорошей репутацией. Звали этого человека Степан Нострадамов. Местные жители считали Степана колдуном и слегка побаивались, потому что громогласно провозглашенные им проклятья в адрес конкретных обидчиков частенько сбывались. Помер он в нищете еще накануне войны, и если бы не Бричкин, никаких следов об этом странном человеке не осталось бы. Но, копаясь в залежах всяких пыльных бумаг, Филофей не поленился полистать протокол милиции об изъятии бесхозных предметов из дома умершего Нострадамова. Заглянул он и в прилагавшуюся к протоколу рукописную тетрадку, полную неразборчивых каракулей. Кое-какие фразы он разобрал и счел их забавными. В результате протокол остался без приложения, да и кому оно было нужно? Позже Филофей пытался прочесть написанное в этой тетрадке, раскладывал буква к букве невозможную куролесицу почерка, но у него мало что получилось. Понял лишь архивариус, что рукопись заключает в себе штудии о сверхестественных явлениях, которые его разуму не доступны. Теперь Бричкин извлек со дна сундука означенный труд, заперся у себя в комнате и заново приступил к его изучению. Где-то в глубине его памяти тлело воспоминание, что в тетрадке есть место о бесплотных существах. И вправду, после недолгих поисков перед ним открылся раздел «Существа бесплотные». Филофей стал лихорадочно бегать по нему глазами, с удивлением отмечая про себя, что без труда понимает беспорядочный почерк автора.
«Существа бесплотные»
«Мятежный мой рассудок с детства доставлял мне множество несчастий неправильным пониманием окружающего мира. Повсеместно видел я такую связь вещей и явлений, которая другим была недоступна, отчего привелось мне испытать много горестей. Никто из близких мне людей не хотел признавать моих особенных качеств, зато все склонны были надо мной насмехаться, а то и мстить за открываемую мною правду. Еще в свои зеленые годы я был многожды бит за то, что говорил взрослым то, чего они слышать не хотели. Например, отчим мой страдал запоями и в пьяном виде бывал невообразимо жесток. Бил матушку мою смертным боем, и если дети попадались под руки – то и детей. Жизнь в такие периоды становилась невыносимой. Мы прятались от него кто где, дома не ночевали и много плакали. Никто не знал, как этому горю помочь. В трезвые свои дни отчим прибегал к помощи знахарей, но никто из них отворота от запоев ему не внушил. Между тем, я, будучи мальчиком десяти лет, сам того не осознавая, корень всего несчастья разглядел. А дело было так. В возрасте десяти лет я утонул во время купания в реке Теше. Сверстники мои из воды меня вытащили, но помощь оказать не умели и, пока прибежал фельдшер, прошло несколько минут. Прибежав, лекарь не обнаружил у меня ни дыхания, ни пульса. То есть, я был мертв. Но то ли фельдшер был кудесником, то ли не было на мою смерть попущения с Неба, но его усилия по моему оживлению принесли успех. Фельдшер вернул меня с того света. Я продолжил свой земной путь, однако со мной произошли большие изменения. Каким-то неведомым образом я стал видеть ту часть мира, которая от зрения остальных людей закрыта. Позже я понял, что вижу бесплотных духов, которые живут рядом с людьми.
И вот с тех пор стал я различать, что в нашем доме живет странное неосязаемое существо, напоминающее лохматого черта величиной с зайца. Были ли у него рога и копыта, я не знаю, потому что видел его смутно, словно через полумрак. Но существо это ни на кого, кроме отчима, внимания не обращало. Когда тот бывал трезв, оно пряталось под лавку и всем видом своим выказывало озлобление, как-то: хватало отчима за ноги, дергало и щипало его, отчего тот делал ногой движения, будто кого-то стряхивает. Когда же трезвость отчима слишком затягивалась, то этот черт ложился на него спящего, брал лапами за горло и начинал его душить. Дело кончалось одним и тем же. Утром отчим как полоумный вскакивал с лавки и спешно покидал избу, чтобы явиться вечером смертельно пьяным. В такой час нечистый очень радовался, скакал по валяющемуся отчиму, обнимал его, целовал, и, кажется, грелся его испарениями.
Об этом я рассказал матери, но та посмотрела на меня как на несмышленыша и решила, что это все детские выдумки.
Я же ко всему прочему заметил, что если отчим спит головой под киотом, где стояли иконы и постоянно тлела лампада, черт никогда до его горла не дотрагивался. Словно боялся попасть в свет лампады. Тогда я догадался подкладывать ему под подушку маленькую, освященную в нашей деревенской церкви иконку. Ночью я наблюдал, как себя ведет нечистая сила. Это было крайне любопытно, потому что стоило ей прикоснуться к отчиму, как ее начинали бить конвульсии и она отскакивала как ошпаренная. Но днем между ними продолжалась какая-то связь, потому что в эту пору отчим меня люто возненавидел и колотил по любому поводу. Я от него прятался и домой приходил запоздно, когда он спал. Но иконку ему под подушку исправно подкладывал. Это продолжалось довольно долго, пока отчим, наконец, не отдохнул от водки душой и телом и не взялся за ум. Он долго не страдал запоями и вернулся к ним, когда я покинул родной дом.
Свойство моё узревать бесплотные существа этим не ограничилось. Я скоро понял, что это качество весьма опасно. Нечисть будто понимала, что я ее вижу, и вела себя по отношению ко мне весьма злобно. Она всегда искала возможности напасть на меня, и, как я сейчас понимаю, если бы не детская моя безгрешность и православный крестик на шее, я бы пропал еще в самом начале жизни. Но каким-то неведомым образом мне дано было понять, что защиту от нечистой силы я могу найти только в храме Божьем. Еще отроком я стал по собственной воле часто посещать храм и на самом деле почувствовал себя уверенно. Постоянная наполненность души Иисусовой молитвой и своевременное причастие Святых Даров надежно меня охраняли.
Таким образом, я стал живым свидетелем того, о чем говорится в Святом Писании – я вижу козни бесов. Должен, однако, признать, что ангелы мне не являются, и я не знаю, как они выглядят и в чем их сила. Лишь иногда, в тяжелые минуты явления бесов я видел подобие зарниц, которые как бы сообщали мне, что Божья сила рядом и при нужде придет на помощь.
Обобщая опыт, ставший мне доступным на протяжении жизни, как своей, так и сограждан, а также опираясь на Святое Писание, подчеркну главную особенность нечистого духа – не в силах побороть Господа, он пытается побороть его подобие – человека. Чем чище человек, тем большую злобу он вызывает у нечисти, потому что в чистоте своей больше уподобляется Господу нашему. А мы, православные, себя обманываем, мол, чем тверже каноны веры соблюдаю, тем недоступней я становлюсь для Сатаны. Это гордыня. На маловере свои зубки бесовская мелочь точит, а на подвижника и сам Сатана из логова выйдет и подвергнет его страшным соблазнам. Поэтому остерегайся, истинно верующий! Чем меньше грехов ты совершаешь, тем сильнее нечистая сила будет атаковать тебя своими соблазнами. Но на то нам и дана Святая Православная Церковь, чтобы под ее кровом искать себе защиту от этих нападений. Помимо всяких правил, известных каждому верующему, возьму на себя смелость изложить еще и ряд советов для тех, кто хочет держаться от нечисти подальше.
Совет первый. Строго возбраняется жить в неосвященном доме.
Второй совет. Если в доме постоянно бывает много посторонних людей, его следует ежегодно окроплять заново. Помимо того, никогда нельзя забывать, что нечистая сила живет в неосвященных помещениях. Сделал пристройку к дому – не забудь ее освятить отдельно. Ибо разведешь гнездовище нечисти…».
Филофей читал эти наставления, больше напоминавшие правила для кержацких староверов, и не находил ничего о домовых. Наконец, когда он уже начал терять надежду, появилось нечто похожее:
«Домовые – это не черти, а скорее всего, души людей, оставшиеся рядом со своим жильем и не взятые по каким-то причинам Господом в Царствие Небесное. От этого они злобны норовом и от них следует ждать нехороших дел. В каких случаях они становятся видимыми, не ясно. Возможно, когда захотят того сами. Одно только верно: они относятся к нечистой силе, Господней благодати лишены и при крестном знамении исчезают. Особенно сильно на них влияет молитва Честному Животворящему Кресту».
«Ну, тут ничего нового для меня нет – подумал Филофей, – хотя теперь знаю, как его изгонять. А дальше-то как быть?» Но тетрадка далее переходила на повествования о черной магии, и это к делу касательства не имело. Бричкин лег спать в задумчивости и неопределенности. Однако мысли о том, что из музея лучше бы уволиться, он не допускал.
* * *
Филофей Бричкин спал тревожным и неприятным сном, не подозревая, что в музее также происходят своего рода неприятности.
И неприятности эти имеют самое непосредственное отношение к экспонатам. Не будем уходить в сторону и рассказывать об искусстве создания музейных коллекций. В этом искусстве больше от мистики, чем от науки. Но составлять такие коллекции людям бесчувственным, а тем более нерелигиозным, а значит, безнравственным, категорически запрещается. Вы, однако, понимаете, что окояновский музей составляли советские работники, очень далекие от подобных требований. Вот и оказалась сабля Федора Собакина, командира местного отряда ЧОН, над портретом Фани Кац, уполномоченной по борьбе с детской беспризорностью. Мы-то теперь понимаем, что холодное оружие, срубившее не одну бандитскую голову, не может быть мертвым куском железа. Это своего рода оголенный нерв, источающий в пространство черный ток. Повесьте такую саблю у себя над кроватью и посмотрите, что будет. А она уже шестьдесят лет занесена над нежнейшей Фаней Кац, которая всю свою душу отдавала беспризорным оборвышам, пока ее не обвинили в связях с японской разведкой. Полвека она терпела это немыслимое соседство. А куда было деваться, когда в музее застыли торжественные и грозные звуки «Марсельезы», и любое движение против них рассматривалось музейным населением как измена делу революции?
Фаня терпела и мучилась, хотя при жизни была не прочь повеселиться и соединить свою плоть в резвых играх с каким-нибудь революционером. А изменить сложившееся положение ей очень хотелось, и она ждала своего часа. Желание это было естественным, ибо как мы с Вами знаем из истории Отечества, истоком многих народных начинаний, кончавшихся, как правило, плохо, являлась резвость наших еврейских сограждан. Были, правда, исключения, вроде вольниц Разина и Пугачева. Здесь патриотическим историкам не удалось раскопать шустрое еврейское копошенье. А в остальных случаях – будьте любезны. Вот и в окояновском музее, никто иная, как Фаня Кац, собралась баламутить устоявшуюся строгую благодать. Не зря уездные активисты, шагнувшие в революцию в основном из сельской местности, считали ее сучкой. Хотя понять их можно. Крестьянин, он и есть крестьянин, этим все сказано. А Фаня была страстной сторонницей известной большевистской дамы Коллонтайки, которая на почве личного темперамента требовала отмены семей, хотя бы в собственном окружении. Только в Окоянове лозунг обобществления женщин приживался плохо. Местные мужики на практические занятия к Фане бегали, но за баб своих держались крепко.
Наконец, Фанин час пробил. В эфире раздалось радостное стрекотанье, напоминавшее человеческую речь. Это генсек Горбачев праздновал открытие «нового мышления». Вместе с ним радовалась еще целая армия горлохватов, сообразивших, что дурачок готовит для них Большую Охоту. Но главное состояло в том, что от этого шума эфир стал разогреваться, а застывшие звуки «Марсельезы» – таять. И вот однажды Фанина фотография, торчавшая в этих звуках, как муха в смоле, почувствовала освобождение. Звуки испарились, и она повисла лишь на одном гвоздике. Надо знать неуемную Фанину натуру, почуявшую возможность освободиться. Товарищ Кац стала немедленно раскачиваться, и довела дело до того, что фотография грохнулась на пол из под кровавой саблюки Федора Собакина. На полу ей было лежать не впервой, и фотография блаженно заулыбалась. Но над ней тут же сгустилась тень купца Чавкунова, исполнявшего, в силу своего положения, роль старшего по помещению. В бытность свою во плоти, купец являлся членом местного «Союза Михаила Архангела» и уже тогда хотел призвать к порядку распоясавшихся иудейских сограждан. К тому же, михаилархангельцы боролись с распущенностью нравов, и распутное поведение Фани никакого одобрения у купца не вызывало. Не в силах материализовать плевок, что он обязательно сделал бы при жизни, домовой изо всех сил сгустил свой образ и уселся на фотографию, изобразив собой картину удушения порока седалищем. Если бы в тот момент в помещении находился кто-нибудь, способный слышать мир в режиме сверхультразвука, то он оглох бы от поднявшейся какофонии. В музее началось светопреставление.
6. Булай и Рочестер
Булай приближался к дворцу Цициленхоф пешком, после трехчасовой проверки на автомобиле, который бросил на одной из улочек Потсдама. Неподалеку от дворца он увидел сотрудника из группы обеспечения. Тот дал сигнал, что все спокойно, и Данила направился к обозначенной в письме неизвестного англичанина точке встречи.
Парк Цицилиенхофа цвел всеми цветами радуги. Стояло начало июня – пора наибольшей цветоносности немецкой природы. Белые, желтые, лиловые, розовые облака кустарников на фоне зеленых деревьев, пестрые разливы цветочных клумб на лужайках и алые брызги вьющихся роз на каменных стенах дворца делали парк райским уголком, совсем не предназначенным для напряженной работы. В воздухе монотонно жужжали насекомые, солнце сверкало в наборных окнах, на аллейках весело переговаривались туристы. В природе царило благостное настроение.
«Точно, англичанин, – подумал Данила, наблюдая со скамейки, как у обозначенного места встречи томительно ошивается человек в темном костюме и рубашке с галстуком – СИС тем и гордится, что не учит иностранных языков и не прячет своих привычек». Он не спеша подошел к незнакомцу и произнес назначенный в письме пароль:
– Простите, это Цицилиенхоф, или я не туда попал?
– Нет, нет, Вы попали как раз туда, – ответил тот нужной фразой.
– Давайте присядем вон там, в тени, и поговорим о Ваших проблемах, – предложил Булай. Весь его прежний опыт разведывательной работы в части, касающейся англичан, был негативным, и сейчас он не был расположен с ходу включаться в грядущую драму пришельца. Они сели рядышком в тени акации, и англичанин сразу взял быка за рога.
– Я нуждаюсь в деньгах. Моя фамилия останется вам неизвестной. Ценность моей информации Вы поймете сразу. Мое предложение: я даю вам первую партию бесплатно, вы оцениваете товар, затем мы начинаем договариваться о дальнейшей продаже. Эта личная встреча – единственная. Затем будем общаться только через тайники. У меня есть год, чтобы поработать на вас, потом я уйду. За этот год вы можете решить многие ваши задачи. Мое предложение понятно?
– Мне пока многое не понятно. Например, у меня сильные сомнения, что Вы, мистер, работаете в СИС. Тот пароль и отзыв, который Вы придумали, попахивает любительством. Это во-первых. Во-вторых, вам не кажется, что работать с неким неизвестным дядей, покупая у него неизвестно что, относится к области шпионских шуток? Мне вообще-то нет никакого дела до вашей фамилии. Вы просто можете передать мне список вашей резидентуры в ГДР, а я сравню его с имеющимися у нас данными, и все станет ясно. Если вы соврете, мы это сразу увидим. А если вы скажете правду, то это как минимум два года комфортабельной английской тюрьмы. Вы меня, надеюсь, понимаете?
– Почему Вы решили, что я работаю в Восточном Берлине?
– Если Вы всерьез хотите скрыть место проживания, то не ходите больше стричься в парикмахерскую на Унтер ден Линден. Там хорошие мастера, только они совсем не визажисты. Да и лицо Ваше мне знакомо, хотя я здесь недавно. Видимо, пересекались на протокольных мероприятиях. Но это пока ничего не меняет. На данный момент я могу поверить в то, что вы англичанин. В остальном же, как учит печальный мировой опыт, доверять англичанам означает балансировать над выгребной ямой.
– А в исключения Вы верите?
– Конечно. Докажите, что Вы – исключение. Расскажите, например, какое горе заставило Вас придти к нам с этим предложением.
– У меня не было никакого особенного горя. Просто я оказался не совсем подходящим английской системе. Я имею, видимо, искривленный позвоночник, который не укладывается в футляр этой системы. О подробностях Вы не узнаете. Но вы можете твердо исходить из того, что я ненавижу Ее Королевского Величества Альбион с его обычаями и бульдожьей бесчеловечностью. Я ненавижу то, чем гордится английская знать, хотя принадлежу к ней. Она, эта знать, настоящая свора бездушных псов, среди которой выживает только самый бездушный. Вам этого достаточно?
– Я сам люблю пафос, Джонни, можно я буду так вас называть? Может быть, этим распространенным именем я даже попал в самую точку. Что может быть трогательнее надрыва? Наверное, ничего. А список резидентуры вы принесете или нет?
– Принесу, слово джентельмена.
– Хорошо. Сделайте этот список приложением к вашей первой информации. А там посмотрим.
– Договорились.
– Вот и отлично. Теперь отработаем условия связи. Прошу прощения, но придется в этом вопросе довериться мне. Вы не против?
– Нет.
– Тогда имейте в виду, что только на тайниковых операциях мы все дело прокрутить не сможем. У нас обязательно появятся к вам вопросы. Давайте встретимся после первой операции в Фюрстенвальде. Вот адрес гастштетта, который вполне подходит для спокойного разговора. Хорошо?
– Хорошо. А что касается тайников?
– Здесь, в пакете, схема первого тайника. Надо только условиться о времени.
* * *
– Это Джон Рочестер, – сказал начальник Данилы Тишин, рассматривая фотографии, сделанные во время встречи. – Мы его, в общем-то, знаем как чистого дипломата. Видимо, малый из глубокого прикрытия. Что ж, может, это к лучшему. Будем выходить на первый тайник. Дадим англичанину псевдоним «Карат».
Через две недели Булай принес контейнер, заложенный «Каратом» в парке Сан Суси под фундамент чайного домика. Разломив небольшой кусок гниловатой древесины, они обнаружили в нем капсулу с двумя фотокадрами, сделанными любительской камерой. Джон демонстрировал догадливость и к профессиональной технике не прибегал.
Проявив и распечатав их, разведчики увидели на одном список резидентуры СИС в ГДР, а на другом – документ СИС, который был незамедлительно переправлен в Москву. Вдогонку пошла телеграмма, комментирующая этот документ.
Сов. секретно
Тов. Ермакову
Тот факт, что документ исполнен в СИС, не вызывает сомнения. Все реквизиты соблюдены с предельной точностью. Его содержание, на первый взгляд, так же заслуживает доверия. В ГДР осело довольно много иранцев и иракцев, имеющих связи с родиной. Режим Хусейна не оставляет своих земляков без внимания и ведет среди них агентурную работу. Этим же занимаются и англичане, традиционно уделяющие региону большое значение. Поэтому вполне вероятно, что их оперативные интересы в иракской диаспоре пересеклись, и СИС перевербовала агента иракской разведки из числа влиятельных эмигрантов. В таком случае, та дезинформация, которая передается из Лондона в Берлин для продвижения далее в Багдад, вполне может быть предназначена для реального использования. Мы считаем оправданным принять версию, соответственно которой нам удалось перехватить канал дезинформации англичанами режима Хусейна, проложенный через иракскую диаспору в столице ГДР. Дезинформация передается через влиятельного иракского эмигранта, который проходит у СИС под псевдонимом «Ходжа» (установочные данные не известны). Ему отработана легенда, соответственно которой он имеет связи в английском парламенте и может получать от них информацию по собственной стране. Являясь агентом-двойником, «Ходжа» работает на англичан, так как по всей вероятности, связывает свое будущее с ними. Англичане доводят через «Ходжу» иракской разведке, что Даунинг стрит не будет требовать серьезных санкций против Ирака в случае его агрессии против Кувейта.
Голубев.
7. Вас там не ждут
На этот раз они встречались в небольшом чистеньком гастштетте в Фюрстенвальде, неподалеку от Берлина. «Карат» в целях конспирации оделся в повседневную одежду и это выглядело еще необычнее, чем его черный костюм в Цицилиенхофе. Легкий блейзер синего цвета, светлая рубашка с шелковым шейным платком, белые вельветовые брюки «поло» над башмаками «феррогамо» выдавали в нем гражданина Великобритании голубых кровей.
– Насколько я понимаю, Джон, вы сегодня инкогнито, и, чтобы никто вас не узнал, приехали на «Ягуаре» с британским номером.
Рочестер дернулся всем телом:
– У вас странные шутки, мой друг. Я приехал на русской «Ниве», чтобы вызвать у вас хоть какую-либо симпатию. Мог ли я представить, что советская разведка столь враждебна к своим лучшим источникам!
Данила рассмеялся:
– Похвально ваше стремление встать в ряды наших лучших источников. Но чтобы не сгореть раньше времени, купите себе комплект одежды в Восточном Берлине. Теперь перейдем к делу. Тот список резидентуры СИС, который вы передали, в общем-то не плох, но у нас есть вопросы. Похоже, вы знаете не всех своих коллег.
– Вполне вероятно. У нас часть работников глубоко зашифрована. Я не писал о своих догадках и указал лишь достоверно известных.
– А что касается догадок?
– Дайте мне немного времени, ладно? Я поработаю над ними.
– Хорошо. Оставим эту тему на время. Потом вы сами к ней вернетесь, идет?
– Да, пусть будет так.
– Теперь я хотел бы порасспросить вас о той бумаге, что вы нам передали по Ираку. В чем смысл подталкивания Хусейна к захвату Кувейта? В любом случае возникнет кризис. Цены на нефть прыгнут вверх. Это может быть выгодно нефтяным монополиям, но ни экономика США, ни экономика Великобритании от этого не выиграют. Наоборот, они понесут убытки.
– Нет, конечно, мистер Булай. Я ведь не ошибся с вашим именем?
– Нет, нет, мистер Рочестер. Здесь между нами взаимопонимание.
– Так вот, речь не идет о ценах на нефть. Здесь ставки повыше. В центре заговора стоит Израиль, Вы уж поверьте мне, англичанину. Лучше нас никто не знает еврейское закулисье. Например, в войне между Ираном и Ираком за многие ниточки также дергал Тель Авив. Другое дело, что он действует через лобби в Вашингтоне и Лондоне. Мы называем это лобби «стеной плача». Израилю очень надо не допустить объединения мусульман, потому что ислам и талмудический иудаизм – это вода и огонь. Они – враги навсегда.
– Интересно, и кто же из них огонь, а кто вода?
– Иудаизм, точнее говоря, талмудизм – это огонь жажды власти и богатства. Ненасытный, агрессивный, всегда в движении. Но он мал и не растет числом. А ислам – это вода отрешенности и духовности. Они – враги в самой сути отношения к жизни. Ислам окружает костер талмудизма как океан. И если волна взметнется, то сметет все на своем пути. Объединившиеся мусульмане легко затушат костерок Израиля. Поэтому евреи всегда будут разделять и запугивать мусульман. Победная война в регионе и есть нагнетание страха. Им всем будет показано, что США и Израиль способны сломать хребет кому угодно.
– И насколько вероятно осуществление этого плана, по оценкам СИС?
– С учетом нашего знания особенностей Хусейна – весьма вероятно. Мы спровоцируем его на захват Кувейта, а затем накажем с помощью Организации Объединенных Наций.
– Вы думаете, и СССР тоже не будет возражать против войны всего света с Ираком?
– А каким образом? Бандитизм Хусейна будет налицо, попробуйте проголосовать против. Другое дело, будь Вашим вождем Брежнев или Андропов, они втихую поставили бы Ираку немножко хорошеньких ракет, от которых «освободителям» стало бы тошно. Эти лидеры хорошо понимали, чего стоит международный театр марионеток и умели работать на собственную страну, а не на кукловодов. Только сегодня у Вас другой пророк, и мы можем не опасаться его противодействия. Ему, видимо, наплевать, что там происходит. Хотя, оставаясь в стороне, Вы потеряете симпатии мусульман. В мировом раскладе сил СССР надо быть вместе с угнетенными. Вы должны хорошо понимать, что несмотря ни на какую перестройку вас не ждут в стане хозяев мира. Там Вас ненавидят и боятся генетически. Вы понимаете, что такое генетический страх?
– Что я под этим понимаю, не столь важно. Мне хочется послушать Ваше разъяснение.
– Жаль, что Вы не учились в Кембридже. На этой псарне молодым щенкам все объясняют с предельной откровенностью. Смысл генетического страха заключается в том, что когда один народ долго бьет другой народ, то первый начинает его бессознательно бояться. Вам понятно?
– Сама мысль проста, как мычание. Но, как правило, боятся забияк. А мы, русские, никогда в забияках не ходили.
– Тогда давайте возьмем краткий курс мировой истории и пробежимся по нему. Мы узнаем, что вы, русские, из века в век колошматили своих европейских соседей. Неважно, что соседи сами были разбойниками и вечно хотели то земли вашей оттяпать, то вас совсем поработить. А их за это колошматили, причем весьма обстоятельно. Европа всегда проигрывала России войны и никак не могла понять, почему. Смотрите: было время – мы весь мир поработили. Всю планету колониями опутали. Потом вместо колоний новую систему эксплуатации построили, а с Россией ничего поделать не смогли. Не смогли, мистер Булай. И действительно, непонятно, почему? От этого и придумывали себе всякие глупые оправдания: Наполеона победил маршал Голод, Гитлера – генерал Мороз, поляков завел в лес Джон Сусанинг, а шведы сами под Полтавой заблудились. Глупо же, так ведь? Мы помалкиваем о том, что Россия – это самостоятельная цивилизация, вырастившая собственный тип человека, очень не похожего на нас. Он не гнется перед чужой силой и перед чужой культурой. Ну что с ним не делай, а он остается другим. Мы помалкиваем об этом потому, что ваша цивилизация в своей природной основе сильнее нас. Для этого имеются объективные причины. Но говорить так – значит рекламировать вас. Нет, нет и еще раз нет! Мы будем говорить о вашей дикости и недоразвитости, о вашей неспособности быть цивилизованными, но в нашей памяти никогда не исчезнут унизительные проигрыши от вас, недоразвитых. Запад долгие века пытался взять Россию нахрапом или переиначить ее изнутри, а в результате получал по зубам. Какое историческое чувство, кроме враждебности и страха, может из такого опыта произрасти? Но вот приходит Горби и говорит: не бойтесь ребята, мы станем точно такими же, как вы. А мы думаем: ну как же ты, убогий, это сделаешь, ведь вы же совсем другие. У вас своя цивилизация. Мы это знаем на собственном опыте, на собственной шкуре. Вы – другие. Не будет у вас как у нас. У вас будет по своему, правда неясно, как. А вслух мы говорим: браво, Миша, ах, какой душка! Сейчас во всех столицах мира аплодируют перестройке. Но, думаете, хоть один человек предполагает, что из вас получится большая Великобритания или, тем более, Америка? Нет, конечно. И поэтому под бурные аплодисменты мы будем обставлять вас военными базами и ракетами.
– Объясните, что заставляет вас думать об особом русском типе? Чем мы отличаемся от европейцев, по их собственному мнению?
– Биологически ничем. А сознание выросло в совершенно других условиях. Если говорить кратко, то европейцы смотрели на внешний мир многие века подряд сквозь забрало католической экспансии. Они по жизни агрессоры. А православные никогда не шли на чужие земли с мечом и огнем. У вас, наоборот, сознание оборонительное. Так вот, как показывает опыт, оборонительное сознание гораздо сильней агрессивного. Оно жертвенное и стоическое. Ведь и вправду, тот, который нападает, может при неудаче плюнуть и уйти. А тот, который обороняется, должен стоять до конца. У него нет выбора. Поэтому и воспитались такие несгибаемые русские homo erectus. А воспитали этих «человеков прямоходящих» – ваши священники, потому что они привили славянским племенам особую самоотверженную духовность, какой нет у нас. Кстати, вам не кажется, что это я должен быть слушателем, а вы – рассказчиком?
– Услышать такое изложение от русского человека не удивительно. А вот от вас… Как вы пришли к таким вещам, ведь вас наверняка им не учили?
– Когда осознаешь лживость взглядов, которые тебе прививают в родной стране, то начинаешь искать правду. Я прочел кучу различных книг, в том числе марксистских, и постепенно пришел к выводу, что у нас огромное количество идейного материала направлено против России. Прямо и опосредованно, чаще опосредованно. Возник вопрос, почему? Тогда я стал читать произведения русских писателей, и обнаружил, что в них постоянно идет речь о душе и Боге. Логика привела меня к изучению роли православия в русской жизни, и я увидел, как с православием расправился марксизм. А ведь марксизм – это европейский проект, насильно принесенный в Россию. Пример расправы европейского проекта над русским православием очень нагляден. Он точно характеризует истинное отношение Европы к русскому народу. В общем, я не новичок в вашей истории. Русское развитие является антиподом европейскому развитию. Это только в непорочном сознании Горбачева могла возникнуть иллюзия, что русских ждут на Западе. Вас там не ждут! Запомните это очень хорошо. Даже если вы и превратитесь в некое подобие демократического и рыночного государства, Запад будет заинтересован в вашей слабости. Генетический страх не прошел и не пройдет никогда, потому что русская цивилизация в своем ядре сильнее европейской за счет своей духовности. Думаю, что именно с этой точки зрения вам и нужно получать информацию о маневрах Запада вокруг России.
«Твои бы слова да Горбатому в уши, – подумал Данила, – хотя, что толку. С этим глухарем мы все равно увязнем в дерьме».
– И насколько серьезно Вы относитесь к православной церкви, ведь она почти разгромлена?
– У нас так считают немногие. Тысячелетняя религия не уходит за пятьдесят лет. Сравните: тысяча и пятьдесят. За тысячу лет религия становится частью сознания и подсознания. Я не случайно упомянул о вашей генетической силе. Об этом ведь и Папа Римский, и другие папы, помельче, хорошо знают. Христианство – это не случайное мировое явление. Не случайное, мистер Булай, не знаю, атеист вы или верующий. Я-то был англиканином, да бросил это дело, потому что уж очень много среди англиканских священников развелось любителей маленьких мальчиков и просто вульгарных педерастов. А вы, православные, – единственные прямые наследники этой неслучайной силы. В этом и есть ваш генетический заряд. Разгромлена была лишь материальная сторона православия – само здание церкви. А духовная культура оставила корни, и они дают новые побеги. Сейчас начинается попытка загасить возрождение русского христианства. Вы, наверное, знаете, какие толпы иеговистов, адвентистов, баптистов и других шаманов уже оперирует в России и какие деньги тратятся на их поддержку. Но я не верю в успех этого предприятия. Скорее всего, православие продолжит возрождаться. Но весь вопрос в том, с кем пойдет молодежь. За нее развернется самая ожесточенная драка. Но она еще впереди. После того, как у вас в стране окончательно победят силы демократии и прогресса.
– Вы в этом уверены?
– Более того, я готов продать вам разведывательную информацию по этому вопросу. Вы согласны?
– Куда же деваться. Давайте договариваться. Но как всегда, сначала товар, потом деньги.
8. Подготовка войны
Сов. секретно
Директору ЦРУ
Уильяму Вебстеру
В ходе реализации плана «Анкер» нами осуществлено доведение до окружения С. Хусейна направленной информации по проблеме Кувейта.
Источник, сотрудничающий по нашему заданию с военным атташе Ирака в Сирии, передал ему выдержки из сфабрикованного нами «секретного доклада» Государственного департамента Президенту по положению в Ираке. В документе дается анализ состояния экономики этой страны и делается вывод о том, что Хусейн не может рассчитывать на восстановление нормальной жизни собственными силами. Далее в докладе отмечается наличие у Хусейна идеи решить свои проблемы за счет захвата процветающего Кувейта. Идея оценивается как реалистическая и дается рекомендация администрации президента, в случае агрессии Хусейна против Кувейта, ограничиться только формальной критикой. О реакции Багдада будем информировать.
Зам. Директора ЦРУ С. Макгрегори.
1.1.1990 Резолюция директора ЦРУ: «Прошу приступить ко второму этапу операции». У. Вебстер
* * *
Сов. секретно
Директору ЦРУ
У. Вебстеру
В ходе второго этапа операции «Анкер» наш источник из числа высокопоставленной аристократии Кувейта довел до установленного агента Хусейна следующую информацию.
В Кувейте с тревогой наблюдают за повышением активности иракской военной разведки на кувейтской территории. Полагают, что Хусейн готовится к реализации давно вынашиваемого им плана захвата страны. Это побудило кувейтских руководителей провести ряд зондирующих бесед в Лондоне и Вашингтоне относительно получения гарантий безопасности на случай агрессии Ирака. По результатам консультаций никаких обещаний в помощи они не получили под предлогом надуманности их тревог.
Это заставило их сделать вывод о том, что президент Буш и премьер Тэтчер готовы пожертвовать Кувейтом ради сохранения сильного и боеспособного Ирака – регионального противника Ирана. О реакции Багдада будем информировать.
Зам. Директора ЦРУ С. Макгрегори.
10.2.1990 Резолюция директора ЦРУ: «Прошу связаться с СИС и приступить к третьему этапу операции». У. Вебстер
* * *
Сов. секретно
Директору ЦРУ
Уильяму Вебстеру
В ходе третьего этапа операции «Анкер» наш агент «Ходжа» из числа крупных иракских эмигрантов передал иракской разведке информацию следующего содержания.
Его контактам в парламенте Великобритании стало известно, что Форин офис сделал закрытый доклад в Комитете по внешней политике парламента. В докладе проведена оценка положения Ирака, сделан вывод о вероятности нападения армии Ирака на Кувейт и дается рекомендация не применять к Ираку санкций по данному поводу, так как санкции ослабят эту страну в конфронтации с Ираном.
С дружеским приветом
Директор СИС
Лондон, 10.04.1990
Операция шла по плану, когда в нее вмешался неожиданный элемент. Британский резидент в Ливане получил информацию о встрече советского эмиссара Евгения Примакова с министром иностранных дел Ирака Тариком Азисом. На встрече Примаков предупреждал иракцев, что Лондон и Вашингтон затеяли провокацию с подталкиванием Хуссейна на захват Кувейта.
Сообщение резидента вызвало обеспокоенность в Лондоне. Неужели советская разведка что-то пронюхала о замыслах против Хусейна? Начался поиск утечки информации, и одним из объектов разбирательства стал агент «Раджа», которым руководил Джон Рочестер. Наряду с агентом, подозрения могли пасть и на него самого. Из Лондона прибыл представитель штаб-квартиры, уполномоченный расследовать дело.
Парадокс происходящего заключался в том, что Примаков не пользовался никакой разведывательной информацией. Исходя из своего глубокого знания англо-американских маневров в этом районе мира, он самостоятельно вычислил их планы и поделился соображениями со своим давнишним приятелем Тариком Азисом. Но положение Рочестера это нисколько не облегчало.
Операция по введению в заблуждение руководителей Ирака, тем временем, подходила к концу:
Сов. секретно
Чрезвычайному и Полномочному
послу США в Ираке
Дэвиду Ньютону
В связи с полученными сигналами об обеспокоенности иракского руководства возможными осложнениями американо-иракских отношений в результате развития ситуации в регионе, просим посетить президента Ирака С. Хусейна и от имени президента Д. Буша заверить его, что США заинтересованы в углублении и улучшении отношений.
Госсекретарь
Джеймс Бейкер
23 июля 1990 г.
Заявление пресс-секретаря Белого Дома
1 августа 1990 года вооруженные силы Ирака пересекли границу с Кувейтом и захватили территорию этого независимого государства. Президент Ирака Саддам Хусейн заявил об исторической правомерности этого акта и своим внутренним указом присоединил Кувейт к иракской территории.
Налицо факт грубого нарушения международного права и всех норм международного поведения. Ирак продемонстрировал презрение к установившемуся в мире порядку, и это не может остаться без внимания мировой общественности. Агрессия должна быть наказана. Администрация США требует созыва внеочередного заседания Совета Безопасности ООН для принятия незамедлительных решений по данному вопросу.
2 августа 1990 г.
В тот же день Жабиньский позвонил Президенту Бушу. Его голос весело звенел в трубке:
– Поздравляю, Джорж, твои ребята не подкачали. Таракан заглотил наживку, и пора его подсекать. Весь мир возмущен агрессией этого мерзавца против беззащитного Кувейта. Думаю, с созданием коалиции особых вопросов не будет.
– Посмотрим, как пойдет дело. Конечно, европейцы спят и видят разделаться с этим нарушителем прав человека, – Буш саркастически рассмеялся, – но с мусульманами все не так просто. Нам как воздух нужны Сирия, Турция и Египет в этом деле. Тогда за ними потянутся более мелкие слуги Аллаха. Вот тогда картинка станет идеальной: весь мир против супостата.
– А как русские ведут себя в Совете безопасности?
– Пока не ясно, но все будет в порядке. Для Горбачева это тоже шанс покрасоваться на стороне прогресса и демократии. Своя страна в кризисе. Надо же хоть чем-то козырнуть. Так что о резолюции Совбеза можешь не беспокоиться. Сейчас уже нужно думать о войне.
– Ты знаешь, Джорж, пока ты подготовишь операцию, пройдет какое-то время. Наверное, не меньше трех-четырех месяцев, так ведь? В этот период необходимо развернуть кампанию по демонизации Таракана. Каждая старая леди в любом уголке земли, каждый сопливый ребенок на коленях матери должны знать, что страшнее Таракана зверя нет. Что он мясник, насильник и изверг рода человеческого. Тогда и военная операция пройдет легче, верно?
– Збигнев, а ты не хочешь возглавить наш штаб по проведению психологической войны? Уж очень ловко у тебя получаются всякие хитрые формулировки. Наши остолопы в Пентагоне, я полагаю, на такой блеск интеллекта неспособны.
– Извини, Джорж, что я вмешиваюсь в сугубо внутреннее дело Пентагона. Но я знаю, как он ведет психологические войны. Во времена Вьетнама это стоило мне немало ночных слез.
– Времена изменились, Збигнев, поверь мне. Скоро ты в этом убедишься. Все будет в том духе, что ты сказал: малые дети будут прятаться у матерей под юбками при слове «Хусейн», а цепные псы – лаять на всю округу.
* * *
Сов. секретно
Директору ЦРУ
У. Вебстеру
Нами подготовлен сценарий оказания психологического воздействия на общественное мнение в связи с планом «Анкер». Наши источники готовы выступить по программе «демонизации» С. Хусейна в СМИ США и Западной Европы, а также на слушаниях в Конгрессе США.
Зам. Директора ЦРУ Д. Макгрегори
3.08.90
Резолюция директора ЦРУ: «Прошу приступить». У. Вебстер
Словно по чьей-то невидимой команде в эфире западного полушария, а вслед за ним и в остальных частях планеты разразилась невиданной силы антииракская гроза. Сверкали молнии заявлений, гремели громы телекомпаний, тянули визгливую волынку радиостанции, парламенты и правительства, возмущенные наглой агрессией, призывали своих граждан поддержать святое дело освобождения Кувейта. Некоторые западные государства посылали свои военные корабли в зону конфликта, не дожидаясь совместной операции. Особенно славно чувствовал себя в этой обстановке Израиль, оттяпавший палестинские земли без всяких для себя последствий и присоединившийся к общему хору обвинителей Ирака. Все словно забыли, что целый народ пропадает в палестинских лагерях беженцев. Все травили иракского диктатора. Кампания раскрутилась до вселенских размеров, и вот наступил апофеоз – слушания в Конгрессе. Словно в чьем-то бредовом воображении, перед аудиторией стали возникать удивительные по своей неправдоподобности персонажи, описывающие ужасы в хусейновском Ираке. Звездой программы должна была стать молодая беженка из Багдада, обещавшая сообщить душераздирающие факты из иракской жизни. Передачу транслировали на всю Америку и за ее пределы.
9 октября 1990 года зал Конгресса застыл в напряженном молчании. У пульта стояла молодая женщина, одетая в восточную одежду. Лицо ее было открыто, и каждый видел, какие чувства владеют ею. Она едва связывала слова, речь ее то и дело прерывалась спазмами, из глаз текли слезы. Женщина рассказывала о своей работе в крупнейшем родильном доме Багдада. По ее словам, Хусейн борется с избыточной рождаемостью в стране самым простым способом – он уничтожает новорожденных. На ее глазах только в одном роддоме было убито триста младенцев. Свидетельница приводила душераздирающие детали убийств, и ни у кого в зале не было сомнений в истинности ее показаний. В это время директор ЦРУ Уильям Вебстер, наблюдавший за трансляцией в своем кабинете, срочно вызвал к себе представителя по связям с общественностью. Директор был вне себя от ярости:
– Лесли, какой идиот выпустил эту бабу на арену? Ты что, не в курсе, что она дочь посла Кувейта в Америке и вообще никогда не была в Ираке?! Да ее знает весь дипкорпус, ведь она выросла в Вашингтоне. Будет чудовищный скандал!
– Прости, Уильям, но над проектом работали израильские партнеры. У них здесь есть «крыша» в виде лоббистской фирмы «Хилл и Кноултон». Вот эти ребята и проворачивали дельце. А мы поверили им на слово. Неудобно получилось.
– Неудобно, говоришь? Хорошенькое ты подобрал словцо для такого дерьма. А скажи пожалуйста, сколько твои жидки отхватили из нашей кассы за эту туфту? Тысяч сто, если не больше?
– Девушке они обещали двадцать пять, а себе просили восемьдесят. Но мы еще не расплатились.
– Так вот. Гони их в шею, пока я не натравил на них псов из ФБР. Это вонючие жулики, которые дурят головы порядочным людям. И теперь самое главное. Чтобы сегодня же со всеми телеканалами и ведущими газетами была проведена работа. Ни одна газетная тварь, ни одна телевизионная шавка не должна сообщить об этом провале. Если будет скандал – не жди пощады.
На следующий день скандала не было. Напротив, Конгресс США объявил Хусейна «Иракским Гитлером». Маховик войны продолжал набирать обороты.
9. Война
Каждый знает, что один из титанов человечества Владимир Ульянов-Ленин делил войны на справедливые, несправедливые, освободительные, захватнические и так далее. Мол, драка может быть и хорошей, а может быть и плохой. Но, повидав на свете всякого, мы с вами о войне можем сказать только одно: это всегда ужасная мерзость, а какой ярлык на нее наклеят, зависит от победителя. Хотите поспорить? Пожалуйста, а мы пока вспомним, как состоялся крестовый поход рыцарей свободы против Ирака. Кстати, мы не зря сравнили достопамятную «Бурю в пустыне» с крестовым походом. Помните, как на призыв папы Урбана Второго освободить Гроб Господень со всей Европы собрались бездельники и разбойники в латах и опорках, с мечами и удавками, чтобы непременно достичь Иерусалима и за все отомстить мусульманам? А за что, собственно? – следовало бы спросить у какого-нибудь громилы, прицепившего себе на плечо большой черный крест. За что вы решили порубить в капусту турок-сельджуков? Разве они разграбили Гроб Господень, или не пускают к нему пилигримов? Совсем нет. Доступ в храм был открыт, и древние туристы толпами ходили туда и обратно. Правда, цену за постой турки, действительно, взвинтили. И относились к христианам нехорошо: бывает, плюнут или зашипят что-то на своем тарабарском языке. А то и проявят более обидные признаки религиозной нетерпимости. Но не в капусту же их за это!
– В капусту! – Прогремит ответ железных всадников и их оборванной пехоты. – В капусту! У нас нет работы в собственной стране, у нас холера, мы обнищали. А там… Там поблизости купаются в роскоши Никея и Антиохия. Там жирные и ароматные рабыни совращают своих хозяев вращением круглых бедер, там лучшие в мире шелка и бархат, там все, чего нет у полуголодных баронетов, которым от наследства досталось только потертое седло с отцовской клячи. Освободить Гроб Господень от турок, а заодно и турок от их сокровищ!
И потекло все это хищное воронье объединяться в ударные отряды мародеров, и застонали на их пути города и веси, и полилась кровь многочисленных народов от освободителей Гроба Господня.
И тут кому-то ударит в голову вопрос: что все это напоминает? Неужели и сегодня в самом тайном ядре политики лежат те же самые мотивы, что у древних крестоносцев? Неужели кто-то хочет направить на чужие богатства застоявшегося без работы бронированного Франкенштейна, которому тоже позарез потребовалось размять свои мускулы, израсходовать запас лежалых боеприпасов, вытрясти из своих правительств золотые дукаты, а заодно лишить жизни сотню другую тысяч подвернувшихся под руку солдат и гражданских лиц? Неужели предлог для нападения на Ирак нисколько не серьезней, чем надуманное оскорбление Гроба Господня, и вся эта военная шпана точно также сбивается в кучу, чтобы поглумиться над слабым и схватить свой кусок трофеев? «Нет, нет, – запротестует внутренний голос подумавшего так, – надо верить свободной прессе и демократическим политикам. Этот Хусейн – гад и паразит, уничтожить его – святая задача всего человечества».
Если Вы полагаете, что война – это когда две армии почем зря колошматят друг друга изо всех видов оружия, то Вы отстали в военной теории. Испокон веков с момента появления вооруженных групп людей война понималась как избиение одной более сильной группой людей другой группы – послабее. Поэтому коалиция возмущенных Хусейном не придумала ничего нового. Она собрала превосходящую силу, чтобы надавать ему тумаков, вернуть Кувейт в исходное положение и обнести Ирак забором санкций в устрашение соседям. Хотелось бы, конечно, большего. Хотелось бы и самому Саддаму завернуть голову под крыло, но тут ни с того ни с сего заартачились русские. Не позволили принять решения о штурме Багдада. А жаль!
И вот предприятие началось. Если Вы не генерал армии США, то Вы не знаете, какое это наслаждение – играть в солдатики при полной уверенности в победе. Вот они, дивизии и полки на карте, которые вы двигаете к границам супостата, вот они, самолетики и ракетки, направляющие свои носики на врага, вот они, кораблики на море, которых Вы кучками пододвигаете к берегам агрессора. Ах, как здорово предвкушать острый миг начала, когда тишина вдруг взорвется смерчем, воем, тявканьем всего стреляющего железа и нечистой силы, когда взлетят вверх обломки капониров вместе с разорванными телами их защитников, когда побежит в панике ошеломленный враг! Но стоп! Перед этим Вы, как истинный гурман, еще должны подготовить изысканное блюдо! Вы развешиваете над территорией врага спутники-шпионы, и они по квадратам берут каждое его шевеление под контроль. Немного ниже вы пускаете вдоль и поперек самолеты-шпионы «У-2», и они укрупняют и уточняют полученное от спутников. А вокруг территории Вы отправляете летающие локаторы «Аваксы», которые будут следить за любой штукой, способной подняться в воздух. Затем Вы составляете подробное меню выявленных объектов и начинаете наводить на них свои дальнобойные пукалки. И вот наступает момент, когда вся более или менее заметная военная техника спящего агрессора обречена на съедение крылатым ракетам, самонаводящимся бомбам и прочим приправам к угощению. Одновременно Вы перчите противнику голову дезинформацией. Ваши корабли появляются то там, то здесь. Они делают вид, что на них десант, и постреливают по берегу, как бы готовя высадку. Ваши танки темной ночью меняют участки прорыва и к утру появляются там, где противник спокойно отдыхает. А в это время в другой сковородке пассируются мировые мозги. Их заправляют пропагандой под острым соусом и закрывают крышкой, чтобы парились внутри горячей атмосферы и случайно не остудились. Наконец, мозги под крышкой закипают и оттуда вырывается пар. Это сигнал к тому, что мировые мозги созрели. Они будут аплодировать задуманному Вами угощению. Ну, а как там главный виновник торжества, супостат Хусейн? Супостат пребывает в полном спокойствии духа. Его генералы-кулинары доложили ему, что американцы своего супа в Ираке не сварят. Мол, броня крепка и танки наши быстры.
И вот наступил миг начала торжественной порки. Ночью 17 января 1991 года, когда в Ираке мирно спали старики, дети, генералы и часовые, четыре вертолета «Апач», снабженные приборами ночного видения, буквально ползком пересекли границу и устремились по направлению к двум главным локаторам иракцев, призванным обнаруживать самолеты, но не способным замечать вертолеты, ползущие по-пластунски. «Апачи» благополучно добрались до целей и расстреляли их ракетами, после чего в образовавшуюся брешь ринулась ударная авиация союзников, которая начала стегать иракцев ракетно-бомбовыми розгами.
Потом на ошалевших от неожиданности защитников Хусейна пошли танковые клинья, и защитники побежали, потому что их противотанковая артиллерия лежала раздолбанной на куски. Но бежать было некуда, ведь в тылу уже высадился десант врага, и защитники оказались в кольце. Они, конечно, хотели сдаться в плен, но союзники только вошли во вкус, каждое появление иракского солдата в прицеле воспринималось как посягательство на жизнь освободителя, и по нему открывался ураганный огонь. Торжественная порка прошла по плану и завершилась за десять дней ко всеобщему удовольствию кулинаров.
В Ираке еще не успели отгреметь последние выстрелы тридцатитрехголовой коалиции, когда Жабиньский позвонил президенту Бушу:
– Поздравляю, Джорж, на мой взгляд, все проделано превосходно, так ведь?
– Знаешь, Збигнев, меня ужасно раздражает, что Хусейн остался жив-здоров. Мои воздушные охотники так и не смогли его достать. Этот сукин сын продолжит мутить воду вокруг Израиля. Как он давал палестинцам деньги, так и будет давать. И войска наши там тоже надолго не задержатся. А ведь мы с тобой не об этом говорили.
– Это точно, Джорж, но ты уж очень многого хочешь. Планы планами, а жизнь жизнью. Я считаю, что все прошло как нельзя лучше. Во-первых, мы сумеем на пяток лет заткнуть глотку генералам и жирным котам из всяких корпораций. Сегодня они сыты, и в следующий раз голова будет болеть уже не у тебя, а у того парня, который тебя сменит. Во-вторых, мусульмане хорошо усвоили, что Америка в любой момент может схватить их промеж ног железной клешней. Это дорогого стоит. В-третьих, я просто уверен, что теперь против нас начнет сбиваться в кучу их бандитское подполье. Это нам очень пригодится на будущее. Ну, а самое главное, всему миру и маленькому Смиту в том числе показано, что без сильной Америки справедливость на Земле невозможна. Это ведь самое главное, Джорж, правда?
– Ты прав, мудрый филин. Красная махина разваливается, а мы крепки, как никогда. Теперь поболтать с Советами о том, как дальше жить будем – одно удовольствие.
– Вот-вот, Джорж, пора нам заняться ими вплотную. Малыш Горби совсем запутался со своей перестройкой. Нужно вести дело к ее финалу.
10. Жизнь с чистого листа
Что же это за змеистые линии афганского неба обвили капитана Звонаря, увлекли в высоту, раскрутили, а затем, ломая ему тело, стремительно бросили в одинокую лесную жизнь? Что за непостижимые силы выбили его из привычного мира, из того самого, где все было знакомо, понятно, предсказуемо? Здесь, в лесу, в одинокой избушке, в бессонных ночах оторвался капитан Звонарь от оптического прицела своего зрения, в котором пальцами резкость наводил, оторвался он от этого прицела, потряс головой, осмотрелся и простонал: Господи, уж не за вину ли мою перед тем афганским мальчиком, пацаном этим, которого я штыком к земле приколол, оказался я здесь? Уж не подхватила ли меня возвратная сила от пущенных мною в разные стороны снарядов?
С первой своей одинокой ночи почувствовал Иван, что в голове его начинает раскручиваться прошедшая жизнь, будто только и ждал кто-то неизвестный того момента, когда он окажется сам с собой, чтобы сдвинуть с места карусель пережитого и погрузить в нее душу инвалида. И синело над этой каруселью афганское небо, и лилась из него знойная мелодия, душившая его жаркой, беспощадной петлей воспоминаний.
Да, он стал в Афгане ненормальным, стал, конечно. Афган выжег страх в душе, а человек без страха сам страшен. Он ни своей, ни чужой смерти не боится. Сначала от крови тошнило, но привык, куда от нее на войне? Страшней всего смотреть, как раненый в грудь умирает. Он сипит, пытается воздух вдохнуть, вздымается дугой, в глазах отчаяние, а из дыр розовая пена пузырится. Первый его убитый так умирал. Бой шел в таджикском кишлаке, у самой нашей границы, Иван еще тогда взводом командовал, сам впереди шел. «Духи» в горы побежали, а этот почему-то в хижину метнулся, дверь за собой захлопнул, а Звонарь вслед очередь послал. Потом ногой дверь распахнул – таджик на полу лежит с двумя сквозными ранами в груди. Живой еще, сипит, воздух хватает, а в глазах сумасшедшая мольба: СПАСИ! Иван от страха и боли всхрипнул, будто сам на полу лежал, фляжку трясущимися руками отцепил, таджику в рот, а тот умер…
Потом его назначили начальником охраны генерала Махмуда Гариева, главного военного советника Наджибуллы. Этот бесстрашный татарин постоянно был в движении. Сидеть в штабе не входило в его привычки, и он как ртуть перекатывался по местам боевых действий. У моджахедов была своя агентура в Кабуле, и за советским генералом устроили настоящую охоту. Но по таинственному закону живучести генерал оставался невредим, хотя группа его несла потери.
Однажды под Джелалабадом группа генерала попала в окружение и вела бой более двух часов, прежде чем подошло подкрепление. В живых оставалось только четыре человека из взвода охраны, Иван и сам Гариев. Остальные солдаты и офицеры лежали изрешеченные пулями и осколками. Вертолеты не могли пробиться к ним. В ту пору «духам» поступила от американцев большая партия «стингеров», и эти ракеты сделали воздушную поддержку весьма затруднительной. Вот и в этот раз «вертушки» с подкреплением, шедшие вдоль долины, были отогнаны с земли и искали другой путь подхода к группе.
Духи явно знали, кого окружили, и имели приказ взять Гариева живым. Они волнами накатывали на прижатую к скалам и окопавшуюся в колючем кустарнике группу, и только пулемет Ивана заставлял их залечь. Наконец, патроны у оборонявшихся закончились. В установившейся не надолго тишине Гариев осмотрел своих бойцов и сказал:
– Молодцы, парни. Хорошо деретесь. Сейчас будет рукопашная. Живыми не сдадимся.
И вот теперь, когда на безоружную группу вновь двинулась цепь моджахедов, Ивану стало страшно. Он не раз видел расчлененные останки захваченных в плен советских солдат, но никогда не допускал мысли, о том, что и его тело однажды разрубят кривым афганским тесаком на куски. Ощущение того, что впервые за всю войну он бессилен перед надвигающейся смертью, парализовало его. Живое тело Звонаря не хотело умирать. Потом он увидел, что седой генерал, плотный и крепкий как дубовый кряж, не торопясь прилаживает к «калашникову» штык-нож. Забыв про свой страх, Иван наблюдал за Гариевым, а тот встал в полный рост, взял автомат на перевес и, ковыляя на кривых ногах, пошел навстречу «духам». Генерал сошелся с первым моджахедом, неожиданно припал влево на колено, ловко выбросил оружие вперед и распорол «духу» живот. Потом резво вскочил и, схватив автомат за ствол, пустил его вкруговую, разбив прикладом голову еще одному нападавшему. Забыв про все, Звонарь схватил оружие и бросился к Гариеву. Кажется, он что-то кричал. Неведомая пружина развернулась в его теле, он превратился в машину, умело и беспощадно крушившую все на пути, а когда «духи» побежали от свежей группы, высадившейся из подлетевшей, наконец, «вертушки», Иван не мог остановиться. Плохо контролируя себя, он догнал молоденького афганца, который отстал от своих и подсек его сзади ногой. Мальчишка упал, перевернулся на спину, широко открыв полные ужаса глаза, и Звонарь ударил штыком в грудь, затем ударил еще и занес автомат в третий раз, но что-то остановило его. Он услышал сзади тяжелое дыхание и обернулся. За спиной его стоял Гариев и глаза его исторгали такую ярость, что Звонарь внутренне сжался.
– Ты что делаешь, сынок? – едва слышно спросил старый солдат, – ты что нас всех позоришь? Еще раз увижу – расстреляю на месте.
Гариев повернулся и, тяжело ковыляя, ушел прочь. Потом он отчислил Ивана из своей группы и пути их навсегда разошлись. Но Звонарь не забыл этого урока. Впервые в жизни он понял тогда, что внутри у него прячется кто-то тайный, способный выбраться наружу и наделать беды, стоит только потерять над собой контроль.
Теперь он жил в избе лесника и каждый день возвращался в прошлое. Тяжелый физический труд, на который он себя обрек, не мог вытравить в нем воспоминаний прежних дней. Его руки беспрерывно работали, а сознание утопало в прошлой жизни, в поступках и делах, тянувшихся в его памяти бесконечной чередой.
Вальгон навешал по всей избе и во дворе веревочных концов с узлами, настелил на крыльцо доски для коляски, и Звонарь стал учиться жить самостоятельно. Там, где не хватало каталки, он передвигался с помощью рук по веревкам. Концы были длинными, почти достигали пола и если он срывался, то легко мог снова подтянуться до нужного положения. Особую гордость его составляло то, что он самостоятельно, с помощью горизонтально подвешенной веревки мог переместить себя из каталки на стульчак. В нем жила надежда на обретение способности ходить. К тому же Звонарь прочитал брошюру бывшего «спинальника» Валентина Дикуля, которая стала ему большим подспорьем.
«Движение, движение и движение», – думал он, перехватывая веревки и заставляя напрягаться всю мускулатуру, которая только могла хоть как-то функционировать.
Через две недели такой жизни, измотав себе руки и набив немало синяков, он научился достаточно бойко передвигаться по домику и двору. Звонарь заезжал на каталке в сарай за картошкой и к колодцу за водой, а там, где каталка не проходила, пользовался веревками. Он сам готовил себе пищу, сам умывался и с помощью веревочных концов укладывался спать. Вальгон два-три раза в неделю объявлялся с покупками, помогал сделать неотложные домашние дела, каждый раз честно отделяя себе от пенсии Ивана договорную сумму на полбутылки самогона.
Жизнь показала крохотный просвет. Иван не стал полным инвалидом, мог обслуживать себя, хотя это выглядело очень убого и страшно. Но главное заключалось в том, что над ним перестал довлеть груз неполноценности, он начинал чувствовать себя человеком.
Однажды Звонарь чистил картошку, сидя в каталке и перебирая в мыслях прошлое. Вернувшись к Ивану однажды во сне, афганский мальчик уже не уходил из его памяти. Мальчик лежит уже два года в земле, а его убийца-инвалид еще коптит воздух. Когда-то он думал, что прошлое уходит и не возвращается. А теперь мальчик – вот он, стоит перед тобой с двумя штыковыми ранами в груди от твоего автомата, и существует между ним и тобой совершенно осязаемая связь. Неизвестно, он ли причина тому, что ты стал инвалидом. Но то, что он вернулся к тебе навечно, это правда.
Потом он вспомнил Зафиру, дочь партийного начальника в Кабуле, с которой сошелся перед откомандированием в распоряжение Гариева. Полгода любви с этой афганкой оставили жгучий след в его душе. Зафира когда-то жила с родителями в Москве, говорила по-русски, хорошо знала русские обычаи, но не перестала быть афганкой. Они познакомились на мероприятии в советском культурном центре, куда собралось много местного начальства с семьями. В вестибюле работал буфет, звучала музыка, и подвыпивший Звонарь лихо подкатил к маленькой, очень славной девушке с предложением познакомиться. Та рассмеялась и ответила согласием на хорошем русском языке. Затем они сидели за столиком у окна, Иван пил чешское пиво, а она – чай. Болтали о Москве, которую Звонарь знал очень плохо. После концерта он отвез ее до дому в своем УАЗике, а через неделю они сошлись в ее богатом по афганским понятиям доме в центре Кабула. Родители Зафиры знали о происходящем, но молчали. В Афганистане надвигалась трагедия, которую без советского участия решить было невозможно, и отношение к советским офицерам у руководящих халькистов было особенным.
Иван не понимал тогда, в какую жизнь он вторгся. В его разуме действовали формулы, принесенные из быта воюющего гарнизона. Он приходил к Зафире и, едва поздоровавшись с родителями, уединялся с ней в ее комнате. Там он открывал бутылку водки, выпивал ее, почти не разговаривая с девушкой, а затем брал Зафиру в охапку и нес в постель. Ему было хорошо с этой чудной, нежной афганкой, но он не знал, что в мире есть совсем другое понимание любви, чем его собственное простое понимание. Конечно, Звонарь не мог не заметить больного блеска глаз Зафиры, когда без предисловий снимал с нее одежду. Но ему было в общем-то наплевать, как она относится к его поведению. Он находился на войне и каждый день играл в прятки со смертью. Поэтому брал свое, лишь чуть-чуть приоткрыв свою душу для этой молоденькой девочки. Между тем она по-настоящему влюбилась в него. Иван был росл, строен и русоволос. Его мускулистый живот и сильные ноги выдавали мощное мужское начало, свинцовые глаза излучали магнетическую славянскую силу. Он отличался от афганцев тем, что не любил проявлять своих чувств. Наверное, именно за это маленькая девушка полюбила его. Женщинам нравится, когда мужчины не проявляют своих чувств, особенно чувств, похожих на женские.
Он не мог и помыслить о том, что в тяжелую солдатскую его поступь вплетется едва слышная, нежная песня афганской девушки, что жаркий воздух за воротник его камуфляжа будет затекать прикосновением ее тонких ладоней, что все его мужское желание, еще недавно готовое принять любую женщину мира, вдруг обовьется вокруг ее маленького, хрупкого тела и не захочет знать больше ничего, ничего из всех существующих на свете соблазнов. Однажды ночью будто неведомый толчок пробудил Ивана и он, очнувшись, увидел Зафиру в полумраке комнаты. Она тихим голосом читала при светильнике молитву у раскрытого корана. Временами девушка поворачивалась к Ивану, поднимала руки над головой и что-то говорила с закрытыми глазами. Он понял, что она молится о нем и просит у своего Аллаха здоровья и благополучия для него. Затем она взяла висевшую на спинке стула тельняшку Звонаря и стала ее целовать, шепча свои молитвы. Закончив, Зафира подошла к Ивану, сняла с него простыню. Он не выдал своего пробуждения. Тихо приговаривая по-афгански, она стала целовать его немытое тело. Звонарь чувствовал, что она плачет. Слезы капали ему на живот, она слизывала их и что-то шептала, иногда содрогаясь и нежно гладя его тело пальцами. Иван понял, что присутствует при акте женской любви, близком к святости. Потом Зафира сбросила с себя платье, легла рядом, прижалась к его телу, затихла на минуту, и вдруг ее тело сотрясла мощная конвульсия. Зафира застонала и сказала по-русски: «любимый, любимый». Иван сделал вид, что проснулся, нежно обнял ее и стал целовать. В нем образовалось озеро нежности, которое он не мог растратить до утра и точно также, как Зафира, он навис над ней и стал целовать ей груди, торс, бедра, получая от этого огромное наслаждение. Звонарь впервые почувствовал, что такое нежность к женщине, идущая изнутри существа, необъяснимая и неудержимая в своей силе. В эту ночь у них начался совсем другой, очень глубокий и тонкий период отношений.
Попав к Гариеву, Иван стал лучше видеть складывающуюся ситуацию и понял, что конец советской операции в Афганистане не за горами. После ухода наших войск халькисты не смогут долго продержаться. В этой жестокой стране тех, кто не сумеет бежать, настигнет жестокий конец. Любовь к Зафире поставила перед ним вопрос: что делать с девушкой? Можно попытаться переправить ее в Союз, к родственникам, а потом, когда закончится операция, соединиться с ней. Но тут Иван вспомнил об особом отделе, который закрывал глаза на ночные шашни офицеров с афганками, но совсем не был расположен позволять им доводить дело до серьезного. Помимо этого, над моралью военнослужащих неустанно бдели и воинские парторганизации. Вкупе эти две силы были немалым препятствием таким планам. Звонарь со смущением думал о том, какие испытания ему придется вынести, если он начнет осуществлять задуманное. Родители могли бы оформить девушке выезд в Москву по линии посольства, но потом, при подаче на регистрацию брака, началась бы настоящая Голгофа. Тем более, что в Москве у него никого не было, и он даже не знал, как подойти к решению этой проблемы. В то же время тихий голосок в его сознании шептал ему, что все эти препятствия – всего лишь испытание для любви. Если он захочет, они будут преодолены. Если не захочет, то он воспользуется ими как отговорками. Перед его глазами стоял пример старшего лейтенанта Задорова из соседнего батальона, который, вернувшись из Афгана в Союз, бросил жену с маленьким ребенком, организовал приезд в Ташкент своей любовницы-таджички из Кабула, уволился со службы и переехал к ней туда. Андрюха Задоров пожег за собой все мосты, и решиться на это его могла заставить только любовь. Своим поступком он вызывал уважение.
Звонарь знал, что Зафире не страшна будет их офицерская бедная жизнь. Она стала бы восточной женой, безропотно несущей все тяготы вместе с мужем. Представляя себе это верное и преданное поведение, Иван вспоминал гарнизонных жен своих товарищей и думал, что уж здесь-то точно обретет счастье. Неустроенный гарнизонный быт вызывал много проблем в офицерских семьях, и случалось, что молодые жены откалывали отчаянные номера. На память пришел случай из жизни в Гороховецком гарнизоне, который по старой памяти назывался «лагерями». Тогда его, зеленого лейтенанта, совратила жена командира батальона, майора Суслова.
Уже видавшая виды, эта женщина без всякой предварительной подготовки предложила ему «соединиться», когда муж нес воскресное дежурство. Она сама пришла к Ивану в его комнату, расположенную в конце офицерского барака, распахнула кофточку, под которой прозрачный югославский лифчик игриво поддерживал красивую грудь и сказала:
– Иванушка, что нам притворяться. Ты красавчик, а я по тебе умираю. Хочу тебя впустить, вот и все. Иди ко мне.
Потом Звонарь со стыдом вспоминал дурманящий провал сознания, конвульсивное освобождение своего молодого, заждавшегося женщину тела, внимательные глаза Суслова и его дрожащий голос:
– Что, Ванюша, эта курва и тебя оседлала?
Суслов не трогал Ивана, видимо, потому, что тот был отнюдь не первым участником подобных историй. Он бил свою жену в их маленьком двухкомнатном отсеке. Бил молча, чем-то тяжелым. А она только глухо стонала и не сопротивлялась. Двое их малолетних детей испуганно молчали, за стеной деловито бубнили соседи и все говорило о том, что к этим сценам здесь привыкли. Потом майор ушел в недельный запой, который начальством воспринимался как естественное дело, а после запоя как ни в чем не бывало появился на службе. Он был ровен в отношениях со Звонарем, а тому не было понятно это поведение. Он думал, что на месте Суслова наломал бы дров. Ему было совестно глядеть в глаза своего командира.
Конечно, Звонарь и представить себе не мог, чтобы афганка вела себя как жена Суслова.
Впервые в своей жизни Звонарь заметался. Он любил девушку и чувствовал, что расставаться с нею неправильно, противоестественно, преступно. Но еще обманывали его ложные песни мужской свободы, будто бы дарящей волю, открывающей безоблачные и бездумные перспективы будущего. И одновременно наплывали тучи проблем, которые он так не хотел взваливать на себя! Зафира никогда не заводила разговора о будущем, но во взгляде ее он читал надежду. Она очень хотела стать его женщиной и спастись с ним от этой беспощадной жизни. Все, что было в ее сердечке – это любовь к нему. Иван, рожденный с чуткой душой, понимал это, и его ломало от навалившихся противоречий. Дело кончилось тем, что Звонарь с облегчением воспринял перевод к Гариеву и связанный с назначением подвижный образ службы. В Кабуле он стал появляться редко и однажды пришел в последний раз, хотя сам того еще не знал. Но, видно, знала Зафира. Когда под утро девушка вышла к двери проводить Ивана, она никак не могла оторваться от него и, уткнув лицо ему в грудь, молчала. А он чувствовал, как на гимнастерке его расплывается горячее пятно от слез. Наконец, Зафира оторвалась и он увидел ее взгляд – взгляд гибнущей от ножа серны. Его ожгло тоскливой болью, но решение уже вызрело. Звонарь повернулся и ушел, не оглядываясь. Потом ему много сил стоило не вернуться к ней. Как магнитом тянуло заглянуть в знакомый дом. Иногда тяга становилась нетерпимой. Но он собирал в кулак свою волю и в последний момент останавливался. Слишком много трудностей накатывало из будущего вместе с Зафирой, и он не хотел столкновения с ними. Любовь Ивана оказалась маловата ростом и отступила перед ними. Внутренний голос шептал, что он предает свою женщину и, наверное, обрекает ее на гибель. Талибы вырезают халькистов под корень и если семья Зафиры не сумеет бежать, то ее ждет страшная судьба. «Кто же ее знает, эту судьбу, что она подарит – гибель или не гибель», – успокаивал он себя тогда, но душа тоскливо ныла. Миновало время, и Звонарю стало казаться, что история с Зафирой ушла в прошлое, забылась.
Теперь жизнь перевернулась и он сам очутился в новом для себя положении: бессильный и беззащитный, не имеющий надежды на помощь и всеми брошенный. Среди бессонной ночной тоски с самого дна души стала подниматься память о Зафире, как молчаливое указание на то, что он получает по грехам своим. Теперь, когда с Ивана спала сытая самоуверенность сильного мужчины, когда он понял, что такое быть преданным, ему стал раскаленным железом жечь сердце прощальный взгляд девушки. «Да ты же предатель, Иван, ты презренный трус, ты – Иуда, – шептал он сам себе. – Мать моя, мамочка, нет на меня суда за мое паскудство, за мое скотство. Не знаем, где наша погибель, говорил? – Все ты знал, знал, что идет ее погибель и сиганул в кусты, предал, предал». Черная боль позора заполняла его, хватала спазмом горло, и слезы текли по исхудавшему лицу. «Боже мой, Боже, – приходили в его голову слова, – как же мне быть, чтобы искупить все это? На все готов, на любую жертву, жизнь отдам, Господи, только пошли мне возможность очистить свою совесть перед ней».
* * *
Иван сидел в коляске и смотрел на вечернюю зарю, постепенно покрывавшую летний лес розовым маревом. В воздухе еще перекликались птичьи голоса, но над притихшими купавами деревьев уже опускался покой. Алый горизонт оделся золотым окладом, и светило погрузилось в него, как в купель. Последний солнечный луч спрятался вслед за светилом, осветив на прощанье подбрюшье облаков. Со всех сторон придвинулись сумерки, в лесу закричала выпь.
«Неужели эта красота появилась сама собой? – думал Звонарь, провожая глазами уходящие отблески заката, – такого просто не может быть. Если в мире есть красота, то это кому-то нужно. Ведь ничего не бывает просто так».
Раньше офицер советской армии Звонарь никогда не задавал себе подобных вопросов. Он любил свой очаровательный край за его лесные пейзажи, любил свою страну за ее города и села и за многое другое, что она ему дала, но никогда не задумывался о происходящем, полагая, что сам он существует в естественном ходе вещей. Теперь же, выбитый из этого естественного хода и оказавшийся наедине с собой, Иван переместился в другое бытие – в общение с окружающим его миром природы. И это общение стало ежедневно открывать ему свои простые и сокровенные тайны.
Глядя летними ночами на звездное небо, Звонарь стал думать, что, наверное, оно является окошком из его собственной жизни в бесконечность. Именно там, в черном пространстве, кроется загадка его появления на свет и, наверное, написана его судьба. Иван надолго замирал, глядя на звезды, и ему казалось, что он растворяется в этом космосе и летает в нем, как свободный дух. Потом, встречая рассвет, он думал, что звездное небо не смывается зарей, а прячется за светом и незримо присутствует в каждой секунде земного дня. Это простое открытие вдруг подвинуло его к пониманию огромности и вечности сущего. Оно необъятно в своих размерах и движется по каким-то неведомым законам, а он – всего лишь микроскопическая пылинка, даже меньше, чем пылинка в этом бесконечном мире. Но как же так? Ведь я – пылинка, наделенная разумом, а разум мой объемлет огромные пространства! Что это за чудо? Я – невидимый в своей малости, обладаю осознанием окружающей меня великости. Это взаимосвязь? Если это взаимосвязь, то для чего? Ведь в мире ничего не бывает беспричинно. Для чего мне, бесконечно исчезающей малости, дана сознательная связь с неизмеримой великостью? Каким образом в эту непостижимую великость улетает из моей души тоска по Зафире, и долетает ли она до нее? И почему я стал осознавать это только сейчас, оказавшись инвалидом? Или я именно для того стал инвалидом, чтобы осознать это? Какая сила руководила таким назначением?
– Помоги тебе Господь, – услышал Иван голос и, вздрогнув от неожиданности, обернулся.
Сбоку от него стояла пожилая женщина, пришедшая, очевидно, по лесной дороге от Сатиса. Дорога эта уходила дальше в лес, и по ней можно было добраться до бывших святых мест – Сарова и Дивеева. Женщина была странно, по-старинному одета. На ней светила мелкими цветочками коричневая ситцевая блузка с длинными рукавами, пыльная черная юбка до пят прикрывала полусапожки из грубой кожи, голову плотно окутывал темный платок. Лицо ее ничем не запоминалось, разве что скорбной полоской рта, окруженной частыми морщинами. В руке она держала книгу, судя по кресту на обложке – Святое Писание. За плечами висел полупустой полотняный мешок.
– Кто Вы? – спросил Звонарь с внутренним напряжением. Столь неожиданное появление женщины не могло ему понравиться, хотя никакого чувства опасности он не испытывал.
– Раба Божья Полина, скиталица. Иду в Дивеево, Серафимушку славить. У его канавки буду молитвы читать да его назад призывать.
Хорошо знавший родную округу, Звонарь улыбнулся.
– Какого Серафимушку, гражданка? Саровского, что ли? Да там и следа никакого не осталось с тех времен. Храм только разоренный стоит, а где его канавка знаменитая была – свиньи пасутся.
Полина улыбнулась в ответ легкой ясной улыбкой:
– Нет, Иванушка, не все ты знаешь. В Дивеево сейчас со всей земли люди собираются и храм восстанавливают. Все там будет как раньше. А я Серафимушку туда призывать буду, и даст Бог, настанет светлый день, он туда вернется.
– Откуда Вы мое имя знаете?
– На тебе написано.
– Так Вы что, колдунья?
– Глупый ты мальчик, Иванушка. Колдуньи у язычников и бесов бывают, а у православных – ясновидящие. Я не ясновидящая, но маленькие тайны мне Господь открывает. Вот и к тебе я зашла, чтобы тайну открыть. Ты по правильному пути идешь. В трудах от душевной ржавчины освободишься. Потом труды закончишь и поднимешься сильный духом. Тебя будут любить светлые люди, а злые ненавидеть. А о кончине твоей мне говорить не велено. Велено лишь сказать, что дается тебе еще немало жизненного времени, но все твое геройство на это время потребуется. А теперь пойду дальше, спаси тебя Господь.
– Подождите, Полина, уже ночь на дворе, переночуйте в моей избе и с утра…
Полина снова улыбнулась и ответила:
– Ночь только злым людям страшна, а мне в ней бояться нечего. Зато скорее в Дивееве буду.
Она поклонилась Ивану в пояс и не спеша пошла в лес…
Глядя ей вслед, Звонарь неожиданно осознал, что душой его владеет ранее неведомое ощущение присутствия вокруг чего-то незримого, но разумного и всесильного, проникающего в каждую извилинку бытия. Привыкший по-военному анализировать каждую новую вводную, он вдруг ощутил свою беспомощность. Новое состояние не поддавалось логическому пониманию.
Словно сгустилось вокруг пространство, и густота эта была теплой, сладостной, успокаивающей.
«Хорошо бы всегда – так», – подумал Иван.
11. Музей
В иссиня-черном ночном небе желтый лик луны источает мертвенный, лишающий покоя свет. Заполонившие улицы Окоянова тополя превратились под этим светом в серебряные ризы, из-за которых выглядывают печальные окна домов. Дома старше и умней людей. Они пропускают через себя целые поколения и пропитывают свои стены их чувствами. Порой домам бывает тяжело, потому что они страдают от темных страстей жильцов. Кому не приходилось видеть жилье, всем видом своим выказывающее неблагополучие хозяйских душ? Такое жилье похоже на несчастного человека: скособочившееся, нахмуренное и безрадостное. Все в природе взаимосвязано, все взаимозависимо. И ошибается тот, кто полагает, что между живой и неживой природой существует пропасть, разрывающая все связи. Нет такой пропасти. Связи неразрывны. Даже соскочивший с теплой ноги валенок отчаянно умирает от холода в мерзлом снегу, призывая хозяина.
Сейчас стоит пора темных страстей, и окна домов печальны. Правда, так было не всегда. Когда-то очень давно (тогда еще была замечена в городе кибитка одного курчавого всероссийского сочинителя), окна домов глядели на мир по-иному. Они не страдали от темных страстей так много, как сейчас, потому что большинство людей следовало православной вере и принимало свою судьбу со смирением. Тогда дома болели состраданием к несчастным человекам, но, согласитесь, это не так тяжело, как мучиться от их скверных чувств.
Музей возвышается на углу Соборной площади темной громадой с ломаными линиями крыши. Вокруг него, как и везде в Окоянове, блестит под луной серебряная стружка тополей – свидетельств византийского наследия местной жизни. Ни в одном городе папской Европы Вы не увидите тополей, вредоносных разносчиков пуха и мусора, оскверняющих собой упорядоченный образ жизни народов, сумевших договориться с Господом о разделе полномочий. Эти народы давно освоили Богову делянку, изъяв из нее наиболее неудобные части, вроде сорных растений, кусачих насекомых или, хуже того, сточных канав. В Окоянове же, как и в незапамятные дни Феофана Грека, позволяют плодиться всему, что лезет из почвы. Да и канализация в городе еще не зародилась, и это дает возможность достоверно узнать, как пахли древние цивилизации. Но тем и отличается византийская Русь от папской, что не захотела требовать у Господа раздела полномочий. Правда, бывали на ней времена, когда Господа пытались полностью отменить, но он не отменился, и тополя подтверждали собою, что все идет своим, российским чередом.
Итак, над городом висела луна, облившая его тревожным светом. Давно известно, что в такие часы в мире происходит нечто особенное, нечто незримое и нехорошее. В неясных предчувствиях мучаются бессонницей люди, на крышах появляются лунатики, в темных закоулках копошатся бродячие собаки, а для опытного глаза не остается незамеченным множество больших и малых проявлений нечистой силы.
Вот и в музее стало твориться что-то неописуемое, связанное не только с полнолунием, но и с происходящей за окнами эпохой, которую лишь по лукавому наущению сподобились назвать перестройкой. Мы-то с Вами полагали, что перестройка касается только наших земных дел, а мир иной живет по своим законам. Но если хотя бы чуть-чуть вдуматься, то станет ясно, что перестройка как раз и ударяет по тем, кто уже сегодня в мире ином. Могут ли они на все это смотреть спокойно из своего небытия, тем более в окояновском музее, где им предоставилась возможность хоть малость показаться живущим людям?
Так вот, помнится, мы оставили музей в ту самую напряженную минуту, когда домовой Чавкунов осквернял своим седалищем фотографический портрет Фани Кац. Случилось это потому, что в результате перестройки растаяли остекленевшие звуки «Марсельезы» и экспонаты обрели некоторую свободу действий. Сразу отметим, что не все они проявили участие в развернувшейся драме. Некоторые из них, такие, как восковая фигура первобытного человека, чучела представителей фауны и целая группа активистов-безбожников остались безучастными к происходящему. Относительно чучел все понятно, а о безбожниках можно предположить, что судьба их сложилась на том свете неудачно и ничего, кроме фотографий от них не осталось.
– И за борт ее бросает, в набежавшую волну, – ревел Чавкунов, сидя на фаниной фотографии, – будешь знать, как развращаться!
– Освободи гражданку, контра, – послышался из групповой фотографии уездного исполкома чей-то голос, – мало мы вас экспроприировали!
– Дурное дело нехитрое, – отвечал Чавкунов, – только зря вы утомлялися. Теперь вас всех черной краской обгадят. А я буду полезный продукт хозяйства. Вот так! Без таких, как я – спросите хоть у Гайдара, жизни никакой нет.
– Видали мы твоего Гайдара, – снова донесся голос из уездного исполкома, – порода бесовская, однако – недоносок. Ты лучше нас послушай: на Руси паразитов всегда давили и будут давить, понял? Освободи гражданку сейчас же. Товарищ Кац, как вы там, под этой контрой?
– Ах, товарищ Юшкин, после столь большого перерыва мне и эта поза кажется неплохой.
– Тьфу, нечисть, – вскричал домовой и взвился к потолку, – это надо же!
От групповой фотографии донесся дружный смех, который прервал зычный командирский голос Федора Собакина:
– Прекратить балаган, граждане бывшие живые! Или не видите, какая тьма собирается? Кто от нее отбиваться будет? Опять, что ли, полную чертовщину позволим завести?
В помещении установилась тишина. Здесь все знали, что такое правление бесов среди людей.
– Я, как тяжкий грешник, всегда готовый последние гроши…, тьфу ты, последние силы на благо веры положить, пойду в сраженье с Диаволом…, – послышался бас Чавкунова.
– Ну, опять завел свою сурдинку, – вмешался голос Собакина, – кто бы сомневался, гражданин купец, что вы пойдете. Не век же вам в домовых вековать. Возьму вас к себе сыном полка.
– А ты знаешь, что я в пятьдесят годов преставился?
– На вас написано, что не вьюношем.
– И я – сын полка?
– У нас возраст не считается, а других вакансий нет. Да и с верой вашей надо еще посмотреть. Не напрасно вы столько лет никак не определитесь…
– Не тебе, Федька, мою веру проверять. Я еще до вашей жидовской революции перед Господом в грехах каялся, а ты, голопузый, тогда и в мыслях такого не держал…
– Ты, Чавкунов, из себя лишнего не изображай. Здесь каждый знает, как ты каялся и как тебя Господь прибрал. Или напомнить?
– Я чинно-благородно преставился, от руки заезжих матросиков, как контрреволюционный элемент.
– И все?
– Все!
– То есть, просто за красивые глаза тебя стрельнули, так что ли? Никто твоей гнилой селедкой не травился, животом не маялся, тебя на сеновале не разыскивал?
– А я их не угощал! Сами конфисковали, сами и обгадились.
– Матросиков ты, и впрямь, не угощал, это точно. Сами виноваты. Зато у других ты на эту селедочку драгоценности выменивал. Вот и трешься теперь в домовых.
– Я каюся, каюся в своем окаянстве. Не совладал с собой, возлюбил сатану льстивого! Но теперь против него пойду, будь что будет.
– Товарищ Собакин, меня тоже надо мобилизовать, я надежная защитница наших устоев, – послышался голос Фани Кац.
– Насчет устоев надо посмотреть, товарищ Фаня. Будь я красным командиром, я бы взял, дело на войне нужное… Но здесь таких не мобилизуют, сами понимаете, товарищ. Вы как бы даже и не на нашей стороне. Это пока у нас мирная ситуация – мы с вами разговариваем, а если дойдет до перепалки, то вы ведь нас ослаблять будете самим, так сказать, своим явлением…. Так что, извиняйте. Итак, товарищи, предлагаю организовать комитет по противодействию нечистой силе и незамедлительно приступить к работе… Предлагаю в президиум избрать только лиц, прошедших чистилище. Они не дают повода сомневаться в надежности. А такие, как товарищи Кац и Чавкунов, оказавшиеся в особом списке на прохождение Страшного Суда, могут пользоваться только совещательным голосом.
– Я категорически протестую против дискриминации, – раздался певучий голос Фани. – Вы совершенно отстали в своих представлениях о перестройке. Вы же видите, к власти идут сплошные педерасты. Могу назвать фамилии, если хотите. Да я со своей женской слабостью, может быть, самая яростная ненавистница этих врагов природы. Пустите меня в свои ряды!
– Это точно, товарищи духи, – вмешался голос Юшкина, в бытность свою на земле приобретшего профессию ветеринарного врача, – просто черно становится от анальных перестройщиков. Кстати говоря, среди животных педерастии не бывает, что само по себе свидетельствует о ненормальности этого явления.
– Ты бы еще червяков приплел, они вообще делением размножаются, – послышался пропитой бас местного поэта Аполлинария Захолустного, чьи революционные стихи в многотиражке вместе с его портретом висели за стеклом витрины, – выходит, то, что люди делением не размножаются, свидетельствует о ненормальности этого явления.
– Это у тебя, Аполлинарий, мозги уже давно делением размножились и в разные стороны разбежались, – отвечал Юшкин, – надо же, писанул:
Пусть гром в портах и пыль в степях, По всей планете устроим трах!То, что в твоих портах бывает гром, понятно. Но как ты собираешься устраивать трах по всей планете, и какого вида эта хреновина, никто не может уразуметь.
В воздухе образовалась фигура поэта. Служитель муз был высок ростом, тощ и сутоловат. Лицо его украшал большой нос кочерыжкой. Мышиные глазки, выдававшие человека смекалистого и бойкого. Отвисшие губы саркастически кривились. Сальные волосы Аполлинария спадали на плечи редкими космами, а в позе его угадывалось что-то от римских цезарей.
– Толпа, охлос, глиняные морды – вот кто ты и твои сатрапы, не желающие постичь силы слова! Т-р-р-ах! По всей земле поднимем т-р-р-а-х! Поднимем и воспарим! А ты будешь лежать мордой в грязи, как не понявший величия момента Мировой Революции. По всей земле Трах – это мировая революция.
– Аполлинарий Евсеич, я за Вас! – крикнула Фаня. – Действительно, надо везде устраивать трах! Надеюсь, Вы знаете, что именно молодые люди нынче понимают под этим словом. Замечательно!
– Прошу прекратить прения, – снова прорезался зычный голос Собакина, – будем говорить по делу. В миру наступает период полного безумия, в котором к рулю рвутся самые мерзкие из живущих. На поверхность поднимается моральный сброд, но среди него самые опасные – это жулики. Разворуют всю страну. Что делать будем?
– А что ты сделаешь? – вмешался Чавкунов, – скажу тебе как бывший мироед: ничего ты не сделаешь. Пока государь-император еврейскому сословию по рукам бил, оно еще себя помнило. А теперь, извини– подвинься. При этой власти они все, что русский мужик произвел, украдут.
– А надо, чтобы не украли!
– Не наше это с тобой дело, Собакин. Коли Господь им попускает, то, значит, так тому и быть. Пока пусть празднуют. Сам знаешь, чем эти праздники кончаются. А ты разгоняй бесов в педучилище. Там девки Фанин шепоток по ночам слушают, и оттого плодится ципилис. С гражданской войны его не было, а теперь есть. Нешто это дело?!
– Во-первых, я, как представительница многострадального еврейского народа, должна сказать, что – сами хороши. Зильберманов в стране единицы, а Чавкуновых миллионы. Вот они, массы жуликов-то! А вашим девицам ничего нашептывать не надо. Они сами кому угодно нашепчут.
– Эх, Фанька, зараза, нет на тебя управы, и здесь меня прижгла! Да все Чавкуновы вместе взятые одного Зильбермана не стоят. Мы по копейке православных стригли, а он миллионами. Тоже мне, сравнила!
В музее поднялся невообразимый шум, поэтому мы не станем заниматься его отображением и вернемся в музей попозже, когда страсти успокоятся.
12. Небесные источники
Закружило, понесло по воздуху легкие нити паутинок, словно вдохновенные росчерки невидимого композитора свивались в прощальную музыку уходящего тепла. Утренние туманы растворялись под солнечными лучами, каждый раз обнажая новые костюмы на окружавших избушку деревьях. Костюмы становились все ярче – артисты готовились к самому блистательному в своей красоте дню, после которого одежки спадут и начнется пора засыпания. Иван незаметно для себя включился в этот спектакль. Он с нетерпением ждал рассвета и внимательно оглядывал своих любимых артистов: вот береза у калитки гордо отвернула голову, наклонив гриву рыжих волос, еще не просохших от ночной росы. Грива прибавила в позолоте, а внизу уже появились первые черные полоски обнаженных веток. Но береза красива и своенравна, она любуется собой, не признается в скором увядании. Чуть поодаль старый дуб, расставив кряжистые руки, словно ловит березу, собравшуюся юркнуть мимо. Он побурел, покрылся желудями и скрипит даже в безветрие. Дальше стена елей хихикает над переживаниями лиственных пород. Им, вечнозеленым, все равно, какая на дворе погода. Зато кустарники на опушке буйно меняют краски каждый день. И бересклет и краснотал, и крушина и калина – вся эта развеселая компания устроила вокруг избушки такую яркую карусель, что в глазах рябит. Иван смотрел на этот Божий мир новыми глазами и видел в нем постоянно меняющуюся гармонию. Все здесь дополняло и украшало друг друга, источая в пространство симфонию красоты. Сизые травы шли волной струнной музыки и поднимали мелкий малахитовый ивняк, который завивался в стоны рожков, а рожки заставляли подлесок отзываться свирелями в дрожащих кронах осин, голоса свирелей уходили в глубину леса и возвращались раскатистым призывом валторн и гобоев, пробивавшихся сквозь океанский шелест бесчисленных золотых монист. Иван начал понимать, что и он играет какую-то партию в этом волшебном оркестре, но какую? Может быть, он тот, кто добавляет в это звучание свою мелодию человеческой любви? Ведь кем-то задумано так, что в ответ на музыку природы в человеческой душе рождается любовь, и она вырывается из души и включается в этот круговорот прекрасного. Теперь его уже не покидало ощущение заполненности пространства чем-то Любящим и Живым. Все изменилось в сознании и в душе Звонаря. Он видел себя частью совсем другого мира – мира великого, гармоничного и питающегося любовью невидимого Любящего и Живого.
Иван чувствовал, что земля, на которой стоит избушка, какая-то особенная. Через нее нет-нет, да и проходили богомольцы на Дивеево. Это было невозможно объяснить логикой. До мест Серафима подсобнее было добираться как угодно, только не по этой тропе. Однако с непонятным упорством мимо его делянки двигались ходоки, исчезавшие в лесу как призраки. Мало кто из них задерживался у дома Звонаря, и вскоре он привык к ним, как к естественному явлению жизни.
Однажды в дом его зашел богомолец, попросивший водицы. Звонарю было интересно поговорить с этими странными людьми, и указав гостю на ведро с водой, он спросил:
– Скажи мне, гостюнек дорогой, почему Ваш брат пешком на Дивеево ходит? Или денег у Вас на автобус нет? Да еще крюк такой через мою избушку даете, сам-то, поди, от Шатков идешь?
– Меня Матвеем кличут, – отвечал незнакомец, – калика перехожий, раб Божий Матвей. Правильно ты угадал. Иду я от Шатков, а до них автобусом от Арзамаса добрался. Как бы полукруг делаю.
– И какой же смысл в таком маршруте?
– Смысл только один. По преданию примерно так же Серафимушка шел и много на этом пути натерпелся. А мы, грешные, его дорожку повторяем, поближе к нему хотим встать.
– И пешком, значит, поэтому?
– Поэтому, и не только. Слышал, наверное, что третий удел Богородицы над Дивеевом и окрестностями распространяется. Может, и над твоей избушкой. Уж больно здесь воздух сладкий. А нам грех по такой земле на машинах ездить, понимаешь?
– И ты что, во все это веришь?
– Отчего же не верить. Верю.
– Не от темноты ли своей ты в это все поверил, а? Я вот в Афгане офицером воевал. Столько смертей, столько страданий видел. Порой кричал туда, в Небо: помоги! А Он не помогал, не помогал. Так есть ли Он?
– Может, и от темноты я поверил. Мне Бог знаний много не дал. Командиром атомной подводной лодки со службы ушел. Тридцать лет в море провел и точно понял, что Он есть. Сначала Родине служил, а вот теперь иду Ему служить.
Ивану стало не по себе. Армейская закваска сидела в нем глубоко, и такие штучные командиры, как капитаны атомных подводных лодок, пользовались в армии особым уважением.
– Простите, товарищ капитан первого ранга, никак не думал…
– Мы с тобой уже не в армии, что здесь чиниться. Лучше послушай меня, старого человека. Вот ты в Афгане воевал, смерть видел, а может, и сам ее приносил. Тебе тогда в голову приходило, нужны были эти смерти или нет? От чего все это там творилось? Может, конечно, ты об этом не задумывался. Есть люди, которые о жизни и смерти не размышляют. Не берусь судить, плохо это или хорошо. Но, на мой взгляд, человеку очень полезно такие вопросы через голову пропускать. Я пропускал и знаешь, к какому заключению пришел, брат мой возлюбленный? К очень простому выводу я пришел. Не бывает человеков просто так. Все человеки различаются по их отношению к Богу. На самом верху стоят люди богоносные – истинные верующие, которых никакая сила не может заставить смертный грех совершить. Таких сегодня мало. А в самом низу людского рода стоят бесочеловеки. Это те, кто в предательстве и убийстве ничего дурного не видят. Они верят только в одного бога – в свое собственное благополучие. Ты таких немало видел. А между верхом и низом мятемся все мы, остальные. Кто больше, кто меньше грешен, кто понимает, кто не понимает свое окаянство, но дело не в этом. Главное, что мы подвергаемся влиянию и верха и низа. До каждого из нас доходят и сигналы праведников и примеры бесочеловеков. То есть, приглашают нас к выбору. Вот от этого выбора и зависит все в нашем народе и в нашей стране.
– Картинка интересная, хотя я ее другими словами нарисовал бы. Так ты полагаешь, что эти самые бесочеловеки нас еще не завоевали? А я как посмотрю на страну родную, на генсека, на правительство, на землячков своих, так рыдать хочется. Где же богоносные люди? Нет совсем!
Иван скрежетнул зубами. Что-то глубинное задел в нем калика перехожий, капитан первого ранга. Снова выкатилось из сердца раскаленное ядро обиды на родину, выкинувшую его в сварной каталке из своей жизни. На остальных людей, оставшихся равнодушными к нему.
– Ты от людей сердечности ждешь? Они вдруг все черствыми оказались? А сам, пока в инвалида не превратился, разве не таким же был? Мимо нищих, отвернувшись, не проходил? Попавшим в беду без колебаний руку протягивал? Милость к павшим проявлял? Значит, прежде чем на людей обижаться, надо подумать, а чем они хуже тебя, эти люди? Ведь ничем не хуже! Значит дело-то в другом, брат мой, в том, что все мы сообща такими стали и каждому из нас надо с собой разбираться. Ладно, пойду я. Уж прости ради Бога, коли что не так сказал.
Провожая калику взглядом, Иван едва смог побороть в себе озлобление. «Ишь ты, святоша рваный, тоже в божьи люди метит, – задребезжал в его голове чей-то гнусавый голос. – А как матросиков обворовывал, как санитарок драл, уж и забыл по святости-то своей. Мне, значит, инвалиду, на плаху совести ложись, а он вокруг Дивеева пузо отъедать будет. И что таких слушать?»
«Что такое? – подумал Иван. – Откуда голос этот мерзкий? Не мои же мысли, честное слово, не мои. Откуда они?». А голос затих или совсем сгинул из его головы. «Как интересно. Ведь чужой голос. Кто же мне в башку приходил? Или я с ума схожу? Но почему? Никогда на нервы не жаловался», – подумал он и перешел на то, о чем говорил Матвей. На свою прошлую жизнь.
Словно в обратной прокрутке кинофильма перед ним замелькали кадры из юности, а потом и из офицерской жизни.
Вот он, семиклассник, среди группы пацанов издевается над Хавой – полубездомным сыном пьющих родителей, приходившим в школу только потому, что некуда было деться. Кому-то из мальчишек пришла в голову мысль заставить Хаву петь «Интернационал». Они скрутили слабенького, недокормленного подростка, спустили с него штаны, под которыми не было трусиков, и суровой ниткой перевязали головку члена. Затем размотали катушку и повлекли его этой ниткой по коридору, заставляя петь гимн пролетариев. «Вставай, проклятьем заклейменный…. весь мир… и рабов…», – обливаясь слезами, срывающимся голосом хрипел Хава, едва двигаясь и конвульсивно припадая на обе ноги. Писюлька его стала совсем синей от удушающей петли. Среди этих ребят был и он, Иван, также тянувший за нитку. Им было очень весело.
А вот позже, уже выпускником школы, он взахлеб рассказывает друзьям, как учительница немецкого языка, двадцатипятилетняя Елена Николаевна, зазвала его к себе домой, что-то бурно говорила, а затем опустилась перед ним на колени, подняла рубашку, стала целовать живот и повалила на кровать. Потом она плакала, просила никому не говорить о случившемся, но Ванюшки хватило только на то, чтобы донести тайну до танцплощадки. Там он рассказал дружкам о происшедшем под их восхищенные восклицания, добавив и такого, чего не было. Тогда он упивался завистливым блеском глаз своих корешей и чувствовал себя героем.
А вот его армейская холостая жизнь по различным гарнизонам Отечества. Сколько их было, этих Валечек и Верочек, встретившихся на его пути? Все они влюблялись в него с простой сердечностью русской женщины, готовые ради любви на все. Ивану везло, среди его любовных связей почти не попадалось двурушниц. Но кончалось это для них всегда одним и тем же. Наступал момент, когда Иван посылал девушку на аборт, а некоторое время спустя заводил себе новую зазнобу. Его нимало не тревожила совесть. Уж таковы были правила жизни в гарнизонах.
А этот афганский мальчик, у которого ты отнял жизнь лишь потому, что не хотел сдержать в себе зверя? А Зафира, память о которой жжет твою совесть? Нет, прав, прав калика перехожий, капитан первого ранга. Сам дерьмо, и нечего на других пенять.
Что-то изменилось в сознании Ивана. Он потерял уверенность в правоте собственной жизни. А ведь это чувство сопровождало его всегда. И всегда, действуя в унисон с ним, он одерживал свои маленькие победы. Звонарь считал себя хозяином собственного бытия. Это было похоже на правду в том военном мире, в котором он жил. Даже став инвалидом, Иван вел себя как человек, находящийся на пути к самой главной победе – к победе над собственной инвалидностью. Но слова калики все перевернули.
Настала ночь, а Звонарь все не возвращался в дом. Он сидел в каталке, слушал последние посвисты птиц, смотрел на высыпавшую в небе звездную соль и думал о разговоре с Матвеем.
Капитан атомной подводной лодки, превратившийся в богомольца… Как это понять? Разве мог Иван представить себе нечто подобное еще полгода назад, валяясь в клинике Вишневского? Непонятный этот человек пришел в его жизнь и словно голову ему в другую сторону повернул. Ведь еще сегодня утром ты жил надеждой вернуться в прежнюю жизнь. Ты же за это боролся, Иван, с утра до вечера истязая свое тело. А в какую жизнь возвращаться собрался? В ту самую, в которой остались тени твоих мерзких поступков? К силачу-сержанту Сырятникову, которому ты намекал, кого из новобранцев надо приструнить? К тайным и явным слезам этих новобранцев, стонавших под ремнем Сырятникова? К попойкам с толстым жуликом старшиной Зуевым, сбывавшим налево солдатские сапоги и белье и приносившем тебе коробки с водкой и консервами? К слезам армейских беззащитных девчонок, по душам которых ты прошелся своими яловыми сапогами? В какую жизнь излечиться задумал, Иван?
«Боже, какая же я падла, какой гнус, чтоб мне лихо было! Ведь ничего доброго не сделал, только обманывал самого себя – защитник Родины, все для Отечества. Каким большим и могучим себя представлял, а сам – насекомое. Грязное насекомое… вот мне название», – приходило ему в голову и сразу же, словно в ответ, знакомый дребезжащий голос вклинивался в мысли:
«Пошли их подальше, Ваня, этих моралистов. Они тебя в навоз превратят. Сами гроша ломаного не стоят, а других поучают. Ты не хуже других был, а может, и получше многих. Страху не знал, за родину кровь проливал. Солдаты тебя любили, а ежели ты у них по мелочи что стянул, так Боже мой! Нам ли не знать, как генералы воруют! Да ты в сравнении с ними вообще ангел. Тебе ли убиваться! Живи со спокойной совестью. Ведь когда совесть спокойна, то и человек здоров. А то изведешь себя, изболеешься. От инвалидности не избавишься и помрешь раньше времени».
«Опять голосок пожаловал, – подумал Звонарь, – да и был ли он в отлучке? Может, просто притаился где-то в подсознании и наблюдал за моими мыслями. А теперь вклиниться решил. Похоже, два человека во мне борются. Один совесть защищает, а другой над ним глумится. И каждый по своему прав. Кого же мне слушать?».
Иван смотрел на отблески далеких зарниц над горизонтом, на темные очертания деревьев и снова ощущал присутствие вокруг чего-то таинственного и непостижимого. Из сырой, мерцающей дали, из черного, беззвездного неба, из глухоты леса к нему приходило теплое чувство любви ко всему, что существует вокруг. В сторону уходили беды, горечи, несбывшиеся мечты. А любовь все больше заполняла душу и трудно было удержать это чувство в себе. Так и хотелось громко закричать: «Я люблю тебя, люблю тебя, мир!» И словно вспышкой далекой зарницы в его голове сверкнула мысль: «ЭТО ГОСПОДЬ! Вот как он пришел ко мне – Любовью. ЭТО ГОСПОДЬ! – Звонарь облегченно рассмеялся. – Конечно! Бог – это любовь. Вот оно, наконец-то, случилось. Как же долго меня крутило, как томила меня лихая моя жизнь, а оно совсем рядом было, и пришло! Теперь я с пути не собьюсь. Со мною Господь, его защита. Как же просто все: еще сегодня не знал, куда душу приложить, а сейчас знаю: ее только надо Богу открыть и она расцветет, успокоится, примет в себя весь мир».
С каким-то неизведанным светлым облегчением Иван стал устраиваться спать, и, лежа на своей жесткой постели, почему-то вспомнил детство.
Вот бабка его читает перед сном Святое Писание, а он спрашивает, смеясь:
– Бабуля, ты, чай, Библию наизусть знаешь, а все каждый вечер бубнишь…
Бабка не обижалась и отвечала:
– И вправду, знаю. А все равно, каждый раз новое нахожу. Вот когда сам почитаешь, узнаешь, какая это книга.
Ваня опять смеялся, потому что знал, что никогда Библии в руки не возьмет. Чего в ней интересного, сказки про Бога, которого нету?
«А ведь малолетство мое до сих пор продолжалось, – думал Иван, – все в том же детском, безбожном состоянии ума находился. Значит, вот какое испытание понадобилось, чтобы я, наконец, вокруг осмотрелся и понял – как же нету? Везде он, везде его всевидящая сила, везде свершение судеб, незримыми нитями связанных с прошлым и будущим. Как же непросто все и как слеп я был…О чем заповеди говорят? Не убий, не возжелай, не предай… Все их нарушал. Убивал, прелюбодействовал, пачкал душу без конца. Думал, что никто не видит и не знает. А Бог все видел! Как очиститься, как сбросить проклятую ношу прошлого?». На память пришли рассказы бабки о хождении по святым местам. Ходили просить святых о здоровье близких, о рождении детей, о пропавших воинах, о заблудших душах. Ходили очищать себя от навалившихся грехов. Видно, и ему пришла пора вспомнить о древнем обычае.
«Покачу-ка я в Дивеево, к Серафиму. Хоть и нет сегодня там его мощей, а дух витает. Не зря туда со всей страны люди идут. Вот кого надо просить о помощи, вот кто поможет мне душу облегчить…», – пришла ему в голову простая мысль, и он уснул под звездным небом крепким, целебным сном.
13. Путь к Серафиму
– Ты чего это, дядек, – басил Вальгон, – столько верст на ручной каталке. С ума сдвинул, что ли? Считай, неделю в один конец ехать будешь. Ночевать как собрался, под кустом, или где? А погадить как? Сейчас ты с веревками управляешься. А на дороге кто тебе веревок развешает, Соловей-разбойник или Змей Горыныч? Ну ты даешь!
Удивлению и возмущению племянника не было конца. Вот уж не ожидал он, что дядя решится на такую авантюру. При этом Иван решительно отказывался от его помощи, хотя как он одолеет такой путь, трудно было себе представить. Хорошо, что хоть кое-какая асфальтовая лента до Дивеева имеется, а то в первом же овраге застрял бы. Но даже по хорошей дороге одолевать крутые подъемы ему будет не под силу.
– Все ерунда, Валек. Не тужи. Уеду и приеду целехонек. Надо, браток, понимаешь, надо.
Еще два дня Звонарь готовился к путешествию. Заточил узкий ручной бур, наделал рогаток из дубовых палок, нарезал веревок, выточил острые колья и собрал сухой паек. В конце проверил и смазал ходовую часть коляски, приторочил сзади цилиндрическое ведро и засунул в него всю снасть. Наконец, все было готово, и с первыми проблесками сентябрьского рассвета Иван начал свой путь в Дивеево. Ему предстояло сначала добраться по лесной дороге до шоссе, а потом преодолеть без малого шестьдесят километров. По трассе этой лишь иногда проходил колхозный транспорт, да изредка мелькали легковушки из соседних районных центров. Она была довольно безлюдной и пользовалась дурной репутацией.
Поначалу путешествие казалось нетрудным. Прохладный утренний воздух бодрил силы, тихо поскрипывали колеса каталки, которые Иван неспешно гнал натренированными руками. Местность здесь была довольно равнинной, без крутых перепадов, и он вручную вытягивал небольшие подъемы, встречавшиеся на пути. Остался за спиной родной Первомайск, и впереди теперь не было на добрый десяток километров ни одной деревни. Эта часть Нижегородской области когда-то славилась безбрежными лесами, которые, впрочем, уже заметно подгрызли леспромхозы и пожары. Сейчас сплошь и рядом встречались лесосеки и поля. К обеду путешественник одолел километров пятнадцать и, довольный собой, остановился подкрепиться. Всю его снедь составляло сало, вареная картошка, лук да черный хлеб. За спинкой коляски висела фляга с водой, от которой он мог через резиновую трубку утолить жажду.
Звонарь закусывал у обочины дороги, когда мимо промчалась серая «Волга» с горьковскими номерами. Проехав метров сто, машина остановилась, затем дала задний ход и подъехала к Ивану. Из нее вышли два молодых хлопца в спортивных костюмах, приблизились к инвалиду и стали его внимательно осматривать.
– Милостыней промышляешь, что ли? – спросил один из них.
– Нет, я по другому делу, мужики, – ответил Иван.
– Это по какому еще? Может, лесорубом работаешь? – спросил другой и оба засмеялись.
– Короче, если милостыню набашлял, то гони дорожный налог. Здесь все строго.
– Чего, чего, какой налог?
– Такой налог, урод. Мы здесь шишку держим, понял? У нас нищих вокруг Дивеева триста человек. И все налог платят. И ты будешь платить. А не будешь – столкнем тебя с твоим «Мерседесом» в овраг и будь здоров. Дошло?
– Мужики, я афганец, к Серафиму иду о здоровье просить.
– Слышь, урод, здесь таких афганцев – как грязи. Бабки гони!
– У меня нет денег!
Парни деловито обыскали его и нашли кошелек с тридцаткой, который он не догадался спрятать поглубже.
– А это что?
– Все, что есть. Пенсия афганская.
– Ну, ну, пой птичка. Значит так. Деньги мы твои забираем, как дорожный налог. А чтобы лучше нас запомнил, знак наш на тебе ставим.
Один из парней развернулся и с силой ударил Звонаря в глаз. Затем оба легко вскочили в машину и уехали. «Волга» скрылась за поворотом, а Иван сидел в каталке, скрипел зубами, и по лицу его текли слезы. Потом он поехал дальше. Сентябрьское небо стало быстро темнеть, наступили сумерки. Он расположился ночевать на полянке неподалеку от дороги. Просверлил буром несколько глубоких отверстий в земле, вставил в них рогатины, соорудил незамысловатую конструкцию из веревок и перекладин. Затем с помощью этой конструкции выбрался из коляски, приладился на поперечину, оправился. Теперь можно было действовать дальше. Из дорожного мешка появились надувной матрасик и закуска. Лежа на матрасике, он съел несколько картошин с салом, укрылся легким одеялком и уснул.
Проснувшись от сырого утреннего холода, Звонарь обрадовался. Все идет по плану! Он преодолел уже километров двадцать и ничего страшного с ним не случилось. А эти бандиты…Обидно, конечно, да ничего. Стерпится. Он позавтракал, собрал вещи, приторочил их на место, затем подтянулся на перекладине и уселся в коляску.
Поначалу асфальтовая лента бежала без остановок, и он преодолел одним махом около десяти километров. Потом пошли спуски и подъемы, которые становились чем дальше, тем круче. Наконец Иван съехал в глубокую балку и понял, что подняться из нее на обычной тяге, наверное, не сможет. Он начал с усилием проворачивать колеса, но ход их все замедлялся и замедлялся, и не поднявшись даже на четверть холма, он встал. Звонарь поставил коляску на тормоз, с трудом достал из-за спины бур, наклонился на сколько мог вперед и просверлил в земле первое отверстие. Затем вставил в него дубовую палку, накинул на нее веревочную петлю, снял каталку с тормоза и подтянул ее на метр. Снова поставил ее на тормоз и снова стал сверлить дыру. Когда к вечеру он подтянул коляску в последний раз и она оказалась на вершине подъема, позади оставалось больше полусотни отверстий. Он был измотан, но в душе его пело ликование: взял-таки высоту! Молодец Иван! Звонарь ночевал на холме, отъехав от дороги за кусты, и уже засыпая, заметил, что мимо снова промчалась знакомая «Волга». Уж не его ли ищут? Что делать, если снова найдут? Как ему вытерпеть унижение? Ведь он всегда был победителем. Будь он здоровым, эти скоты у него в ногах ползали бы! Но сейчас ввязаться в драку, значит, поставить на себе крест. Вдвоем они его одолеют. Так и не решив для себя ничего, Иван уснул крепким сном измотанного человека.
Они настигли его через день, ближе к Дивееву, когда он стал о них забывать. Снова та же «Волга» и те же парни с пустыми глазами.
– Ну что, урод, милостыни набашлял?
– А как же, мне и ведьмы, и лесные упыри подают. А больше здесь никого нету.
– А ну-ка покажи мошну, самокат долбаный.
Они снова обыскали его, но ничего не нашли.
– Слышь, пацан, мы так не играем. Каждый раз, когда мы проезжаем, ты должен сдавать налог. Понял?
– А если нечего сдавать, то что?
– То на хрена ты нам нужен, загрязнять окружающую среду? Тут и так одно говно вокруг. Мы тебя на удобрения переведем. Так что шансов у тебя больше нету. Скоро поселок будет с автобусной остановкой. Вот возле нее попасись и после нам результаты предъяви. Хорошо? А чтобы не забывал, мы тебе еще один фирменный знак ставим. Под другой глаз.
Звонаря снова ударили и искры посыпались в его мозгу. Бандиты уехали, а Иван понял, что больше не сможет терпеть их издевательств. Что там калика перехожий говорил про бесочеловеков? Господь ведь людей запрещает истреблять. А те, кто над инвалидами глумятся, разве люди? Звонарь посмотрел на свои натренированные непрестанным трудом руки. Его пальцы набрали силу металлических щипцов и ему ничего не стоило раскрошить человеку горло. «Нет, не по силам мне выносить эту мразь. Не такую я жизнь прожил, чтобы с ней мириться. Что будет, то и будет», – подумал он и покатил дальше.
Пятый день был самым трудным. Холм следовал за холмом, и Звонарь выбивался из сил, сверля десятки отверстий на каждом подъеме. Скорость его продвижения резко уменьшилась. Он одолел за день не более километра, а до Дивеева оставалось еще не менее пятнадцати. Однажды его взял на прицеп колхозный грузовик, но через пару километров ему надо было поворачивать к торфоразработке. Пришлось отцепиться.
Звонарь увидел знакомую «Волгу», когда лес закончился и он уже выезжал на открытое пространство. Узнав за стеклом веселые лица, вдруг сообразил: «Да не денег им надо, какие от меня деньги! Они над моей беспомощностью издеваются, бесов в себе тешат. Бесочеловеки!». Он остановился, поставил коляску на тормоз и, разминая пальцы, поджидал своих мучителей. А те, веселясь и вихляясь в предвкушении развлечения, с бутылками пива в руках подходили к нему, громогласно сообщая, что ждут башлей. Вся действующая часть его тела напряглась, превратившись в налитый силой клубок мускулов. Мысли Ивана остановились, он лишь чувствовал в себе нарастающую ярость, которая поднялась к горлу, стесняла дыхание и затемняла зрение. Если бы ему в голову вдруг пришел голос разума, он уже не услышал бы его. Чека, которая взрывает гранату, была выдернута и счет шел на мгновения. Первым к коляске приблизился тот, который дважды бил Ивана в лицо, видимо, специалист по «фирменным знакам». Будучи в игривом настроении, он хотел погладить дурашку-инвалида по голове, прежде чем убедиться, что у него пустая мошна. Второй остановился рядом, глотая пиво из горла бутылки.
– Ну что, урод, где наши денежки? – глумливо осведомился первый, наклоняясь к Ивану. Не глядя на него, Звонарь выбросил правую руку вбок, схватил бандита через нежную ткань спортивных брюк за мошонку и сжал свою железную клешню. Будто спелая слива разъехалась под его пальцами в бесформенный жидкий комок. Бандит истошно завизжал, изо рта его ударила струя жидкости и он стал оседать перед коляской, стремительно покрываясь синевой. Иван подхватил выпадавшую из его рук бутылку и точным броском расквасил лицо второму, который даже не успел понять, что происходит. Парень упал, схватившись за голову, и начал с воплями корчиться в траве. Звонарь снял коляску с тормоза и подъехал к нему поближе. Он знал, что первый подохнет от болевого шока. Но что делать с этим? В памяти его всплыл афганский мальчик, лицо генерала Гариева, стыд от того беспамятного озлобления. Но ведь сейчас совсем другое. Это не беззащитные люди, а бездушные твари. Если второго выродка оставить в живых, он сегодня же приведет новую шайку бесочеловеков, и его разорвут на части. Нет, надо принимать решение. Звонарь мгновение помедлил, затем вынул из-за спины бур, размахнулся и вонзил его в шейный позвонок бандита. «Пусть меня Бог накажет», – подумал он, засунул инструмент на место, с силой крутанул колеса коляски и поехал дальше.
Бог его не наказал. Совсем напротив. Тот колхозный водитель, который вез Ивана на прицепе, уже груженный торфом догнал его и дотащил до Дивеева оставшиеся километры. Это спасло Звонаря, потому что горьковская банда потеряла следы тех, кто завалил ее братков на лесной дороге.
14. И путь твой лежит через боль
Звонарь не узнавал Дивеева. Он бывал здесь когда-то в детстве, и его память сохранила утопавший в грязи поселок, разрушенные купола огромных храмов, навоз вдоль длинных рядов сараев да кучки пьяных мужиков. Теперь все переменилось. На каждой улице кипела жизнь. Храмы обросли лесами, на которых суетились муравейчики строителей, сигналили прохожим грузовики со стройматериалами, рабочие ремонтировали дороги, восстанавливали еще какие-то строения, а главное – на улицах Дивеева было много людей. Не только тех, кто приехал добровольно трудиться, но и просто богомольцев, пришедших поклониться святым местам. В народе уже прошел слух о том, что мощи Серафима каким-то чудом найдены в Александро-Невской лавре в Питере и будут возвращены на место. Словно предваряя это событие, люди восстанавливали давно забытые тропы поклонений. Стоянки для автотранспорта заполняли автобусы, колхозные грузовики, такси и частные легковушки. Несмотря на прохладную погоду, в Серафимовом источнике принимали купель.
Мелодия необычайного народного праздника проникла в душу Ивана. Не разгульного и бесшабашного, а тихого и торжественного, уже позабытого на Руси. Здесь он был виден в просветленных лицах людей, в их поведении, во всей атмосфере, которая витала над толпой. «Господи, хорошо! – подумал Звонарь. – Не зря я сюда приехал. Благость какая здесь, все будто просветленное. Надо просить Его о помощи, здесь Он присутствует. Чувствую его!»
Иван сидел в каталке на возвышении, под которым находился источник. Источник представлял собою мощный родник, забранный в цемент и выплескивавший воду через широкую трубу. Ниже трубы был сооружен деревянный желоб, в который мог лечь человек. Вода шла настолько сильным потоком, что легший туда моментально становился мокрым. Звонарь с любопытством наблюдал за двумя пожилыми женщинами, уже принявшими купель в исподних рубахах и теперь обсыхавших на холодном воздухе. Они разговаривали о чем-то между собой, и казалось, им совсем не зябко. По обычаю обтирать святую воду нельзя, а надо дождаться, когда она сама высохнет.
Рядом с Иваном топтались два мужичка, местные жители, которые уже научились приспосабливать местные особенности под свои скромные питейные потребности.
– Ну что, солдат, помочь тебе искупаться-то? – спросил один из них. – Только рублишко нам на опохмелку выпишешь?
– Я бы рад, ребята. Да ограбили меня бандюки в лесу. Нет ни копейки.
– Ну, так мы тебя и за бесплатно. Божеское же дело, а?
– Я бы с радостью. Затем сюда и ехал.
Мужики осторожно скатили коляску с Иваном к источнику, сняли с него куртку и штаны, оставив в нижнем белье.
– Ну, с Богом?
– С Богом, ребята!
Они подняли его на руки и положили головой к трубе. Ледяной холод обжег тело и он мгновенно покрылся пульсирующей, вызывающей электрические уколы влагой. Подержав Ивана с минуту в купели, мужики подняли его, посадили в каталку, набросив сверху одежонку. Потом развернули коляску вверх, на бугор и двинули ее. И тут Звонарь вскрикнул. От пояса вниз по ногам ударила молния, заставив ноги дернуться.
– Больно, – прохрипел Иван, – ногам больно.
– Паралик излечился, – тут же зашумела толпа, – чудо явилось, чудо!
Люди бросились к коляске, в надежде увидеть чудесное излечение. Но Звонарь только скрипел зубами:
– Больно, больно, Господи, нестерпимо…
Ему было не до чуда. Та часть тела, которая уже больше года ничего не чувствовала, теперь горела пожаром. Он едва не терял сознание от одуряющей боли, лицо его сжалось в печеное яблоко. Ни счастливого чувства освобождения от недуга, ни осознания чуда… только боль.
– Плохо болезному, – со вздохом сказала какая-то тетка. – Доктора бы ему.
К Звонарю приблизилась пожилая женщина.
– Я медсестра, что с вами?
– Ноги были парализованы, а после купели словно обожгло. Болят нестерпимо…
– С точки зрения медицины это невозможно, а по православному – это чудо. Давайте, я отвезу вас в барак для строителей. Там тепло и спокойно. Если надо будет – сделаю болеутоляющее. Только не знаю, нужно ли оно в таких случаях.
Вместе с двумя мужчинами и в сопровождении толпы она отвезла Ивана во временный барак, где жили строители храма, обтерла его собственным полотенцем и натянула куртку. Ноги, продолжавшие изредка конвульсивно содрогаться, она одевать не стала, видимо, любопытствуя, что с ними происходит. Иван изнемогал от боли, а она профессионально осматривала его и говорила:
– А ножки-то у вас совсем хорошие, никакой атрофии. Конечно, в них только Дух Святой вдохни, они сами побегут. Верно, улучшения нужно ждать. Ну, так сделать вам инъекцию анальгина?
– Нет, – прохрипел Иван. Он понимал, что с ним происходит нечто необычное и не хотел постороннего вмешательства. – Спасибо вам, ничего не надо.
– Ну, хорошо, тогда терпите, больной. Рано или поздно боль должна улечься. А если хуже будет, кого-нибудь за мной пошлите, пусть сестру Клавдию кликнут. Я либо у источника, либо у храмов.
Она ушла, а Звонарь остался один в бараке, все население которого трудилось на стройке. Раскладушки, электроплитки, скромная одежонка, стоптанная обувь. Да, здесь собрались небогатые люди. Хотя, может, богатые денег дали.
Иван попытался поудобнее устроиться в коляске и боль резко усилилась. Он сообразил, что чем меньше движений, тем меньше молний проскакивает по телу. Но стоит хоть чуть шевельнуться, как горячие плети прожигают ноги насквозь.
«Что же это, улучшение или ухудшение? Ведь с такой болью жить невозможно.»
– Это твоя судьба, раб Божий Иоанн, – пришел к нему в сознание мягкий и участливый голос, – ты сам ее выбрал.
– Разве я выбирал боль? Я пришел к Серафиму просить о выздоровлении, – ответил голосу Иван, догадываясь, что, наверное, это и есть голос Серафима.
– Я не дарю выздоровления по греховности своей, радость моя. Я только молю Господа о помощи другим людям, и мои молитвы бывают услышаны. Но мы говорим о твоей боли. Ты сам выбрал ее, ведь ты шел сюда уже верующим человеком. Ты уже знал, что убийство – это тяжкий грех. Ты уже раскаялся в прежних убийствах. Как же ты снова его совершил?
– Но это были люди, достойные смерти, они издевались надо мной.
– Ты думаешь, те, кто издеваются над тобой, достойны смерти от твоей руки? Разве ты дарил им жизнь, чтобы отбирать ее? Твоя гордыня ослепила тебя, а ты, как верующий человек, уже должен был подняться выше их в своем страдании. Ты сделал большой шаг назад, радость моя, и тебе не дано полного исцеления. Напротив, тебе дано испытать причиненную тобою боль, хоть это лишь ее малая часть. Ты причинил ее гораздо больше. Но радуйся, что это наказание пришло к тебе в жизни тварной. Ибо если бы ты получил его в жизни вечной, то и мучился бы вечно, как многие убийцы. Теперь ты будешь каждый день страдать телесной мукой, и нет у тебя иного пути, как повернуться к Господу в смирении. Не повернешься – пропадешь.
Звонарь опустил голову и слезы потекли по его щекам. Он шел к Серафиму за искуплением, а попал на Голгофу. Он уже понимал, в какую муку превратится каждый его день.
Вскоре возвратилась Клавдия. Она пришла не одна. Вслед за ней в барак вошел калика перехожий, капитан первого ранга Матвей.
– Не долгим было расставанье, Иван, – сказал он, легонько обнимая инвалида. – Рассказывай, что случилось.
Стараясь не шевелиться и скрипя зубами от боли, Звонарь рассказал об истории с бандитами, купели и голосе Серафима.
– Что ж, картина невеселая, Иван. Появление бандитов ты не смог понять. Это тебе было послано испытание перед исцелением. Не получился у тебя этот экзамен. Гордыня твоя велика, вот и не получился. А Господь тебя от гордыни к смирению повернул. Будешь к нему через боль идти.
– Неужели за смерть этих подонков платить надо?! Не ты ли про бесочеловеков говорил? Никак я в толк не возьму, почему такая кара. Ведь нелюди же!
– На то тебе и боль дана, чтобы ты однажды понял. А сейчас с тобой рано разговаривать. Сначала в себя приди. Но все-таки запомни, что христианин личных врагов прощает. Прощает, понимаешь? А вот врагов Господа – нет. Бандиты же тебя лично обидели. И еще, Иван. Мы все должны научиться прощать ближним своим. Если не научимся – перебьем друг друга и сгинем с лица земли. Вот и вся наука. Завтра я тебя назад, в лесничество повезу. Самому тебе теперь уж не добраться, да и не обиходишь ты себя никак. Так что давай сегодняшнюю ночь здесь переночуем, с утра – в путь-дорогу, согласен?
Иван чувствовал необычайную благодарность к этому чужому человеку, который из простого сострадания берет на себя огромный труд ухода за полностью парализованным, изводимым болью человеком.
– Спаси тебя Христос, – неожиданно для себя вымолвил он.
– Вот и хорошо, – ответил Матвей.
Строители помогли положить Звонаря на топчан и найти положение, в котором тело его болело меньше всего. Ночь оказалась для Ивана сплошной мукой. Едва он смыкал глаза в полудреме, как молнии простреливали его снова и снова. К утру он уже потерял силы бороться с болью и ждал только рассвета, чтобы послать за Клавдией. Пусть хоть не надолго облегчит страдания своим анальгином. В этом ожидании он незаметно ускользнул из яви в легкий сон и увидел васильковую пустоту, заполнявшую весь мир.
«Это небо? Какое пронзительно-синее! – Он поворачивает голову и видит лестницу из белого камня, спиралью уходящую вверх, бесконечную и ослепительную на фоне яркой синевы. Что это за лестница, куда она ведет? Почему мне хочется подниматься по ней? Будто у меня и дел никаких нет! А и вправду, какие у меня дела? Нет у меня дел, и стою я на крохотном пятачке земли, а вокруг бездонная пропасть. Ни шага нельзя сделать, сорвешься, упадешь в тартарары. Значит, и выбора нет – вот она перед тобой, хочешь, не хочешь – поднимайся. А там зной, одиночество, жажда, каждый шаг – мученье. Но выбора нет. Постой, как же нет – вон она пропасть – шагни и падай. И ничего уже не надо делать, и мучений никаких испытывать не будешь. Лети вниз, наслаждайся полетом, пока не плюхнешься в бесконечную, черную глубину. Плюхнешься, и погаснет навсегда искорка твоего сознания. Все, не станет тебя. Зато без мук. С одним чувством беззаботного полета. Разве это не выбор! Что? Ты вечно жить хочешь? Ты надеешься, что там, в вышине тебе подарят за каторжный труд жизнь вечную? А ты уверен, что подарят? Ползи своим переломленным остовом со ступени на ступень как раздавленный жук, ползи, умирай в пути сотни раз, надейся на спасение. А вот приползешь, а ОН скажет: «Нет, раб Божий Иоанн, не стоишь ты жизни вечной. Столько ты уже нагадил, столько жизней погубил, что лететь тебе в тартарары и свергнешься ты с самой верхотуры и шлепнешься опять в ту же черную глубину. Вот тебе и весь выбор!»
Иван проснулся в поту, сделал неосторожное движение и тут же его тряхнуло болью, будто наступил на провода высокого напряжения.
«Нет, так нельзя, это лукавый мутит. Если заберусь наверх – заслужу прощение. На то она и дана, эта лестница, чтобы ее одолевший уже не падал в преисподнюю. Там, наверху – жизнь. Буду туда ползти, буду, буду». Он заскрипел зубами от одолевших его чувств, и дремавший рядом Матвей проснулся:
– Что, Иван, больно? Может, попить тебе?
В Первомайск они вернулись на удивление легко. Матвей нашел среди водителей транспорта, что привозил в Дивеево богомольцев, парня, который согласился доставить их на своем УАЗике-«санитарке» прямо до дома Звонаря. Просто так согласился, без денег. Мучительная дорога, так много стоившая Ивану, обернулась всего лишь двумя часами осторожной езды, при которой водитель старался объехать каждую выбоину.
Вскоре Звонарь сидел в углу своей комнаты, а Матвей проворно хозяйничал, соображая обед. Боль не оставляла Ивана и он думал над тем, каким способом искать внутреннюю защиту от нее. Как готовить себя к бесконечным испытаниям. Матвей же будто не замечал его мучений и говорил с ним, как со здоровым человеком.
– Так вышло, Иван Александрович, что ты не по своей воле затворником стал. Сколько тебе в этом углу сидеть – никто не знает. Может, и отпустит тебя мука, а может, и нет. Вот к этому положению и привыкай. И что в таком положении можно делать? Только бытие постигать. Бытие на земле, бытие на небе. Правильно соображаешь, что одного Устава гарнизонной службы для этого недостаточно. А кто тебе мешает другие книги читать? Боль твоя? Ну, тогда тони в ней, погибай, аки червь разрубленный. А коли не хочешь погибать – читай через боль. Выбора-то нету. А я тебе служить буду, потому что в этом свое призвание чувствую. Но себя ты без моей помощи перешагнуть должен. Перешагнешь – значит пойдешь по пути, который тебе Серафим начертал. Не перешагнешь – сгинешь бесследно.
* * *
Матвей спал тихо, неприметно. Его дыхания не было слышно. Иван осторожно поднял голову, осмотрелся. Единственное, что не причиняло ему боли – это движение шейных мускулов. Он мог поворачивать голову и говорить – без страха попасть под разящее действие болевых разрядов. Свет луны бросал тусклые блики на беспорядок в комнате, на стену с тикающими ходиками, на его беспомощные ноги.
«Как странно все вокруг, – думал Иван, – что это за жизнь такая мне открылась, в которой земля и небо слились воедино, в которой Серафим со мной говорит, будто он не умер сто лет назад? Почему моряк Матвей ко мне прибился, что за чувство долга его привело? Какую роль мне отвела судьба, что это за белая лестница передо мной открывается? Ведь простой я, простой человек, вчерашний офицер, откуда эта карусель событий, которую никак не могу разумом постичь? Наверное, была в моей прежней жизни какая-то прореха. Мы крутились только в сегодняшнем дне, а о прошлом ничегошеньки не знали. Так, чуть-чуть из школьной программы. И, оказывается, от этого были близорукими, а может, и совсем слепыми. Ведь сегодняшний день – он как верхушка айсберга – на гигантской глыбе прошлого стоит. Я его, это прошлое и знать не знал и думать о нем не думал, а как меня судьба тряхнула, так и обнажилось оно – живое, не умершее, шагающее рядом со мной. Я-то по глупости думал, что вольной птицей живу. Хочу – направо, хочу – налево. А на самом деле, стоит передо мной белая лестница и некуда мне от нее отвернуть. Да разве только передо мной? Она каждого вверх ведет, кто вниз падать не хочет.
Превозмогая боль, Иван дотянулся до молитвослова, взял его в руки и стал разбирать буквы при бледном свете луны.
«Помилуй меня Боже по велицей милости Твоей…», – начал он едва слышным голосом. Матвей зашевелился и открыл глаза.
– Ты молишься, Ваня? – спросил он. – Сейчас лампу зажгу, чтобы посветлей было.
Он запалил керосиновую лампу и поставил ее поближе к Ивану.
– Все у тебя хорошо будет, все пойдет как надо. Ты пока молись, как получится, а дальше все само собой выстроится. Скоро поймешь, что такое Господня благодать…
15. Музей
Наверное, читатель, прочитав в нашей книге первые строчки о загробных духах в окояновском музее, Вы не приняли их всерьез, полагая, что автор применяет какой-то художественный прием. Прием приемом, но давайте согласимся, что подобные вещи не так уж далеки от реальности. Кому из нас не приходилось сталкиваться с их проявлением в своей жизни. То являлся к Вам во сне недавно усопший родственник и вел с Вами разговоры, каких не мог вести на этом свете, то чувствовали Вы присутствие кого-то из умерших совсем рядом с собой, то еще что-то особенное происходило, что давало Вам уверенность в продолжении жизни души после смерти тела. А коли так, то надо признать и существование загробного мира, в котором должна быть и своя власть, возглавляемая Господом. Иначе не может быть, потому что все в природе организовано и соотнесено, а значит организована и невидимая нам ее духовная часть. Другое дело, что коли и там имеются силы, отпавшие от Господа и нападающие на него, то и там идет сложнейшая борьба, полная всяческих драматических событий. Мы не знаем, как она выглядит, но ощущаем бесспорное преимущество того мира: он воспринимает многое из нашей жизни и влияет на нее. А мы, за редким исключением святых провидцев, той жизни не видим. И это, наверное, так и надо. Не готовы мы воспринимать такие сложные и тяжелые вещи…
Жизнь Филофея решительно переменилась. Мало-помалу тайное бытие музея затянуло его и сделало своим участником. Он уже давно забыл, что когда-то не было у него знакомого домового или изменяющихся фотографий. И то, что другого человека повергло бы в столбняк, стало Филофею привычным занятием. Особенно он сдружился с домовым, который, несмотря на грубость нрава, был мужиком обстоятельным и, как это ни удивительно, честным. «Мое слово – олово», – говаривал Чавкунов, что-нибудь обещая Филофею. И всегда выполнял.
А началось их общение с идейного спора, который невзначай разгорелся между смотрителем и домовым в один из серых зимних деньков. До этого они молча терпели друг друга. Филофей знал, что где-то поблизости заныкался домовой и подсматривает за ним своими маленькими серыми глазками, а домовой в зрительной части мира больше не обнаруживался и предпочитал иногда заявлять о себе лишь кашлем или кряхтением.
В тот день Бричкин больше положенного нахлебался новостей из «Правды», и его начало крутить. Сначала он молча корчился на диванчике в своем углу, потом вскочил, стал бегать по помещению и дребезжать:
– Ну что же это делается, Господи боже мой! Сначала всю советскую власть с головы до ног обгадили, а теперь Николашку славословить принялись. Ну, ни в чем меры нету! Ну что за народ такой, право слово!
Из-за стеклянного шкафа с чучелом рыси раздалось сопение, а затем голос Чавкунова громко вопросил:
– Это кого ты Николашкой обзываешь, Его Императорское Величество что ли, ирод?
Бричкин был невысокого мнения о царствовавшей династии вообще, а о последнем царе в особенности. Что на министров и генералов сваливать, в главных бедах всегда царь виноват. А при последнем царе этих бед было многовато. Филофей, конечно, понимал, что купец будет стоять на стороне самодержавия, но, имея про запас крестное знамение, смело вступил в спор.
– А что мне больно перед ним гнуться, – ядовито отвечал он невидимому оппоненту, – чего он хорошего сделал? До революции страну довел, вот и все!
Шкаф затрясся, с него полетела пыль, и откуда-то из-за рыси стала вылезать борода Чавкунова. Вскоре домовой материализовался, превратившись в грузного мужчину неопределенных лет. Лицо его, шириной со среднее решето, обрамляли космы цвета старой пакли. Толстый ноздреватый нос и маленькие глазки делали купца похожим на лешего. Упитанное пузо дынькой обтягивал сюртук линялого черного сукна, на ногах болтались просторные хромовые сапоги.
– Царя не потому любят, что он плохой или хороший, – сопя промолвил домовой, – а за то, что без царя нельзя. Потому что царь – это в первую голову народный столп. Нация вокруг него обвивается. Кто поумней и побогаче – ближе. Кто послабей – подальше. Но все – вокруг.
– Выходит, без царя прямо-таки нельзя? – съехидничал Бричкин. – А мы вот живем и ничего себе!
– Это вы без царя живете? А Сталин ваш кем был, не царем что ли? А Брежнев? Ты, паря, думай, чего врешь. Цари у вас были, только не православные, а от Сатаны. Поэтому в вашем царстве такое зверство развелось. Это вы только теперь собираетесь совсем без царя зажить. Давайте, давайте. Тут вас инородцы к своим рукам и приберут!
– Что, никак черносотенство из тебя не выйдет, Михаил Захарович, везде заговорщики мерещатся?
Филофей уже успел заглянуть в архивы и разузнать биографию своего оппонента.
– Вот когда тебя Господь к нам определит, то есть, лишит тебя плоти, тогда ты увидишь, что здесь все без обману. Никто никому не врет. Союз Михаила Архангела верно государю императору служил, а его сейчас со всех сторон обгадили. Думаешь, кто? Ненавистники русские, нехристи. Они не народу служили, а деньгам. Плевать они на православных хотели, отсюда и беда у нас произошла. А самодержец не деньгам служит, но племени своему, понял, Бричкин?
– Откуда Вы мое имя знаете?
– Вот к нам попадешь – поймешь. Буду я еще тебе наши тайны рассказывать. Хотя одну расскажу. Ты, Бричкин, в мыслях много грешишь. Понятное дело, человек ты не верующий, гордыня тебя как жабу распирает. Но все же поумерься. Не представляй себя Генералиссимусом. Тут у нас народ ехидный – задразнят.
– Что-то я не очень понимаю, кто дразнить будет? А как же ад, как – рай?
– А ты ад по поповским картинкам представляешь: черти с пилой, костер для грешников и прочая чушь. Нет Филофей, ад – это когда причиненные тобою страдания твою совесть жгут. Написал ты, к примеру, донос на человека, сослали его в Сибирь. Он там замерзал, из последних сил на лесоповале работал, а потом помер от цынги. В страшных мучениях помер, чуешь? При жизни ты об этом и не вспомнишь ни разу. А как поступишь к нам сюда, так совесть твоя и оголится. Каждую ночь при его муках присутствовать будешь и таким криком душа твоя будет кричать, что лучше бы сам от цынги помер. В особо тяжелых случаях такие наказания определяются навечно.
Купец хитро посмотрел на Филофея, и тому стало жутко. Был в его жизни период, когда он пописывал донесения оперуполомоченному НКВД на своих сограждан. Время было бесхитростное: кто не с нами, тот против нас, попробуй, откажись. Ох, как не хотелось Филофею, чтобы это дело всплыло на поверхность.
– Ну а Вы-то что в домовых задержались, или какой особый грех совершили, что Вас в предбаннике Царствия Небесного уже семьдесят лет морят?
Чавкунов нахмурился и вздохнул:
– В моем положении предписано отвечать правду. Хотя ты и не судья мне, а коли я с тобой говорю, то все равно… У меня грехов тьма, нашему сословию без этого никак нельзя. В моей лавке каждого покупателя обязательно обсчитывали. Хоть на алтын, хоть на грош, но обязательно. А как же богачество соберешь? Каюсь, каюсь… Бывало, гнилого товару подсовывал, маслице подмешивал, медок разжижал, да и других фокусов понаделывал. Но это все глупые малости. Главный мой грех, за который меня на Суд не допустили, был куда хуже. Когда я церковным старостой стал, меня бес по-настоящему попутал. Начал я деньги из церковной кассы воровать, прости меня Господи, грешного. Да какие это деньги! Я уж тогда тысячами ворочал, два выезда имел, дом вот этот отгрохал, а из кассы червонцы воровал, эх, беда! Потом до утвари дело дошло. Дароносицу мельхиоровую умыкнул, ворюга проклятый, оклады золоченые, подсвечники серебряные. И знаешь, какая радость меня от этого брала! Не описать. Принесу, бывало, украденный подсвечник домой, затеплю свечку и от радости перед ним коленца выкаблучиваю, голосом завываю и даже срам ему показываю. А ведь верующий человек! Должен был понимать, что бесы мной овладели, а не понимал! Корысть ослепила. Ну, воровал, воровал и доворовался. Настоятель это заметил и меня к стенке припер: жулик, говорит, пес ненасытный, на весь мир опозорю! А я еще молодой, в страшной мужеской силе. Не поверишь, бывало, по загульному делу пятерых девок за ночь мог оприходовать. Прости меня Господи, грешного! Ну и дернул меня нечистый ему ляпнуть: попробуй, говорю, только скажи. Я тогда на весь мир растрезвоню, что Наську твою обрюхатил. Что правда, то правда, моя вина. Настя у него на выданье была, уже восемнадцатый годок, совсем перезрела. Как увидит меня – в краску кидается, а уж ежели ущипну, то трясется вся. Я к ним в гости захаживал, ну и однажды умудрился, пока родители зазевались, с ней в чулане провансаль отчебучить. Да и ничего бы особенного, но понесла она. Настоятель как услышал мои слова, посинел, дыхание у него сперло, ну думаю, достукался. И дал оттуда деру. Бросил его, можно сказать, при издыхании. Он так там и помер, жаба грудная у него была. Попадья вскоре за ним отправилась с горя. Детишки остатние в нищету впали, а Настя вскоре девочку родила. Но я как бы не при чем, не знался с ней. Она все время болела и померли они обе. Сначала ребенок, а потом она. А я как прежде – мое дело сторона. Чего особенного? Такое сплошь и рядом. Жил себе, в ус не дул. Но, оказалось, что после смерти за такие грехи православным ох как воздается! Бездушие нам за высший грех почитается. Господь ведь нашу душу золотом своей благодати выстилает, а если мы его заботу отвергаем, то уж, как говорится, по плодам вашим… Мне-то с моей гордыней в домовые попасть – горше горького. Самая бесправная тварь…Я, конечно, надеюсь, что меня когда-нибудь на Суд призовут, а сам страхом безутешным маюсь: как встречусь после Суда с Настей и девчоночкой загубленной? Ой, как страшно, Филя, ты бы только знал!
– Ты же дочку не губил, Михаил Захарович!
Домовой отмахнулся рукой:
– Отговорки перед Богом не годятся. Я и загубил, каменным своим сердцем. И дочку и Настю…..
Лицо его исказилось мукой.
«Вон оно как, – подумал Филофей Никитич, – все там у них по-другому происходит, не так, как мы думаем».
– А эти, сотоварщи Ваши, что на фотографиях красуются, у них какая судьба?
– Тамбовские волки им товарищи, – хмуро ответил купец. – Тут одни большевики висят, не моего поля ягоды. На них грехов, поди, побольше, чем на мне, окаянном. С ними по-разному. Но все за свои дела отвечают. А фотографии только для связи с ними служат. Вроде как агенты их. Вот, видишь, Волчаков на нас смотрит. Я его только мальчишкой помню. А когда он подрос, меня уже революционные матросики на тот свет отправили. Делов его в своей земной жизни я не видел, только хорошо их знаю. Он тут в уезде крестьян раскулачивал. Слез от его делов было много. Хотя самолично никого не убивал. Теперь где-то в кромешной тьме мужицкие слезы отплакивает, а ты по фотографии можешь ему привет послать. Он услышит. Обрадуется, наверное, что ты, Филофей, язычником стал. Он ведь тоже за Третий Интернационал ратовал.
– Отчего же это я язычником стал, – обиделся Бричкин, – мне и в русских православных хорошо.
– Ну, ты не серчай. Язычники тоже люди. Только они землю без Бога топчут. Пьют, едят, да размножаются. Им везде родина. Теперь у нас таких все больше произрастает. Зато душою русских почти не осталось. Ты сам подумай: откуда Русь взялась? От объединения князей и холопов в русский народ. В московскую Русь. А объединились они под венец православной церкви, по наущению православных отцов. Поди, про Сергия Радонежского слышал?
– Что-то шибко грамотное у нас уездное купечество было. А Вы не притворяетесь по случаю коммерсантом, Михаил Захарович?
– Это ты музейным работником притворяешься, Филей. А сам ни уха ни рыла в этом деле не смыслишь. Я же, как участник «Союза Михаила Архангела», много чего полезного познал. Так вот, Русь состояла из двух частей: из самодержавной народолюбивой власти и царелюбивого народа. А спаяны эти части были православием. Обе они без христианской веры себя не представляли. Это и был русский дух. Они друг в друге надежу и опору видели. Скажешь, нет? Было, Филя, было. А победила русский дух безбожная сила под ликом коммунизма и на тебя свой венец напялила. Ты не русский, Филя, потому что ни православного народа ни народолюбивой власти у нас нет, а уж русского духа тем более. Большевистский венец на тебе, опять же, завял, и что под ним обнажилось? А все та же слепая тяга сладко жить, забыв про Бога и про совесть. Ты же тесто для бесовской выпечки! Скоро тебя испекут и ты будешь молиться зеленым бумажкам. Вот так, раб Божий Филофей!
16. Источники в Москве
Булай закончил чтение ориентировки СИС о положении в СССР и взглянул на Рочестера.
– Джон, документ имеет общий характер. Он явно разбавлен открытой информацией, и я не могу оценить его высоко. Водичка, Джон…
Рочестер засмеялся:
– Я не для торга его принес, мистер Булай. Понятно, что вас на мякине не проведешь. Но обратите внимание на последний абзац: нам рекомендуется усилить сбор информации по обстановке в Кремле.
– Что-то я с трудом представляю, как вы будете усиливать сбор в Берлине. У вас есть хорошие источники в нашей столице?
– Не без этого, дорогой мистер Булай, есть. И хотя сидят они в Москве, встречаемся мы с ними в Берлине, потому что ваша контрразведка совсем озверела. В служебной церкви СИС идет круглосуточный молебен, чтобы Вашего Крючкова черти проткнули шампуром и делали из него шашлык в режиме нон-стоп.
– Что-то я не слышал, что у СИС имеется служебное чистилище.
– Ах, да, простите, я ошибся. Это не церковь, а капище, в котором наши Джеймсы Бонды пьют виски и устраивают шабаши. А если серьезно, то в уютном гнездышке нашей службы действительно имеется кафе. Мы в нем отдыхаем от подрывной работы и уж тут не даем спуску вашему Председателю.
– Хорошо, вернемся к Вашей агентуре. Что, это крупные источники?
– Неплохие, совсем неплохие парни, но я их не знаю. Здесь с ними встречаются те же, кто ведет их в Москве. Но кое-что из их информации мне все равно становится известно, и я могу продать эти сведения вам.
– Послушайте, Джон. Ведь вы неплохо получаете, зачем вам столько денег, для ощущения счастья?
– Видите ли, Данила… Я сейчас нахожусь в процессе развода с моей прелестной женой. Согласно брачного контракта, эта генетическая шлюха имеет шанс отсудить у меня пожизненное содержание. Кстати, несмотря на грязную измену. А так как наше родовое состояние пустил псу под хвост еще мой дедушка, я буду вынужден платить эти немалые деньги из своей зарплаты.
– Что, Британский Королевский Суд может защитить даже изменницу? Что-то непохоже на ваши обычаи.
– Ее адвокаты пытаются доказать, что я неправильно исполнял супружеские обязанности, что призвано как-то объяснить ее, извините, блудливость. Сейчас они рыщут по всему Лондону и Берлину, собирают свидетельские показания, будто я каждый вечер допоздна засиживался в пивных и надирался до положения риз. Вот такие дела, друг мой.
– Знаете, Джон, я не очень верю в то, что вы пришли к нам ради денег или из-за ваших конфликтов с Ее Величеством. Мне мерещится еще что-то, хотя не никак не могу уловить этот мотив. Вы чего-то недоговариваете…
– Возможно, Дан. Психология – дело тонкое. Если вам не повезло и вы родились на свет со второй сигнальной системой, то возможны варианты. Вот вы не задумывались, почему самые крупные британские разведчики, такие как Ким Филби, приходили к необходимости сотрудничать с вами? Уж не потому ли, что они были коммунистами?
– Они и на самом деле были коммунистами. Во всяком случае, принято считать, что убеждения подтолкнули их к решению работать на Союз.
– Это так и не так. Надо понимать, что такое британец-коммунист, Дан. Тут мы имеем дело с уникальным явлением. Вот что такое немец-коммунист, более понятно, правда? Это сторонник коллективистского образа жизни, и сам глубоко по натуре коллективист. Но можно ли такое сказать про британца? Ни в коем случае. Коллективизм в Альбионе появится только тогда, когда издохнет последний англичанин. Британский коммунист был явлением очень загадочным. Дело в том, Дан, что та крайняя форма индивидуализма, которую выращивают на моей родине, непреложно порождает случаи отчаянного протеста. Вот ты знаешь полицейскую акцию «Соседи следят»? Это когда каждый добровольно стучит на соседа по любому подозрению, отчего раскрываемость преступлений очень высокая. Акция рекламируется повсеместно. Везде висят плакаты, существует шкала вознаграждений за стукачество вплоть до медалей. Вобщем, дело почетное. Раскрываемость высокая, но каждый понимает, что любой его чих может попасть в полицейское досье. Вы ощущаете себя в свете прожекторов, независимо от того, в белье вы или без оного. И вас еще убеждают, что это здорово.
Я привел частный пример, но при желании их можно привести массу, из чего становится понятной ненормальность британского образа жизни. Протест против этой ненормальности выражался по-всякому. У нас полно сограждан, сбежавших в мусульманство или в свое время двинувших в хиппи. И коммунисты были одним из проявлений такого протеста. Просто они облекли свое сопротивление в свойственные тому времени формы. Сейчас они вымирают вместе с мировым коммунизмом.
Мой главный резон прихода к вам также кроется в протесте. Я ведь с самого начала об этом сказал. Другое дело, почему я пришел именно к вам, а например, не к китайцам, да мало ли к кому еще. Тут такое дело.
Помните, я рассказывал, что интересовался в юности вашей страной. С возрастом я пришел к выводу, что именно в России таится ответ на главный вопрос всех времен: зачем есть человек? Западная цивилизация дает на него простой ответ: для того, чтобы унавозить собой очередной слой чернозема. А вы собираетесь снова обрадовать мир национальным откровением.
– Ну-ка, поясните подробнее.
– Вот сейчас Горбачев и компания собираются вправить русским мозги, превратить их в рабов и при этом внушить, что они свободные люди. А чтобы они поверили, дать им вдоволь дешевой еды, копеечных развлечений и обязательно сделать секс их основным жизненным стимулом. И они станут счастливы. Я считаю, что с русскими этот номер не пройдет и они ответят на него по-своему.
– Каким же вы видите этот ответ?
– Сначала, конечно, под руководством ваших новоявленных кумиров вы броситесь в наши райские кущи и начнете стремительно учиться жить по-западному. Но очень скоро сообразите, что ничего, кроме скотской толкотни у кормушки, у нас нет. И тогда вы взбрыкнете и пойдете своим путем. Вспомните, наконец, зачем на свет появилась Россия.
– За чем же, по-вашему мнению?
– Во-первых, если бы это было только мое мнение, то на него можно было бы наплевать. Во-вторых, я уже высказывался по этому вопросу, правда, под другим углом зрения. Могу повторить, коль Вам будет угодно.
Так вот, если исходить из реальности существования Бога, а эта мысль едва ли вызывает сомнения у любого вменяемого человека, то на земле Господа должна обязательно представлять Его Божественная Религия. Нет сомнения в том, что Его Религия – это Православие, то есть незамутненное христианство. Вы ведь не будете настаивать на том, что папа Римский реально является наместником Бога на земле, правда?
– До такой степени я еще не поглупел.
– Так вот, Православию принадлежат преимущественно русские, а значит, они и есть народ, несущий правду этого мира. Выходит, Дан, мое мнение здесь ни причем. Похоже, что на миссию России имеется мнение Господа: она представляет среди людей Иисуса Христа. Это видно и по тому, каким пыткам ее подвергли, и по тому, насколько непостижима ее духовность для Запада.
Вот у американцев есть демократическое миссионерство, от которого скоро взвоет весь мир. А у вас должно быть православное миссионерство, в котором мир остро нуждается. Могучая православная держава и будет таким миссионером. Потому что в православии таятся истинные ценности человечества: равенство перед Богом и возвышенность верующей души. Вот куда лежит ваш путь! И мне с вами по пути.
– Что ж, Джон, спасибо на добром слове. Не ожидал услышать от вас то, что у нас пишет, может быть, несколько самых глубоких авторов. Тем более не думал, что вы близки православию.
– Я хочу быть близок, Дан, хотя мне еще далеко до этого. Кажется, только в вашей вере можно обрести способность одухотворять свою грешную натуру. Мои попытки сделать это с англиканами плохо кончились. Вот так, друг мой. Хотя, все мои выводы сделаны лишь по зрелому размышлению, да от чтения всяких книжек. Я и в храме-то православном ни разу не был.
– Тем не менее, спасибо на таком обнадеживающем заключении о нашем будущем. Теперь вернемся к русским агентам. Вы собираетесь передавать мне препарированную информацию. А как я определю, что это не компиляции ваших аналитиков? Вот если бы информация была прямо от источника…
– Это опасно.
– Мы же не в крокет играем.
– Довод просто неотразимый, но мне нужна уверенность, что в Москве не протечет.
– Если я дам вам стопроцентную гарантию, вы перестанете воспринимать меня всерьез.
– Это мне нравится больше. Возможно, мы придем к соглашению. Только не торопите меня. Вы же знаете, мы, англичане, народ неторопливый.
– Хорошо. Давайте поговорим о деле. Когда встреча с первым источником?
– В середине следующего месяца.
– Вы сумеете поработать вокруг него?
– Точно не знаю. Вероятно. Если я что-то узнаю, то передам вам, не беспокойтесь.
– Что ж, можно договариваться о тайниковой операции. Оплата сведений, как условились, после их оценки в Москве.
* * *
Резидентуры британской СИС отличаются наибольшей эффективностью среди всех остальных резидентур НАТО за рубежом. Не потому, что в них работают неотразимые и непотопляемые Джеймсы Бонды, а совсем по другой причине. Все дело в той школе, которую получает будущий слуга Ее Величества по пути в британскую разведку. Школа эта великолепна, неподражаема, достойна всяческого восхваления. Она уходит корнями в глубокую старину, никогда не изменялась и не реформировалась. Нет, однажды были кое-какие небольшие изменения, но об этом позже. Так вот, если Вам однажды случится попасть в Итон, Оксфорд или Кембридж, не поленитесь прогуляться до университетских корпусов. Они стоят в самом центре этих маленьких городков, и Вам не придется долго бить ноги. Но по пути туда, если дело происходит в учебный период, не глазейте по верхам, а обращайте внимание на прохожих. Может быть, Вам удастся увидеть стайки совсем маленьких мальчиков в красивых курточках и галстучках, в кепи и гетрах. Это ученики тех частных и дорогих закрытых школ, в которых дети уже в свои семь лет знают, что когда-нибудь станут хозяевами страны. Потом, ближе к учебным корпусам, Вы увидите студентов, одетых совсем не так, как их сверстники в Сорбонне или Риме. К тому же, все они будут юношами. Хотя нет, прошу прощения. Иногда среди них может мелькнуть и существо в юбке. Это и есть то самое изменение, которое Ее Величество однажды, кажется, в шестидесятые годы, ввела в систему высшего образования Великобритании. Девушкам теперь можно учиться даже там, где куются государственные кадры Альбиона. Нет, нет, не надо заблуждаться, Великобритания – это самая древняя демократия в мире, кажется, она появилась сразу вслед за древнегреческой демократией, поэтому Вы можете встретить в ее университетах сколько угодно девушек. Но в Итоне их немного. Может быть, побольше в Кебридже и в Оксфорде. А если Вы хотите насладиться видом большого количества молоденьких студенток, то езжайте куда нибудь в захолустье Уэльса, где фасад университета не ремонтировался со времен Шекспира. Там студенток хоть пруд пруди. Там, кстати, и нравы совсем не похожи на Кембридж. Вот папаша одного студента приехал как-то в такое университетское захолустье повидать сыночка. Пока добрался, наступил поздний вечер. Стал он стучать в дверь общежития, еле достучался. Открывается наверху окно, и чья-то лохматая башка спрашивает, кто такой, чего надо? Ну, а папаша в ответ, мол, скажите, студент Джон Джонс здесь живет? – Здесь, здесь, – отвечают ему сверху, – заносите.
Так вот, будьте уверены, что потом, после окончания захолустья в Уэльсе, Вы не обнаружите Джона Джонса ни в МИДе, ни в Министерстве обороны, ни в любом другом достойном заведении. А если бы Вы были волшебником и сумели заглянуть в личные досье чиновников этих уважаемых заведений, то увидели бы одни и те же скучные записи: «закончил Итон, закончил Кэмридж, закончил Оксфорд…». Вот и все. Так что в Кембридже лохматого Джона представить себе невозможно. Там все ходят в строгих костюмчиках, аккуратно причесанные и очень вежливые. А обедают, сидя рядами в столовой на виду у преподавателей, которые кушают на возвышении, вроде как на сцене, и внимательно следят за поведением своих воспитанников. Воспитанники же, предварительно получившие правила приличного поведения, ведут себя в высшей степени благопристойно и думают исключительно только о долге перед Ее Величеством, хорошей успеваемости и предстоящем матче в регби. Они знают, что будущий слуга Ее Величества должен быть предельно лоялен, послушен, исполнителен и непреклонен в выполнении поставленной задачи. Кроме того, он должен уметь не показывать своего идиотизма окружающим. Правда, процент людей, которые не справляются с этой задачей, среди студентов довольно высок, так как здесь немало отпрысков благороднейших фамилий Альбиона, пристрастившихся к пьянству и кровосмешению больше века назад.
Когда же выпускник Кембриджа наконец-то выходит в жизнь, он знает, что никакой диплом ему не поможет, если он будет нерадив на службе Ее Величества. Система жестокой дисциплины и отчетности пронизывает всю английскую бюрократическую машину. Пусть даже какой-нибудь твой предок знаменит тем, что передушил из-за наследства дюжину братиков и сестричек, тебе не поставят это в заслугу и вышибут из Форин офис после второго же появления на службе подшофе. Во всех английских офисах царит стресс. Из людей выжимают все их ресурсы, и это приводит к отличным результатам. Как себя при том чувствуют сами люди – совсем другой разговор.
Вот так и в резидентурах. Британский разведчик не знает уныния и усталости, он целиком отдается работе на порученном ему участке, а корона обеспечивает его всем необходимым для успеха, в первую очередь – деньгами.
И еще. Британский разведчик не знает комплексов неполноценности в любом обществе. Он спокойно войдет в лабораторию ученого с мировым именем, в кабинет министра огромной страны или на дачу командующего армией. Потому что его к этому приучили еще дома, на родине.
Резидент СИС в Москве Джон Салем каждую неделю устраивал приемы у себя на квартире. Такие небольшие приемы, персон на пятнадцать – двадцать. Приглашались постоянно разные люди, но если посмотреть их должности, то ни представителей трудовой интеллигенции, ни звезд эстрады там не обнаружилось бы. Ученые, правда, мелькали, военные – только изредка. Зато костяком этих веселых встреч являлись «перестройщики».
Советник Джон Салем, рыжий шотландский еврей, был выходцем из древнего рода ростовщиков, которых, по легенде, сам Кромвель ввел во дворянство. Может быть, про Кромвеля предки Салема и приврали, но вообще-то, при этом канцлере как раз и начался знаменитый английский капитализм, сделавший евреев в этой стране хозяевами всего, что приносит деньги. Так что все может быть. Однако Джон никакого отношения к ростовщичеству не имел и с молодых лет шпионил в пользу Королевы. Делал он это весело, с огоньком, потому что сам был человек общительный, шумный, говорливый, и жену подобрал как раз под себя. Сара Салем хотя и не отличалась стройной фигурой, а уж если говорить честно, то была похожа на кадку с огурцами, зато обладала прелестными вокальными данными, и ни один прием не обходился без переливов ее райского голоска. Она сама себе аккомпанировала на фортепьяно и великолепно исполняла романсы на стихи Бернса. Молодые чиновники из правительства, экономисты и политики новой формации с удовольствием аплодировали ей и с не меньшим удовольствием поглощали щедрое хозяйское угощение, которое готовил повар-индус. Эти индийские угощения, если их не залить спиртным, просто сжигали слизистую желудочно-кишечного тракта, поэтому молодежь старательно тушила пожар пивом и виски под извинения хозяина о том, что собственной кухни Англия так и не придумала. Все, что может предложить из национальных лакомств английский повар – это кусок трески в кляре с жареной картошкой. Фиш энд чипс, сэр! Вот и все.
Однажды одним из молодых гостей оказался Юджин Ежиков (так он представлялся хозяевам), а в миру Евгений Викторович Ежиков, или, для друзей – Женька-Ежик. Британскому разведчику было достаточно одного взгляда на Ежикова, чтобы понять, с кем он имеет дело. На языке профессиональных музыкантов Юджин был кустарной мандолиной, если на что и способной, так разве что подхватывать коллективные аккорды других инструментов. По всем своим конструктивным данным это изделие неизвестного мастера не годилось на сольные и сильные партии. Лицо Ежикова было неброским и бледноватым. Небольшие серые глаза под гривой хорошо постриженных рыжих волос делали его, впрочем, довольно приятным. Он был невысок, хрупок, физически слаб. Его манера держаться скованно подсказала бы разведчику, что струны его ослаблены и незвучны. Скорее всего, он не блещет остроумием, да и в целом не очень умен, женщины им не бредят, и на службе он не делает стремительной карьеры. Все это было правдой. А любой из приятелей Ежикова рассказал бы разведчику, что совсем недавно Юджин с грехом пополам и могучей помощью влиятельного родителя окончил экономический факультет МГУ. И вся его музыкальная партия с этого момента заключалась в том, что он, помирая от скуки, бил мух логарифмической линейкой во ВНИИ «Продтяжмаша». Ни в корпусе, ни в струнах этой мандолины никакого намерения подхватить мощную мелодию жизни не ощущалось, и можно было смело прогнозировать, что единственным ее достижением станет несметная куча набитых насекомых. Но это не подходило родителю Евгения, страстно желавшему вызвать в своем неказистом изделии хоть какой-то звук. В результате проведенной мастером несложной комбинации и ряда поднесенных подарков неучтенной ценности, молодой Ежиков волшебным образом переместился прямо в аппарат премьера Павлова, да не кем-нибудь, а заместителем заведующего его секретариатом. Можно сказать, младшим дирижером целого хора молоденьких дудочек, флейточек, а также видавших виды скрипочек. Ежик и не мечтал никогда стать таким советским бароном, от которого теперь зависел целый музыкальный коллектив, а главное – порядок очереди, выстраиваемой к самому Хрюкалу, как любовно называли Павлова за спиной его подчиненные. Какие подарки и почтение, оказывается, может принести такой пост! А еще веселее было то, что Ежику стали теперь известны многие кремлевские тайны, от которых аж голова ходила кругом. Вот что значит – иметь нормального папика. Папик же был, и вправду, ничего себе «шнурок», зав. сектором в отделе по связям с братскими партиями за рубежом. Что он там делал с этими партиями, Бог его знает, но в деньгах он никогда не нуждался и, бывало, привозил Ежику из загранкомандировок такие подарки, что дух захватывало. Одни часики «Радо», заблиставшие на запястье Юджина, вызывали неподдельное восхищение у понимающих людей.
К Салему Ежика зазвал его старинный приятель, с которым они учились еще в средней школе, Семка Соткин. Семка после окончания МГИМО остался там аспирантом на кафедре международных экономических отношений и нежился в обществе отборных студенток, якобы шептавших ему, что прелестней его черных кудрей нет ничего на свете. Соткин был еще тот враль, и Ежик не очень верил, что черная мочалка, которая торчала на его башке, сильно возбуждает окружающих красавиц. Аспирант он был никакой, потому что, как и Ежик, имел родителя, способного обеспечить сыночку теплое место в этом суровом мире. Семкин папик рулил каким-то управлением МИДа и имел ранг «чрезвычайно уполномоченного» посла.
На первом же приеме с Ежиковым познакомился молодой английский дипломат Стив Йенсен, занимавшийся в своем посольстве экономической проблематикой. В том, что Стив действительно сек в экономике, Ежик засомневался с первого разговора, настолько несуразными были его вопросы. Более того, англичанин не врубался в ответы, которые Юджин давал ему на довольно сносном английском языке. Однако все это мало смущало Ежика, потому что англичанин был интересным парнем. Он увлекательно рассказывал об английской эстраде, прекрасно знал историю битлов, был тонким знатоком моды и кухни. Короче говоря, от Стива можно было черпануть европейской культуры, и Юджина это очень увлекло. Йенсен же, в свою очередь, вскользь опросил Евгения о его скромной личности, и когда узнал, что тот работает у премьера, проникся к нему чувством, близким к эротическому. Весь вечер англичанин обхаживал Ежика, всеми силами стараясь ему понравиться, и на прощание предложил встретиться еще раз для обсуждения проблем современной культуры.
На следующей встрече, которая проходила в ресторане «София», речь зашла о делах земных, и Ежик не стал скрывать, что его зарплата немногого стоит, а от родителей особой поддержки нет. Здесь он откровенно врал, потому что ни в чем нужды не испытывал, а тоска у него образовалась потому, что папик наотрез отказался давать деньги на БМВ-кабриолет, который ему предложили по знакомству. Москва уже начала наполняться иномарками, и не было для Ежика и ему подобных ничего престижнее, чем заиметь крутую тачку. У родителя же была на это другая точка зрения, и он просто опасался, что непутевый отпрыск наделает на таком мощном звере беды. Папик неколебимо указал Юджину на красную «девятку», подаренную год назад по случаю получения им диплома, и сказал, чтобы о большем наследник не смел и мечтать.
Оказалось, что Стив является фанатом-автолюбителем, очень хорошо разбирается в машинах и знает в Европе места, где их отдают практически задаром. У собеседников появилась одна общая животрепещущая тема. Юджин насел на Стива с просьбой помочь ему добыть такой автомобиль, однако тот вдруг неожиданно печально сказал, что у них ничего не получится, так как к Юджину через пару дней придут из КГБ и попросят прекратить дружбу с англичанином.
– Почему это, – возмутился Ежик, – у нас перестройка на дворе. Прошло время, когда нам по рукам били.
– Ты же понимаешь, Юджин, перестройка перестройкой, а КГБ свое дело делает и от посольства всех ненужных людей отсекает. Ты же работаешь в аппарате правительства. Конечно, чекисты тебе запретят со мной общаться, так что извини, с машиной я тебе помочь не смогу.
– А почему я должен докладывать на Лубянку о знакомстве с тобой? Не буду я докладывать. Они и не узнают никогда. И звонить тебе в посольство я не буду. Коню понятно, что твой телефон прослушивают. А если ты мне из автомата домой будешь звонить, так и отлично. Уж наш-то телефон в порядке, папика без санкции Крючкова никто на прослушку не поставит. А для этого, Стив, надо иметь очень веские основания. Так что, не робей.
– А ты, я вижу, не робкого десятка, это мне нравится. С тобой, наверное, можно и не только автомобильные дела прокручивать.
– Ты о чем это?
– О деньгах. Ты ведь говоришь, что тебе их не хватает, так?
– Точно. Не хватает.
– А по образованию ты экономист, лучший в Союзе факультет закончил. Подручных материалов у тебя на работе полно. Вот и напиши мне справку по экономическому положению в СССР на текущий момент. Выдели две-три основных проблемы. Если материал получится, я тебе заплачу. Мне все равно кому платить, людям Ананбегяна или тебе. Кстати, помощниками этого академика я не очень доверяю. Из Лондона присылают скептические оценки их материалам.
– Так ты что, имеешь здесь корреспондентов?
– А как ты думал? Ни я, никто другой из посольства в вашей кухне не разберется. А освещать положение надо, сам понимаешь, Лондон требует. Поэтому у нас есть фонд на заказ экспертных работ среди местных спецов. Раньше ваши люди боялись с нами сотрудничать. А сейчас – сколько угодно. Благо, мы неплохо платим.
– Ну и сколько примерно?
– Если оценка материала хорошая, то может доходить до пятисот долларов за печатную страницу.
В мозгах у Ежика что-то чирикнуло, и он увидел розовое зарево над лазурным побережьем тропического архипелага. На фоне ласковых волн, в ярком свете солнечных лучей стоял БМВ-кабриолет дивного лимонного цвета. На эту желтую мечту, отставив попку, опиралась безумной красоты блондинка в бикини, а за ней, насколько хватит глаз, качались в ритмах какого-то неведомого блюза широколистые пальмы.
– Стив, а ты не на шпионаж меня подбиваешь? – ослабевшим голосом из последних сил спросил Юджин. – Слишком все хорошо, чтобы быть правдой.
– Юджин, шпионаж начинается там, где появляются государственные секреты. Я бы от них не отказался, конечно. Но тебе я предлагаю написать анализ, опираясь на открытые данные. Никто и никогда не сможет тебя упрекнуть в нарушении закона, понял?
– Я напишу такой анализ, давай вопросы.
– Хорошо, ты их получишь на следующей встрече. Только сначала давай договоримся, как будем встречаться, чтобы о нашем контакте никто не знал.
Этой ночью Ежик не спал. Он прокручивал разговор с англичанином с разных сторон и каждый раз возвращался к сладостному выводу о том, что Фортуна стала поворачиваться к нему лицом. Теперь он сможет настричь достаточное количество «зелени», чтобы зажить достойной жизнью. Бедняга не подозревал, что попал в то психологическое состояние, которое на языке всех разведок мира называется одной фразой: «Коготок увяз».
Ежиков не мог догадываться, что теперь его поведут безжалостно и умело прямо в агентурную ловушку, используя его недалекий ум, отсутствие сыновьего чувства к Родине и жадность к деньгам. И путь этот не будет выстлан розами.
Первое мучительное разочарование он испытает совсем скоро, когда вместо ожидаемых пары тысяч «зеленых» за десятистраничный анализ Йенсен небрежно бросит на стол одну бумажку достоинством в пятьдесят долларов и в сочувственной, но непререкаемой манере выльет ведро помоев на его труд. На труд, который Ежиков впервые в жизни писал ночами, проклиная себя за то, что кое-как учился в университете, вынеся из него по существу фиктивный диплом. Англичанин не преувеличивал убожества его работы. У специалистов ничего, кроме насмешки она не могла бы вызвать. Быстро разобравшись, с кем имеет дело, СИС решила долго не дурить голову Ежику никому не нужными анализами. Британские разведчики точно оценили натуру этого человека и взяли направление на то, чтобы нарастить его аппетиты и подвести к краже секретных документов. Доступ к таким документам у парня имелся. Делалось это просто. Все «анализы», вымученные Ежиком бессонными ночами, безжалостно осмеивались, и в заключение выдвигалось пожелание «довести бумагу до ума» небольшим секретным фрагментом. Оплата ставилась в зависимость только от этого фрагмента, и он, в конце концов, выработал условный рефлекс: не будет секретной составляющей – не будет и денег.
Через четыре месяца отчаявшийся Юджин Ежиков, в погоне за золотой птицей притащил секретную инструкцию правительства для МВЭС и получил за нее целых семьсот пятьдесят долларов. Начался его тайный путь Иуды, который не мог закончиться хорошо ни по земным, ни по небесным законам.
17. Иван Звонарь
Стараниями Матвея в лесной избушке появлялось все больше и больше книг, о которых Звонарь раньше и не слыхивал. Неведомыми путями его помощник добывал жития святых отцов и их размышления о сущем. Книги эти притягивали магнетической силой неспешных рассуждений о душе человеческой, о душе русской, о Боге в этой душе. Никак не думал Иван, что они будут читаться так легко и естественно, так понятно. Лишь какое-то время спустя он сообразил, что это происходит из-за перемен в его жизни. Разве мог бы он воспринять эти мысли в суете дня, в бесконечных земных страстях? Нет, конечно. Только уход от большого мира и обращение в себя самого сделало это возможным. Теперь, в бесконечных безмолвных ночах словно приходили к нему русские святые отцы и вели с ним долгие беседы. Так беседовали, что порой охватывал его восторг от познания глубин духа. Словно под опекой святого Иоанна Лествичека, Иван ступень за ступенью поднимался по духовному знанию, и казалось ему, что ушел он вверх уже бесконечно, а оборачивался и видел, что по прежнему стоит у самого основания этой бескрайней громады. Его удивлял и поражал тот способ проникновения святых в знание, который не требовал ничего, кроме молитвы и уединения. Ни лабораторий, ни пробирок, ни опытов. Уединение и молитва, а мысли – всеобъемлющие, живые, нужные каждому человеку в каждый момент жизни. Ему становилось ясным, что понимание мира может идти от Бога, и это понимание точнее науки.
Сильнее всего Ивана, как и любого земного человека, поразили предвидения святых. Он с удивлением обнаружил, что они знали грядущее и предвещали его недвусмысленными предсказаниями. Сначала Звонарь был потрясен записью сна Иоанна Кронштадтского, которую этот святой праведник сделал за девять лет до Октябрьского переворота. Старец подробно описывает приход безбожной власти и гибель царя. И хотя сон есть сон, в нем много аллегорий, но даже звезды и остроконечные шлемы увидел он на служителях Сатаны.
«Как же это стало возможно? – думал Звонарь, – ведь Иоанну Кронштадтскому пришло во сне будущее потрясение России в самом его откровенном виде. Это не просто предчувствие, а ясные картины кровопролития, войны и даже смерти императора. Все в них отображено просто и понятно».
Иван стал интересоваться этим вопросом и вскоре узнал, что не одному Иоанну Кронштадскому приходили такие видения. Многие святые отцы предсказывали народную катастрофу и предупреждали о предстоящих бедствиях. Особенно ярки были предупреждения двух других великих провидцев – монаха Авеля и святого Серафима Саровского, которые из глубины времен обратились к Императору Николаю Второму.
Первый, монах Авель, в миру Василий Васильев, прожил долгую жизнь, пережил трех императоров и оставил после себя поразительные прозрения. Родился в середине XVIII века в крестьянской семье, в молодости перенес тяжелую болезнь, после которой у него открылся дар ясновидения. Тогда же ушел в Валаамов монастырь, затем бродил по городам и весям странствующим монахом и, наконец, в Николо-Бабаевском монастыре, что у Костромы, написал свою первую книгу, в которой предрекал скорый конец Екатерины Великой. Не удивительно, что за такое сочинение попал в Тайную Экспедицию, где был с пристрастием допрошен и дал показания, сохранившиеся в архивах. Дальше его водили к самому генерал-прокурору графу Самойлову. Тот прочел в книге, что монах через год предсказывает скоропостижную смерть императрице, бил его по лицу со словами: «Как ты, злая глава, смел писать такие слова на земного бога?» Авель же отвечал тихим и смиренным голосом: «Меня научил писать эту книгу Тот, Кто сотворил небо и землю, и вся яже в них». Генерал посадил Авеля в тюрьму, но Екатерине доложил. Услышав год, день и час своей смерти, Ее Величество впала в истерику. По ее указу Авель был заключен в Шлиссельбургскую крепость под «крепчайший караул за дерзновение и буйственность». Но в указанный Авелем день все свершилось по его предсказанию. Императрица скоропостижно скончалась, а вступивший на трон Павел Первый вызвал монаха к себе. В их длинном и очень трудном для императора разговоре Авель предсказал будущее всей царствующей династии. Павел узнал и о своей скорой гибели, и о судьбе своих потомков, вплоть до мученической смерти Николая Второго. Император попросил Авеля собственноручно изложить пророчества, затем повелел вложить их в специальный конверт, запечатал личной печатью, написав на нем: «Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины». Конверт поместили в большой ларец, который замкнули, опечатали и поставили его на пьедестале в большом зале Гатчинского дворца ожидать своего часа. 11 марта 1901 года Николай Второй в присутствии ближайшей свиты вскрыл обращенное к нему письмо Авеля. Прочитав послание, император опечалился, и с тех пор его уже не покидало предчувствие страшного конца жизни. Известно, что в документе описывалась не только гибель всей его семьи, но и установление в Империи безбожной власти.
Второе письмо настигло Императора в 1903 году в Сарове, где он присутствовал с семьей при прославлении Серафима Саровского. Ему передали письмо святого, хранимое в монастыре несколько десятков лет. И снова Государь прочитал горькое пророчество. Наверное, стремясь получить хоть какую-то надежду, Николай с женой тогда же едут из Сарова в близлежащее Дивеево, где проживает ясновидица Пелагея – вдруг она скажет хоть что-нибудь обнадеживающее, ведь так невыносимо жить в осознании неизбежной катастрофы, но и Пелагея дает им знать то же самое.
Удивительно, удивительно! Иван читал о ясновидцах и в других странах, русские не были исключением. Но то, что российский помазанник пользовался этой благостью постоянно, о многом говорило. Ведь судьба всех императоров, начиная от Екатерины, была предсказана Авелем, и его прозрения многократно подтверждались другими провидцами. Да, помазанничество православного царя – это тяжелая и трагическая доля. Но в ней очевидна помощь Господа. Великая и непостижимая мудрость Господа открывается как раз в том, что он сообщает избранным о приуготовленной судьбе, давая возможность выбирать. Эти знания передаются через самых стойких и достойных людей. Ведь Господь всегда дает право выбора, и если бы общество услышало святого праведного Иоанна, других праведников, то смогло бы многое предотвратить. Но разве властители дум народных прислушались к этим предупреждениям? Нет! Они были охвачены жаждой революции, от которой ждали новой жизни в первую очередь для себя. Вот они-то и затмили зрение народа, закрыли доступ к пророчествам святых. Они уже имели представление об управлении умами людей. В особенности умели пользоваться умолчанием. Ведь молчание может быть и ложью, и клеветой. Единственным из всех власть имущих, кто слушал святоотечество, был император Николай Второй и члены его семьи. Самодержец часто посещал известных в стране праведников и подолгу беседовал с ними. Он осознавал, куда катится Россия, но по каким-то неизвестным причинам смирился с этим печальным уделом. Никто не знает, почему император не принимал суровых мер против всенародной смуты. Может быть, ему было ясно, что падение нравов, начавшееся задолго до его коронации, уже невозможно было остановить, может быть, он вынес это решение из бесед со святыми отцами, но в любом случае, он принял мученичество спокойно и мужественно, уподобившись Богу, в которого верил.
«Что же получается, – думал Иван, – вот существуют естественные науки, они изучают материю, существуют гуманитарные науки, они изучают общество и человека. Это правильно, это нужно. А откуда появляется политика? Из тех обрывочных знаний, которые несут в своих головах государственные деятели? Но ведь нет политиков, способных точно предвидеть будущее. Значит, им нужен совет святых отцов. Об этом знают, но почему им не пользуются? Политики святых отцов не замечают или делают вид, что не замечают, а вместо этого в мире стоит настоящая политическая какофония, еще больше запутывающая людей. Кому она нужна? Может быть, это та самая какофония, в которой проще всего направлять общество в нужное русло? И правда, ведь еще Геббельс утверждал, что ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. А сегодня это и происходит. Гласность вместо поисков правды превратилась в глумление над прошлым страны. Людям внушают, что им было очень плохо, а под эту сурдинку готовят разрушение вполне дееспособной системы. Кому это надо? Наверное – тем, кто стоит за этими газетами и телевизионными программами – корыстолюбивому племени охотников за благами земными. Они чуют поживу и рвутся к ней с неистовой силой. Им не нужно просвещать толпу, им нужно управлять толпой в собственных интересах. И сегодня создана такая обстановка, что ни одному совестливому политику не позволят донести знания святых подвижников до народа, потому что они являются реальным противоядием против всего ужаса, который накатывает на страну. Нельзя просвещать людей этими знаниями, ибо они могут понять, какой информационный мир является настоящим, а какой – спектаклем для дураков. Ведь это превращает сегодняшних хозяев положения в бессильных карликов.
Боже мой! Как же все естественно и просто в этом мире. Ведь и правда, существовала когда-то целая система небесных указаний о будущем на русской земле. Она зародилась много веков назад, и ею пользовались, пока к нам не пришел враг и не победил православие. Как действовала? Очень сильно и доходчиво. Взять любые примеры, начиная с глубокой древности. Андрей Боголюбский, киевский князь, ощутил непреодолимую тягу уйти из Киева на север и основать там новую столицу. И когда в его Вышгородском храме двинулась икона Божьей матери, написанная евангелистом Лукой, он увидел в этом знак к началу пути, взял ее в руки, и не прощаясь с отцом, пошел в Суздальскую землю. В десяти верстах от маленького городка Владимира на Клязьме кони его отряда встали и не захотели двигаться с места. Ночью к нему явилась Богоматерь и повелела заложить на месте стоянки монастырь, а икону поместить во Владимире. С тех пор, с 1155 года, начинают бурно расти и укрепляться Владимирское и Суздальское княжества, и в центральных землях появляется Московия, которой предстоит выстоять все исторические испытания и стать оплотом огромного народа. Силен, отважен и добр характером был Андрей Боголюбский, но едва ли умственным размышлением он понял, что русскую столицу нужно уводить далеко из под тени латинян, делать ее независимой от чужого влияния. Ведь те территории, которые остались вокруг Киева, еще многие века будут орошаться кровью от меча поляков, ливонцев, крымчаков и других соседей, и эта вражда внесет немало раздора в сами славянские племена. В 14 веке от Киева будет отторгнуто Галицко-Волынское княжество, и закрепившееся в нем католичество начнет многовековую смуту между славянами, добившись к двадцатому веку того, чего оно добилось еще разве что в Хорватии. Славяне-католики станут самыми яростными ненавистниками своих православных братьев, далеко обогнав в жестокости других врагов. Дивизия СС «Галичина» оставит память ужаса о себе на Украине, показав собственным примером, что такое отпадение от Бога и провал через латинство к бесовщине. А семя национальной ненависти, частично искорененное, а частично загнанное советской властью в подполье, на Западной Украине не издохло и ждет своего часа, чтобы расцвести новыми цветами зла.
Не мог знать князь Андрей всех этих будущих бед, но ему подсказал Божий помысел, что место славянского центра должно быть не здесь, а как можно дальше от латинства.
А великий князь Дмитрий Донской, которому Сергий Радонежский доверил тайну его предстоящей победы на Куликовом поле? Что может быть для полководца более вдохновляющей поддержкой, чем тихий голос духовника, произнесший: «Иди смело, князь, я вижу твою победу». Сергий Радонежский знал из самого главного и надежного источника, что на сей раз татары будут разбиты. Как часто потом не хватало нашим отпадающим от Бога полководцам такого духовника, такой ясновидящей опоры! Хотя все ли так просто? Иван знал из офицерских разговоров, что легендарный маршал Жуков был человеком верующим, никогда не снимал с себя медного креста и перед битвами молился в уединении. Что за будущее являлось маршалу во время этих молитв?
Да, русской власти была дарована помощь Господа, которой они могли пользоваться через святых подвижников веры. А их перед революцией было немало. Но через газеты, книги, пьесы праведники выставлялись мракобесами. Грамотным людям прививалось отвращение к религии. Те политики, которые рвались во власть в России, считали ниже своего достоинства общаться с духовными деятелями или боялись этого. И вот какой парадокс. Попытки политиков-атеистов предсказать будущее были всегда до смешного неудачными. Но несмотря на это, они не обращались к праведникам, хотя и знали, что у тех ошибок не бывает. Кто-то не видел в том нужды, потому что сознательно обманывал народ, кто-то уже напитался враждебностью к «мракобесию» и по недомыслию встал рядом с первыми, а кто-то просто боялся быть осмеянным. Каков урок из всего этого? Таков, что если власть предержащие не верят в Господа, то жди беды. «А ведь почти все политики и интеллигенты у нас поголовно безбожны, – думал Иван, – что эти люди сегодня могут дать полезного? Ведь они действуют точно также, как в начале века, незадолго до революции».
18. Народный ручей
В ноябре посыпал первый снег, и в лесу стало неуютно. Птицы затихли, в тусклом дневном свете белели только пятна первых зимних шапок на сырых деревьях, да поскребывала по стеклу веточка березы. С холодами забот прибавилось. Теперь печь надо было топить не только для варки щей, но и для прогрева дома – по-настоящему, большими дровами. Остатки сухой поленницы на огороде быстро закончились, и Матвей занялся ежедневной заготовкой дров. Он брал из сарая сани прежнего хозяина и уходил в лес рубить валежник. Отставной моряк был еще мужиком в силе и за неделю навозил к дому большую кучу упавшего сушняка. Но смотрел на этот запас с сомнением, потому что жар от палок был невеликий, а в морозы топить нужно два раза в день, и желательно, тугими березовыми поленьями. Ситуация изменилась к лучшему в «красный день календаря», когда Матвей ушел по первому морозцу на почту в Первомайск получать свою и Иванову военные пенсии. На сей раз поджидая друга, Звонарь услышал за окном шум мотора и автомобильный сигнал. Через минуту дверь распахнулась и на пороге появился Сережка Седов. Его серые глаза в радостном ожидании искали Ивана, розовые щеки горели с уличного холодка, а на лице сияла улыбка. Увидев Звонаря, Сережка подбежал к нему и обнял за плечи:
– Здравия желаю, товарищ капитан. Прибыл к вам, как и обещал!
Иван был искренне обрадован появлением парня:
– Здравствуй, здравствуй, Сережа! Ну, раздевайся, садись, рассказывай, как ты и что.
Парень сбросил с себя теплую куртку и присел на лавку.
– А что рассказывать, живу в Окоянове, работаю на автомобильных курсах инструктором. Армейская школа пригодилась. Не женился пока, вот и все.
Всего год прошел с их расставания в госпитале, а Сережка заметно изменился. Перед Иваном стоял уже не зеленый солдатик, а взрослый мужик. Походка уверенная, жест ухватистый. Любо-дорого посмотреть. Сергей показал на Вальгона и Матвея, входящих в избу вслед за ним.
– Я вас разыскивать стал, поехал по вашему адресу, там с Вальгоном познакомился, а тут Матвей Валентинович подошел. Короче, как будто кто пошутил – с трех сторон в одной точке и в одно время сошлись. Я ведь приехал узнать, чем помочь надо. Расстояние здесь не очень большое – часа полтора езды – и я на месте. Дорога до избы, пока снегу не намело, тоже сносная. По морозу даже и хорошая. Машину у начальника курсов всегда отпрошу – он сам бывший офицер. Так что, приказывайте, буду только рад.
– Не знаю, Сережа, что тебе приказывать, у меня, вон, для всяких дел есть министр хозяйства, а тебе я просто рад. Садись, сейчас обедать будем, расскажешь, как сам живешь, как твои земляки живут-поживают.
– Они там как сыр в масле катаются, – пробасил Вальгон, – это просто какая-то райская местность у них в Окоянове.
Сергей засмеялся:
– Да ладно тебе, неважно живем. Я так скажу, русский человек нужду спокойно перенесет, если понимает, чего ради он это делает. Какую нужду в войну перенесли! Родители много про то время рассказывали. Голодали, а носа не вешали! А теперь никто не понимает, за что нас так ошкуривают. Никто ничего не понимает, и настроение у людей хуже некуда.
– Ну, а как к правителям отношение?
– Я про это и говорю. Горбачева все клянут, на чем свет стоит. Такого бардака, как при нем, у нас не было никогда.
– Ну, а Ельцина?
– А все радуются, что у Горбачева такой враг объявился. Надеются, что он Мишку погонит. Вся надежда на него. Мы же дураки, вечно доброго царя ждем. А я как посмотрю Бориску по телевизору, так и думаю: вот это Бармалей! Вот с кем от сумы не зарекайся! В общем, конечно, мы про прежнюю жизнь, до Горбатого, сейчас как о сладком сне вспоминаем. Вот жаловались друг другу: ох, этого в магазине нет, ух, того не хватает, ах, опять на юга не съездил. Теперь всего хватает. В первую очередь – геморрою. Так что не знаю, товарищ капитан…
– Неужели все так неважно?
– Мы на самом дне котла живем, и все дерьмо как раз на нас и оседает. В Первомайске, кажись, не лучше.
– И как люди все это терпят?
– Терпят, что еще сказать…. Большинство терпит, а некоторые в скотов превращаются. В скотов и бандитов. Чем дальше, тем больше. Много нечисти наверх всплывает. Вот для кого сегодня настоящая свобода!
Пообедав постными щами из чугунка, трое мужиков отправились на заготовку дров, а Иван закрыл глаза и задремал. Теперь он научился хотя бы немного спать не шевелясь, и боль не будила его. Один-два часа, не более, можно было подремать без движения. Потом все равно здоровая часть тела непроизвольно шевелилась, и стоило только приподнять руку, как от поясницы до кончиков пальцев ноги пронзали иглы. Иван понимал, что не будь у него особого благословения на это всетерпение, то нервы давно бы сдали. Но его силы не иссякали, и он даже пришел к выводу, что боль стала барьером между его разумом и остальным миром. Она не дает погрузиться в ту повседневность, которая занимает силы и души других людей. Как будто вынужденное сидение не шевелясь обрекло его на думание о вещах, далеких от мирской жизни. Он задремал и уже в который раз во сне его появилась белая мраморная лестница, спиралью уходящая в бесконечную васильковую синь. Иван каждый раз пытался подниматься по ней, но не смог преодолеть даже первой ступени. И сегодня он снова стоял у ее подножия и боялся жгучих молний, которые пронзят его тело при малейшем шевелении ногой. А это было необходимо. Единственное, зачем он существует на свете, – это для того чтобы подниматься по бесконечной лестнице к Господу. Господь зовет его к себе, и он знает, что там он обретет совершенно другую жизнь.
Сегодня случилось невероятное: Иван вдруг увидел себя на первой ступени. А она оказалась высокой, такой высокой, что с нее даже открылся вид на родной Первомайск, только не грязный и убогий, а игрушечно красивый. В центре его светились золотом купола церкви. Необычная радость охватила душу Звонаря от этой картины, и только тут он заметил, что рядом кто-то есть. Его попутчик был в белом хитоне и стоял спиной к нему. Потом Иван снова стал смотреть на землю, но земля уплывала из зрения, а все вокруг заполнялось бездонной, необыкновенной чистоты лазурью. Перед ним опять возник попутчик, теперь уже повернувшийся к нему лицом. Он был молод, наверное, ровесник Ивану. Его шелковистые русые волосы спадали на плечи, румяное лицо окаймляла короткая бородка, а большие глаза отражали окружающую синеву.
– Тело склонно бунтовать против души, брат мой возлюбленный, – сказал незнакомец, – поэтому все земные люди живут в борьбе тела и души. Те, у кого тело побеждает душу, погрязают в грехе. Те, кто может воевать с телесным соблазном, ведут трудную жизнь и иногда приближаются к Господу. У тебя особая судьба. Господь ослабил твое тело настолько, что оно не может бороться с душой. Ты лишен телесных соблазнов. Постоянная боль будет пресекать и соблазны твоей гордыни. Она не даст тебе возгордиться. Все твои страсти теперь связаны только с Небесным промыслом. А в нем главное – опека человеческих душ. Но твоей душе не возбраняется любить и чистой земной любовью. Она еще будет у тебя.
– Но почему я? Ведь я такой же, как все, почему я?
– Тайну твоего избрания знает только Господь.
– Что же меня ждет?
– Все главное уже случилось с тобою, брат мой. Твой разум уже открыт для Откровения, в нем будет возникать наука, необходимая людям. Ты станешь их учителем.
– Кто ты, скажи мне, я ведь еще ничего не понимаю?
– Я – твое небесное отражение. Я люблю тебя и берегу. Но не думай, что я буду все подсказывать тебе. Лишь в самые трудные минуты ты услышишь мой голос. Придет время, и ты станешь выше меня, но до этого ты должен еще вырасти в больших испытаниях духа.
Он исчез, и Иван сразу же проснулся. В печи догорали дрова, где-то пощелкивал сверчок, тикал будильник, да ветки березы по-прежнему шептали за окном.
Превозмогая бьющие по телу молнии, он взял Евангелие и открыл его на закладке. Вербное воскресенье. Иисус въезжает в Иерусалим, и его встречают ликующие жители. Ему под ноги бросают пальмовые ветви и славят его. Почему? Потому что в глазах толпы он не просто Мессия, а кудесник, поднимающий мертвых от одра и кормящий пятью хлебами тысячи людей. Он несет только хорошее, слава ему. Люди хотят только хорошего. Они не думают о том, что все имеет обратную сторону. Почему через пять дней они предадут его и будут кричать «Распни, распни его!»? Потому что он укажет им не только на хорошее, но и на плохое в их жизни. Он призвал освобождаться от плохого. Освобождаться покаянием и отречением от многих благ. Они отвергли его призыв! А разве сегодня это не так? Разве сегодня кто-то хочет ограничить себя скудным пропитанием и покаяться в свершенных грехах? Как раз наоборот, сегодня происходит упивание грехом, упивание мирскими благами. Пей, ешь, совокупляйся, не думай больше ни о чем! Уже создан целый мир, упивающийся грехом. Но если те, кто две тысячи лет назад выступили против Христа и стали антихристианами, то как назвать этот современный мир? Разве он не антихристианский? Все те люди, независимо от цвета кожи и веры, которые поставили своей целью только земные блага и ничего больше – члены антихристианского мира. Потому что тело – враг души. А душа – это Христос. Кто ставит тело и телесные потребности выше души? Общество потребления. Значит, в нем правит враг Христа – Сатана. А у нас? Разве у нас мало бесочеловеков, настоящих антихристиан, которые доказывают свое антихристианство каждым своим поступком? Да, сегодня Россия является антихристианской державой. Может быть, самой страшной в этом смысле страной с самым страшным народом, который потерял веру и упал в грязь. Он погряз в пьянстве и разврате, он ворует и бандитствует. Он плохо работает и живет не по совести.
– Постой, Иван, – пришел к нему в сознание голос, – ты очень строг к своему народу. В нем множество честных и чистых людей, в нем возрождается вера. Ведь ты сам видел это.
– Да, я знаю, но преуменьшать нашу вину нельзя. Мы слишком виноваты перед своей судьбой, перед прошлым, перед Господом, чтобы находить отговорки. Их можно будет позволить только тогда, когда мы вернемся в положение Совестливого Народа. Вот тогда, может быть, появятся русские люди, имеющие право на оправдания. А сейчас надо всем миром каяться!
– Вот видишь! Ты уже понимаешь, что нужно всенародное покаяние. Конечно, твой народ стоит перед особым выбором: либо он поймет, что с ним делают, покается и начнет возрождаться, либо будет рассеян по земле, и на его место придут другие народы.
– Но мы далеки от такого понимания! Сейчас все происходит наоборот. Бездуховность идет в каждый дом, на каждую душу льется мутный поток, а люди пьют его взахлеб. О каком покаянии может идти речь?
– Еще немало времени пройдет, прежде чем русские переболеют этой болезнью. Но им нужны пастыри, разъясняющие, что это только болезнь, что смысл земной жизни совсем не в ублажении плоти. В них уже просыпается тяга к вере, помогай им.
Иван снова уснул и вскоре проснулся в удивленном состоянии. «ОН сказал, что ко мне пойдут люди. Что я буду им говорить, чем я умнее их? Ну, например, я могу их успокаивать добрым словом, но разве за таким словом надо идти неизвестно куда? Ведь у меня нет ни ясновидения, ни понимания человеческой души. Я совсем обычный инвалид», – думал он, перебирая детали сна в голове. Не сумев дать сам себе ответ на пришедшие вопросы, Звонарь решил дождаться первых посетителей и на деле посмотреть, что из этого получится. В том, что посетители появятся, он ни секунду не сомневался.
Прошла зима и снова наступила весна, но ходоки не появлялись. Пришел апрель, солнце набрало силу необычно быстро, и бурные ручьи звенели о том, что лето будет жарким. К концу месяца земля на лесной дороге подсохла, и Матвей открыл пешее летнее сообщение с Первомайском. Он ушел получать пенсии перед первомайскими праздниками, а вернулся с двумя незнакомыми женщинами. Обе прибыли из далекой деревни и хотели видеть Ивана.
– Мы знаем, Иван Александрович, с тобой чудо прошлым годом было. Значит, отмечен ты Господом. Очень хотим с тобою поговорить, о твоей помощи просить, – начала одна из них, назвавшаяся Татьяной.
– Я не знаю, чем Вам помочь, сестра. Нет у меня никаких сверхестественных способностей, чтобы, например, судьбу Вашу увидеть или боль заговорить. Может быть, Господь и совершил со мною чудо, только оно лишь меня касается…
– Нет, нет, Иван Александрович, так не бывает, – горячо возразила другая, – если Вы Господом отмечены, то от Ваших лучей и другим целебная сила пойдет. Только молитесь о нас, больше ничего не надо.
– Так о чем же мне молиться?
– Очень пьющие у нас мужья, Владимир и Иван, безнадежно пьющие, хоть и не старые еще мужчины. Спасать их надо. Через врачей мы уже все опробовали. И лекарствами кормили и кодировали, бесполезно. Пьют беспробудно. Жить с ними невыносимо. Очень просим молиться за их выздоровление.
– Хорошо, буду поминать рабов божьих Владимира и Ивана. Но и вы им скажите про это. Пусть знают. Так надо. И вот что еще. Больше с ними не ругайтесь, не скандальте. Сделайте вид, что не замечаете их пьянства. Соберитесь в кулачок и держитесь. Я знаю, как вам будет трудно, но это тоже надо. Излечение начинается с мира в семье. Вместо ругани идите в церковь и просите Господа о помощи…
Иван наставлял просительниц и удивлялся тому, как легко ему говорить, как свободно рождаются советы, каким убедительным и проникновенным выглядит его наставление.
– Да нет у нас церкви, дорогой ты наш. Ближайший храм в Темникове, а это от нашего села двадцать километров. И автобуса нет.
«Да, – подумал Иван, – большинство сельских храмов стоит разрушенными и заброшенными». Правда, с началом перестройки началось шевеление, стали возрождаться отдельные церкви. Но их не хватало, а особенно не хватало священников. Поэтому и ищут себе люди целителей души в стороне от веры. Хорошо, что на него, православного, набрели. А каких только разномастных проповедников сейчас не развелось!
За первыми посетителями последовали другие, и к лету лесная дорога к избушке Звонаря стала хорошо утоптана. Люди несли к нему свои боли и печали, и рассказы их открывали перед Иваном картину народной беды. Результаты перестройки были катастрофическими. Мелкие окрестные предприятия останавливались, колхозы словно засыпали в летаргическом сне, у местных властей не было денег на зарплату. Нужда подбиралась к каждой семье, разрушая прежде прочные семейные связи, принося пьянство и болезни. Появлялось все больше и больше бездомных людей. И пришла самая страшная беда, какая только может случиться на Руси: по городам и селам стали появляться стайки бездомных, голодных оборвышей, число которых быстро росло. Сердце Звонаря обжигало болью: какими должны быть правители этой страны, если их кипучая деятельность порождает сиротство тысяч малышей, бросает этих беззащитных человечков в грязные чердаки и подвалы, где они умирают от голода и болезней? Кто эти люди? Какое грязное лоно извергло их на этот свет, чтобы в мирное время они обрекли попавшийся в их удавку народ на такие муки? Почему никто из них даже слова не скажет о детях-сиротах? Что это за бесовский помет, бесконечно влюбленный в себя и не воспринимающий никакой боли ближних своих?
Упадок угнетающе действовал на людей, привыкших жить в атмосфере постоянной народной стройки, когда государство по мере сил принимало на себя заботы о социальном обеспечении, о детях и студентах, когда исчезло унизительное неравенство между очень богатыми и очень бедными. Теперь все это уничтожалось, а на смену приходило безысходное, безнадежное неверие в государство и непонимание, как дальше жить. Звонаря одолевал гнев при мысли о Горбачеве и его приспешниках. Эти деятели, взявшиеся вывести государство из кризиса, на самом деле подло предавали огромное наследие, созданное многострадальным народом.
Но Ивана радовал неиссякаемый живой дух, лучившийся в приходивших к нему страдальцах. Это сочетание беды и живости души давало надежду на то, что еще не все потеряно. Будто угольки жизнестойкости алели под пеплом тоски в русской душе. И, бывало, легко становилось ему от этих нелегких разговоров.
– Я, как ты, Иван Александрович, в одинокой избушке живу. Меня дети выгнали, сынки мои, значит. Говорят, тяжело с тобой, мешаешь нам. Я-то, конечно, мешаю, ходить еле хожу, одышка у меня. А ем, гляди, каждый день, понимаешь? Они плохо зарабатывают, и семьи у них на шее. Невестки, опять же, нервные. Вот и отправили меня на пасеку, да там и забыли. Назад не зовут. Промыкался я в лесу всю зиму, одной картошкой питался. А все лучше, чем с невестками. Теперь, по весне, к тебе приковылял, спросить, неужели так и должно быть?
– А сам-то ты как думаешь, Андрей Петрович?
– Думаю, что должно. Мы ведь в последние годы советской власти от мучений стали отвыкать и набаловались. Забыли, что русский народ всегда на себе муки нес. Такое у него предписание. Значит, он муки нес и не жалился. Что жалиться, если это предписание? Я ведь хорошо помню, как деды мои жили. В крестьянском роду вырос. Ох, и тянули они лямку, Господи боже мой! Ох, и тяжелая была жизнь! Труд непосильный, еда скудная, часто голодуха, болезни детей косили. А не жалились. Детей до старости рожали, жен любили, в праздники, правда, сильно гуляли. Все выплескивали. И пили, и дрались, и колобродили. Но не жалились! А советская власть нас стала баловать, и мы забыли про свою судьбу. К примеру, у сынков моих и мотоцикл, и машина, и деньжата завелись. Неплохо стало. Теперь Горбачев советскую власть подкосил, а нам назад возвращаться непривычно. Чуть что, сразу в слезы: ай, тяжело, ай, трудно. А что мне так уж тяжело? Живу в избушке с печкой, кум королю. Натоплю ее – тепло, уютно. Вьюга в трубе воет, а мне спится крепко. Или опять же, есть захочу – картошек в чугуне наварю, груздя соленого достану, да так славно поем, что и душа рада. Это что, мука разве?
– Так ведь тоскливо одному и обидно, что дети бросили.
– Обидно, Иван Александрович, обидно. Бывало, плачу на печи, а слезы жгут просто невыносимо. И рыдаю, и стон из меня идет. А под утро будто слезы просветлеют, душа облегчает, и мыслю я себе: Бог с ними, с Сашкой и Мишкой. Бог их простит, и я прощу, лишь бы здоровы были, лишь бы в семьях лад не разлаживался. Сам ведь виноват, что не любят меня. Пока детьми были, работал как вол, про них мало помнил, они с покойной женой подрастали. А теперь чего же обижаться? Свою вину несу.
– Как же ты дальше быть собираешься? На пасеке?
– А то где же? В дом престарелых нипочем не пойду. Нет! Свободным от чужой милости помирать буду. В этом тоже счастье имеется!
– Счастье?
– А как же. Вот шел я к тебе потихоньку, шажок за шажком, у дороги отдыхал, на первой травке. Кустики зеленеют, птицы сладкие песни чирикают, ветерок шелестит. А солнышко, а солнышко как ласково греет! Закрою я глаза, забуду обо всем и растворяюсь в этой красоте. Сам, может, солнечным пятном становлюсь, может, ветерком. И думаю, слава Тебе Господи, что выпустил меня на этот свет! Все мои беды – глупости по сравнению с твоим чудом. Вот я скоро свой век закончу, а Ты, Господи, вечно творить будешь, и слава Тебе, что я эту красоту узнал.
– Может, тебе в монастырь пойти, Андрей Петрович, коли ты о Господе говоришь?
– По правде говоря, я к тебе об этом посоветоваться шел. Всю жизнь безбожником был, а к старости душа о Боге заболела. Думал, если Иван мне присоветует, то пойду к братии жить. Тут неподалеку, в Санаксарах, начал мужской монастырь действовать. А пока до тебя дошел, другое понял. Не созрел я еще до этого положения. Душа все в миру обретается, значит, вдоль земли летает. Надо еще одному пожить. А что она о Господе вспомнила – это только начало. Конец будет, когда она без Господа дышать не сможет. Вот, если я до такого доживу, тогда ноги в монастырь и направлю. И с Господом без помех разговор начнется. А пока один буду. Так что прости, Иван Александрович, что время у тебя отнял. Шел к тебе за советом, да совет по дороге нашел.
После таких разговоров Иван невольно возвращался к мыслям о вере. Постепенно он пришел к убеждению, что случившийся с ним переворот судьбы, приведший его к Богу, совсем не исключение. Множество людей на земле идут в этом же направлении, преодолевая каждый свои беды. Но одно ясно – православие не ушло из жизни народа. Оно бродит в глубине народной души, чтобы совсем скоро дать обильные всходы. Как же сложна борьба Света и Тьмы! Ведь были моменты, когда христианство казалось поверженным, превратившимся в язычество. Но снова находилось на земле место, где на свежей почве оно давало новые ростки. Вот Европа гордится своей эпохой Возрождения. Казалось бы, гениальные произведения искусства тогда были созданы, и большинство их на религиозные темы. Но еще больше появлялось вещей, прославлявших плотские утехи. И получилась странная вещь: христианство вырвалось из пут Святой Инквизиции, стало бурно прославлять плотскую жизнь и тут же стало погружаться в язычество. Люди восторгаются картиной «Леда и лебедь», совсем забыв, что речь идет о совокуплении женщины с пернатым, и подобных примеров тьма. Убийства и кровосмешение сопровождали всю благостную эпоху Возрождения. Наиболее отвратительные формы это приняло на Святом Престоле. Чего стоит пример семейства папы римского Александра Шестого. На благосклонность красавицы – дочери папы, Лукреции, претендовали два ее родных брата и сам отец, и никому из них она не отказывала. Неизвестно, от кого из них она родила внебрачную дочь, но в любом случае, из ревности к ней младший брат, легендарный Чезаре Борджиа, зарезал не только двух ее женихов, но и старшего брата Франческо.
Вся история средневековых католиков, упавших до язычества, неописуемо кровава. Они называли себя христианами, но на самом деле, потеряв Бога, оказывались способными на невероятные антихристианские преступления. Христос замолчал среди них и уже никогда не заговорит полным голосом, потому что они с большим трудом нашли ему замену в виде кодекса гражданского общества. Это лучше, чем ничего, но этот кодекс – всего лишь фиговый лист на западном язычестве, которое продолжает существовать и порождать новый тлен.
А в ту пору, когда Святой Престол захлебывался от крови и разврата, на русской земле звенели колокола сохраненной веры, и была им судьба звенеть целых триста лет, пока и на них не прыгнул языческий зверь с пентаграммой на шлеме. Но не вечным было его иго, и теперь он, Иван Звонарь, стал свидетелем и участником нового возрождения веры. И это происходит опять в народе, который ее не предавал, а вместе с ней прошел через невообразимые муки. Вера возвращается на землю, не запятнанную таким кровавым и непростительным позором разложения, как Европа.
19. Голова генсека
Все-таки верил Филофей в перестройку. Очень хотелось ему, чтобы страна поднялась и расцвела, чтобы люди жили с улыбкой на лице, чтобы постоянно в воздухе звучала веселая музыка. Что греха таить, не слушал Бричкин злопыхателей, плохо отзывавшихся о Михаиле Сергеевиче. Если не верить Генсеку, то кому вообще верить? Поэтому Филофей внимательно слушал бесконечные выступления Горбачева и даже кратенько их конспектировал на тот случай, чтобы отразить критику какого-нибудь злобствующего гражданина. Уважал он руководителя партии за его моложавую внешность и, особенно, за новое мышление. Поэтому, когда в Окоянове обнаружился художник Верхаев Николай с планом установления монумента Михаилу Сергеевичу, Филофей сердечно обрадовался. Наконец-то искусство послужит настоящим кумирам советского народа.
Верхаев Николай был живописцем и в жизни своей ни одной статуи не сотворил. Но судьба художника была богата на неожиданности, и когда случай предложил ему временно перековаться в скульптора, он не сомневался ни секунды в том, что ему подфартило. Во-первых, живопись стоит рядом с ваянием. Известно много художников, которые однажды бросали кисть и брались за глину. Чем он хуже? Тем более, что случай представился незаурядный. В историю искусства с таким объектом, может, и не войдешь, а заработать можно очень даже не кисло. Относительно достоверности изображения Верхай вообще не беспокоился. Не боги горшки обжигают, тем более, что современное искусство не придерживается догмы похожести, а зачастую ее даже порицает. Короче говоря, художник с ходу пал в объятия музы ваяния, как только представился случай. А дело было так. Однажды в московской мастерской Николая появился старый дружок, ныне начальник нижегородского отдела транспортной милиции Кендяйкин Михаил. Когда-то они учились в одном классе, вместе занимались мелким школьным хулиганством, а такая дружба сохраняется на всю жизнь. Кендяйкин был румян щеками, жизнелюбив, пронырлив и устремлен в свой служебный рост. Михаил с удовольствием общался с людьми, умел им нравиться и особенно преуспел в этом перед лицом областного начальства. Каким образом он подъехал к самому главе области, неизвестно. Известно лишь, что Кендяйкин снабжал его кухню первостатейным цветочным медом из разинских лесов и организовывал выезды на мальчишники в волжские затоны со сказочной рыбалкой и едва покрывшимися нежной чешуйкой русалками. Михаил, однако, не намеревался вечно служить в административно-техническом разряде и возмечтал о великом. Великие мечты всегда бродят рядом с нетленным наследием времен, и совсем неудивительно, что в голову ему пришла мысль возвыситься через водружение памятника какому-нибудь великому человеку. Уж тут-то начальник области понял бы, какого незаурядного кадра он морит на подсобной работе, и дал бы ему политическую должность. Понятное дело, что после недолгих размышлений Кендяйкин проработал, а затем предложил руководству идею воздвигнуть рукотворный памятник титану нового мышления в самом Нижнем Новгороде. Глава области, человек чрезвычайно пассионарный, понял, что проект может его прославить, ухватился за идею, еще не родившуюся в других административных единицах. В том, что эти единицы ходят на сносях и вскоре начнут плодить статуи Горбачева, можно было не сомневаться, и следовало сделать рывок на опережение. Правда, проконсультировавшись кое с кем в Москве, руководитель поостыл и решил повременить с украшением волжского откоса истуканом генсека. Ему тонко намекнули, что скоро истукан может быть посвящен совсем другому вождю. Но это было еще вилами на воде писано, и он решил подобрать для Горбачева место поскромнее. Выбор пал на родину Кендяйкина, как инициатора идеи и сборщика пожертвований. Мол, пусть слава отца перестройки укореняется в низах народа. А уж извлечь политический навар можно и из окояновской статуи. При наличии высокого одобрения начальства Кендяйкин быстренько обеспечил спонсоров, хотя у Верхая закралось подозрение, что спонсоры эти никогда не искали общего языка с законом.
На художественном совете, незаметно перетекшем в полночный банкет, обсуждались принципиальные подходы к созданию нетленки. В конце концов, было решено работать в стиле позднего советского модерна. Метод этот, с одной стороны, не порывает с социалистическим реализмом, то есть, он оставляет Горбачева человеком и даже предполагает его некоторую узнаваемость. Все-таки Окоянов – город консервативный, если не сказать, отсталый, и если привезти туда подобие европейских достижений, например, три сваренных в кучу ржавых велосипеда, то могут и побить. В то же время, в силу того, что у художника не было уверенности, что Горбачев обретет нужную узнаваемость, модерн позволял рывок в творческий полет, а это давало возможность сделать так, чтобы было не очень страшно, но хотя бы слегка похоже. Друзья замыслили композицию из высокой прямоугольной подставки, на которую водружалась голова вождя. Материал планировался самый современный – нержавеющая сталь. Надо признать, что этот образ был навеян Николаю памятником Никите Хрущеву на Девичьем кладбище, сотворенным Эрнстом Неизвестным. Правда, для отображения противоречивости Хрущева автор одну часть его головы сделал из белого мрамора, а другую – из черного. Но до таких высот Верхай решил не подниматься по причине отсутствия сноровки, а вот главную идею у своего знаменитого коллеги все-таки украл: сконцентрироваться на башке генсека, как главной причине известных событий в родной стране. А для того, чтобы не дать слабину перед знаменитым коллегой, Николай решил превзойти Хрущева размерами. И хотя монумент далеко не дотягивал до Рабочего и Колхозницы, но все-таки не был мелким. Высота его превышала два метра, а обхват головы – со средний мешок с овсом. Так как спонсоры платили хорошие деньги и можно было позволить себе организационные траты, Верхай купил на выставке гипсовый бюст объекта, старательно скопировал его в дереве, а потом стал путем наложения стальных листов обстукивать деревянную болванку, добиваясь максимального облегания. Будучи человеком смекалистым, художник догадывался, что в Окоянове могут не признать в его труде знаменитого политика, и во избежание недоразумений приварил к лицевой стороне подставки металлическую надпись «Отцу нового мышления от окояновцев». Окончательным актом творчества должна была стать сварка железяк на месте, так как транспортировать довольно большого истукана из Москвы в собранном виде было неудобно. После завершения подготовительных работ Николай телефонировал на родину о приезде.
И вот солнечным майским утром на центральной площади Окоянова выгрузилась из автобуса группа людей, которая сложила в кучу мешки и ящики с будущим шедевром. Группа эта была давно спаяна единым трудовым интересом, а если быть точнее, являла собой похоронную капеллу при районном Доме быта. Автобус же имел на боку черную полосу и в основном использовался в ритуальных целях. Волею судьбы, из шести членов капеллы четверо принадлежали к числу друзей художника, и было естественным их привлечение к творческому процессу вместе с транспортным средством. Другой особенностью группы было то, что все ее члены в разные периоды времени прошли через испытание лечебно-трудовым профилакторием и с честью его выдержали, то есть пить не бросили.
Ясное дело, что Филофей, увидавший через окно начало работ, тут же покинул расположение музея и присоединился к толпе зевак, по тайному закону природы возникающей у любого события подобного рода.
Из близлежащего книжного магазина протянули кабель, Верхай опустил на лицо маску сварщика и приступил к созиданию. По замыслу голова генсека устанавливалась в непосредственной близости от монумента Владимира Ленина, указывавшего окояновцам дорогу в направлении села Мерлиновка. В Окоянове полагали, что Горбачев был последователем Ульянова, и эта мысль заставляла авторов поставить обоих титанов рядком. Тогда еще не было известно, что Михаил Сергеевич затесался в ряды КПСС с конспиративной целью подорвать их изнутри. Получил ли он это задание от фашистского абвера в период оккупации немцами ставропольщины, до сих пор неизвестно.
Работа пошла довольно споро, и через каких-нибудь два часа прямоугольная подставка, весьма похожая на холодильник «ЗИЛ» стального цвета, была сварена. Солнце тем временем поднялось в зенит, и личный состав похоронной команды, не привыкший к столь изнуряющей трезвости, стал вопросительно поглядывать на Верхая. Будучи природным окояновцем и зная естественные запросы земляков, художник вынул из сумки первую бутылку и выставил стаканы для всех, в том числе – для себя.
Сварочные работы продолжались весь день, и мускулы похоронщиков понадобились скульптору для того, чтобы отбивать кувалдой от головы неудачно приваренные куски. При этом, правда, оказались отбитыми несколько пальцев похоронной команды, что ее мало расстроило. В своей творческой деятельности она пользовалась латунным инвентарем с тремя кнопками, для чего, как Вы понимаете, пяти пальцев не требуется. Чем дальше шла работа, тем больше замыливался глаз художника и ненадежней становилась хватка подсобной силы. Дело сварки предмета народного поклонения оказалось непростым. Солнце уже опускалось к горизонту, а голова истукана все еще имела незакрытые прорехи и выступающие ребра. Между тем, на завтра было назначено тожественное открытие памятника, которое должен был почтить присутствием сам начальник области. Верхай торопился, и когда очередная заплатка никак не хотела садиться на нужное место, бригада ровняла ее кувалдой, чем придавала изделию сугубо местный колорит. В Окоянове уже давно ровняли кувалдой все, что не хотело совмещаться естественным образом. При этом, по мере облегчения рюкзака скульптора, прицел местных циклопов становился все приблизительней, и это все явственней вырисовывалось в очертаниях изделия.
Наконец, процесс был закончен, и Николай неверной рукой провел последний шов, приваривая голову к постаменту. Последний шов также был не совсем хорош. Голова завалилась назад и в сторону, как бы разыскивая что-то взглядом в небесах. Вольтова дуга иссякла, на площадь опустилась темнота, и так было лучше. Потому что при дневном свете вид позднесоветского модерна мог привести неподготовленного прохожего в оторопь. Лицо генсека, скроенное из заплаток как футбольный мяч, было безбожно перекошено. Уши и ноздри его оказались на разных уровнях, а рот уехал одним концом вверх, другим вниз, как бы выражая целую гамму непечатных чувств. С учетом утвердившейся позиции головы, можно было подумать, что генсек плаксиво спрашивает у Господа, за что его так наказали. Правда, это уже не могло расстроить творческий коллектив, к концу дня вошедший в окончательную стадию земного счастья. В возвышенном настроении друзья погрузились в катафалк и отправились завершать день финальным аккордом. В автобусе грохнули барабан и литавры, затем запукала альтушка, которую нестройно подхватили трубы. Извергая из открытых окон «Прощание славянки», транспорт укатил в направлении близлежащего села Сопатина, где у Верхая служил председателем колхоза заядлый дружок Синькин Владимир Александрович.
Филофей же, неоднократно покидавший творческую площадку, в одиночестве подошел к монументу, чтобы получше разглядеть его в свете луны. В лунном свете перекошенная стальная башка с наложенными швами выглядела стоп-кадром из фильма ужасов. Вздрогнув от увиденного и перекрестившись, Бричкин уже хотел было поспешить домой, но в этот момент несчастный его организм пронизал животный страх. Железная голова сначала тихонько, а потом все громче и громче завыла. На ночном небе быстрой чередой побежали рваные черные тучи, по площади полетели газеты и окурки, а обезображенное Верхаем лицо титана мышления исторгало пронзительный вой. Казалось, звук этот сопровождается отвратительной и мерзкой улыбкой нержавеющих губ. Не помня себя от страха, Филофей залетел в музей и встал на колени перед иконкой Николая-чудотворца, которую принес сюда после знакомства с Чавкуновым.
Прочитав молитву Святому Кресту, Филофей немного пришел в себя и стал думать: что же там, на площади происходит. Понятно, что таким злыдням, как Верхай с дружками, нельзя доверять изображение генсека. Ведь еще не стерся из памяти огромный портрет Ульянова-Ленина, сотворенный художником для вокзала на станции Шатки. Писал он его, не приходя в себя, и после этого долгие годы от взгляда на вождя мирового пролетариата в зале ожидания начинали рыдать дети. Это еще понятно, но чтобы железная голова завыла….
К удивлению Филофея, купец Чавкунов не спал и поджидал его в большом зале. В дежурку Бричкина, в силу наличия в ней икон, он не совался.
– Расплодилось вас, нечисти, – загнусавил Филофей, увидев домового, – вон, на площади и то черти завыли, хоть совсем из города беги.
– Эко ты перепугался-то, Филофеюшко, – вздохнул домовой, – да не боись, это ветер в башке у Вашего вождя воет. Видишь, знак какой – и у живого Горбачева ветер в башке, и у железного. Ваятель-то ваш запойный ему швы не проварил, вот и стала башка с дырками, как свистулька. Ветерок подул – она и завыла. А ты боишься, чудак-человек.
Бричкин окончательно успокоился от этих слов и внимательно посмотрел на домового в надежде понять, не посмеивается ли тот над ним. Вообще-то Чавкунов Филофею порядком надоел. Спорить с ним о перестройке было трудно, потому что он ясно видел прошлое и знал кое-что из будущего. При этом было понятно, что в загробном мире купец имеет низшую форму допуска, и вообще, существо почти бесправное. Что же тогда знают и понимают души, поднявшиеся на достойные высоты? Этот вопрос занимал Бричкина все больше, и он пытался выведать у домового, как завести знакомства с другими поселенцами музея. Но Михаил Захарович лишь хмыкал и советовал передавать приветы по фотографиям. На сей раз смотритель не был расположен вести с привидением философические беседы, вежливо попросил его завершить трудовой день и отправился осматривать залы музея.
На сегодня у Филофея был запланирован эксперимент. Он рассудил, что чем меньше у человека было грехов в земной жизни, тем больше возможность того, что он не отбывает адскую повинность в бескрайних далях, а душа его обретается, возможно, где-то неподалеку. Покумекав над фотографиями, Филофей избрал для опыта Фаню Кац. Он рассудил, что ее распутство, конечно, грех, но все же не такой страшный, как душегубство. К тому же, Фане, наверное, зачлась и забота о бездомных ребятишках. Значит, вполне вероятно, что она тут рядом, на вольных хлебах.
Убедившиь, что Чавкунов убрался из виду, Бричкин снял со стены Фанин портрет, расположил его на столе, положил на него православный крест, зажег свечку и стал взывать благостным голосом:
– Фаина Кац, явись в мирском обличье! Фаина Кац, явись в мирском обличье!
Ждать долго не пришлось. Вскоре из-под шкафа с рысью раздалось сопение, и голос домового сообщил:
– Ага, щас она к тебе на крыльях слетит! Расставляй карман шире!
Филофей уже собирался наложить на себя крестное знамение, чтобы изгнать домового, как услышал довольно певучий женский голос:
– Я бы и явилась, если бы не крест. Ну что люди полагают, когда хочут вызвать революционную птицу свободы? Еще бы кадилом помахали!
– Эх, жаль, нет у меня кадила, – снова раздалось из под шкафа, – я бы тебя им припечатал…
– Товарищ Бричкин, если Вы не изгоните этого мракобеса из помещения, то никакой встречи между нами не будет.
Филофей взял в руки крест и подошел к шкафу:
– Михаил Захарович, не мешайте мне работать, ради Бога. Отправляйтесь за дверь.
– А коли не отправлюсь?
– Тогда на себя пеняйте. Управа на Вас имеется, сами знаете.
– Ну ладно, прощевайте пока. И ты прощевай, красная зараза, в буквальном смысле.
– Посмотрите на этого хама! При царском режиме просто разбойничал среди нашего полу, а теперь перековался! Моральный жандарм!
При этих словах в воздухе немедленно нарисовалась довольно привлекательная крепкозадая молодая женщина с живыми черными глазами и чарующей улыбкой. Она быстренько пристроилась на кресло, и если бы Бричкин не знал о ее бесплотности, то решил бы, что перед ним раскинулась в зазывающей позе особа с далеко идущими планами. Какую-никакую мужскую жизнь Филофей все же прожил, и амурные дела ему были неплохо знакомы. В тяжелые годы войны он вообще отдувался за многих призванных на фронт горожан.
– Ну и по какому делу Вы меня призвали? – кокетливо щурясь, пропела Фаня. – Я надеюсь, не для того, чтобы обсуждать небесную иерархию? Я ведь далека от подобных занятий.
– А Вы, извиняюсь, по какому ранжиру там проходите? Хотелось бы знать для ясности.
– Ну, знаете, товарищ, этот бестактный вопрос к женщине… Как Вы наслышаны, я вольных нравов и мне свойственна свободная форма существования…
– Да привидение она без прописки, дрянь бродячая, – раздался голос Чавкунова.
Бричкин аж подскочил на стуле. Он привык к тому, что домовой свое слово держит и не ожидал такого коварства.
– Михаил Захарович, Вы же обещали убраться из комнаты!
– А я и убрался! Я из другой комнаты слушаю. Дверь-то закрывать надо!
Филофей закрыл дверь и вернулся к привидению гражданки Кац.
– Простите великодушно, мне очень хотелось поразузнать о Вашем загробном мире, потому что с Михаилом Захаровичем не наговоришься.
– А с ним и не надо говорить. Импотент и контрреволюционер.
– Как это у Вас совмещается…
– По другому не бывает, товарищ. Импотенция – это окончательная форма реакционности. В наших кругах революционизирующих феминисток существует мнение, что импотентов следует ссылать на вечное поселение в отдаленные районы Крайнего Севера.
– В каких, каких кругах?
– Мужчина – это не объект влюбленности, а предмет размножения. Негодные предметы размножения необходимо изолировать.
– Простите, я думал, что предмет размножения – это не весь мужчина, а только его, так сказать, часть…
– Весь мужчина без этой части не стоит и плевка, Филофей Никитич. Революция тем и прекрасна, что обнажает суть вещей. Вот Вы долгое время путались во всяких сказках об отношениях полов. Потому что наш исторический порыв был удушен сталинской тиранией в самом зародыше. А какое тогда было время, какое время! Любое желание, с любым товарищем…. Но есть все-таки справедливость на свете. Посмотрите, какое поколение идет Вам на смену. Эти девочки не только с товарищем, с любым встречным… Россия обретет настоящую свободу. Вот говорят, мы ушли, нас нет, прощай революция. Ничего подобного! Меня нет, а мысли о свободе я могу нашептывать. К любой комсомолке в постель прилягу и такого ей нашепчу… Да и Вы, Филофей Никитич, тоже не гнилыми нитками заштопаны. Не поболтаем ли об отношениях между нами двумя?
– ???
– Ну, если Вы взывали к женщине, чтобы она явилась, Вы, наверное, имели в виду свои мужские планы!
– ???
– Ах, шутник, шутник! Вы же прошли большую школу, я знаю. Уж кому как не Вам знать, что чувство в первую очередь бесплотно, значит доступно и нам, существам, утратившим живую плоть, но способным влюбляться, способным страдать. А я вижу Вашу душу, она прекрасна, я готова страдать!
Фаня приподнялась над креслом и ароматным облачком двинулась на Филофея, с явным намерением обволочь его любовным флером.
Бричкин одно мгновение остолбенело смотрел на соблазнительницу, затем лихорадочно схватил крест и непослушными губами зашептал молитву Честному Животворящему Кресту. Привидение обиженно скривило рот и стало быстро растворяться.
Филофей дернулся, спазматически выдохнул воздух из похолодевшей было груди и молвил:
– Едрена Матрена…
* * *
Тип реакции областного начальства на произведение позднего советского модерна точнее всего описан в учебнике психиатрии, в разделе «Острая форма буйного помешательства». При виде головы Горбачева начальство завопило так, что стаи ворон, населявшие местные тополя, снялись с насиженных мест и с карканьем мигрировали в городской парк. Областной начальник, одетый в торжественный костюм по случаю открытия монумента, топал ногами и пытался хватать Верхая за грудки. Художник, заикаясь, старался довести до его сознания мысль о том, что к нормальной голове генсека никто не подошел бы, а к его произведению не зарастает народная тропа.
– Я-а-а же ему х-характер раскрыл, такой, блин, п-п-противоречивый. А Вы-ы никак н-не въедете…. Да его в П-п-париж с р-р-руками оторвут…
– Нет, это я тебе руки оторву, – вопил высокий руководитель, – бездельник, тунеядец, хрен собачий!
Он оказался не чужд ненормативной лексике, и в семантическом потоке, извергавшемся из его уст, слова «козел» и «мудак» были не самыми разящим. Дело было, конечно, не в самом уроде, воплощенном в металл. Черт бы с ним, отвезти на свалку и выбросить. Дело было в гласности, потому что начальник по недомыслию привез с собой репортеров из областных средств массовой информации, а эти собаки теперь не преминут оттянуться на нем изо всей своей мочи. И в правду, те с нескрываемым глумлением и пошлыми шуточками фотографировали шедевр со всех сторон, а щелкопер из «Волжского пароходства», отличавшийся особой ядовитостью, с блокнотом в руках тщательно производил описание уродств головы генсека.
Наконец, начальник проорался, в последний раз с ненавистью взглянул на Верхая, показал ему кукиш вместо гонорара, обежал монумент, плюнул на него и махнул рукой небольшой кучке окояновцев, собравшихся на открытие, плюхнулся в черную «Волгу» и исчез в пространстве. Вместе с ним исчез и Кендяйкин Михаил, даже не подошедший к художнику на расстояние вытянутой руки.
Верхай с облегчением вытер с лица холодный похмельный пот. Он находился в состоянии тяжелого бодуна, сопровождавшего каждую его встречу с малой родиной. Вокруг, понурившись, стояли соратники. Ситуация складывалась непростая. Вчера они спустили все деньги Коляна в предвкушении обозначившегося гонорара. Своих запасов у музыкантов отродясь не водилось, и перспективы преодоления похмельного синдрома «на сухую» порождали в их умах самые скорбные размышления. Особенное отвращение к действительности им внушало то обстоятельство, что на текущий день в Окоянове не планировалось никаких, даже самых завалящих, похорон.
Едва ли кто из Вас, читатель, удивится дальнейшему ходу событий. Коллективная мысль создателей «чудища железного», как его уже окрестили местные жители, не могла не привести к единственному заключению: истукана сдать на металлолом, а на вырученные деньги опохмелиться.
Вскоре к Горбачеву подъехал катафалк, и он был помещен в транспорт по всем правилам погребальных услуг – вперед ногами, то есть подставкой. Повеселевшие провожающие уселись по бокам и взяли в руки духовой инструмент. Машина пукнула черным дымом, из ее открытых окон скорбно зарыдал траурный марш и, дребезжа на выбоинах, она повлекла генсека в последний путь.
Приемщик металлолома дядя Паша Тужилкин повидал в жизни всякое, но такого не видел никогда. Он ходил вокруг генсека, охал, приседал и бил себя руками по коленям:
– Это как же Вы умудрились такую правду жизни накалякать? Ведь вылитый Мишка! Натуральная ошибка природы. Как, говоришь, такая манера называется, модернизьма? Ай, молодца! Значит, изделие я у Вас приму, но на переплавку не отправлю. А наоборот, тут вот, на дворе в самом видном месте установлю. Пускай все видят, какой у русского народа руководитель. И подпись ему привешу: «Урода русского народа», вот так. Тащи его на весы.
Вскоре коллектив творцов, добыв две бутылки водки, завершал свой поход в советский постмодернизм. Расположившись под цветущей яблоней в саду барабанщика Гуськова, они приняли по первой, по второй и случившееся стало казаться не таким уж плохим. Принялись вспоминать областного голову и вскоре хохотали до упаду. Витек Бусаров, с детства не лишенный артистических способностей, стал изображать ярость начальника так ловко, что у друзей потекли слезы от смеха. При этом авторитет Верхая, как представителя творческой интеллигенции, в глазах участников только вырос. Свой мужик, с одной стороны выпивающий, а с другой, большой дока: хочешь – по малярному, хочешь – по жестяному делу. Таких пойди, поищи.
Дальше начало происходить то, что всегда происходит на Руси с похмельными людьми и нуждается в отдельном исследовании. Стоит только страдающему от бодуна начать лечится, пусть даже единственной в наличии рюмкой водки, как вдруг открываются дополнительные резервы, о которых он и думать не догадывался. То завалится старый знакомый с бутылкой, то соседка попросит открыть заклинивший замок и отблагодарит по-царски, то бывшая жена пришлет нового мужа за торшером, то случится еще что-то в подобном духе, явно свидетельствующее о подключении невидимых сил для содействия страдальцу. Так и в саду Гуськова гулянье не утихало до темноты.
Потом, когда на затихший город уже опустилась ночная сырость, в саду бухнул барабан, за ним рассыпали звон литавры, их подхватили альтушка и пифон, и, наконец, томный голос двух латунных труб поднял в высь мелодию, которая вечно будет волновать сердца окояновцев. Над темными садами поплыл старинный вальс «Осенний сон».
Еще через день Верхай отбывал в столицу. Он обнялся с друзьями по очереди и, пошатываясь, поднялся в вагон. Поезд прощально загудел, и лицо Коляна за грязным стеклом стало медленно отплывать от провожающих. Соратники помахали руками и пошли к катафалку, преисполненные понимания той простой мысли, что без выходцев из Окоянова московской культуре долго не продержаться.
Никто из них не догадывался, что они имели прямое отношение к созданию единственного достоверного монумента Михаилу Горбачеву, самым точным образом отразившего суть этого человека.
20. Ставка на Ельцина
«Жизнь удалась, Збигнев, жизнь удалась! – весело покрикивал Жабиньский сам себе. Хорошо смотреть на богатые плоды собственного труда. Ишь, как дымят гроздья гнева в разбомбленных иракских городах! Отлично, Збигнев! Будет нам еще потеха». Возраст не брал задорную натуру Жабиньского. У него до сих пор хватало юмора смотреть, как чудаки в Конгрессе на полном серьезе расхваливали «Бурю в пустыне» за ее освободительную миссию. Да, что есть, то есть. Процент недоумков в человеческом роде не снижается. Знали бы эти бараны, что еще почти два года назад эта самая «буря» планировалась умными людьми как детонатор новой волны мусульманской враждебности. И она поднимется, эта волна, чего уж там лицемерить. Вот будет представление! Пройдет несколько лет и «дети Аллаха» ответят на это групповое изнасилование по-своему, по-восточному. Белым ребятам станет больно, зато и работы Пентагону прибавится надолго.
А пока очередной период завершен, продолжение последует не скоро, история не любит спешки. Теперь в самый раз заняться Советами. Снова Збигнев у президента и снова они обсуждают положение дел в этом наиболее жгучем для интересов Америки районе мира.
– По моим оценкам, Джорж, в Москве произошел решающий перелом – сказал Збигнев, поглядывая на Буша, устало прикрывшего глаза. – Мы все сделали правильно и цель в общих чертах достигнута. По всем опросам большинство иванов желает разбомбить социализм, и представь себе, построить рынок и демократию. Огромный результат! Сколько сил было положено, чтобы сломать коммунистический миф. Это великая победа, мистер президент – вся красная элита, за исключением немногих ортодоксов, на нашей стороне. Вот что значит искусство управления сознанием! Они бегут за флейтой Крысолова!
Джорж Буш прикрыл глаза, потер щеки ладонями и сказал:
– Прости, Збигнев, что я клюю носом. Устал очень сегодня. Уильям Вебстер докладывал мне то же самое. У ЦРУ надежные данные. Оно считает, что можно идти дальше. Красная пропаганда практически нейтрализована. Все шланги, которыми моют русские мозги, в руках нужных людей.
– Надеюсь, это наша агентура?
– В массовой вербовке не было нужды. В России уже выросла целая колонна парней, воспитанных на передачах «Голоса Америки» и «Свободной Европы». Они громят коммунизм почище нашего. Особенно, конечно, газетные щелкоперы отличаются. Наиболее отличившихся, мы поощряем особенным образом. Как минимум, даем им премии от разных научных центров, как максимум, ставим на постоянное содержание.
– Знаешь, мне кажется, появилась очень интересная практика их покупки через чтение лекций. Это и материальный, это и моральный фактор. Основных бойцов надо бы переводить на эту основу. Например, редактор «Огонька», кажется, Коротич его фамилия, должен обязательно получить перспективы стать у нас профессором и обзавестись видом на жительство. Тогда он и мать родную покусает.
– Да, Збигнев, в советской России вывелась особо кусачая порода авторов. А все потому, что эти люди обижены судьбой. Представляешь, творцы высшей пробы, интеллектуалы – нищие в сравнении со своими коллегами и родственниками в Америке и Европе. Политбюро забыло, что самые умные из них пришли в этот мир жить по Торе, а не по заветам Томазо Кампанеллы. Им хочется иметь в первую очередь сокровища земные, а уж потом небесные. Если бы власть платила им достойно, то неизвестно, на чьей стороне они сегодня были бы. Но это отдельный разговор. Завербованная агентура тоже свой вклад в это дело вносит. Без нее у Миши эта заваруха не получилась бы. Сейчас можно уже не сомневаться, что никакого обновления КПСС не будет. Эта красная богадельня рухнет. История повторяется, Збигнев, история повторяется бесчисленное количество раз. Ведь еще якобинцы точно также повернули мозги французам, которые при короле жили совсем недурно. Но Робеспьер, Марат и компания смогли сделать так, что парижане страшно возненавидели монархию и захотели республику. А когда «свобода, равенство и братство» окончательно свели их с ума, якобинцы могли себе позволить все, что угодно. Кажется, и Москва на грани стихийных протестов. Эта стихия сметет Горбачева. Тут и настанет наиболее ответственный момент. Мы не успели подготовить собственного кандидата на его место. А раз так, возможно появление случайной фигуры. Риск очень большой. Выбор делать не из кого.
Жабиньский живо ответил:
– Нет сомнения, что Ельцин сграбастает власть. Кроме него некому. В этом не надо сомневаться. Он идет в Кремль как танк. Собственно, это единственный политик, который реально может сменить Горбачева. Если мы сделаем ставку не на него, то на кого?
А Горби пора сматывать удочки, хотя за проделанную работу ему надо бы выплатить пару центов.
– Да, ты прав, Збигнев. Пару центов Горби выслужил, да и орден какой-нибудь королевской подвязки тоже. Но на большее не годится. А жаль. Он такой безмозглый и трусливый засранец, что ломать его было одно удовольствие. Но впереди большие дела. У Миши для них кишка тонковата. Тут требуется крепкий парень. Мистер Бен, конечно, смотрится выгоднее. Но его пьянство… Пьет как свинья, надолго отключается… А что, если однажды ему не принесут опохмелиться, он обидится и нажмет кнопку в ядерном чемоданчике? Ты представляешь себе президента ядерной державы в алкогольном бреду? Кстати, психиатры говорят, что он и без «белой горячки» бывает близок к клиническому идиотизму.
– Друг мой, мистер Бен – это уникальная фигура, способная сделать то, чего не сделают все наши службы. Да, согласен, помогать алкогольному дегенерату подняться до поста президента рискованно. Но это та игра, которая стоит свеч! Ведь он развалит «империю зла» сам, без нашей подсказки. Не побоится последствий. У него давно отключен комплекс переживаний, который психологи называют «синдром совести».
Борис способен совершить самые радикальные поступки с решимостью клинического идиота. Но ведь именно такие поступки потребуются для того, чтобы покончить с СССР. А представляешь, что там будет при развале? Скорее всего, поднимется жуткий скандал. Со стрельбой, с жертвами, с голодом и прочими шутками. Разве нормальный парень захочет брать на себя такую ношу? Нет, конечно, нужен ненормальный парень. Так что Ельцина нам посылает кто-то свыше.
– Слушай Збигнев, мне все-таки страшновато делать ставку на Ельцина. Ну его к черту, этого сибирского вурдалака. Может быть, еще раз подумаем о Горби?
– Понимаешь, Джорж, дело не только в самом Горби. Вся компания, на которую он опирается, очень похожа на него. В ней кого ни поскреби, обнаружишь дешевую шлюху. Вчера любила Ленина, а сегодня разлеглась под дядей Сэмом. В общем, отвратительный сброд. Они однажды предали свою систему и предадут нас, как только услышат первые залпы канонады. Нам теперь нужны другие ребята: наглые, нахрапистые, стремящиеся к богатству. Они уже есть, но разве они пойдут за Мишей? Да никогда. Им нужен другой заводила: парень без комплексов, без страха крови, такой же корыстный, как они. В общем, душегуб. Вот вокруг такого они сплотятся и пойдут, круша все на своем пути. Подобную роль в истории часто играют люди без мозгов. Ельцин – просто идеальный кандидат на эту роль.
– Как ты думаешь, мы способны ускорить события в Москве?
– Вообще-то это вопрос к Директору ЦРУ. Я же могу лишь оценить готовность русских к устранению Горби. Судя по всему, они спят и видят, когда его погонят из Кремля. Значит, пора настала. Малыш Горби сделал свое дело. Малыш может уходить.
21. Джон Рочестер
Джон Рочестер был явно возбужден, и это не соответствовало его обычному поведению. Всегда флегматичный и неторопливый, на сей раз англичанин жадно курил, глубоко затягиваясь, то и дело отхлебывая джин с тоником.
Встреча проходила в пригороде Берлина, в кафе на берегу Вайсензее. Яркие блики летнего солнца весело играли в водах озера, из прибрежного лесопарка доносились голоса отдыхающих и детский смех. Белые паруса многочисленных яхт оживляли ландшафт, наполняя его радостным движением.
– Я принес очень важную информацию, Дан. Настолько важную, что даже не знаю, как начать. Дело в том, что неосторожное обращение с ней может стоить нам очень дорого. Очень дорого, Дан.
– Джон, не тяни кота за хвост. Если начал, то продолжай, Не для того же ты завел разговор о своей информации, чтобы в конце концов оставить ее при себе, правда ведь?
– Хорошо, Дан. Я для начала расскажу тебе, о чем идет речь, а потом мы посоветуемся, следует ли моим сведениям давать ход, обещаешь?
– Конечно, обещаю. Твоя безопасность превыше всего, без этого нельзя, мой друг.
– Это здорово, что ты стал называть меня другом. В КГБ, оказывается, это надо заслужить. Ну так слушай.
На днях к нам в Берлин приехал сотрудник нашей московской резидентуры, мой приятель Стив Йенсен. Этот парень встречается здесь со своим русским агентом. Будет какая-то важная встреча. Источник ценный, документалист. Я буду помогать Йенсену при операции. Сам он Берлин знает плохо, поэтому проверку на машине, наблюдение за местом встречи и кое-что еще буду делать я.
– Ты можешь заблаговременно сообщить нам о месте и времени встречи?
– Да, я уже все знаю. Встреча состоится в ближайшую субботу, в обеденное время. А место – ресторан «Медвежья берлога», знаешь его?
– Знаю. Кроме тебя кто-то из сотрудников резидентуры будет крутиться в месте встречи?
– Нет, Данила. Мы считаем Западный Берлин относительно спокойной частью города. Я буду один.
– Спасибо за информацию. А содержание разговора с источником ты знать, конечно, не будешь?
– Мне не положено. Но мы с Йенсеном знакомы десять лет. Вместе работали в Иордании и сидели в одном кабинете в штаб-квартире. Мы болтаем обо всем на свете и политику тоже не забываем.
– Ты сможешь его раскрутить по информации источника?
– Такие вещи не приняты и сразу вызовут подозрение. Если только он сам об этом заговорит.
– Хорошо, Джон. Я был бы заинтересован, чтобы ты хоть что-то узнал. Но на риск не иди. Будь предельно осмотрителен. Деньги за информацию ты получишь при следующей встрече.
– Кажется, деньги начинают мне мешать. Я думаю, что впервые в жизни у меня появился друг, и деньги начинают мне мешать. Дан, не надо денег.
– Может быть, я тебя понимаю. Но ты очень рискуешь, и деньги могут тебе пригодиться. О'кей?
– Ну, о'кей.
* * *
В следующую субботу Данила вместе с женой выехали из посольства и после тщательной проверки зашли пообедать в ресторан «Медвежья берлога». В руках Булай держал портфель с направленным микрофоном, а в кармане – сигнализатор ближнего действия. Они пришли, когда «Джет» с Йенсеном уже находились в полупустом зале и тихо переговаривались. Из всех присутствующих только эти двое были без дам. Данила сразу определил их и выбрал место неподалеку, поставив портфель на свободный стул микрофоном к беседовавшим. Затем, когда английский разведчик закончил встречу, и Ежиков пошел к выходу, Булай нажал кнопку сигнализатора. Его сигнал был принят сотрудниками резидентуры, занявшими посты на улице. Выходящий из ресторана «Джет» был скрытно сфотографирован в нескольких ракурсах и хорошо узнаваем.
После обеда Данила пытался разобраться в записи разговора, который Ежиков вел с англичанином. Несмотря на то, что в ресторане было довольно тихо, звучавшая там приглушенная музыка наложилась на запись, а звяканье приборов перекрывало отдельные слова. К тому же иногда собеседники понижали голос, и микрофон не улавливал звука.
– … И что, ты оцениваешь обстановку как спокойную?
– Не знаю. Иногда мне страшно. Но никакого внимания к себе я не замечаю. Вообще у нас полный бардак. Шеф не контролирует людей, работа ведется хаотично. Понимаешь, Стив, Госплан уже в параличе, а как быть без него, никто не знает. В общем, полная задница.
– Это понятно, но меня интересуют оценки правительством сырьевой коньюктуры в документальном виде. По ним мы можем планировать следующие шаги. Ты же понимаешь, что нам необходимо отстранить Горби от власти и лучше всего это сделать, ухудшив экономическое положение в стране. Если мы будем знать, сколько твой Павлов планирует взять у нас в долг, мы сможем заранее накрутить условия… (невнятно). Это главное. Потом, нам надо знать о связях Москвы с другими странами, где у нас собственные экономические интересы. Правильно? Ведь мы работаем на свою экономику, а ты нам помогаешь, так?
– (невнятно)… все равно. Но я по-прежнему… (невнятно)… как церковная мышь… На вашем месте давно следовало бы подумать о повышении платы за страх.
– Страх – это когда страшно по конкретному поводу. А ты сам говоришь, что… (невнятно)… не будет учитываться. Главное… документы… Переписка твоего шефа с Кремлем…
– Если бы ты дал мне средства для вскрытия пакетов, было бы лучше. А когда я передаю их тебе, то просто подыхаю от страха. Эти два часа, пока ты их вскрываешь, кажутся мне вечностью…
– Юджин, это обычная работа разведчика. Ты закладываешь в тайник секретный материал, через два часа получаешь его назад, а на следующий день твой счет в Лондоне прилично пополняется. Зачем же волноваться? Все идет отлично!
– … (невнятно)… за решетку. Тебе бы побывать в моей шкуре… Я все время спрашиваю себя, нужна ли мне такая плата за страх.
– Большие деньги без труда не зарабатывают. На твоем счету уже очень приличная сумма…
– Вы удовлетворены? Не желаете ли еще чего-нибудь?
– Да, кофе и «мартель» пожалуйста.
– А мне «квантро».
– Хорошо.
– Мне не нравится твоя оглядка на несуществующие опасности. Их надо оценивать реально. Реально же за тобой ничего нет. Все прекрасно. Давай перейдем к заданию на следующий раз. Исходим из того, что ты принесешь нам информацию под грифом «совершенно секретно». Нас в первую очередь интересуют следующие вопросы… Вот тебе памятка. Постарайся ответить на все. Особое внимание уделяй возможным мобилизационным планам.
– Не понял?
– Когда в стране трудности, правительство готовит армию на особый случай. Без премьера это не обходится. Любая информация на эту тему чрезвычайно важна.
– … в моей шкуре… как можно быстрей… в Лондон. Душа не спокойна…
– придет время… надо работать. Вот тебе немного денег на карманные расходы. Основная сумма пойдет на твой счет в «Ллойдсе».
– Сколько?
– Две тысячи фунтов.
– Это свинство. Я каждый день рискую жизнью, а вы…
– У нас с тобой такая работа, Юджин. Я тоже рискую, но получаю обычную зарплату от моей Королевы. Я не могу просить шефов в Лондоне об увеличении тебе вознаграждений без необходимых обоснований. Давай ценную информацию, и получишь большие деньги.
– Разве моя информация не ценная?
– Она неплохая и ты за один раз получил столько, сколько хороший британский инженер получает за месяц. Разве это плохо? Прекращаем дискуссию и договариваемся о следующей операции. Давай проведем ее у танковой площадки на истринском шоссе. Тайник номер четыре, помнишь?
– Хорошо. Еще раз съезжу полюбоваться на бронированных чудовищ.
– Молодец. Теперь об экстренной связи. Повтори условия вызова на внеочередную встречу.
– С твоей стороны три семерки на табло приемника. Выхожу в следующий вечер в восемь пятнадцать, вестибюль метро «Спортивная».
– С твоей?
– Три семерки в эфир с моего приемника, частота номер два, условия встречи те же.
– Хорошо. Ты делаешь прогресс, ну а теперь давай прощаться…
На следующий день полученные материалы ушли в Москву, а еще через два дня Данила встретился с «Каратом», который также проводил Йенсена к месту службы. Он начал встречу сразу с самого главного.
– Вчера мы хорошенько посидели со Стивом в ресторане. Он был очень возбужден, к тому же крепко выпил и рассказал мне такое, что я тоже взволновался, Дан… Представь себе, там у вас начинается большая игра по замене Горбачева. Наша резидентура действует в этой операции совместно с американцами.
– Джон, я все-таки проработал в нашем ремесле двадцать лет. Ни за что не поверю, что американцы могут тасовать наших политиков, словно карты. Мы не банановая республика.
– Карты – не карты, а кое-что делается. Ты лучше послушай меня. Разговор мой со Стивом вообще начался с Бабакина. Он теперь у вас большая птица. Когда-то мы с Йенсеном вели на него досье в Лондоне, подшивали телеграммы, которые присылали из Москвы. Наша резидентура «подсвечивала» его через свои возможности, и мы знали, что он работает на штатников. У наших служб много общих секретов. Так вот, когда я упомянул об этом типе, Стив расхохотался и сказал, что тот сейчас дирижирует русской историей. А интрига такая. До янки, наконец, дошло, что Горби окончательно превратился в беспомощного врунишку, а страна катится к коллапсу. В общем, менять его надо. Иначе бунт, возвращение консерваторов. Но на кого менять, не на Язова же или Крючкова? Вокруг нормальных демократов не осталось, всех вытеснили. Значит, пришли к выводу, что менять надо все это руководство вместе с Мишей. А как? Вы, действительно, не банановая республика, морских пехотинцев в Кремль не пошлешь. И тут подворачивается случай. Мы перехватываем переписку Крючкова с Павловым о подготовке путча. Между прочим, это работа Стива. Как профессионал он достоин высших похвал. Уверен, ему светит орден Ее Величества голубых панталон. Сказать, что эта информация на вес золота – ничего не сказать. Она в миллион раз дороже. Ваши ребята в погонах затеяли мышиную возню с переворотом и хотят погнать Горби. Это как раз то, что нам надо. Пусть прогоняют, только конец игры будет для них неожиданным.
– И как же это должно выглядеть?
– Есть несколько вариантов. Во-первых, мы можем сорвать путч, так ведь? Это не сложно. Вот возьмем, поднимем сейчас крик на весь мир: «со ссылкой на циркулирующие в Москве слухи о подготовке антидемократического переворота, президент Соединенных Штатов Америки заявляет…. смешаем с дерьмом… уморим голодом…»… и так далее. Короче, сорвем путч к чертям собачьим. Только чего мы добьемся? Заговорщиков посадят, а Горби наберет новую команду кретинов. Но он же не понимает, какую роль на самом деле играет. Продолжит цепляться за сохранение Союза, за какие-то мифические остатки социализма. А приведет это к окончательному кризису, взрыву недовольства и, опять же, к возвращению твердолобых коммунистов. Не нужен нам Горби уже просто никак! На его место должен прийти ВРАГ КПСС и ВРАГ СОЮЗА, а значит, совершенно другой человек. Но как решить эту задачу? Они долго ломали голову над всякими вариантами, и, наконец, Бабакин предложил следующий ход. Ох, умен же ваш Бабакин!
– Ты полагаешь, он наш?
– Да нет. Это я оговорился. Короче говоря, он предлагает спокойно ждать начала путча. Ничего страшного не произойдет.
– Ты хочешь сказать, что ни арестов, ни интернирования, ни закрытия газет – ничего не будет?
– Точно так. Ничегошеньки не будет.
– Это следует из перехваченной переписки?
– Да, из нее. Путч будет похож на кукольный театр. Заговорщики боятся применять серьезные меры. Ну и вправду, каким супостатом надо быть, чтобы арестовать светоча современности, отца перестройки Михаила Горбачева? Какую бурю ненависти вызовет арест редакторов свободных и либеральных газет? Что за океан возмущения поднимется при ограничении наконец-то достигнутых гражданских свобод? Никто на это не пойдет. Поэтому, путчисты, как дети, собираются лишь сыграть в переворот, не возбуждая никаких международных и внутренних протестов. Они вознамерились лишь чуть-чуть подкрутить гайки голыми пальцами, без помощи чугунного ключа. Знаешь, чем такие игры кончаются?
– А чем они кончаются? Мягкие меры вызовут мягкую реакцию, общество вздохнет с облегчением, а Запад пошумит-пошумит, и успокоится.
– Вы гениальный разведчик, мистер Булай. Именно так американцы и прогнозируют ситуацию в части, касающейся вашей Родины. Возмущения народа по поводу устранения Горбачева никак не предвидится. Дюжина слабоумных во главе с Новодворской, конечно, на Красную Площадь выйдет, без этого никак. А народ с облегчением вздохнет. Но вот в части, касающейся Запада, вы просчитались. Не понимаете, как нам дороги те ценности свободы и демократии, которые наконец-то зародились в вашей холодной и дымной стране. Не уступим мы их так просто. Нет! И когда путч свершится, начнется самое главное. Начнется вторая серия этой увлекательной картины. Сейчас именно к этой серии и готовится наша резидентура в Москве вместе с резидентурой ЦРУ.
– У вас есть силы поднять мятеж против путчистов?
– Да никогда в жизни! Для этого надо иметь сотни агентов, а у нас их единицы. Но у нас есть другие возможности. Это единомышленники в редакциях телевидения и газет. Ведь в чем суть момента? Крючков правильно рассчитывает, что они испугаются и будут выжидать: высунуться из норки или промолчать? Наша задача – подготовить адресную работу с редакторами и журналистами, с лидерами неформальных объединений, с отдельно стоящими сумасшедшими. Мы готовимся довести до них по множеству каналов: ребята, не надо бояться. Весь цивилизованный Запад на вашей стороне. Вперед, на улицы и площади. Мы с вами, и если что – прикроем.
– Вы думаете мобилизовать большое количество народа?
– Мистер Булай, Вы лучше меня знаете, на кого работают ваши СМИ. Их только надо ободрить. Хотя задача непростая. Ведь страх – это серьезная штука. Но шансы вполне реальные. Можно оживить улицы молодежью и маргиналами. Кроме того, готовится дезинформация о кознях путчистов, которые готовы погрузить страну во тьму средневековья и так далее. Простор для работы огромный. Очень важно также наладить бесперебойную связь со штабом Ельцина и координировать работу.
– Со штабом Ельцина, у вас что, уже такие проекты есть?
– Представьте себе, мистер Булай, здесь вступает в действие само искусство разведки. Если Ельцин и знает о подготовке путча, то только из своих источников. Мы с ним не делимся. Это опасно. Но то, что он сразу возглавит сопротивление, лежит в области максимальной вероятности. Мистер Бен не такой уж и герой, но он поймет, что этот путч – всего лишь мышиная возня. Если не поймет, мы подскажем и пообещаем помощь. Он обязательно уцепится за возможность прорыва к власти. А мы ему будем помогать всеми нашими силами. Этот спектакль должен кончиться в его пользу. Потому что как раз Ельцин – это ВРАГ КПСС и ВРАГ СССР. По расчетам резидентуры, антипереворот должен получиться. На улицы выйдет достаточно людей, чтобы преподнести это как общественные протесты. Тут мы подключим международную общественность, раскрутим смерч в эфире и добьемся бегства клики от власти. Вот в этом главный замысел. А когда клика поднимет лапки вверх, ее как раз и интернируют.
– Могу себе представить. Им этих игр не простят. Что-то я не помню в русской истории великодушия по отношению к путчистам. У нас обычно так: либо пан, либо пропал… Декабристы тому – лучшее подтверждение.
– Мой друг, на этот раз мы имеем дело не столько с русской, сколько с мировой историей. Думаю, Запад будет иметь влияние и на судьбу проигравших. Я так думаю.
– И когда же все это может начаться?
– Ты знаешь, ситуация такова, что мы в принципе уже готовы к началу. Когда же оно грянет, трудно сказать. Думаю, еще до подписания вашего нового договора в Новоогареве. Оно назначено, если не ошибаюсь, на 20 августа. Иначе какой смысл во всей затее? Поэтому передавай быстро в свою штаб-квартиру, что переписка Крючкова с премьером об организации путча доступна империалистическим разведкам и они уже вовсю готовят вам бяку.
– Слушай, а это не очень рискованная игра? А вдруг путчисты в решающий момент прибегнут к вооруженной силе?
– Твой вопрос к Бабакину. Этот мерзавец наверняка обсуждал с американцами способности заговорщиков мобилизовать общество и, видимо, убедил их, что теперь в Москве никто ни за Крючкова, ни за Язова свой живот положить не захочет. Американцы умеют быть авантюристами и часто играют в рискованные игры. Но на сей раз, я думаю, они имеют неплохие шансы.
Вернувшись в резидентуру, Данила обсудил ситуацию с Тишиным. Старый оперативный волк, Анатолий Тишин, был на сей раз также озадачен. Такого рода ситуация была для него новой, и он не имел возможности ее по-настоящему оценить. Что там, в Москве, происходит на самом деле, не являются ли сведения Рочестера дезинформацией, как они сработают в складывающейся обстановке? Вопросов масса, а ответа на них не видно. В конце концов, он решил доложить полученные сведения без собственных комментариев Крючкову лично.
Владимир Александрович принял информацию всерьез. Он знал, что американцы пронизали агентурой все окружение Горбачева и Ельцина, а также сформировали мощную «пятую» колонну в СМИ. Однако он не поверил, что противник сумеет разыграть факт отстранения Горбачева от власти в своих интересах. Михаил Сергеевич завоевал всеобщее презрение и выходить на улицы ради него… Крючков решил, что введение войск в Москву запугает «демократические силы» и они побоятся выходить на улицы, даже если их будет поддерживать Запад. Это был его главный просчет. Вместе с тем, Председатель КГБ дал указание Второму Главку выявить и взять под контроль агента англичан, который угнездился в аппарате премьера Павлова.
22. Встреча с Аристархом
Булай не надеялся получить очередной отпуск, потому что в воздухе сгустились тяжелые тучи и весь мир жил в ожидании грозы в Москве. Резидентура работала в напряженном ритме, поступало очень много сведений о маневрах Запада вокруг Кремля. Центр реагировал на эти данные нервно и требовал усиления контрмер, хотя каждому было понятно, что без воли политического руководства ничего серьезного разведка сделать не сможет. Руководству же было не до этого. Поэтому парадоксальным образом Булай получил разрешение на отпуск в конце июня. Он не стал долго задерживаться в столице, а сразу поехал в Окоянов, к своим родным, по которым очень соскучился.
Отец Булая уже год лежал в земле, побежденный раком, и все тепло своего сердца он отдал матери, к которой был очень привязан. Долгие разговоры о жизни, о родне, о прошлом и настоящем отогревали душу Данилы, возвращали его в мир, в котором нет стрессов, тревожного ожидания разведопераций и беспомощных попыток осмыслить происходящее в стране. Булай снова уходил за город, в свои любимые места, бродил по роще Магницкого, в которой мальчишкой собирал грибы и землянику, лежал в душистых лугах, слушая жаворонка, ловил карасей в маленьких прудах, и ему казалось, что именно такая жизнь наполнена смыслом. В эти минуты ему хотелось вернуться сюда и жить здесь умиротворенным, не зараженным никакой политической грязью бытом, построить дом на возвышенной окраине Окоянова, откуда видны дальние дали, и заняться главным – деланьем добра для близких и любимых людей. Так, чтобы душа от этого налилась музыкой жизни, чтобы каждый рассвет и каждый закат приносили радость сердцу, чтобы не было больше потрясений. В то же время, где-то краем сознания Булай понимал, что уже не сможет без борьбы, без напряженной работы нервов и головы. Слишком глубоко в него вошло понимание необходимости защищать свою страну, которую предавали изнутри и подрывали снаружи. «Нет, больше двух недель в Окоянове я не выдержу», – думал он.
Данила любил бродить и по родному городу, с которым было связано все его детство. Обычно утром, наговорившись с матерью и напившись чаю, он выходил на улицу. Здесь все ему было до мелочи знакомо, все напоминало о счастливых и далеких годах малолетства. Окоянов мало изменился с тех пор, как Булай покинул его, хотя прошло уже больше двадцати лет. Здесь не было больших предприятий, способных поддержать местное хозяйство, а мелкие заводики и фабрички сами едва держались на плаву. Поэтому, как и во всей остальной провинции, в городе царили трудные времена. Он мало строился, зато дряхление его было видно невооруженным глазом. И все же сердце Данилы грели алые мальвы в палисадниках деревянных домов, густая зелень тенистых улиц и тишина, тишина, как знак мира и покоя.
В этот раз Булай решил пойти в центр и повернул в гору на улицу Горького. Когда-то давно она была Мещанской, и так случилось, что именно после переименования на ней был взорван огромный пятиглавый храм Тихона Задонского, относившийся к женскому монастырю. Остался только жилой корпус монастыря, который после отмены Бога превратился в очаг культуры.
Белые стены старого здания облупились, обнажая красный кирпич, а деревянный второй этаж опасно покосился. Видно, очаг не знал ремонта с момента своего преображения и уже не годился для массовых мероприятий. Остановившись у здания, с которым было связано множество воспоминаний, Данила углубился в прошлое.
Тогда, в шестидесятые, жизнь была совершенно другой. Булай вспомнил, как в то время в очаге полыхала массовая самодеятельность. Оправившись, наконец, от трудных послевоенных лет, местный житель толпой пошел в сценическое искусство. Гремели на весь район хоры пионеров и пенсионеров, ансамбль народных инструментов вышел во Всесоюзные лауреаты, многочисленные колхозные коллективы долбили каблуками сцену ДК не хуже хора Пятницкого. На районные смотры съезжалась уйма людей. Но больше всего любили самодеятельный драматический театр. В тот период его труппа славилась тем, что могла замахнуться на высокую классику, какую и в столице не каждый коллектив осмелится поставить. Главным и единственным режиссером театра являлся бывший представитель московской богемы Модест Жеребцов. Основную часть своей творческой биографии Модест прослужил в столице исполнителем сатирических куплетов, но ближе к завершению карьеры бежал в Окоянов от бесчисленных жен и алиментов. Данила почему-то хорошо запомнил этого мужчину с напомаженными волосами, в сандалетах и при желтом галстуке лопатой, каких у окояновских щеголей тогда и в помине не было. Лицо Модеста, носившее следы надругательства алкоголем, было всегда чисто выбрито, а выражение его таило оттенок муки и легкой брезгливости, как бы сообщавших миру, что хозяин глубоко страдает от самого факта проживания в провинции. Хотя Модест и не был значителен ростом, но обладал стеклянным взглядом и прямой постановкой фигуры, как и положено сценическому таланту. Поначалу появление беглого артиста вызвало сильное волнение среди заждавшихся окояновских невест. Однако вскоре выяснилось, что весь свой боезапас Жеребцов истратил в изматывающих схватках с москвичками и сейчас отдает предпочтение ликеро-водочному направлению досуга. Правда, в конце концов спутница жизни из числа местных подвижниц культуры у него появилась, и после недельного медового месяца они образовали крепкий внебрачный союз на основе взаимного рукоприкладства. Но театр был его страстью и его жизнью. Жеребцов обрел высокий полет, превратившись из исполнителя сатирических куплетов в главрежа хотя и провинциального, хотя и самодеятельного, но драматического театра. В ту пору зрители посещали спектакли с большим энтузиазмом. Они приходили как на праздник, принаряженные, напомаженные, пахнувшие со стороны мужчин «Тройным одеколоном», а со стороны женщин – «Магнолией» и даже «Красной Москвой». Правда, не каждый зритель улетал вместе с артистами в мир театральных грез. Были и такие, которые замечали всякие оплошности и громко этому радовались. В то время местная культура еще не сравнялась с московской. Даниле пришла на память премьера пьесы «Любовь Яровая». Драма эта в ту пору была очень популярна. Среди местных театралок имелось даже несколько нервических студенток педагогического училища, которые знали все роли наизусть. А идейная сила этого произведения была таковой, что райком включил ее в план идейно-воспитательной работы с населением. В общем, это не «Машу и медведей» поставить. Нужно было организовать творческий взлет коллектива на еще неосвоенные высоты. Роль поручика Ярового, понятное дело, взял на себя сам Жеребцов. Следует отдать ему должное: в свете рампы, с подведенными бровями и во френче, он вполне смотрелся немолодым красавцем-поручиком, подзадержавшимся в званиях по очевидным причинам развратной жизни. Зал тогда сразу разделился на две половины – женскую, которой этот аморальный тип явно импонировал, и мужскую, с ходу невзлюбившую белого недобитка за гнусные манеры.
Молоденькую Любовь Яровую играла учительница начальных классов Фрида Куртик, дама не первой свежести и низенького роста. Она отличалась пышностью форм и большим носом, выступавшим из под насурмленных бровей. Голову ее на хохляцкий манер в три кольца обкручивала коса с вплетенными капроновыми чулками. Голос у Фриды был басовитый, могучий, под стать бюсту, движения томительно неспешны и обволакивающе плавны.
Премьера не задалась с самого начала, так как ответственность момента сыграла с Модестом плохую шутку. Перед открытием занавеса он принял больше обычного, после чего его «понесло по кочкам». С каждым появлением на сцене белогвардеец становился все более игривым и все чаще нарушал драматический ход пьесы отсебятиной. В одной мизансцене, вместо того, чтобы заломить руки и надрывно спросить жену, как она жила без него все это время, Модест подъехал к Фриде бочком, и, подмигивая залу, прогнусавил вопрос таким пакостным тоном, что всякому стало ясно: революционная гражданка в отсутствии мужа не терялась.
К третьему акту контрреволюционер так нализался, что напрочь забыл свой текст и перешел на импровизацию, на ходу сменив школу Станиславского на неприкрытый авангардизм. Весь зал потешался над происходящим, включая и идеологически выдержанных работников райкома партии. Наибольшей точки веселье достигло в следующей сцене.
По сценарию Любовь и поручик прогуливаются по краю пшеничного поля, изображенного в оптимистических желто-голубых тонах. Наступает лирический момент. Белый офицер обнимает жену за талию и восклицает: «Эх, Любовь, хлеба-то какие!» И вот здесь Жеребцов переступил всякие границы сценической этики. Кое-как выбравшись из-за кулис под руку с Фридой, он остановился на краю поля, дожевывая закуску и тщась вспомнить свою реплику. Помощь пришла от суфлера, но видя глаза зрителей, напряженно ожидающих хохму, Жеребцов понял, что наступил его звездный час.
Обняв Любу за талию, Модест опустил руку на ее необъятные выпуклости и гаркнул во всю глотку: «Эх, Любовь, хлеба-то у тебя какие!». Зал покатился со смеху, а директор Дома культуры стал лихорадочно задергивать занавес, объявляя, что спектакль закрыт по техническим причинам.
Конечно, наивно, конечно, по провинциальному, но все-таки было в явлениях той, ушедшей жизни что-то очень доброе и славное.
Погостив в Окоянове неделю, Данила понял, что не сможет уехать, не повидав Аристарха. Тянуло и по старой дружбе, да и в душе накопилось много всякого. Хотелось послушать бывшего политзаключенного и знатока истории по поводу происходящего со страной. Переписки между ними не было, но открытками к праздникам они обменивались, и Булай знал, что Комлев не стал возвращаться в Ленинград, а по-прежнему живет в своей деревеньке.
Данила взял у своего одноклассника, директора дорожно-строительного управления, напрокат УАЗик и отправился в Мордовию, в маленькую лесную деревеньку близ Темникова.
Миновав околицу, Булай сразу увидел Аристарха, сидевшего на лавочке перед домом и читавшего «Правду». Бородатое лицо доцента мало изменилось, но в волосах прибавилось седины. Увидев выходящего из машины Булая, Комлев разогнул сутулую спину, поднялся с лавки и, улыбаясь, раскрыл объятья:
– Радость-то какая, Данила приехал. Вот не ждал, как же ты, родимый, обо мне вспомнил?
– Не забывал я про тебя, Аристарх, не забывал. Как только в отпуск вырвался, сразу к тебе. Много всякого обсудить надо. Только расскажи сначала, как живешь.
– Ничего себе живу. Не тужу, реабилитирован по чистой, получил право заниматься педагогической деятельностью. В Темниковской средней школе историю преподаю. Жениться вот собираюсь, надоело одному-то.
– Ну а в политике пытался участвовать, статьи в журналы посылал?
– Нет, Данила, не посылал. Статьи такого гоя, как я, никто печатать не будет. Мозгами публики сегодня владеют Коротичи и Голембиовские. Они этим мозгам нужную форму придают, кто же захочет письма из будущего читать?
– Письма из будущего?
– Ну да. Владимир Ульянов письма издалека перед переворотом писал, а я – письма из будущего, прости за неудачное сравнение. В журналы такие письма посылать нелогично. Пускай до будущего долежат, тогда их и почитают. Ну ладно, что мы тут стоим. Пойдем в дом, ты как раз к обеду подоспел, там и поговорим.
Комлев познакомил Данилу со своей спутницей жизни, и сели обедать. За столом зашел разговор про жизнь. Аристарх рассказывал, что вся глубинка окончательно перешла на натуральное хозяйство. Сам он с Антониной Васильевной тоже огородничал. Запасал картошку, соленые огурцы и грибы на зиму, солил капусту. С помидорами не связывались – хлопотно и ненадежно. Частенько урожай гибнет, то от фитофторы, то от поздних заморозков. Денег от зарплаты хватало только на хлеб и растительное масло, да кое-какую одежку. Но для них эти трудности не казались великими. Антонина Васильевна всю жизнь прожила в деревне и не такого навидалась, а для Комлева после лагерей главной ценностью стала свобода. Было по всему видно, что они соединились в дружную и любящую пару. Аристарх никогда не заговаривал с Данилой о своей бывшей семье. Но тот знал еще по прежним временам, что после ареста первая жена подала на развод и не позволяла маленькому сыну писать отцу.
После наваристых деревенских щей из чугунка Антонина Васильевна подала жаркое, приготовленное дедовским способом. В глубокой сковороде, наполненной горячим жиром, плавали томленые до коричневатости картофелины и куски свинины, отблескивающие рыжими, поджаренными боками. Аристарх с усмешкой посматривал на своего приятеля, который, казалось, не мог оторваться от угощений.
– Давно такой свинины не пробовал, честное слово, – сказал Данила, наконец отваливаясь от стола. – Откуда такая?
– Из свинарника, – засмеялся Аристарх. – Мы тут с Тоней все по науке делаем. Вычитали, как англичане своих хрюшек выкармливают, и испытали это дело в своем хозяйстве. Ничего особо мудрого и нет. Им ведь тоже не только картошку с хлебом надо задавать. Когда яблок, когда свеклы пареной, а бывает, что и деликатесу какого-нибудь, вроде гречневой каши. А этого товару у нас пока в достатке.
Потом на столе появился кувшин с моченой брусникой. Данила пил холодную розовую водицу с кислыми красными ягодами, и воспоминания лесной детской вольницы всплывали в памяти. Как хорошо! Хорошо быть рядом с этими вечными вещами: рядом с лесом, с полями и речками, видеть необъятное небо над летними лугами. Хорошо. Не зря же доцент ленинградского университета так прикипел к ним. При желании мог бы, наверное, вернуться на родину и устроиться там по нынешним временам совсем не плохо.
Закончив обед, друзья вышли на знакомую лесную дорогу и пошли по ней в глубину леса. Под тенями старых деревьев чувствовалась освежающая прохлада, вокруг щебетали лесные птахи, пахло липовым цветом и анисом.
– Аристарх, а о возвращении в Ленинград ты не думал?
– Нет, Данила. Тому две причины. Во-первых, не хочу. Та перестройка, которая у нас сегодня ломает страну, мне не подходит. Я совсем не за такую жизнь в лагере сидел. Эти перестройщики ведь только делают вид, что в советскую власть целятся, выстрелят-то они в Россию.
А во-вторых, бывшая жена мою квартиру давно на себя оформила, а по чужим углам скитаться в моем возрасте поздновато. Поэтому мы с Тоней решили жизнь не менять.
– А не обидно в стороне от событий стоять?
– Хороший вопрос, Данила. Было бы страшно обидно, если бы действительно сейчас шло разрушение советского строя, а на его остатках возрождалась бы новая Россия. Я бы не утерпел, полетел бы в Москву, постарался бы в эту работу включиться. Но меня ужасно отталкивает происходящее.
– Почему?
– Понимаешь, Данила я за антисоветскую деятельность пять лет отсидел. Казалось бы, кому, как не мне радоваться? Вот он, конец советской власти, того и гляди нагрянет. А я горюю!
– Сложно мне тебя понять, ведь новое же время идет. Построим нормальное общество! Сейчас трудный период приближается, но как без этого? Зато потом легче станет.
– Вот что я тебе скажу, дружочек мой драгоценный. Для меня марксизм был трагедией русского народа. Ты сам знаешь. Он нас от собственного пути в сторону увел. Выдумали его в Европе, а ударил он по нам. Сталин этот проект под Россию переделал, многое из него изъял, и сделал марксизм русским. Правда, от этого марксизм лучше не стал. Как он был надругательством над нашим самосознанием, так и остался. Только диктатор умудрился его русскому человеку навязать. Нет ничего противоречивее, чем советский человек сталинского типа. В нем перемешалось ожидание светлой жизни с жестокостью к классовому врагу. Он хочет принести благополучие человечеству и порицает Бога, мечтает о гармоничном обществе и в тоже время равнодушен к страданиям бесчисленных сограждан в лагерях. Такой тип человека не может быть вечен. Противоречия его разрушают. Так и получилось. После смерти Сталина классовая жестокость стала потихоньу уходить, и во времена Брежнева мы стали относительно гуманным обществом. Нашего брата-диссидента сидело в ту пору по лагерям сотни две-три. На двести миллионов населения считай, ничто. Конечно, сталинский период был наказанием русскому народу за предательство православия. Но, Данила! Уравнивать сталинизм и советскую власть неправильно. После Сталина строительство продолжилось, но оно имело уже иной характер. Причем, характер уникальный. Ведь послевоенная советская власть постепенно превращалась в единственный в истории строй, при котором начал осуществляться принцип социальной справедливости. Конечно, условия его реализации были тяжелыми. Борьба за выживание, внутренние распри, внешний враг, но все-таки, контуры социальной справедливости уже четко обозначились. Это, друг мой, дорогого стоит. Не зря Запад такие гигантские силы потратил на разрушение социализма. Он прекрасно понял, что через полвека ему придет кирдык. А действовал Запад очень жестко и беспощадно. Он это умеет делать не только с внешним врагом, но и у себя дома. Возьми хоть убийство Кеннеди.
– По принятой версии его убила мафия.
– А кто же еще, конечно – мафия. Доходы от ночных борделей не поделили! В такой бред в Америке не верит никто. А вот то, что президент выступил против создания Израилем собственной атомной бомбы, это реальный факт. И то, что после убийства его преемник согласился с бомбой, отрицать невозможно. А ты говоришь, масоны – это сказки для слабоумных. Кеннеди могли убить только масоны, не боящиеся ничего и чувствующие себя реальными хозяевами Америки. Больше на президента не посмел бы поднять руку никто. Кстати, материалов по этому поводу тоже достаточно. При желании их можно достать. Также как и по убийству Франклина Рузвельта.
– О чем ты говоришь! Рузвельт умер от болезни.
– Рузвельта убил его личный секретарь выстрелом в затылок после того, как масоны перехватили письмо президента саудовскому королю, в котором он соглашался выступить против основания государства Израиль. Пуля разворотила лицо, и Рузвельта выставляли в закрытом гробу, а затем долгое время держали на могиле охрану, чтобы кто-нибудь не задумал эксгумацию. Слухи о его насильственной смерти тогда переполняли Америку.
Вот это доказательство существования настоящих, невидимых диктаторов за кулисами демократии. Они, пожалуй, куда страшней Сталина. У того хоть ревтрибуналы были и показательные процессы. А у этих без излишних формальностей… Так что сравнение социализма с капитализмом, если его проводить на реальных фактах, а не на выдумках Запада, не такое уж и выгодное для той стороны.
– Но каждый знает, что социализм оказался нежизнеспособной системой. Об этом кричит весь мир.
– Советский Союз в страшнейших условиях, всего за полвека, с нуля создал государство, догонявшее по мощи США, а США, мой друг, создавались двести лет! И всегда темпы нашего развития были несравненно выше западных, а падать они стали со старением Политбюро, а в особенности – с приходом Горбачева. Этот титан мысли поспешил заявить, что страна пришла в тупик. А что ему оставалось, если на большее мозгов не хватало? Только скажи на милость, как мы по ряду отраслей уже оторвались от самой развитой державы мира?
– Да потому что мы вкладывали в эти отрасли свои лучшие силы и немереные деньги…
– Стоп! Значит, в чем дело? В том, что при нужном вложении сил и денег мы можем их обгонять! И вопрос состоял только в том, чтобы и в телевизоры, и в мясорубки, и в сандалии вложить больше денег и мозгов, чем вкладывали наши руководители!
– Так почему они на нас экономили, почему ничего не делали в этом отношении?
– Мы ведь задарма кормили полмира, социализм по планете двигали. Но задачка оказалась не по силам, и надо было ее переосмысливать. Старцы в Политбюро не могли пойти на такой шаг, в маразм погрузились. А Горбачев? Посмотри на него, это человек без царя в голове. И команду он себе набрал такую же. Все они давно попали под воздействие западного влияния, а Александр Бабакин совершенно очевидно имплантировал в девственный разум генсека идиотское «новое мышление». Я уверен, что из советской власти можно было постепенно вырастить социальное государство, ведь у нее было небывалое достижение – фактическое равенство людей. Только вот с вождями нам не повезло. Эх, Данила! Плакать хочется от горбачевского кретинизма! Ведь его же ведет на поводке все та же свора врагов России, чьи папы подгрызли самодержавие!
– А что же за письма из будущего ты упоминал, почему оттуда, а не издалека?
– Да это я пошутил, Данила. По правде говоря, кое-что о нашем будущем я начеркал, а потом думаю, кто же его угадает? Поэтому предсказания свои я оставил при себе. А вот человеком решил заняться вплотную. Ведь, если подумать, человек – самый главный предмет революции, правильно? Вот куда его несет сейчас, этого человека, а? Хорошо ему будет или нет в конце всех концов?
– То есть, как мы будем выглядеть в рыночном демократическом обществе?
– А кто тебе сказал, что мы туда припремся? Ишь ты, шустрый какой! Мы туда не попадем. Сценарий нас ждет такой: сначала всем миром будем строить демократию и рынок. Это выразится во всеобщем воровстве и разложении. Русский народ не готов к демократической вседозволенности, которую должно ограничивать гражданское правосознание. Ну, а если такого правосознания нет? Свирепая получится жизнь, друг мой. Произойдет криминализация всего общества от мала до велика. Конечно, такая жизнь не может быть нормальной, и начнет постепенно нарождаться волна протеста против сложившихся условий. Только скажи мне, о чем протестующие люди будут мечтать? Конечно же, о возврате порядка, который был раньше. Сегодня они порывают с социализмом, потому что их так обработали, а завтра будут мечтать о его возврате. Лет, эдак, через десять-пятнадцать, когда у оставшихся в твердом уме граждан мозги встанут на место и они сообразят, что за поворотом – пропасть. Эту самую либеральную модель отменят, и возвратят очень многие черты социалистического общества. Почему? Потому, что эти черты подпираются историей. Они дают маленькому человеку чувство справедливости, которое у него отбирается сегодня. Он еще не знает, какой бесценный дар у него крадут. Но со временем поймет. А что в результате? В результате окажется, что сегодняшний эксперимент России был не нужен. Точнее, нужен, но не нам, а тем, кто решил крупно поживиться на общем достоянии. Вот и все.
– Те, кто поживится, не захотят возвращения старых порядков.
– Старые порядки не вернутся, да и не надо этого. Стремление будет к другому – к возрождению принципов справедливого общежития, а это новым хозяевам никак не надо. Все, что угодно, только не общественный контроль за их способами обогащения. Они прирожденные воры. Поэтому развернется ожесточенная борьба за новую модель общественного устройства, Бог даст, борьба чисто политическая. Если они ее проиграют, то их как ветром сдует в теплые края. А может, и не проиграют, и тогда русский народ будет ждать новый исторический период холодной и голодной жизни.
– Ну, наговорился я с тобой, брат Аристарх, как полыни наелся. Хорошего-то у тебя хоть чего-нибудь осталось?
– Осталось брат, осталось. Донное течение пошло, в этом самая большая радость.
– Донное течение?
– Ну да. Самая что ни на есть донная, глубинная Россия начала дышать. Неподалеку от нас есть такой поселок Первомайск, слышал, наверное?
– Не только слышал, но и бывал. Глушь лесная.
– Ну вот, в этой глуши, верстах в пяти от поселка, уж года два живет парализованный офицер. И представь себе, был он на источнике Серафима Саровского, паралич его частично снялся, и потихоньку превратился этот капитан в проповедника. Говорит тебе это о чем-нибудь?
– Мы сами не местные. Покажите путь-дороженьку.
– Согласись, дело необычное, правда? А сейчас к нему люди потянулись. Почему? Потому, что он единственный источник духовного насыщения. Есть, конечно, и такие, которым детективов Марининой хватает. Но, оказывается, еще больше тех, кому нужно душу почистить. Это очень важный момент, Данила. Особенно для нас, если мы на сохранение своей земли надеемся.
– А что же может сказать людям парализованный офицер Советской Армии?
– Долго объяснять. Если коротко, то он умеет в душу заглянуть и человека оживить.
– Жаль, что отпуск мой короток. Я бы обязательно к нему наведался.
– Отчего же не сделать это вдвоем? Давай в следующий отпуск и сходим к нему.
– Сходим?
– Сходим, конечно. Ты же сам рассказывал, что твоя бабка на богомолье пешком ходила.
– Хорошая мысль, повторить пути предков. Сходим, Аристарх!
23. Филофей Бричкин
Филофей никак не мог добиться от музейных жителей правды о происходящем на этом свете. Чавкунов оказался мужиком крепким и ни в какую в подобные разговоры не втягивался.
– Мне еще в домовых служить как медному котелку, – говаривал он, – а с тобой, Филя, я только больше грехов наделаю. Здесь проговорюсь, там лишнего ляпну, а то, не дай Бог, и непотребные слова допущу. Вот и буду в твоем клоповнике век сидеть. Нет уж, уволь. Мне тоже в люди хочется. Вон, Фаньку позови, она тебе про советскую власть все и объяснит. Личным примером.
Про встречи с товарищем Кац Бричкин больше не помышлял, потому что с ней все было ясно. Избави Бог с привидением амуры крутить.
Поэтому выбрал Филофей объектом своих призывов Волчакова Евгения Ивановича, который служил в Окоянове сначала комсомольским вожаком, потом партийным секретарем, а в тридцать девятом сгинул на финской войне командиром роты. Отзывы о нем сохранялись неплохие. Он был из местных, самородок, не самодур какой. К людям относился по-человечески, хотя всю трудную пору коллективизации был начальством, а значит, причастен. Филофей даже предполагал, что если Волчаков избежал участия в разгроме Церкви, то может, ему грехи и простились. Бричкин стал ежедневно класть поклоны киоту, который соорудил в своем углу, и просить о явлении Волчакова. Это продолжалось долго, но в числе немногих недостатков Филофея Никитича следует упомянуть его настырность. Он принадлежал к той самой породе мужичков, о которых поэт сказал: «Втемяшится ему в башку какая блажь – колом ее оттудова не вышибешь». Допросился все-таки Филофей. Однажды вечером после молитвы в углу помещения образовалось светлое пятно, в котором можно было различить контуры Волчакова.
Волчаков недавно вернулся из мест отбытия наказания и выглядел человеком робким и осмотрительным. Если, конечно, видение можно назвать человеком.
– Я только потому прощение заслужил, что людям добра желал. Без притворства. Поэтому так и вышло. Получил свое за раскулачивание и теперь душа моя свободна. Слава Богу! К тому, конечно, добавить надо, что я никогда с верой не рвал, был тайноверующим. Тогда у нас в аппарате такие встречались. И дочку свою тайно окрестил, а потом, когда тридцать седьмой год настал и погрузились мы в каждодневный страх, тайно с супругой обвенчался. Чтобы, значит, если заберут, любовь не остывала. Вот такие дела, Филофей Никитич.
– Я у Вас главное спросить хочу, Евгений Иванович, Вы о своей судьбе не жалеете, правильное дело делали?
– Какое же правильное, если из-за него столько каяться пришлось! Тогда всенародный обман вышел. Люди хотели одного, а фактически строили другое. И я в этом участвовал.
– Я в ту пору еще мальчишкой был, не пойму, о чем Вы говорите.
– Тогда давайте вспоминать. Россия вся сплошь крестьянской была, правильно?
– Да, вокруг Окоянова множество густонаселенных пунктов числилось. Верно.
– А какую крестьянин в себе мечту нес? Чтобы у него земля была, чтобы с бедой всем миром справляться, и чтобы в Кремле справедливый правитель сидел. Вот такой крестьянин дал бы нам в достатке хлеба, родил бы новых Ломоносовых и главное – был бы опорой власти. Придет беда – сядет на голодный паек, но страну спасет. Налетит враг – возьмет оружие и врага победит. Прав я?
– Вы просто как домовой Чавкунов рассуждаете. Про двуединую Россию.
– Михаил Захарович зрит в корень, хотя идеализирует. Во все времена между властью и народом были трещины. Не зря мужички на Дон бежали, на волю. Но мы говорим о мужицкой мечте. Давайте разбираться. Землю мужику дали? Нет. Изобрели коллективную собственность. Колхозы. Мужицкой общине хоть какие-то права дали? Нет. Изобрели фиктивные сельские советы. В Кремле справедливый правитель сидел? Нет. По отношению к мужику ни один советский вождь не был справедливым. Ленин считал мужика реакционным, Сталин видел в нем материал для строек века, а послевоенные вожди, хоть и были человечнее, того, что мужик заслужил, так ему и не воздали. Он был и есть самый обделенный гражданин нашей страны. А я в этой несправедливости участвовал.
– А что Вы о будущем можете сказать?
– Будущее нам приоткрывается, это верно. Души усопших Реку Времени с высоты лучше видят. Только мы не можем об этом земным людям сообщать. В православии всегда есть несколько живущих на земле праведников, которые это будущее тоже видят. Они могут власть предержащих об этом информировать, если те, конечно, пожелают. Но на этом все. Могу лишь по-знакомству сказать, что пока вы все неправильно делаете, а могли бы делать по-другому.
– Как это понять, если будущее уже предначертано?
– Река Времени только отражает лики будущего. А Человеку дано их изменять. Начнете сегодня по другому действовать – и лик будущего изменится.
– Скажи, ради Бога, в чем главная ошибка?
– Правители ваши обезьянничают с Запада. А русский народ не обезьяна, в нем Божьей Благодати больше, чем в любом другом. Погибнете вы, если вас на обезьяний поводок посадят.
– А быть-то как же? Ведь мы всегда за нашими вождями идем. Как они скажут, так и делаем.
– Тут удивительного ничего нет. Народ сегодня безрассуден, потому что разрушена мистическая связь между ним и Господом, которая передавалась через веру. Ведь все, что общество делало до того, как его одолели демоны революции, лежало внутри самодержавно-православного созерцания. Никто не сомневался, что «царь поступает правильно», потому что его действия идут от Божьего помысла. От этого и выходила общественная стабильность. За исключением, конечно, редких народных бунтов, которые имели свою причину.
– Как же интересно Вас слушать! И что за причины имели народные войны?
– Прошу не передергивать, Филофей Никитич. То были большие разбойные бунты. А войнами их назвали советские историки. Но это натяжка.
– Так уж и так?
– Так, так. Вы же знаете, что война является продолжением политики иными средствами. Ну и какую политику вел Степан Разин до того, как поднял донских казаков на бунт? Не было такого политика. А был знаменитый ушкуйник, грабитель, которому захотелось большой власти. Кого он повел за собой? Казаков, сбежавших от господ на Дон, надышавшихся духом авантюризма. Кто к нему пристал? Крепостные, грабившее все, что под руку попадет. У разинщины вообще никаких политических целей не было. Но это было очень опасное явление для русской души. Бесовщина.
– А я думал, протест против крепостничества.
– Думать можно все, что угодно. А вот задумывались Вы над тем, почему разинщина была такой кровавой? Ведь море крови текло.
– Ну, вырвался мужик из ярма и пошел все крушить направо-налево от накопившейся ярости.
– Объяснение логичное. А теперь вообразите себя крепостным рабом помещика Засыпкина. Вот заслышали Вы о приближении разинских отрядов, схватили вилы и помчались со своим мучителем расправляться. Ворвались в дом, замахнулись вилами на помещика, а тут жена его телом закрыла. Воткнули Вы вилы в женщину, затем в подвернувшуюся их дочь и закончили тем, что умертвили малолетнего сына. Случалось такое во время бунтов?
– Случалось. Правда.
– Это не бесы мужиками владели?
– Да, безвинных тоже убивали почем зря.
– Вот о чем я и говорю. Русскому человеку огромное обязательство Господом было даровано – хранить в себе совесть перед Богом. И стоит только ему эту обязанность с себя добровольно снять, как его с особой лютостью запрягают бесы. Точно также, как при Разине или Пугачеве, они запрягли русскую душу и в семнадцатом году. И он развел зверство теперь уже в масштабе всей империи. А Вы говорите, народные войны… Так что неправильно будет представлять эти бунты как народные войны, неправильно. Крови они пролили много, это так. Но были они ограничены по времени и пространству и всерьез связь самодержавия и народа все-таки не порушили. Настоящий подрыв шел с Запада, и начался он с петровских реформ. Они сильно по народной привязанности к самодержцу ударили. Впервые за все века самодержавия среди русского люда стало ходить поверье, что царь – черт. С петровщины все началось, а уж позже дальше пошло, но Вы об этом не хуже меня знаете. В прошлом веке европейский дух не только на дворян, он и на других жителей стал распространяться. Он и революцию принес, а уж что теперь принесет, лучше не загадывать.
– Но как же без него? Ведь мы с Европой-то рядом, мы – ее часть!
– Вот именно, что часть! Только у нас и свое есть, да еще какое свое! А ваши новые вожди не хотят понимать, что русский дух с немецким не сроднится. Они ведь очень разные. Им надо отдельно существовать и при этом добрососедствовать.
24. За «джетом» пошли
У «Джета» все складывалось великолепно. Англичане окружили его заботой и работали очень конспиративно. Бояться было нечего. Личные встречи случались редко, да и то, большей частью за границей. Как член «команды Павлова», Ежик постоянно имел загранпаспорт и ему не составляло особого труда устроить себе приглашение за рубеж. Кроме того, неподалеку от дачи папика резидентура подобрала несколько тайничков, которые можно было обрабатывать в любое время года. Хочешь, под видом грибника, хочешь – лыжника, хочешь – просто гуляющего фраера. Помимо этого, в его квартире стояла специальная быстродействующая рация, работать на которой он пока только учился. В общем, все было бы хорошо, если бы не жесткая требовательность кураторов из СИС. С ними Ежик на практике осваивал непреклонную марксистскую формулу «товар-деньги-товар». Он ощущал себя втянутым в беспощадный конвейер, на котором получение платы за уже переданную информацию увязывалось с получением платы за еще не переданную информацию. Один срыв, и Вы получаете укороченный паек в следующий раз, и вам также могут сообщить об обрезании счета за прошлый раз. Кроме того, «Джет» не переставал удивляться скупердяйству англичан, заведших амбарную книгу на каждый его чих. Когда Евгений подсчитывал свои капиталы, он с разочарованием обнаруживал, что растут они очень неспешно. При таких темпах сорваться в пампасы и зажить жизнью настоящего небедного плейбоя можно будет не ранее, чем лет через пять. Эта мысль напрягала его, хотя, честно говоря, признаков опасности он не видел.
Гром грянул среди ясного неба и поверг Ежикова в натуральную панику. На беззаботном и чистеньком Успенском шоссе, где скульптуры мишек и оленей ублажают усталый взор пассажиров правительственных лимузинов, он обратил внимание на синий «жигуленок», который, кажется, мелькал позади еще на Кутузовском проспекте. «Жигули», как привязанные, следовали за ним, пристраиваясь к его скорости и маневрам. Евгений ощутил в животе неприятный холодок. Проезжая по Жуковке, он резко свернул к овощному рынку и затормозил. Его преследователь проскочил мимо и припарковался чуть дальше, у дорожного ресторана. Дрожащими руками Ежик повернул ключ зажигания, и вместо того, чтобы поехать на Николину Гору, где стояла родительская дача, на развилке свернул налево, на Перхушково и стал менять направления, уже не заботясь о том, чтобы маршрут выглядел логичным. Голубая машина позади больше не появлялась, но Евгений чувствовал наружку, потому что сзади постоянно кто-то маячил. «Тебе кажется, – уговаривал себя «Джет», – не может же этот «пазик» быть чекистским. Не машина, а хлам какой-то. И этот, который теперь на «хвосте» висит – «запорожец», от него уйти – раз плюнуть». Наконец позади никого не осталось и, проехав еще некоторое время, «Джет» начал успокаиваться. В возможность наблюдения за собой со спутника он не верил, как, впрочем, и в шапки-невидимки. Он решил, что наружка померещилась со страха и с облегчением развернул машину, чтобы ехать назад, на дачу. Однако стоило ему повернуть за крутой изгиб дороги, как он увидел, что на боковую лесную тропу неуклюже скатываются синие «Жигули», видно, не ждавшие от него такого кульбита, а «запорожец», давно пропавший из вида, снова едет ему навстречу. «Твою мать, – мелькнуло в голове Ежикова, – да это же те машины. Точно, те. Как быть?»
«Джет» добрался до дачи в полуобморочном состоянии, плохо соображая, что делает. Он бросил машину, не выключая мотора, выхватил из холодильника бутылку виски, лихорадочно выпил стакан и встал под душ, в надежде придти в себя. Страх оказался так силен, что рассудок Ежикова был не в состоянии реально оценить степень угрозы. Чекистская тень выросла до небес, заслонив собою белый свет, а неизбежность расплаты казалась делом решенным. Всю ночь «Джет» не спал, пил рюмку за рюмкой, пытаясь выдавить из души навалившийся ужас. Жизнь, еще вчера светившая полоской неба над Лондоном, сегодня превратилась в могильный мрак. Он знал, что от КГБ не уходят. «Вот и все твои приключения, Женя, – говорил он себе, – вот и все. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Быстро же ты погорел, быстро. Ничего не успел, ни всласть пожить, ни мир посмотреть, ни деньгами пошвырять… Пропал ни за грош…». По лицу его катились пьяные слезы, из горла вырывались рыдания. Ежик праздновал труса, а может быть, все было сложнее. Может быть, вместе со страхом откуда-то из пионерских глубин его отрочества выползло и угрызение совести. Выползло и посыпало соль на рану.
На следующий день «Джет» не находил себе места. Он ушел с работы, сел в машину и стал накручивать по городу виражи в попытке провериться. Точнее, Ежик превратил езду в цирковое представление, которое только чудом не закончилось несчастным случаем. Он нарушал правила движения, ехал на красный свет светофора, поворачивал в запрещенных местах и разворачивался через две сплошные полосы. Если бы за ним была наружка, то она наверняка решила бы, что водитель находится либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении. Но никакой слежки он за собой не увидел и немного пришел в себя. Теперь появилась возможность хоть как-то выстроить мысли. Ежиков попытался проанализировать возможные причины провала, но у него ничего не получалось. Не было ничего подозрительного в его жизни вплоть до появления этих проклятых синих «Жигулей».
Промучившись бессонницей несколько ночей и посинев от постоянного пьянства, «Джет» вызвал Йенсена на экстренную встречу. Стив внимательно выслушал его и воспринял опасения агента со всей серьезностью. В воздухе над Москвой пахло грозой. Трехзначное ателье работало полным ходом, и по всему было видно, что грядут важные события. Как такие события отразятся на агентуре, трудно даже предположить. Поэтому Йенсен решил проверить, насколько верны опасения «Джета». Они разработали операцию по провоцированию наружки, если агент уже под контролем. В определенный день и час Ежиков позвонил из телефона-автомата неподалеку от Дома Правительства в английское консульство и произнес фразу, которая могла показаться подозрительной: «Простите, в Мурманске имеется британское консульство?», и сразу после этого поехал по обусловленному маршруту. В нескольких местах этого маршрута его проезд контролировал с закрытых позиций Йенсен. Места были подобраны в узких улочках, и если наружка есть, то деваться ей некуда. Она пойдет в «хвост». Маршрут был действительно очень неплохой, но Йенсен не знал, что практически весь центр Москвы в пределах Садового кольца контролировался скрытыми телекамерами и нужды в «хвосте» не было. Он ничего не заметил и послал агенту успокаивающий сигнал. Эта операция сыграла с СИС плохую шутку. Резидентура успокоилась и решила, что источник перестраховывается. А «Джет» продолжал чувствовать себя плохо. Его интуиция подавала сигналы опасности. Но несмотря на нервозное состояние агента, СИС напрягала его все больше и больше. Надвигался кризис, и англичанам были нужны документы по положению в руководстве страны. «Джет» исправно передавал то, что проходило через его руки, благо, режим секретности в аппарате премьера ослаб до немыслимых пределов. Словно вырвавшись с подачи Горбачева на волю, чиновники открыто игнорировали все прежние инструкции, проявляя таким образом свою преданность свободе и демократии. Каждый раз, копируя секретные документы, Ежиков умирал от страха, но отступать было некуда. Евгений по уши сидел в дерьме, и единственным путем для него теперь было – плыть потихоньку в сторону Альбиона – зарабатывать у новых хозяев хотя бы вид на жительство и содержание. Внутри у него было гадко. Не роль предателя его беспокоила, а роль простака, попавшегося на шпионскую удочку. Та жизнь, из которой он уже сбежал – жизнь легкая и светлая, с друзьями, непыльной работой, девчонками, молодыми развлечениями, все это было в прошлом. Теперь он жил во тьме и медленно брел навстречу слабенькой полоске света, которая мерцала на Западе. Но вот и эта полоска заволоклась сумерками. «Джет» чувствовал, что слежка за ним была не случайной. Что-то расклеилось в окружающем его мире, что-то стало не так. То взгляд идущего навстречу человека кажется слишком пристальным, то что-то защелкает в телефонной трубке, то бумаги в его портфеле поменяются местами, то соседи доложат о каком-то навязчивом визитере, приходившем в его отсутствие. «Меня засекли в Берлине, – пришел к выводу «Джет» после долгих раздумий. – До Берлина ничего подобного не было. Меня засекли в Берлине. Меня сдал кто-то в берлинской точке англичан. Иначе откуда? Кто ты, человек, который сдал меня? Посмотреть бы на тебя хоть одним глазом. Посмотреть, убедиться, что ты ничтожный и гнилой гаденыш. Еще хуже меня, еще ничтожней, чем я!» «Джет» возненавидел этого неизвестного предателя и посылал ему проклятья. О, как бы он хотел, что бы тот сдох и тем самым доказал, что был недостоин коптить белый свет, а он, Евгений Ежиков, еще поживет и докажет самому себе правоту собственного выбора. «Джет» не знал, что там, в Берлине, Джон Рочестер также вспоминает о нем. Ведь он взял на себя роль судьи неизвестного ему русского агента. С его подачи биография этого человека приобретет печальный оборот, а может быть, закончится раньше времени. Но Рочестер не жалел о сделанном. Он вырос в обществе, в котором за все принято платить, и понимал, что «Джет» заплатит лишь за то, что вполне заслужил. Точно также он рассматривал и себя. Да, он, Джон Рочестер, оказался врагом Ее Королевского Паскудства и сделал многое, чтобы не спускать этому Паскудству его деяний. Но и право Паскудства на месть он также не отрицал. Если он попадется, значит, будет платить за то, что попался.
А Ежикову становилось все хуже и хуже. Он не обладал бойцовским характером, и спокойствие покинуло его окончательно. Каждый его день превратился в пытку. Не проходило и вечера, чтобы Евгений не напивался и не устраивал в своей одинокой квартире или на даче такие же одинокие дебоши. Он мог в пьяном виде колотить посуду, срывать гардины, бросать из окна бутылки, переворачивать мебель. Едва ли это ему помогало, но он все-таки делал это, полагая, что снимает стресс.
Так было до тех пор, пока не случилась вечеринка с Семкой Соткиным и двумя привезенными Семкой приблудными девицами. Юджин договорился с приятелем, что тот приедет с девушками в субботу к нему на дачу, а в пятницу надрался до положения риз. Утром едва встал. В голове гудело, ноги и руки бил тремор, тошнило. Горячий душ ему не помог, завтрак не лез в рот, о спиртном не мог и помыслить – сразу появлялся рвотный спазм.
В таком состоянии он пробыл до тех пор, пока у ворот дачи не прогудел клаксон «Мерседеса», на котором приехал Соткин с «телками». Из машины вместе с приятелем выпорхнули две развеселые девицы, внешность которых не оставляла сомнений в их профессии. Впрочем, обе были стройны, миловидны и без сильных следов амортизации. Софи и Вика моментально освоились в новой обстановке и стали, щебеча, накрывать на стол, а Юджин с Семкой уединились в каминной комнате с бутылкой виски.
Евгений чуть не подавился первым глотком «Черного пешехода», но все же выпил вместе с Семкой, и тот быстренько рассказал о девицах, чтобы приятель знал, с кем имеет дело. Обе раньше были студентками, но лобки у них скакали впереди мозгов, поэтому пристрастились к красивой жизни и потихоньку съехали на ресторанную проституцию. Сейчас зарабатывают только этим, но себя берегут и на любого прохожего не западают. Ложатся только с солидными клиентами, рубят приличные бабки. Семен познакомился с ними неделю назад и переспал «втроем». Словил кайф и решил поделиться удовольствием с другом. Девчонки берут немного, всего по две сотни «зеленых» за ночь.
Рассказывая об этом, Семка поблескивал глазом, и Юджин вспомнил, что ходили упорные слухи о его баловстве с кокаином. Внезапная мысль прострелила Ежикова:
– Слушай, старик, у тебя случайно «кокса» нет?
– Ты что это, Ежик, как тебя понимать, в историю влип? Сифилис, долги, смертельная любовь? Такие вещи и без «кокса» лечатся, – с видимым напряжением и неестественной усмешкой ответил Семен. Он, скорее всего, побаивался открываться перед приятелем. Как бы это не разошлось по широкому кругу.
– Сема, позарез нужно, – понимая, что происходит с Соткиным, прошептал Юджин, – позарез, понимаешь. На душе полный аут. Дай одну дозу, я знаю, у тебя есть.
Семка помолчал, покрутил кучерявой головой. Потом медленно сказал:
– Только при одном условии: ни одна сука об этом знать не должна, усек? Иначе – кирдык.
– Сто процентов, – отвечал Юджин, покрываясь потом от нетерпения. Его уже радовала приближающаяся возможность освободиться от изматывающего страха.
Семен вытащил из своего портмоне маленький кожаный мешочек, развязал его. Достал крохотный бумажный конвертик и стеклянную трубочку. Аккуратно развернул конвертик и ручейком ссыпал белый порошок на полированный стол. Затем подал Юджину трубочку и сказал:
– «Кокс» чистейшей пробы. Получишь знатный приход. Знаешь, как делать?
– Видал в кино, – ответил Юджин. Он вставил один конец трубочки к ноздрю, нагнулся, поднес ее к порошку, зажал свободную ноздрю пальцем и потянул воздух. Поначалу ощутил проникновение в носоглотку какой-то легкой пыльцы, но тут же это ощущение прекратилось, а организм уже реагировал на возбудителя и начинал расслабляться. По телу пошла волна томного наслаждения. Юджину стало очень хорошо. Все существо его погружалось в теплое и острое состояние счастья. Все в мире превратилось в кайф, в нирвану. Сквозь этот сладкий туман проступали воспоминания о проблемах, и проблемы эти казались пустыми и смешными. А мир вокруг был удивительным, гармоничным, непостижимо прекрасным. Все было красивым: и этот восхитительный друг Сема Соткин, и эти девушки в соседней комнате, которых он будет любить всю ночь до зари. И этот роскошный ужин, за который они сейчас сядут. Как хорошо, как хорошо… А эти чекисты, Господи, мелкие уроды, кого он боялся? Со своим могучим папиком, со своей неуязвимостью, с кучей денег в банке «Ллойдс», кого он боялся? Ежиков захохотал, пружиной вскочил с кресла и, блестя лихорадочным взглядом, громко завопил: «Пора, пора за стол, друг мой. Клико уж бьет струей!»
25. Эхо путча
Жаркие дни уплыли за окаем леса до следующего года. Августовское солнце уже не блистало так ярко, как прежде, и дневной свет наполнился зрелой желтизной. Скоро осень, скоро осень… Сегодня у Звонаря был день отдыха. Он не принимал ходоков, набирался сил. Иван сидел в каталке на открытом воздухе и наблюдал, как природа тихонько готовится к холодам. Уже стали сбиваться в первые стайки перелетные птицы. Их молодняк играл в воздухе, гоняясь друг за другом, укреплял тело перед дальними путешествиями. Калина покрасила свои листья пурпурным узором и высветилась на опушке леса первым факелом надвигающегося пожара. Нет-нет, да и налетал с высоты прохладный ветер. Там, далеко вверху, где небо переходит из синевы в бирюзу и откуда видна вся земля, уже набирали силу холодные воздушные реки, чтобы совсем скоро начать свой спуск на притихшие леса.
Матвей вышел из огорода, где он убирал картошку и одновременно слушал свой транзистор. Сполоснул в ведре руки, сел на табурет рядом с Иваном.
– Ну, вот и дожили, Иван Александрович. В Москве переворот.
Иван оторвал глаза от лесных далей, очнулся от очарования природы и удивленно спросил:
– Что, уже?
Он всю ночь не спал, не мог оторваться от «Деяний Апостолов». В этой древней книге перед ним открывались те же человеческие страсти, те же подвиги и падения души, что и сегодня. Каков был взлет души этих простых людей, поднявшихся во всечеловеческий масштаб? Рыбаки, сборщик податей, врач, простые люди, проще некуда. И какая высота! Даже если бы какое-то гениальное сознание выдумало всю историю апостолов, то все равно, их деяния были бы книгой о величии человеческого духа. А, может быть, о способности человеческого духа стать духом святым.
– А ты что, знал о его приближении?
– Как тебе сказать, тревогу какую-то чувствовал, и тревога эта шла из столицы. Так что там случилось?
– В Москве начальство взбунтовалось, Горбачева объявили больным и танки в город ввели. Хотят порядок наводить.
– А кто заправляет-то всем?
– Все те же люди, что с Горбачевым работали. Председатель КГБ, министр внутренних дел, министр обороны, заместитель Горбачева.
– И что они хотят сделать? Грозят Горбачева под суд отдать или ликвидировать?
– Никто не знает, что они хотят сделать. И Горбачеву тоже ничего не обещают. Непонятное что-то происходит. А сбоку еще одна шайка суетится. Враг Горбачева, Борис Ельцин со товарищи. Эти народ вокруг себя собирают, кричат, мозги мутят, трубят о перевороте. Какой переворот, коли никого не арестовывают, от должности не отстраняют, никаких новых законов не вводят? Только Горбачева вроде на курорте заперли и все. Ждут чего-то, а чего – непонятно.
– Вон оно что. Похоже, это спектакль какой-то. Скоро поймем. Но страха у меня от этого нет, тошно только. Чую, по всей великой стране простым людям улучшения ждать не надо. Про Ельцина я мало знаю, но ощущаю в нем зверя, который к власти рвется. Этих заговорщиков он устранит, конечно. Только сам полезным не будет. Такие люди полезными не бывают. Похоже, если он сядет на трон, то страна застонет и заплачет. Помнишь описание Апокалипсиса, какие там чудовища явились? Вот тебе и явление первого чудовища.
– А чем же Горбачев не чудовище? Ведь такой беды со страной натворил.
– Ну, Горбачев характером помельче будет. Мерзкий он человек, грешный, изолгавшийся, но не изверг. А у Ельцина душу темные силы в клочья разорвали. Цельной души у него уже нет давно, а то, что вместо нее осталось, на доброту не способно. Он нашей боли не чувствует. Такой может бросить нас и в нужду, и в войну, и в саму смерть. От него надо ждать большую беду.
– Ты думаешь, народ стерпит его дела?
– Ты, Матвей, самый главный вопрос затронул. Будет злу сопротивление или нет? Я думаю, что не будет.
– Почему? Ведь бывали же на Руси народные войны и всякое такое.
– Это отдельный разговор, Матвей. Там свои причины были. А что сегодня требуется для протеста? В первую очередь, понимание каждым происходящего, а во-вторых – жажда сопротивления. Сегодня ни того, ни другого у нас в наличии не имеется. Разве каждый наш человек понимает, чем обернется крушение социализма? Нет, конечно. А то – как же! Тюрьма народов, сталинская империя и так далее. Оболванили нашего с тобой человека. Но даже если бы люди понимали эту беду, все равно, я с их стороны никакой борьбы не стал бы ждать. Потому что души опустошены непросветной ложью на советскую власть. Шесть лет подряд им вбивают в голову, что строй был плохой, страна была плохая и они сами тоже никудышные.
– Нет, нет, Иван. Против этих гнусных идей в народе обязательно зародится протест. Не может быть иначе, не может быть!
– То, что зародится, лучше назвать горечью, а не протестом, Матвей. Вот сидит он, этот русский человек, и думает: «Что же не везет-то нам так? Что за неудачники мы в этой жизни?» А разобраться в том, что его дурят, он не сможет. Шкалы ценностей нет.
– Системного зрения?
– Системное зрение – вещь, конечно, приятная. Но дело – в вере.
Откуда у человека возникает понимание зла и желание его победить? Только от веры. Он же Христовы заповеди не просто знает, он их сердцем вобрал. А зло, оно против заповедей, оно ему на сердце наступает, поэтому он его сразу распознает, и в нем начинают бить родники гнева. Родники праведного гнева, Матвей! Он не может по-другому, как только следовать примеру Спасителя, который против зла выступал бесстрашно. Вот если бы в русской душе это свойство сохранилось, то не было бы ни большевиков, ни Горбачева, ни Ельцина.
– Эх, Иван Александрович! На такую веру только праведники способны. А простой народ, будь он с Богом в душе или нет, всю жизнь между злом и добром путается. Для рядового человека бесстрашная вера не свойственна.
– Ну тогда давай, дружок мой золотой, вспомним времена Великого Раскола. Сколько сотен тысяч людей от мала до велика шли на любые испытания и принимали страшную смерть ради «правильной веры»? Ты читал «Жития протопопа Аввакума»? Почитай, они тебя опалят! Такой в них накал, такие страсти, такая самоотверженность, что аж дух захватывает. Это был подъем огромных масс людей, ведомых верой. Они различали «неправду» и отвергали ее с бесстрашным гневом. Потому что в ту пору православная вера была основой жизни каждого.
– Я так думаю, что эта история очень похожа на эпизод из религиозных войн, которые случались не только в России. В ту эпоху фанатичные верующие почем зря лишали друг друга жизни.
– Раскол – это особая статья. Не будем в нее углубляться. Я только для того о нем вспомнил, чтобы показать, на какой подвиг способна верующая душа простого человека, различившая «зло». Сегодня русский человек это качество утратил. Защититься от военного нападения он еще сможет, это вопрос прямого выживания. А разобраться с более сложными делами, с тем же Ельциным, он не в состоянии. Нету в душе настоящей шкалы ценностей, и нет родника праведного гнева. Поэтому нас ждут большие испытания. Вокруг Ельцина обязательно соберется бесовский выводок. Бесы всегда сбиваются в кучу вокруг упыря. И беды этот выводок наделает неимоверной. Но наш человек очень долго не будет видеть очевидных вещей. Самого откровенного беснования он не увидит, Матвей, и будет терпеть издевательства. Наверное, таких издевательств не потерпел бы ни один другой народ. А наш будет терпеть. Это цена утраты веры.
* * *
«Джет» оказался для англичан неплохим агентом. Главным его качеством было полное отсутствие каких-либо моральных мучений, не говоря уже о чувстве раскаяния, которое частенько посещает русскую агентуру. В СИС читается специальный курс по вербовке источников из числа этнических русских в силу того, что они обладают особой, ни на кого не похожей типологией поведения. Одной из основных особенностей русских является их неполная адаптация к европейской духовной культуре, что зачастую создает неверные представления о движущих ими мотивах. Если вербовщик исходит из того, что перед ним находится европеец русской национальности, вполне разделяющий с ним все западные ценности, и лишь слегка покалеченный коммунизмом, то он ошибается. При всей склонности жадно потреблять то, что представлено на Западе в материальном и духовном виде, этот тип остается самим собой, и на дне его души могут затаиться совсем другие истоки поведения. Поэтому вербовщику следует в первую очередь внимательно изучить такие стороны характера своего объекта вербовки, как:
– возможные остатки великорусского шовинизма и национализма, выражающиеся в том, что объект может считать себя представителем особой нации. Эта особенность, по мнению русских, заключаются в их неотмирности (не от мира сего), творческом таланте, способности сливаться в одну общность перед национальными угрозами и неспособности атомизироваться, то есть, превращаться в независимых индивидов без чувства долга по отношению к общности.
– Наличие рудиментов особого русского патриотизма, который воспитывается на догмах полного самопожертвования и самоотречения. На этот случай вербовщик должен иметь на вооружении несколько циничных комментариев, развеивающих русские патриотические мифы. Пособие по вербовке рекомендует, например, напоминать, что конец татаро-монгольского ига не имеет отношения к борьбе русских княжеств против завоевателей, а Куликовская битва ничего не дала. Золотая Орда распалась из-за внутренних противоречий.
Кроме того, победа во Второй мировой войне, которой так гордятся русские, должна преподноситься как победа всей коалиции, с указанием на то, что без американских поставок по лендлизу решающие битвы на территории СССР не были бы выиграны.
– Склонность объекта вербовки к разрыву отношений по моральным соображениям. В зависимости от хода вербовки, реакция на такую склонность может быть самой различной. При надежной закрепленности отношений рекомендуется предъявлять к объекту жесткую требовательность, что зачастую охлаждает его сантименты.
В пособии дается еще ряд ценных рекомендаций, о которых Юджин, конечно, не догадывался. Он-то, как раз, оказался для СИС находкой, потому что никаких особых трудностей в работе с ним не наблюдалось. Парень вырос в семье партийного функционера, с молодых лет усмотревшего в борьбе за дело коммунизма неплохую кормушку, и Ежик изо дня в день брал с него пример. Циничное и глумливое отношение ко всему тому, что заставляло сверстников умирать в Афганистане, пропитало его душу с детского возраста. Единственным, по-настоящему сдерживающим фактором в поведении «Джета», был страх перед КГБ. Словно раненый зверь, предчувствующий гибель, контрразведка работала четко, быстро и оперативно. Эти внуки Дзержинского словно не осознавали низвергающийся на них водопад помоев из демократической прессы. Комитет сжался в стальную пружину, способную распрямиться в смертельном ударе, и Ежик нутром воспринимал исходящую от него опасность. Когда ручеек документов из секретариата премьера стал устойчивым и благодатным, «Джет» поставил перед шефами вопрос об улучшении конспирации. Он очень хотел выжить в этом опасном приключении и рассчитывал однажды допрыгнуть живым до своего счета в банке «Ллойдс».
В результате договорились о работе через тайники в пригородной зоне. Для более оперативного управления агентом, что практически невозможно на одних тайниковых операциях, ему была передана аппаратура ближней радиосвязи. Она выглядела как переносный кассетник «Панасоник». На самом же деле в ней имелось приемо-передающее устройство быстрого действия, или БАРС (быстродействующая агентурная радиосвязь). Ежикову было достаточно начитать на магнитофон устное цифровое сообщение и оставить прибор неподалеку от окна. Проезжавший мимо его дома сотрудник британской резидентуры дистанционно включал его, и сообщение в течение одной секунды уходило на его приемник. В этот же сеанс получал указания и «Джет». Переговоры шифровались цифровым кодом, который агент обрабатывал с помощью специальной таблицы. Весь этот метод был не нов, но англичане не спешили с нововведениями. Резидентура ЦРУ, начавшая массированно вводить в систему связи с агентами только что появившиеся лэп-топы, потеряла на этом деле трех источников, потому что КГБ оказалось проще перехватывать «выстрелы», идущие на эти компьютеры по телефонным проводам, чем радиовыстрелы слабой мощности, которые можно уловить в пределах только трехсот метров. Правда, здесь СИС недооценивала возможности КГБ. В рамках одного из управлений этого ведомства уже успешно действовало подразделение по борьбе с БАРСами. Оно нашло способ улавливать слабые сигналы, и выявление активной работы в эфире неподалеку от дома Ежика было только делом времени.
Когда у «Джета» начался кризис, англичане встали в тупик. Это было удивительно, ведь именно сейчас, в момент ареста председателя КГБ Крючкова, можно было вздохнуть спокойнее. Но агент стал давать сбои в работе. Он требовал от Стива личных встреч, что само по себе уже стало редкостью. Резидентура не хотела в этой мутной воде выходить на операцию и ждала удобного момента. Агент слал по радиосвязи панические сообщения, но точка не реагировала до тех пор, пока не представился случай пригласить Ежикова на прием к Джону Салему. Разговор оказался на редкость трудным, и Йенсену пришлось применить те рекомендации, которые он когда-то почерпнул в наставлении к работе с русской агентурой.
После обычного подведения итогов и взаимных похвал, «Джет» вдруг заявил, что намерен прекратить сотрудничество, отчалить в Лондон и получить там заслуженные деньги. Йенсен был просто застигнут врасплох. Кризис в Москве набирал силу, Горбачев еще цеплялся за власть, и требовались дополнительные меры, чтобы сбросить его. Агентурная информация была нужна как кислород. Благо, что после ареста членов ГКЧП, расформированию подверглись лишь высшие органы возглавлявшихся ими ведомств, а большинство чиновников осталось на своих местах. Сохранил свое положение и «Джет». Он был нужен СИС именно в этом качестве.
– Позволь, дружище, как тебя понять? Железного Феликса с петлей на шее вынули из центра Москвы и бросили на какую-то свалку, а ты заболел страхом. Может быть, я неправильно тебя понял?
– Ты неправильно понимаешь происходящее в нашей стране, Стив. Точнее говоря, то, что сейчас творится в головах у людей. Представь себе контрразведчика, которому наплевали в душу за то, что он исполнял свой долг. В сейф к этому контрразведчику лезут всякие горлохваты, вроде попа-расстриги Глеба Якунина. Что он сделает? Первым делом припрячет от якуниных то, что поважнее. А потом что? Потом, дорогой Стив, может сработать чисто русский вариант. Вот пока КГБ был в порядке, я мог дышать спокойно. Меня надо было выявить, собрать доказательства и отдать под суд. А суд наш, перестроечный, меня, может быть, даже и оправдал бы. Теперь же этот контрразведчик запросто решит использовать эти материалы самостоятельно. А что он сделает самостоятельно? Он подкараулит меня в темном переулке и пробьет голову кастетом. Это в его глазах теперь единственный способ Правосудия. Я как-то не в восторге от такого варианта и прошу обо мне позаботиться.
– Но с чего ты решил, что в КГБ имеются подозрения в отношении тебя?
– В этом я убежден. За мной наблюдают. Сначала я думал, что мне кажется, но потом понял, что это правда. И потом, ты же знаешь, я видел наружку.
– Как ты мог выявить наружку? Меня этому обучали специально, и то я не всегда ее вижу. Они работают превосходно.
– Когда у тебя образуется жажда жить, ты ее очень хорошо выявишь. Я уезжал за город на своей машине, в дачные районы. Там было совершенно пусто. Я поверялся как черт, очень грубо, разворачивался посреди дороги, ехал назад и распутал все их построения. Это точно была наружка. Я в опасности. Ты должен меня спасать.
– Послушай, но это было до путча. Сейчас их зажали, они практически не работают, чего ты боишься?
– Я как раз того и боюсь, что меня кто-то сдал и они знают о том, на кого я работаю. Это началось после нашей встречи в Берлине. Меня кто-то сдал в Берлине, Стив. Ты ничего не думаешь по этому поводу?
Йенсен сразу вспомнил свой разговор с Рочестером. Джон видел агента. А если это он сдал его русским?
Сов. секретно
Лондон
Генеральному Директору лично
Агент «Джет» сообщает о признаках попадания под контроль противника. По его мнению, наблюдение за ним началось после его возвращения из Берлина, где с ним проводил встречу Стив Йенсен. «Джет» считает, что именно в Берлине произошла утечка информации о нем. У нас нет достаточных данных судить о причине взятия агента под контроль КГБ, но мы доверяем его чутью и полагаем, что его опасения обоснованы. В целях облегчения анализа ситуации сообщаем, что мероприятие в Берлине обеспечивал сотрудник Джон Рочестер, а телеграмму по результатам встречи обрабатывал шифровальщик берлинской резидентуры Крис Игл. О причастности каких-либо других сотрудников берлинской резидентуры к делу «Джета» нам неизвестно. Москва.
Резидент СИС Джон Скарлетт
Резолюция Генерального Директора. Оперативному директору Лесли Хеддоку: «Прошу начать оперативное расследование по сигналу».
Лесли Хеддок повидал в жизни всякого. Он работал в разведке уже тридцать лет и на его глазах русские много раз радовали британских коллег неожиданными сюрпризами. Самым веселым их номером был побег Джоржа Блейка из лучшей английской тюрьмы в 1965 году. Эта свинья Блейк, который сейчас процветает в Москве, женившись на русской красавице, был арестован в результате предательства одного поляка. Но натворить успел немало. Достаточно только того, что благодаря его измене англичане и американцы много лет подряд принимали за чистую монету все, что русские гнали по секретным кабелям из Москвы в Берлин и Вену. Они снимали с этих проводов информацию и каждый день писали совершенно секретные сводки о переговорах русских начальников. Сколько повышений, орденов и других трофеев было получено тогда героями СИС и ЦРУ! А свинья Блейк все сдал Советам. Те гнали по кабелям туфту и до судорог обхохатывались над бывшими союзниками. Еще бы им не ржать, ведь наши Джеймсы Бонды несколько месяцев на карачках копали туннели до этих проклятых проводов. Граф Монте Кристо в сравнении с ними был бы просто никчемным бездельником. Короче говоря, до сих пор в голове не укладывается, каким образом русские сумели организовать побег Блейка из этой тюрьмы. В голове не укладывается, а он, свинья, процветает себе сейчас в Москве в объятьях молоденькой красавицы, фотографии которой лучше не вспоминать перед возвращением домой к своей костлявой мегере. При одном взгляде на нее хочется завыть волком и сделать что-нибудь очень скверное.
Короче говоря, Лесли и не подумал начинать расследование прямо с берлинской резидентуры СИС. Это еще успеется. Для начала он попросил к себе консультанта по русской идеологии (надо же такое выдумать!) Олега Гордиевского. В Англии проживало несколько перебежчиков из КГБ, и все они находились под опекой СИС. Публика эта была крайне скандальная. Особенно выделялся единственный русский по национальности Лялин, сбежавший к англичанам с секретаршей торгпредства. Парочка эта была из рук вон веселой. И хотя им купили виллу на берегу моря и назначили неплохое содержание, Лялин постоянно демонстрировал, что такое русский запойный пьянчуга. Его выступления выливались в цепь скандалов, драк и дебошей в полиции. Подружка же его, смотревшая на мир через прицел между ногами, путалась с кем попало, в том числе и с кураторами из СИС. Кураторы, передававшие дамочку из рук в руки, рассказывали сказки о ее навыках, неизвестных английским леди. Все остальные перебежчики были либо чистокровными украинцами, либо замесью еврейской и украинской крови. Эти страдали от удушения жабой, и Лесли искренне просил своего англиканского бога не посылать ему больше подобных типов, потому что бюджет СИС их аппетитов не выдержит. Единственным нормальным человеком во всей кампании был Гордиевский. Он не проявлял склонности к алкоголизму и депрессии, нашел себе сожительницу-англичанку и ровненько так, без зигзагов, шел своей дорогой. Поэтому СИС сочла возможным аккредитовать его в качестве сотрудника по контракту для консультаций по русским делам.
У Лесли не было сомнений, кто в берлинской резидентуре должен попасть под подозрение в первую очередь. Это был Джон Рочестер. Первый сигнал на него прошел в ту пору, когда готовилась война против Ирака. Тогда не сумели раскопать, откуда у русских появилась информация о проводившихся акциях влияния. Подозрения ведь всегда в первую очередь падают на агентуру. И в тот раз тоже закрались сомнения в отношении честности агента «Ходжи», с которым работал Рочестер. Иракца допрашивали, крутили на полиграфе, подслушивали и подглядывали, но утечки от него в сторону КГБ не выявили. В конце концов, проверку закрыли. В акциях участвовало достаточно много людей, и просветить всю пирамиду оказалось затруднительным. Теперь же, когда на Рочестера поступило второе указание, то решение было принято без промедлений. В разведке двух указаний более, чем достаточно.
– Олег, если у нас появились подозрения, что один из наших сотрудников в заграничной точке имеет конспиративный контакт с советским разведчиком, чтобы Вы посоветовали в качестве методологической основы?
– Мистер Хеддок, все зависит от резидентуры. Согласитесь, какова страна, таковы и возможности проверки. Ведь именно о проверке пойдет речь, или я не прав?
– Да, вы правы. Нам нужно поверить, имеется ли действительно у нашего сотрудника связь с русскими.
– А он работал по русским или у него другие задачи?
– Задачи другие, советскую резидентуру он не разрабатывал, и на его учетах лишь несколько случайных контактов с русскими во время официальных мероприятий.
– Значит, у него нет возможности прикрыть связь с советским разведчиком рабочим материалом. Это уже хорошо. Можно думать о проверке. А у Вас есть предположения, с кем конкретно он может поддерживать связь? Ведь здесь многое зависит от личности русского. Если это неопытный мальчик – это одно, если это старый ас – совсем другое.
– Мы исходим из общего предположения, что это опытный человек.
– Ну, что я могу сказать? Я бы предложил ни в коем случае не заниматься проверкой технического плана: копание в вещах, просмотр записей и так далее. Парни из ПГУ большие мастера в постановке всяких незримых ловушек, и Вы влипнете, не успев приступить к делу.
– Приведите пример.
– Например, Вы захотите забраться в письменный стол в к подозреваемому, в надежде, что обнаружите там какие-то улики. Скорее всего, Вас ожидает два результата. Во-первых, никаких улик вы не найдете, а во-вторых, весьма вероятно, что он узнает о вашем визите, потому что поставить метку сегодня – плевое дело. У русских очень развита техническая база и они далеко впереди вас всех. Пока ваши джеймсы бонды совершают чудеса в кино, они научились выявлять маршруты интересующих их людей с помощью спецхимии, записывать разговоры на большом расстоянии и выявлять наблюдение там, где оно чувствует себя в полной безопасности.
– Хорошо, если мы не будем брать подозреваемого под колпак, то каким образом мы найдем признаки предательства?
– Только провокацией. Надо поместить его в такую ситуацию, чтобы он забеспокоился и попытался выйти на связь со своим русским партнером. Если дело происходит в дружеской и цивилизованной стране, то нужно привлекать местную контрразведку, чтобы она большими силами обставила его и он вышел на встречу, не заметив наблюдения. Тогда Вам уже не надо будет никаких обысков его гардероба. Так ведь? Конспиративная встреча с русским разведчиком дает вам возможность возбуждать судебное дело и вести расследование, от справедливости которого непросто будет уйти. Ну, а каким образом поместить англичанина в состояние сильного беспокойства, я думаю, Вам знать лучше, чем мне.
26. Альфа и Омега
В тот день, когда Президент России Борис Ельцин подписал указ о запрете КПСС, Збигнев Жабиньский был вызван к Президенту Бушу. Президент сидел в Овальном кабинете в окружении своих ближайших соратников – госсекретаря Джейса Бейкера и директора ЦРУ Уильяма Вебстера. Обсуждали положение в СССР. В комнате витало радостное настроение. Там, в Москве, все складывалось наилучшим образом.
– Заходи, заходи, старый друг! – приветствовал Жабиньского Джорж Буш. – Ты слышал, что мистер Бен запретил партию коммунистов? Каково!? Это надо вспрыснуть!
Коллективные выпивки в Овальном кабинете были большой редкостью. Такого не водилось ни при одном президенте. Правда, в одиночку или в узком кругу кое-то из хозяев Белого дома, бывало, грешил. Особенно Ричард Никсон, слабоватый до спиртного… Но тут случай особый. На столе появились бутылки с виски и джином, содовая, орешки. Читателю, который, может быть, едва помнит запрет КПСС в нашей недавней истории, покажется удивительной непомерная радость главных людей большого американского народа. Неужели это такое великое событие? Ну, опростоволосилась советская ведущая и направляющая сила, ну, запретили ее. Всем все ясно. Чего особенно веселиться-то? Однако посмотрим на это дело с изнанки. Ведь никто не отрицает, что во всем есть светлая и темная сторона. Так что же такого интересного кроется на темной стороне КПСС, какие твари копошатся в темноте, не бесы ли это? И точно, бесы! Это они, хвостатые, ее породили в ту пору, когда принялись столп самодержавия раскачивать. Вообще-то задумка у них давняя была! Еще в ту пору, как объявили Русь Третьим Римом, после крушения Византии, они за нас взялись: ах, вы – Третий Рим, вы – оплот мирового Православия, вы – бастион Вашего Бога!? Ну, держитесь! И стали раскачивать. Долго потели, но своего постепенно добивались. Очень хотели царей согнать и устроить в лапотном Третьем Риме один большой каганат, да такой, чтобы ни одна свинья больше о бастионе их Бога хрюкнуть не посмела! В пособники дураков и мерзавцев навербовали. Дураки верили, что вместе с бесами царство свободы построят, а мерзавцы тоже власти хотели, как и сами рогато-хвостатые. Но дело шло с трудом. Стоял Третий Рим, скрипел, но стоял. Стоял до тех пор, пока они не смекнули: мало только над самодержавием глумиться, мало «свободой, равенством и братством» мужику башку дурить. Тупой он, не понимает, о какой радости ему говорят. Надо по-другому мужика на свою сторону приманивать. А чем его приманишь? Известное дело, обещаниями. Про землю и про свободу. Тут по случаю еще и обещание про мир подвернулось. С землей получилось, мужик до земли очень слаб. Приманили его, на столп науськали, да и опрокинули это самое самодержавие. А потом сказали, что про землю и свободу наврали. И чтобы мужик правильно этому делу обрадовался, стали его душить. Короче, все по плану, одна радость, да и все. Оттянулась нечисть в те славные времена по полной разметке. Сколько храмов повзрывали, сколько душ сгубили, сколько икон пожгли и в нужниках утопили – не счесть, не оплакать. А какие адовы печи запылали! К примеру, в Донском монастыре крематорий из года в год денно и нощно трупы заглатывал, кои чекисты обозами подвозили. Все как в преисподней! Сколько их тогда по Третьему Риму чадило, таких крематориев! Вот так лапотным наследникам Иисуса бесы мстили.
Но народ, особенно русский, он тупой, как пробка. Ему прямо в лицо говорят: мы твоего Бога и твоих святых уничтожаем. А он вместо того, чтобы за топор, или «… как же можно…!» в бесовскую партию вступает. Вступает и вступает, и никто из бесов ничего не может понять. Тут тогдашний временно исполняющий обязанности Сатаны по России и соседним районам, грузин один усатый, тревогу забил. Пропорция бесов в партии, понимаете ли, стала резко падать. Ввели квоту, а кривая все равно вниз идет. Появились организации, в которых бесов совсем не представлено. В этих ячейках на полном серьезе стали светлое будущее строить! Вот ведь что мужик удумал! Я, говорит, поддержу царство свободы обеими трудовыми руками и войду в вашу партию, чтобы спокойно себя чувствовать. И просто жутко разбавил собой стройные ряды нечисти. Тут Усатый стал быстро пропорцию подравнивать, чтобы, как говориться, контроль не потерять. Немало он всяких больших и мелких членов в могилки положил, только ведь народ не подравняешь. Он сам кого хочешь подравняет. Короче говоря, чем дальше, тем меньше бесовщины в бесовской шарашке, а тут еще война случилась, ну просто стало партии от нее светлеть. А потом и самого Усатого рука ближайших соратников прибрала, таких же хвостатых, как и он сам. Устроили они ему апоплексический пинок на тот свет. Бесы, что с них возьмешь. Ну, а после того, как Усатый окочурился, в России полный бардак начался. Мужики бесов погнали в шею. Кого в лагеря, кого на пенсию, кого к его чертовой матери – можно сказать, ни одному убийце или садисту под руководящим столом спрятаться не удалось. Разве не обидно! Такая сила, придуманная для совсем других целей и уже натворившая горы бесовщины, взяла да и стряхнула с себя всех этих гадов, и рванула в царство свободы как порвавшая узду лошадь. Вот когда Невидимый Гад за голову схватился, вот когда он завыл. Это было поражение так поражение! И началась новая война за эту партию. Ох, какая война! Все возможное надо было сделать, чтобы она завшивела, чтобы опять нечисть в ней расплодилась. А то ведь они, лапотники эти, каким-то нутряным чутьем своим так все переиначили, что и жить недурно стали и собираются еще лучше зажить. У них уж и фактический социализм на горизонте засветил. Царство свободы, мать его! А ведь не дураки бесы. Знают, что как только лапотник на ноги встанет, по-человечески заживет, так про Третий Рим обязательно вспомнит!
Тяжелая была борьба, с победами и поражениями. Какой только хитрости, какой только подлости нечисть не выдумывала. Каких денег не жалела! Но выиграли, выиграли-таки историческую схватку. Населили ведущую и направляющую мерзопакостью и, опять же, дураками. Слава Невидимому Гаду, завели они ее по самые уши в дерьмо. Во главе с Мишунькой Меченым. Слава, слава. Теперь пропадет ведущая и направляющая. Вернутся бесы хозяевами и окончательно закопают остатки Третьего Рима во сыру землю. Закопают, плечи расправят и вывернут прямо в небо, туда, где предполагается местонахождение их Бога, огромный лохматый кукиш. Ты надеялся, что ведущая и направляющая однажды к тебе прирулит и о Третьем Риме вспомнит? Накося, выкуси! Наша взяла!
Так что в Вашингтоне гулянье было в разгаре. Правда, и о делах не забывали разговаривать.
Председательствовал теперь уже почти Президент Земного Шара Джорж Буш Старший:
– Ну-ка, пусть директор нашего славного ЦРУ изложит нам свой взгляд на ситуацию.
– Ситуация посложней, чем ее хочет преподнести мистер Бен. Понятно, коммунисты уже не те. Красные боссы везде прячутся от народа, потому что пресса их заклевала. Наши агенты из разных мест сообщают, что эти боссы не собьются в волчью стаю против Бена. Конечно, сама КПСС за ночь не растает. В ней еще полно народу и они будут искать какие-то решения. В любом случае, такие айсберги бесследно не исчезают, пара-другая плавучих глыб от нее останется, но это нас мало волнует. Вопрос в другом. Там у них есть ребята посерьезнее, чем партийные боссы. Это – директорский и генеральский корпус. Как только Бен приступит к развалу, они окажутся не у дел. Эти могут пойти на него в атаку.
Теперь еще кое-что. Водевиль с ГКЧП особенного протеста против коммунистов не принес. Россия как спала, так и спит, несмотря на весь визг в эфире. Поэтому за Беном сегодня не так много народу. Он как соломенное пугало – любой серьезный ветер его опрокинет.
– Спасибо, Уильям. Теперь ты, Джеймс. Что ты нам можешь сказать?
– Может быть, у меня нет таких обширных сведений, как у ЦРУ. Но преувеличивать потенциал красных директоров не следует. На сегодняшний день и они, и генералы уже досыта нахлебались перестройки, которую рассматривают как продолжение социализма. Самая большая наша удача, между прочим, состоит в том, что во всем, происходящем в их стране, русские винят только себя. Они еще не догадываются, что управление общественным сознанием совсем не сказка. Поэтому они не будут воевать за ту систему, которая привела страну на край пропасти. А вот заговор против Ельцина лично, как нового вождя, возможен. Они же понимают его настоящую цену, и, как знать, могут решиться на выпад. Вот тут нашим шпионам, я думаю, придется поработать без белых перчаток. Ведь там, в России, есть очень сильные фигуры, которых и устранить не грех…
– Ну да, конечно! Сейчас же высылаю в Москву полк Джеймсов Бондов с лицензией на отстрел красных генералов, – саркастически парировал Уильям Вебстер. – Видимо, мистер Бейкер забыл, что в США существует специальный закон, запрещающий физическую ликвидацию иностранных политических деятелей.
– Хорошо, что не все ваши покойники об этом знают, Уильям, – в том же тоне ответил Бейкер, – иначе они вчинили бы тебе судебный иск за нарушение закона при их отправке в мир иной. Уж в нашей-то компании мы можем говорить откровенно.
– Ну, а если откровенно, то у меня и мысли нет превращать СССР в охотничий заповедник. Себе дороже. Такие операции всегда были исключениями из правил. Помогать Бену нужно другими способами.
– Успокойтесь коллеги, – подал голос Жабиньский. – Можно, я выскажу свое мнение, господин президент?
– Конечно, Збигнев, за тем ты сюда и приглашен.
– О'кей. Начнем с запрета партийной машины. Ясное дело, что это серьезный шаг. В России еще не все спились, и есть парни, соображающие, что Бен ведет ее к развалу. Но о них можно забыть. Главное не в них. Главное в том, можно ли поднять homo sovetikus на бунт. Ведь сами генералы или директора ни электричества, ни газа, ни железных дорог перекрыть не смогут. Им нужны массовые исполнители. Чтобы оценить такую возможность, посмотрим на состояние русских мозгов. Все данные, которые мы получаем в последние два года из СССР, говорят о том, что наш неутомимый труд не пропал даром. Конечно, не без участия Горбачева и иже с ним. Сознание их населения шизофренировано, то есть, расщеплено. Рядовой русский не различает реальные, виртуальные и фиктивные ценности. В его голове царит хаос. Результаты опросов населения подтверждают мои выводы. Например:
– Большинство русских выступает за неограниченную гласность в обществе. Можете себе представить такой тотальный контроль общества за любым и каждым? Они даже не понимают, что неограниченная гласность нарушает элементарные права человека.
– Большинство русских считает, что введение частной собственности в торговле приведет к изобилию товаров. Каково? Будто товары производятся продавцами.
– Ну, и просто смешно, когда русские ученые требуют, чтобы государство вообще отказалось от запрета на любые формы собственности. Ученые! Это ли не успех, если их ученые требуют свободы любых форм собственности, в том числе, видимо, крепостной и рабовладельческой.
И так везде. Например, они абсолютно не видят, какой обвал повлечет за собой отказ от общественной собственности. Русские просто не увязывают логические концы.
Думаю, что у народа с таким состоянием мозгов способность к организованному выступлению ничтожна. Он пойдет за флейтой Крысолова. Что надо сделать? В первую очередь, включить все оркестры и устроить потрясающий джаз в поддержку указа Ельцина об отмене КПСС. Фанфары и литавры на всю Вселенную.
Теперь о директорах и генералах. А они что, не живые люди? Для них КПСС издохла раньше, чем для нас. Они народ верткий, живучий, и приспосабливаются к ситуации, а не борются с ней. На большинстве заводов уже во всю работает мелкий бизнес, от которого немало капает в директорские карманы. Поэтому ничего серьезного не случится.
– Хорошо, Збигнев, – задумчиво сказал президент Буш, – с коммунистами, кажется, все более-менее ясно. Подавляющее большинство поступающих сведений из Москвы говорит о том, что красная идеология уходит из русских умов. Но кто будет внедрять наши концепции? Ведь в России нет никакой серьезной школы. Те русские политики, которые щебечут о рыночной демократии, на самом деле никакого представления об этой демократии не имеют. Часть из них – демагоги, часть – мечтатели, есть и откровенные дураки. Вокруг Ельцина нет нужных людей.
– А разве перед Ельциным стоит такая задача? – желчно ответил Жабиньский. В глазах его загорелись волчьи огоньки. – Зачем в России прогрессивное хозяйство и социальное благополучие? Здесь надо сто раз подумать. Я всегда повторял и не постесняюсь повторить снова: АЛЬФОЙ и ОМЕГОЙ нашей стратегии является устранение с лица земли православной цивилизации. Очень хочется, чтобы эту мысль, наконец, усвоили и наши президенты. Ведь сейчас я, как попугай, повторяю то, что говорил еще Джонсону, Никсону, Рейгану. Эта линия должна передаваться из рук в руки от президента президенту. Православная цивилизация должна быть устранена потому, что она является врагом американской цивилизации, а духовно неизмеримо ее сильнее. Если мы вовремя ее не придушим, то проиграем гонку двух миров.
– Что-то непонятно, Збигнев, – вмешался директор ЦРУ, – где это ты усмотрел на советской свалке православную цивилизацию, которая вдобавок сильнее жизнеутверждающего американского духа?
– Я ее там усмотрел там, Уильям, где ее просмотрело ЦРУ. Чтобы хоть что-то уразуметь, поезжай на православную пасху к Гробу Господню и посмотри, как появляется благодатный огонь. Этот огонь, мой друг, не появляется ни на Песах, ни на католическую пасху. Как ты думаешь, это серьезно? Я убежден, что серьезней некуда. Уж коли мы собрались говорить друг другу правду, то должны признать, что избранным народом все-таки является тот, которому Бог посылает свой Благодатный Огонь. Наши предки этого не поняли. В результате обрекли и себя и нас на борьбу с этим народом. Теперь у нас нет другого пути, кроме борьбы и победы. Православный дух сильней американского потому, Уильям, что американский дух может дать человеку в лучшем случае счастье кролика, сидящего на крольчихе и жующего капустный лист. А православный… Ты никогда не думал, что апостолы, погибшие в страшных муках за Христа, были православными? Это были очень простые люди, а вера подняла их до небывалого масштаба. Поэтому, чтобы понять, в каком мире ты сегодня находишься, поезжай в Россию, полюбуйся на сотни мироточащих икон и на небесный луч в глазах людей, стоящих в храмах. Этот луч – отблеск Благодатного огня. Он делает их духовным магнитом. А в наших церквах негры вытрясают из себя излишки секса под свои там-тамы. Можно ли это ставить рядом? Сильная Россия станет новым эпицентром человечества со всеми вытекающими для нас последствиями.
– Ты хочешь сказать, что наша культура проиграет русским? Разве они не смотрят наши фильмы, не поют наши песни, не танцуют (танцуют под наш рок либо слушают наш рок) наш рок? А наша литература, в конце концов?
Жабиньский поморщился, как от зубной боли. Ему страшно не нравились самовлюбленные янки, искренне верящие, что зубную щетку открыли в Америке, а главными героями «Войны и мира» являются Том и Джерри.
– Все вроде бы верно, друг мой. Русские не проявляют такого омерзения к нашим культурным выкидышам, как мусульмане. Они, все-таки, всегда жили рядом. Но не путай духовность с пойлом из основных инстинктов, до которого только и смогло подняться американское искусство. Русские могут угощаться этим дивным напитком сколько угодно, кто-то из них даже подсядет на него. Но своей народной культурой они его не сделают потому, что пахнет неаппетитно.
Нам нельзя недооценивать ортодоксального христианства, джентельмены, ведь именно оно когда-то завоевало мир. Если мы поможем России, то наживем себе большой геморрой. Очень вероятно, что вокруг православия начнут объединяться те, кому не нравится Америка. Я говорю чушь, да? А разве вокруг мусульман они уже не объединяются? И разве православные и мусульмане не близки в главных своих чертах – в неприятии нашего миссионерства? То-то. Вот также начнет собираться осиный рой и вокруг православия, особенно, если оно заявит о себе и в политике. И будет вам новый лагерь врагов, который окажется посильней мусульманского. Ведь у него есть такие летающие штуки с ядерными боеголовками. Понимаете, насколько это опасно? Поэтому Россию необходимо расколоть и разобщить, сделать беспомощной. Повторяю, это АЛЬФА и ОМЕГА нашей стратегии, если мы хотим доминировать среди двуногих.
– Как это здорово звучит! – вмешался директор ЦРУ. – Ликвидировать гигантскую страну, порвать ее в мелкие клочья. Мне, прагматику, куда более мелкие задачи в СССР не по плечу. А что будем делать, мистер Жабиньский, если Россия устоит? Ведь Ельцины приходят и уходят… Тем более, что этот парень сильно пьет. Вот представим себе, что твой план не получится.
– От чего же не получится, – с желчной усмешкой ответил Жабиньский. – Путей-то должно быть несколько. Например, сейчас союзные республики от Москвы уже не зависят, спасибо Горбачеву. Значит, раскол неизбежен. Нам сегодня пора готовить дрова, чтобы подбросить их в этот костер и вызвать цепную реакцию дальнейшего деления. Главное – деления России. Если это состоится, то считайте, что самый главный шаг в устранении русских с карты мира мы сделали. Если по каким-то причинам Россия сохранится, то надо брать под контроль ее экономику. Не получится это у нашего бизнеса, тогда надо растить местных бизнесменов нашей закваски, продвигать их на ключевые посты. В России полно шустрых еврейских мальчиков, которые не заражены патриотизмом. Если богатства этой страны окажутся в их руках, то можно соединить их с нашими корпорациями, и они выжмут Россию как лимон, а потом выбросят на свалку истории. Уильям, ты же готовишь проект с Джеффри Саксом. Ну и что там у тебя не получается?
– Не так все просто. Понимаешь, у них там довольно много предрассудков против заграничных советников. Сумеет ли его команда проникнуть в Кремль, пока не ясно. Но в любом случае он наращивает через Гарвард связи с окружением Ельцина. Знаешь, консультации, то, да се…
– Пока будет то, да се, не будет ничего. Сегодня имеется уникальная возможность внедрить в русские мозги наш электрод и гнать по нему импульсы разрушения. Не упускай этой возможности, Уильям. Я знаю Джеффри, это типичный еврейский жулик, но в данном случае он как раз то, что надо. Ельцину сейчас нужна команда реформаторов, и Джеффри должен стать их идейным отцом. Вот тогда мы и станцуем все вместе наш любимый танец «шила нагайя».
27. Разговор с Немчиком
– Спаси тебя Господь, сестра, – сказал Иван стоявшей перед ним колхознице в поношенной фуфайке, – крепись и обязательно ходи на службу как следует, с исповедью и причастием. Тогда почувствуешь облегчение. Вера – это тоже труд. Знаешь, как про вечернюю молитву говорят? Вот закончила ты трудовой день, устала, измоталась, тебе бы только до постели доползти. А тут молиться надо, перед киотом стоять, поклоны класть, как не хочется! Поэтому отцы церкви говорят: ежевечерний подвиг молитвы. Мы ведь и вправду, в вере своей множество маленьких и больших подвигов делаем. Но от них только крепнем. Иди с Богом!
Беседуя с гостями, Иван с удивлением открывал, что оглушенные атеизмом люди с трудом поворачивались к вере и искренне удивлялись, когда вместо чудесных предсказаний и зодиакального бреда слышали от него спокойную речь верующего человека. Он осознавал, что по сути выполняет роль священника, принимающего сбитую с толку, заблудшую паству. Это была работа, требующая огромного терпения и любви. Каких только бед не приносили в его избушку. От просьб о помощи в излечении безнадежно больных, до желания «отвернуть» мужа от любовницы. Ну что делать, если не было у людей других духовных опор? Надо было пытаться помочь, разъяснить, как на самом деле следует спасать свою душу.
Бессонница истощила Звонаря, он сильно похудел, на плечи спадали длинные русые волосы, лицо обросло бородой, глаза стали большими и светлыми. Глядя на себя в зеркало, Иван видел пожилого человека с неподвижным, печальным лицом и обращенным в себя взором. Уже ничего не оставалось в этом человеке от того армейского офицера с энергичной манерой общения и цепкими глазами. Он в полной мере изменился. Не стало капитана Звонаря, но появился старец Иоанн, к которому постоянно шел поток посетителей. Он не знал, помогают ли его советы и молитвы, но, как умел, старался помочь людям, утолить их душевную боль, указать верную жизненную дорогу.
Иногда в лесничество заглядывал Вальгон, и от визитов его становилось зябко на душе. Парень злобно ругался и поносил все на свете. Во взгляде его появилась какая-то одичалость и разбойничья решительность. Он, в общем-то, не скрывал, что ворует казенное добро, которое плохо лежит. Таких, как Вальгон, в Первомайске развелось сколько угодно. Бывшие люди труда, оставшиеся без работы, рано или поздно начинали воровать. На барахолке можно было встретить светильники из больницы, водопроводные краны из столовой или пачку сбитой со стен туалета кафельной плитки.
«Значит, еще не конец страданию русских людей за предательство веры. Все глубже будем опускаться, пока большинство народа вину не осознает», – думал Иван, глядя на это горе.
Распорядок дня у Звонаря складывался так, что после всех утренних дел он с девяти утра начинал принимать ходоков. Их, обычно собиралась изрядная толпа, и он по очереди говорил с каждым до тех пор, пока не уйдет последний. Гости всегда держались очереди, мирно переговариваясь в сенях на всякие жизненные темы.
На сей раз, когда Иван проводил с Богом больную старушку, брошенную родственниками, дверь резко распахнулась, и в клубах пара в избе возник высокий молодой мужчина в красивой дубленке и пыжиковой шапке. Сопровождавший его парень цыкнул на недовольные голоса из очереди и захлопнул дверь с той стороны. Мужчина снял шапку, слегка поклонился Звонарю и без приглашения сел на табурет перед инвалидом. Он был смазлив и улыбчив. Под копной вьющихся черных волос светились любопытством два карих глаза, курносый нос и круглые щечки делали его лицо немного легкомысленным.
– Здравствуйте, преподобный. Моя фамилия Немчик, я из руководства области. Вот дошел слух о Вас и до Нижнего, поэтому я решил Вашу скромную келью навестить, посмотреть, что за светочи в наших местах объявились.
Ивану посетитель сразу не понравился. Уже одно то, что он бесцеремонно обошел очередь, о многом говорило. Но главное заключалось в другом. Звонарь увидел, что за смешливостью лица, за улыбчивой словоохотливостью работает трезвая и бойкая мысль, которую незнакомец скрывает. Мысль эту Иван почти улавливал в его неприятной ауре, заряженной вороватым любопытством и попыткой оценить, насколько серьезен этот святой угодник. Внутри посетителя Иван ощущал что-то вертлявое и неискреннее. Он уже давно стал воспринимать гостей не столько по словам, сколько по необъяснимому общему впечатлению, в котором совмещались и внешность, и манера поведения, и выражение глаз, и какая-то невидимая, но безошибочно исходящая от человека сила – иногда теплая и добрая, иногда больная и слабая, а порой и гадкая. Мысли многих собеседников становились Звонарю понятыми при первом же взгляде на них, многие боли становились видны, едва человек переступал порог, а случалось и так, что, провожая пришельца, Иван знал о его дальнейшей судьбе.
– И что же Вы хотите от меня, господин, чему я могу научить руководство области?
Немчик заговорил с уважением:
– Насколько я наслышан, к Вам много людей приходит, самое сокровенное Вам несут. Разве этого мало? А Вы ведь из этих бесед выводы делаете, большие выводы, может быть, они для нас будут очень интересны. Вот и получится полезный обмен опытом.
Звонарь вздохнул, перебарывая неприятное чувство. Ему тяжело было с этим гостем. Сюда всегда приходили с правдой, иначе, зачем идти? Если кто и пытался что-то недоговорить, то, скорее, из стеснительности. А этот лгал, и все существо Ивана охватила боль от столкновения с Неправдой.
– Господин Немчик, у меня ограниченный круг собеседников. Ни начальство, ни процветающие люди, ни даже живущие скромной жизнью ко мне не приходят. А приходят сирые и убогие, обиженные и обездоленные. Теперь таких много развелось. Это к Вам идут всякие посетители, у Вас обзор видней.
– Нет, нет преподобный. Ваша точка зрения очень важна. Мы ведь на целую революцию замахнулись. Как же тут святых людей не послушать.
– Не зовите меня ни преподобным, ни святым. Я всего лишь военный инвалид, который по молитвам преподобного Серафима свое место в этой жизни обрел. Оно совсем не святое, это место. Так какую же революцию вы вознамерились сделать?
Гость открыто и обезоруживающе улыбнулся, развел в стороны руки, как бы демонстрируя масштабы своих намерений:
– Мы хотим построить в нашей стране рыночную демократию западного образца. Свободное и процветающее общество. Все государственное добро мы разделим и учредим частную собственность на средства производства. От этого на свет произойдет преуспевающий бизнесмен, который накормит страну.
– Вы искренне полагаете, что все наши беды от неправильного хозяйства?
– А как же? Все дело в системе социализма. Если бы не она, мы были бы сегодня богатой и процветающей державой.
– Господин Немчик, Вы иудейского происхождения. Разве не Ваши предки боролись за социализм, который уравнял их в правах с остальными нациями? Как мне Вас понимать?
Гость слегка опешил. Такого оборота дела он никак не ожидал. Но бойкий ум его быстро нашел ответ:
– Мои предки боролись против царизма в разных партиях, не только среди большевиков. Просто так получилось, что большевики одолели буржуазное правительство. Если бы не это, мы были бы сейчас еще одной Америкой.
– Вы говорите предположениями. Это напрасная трата времени, – ответил Иван, – думаю, что Вам не просто будет разъяснить, почему же большевики победили в ту пору. Да я от Вас больше и не жду никаких разъяснений. Ваши рассуждения понятны. Вы ведь от меня какие-то мысли приехали послушать, не так ли?
Немчик, уже оправившийся от нелюбезного приема, решил продолжить прежнюю линию. В настырности ему нельзя было отказать.
– Именно так, уважаемый. Вы фокусируете народные чаяния, Вы их осмысливаете. Это для нас исключительно важно, ведь мы с Борисом Николаевичем хотим построить свободное процветающее общество.
Позади него саркастически крякнул Матвей. Он сидел в сторонке и внимательно слушал разговор.
– Хорошо, я скажу Вам кое-что, – не взглянув на Матвея, произнес Звонарь. – Вы хотите услышать, что несут мне те, кто ко мне приходит. Пожалуйста, слушайте. Все они говорят одно: перестройка, которую затеяли Горбачев, а вслед за ним и Ельцин, никакого улучшения народной жизни не преследует. Она ведет к тому, что в России появятся очень бедные и очень богатые. Они уже появились, а Вы – один из тех, кто спешит стать богатым. Если Вы хотите знать, получится ли у Вас стать богатым, то можете быть спокойны, Ваше время пришло. Если Вам интересно, будет ли народ уважать Вас, Бориса Николаевича и вашу перестройку, то сообщу Вам, что не будет. Хотя, судя по всему, это не волнует ни Вас, ни Бориса Николаевича.
Немчик покраснел, ему стало жарко в дубленке, он стащил ее с себя и бросил на кровать:
– Как можно так огульно осуждать людей, которые не жалеют себя для других. Мы не только о хлебе насущном, мы и о духовности думаем. Для нас возрождение православия является важнейшей задачей…
Ивана словно обдало жаркой, подавляющей волной, которую исторгала фигура собеседника. Да, он был внутренне силен. Так сильны люди, уверенные, что неправда – единственно верный путь. Этот не имел в душе колебаний или сомнений. Сдерживая назревающий гнев, Звонарь ответил:
– Господин Немчик, мы хоть и в лесу живем, но что в стране происходит, знаем. Как Ельцин себя для людей не жалеет, мы говорить не будем. Стыдно. Как Вы лично о православии печетесь, тоже говорить не будем, потому что у Вас своя вера. И если русские люди сумеют когда-нибудь к лучшей жизни подняться, то как раз вопреки стараниям Ельцина и таких, как Вы. Но я не об этом. Я к другому хочу разговор подвести. Послушайте меня.
Если вы читали исторические книги, то, наверное, знаете, что все наши русские беды происходили от того, что власть предержащие не хотели прислушиваться к народному сердцебиению. От того и в революцию покатились, что на плач мужика по земле наплевали. Казалось бы, надо чему-то научиться, так ведь? Сколько страданий вынесли. И что же? Сегодня опять все заново повторяется. Кто из сегодняшних вождей видит боль простого человека? Кто думает, как утолить эту боль? Кто заглянул ему в душу и спросил: «Русский человек, ты хочешь поделить общественное добро? Ты хочешь, чтобы над тобой появился богатей, также, как над твоим дедом? Ты хочешь вернуться в положение рабочей скотины, бесправной и бессловесной? Веришь ли ты господину Немчику, что в этом положении тебе будет слаще, чем сейчас? Ты веришь, что тебе будет также сладко жить в нищете и грязи, как ему в роскоши?».
Вы, конечно, услышали бы ответ, о котором в полной мере догадываетесь. Поэтому Вы и не спрашиваете. Это Вам не с руки. Но этим самым Вы идете по пути тех правителей, которые толкнули мужика на сторону большевиков. А теперь снова наша страна от такой политики проваливается в темную бездну. Вы-то, господин Немчик, от этого меньше всего убытку понесете. У Вас весь мир – родина. Подхватите чемоданчик с нажитым добром и в удобный момент оставите сии палестины. Но вот что будет с теми, кто здесь останется, лучше не думать.
Немчик поднялся с табурета и встал перед Иваном, широко расставив ноги. Глаза его сверкали, голос поднялся до визгливого фальцета:
– Ну что Вы понимаете в демократии, уважаемый! Вы мыслите дремучими категориями девятнадцатого века. Сегодня современный рынок каждого обеспечивает всем необходимым, каждый находит в нем себе место. Это единственный путь к благосостоянию.
– Какое благосостояние у нас уже началось – каждому ясно, – горько ответил Иван. – А вот скажите мне, разве при социализме не было благосостояния? Что, советский народ страдал от голода, эпидемий, отсутствия жилья, необразованности и незащищенности перед внешним врагом, как он уже страдает сегодня? Не было такого, правда ведь? А что было? Была нехватка каких-то вещей, дефициты и прочее. Но совсем не смертельные дефициты. Все они потихоньку уходили. Только вот кому-то очень захотелось на этой почве недовольство разжечь. Недовольство неудовлетворенных потребностей. А потребности-то, оказывается, вещь коварная. Есть у тебя трое штанов, а тебе четвертые хочется, приобрел четвертые, ан нет, все равно нехорошо, надо бы пятые. Только не такие, как в магазине за углом, а как на картинке из немецкого журнала. Вот она, обида! У немцев есть, а у нас нет! Проклятый социализм.
– Но ведь это правда, – злорадно засмеялся Немчик, – у немцев есть, а у нас нет. И как раз благодаря социализму.
– В том-то и беда, господин Немчик, что наши правители позволили фарцовщикам овладеть народными умами. Да ведь и Вы из той же породы, чего же еще от Вас ждать.
А касательно того, что лучше – социализм или рынок, то придет время, когда бедные страны прекратят доиться в пользу богатых. Вот тут-то и у немцев многого не станет. И не надо думать, что при рынке у нас все сразу разбогатеют, господин Немчик. Хотя, что я говорю, Вы-то уж точно так не думаете. Потому что Вы, господин, совсем не о народном благе заботитесь. Народ русский Вы ни в грош не ставите. Иначе так нехорошо очередь бы не оскорбили. Вы о своем благе печетесь, это на Вас написано. И если такие, как Вы, свои порядки установят, то здесь станет очень плохо. Поэтому больше мы с Вами разговаривать не будем. Вот Вам – Бог, а вот Вам – порог.
Немчик грустно ухмыльнулся, взял в руки дубленку и направился к выходу. Открыв дверь, он повернулся и сказал:
– Я все понял. Понял, какую Россию Вы ждете. Не дождетесь.
Голос словно сам по себе вырвался из горла Ивана:
– Подождите еще секунду, господин начальник!
Тот задержался на пороге.
– Я знаю, Вы не в состоянии понять меня, но попробуйте хотя бы запомнить мои слова: эта земля никогда не примет ни Ваших устремлений, ни Ваших дел. Вы на ней – разносчик чужих болезней. И чем раньше Вы это поймете, тем лучше будет для всех. У Вас еще есть возможность не навредить тому народу, который Вас кормит.
Немчик улыбнулся в ответ, показывая в злобном оскале белые зубы. Он хотел что-то ответить, но смолчал, открыл дверь и шагнул за порог. Вслед за ним словно вынесло сквозняком невидимый, но все-таки воспринимаемый клубящийся черный дым.
28. Филофей Бричкин
Прошла пора, когда Филофей Никитич выпрашивал себе собеседников из загробного мира. Мало-помалу в музее образовалась дыра между прошлым и настоящим, из которой могло вывалиться все, что угодно. Таким манером Бричкин перезнакомился почти со всеми обитателями музея, а с некоторыми даже подружился. Любимым его собеседником стал Федор Собакин, бывший командир отряда Частей Особого Назначения, сгинувший от тифа в двадцать третьем году. Появился Собакин в музее неожиданно.
Однажды Бричкин, только что закончивший ругаться с домовым, в очередной раз запачкавшим фотографию Фани Кац какой-то дрянью, надевал в прихожей свой плащишко, чтобы отправиться домой. В комнате было темновато, но он заметил какой-то необычный отблеск. Это поблескивали пуговицы на шинели Собакина, молча стоявшего в углу комнаты. Фигура его была видна достаточно отчетливо, хотя вся меблировка прихожей через нее просвечивала.
Филофей сразу узнал красного командира и нисколько не удивился. Пришел – значит надо.
– Вы ко мне? – вежливо осведомился он.
– Точно так, к тебе… то есть, к Вам, товарищ Бричкин. По личному вопросу.
– Интересно, чем я могу помочь привидению?
– Филофей Никитич, прошу не путать, я не привидение. Я кадровый загробный дух, а не какой-нибудь домовой. Прошел все мытарства и чист перед Господом.
– Что-то я не могу этого понять, ведь на Вас смертоубийство числится…
– Пересвет и Ослябя тоже врагов убивали, но в праведниках ходят. Я-то не праведник, но за мной только поражение врага в бою значится, и коли меня простили, то выходит, те, кого я жизни лишил, тоже не сахарные были. Тогда всеобщего зверства много было, Филофей Никитич.
Бричкин понял, что разговор предстоит долгий. Он снял плащишко и уселся перед Собакиным на диванчик.
– Так большевики же и виноваты в этом зверстве. Продразверстка и прочее…
– Сегодня говорят, что большевики насилие начали. Нет! Уж с Пятого года оно в Империи волной нарастало. Теперь-то мы знаем, что это бесы трудились. Мужики ведь в ту пору сильно бесам поддались, про Господа забыли. А когда крестьянин с ружьем с фронта деру дал, тут ему вовсе удержу не стало. В семнадцатом году бандитов по лесам как саранчи развелось. Из-за каравая хлеба души губили. Мы с ними беспощадно сражались…
– По совести говоря, я думал, что вся советская власть в адские тьмы направляется….
– Точно так, много наших начальников туда на вечное поселение отбыло, но не все. Советская власть была народным начинанием, в ней всякие люди работали, поэтому с ними по-разному обходятся.
– Так что Вас привело ко мне, Федор, не знаю, как по батюшке…?
– Федор Федорович мы… А привело меня желание с Вами пообщаться, потому что музей этот редкую возможность дает. Другого такого мне сейчас неизвестно.
– Вот и я думаю, Федор Федорович, отчего в захудалом Окоянове, где и событий-то исторических не было никогда, вдруг такая дверь между вашим и нашим миром образовалась?
– Филофей Никитич, мир – он един. Никакого отдельного загробного мира нет. Просто человеческие органы чувств не все воспринимают. Не по силам простому человеку видеть все вокруг. Поэтому и двери никакой специальной не надо. Требуются лишь особые обстоятельства, которые позволили бы нам общаться.
– Какие же это обстоятельства?
– Божье позволение. Оно иногда дается и в других местах, но всегда ненадолго. И не правы Вы, Филофей Никитич, насчет исторических событий. Не все они миру известны. А о некоторых земным людям и знать не дано. Вот Вы не задумывались, почему жители Окоянова в тридцатых годах все до одного храма взорвали? Ведь соседние города хотя бы по одному храму оставили, а кое-где и побольше. Здесь же – под чистую?
– Может, здесь руководители – особо воинствующие безбожники были. Да еще язычников много из мордвы.
– Воинствующих безбожников здесь было не больше, чем по соседству, а вот одно историческое событие на это дает намек. Помните резню на реке Пьяна, когда Тохтамыш все нижегородское ополчение вырезал? Это ведь неподалеку случилось.
– Ну, вспомнили пятнадцатый век!
– Да, пятнадцатый. Только пусть Вас это не смущает. Время призрачно. Давно и недавно – понятия относительные. Считайте, что это было позавчера. Так какие этому сопутствовали обстоятельства? Когда ополчение на Пьяну выдвинулось и заняло позицию, Тохтамыш не спешил подходить, прятался. Татары ведь не больно любили с русскими войсками в чистом поле воевать. Одно слово – разбойники. Ополченцы их малость подождали, а потом разленились, стали охотиться, пьянствовать и окрестных девушек насиловать. Разгульничали зело борзо, так борзо, что даже охранения не выставляли. Вот их такими хмельными татары ночью и вырезали. Тысячи русских богатырей встретили зарю с перерезанными глотками, а через три дня Нижний был сожжен дотла.
– Чего же здесь удивительного? В какую эпоху не заглянешь, везде подобное сыщешь. Уж такой мы народ.
– Сразу на весь народ валите. Нехорошо. А вот на Пьяне Господней защиты наше воинство лишилось, потому что вместо молитвы к Господу занималось пьянством и развратом.
– Какие простые у Вас объяснения!
– Непочитание Господа в решительный момент – это не простое объяснение. Оно – главное для наших бед.
Так вот, идем дальше. Речь все о том же, только ближе к современности. После революции Окоянов являлся сплошным винокуренным заводом. В редком доме не гнали самогон и там же его не пили. Почему – можно долго объяснять. Главное, что мы нисколько умнее нижегородского ополчения не стали, хотя прошло добрых пятьсот лет. Понимаете, к чему я клоню? На улице вихри враждебные, история страшный зигзаг делает, а мы пьянствуем и бесов тешим. И ведь точно также десятки тысяч будут вырезаны!
Из века в век копилось у нас нерадивое отношение к христианскому долгу, а привело к тому, что бесы неимоверно размножились. Ведь для них лучше пьянства и равнодушия условий не придумать. Вот результат духовной лености.
Теперь о тайных исторических событиях. Где бесов много, там у них и игрища. Не задумывались, почему это на Кутке деревья не растут, на самом высоком местном холме? Весь Окоянов в зелени тонет, а на Кутке лысина, даже вдоль дороги кустиков нет?
– Не сажали, видать, вот и не растут.
– Будет Вам, Филофей Никитич! Кто в те времена насаждениями занимался. Деревья самосевом росли. Так вот, от большого скопления нечисти образовалась там их Лысая гора, и творили они там в полнолуние свои адские игрища. Страшное дело! Для тайной истории, неизвестной людям, это заметное событие. Появление любой Лысой горы ею регистрируется и изучается отдельно. Подобных гор по Руси не так уж и много было. Так что Окоянов отличился. Потому как в бесовских играх нечисть силой заряжается и обретает способность большие массы людей себе подчинять. Вот Вам и история. Окоянов пьет, разводит чертей, те в свою очередь заводят здесь Лысую гору и набираются сил для нового окаянства. Отсюда и окаянное поведение местных граждан. Все храмы взорваны подчистую, священников извели, генерала Власова вскормили, самого страшного предателя Родины…
– При чем здесь генерал Власов? Он не наших будет!
– А Вы что, Филофей Никитич, не знали, что он неподалеку, из Гагинского района происходит? Его деревеньку с Лысой горы в бинокль можно увидеть.
– Вот это история!
– Да уж, история. Такие нелюди, как он, только от коловращений чертей появляются. А другого коловращения в округе не замечено. Так что, генерал этот местной выгонки. Мало Вам, или еще рассказать?
– Уж увольте, Федор Федорович. Многовато мне для первого раза. Хотя интересно знать, сейчас-то этих чертей меньше стало, или нет?
– Спросите лучше, Лысая гора сейчас в ходу, или заброшена. Это важней будет.
– Ну и?
– Нет, Филофей Никитич, не в ходу. Степан постарался.
– Этот, Нострадамов, что ли?
– Точно так.
– Один человек бесовское сборище прикрыл? Разве это возможно?
– Не один, конечно, были у него товарищи. Но сам он был сильный христианин.
– Что это такое – сильный христианин?
– Когда человек в земной жизни больших грехов избегает и с нечистью успешную битву ведет, он может быть прославлен при переходе в царствие небесное. Нострадамов много подвигов при жизни совершил, про которые его земляки и не знают. Вот так и получилось… Да у Вас же имеются его воспоминания…
– Это тетрадочка, что ли?
– Она самая.
– Непременно сегодня же загляну.
– Загляните, не пожалеете.
– А каким же образом понимать, что Господь сегодня здесь наше общение позволил?
– Господь всепрощающ. Он посылает нашему народу исцеление, а мы – только при том помогаем. Потому что без нашей помощи вы не исцелитесь.
– Какое исцеление?
– Этого я открыть не могу, но скажу лишь одно. Наблюдайте, как много девочек начнет рождаться.
– И что?
– Чем больше женщин, тем больше прирост народонаселения. Вот и думайте.
29. Лысая гора
«Тяжелая тоска целый день плавала где-то в верхнем озоне, а вечером осела на город. Улицы увязли в беззвучии, которое таило в себе что-то грозное. Когда же колокол пробил полночь, свет и тьма разделились. Нижняя часть города исчезла в черной тени, а на Кутке все покрылось ослепительным лунным светом.
Я лежал в своей постели, страдал бессонницей и силился понять, что происходит. По своей способности видеть нечистую силу, я обычно улавливал тайный ход вещей. Теперь же никакой нечисти вокруг не усматривалось, словно по улицам прошел крестный ход. Это было странно. Я томился от невозможности уснуть и от тоски, внезапно сковавшей сердце. В воздухе что-то назревало, и я не знал, что же это. Несмотря на охватившее меня плачевное состояние, я решил полюбопытствовать, у одного ли меня сегодня такие ощущения, или я не одинок. Взяв в дорогу настольный крест и фонарь, я пошел на угол к отцу Роману, окно которого еще не погасло. Он впустил меня по моему стуку, и я увидел, что застал священника за молитвой. Перед его киотом теплился десяток свечей, а сам он пребывал в растревоженном и непокойном состоянии. Я спросил, нет ли у него бессонницы и ажитации. Он ответил утвердительно. На мой вопрос, с чем отец Роман это связывает, он сказал, что по его убеждению сегодня нечистая сила справляет шабаш. Верными признаками тому были следующие факты: на вечерней службе при совершеннейшем безветрии хлопнуло приоткрытое окно храма, да хлопнуло так, что из него вылетели вставные стекла, упала лампада перед иконой св. архистратига Михаила, церковными вратами прищемило ногу нищенке, на исповедь приходила тронувшаяся умом барыня Засыпкина и говорила срамные вещи. Слишком много непотребного для одного вечера.
Тогда я сказал отцу Роману, что душа моя исходит мучением и неистово восстает против козней нечистой силы, и что не вижу я причины эти козни терпеть. Эдак она совсем распояшется и устроит в нашем городе настоящий вертеп. И коли мы с ним понимаем, откуда ветер дует, то наш долг – против нечисти с молитвою подняться и ее безобразия пресечь.
Отец Роман был священником опытным и зорким.
– Но хватит ли тебе смелости выходить на бой, – спросил он у меня, – не запачкал ли ты душу тяжкими грехами? Ты ведь и причащался-то, поди, с полгода тому. На такую работу надо сильно укрепляться.
Я легкомысленно уверил его в готовности начать предприятие и даже указал направление похода. Надо было идти на вершину Кутка, где светилось под луной голое поле. Правда, по дороге к священнику я уже разглядел сгустившееся на поле неясное пятно и не сомневался, что это сборище нечистой силы, сбежавшейся со всех концов города на свой шабаш.
Мы сговорились, отец Роман возжег кадило, я взял трехсвечник и крест, и мы двинулись в сторону Кутка, возглашая молитву Животворящему Честному Кресту. Окна на улицах были темны, никто не ответил на наши тайные надежды и не присоединился к нам. Лишь на подходе к Кутку от дома купца Ермишина отделился бездомный мальчик Иннокентий, спавший с собаками у сторожа, и попросился к нам. Я проверил, был ли на нем нательный крестик. Крестик был, и мы позволили ему присоединиться. В руки я ему дал еще одну свечу.
По мере нашего приближения к освещенному полю я все яснее различал очертания собравшейся там толпы, в то время как спутники мои пока ничего не видели. Чем ближе мы подходили к пятну, тем больше мое сердце сжимал ужас. Товарищи мои также стали воспринимать угрозу, и все мы сжались в одну кучку, взывая ко Святому Кресту.
Идти становилось все тяжелее, будто ноги погружались в густую тину. Тела наши отяжелели и ослабли, внутренности дрожали, но памятуя свой христианский долг, мы продолжали двигаться.
Наконец, подойдя на достаточное расстояние, я смог хорошо различить происходящее. В центре поля, под зловещим лунным светом стояло возвышение наподобие сцены. На нем располагались мужчины и женщины цивильного вида в сюртуках, белых манишках и красивых платьях. Они крепко схватили друг друга под руки, раскачивались в такт и гудели монотонную мелодию, напоминавшую гул ветра. Дирижировал ими, ловко размахивая палочкой, знакомый нам человек. Это был заведующий уездным культпросветом Лев Троскин. Он, казалось, не видит ничего перед собой и полностью погружен в эту странную и тревожную мелодию.
Возвышение окружала плотная толпа людей, сбившаяся в единое целое. Она также раскачивалась и гудела. От огромной луны отделялись мертвенно – зеленые сполохи и плыли к полю. Троскин дирижировал все энергичнее, гудение все усиливалось и, наконец, превратилось в рев приближающегося урагана. Ураган этот покрыл все окружающее пространство и достиг такой силы, что у нас заложило в ушах. Вид толпы был ужасен. Каждый стоявший в ней разинул рот, выпучил глаза, напрягся от усердия и ревел всем своим существом. Истошный визг и рокочущие басы, козлиное блекотанье и свиное хрюканье смешались в отвратительную какофонию. Было видно, что из людей выходит на свободу их животная суть. В наивысший момент в небе развернулись две огромные белые кулисы. На одной из них было написано черною краской слово ПРЕЛЕСТЬ, на другой слово СТРАСТЬ. Они некоторое время повисели в воздухе, как бы давая каждому возможность прочитать надписи, а затем стали опадать на толпу и сцену. Когда же они покрыли головы присутствовавших, то превратились во влажный туман и оросили всех брызгами. Толпа неистовствовала. Попало несколько капель и на меня. Я был настолько зачарован происходящим, что не сразу сообразил прочитать молитву, а стоял, как загипнотизированный. От этого капли стали действовать. Я почувствовал, как меня охватывают плотские желания и увидел с краю толпы обнаженную женщину необыкновенной красоты, которая, смеясь, манила меня пальцем и делала срамные движения нежным телом. Сильнейшее влечение пронзило меня, и я понял, что ничего не смогу против него поделать. Словно магнитом притянуло меня к этой женщине, я слился с ней и стал сгорать в огне животного чувства, слыша только могучий рев толпы: «Страсть, страсть, страсть». Вокруг творилось безобразное блудодеяние, полное содомской вседозволенности, но это только окрыляло меня. Вид обезумевших от страсти лиц и сочленявшихся всевозможным образом тел придавал мне ранее неизведанное наслаждение. Я весь превратился в блуд и пребывал в восторге. Мне казалось, что я растворяюсь в наслаждении и одновременно владею миром. Потом я стал возвращаться в себя и увидел, что женщина обнимает и целует мне ноги, восклицая: «Самый красивый, самый сильный, самый умный», – и будто весь мир вторил ее словам. Я почувствовал себя таковым. Гордость распирала мою грудь, и я не слышал, как толпа ревела: «Прелесть, прелесть, прелесть». Вокруг меня творилось подобное. Мужчины гордо выпячивали груди, тыкали в себя пальцами и задирали носы в припадке мании величия. Женщины оттопыривали зады, демонстрируя их привлекательность, подбрасывали груди и призывно манили к себе кокетливыми взглядами. Они прельщали друг друга самым непотребным образом, и это было далеко от поведения разумных людей. Однако мне это доставляло неизъяснимую сладость, и я корчился вместе с ними, даже не заметив, что потерял крест и трехсвечник. Но все-таки мысль о том, что я пришел сюда не один, мелькнула в затуманенном моем мозгу. Я стал искать глазами своих товарищей и увидел их рядом. Отец Роман стоял, закрыв глаза, сцепив руки на груди, истово молясь. Лицо его было искажено страхом. Мальчик же Иннокентий, напротив, смотрел на происходящее с интересом, и оно, казалось, не ранило его детскую душу. Он обернулся ко мне, увидел мое растрепанное и полоумное состояние и протянул мне свою свечу. Движение его было неловким, свеча слегка обожгла мне руку, и я тут же встрепенулся.
«Господи что это? – подумал я. – Где мой крест? Где мой трехсвечник? Что со мной было?». Крест и трехсвечник я обнаружил у своих ног и быстро подхватил их. Рядом я поднял и кадило отца Романа, которое тоже выпало из его рук.
Я осенил себя крестным знамением и спросил у священника, пересиливая какофонию звуков, видел ли он что?
Тот кивнул утвердительно, собрался с силами и стал раздувать кадило, которое, как потом оказалось, погасло еще на подходе к толпе. Когда вокруг нас распространились запахи ладана, вой стал стихать. Когда же ладан стал куриться во всю силу, то наступила кромешная тишина, нарушаемая лишь позвякиванием цепочки и тихой молитвой отца Романа.
Я увидел, что мы находимся в окружении насупленных людей, которые молча сужали круг. Я с детства привык видеть нечистую силу в виде неясных и безобразных существ, отдаленно напоминавших лохматых чертей. Эти же были обычными людьми, ничем не напоминавшими тех, кого я привык считать нечистой силой. Необычное в них лишь было то, что минуту назад я видел их участниками безобразной оргии, а сейчас они явно нас ненавидели. Намерения их были очевидны. Они готовились нас растерзать.
Мне стало жутко, руки мои сжали крест с силой парализованного ужасом человека.
Окружающее нас кольцо вдруг разомкнулось и вперед выступил Лев Троскин. Его кудрявая голова казалась высеченной из камня в свете луны, пенсне сверкали холодными искрами, а рот был сжат в презрительную мину. Он шагнул к отцу Роману, протянул руку, явно собираясь вырвать кадило. Все остальные изогнулись в готовности ринуться на нас, как только мы лишимся этого защитного благовония. Но отец Роман знал силу молитвенных призывов. Не прекращая молитвы, он воззвал к Господу:
– Господи! Отринь сатанинскую силу, называющую себя Львом Троскиным! – При этом широко шагнул навстречу нечистому и стремительно раскрутил кадило на цепи, окуривая его с ног до головы ладаном.
– А-а-а! – сначала услышали, а затем увидели мы, как отчаянный сирота Иннокентий также бросился к Троскину и сунул ему горящей свечой в лицо. Тот отпрянул, отбиваясь руками и теряя свой высокомерный вид. Тут настала пора действовать мне, и я устремился на толпу, орудуя медным крестом, как молотом, направо и налево. Трехсвечник мой, не смотря на такие вольты, продолжал гореть. Среди нечисти случилось замешательство, и я заметил, что она всеми силами уклоняется от соприкосновения с крестом. Мы ворочались в толпе, как пловцы в пучине, и от действий наших она стала делаться все реже и реже. То ли бесы бежали, то ли расточались от воздействия ладана и креста, но вскоре Троскин остался один. Теперь его внешний вид не был столь цивильным. Из под кудрей выглядывало типичное чертячье рыло, только в пенсне. Мы окружили его с трех сторон.
Троскин держался вызывающе и нагло.
– Не смейте нападать на меня, я Сатанин! – прохрипел он отвратительным голосом.
– Сатанин без штанин, – тут же придумал дразнилку Иннокентий и засмеялся, – подпалю сейчас твои штаны.
– Если Вы меня расточите, месть отца нашего будет ужасной!
– У нас свой Отец, – ответил священник и пошел вокруг Троскина, раскачивая кадилом. Нечистый смотрел на кадило словно зачарованный, но не пытался выбежать из замыкавшегося круга. Отец же Роман, словно не замечая его, деловито завершил кадилование, передал кадило Иннокентию, снял с себя тяжелый нагрудный крест, поцеловал его, произнес внутреннюю молитву, а затем направил крест на застывшего Сатанина и воскликнул: «Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, расточись!»
Троскин постоял не двигаясь с минуту, потом засмеялся мелким смехом. Глаза его стали бессмысленными, лицо приобрело выражение природной дураковатости, изо рта потекли слюни, резко запахло нужником. Пенсне спало с переносицы и болталось на шнурке игрушкой вздумавшего пошутить идиота. Нечистый присел как кенгуру и стал скакать внутри круга в поисках выхода. Но круг был замкнут, и ему пришлось скакнуть через едва видимую полоску ладана. В тот же момент произошло жгучее свечение с треском, одежда свалилась с него истлевшими лохмотьями, обнажив убогое тельце, прожженное неизвестным пламенем. Тельце задергалось в конвульсиях и распалось в золу. Тут же луну затянуло облаком, дунул ветер, унося золу и мы услышали могучее скрежетание железного голоса, который, кажется, рыдал.
На Лысой горе установилась тьма, и хотя победа наша была совершенной, страх нас не оставлял. Такой же тесной кучкой, с зажженными свечами и молитвами мы пошли домой, которого благополучно достигли.
Потом стало ясно, что экспедиция наша в ту ночь не была напрасной. Нечисть, конечно же, из Окоянова никуда не делась, но шабашей на Лысой горе больше себе не позволяла. К сожалению, сбылась и угроза Сатанина. Все мы испытали страшные наскоки нечистой силы, но благодаря помощи Отца Небесного, в конце концов, прошли через испытания и сейчас живы-здоровы».
Филофей отложил в сторону тетрадку и прикрыл глаза. Трудно вообразить, что такое было в родном городе. Но ведь правда и то, что проявления бесовщины постоянно случаются вокруг нас. А мы не хотим в них верить, валим на стечение обстоятельств. Разве так уж правдоподобно, когда одно за одним случаются несчастья с членами дружной семьи и в течение короткого времени от нее остается один инвалид? Наверное, правдоподобнее то, что семья в силу каких-то причин лишилась защиты Господа, и этим тут же воспользовалась нечистая сила. На память Филофею пришла трагедия семьи Земфировых, начавшаяся с того, что два старших брата разбились на мотороллере, из них один насмерть, затем по любовной причине застрелился средний брат, а дело кончилось смертью младшего парня от водки. И остался от четверых парней один инвалид. Как это понять? Может, поискать в истории семьи какие-то причины? Может, были на ее счету лет шестьдесят назад преступления против Бога, а сегодня скорбную жатву пожинают дети? Но разве Господь так жесток, чтобы наказывать детей за отцов? Нет, Филофей, вопрос неверно поставлен. Господь всемилостив, он никого не наказывает, но за тяжкие грехи может попустить наказание. И, оставленные без божественной защиты люди предоставлены только сами себе да произволу бесов. Либо они понимают, в каком положении оказались, и стремятся вернуться к Господу, либо страдают от бесовщины.
Да, город давно и надолго отвернулся от Иисуса Христа. Окаменели сердцем, углубились в собственный эгоизм, потеряли Бога. И сейчас продолжается все та же история. Нет в глазах земляков небесного света, нет в их голосах отклика колоколов, нет в душах золотого луча. Господи, Господи, помоги нам выбраться на верную дорогу!
30. По наклонной, к краю пропасти
Ежиков забыл, что когда-то жил сладкой жизнью «золотой молодежи», не обремененной ни трудовыми мозолями, ни думами о хлебе насущном. Та чудная, волшебная, неповторимая жизнь ушла во мрак, а на смену ей пришло ежедневное ярмо шпионажа, которое день ото дня становилось все невыносимее. Англичане превратили его в послушного робота, обязанного точно выполнять указания, поступавшие по радио. Любые отклонения от их заданий наказывалось жесткими внушениями и напоминанием о его полной зависимости от их воли. Две вещи приковали Юджина к СИС: деньги и возможность вырваться в Великобританию. Две этих вещи оказались жизненно необходимыми ему. Необходимыми как кислород, потому что советский период его биографии заканчивался с неотвратимой неизбежностью. Инстинкт самосохранения подсказывал Евгению, что опасность ходит рядом и однажды может постучать в дверь, если он не успеет вовремя смыться. Юджин печенкой чувствовал, что вокруг него идет работа и он может оказаться за решеткой. Поэтому нервы его находились на пределе напряжения, и он постоянно просил англичан в своих шифровках о выводе из страны. В ответ же получал жесткие требования работать дальше и успокоительные сообщения о том, что никаких данных об ухудшении обстановки вокруг него не имеется. Наружное наблюдение «Джет», и вправду, больше не видел. Он не мог знать, что теперь в наблюдении за ним не было необходимости. Когда контрразведчики установили, что мимо дома Ежикова регулярно проезжает автомашина резидентуры СИС, они взяли ближний эфир под контроль и выявили сеансы БАРСа. Расшифровать примитивный цифровой код для 15 Управления, которое щелкало даже электронные шифраторы, было несложным делом. Вскоре все переговоры «Джета» с резидентурой стали ложиться на стол разработчиков, а оперативное дело на него начало ускоренно толстеть. В целом, доказательств по статье «шпионаж» было набрано более чем достаточно, и шла подготовка к передаче дела в следственное управление.
ФСК установил также и то, что «Джет» употребляет наркотики. Его поставщик Семен Соткин был у чекистов давно на примете и гулял на свободе только потому, что его квартира являлась явкой для нигерийских дилеров из университета им. П. Лумумбы. Она находилась под постоянным прослушиванием, что позволяло получать массу информации по наркотрафику. Однако кокаин шел с перебоями. Частенько по курьерам били американцы на том конце маршрута, и тогда Семен предлагал «Джету» афганский героин, которого в Москве становилось все больше и больше. Это зелье было несравнимо отвратительнее «кокса». Среди кокаинистов бытует распространенное убеждение, что, при необходимости, от кокаиновой зависимости можно освободиться. У «кокса» высокая степень очистки и синдром не такой болезненный. Афганский же героин, как правило, грязный, делал человека «невозвратным» в три приема. После первой же инъекции наступала такая дикая ломка, что выйти из нее без нового укола было почти невозможно. Вскоре Юджин обнаружил, что период нерегулярного приема кокаина закончился, а на смену ему пришла постоянная зависимость от героина. Без приема дозы он не мог уснуть. Проклятые страхи наваливались безжалостной глыбой. «Джет» вскакивал с постели, метался по комнате, пробовал прогнать страх спиртным, но в конце концов доставал шприц, делал инъекцию и расслабленно засыпал. А утром, до обеда, надо было выгнать ломку от вчерашнего. К концу дня опять наступало повторение пройденного. Ежик знал, что такая дозировка очень велика, и что многие наркоманы умеют колоться раз в двое суток. Только они, видимо, не являются агентами СИС, а у «Джета» при одном воспоминании об этой службе возникало желание «уколоться и упасть на дно колодца». Под влиянием стресса и наркотиков нервная система Евгения окончательно выходила из строя. Он бешено реагировал на любой раздражитель, а через полминуты уже терял силы, оседал на стул, покрывался потом и хватался за стакан с водой. В то же время, психика продолжала обманывать его. Он знал, что героиновый наркоман практически неизлечим и может прожить всего несколько лет, но убедил себя в том, что как только сбежит в Англию, то использует оставшееся время на лечение, а потом начнет новую главу своей жизни. Зависимость Ежикова с каждым днем становилась все более очевидной, и видавшие виды сотрудницы его секретариата однажды поняли, в чем дело. О нем поползли вполне обоснованные слухи. Черт с ними, с сотрудницами, эка невидаль – баловство с наркотиками. Наступало время, когда в аппарат правительства начала заползать такая помоечная публика, что грех Ежикова ничем особенным уже не казался. Какие-то особи с золотыми зубами и лагерными замашками выдвигались с родины Бориса Николаевича, не претендуя на первые роли, но цепко захватывая должности поменьше, зато понаваристее. Среди этой публики царили животные нравы, искусное владение непечатной лексикой и лихоимство. Власть Ельцина утверждала на проворовавшемся российском Олимпе такого безоглядного и наглого Вора, какого в истории страны не было никогда. Теперь здесь все лихорадочно устраивали свои дела, как правило, заключавшиеся в дележе и разграблении партийного имущества, насчитывавшего миллиарды долларов. Эта ситуация была на руку Юджину. До его проблем не было дела никому, и он мог в меру оставшихся сил разбираться с ними самостоятельно. Евгений вознамерился решительно потребовать от англичан отправки в Лондон, но на сей раз в ситуацию неожиданно вмешался его папик.
После роспуска КПСС Виктор Ежиков спокойно жил у себя на даче, отойдя от дел и не подавая видимых признаков недовольства своей судьбой. Хотя, почему бы им и не появиться, этим признакам, если здоровый и умный человек в возрасте пятидесяти семи лет обрушился с самого верха политической власти к себе на дачу и стал никому не нужен?
Может быть, на душе у папика накопилось много всякого, но вида он не подавал и добросовестно изображал из себя отставника, лишь изредка исчезая на встречи с кем-то в Москве.
В ночь перед решительным демаршем англичанам Юджин остался ночевать на даче и по обычаю ширнулся на сон грядущий. Он уснул в блаженном состоянии и был разбужен на рассвете папиком, который, сидя на краю его постели, крутил в руках шприц, брошенный сыном прямо на пол.
– Я давно подозревал, что ты сел на иглу, Женя. Только все не мог собраться с духом поговорить с тобой. Страшно осознавать, что твой сын – наркоман, знаешь ли. Расскажи, что с тобой происходит.
Евгений удивленно выкатил ничего не понимающие глаза на отца. Он не совсем пришел в себя и первая мысль, какая появилась у него в голове, была о том, что ему очень плохо. Дозировка его стремительно росла, и чем дальше, тем страшнее становилась «ломка».
– Папа, можно нам поговорить попозже, я плохо себя чувствую.
– Попозже ты опять уколешься и станешь невменяемым. Нет, сынок. Мы должны поговорить сейчас. Как бы плохо тебе не было. Так рассказывай.
– Что рассказывать? Да, я немножко подсел на героин. Но скоро с этим покончу.
Отец вскочил с постели и заорал:
– Ты за кого меня держишь, идиот? Я жизнь прожил и все в этой жизни видел. В том числе и наркоманов. Героиновый наркоман, который каждый день колется, уже никогда не вылезет из петли, понял? Ты колешься каждый день, так ведь?
– Ну, может, не каждый день… нет, не каждый.
– Ты врешь, щенок. Я наблюдал за тобой всю неделю. Ты колешься каждый день. Тебе жить осталось до понедельника. Сдохнешь на помойке как последняя скотина! Почему ты привязался к наркотикам? Почему?
– Папа, прежде чем говорить, я должен принять дозу… мне очень плохо…
– Нет и еще раз нет. Отвечай, почему ты подсел на героин. Ведь у тебя все было хорошо.
– Папа, дай мне ширнуться…
– Хорошо, я разрешу тебе, если ты скажешь правду.
Ежик больше не мог терпеть. Все его тело разламывалось, но главная мука еще не пришла. Он чувствовал приближение внутренней дрожи, которая появляется перед болью, приносящей адские страдания. Еще минута, и у него начнутся конвульсии.
– Меня завербовали англичане…
– СИС?
– Да.
– Зачем ты пошел на сотрудничество с ними?
– Хотел заработать денег.
– Заработать денег, идиот, да ты знаешь, сколько у нас денег?
У старшего Ежикова чуть было не слетела с языка правда, и только по старой привычке никогда не говорить ее без надобности, он смолчал. На самом же деле денег у их семьи хранилось только в закопанном виде восемьсот семьдесят тысяч долларов. Эту сумму Виктору Ежикову честно вернули польские коммунисты, когда ПОРП была распущена. В тот драматический момент он по заданию ЦК находился в Варшаве и пытался оказать товарищам помощь на месте. Однако всякая помощь была уже бесполезна. После отстранения ПОРП от власти Ежиков был вызван на явку, и представитель бывшего ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии передал ему то, в чем больше не было надобности. При этом поляк полагал, что представитель братской партии вернет деньги в кассу КПСС. Здесь он ошибался, так как братский представитель быстро смекнул, что неофициальная обстановка передачи предполагает и неопределенность дальнейшей судьбы зеленых бумажек. После его возвращения в Москву, кейс с долларами был упакован в целлофан и закопан в лучших традициях конспирации неподалеку от любимой хозяйской елки, в двух метрах от ствола, точно на юг. Но помимо этого запаса, у Ежикова были и счета еще в нескольких странах «третьего» мира. Счета эти образовывались при актах оказания одноразовой помощи компартиям недоразвитых стран. Одноразовая помощь оказывалась обычно чемоданами долларов, причем постоянно происходила усушка-утруска содержимого в пользу как получателя, так и давателя. В результате Ежиков мог спокойно смотреть в будущее, и само по себе падение с небес на дачу его мало беспокоило. Больше раздражало то, что все в стране шло не так, как он хотел. К дележу гигантского наследия ЦК допускались не те, кто это наследие создавал, например, такие, как он, а какие-то мистические личности, еще вчера неизвестные никому. Борис Николаевич только готовился стать Президентом всея Руси, а его люди уже захватывали фабрики и заводы партии, ее издательства, типографии и гостиницы, курорты и здравницы, открытые и закрытые банковские счета. Эта вакханалия не могла не бесить старшего Ежикова. Он вел переговоры с рядом своих соратников о том, чтобы успеть отхватить хотя бы частицу этого добра в легальное пользование. Кажется, что-то стало получаться, и тут – история с Евгением, которая просто подсекла старого партийца. Ведь все свои усилия он направлял на создание будущего для единственного сына. Для своего единственного олуха, который сам, конечно же, ничего не в состоянии достичь. Если оставить его без поддержки, то внуки будут влачить нищее существование в этой новой жизни, которая обещает быть сладкой отнюдь не для всех. Он делал все, чтобы внуки имели свой кусок хлеба с джемом. Но теперь стало ясно, что они вообще могут не появиться на свет. А если родятся от наркомана, то возникнет вопрос, стоило ли им рождаться?
Старший Ежиков всегда знал, что его сын не боец. Хотя, в целом, мальчик был вполне адекватен требованиям времени, но природная лень и отсутствие склонности работать локтями лишали его серьезных жизненных перспектив. Женю пришлось постоянно поддерживать, надо было поднимать достойного наследника, ведь каждый делает своему ребенку карьеру. Вспомнился популярный когда-то анекдот: генерал гуляет с внуком и тот его спрашивает:
– Дедушка, а я буду генералом?
– Будешь, будешь, внучек, – отвечает старик.
– А маршалом?
– Нет, маршалом ты не будешь.
– Почему?
– У маршала свои внуки имеются.
Кажется, у Ежиковых дело клонится к прерыванию наследственной линии. Как это горько! Что же надо было предпринять, чтобы Женька не влип в сети СИС? Завалить его деньгами? Но разве он в чем-то нуждался? Он имел буквально все, за исключением исполнения каких-то диких прихотей вроде двухсотсильного кабриолета. Он хотел сорить деньгами направо и налево? Но разумные люди так не живут. Есть нормы, которые психически нормальный человек, тем более, воспитанный в советском обществе, не должен переступать. В чем же дело? Это какой-то злой рок, нависший над его семьей. Может быть, за грехи отца? Но у кого их нет? Почему многие коллеги Ежикова воруют несметные богатства, а их дети являются вполне преуспевающими гражданами?
– Что же теперь делать, Женя? Мало того, что тебе надо срочно лечиться, ты еще должен в кратчайшие сроки уехать из страны. У тебя остался загранпаспорт?
– Папа, я думаю, что это дело безнадежное. Англичане сказали мне, что при малейшем подозрении чекисты поставят меня на контроль выезда и меня сцапают в Шереметьево. Или в Бресте.
– Да, ты прав, надо думать о другом варианте.
Пока отец задумчиво смотрел в окно, Юджин дотянулся до ночного столика, выдвинул ящик и достал из него коробку с уже наполненным героином одноразовым шприцем. Он привык готовиться к утренней ломке с вечера. Отец, заметив движение, обернулся и с болью наблюдал, как сын ловко накинул на руку жгут, поработал кистью, чтобы проявить вену, а затем нетерпеливым движением воткнул иглу в исколотый локтевой сгиб.
Жидкость пошла в кровь, и почти мгновенно боль начала уходить, а на ее место всплывало нежное, благодатное тепло. Юджин расслабился и улыбнулся:
– Все в порядке, отец. Мы еще повоюем.
Виктор Ежиков сел на край его постели, обнял сына, и уткнулся носом ему в плечо. Евгений почувствовал, как на плечо его стекла горячая струйка слез.
31. «Карат» о беловежских событиях
Ноябрьские холодные дожди непрерывной завесой стояли на улицах Берлина. Машины передвигались днем с включенными фарами. Проходить проверочные маршруты стало труднее, потому что в зеркало заднего обзора были видны лишь мерцающие огни идущего следом автотранспорта. Номера и особенности автомобилей проявлялись лишь при максимальном сближении. Тем не менее, Булаю надо было довольно часто выходить на встречи с «Каратом». Агент контролировал информационную линию, освещавшую маневры США и Великобритании вокруг Кремля. Добытую информацию резидентура максимально обезличивала и направляла в Центр, не надеясь, что она получит должного применения. Разведчики подозревали, что на штаб Ельцина оказывает большое влияние весь комплекс американских представительств в Москве, в том числе и резидентура ЦРУ, поэтому были весьма осторожны с получаемыми от «Карата» данными. Там, в столице, все больше и больше прибирал к рукам власть продажный чиновник, способный и за ломаный грош поделиться с кем не надо секретной информацией.
К тому же Данила заметил, что «Карат» стал напряженнее на встречах, будто какое-то предчувствие опасности поселилось в нем. Джон ничего не говорил Булаю по этому поводу, но тот воспринимал настроение агента и предполагал, что он опасается именно утечки передаваемой им информации. Однако, это было не совсем так. Рочестер пока еще бессознательно, но безошибочно стал воспринимать исходящую от своего окружения опасность. Его уже начали проверять внутри резидентуры, хотя пока не было никаких видимых признаков этой проверки. Но в пространстве существуют еще и хитросплетения тех невидимых сил, которые связывают людей и сплетаются в причудливые узлы. Стоит только одному узелку затянуться покрепче, как на другом конце нити кто-то начинает чувствовать непонятное беспокойство. «Карат» испытывал это беспокойство, но, как это бывает с сильными людьми, не поддавался панике, а старался удостовериться, не обманывается ли он, не подводят ли его нервы.
На этот раз они встретились в небольшом уютном ресторанчике в Грюнау. Данила намеренно выбирал места встреч в восточной части Берлина, потому что бригады бывшей западноберлинской наружки знали ее пока недостаточно хорошо и легче выявлялись. Ресторанчик был почти пуст, в камине потрескивал огонь, за окном стояла дождливая муть, и в этой атмосфере было приятно вести неспешную беседу. Булаю нравилось разговаривать с Рочестером. Англичанин был интересным и неординарным человеком, хотя и не без странностей. Однако Данила, имевший дело с многими земляками Джона, давно пришел к выводу, что на Альбионе ординарных людей не бывает. То ли климат там такой, то ли питание особенное, то ли к процессу зачатия активно подмешивается виски, но каждый англичанин способен выкинуть что-нибудь оригинальное. Особенно Даниле нравилась манера Джона вести разговор. Как бы наивно-галантная, она на самом деле была всегда заряжена крепкой дозой сарказма, удивительным образом не обидного для собеседника. Конечно, сама по себе манера говорить мало чего стоила бы, если бы не знания и жизненный опыт Рочестера. Он много видел, прекрасно разбирался в людях и при этом часто делал парадоксальные выводы. В этот раз он начал разговор с совершенно неожиданного вопроса:
– Ну, что, мой друг, чистим личное оружие, заряжаем воки-токи новыми батарейками, пишем обращение к нации?
– Что с Вами, Джон? Вы опять пили дешевое виски?
– Дешевое виски, мистер Булай, пьет Президент Ельцин. Подобное обстоятельство, как я догадываюсь, должно заставить наиболее ответственных офицеров вашей службы выделить ему отдельный изолятор для этого увлекательного занятия.
– Джон, если бы Вы выстрелили в меня из пистолета, я бы меньше удивился. Что Вы несете?
– Как истинный патриот Советского Союза, получающий за это чувство хотя и скромную, но осязаемую мзду, я не могу не сказать, что этого человека пора убирать с подмостков. Иначе он заиграется, и театр сгорит.
– Поясните, пожалуйста, эту непростую мысль.
– Я располагаю перекрестной информацией, что группа Ельцина готовит государственный переворот.
– Переворот?
– Ну да! Ельцину надоело играть с Горбачевым в эту вашу национальную забаву по перетягиванию каната, и он решил развалить Советский Союз. Таким образом, он оставит Мишу без трона.
– Это проверенная информация?
– Да, я знаю о проводимой акции влияния, в которой наши люди доводят до него данную идею. Точнее – она давно витает в воздухе. Задача мероприятия – подтолкнуть его на решительный шаг. Потому, что если он будет тянуть и колебаться, Союз развалится сам собой, а Горби успеет перепрыгнуть в другую лодку.
– Не понял, объясните, пожалуйста.
– Пожалуйста. После ГКЧП мы всеми силами пытаемся заменить Горбачева Ельциным. Но Горби оказался более цепким бойцом, чем мы рассчитывали. Он готов питаться экскрементами, лишь бы не уходить с высокого поста. Ельцин его травит, унижает, как может, надеется, что противник не снесет обиду, да не тут-то было. Миша утирается и продолжает держаться за стул. Одновременно он шушукается с шейхами ваших республик, хочет подмахнуть с ними хоть какой-нибудь договорчик, чтобы остаться Президентом. Мы подталкиваем Ельцина на то, чтобы он эту Мишину возню в Новоогареве подсек. Тогда по СССР и зазвонит колокол. Потом появится похоронная процессия, которая с гиканьем и свистом растащит усопшего на куски. А мистер Бен будет стоять у изголовья и махать кадилом: мол, приидите и владейте, мне все по барабану.
– Почему ты приписываешь ему такую мрачную роль?
– Потому что я еще в штаб-квартире читал на него досье. Оно больше всего похоже на дело пациента психиатрической клиники. Худшего варианта для твоей страны придумать невозможно. Да, я думаю, ты и сам об этом догадываешься. Так вот, отдавая себе отчет в том, что я не самый умный на свете, полагаю, что где-то и в вашем славном ведомстве уже созрела мысль о принудительном прекращении этого пьяного цирка. Я всерьез считаю, что сегодня вашу державу может спасти только путч.
– Ты представляешь, какие последствия повлекла бы за собой попытка путча в этой обстановке?
– Дорогой друг, путчи и осуществляются именно в такой обстановке. Поверь мне, представителю державы, которая специализируется на путчах во всех частях мира уже двести лет. Каких последствий вы боитесь? Протеста демократической общественности, которая может объединиться, вооружиться и начать против вас военные действия? Вспомни ГКЧП: для разгона толпы у Белого дома достаточно было взвода «зеленых беретов» со слезоточивым газом. Обрати внимание, во всей огромной стране во время ГКЧП демонстрировала только одна единственная площадь. Остальные города соблюдали спокойствие. О чем это говорит? О том, что народная стихия всегда организуется профессионалами. У Ельцина тогда не было профессионалов, и сейчас их еще нет. Никакой народной стихии не обнаружится. А те несколько десятков слабоумных, которые захотят митинговать в его защиту, разбегутся от первого же выстрела, оставляя на асфальте мелкий помет.
Или вы боитесь реакции Запада? Да куда он денется, этот Запад, он же вас боится с вашими атомными ракетами. Ничего серьезного он не предпримет, хотя крику будет много, ведь Вы провалите его проект, и ему придется смириться с проигрышем. Можно, конечно, предположить, что на вас наложат санкции, как на Ирак, только чьей нефтью он сам будет пользоваться? Советской нельзя, иракской нельзя, а саудовской может и не хватить.
– Международная изоляция заставит нас затянуть пояса до самого позвоночника.
– Конечно, решать вам. Я-то думаю, что вы свои пояса затянете, если Ельцин добьется власти. Еще раз повторяю, этот человек не годится для такой крутой эпохи. Но вам выбирать.
– Все-таки согласись, Джон, что социализм уже не спасти. Он просто на последнем издыхании. Какой смысл в его консервации?
– Я не специалист по таким вещам, как социализм. Вполне возможно, что он издыхает. Я говорю о другом: следует предотвратить развал СССР, который влечет за собой опасность гигантского катаклизма. Американцы играют в очень опасную игру. Но не им пожинать плоды этой игры, а вам. Они могут отсидеться за океаном.
– Нет, Джон. Если я чего-то понимаю в своей стране, то скажу, что никакого путча спецслужб не будет. Наши офицеры не причастны к политике, это совершенно точно. Насчет армии ничего сказать не могу, но думаю, что и там тоже так.
– Не знаю, хорошо это или плохо, но, может быть, спецслужбы – единственные, кто мог бы спасти положение. Необходимо остановить развал красной империи, иначе начнется большая драка. Вам это надо?
– Не уверен, что ты прав, но путча с нашей стороны точно не будет.
– Неужели вы уйдете от своей гражданской ответственности и ничего не предпримете?
– Путч – это только начало. А что делать дальше? У путчистов должна быть программа действий. В нашей службе едва ли кто в состоянии ее разработать. Повторяю, мы не занимаемся внутренней политикой.
– Очень жаль это слышать, и жаль вашу страну.
– Видимо, мы выпьем до дна ту чашу, в которой повинны Богу.
– Ах, эта трогательная русская сентиментальность! В этом месте положено разрыдаться, мистер Булай.
– К этому я не приучен, но если говорить всерьез, то и на самом деле в нашем народе заложена огромная инерционность. Прав был Бисмарк, мы долго запрягаем. Это нас частенько подводило. Не обессудь, Джон, что я не обещал тебе исполнить твои надежды. Ведь тебе не нужны пустые обещания, правда?
32. Беловежские соглашения
Матвей снял наушники и вышел из-за своей ширмочки, где слушал приемник, лежа на кровати:
– Похоже, беда пришла, Иван Александрович. Ельцин с Украиной и Белоруссией подписали договор о ликвидации Советского Союза. Что же теперь будет?
Звонарь помолчал, потом медленно произнес:
– К чему шли, к тому и пришли, Матвей. Начинается главная борьба. Теперь за нас примутся всерьез. Хотя главное пока будет заключаться в пропаганде. Чего врагу надо добиться, чтобы мы оказались беззащитными перед ним? В первую очередь – доказать, что все наше прошлое никчемно. Повод есть – Союз развалился. Сейчас мы увидим, какой вал лжи обрушится на советское время. Если люди в это поверят, то и от собственного настоящего, и от собственного будущего добровольно откажутся. Нашим умом окончательно овладеет чужой дядя. Тут и наступит конец русскому единству, русской идее.
Матвей с сомнением смотрел на своего друга. Он верил в его светлый и проницательный разум. Убеждался в том, что предсказания Звонаря всегда сбываются, но иногда сказанное Иваном не умещалось в голове.
– Неужели ты веришь, что русская идея еще сохранилась, что на нее начинается оголтелая атака? Кто сегодня смотрит на русский народ как на духовный маяк? Не позади ли все это, не слишком ли мы возомнили о самих себе? Мы ведь грешим больше любого другого народа, Иван!
Звонарь вздохнул:
– Ты во всем прав, друг мой. И дух наш источился, и в грехах мы погрязли, но обрати внимание, какие силы были брошены на разгром советской власти. Почему? Думаешь, потому, что она не пускала буржуев к нашим богатствам? Правильно, и поэтому тоже. Или потому, что она мешала Америке свободно хозяйничать в мире? Конечно, и здесь правда. Но главное в другом. Они точно знают, что русский дух все-таки в нашем народе спрятался, какой бы он ни был битый-перебитый. И поэтому они нас ненавидят и страстно желают переломать, сделать другими. Таким же, как они сами – без Бога в душе.
– Но где же они обнаружили его в нас, этот русский дух?
– Как ты думаешь, зачем к нам Немчик приезжал? Разговоры с нами разговаривать, уму-разуму учиться? Ничуть не бывало! Ему наши премудрости совсем не нужны, у него своих достаточно. А приезжал он, мой друг, чтобы на нас с тобой подивиться, что это за чудаки такие в лесах объявились. Ведь таких чудаков сейчас по всей стране все больше и больше. Посмотри, сколько людей к святым местам потянулось. А я вот стал старые книги читать и узнал, что раньше на Руси между святыми местами непрерывно двигались богомольцы. Они двигались между ними, как кровь по артериям. А что такое богомолец? Это человек, который в жизни истомился и пошел к святому роднику душой припасть, оживить ее. И вот они получали этот живой дух и несли с собой дальше. Как кровь несет кислород, они несли укрепленную веру. Это явление не новое. Мусульмане тоже нечто подобное делают. Значит, есть в этом естественная закономерность. Сейчас православные кровотоки потихоньку стали обновляться. Так смотри, как интересно! Наши собственные вожди этого не замечают, а Немчик уже тут как тут, носом вертит: опять в лесах русским духом пахнет? Что его заставило все бросить, да по зимней дороге к нам две сотни верст ехать? Ответ простой: боязнь православного возрождения.
Вот ты говоришь, мы грешим не меньше других. Это правда. Но ведь согласись, большинство из русских людей воспринимает грех как грех, и не ищет себе оправдания. Не все, конечно, но большинство это знает, даже молодежь. Сколько ко мне молодых женщин приходило, каялись в грехе аборта. Каялись! У нас, пока, слава Богу, нет женских организаций в защиту аборта, как в западных странах. Подумать только: женщины в защиту права убивать своих детей! А мы способность видеть грех не утратили, от этого и идут богомольцы по проторенным тропам. В этом наше отличие от европейцев. Так что, не умер еще русский дух, живет в глубине нашей души.
Матвей горько покачал головой:
– Но ведь это различие пока едва заметно. Большинство из нас стремится как раз стать такими же европейцами.
Звонарь внимательно всмотрелся в лицо своего друга. За прошедшее время он успел привязаться к этому суровому и верному человеку, понять, как он страдает за судьбу своей земли. Матвей, наверное, сам не понимал, что сейчас противоречит себе. Кому как не ему, штучному военному специалисту, не тянуться к западным стандартам, воображать себя в пучине современной цивилизации, окруженным всевозможным умным комфортом и удобствами, солидной зарплатой и уважением окружающих? Почему же вместо всего этого он сидит в этой убогой избушке без всех удобств, питается скудно, читает при керосиновой лампе и не знает никаких развлечений? Разве не потому, что он в первую очередь русский человек, сумевший сохранить свою совесть такой, какой она досталась ему от предков? Разве можно утверждать, что в стране осталось мало людей с совестью? А те, кто идут к этой избушке бесконечной чередой, не совестью ли своей движимы? И тех, кто пошел в смертельную зону Чернобыля без надежды на спасение, разве не совесть повела? Таких примеров несметное множество, именно они для русского человека характерны.
– Не соглашусь с тобой, не соглашусь, Матвей. То, что наших людей обманули и навязали им западные взгляды на жизнь, это правда. Особенно молодежи. Но кроме взглядов есть еще душа. Именно душой человек чувствует незримую грань между добром и злом. Ведь зло часто надевает маску добра. И вот здесь мы другие, потому что у нас по истории другая духовная культура. Мы избежали капитализма, а капитализм выращивает эгоистов. Это его огород. Он на эгоистах урожай собирает. Но эгоизм и вера несовместимы. Помнишь «Возлюби ближнего своего…»? Они не уживаются. Поэтому капитализм веру изживает. А это путь к самоуничтожению, потому что человеческий эгоизм, если его не удержать, приведет к концу мира. Как сказал апостол Павел: «…тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят из среды удерживающий». Вот и получается, что сегодня мы, ослабленные и побитые, остались единственным островком, на котором еще есть сопротивление тайне беззакония.
Матвей задумчиво потер лоб ладонью и сказал:
– Что-то я не верю, что Ельцин хоть какое-то понятие имеет о том, что ты говоришь.
– Нет, конечно. Ельцин пришел для того, чтобы русского человека дожать до самой земли. Думаю, в результате его деятельности у многих глаза откроются на происходящее. Вот тогда настоящая схватка и начнется.
– Ты думаешь, наши люди способны объединить силы для духовной борьбы? Да у них сегодня вообще никакой идеи в головах нет.
– Идеи нет, это правильно. Но получится следующим образом. Вот мы о Немчике говорили, мол приезжал, любопытствовал. Бесы тем и характерны, что первыми в наступление идут. Немчик у них – как фронтовая разведка. Сегодня вроде бы еще и нужды никакой нет бороться с русским самосознанием. Где оно? Нету его! А они уже идут в атаку. Вон, смотри, какие пляски раскручивают и в газетах, и по телевизору, и на радио. Цель одна – задавить русский дух. Осмеять, поглумиться, унизить в глазах каждого. Слова-то какие придумали: «коммуно-патриоты», «красно-коричневые» «русские ксенофобы»! Хотят, чтобы русский человек стеснялся своего происхождения. Значит, понимают опасность для себя, торопятся, поспешают, не хотят, чтобы русский дух взял да и вышел из своего укрытия. А суета эта как раз против них и действует. Она – как соль на раны русского человека. Он смотрит, как над ним глумятся, и начинает потихоньку созревать для ответа. И думаю я, Матвей, что есть в этом Божий промысел. Есть! Будем мы снова православной страной, вот посмотришь. Другого пути у нас нет. Но если такая большая страна, как Россия, станет всенародно православной, то и роль Удерживающего будет только ее.
33. Филофей Бричкин
Настала пора расставаний в краеведческом музее. Кто бы из бестелесных знакомцев ни явился Филофею, все приходили прощаться. Аполлинарий Евсеич Захолустный обставил свой визит особым образом. В один из сереньких дней, когда Филофей вознамерился прилечь на кушетке после обеденной закуски и уже смежил очи, в помещении заревела иерихонская труба Аполлинария:
– Восстань, о старая телега, к тебе пришел прощаться я!
Бричкин подскочил на своем ложе и испуганно выкатил глаза. Перед ним красовался Захолустный во весь свой великолепный рост. Обычно мрачное лицо его озаряла ухмылка.
– Вы что, Аполлинарий Евсеич, совсем с рассудку съехали? Так и дурачком сделать можно.
– Да ладно, Филя, не кручинься. Мозгов у тебя на рассудок уже не наберется, да и к нам скоро переедешь. А я к тебе попрощаться пришел, призывают, знаешь ли, на поэтическую службу!
– Что, ТРАХ устраивать, или как?
– Про ТРАХ я при жизни писал, зря ты… А буду крестьянским парнишкам рифмы насвистывать. Глядишь, нового Есенина Сережку высмотрю.
– А раньше-то что, запрещено было?
– Нет, не запрещено. Просто парнишкам власти слух затыкали. Много способных поэтов так и не народилось из-за этого. Напишет такой в газетку первый стишок, а газетка его так ошпарит, что он замолкает. Советская власть тогда собственные теплицы для поэтов имела и в них всяких сорняков по блату напихивала. Вот и вырастали пустозвоны. Я одного век не забуду. Фамилия не важна, цитирую по памяти. «Август» называется:
Шибануло холодами, И пришел цветам каюк. С замороженными ртами Птицы бросились на юг. Август – это лёт листа, Снег – не время августа.Вот так, Филя, если у птиц есть рты, то у нас с тобой должны быть клювы, а напечатана эта бредятина в толстом журнале, каково? Только теперь мы снова детей природы растить будем. Появятся, появятся соловьи. Подожди маленько.
– А сами-то Вы больше не пишите?
– Здесь это по-другому называется. Если мне будет позволено, то кое-какие строчки я земным поэтам нашепчу. Чай, у меня гениальные рифмы есть. Взять хоть эту:
«Не гляди на меня ледовито И улыбкой своей не мани. Мое сердце в янтарь ядровитый Превратилось из лавы любви….»Бричкин хихикнул:
– Ледовито – это как?
Аполлинарий схватился за патлатую голову:
– С кем я говорю! На кого трачу вибрации голосовых связок! Он не знает ледовитого океана, этого взгляда ледовитого, ледяного, как я могу метать бисер перед…
– Успокойся, Аполлинарий Евсеич, пошутил я. Каждому русскому человеку понятно, что такое – смотреть ледовито…
– Нет, нет, быстрей в деревню. Быстрей к молодой поросли, не способной на эту тупую реакцию. Я ухожу, ухожу, прощай Бричкин, ты еще услышишь мои звоны в стихах молодых!
Красный командир Федор Собакин также прибыл с прощальным визитом. Он выплыл перед Бричкиным в своей кавалерийской шинели, едва тот успел переступить порог музея.
– Уезжаю, Филофей Никитич, прощайте. Больше не свидимся.
– Как же так? Или стряслось что? – заволновался Бричкин, привязавшийся к Собакину.
– Неужели не стряслось, бесы в Кремле! У нас всеобщая мобилизация, горны трубят.
– И у вас там тоже сражения идут?!
– Как же иначе, Филофей Никитич? С тех пор, как грешные ангелы отпали от Господа, мира не стало. Сражения идут постоянно. Но теперь будет весело!
– А почему же Господь падших ангелов не рассеет?
– Они прячутся в человечестве. Чтобы их рассеять, надо уничтожить людской род. Пока срок этому не пришел.
– И как же вы будете бесов из Кремля изгонять?
– Всеми силами. Много предстоит повоевать. Сразу не одолеем.
– А кто главный у них?
– Неужели не видите? Каждому же понятно!
– Батюшки! Неужели…? Коли так, то какие же мы люди, если черта к власти привели?
– Такие вот вы люди, Филофей Никитич. Вам еще за это отвечать надо будет, а мы уже сегодня против него выступаем.
– И как же вы с ним бороться будете?
– Этого Вам знать не дано. Но о многом скоро догадаетесь.
– Значит, не победят нас черти?
– Нет у меня на это ответа. Как Господу будет угодно. Вы ведь все сделали, чтобы его благодать утратить.
Собакин исчез, а Филофей задумался. Невидимый лаз между тем и этим миром постепенно затягивался. Все меньше знакомцев из прошлого появлялось перед его очами. Невидимая рука закрывала дверь, как бы дав очевидцам удостовериться в неприкаянности и бессмысленности их земной безбожной жизни.
34. Охота за «Каратом»
У человека, играющего в смертельную игру, всегда обострено ощущение опасности. Он тонко улавливает все нюансы поведения окружающих, и порой по одному неосторожно брошенному взгляду может о многом догадаться. Джон Рочестер имел все основания опасаться, что в случае разоблачения его ждет немилосердное наказание. СИС не прибегает к физической расправе над предателями из собственных рядов, но и без этого в ее руках довольно рычагов, способных сделать жизнь человека невыносимой. Здесь действует негласный принцип мести до самого конца, не ограничиваясь решением судебных органов. Изменников следует травить через все имеющиеся возможности, доводить их до психушки или самоубийства. Джон знал, что в этой службе не только за предательство, но и за простой бунт можно заплатить очень высокую цену. Разведка Ее Величества по своему внутреннему укладу очень близка к масонской ложе. Однажды вступившему в нее лучше с ней не ссориться. Правда, эта безжалостность мало помогала ей и она не раз терпела громкий позор предательства от самых лучших своих работников. Было время, когда Москва в деталях знала обо всех интригах Уинстона Черчилля, а также его преемников. Может быть, из-за этого позора СИС так болезненно реагирует на любую возможность измены, внимательно вынюхивает любой ее признак и, заподозрив, тут же начинает копать с ретивостью полицейского бульдога.
Началось с того, что «Карат» обратил внимание на изменившийся взгляд резидента. Дональд Крейзи стал в разговорах с ним как-то необычно отводить глаза в сторону, словно опасаясь выдать взглядом некую особую мысль, о существовании которой Джон не должен знать. Рочестеру это не понравилось. Он стал по вечерам записывать беседы с резидентом и выделять в них те вопросы, которые тот задавал ему по работе среди иностранных дипломатов. Каждый вечер Джон аккуратно заносил столбиком проведенные днем диалоги и многократно перечитывал их. В результате проявилось, что шеф, как бы невзначай, неоднократно касался его контактов в дипкорпусе, выясняя точное время встреч и других мероприятий. И хотя о русских никогда не заходила речь, Рочестер заподозрил, что дело касается именно их. Ведь можно провести сопоставление всех выходов «Карата» в город с выходами в то же время советских разведчиков. Тут необходима помощь немецкой контрразведки, которая ведет тщательный учет всех передвижений русских, какие только можно зарегистрировать. Затем несложная компьютерная программа выдаст список всех сотрудников русской резидентуры, покидавших посольство в те же дни, что и Рочестер. Из них отсеиваются те, кто быстро вернулся или участвовал в официальных мероприятиях. Остаются только отлучившиеся надолго и вынырнувшие примерно в то же время, что и Джон. Таких будет от силы один-два, а скорее всего – один, скажем, Иванов. Немецкая наружка за ним не пошла, но это не значит, что о его поведении в городе не сохранилось никаких сведений. В электронных базах контрразведки имеются материалы наблюдения за всеми основными развязками города. По ним обратной отмоткой можно восстановить прохождение автомашины данного русского. Компьютер покажет, что в тот самый день, когда Иванов покинул посольство, его машина была засечена рядом видеокамер, в том числе и при въезде, к примеру, в район Кепеник. Туда же с другой стороны въехала и автомашина британского дипломата Джона Рочестера. Вот и весь фокус. А если Джон скажет шефу, что в тот самый день он встречался с испанским дипломатом в кафе на Музейном острове, то можно брать его в разработку.
Давно дремавший в глубине души Рочестера червячок поднял голову и неожиданно больно вонзил свои зубки в сердце. «Карат» почувствовал беспокойство. Сначала он пытался отогнать подозрения. Работа с Булаем строилась чисто. Никаких сбоев, никаких ошибок. Оба знали свое ремесло и делали дело по всем его правилам. Но чувство опасности не покидало Джона. Будто прилетела через приоткрытую дверь в его дом какая-то злобная химера и угнездилась под потолком, лишая своим невидимым присутствием сна и покоя. К тому времени Рочестер уже получил развод и жил в одиночестве. Всего за четверть месячного оклада Иветта оставила его в покое. Она хотела, конечно, больше, но судья не отреагировал на ее призывно-томные взгляды, зато предположил, что достойный мистер Рочестер ведет себя по-джентельменски, великодушно утаивая проделки этой ямайской обезьяны. Результатом незримого взаимопонимания двух джентельменов стало минимальное пособие для бедной женщины. Сейчас у Джона образовалось достаточно свободного времени, чтобы разобраться с нахлынувшими на него подозрениями. Нет, в Берлине прокола быть не могло. Более вероятна расшифровка в Москве. Он знал из рассказов коллег, что црушники стали называть Москву шпионским Диснейлендом. О вседозволенности российских чиновников ходили легенды. Впервые за всю советскую историю России, западные разведки нахватали в Москве большое количество источников. Такого не было никогда. КГБ сторожил секреты как цербер, и вербовки русских агентов здесь были редким и опасным делом. А теперь продажный чиновник сам шел на ловца. Хотя качество большинства агентов оставляло желать лучшего. Среди этой публики встречалось много людей разложившихся и непригодных для серьезного сотрудничества. Тем не менее, секретная информация из ПГУ к ним порой попадала, и именно они могли дать утечку.
Рочестер не хотел праздновать труса в глазах Булая потому, что у него не было никаких реальных зацепок для подозрений. Только интуиция. А он знал, как часто интуиция обманывает агентуру, ведь она работает на очень высоком нервном напряжении, и тут подсознание может давать сбои. Нет, Джон не хотел показаться Даниле трусоватым. Между ними уже выработалась некая особая, слегка саркастическая манера общения. Каждый видел в другом профессионала хорошей пробы, не способного срываться по мелким поводам. Джон даже предполагал, что Булай может отреагировать на его опасения в насмешливой манере. Но ночные муки стали невыносимыми, и он решился поделиться с Булаем. Они встречались нечасто. Основная переписка шла через тайники. Агентам уровня Рочестера, как правило, не дают специальной техники для связи. Слишком близко они находятся от специалистов этого дела, и хорошо проведенный негласный обыск может выявить такую спецтехнику. Другое дело – тайники, мало чем отличающиеся от своих древних предков. Человек сверлит ручной дрелью отверстие в деревяшке, закладывает туда свернутый в трубочку листок с текстом или фотопленку, заливает вход бытовым клеем и бросает это сокровище в условном месте в условное время. Точно также он получает и ответные послания. От случайностей и здесь никто не даст гарантии, зато негласный обыск дома, уж точно, ничего не выявит. Вместе с тем, у тайников есть и свои недостатки. Переписка идет довольно медленно, и когда нужен быстрый обмен информацией, они для этого не очень подходят. На такие случаи предусмотрен вызов на экстренную встречу. Его Рочестер когда-то предложил Булаю сам. Помимо этого, существовал еще и сигнал опасности, который предусматривал прекращение связи на длительный период.
Однако до этого ситуация еще не дошла, и «Карат» решил провести с Булаем личную встречу.
Вечером Рочестер вышел на свою ежевечернюю прогулку и направился к Александерплатц. Он шел не спеша, зорко посматривая по сторонам, но ничего подозрительного не замечал. Унтер ден Линден была полна оживленных пешеходов, вечернее солнце отражалось в цветных стеклах Дворца Республики, наступавшие сумерки были по-немецки покойны и наполнены домашним уютом. Джон не видел ничего подозрительного, но ощущал чьи-то глаза, наблюдавшие за ним со стороны. Нет, нет, он не обманывался. Это чувство посещает профессионалов именно тогда, когда появляются такие глаза. Есть в природе что-то неосязаемое, что-то неуловимое, долетающее до наших органов чувств и предупреждающее нас об опасности. То самое, что заставляет нас неожиданно для самих себя изменить решение и потом тысячу раз возблагодарить это чувство за то, что оно во время к нам подоспело. Да, глаза неуловимо плыли где-то рядом. Потом он пошел к месту постановки сигнала, сел на лавку неподалеку от фонтана с Нептуном и нимфами, достал свой карманный блокнот, и углубился в него, делая пометки карандашиком. Посидев минут пятнадцать, Рочестер встал и пошел дальше. Он знал, что наблюдающие не подходили к нему на близкое расстояние, в этом не было никакой нужды. Поэтому он без труда сумел провести карандашиком по скамейке и оставить на сиденье небольшую полоску. Завтра в семь утра Булай протопает мимо рысью неисправимого охотника за инфарктом и увидит этот сигнал. Значит, поздно вечером они встретятся у лодочной станции на берегу Меггельзее. Там в эту пору нет ни души и можно будет поговорить без свидетелей.
На следующий день Данила прочитал сигнал и доложил о нем резиденту. Вызов на экстренную встречу всегда является особым случаем. Если же вызывает агент, работающий во вражеской разведке, это вдвойне особый случай. Он не приходит по простой прихоти источника. Чаще всего это говорит о возникновении особых обстоятельств.
Разведчики проанализировали все, что только может быть связано с вызовом. Обстановка вокруг Булая была довольно спокойной. Повышенного интереса к себе со стороны противника он не замечал. Выявленные случаи наружного наблюдения вписывались в рутинную схему и не отличались от работы за другими сотрудниками резидентуры. Каких-либо особенностей в отношениях с «Каратом» также не было. Его корреспонденция уходила в у центр и хорошо использовалась, хотя оба знали, что Директор многое из материалов агента оставляет при себе и не посылает в Кремль. Не рискует. Но, тем не менее, они учитываются в работе и польза от них несомненна. Деньги за работу переводились на анонимные счета источника за пределами страны, и здесь комар носа не мог подточить. Поэтому решили на встречу с агентом выйти, предварительно обставив ее максимумом предосторожностей. Место вступления в контакт у лодочной станции было удобным потому, что к нему вела только одна дорога, и любое наблюдение будет вынуждено следовать в «хвост». Ехать по параллельным путям там было невозможно. А на случай, если наблюдение отстанет очень далеко, на его пути можно посадить засаду, которая его все равно засечет.
После длительной поверки Булай и обеспечивающий его операцию сотрудник подъехали к развилке на краю берлинского пригорода Фридрихсхафен, от которого дорога вела к станции. До нее оставалось еще около километра. Данила пошел дальше пешком, а напарник отогнал машину в сторону, спрятал ее в лесочке, а затем вернулся к развилке и укрылся в кустах.
Булай ждал «Карата», прогуливаясь по тропинке в полной темноте неподалеку от освещенной территории станции. По условиям встречи, агент также должен был бросить автомобиль во Фридрихсхафене и добраться до точки вступления в контакт своим ходом. Вместо этого Данила увидел, как по дороге медленно подъезжает автомобиль Джона. Никаких признаков наблюдения за ним не было. Булай решил дождаться, когда Джон подойдет к нему в неосвещенную часть тропы и для начала сделать внушение за разгильдяйство. Агент явно нарушал оперативную дисциплину. Рочестер приткнул машину к ступеням закрытого здания станции и не спеша выбрался из нее, оглядываясь в поисках Данилы. Тот уже собрался показать себя, как вдруг вибратор в его кармане забился, словно оживший майский жук. Три включения подряд – сигнал опасности. Напарник засек наблюдение за Джоном, которое отсюда было не видно. Данила развернулся и стал быстро уходить по тропе от станции. Теперь для него был только один путь – кругом через перелесок к месту встречи с напарником. Через пятнадцать минут он уже сидел в машине и слушал рассказ коллеги. Тот сначала засек автомашину Джона, который, видимо, решил, что чист как ангел и не захотел идти пешком до места встречи. После того, как задние огни его машины скрылись за поворотом, подъехала автомашина с выключенными фарами. Номер ее он записал. Она остановилась, из нее вышли два человека с прибором ночного видения. Они спустились к берегу, засели в кустах и стали наблюдать да Рочестером через прибор. При этом они переговаривались по рации и, надо полагать, где-то по соседству находились и другие участники наблюдения.
Сердце Данилы сжалось. В работе с «Каратом» начиналась та предельно напряженная фаза, в которой разведчик забывает о дне и ночи, о еде и питье. Теперь все будет посвящено только одному – спасению агента.
С тех пор, как Вы посмотрели фильм о Штирлице, читатель, Вы уже не сомневаетесь в том, что разведчик работает в основном головой. И вправду, за все семнадцать мгновений весны Максим Максимыч укокошил лишь одного провокатора, да еще опробовал крепость немецкой стеклотары на голове другого негодяя. А все остальное время он думал. Это близко к правде, потому что в разведке действительно надо очень крепко работать головой. Сорвавшаяся встреча с «Каратом» значительно усложнила ситуацию. Булай встал перед необходимостью хотя бы в целом понять, что происходит. В его распоряжении было всего лишь два факта: первый – вызов от агента на экстренную встречу и второй – обнаружение за ним наблюдения немецкой контрразведки. То, что засеченная машина принадлежала немцам, не вызывало сомнений. Ее номер был известен резидентуре. Из этих двух фактов можно при желании нагородить любой сценарий, была бы фантазия. Такими вещами очень любят заниматься молодые разведчики, сидящие в центре и получающие отчеты из точек. Но Булай этот возраст давно прошел, и ему нужно было составить максимально вероятную картину происходящего. Первый вопрос, который приходил сам собой звучал так: может быть, немцы пошли за «Каратом» из каких-то своих соображений? У него есть дела, к которым контрразведка неравнодушна и, возможно, она решила его слегка потрясти? Но такая вероятность была довольно мала. Конечно, немцы были не такие дураки, чтобы оставлять без надзора резидентуры ЦРУ и СИС. В коварстве этих союзников им сомневаться не приходилось. Поэтому все линии связи, контакты и их популярные места посещений были под пристальным контролем. Но наружка…. Это такой острый инструмент, который не выявляется профессионалом, только если задействуется массированно. А что такое, скажем, одновременная работа двадцати бригад за одним разведчиком? Это огромные деньги, и тратить их будут только в случае крайней необходимости. Пускать же за союзником пару-другую машин – означает обречь их на расшифровку, и следовательно, обидеть ни в чем не повинного человека. Могут быть неприятности. Поэтому американцы и англичане не часто видели за собой «хвосты» в Западной Германии.
Другим вариантом могла быть работа контрразведки «от контакта». То есть, за «Каратом» пошли не потому, что он сотрудник СИС, а потому, что наблюдали за кем-то другим, и этот другой пересекся с агентом. Из этой точки пересечения вполне могла последовать попытка выяснить, какую, собственно, роль играет «Карат» в деле другого объекта изучения.
И, наконец, третий, самый неприятный вариант: немцы пошли за «Каратом» потому, что резидентура в чем-то прокололась.
Законы разведки таковы, что независимо от степени вероятности первых двух версий, оперработник обязан отрабатывать третий вариант. Даже если он кажется ему самым нереальным. Но для того, чтобы начать отработку, следовало все-таки вступить в контакт с источником, получить от него исходные ориентиры и наметить план действий. Конечно, проще временно прекратить связь и лечь на дно. Как говорится, нет связи – нет проблемы. Но если неизвестно, что за улики у противника имеются против Вашего источника, этот способ не очень честен. Возможно, Вы бросили своего человека на произвол судьбы. Поэтому Данила решил вводить в действие аварийные способы связи.
На следующее утро «Карата» разбудил телефонный звонок. Тот поднял трубку, но в ней уже слышались длинные гудки. Так повторилось еще два раза. Это был сигнал к переводу связи на самый острый и вынужденный способ общения – на моментальные встречи. Моментальные встречи, или как их называют в разведывательном обиходе, «моменталки», пользуются заслуженной нелюбовью у оперативных работников. Нет ничего более трудоемкого, чем подобрать место «моменталки», а потом еще и удачно провести операцию. Но зачем нужна моментальная встреча?
Вот представьте, читатель, что за Вашим агентом пошло плотное наблюдение. Десятки людей вращаются вокруг него, регистрируя каждый его контакт, каждый его поступок. А Вам позарез нужно ему что-то передать. Как это сделать? На личной встрече в ресторане – исключено. Через тайник – очень рискованно. Ведь на тайник надо выходить без наружки. А если наружки столько, что ее не выявить? Вот за иудой Пеньковским, например, ходило сто бригад. И он, конечно, их не выявил. Остается моментальная встреча – мгновенное соприкосновение двух людей, которое даже наружка не заметит. Но нужно это соприкосновение так подготовить, чтобы оно действительно не было замечено. А как Вы это сделаете, если Вас прекрасно знают в лицо немецкие контрразведчики? Вот Вы появитесь поблизости от источника, и Вас сразу заметят. Можете себе представить, какой переполох поднимется в эфире. Так что это дело совсем не простое, ведь в этот самый ответственный момент Вам необходимо быть невидимкой. Простое или не простое, а в работе с ценными источниками разрабатывается весь комплекс связи, в том числе имеются и схемы моментальных передач. Даниле пришлось немало исколесить улочек и закоулков Берлина, изрядно почертыхаться про себя, прежде чем появились такие схемы. Две из них были своевременно переданы «Карату», и телефонным звонком он получил вызов на первую. Время у нее обговорено железно, а дата автоматически образуется на следующий день после звонка.
В восточной части Берлина, которая еще недавно являлась социалистической, имеется старый жилой район, где до войны концентрировались семьи рабочих и мелких служащих. Район этот расположен неподалеку от центра и восстановлен в том виде, в каком существовал раньше. Дома там стоят плечом к плечу, без просветов, на нешироких мощеных улицах нет ни единой зеленой травинки, фасады их закопчены и безлики. На этих улицах нет красивых магазинов, а лишь кое-где в первых этажах приткнулись мелкие лавчонки и мастерские, зато везде царит запах быта простых людей: запах белья на балконах, сточных вод, сочащихся из старой канализации, бачков с пищевыми отходами, да бензиновая вонь двухтактных автомобилей. Попав сюда, Вы сразу понимаете, что в Германии продолжает свое существование пролетариат, который привык жить своей пролетарской жизнью, совсем не похожей на жизнь добропорядочного бюргера. Здесь не редкость общие туалеты на межэтажных пролетах, соседи играют в «штос» на стакан пива, а дети носятся по дворам стаями и орут как галчата. В этих кварталах люди знают друг друга всю жизнь и, наверное, поэтому семейные дела известны многим, а интимные секреты порой обсуждаются наряду с коммунальными вопросами. В этом отдельном мире неискоренимы и нравы трудового люда. Поэтому ни от пьяной драки, ни от призывного взгляда встречной «фрейлен» зарекаться не следует. Но главное, что особенно привлекает разведчика, заключается в демократизме этого простого общежития. Здесь Вы появитесь и исчезнете незамеченным по той простой причине, что никому до Вас нет дела. Это совсем не буржуазный квартал, где каждый пришелец сразу попадает под бдительное око охранников, телекамер и домохозяек, торчащих из окон. А еще большим преимуществом этого района являются подъезды, которые не закрываются на замок, и через них можно пройти насквозь либо на другую улицу, либо в лабиринт дворов. Так что вполне логичным образом место для моментальной передачи в пешем порядке Данила подобрал именно здесь. В обусловленное время «Карат» зашел в подъезд, из которого вела дверь в маленькую антикварную лавчонку. Подъезд был сквозным, и там его ждал Булай. Они обменялись пакетами и Данила ушел через задний выход в переулки до того, как за «Каратом» в лавку впорхнула барышня из бригады наружного наблюдения. Первая моменталка была проведена успешно.
Теперь поговорим о профессионализме, читатель. В данный момент это самое главное качество, которое требуется от Булая и Рочестера. Практически, каждый из них должен был предугадать запрос другого и максимально ответить на него своим посланием. Если же кому-то из них этого профессионализма не хватило, то этот моментальный обмен информацией может уподобиться разговору двух глухих. С «Каратом» дело обстояло проще. Он почувствовал, что его обложили всерьез, и принял решение бежать. В принципе, бежать можно и без помощи разведки, но это будет очень напоминать бегство зайца от своры борзых. А разведка обеспечит всем необходимым, чтобы сбить борзых со следа. Агенту было хорошо известно, каков набор нужных для бегства средств. Поэтому в пакете «Карата» находилась записка с обоснованием необходимости перехода на нелегальное положение, две фотографии на загранпаспорт, образец подписи некоего гражданина Канады Джона Тутса, а также просьба передать ему несколько тысяч долларов наличными. Как Вы понимаете, читатель, своей кредитной карточкой при побеге он пользоваться не мог, потому что для спецслужб нет лучшего ориентира, чем появление факта пользования данным финансовым инструментом в тех или иных городах и весях мира. Выкинуть же этот финансовый инструмент Джону ничего не стоило, потому что на счету его хранились сущие пустяки, а основные запасы лежали в далеком зарубежье на анонимных вкладах. Нужны были наличные, и он не мог запасти их самостоятельно. Это сразу бросилось бы в глаза.
Конечно, Данила догадывался о том, что получит в пакете от Рочестера, но не спешил так быстро поддаваться на его утверждения, что все пропало и пора бежать. Нужно было по-настоящему проверить ситуацию, ведь терять источника в СИС обидно. Когда еще он появится снова? Поэтому в пакете Данилы лежал совсем другой набор для агента. В нем находилось два пакета поменьше. В одном прелагалось продолжить проверку, чтобы убедиться в том, что это «колпак», а в другом – вариант перехода на нелегальное положение.
Нет ничего хуже, чем выдумывать поверку на чистом месте и готовить для нее спецтехнику.
Это может занять очень много времени. Ситуация же складывалась так, что медлить было недопустимо. Поэтому Данила решил воспользоваться оперативной заначкой, ждавшей своего часа еще со времен ГДР. С тех достославных времен у него оставался на связи резидент Вилли, старый восточногерманский контрразведчик, который много помогал резидентуре до воссоединения Германии.
После воссоединения пришлось прекратить с ним регулярную работу, но к помощи Вилли Данила все же прибегал, когда без нее невозможно было обойтись. Теперь настал как раз такой случай. И в проверке ситуации вокруг Рочестера, и в его переводе на нелегальное положение содействие Вилли было неоценимо. Как гражданин Германии, он мог осуществить ряд шагов, которые для российского дипломата были невозможны.
Рано утром следующего дня Данила проверился в пригороде Берлина, бросил автомашину неподалеку от вокзала Адлерсхоф, приехал на электричке в район проживания Вилли и выставил ему сигнал вызова на экстренную встречу. Каждый утро Вилли или его жена Гертруда шли в булочную за свежим хлебом, и сигнал выставлялся именно на этом маршруте. Они были приучены, проходя мимо будки телефона-автомата, смотреть, не появился ли под ручкой двери маленький кусочек белого лейкопластыря. Если появился, то Вилли выходил на встречу в условленном месте в тот же день, в 16.00.
Они сидели в гастштетте, где лица их не могли примелькаться, потому что это было место только для экстренных встреч, а таковые случаются не часто. Данила не узнавал своего друга, работа с которым приостановилась сразу по нескольким причинам. Первой из них было подкосившееся здоровье резидента. Он страдал сильной гипертонией, которая после катастрофы ГДР перешла в тяжелейшую форму. Приступы высокого давления у него были настолько тяжелы, что его давно нужно было лечить в стационаре. Но резидент не хотел и думать о больничной койке. Иногда он едва добирался до места встречи с Данилой, и бывало, что ему приходилось принимать сильнодействующие лекарства прямо во время беседы. Однажды, уходя из кафе и надевая плащ, Вилли пошатнулся и стал оседать на пол. Подбежавший официант вместе с Данилой подхватили его и усадили на стул. Официант хотел было вызвать «скорую помощь», но Вилли запротестовал и, наглотавшись таблеток, через некоторое время побрел домой. Булай с тяжелым сердцем смотрел ему вслед. На его глазах уходила славная эпоха борьбы и побед, уходила преданная и оболганная. Глядя на него, Булай задавал себе вопрос: а не ждет ли его участь этого немца? Ведь спектакль с КГЧП высветил крайнюю непорядочность тех, кто боролся за власть. В этой борьбе давно забыли об интересах страны и живущего в этой стране народа. Так на что сейчас работает разведка, спрашивал себя Данила и не находил никакого ответа кроме одного: разведка должна бороться за собственное выживание. Она обязана сохранить себя для будущего. Себя и свою агентуру. Вурдалаки не могут находиться у власти бесконечно. Все равно русский народ переболеет всем этим и выдвинет в руководители достойных политиков. По-другому не может быть. А сейчас не смотри на весь этот шабаш, не думай ни о чем. Работай, спасайся работой.
Только для Вилли подобные рецепты уже не годились. Он был серьезно болен, и Данила с грустью понимал, что скоро их сотрудничеству придет конец. В то же время, было необходимо помогать своему верному другу перенести эту страшную пору. Булай видел, что несмотря на ослабшее здоровье, самое лучшее лекарство для Вилли – это ответственное оперативное задание. Странная ситуация – агент находится под следствием и одновременно выполняет задания. Такое случается не часто. Относительно Вилли был начат процесс люстрации, как и против всех бывших офицеров МГБ. Его внесли в список лиц, против которых ведется следствие и которые поражены в ряде гражданских прав до вынесения приговора суда. Правда, пока все следствие заключалось только в двух вызовах на допрос. В ГДР проживали тысячи бывших сотрудников МГБ, и у немецкой юстиции не хватало сил одновременно вести против всех полноценное дознание. Такое она могла позволить себе только в отношении наиболее выдающихся противников, к которым имелся особый счет. Остальные ждали своей очереди.
Из глаз Вилли текли слезы, и он не пытался их скрывать. Жизнь его завершалась печально. То, что он в ГДР делал по закону, объявлялось противозаконным и подлежащим преследованию. Его жена очень тяжело переживала внезапно обрушившуюся на них изоляцию со стороны соседей и бывших знакомых. От них отвернулись даже те, кого они считали близкими друзьями. Гертруда начала болеть, потом слегла, почти не поднималась с постели и стала постоянно говорить о приближающейся смерти. Вилли видел, что депрессия повлекла у нее сумерки рассудка, но он не в состоянии был ободрить ее. Настал момент, и новые власти сообщили им о предстоящей конфискации маленького особняка, в котором они жили. Им предлагалось подготовиться к переезду в крохотную «социальную квартиру» в отдаленном районе Берлина, куда ходила только древняя городская электричка. Материальные трудности мало смущали старика. Он вышел из пролетарской семьи и за всю свою жизнь не развил в себе чрезмерных аппетитов. Но то, что произошло с ГДР, тяжелым камнем легло ему на сердце, и он готов был сделать все, что угодно, чтобы дать свой ответ тем, кто так подло и коварно одолел Германскую Демократическую Республику.
Они разговаривали несколько часов. Данила неоднократно повторил резиденту весь инструктаж в деталях, нарисовал и пояснил необходимые схемы и вручил деньги. План встречи был исчерпан полностью, но Вилли не хотел уходить. Он смотрел на Данилу печальными глазами, говорил об их дружбе, перевалившей за десять лет, вспоминал других русских ребят, работавших с ним, и из глаз его текли слезы. Немец вытирал их скомканным носовым платком, извинялся за слабость, но слезы все текли и текли. Булаю вдруг пришло в голову, что Вилли прощается с ним навсегда, но он тут же отогнал эту мысль прочь. Они расстались запоздно, и Данила вернулся домой с тяжелым чувством.
Через день Вилли получил от Булая необходимую аппаратуру и начал действовать.
Еще год назад он снял на подставные документы по заданию Булая номерной почтовый ящик. Такие ящики были распространены в Европе до наступления эры электронной связи и ими пользовались широкие массы трудящихся. Стоит такой ящик в ряду себе подобных где-нибудь неподалеку от почтового отделения, и Вы можете всегда открыть его собственным ключом и посмотреть, что в нем есть. Ключ имеется только у Вас и никто не может влезть в ящик. Это удобно, потому что никто не знает, кому и от кого пришла корреспонденция. Тайна переписки, так сказать. Снятый ящик не был засвечен в оперативной работе, и было решено прибегнуть к нему в этот раз. Вилли очистил содержимое железной коробки от рекламных листков и поставил в ней химическую метку на вскрытие. Теперь, если кто-то откроет дверцу ящика, то в него попадет дневной свет и засветит невидимое химическое пятнышко. Примерно через полчаса это пятнышко станет белым, похожим на каплю краски. Когда придет разведчик и также откроет дверцу, он увидит, что здесь побывали любопытные. На следующий день с утра Вилли запарковал через дорогу от ящика свою «хонду», на задним стеклом которой лежала аптечка. В ней был спрятан автоматический фотоаппарат, который каждые сорок секунд делал фотоснимок через едва заметное отверстие в кожаном корпусе сумки. Аппарат был способен работать в таком режиме сутки. В задачи Вилли входила также перезарядка фотоаппарата, если это понадобится. В этот же день Рочестер, следуя инструкции Данилы, вышел на маршрут, посетил Торговый Дом Запада – самый большой универмаг Берлина и сделал вид, что покупает себе костюм. Естественно, при этом он заходил в примерочную кабину. После него кабину обследовали сотрудники бригады наружного наблюдения. Они нашли прилепленный к внутренней стороне лавки кусочек бумаги, на котором была написана шестизначная цифра. Данила распланировал операцию точно. Контрразведка в течение одного вечера высчитала, что этой цифрой может быть обозначен номерной почтовый ящик, снятый Вилли. Как показали кадры фотосъемки, сначала к ящику подходили двое мужчин, которые изучили его снаружи и не стали трогать. Через сутки к нему подошли двое других мужчин, которые также долго стояли рядом и что-то обсуждали, но прикасаться к ящику не стали. В одном из мужчин Данила опознал резидента СИС Дональда Крейзи.
В работе Данилы наступила авральная полоса. Подготовка вывода агента из Германии являлись делом очень трудоемким и требующим большого напряжения сил. Главная беда заключалась в дефиците времени. Времени могло не хватить, потому что неизвестно, какие улики имелись против агента. От оперативности Булая теперь зависело спасение «Карата», а ему требовалось хотя бы несколько дней на подготовку операции. К этому же сроку должен был подойти из Центра и заказанный для Джона паспорт.
К счастью, у Вилли хватило сил для подготовки операции, а фальшивый паспорт для «Карата» также был получен в расчетное время. Можно было начинать, момент для этого назрел. За Джоном днем и ночью ходила немецкая наружка и, судя по ее настырности, она имела приказ не упустить ни одного контакта англичанина. Его разработка явно вошла в заключительную стадию, ареста можно было ожидать со дня на день. В распоряжении Данилы и «Карата» оставалась неиспользованной только одна схема моментальной передачи, которая была необходима для вручения агенту паспорта, наличных денег и плана отрыва от наблюдения.
На этот раз Булай подготовил для «Карата» схему, которая предусматривала автомобильный вариант. Наиболее удобными для такой операции в городе являются многоэтажные паркинги. Въезд в здание паркинга регулируется автоматическим шлагбаумом. Каждая машина ожидает, когда за идущей впереди опустится шлагбаум, затем водитель нажимает на кнопку выдачи талона, талон не спеша выползает из ящика, шлагбаум поднимается и Вы можете въезжать. Разрыв между Ввами и передней автомашиной составит при этом около полуминуты. На этом и был построен расчет Данилы. Он вызвал «Карата» на операцию условным сигналом – маленьким кружком красной клейкой бумаги на углу здания, мимо которого агент каждый день проходил на работу. Время операции диктовал сигнал – вечером следующего дня, в 21.00. Условия операции у источника были.
На следующий день в девять вечера Булай стоял у выезда с третьего на четвертый этаж паркинга в Кройцберге, держа в руках небольшую мужскую сумку. Машин в паркинге было довольно много. Кройцберг считался Меккой для небогатых гостей и охотников до турецких проституток, и в нем кипела ночная жизнь. Ровно в девять ноль одну минуту на этаж с ревом выскочила «Нива» Рочестера с приспущенным стеклом правой двери. Булай коротким движением бросил в щель барсетку и тут же отошел в зону, невидимую для следующих автомобилей, а затем спустился по лестнице для пешеходов на улицу. Была ли за «Каратом» наружка, он не видел.
Получив передачу, агент всю ночь не спал. В нем заработал механизм, включающийся в экстренных ситуациях. Джон готовился к наиболее ответственному этапу операции, который наступит на следующий день. То, что он будет непростым, ему было уже ясно. Сначала он собрал все необходимые вещи и трижды перепроверил их. Затем проложил на карте маршрут движения и скопировал его на бумагу, чтобы лучше запомнить. После этого несколько раз перерисовал схему ухода, запечатлев ее в памяти. Подумав немного, решил схему не уничтожать и оставил ее на всякий случай.
Закончив приготовления, Джон надел тонкие кожаные перчатки и спустился на два этажа ниже, где жил его начальник, поставивший точку в браке супругов Рочестер. Начальник его, Рэй Доул, карьерный сотрудник Форин офиса, был одиноким джентельменом уже довольно солидного возраста и, когда он открыл дверь, Джону не составило особых трудов втолкнуть его внутрь и войти следом. Агент не был намерен разговаривать с этим человеком. Он многие месяцы молча носил в себе жгучую ненависть к нему и был просто не в состоянии устраивать диспут о вреде сожительства с чужими женами. В нем распрямилась пружина мести, существующая в каждом мужчине, у которого украли его женщину. За эти месяцы Рочестер множество раз мысленно расправлялся с Доулом, и вот, наконец, пришло время сделать это в реальности. Начальник был так напуган внезапным появлением Джона, что не мог выговорить ни слова. Он лишь открывал рот, как рыба, и издавал невнятные звуки. По внешнему виду подчиненного ему стало понятно, что постоянно висевший над ним камень, наконец, сорвался и сейчас обрушится на него. А Джон действовал как автомат, исполняя давно заученную наизусть роль. Резким движением левой руки он схватил Боула за грудки, рванул к себе, и когда тот обеими руками ухватился за его левую руку, правой рукой сжал его горло, что было сил. Боул начал конвульсивно дергаться и вырываться из объятий Джона. Но в памяти Рочестера всплыли черные кудри жены, разбросанные по столику в прихожей, мерцающая позади рожа Боула, и руки его сжимались все сильней. Вскоре начальник конвульсивно дернулся, осел на пол и затих. Джон наклонился, приподнял ему веко. Мертвый глаз пожилого джентельмена смотрел в бесконечность. Рочестер выглянул на лестничную площадку и, убедившись, что там никого нет, выскользнул вон, тихонько прикрыв за собой дверь.
Следующий день был воскресным, и рано утром, до того, как в английском посольском доме начали шуметь сливными бачками, Рочестер сел на свою «Ниву» и в сопровождении машины наружки стартовал в сторону Дрездена. Преодолев расстояние до этого города за два часа, он свернул в сторону крепости Кенигсштайн, и к открытию туристического объекта уже заглушил мотор на ближней парковке. Теперь начиналось самое главное. Рочестер стал не спеша подниматься в гору, на вершину крепости, которая средневековым колоссом возвышалась над округой. Оттуда, со стен Кенигсштайна, Эльба казалась ручейком, по которому плыли крошечные скорлупки судов. Воды ее поблескивали в утреннем зимнем солнце, легкий туман размягчал пейзаж и делал его романтичным. Джон с увлечением фотографировал необыкновенные виды Саксонии, отмечая про себя, что если бы не ситуация, то получил бы от них истинное удовольствие. Потом он бродил по верхней части крепости, зашел в музей оружия и сувенирную лавку. Наружка вела себя спокойно, на пятки не наступала. Да и куда ему было деться в этой обстановке? Здесь никуда не убежишь – крепость, лес по берегу Эльбы, да сама холодная река, несущая январский ледок в своих волнах. Медленно прогуливаясь, Рочестер направился вниз, к парковке, иногда останавливаясь, чтобы сфотографировать тот или иной вид. Иногда он смотрел через окуляр в сторону сотрудников бригады наблюдения, и это заставляло их держать дистанцию больше обычного. Приблизившись к парковке, Джон не стал поворачивать на нее, а неожиданно вошел по узкой тропинке в кустарник и быстрым шагом направился к реке. Филеры несколько опешили, но затем также устремились на тропинку. А Джон, убедившись, что они его не видят, уже бежал так быстро, как только мог. Он должен был оторваться хотя бы на половину минуты. Теперь самое главное – не запутаться, тропинка дважды раздваивалась и каждый раз надо было брать правое ответвление. Наконец, он увидел берег реки и мостки, к которым была причалена моторная лодка, тихо постреливавшая двигателем и готовая устремиться от берега. Джон прыгнул в лодку и, едва удержав равновесие, стал отвязывать ее от причала. И здесь он с ужасом увидел, что неправильно дернул за конец и только сильнее затянул морской узел вокруг ножки мостка. Он стал лихорадочно дергать за другой конец, но узел не поддавался, а в кустарнике уже слышалось шлепанье подошв подбегающих к берегу немцев. Понимая, что все летит прахом, Рочестер стал панически шарить по карманам, и наконец нащупал маникюрный ножичек. Лихорадочно выхватил его, стал разворачивать и так дернул за лезвие, что нож выпал из рук и шлепнулся в воду. Джона бросило в жар. Он в отчаянии оглядел лодку и вдруг увидел под лавкой старый рыбацкий нож, которым рыбаки потрошат пойманную рыбу. Он схватил его и с силой полоснул лезвием по натянутому нейлону. Веревка надорвалась в месте надреза, но продолжала держать. Джон уже видел мелькание приближающихся фигур в кустах, когда секанул еще раз и перерезал чал. Он опустил хвостовик мотора в воду, схватил ручку газа и до отказа повернул ее. Мотор взревел разбуженным зверем, лодка задрала нос и, поднимая за собой бурун, вылетела на открытую воду за секунду до того, как на мосток выскочили филеры. Они постояли на берегу, глядя на стремительно удаляющуюся моторку, потом переглянулись и побежали к своей автомашине. Но в галопе их не было большого энтузиазма. Мост был далеко. Рочестер гарантированно отрывался.
«Карат» направил лодку на отлогий берег и, не глуша мотора, побежал к дороге, ведущей через лесок к маленькой деревеньке. Там, на обочине, стоял небольшой опель с ключами в замке зажигания. В лесочке сидел на пеньке Вилли и контролировал посадку агента. Когда тот завел автомобиль и уехал, Вилли спустился к реке, оттолкнул лодку от берега и перевалился в нее. Затем он выплыл на стремнину. Прошедшей ночью умерла Гертруда, и он уехал на операцию, сунув соседям в почтовый ящик сообщение об этом. Теперь и его жизнь закончилась. Умерла та страна, которой он служил всю жизнь, умерла женщина, которую он любил всю жизнь, умерла та идея, которая вела его всю жизнь. Мир сжался до одной маленькой мысли – пора. Кружилась голова и оставляли силы. Он с трудом напрягся, отвернул крепление мотора, снял его со станины. Потом натужно поднял горячую пятнадцатикилограммовую чушку, прижал ее к груди, в последний раз огляделся вокруг и шагнул за борт. Ледяная вода Эльбы сомкнулась над его головой.
А Джон Рочестер безостановочно гнал в Гамбург. Сначала он петлял по густой сети сельских дорог, а потом выбрался на автобан и пошел на предельной скорости. К счастью, на автобанах Германии мало ограничительных знаков, и он мог придавить педаль газа. Чем дальше от места отрыва, тем лучше. Его уже маскировал джентельменский набор беглого разведчика: очки, наклеенные усы и бакенбарды. Вкупе с бейсболкой эта декорация делала его неузнаваемым, что было немаловажно, ведь контрразведка даст сигнал тревоги по гостиницам, вокзалам и аэропортам. Вечером он вылетит из Гамбурга в Оттаву с пересадкой в Лондоне. Билет на имя канадского гражданина Джона Тутса уже лежит у него в кармане. Но Канада не станет новым прибежищем Рочестера. Вскоре он уедет из нее в одну из стран Латинской Америки и превратится там в предпринимателя средней руки. Не очень богатого, но вполне преуспевающего владельца зала игровых автоматов. Основательно привыкнув к нравам и обычаям этой страны, он задумается о семье и подыщет себе красавицу-жену из местных креолок.
35. Зафира
Иван не спал, поджидая рассвет. На дворе наступало утро позднего апреля. За окном в сумеречном свете чернела освободившаяся от снега земля, будто припорошенная редкими иголками первой зеленой травки. Снег задержался только в густых кустарниках да в затененных местах, куда не достает солнечный свет. Все теплолюбивые птахи уже вернулись на летние квартиры и сейчас прочищали горлышки – готовились к утренней спевке. В сенях похрапывали несколько странников, которые хотели попасть к нему пораньше. Большая же часть его посетителей приходила утром из Первомайска, где ночевала у местных жителей.
На душе Звонаря лежала тихая радость. Он любил этот ночной мир, эти особенные минуты общения с затихшей жизнью, которая, словно спящий человек, сбрасывает с себя дневные маски и обнажает свою беззащитную и очаровательную суть. И еще одно чувство поселилось в нем этой весной. Он стал предвосхищать приход любви. Все в его душе наполнялось истомой ожидания того прекрасного состояния, которое рождается только между двумя любящими людьми.
– Полно тебе бредить, – шептал Ивану голос рассудка, – ты, полностью парализованный мученик, мечтаешь о любви… Помнишь, что говорил тебе твой ангел: твоя боль отгородит тебя от всего мира.
– Любовь – это божественный дар, она живет над миром, – отвечал Иван.
– Зато любящие люди живут в реальном мире, и это убивает любовь, – возражал голос.
– Это зависит от любящих людей, – отвечал Иван.
Звонарь уже многое мог предвидеть в жизни других людей. Он не знал, называется ли это даром ясновидения, потому что мысли о других людях приходили к нему по наитию. Но собственного будущего он не видел. Почему в нем поселилось предчувствие любви, с кем оно было связано, и связано ли оно с кем-нибудь, ему было неясно.
Сейчас он просто сидел и ждал, ощущая, как необычно сильно колотится его сердце. За окном светлело, заворочались и тихо забормотали странники в сенях, пропел рассвет петух. Наконец по стеклу пробежал первый золотой луч, и мир сразу ожил. Свежий ветерок прошелся по ветвям деревьев, птицы грянули утренний гимн солнцу, и лес ответил им гулом просыпающегося бытия.
А воздух вокруг Ивана сгустился до вязкого сладкого меда, который проникает во все поры организма, пронизывает его острой сладостью и не дает дышать. Сердце его билось скачками, готовое разбить грудную клетку и выскочить наружу. Он чувствовал, что сейчас свершится самое главное в его жизни.
Дверь открылась, и он увидел на пороге Зафиру. Маленькая афганка, похожая на девочку-подростка, стояла в проеме двери, точно такая же, как три года назад, и в широко открытых глазах ее светился страх ожидания. Она боялась увидеть не того. Потом глаза обрели узнавание, Зафира приблизилась к Ивану, опустилась перед ним, положила голову на его колени и замерла. Ему казалось, что остановилось время и остановилось движение. Он только чувствовал на своих коленях тяжесть ее головы. Потом он стал гладить ее, и слезы текли из его глаз и он не замечал, что движение не причиняет ему боли.
– Я так долго тебя искала, – прошептала она.
– Прости меня за предательство, – ответил он.
– Нет, это было не предательство, – прошептала она, – ты еще не знал тогда, что я твоя женщина. Теперь я нашла тебя, и ты знаешь. Я пришла к тебе до конца дней.
– Тебе не страшна моя неподвижность?
– Разве любовь зависит от подвижности?
– Ты принесла мне дневной свет.
– Меня прислал Господь.
– Но у тебя свой Господь.
– Нет, я уже православная. Я так решила, когда ты покинул меня. Чтобы Иисус Христос помог мне найти тебя.
– Как ты попала в Союз?
– Мои родители сумели бежать, а я с ними. Теперь они живут под Серпуховом. Помнишь, ты рассказывал, что учился там.
– Как ты нашла меня?
– Я сумела. Я пришла стать твоей женой.
– Но я не могу любить телом. У нас не будет детей.
– У тебя есть сын. Его зовут Иван.
Сердце Звонаря замерло. Он почувствовал острый холод в груди, а потом горячий поток хлынул по его телу. Он схватил руками лицо женщины, приблизил его к себе, счастливо задыхаясь:
– Ты родила мне сына?! У меня есть сын?!
– Да, он очень похож на тебя. Уже взрослый мальчик, ему два года.
– Ты права, тебя прислал Господь.
36. Конец «джета»
Виктор Ежиков приехал из Внукова в крайне подавленном состоянии. Он побывал в Киеве с единственной целью – купить сыну авиабилет за рубеж. На семейном совете было решено, что если за Евгением сейчас нет наблюдения, он может на автомашине покинуть Москву, доехать до какой-нибудь второстепенной железнодорожной станции и там сесть в поезд до столицы Украины. Пограничный контроль пока отсутствует, и чекисты уже не смогут поставить на его пути барьер. Ну, а в Киеве надо только не зевать и не пропустить рейс, на который куплен билет по его загранпаспорту.
Билет был действительно куплен довольно легко. Девушка за стеклом кассы сначала потребовала было лицезреть владельца паспорта, но сразу успокоилась, обнаружив в нем пятьдесят долларов. Но дальше дело пошло не так успешно. Папику нужно было убить несколько часов до самолета на Москву, и он стал бродить по центру города, заходя в магазины и кафе. Навыки наблюдения за окружением у него были еще по прежней работе, поэтому он сначала заподозрил неладное, а потом, метнувшись в проходные дворы, убедился, что подозрения не напрасны. Его водили люди украинской службы безопасности. Что же получается? Значит, Москва настолько плотно следит за семьей, что проконтролировала его вылет на Украину и попросила местных чекистов «принять» его прямо с самолета?
Холодный пот прошиб Ежикова: он крупно подвел сына, купив ему билет в Турцию, в единственную страну, которая выдает визы по прибытию на ее территорию. Теперь Лубянка будет знать о намерениях вывести Евгения из под ее колпака. Черт побери! Самодеятельность здесь не поможет. Надо требовать от СИС эвакуации Евгения. Может быть, сделать так же, как при спасении Гордиевского? Ведь того вывезли в Финляндию в багажнике дипломатического автомобиля.
Отцу было очень тяжело рассказывать сыну о неудаче. Он видел, что любое напряжение нервов вызывает у Евгения припадок, ускоряющий прием новой дозы наркотика. Теперь младший Ежиков пользовался только самым дорогим кокаином, деньги на который ему давал родитель. Но это мало облегчало положение. Зависимость была настолько сильной, что и не специалисту было видно – парню осталось ходить по земле совсем недолго. И без того хрупкого сложения, он окончательно отощал, под глазами его темнели круги, лицо сморщилось и постарело. Однако лечиться Евгений отказывался, хотя в мутной воде перестройки можно было избежать постановки на учет в наркологическом диспансере и подыскать приватно практикующего специалиста. Он уже перешагнул тот рубеж, когда у наркомана еще имеется хоть немного воли для борьбы за себя. Лечить его можно было только в стационаре принудительными мерами. Но помещения в стационар опасался и отец, понимавший, что это тоже разновидность взятия сына под арест. Оттуда на свободу можно было уже и не выбраться. Поэтому оба решили надавить на англичан и категорически потребовать от них вывода «Джета» из России.
В то же время, отец очень опасался, что психика Евгения может сломаться в любой момент. Младший Ежиков без инъекции наркотика превращался в жалкое, измученное болью существо. «Джет» еще ходил на работу, но мало что делал там, и вопрос о его увольнении назревал даже в то необязательное и развращенное время. Все, на что парню хватало сил, было составление шифровальных таблиц для переписки с резидентурой СИС. Но и в отношениях с англичанами возникли серьезные проблемы. В отработке линии поведения со своим источником англичане решили, что он капризничает, и выбрали бескомпромиссную жесткость. Йенсен знал, что Евгений «балуется» наркотиками, но вся серьезность проблемы ему не была известна. Получая по радио суровые требования работать, сопровождаемые угрозами снять с довольствия, Ежиков все глубже ненавидел своих руководителей и впадал в отчаяние.
«Джет» – куратору
требую неотложного вывода в великобританию тчк считаю свое положение отчаянным тчк прошу в следующем сеансе сообщить мне условия выезда из россии тчк
куратор – «Джету»
дорогой друг тчк ваши опасения напрасны зпт они порождены вашей усталостью тчк пожалуйста потерпите еще немного тчк ваше терпение щедро вознаграждается тчк на ваш счет в банке переведено еще десять тысяч долларов тчк нам необходимо знать кандидатов в формирующийся состав кабинета министров тчк ваши искренние друзья тчк
«Джет» – куратору
требую немедленной встречи по условиям явки якорь тчк рассчитываю на встрече получить переправочные документы тчк информацию передавать не буду тчк
куратор – «Джету»
дорогой друг воскл зн по условиям контракта в случае отказа от выполнения заданий ваши счета аннулируются тчк просим вас соблюдать благоразумие тчк ждем информации на следующем сеансе тчк
«Джет» – куратору
если в вас есть хотя бы что-то человеческое зпт умоляю о встрече тчк не могу больше ждать тчк
куратор – «Джету»
дорогой друг воскл знк мы не потерпим шантажа с вашей стороны тчк продолжайте работать зпт время вашего отъезда еще не пришло тчк
«Джет» – куратору
будьте вы прокляты зпт скоты тчк
Евгений Викторович Ежиков поджег составленную им цифровую таблицу с ответом резидентуре СИС, дождался, пока она сгорит в пепельнице, затем пошел в туалетную комнату, где уже стояла наполненная ванна, медленно разделся и погрузился в горячую воду. Полежал немного, глядя на свое исхудавшее, бледное тело и тонкие исколотые руки. Несмотря на тепло, на него стал надвигаться озноб новой «ломки». Он вслушивался в тупые и частые удары сердца, которое требовало допинга, смотрел на выступавшие из воды острые коленные чашечки синеватого цвета, на член, высохший, словно вылущенный стручок, и понимал, что все это уже не существует. Потом протянул руку к табурету, на котором лежал заряженный шприц. Ему не было страшно думать о смерти. Смерть вселилась в него полным распадом обессилевшей души, отчаянной болезнью тела, безразличием к окружающему миру. Жизнь его уже закончилась и предстояло только поставить точку. Слабыми пальцами Ежик взял шприц и дрожащей рукой долго пытался попасть в увядшую вену. Наконец это ему удалось, и он стал медленно вводить сверхдозу наркотика, желая лишь, чтобы все быстрее закончилось. Он не мог больше бороться за себя и уходил туда, где ни с кем не надо бороться. Сонливая благодать накатила на него, и он стал погружаться в сладкий сон, из которого нет возврата.
37. Филофей Бричкин
Филофей Никитич стал скучать без своего «народца». Вслед за Собакиным его покинул домовой. Однажды вечером, когда Филофей уже собирался закрыть музей, из-за шкафа выплыл Михаил Захарович. Космы его торчали как обычно, потому что еще не придумано такой гребенки, которая могла бы причесать нечистую силу. Но облик его лучился довольством, а маленькие глаза счастливо поблескивали.
– Дождался я, дождался, Филя. Вышло мне освобождение, к своим полечу, к михаилархангельцам!
– Да неужели они на свободе живут?
– Кто, наши, что ли? А за ними смертных грехов не водилось, с чего это им вечно мытариться? Теперь, зато, будет чем заняться. Нечистая сила у меня затрясется.
– Неужто и там у Вас организации имеются?
– Ты что-то мудрено говоришь, паря. Какие еще такие организации?
– Ну, против бесов.
– А то как же! Мы против них скопом идем во главе с угодником нашим. Впереди Святой Михаил Архангел, а следом мы под его стягом. Это, брат, большая сила.
– Неужели опять воевать собрался?
– А как же, Филя! Ты погляди, какое отродье на нас прет, как же тут в стороне сидеть? Не в обычаях наших эдак-то… Я им, мужеложцам и растлителям, яйца-то поотрываю!
– Неужели Вы и с земными пороками боретесь?
– Это как придется. Бывает, по небу чертей гоняешь, а иной раз и плотский тунеядец подвернется. Вот, к примеру, пока ты из музея отлучался, ваш новый начальник культуры сюда секретаршу приводил. Выставку «Местных ископаемых» оглядывать. Очень любознательный. И решил он это у ней залежи под юбкой исследовать. А она еще в тех летах, когда полезные ископаемые за просто так не отдают. Стала отнекиваться. Он силком. Давай, говорит зажгем костер любви прямо на столе. И, видать, зажег бы, да я эту рысь ему на башку свалил. Рысь-то не тяжелая, а подставка ничего, из точеного камня. Впору пришлась.
– Так вон что Ивана Тимофеича в больницу свезли! Только, говорят, у него ушиб на нервной почве. В нервное отделение поместили…
– Я уж постарался. Когда он после рыси глазыньки открыл, я тут перед ним и явился, во всей красоте. Теперь его не скоро выпишут. Ну, прощевай пока, да не греши, а то свалю на тебя какую-нибудь дрянь. Мне теперь позволено…
С этими словами Чавкунов растворился в воздухе, и больше его Филофей не видел. Да и другие признаки загробной жизни стали помаленьку исчезать. Успокоились фотографии, не слышно было таинственного скрипа дверных петель и не видно неясных бликов по углам. Тихо. «Все ушли на фронт», – думал Филофей Никитич. И вправду, за окном рушилась держава, вздымая к небу отчаянные чувства миллионов людей. Где-то, в недостижимом для человеческого восприятия пространстве, разгорелась ожесточенная схватка между Добром и Злом, и на земле мелькали лишь тени этой схватки, облекавшиеся в лики известных стране персонажей.
– Смутное время, – бормотал Филофей Никитич, – все как тогда, как при Бориске Годунове. А конец-то какой будет? Тоже как тогда?
38. Возвращение
Сухим сентябрьским утром 1992 года Данила Булай сошел с поезда на станции Мухтолово, что неподалеку от Арзамаса. Здесь была назначена его встреча с Аристархом Комлевым. Они расстались год назад и с тех пор не виделись, обмениваясь лишь иногда открытками по случаю праздников. Но ближе к возвращению Данилы из Берлина сговорились старую дружбу возобновить.
Рассвет еще только едва обозначился за верхушками леса, и платформу освещали желтоватые перронные фонари. Маленькая железнодорожная станция, малоизвестная в современные дни, до революции была на слуху у многих. С нее начинался путь в Саров и Дивеево, которым шло несметное количество богомольцев с той поры, как через эту деревеньку прошла чугунка. Еще раньше к Серафиму Саровскому добирались из Москвы через Владимир и Муром. В обычаях русских богомольцев, из каких бы далеких краев они не ехали, было заведено последний отрезок пути пройти пешком. Были, конечно, и такие, которые весь путь измеряли ногами, но велика была Российская Империя, не из каждого угла своим ходом доберешься. Отрезок из Мухтолова до Дивеева длиною в тридцать верст преодолевали обычно пешком, от зари до зари. Шли, как водится группками, останавливались на привалы, обедали с молитвой и шли дальше.
Как узнал Булай из рассказов бывалых людей, хождение по святым местам не вымерло в России и при советской власти, хотя, конечно, резко поубавилось. Но всегда, приехав в действующие православные обители, можно было увидеть там странников, а в праздничные дни – большое их количество.
Задумываясь над этим явлением, Данила приходил к выводу, что поведение общества регулируется не только правилами и обычаями, но и глубоко спрятанными инстинктами, заставляющими людей порой делать вещи, которые они не всегда в состоянии разумно объяснить. Почему по русской земле идут богомольцы? Попробуй, дай этому убедительное объяснение. Вот каждую весну и осень летят перелетные птицы. Это инстинкт? Да, инстинкт, давно всем ясно. Но почему этот инстинкт не затухает, когда не надо никуда лететь? Птицу перенесли в теплые края, держат насильно одну зиму, две, она вроде бы привыкла уже. А выпустишь на волю – поживет немного по новым правилам, а потом вдруг взлетит и пошла путем своих предков. Улетает. Почему? Наверное, потому, что ее инстинкт древнее и мудрее складывающихся обстоятельств.
Так, наверное, и человек. Как его не убеждала советская власть в том, что Бога нет, а он к нему дорогу не забыл. Разница только в том, что у иных этот путь еще в подсознании дремлет, а иные уже проснулись и на него возвращаются. Подтверждением этой мысли Данилы было несколько пассажиров, покинувших вместе с ним тот же поезд и гуськом исчезавших в утренней мгле. Постояв немного на платформе и глотнув свежего воздуха, Данила намеревался уже пойти вслед за ними, как почувствовал, что сзади ему на плечо легла чья-то рука.
– Родина приветствует своих заблудших сынов, – услышал он знакомый голос и, повернувшись, обнял Аристарха.
– Приехал-таки встречать, а я уж засомневался, думаю, не надо было старика напрягать.
– Надо, надо, – тепло отвечал Комлев, – соскучился по тебе и по нашим разговорам. Сколько мы их сегодня наговорим, пока до Дивеева дойдем!
– Между прочим, по пути в Дивеево следует псалмы петь, а не политические диспуты устраивать, батенька, – рассмеялся Данила.
– А давай по очереди. На четных километрах – псалмы, а на нечетных – диспуты. Ты завтракать будешь? Путь-то немалый впереди.
– Буду, буду, вынимай и ананасы, и рябчиков.
Отойдя под сень старых берез, они расстелили на сырую траву клеенку и уселись закусить.
– Вот тебе ананасы, – сказал Аристарх, доставая пакет с солеными огурцами, – а вот и рябчики, – и высыпал вареных картошин в мундире. – Богомольцам положено поститься, поэтому харч наш будет предельно скуден. Но не яствами ублажим мы души наша, а благочестивой беседой. Скажи мне, отрок, всем ли ты доволен в жизни, нет ли у тебя тайных печалей, кои я смог бы утолить кротким словом?
Данила ухмыльнулся и вздохнул:
– Кротких слов, Аристарх, тебе не хватит. Для того, что сейчас на Руси творится, никаких слов не хватит, ни кротких, ни хульных.
– Данила, у нас какой, четный или нечетный километр?
– Считай, что нечетный. Давай сначала выговоримся, а ближе к Дивееву уж начнем на нужный лад настраиваться.
Аристарх сделал серьезное лицо:
– Что же тебя так возбудило при свидании с Родиной, друг мой?
– Деяния господина Гайдара, друг мой, они самые. Такое впечатление, что этому господинчику жизнь и смерть собственных сограждан абсолютно безразличны. Они для него насекомые. А я раньше думал, что либеральные реформы делаются для маленького человека.
Комлев саркастически хмыкнул:
– Не забывай, в какой стране ты живешь. Здесь ценность человеческой жизни была самой высокой только в последние двадцать лет социализма. И то лишь потому, что государство заставляло жестко соблюдать закон. Вот в бытность мою политзаключенным, на условия пребывания в зоне пожаловаться не могу. Они были точно такими, как предписано. А сейчас, думаю, там наступит беспредел. Потому что государство ослабло.
Что касается Гайдара, то это просто человек, не имеющий никакого чувства родной земли, что о нем рассуждать.
– Но ведь его политика просто разрушительна!
Аристарх распрямился над клеенкой, держа в одной руке огурец, а в другой картошину:
– Да что ты говоришь! Будто он ее проводит по зрелому размышлению. Вся задача Гайдара заключается в том, чтобы настежь распахнуть ворота американскому влиянию. А зачем американцам маленький русский человек? Гайдар – это типичный оборотень, которые у нас за перестройку бурно расплодились. Притворялся Мальчишем-Кибальчишем, а на поверку оказался Мальчишем-Плохишем.
– Почему ты думаешь, что Гайдар оборотень, а не честный сторонник рынка?
– Да все потому же. Еще два года назад этот толстозадый недоросль клеймил в своих статьях капитализм за издевательства над трудовым народом. Ух, какой он был вражина рыночному хозяйству! Помню, статьи его читал и думал: есть же в нашем народе настоящие бойцы за его, народное счастье. Дедушка у Егорки буржуинов направо-налево саблей косил, и внучонка к ним лучше не подпускать. Порубит всех в капусту к чертям собачьим. Но однажды ночью явилась фея из Гарвардского университета, помахала над спящим толстячком волшебной палочкой и, проснувшись, ребенок начал изрыгать заклинания в пользу безумной ломки социализма по принципу «после меня хоть потоп». Это как называется? Перевертыши – самая поганая человеческая порода. Гайдар действует не по убеждениям, а по подлости, основательно замешанной на дураковатости. При его мозгах не может быть никаких положительных изменений. Вот увидишь, закончится все позором и страданиями людей.
– Ты об этом говоришь так спокойно, как будто это не твой народ гибнет.
Комлев успокаивающе улыбнулся в ответ:
– Не преувеличивай, дружок. Народ пока не гибнет. Падение еще только начинается. Это дело не быстрое, растянутое на несколько лет. Гайдаром и его командой руководят спецы из Вашингтона, и задумки у них не на один год. Про Джеффри Сакса слышал, наверное, да? Как черт из коробки в Кремле вынырнул. Этот наруководит. Поверь, никакого конкурента Америке он из нас делать не собирается. А над тем, что получится, мы с тобой слезами обольемся.
– Ну, Аристарх, никак не ожидал от тебя услышать такие комчастушки! И это ты, историк, антисоветчик, бывший политзаключенный, говоришь языком упертого коммуниста! Неужели ты веришь в такие злобные сценарии? Я, например, верю, что Западу нужна стабильная и предсказуемая Россия.
Данила тайно посмеивался над Аристархом. Он уже давно не верил в подобные глупости, но уж очень ему хотелось «раскрутить» своего друга на предельно эмоциональное выступление. В такие моменты Аристарх был прекрасен. И вправду, тот буквально подпрыгнул от услышанного, в глазах его загорелись яростные огоньки:
– В злобные сценарии, говоришь, не веришь, боец невидимого фронта, задери тебя коза! Тогда ты мне хоть один благостный сценарий расскажи. Поделись развединформацией о том, как дядя Сэм, обливаясь горючими слезами, пускает шапку по кругу, чтобы безвозмездно помочь нашим беднякам! А то слезы слезами, а 10–12 процентов годовых он с нас дерет! Не план Маршала для Германии! План-то Маршала бесплатным был. А нам что же на построение светлого капитализма таких деньжищ за бесплатно не дают? Вот наш пьяница-президент наберет двести миллиардов долгов, а через десять лет надо будет четыреста отдавать. Это тебе не удавка? Да что я тут перед тобой распинаюсь, сам лучше меня все знаешь.
– Но неужели такие, как Гайдар смогут безнаказанно делать свое дело, и народ не поднимется против этого?
– Побойся Бога, Данила. Даже стихийная пугачевщина нуждалась в некой идеологии и вожде. А какая идеология и, тем более, какой вождь могут быть у сегодняшних голодных? Жириновский, что ли? Сам понимаешь, что это за персонаж. Зюганов? Но масса за ним не пойдет, потому что он ее как раз туда и привел. Так кто? Некому. Сегодня в нашей стране нет идеологии возрождения. Поэтому с ней так легко и расправляются. А так как мы с тобой реалисты, то мы должны честно отдавать себе отчет в том, что если такая идеология возрождения не появится, то дело будет швах.
– То есть, либеральные реформы в дружную семью процветающих народов нас не приведут?
– Такие реформы, как проводит Гайдар, уж точно, не приведут. Мы развалим страну и превратимся в сырье для более преуспевающих наций. И все таки, этого кошмарного сценария не будет.
– Почему? Ведь у нас чем дальше, тем хуже.
– Может, для историка мои слова покажутся странными, но в происходящем я вижу перст Божий. И Гайдар, и Ельцин для меня – вурдалаки, которых Господь попустил на русских людей за их отступление от веры. Но коли есть наказание, будет и прощение. Ситуация в нашей державе будет развиваться непредсказуемо, и я твердо верю, что в лучшую сторону.
– Твои бы слова да Господу в уши, Аристарх. Ну что, тронемся в путь? Ты хоть один псалом знаешь?
– К стыду своему, ни одного.
– И я ни одного. Тогда давай хоть «Отче наш» на дорожку прочитаем, да и с Богом.
39. Дивеево
Яркое сентябрьское солнце поднялось высоко над лесом и просветило его янтарными лучами. Небесный свет проникал сквозь поредевшую желтую листву деревьев, падал на густую, еще не полегшую траву и наполнял все окружающее пространство радостью бытия. В зарослях попискивали мелкие лесные птахи, чуть шевелил траву легкий ветерок. Ласковое тепло разлилось в воздухе, наполнив его негой и сонливостью. Путники отдыхали на придорожной поляне, улегшись на разостланных подстилках. Они прошли уже километров пятнадцать и заметно утомились. Аристарх дремал, а Данила припоминал разговор с ним. В голове Булая складывалась совсем другая картина происходящего, чем у Аристарха.
Еще два-три года назад он видел бы все совсем по-иному. Жизнь представлялась бы ему движением людей и событий, постоянным изменением этой непрерывной картины. Но со временем Булай научился пропускать происходящее через призму православной веры, и эта призма словно фильтровала все вторичное, выявляя важнейшее. Теперь видимая событийность отступала на второй план, зато проявлялась духовная сторона происходящего. В сознании Булая рисовалась беспощадная схватка двух духовных сущностей. Одна – большая, но слабосильная духовная сущность социализма. Она была неповоротливой, невыразительной, лишенной энергии. На нее нападала агрессивная, яркая и маневренная духовная сущность западной породы. Явно ощущалось неравенство схватившихся. Нападающий вел себя вертко и напористо, стремясь занять как можно больше места в сознании и душах людей, а оборонявшийся отвечал неумело, проигрывая даже там, где имел бесспорное преимущество. Главным оружием нового был эгоизм, нареченный индивидуализмом. На знамени его сияли призывы сделать максимум возможного, чтобы каждый мог много зарабатывать, много потреблять и много путешествовать. Эти лозунги светились всеми цветами радуги, и люди заворожено сбивались под ними в толпища. Все коллективистское уже осмеивалось, по любому защитнику коллективизма ездили асфальтовые катки пропаганды. Те, кто собирались под лозунгами старого, были растеряны и заглушены ревом нового чудища. Они не умели выразить ту сложную правду, которая у них была. Их голоса не доходили до слушающих, и слушающие не хотели слышать, что, втаптывая в грязь вместе с социализмом очень много драгоценного, рожденного народом в это тяжелое время, они превращаются в Иванов, не помнящих родства.
Данила спрашивал себя, почему настоящая русская интеллигенция не реагирует на эту схватку? Он вспомнил увиденный случайно по телевизору эпизод, вызвавший у него особенное омерзение: режиссер театра «Ленинского комсомола» в прямой трансляции на всю страну сжигал свой партбилет.
Будто сошлись в одной точке и выставили себя на показ самые гадкие качества многих творческих деятелей настоящего и прошлого России: вот они МЫ – властители русских дум! Это мы по подлости и безголовости, по стремлению хоть шутом мелькнуть в родной истории, предавали и рушили устои народной жизни восемьдесят лет назад. Это мы разжигали кровавую смуту, а потом разбежались от нее, как тараканы во все концы света. А теперь мы снова ведем дело к бунту, хотя не знаем, чем он закончится.
Но почему затихли голоса честных и преданных своей земле творцов, способных предложить честное и трезвое решение, не ведущее к беде? Будто загнали их в тесную каморку, заперли на замок, и раздаются из этой каморки лишь невнятные отдельные крики, но нет согласованного крика возмущения. Что случилось, почему это так?
Данила с горечью подумал, что ни опыта, ни кругозора для глубокого понимания событий у него не хватает. Он полежал в раздумьях еще немного, а затем разбудил Аристарха. Впереди лежал немалый путь.
К вечеру на горизонте показались купола Дивеевских храмов. Они смотрелись чудом на фоне безрадостных картин окружающей местности. На пройденном пути путешественникам попадались лишь заросшие сорняком поля да запущенные постройки колхозов. Храмы же радовали белизной оштукатуренных стен и новой кровлей куполов. Совсем недавно в Дивееве состоялось обретение мощей Серафима Саровского, и на это дело власть отпустила довольно средств. Под дальний звон колоколов, звавших ко всенощной, путники ускорили ход и будто с новыми силами преодолели последние километры. Когда они вошли в поселок, над Дивеевым уже опустилась тьма, и они сразу направились в маленькую гостиницу, в которой Данила забронировал номер через знакомого из Москвы. С постоем здесь было плохо, даже угол в частном доме порой невозможно было найти. Поток богомольцев не иссякал круглый год.
Гостиничка коридорного типа с одним туалетом на все двенадцать номеров, построенная явно при советской власти, встретила их мертвенным светом ночной лампочки под потолком и жесткими солдатскими кроватями с изношенным бельем. Но путникам было не до этих мелочей. Завтра в четыре утра надо было подняться, чтобы попасть на исповедь перед службой. Народу в храмах было столько, что многие ночевали на паперти, опасаясь пропустить исповедь. Оба рухнули в койки и тут же уснули, дав, наконец, своим ногам отдохнуть. В четыре утра их разбудила дежурная и, быстренько умывшись, они поспешили в храм. Желающих исповедоваться стояло несметное количество. Исповедь шла сразу в нескольких местах. Наверное, у Комлева с Булаем задуманное могло бы и не получиться, если бы их не заметил священник. Он почему-то обратил внимание на этих двух мужчин и попросил стоявших впереди женщин пропустить их вперед. Прихожанки не протестовали. В церкви соблюдается древний обычай – мужчины идут первыми. Первым пошел Аристарх, и Данила, наблюдая за его исповедью, удивлялся тому, как легко и свободно он беседует со священником, а тот, в свою очередь, увлечен разговором. Потом настала очередь Булая, и он приблизился к священнику с замирающим сердцем. Данила серьезно готовился к исповеди, потому что знал, какое облегчение она приносит. Когда-то, на первых исповедях, он содрогался от выходящей из глубоких тайников души боли, и слезы неудержимо текли по лицу. Теперь все стало проще, но каждый раз исповедь была испытанием. Данила не мог знать, что когда-то очень давно у мощей Серафима впервые исповедовался его дед, покинувший храм преображенным человеком. А священник не мог догадываться, что деда стоящего перед ним мужчины исповедывал его дед, и эти невидимые линии пересеклись, чтобы, так и не открывшись, подтвердить собою закон взаимодействия русских судеб. Они долго говорили, и священник не спешил, хотя в очереди ждало множество прихожан. Он всегда с первого слова понимал, с чем пришел исповедуемый, и уделял ему столько времени, сколько было необходимо. Зато некоторых бабушек благословлял без беседы.
Потом они выстояли литургию, причастились Святых Даров и приложились к мощам Святого Серафима. Когда вышли из храма, в природе уже торжествовал солнечный день. Несмотря на раннее пробуждение и долгое стояние на службе, оба чувствовали душевный подъем. Они остановились на ступенях, вдыхая свежий воздух, потом переглянулись:
– Ну, что, раб Божий Даниил, пойдем на Серафимов источник? – весело спросил Комлев. – День-то какой пригожий. В самый раз прогуляться.
– Только так, брат мой во Христе, надо закрепить достигнутый успех.
Они рассмеялись и легко сбежали с паперти. Впереди их ждало еще одно важное и радостное дело.
40. Филофей Бричкин
Филофей Никитич грустно бродил по комнатам музея. Словно не было того удивительного и мистического периода, который открыл ему так много тайн. В музее установилась настоящая тишина. Уже не кряхтел за шкафом Михаил Захарович, не делала глазки с фотографии Фаня Кац, а портреты Собакина и Волчакова словно покрылись пеленой времени и потеряли живость. «Уж не приснилось ли мне все это?» – вопрошал себя Бричкин. И вправду, ему начинало казаться, что явления персонажей со стен музея ему лишь прибредились. Ведь такого не может быть на самом деле. Филофей сунулся в тетрадь Степана Нострадамова и увидел в ней невозможную куролесицу почерка, не поддающуюся прочтению. Значит, и записи Степана тоже из сна?
Тошно стало Бричкину, тошно и одиноко. Он понял, что стал неразделимым с явленным ему миром. Часами напролет Филофей Никитич лежал на диванчике, не шевеля и пальцем. Потом поднимался и шел по комнатам в надежде увидеть изменения на фотографиях. Но изменений не появлялось и, когда надежды его кончились, начал он думать свою самую страшную думу. Он думал ее и ждал знака. Однажды вечером, перед концом рабочего дня, Филофей почувствовал потребность подойти к фотографии Севы Булая, что висела над витринкой с его орденами. С фотографии смотрел молоденький лейтенант, поднявший руку к стволу большущей гаубицы. Эта фотография не участвовала в таинственных событиях, и он лишь иногда поглядывал на нее из-за дружбы с Булаем. А лейтенант смеялся. Наверное, от того, что молод, и от того, что вокруг весна и все радуется солнцу. Филофей остановился перед фотографией и стал смотреть на нее, а в сердце его разливалась радость. Он улыбался Булаю и совсем не удивился, когда тот оторвал руку от стола и призывно его поманил. «Пора», – подумал свою страшную мысль Филофей, но страшно ему не стало. Наоборот, стало не страшно. Он повернулся к фотографии спиной, накинул плащишко и пошел домой собираться в последний путь.
41. Серафимов источник
Аристарх находился в умиротворенном состоянии духа и не был расположен копаться в философских проблемах, с которыми на него наседал Булай. Он не спеша шагал по обочине полевой дороги, помахивал прутиком и что-то мурлыкал себе под нос. Их путь уже приближался к источнику. Находившийся в бодром состоянии мысли Булай пытался расшевелить своего друга рассуждениями о смысле жизни, но Комлев только лениво отмахивался от него:
– Как хорошо жить в деревне, раб Божий Даниил! Хоть там интеллигентская болтовня с ума не сводит. У селян, слава Богу, и без нее забот хватает. А как только какой-нибудь гонец урбанизации упадет на мою голову, так и понеслось. Похоже, наших мыслителей мучают два вопроса – «зачем я живу» и «почему я пью»? Иногда они являются одновременно, и тогда хоть беги. Отстань от меня, Данила, дай полюбоваться матерью-природой.
– Ну да, если жить на задах у Берендея, да еще без телевизора, то такого вопроса не существует. А что делать счастливому обладателю одноглазого друга? Вот смотрит он в эту дыру, и ему сообщают, что смысл жизни заключается в свинской толкотне у кормушки. Сначала он не верит, потому что при советской власти счастливое будущее строил, всякие высокие замыслы в себе пестовал. Но потом потихоньку привыкает и, в конце концов, начинает сам у этой кормушки толкаться. А в это время светоч русского самосознания Аристарх Комлев нюхает ромашки и помалкивает. Мол, тоните в этом дерьме сами, а я, лицо в высшей степени духовное, постою в сторонке.
– А ты не волнуйся так, Данила. От твоего волнения на свете ничего не произойдет. Ровным счетом ничего. Иди себе, радуйся на синее небо, благодари Бога за эту благодать. Глядишь, все и устроится.
– Издеваешься, профессор. Душа-то болит.
– А русский человек по другому не умеет. У него всегда душа болит. Что, думаешь, у твоего отца или деда не болела душа? Мы в такой стране живем, где покоя не бывает.
– Аристарх, честное слово не пойму, смеешься ты или нет. Ведь идет же схватка за наше будущее, от каждого из нас зависит, чем дело кончится.
– Нет, дружок, тут я не согласен. Все сложней. Вот дед твой, Дмитрий Булай, боролся в рядах эсеров за лучшее будущее. Сильный был боец, а потом вдруг уехал в деревню и с политикой покончил. Как по-твоему, почему?
– Ну, видно, в политике эсеров разочаровался.
– Может, и так. А я думаю, когда он к Богу пришел, происходящее в России по-новому осмыслил, то понял, что на тот момент своей борьбой ничего не добьется. Не потому что бороться не надо, нет! Я ведь архивные материалы на него видел. Человечище! Он потому остановился, что не увидел в России сил, способных спасти ситуацию! Что означало спасти ситуацию? Только одно – вернуть признание мужиком святости и неколебимости царского престола. Но никто, кроме малосильного Союза Михаила Архангела, не пытался это сделать. Остальные все бунтовали. Поэтому Россия была обречена на вакханалию. Две идеи овладели тогда массами. Идея революции и идея безбожия. Значит, наша родная интеллигенция сумела подготовить народ к расправе над церковью и властью. Это надо честно признать. Поэтому во всемирном предательстве Христа русские сыграли свою конкретную роль, за что потом и поплатились в полной мере.
– Объясни, как это с сегодняшним днем увязать?
– Проще некуда. Сегодня происходит повторение пройденного. Нами опять владеет идея безбожной революции. Эта идея захватила сознание народа, и пока против нее ничего не поделаешь. Поэтому расслабься.
– И что дальше?
– Дальше, Данила, загадывать не будем. Сколько можно об одном и том же говорить! Тебе, раб Божий Даниил, совсем другими вещами заниматься надо. Рано или поздно появится потребность и в таких людях, которые поняли, что у нас свой путь должен быть. Вот и осмысливай этот путь. Только прежде чем приступать, надо внутренне очиститься, а этого за день не сделаешь.
– И что означает «внутренне очиститься» в прочтении бывшего сидельца ГУЛАГа?
– Мы вот в Дивеево в магазинчик заходили, а там у дверей убогий мужичонка милостыню просил. Ты ему не подал. Скажи, почему?
– Честно говоря, не обратил внимания.
– Вот когда твое сердечко на каждую протянутую руку будет болью отзываться, тогда ты и начнешь свое очищение.
– Так ведь сколько ряженых среди этих нищих!
– Стоп, Данила! Даже если он ряженый, то не от сладкой жизни. Это наша страна его в ряженые бросила. Все равно соболезнуй! Иначе наряду с ряжеными и настоящих страдальцев будешь обходить. По всей стране оскотинивание ползет. Кто, если не мы, будет с ним бороться?
– Поборешь ты его своим крохотным примером!
– Не я один. Ты, например, поучаствуешь. И других немало найдется. Но начинать надо именно с этого. Как Серафим говорил: спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи! А политика, идеология и прочие умные вещи без такой основы ничего не стоят. Вон, у нас депутаты. Днем с трибуны об Отчизне убивается, а ночью проституток с панели снимает. Думаешь, такие перевертыши хоть что-то полезное могут сделать? Нет, дружок! Человек цельным должен быть. Тогда он опора жизни.
– Уж не эти ли мысли ты в своих «письмах из будущего» вытачиваешь?
– Эти тоже есть. Но они больше подразумеваются. А в главном я все же борюсь с западным курсом страны.
– Друг мой, Аристарх, почему ты так не любишь Запад?
– Потому что я учил историю и знаю, что от всего этого пространства из века в век шло одно и то же желание – прибрать к рукам, расчленить, окатоличить, сделать своей вотчиной Русскую землю. И ничего больше. Неужели ты веришь, что они в одночасье перековались? А ты думал о том, что от нашего времени до крещения Руси можно насчитать только тридцать предков по отцовской линии? В среднем по три на каждый век. Вот они, собери их всех в одной комнате и поговори с ними. Спроси твоего пращура, предка номер один, что в Киевской Руси жил, какие беды его мучают. Он и начнет про разлад на своей земле рассказывать, про междуусобицу, про происки латинян, которые без конца князей охмуряют, в свою веру хотят перетянуть, кусок территории оттяпать. А ты ему чем ответишь? Про развал Союза, про междуусобицу, про происки латинян, которые наших правителей охмурили, кусок территории хотят оттяпать. Оказывается, и у Запада до этого глубокого прошлого тоже всего тридцать родственников насчитывается, и нисколько он не изменился. Все рядом, все вчера было.
– Ну уж про то, чтобы территорию оттяпать… Нынче другие времена.
– Конечно, другие. Мы все же растем. Прибалтику, которая никогда государственности толком не имела, они уже оттяпали методом псевдодемократической революции. Чухонцам государственную историю придумали, пока мы своим «новым мышлением» упивались. На очереди другие окраины, а главное – Украина. Почитай Жабиньского, он давно стратегических планов США не скрывает. Не только оторвать Украину от России, а преобразить ее, поставить под контроль католической части населения. И если эта цель будет достигнута, то свершится историческое несчастье. Нет вокруг нас страшнее врага, чем галицийское униатство. Они во время войны доказали, насколько дикую ненависть имеют к москалям. Возьмут галичане власть в Киеве – начнется самое ужасное, что может только быть: будут стравливать братские народы. Вот уж латиняне возликуют! Вот уж России подножка! А без Украины Россия никогда не возродится в мировую державу.
– Зачем галичанам напряженность с Россией?
– Затем, что они как раз и будут работать на идею латинства – подтачивать позиции России в мире. Даже если понесут экономические убытки, Запад их подхватит под локотки. Потому что латинская Украина решит для него неимоверную задачу – она осуществит раскол славянского пространства. Представляешь: тысячу лет были вместе, а теперь превращаемся во врагов. Это историческая катастрофа, каких мало на памяти человечества.
– Аристарх, ты рисуешь апокалиптические картины.
– А история, друг мой, не располагает к рассмотрению мира через розовые очки. Тому, кто носил подобный прибор на носу, придумал «новое мышление» и в результате открыл дорогу исторической катастрофе русского пространства, придется отвечать перед Высшим судом по самой высокой разметке.
– Должен сказать, что у меня нет оснований тебе обстоятельно возразить.
– Чертовски здорово, батенька! Эдак мы с Вами еще и конспиративную ячейку единомышленников организуем. Ну, так вот. Мы являемся силой, которую они рассматривают как окончательно враждебную себе. Заруби это на носу. Потому что мы – ядро основополагающей морали, которая противоречит принципам их жизнедеятельности. Мы несовместимы точно также, как оказались несовместимы интересы фарисеев с проповедями Христа. Всего лишь шестьдесят колен минуло с того времени, Данила. Это очень мало! Ничего не изменилось в сути этого противостояния. В нем может быть только победа одной из сторон в конце времен. Вот начало и конец всех наших размышлений о месте России в мире. Так сказать, альфа и омега. Эти две буквы должен ясно запечатлеть в мозгу каждый, кто осмеливается помыслить о руководстве нашим народом. Только при этом он должен еще знать, что эти буквы означают в масонстве.
– И что же?
– По уверению каббалистов, шестиконечная звезда состоит из двух треугольников. Они обозначают одоление Сатаной Бога и утверждение им символа: «Я есть первый и последний», или «Я есть альфа и омега». Ну ладно, что мы все о проблемах, пора и купель принимать.
Друзья подошли к берегу крохотного лесного озерца, питающегося от мощного донного источника. Также как и его меньший брат в Дивееве, этот источник звался Серафимовым. Он был более известен и славился своими целебными свойствами. Богомольцы, побывавшие у Преподобного, обязательно шли и сюда. С берега к озерцу спускались деревянные мостки, а у кромки воды светила свежим срубом недавно восстановленная часовенка. Большое количество людей заходило в озерцо, несмотря на прохладный сентябрьский день. Было видно, что вода обжигающе холодна, но некоторые отваживались в ней плавать, другие же, окунувшись, резво выскакивали на берег. Когда Данила, раздевшись, опустил ногу в озерцо, он почувствовал леденящий холод.
– Что, холодно? Не бойся, привыкнешь, – крикнул ему Аристарх, который уже сидел по горло в озерце, словно в теплом бассейне. Данила вдохнул поглубже и плашмя упал в ледяную купель. Невидимые клещи сжали его ребра, перехватывая дыхание и вызывая конвульсивное барахтанье рук и ног. Он высунул голову из воды, лихорадочно хватая ртом воздух, и под хохот Комлева развернулся к берегу, чтобы быстро эвакуироваться на сушу. Вода была действительно невыносимо обжигающей. Но первый шок уже уходил, и тело стало расслабляться, приспосабливаясь к холоду. Данила задержался, а потом повернул назад и поплыл к Аристарху.
– Аристарх, буду тонуть – не мешай.
– Такие, как ты, не тонут. Лучше молитовку прочитай. «Отче наш», например.
– Отче наш, иже еси на небеси, – начал Данила перехватывающимся голосом.
– Да святится имя Твое, – затрубил Аристарх, – Да приидет царствие Твое, Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
– Хлеб наш насущный даждь нам днесь, – подхватил Булай, – и остави нам долги наша яко же и мы оставляем должником нашим.
– И не введи нас во искушения, но избави нас от лукавого, – закончил Аристарх, подгребая к берегу. – Выходи, Данила. Хорошего помаленьку.
Потом они обтерлись полотенцами и стояли над источником, ощущая необыкновенную чистоту своих существ. Будто были омыты не только снаружи, но и изнутри.
42. Встреча со Звонарем
Путники не спеша брели по дороге, ведущей из Дивеева в Первомайск. За два дня, проведенных в местах Серафима Саровского, они успели отдохнуть и восстановить силы. Ноги их уже приспособились к пешеходному ритму и не доставляли стольких мук, как на первых километрах странствия. Теперь их путь лежал к Звонарю, с которым Аристарх успел познакомиться прошлой осенью.
– Если ты не увидишь этого человека, то многого в своей стране не поймешь. Он сам по себе – явление необычное, но главное в том, что он не один такой народный магнит. Сейчас число праведников множится. Кстати, до революции их было много. Знаешь, как светочи. Ведь в приходах и монастырях всякое могло происходить. Живые и грешные люди вступали там между собой в бытовые отношения. А это уже предпосылка для всяческих грехов. А вот отшельники, которые себя от бытовых отношений отгораживали, конечно же, более чистую веру в себе несли, а отдельные до настоящей святости поднимались. На них неколебимость православия держалась. Иван же Звонарь – вообще явление уникальное. Его сам Господь от всех бытовых отношений отгородил, гордыню из него вынул. Он парализован, и каждое движение приносит ему боль. Представляешь, на какой Голгофе он муки принимает? А был капитаном Советской Армии, не больше и не меньше. Обычный офицер, молодой, с характером, с грехами и заблуждениями…, ну, что тут объяснять. Так вот, через три года отшельничества это один из самых глубоких мыслителей. Хотя, конечно, я неточно говорю. У него на первом месте духовное зрение стоит. Другими словами, у Ивана открылось то, что раньше называли ясновидением. И потом, он умеет чувствовать, что Богу угодно, и это выражать в своих словах. Но и знает он много. Днями людей принимает, по ночам молится, святых отцов и исторические книги читает. Я с ним как младший товарищ говорю. Хотя он помоложе тебя будет. Ты не пожалеешь о знакомстве, Данила.
Последние несколько километров до лесной обители Звонаря путники прошли утром, заночевав в Первомайске у добрых людей. Лесная дорога была хорошо утоптана тысячами ног богомольцев, притекавших к домику Ивана круглый год. И сейчас друзья видели стайки пешеходов, шедших с ними в одном направлении. Большая поляна перед лесничеством была вытоптана. На ней стояли две железных бочки для отходов, по опушке виднелось несколько грубо сколоченных столов со скамьями, вкопанными в землю. Между деревьев пестрели цветными боками палатки тех, кто остановился ночевать поблизости от дома Звонаря. Ни мусора, ни беспорядка. Во дворе путники увидели черную «Волгу» и милицейский УАЗик, окруженные большой толпой богомольцев. Сквозь распахнутую дверь «Волги» просматривался солидный гражданин в пиджаке и галстуке, вытиравший носовым платком сочившуюся из носа кровь. Лицо его было искажено злобой и он бросал собравшимся какие-то резкие, неразборчивые слова, похоже, угрозы. Слегка потрепанная внешность его говорила о том, что ему пришлось вырываться из рук толпы. Рядом с УАЗиком с растерянным видом стояли два милицейских сержанта. Толпа оживленно гомонила, и особенно отчетливо был слышан голос молодой женщины с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами:
– Вам бы только хапать и хапать, совсем голову от жадности потеряли. Не приезжайте сюда больше, не злите людей. Хоть раз о совести подумайте.
Аристарх тихо спросил стоящего в толпе мужчину, что здесь происходит.
Мужчина рассказал, что сегодня утром, еще до того, как Звонарь начал принимать богомольцев, подъехало какое-то начальство из Первомайска. Оно вместе с милиционерами завалилось к Ивану и потребовало освободить лесничество, которое тот занимает незаконно. В случае отказа инвалиду было обещано насильственно поместить его в специальный приют. Иван не протестовал, а лишь попросил время для сборов. Но начальство ждать не захотело и велело милиционерам выносить Звонаря вместе с коляской, а вещи его выбросить на улицу. В толпе находились и жители Первомайска, которые узнали в приехавшем заместителя только что избранного руководителя администрации поселка и сообразили, что лесничество понадобилось новым хозяевам для охоты и развлечений. Слух тут же разнесся по толпе, она взволновалась и не допустила выселения. При этом заместителя слегка потрепали, но, видимо, он не вник и продолжал настаивать на своем. Об этом и шла дискуссия во дворе. Аристарх и Данила не стали в ней участвовать, а, постучавшись, вошли в избу, наполненную утренним светом, и сразу же увидели Звонаря, который о чем-то тихо переговаривался с Матвеем.
– Здравствуй, Иван Александрович, выселяют тебя, я слышал. Вот познакомься, друг мой, полковник разведки, Данила Всеволодович Булай.
– Здравствуй, Аристарх, здравствуйте, товарищ полковник, проходите, садитесь. Может, чаю выпьете с дороги? Матвей, будь другом… А выселить меня невозможно. Выселяют насельников, а я – птица божья, мне везде дом. Печально другое – начальники эти совсем не понимают, что хотят народный ручей перекопать. Какую новую жизнь они могут построить? Да, Матвей, там, во дворе, уже расходятся. Выйди, попроси кого-нибудь из гостей до Первомайска слетать, позвонить Сереже. Хорошо бы он завтра приехал, помог бы скарб перевезти.
Аристарх отхлебнул чай из жестяной кружки и спросил:
– Я вижу, ты в скорое улучшение в стране не веришь?
Глаза Ивана живо сверкнули, они были молоды и полны глубины, хотя лицо его закрывала густая борода, а кожа лица отсвечивала нездоровым оттенком.
– Это смотря что понимать под улучшением, Аристарх. Нужда и страдания в народе поселяются надолго. А духовное отупение начинает уходить. Вот и решай сам, что хорошо, а что плохо.
Данила даже привстал от недоумения:
– Где же Вы видите такое просветление? Ведь прозревают, может быть, десятки тысяч, а опускаются миллионы. Вот Вам пример. Купил я дом в далекой тверской деревне. Из полусотни имеющихся там в наличии жителей пьют практически все. В деревне нет детей, хозяйство пришло в упадок. Они уже погасли, эти русские люди, в них нет воли к жизни. И верующих в этой деревне только две древние старушки. Какое здесь прозрение?
Звонарь кивнул головой в знак согласия:
– Да, это печально. Но я больше Вам скажу, Данила Всеволодович. Деревня Ваша – только первая ступень испытаний, в которые мы погружаемся. Дальше будет хуже. Ведь когда мы выходили за Ельцина, не понимали, какого упыря ведем к власти. Теперь равенство испаряется, а на смену ему ползет скотство. Люди начинают ощущать издевательскую несправедливость происходящего, к которой сами приложили руку по недомыслию. А для того, чтобы просветлеть умом и душою, надо обрести Бога. Народ с Богом в душе никаких упырей к власти не пропустит. Вот мы его и обретаем через мучительные испытания. Другого пути нет. И если ничто не помешает, то мы с Вами будем свидетелями чуда.
– Почему чуда?
– Потому что мы станем первой современной истинно христианской нацией. Знаете, почему истинно?
– Нет.
– Потому что после всех испытаний муками безбожия, мы, наконец, поймем, что принцип свободы совести на самом деле есть принцип свободы от совести. Без веры совесть нежизнеспособна. Второй раз такой ошибки наш народ себе не позволит. Девиз свободы совести нашептан врагом русской души.
– Но ведь право выбора неколебимо. Хочу – верю, хочу – нет. И никто не может меня заставить…
Звонарь улыбнулся в ответ. Ему нравился этот напористый и открытый собеседник:
– Это правильно, спору нет. Но есть и такая вещь, как главенствующая народная религия. Не принуждением, а горьким опытом она вернется в души большинства людей и будет жить в каждом доме. Вот о чем речь. Ну, а если кто-то ничего не понял из собственной истории и останется атеистом – это его выбор. Хотя каждый будет понимать, что отсутствие Бога в душе открывает ворота всякой нечисти.
– Простите меня, Иван Александрович, но, может быть, в силу своей скептической профессии, я с трудом могу себе представить, что наше общество станет верующим. Ведь его «властители дум» сплошняком атеисты. Они же навязывают нам свои стандарты сознания.
– Да, схватка будет жестокой, Вы правы. Среди тех, кто задает людям науку жизни, осталось мало совестливых творцов. Они народу верный путь указать не могут. Наверное, это самое тяжелое наше испытание, ведь в каждом народе интеллигенция является настройщиком народной души. А у нас – расстройщики. Сами видите, какую заразу они на людей выливают.
– У меня такое ощущение, что когда-то очень давно в голове русской цивилизации вырос западный паразит, который постоянно заставляет ее болеть, а иногда почти умирать.
– Вы сильно сказали, и я не буду с Вами спорить. Хотя, конечно, мы оба знаем, что все обстоит гораздо сложнее. В любом случае, внутренняя духовность наша сейчас развивается не благодаря усилиям творческой интеллигенции, а вопреки им. Мы с Вами вынуждены постоянно очищаться от ее сомнительных плодов. А простой человек этих людей давно всерьез не воспринимает. Поэтому я уверен, что народ не даст нашим интеллигентам себя обмануть. Он больше на эти грабли не наступит, не пойдет за нынешними крикунами и не будет строить американский рай. В глубине своей души ни один русский мужик нашим творцам не верит. Поэтому нам предстоит очень тяжелое время до тех пор, пока не появятся люди, способные дать национальную идею и повернуть страну на нужный путь. Но такие люди появятся, я это точно знаю.
– То есть Вы не верите в нашу демократическую систему, парламентские органы, которые будут отфильтровывать лучших представителей…
Иван тихо засмеялся:
– Вы ведь не хуже меня знаете, Данила Всеволодович, что нет ничего проще, чем купить парламентариев, которые не несут ответственности перед избирателем. Хуже того, как раз из этих демократических органов и полезет разложение. Власть и богатства в нашей стране присвоят инородцы и моральные калеки, а простым людям будет плохо. Нас поймали на приманку западного образа жизни, но такая жизнь доступна только ловцам, а пойманные будут работать на их благополучие.
– Да, печальное видение будущего.
– Что и говорить, радости мало. Только вспомните, с чего мы начали: повсюду пробиваются ростки православия. Другими словами, появляются люди с совестью. Еще не скоро они наберут силу, еще не скоро жизнь заставит их объединиться и приступить к действию. Пока мы продолжим падать, Данила Всеволодович. Будет падение и, одновременно, зарождение новых сил. Это второе обстоятельство меня и радует. Понимаете, впервые за много-много лет у нас, наконец, появится честный, страдающий за судьбы народа творческий интеллигент, который сменит эту продажную и изолгавшуюся свору! Он должен будет изгнать ее, от этого зависит судьба народа. Если же новые творцы будут раздавлены старыми разложенцами, то мы не выполним своего исторического долга. Не сможем возродить оплот Православия в мире.
– Так что, по-Вашему, гибель?
– Да, тогда гибель. Русский народ исчезнет с лица земли. Растворится среди других наций. И путь к Апокалипсису человечеству будет открыт.
Заговорившись далеко заполночь, друзья наконец уснули, оставив Звонаря одного слушать ночную тишину. Иван уже не умел уходить в сон надолго и, казалось, ему достаточно всего часа, чтобы восстановить силы. Может быть потому, что неподвижный образ жизни делал расход энергии минимальным, а может, существование его шло уже по другим, не совсем понятным медицине законам. Огромный врачебный опыт знает множество случаев удивительных проявлений человеческой природы, не подвластных обыденному пониманию. Возможно, и Иван, сам того не ведая, пользовался таинственной и чудесной силой, постоянно поддерживавшей его дух в бодром состоянии.
Звонарь воспринимал краем своей интуиции, что где-то в Первомайске сейчас идет поздняя пьянка людей, разговаривающих о нем и о доме, в котором он живет. Речь этих людей льется тягучим матом, мысли их злы, на душах лежит бесовская печать, и они заряжаются энергией от черных помыслов. Они хотят приехать утром, чтобы выместить на нем накопившееся за ночь пьяное озверение. Иван не хотел углубляться в эти мысли и обратил свой внутренний взор на Матвея, Аристарха и Данилу.
Все они – прообраз будущего русского человека. Все прошли через большие испытания судьбой, все сумели в них выстоять и укрепить в своих душах добро. У всех имеется самое главное, что необходимо русскому человеку – вера в Бога, через которую они обретают свое земное достоинство и понимание цены своей родины для всего человечества.
Он с любовью подумал о Зафире, спавшей за перегородкой. Эта женщина принесла ему счастье духовной близости, которое можно было назвать Божьим Даром. Теперь он знал, как высока была любовь Адама и Евы до грехопадения. Иван повернул коляску в угол с иконами и начал молиться за своих друзей, за жену и за то, чтобы множилось и укреплялось в народе число таких, как они.
Он молился, в сознании его снова всплывала белоснежная лестница, ведущая ввысь, и уже не один он поднимался по ней, а бесчисленное количество людей. И виделся ему в бездонной васильковой синеве лик Богоматери, освещающий русскую землю материнским любящим взглядом.
Когда над вершинами деревьев пробились первые блики рассвета, Иван разбудил друзей и сказал:
– Послушайте меня внимательно, Матвей, Аристарх и Данила. Скоро на нас будет нападение. Те, кто приближаются к нам, не хотят мирного исхода встречи. Их ведет злоба и нетерпение выместить на нас свои черные чувства. Я всю ночь молился о нас с вами и получил благословение на бой. Готовьтесь и не ждите первого удара. А пока они едут, мы еще успеем напиться чаю. Вон, кстати и Сережа подъехал.
Через четверть часа друзья вышли из домика, взяли в сарае дубовые колья и схоронились в укрытиях по двору. Сергей Седов развернул свой грузовик носом к воротам и остался за рулем. Иван выехал в каталке на крыльцо и стал поджидать незваных гостей. Рядом встала Зафира. Вскоре из леса вынырнула уже побывавшая здесь «Волга», позади следовал облепленный грязью джип «чероки». Машины на большой скорости въехали во двор и резко затормозили. Из них вывалилось с десяток опухших от пьянки парней во главе с тем же заместителем мэра. Непрошеные гости рассредоточились редкой цепочкой, как бы давая понять потянувшимся из палаток богомольцам, что на сей раз вход во двор будет закрыт. В руках у них виднелись орудия рукопашного боя вроде нунчаков и булав, а в глазах – желание оттянуться на этом беззащитном стаде. Один из них, по виду старший, помахивал револьвером.
Теперь заместитель мэра был настроен решительно:
– Сбросьте его с крыльца, чтобы дверь не загораживал, – приказал он двум мордоворотам, указывая на Звонаря, – и начинайте барахло выкидывать.
Преодолевая боль, Иван поднял руку и сказал зычным голосом:
– Зачем все это? Я ведь не собираюсь здесь задерживаться. Уеду сегодня же…
– Поговори у меня, поговори, монашек, – отвечал начальник, – сейчас договоришься.
По всему было видно, что он не забыл вчерашнего унижения. Его терзала ненависть за то, что он, могучий начальник округи, был побит и изгнан из лесничества какой-то рванью. Следуя его приказу, к крыльцу в развалку подходили два «качка» с явным намерением столкнуть каталку вниз вместе с инвалидом. Собравшиеся за ограждением люди закричали, однако бандиты не обращали на них внимания. Но как только они поднялись к Ивану, из дверного проема появился Булай и секущим ударом дубины ударил первого по ключице. Кость хрустнула, и парень, скрутившись винтом, упал вниз. Второй развернулся, чтобы бежать, но Данила пнул его ногой в спину, и бандит покатился по ступеням. В тот же момент в толпе заголосили и, прорвав оцепление, она бросилась во двор. Началась свалка, в которой ни револьвер, ни булавы бандитам помочь уже не могли. Трое или четверо из них бросились к «чероки», но в это время взревел мотор грузовика, и тот со всего хода ударил в бок джипа, завалив его на бок. Револьвер главаря треснул единственным выстрелом и был выбит из рук, не причинив вреда. На несчастье бандитов, один из них все-таки успел пустить в ход нунчаки. Это страшное оружие, сделанное из вареного в масле бука, ударило по руке пожилой женщине, вызвав открытый перелом кости. В воздухе поднялся визг и вой, толпа навалилась на бандитов, и вскоре они лежали на земле, закрыв головы руками, а люди вымещали на них всю горечь своей убогой жизни, унижений от издевательств новой власти и новых извергов.
– Остановитесь, – во весь голос кричал Иван, – остановитесь, православные!
Друзья его растаскивали дерущихся, но это удалось сделать не сразу. Наконец наступило успокоение, и все прекратилось. Люди отошли от поверженных врагов, которые являли собой жалкое зрелище. Они были ободраны, окровавлены, покрыты синяками, но живы. Наибольшие потери, как главный виновник, понес их предводитель. Теперь у него кровил не только нос, но и разбитые губы, лицо превратилось в сплошную лиловую подушку, а на голове не хватало волос.
Бандиты с трудом поднялись с земли, сбились в кучку. Звонарь молчал, провожая взглядом «Волгу», на которой увозили женщину с переломом руки. Затем обернулся к ним:
– Вы еще молодые люди, – сказал он, – вот смотрите, как к вам относятся те, за чей счет вы живете. Смотрите, может, хоть что-то станет понятно. А на этого, – он указал рукой на заместителя мэра, – не равняйтесь. Он вас самих за рогатую скотину держит. Теперь уходите. И с вами, земляки, я сегодня разговаривать не буду, потому что мне надо перебираться в поселок. Вот перееду и продолжим наши беседы.
Быстро погрузили в грузовик скромные пожитки Звонаря и Матвея, посадили Зафиру в кабину и отправили машину в Первомайск. Чуть позже и сами вышли из лесничества. Впереди двигалась коляска с пехотинцем Иваном Звонарем, которую толкал моряк Матвей Захаров, рядом шли разведчик Данила Булай и историк Аристарх Комлев. Битые, но не убитые, тонувшие, но не утопленные, оболганные, но не обманутые, они шли по своей земле хозяевами жизни. Немного отстав, за ними следовали богомольцы, которые будут ждать начала новых исповедей, а заодно охранять Звонаря от нечисти. Так и возвращалась осенним светлым днем новая Россия к себе домой.

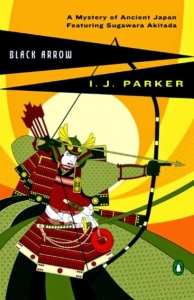





Комментарии к книге «Альфа и Омега», Дмитрий Дивеевский
Всего 0 комментариев