Посвящается адмиралу и мадам Эрве Жиро
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Николя Лe Флок — комиссар полиции Шатле.
Луи Ле Флок — его сын, паж Большой конюшни.
Антуанетта Годле, по прозванию Сатин — мать Луи Ле Флока.
Эме де Ноблекур — прокурор в отставке.
Марион — его домоправительница.
Пуатвен — его лакей.
Катрина Госс — его кухарка.
Пьер Бурдо — инспектор полиции.
Наганда — вождь племени микмак, французский агент влияния в Канаде.
Папаша Мари — привратник в Шатле.
Сортирнос — осведомитель.
Рабуин — агент.
Гийом Семакгюс — корабельный хирург.
Ава — его кухарка.
Шарль Анри Сансон — парижский палач.
Мэтр Вашон — портной.
Полетта — содержательница борделя.
Симон Бонжан — ее любовник.
Сартин — Государственный секретарь, министр морского флота.
Амло де Шайу — министр королевского дома.
Ленуар — начальник полиции Парижа.
Д’Арране — адмирал.
Эме д’Арране — его дочь.
Триборт — его дворецкий.
Лаборд — генеральный откупщик, бывший первый служитель королевской опочивальни.
Тьерри де Виль д'Аврэ — первый служитель королевской опочивальни.
Бальбастр — музыкант и композитор.
Жанна Кампан — горничная королевы.
Роза Бертен — модистка королевы.
Каюэ де Вилле — интриганка.
Луазо де Беранже — генеральный откупщик.
Де Мазикур — начальник тюрьмы Фор-Левек.
Кашар — тюремщик.
Ренье — привратник.
Батист Гремийон — сержант караульной роты.
Фердинанд Берту — часовщик.
Пьер Леруа — часовщик.
Аньес Генге — его крестница.
Эмманюэль де Риву — лейтенант морского флота.
Арман Депла — работник часовой мастерской.
Лорд Эшбьюри — начальник английской разведывательной службы.
Мишель Лекюйе — торговец веерами.
Жак Лавале — художник-пастелист.
Киска — его любовница, модель.
Бетанкур — слесарь.
Родоле — общественный писарь.
Гаспар — бывший лакей в голубой ливрее, метрдотель в ресторации «Большой олень».
Тадеуш фон Иссен — прусский шпион.
ПРОЛОГ
Я отправляюсь в ад, где Ахерон течет под черным светом звезд Тартара.
Римская эпитафияСуббота, 8 февраля 1777 года.
Стоило вспомнить события последнего месяца, как тотчас в голову лезли сумбурные мысли; неужели он бросил добычу ради тени? Неужели придется сожалеть, что отказался от скромного существования, уготованного ему дядей? Зов неизвестного, возвращение в прежние края, с которыми, как ему казалось, он расстался навсегда, желание испытать то, о чем рассказывали другие, щедрые посулы и искушения, долгие-долгие переговоры — все подталкивало его сделать именно этот выбор.
Даже его необузданное воображение не могло помочь оценить последствия своего решения. Не то чтобы он испытывал сомнения, просто обещанный результат выходил за узкие рамки, в которых он привык вращаться. Приняв предложение не торгуясь, он сжег за собой мосты и, закрыв глаза, положился на волю судьбы. Те же, кто убеждал его, располагали не только убедительными аргументами: за их словами просматривалась неприкрытая угроза.
После своего перехода он убедился, что все именно так, как много лет твердили ему родственники; все оправдывало их скептицизм и отказ согласиться с решением, которое он все же принял. Но не в его характере сожалеть о содеянном, пусть даже излишне поспешном поступке, принятом под влиянием минутного настроения. Зато потом все пошло как по маслу, и, несмотря на его двусмысленное положение, прием, оказанный ему, рассеял его преждевременные страхи.
Покорившись неожиданным переменам, выпавшим на его долю, он привык к своему новому существованию и первые месяцы пребывал в радостном возбуждении. Новые заботы и новое положение его вполне устраивали, рассеяли тревогу и усыпили вопросы, связанные с грядущим прыжком в неизвестность. Ему предстояло сыграть в опасную игру, где ставкой выступала его жизнь. Вспомнив обо всем, что с ним случилось, он попытался представить себе весь приведенный в движение механизм, главной пружиной которого ему довелось стать. Назад возврата нет. Подобно болезненной лихорадке, его влекла страсть к приключениям, эта страсть возбуждала его и придавала новые силы. Он словно читал увлекательную книгу, где каждая строка становилась очередным аргументом в пользу дальнейших действий. Вспомнив, что его ждет, он задрожал: готовый к преодолению трудностей, он опасался, что не сумеет стать своим в том двуличном мире, который он слишком хорошо знал. Вскоре, сменив облик, ему предстоит встретиться с этим миром лицом к лицу. Лишь об одном он сожалел: неужели он больше никогда не увидит ее?
Встав на скамеечку, он дотянулся до деревянного ставня, закрывавшего окошко, и осторожно раскачал его. Когда настанет время, он потянет деревянный щит на себя и вытащит штырь из каменного гнезда. Покопавшись в тюфяке, он достал шкатулку с двойным дном, где лежала веревка, свитая из связанных друг с другом простыней; с ее помощью он спустится на улицу, где его должен ждать экипаж. Фонари будут потушены, а месяц вряд ли сумеет рассеять ночной мрак. Если ничего чрезвычайного не произойдет, то караульные патрули проследуют своим привычным путем и к назначенному часу патруль уже минует тюрьму. Откинув крышку часов, он пальцами нащупал стрелки, определяя время: час приближался. Он разместил в условном порядке огарки свечей, хотя его предупреждали, что пользоваться ими можно только в случае крайней необходимости, ибо любой проблеск света может вызвать подозрение караульных.
Желая убедиться, что ничего не забыто, он последний раз проверил снаряжение; потом, достав из кармана крошечный клочок бумаги, скатал его в трубочку, сунул в стык между камнями, а сверху замазал смесью хлебных крошек с известкой. Это его бутылка, которую он бросил в море — на всякий случай… Снова уточнив, который час, он достал лестницу и проверил прочность узлов. Подошел к скамеечке, встал на нее, снял ставень, вынул из цементных гнезд заранее расшатанные прутья, спустился, положил железки на тюфяк и прикрыл одеялом. Затем поднялся к окну и, привязав к оставшемуся пруту веревку из простыней, откинулся назад и потянул ее, проверяя на прочность. Теперь самое трудное: просунуть в окошко ноги. Некоторое время он висел в пустоте, вцепившись руками в простынный жгут и нашаривая ногами стену, чтобы, упершись в шероховатый камень, обрести опору и начать спуск. Пролетавшая мимо ночная птица мягко коснулась его крылом, и тьма поглотила его.
Та же ночь, Версаль, особняк д'Арране.
По старой привычке, Сартин большими шагами расхаживал по библиотеке. Адмирал д’Арране, беспокойно постукивая тростью по кончику своего башмака, разглядывая рельефный план сражения при мысе Финистерре. Жертвой этого яростного постукивания стал брам-рей одного из кораблей: рей свалился, и его следовало осторожно водрузить на место.
— К этому часу все должно быть сделано.
Министр взял часы, издавшие хрустальный звон.
— Разумеется, сударь, как мы и предвидели. Приманка, должно быть, уже у них в руках.
— Однако, очень холодно, — заметил Сартин.
Подойдя к камину, он принялся яростно размешивать угли: потрескивая под его ударами, головешки вспыхивали крошечными синими огоньками.
Тишину нарушал лишь шорох прогоравших в камине дров.
— Правильно ли мы выбрали? Все произошло столь стремительно. И почему именно гугенот? Не окажется ли этот выбор ложкой дегтя в бочке меда? Слабым звеном нашего плана?
— После долгих наблюдений и разговоров я убедился в его искренности, — ответил адмирал. — Он понимает срочность задания и готов потрудиться ради интересов короля.
— Если начнется открытая война, это может плохо кончиться. Мы не опаздываем, но они вполне могут нас обогнать.
— Если верить нашим агентам, похоже, они уже нас обогнали. И даже намереваются начать серийное производство.
— Неужели?
— Увы, да. Нам надобно во что бы то ни стало выиграть соревнование в скорости. С помощью нашей интриги мы хотим убедить врага в том, что мы опередили его на целую голову и знаем о его замыслах гораздо больше, чем он думает. Наш план — единственный способ ввести его в заблуждение и тем самым отвлечь его внимание от насущных задач на долгие месяцы.
— Да, придумано недурно, но приходится признать, что наши собственные изыскания топчутся на месте. Но, в конце концов, поиск продолжается…
Вновь посмотрев на часы, Сартин неожиданно громко щелкнул крышкой. Адмирал неодобрительно покачал головой. Его неодобрение не осталось незамеченным.
— Что-то не то?
— Да нет. Но часовые механизмы такие хрупкие. Если захлопывать крышку, не нажимая пружину, она в конце концов разболтается. Кроме того, щелчок отрицательно действует на часовой механизм, и часы начинают отставать. Это ведь работа нашего друга? Прекрасная штучка!
— Адмирал! Откуда у вас такие глубокие познания в сей области? Мы не в море, орудийные люки закрыты, волн, бьющих о борт корабля, тоже не наблюдается.
— Вот вы и проговорились о причинах нашего беспокойства! Напомню, этим маневром мы надеемся заполнить лакуну в наших знаниях; именно для этого мы и намерены забросить искусного умельца в расположение противника. Что же касается сегодняшнего вечера, то нам остается лишь положиться на Провидение.
— И да будет угодно Господу, чтобы он остался жив и защитил лазурный щит с тремя золотыми лилиями от коварного льва!
— О ком вы говорите?
Сартин издал скрипучий смешок.
— С этим изречением меня недавно познакомил наш друг Николя; мы разговаривали о Дюгеклене, коннетабле Франции и уроженце Бретани. С тех пор фраза постоянно вертится у меня в голове.
Обменявшись улыбками, они в молчании принялись ждать новостей.
Письмо от маркиза де Понса, французского посла в Берлине, к господину де Верженну, от 8 февраля 1777 года.
Совершенно очевидно, что состояние здоровья прусского короля гораздо лучше, чем я предполагал; однако, судя по его осунувшемуся лицу и тому множеству одежд, в которые он постоянно кутается, отчего телесная худоба его становится незаметной, он показался мне постаревшим. Сапоги не позволяют оценить, каково состояние его ног; при ходьбе, однако, он приволакивает левую ногу, так что походка его, впрочем, никогда не отличавшаяся легкостью, показалась мне весьма затрудненной.
Известно, что его прусское величество все еще не может садиться на лошадь, тем не менее он и здесь, равно как и в Потсдаме, приказывает каждое утро приводить к подножию лестницы своего коня и через час отсылает его обратно в конюшню. Всем известно, что прусский король страдает от болезни ног, однако, несмотря на долгие и изнурительнее хвори, кои он терпит уже два года, его неукротимый нрав — по крайней мере, с виду — не стал спокойнее, как можно было бы предположить. Всякий раз, когда мне выпадает случай увидеться с ним, я с удивлением отмечаю, что он, по-видимому, не испытывает упадка сил, а слабость его выражается в том, что он не решается надолго появляться на людях. Его жизнь стала еще более уединенной, чем обычно.
Поэтому собрание кружка, собиравшегося в последнюю среду, продолжалось недолго. Его величество был весел: несомненно, он заранее предусмотрел сей визит, ибо подозревал, что его будут пристально рассматривать. Главной темой беседы стал господин д’Эон; государь задал мне о нем множество вопросов, спросил, к какому полу тот принадлежит, поинтересовался его частной жизнью, при этом ни разу не упомянув о его дуэлях. Повеселившись над моим рассказом, его прусское величество сказал: «Хотя время метаморфоз ушло в прошлое, возможно, в наш век тоже случилось таковое превращение, причем весьма пикантное, а так как первенство в поставке новостей держит Франция, справедливо, что и сия новость прибыла к нам оттуда». Далее его прусское величество заговорил о бедствиях, постигших Голландию в результате ураганов, а в конце расспросил господина ван Свитена об отъезде императора, о пути его следования и том, как долго тот намеревается пробыть во Франции.
Здесь прошел слух, что в начале года случилось некое досадное происшествие, повлиявшее на внутренний распорядок дворца. Одномоментно были изгнаны все старые слуги. Попытавшись разобраться, чем вызвано такое потрясение, ибо, как известно, прусский государь отличается привязанностью к своим служителям, я узнал, что из личного кабинета Фридриха Прусского украли некий маленький и очень ценный предмет, к которому государь очень привязан; до сих пор никто не может понять, каким образом произошло исчезновение сего предмета. Надеюсь, того, кто совершил это дерзкое ограбление, рано или поздно найдут. Буду иметь честь сообщить Вам все, что мне удастся узнать относительно сего происшествия.
Глава I ФОР-ЛЕВЕК
И счастье, и несчастье — ему все едино.
ШифлеСуббота, 8 февраля 1777 года, вечер.
Спрятав руки в муфту, Николя Ле Флок осторожно шел по улице Сен-Жермен-Л’Осеруа. С одной стороны, он хотел избежать падающих сосулек, срывающихся с крыш по причине неожиданного потепления, а с другой — увернуться от людей в карнавальных масках, вовлекавших случайных прохожих в свои буйства и всегда готовых облить упрямца помоями или забросать огрызками. Он с нетерпением ждал окончания карнавала и благодарил Господа за приближение поста, а следовательно, возвращение спокойствия. Он никогда не любил карнавальное веселье; в дни, когда старый год встречался с новым, он всегда пребывал в состоянии тревоги. Память безжалостно воскрешала печальные картины. Вот он, шестнадцать лет назад, возвращается из Геранда после смерти своего опекуна-каноника, и в тот вечер исчезает комиссар Ларден. Затем наступал черед жутких сцен гибели его любовницы Жюли де Ластерье.
Сегодня вечером, шлепая по грязи, он снова брел по городу, несчастный и неприкаянный. Наступив в лужу, он поскользнулся. Выругавшись, он с удивлением заметил, что фонари, поставленные в свое время по указанию Сартина, на участке улицы, проходившем возле стены тюрьмы Фор-Левек, больше не горят. Завтра надо сообщить об этом в полицейское управление, то, что расположено на улице Мишодьер: они отвечали за освещение улиц. Неподалеку от пересечения с улицей Тиболарди его обогнала роскошная карета, двигавшаяся довольно медленно. На всякий случай он прижался к стене, опасаясь, что сейчас его забрызгает с ног до головы. Когда карета проезжала мимо, он заметил, как рука в перчатке протерла окошко и чье-то лицо, скрытое под толстым слоем грима, прижалось к стеклу, разглядывая Николя. Мужчина или женщина, лицо или карнавальная маска? И хотя комиссару показалось, что он уже где-то видел похожую физиономию, вспомнить он не смог. Нажав кнопку на часах, он услышал, как те пробили одиннадцать.
Внезапно на улице стало значительно тише, но это и не удивительно: в этом году карнавал проходил не столь шумно и весело, как обычно. Париж наводняли нищие, ничто не располагало к веселью. Несколько неурожайных лет, суровые зимы, не тающие долго снег и лед способствовали воцарившемуся вокруг унынию. Часто приходилось отбиваться от волков: стаи хищников выходили из лесов и нападали на деревни. Из провинции в столицу в поисках крова и пищи прибывало все больше бедняков, и толпы поденщиков, собиравшихся ежедневно на Гревской площади в поисках работы, становились все гуще. Начальник полиции, чрезвычайно обеспокоенный великим наплывом народа, сознавал, что контролировать всех вновь прибывших крайне сложно, ибо в полицейских участках знали только о тех, кто останавливался в гостиницах и трактирах; нищие же, поденщики и прочая беднота, что каждый день пересекали городские заставы, ночевали на чердаках и в развалюхах, а то и вовсе под открытым небом, где никто не вел учетных записей. Так откуда ждать радостного настроения?
В силу своего ремесла Николя прекрасно знал о всех сложностях нынешнего положения. Еще в прошлое царствование полиции нередко приходилось устраивать целые представления, изображая якобы народные волнения и тут же их подавляя. Эти шумные маскарады, оплачивавшиеся самой полицией, позволяли на время смирять брожение умов. Среди печалей и возраставшей нищеты карнавал терял присущий ему всеобщий веселый настрой: теперь этот настрой поддерживали только соревнующиеся друг с другом платные осведомители и актеры. Привычная суматоха царила разве что на балах в предместьях. Несколько дней назад королева, соблазненная рассказами своего юного деверя графа Артуа, лихо отплясывала в зале дома Поршерон. Николя, которому выпала честь охранять эту тайную вылазку королевы, весь извелся: несмотря на инкогнито, ее величество легко могли узнать. Никто не мог убедить комиссара, что ничего предосудительного в участии королевы в развлечениях простонародья нет: он твердо знал, что народ непочтительно относился к тем, кто опускается до его уровня.
На углу улицы Сонри экипаж, один раз уже обогнавший его, снова проехал мимо, едва не задев его. То же разукрашенное по-карнавальному лицо уставилось на него, однако он так и не вспомнил, где он мог его видеть. Продолжая свой путь, он припоминал разговоры, услышанные им в таверне на перекрестке Трех Марий, что при съезде с Нового моста. Текущие обязанности задержали его в дежурном отделении, и, желая размять ноги, к концу дня он пешком отправился в таверну, где можно было не только поесть, но и разведать умонастроения народа. С удовольствием проглотив яйца под соусом бешамель и салат с холодным мясом, он закусил орехами и, заказав кувшинчик сюренского вина, разговорился со своими соседями. Умея находить общий язык с людьми из всех слоев общества, он, как и положено доброму малому, выставил окружавшим его ремесленникам и поденщикам графинчик водки и угостил их табаком, чем сразу завоевал всеобщую признательность. Привыкнув больше слушать, нежели говорить самому, Николя просеивал речи посетителей трактира, запоминая основное, а затем делал выводы. Многие боялись потерять работу. Король по-прежнему пользовался симпатией, но его считали слабохарактерным и говорили о нем сочувственно. При упоминании королевы в лучшем случае наступало враждебное молчание, в худшем неслись непристойные высказывания. О Тюрго никто не сожалел. Неккер пока еще пользовался исключительно французской привилегией: им интересовались, ибо он был человек новый. С ним также связывали надежды на перемены и ждали от него золотых гор. Узнав новые злободневные куплеты и памфлеты, Николя подогрел всеобщий энтузиазм, заговорив об американских инсургентах: он посетовал, что правительство никак не решится отказаться от выжидательной политики и выступить на стороне инсургентов против англичан. Небольшая интермедия в трактире оживила монотонность его дежурства; в силу своего особого положения он мог бы вовсе не дежурить, но он не хотел пользоваться привилегиями, считая своим долгом исполнять все, что предписано его должностью. Маркиз де Ранрей при дворе и Николя Ле Флок в городе, он никогда не отдавал предпочтения одному в ущерб другому.
Когда он добрался до Шатле, пустующие прилавки торговцев на площади перед старинной крепостью снова покрылись снегом. Поднявшись по большой лестнице и заглянув в каморку папаши Мари, он увидел, что обитатель ее сладко спит, уронив голову на грудь. Вспомнив, что в зимнюю пору привратник охотно злоупотребляет своим знаменитым укрепляющим, Николя понимающе улыбнулся. Сам он дрожал от холода, поэтому, войдя в дежурную часть, тотчас жарко растопил камин. Затем он сел и предался размышлениям. Глубоко вздохнув и ощутив, как воздух толчками выходит обратно, он понял, что тревога затопила его целиком. Побороть это неприятное состояние можно было только сосредоточившись и как следует проанализировав последние события.
После коронации, состоявшейся в 1775 году, жизнь его потекла по новому руслу. Николя Ле Флок по-прежнему занимался повседневными делами полицейского комиссара. Альбер, начальник парижской полиции, сменивший Ленуара после мучных бунтов[1], придумывал самые изощренные хитрости, чтобы выгнать его за ошибки или заставить подать в отставку. Закаленный немилостью предыдущего начальника, Николя воспринимал его попытки с полнейшим безразличием. На каждое публичное оскорбление он отвечал презрением, присущим человеку опытному, а посему прекрасно знающему, что нет ничего такого, что бы со временем не уладилось. Подчиняясь начальнику, он исполнял свои обязанности, не вкладывая в них ни капли души. Он налагал печати на наследство умерших, делил по справедливости то немногое, что оставляли малые мира сего, взимал пошлины за отправление правосудия. Но исполнение даже гражданских функций было сопряжено с определенным риском. Народ роптал и обвинял комиссаров в получении взяток «и мясом, и рыбой, и маслом, и водой». Однако каким бы ни было руководство, осуществляемое Альбером, действия комиссара Ле Флока всегда отличались прозрачностью, что немало обескураживало шпионов начальника, поручившего им следить за каждым его шагом, дабы взять с поличным, и приводило в отчаяние самого начальника, достигшего высоких должностей, но по-прежнему убежденного, что не следует пренебрегать малым. Махинации, в которых участвовали некоторые из его собратьев по ремеслу, наполняли Николя глухим гневом, ибо он расценивал их как оскорбление, наносимое принципам, в которые он верил.
Он не имел привычки заботиться о преумножении своего благосостояния, но с некоторых пор ему пришлось уделить внимание и этому вопросу. Ежегодно он получал восемнадцать тысяч ливров гонораров, двенадцать тысяч ливров жалованья за выслугу лет и столько же в качестве вознаграждения, треть от взимаемых штрафов, а также плату за исполнение обязанности контролировать меры и весы на рынке. Ему также поступала арендная плата с земель замка Ранрей и прилегающих владений. Его друг Лаборд, бывший первый служитель опочивальни покойного короля, а теперь генеральный откупщик, многократно бранил его за беспечность и едва ли не вынудил разместить солидные суммы в надежном месте, дабы те приносили ему доход в виде регулярной ренты, не заставляя трогать основного капитала.
В конце прошлого года, когда ему поручили сопровождать неофициального посла, отправленного американскими мятежниками ко французскому двору, он неспешно, кружными путями добрался до Орэ. С разрешения герцога Ришелье его сопровождал Луи, ставший пажом Большой конюшни. После остановок в Орлеане и Туре они свернули к Амбуазу и заехали в замок Шантелу, где Николя передал в собственные руки герцога де Шуазеля письмо, которое осмотрительный Сартин не решился доверить почте. Бывший министр принял их. Его бьющая через край любезность и говорливость поразили Николя; при дворе ему доводилось только видеть Шуазеля, но не разговаривать с ним. Зная, без сомнения, что Николя не принадлежит ни к какой клике, Шуазель тем не менее настойчиво расспрашивал его о новостях политики, что немедленно насторожило гостя. Тогда герцог рассказал ему о своем желании соорудить у себя в парке, на берегу водоема, китайскую пагоду в честь верных своих сторонников. Принятый госпожой де Шуазель, Николя был очарован ее кротостью и ровным обращением. Она сообщила, что постоянный поток сторонников ее супруга утомляет ее, а истинным блаженством является наслаждение дружбой, но тем, кому суждено обитать на земле, нельзя вечно пребывать на небесах, а посему счастье лучше и надежнее хватать за хвост, как только оно появится.
Затем они посетили королевское аббатство Фонтевро, где Николя повидался со своей сестрой Изабеллой. Присутствие Луи, впервые представленного тетке, позволило избежать какого-либо стеснения; Николя радовался, глядя на некогда столь любимое им очаровательное лицо, выглядывавшее из-под монашеской вуали. Увидев племянника, монахиня разрыдалась: сходство Луи с его дедом возрастало день ото дня. Затем настало время для мирной беседы, сладостных слез и обещаний увидеться вновь. Аббатиса устроила им роскошную трапезу. Разговаривали о музыке, обсудили последние новости города и двора. Монахини, сидевшие за столом, принадлежали к самым знатным семействам королевства, и ни одна из них не утратила таланта ведения светской беседы. Покидая Фонтевро, они увозили с собой множество баночек с вареньем, всевозможный мармелад и благословения. Николя долго ехал молча; он думал о том, что одна из ран, нанесенных ему жизнью, наконец-то полностью затянулась, и от этого он испытывал печальное умиротворение. Однако он не дерзнул задать Изабелле вопрос, давно уже готовый сорваться с его губ: он хотел знать, кто его мать. Прибыв в Нант, они разместились в старой гостинице, где когда-то он останавливался с Нагандой. Тамошние клопы по-прежнему поджидали путников, и, чтобы отразить атаки их голодных армий, им пришлось прибегнуть к бальзаму доктора Семакгюса. Затем он отправился к городским старшинам и узнал, что ожидаемый им корабль прибудет никак не раньше, чем дней через десять; известие это принес экипаж легкого быстроходного судна, вернувшегося с Антильских островов, откуда оно отчалило неделю назад, обогнав по дороге искомый корабль.
Пользуясь неожиданно выпавшим свободным временем, Николя решил сделать Луи сюрприз — отвезти его в Ранрей. В течение нескольких дней он занимался делами поместья, подолгу разговаривал с управляющим, сьером Гийаром, и обходил жилища арендаторов, многие из которых узнавали в новом маркизе мальчишку, некогда игравшего с ними в суле на илистых берегах в устье Вилена. В замке все напоминало о маркизе де Ранрее. Он долго стоял в часовне над его могилой, а затем отправился в Геранд, в церковь, где был погребен каноник Ле Флок, дабы почтить его память. С радостью от приезда в родные места вместе с сыном, связующие узы с которым за время путешествия многократно окрепли, соперничала невыразимая печаль возврата к прошлому и к самому себе. Однако постоянная необходимость отдавать распоряжения и напоминать о проведении срочных работ, визиты к соседям, проживавшим в окрестных замках, постепенно рассеяли окутавшее его облако ностальгии. Наконец прибыл гонец с последними новостями. Шторма, нередко бушующие зимой возле побережья Бретани, заставили суда направиться в Нант. Один из фрегатов королевского флота обнаружил истерзанный морем корабль в бухте Киберон, где тот бросил якорь в эстуарии Орэ, ожидая разрешения пристать к берегу.
Через несколько дней в порту Сен-Густан Николя стоял на набережной возле трапа корабля «Репризал» и смотрел, как к нему навстречу спускается высокий старик в очках, одетый с деревенской простотой; изрядно облысевшую голову старца прикрывала шапка из лисьего меха. Простые, но вместе с тем исполненные достоинства манеры и прямая, без уверток, речь гостя произвели на Николя большое впечатление. Всю дорогу, включая несколько дней отдыха в Нанте, они вели долгие беседы, прерываемые только на стоянках. Николя приходилось сдерживать себя в словах, зная из различных донесений, и в частности своего друга Наганды, вождя племени микмак, что во время недавней войны в Канаде американец выступал наиболее непреклонным и яростным противником французов.
Посланец Америки заметил, что война в Новой Франции, ввергнувшая Англию в колоссальные расходы, могла бы обойтись англичанам гораздо дешевле, если бы Питт решил купить эту колонию, а не завоевывать ее. Революция, что сейчас происходит в Америке, добавил он, без сомнения, ослабит британцев, и те перестанут держать в страхе всю Европу. Не раз бывая в столице Англии, ученый прекрасно изучил эту страну. Разумеется, времена изменились, и теперь американским колониям требовалось золото, оружие и союзники. Николя знал, что Бенджамин Франклин тесно связан с физиократами и масонскими ложами. Однако ничто не указывало на его естественную склонность к Франции; скорее всего, он испытывал к ней тот же расчетливый интерес, что и мятежная колония, стремящаяся вырваться из экономических тисков метрополии. Приятный попутчик, американец со своим непередаваемым акцентом рассказывал философические притчи и забавные истории. Во время ужинов, когда вино развязывало языки, он услаждал слух собравшихся шотландскими балладами и игрой на изобретенной им и усовершенствованной стеклянной гармонике. На протяжении всего пути старший из сопровождавших ученого двух внуков приставал с разговорами к Луи; после мальчик поведал отцу, что американец вел себя надменно и излишне оживленно. Младший внук Франклина, которому едва исполнилось семь, всегда и везде проявлял исключительную невоспитанность.
Николя поднял воротник плаща — холод и сырость, царившие в Шатле, слыли смертельными — и продолжил свои размышления. Хотя молодой король считался скупым на эмоции, а особенно на доверие, он сумел снискать его исключительное расположение. Королевская милость ограждала его от происков и коварных выпадов Альбера, преемника Ленуара. Тьерри, первый служитель королевской опочивальни, проникшийся к нему дружескими чувствами, постоянно уверял его в особой приязни короля. Королева не забыла лестных отзывов об аудиенции, данной маркизу де Ранрею императрицей в Вене, и была признательна «Компьеньскому рыцарю» за его верность, что выражалось в щедро расточаемых ему знаках внимания. Все та же королевская милость позволила ему спокойно пережить отставку герцога де Ла Врийера, министра королевского дома, чья длань покровительственно простиралась над его головой, сдерживая враждебные поползновения нового начальника полиции.
Помимо давних отношений с королем, значительную роль в превращении Николя в королевского фаворита сыграла охота. Осенью в Фонтенбло первый олень, выгнанный из лесов Аржантана, заставил охотников немало потрудиться. Второй олень повернул в замок, забежал на псарню, а оттуда одним прыжком достиг аллеи. Две своры погнали его к большому каналу напротив Фонтанного дворика. Король, а за ним Николя завалили зверя на глазах у двора и сбежавшихся поглазеть горожан. Еще раньше в Версале чрезвычайно крупный олень, не замеченный по причине своего окраса, схожего с окраской жухлых листьев, внезапно преградил королю дорогу. Лошадь Людовика испугалась и, шарахнувшись в сторону, сбросила седока на землю. Если бы не Николя, мужественно преградивший путь разъяренному животному, оленьи рога наверняка вонзились бы в короля. Сам он тоже не удержался в седле, однако к тому времени подоспели копейщики и завалили зверя. Охота завершилась на подступах к воротам Пон-де-Севр. В тот день его имя значилось первым в списке приглашенных к королевскому столу.
Событие не осталось без последствий. Николя постепенно становился тайным осведомителем Людовика XVI. Отныне вследствие оказанного ему доверия маркиз де Ранрей получил право присутствовать при малом выходе короля, привилегии настолько почетной и полезной, что даже высокое рождение не давало на нее права. Подобное разрешение являлось высшей монаршей милостью, устранявшей все трудности при получении аудиенции и позволявшей свободно, не боясь шпионов и ушей сплетников, разговаривать с его величеством. Последним знаком королевского доверия стало вручение ему ордена Святого Михаила, широкой черной ленты с бело-зеленым эмалевым мальтийским крестом с золотыми лилиями и изображением Михаила-архангела в центре; Николя носил орден на придворном фраке, вызывая восхищение обитателей улицы Монмартр. Успехи при дворе защищали его от враждебных выпадов своего начальника, не отличавшегося ни мужеством, ни порядочностью, и он без особых треволнений пережил период начальственной немилости.
Затем судьба снова сделала резкий крен. Он вспомнил ужин у Ленуара, состоявшийся в июне 1776 года; трапезу почтил своим присутствием герцог де Ла Врийер. Министр, давно уже чувствовавший себя неважно, воспринял свою отставку как немилость; однако он по-прежнему пребывал в курсе всех дворцовых сплетен. Благодаря родству с Морепа ему удалось избежать ссылки. Каковы бы ни были недостатки опального министра, Николя относился к ним снисходительно и хранил верность человеку, с которым его связывало немало тайн и который всегда безоговорочно доверял ему.
В сумерках теплого летнего вечера они сидели втроем и рассуждали. Сквозь раскрытые окна в комнату влетал сладкий аромат цветущих лип. Левая перчатка соскользнула с руки герцога, обнажив серебряный протез, подаренный ему покойным королем после несчастного случая на охоте, когда в ружье герцога, заряжая, забыли вложить пыж. В огоньках свечей засиял металл, отбрасывая блики на усталое лицо Ла Врийера.
— Ну наконец-то! — вздохнул он. — Мы снова в нашем узком кругу, двери заперты, а слуги отпущены. Господа, хотя с некоторых пор фортуна от нас отвернулась, тем не менее хочу сообщить вам важную новость. Вашей опале скоро придет конец!
И он радостно покрутил головой.
— После увольнения Тюрго его сторонники постепенно утрачивают свои позиции. Возможно, службу их и оценили по достоинству, но…
Выказав живейшую заинтересованность, Ленуар даже приподнялся в кресле.
— Вы полагаете, что начальника полиции освободят от своих обязанностей?
— Сегодня утром мой шурин виделся с королем, потом принимал министра королевского дома Амло де Шайу и только потом отправился к утренней мессе!
— Сударь, — спросил Николя, — если Альбер уйдет в отставку, кто встанет на его место?
— Как это, как это уйдет в отставку? Его выгонят, вышвырнут вон, словно распоследнего шелудивого пса. А кто его заменит? А вы как думаете?
Николя смотрел на Ленуара, чье добродушное лицо постепенно заливалось краской. Герцог проследил за взглядом комиссара.
— Вот, вот! Наш дорогой Ранрей всегда зрит в корень. Несправедливость исправлена. Ленуар, вам вернут ваше место. Завтра Альбер будет смещен с поста, а вас призовут в Версаль. И кто бы мог подумать, что со времени ужасных мучных бунтов прошло всего два года?[2]
— Действительно, — отозвался Ленуар, опустив глаза, — этот человек не справился со своими обязанностями.
— Как это, как это? Да вы кротки, как агнец! При нем полиция прекратила работать вовсе. Должность, на которой прославились Ла Рейни, оба д’Аржансона, Машо, Беррье и наш друг Сартин. А вы сами! Ах! Разве столь славное прошлое не вдохновляет на свершения?! Но, боже ты мой, что мы видим? Секретаришка с куцыми мыслишками, мимолетными и подрывающими власть короля.
— Брюзга, чей ум в разладе… — вздохнул Ленуар.
— В самом деле, кому пришло в голову назначить на место, требующее деликатности во всех отношениях, субъекта, начисто лишенного данного качества и вдобавок не обладающего политическим чутьем? Едва заступив в должность, он под предлогом восстановления добронравия и пристойности в литературе принялся конфисковывать рукописи, вместо того чтобы, как заведено, возвращать авторам труды, не пропущенные цензурой. У нас и без того имеется предостаточно причин ограничивать свободу печати, так не надо лишний раз восстанавливать против себя свет, салоны, парламенты и острословов из-за действий этого глупца.
— В его оправдание скажу, что он не отменил применение писем с печатью, в то время как господин Мальзерб, ваш преемник, за неимением возможности отменить их постарался свести употребление их едва ли не на нет.
— Ерунда! Пиррова победа — ведь, как мы уже отмечали, из-за него мы едва не лишились наших основных источников сведений, которыми являются осведомители и те высоко залетевшие игроки, что вышли из низов простонародья. Впрочем, если мы перекроем им путь к источникам существования, они вновь станут… оказывать нам услуги!
— Вспомните, — назидательным тоном произнес Ленуар, — ответ д’Аржансона великому королю, когда тот захотел узнать, откуда он берет своих осведомителей: «Сир, мы набираем их во всех сословиях, но главным образом среди герцогов и лакеев».
Они расхохотались.
— Как это? Как это? Особенно большое спасибо за герцогов! — проворчал Ла Врийер то ли сердито, то ли восхищенно. — Короче говоря, как только меры обнародовали, раздался вопль негодования.
— И большинство наших источников мгновенно пересохло, — добавил Николя.
— В довершение всего, — промолвил Ленуар, — вы, полагаю, знаете, что он пошел по следам Ретифа, позаимствовав у него идеи, изложенные в «Порнографе»?[3] Он предлагает поместить всех наших жриц Венеры в специальные казармы числом триста; казармами будет управлять государство, а их обитательниц поделят на классы, дабы каждый класс обслуживал соответствующих клиентов, в зависимости от средств последних. Ретиф назвал подобные заведения «парфенионами», а Альбер — «калигулариями»!
— А знаете, что он намеревался сделать с детьми мужского пола, родившимися в этих казармах продажной любви? Их, как детей полка, ожидала военная служба, и таким образом королевская армия без труда получила бы ежегодный приток рекрутов! Хорошо еще, что он не догадался отправить в армию рожденных в казармах девочек!
— Что говорят о нем в городе? — спросил Ла Врийер у Николя.
— Ничего хорошего. Его причуды не идут ему на пользу. Он раздражает многих. У него крайне неуживчивый характер, хотя он и унаследовал свое место от тех, кто благодаря своей обходительности умел находить общий язык даже с теми, кому им приходилось отказывать. Не в меру резкий, он обладает отталкивающей внешностью и манерами. Многие считают его неспособным исполнять его нынешнюю должность, и никто не готов сделать ставку на то, что он долго на ней продержится. Среди тех, кого прочат на его место, передо мной идет Дубле, советник податного суда.
— Хи-хи-хи! Так вот, повторяю. Уже неделю Сартин ведет осаду Морепа, давно осведомленного мною о недостатках нынешнего начальника полиции. Завтра господин Амло сурово велит ему собрать вещи и немедленно покинуть улицу Нев-Сент-Огюстен. И, следовательно, завтра вы, Ленуар, при поддержке его величества, продолжите свою работу, столь некстати прерванную.
Ленуар покраснел, от волнения у него даже затряслись губы. Серебряная кисть, сверкнув, описала в воздухе несколько пируэтов. Николя радостно улыбнулся.
— Однако я бы поставил одно условие…
— Черт побери! Условие королю?
— Поймите меня правильно, сударь. Я не желаю повторения мятежей 1775 года. Король должен предоставить мне, письменно и по всей форме, разрешение в случае серьезных волнений требовать поддержки сил по сохранению общественного порядка.[4] Без этого начальник полиции является фигурой исключительно призрачной, обреченной на бездействие.
— Прекрасно! Прекрасно! Мне кажется, ваше требование вполне обоснованно. Я поговорю об этом с зятем, ибо король ничего не решает без его одобрения… А что думает маркиз де Ранрей о господине Амло де Шайу, министре королевского дома?
— Я о нем не думаю. Министры вправе ожидать от нас повиновения.
— Лицемер! Вы так часто доказывали обратное… к счастью. Однако из нас троих он более всего приближает к себе вас.
Николя скривился.
— Сударь, министр принял меня… однажды… Я ознакомил его со своими обязанностями. Он, как и я, оказался немногословен.
— Ах, уж эта краткость!.. Бретейль, влюбившийся в вас после некой аудиенции в Вене, везде поет вам хвалы и с удовольствием увидел бы вас у себя на службе. И я понимаю, почему… Даже не знаю, как это выразить в двух словах. Я всего лишь больной старик, одной ногой стоящий в могиле… Да, да, не возражайте! И я могу только восхищаться вашим обаянием, коего хватает на всех.
Герцог на минуту умолк.
— Во всех салонах упорно повторяют две версии слов Морепа, которые тот сказал королю, рекомендуя ему нынешнего начальника полиции. Я поведаю вам обе: «По крайней мере, меня не обвинят в том, что я выбрал его за его ум».
— А вторая, — подхватил Ленуар, с трудом сдерживая смех, — «Они наверняка устали от умных людей, так, может, если мы назначим глупца, дела пойдут веселей»!
— Вдобавок еще и заику!
Серебряная кисть заходила ходуном. Николя вспомнил, что тот, кого Шуазель презрительно именовал «маленьким святошей» отнюдь не утратил былого остроумия, разившего всех без пощады.
— Если уж нельзя найти человека кристальной честности, — сказал он, — то, полагаю, на этом месте опаснее всего интриган, а еще хуже — тугодум. Морепа, без сомнения, убедил короля назначить на этот пост человека, во всем ему послушного. Добросовестный заместитель станет делать дело, поддерживая тем самым неспособного начальника. Посмотрите на Мальзерба, благоглупости и философические изречения бьют из него ключом; он искренне считает, что спас четвертушку своей чести, после того как растерял остальные три четверти, исполняя обязанности министра. Надо уметь жертвовать собой ради государства. Постоянные размышления о злоупотреблениях, оскорбляющих вашу щепетильность, приводят к слабости и некомпетентности. Грядет эпоха, когда, увы, столь ревностные служители, как вы, становятся редкостью.
Беседа продолжалась до позднего вечера. Герцог рассказывал случаи из своей долгой министерской карьеры, с волнением вспоминал покойного короля. Они расстались, взволнованные новостями, а на прощание Ленуар пригласил их на предстоящее бракосочетание дочери. Когда на следующий день предсказание герцога де Ла Врийера сбылось, Николя поделился с инспектором Бурдо своими надеждами на возрождение той особенной атмосферы службы, связанной с расследованием чрезвычайных дел, которые он вел много лет и благодаря раскрытию которых он снискал особое отношение короля.
Задрожав от холода, Николя встал и, поворошив в камине дрова, продолжил подводить итоги последних месяцев. Луи с восторгом приступил к изучению пажеской премудрости. Покровительство маршала Ришелье и милостивое расположение короля к его отцу стали ему надежной опорой, и ни слухи, ни злые сплетни не омрачили его первых шагов на новом поприще. Королева также отметила приятного на лицо подростка. После долгих размышлений Николя написал письмо Сатин, где сообщал, что будущее ее сына устроено. Ее взволнованный и прочувствованный ответ наполнил его неизъяснимым удовольствием. Ее модная торговля в Лондоне процветала. Единственно, что беспокоило ее, — это слухи о войне между Англией и Францией. Луи регулярно писал матери. Дабы письма не попали в руки его товарищей, не отличавшихся ни скромностью, ни деликатностью, переписка осуществлялась через улицу Монмартр. Совсем недавно Луи перешел из Малой конюшни в Большую, откуда ему открывался путь к желанной для него военной карьере. Не поморщившись, он перенес унизительные испытания, которым «старички» подвергали новичков. Насколько возможно, Николя следил, чтобы поведение сына оставалось в рамках приличий, однако при этом приходилось считаться со взрывным характером мальчика; также не следовало недооценивать испорченность нравов многих его товарищей. Среди пажей часто вспыхивали ссоры, и выяснение отношений нередко завершалось дуэлью, а так как пажи пользовались рапирами с острыми гранеными наконечниками, раны, полученные в таких поединках, заживали крайне медленно. Еще одной опасностью, от которой Николя хотел уберечь сына, была игра. Однажды он повел его в подпольный игорный дом и показал, как профессиональные игроки дочиста обобрали простодушного провинциала. Он не собирался запрещать мальчику какие-либо развлечения, не хотел, чтобы тот выглядел в обществе белой вороной, задача была всего лишь научить Луи, как следует поступать честному человеку. Урок был преподан со всей возможной деликатностью, тем более что исходил он от того, кто за всю жизнь ни разу не взял в руки карт. Еще Николя попросил Семакгюса дать юноше несколько полезных советов относительно личной гигиены, дабы оградить его от заболеваний, именуемых «пинком Венеры». Впрочем, Луи, в свое время часто приходивший в заведение Полетты «Коронованный дельфин», похоже, уже знал необходимые секреты.
Ввиду предстоящего зачисления в штат Мадам Елизаветы, сестры короля, мадемуазель д’Арране, завела привычку ездить к молодой принцессе и, не оставшись незамеченной, была представлена ко двору. Теперь у нее оставалось гораздо меньше времени для встреч с Николя. Страсть, некогда бросившая их в объятия друг друга, незаметно уступила место теплоте. Дни сменялись ночами, вовлекая их в долгие путешествия по стране Нежности, где отныне им были ведомы все закоулки, и никакая неожиданность не нарушала ни их гармонии, ни постоянства. Но каждый, со своей стороны, задавался вопросом, куда может завести их весьма двусмысленная связь. Блистая в обществе мужчин, Эме вела яркую жизнь; всегда задорная, кокетливая, довольная тем, что Николя принадлежал ей, она больше не заговаривала о возможном постоянстве их отношений, появлялась и исчезала когда хотела.
Николя прекрасно помнил, как в начале их любви каждое мгновение, украденное у свидания, казалось ему невыносимым. Но постепенно они убедились, что редкие свидания позволяют им оставаться самими собой и делают их встречи еще более страстными. Такое положение вещей напоминало игру; затеянная для пробуждения пыла их прежних встреч, игра постепенно превращалась в опасную привычку и служила оправданием долгих разлук, что не могло не беспокоить Николя. Несколько раз он сталкивался с Эме в обществе, с горечью сознавая, что она не предупреждала его о возможной встрече. К своему великому удивлению, он обнаружил, что его возлюбленная, отчаянная женщина, которую он столь часто держал в объятиях, словно легкомысленная девчонка, радостно веселилась в кругу молодых людей, своих ровесников. Внезапно он почувствовал те же уколы, что ощущал некогда при виде Жюли де Ластерье, когда та кокетничала со своими поклонниками в гостиной на улице Верней. Его пронзила мысль, что его возраст, который с каждый годом становится все солиднее, разлучит их с гораздо большей вероятностью, нежели превратности страсти. Когда в 1774 году в лесу Фос Репоз он встретил промокшую и растрепанную Эме, ей было восемнадцать, а ему тридцать четыре. Но если для него время внезапно ускорилось и он почувствовал, как стремительно движется к старости, то ей предстояло еще долго наслаждаться юностью. С тех пор мысль о заключении союза, некогда привлекавшая их обоих, растаяла сама собой, и, когда он вновь размышлял о такой возможности, размышления эти приносили ему все меньше радости. Такое шаткое равновесие не могло продолжаться долго. Каждый раз, когда она прощалась с ним, его охватывала тоска. С болью в сердце он смотрел, как, подобно видению, коему скоро суждено уйти из его жизни, удаляется ее легкая фигурка. Не признаваясь ни друг другу, ни даже самим себе, они незаметно возвращали друг другу свободу. Разрыв мог произойти в любую минуту, и ускорить его мог любой пустяк.
Вздохнув, он направил мысли в менее грустное русло. Проживавший на улице Монмартр господин де Ноблекур старел, однако по нему этого нельзя было заметить. Дабы никто более не нарушал его привычек, он приобрел соседний дом, прежде принадлежавший убитому булочнику Мурю, и, воспользовавшись новым ремесленным уложением, поставил во главе булочной Юга Парно и Анн Фриоп, бывших учеников, вступивших к этому времени в законный брак. У них родилась дочь Беатриса, и Николя стал ее крестным отцом, а Катрина — крестной матерью. Молодая пара поселилась в бывшем доме Мурю. Ноблекур велел соорудить новые проходы, соединявшие оба дома. Спальню Николя расширили, присоединив к ней гостиную, просторную спальню для Луи и туалетную комнату. Катрина, прежде размещавшаяся в клетушке над амбаром, получила хорошенькую спальню на четвертом этаже. По утрам, как и прежде, запах свежеиспеченно хлеба будоражил жильцов, напоминая о каждодневных радостях жизни. Произведенные ко всеобщему удовольствию перемены не оставили равнодушной и Мушетту; теперь киска — на зависть почтенному Сирюсу — бодро носилась из одного дома в другой; песик, по-прежнему ревниво исполнявший роль ментора, с трудом следовал за пронырливой воспитанницей по лабиринтам коридоров и лестниц.
Неожиданный шум вывел Николя из состояния задумчивости. Дверь распахнулась, и на пороге, с покрасневшими глазами, появился папаша Мари в неловко запахнутом пальто. Неужели в этот ночной час случилось нечто непредвиденное и, разумеется, неприятное?
— Отчего ты так разволновался? Что-то случилось?
— Ох, случилось, господин Николя. Стучат, поднимаются, трясут меня за плечи. Ну как тут не разволноваться!
— Так в чем причина? Наверное, опять карнавальная шутка?
— Я тоже так думал, но все гораздо серьезнее. То-то они прислали за вами и требуют вас срочно, словно на пожар!
— Меня?
— Да нет, дежурного комиссара.
Николя встал, готовый исполнить свои обязанности.
— Так в чем дело?
— Начальник тюрьмы Фор-Левек требует, чтобы вы немедленно пришли и зафиксировали смерть.
— Он требует! Черт побери, а нельзя для этого позвать кого-нибудь из докторов, что проживают поблизости? Не может быть, чтобы у него в квартале не было ни одного лекаря.
— Что я могу вам сказать? Похоже, дело там темное.
— А почему он не обратился к квартальному комиссару?
— Его не нашли.
Николя посмотрел на часы: они показывали час ночи. Придется идти. Внизу возле лестницы, кутаясь в темный плащ из плотной шерсти, стоял краснолицый толстяк, теребя в руках синий колпак.
— Ренье, — представился толстяк, — привратник в тюрьме Фор-Левек. Наш начальник, господин де Мазикур, требует вас прийти немедленно в тюрьму.
— А вам известна причина столь великой спешки?
Толстяк еще сильнее затеребил свой колпак.
— Я не имею права разглашать.
— Что ж, идемте.
Папаша Мари протянул Николя прочную палку с железным наконечником.
— Будьте осторожны, на улице снова скользко. Это не дорога, а настоящий каток, того и гляди упадешь и сломаешь шею.
За стенами Шатле лежал безмолвный, засыпанный снегом город, скованный гнетущей тишиной. Когда они свернули на улицу Сен-Жермен-л’Осеруа, с крыши сорвался кусок льда и, ударившись о мостовую, раскололся на множество мелких кусочков.
— Не стоит идти вдоль стен, — заметил Ренье. — Так можно и жизнь потерять. Снег скапливается на крышах, оттепель превращает его в острые сосульки, и они, повиснув на желобах водостоков, то и дело срываются вниз.
Они осторожно зашагали по самой середине улицы. Несколько лет назад Николя поручили расследовать несчастный случай, когда в результате падения сосульки погиб прохожий. Тогда падение оказалось не случайным, а явилось частью хитроумного замысла убийцы. В тот раз преступник оставил всего одну улику: его горячая ладонь отпечаталась на ледяной крошке, и мороз сохранил отпечаток, позволивший поймать его.
Несколько человек дожидались у ворот тюрьмы. Он узнал лучников из городского караула. От их группы отделился незнакомец в плаще, наброшенном поверх ночной рубашки. Из-под наспех нахлобученного парика на Николя смотрели подвижные, но ничего не выражавшие глаза.
— Это вы дежурный комиссар? — спросил субъект в парике, даже не поприветствовав его. — Давно пора! Мы ждем только вас.
— Но я…
— Неважно. Надо зафиксировать. Собственно, за этим вас и призвали. Ну, приступайте! Видели ли вы когда-нибудь…
Поведение неприятного субъекта настолько раздражало Николя, что ему пришлось сделать большой глоток холодного воздуха, дабы подавить закипавший в нем гнев. Субъект недовольным тоном продолжал что-то излагать и, видимо, настолько забылся, что один из караульных подошел к нему и, указав на комиссара, что-то шепнул ему на ухо. Говорливый тип так изумился, что немедленно склонился перед Николя в почтительном поклоне.
— Меня зовут Мазикур, господин де Мазикур, — сказал он, словно оправдываясь за свое прежнее поведение, — я начальник этой тюрьмы, назначенный сюда королем. Господин маркиз, я в вашем распоряжении.
— Для вас Николя Ле Флок, — холодно ответил комиссар, глядя начальнику тюрьмы прямо в глаза. — Извольте рассказать, что здесь произошло.
Караульные расступились, и стало видно тело, лежавшее на снегу лицом вниз. На уровне головы снег покрывали темные пятна; когда к ним поднесли факел, пятна окрасились в пурпур. Собственные темные волосы свидетельствовали о молодости погибшего. Привыкнув не пренебрегать никакими мелочами, Николя наклонился, дабы удостовериться, что смерть уже сделала свое дело. Он припомнил, что, когда около одиннадцати часов он проходил мимо тюрьмы, вокруг не наблюдалось ничего необычного. Значит, уже сейчас можно определить время свершения трагедии. Между одиннадцатью часами и его прибытием на место происшествия прошло два часа, из них надо вычесть время, когда тело обнаружили, а также время, понадобившееся, чтобы вызвать его. Таким образом, получалось, что неизвестного убили в промежутке между одиннадцатью и двенадцатью с четвертью или даже половиной первого, иначе говоря, примерно час назад.
— Кто обнаружил труп?
— Патруль городского караула, — ответил Мазикур.
Вмешался тот самый караульный, что ранее сообщил начальнику тюрьмы, с кем тот имеет дело.
— После четверти первого, господин Николя. Мы об него споткнулись. Фонари не горели, видимо, ветер.
Комиссар даже подпрыгнул и, достав из кармана черную записную книжку, принялся что-то в ней писать. Почему улица осталась без освещения? Он вспомнил, что здешняя темнота уже бросалась ему в глаза. С тех пор как Сартин приказал везде поставить масляные фонари, огонь, в отличие от огня в прежних фонарях, больше не затухал от ветра. Следовательно, здесь таилась некая загадка, и ее придется разгадывать вне зависимости от настоящего дела. Осматривая испещренную следами землю вокруг тела, он отметил, что, судя по следам, оставленным в снегу на дороге, здесь недавно проезжала карета, хотя в такой поздний час по этой улице кареты обычно не ездят. Не понимая пока, что этот факт ему дает, он занес его в записную книжку. И тут же вспомнил, что, когда около одиннадцати шел по этой улице, навстречу ему, действительно, проехала карета.
— Полагая, что вы успели осмотреть тело, скажите, как долго, на ваш взгляд, он пролежал здесь мертвым?
— Совсем немного, тело еще остыть не успело!
Он повернулся к начальнику тюрьмы.
— Это один из ваших узников?
— Да, сударь, в самом деле… Мне необходимо кое-что вам сказать… объяснить…
— Позже, только постарайтесь не забыть об этом. Прежде мне надобно распорядиться, чтобы тело убрали с улицы.
— Но… я уполномочен… Он находится в моем ведении. Что я скажу, если?.. В конце концов, это всего лишь неудавшийся побег.
— Это еще надо доказать. А может, вы хотите пойти против установленных правил? Может, вам надо напомнить, что речь идет о насильственной смерти, случившейся в общедоступном месте?
Держа в руках толстую, скрученную из разорванных простыней веревку, подошел сержант и показал комиссару на оборванный конец.
— Эту штуку мы нашли возле тела. По ней он попытался спуститься на землю, но ткань не выдержала, и он сорвался.
— Посмотрим, — произнес Николя, — не будем торопиться с выводами. В настоящее время тело необходимо аккуратно отправить в мертвецкую Шатле, равно как и все улики, найденные подле него. Напомните мне, пожалуйста, ваше имя.
Он впервые видел этого сержанта, однако его открытое лицо пришлось ему по душе.
— Гремийон Батист, сержант караульной роты, сударь.
— Отлично. Гремийон, с этой минуты вы и ваши люди отвечаете за вещи умершего. В Шатле вы отдадите их папаше Мари, и тот проследит, чтобы никто не имел к ним доступа. Также отдайте ему веревку, связанную из простыней.
— Все будет сделано в лучшем виде, господин комиссар, — покраснев, пробормотал сержант. — Я всегда мечтал служить под вашей командой, не в обиду вам будет сказано.
Улыбнувшись сержанту, Николя отказался проследовать за начальником тюрьмы в его жилище и, к великому неудовольствию последнего, отклонил предложение пропустить рюмочку. Он приказал немедленно проводить его в камеру несчастного беглеца и принести большой фонарь, ибо намеревался в одиночку спокойно осмотреть место происшествия.
С виду Фор-Левек ничем не отличалась от других парижских тюрем, однако условия содержания заключенных были здесь далеко не столь суровы, как в Бастилии или Венсенне. Собственно, и попадали сюда за другие грехи. В Фор-Левеке сидели мелкие воришки, должники, завсегдатаи подпольных притонов, нарушители общественного порядка и актеры, замешанные в драках или скандалах. Вряд ли кому-нибудь могло прийти в голову рисковать жизнью, чтобы покинуть ее стены, ибо здешние сроки заключения отнюдь не отличались продолжительностью. Однако…
Поднявшись на четвертый этаж, начальник подвел его к камере с дощатой и не слишком прочной с виду дверью. Жестом остановив Мазикура, Николя вынул из его рук ключи и фонарь и, решительным тоном повелев оставить его одного, вошел в камеру, закрыл за собой дверь и постарался сосредоточиться. Ему нравилось в одиночестве изучать место происшествия; пока жизнь не возобновила свой ход и, как обычно, не поставила все с ног на голову, он стремился не упустить ни единой детали. Он окинул взором скудный набор вещей и холодные каменные стены, ставшие свидетелями трагедии. На первый взгляд, ничто не привлекало пристального внимания. Справа к стене двумя цепями крепился лежак с брошенным на него жидким соломенным тюфяком. Никаких простыней, только старое темное одеяло. Как обычно, стены пестрили надписями, но ни одна из них не показалась ему свежей. Подойдя поближе, он исследовал грязную поверхность стены. Внимание его привлек крошечный обломок штукатурки. Подняв фонарь, чтобы получше разглядеть его, он обнаружил тоненькую трещину, расковыряв которую ему удалось извлечь бумажку, скатанную в трубочку. Опустив добычу в карман, чтобы позднее заняться ею вплотную, он продолжил осматривать камеру. Исследовав грязный, вымощенный каменными плитами пол, он не нашел ничего, кроме хлебных крошек, кусочков известки, щебенки и скрюченных паучьих трупиков. Тут же лежал дубовый ставень, прежде закрывавший доступ к окошку, где при ближайшем рассмотрении оказалась всего половина прутьев. Ставень на полу, отсутствие простыней и сломанная решетка нарушали привычный порядок вещей.
Приподняв обеими руками ставень и внимательно осмотрев со всех сторон, он встал на скамеечку и попытался водрузить ее на место; попытка не удалась, ибо тяжелые болты, удерживавшие ставень в гнездах, исчезли. Отставив ставень, он поискал болты, но безуспешно. Следовало бы обыскать карманы покойного, подумал он, может, там они отыщутся. Как, однако, узник сумел их выкрутить? Он с удовлетворением подумал, что благодаря преданному сержанту труп вместе с одеждой аккуратно доставят в мертвецкую. Вновь встав на скамеечку, он принялся изучать окно. Четыре прута из восьми были вынуты из своих гнезд. Интересно, с помощью какого инструмента? И куда они делись? Обыскав камеру, он, наконец, нашел их на тюфяке, прикрытые одеялом. Еще раз оглядев окно, он окончательно убедился, что только молодой, худощавый и сильный человек мог до него добраться, протиснуться в узкий проем, а затем отважиться на спуск по стене, полагаясь лишь на поддержку непрочной веревки из простыней. Во время такого опасного маневра малейшая ошибка может стать роковой.
На одном из прутьев виднелся привязанный к нему кусок веревки с оборванным концом. Интересно, подумал он, простыни, скрученные жгутом, обычно выдерживают достаточно большую нагрузку. Впрочем, если жгут долго трется о камень или о ржавый металл, волокна могут не выдержать и разорваться. А здесь, если присмотреться, ткань разорвалась вовсе не там, где терлась о каменный угол, а немного раньше, практически возле самого прута. Ему пришлось изрядно потрудиться, прежде чем удалось развязать прочный узел, которым веревка была привязана к решетке. Кусок простыни занял свое место в кармане вместе с другими уликами. В последний раз окинув внимательным взором камеру, он успокоился: вроде ничего не упущено. Теперь очередь начальника тюрьмы рассказывать все, что ему известно.
Начальник, ожидавший его в коридоре, за поворотом, тотчас повел его к себе домой. В старомодно обставленной гостиной в камине потрескивали дрова. Мазикур, рассыпаясь в любезностях, вновь предложил ему стаканчик настойки, дабы согреться по нынешнему холоду. Николя отказался, и в гостиной надолго воцарилась тишина. Обычно собеседники не выдерживали бесстрастного выжидающего взора Николя. Этим взором он прорывал оборону всех, кто надменным видом своим намеревался его смутить.
— Печальный конец для столь молодого человека, — наконец выдавил из себя Мазикур, сраженный взором Николя, являвшего собой статую Медузы Горгоны от правосудия. — Он недавно у нас, однако все, от тюремщика до привратника, хвалили его за вежливость и обходительность… Казалось, заключение его нисколько не угнетало.
— М-м-да… — произнес Николя, ничего не уточняя.
Дрожащими руками начальник тюрьмы налил в стакан настойки и залпом осушил его. Его толстое лицо мгновенно налилось краской.
— В сущности, он едва успел поступить к нам…
Сообразив, что повторяется, он закашлялся и разволновался еще больше.
— А еще надо вам сказать, я почти ничего о нем не знаю… А все потому…
— Почему?
От такого противника, как комиссар, ему нечем было защищаться.
— Потому что я ничего о нем не знаю.
Он опять стал повторяться и в отчаянии даже заломил руки. Николя решил немного помочь ему.
— Ваши слова, господин начальник тюрьмы, все больше и больше удивляют меня. Как это вы, отвечающий перед королем за эту тюрьму, можете утверждать, что ничего не знаете об узнике, помещенном сюда под вашу ответственность?
— Тем не менее это так.
— Надеюсь, вы понимаете, что такой ответ не может меня удовлетворить. Для начала скажите, как его звали?
— Не знаю.
— Причина его заточения?
— Не знаю.
— Невероятно! Хорошо, начнем с самого начала. Когда он поступил к вам и что вы записали в тюремной книге? Я жду от вас четких и подробных ответов. Ибо мне придется давать отчет начальнику полиции о том, что произошло в тюрьме Фор-Левек, и в точности передать ему все, что вы изволите сообщить.
Опустив взор, Мазикур закашлялся.
— Я мало что знаю, господин маркиз, и вряд ли смогу вам быть полезным.
— И все же что еще вы можете мне сказать?
— Узник был доставлен в Фор-Левек в ночь на 5 января 1777 года. Если быть точным, в три часа утра.
— А в этот час вам часто привозят узников?
— Разумеется, нет… Мне предъявили «письмо с печатью».
— Кем оно подписано? Вы сохранили его?
— Нет… Подпись была похожа на подпись министра королевского дома. Письмо у меня забрали. При виде этого приказа все существо мое возмутилось, тем более что привезли узника в столь необычный час. Но что я мог поделать?
— Кто его привез? Полицейские, караульные?
— Честно говоря, не знаю. Люди в черном под руководством субъекта в синем плаще.
— И ваша обычная прозорливость велела вам ни во что не вмешиваться и не проверять полномочия неизвестных.
— У меня времени не было.
— К вам часто помещают узников по «письму с печатью»?
— С тех пор как я руковожу этой тюрьмой, не было ни одного. К нам привозят игроков, должников или актеров. У нас спокойное и мирное заведение.
Руководимое, подумал Николя, человеком, чьи менее чем средние способности как нельзя лучше соответствуют царящему здесь благодушию. Интересно, почему в столь блаженном месте очутился узник, считавшийся, судя по всему, государственным преступником, чье инкогнито, в соответствии с высочайшими повелениями, желали сохранить?
— К нему приходили посетители? Его допрашивали?
— Он содержался в секретной камере, однако трижды его навещал человек в синем плаще. За его содержание щедро платили, его поместили в платную камеру и обихаживали по-королевски. Еду приносили из города, от поставщика с улицы Сент-Оноре, выдавали белые простыни.
— Что ж, поговорим о простынях! На мой взгляд, двух простыней не хватит для изготовления веревки, достаточно длинной, чтобы спуститься с четвертого этажа королевской тюрьмы.
— Я тоже задавал себе такой вопрос.
— И как далеко завел вас столь похвальный образ действий?
— Не будучи ни к чему причастным, я перестал заботиться об этом узнике вовсе.
— «Я видел тень кучера, державшего в руке тень щетки, коей он чистил тень кареты».
— Что вы сказали?
— Ничего, это просто цитата. Сей случай превосходит мое понимание, но, так как чрезвычайные происшествия входят в сферу моей компетенции, я вынужден заняться этим делом. Я опечатаю дверь камеры, а вы проследите, чтобы никто не нарушил печать, иначе говоря, не проник внутрь, ничего не тронул и не передвинул. О любых попытках взломать печать будете докладывать мне. Вы поняли?
— А если вновь появится человек в синем плаще? — с изменившимся лицом спросил Мазикур.
— Полагаю, сударь, что вы, со свойственной вам твердостью, велите ему немедленно идти ко мне в Шатле.
Молча поклонившись, начальник тюрьмы вместе с Николя отправился налагать печати и ставить свою подпись рядом с подписью комиссара. Выйдя на улицу и склонившись над землей, комиссар еще раз осмотрел мерзлую грязь на том месте, где разбился неизвестный. Некоторое время он шел по следам колес и повернул назад только тогда, когда те окончательно смешались с другими следами. Затем он направился в Шатле; по дороге он несколько раз останавливался, словно парализованный осаждавшими его тревожными мыслями.
Глава II РАЗЪЯСНЕНИЯ
Ошметки скотобоен, кровь, навоз, кишки, Щенки убитые и дохлые коты с вонючей рыбой вместе, Грязь, ботва от репы — вода все смоет. Джонатан СвифтВоскресенье, 9 февраля 1777 года.
Как всегда, когда Николя заступал на дежурство, инспектор Бурдо являлся в Шатле ровно в восемь утра. С некоторых пор он утверждал, что стал приходить на работу слишком поздно, и ворчливо сожалел о своем прежнем доме, находившемся в нескольких шагах от старинной тюрьмы. Однако когда его многочисленные дети выросли, необходимость переезда в более просторное жилище встала со всей остротой. И вот прошлой весной, в один из воскресных дней, друзья помогли инспектору перебраться в дом с садом, расположенный на углу улиц Фоссе Сен-Марсель и Рен Бланш. В тот день Николя, наконец, познакомился с госпожой Бурдо, веселой крепкой кумушкой, которая при виде его покраснела и неловко поклонилась. Но он тотчас разбил лед, расцеловав ее от всего сердца в обе щеки. Она тут же призналась, что ужасно взволнована: наконец-то она познакомилась с человеком, о котором каждый божий день твердит ее супруг! Она говорила с Николя тем языком, каким говорят женщины из простонародья, простодушно и искренне, чем едва ли не до слез растрогала его. Речь госпожи Бурдо лишний раз подтвердила глубокую привязанность Бурдо к своему начальнику, отвечавшему ему взаимностью. Николя привык, что его друг и помощник всегда крайне скупо рассказывает о своей семье. Поэтому он радовался этому переезду, который, как ему показалось, протянул между ними еще одну нить дружбы. Дверь, всегда пребывавшая на запоре, наконец открылась. Хозяева и их помощники решили встретиться снова, и летняя встреча, веселая, с играми в шары и кегли, позволила госпоже Бурдо вовсю развернуть свои таланты хозяйки.
Отдышавшись, инспектор потряс Николя, уснувшего в дежурной части, уронив голову на руки. Проснувшись и разминая затекшие члены, Николя ругал себя за то, что допустил застать себя в такой позе. Бурдо отправился просить папашу Мари принести им чашечку кофе. Вернувшись, он увидел, что Николя в задумчивости рассматривает крошечный клочок бумаги. Оторвав взор от бумажки, он уставился на инспектора так, словно видел его впервые.
— Этой ночью случились странные события, Пьер. Мне надо тебе кое-что рассказать.
Прибегнув к образному лаконичному языку, снискавшему ему славу рассказчика и, как следствие, особую милость покойного короля, он в подробностях рассказал Бурдо о ночном происшествии и филигранно выписал портрет начальника тюрьмы Мазикура, не скрыв, что своим благодушием и непоследовательностью начальник все же сумел вывести его из равновесия. В завершение он протянул Бурдо крошечный листок.
— Эта записка найдена в углублении стены над кроватью незнакомца из Фор-Левека. Не исключаю, ее мог поместить туда предыдущий арестант. Тем не менее текст весьма интригующий.
Прочитав несколько раз записку и повертев ее в руках, Бурдо вернул ее Николя.
FüSee coniçal sPiraly
— На каком это языке?
— На первый взгляд кажется, что на английском, но у меня не получается перевести выражение. К тому же, как ты мог заметить, заглавные буквы стоят прямо внутри слов, где также есть ç и ü. Но какой в этом смысл?
Он вытащил из кармана скрученный кусок простыни, отвязанный от решетки.
— Прибавь еще вот это. Ни единой перетертой нитки, следовательно, материал не изношен, однако он не выдержал и разорвался. Хорошо бы узнать, кто принес заключенному столько простынь, что он смог связать веревку нужной длины, чтобы спуститься с четвертого этажа.
— Боюсь, необходимо обследовать всю веревку.
— Заметь, мой дорогой Пьер, я сразу проявил проницательность и сообразительность. Если, как ты предполагаешь, веревка оборвалась, потому что ее плохо сделали, нам придется обследовать ее всю и даже провести некоторые эксперименты.
Раздалось поскребывание, затем дверь отворилась, и появился папаша Мари с дымящейся чашкой кофе в руках.
— Николя, там тебя спрашивает сержант из караула. Ему надо срочно с тобой поговорить. Он назвался Батистом Гремийоном.
— Пусть войдет! Этот сержант возглавлял патруль, обнаруживший труп.
Через несколько минут появился сержант.
— Я хотел сообщить вам о находке, сделанной нами, когда мы подняли тело.
Он протянул Николя позолоченную пуговицу, которую тот тотчас поднес к свече.
— …Пуговица от мундира, сомнений нет. Осталось только определить, от какого.
— Если позволите, господин комиссар, мне кажется, она лежала на улице, а тело упало на нее сверху. А может, она выпала из его кармана. Ее мог потерять любой прохожий…
— Посмотрим, — произнес Бурдо; разгневанный вмешательством сержанта не в свое дело, он подтолкнул его к выходу.
Николя сделал вид, что не заметил возмущения своего помощника.
— Благодарю вас. Ваше рвение поможет нам при расследовании.
Потоптавшись, сержант поклонился и вышел, оставив обоих сыщиков в глубоком раздумье.
— Пожалуй, — нарушил молчание Бурдо, — дело сводится к нескольким вопросам. Кто этот неизвестный? Почему он оказался в тюрьме Фор-Левек? По чьему приказу? Случайно ли его падение? Кто помогал ему готовить побег и почему?
— Браво! Вот готовый план расследования! Однако не стоит заблуждаться — от этого дела издалека веет государственными тайнами. Не удивлюсь, если мы, на нашем месте и с теми сведениями, которые у нас есть, так и не узнаем, ни кто начал эту историю, ни кто ее завершит. Зачем помещать человека, столь, на первый взгляд, ценного, вместе с мелкой сошкой в Фор-Левек?
— Это королевская тюрьма… А что ты предлагаешь?
— Пока как обычно. Первое — вскрытие, по всем правилам, для точного установления причин смерти. Второе — пригласить Сансона и Семакгюса. Ты знаешь мое мнение о хирургах из квартала Шатле…
— Вдобавок нам нужны люди, умеющие молчать!
— …и, наконец, исследовать веревку, применив все возможные научные методы.
Взяв кусок веревки, Бурдо повертел его в руках и, поднеся к носу, покачал головой.
— От простыней исходит резкий запах, а ткань, похоже, запачкана какой-то жидкостью, напоминающей растительное масло.
— Семакгюс, часто работающий в Королевском ботаническом саду, может спросить об этом у своих товарищей. Надо как можно скорее поговорить с ним, тем более что сегодняшний снег и заморозки заставят многих воздержаться от прогулок. Известить Сансона проще и удобнее.
— Немедленно отправлю фиакр за доктором и за Парижским господином. Труднее всего добираться Семакгюсу: по такому холоду путь из Вожирара может оказаться очень долгим. Также хорошо бы узнать, что говорилось в «письме с печатью», подписанном, скорее всего, Амло де Шайу. Мазикур не сохранил его.
— А что на месте происшествия? — спросил Бурдо; у него, видимо, пробудились свои соображения.
— Трудно сказать, ибо снова начался снег. Я пошел по следам нескольких экипажей, но ничего подозрительного не обнаружил…
Николя умолк: неожиданная мысль пронеслась, словно на крыльях, и умчалась, а ее место немедленно заняла следующая.
— …Здесь есть над чем подумать. Фонари на улице Сен-Жермен-л’Осеруа не горели вдоль всей тюремной стены. Когда я около одиннадцати возвращался из таверны, что на перекрестке Труа-Мари, помнится, я еще удивился такому недосмотру.
— И хорошо ли там кормят? — заинтересованно спросил Бурдо.
— Так себе. Но я ходил туда не ради еды, а ради слов. Хотел послушать, о чем говорят наши добрые парижане…
— И много чего наслушался! Народ ропщет, и не без основания… Он не сможет долго терпеть… Однако, возвращаясь к фонарям, они ведь должны гореть, несмотря на сильный ветер? Разве не для того их установили по приказанию Сартина? Помнишь, когда прежние фонари сменили на новые, масляные, появились куплеты, в которых мошенники и продажные девицы оплакивали старые добрые фонари, гаснувшие при первом порыве ветра, позволяя красть в темноте кошельки и заниматься любовью!..
— Надо бы зайти на улицу Мишодьер, в контору, что занимается освещением столичных улиц. Хотелось бы узнать, почему вчера вечером на искомом участке не горели фонари.
— Судя по тому, сколь рьяно ты принялся за дело, ты уверен, что за этой смертью кроется преступление.
— Это мое внутреннее чувство; ты же знаешь, я всегда полагаюсь на интуицию. Мне кажется, дело принимает отнюдь не самый лучший вид.
— И понимаешь, куда оно может завести?
Николя лукаво посмотрел на Бурдо.
— Ты видишь меня насквозь! Дождемся вскрытия, чтобы сделать предварительные выводы. Сейчас главное подождать. У нас еще будет время. Опыт подсказывает, что поспешность в таких делах не нужна, ибо, как говорят, поспешишь — людей насмешишь!
— А не кажется ли тебе, что чутье вновь заведет тебя в дебри государственных тайн, с которыми тебе столь часто приходилось сталкиваться?
— Когда за мной прислали, я не мог не пойти. Собственно, прислали за королевским магистратом, чтобы констатировать смерть от несчастного случая. Но это только на первый взгляд. Необходимо выяснить все обстоятельства этой загадочной кончины. Неужели мы отступим перед воображаемой опасностью? Если бы я так сделал, что бы ты обо мне подумал, Пьер?
Бурдо не знал, рассмеяться ему от чувств или же разрыдаться.
— Я бы сказал, что ты не являешься добропорядочным гражданином, руководствующимся добродетелью, сказал бы, что каждый имеет право на осуществление правосудия и что сила должна оставаться за законом. Но все это не помешает мне позаботиться о твоей безопасности.
— Давным-давно, в тот самый день, когда я поступил в учение к комиссару Лардену, проживавшему на улице Блан-Манто, я поставил крест на собственной безопасности. Впрочем, у меня есть ты, а ты всегда обо мне заботился.
Долгая тишина в очередной раз засвидетельствовала всплеск дружеских чувств.
С любовью глядя на доброе лицо Бурдо, Николя возблагодарил Небо и Сартина за то, что они даровали ему такого замечательного помощника. Порой с ним было трудно разговаривать, не раз он сталкивался с его непростым характером, однако он всегда мог положиться на его верность, мужество и преданность, а во время их совместных опасных расследований Бурдо не раз спасал ему жизнь.
— Пьер, — начал Николя, прервав волнующие минуты воспоминаний, — насколько мне позволит нынешнее состояние улиц, я мчусь на улицу Монмартр, чтобы привести себя в порядок, и вернусь к полудню. Тогда мы и подведем первые итоги.
— Ради всего святого, возьми фиакр. На улицах очень скользко, брусчатка обледенела. Я наблюдал, как люди шлепались прямо посреди мостовой. Костоправы и прочие подозрительные лекари с Нового моста потирают руки в преддверии поживы.
— Да, чуть не забыл. Постарайся раздобыть мне списки иностранцев и просмотри отчеты наших осведомителей об иностранных послах. При нынешних обстоятельствах не следует упускать из виду английского посланника лорда Стормонта.
Несмотря на холодную погоду, Николя отметил, что торговля на рынке, раскинувшемся напротив Большого Шатле, шла, как всегда, бойко. Вода в источнике, огражденном невысокой башенкой, замерзла, и теперь к тоненькой струйке, стекавшей с большой сосульки, выстроилась очередь городских водоносов. Какой-то человек ритмично бил в маленький барабанчик, в то время как щенок спаниеля, наряженный в мундир французского гвардейца, перебирал лапами, словно пытаясь попасть в такт музыке. Замерзшие зеваки, громко топая, чтобы согреться, наблюдали за неуклюжим танцором. Под заснеженными зонтиками раскинулись прилавки, где продавали хлеб, вафли, селедку и всякие мелочи. Две кумушки бурно сводили счеты. В конце концов одна схватила за ворот другую, ткань затрещала, и драчуньи под крики и прибаутки набежавшей толпы покатились по земле, колошматя друг друга. Снег на месте побоища немедленно превратился в темную липкую грязь. Неожиданно к возгласам зрителей присоединился рев навьюченного осла. Под деревянными навесами, пристроенными к высоким крепостным стенам, невозмутимый цирюльник в широком черном плаще невозмутимо делал свое дело. Зазевавшись, Николя поскользнулся и, чтобы не упасть, вцепился в вязанку хвороста, висевшую за спиной разносчика; раздался треск, и сучья полетели на землю. Несколько лиаров и добродушные извинения быстро утихомирили разгневанного поденщика. Решив больше не рисковать, Николя остановил медленно двигавшийся в ожидании клиента портшез и приказал отвезти себя на улицу Монмартр.
Новый мальчишка-подмастерье из булочной Парно бросился открывать ему ворота. Поток горячего воздуха, напоенного запахом свежего хлеба, устремился ему навстречу, вселяя в него спокойствие. Дом на улице Монмартр снова обрел вид мирного пристанища. Во дворе дома кошечка Мушетта, некогда подобранная Николя в Термах Юлиана, прыгала по снегу. Он немного постоял, любуясь ее грациозными движениями. Пробуя лапкой белый снежный покров, киска сначала рассматривала лапку, потом яростно стряхивала с нее снег и возобновляла прыжки. Заметив Николя, она тотчас, словно молодая козочка, задрав вверх хвост, помчалась ему навстречу, молниеносно вскарабкалась ему на плечо и принялась тереться мордочкой о его ухо, успевая при этом легонько его покусывать.
Когда Николя вошел в кухню, плутовка тотчас улеглась у него на плече.
— Знимай, знимай живо! — закричала Катрина, увидев его грязные сапоги. — Прось их здесь, я ботом ими займусь. Ты не бришел к опеду, так я тепе кое-что озтавила.
— Я был на дежурстве.
— И обять брестубление? Мы всегда так за тебя поимся!
— Во всяком случае, произошло событие, значение коего мне еще предстоит осмыслить.
В сопровождении Сирюса он поднялся к себе наверх; песик был очень рад видеть и его, и свою подругу-кошечку. Шум, производимый четвероногой братией, известил Ноблекура о приходе Николя, и он пригласил комиссара зайти. Войдя, Николя увидел, что бывший прокурор стоит перед зеркалом в штанах до колен и примеряет роскошный парик времен Регентства.
— Вот уж, поистине, чудо в духе Сартина!
— Нет, господин маркиз, в духе Ноблекура! И прекратите смеяться. Вы что, хотите видеть меня в облачении бегинки и нахлобучивать на меня чепчик, дабы ночью голова не простывала от сквозняков? У всех великих народов о важности государственного сановника судят по размеру его головного убора.
— Что ж, тогда я всего лишь ничтожный канцелярист…
— Довольно, сударь! Везде, во всех обществах, включая дикарей, вожди всегда пытались увеличить зримый объем головы за счет накладных волос, перьев, мехов, колпаков, ну и чего там еще?.. И все это делалось исключительно с целью внушить уважение к самой благородной части тела, содержащей орган мысли, и к рангу владельца сего органа. Как уверяет мой друг, маршал Ришелье, таким образом пытаются доказать, что просторная упаковка свидетельствует о разностороннем уме.
Николя поклонился.
— Господин прокурор, слагаю оружие перед столь блестящими доводами. Но если говорить серьезно, то вы, похоже, собираетесь выйти в свет? Могу ли я вам напомнить, что на улице убийственно скользко и мерзостно грязно?
— Если бы я был не склонен отвечать на настоятельное приглашение, ваше предупреждение меня бы, несомненно, остановило. Но не сейчас, ибо молодость проходит, а потому я не намерен отказываться от сегодняшнего предложения.
Его умиротворенное, с правильными чертами лицо озарилось легкой ироничной улыбкой. Заботы и внимание, окружавшие Ноблекура, благоприятствовали его благодушному виду и помогали сохранять равновесие души, которое он по мудрости своей сумел достичь.
— Позволите ли вы мне простереть свою нескромность еще дальше и спросить, ради кого вы так прихорашиваетесь?
— Ради кого? Признайтесь, вы заинтригованы, по глазам вижу. Чего это он надевает парик и по какому случаю собирается выезжать? — думаете вы.
— Если я не доставлю вам удовольствие замучить вас вопросами, вам самому захочется мне все рассказать. Но, ради всего святого, будьте осторожны, не поскользнитесь и велите подогнать экипаж к самому крыльцу, чтобы вам не пришлось ступать по льду.
— Я попросил Пуатвена сесть на место кучера, и он скоро подъедет. Хотя карета не всегда спасает нас от падений. Один из моих друзей…
— Все тот же герцог Ришелье?
— Вовсе нет, ничего общего.
— Тогда расскажите.
— …так вот, на прошлой неделе с ним произошла пренеприятнейшая история. Он возвращался из деревни, а его лакей и кучер, доверившись лошадям, дремали на облучке. Внезапно, возле ворот Сен-Бернар, кузов занесло. Чувствуя, как карета неумолимо заваливается набок, приятель мой попытался привлечь внимание слуг. Увы! Окошко не опускалось, ибо из-за влажности деревянная рама разбухла. Время упущено, осевая чека выскакивает, карета накреняется и упирается в землю. От толчка кучер летит вниз головой прямо на оглобли. К счастью, стременной сумел остановить лошадей и закрепить переднюю ось. Сей случай доказывает, что нельзя избежать падения даже в карете. А вы, если будете спрашивать, все равно не узнаете, ибо я вам не скажу, что сегодня вечером отправляюсь играть на флейте к Бальбастру, музыканту, виртуозу, органисту, композитору и учителю музыки нашей королевы!
Рассмеявшись, Ноблекур искоса взглянул на Николя.
— Ох, он делает вид, что совершенно спокоен. Ничего, настанет день, когда я наконец помирю вас. Гению надобно прощать.
Николя молчал, вспоминая свою первую встречу с Бальбастром и появление музыканта во время следствия по делу об убийстве Жюли де Ластерье в более чем мрачной роли креатуры герцога д’Эгийона.
— Вы молчите, значит, все еще колеблетесь. Очевидно, рана не затянулась; а может, вы считаете слово «гений» слишком лестной оценкой; что ж, я не настаиваю. И все же подумайте: забвение оскорблений сулит сладостное удовлетворение. Или вы вне времени, вне забот? Мне кажется, вы сейчас обдумываете мои слова.
— Увы, сударь, я размышляю об удручающем меня отсутствии на воскресной службе старосты церковной общины Сент-Эсташ!
— Ну вот, меня нагнали и наподдали! Что ж, я отправлюсь к вечерне. А вас-то там увидят?
Вместо ответа Николя поведал обо всем, что случилось ночью. Ноблекур сел, поглаживая парик, и, внимательно выслушав рассказ, надолго замолчал.
— Вчера ветра не было; это не вопрос, а сообщение. Ваши погасшие фонари меня изрядно беспокоят… Помнится, в начале 1719 года — мне тогда только исполнилось двадцать, в январе, 16-го или 17-го числа… Видите, какая память! Из-за сильного урагана, пролетевшего над городом, пришлось заменить фонари. Они все разбились, а на Новом мосту изогнуло и сломало даже фонарные столбы, имевшие в сечении никак не меньше трех квадратных дюймов!
— Именно об этом я в первую очередь и подумал.
Ноблекур одобрительно закивал.
— Труп, конечно же, перевезли в мертвецкую?
— Разумеется.
— Погода способствует долгой сохранности… Только не ждите слишком долго… Повидайте Лавале.
— Лавале?
Тяжело поднявшись, Ноблекур направился к маленькому секретеру из розового дерева, нажал секретную пружину и достал из выскочившего ящичка крошечный медальон из дерева акации; в него был вправлен выполненный пастелью женский портрет. Бывший прокурор показал портрет Николя.
— Это Луиза, моя жена, она скончалась в пятьдесят лет. Лавале нарисовал ее портрет перед тем, как тело ее опустили в гроб…
Голос его изменился, дрожащей рукой он схватился за подбородок.
— Не правда ли, лицо кажется совсем живым?
Николя не понимал, какое направление приняли мысли старого магистрата.
— Закажите Лавале портрет вашей жертвы, и пусть один из осведомителей покажет его в Париже разным лицам. Будьте уверены, результат не заставит себя долго ждать. Конечно, немного подождать придется. Посмертный портрет рисовали с Картуша, знаменитого разбойника, но тогда речь шла всего лишь о грубой гравюре. Мастерская Лавале находится на улице Шьен, напротив коллежа Монтегю, на холме Сент-Женевьев.
Николя молчал, пораженный мыслью, только что брошенной ему для обдумывания.
— Это несложно сделать, — настаивал Ноблекур. — Не стоит преувеличивать трудности. Полое часто оказывается наполненным, а породистому жеребцу негоже скакать по двору.
Изречения Ноблекура часто казались комиссару излишне заумными, превосходящими всяческое понимание. Тем не менее, руководствуясь этими загадочными изречениями, он нередко достигал вполне определенных целей. Придется вычленять из них квинтэссенцию. Пока же, озадаченный и сбитый с толку, он ощутил, как в душе его поселилась смутная тревога.
— У вас на лице, друг мой, все написано: вы считаете, что я еще способен посещать маленькие домики, и опасаетесь, что дурная компания утащит меня в пропасть. Наш дорогой Лаборд, чье любопытство, как вам прекрасно известно, не имеет границ, во время своего прошлого визита преподал мне начатки китайской философии. Дао, как именуется эта философия, стал для меня неисчерпаемым источником размышлений и развлечений. А вот вам результаты его урока. Старик с улицы Монмартр отнюдь не безумец, как мог бы подумать суетный народец; отсутствие истины может породить свет, а такой упорный и проницательный человек, как вы, не должен довольствоваться полумерами. Засим, покончив со скромными советами, я оставляю вас поразмышлять, а сам отправляюсь довершить свой туалет.
Николя, предшествуемый Мушеттой, вернулся к себе на этаж; пока он поднимался, кошечка через каждые три ступени оборачивалась, желая удостовериться, следует ли он за ней. Сирюс долго колебался, однако перспектива преодолевать коридоры и лестницы, похоже, нисколько его не вдохновила, и он, жалостливо повизгивая, остался подле хозяина. Зная, что, вернувшись после дежурства, комиссар непременно будет мыться, Катрина велела разносчику воды заранее наполнить медную ванну. Николя разделся и с наслаждением погрузился в теплую воду, растворившую ночную усталость. На какое-то время он даже задремал. Мушетта, терпеливо ожидавшая окончания водных процедур хозяина, наконец решилась разбудить его и ловко плеснула лапой воды ему в лицо. Пробудившись, он вымылся и, стряхивая воду прямо на подвернувшуюся киску, вылез из ванны; возмущенная, Мушетта отправилась жаловаться Сирюсу. С наступлением холодов плутовка остерегалась выходить на улицу.
Обнаружив, что дремал он довольно долго, он быстро побрился и причесался, уделив, как всегда, особое внимание выбору ленты, чтобы завязать волосы. Он решил отправиться на улицу Мишодьер, в управление полиции, отвечавшее за городское освещение. Если взять фиакр, он доберется до места очень быстро, а столь важная для города служба должна работать по воскресеньям. Перед уходом он предупредил Марион, Катрину и Пуатвена, что вечером он намерен привести друзей, в том числе и Сансона. Бывшую маркитантку, много чего повидавшую на своем веку, сообщение его нисколько не взволновало, а вот бедняжка Марион так перепугалась, что принялась судорожно креститься. Николя успокоил ее, заверив, что его друг — нежный супруг и отец и вдобавок отличается скромностью и обходительностью. Ноблекура можно было не предупреждать: чуждый любым предрассудкам, он уже давно желал видеть Сансона у себя за столом.
Выйдя во двор, где подмастерье булочника расчищал деревянным скребком снег перед входом в булочную, он подозвал мальчишку и попросил сбегать за фиакром к церкви Сент-Эсташ. Фиакр подъехал, и он быстро нырнул в него. Нависшие над городом свинцовые облака окрасили все вокруг в грязный серый цвет, обычно присущий последнему месяцу зимы. Тысячи каминных труб дымили, выбрасывая черный жирный дым; ветер подхватывал его и разносил всюду, препятствуя появлению любой яркой краски. Париж, в теплое время года являвший собой красочное зрелище, сейчас напоминал оттиск с гравюры, смазавшийся при печати.
Проехав улицы Кокийер и Пти-Шан, он вскоре добрался до места назначения, туда, где, пересекаясь, улицы Луи-ле-Гран и Мишодьер выходили на бульвар Мадлен.[5] Его поражало, как много в этом квартале строилось зданий. Горы тесаного камня и кучи гравия, припорошенные снегом, обозначали новые строительные площадки. Строительные материалы обостряли кое-чью алчность. Ходили слухи, что граф Артуа, брат короля, исполнившись решимости ускорить работы по постройке своего нового замка в Булонском лесу, настолько простер свое рвение, что стал задерживать телеги с камнем, известняком и прочими материалами, предназначенными для сооружения частных домов; его люди останавливали телеги и принуждали возчиков везти груз туда, куда они велят. Злоупотребления, возникавшие то ли из-за спешки, то ли из-за недобросовестности подрядчиков, не без основания вызывали множество нареканий. Но начальник полиции, постоянно получавший связанные со строительством жалобы, мог отвечать на них только кротостью и неопределенными обещаниями.
Как Николя и предполагал, управление было открыто. Правда, служащих в нем оказалось немного, и он с трудом отыскал в глубине коридора комнату дежурного, где сидел маленький сгорбленный человечек в черном колпаке, плаще и митенках и, уткнувшись носом в бумаги, переписывал бесконечные сводки. Окинув критическим взором непрошеного визитера, он уставился на него, всем своим видом выражая упрек пришельцу, дерзнувшему побеспокоить его и оторвать от важного дела.
— В чем дело, сударь, что случилось?
— Сударь, простите мне мое вторжение, — заискивающим тоном начал Николя, — без сомнения, я отвлекаю вас от важной и спешной работы, кою вы так торопитесь сделать, что занимаетесь ею даже в воскресенье.
Маневр удался, лесть сделала свое дело, клерк на лету подхватил брошенный ему мячик.
— Ах, сударь! Да будут услышаны…
И он посмотрел на потолок, где, видимо, прятался грозный, но глухой гений-покровитель.
— …ваши справедливые слова! Как хорошо, что вы это понимаете и готовы признать. Если могу быть чем-нибудь полезен, я к вашим услугам. Я прекрасно вижу, с кем имею дело, и полагаю, что могу вам доверять.
— Николя Ле Флок, комиссар полиции Шатле. У меня к вам вполне определенный вопрос, связанный с расследованием, которое я веду.
Зябко поежившись, человечек плотнее запахнул плащ.
— Я вас слушаю. Речь идет о покупке или поставке масла и свечей? А, наверное, о качестве этих товаров? О! Мы знаем, с каким дымом и вонью горит масло, полученное путем вытапливания жира. Когда масло поступает к нам из салотопни с Лебяжьего острова, жалобы просто рекой текут! А еще жалуются на содержание светильников, на прочность веревок и шкивов. Представляете, некоторые используют их для совершения самоубийств, проще говоря, вешаются на фонарях, и веревки их выдерживают, сударь, выдерживают! А может, вы хотите пожаловаться на работу мальчишек — фонарщиков? Да, знаю, они, действительно, отвратительные малые. Быть может, вы составили несколько протоколов о нарушениях, о которых мы не знаем? Нарушены предписания магистрата? Наверняка. Какие-нибудь мошенники или либертены, эти вечные возмутители спокойствия, расколотили несколько фонарей, воспользовавшись карнавальной сутолокой?.. Или?.. Боюсь, я не смогу объяснить вам, почему они упорно бьют фонари. Должен ли я…
Любой ценой следовало заткнуть сей фонтан.
— Ничего подобного, сударь. Все гораздо серьезнее, и боюсь, даже серьезнее вашей работы, от которой мне пришлось вас оторвать.
— Праведное небо! Вы меня пугаете. О чем же может идти речь?
— О темноте.
— Ах, господин комиссар! Мы ненавидим темноту. Она наш враг!
— Хочу вам сказать, что вчера вечером, начиная с одиннадцати часов, несколько масляных фонарей на улице Сен-Жермен-л’Осеруа погасли, погрузив всю улицу во мрак.
— Вот, я же говорил: мрак! Сударь, это непостижимо!
Он озадаченно покачал головой, словно его охватило отчаяние.
— Стекла? Разбиты?
— Все.
— Сколько фонарей вышли из строя и не могут освещать улицу?
— Кажется, три.
Губы чиновника зашевелились. Затем он стал считать на пальцах.
— Иначе говоря, на двух отрезках. Расстояние между фонарями равно тридцати туазам, следовательно, шестьдесят туазов.[6] Фонари обязаны работать на протяжении всего года, за исключением полнолуния, но вчера ни о каком полнолунии речи не было. Будем молиться, чтобы причина этого нарушения заключалась не в нерегулярности обслуживания фонарей.
Повернувшись назад, он взял со стола списки.
— Сен-Жермен… Сен-Жермен-л’Осеруа, вот! Улица, которую пересекают другие улицы, следовательно, фонари двухрожковые. Смею надеяться, что в них налили достаточно масла. Господин комиссар, вы даже представить себе не можете, сколько неприятностей причиняют нам лихоимство и служебные злоупотребления. Так, так, значит, в десять часов вечера, из-за того, что не хватило масла или горел только один рожок, фитиль погас.
— А где я могу узнать, в чем причина? Вы смогли бы мне подсказать?
— Здесь выяснять напрасно. Я представляю управление, заведующее освещением.
— Совершенно верно.
— Обратитесь к тому, кто отвечает за фонари. Это господин Согрен, проживающий на улице Понсо, возле ворот Сен-Дени.
— А он сможет ответить на мой вопрос?
— Смотря по обстоятельствам… А еще можно обратиться к господину Болье, инспектору на складе фонарей, что возле монастыря Капуцинов, на улице Сент-Оноре. Но, насколько мне помнится, на улице Понсо всегда есть служащий, отвечающий за срочные неполадки с освещением. Господин Согрен регулярно осматривает места происшествия, чтобы лично знать, в каком состоянии фонарь.
— А вы, простите за вопрос, — с усмешкой спросил Николя, — сами-то вы за что отвечаете?
Собеседник презрительно взглянул на него снизу вверх.
— Я описываю положение дел, сударь, иначе мы бы пребывали в полнейшем неведении о состоянии фонарей в нашем городе, как старых, так и новых. Именно в поддержании в порядке всей этой массы цифр, постоянно изменяющихся, ибо цифры отражают картину ad hoc…
И, взмахнув рукой и простерев ее в неопределенном направлении, он завершил:
— …и заключается величие нашей каждодневной ревностной службы!
Поблагодарив за нудную речь, Николя поклонился и, раздраженный, вскочил в ожидавший его фиакр и приказал ехать по бульварам на улицу Понсо, к подрядчику, который, как он надеялся, сообщит ему интересующие его сведения. У заставы Сен-Дени он после долгих поисков наконец отыскал нужный ему дом. Его встретил молодой человек приятной наружности, зять господина Согрена. Внимательно выслушав комиссара, он стал сверяться с длинным списком, а Николя обреченно ждал, опасаясь, что ему придется вновь выслушивать речи, подобные тем, коими его встретили на улице Мишодьер. В реестр заносились все несчастные случаи, жертвами коих стали уличные фонари.
— Понимаете, сударь, жалобщики идут к нам с раннего утра. Парижанин не терпит беспорядка и стремится отнести жалобу туда, где его точно выслушают. Смотрите, вот запись, где говорится как раз об интересующем вас деле. Я получил ее сегодня утром, ее написал некий Мишель Лекюйе, торговец веерами, проживающий на вышеуказанной улице. Заявившись сюда, он громко потребовал восстановить освещение на улице Сен-Жермен-л’Осеруа, где ночью вдруг стало темным-темно.
Молодой человек в задумчивости склонился над реестром.
— О! Этот вздорный сутяга уже не в первый раз выговаривает нам.
— Я не слишком злоупотреблю вашей любезностью, если спрошу вас, не уточнил ли он, когда именно на улице стало темно?
— Нет, но я могу дать вам его адрес: Мишель Лекюйе, известная вам улица Сен-Жермен-л’Осеруа, дом под вывеской «Четыре розы», возле тюрьмы Фор-Левек.
Николя прыгнул в фиакр: ему предстояло заново пересечь Париж, теперь уже в обратном направлении. Он испытывал хорошо известное ему чувство охотника, взявшего след дичи. Добычей его становились сведения, и стоило им появиться в поле его зрения, как его охватывала дрожь. Любую улику следовало проверять, и только вдумчивость и внимательность могли помочь сыщику выявить ложь в показаниях и уликах. Смотреть не означает видеть, слышать не значит слушать. При расследовании он всегда использовал свои врожденные качества, загадочный талант, заключавшийся в присущем ему необъяснимом понимании вещей, основанном на совокупности его наблюдений. Всю дорогу до места назначения он размышлял о собственных методах ведения расследования. Единственным приметным зданием рядом с домом, который он искал, была тюрьма, так что он быстро нашел искомую лавку. Дом оказался заперт, и, сколько он ни стучал в дверь предназначенным для сей цели молотком, никто ему не открыл. Внезапно у него за спиной раздался разъяренный блеющий голос.
— Да прекратите же, сударь, что вы себе позволяете? Если вы и дальше будете так стучать в дверь, вы ее вышибете! Вы что, считаете, что моя лавка должна быть открыта даже во время мессы, начало которой мне пришлось пропустить из-за… впрочем, вас это не касается. Думаете, я такой плохой христианин, что должен работать в воскресенье? В конце-то концов, чего вам нужно?
Маленький человечек старался выглядеть выше, чем на самом деле; его худое морщинистое личико, словно птичья головка, выглядывало из беличьего воротника плаща из коричневой шерсти.
Николя представился, и по мере того, как он излагал свою просьбу, настроение человечка улучшалось; он даже пригласил Николя зайти к нему, дабы не продрогнуть от холода. В лавке с закрытыми ставнями он зажег свечу и, окинув подозрительным взором помещение, вытащил из ящика покрытый пылью флакон и два жестяных стаканчика. Он хотел непременно выпить с гостем. Алкоголь обжег глотку, но по сравнению с успокоительным папаши Мари это был сироп для грудных детей. Помимо доминирующего вкуса перца и легкого аромата яблок, в напитке присутствовало нечто, что комиссар не смог определить. Вздохнув, он приступил к расспросам. Обладая огромным опытом по допросу свидетелей, он научился превосходно усыплять их внимание, а потому начал издалека. В точности следуя советам, вычитанным некогда в труде отцов-иезуитов, обнаруженном им в библиотеке коллежа в Ванне, он тянул за веревочку в свою сторону, в то время как другие тянули ее совершенно в противоположную. Представившись чиновником из городского магистрата, каковым он, в сущности, являлся, он заявил, что ему поручено следить за состоянием освещения улиц, хотя этого ему, разумеется, никто не поручал. Не переставая критиковать нерадивых, он огласил длинный перечень жалоб на коптящие фонари, на вредоносный дым, на жуликов-фонарщиков, ворующих хорошее масло, на множество иных недостатков… Затем наступила очередь Николя выслушивать господина Лекюйе… Незадолго до полуночи тот, возвращаясь от сестры, проживавшей в нескольких туазах отсюда, на улице Дешаржер, после праздничного ужина, устроенного по случаю окончания карнавала… кстати, после смерти супруга сестра никак не может решить дело о наследстве, так как собственные дети, один из которых — пергаментщик по профессии, обобрали ее и…
— Короче, — прервал его Николя, — вы возвращались домой, и по дороге?..
Речь человечка постоянно прерывалась генеалогическими экскурсами и всевозможными жалобами на неблагодарность детей.
— Я пытался, сударь, пытался! Отныне по нашим улицам нельзя пройти, не рискуя покалечиться или убиться насмерть! Напрасно умножают преграды из прекрасного тесаного камня, чтобы защитить углы домов от колес мчащихся карет. Какие углы, нас самих за день раз двадцать могут раздавить!
Смирившись, комиссар больше не пытался прервать поток его речи. Парижанин так устроен, что от власти он ждет только одного: чтобы его выслушали. Он даже не хочет, чтобы его жалобам давали ход; главное, чтобы к его несчастьям отнеслись сочувственно.
— Итак, я возвращался от сестры, после ужина, и, подходя к своей лавке, неожиданно оказался в кромешной тьме. Вдобавок еще пошел снег. Неожиданно послышался шум, и меня чуть не сбила карета, проскользнувшая мимо без опознавательных огней. Тогда мне показалась, что она остановилась неподалеку, рядом со стеной тюрьмы Фор-Левек. Я услышал голоса, однако слишком далекие, чтобы разобрать слова; вскоре карета уехала. Честно говоря, снегу нападало немного, под снегом лежала ледяная корка, но стука копыт совершенно не было слышно, словно их обернули мягкими тряпками! Карета-призрак!
Николя вспомнил рассказы Жозефины, своей кормилицы, и содрогнулся при мысли об Анку, мчавшемся по бретонским ландам, спеша сообщить о чьей-нибудь кончине, и с трудом удержался от желания перекреститься. Его испуг не ускользнул от торговца, довольного впечатлением, какое произвел его рассказ на гостя.
Откуда-то в нос ударил неприятный запах, и Николя с трудом удалось сдержать рвавшееся наружу чихание; лукавый продавец вееров это тоже заметил.
— Ах, ерунда, я уже ничего не чувствую! Привычка. Признаюсь вам, что, несмотря на вывеску, розами здесь не пахнет. Чтобы сделать красиво, приходится повозиться в грязи…
Решительно, подумал комиссар, у Ноблекура есть свои последователи среди лавочников…
— …а то, что вы сейчас вдыхаете, является для меня настоящей амброзией, ибо запах исходит из кастрюли с клеем, который, наконец, начал закипать.
— И что вы делаете с этим клеем?
— А вы, случаем, явились не секреты мои выведывать? Я уж поостерегусь их раздавать. С помощью этого клея я соединяю два листа, которые затем натягиваю на рамку, но прежде…
Николя, не склонный обучаться ремеслу веерщика, равно как и выслушивать историю несчастий семьи Лекюйе, с трудом прервал лавочника. Прощаясь, мэтр засыпал Николя предложениями купить хотя бы один из его великолепных вееров, ибо в лавке его имеются и веера из слоновой кости, и веера, инкрустированные поддельными самоцветами, и веера с похотливым подмигиванием, не говоря уж о специальной модели, где, при многократном раскрытии, непристойные изображения начинают двигаться…
Сев в карету, он взглянул на часы, пытаясь определить, как скоро Семакгюс и Сансон сумеют доехать от себя до улицы Монмартр. Для успокоения совести он заехал в Шатле, где застал папашу Мари за приготовлением рагу из дешевых мясных обрезков. По совету Ноблекура Николя решил попытать счастья у художника-пастелиста. Квартал, где проживал живописец, находился ровно на противоположном берегу реки, так что имелся полный резон отправиться туда. Нельзя допустить, чтобы труп незнакомца начал портиться, ибо тогда уже никакой живописец не сможет восстановить его внешность.
Когда экипаж, проехав набережную Жевр, достиг моста Нотр-Дам, Николя привычно заткнул нос и задержал дыхание: возле поворота на узенькую, шириной в один шаг, улицу Планш-Мибрэ находился отстойник знаменитой клоаки, где барахтались огрызки и отбросы, а с берега, со двора скотобойни, сбегали кровавые ручейки, превращая сей уголок в постоянный источник заразы. Ветер разносил удушающие ароматы, достигавшие кривых домишек, примостившихся над соседними сточными канавами. В окнах мелькали набеленные лица с красными пятнами на скулах; здешние жрицы любви, подобно часовым, целыми днями, беззубо улыбаясь, поджидали своих клиентов — мясников с соседних скотобоен. Что тут сказать, вздохнул Николя, глядя на дрожащих от холода крыс, трусивших по застывшей грязи, если вторая после Самаритен водокачка в городе черпала отсюда воду, необходимую парижанам!
Выехав на мост, по обеим сторонам которого произрастали древние дома и домики, он — в который раз — пожалел, что эти ветхие строения препятствуют любоваться панорамой города. Члены городского муниципалитета и начальники полиции давно высказывали опасения, что однажды весной, когда после суровой зимы вскроется лед, ледоход потянет за собой зимовавшие на реке лодки и баржи и швырнет их на опоры моста, угрожая разрушить устаревшее сооружение; однако дело с места не двигалось.
Экипаж пересек Сите, затем Малый мост, выехал на улицу Сен-Жак, потом Сент-Этьен-де-Грес и наконец свернул налево, на улицу Шьен, где мирно уживались сады, монастыри и коллежи. Среди ручейков, змейками сбегавших по склонам холма Святой Женевьевы, то там, то тут, словно дурной лишай, вспучивались хижины прокаженных.
Найти нужный дом оказалось нетрудно: маленькое узкое строение с облупившимися стенами располагалось напротив коллежа Монтегю. Стоило ему переступить порог, как из темного угла на него, вооружившись метлой, выскочила разъяренная служанка с лицом рассерженной землеройки. Он сообразил, что имеет дело с привратницей. Чего ему тут надо? О! Кому, как не ей, знать этих висельников, что вваливаются в дома, чтобы грабить бедных людей! Николя сухо предложил ей успокоиться и спросил, где живет господин Лавале, живописец и художник-пастелист.
— А, этот! — все еще злобно проворчала мегера. — Наверняка с одной из тех шлюх, что готовы сношаться хоть по-собачьи! Этот старый беспутник и не на такое способен! Никакой сифилис ему нипочем! Любая честная женщина при взгляде на него бежала бы куда глаза глядят. Никогда ни лиара, ни привета…
Умолкнув, она поднесла руку к несуществующей груди.
— Короче говоря, — ледяным тоном произнес Николя, — где он живет?
— Вот, вы, как и все, слишком торопитесь! Ежели вам неймется, идите вон туда, в глубь двора, во флигель, и толкните дверь. Он никогда ее не запирает — а вдруг он кому понадобится?
И она с такой силой плюнула в сторону комиссара, что тот едва увернулся. Постучав в дверь флигеля и не дождавшись ответа, Николя толкнул дверь и вошел в тесную прихожую, напоминавшую склад, забитый старым хламом. Услышав в конце коридора голоса, он прошел вперед, пробираясь среди всевозможной рухляди, и стал свидетелем весьма поучительного зрелища: во главе стола в глубоком кресле сидел, спрятав ноги в меховой мешок, лысый человек в спадающей с плеч холщовой хламиде, испачканной разноцветными красками. Топорщившиеся на груди седые волосы выдавали его возраст. У него на коленях, замотавшись в простыню, раскинулась молодая женщина с распущенными волосами; девица раззадоривала художника, вливая ему в глотку содержимое то устричной раковины, то бокала с шампанским — если судить по валявшимся на полу бутылкам. Каждый раз, когда она поднимала руку, простыня соскальзывала, обнажая упругую грудь с острыми коралловыми сосками. Николя кашлянул, черная кошка с шипением стрелой метнулась через комнату, красавица поправила простыню, однако столь неловко, что едва не потеряла ее совсем. Мужчина с раздражением уставился на гостя.
— Сударь, кем бы вы ни были, знайте, что по воскресеньям мастерские художников закрыты, а если хотите купить гравюру, так идите в галереи Лувра!
— Сударь, прошу меня простить за не совсем вежливое вторжение, но я стучал, а так как никто мне не открыл, я счел своим долгом войти, тем более что дверь была не заперта…
— И что за срочная нужда привела вас?
— Я пришел просить вас о помощи. Известный вам господин де Ноблекур посоветовал мне обратиться к вам, заверив меня, что вы являетесь верным и честноподданным короля.
— Ноблекур, бывший прокурор? А, ну тогда другое дело! Послужить королю? Всегда готов. Хотя сильно сомневаюсь, что ему могут понадобиться мои скромные таланты! «Требовался счетчик, а посему на это место взяли танцора!»
— Нет, сударь, от вас требуется проявить именно ваше искусство, примером коего я имел возможность любоваться.
— Портрет госпожи де Ноблекур, полагаю? Осмелюсь утверждать, именно поспешность, с которой пришлось его исполнить, сделала его истинным шедевром. Все случилось летом, и мы не могли ждать…
— Именно поэтому я хотел бы просить вас призвать на помощь все свое умение…
Николя знал, что с художниками любой комплимент никогда не будет лишним.
Старческое лицо сморщилось от удовольствия, в то время как красотка изобразила на лице недовольную гримаску.
— Знаете, сударь, я учился у самих Ла Тура и Перонно. Один научил меня рисовать природу, состояние души, характер моих персонажей и наделять сгустки краски дыханием жизни. Другому я обязан полетом фантазии, игрой красок и света, да, именно света.
Художник все больше возбуждался, и в порыве благородной страсти лицо его, отмеченное печатью самых грубых излишеств, присущих эпикурейцам, изнутри словно озарилось.
Воспользовавшись передышкой, Николя окинул взором мастерскую. Эскизы и завершенные картины привели его в восторг. Основными заказчиками Лавале выступали парижские буржуа. Нарисованные типажи отличались поистине пугающей достоверностью; особенно поражали глаза, взгляд которых оживлял не только сам портрет, но и картину в целом; видимо, поэтому заказчики у мэтра не переводились.
— Однако, — произнес Николя, — персонаж, чей портрет я хотел бы заказать, может вызвать у вас неприязнь…
Запахнувшись в свою тогу, Лавале встал.
— Поверьте, сударь, нет такой задачи, с которой я бы не мог справиться!
— Вы неправильно меня поняли. У меня даже и в мыслях не было, что вы сможете не справиться. Просто заказ мой может затронуть вашу чувствительную натуру.
— Вы, наверное, намекаете на непристойные или нечестивые картинки, за которые некоторые любители платят золотом? Если вы это хотите мне предложить, нам не о чем с вами разговаривать. Хоть я и либертен, но подлецом никогда не был!
— Сударь, речь идет вовсе не об этом, — с улыбкой ответил Николя. — Я комиссар полиции Шатле, меня зовут Николя Ле Флок. Вчера скончался один человек. Несчастный случай или убийство, этого мы пока не знаем, мы даже не сумели установить его личность. Тело находится в морге. Не согласитесь ли вы, употребив свой талант, сделать портрет с трупа? Мне бы не хотелось принуждать вас… Но если вы согласитесь нам помочь, мы сможем отыскать тех, кто его знал.
— Я к вашим услугам.
— Ваша цена…
— Никакой цены, сударь. Я просто воспользуюсь возможностью воздать внуку за то, чем я обязан его деду, покойному королю. Пенсия, пожалованная мне за портрет… но понимаю… в общем, она позволила мне удержаться на плаву. Словом, я иду переодеваться, ибо, как полагаю, время не терпит. Киска, дочь моя, налей немного шампанского нашему гостю. При такой погоде приходится пить, чтобы согреться!
И он исчез в задней комнате, оставив Николя наедине с красоткой.
— Ну же, идите сюда, — поманила она, — отведайте устриц, их только что доставили сюда с улицы Монторгей. Скоро пост, но пока еще есть время наесться до отвала!
— Вы, видимо, любите устрицы.
— Они нежные, и их удобно глотать.
Когда он подошел к столу, она обняла его за шею, и вместе с запахом моря, исходящим от устриц, он ощутил ее дыхание. Когда она протянула ему раковину, одеяние соскользнуло с нее, обнажив ее хрупкую фигурку, но девицу это, похоже, не смутило; когда же он, наклонившись, чтобы поднять простыню, случайно коснулся щекой ее бедра, она томно вздохнула. В висках застучала кровь, напомнив Николя о внезапно пробудившемся вожделении. Ее прелести неумолимо притягивали его взор, и он поторопился накинуть на нее простыню. Она подняла на него подернутые поволокой глаза, и дыхание ее заметно участилось. Когда казалось, что жертвоприношение вот-вот случится, шум шагов разлучил их. Отстранившись, он схватил стакан с вином и одним махом опустошил его.
— Я готов следовать за вами куда прикажете, — произнес Лавале.
В парике, шляпе, плаще с меховым воротником, в узорчатых чулках и прочных грубых башмаках, он стоял, держа в руках необходимые принадлежности своего ремесла.
Прощаясь с Николя, Киска присела в насмешливом полупоклоне и, поддерживая обеими руками на груди простыню, одарила его долгим, исполненным упрека взором. Заметив направление ее взгляда, художник насмешливо прищурил глаза. В экипаже оба мужчины долго молчали; Лавале первым нарушил тишину.
— Я не слепой, вы соблазнили Киску. Вы красивый кавалер, с изрядной долей меланхолии, которая так нравится женщинам. Если хотите, я пришлю ее к вам.
Николя не ответил. Он не любил подобного рода предложений, особенно в открытую, ибо они разрушали тот невидимый барьер, который в глубине души он сооружал вокруг самого себя. Только зная современные нравы, он мог поверить словам художника; впрочем, он не исключал, что сцена с Киской была подстроена, чтобы возбудить притупившуюся чувственность старого живописца.
— Благодарю вас, — сухо отрезал он. — Но для меня сей лакомый кусочек слишком шустр.
Ответ его нисколько не обидел Лавале, и он тотчас заговорил о своем искусстве. Но комиссар его не слушал: он думал об Эме д’Арране. Впервые со времени их знакомства он был готов изменить ей, хотя и при дворе, и во время его визита в Вену искушений хватало. А тут какая-то продажная красотка почти довела его до… Он задумался о нравах эпохи, которым он часто чувствовал себя чуждым. Искушения возникали на каждом шагу каждую минуту; все, словно сговорившись, соревновались в развращении сердец. Грех, обман и сладострастие, обрядившись в престижные одежды, завлекали и соблазняли, обостряя желания и возводя на пьедестал непостоянство.
Видя, что Николя не слушает, Лавале обратился к нему.
— Сударь, по возрасту я гожусь вам в отцы, и мне нет резона вас обманывать. Скажу честно: если бы вы согласились на мое предложение, я бы послал вас ко всем чертям. Вы первый выдержали это испытание.
— Откровенность за откровенность: признаюсь, что соблазн одолел меня только в вашем доме.
— Понимаю. Ваша искренность лишь добавляет уважения к вам. У каждого свои недостатки. Примите мои, и будем друзьями. Вашу руку!
— Да будет так, — с облегчением ответил Николя. — Вы мастер своего дела, и для меня большая честь числить вас среди своих друзей.
Вплоть до самого Шатле они оживленно разговаривали. Помогая художнику донести вещи до двери мертвецкой, он неожиданно остановился.
— Сударь, не хочу пугать вас, а потому предупреждаю заранее: помимо моего непосредственного помощника и моего друга, корабельного хирурга, на сеансе будет присутствовать мэтр Сансон, парижский палач. Я знаю его давно и питаю к нему глубокое уважение. Тем не менее, если вы не захотите находиться рядом с ним, я вас пойму.
— Долой детские причуды! Достаточно того, что он ваш друг. Я казню своих заказчиков точно так же, как и он, мой приговор зачастую разит сильнее, чем орудия палача. Спросите у моих клиентов, тех, что отказались забирать свои портреты… ибо они явили слишком большое сходство!
Успокоившись, комиссар повел своего гостя в подземелье старинной крепости.
Глава III ДВОЙНОЙ УДАР
Позволь завесу лжи Мне сдернуть с глаз твоих. ПетраркаЗнакомство превратилось в настоящий спектакль, разыгранный художником и Сансоном: палач мялся, не решаясь протянуть руку, и в конце концов мэтр сам схватил ее, заявив, что счастлив познакомиться с другом комиссара. Лед был сломлен. Лавале установил мольберт, поставил на скамеечку краски и, закрепив на мольберте бумагу, проверил, достаточно ли света дают факелы на стенах. Затем, отойдя в сторону, вгляделся в лицо трупа.
— Насильственная смерть искажает и разрушает исконные черты… прибавьте к этому воздействие холода и соли, применяемой для сохранности тела. Все эти факторы приходится учитывать.
Повернувшись к Николя, он попросил:
— Надо приподнять голову…
Когда просьбу выполнили, он подошел еще ближе и без заметного волнения произнес:
— …а теперь тело. И хорошо бы, несмотря на трупное окоченение, закрепить его в приподнятом положении.
После бурных обсуждений пришли к единодушному решению прислонить тело к стене, за помостом, где были разложены приспособления для допросов с пристрастием, к которым иногда прибегали в этих местах. Привыкнув наблюдать за собой со стороны, Николя подумал, что суета солидных людей вокруг окровавленного манекена должна смотреться по меньшей мере странно. Однако правосудие, обеспечивающее необходимый для королевства порядок, зачастую требовало от него совершенно невообразимых действий.
Встав напротив трагической маски, тупо взиравшей на него тусклыми, наполовину прикрытыми глазами, художник принялся за работу. Но прежде чем сделать первый набросок, он едва ли ни с нежностью причесал труп, придав ему видимость жизни. Это своеобразное извинение перед покойным за неудобства, причиненные ему после смерти, не осталось незамеченным. Все молча наблюдали за уверенными движениями Лавале. Не в силах долее сдерживаться, Николя задал мучивший его вопрос.
— Сударь, портрет, который вы напишете, станут показывать многим, он пройдет через многие руки. Но насколько долговечны рисунки, сделанные пастелью?
— Вопрос резонный. Должен вас утешить. Я работаю на шероховатом пергаменте, а он хорошо удерживает красочный порошок. А это… — поднял он вверх палочку пастели, — …это прочная смесь красящих веществ, с добавлением разведенного водой гуммиарабика и талька. Такие краски долго остаются нетронутыми. Но если вы хотите сохранить работу, лучше всего поместить ее под стекло.
Взяв палочку охры, он резкими штрихами набросал контуры будущего портрета, и вскоре перед изумленными взорами присутствующих появилось необычайно выразительное лицо. Стремительно сделав несколько эскизов, он выбрал один и с прежней скоростью принялся дополнять его необходимыми штрихами. Подобно творящему чудеса алхимику, он заставил изображенное на бумаге мертвое лицо заиграть всеми красками жизни. Затем, остановившись, он попросил доктора Семакгюса уточнить цвет глаз покойника. После внимательного изучения корабельный хирург пришел к выводу, что некогда они были серо-голубыми.
— Сейчас раскроем ему глаза, и портрет станет как живой! — промолвил художник.
Через несколько минут все с удивлением разглядывали открытое привлекательное лицо молодого человека в возрасте от двадцати до тридцати лет, с насмешливым взором, твердо очерченным ртом и матовым цветом кожи. Рисунок поражал своим неподражаемым сходством с прислоненным к стене мертвецом и в то же время был бесконечно далек от его отмеченного печатью смерти лица.
— Боже мой! — воскликнул Сансон. — Глаза горят, волосы словно ветром раздувает, ноздри трепещут, на лбу читается работа мысли; кажется, он вот-вот заговорит с нами!
Завершив работу несколькими штрихами, смягчившими излишне резко выписанные черты, Лавале отступил и, вздохнув, сам залюбовался своим шедевром.
— Какая жалость! Я был бы не прочь познакомиться с ним.
Тем временем Николя думал о том, что человеческим останкам суждено претерпеть те же метаморфозы, что и останкам забитой на бойне скотины. Однако он надеялся, что в день Страшного суда Господь вновь дарует каждому его гордое тело и этот молодой человек, чей труп сейчас стоит у стены и вскоре будет обезображен во время вскрытия, явится пред ликом Господа во всей красоте своей молодости, таким, каким он предстал перед ними на портрете.
— Как мне благодарить вас, сударь?
— Удостоить меня своей дружбой и принять мое приглашение на ужин: приходите, когда вам будет угодно. Если позволите, я заберу с собой наброски. Лицо красиво, и мне хотелось бы продолжить его изучение.
— Никаких возражений. Папаша Мари проводит вас и проследит, чтобы мой экипаж благополучно доставил вас на улицу Шьен.
Когда художник вышел, палач и Семакгюс, сбросив фраки, надели длинные кожаные передники; обычай этот завел корабельный хирург, он же заказал у военного портного два таких передника.
— Глядя на такой прекрасный портрет, у вас, пожалуй, может возникнуть желание умереть, — насмешливо изрек Семакгюс.
Бурдо раскурил глиняную трубку и, выпуская частые колечки дыма, принялся точить перо, намереваясь, как обычно, вести протокол. Вскрытие началось с осмотра одежды и предметов, найденных в карманах и вокруг тела. Мертвеца снова уложили на большой дубовый стол. Николя принялся перечислять.
— Холщовые штаны до колен. Рубашка из тонкого батиста и черный шейный платок. Жилет из дешевого шелка с серебряными пуговицами без опознавательных знаков. Фрак из шерстяной материи, название которой мне неизвестно…
Нацепив на нос очки, Семакгюс подошел поближе.
— Не та ли это ткань, из которой шьют свои ливреи кучера лондонских фиакров?
— И где вы только не были!
— Пожалуй, в Китае. Но, заметьте, я не могу сказать с уверенностью!
— Я покажу кусочек моему портному, мэтру Вашону. Хлопчатобумажные чулки, пара башмаков без пряжек. Похоже, в карманах нет ничего, кроме носового платка из тончайшего батиста. Не может ли этот платок принадлежать даме?
Он передал платок Бурдо.
— Вполне возможно, но инициалов нет. Больше ничего?
— Абсолютно. И это странно.
— Значит, — продолжил инспектор, пытаясь поставить себя на место того, кто сделал все, чтобы воспрепятствовать опознанию жертвы, — придется искать опознавательные знаки на теле.
— Вы правы. Что ж господа, теперь ваша очередь. Быть может, труп окажется более красноречивым?
Непроизвольным жестом Николя повернул портрет лицом к стене: ему не хотелось, чтобы изображенный на нем живой человек видел, какому надругательству подвергнут его мертвое тело. Он отметил, что подпись Лавале поставил на обороте. Вынув из кармана узорчатую золотую табакерку, некогда подаренную ему графиней дю Барри, он по привычке вздохнул, глядя на украшавший крышку портрет покойного короля, взял понюшку и принялся долго и с удовольствием чихать.
После ритуального спора с Сансоном, кому рассказывать первым, Семакгюс торжественным тоном начал:
— Труп мужчины в возрасте от двадцати пяти до тридцати лет… Тело лежало лицом вниз, хотя с той стороны на трупе не обнаружено ни единой царапины.
— Простите, друг мой, — кротко произнес Сансон, — тем не менее мы обязаны отметить вот это…
Подойдя к телу и склонившись над его бледным челом, он снял с него несколько вдавившихся в кожу крошечных камешков.
— …да, вот это! Я могу объяснить сей факт только тем, что после падения тело перевернули. Судя по словам Бурдо, успевшего до вашего прихода описать нам место преступления, веревка, свитая из простыней, разорвалась и жертва под собственной тяжестью упала на землю спиной, лицом вверх. Повреждения, повлекшие за собой смерть, могли появиться только при таком падении и…
— Полностью с вами согласен, — произнес Семакгюс, уязвленный, что сам не придал значения этой мелочи. — У вас, поистине, глаз ботаника, всегда готовый выискать редкое растение; приглашаю вас вместе со мной составлять гербарий.
Снова склонившись над телом, он, бормоча себе под нос, легонько постучал по его левому плечу; присутствующие немедленно придвинулись поближе, желая уловить рассуждения корабельного хирурга.
— Именно то, что я и подозревал… Это не оборванец… он явно заботился о своем теле… Его привили против оспы, а значит, он точно не принадлежал к простонародью.
— Еще бы, — хмуро отозвался Бурдо, — простые люди пусть себе умирают от оспы, никому до этого и дела нет!
— Несчастные короли тоже, — прошептал Николя. — А народ даже не думает оплакивать их смерть!
— По наличию прививки мы можем приблизительно установить его возраст, — продолжил Семакгюс, не обращая внимания на перепалку друзей. — Знаете ли вы, что в конце шестидесятых из-за страха перед эпидемией в королевстве надолго запретили прививки? О, человеческая глупость! Впрочем…
— Что «впрочем»? — поинтересовался Николя.
— …прививка может свидетельствовать о том, что он не является подданным нашего короля, а прибыл к нам из-за границы.
— А еще может статься, — самоуверенно вставил Бурдо, — что прививку ему сделали после снятия запрета.
Хирург бодро шлепнул отметину на плече.
— Друг мой, отметина давняя, а значит, прививку ему сделали в детском возрасте.
Николя лихорадочно делал заметки в черной записной книжке. Дальнейший осмотр продолжался в полной тишине. Когда тело перевернули, взорам их явился темный синеватый кожный покров с черными трупными пятнами — следами кровоизлияний, как объяснил Сансон. Внезапно в голову комиссара пришла некая мысль; заново перетряхнув одежду покойного, он что-то обнаружил, но не стал никому показывать, видимо, не желая сообщать о своих подозрениях раньше, чем анатомы подкрепят их своими выводами или, напротив, опровергнут.
Хирург, вооружившись губкой, аккуратно отчистил шею, освободив ее от слипшихся от крови волос. Николя, видевший перед собой только две согбенные спины, с трудом разбирал сдавленный шепот анатомов. Неожиданно он вспомнил двух воронов, увиденных им в далеком детстве на ухабистой дороге неподалеку от замка Ранрей: своими острыми клювами вороны раздирали несчастного сбежавшего из садка кролика. Наконец Семакгюс выпрямился, отошел от стола и широким шагом заходил по мертвецкой. Сансон, тоже выпрямившись, смотрел на него бесстрастным взором.
— Боюсь, у нас возникли вопросы, которые пока не имеют ответов. Мы не знаем, выпал этот человек из окна живым или уже мертвым. Если он был жив, то добровольно ли он вылез в окно, надеясь спуститься вниз, или его оттуда выбросили?
Семакгюс кивнул, поддерживая товарища.
— Дорогой Сансон, позвольте мне продолжить ваши рассуждения. Если в момент падения жертва была мертва, надо искать причины ее смерти: следы удушения, раны, оставленные колющим или режущим орудием, отверстия от пуль. Тогда можно сказать, что именно эти повреждения повлекли за собой смерть.
— А что в нашем случае? — спросил Николя.
— Когда жертва еще жива, можно обнаружить признаки внутренних повреждений, или, как в нашем случае, ожоги, ссадины и волдыри, возникающие по причине нагревания в руках веревки при скольжении. Природа этих ран, величина, численность и тяжесть зависят от высоты падения и твердости почвы.
— Еще одна сложность, — промолвил Сансон. — Если в момент падения человек был жив, как можем мы утверждать, что это убийство? Может, он решил покончить с собой, а может, глянув вниз, у него закружилась голова, и он выпустил из рук веревку. Или же он был подвержен сердечным приступам.
— К тому же, — дополнил Семакгюс, — падал он явно недолго, ибо выражение лица его не успело измениться, на нем нет отражения ужаса, какое, к примеру, бывает у тех, кто сорвался в пропасть.
Не видя конца рассуждениям анатомов, Николя обернулся и с удовлетворением отметил, что усиленно дымивший трубкой Бурдо также проявляет признаки нетерпения. Тогда, улыбаясь как можно ласковее, дабы реплика его не вызвала обиду, он произнес:
— Мне кажется, вы оба указали нам множество окольных путей и тропинок, все дальше уводящих нас от ожидаемых ответов. Но не перешли ли вы в запале на почву неуверенности и незнания?
— Ну вы и хитрец, — расхохотался Семакгюс. — Посмотрите на этого ученика ваннских иезуитов: он никогда не высказывается напрямую, а за его приторной любезностью кроется вполне определенный намек!
— Дело в том, — безмятежным тоном произнес Сансон, — что наша наука не терпит, чтобы ею управляли. Ее нельзя вести за собой на веревочке, скорее уж она поведет нас за собой. А факты таковы…
— Ну и где эти факты? — проворчал Бурдо. — Вы рассматриваете тело, вертите его во все стороны, сгибаете и разгибаете, а толку-то?
— Наш друг хочет указать нам, — отчеканил Семакгюс, — что мы столкнулись с необычным случаем, а потому даже самое робкое предположение может оказаться самым дерзким.
— Что ж, — подвел итог инспектор, — тогда предполагайте. Похоже, мы присутствуем на концерте для Сансона и Семакгюса, двух инструментов, исполняющих канон, но не способных завершить мелодию и вынужденных тянуть ее словно кошку за хвост.
— Тогда коротко. Этот человек упал, но не разбился до смерти!
— Как?
— Сначала скажите, с какой высоты он упал?
— Примерно с высоты четвертого этажа. Веревка оказалась непрочной и оборвалась на уровне окна. Похоже, причиной тому явились гнилые простыни.
— Значит, мы не можем утверждать, что наша жертва упала именно с вышеуказанной высоты.
— Тогда что же?
— Осмотр тела доказывает два факта. Во-первых, причиной смерти найденного на улице человека явилось не падение. А во-вторых, обнаруженная и обследованная нами глубокая рана позволяет утверждать, что ее нанесли острым орудием, пуансоном или иным инструментом с острым концом… шпагой, например?
— Скорее, заостренным концом трости.
Николя и Бурдо переглянулись. Инспектор заговорил первым.
— Человек, упавший с высоты, вряд ли сумел бы увернуться от нападающего.
— Разумеется, даже если он не сильно ударился. Но, черт возьми, умереть от ушибов он тоже не мог! Поэтому мы делаем вывод: причиной смерти является рана, нанесенная заостренным предметом. А от вас, похоже, ускользнула одна деталь: веревка вполне могла оборваться, когда человек висел над самой землей. И хотя ударился он основательно, у него не сломаны ни руки, ни ноги, череп тоже цел, не считая небольших внутренних повреждений. На локте, без сомнения, гематома, но все эти увечья не могли привести к плачевному исходу.
Николя направился в угол, куда бросили сплетенную из простынь веревку, поднял ее и протянул Семакгюсу; затем достал из кармана тот ее кусок, что был привязан к решетке, и также отдал хирургу.
— Вот обе части веревки. Она оборвалась почти в самом месте крепления, возле решетки. Нет оснований утверждать, что разрыв случился из-за трения об угол камня. Когда я показал оба куска Бурдо, тот посоветовал исследовать веревку целиком.
Хирург поднес простыни к носу, чихнул и попробовал на прочность.
— Надо проверить. Николя обладает примерно тем же телосложением, что и жертва, и я уверен, согласится провести эксперимент.
— Разумеется! Что нужно делать?
Грузный Семакгюс взгромоздился на скамеечку и, привязав веревку к одному из многочисленных железных колец, торчавших из стены, проверил прочность узла.
— Николя, хватайте обеими руками простыни, упритесь ногами в стену, а потом повисните на них.
Комиссар исполнил, что от него просили: схватив свитую из простынь веревку, он уперся ногами в стену и, оттолкнувшись, повис, раскачиваясь над полом. Через несколько секунд раздался характерный треск разрываемой ткани и скрученные простыни оборвались. Бурдо и Семакгюс подхватили Николя, чтобы тот не упал на спину. Осмотрев разрыв, они сравнили его с обрывком, принесенным из тюрьмы: оба выглядели одинаково. Тогда Семакгюс достал из своей кожаной сумки для инструментов небольшую бутылочку, наполненную бесцветной жидкостью, и намочил простыни в нескольких местах. Везде, куда попали капли, ткань окрасилась в пунцовый цвет.
— Глазам своим не верю! — изумленно воскликнул Бурдо. — Что за чудо?
Семакгюс поднял флакон, чтобы все могли его видеть.
— В бутылочке содержится лакмусовый настой из лепестков подсолнуха. Мои ученые собратья из Королевского ботанического сада и Академии наук, посвятившие себя изучению химии, рассказали мне, что из подсолнуха можно приготовить настой, приобретающий красный цвет при соприкосновении с кислотой. Я с самого начала почувствовал запах кислоты, и теперь подозрения мои подтвердились.
— Итак, — произнес Николя, — простыни каким-то образом обработали некой субстанцией, разрушающей волокна ткани. Следовательно, истончившаяся ткань могла оборваться в любом месте.
— Я сам не смог бы точнее выразить собственные мысли.
Сансон, внимательно разглядывавший руки трупа, перевел взор на его одежду. Друзья с интересом наблюдали за ним.
— Какая муха вас укусила, Сансон, разве осмотр не окончен? — спросил Бурдо, выпуская пышный клуб дыма.
— На основании кое-каких обнаруженных мною следов я пытаюсь воссоздать более точный портрет жертвы. Мне кажется, мы можем определить, чем примерно занимался этот человек…
Бурдо усмехнулся.
— Можете смеяться, но я попробую вас убедить. На теле каждого из нас можно найти следы, выдающие наши занятия. Представьте себе, — да не допустит этого Господь! — что мне придется осматривать тело комиссара. Что я на нем обнаружу? Шрамы, полученные на протяжении всей жизни в многочисленных схватках. А с тех пор, как я имею честь быть с ним знакомым, он успел получить немало ран! И какой вывод я сделаю? Я скажу, что передо мной, скорее всего, или солдат, или разбойник, или полицейский.
— Ах, сколько шишек я заработал, когда в юности играл в суле на покрытом галькой берегу бухты Треигье! — отрешенно произнес Николя.
— Понимаю, — задумчиво проговорил Бурдо. — Разглядывая мертвеца и перебирая его одежду, вы заметили нечто необычное. Держу пари, дело обстоит именно так, и вы уже сделали выводы, которые наверняка помогут нам в расследовании.
— Вы читаете мои мысли. Среди примет, необходимых для установления личности, наиболее красноречивыми являются физические особенности, как природные, так и связанные с определенными занятиями. Это своеобразный несмываемый след, по которому можно установить личность. У крестьянина, обрабатывающего землю, согбенная спина; у поденщиков, разносчиков и носильщиков сутулые плечи; у сапожников чрезмерно широкие большие пальцы рук; у чернорабочих кожа рук морщинистая, вся в трещинах и шелушится. Ну и так далее…
— Очень интересно, — промолвил Николя. — И что же вы обнаружили в нашем случае?
Сансон указал на труп.
— Посмотрите внимательно на его руки. Предположим, что он был правшой, и вспомним, что он привык ухаживать за собой.
Он взял мертвеца за руку.
— Смотрите: ногти огрубевшие, вдобавок еще и слоятся. От какого занятия у человека могут быть такие ногти? Ногти большого и указательного пальцев на левой руке сходятся неплотно, потому что края ногтей искрошились. Без сомнения, это признак специфической деятельности, которой приходилось заниматься нашему незнакомцу.
С этими словами он подошел к сложенной одежде и извлек из стопки панталоны.
— Не странно ли, что у этой детали его туалета изношенность присутствует на правом бедре и сзади?
Вернувшись к телу, он продолжил:
— На уровне второго ребра и прямо под ним мы видим обширное раздражение кожи, расположенное в месте сочленения грудины и реберной дуги. На какие мысли наводят вас подобные знаки?
Любит загадка рядиться В маски, плащи, колпаки, Любит вуалью закрыться, Чтобы неузнанной юркнуть в кусты. Ах, сколько новизны таится в той Загадке, что стара, как мир! —пропел Николя на мотив арии из «Прекрасной Филлиды».
— Что-то у нас в Шатле сегодня слишком весело, — промолвил Семакгюс. — Мне кажется, я сумел проникнуть в лукавый ум мэтра Сансона и понять его мысль. Часто употребление изобличает действие.
— Вы совершенно правы, — скромно согласился палач. — Мои замечания относительно состояния ногтей наводят на мысль о часовщике, о том, кто занимается починкой часов и часто использует ногти для открывания крышек часовых механизмов. Крошащиеся ногти большого и указательного пальцев напоминают о необходимости удерживать деликатные детали механизмов и прилаживать их. Раздражение же обусловлено постоянной работой напильником…
Он поднял руку.
— …что подтверждает загрязнение пальцев следами металлической пыли.
— Согласен! Ну а бедро, а панталоны?
— Слесарь или механик, вытачивающий на токарном станке точные детали, работает в основном стоя, а чтобы иметь точку опоры, прислоняется к подпорке, поддерживающей его сбоку и сзади. Панталоны, потертые на бедре, на боку и сзади, позволили мне прийти к этому выводу.
— Таким образом, вы делаете заключение, что…
— …что перед нами искусный ремесленник, имевший дело с точными механизмами, скорее всего, часовщик. Но и это еще не все, — добавил он, склонившись над лицом покойного. — Хочу привлечь ваше внимание к последней детали. Посмотрите на след вокруг правого глаза — он, без сомнения, образовался от долгого ношения увеличительного стекла. Полагаю, теперь мы можем сузить круг наших поисков. И портрет, исполненный господином Лавале, придется как нельзя кстати.
— Господа, — произнес Николя, — поблагодарим нашего друга Сансона за образцовое расследование. Не стоит также забывать, что, собрав камешки со лба покойника, он обнаружил точно такие же камешки и на бортах его куртки. Возможно, в будущем эта деталь нам очень пригодится.
Воцарилась тишина, исполненная невысказанных мыслей. Оба анатома приступили к печальной церемонии вскрытия тела. Николя до сих пор не мог привыкнуть к этой столь необходимой, но от того не менее ужасной процедуре, поэтому он закрыл глаза и не стал вслушиваться в реплики, которыми обменивались анатомы, исполняя свои мрачные обязанности. Прошло никак не меньше часа, прежде чем Семакгюс объявил, что работа по вскрытию окончена. Органы возвратили на место, тело зашили и вновь придали ему человеческое обличье. Папаша Мари принес два больших кувшина с горячей водой. В полной тишине палач и хирург вымыли руки и надели фраки. Церемонно поклонившись, Сансон предоставил слово Семакгюсу.
— Вскрытие подтверждает сделанные ранее выводы: повреждения, полученные в результате падения, не привели к смертельному исходу. Помимо разбитого локтя и нескольких незначительных ушибов, ни переломов, ни повреждений черепа или внутренних органов не обнаружено. Причиной смерти явился удар острым предметом в затылок у основания черепа. Упав с высоты, человек от удара о землю, возможно, на некоторое время потерял сознание, и в эти минуты…
— Как вы считаете, как долго он мог лежать без сознания?
— Дорогой Николя, вы сами несколько раз теряли сознание. Это состояние может длиться как несколько секунд, так и несколько минут. Повторяю: мне кажется, его убили, когда он еще не пришел в сознание. Кто-то, обнаружив, что он жив, и убедившись в его беспомощности, хладнокровно заколол его. Орудием убийства явилась либо трость, либо палка с железным наконечником. Сначала в тело погрузилось маленькое треугольное острие, а затем нечто более широкое и круглое, разорвавшее и смявшее края раны. Подобными палками в Испании приканчивают быков во время боя.
— Ого, куда мы забрались! — воскликнул Сансон.
— И последнее. Человек этот поужинал, но его ужин не имел ничего общего с той скудной пищей, которой кормят узников в тюрьмах его величества.
— Это подтверждает и начальник тюрьмы: заключенный сидел в платной камере и заказывал себе пищу в городских трактирах. Завтра надобно еще раз расспросить начальника и допросить посыльного, исполняющего мелкие поручения заключенных. Поиски будут трудными… Речь может идти как о сообщнике, так и о том, кто… кто сумел доставить узнику так много простыней.
— О чьем сообщнике — узника или убийцы? Мы же знаем теперь, что простыни обработали специальным составом, — произнес Бурдо.
— Возможно, сообщник исполнял чужие приказы. Во всяком случае надо найти его. Благодаря вам, друзья мои, расследование продвинулось далеко вперед. Во-первых, мы определили возможные занятия нашего незнакомца, а благодаря Лавале у нас есть его портрет, который завтра один из наших агентов начнет показывать парижским часовщикам. Полагаю, результат не заставит себя ждать. Узнав имя неизвестного, наша задача упростится. Во-вторых, придется выяснять причины странного, в обход всех правил, заключения нашего незнакомца в Фор-Левек. В-третьих, надо показать моему портному, мэтру Вашону, кусочек ткани, предположительно произведенной в Англии. В-четвертых, прояснить тайный смысл записки, найденной в камере, дабы определить, имеет она отношение к последнему ее обитателю или же нет. Сейчас же я должен вам сказать, что сегодня господин де Ноблекур имеет удовольствие пригласить вас отужинать, а так как уже поздно, предлагаю немедленно отправиться на улицу Монмартр.
С радостью втиснувшись в фиакр, приятели, как обычно, всю дорогу подшучивали друг над другом. Экипаж Сансона трусил сзади. Невзирая на участие в общем разговоре, Николя неустанно думал о том, что может означать найденная им на месте гибели незнакомца пуговица от мундира. Пока он не мог связать сей предмет с нынешним расследованием, но опыт подсказывал, что находка эта не случайна. Когда он поведал свои сомнения Бурдо, тот полностью согласился с ним.
Экипаж медленно катил по обледеневшим улицам. Лошадь, чьи подковы были не приспособлены к передвижению по льду, то и дело поскальзывалась. Николя вновь погрузился в размышления: его мучила фраза из записки, найденной в стене камеры незнакомца. Неожиданно он вспомнил, как при расследовании одного крайне опасного дела он по совету господина де Секвиля, секретаря посольской службы сопровождения, прибегнул к помощи общественного писаря и каллиграфа Родоле, проживавшего на улице Шипионе, в самом центре предместья Сен-Марсель. Без сомнения, Родоле именно тот, кто способен решить эту загадку или, по крайней мере, дать полезный совет.
С радостным гомоном друзья высадились у ворот дома Ноблекура; сопровождаемые тревожным взором Марион, опасавшейся за сохранность сверкавшего как зеркало паркета, который она неустанно натирала воском, они вошли в дом и проследовали в апартаменты хозяина. Домоправительница отчитала Пуатвена за медлительность: он якобы недостаточно быстро подхватывал мокрые плащи, накидки, шубы и треуголки. В малиновом фраке и пышном парике времен Регентства, хозяин дома с улыбкой ожидал их в гостиной. С присущим ему добродушием он совершенно естественно воспринял робость Сансона, впервые участвовавшего в дружеской пирушке; впрочем, очень скоро сей скромник развеселился, заметив, что куртуазность Ноблекура распространяется не только на него, но и на всех остальных гостей. Так как время было позднее, гости без лишних разговоров заняли места за столом, установленным в гостиной возле камина. На председательском месте, спиной к намину сел сам Ноблекур, по левую руку от него устроился Сансон, по правую — Семакгюс, Бурдо и Николя водворились напротив, а незаметно шмыгнувшие под стол Сирюс и Мушетта привычно заняли позицию мелких чревоугодников. Пуатвен поторопился принести вино. Бурдо, понюхав и посмотрев жидкость на свет, с одобрительным вздохом налил себе стакан.
— Полагаю, вас заинтересовала форма бутылки? — лукаво поинтересовался Ноблекур.
— Из нее на меня повеяло воздухом моей родной деревни.
— И вы почти угадали! Это вино с виноградников, расположенных к северу от вашего Шинона. Мой приятель, магистрат, живущий в Руйе на берегу Шера, в хорошие года всегда присылает мне несколько бутылок. Этот белый нектар с берегов Луары именуется жаньерским!
— Сухое, со вкусом свежего винограда, — добавил Семакгюс, прицокивая языком.
— Да, и хранится оно прекрасно, а старея, сохраняет свою крепость.
— Своего рода Ноблекур среди вин, — заметил Николя.
— …который возмущается, когда ему не дают белого вина! — раздался слабый голос Марион.
Неся чашку отвара, она водрузила оную чашку перед своим хозяином, который при виде ее скорчил такую гримасу, что все сидящие за столом не смогли удержаться от хохота.
— Дайте попробовать хотя бы капельку жаньерского — чтобы убедиться, что оно не отдает пробкой, — жалобно заканючил Ноблекур.
В спор вмешалась Катрина.
— Бонюхать. Ну да ладно, можете нюхать, но не полее того. Медицина забрещает. Да, да, забрещает. Вы что, хотите, чтопы у вас знова разыгралась бодагра, от которой у вас бортится характер и в доме все ходуном ходит? И брекратите пурчать себе под нос! Эти госбода бодтвердят, что я брава, они же тоже хотят сохранить вам здоровье.
— Довольно! Придется повиноваться.
Взяв стакан Семакгюса, он закрыл глаза и с упоением вдохнул букет.
— Ах, как я понимаю нашего доброго короля Генриха Четвертого! Когда он приезжал в замок Сен-Жермен, он всегда приказывал подавать себе именно это вино. Да, веселый король, крещенный вином из Жюрансона, умел отдавать честь винам своего королевства.
Вошел Пуатвен с огромной супницей руанского фарфора; водрузив ее на сервировочный столик, он осторожно снял с нее крышку, и душистый аромат тотчас наполнил комнату.
— Что это вы нам принесли? — поинтересовался Ноблекур, сделав вид, что ему неизвестно, какой суп подадут его гостям.
Из плохо освещенного угла раздался слабый голос Марион: она осталась в гостиной, чтобы наблюдать за надлежащим соблюдением правил.
— Суп-потаж под черепаху.
— О! — воскликнул Семакгюс. — Я мог бы определить, насколько копия достойна оригинала. Мне доводилось пробовать черепаховый суп в Батавии, на островах голландской Ост-Индии.
— И где он только не был! — воскликнул Бурдо. — Предлагаю поместить его в ваш кабинет редкостей!
— Ну уж нет! Он выпьет весь спирт из моих сосудов с экспонатами!
После первых ложек воцарилось одобрительное молчание. Семакгюс проследил, чтобы старому магистрату налили лишь немного бульона.
— Мой суровый лекарь не спускаете меня глаз, опасаясь, что мне достанется лишняя ложка бульона. Но, надеюсь, он не будет против, если я, как принято в нашем обществе, получу удовольствие от рассказа, как готовили сей чудесный суп.
— Право же, — начала Марион, обращаясь к Ноблекуру, который, несмотря на отнекивания почтенной служанки, велел придвинуть ей стул, — готовить его очень просто. Для бульона берутся баранья лопатка и головы лосося, тюрбо и мерлана. Их складывают в кастрюлю, добавляют масла, пряностей и кореньев и ставят на огонь. Когда все вместе даст цвет и начнет закипать, доливаете воды до нужного вам объема. Как только мясо начнет отделяться от костей, выложите все на салфетку и, как заведено, осветлите бульон яичными белками. Потом верните кастрюлю на плиту, чтобы она еще немного покипела, а потом добавьте полбутылки мадеры. Накануне вы велели сварить телячью голову, и мы ее сварили, а так как об ужине мы узнали только утром, то срезали с отваренной головы мясо, покрошили его на мелкие кусочки и проварили в белом вине. Эти кусочки и заменяют мясо черепахи.
Все зааплодировали.
— Черт побери, какой крепкий бульон и какое нежное мясо! — произнес Семакгюс. — Я уже сомневаюсь, стоило ли мне позволять вам съесть этот бульон. Мадера может возбудить вас, так что предупреждаю: последствия могут оказаться самыми плачевными.
— Видите, как он со мной обращается, — обратился к Сансону за защитой Ноблекур.
— Сударь, он любит вас и хочет, чтобы вы всегда были здоровы.
— Хм, интересно, как бы он со мной обращался, если бы ненавидел меня?
Николя восхищался непринужденными манерами Ноблекура, чье ненавязчивое внимание постепенно сломило оборону Сансона; от сознания, что он в этой приятной компании на равных, у палача кружилась голова. Бывший прокурор встретил его как старого приятеля, обращался к нему так же, как к остальным, и самым внимательным образом слушал все, что он говорил. В искусстве, именуемом «умение жить в обществе», Ноблекуру не было равных.
— Как поживает господин Бальбастр? — желая угодить другу, поинтересовался Николя. — Довольны ли вы своим визитом к нему?
Ноблекур лукаво улыбнулся.
— Приношу вам его комплименты. С одним из его учеников я исполнил симфонический концерт для трио для флейты, скрипки и фортепиано. Моя партия была скорее второстепенной, нежели ведущей, а потому воздуха мне хватало. А наш приятель остался самим собой, то есть чрезмерно говорливым, чрезмерно… Просто ходячие рукописные новости!
— И вдобавок доброе сердце и безграничное милосердие, — саркастически произнес Николя.
— Да-да-да, в ваших возмущенных словах есть доля истины. Он постоянно обрушивался на Путо.
— Путо?
— Да, Путо, — ответил Семакгюс, — органист, играющий в церквях Сен-Жак-дю-О-Па и Фий-Дье, что на улице Сен-Дени. Кстати, недавно[7] я был в Опере на представлении «Ален и Розетта, или Невинная пастушка». Так как все сетуют, что «Орфей» слишком короток, следом показали эту пьесу. К счастью, представление почтила своим присутствием королева, иначе бы спектакль вряд ли сумели доиграть до конца, настолько велико оказалось недовольство публики. В самом деле, в нем скучно все — и либретто, и музыка.
— Итак, критическое настроение Бальбастра оправдано!
— Говорят, — робко промолвил Сансон, — что недавно прибывший в Париж знаменитый Пиччини[8] был принят господином Гретри. Говорят, он приехал примирить революционные преобразования в музыке с музыкой французской, оказавшейся на задворках. Руководство Оперы пыталось выяснить, не думает ли он основать у нас новое музыкальное направление, которое впитает все веяния времени.
— С такой музыкой, как у Путо, — изрек Семакгюс, — французская музыка, действительно, скоро скончается.
— Не стоит отчаиваться, — произнес Ноблекур. — У Бальбастра я встретил Коррета.[9] Почему в этой стране все время хотят истреблять и производить коренные перевороты? Новая кухня, новая музыка, даже новое рагу! Коррет, вот кто умеет заставить любить и изучать музыку. Ему мы обязаны музыкальными школами, открытыми для всех.
— Да, да, — насмешливо подхватил Семакгюс, — и чудесными учениками, которых маркиз де Бьевр называет «ослами Коррета»! К тому же этот ваш замечательный Коррет… Но могу ли я… боюсь, вы слишком возбудитесь…
— Давайте, говорите…
— …понимаете ли, сей человек, соединив итальянский кончерто с простеньким ветхим концертом французским, именует свой гибрид новым стилем!
— Ветхим! И вы осмеливаетесь говорить это у меня за столом! — воскликнул Ноблекур, силясь изобразить гнев. — Да вы настоящий анахорет, затворник из Вожирара!
— О, такого комплимента я не ожидал! Знаете, я уже слышу свою поминальную молитву: «Добрый старец, веселый анахорет, опочивший в состоянии возвышенной набожности после долгих лет умерщвлений плоти и ангельской жизни».[10] Разве это не мой портрет?
— А теберь, — очень кстати объявила Катрина, — озетр по-австрийски.
— Пойманный, разумеется, в Трианоне! — мрачно хмыкнул Бурдо.
Приступы язвительности друга всегда вызывали тревогу у Николя; впрочем, реплику инспектора не услышал никто, кроме него.
— Главное действующее лицо прибыло от герцога Ришелье, маршала Франции, одного из сорока членов Академии, — громогласно изрек Ноблекур; дружеское отношение старого царедворца всегда наполняло его счастьем и простодушным самодовольством.
— Действительно, академическая штучка, — заметил Семакгюс. — Но теперь наш хозяин будет злоупотреблять запахом.
— Он мстит мне, предатель!
— Ну же, Катрина! Рецепт, пожалуйста, рецепт!
— Брежде всего надо пыть знакомым с маршалом Франции, герцогом и… и гупернатором Гиени, где бротекает Гаронна, которая вбадает в Жиронду, где фодятся осетры!
— Какие глубокие познания в географии! Вот истинная ученица Лаборда!
— Я зтояла там бивуаком вместе с Королевским Пикардийским полком! Зима — замое лучшее время года тля приготовления этого кушанья, так как звежая рыпа брепывает бочтовой каретой. Вы упиваете педнягу, разрезаете на толстые ломти, извлекаете внутренности и шбигуете тонкими ломтиками шпика. Затем выкладываете глиняный горшок ломтиками сала и злоями кладете в него значала злой рыпы, затем нарезанных тоненько кусочков окорока, затем злой пелого хлепа, бассерованного в зливочном масле, и под конец злой зелени: петрушки, луковичек, мелко нарезанных грибов и пряных трав. Все закрыть крышечкой из бресного теста и поставить в духовку томиться, примерно часа на полтора.
— Могу ли я, о мой добрейший доктор, надеяться хотя бы на ложечку грибов?
— Согласен, но при условии, что вы отречетесь от ваших музыкальных пристрастий и начнете вместе со мной поклоняться Глюку, ибо:
Что сказать о моих вкусах? И Ифигения по мне, неплохи и Орфей с Альцестом, Но лучше всех, скажу вам честно, — Глюк, Ему свои пристрастья отдаю я!— Никогда! Лучше умереть от голода! Этот композитор не умеет создавать мелодии. Пока от ярости у меня не разыгралась подагра, предлагаю вам послушать рассказ о публичном оскорблении, нанесенном одной благородной девице на балу в Опере: осетр навеял мне это воспоминание.
— Черт побери, оказывается, даже пары нектара из Жаньера могут ударить в голову!
— Тихо, слушайте! Некий злобный заика подошел к сей девице на балу и стал рассказывать ей интимные подробности ее жизни, упомянув даже родимое пятно на ее левом бедре. Она позвала дежурного стражника. «Арестуйте эту маску, — говорит она, — она меня оскорбляет». Тут неизвестный снимает маску, и она видит перед собой маршала Ришелье, собственного отца!
— Ах, так вот почему мы опять заговорили о рыбе! Однако у девицы явно случилось что-то с носом, ибо, стоя рядом с маршалом, нельзя не почувствовать запах мускуса, которым всегда злоупотребляет сей господин!
— А где мои грибы? — напомнил Ноблекур. — Сегодня, в жирное воскресенье, я имею полное право — хотя бы в уплату за мою историю…
— Довольно, мир! — произнесла Катрина. — Я вам ботушила озетровые молоки со зливками. А вы знаете, какие они польшие…
— Черт возьми! Катрина, вы разбили мой передовой отряд еще в траншее! Вы знаете, чем угодить моему пациенту.
— Здесь принято превращать пиршество в турнир острословов, — шепнул Николя Сансону, не успевавшему за стремительным обменом реплик. — Сегодня еще нет Лаборда, самого доблестного бойца наших турниров.
— У него ум Вольтера, — промолвил Ноблекур, — и дурная слава председателя Сожака! А с молоками мне, увы, уже приходится отмечать пост!
— Не так уж и плохо для почтенного прокурора, — заметил Семакгюс. — Постная еда разжижает гуморы; вдобавок сей прокурор должен помнить, что именно непрерывное соблюдение диеты сохранит ему здоровье и долголетие. А дары Комуса и Бахуса предоставьте простым неблагоразумным смертным.
— Нет, вы только посмотрите, он еще смеется! Лицемер! О чем это он говорит?
Ужин завершился сладким «Островом любви», рецепт которого Николя услышал в детстве из уст английского офицера, взятого в плен после неудавшейся попытки англичан высадить десант в эстуарии реки Вилен и проживавшего под честное слово в замке Ранрей. Пюре из яблок соединяли со взбитыми в крепкую пену белками и подавали со смородиновым желе с сухариками.
Ноблекур поинтересовался мнением Николя о Бенджамине Франклине, посланце инсургентов из английских колоний в Америке.
— Сейчас модно, — заметил он, — иметь портретик Франклина на каминной полке, как некогда было модно ставить фигурки паяцев и Полишинелей. Я вот тоже жду, когда мои девушки принесут мне портрет этого господина в меховой шапке!
— Я нашел его необычайно воспитанным и очень сдержанным, особенно когда он говорит о своей стране; впрочем, он ею очень гордится и утверждает, что небо, приревновав к ее красоте, в наказание наслало на нее войну. Когда наши остроумцы стали выяснять его отношение к религии, они нашли в нем своего сторонника, то есть того, кто не исповедует никакой религии. Будучи крайне осторожным, он никогда не делает резких шагов. Сначала он скромно жил в Пасси, где к нему не ослабевал поток народу. Вскоре, следуя своему стремлению к уединенной жизни, он не только сумел остановить поток, но и переехал на улицу Университе, а потом на улицу Жакоб, в меблированные апартаменты особняка Амбур.
— А не говорит ли сейчас устами нашего доброго Николя полицейский? — спросил Семакгюс. — Как бы там ни было, этот американец мне нравится, сразу видно, великого ума человек.
— Или же потрясающего невежества, — кротко вставил Сансон. — Отрицать то, что не существует, означает вдвойне признать его существование, своего рода дань уважения порока добродетели!
Ноблекур зааплодировал.
— Браво! Прекрасное классическое толкование.
— О! — воскликнул Семакгюс. — Мне придется отступить, если наш друг получит поддержку самого господина старосты прихода Сент-Эсташ!
— Надеюсь, когда прибудет Наганда, он расскажет мне о нем поподробнее, — заметил Николя.
— Я очень уважаю вашего алгонкинского государя и очень ему признателен за то, что он спас вам жизнь, — заметил Ноблекур.
— Титул государя ничего не добавляет к делу…
Замечание Бурдо осталось без ответа.
— А вы спасли его от виселицы, — напомнил Сансон, обращаясь к Николя.
Требовалась большая смелость, чтобы произнести реплику, содержавшую намек на занятия палача. Николя поймал восхищенный взгляд Ноблекура: без сомнения, старый магистрат испытывал те же чувства, что и он сам, и его уважение к Сансону еще более возросло. Так как никто из сотрапезников не стал продолжать тему, воцарилась тишина. Нарушил ее Бурдо.
— Париж проникся пылкой любовью к поборнику свободы и республиканских идей.
— Свободы для кого? — проскрипел Семакгюс. — Для торговцев чаем, рабовладельцев-плантаторов, лавочников, для которых имеют значение только деньги?
— Лучше уж свобода, основанная на труде и способностях, чем та, что основана на рождении, свобода, при которой власть имущий всего лишь дает себе труд родиться. Даже вы желчно отзываетесь о родине знаменитого Франклина!
— Я просто хочу понять, что скрывается за высокими словами.
— О! — подал голос Ноблекур, стараясь задушить начавшуюся полемику в зародыше. — Мне кажется, гораздо большего внимания сейчас заслуживает вопрос, вступим ли мы в войну.
— Говорят, король не склонен начинать военные действия, — бросил Семакгюс.
— Действительно, есть о чем задуматься. Поддержать инсургентов означает вступить в конфликт с Англией. Если военная удача окажется на нашей стороне, мы рискуем оказаться в роли того, кто таскает каштаны из огня в пользу нового государства. Сегодня американцы увиваются вокруг нас, но что будет завтра, когда у них будут развязаны руки? Не станут ли они тогда заниматься исключительно собственными делами? Подумайте, что станет с нами, если мы дадим деньги безденежному должнику. Я не осмеливаюсь представить себе последствия неудачи. Мы уже потеряли наши колонии в Америке, в том числе и Новую Францию. А что будет тогда?
— Но, — робко предположил Сансон, — нельзя ли вернуть Канаду путем переговоров, дабы положить конец конфликту?
— Не стоит делить шкуру неубитого медведя… Если бы я был американцем, — промолвил Семакгюс, — то есть колоном, прогнавшим своего хозяина, я бы ни за что не потерпел возвращения прежних властей, ибо я не только выгнал их, но и истребил туземцев, помогавших этой власти.
— А вы, Николя, — продолжал Ноблекур, — вы всегда в курсе государственных тайн. Что вы об этом думаете?
— Что будучи в курсе государственных тайн, я обязан свято их хранить.
Он не хотел выдавать своих чувств по столь серьезному вопросу; он знал много, но всегда хранил должностные секреты при себе. В глубине души он удивлялся, как можно поддерживать мятежников, восставших против своего короля, и понимал, что для тех, кто призывал реформировать исконную систему управления королевством, победа мятежников станет лучшей поддержкой. Он лучше других сознавал, что война в столь отдаленных землях требует мощного флота. Сартин стучится во все двери в поисках денег, а директор Бюро финансов не прекращает ставить палки в колеса упорному министру, ибо полагает, что тот слишком расточителен. А если война начнется, ее надо выиграть во что бы то ни стало. Однажды, оправдывая военные приготовления, Верженн, исполнявший обязанности министра иностранных дел, сказал, что «только тогда, когда мы можем себе позволить не бояться войны, мы вправе быть уверены в прочном мире».
— Но дыма пока нет, — произнес Семакгюс, — значит, война начнется не завтра. Торговым судам приказано не заходить в территориальные воды мятежных колоний, однако король закрывает глаза на контрабанду.[11]
Бурдо усмехнулся.
— Разумеется, исключительно в силу данных распоряжений торговля между нашими Антильскими островами и Новой Англией быстро расширяется! Напрасно наши дипломаты пытаются утихомирить гнев англичан своими бредовыми ответами, за которыми кроется вполне понятная истина: кто сумеет избежать бдительного надзора, останется безнаказанным. Более того, власти тайком подстрекают негоциантов идти на этот риск и искать выгоду там, где они могут ее найти.
Кофе подали на столике в углу гостиной. Николя предложил сделать Помпадур.
— Вот он, истинный поклонник прежнего двора! — рассмеялся Семакгюс.
— Смейтесь, господа, сам покойный король во время ужинов в малых апартаментах научил меня готовить Помпадур.
На каждую чашку кофе он положил по чайной ложке, наполнил их кусочками сахара, затем пропитал все кусочки ромом, а потом, с помощью лучины, подожженной в огне камина, поджег сахар в каждой ложечке. Присутствующие завороженно наблюдали крошечные голубые язычки пламени, пожиравшие сахар, и тот расплавленными каплями падал в кофе. Результат получил единодушное одобрение и дал толчок новой беседе, тотчас перескочившей на тему военных приготовлений. В Англии подготовка к войне велась столь спешно, что команды торговых судов, пакетботов, каботажных судов и рыболовных баркасов нередко забирали на корабли военно-морского флота. На суше большинство вольных городов Священной Римской империи кишели английскими вербовщиками, особенно Гессен. В Бресте вербовали булочников для выпечки галет, необходимых в судовом рационе. Они бы еще долго перечисляли все, что сейчас активно обсуждалось в обществе, но неожиданно послышались торопливые шаги, и, раскрасневшись на морозе, появился Луи де Ранрей, в верховых сапогах и фраке цвета сухого листа. На голове у него был парик. Николя поразился переменам во внешности сына. Унаследовав телосложение от отца и надменную осанку от деда, маркиза де Ранрея, в свои семнадцать он выглядел зрелым мужчиной.
Он приветствовал друзей отца как старых знакомых; его представили красному от волнения Сансону, и Луи, сказав ему витиеватый комплимент, наконец, бросился в объятия отца, которого не видел с самого Рождества. Катрина и Марион засуетились, предлагая ему как следует подкрепиться. Но он съел всего лишь маленький «Остров любви» и выпил стакан жаньерского. Взволнованный, Николя с наслаждением наблюдал за изысканными манерами сына и только потом спросил, чему он обязан его столь неожиданному появлению.
— Когда я нес службу в покоях королевы, ее горничная, госпожа Кампан, чем-то очень взволнованная, отозвала меня в сторону и велела немедленно мчаться в Париж и передать вам вот это письмо. Я побежал в конюшню, вскочил в седло и галопом помчался…
И он достал из внутреннего кармана жилета запечатанный лист бумаги.
— Королева отпустила вас?
— Она поручила мне напомнить вам о «Компьеньском рыцаре»…
Николя улыбнулся, вспомнив свою встречу с дофиной, только что прибывшей во Францию.
— Это наш небольшой секрет.
Взломав печать с буквой С, он развернул письмо и прочел:
«Господин маркиз,
Господин Тьерри, первый служитель королевской опочивальни, советует мне обратиться к Вам по поводу дела, где под угрозой находятся весьма важные интересы. Я знаю, Вам можно доверять, поэтому прошу господина де Ранрея, Вашего сына, безотлагательно доставить Вам это послание. Буду Вам очень обязана, если Вы немедленно прибудете в Версаль, дабы выслушать подробности деликатного дела, кое я собираюсь Вам доверить.
Остаюсь, господин маркиз, Вашей смиренной и почтительной служанкой,
Жанна Кампан».Какую новую тайну скрывало это приглашение? Упоминание о Тьерри, первом служителе королевской опочивальни и доверенном лице короля, успокоило его. Этот человек не станет никуда вмешиваться без согласия на то своего повелителя. Самое любопытное — это выступление в роли посредника госпожи Кампан. Он был с ней знаком. Ее отец, чиновник по ведомству иностранных дел, тщательно следил за ее образованием. В пятнадцать лет прибыв ко двору, она стала чтицей дочерей покойного короля, но вскоре перешла на службу к дофине в качестве горничной, чтицы и казначея ее личных денег. Ее супруг заведовал гардеробной графини д’Артуа, невестки Марии-Антуанетты.
За спешкой, из-за которой его сыну пришлось везти письмо ночью, он с тревогой предугадывал драму с далеко идущими последствиями. Сев за маленькую конторку, он написал записку Ленуару, начальнику полиции, предупредив его, что отбывает ко двору, и доверил передать записку Бурдо, объяснив, почему не может сделать этого сам. Вечер закончился. Взяв факел, он проводил друзей до порога. Сансон сел в собственный экипаж, Семакгюс — в экипаж, которым Николя пользовался весь вчерашний день.
Вернувшись в библиотеку, он услышал голос Ноблекура, доносившийся из кабинета редкостей.
— Каждый вечер я прощаюсь с вещами, к которым некогда воспылал страстью. У каждой вещи есть своя история, связанная либо с ее приобретением, либо с ее собственным происхождением. Сейчас настал тот период моей жизни, когда надобно учиться расставаться с предметами, чья история будет продолжаться уже без нас. Но наши взгляды вдохнули в них свою, особую жизнь, ту, которую дали им мы. После нас им припишут иные свойства…
После такого заявления наступила волнующая тишина. Николя подошел к бывшему прокурору.
— Полно! Разве можно быть таким мрачным? Какой грустью вы наполните сердце юного кавалера? Как можно, чтобы столь приятный вечер завершился такими черными мыслями?
— Можно, господин духовный наставник. Именно радость, обретенная сегодня вечером, побудила меня вновь осмотреть все то, что когда-нибудь мне суждено покинуть. И в эту минуту я хочу сожалеть только о друзьях…
Обняв за плечи отца и сына, он крепко сжал их обоих.
— …которых — хочу вас успокоить — я намерен покинуть как можно позже.
Прежде чем закрыть дверь, он бросил последний взгляд на свои сокровища, озаренные светом горящей в руках Луи свечи.
— В сущности, мой кабинет редкостей один из самых скромных. В свое время я посетил такой же кабинет герцога де Сюлли, располагавшийся в бывшем особняке Ледигьер. Стены четырех комнат на втором этаже были сплошь завешаны изображениями животных, рептилий, бабочек; рамки висели как нельзя плотно друг к другу. В кабинете китайских редкостей, куда вели никогда не запиравшиеся двери, красовались вазы из горного хрусталя, фарфор, изделия из кораллов и слоновой кости, огромные раковины наутилуса, оправленные в золоченое серебро, бронзовые статуэтки и старинные медали. У него были даже части мумии.
Он вздохнул.
— Люди тратят на коллекции целые состояния, но даже то немногое, что удается найти, трудно превратить в единое целое! Промежуток между тем временем, когда ты еще слишком молод и когда ты уже слишком стар, очень краток. Взгляды каждого со временем меняются, и нельзя прерывать эту цепочку. Довольно! В конце концов, я лицо привилегированное: я всегда знал, когда ко мне приходило счастье. И, в отличие от многих, мне повезло, что в старости у меня есть друзья.
Николя сообщил о своем срочном отъезде в Версаль: завтра в семь утра придворная карета отвезет его туда вместе с Луи. Юноша церемонно поклонился хозяину дома. Ноблекур поинтересовался ходом расследования. Узнав, что им удалось выяснить, он нисколько не удивился.
— Судьба в который раз не желает упрощать вам задачу, — заметил он. — В полнейшей неуверенности в истинности имеющихся фактов ощущается стремление замаскировать нечто, пока еще неведомое. А если говорить о вашем друге Сансоне, то, черт возьми, он мне еще больше понравился. Несмотря на щекотливость своего положения, он сумел проявить недюжинную скромность и искренность. Вот уж действительно, своеобразная судьба, и ее особенность заключается в том, что здравомыслие мстит за презрение исключительно достойным поведением. Его доброжелательность идет от сердца, без подвохов, каких следовало бы ожидать в его незавидном положении.
Каждый отправился к себе. Николя, решив пожелать сыну доброй ночи, поднялся к нему в комнату, ту самую, которая долгое время служила спальней ему самому. Комната оказалась пуста, кровать не смята. Он с улыбкой покачал головой.
Глава IV ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Каждый, кто едет в Версаль, уверен, что едет ко двору и там его примут.
ДюклоПонедельник, 10 февраля 1777 года.
Что это за пышный бал? Он не помнил, чтобы кто-нибудь приглашал его сюда. Может, он сопровождает королеву? Внезапно он заметил Эме д’Арране, присевшую в глубоком реверансе, как того требовала фигура танца. Ему показалось, что она заговорщически подмигивает своему кавалеру. Неужели его вновь одолевают навязчивые мысли? Он захотел подойти к ней, но не смог сдвинуться с места: ноги отказали ему. Посмотрев вниз, он обнаружил, что паркет покрыт какой-то густой липкой массой, напоминавшей смолу. Перед ним появился некий субъект в пышном костюме.
— А, господин маркиз! Разве вы не знаете, что нынче молодые женщины предпочитают фараон и бириби?[12] Вот две игры, в которые мы играем во время карнавала, и за них мне гораздо более признательны, чем ежели бы я дал еще два роскошных бала!
Он усмехнулся, и по этой усмешке Николя комиссар узнал его. Он попал на улицу Гренель, в особняк Бонак, а его собеседник был не кто иной, как граф Крейц, посланник шведского короля в Париже.
— Если вы хотите выйти, — произнес граф, распахивая окно, — веревка готова.
Николя подошел к окну, вскочил на подоконник, схватился за веревку и спрыгнул в пустоту. Пытаясь упереться ногами в стену, он почувствовал, что веревка дрожит, как если бы вверху кто-то пытался ее перерезать. Его охватил страх. Он крутился, вцепившись руками в жалкое вервие. Чувствуя, что веревка поддается и он вот-вот рухнет на каменную мостовую, он с ужасом ждал неизбежного конца… Сверху на него в упор смотрело ярко нагримированное лицо. Где он видел его раньше?..
— Отец, пора собираться.
В изумлении увидев перед собой лицо Луи, он почувствовал, как его сковала судорога и пальцы впились в ладонь. Снова Морфей, этот насмешливый утренний божок, сыграл с ним злую шутку.
— Который час?
— Пять утра, отец. Через полчаса нас будет ждать экипаж.
Николя заметил, что проведенная, как он полагал, без сна ночь нисколько не отразилась на молодом человеке. В этом возрасте бессонные ночи почти не оставляют следов. Эта мысль привела его в некое замешательство.
— Вы не ночевали дома.
Он ни о чем не спрашивал, просто говорил как равный с равным.
Луи лукаво посмотрел на него.
— А вы отправили за мной своих шпионов?
— О, если бы! — с такой же улыбкой ответил Николя. — Тогда бы мне не пришлось задавать тебе нескромные вопросы.
— Значит, надо отвечать, даже если придется нарушить другое обещание, столь же священное, как священна для меня ваша воля.
Николя задумался: с кем и каким обещанием мог быть связан его Луи? Чей авторитет был в глаза его столь же велик, как авторитет отца? Правду говорят, сыновья старят отцов задолго до наступления старости.
— Но скажите мне, ради всего святого, что за власть поставила вас перед таким выбором? Насколько мне известно, вы никогда не страдали от отсутствия здравого смысла.
Он не любил семейные перепалки, воскрешавшие в нем его детские горести и угрызения, особенно когда он вспоминал свою последнюю встречу с отцом в замке Ранрей.
— Такая, какую вы, полагаю, готовы признать: власть матери над сыном.
— Власть матери? Что это значит?..
Его внезапно охватило странное чувство.
— Моя мать сейчас в Париже, и я всю ночь проговорил с ней, рассказывая о себе и о…
Нежная усмешка промелькнула на его губах.
— …и о вас, отец мой, ибо она очень за вас волнуется.
Николя хотел сказать, но сын быстро схватил его за руку.
— Нет, не говорите ничего, дайте мне рассказать все до конца. Два дня назад, будучи в Версале, я получил письмо, где мать сообщала мне о своем приезде в Париж. Она приехала, чтобы закупить кружева для своей модной лавки в Лондоне. Ей очень хотелось обнять меня, но она не желала стеснять меня своим присутствием. Поручение госпожи Кампан предоставило мне возможность встретиться с ней.
— И где она остановилась?
— Не знаю, надо ли…
Похоже, сын не склонен раскрывать свои секреты.
— Впрочем, довольно. Вы и так сказали достаточно, к тому же у меня есть возможность самому это узнать. Ваша мать дорога мне, и я не прощу себе, если, зная, что она здесь, не попытаюсь увидеться с ней.
Его слова обрадовали сына.
— Она еще три дня будет жить на улице Бак, там, где прежде была ее лавка, теперь принадлежащая новым владельцам.
— Значит, у нас есть время съездить в Версаль. Я вам очень признателен, Луи, за вашу искренность. Будьте уверены, ваша мать непременно оценит ее, и я сделаю для этого все возможное.
Оставшись один, он под неодобрительным взором Мушетты, которая, в предчувствии его отъезда, укоризненно мяукала, быстро справился с туалетом. Вскоре появился Пуатвен, а за ним с трудом волочащий лапы Сирюс; слуга доложил, что карета на подходе. Через несколько минут отец и сын, борясь с ледяным ветром, пересекли утопавшую во мраке улицу Монмартр и сели в карету.
Новость, сообщенная Луи, требовала тщательного осмысления. Закрыв глаза, Николя снова увидел перед собой страдальческое лицо Антуанетты, представшее перед ним в нижней галерее Версаля. В тот день он был холоден и раздражен и с тех пор не переставал винить себя за это. На самом деле ему не в чем было ее упрекнуть, разве только за то, что она долго скрывала от него существование Луи. Но даже это она сделала, заботясь о нем, ибо не хотела навязывать ему сына. Жизнь сыграла с нею злую шутку, заставив ступить на кривую дорожку, однако при первой же возможности она вновь встала на праведный путь. Всегда держась на расстоянии от порока, она среди превратностей судьбы сумела сохранить чистоту. Отойдя в сторону, она добровольно согласилась со всеми условиями, выдвинутыми Николя, склонилась перед его волей. Она всегда умела справляться с трудностями, не теряя ни чести, ни прямоты. Тогда в чем заключается его превосходство, которым он невольно хвастался перед ней? Его отправили в Париж, не спросив его желания; он остался и стал своим в мире власть имущих. Очень скоро он познакомился с изнанкой этого мира. Величественные здания не вводили его в заблуждение: за их пышными фасадами, как и всюду, процветало преступление. Если он навсегда запретил своему критическому уму судить о поступках короля, то, сталкиваясь с преступлениями, совершенными сильными мира сего, он не мог не соглашаться с самой едкой критикой Бурдо.
Сегодня, когда он пользовался привилегией рождения, преимуществами должности, а также особой близостью к королю, он продолжал задаваться вопросом: а чувствует ли он свою принадлежность к придворному обществу? Он с легкостью усваивал правила политеса, привычки, обычаи, иногда даже находя в этом удовольствие. Не отличаясь ни особой сдержанностью, ни скрытностью, он всегда сохранял дистанцию; не приемля ни лицемерия, ни надменности, ни напыщенности, он сумел сохранить в чистоте душу, не идя на компромиссы. Он дал себе труд быть собой, а остальное за него сделала судьба. Всем, чем наделила его природа, он обладал в избытке, хотя он и не просил об этом.
Он внимательно относился к окружающим, но его сочувствие шло рука об руку с отчужденностью и одиночеством. Не обделенный счастьем, он не привык на него рассчитывать, хотя иногда пытался удержать его или поймать на лету. Счастье всегда являлось неожиданно и пребывало эфемерным, словно ослепительный луч солнца. Осознав, что от размышлений об Антуанетте он незаметно перешел к мыслям о самом себе, он упрекнул себя за эгоизм.
Резвые лошади размеренно трусили в утреннем мраке; выпавший снег заглушал стук колес и смягчал тряску. Николя не открывал глаза. Хотел ли он таким образом избежать разговора с сыном, сообщившим ему о приезде в Париж Антуанетты? Он и сам не знал. Чем старше становился Луи, тем чаще беседы их сводились к легкой болтовне о лошадях, конюшне, охоте и придворных новостях. Разумеется, он продолжал щедро одаривать сына советами, но сейчас сын жил в Версале и имел собственных начальников, которым не мог не подчиняться. Теперь оба зависели от своих обязанностей по службе, и эта сходство положений могло не только послужить темой для разговора, но, возможно, и упростить их общение. Он часто сравнивал свои отношения с Луи с отношениями, которые когда-то установились у него с маркизом де Ранреем. Маркиз всегда отличался безоговорочностью суждений и не терпел ни возражений, ни дискуссий. Сурово произнесенное слово воина обладало непререкаемостью истины. С собственным сыном Николя не мог использовать подобный образец поведения, ибо он не соответствовал его характеру; вдобавок он до сих пор неуверенно чувствовал себя в роли отца, доставшейся ему достаточно поздно.
Что мог он внушить чувствительному юноше, делающему первые шаги в самостоятельной жизни, тем более если эта жизнь, блистательная и полная опасностей, проходит при дворе, излюбленном пристанище лицемеров и капканов? И все же их объединяла взаимная привязанность и молчаливая поддержка, более красноречивая, нежели самые громкие слова; при этой мысли он улыбнулся. Неожиданно Луи вскрикнул и, забарабанив в переднюю стенку, чтобы кучер остановил лошадей, высунулся из окна. Николя приподнялся, но тут же тяжело упал на сиденье: карета дернулась и резко остановилась. В окошко доносились ржание, крики, гомон и щелканье кнутов.
— Эй, что там? Что случилось?
— Придворная карета, отец. У нее отлетело колесо. Мы же не оставим их без помощи?
— Пойдем посмотрим. Только будь осторожен.
Карета, с которой приключилась поломка на обочине дороги, часто являлась ловко замаскированной ловушкой, поэтому в подобных случаях комиссар предпочитал проявлять бдительность: за семнадцать лет службы он не раз попадал в такую западню. Так что прежде чем выйти из кареты, он убедился, что маленький пистолет, подарок инспектора Бурдо, не раз спасавший ему жизнь, находится на своем месте, а именно под крылом треуголки. Спрыгнув на землю, Луи, а следом и Николя моментально увязли в снегу. Пока разгребали снег, к ним на взмыленных конях подскакали два всадника в запорошенных снегом плащах и угрожающе наставили на них пики.
Вглядевшись в завалившийся набок кузов, Николя различил на дверце герб Франции. Часто бывая во дворце, он узнал в лицо одного из всадников, лейтенанта из роты личной гвардии короля. Очевидно, он эскортировал карету кого-то из членов королевской семьи. Твердой рукой удержав Луи, комиссар обратился к всадникам:
— Добрый вечер, точнее, добрый день, господа! Я маркиз де Ранрей, а это мой сын Луи, паж Большой конюшни. Можем мы чем-нибудь помочь вам?
Он назвал свой титул и знатное имя, под которым его знали при дворе.
— Я вас знаю, господин маркиз. Ваш слуга! Мы сопровождаем ее величество, но у кареты неожиданно сломалась ось и отскочило колесо.
— На помощь! — раздался женский голос. — Королеве дурно!
Двое гвардейцев, не справляясь с конями, натягивали вожжи, но кони продолжали топтаться на месте, взбрыкивали и мотали головами. Устремившись к упавшей карете, комиссар и его сын помогли молодой женщине в роскошном бальном платье и в маске выбраться наружу. Коснувшись снега ножкой в легкой туфельке, она издала сдавленный визг, напоминавший жалобное мяуканье, и запрыгала на месте, словно воробей. Заглянув в карету, Николя увидел королеву; она уже пришла в себя после обморока. Узнав Николя, она с улыбкой протянула ему руку, холодную даже через шелк перчатки. Зябко поводя плечами и распространяя вокруг себя запах жасмина, Мария-Антуанетта приподняла голову, увенчанную высокой прической.
— Сударь, мне очень приятно, что именно вы пришли мне на помощь.
— Смею надеяться, — произнес Николя, — ваше величество не пострадали?
Она улыбнулась и с его помощью выбралась из кареты. Затем он достал из кузова голубую шелковую накидку, и королева тотчас набросила ее на плечи и надвинула капюшон, скрывший ее бледное лицо. Подошел лейтенант, ведя на поводу усмиренную лошадь.
— Я пришел за приказаниями, ваше величество. В такой час мы не найдем ни одного каретника, а сами мы вряд ли сможем починить экипаж. Поэтому предпочтительнее…
— А что предлагает господин де Ранрей? — перебила его королева. — Всем известно, он мастер давать полезные советы.
— Если ваше величество не против, вы вместе с вашей придворной дамой могли бы занять место у меня в карете.
— Мы не покинем королеву, — сказал старший офицер. — Об этом не может быть и речи.
Королева недовольно поморщилась.
— Решение очень простое, — объяснил Николя. — Королева и сопровождающая ее дама займут места в моей карете, один из вас сядет рядом с кучером, другой встанет на запятки. А мы с сыном возьмем ваших лошадей и верхом поедем в Версаль.
Королева кивнула в знак согласия, пресекая тем самым любые дискуссии и возражения. Николя проводил королеву к карете, Луи оказал ту же услугу придворной даме. Опустив капюшон еще ниже, королева прошептала:
— «Компьеньский рыцарь» всегда появляется вовремя. Отныне у нас есть два наших дорогих Ранрея! Госпожа Кампан ждет вас. И я тоже…
Карета тронулась с места, и лошади быстро взяли в галоп. Николя пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить предоставленных им коней; возбужденные дорожным происшествием, животные не хотели повиноваться незнакомым всадникам. Тогда Николя, положив руки им на морды, по очереди пошептал им что-то на ухо, и кони на глазах у удивленного сына успокоились. Не спеша они тронулись в путь, стараясь избегать наледей и рытвин, столь опасных для всадников. Прибыв на Оружейную площадь, они отвели коней в Большую версальскую конюшню. Хотя Луи и валился с ног от усталости, он все же нашел силы объяснить отцу, почему королева оказалась на Версальской дороге в неподобающее для ее величества время.
В жирное воскресенье, последнее воскресенье перед началом поста, она решила еще раз посетить бал в парижской Опере и из ложи герцога Орлеанского полюбоваться масками и танцами. Николя знал, что тихие придворные забавы были ей скучны, поэтому она искала подвижных развлечений на стороне. Катание в санях, охота в ближних лесах и особенно ночные выезды в столицу порождали множество толков и слухов. Вдобавок за эти развлечения королеве часто приходилось расплачиваться насморками, к счастью, без тяжелых осложнений. Посланник императрицы Марии-Терезии Мерси д’Аржанто, который после поездки Николя в Вену охотно поверял ему свои тревоги, жаловался, что королева постоянно забывает о мерах предосторожности, а на балах в Опере и вовсе разговаривает с кем попало, танцует с подозрительными молодыми людьми и ведет себя вольно и непринужденно.
Прежде чем приступить к исполнению обязанностей пажа, Луи, попрощавшись с отцом, отправился немного отдохнуть, Николя прошел дворик, именуемый «Лувром»[13], где уже вовсю обсуждали утреннее происшествие. Его все знали, поэтому он прошел беспрепятственно, задержавшись только, чтобы спросить, надобно ли ему присутствовать при малом выходе короля. Потом он отправился в Зеркальную галерею и бродил там до тех пор, пока не настал час, когда, в согласии с требованиями приличия, можно отправляться на аудиенцию к королеве. Он понимал, что его хочет видеть не только госпожа Кампан, но и сама Мария-Антуанетта. Запах жареного лука защекотал ему ноздри и довел его до прихожей «Бычий глаз», откуда можно было понаблюдать за тем, что происходит в апартаментах короля. Огромного роста широкоплечий швейцарец приветствовал его, как приветствуют своего и вдобавок уважаемого человека во дворце; швейцарец жил здесь, обедал и спал. Простая ширма загораживала его кровать и стол, равно как и жаровню, где он готовил себе пищу. Он никогда не покидал своей позолоченной пещеры и четко знал, когда и какие из девяти внушенных ему слов следует произносить: «Проходите, господа, проходите!», «Король, господа!», «Отойдите, входа нет, сударь». При звуках его громкого голоса плотные толпы придворных, устремивших взор на его широкую руку, лежавшую на позолоченном шарике дверной ручки, становились либо еще плотнее, либо рассеивались.
Ждать пришлось долго. Из-за позднего возвращения королевы малый прием и одевание, во время которого она принимала лиц, имевших право присутствовать при ее туалете, откладывались. Завершив прием, ее величество обычно отправлялась во внутренние комнаты, где встречалась с друзьями, а главное, со своей модисткой Розой Бертен для обсуждения и примерки новых нарядов. Сидя в кордегардии, Николя видел, как прошла модистка, а следом за ней госпожа Полиньяк. Госпожа Кампан появилась около девяти; она указала ему место на скамьях, протянувшихся вдоль стен огромного зала.
— Простите, господин маркиз, здесь нам будет удобнее и не придется опасаться лишних ушей. После нашей беседы вас примет королева. Честно говоря, даже не знаю, с чего начать…
Она теребила в руках кусок малиновой ленты.
— …Дело очень деликатное, что оправдывает срочность письма, которое ваш сын любезно согласился вам доставить. С чего же начать?
— Сударыня, если хотите знать мое мнение, расскажите мне все просто и без прикрас, словно мы с вами, удобно устроившись у камелька, обсуждаем последние сплетни.
Он чувствовал, что, несмотря на твердый характер, позволявший ей безо всякого снисхождения выговаривать сумасбродному окружению королевы, несмотря на известное влияние на свою госпожу, обязанное как постоянству привычки, так и ее безоговорочной преданности, она никак не может решиться начать разговор.
— От вас ничто не ускользает ни при дворе, ни в городе; могу я спросить, знаете ли вы некую госпожу Каюэ де Вилле?
Николя задумался: он уже где-то слышал это имя. Действительно, в последние годы царствования Людовика XV досужие языки долго обсуждали интриганку с таким именем, сумевшую мошенническим путем получить значительные суммы. Обладая прекрасными манерами, она благодаря своей потрясающей наглости втиралась в доверие к состоятельным людям. Выдавая себя за любовницу короля, она утверждала, что только опасение рассердить официальную любовницу, графиню дю Барри, лишает ее возможности открыто пользоваться своим положением. Она регулярно ездила в Версаль, где тотчас скрывалась в меблированных комнатах дешевой гостиницы, в то время как все думали, что ее призвали ко двору по причине, называть которую вслух не принято. Сартин, бывший в ту пору начальником полиции, установил за ней наблюдение. Благодаря супругу она завела знакомства среди сильных мира сего. Когда же супруг потерял место начальника одного из отделений в департаменте иностранных дел, то, хитрая и изворотливая, как сам дьявол, она не постеснялась соблазнить нескольких министров и сумела втереться в доверии к честному аббату Террэ, тогдашнему генеральному контролеру финансов, и тот назначил ее супруга генеральным казначеем королевского дома.
— Муж и жена. И у обоих одинаковая репутация.
— Какая же?
— Очень дурная.
— Ваш ответ упрощает задачу. Вы знаете Розу Бертен?
— Кто ее не знает? Достаточно только поглядеть на платье королевы, как тотчас вспоминаешь о ней. Я видел, как она только что прошла во внутренние покои.
— Так вот, представьте себе, она стала жертвой этой Каюэ де Вилле! Мошенница научилась подделывать почерк королевы и втайне использовала эти фальшивки самым бесчестным образом. Она получала так называемые поправки, деньги, возникающие при пересчете сумм на заказы, предъявляя модистке от имени королевы записочки собственного изготовления. Когда мадемуазель Бертен показала мне ворох этих записочек, мне, к великому моему сожалению, пришлось сообщить ее величеству, как злоупотребили ее именем и ее подписью. И…
— И что же?..
Госпожа Кампан помолчала.
— Уже не в первый раз сия дама выставляет себя не в лучшем свете. Так, мой муж, господин Кампан, несколько раз встречал ее у господина Сен-Шарля…
— Я с ним не знаком.
— Габриэль де Сен-Шарль — интендант финансов, обладающий привилегией каждое воскресенье присутствовать на приеме в спальне королевы и, как я полагаю, любовник сей дамы. Вышеупомянутая дама сделала копию портрета королевы и попыталась через моего мужа убедить меня показать ее работу ее величеству. Представляете, какова дерзость! Наслышанный о ней, господин Кампан решительно отказался исполнить ее просьбу. Так вот, спустя немного времени он увидел, что этот портрет стоит на канапе у королевы. Интриганка достигла цели при посредничестве принцессы де Ламбаль! К счастью, королева отослала его назад, посчитав его несовершенным и практически не передающим сходства.
— И спутала карты аферистки, тем самым положив конец ее карьере?
— Нет! Мы узнали о других темных делишках, лишний раз подтверждающих ее неслыханную дерзость. Господин Бас, ювелир, намерен предъявить к оплате векселя за драгоценности, якобы заказанные для ее величества. Говорят о какой-то инкрустированной шкатулочке, о табакерке с портретом Генриха IV и кошельке с серебряным шитьем. Ювелир намерен отстаивать свои права. Вот о каких печальных обстоятельствах я хотела поговорить с вами, сударь.
— А что думает обо всем этом королева?
— Увы! Став жертвой злоупотреблений, она лишь попросила вразумить виновницу. Я в отчаянии.
— И тем не менее она одобрила ваше обращение ко мне. Она знает о нашей беседе…
— Да… Однако имеется некое недоразумение, которое я не могу понять.
— Как бы там ни было, ваши опасения совершенно справедливы. Поверьте, я непременно объясню королеве, какому риску она подвергается, оставляя все как есть. Но если она решит проявить снисхождение, я не смогу пойти против ее воли.
— О, я все понимаю. Но зная, что вы в курсе этих историй, я буду чувствовать себя спокойней. Вы, полагаю, смогли бы издалека наблюдать…
— Разумеется, сударыня, только издалека. Успокойтесь, я сделаю все возможное.
Из апартаментов королевы высыпала толпа придворных, и госпожа Кампан встала со скамьи. К Николя подошел паж и сказал, что королева ждет его. Они пошли во внутренние покои. Ходил слух, что королева недовольна тем, что реконструкция ее апартаментов продвигается слишком медленно. Николя, знакомый со многими дворцовыми закоулками, плохо разбирался в лабиринте комнат женской половины. Паж провел его мимо парадной спальни, туда, где начиналась лестница в туалетную и гардеробную антресольного этажа, затем провел через аттик[14], в маленькую прихожую, где недавно устроили бильярдную, и дальше, в комнату, временно оборудованную под библиотеку; обращенные на юг окна комнаты выходили на двор.
Ничто, кроме домашнего платья и не уложенных в прическу волос, не указывало, что королева провела бессонную ночь. Ей же всего двадцать три, подумал Николя. Мария-Антуанетта сосредоточенно катала бильярдный шар; заметив, что вошел Николя, она бросила шар на сукно, тот покатился, разбил собравшиеся в кучку шары и вернулся в руки хозяйки.
— Ах, сударь, я ждала вас, — произнесла она, вертя в руках бильярдный шар.
— Я к услугам вашего величества.
— Я знаю, вы только что это снова доказали.
Николя отметил, что она по-прежнему делает ошибки во французском языке, хотя по сравнению с тем, как она говорила семь лет назад, когда только что приехала во Францию, она заметно преуспела в языке.
— …Вы выслушали госпожу Кампан?
— Да, ваше величество.
— И что вы скажете об этом деле?
— Мой ответ зависит от степени доверия ко мне вашего величества. Есть поступки, которые нельзя ни забывать, ни прощать. Осмелюсь утверждать, что королева должна себя вести осмотрительнее. Подделка подписи монарха является оскорблением величеств. Махинации этой женщины грозят расшатать основания трона.
Королева гордо вскинула голову.
— Кто осмелится угрожать мне и на чем основано ваше заявление, сударь?
— Пусть королева поймет меня правильно. При дворе и в городе есть множество лиц, настроенных неблагожелательно к вашим величествам. Уже много лет мне приходится иметь с ними дело!
— Вы считаете, я об этом не знаю?
— Тогда, рискуя вновь вызвать неудовольствие вашего величества, скажу, что вам следует действовать со всей строгостью и не бояться досужих разговоров…
Она так встрепенулась, что он решил, что в искренности своей зашел слишком далеко; однако это оказался жест не гнева, а отчаяния.
— Увы, сударь, что могу я сделать, если я даже не знаю, как выбраться из ловушки, куда я сама себя загнала? Я взываю к вашей преданности. Помогите мне.
— Однако моя преданность не безгранична, и я обязан предупредить об этом ваше величество.
— Что вы такое говорите, сударь?
— Вы можете полностью положиться на мою скромность, за исключением тех случаев, когда дело касается…
— Кого же?
— Короля, сударыня, короля, которому я принес клятву верности и обязался помогать, насколько хватит моих сил. Я поклялся на реликвиях святого Ремигия накануне церемонии коронации в Реймсе.
— Сударь, — с таким чувством произнесла королева, что Николя с трудом сдержал слезы умиления, — ах, я до сих пор вас не знала. Скажите, разве я могу довериться кому-либо другому, кроме вас? Знайте, королю известны все мои слабости. Он в курсе моего пристрастия к азартным играм… Он оплачивает мои проигрыши… столь… значительные этой зимой.
Она повернулась к окну и, устремив взор вдаль, надула губки, словно капризный ребенок.
— Я прибегла к посредничеству госпожи Каюэ де Вилле для получения ссуды из казначейства. Мои долги достигают четырехсот тысяч ливров. Я попросила ее раздобыть мне двести тысяч. Тогда я смогла бы поручиться, что выплачу остальные.
Он молчал, угнетенный открывшимися перед ним мрачными перспективами. Королева, позволившая себе добровольно ринуться в расставленные ей сети… о, сколько всего сможет теперь натворить эта интриганка!
— Так что вы понимаете, сударь, что снисходительность моя происходит отнюдь не от природной склонности, а из осторожности. Я отдаю себя в руки «кавалера из Компьеня»: теперь ему предстоит восстановить равновесие.
— Я сделаю все, что будет в моих силах. Смею надеяться, что слух об этом деле еще не прошел.
— Увы, если эта дама найдет деньги, она не станет прятаться…
— Сударыня, вам следовало бы отказаться от крайних способов…
— У меня много врагов, — помолчав, сказала она. — Вы знаете аббата Жоржеля? Это рука и жало принца Рогана, он пользовался этим жалом, когда был послом в Вене.
— Во время моей поездки в Австрию господин де Верженн и барон де Бретейль предостерегали меня против махинаций этого господина. По его вине я пережил немало неприятных минут…[15] И это еще мало сказано.
— Принц Роган, желая заполучить наследство монсеньора де Ларош-Эмона, а именно место главного раздатчика милостыни при особе короля, в качестве подкрепления своих притязаний выдвинул устное полуобещание короля, данное господину де Субизу и госпоже де Марсан, той самой, привязанность к которой его величество питает с самого детства. Когда стало ясно, что дни прелата сочтены, вся клика Роганов громко потребовала для кардинала нового поста…
Она возмущенно вскинула голову.
— Если это случится, для меня это будет большим несчастьем, ведь мне придется выносить его дерзости и интриги, от которых страдала моя матушка, когда он был послом в Вене. А зная себя, я не смогу не выказывать ему своего отвращения, ибо питаю к нему совершенно непреодолимую неприязнь. Относительно аббата мне известно, что в свое время его использовали для написания подложных писем за подписью императрицы… Он станет душой, действующим лицом и распорядителем клики, жертвой которой был и остается Бретейль, клики, презирающей меня, свою королеву, и не доверяющей мне.
— Я не могу поверить, что мошенница дерзнула обратиться к королеве, — произнес Николя.
— И правильно не верите, сударь, — бросила она, заливаясь краской. — Это господин де Сен-Шарль, интендант финансов, имеет доступ в мои апартаменты, и именно через него была передана просьба, без каких-либо предварительных переговоров.
— Теперь мне становится понятно. Пусть ваше величество успокоится. Все не так уж плохо, и дело не столь запутано, как кажется на первый взгляд.
— Да услышит вас Господь, сударь! — воскликнула она, протягивая ему руку для поцелуя.
Внизу возле малой лестницы его ожидала госпожа Кампан, надеявшаяся — как оказалось, напрасно — выяснить у него подробности разговора.
— Еще один вопрос, сударыня, — промолвил Николя, внезапно охваченный неким озарением. — Сколько раз королева прибегала к услугам госпожи Каюэ де Вилле?
Он не раз убеждался, что на вопрос, заданный так, словно ты уже знаешь ответ, начинал бить фонтан истины.
— О! Два или три раза, в моем присутствии. Один раз — во время большого утреннего приема, и дважды — во внутренних покоях.
В кордегардии лакей в голубой ливрее, дернув его за рукав, сообщил, что господин де Сартин ждет его у себя кабинете в министерском крыле. Подобное приглашение пробудило в нем раздражение. У Сартина на все всегда имелись объяснения и причины. Бывший начальник, видимо, полагал, что Николя все еще находится у него под началом, поэтому, каковы бы ни были нынешние обязанности бывшего подчиненного, он, не моргнув глазом, мог в любое время призвать его к себе. Вызовами, более всего напоминавшими приказы, Сартин, как чувствовал Николя, проверял на прочность связующую нить, сплетенную их долгим сотрудничеством и чувством признательности со стороны комиссара. Ждать Николя не пришлось: его немедленно провели к Сартину; видимо, служащих предупредили о его визите. Сартин сидел за письменным столом и что-то писал; его склоненное лицо скрывали букли длинного парика, который Николя прежде не видел. Наконец Сартин поднял голову и откинул назад крылья парика. Прищурившись, Сартин вопросительно уставился на него; тонкое лицо министра, казалось, усохло окончательно. Несмотря на мрачный вид, бывший начальник встретил комиссара вполне любезно. Впрочем, виртуозный лицемер, министр всегда умел усыпить бдительность собеседника, дабы своими проницательными вопросами завлечь в заранее подготовленную западню.
— Вы только что вышли от королевы. Ее величество вернулись после вечера, проведенного на карнавале в Опере, и, без сомнения, захотели поблагодарить маркиза де Ранрея за то, что он помог ей выбраться из кареты, у которой по дороге в Версаль сломалось колесо, наткнувшись на камень. Кстати, не забудьте сказать Ленуару, что фонари на дороге погасли из-за нехватки масла…
— Сударь, вы плохо информированы: сломалась колесная ось…
Осведомленность Сартина давно не удивляла Николя. Сумев сохранить особые отношения с полицейскими осведомителями, Сартин по-прежнему использовал их для сбора сведений: раскинутая им некогда сеть помогала ему быть в курсе всего; от него не ускользало ни единой подробности из жизни двора и столицы. А когда он чего-либо не знал, он принимался распространять ложные сведения, чтобы из-под них выудить истину.
— Колесо или ось, какая разница! Это великое умение — оказаться в нужное время в нужном месте.
И он с такой силой швырнул перо на стол, что от него во все стороны полетели тучи мелких брызг.
— Всего лишь дело случая.
— Надо признать, похоже, вы, действительно, правы. Итак, королеву волнуют ее долги?
Николя постарался сосредоточить взгляд на чернильнице, окантованной позолоченным серебром, сверкавшим отраженным пламенем свечей.
— Полно, ваше молчание лишь подтверждает мои догадки. От меня ничего не ускользает, и уж кому, как не вам, это знать…
Смотря по обстоятельствам, подумал Николя. Сведения, получаемые министром, зачастую бывали точны в целом, но он не всегда располагал знанием деталей, а значит, не всегда мог их проверить.
— …Неужели вы считаете, что я не знаю, что она позволила себе завести дурные знакомства, а теперь избрала вас своим советчиком и защитником? Я всегда одобрял вашу преданность и скромность, однако подобного рода знаки внимания коронованной особы нисколько не облегчат вам путь к счастливой развязке. А так как я желаю вам добра…
Добро от Сартина не всегда можно считать благом, усмехнулся про себя Николя.
— Я намерен сообщить вам сведения, из которых вы, мне думается, сумеете извлечь пользу. Есть некая особа, которая считает, что сезон охоты открыт, а двор — место, где раздолье браконьерам. Эта ненасытная дама намерена просить помощи от имени королевы. Представляете себе эту картину! Ее величество не получает ни крошки, а та, другая, продолжает беззастенчиво грабить, извлекая прибыль из интриг, плетущихся в коридорах между антресолями и передними. Королева — предлог, подпись, простодушный ключ, открывающий все двери… и сундуки. Обратите взор на тех, у кого имеются солидные средства: они наверняка станут жертвами этой особы.
Умолкнув, он некоторое время ласково поглаживал свой парик.
— Я благодарен вам, сударь, за эти сведения. Не прилагается ли к ним, случайно, какое-нибудь имя?
— Ох, вот уж, поистине, святое любопытство! Узнаю свою гончую! Разумеется. Постарайтесь сблизиться с господином Луазо де Беранже, генеральным откупщиком. Ваш друг Лаборд познакомит вас с ним. Немного сноровки, и вы узнаете немало интересного об этой интриге.
Он взял перо и, обмакнув его в чернильницу, принялся писать, перестав обращать внимание на посетителя. Николя не шелохнулся.
— Идите. Не теряйте времени.
— Один вопрос, сударь. И вы, и я — мы знаем эту женщину уже давно. Почему бы не арестовать ее немедленно?
— Неужели вы не понимаете, что нельзя компрометировать королеву? Если начнется открытый процесс, об этом сразу станет известно всем, и бурные гнойные волны мерзких памфлетов, песенок, листовок и афишек выплеснутся на улицу. Отродье, против которых вы и я боремся много лет, гидра, о которой с гневом говорила добрая дама из Шуази, тотчас поднимет голову. Но королева — не Помпадур, королеву недолюбливают, поэтому ее ни в коем случае нельзя отдавать на растерзание волкам: своими острыми зубами они мгновенно раздерут ее. Тут надо умело сочетать силу и осмотрительность и не поднимать бурю в стакане воды. Впрочем, в этом вы преуспели.
Последнее высказывание подкрепил мощный удар кулаком по столу. Сартин успел погрузиться в свои бумаги, когда вошел лакей и что-то сказал ему на ухо. Министр с раздраженным видом вскинул голову.
— Николя, — произнес он с одной из своих узких, вымученных по случаю улыбок, — у меня посетитель… желающий сохранить инкогнито.
Он встал и открыл дверь, оборудованную в книжном шкафу с нарисованными переплетами. Подталкиваемый торопливою рукой, Николя очутился в мрачном коридоре, в конце которого маячил свет. Коридор вывел его непосредственно в прихожую министра, где сидел изнывавший от безделья лакей. Внезапно Николя захотелось разузнать о посетителе Сартина. С присущим ему вниманием он окинул взором лакея. В этом мире мелкие подручные власти напоминали монетки: тех, кто ценился на вес золота, было мало, большинство гроша медного не стоило. Субъект, изнывавший в прихожей, явно принадлежал к последней категории. Конечно, может статься, порядочность возьмет в нем верх, но… Николя решил попробовать.
— Друг мой, похоже, вы занимаете прекрасное место; давно ли вы тут служите?
— С того самого времени, как господин стал морским министром, — ответил лакей, слегка озадаченный подобным началом беседы.
— У вас наверняка имеются трудности, но, полагаю, преимуществ все же больше?
— Смотря с какого конца посмотреть.
Николя вынул из кармана табакерку и предложил лакею взять понюшку, что тот и проделал с поразительной скоростью. Некоторое время они чихали вместе.
— Много ли вы зарабатываете на огарках?
Слуги из знатных домов, а тем более из дворца, неплохо наживались на незаконной продаже огарков свечей. При виде озадаченной рожи лакея, Николя, продолжая хранить суровый вид, с трудом удержался от смеха. Все, противника застали врасплох, пора наносить решающий удар. И он начал вкрадчиво:
— Вы знаете, кто сейчас прошел к министру?..
Лакей не усмотрел в его вопросе злого умысла.
— …сам адмирал д’Арране, не так ли? — уточнил Николя.
— Он самый, — кивнул лакей.
— Запомните: с ним надобно обходиться с особым почтением. Полагаю, я вас не удивлю, если скажу, что он давний друг министра.
И, откланявшись, он собрался уходить; неожиданно он обернулся и сказал:
— Когда станете собирать огарки, помните, друг мой: не берите лишнего, жадность никогда не идет на пользу. Как вас зовут?
— Перигор, — ответил ошеломленный лакей.
— Хорошенькое имя. Для тех, кто понимает.
Потеря времени приводила его в бешенство. Снова пошел снег, и он не рискнул взять лошадь. На Оружейной площади ему удалось отыскать свободный экипаж, возвращавшийся в Париж. Устроившись, по привычке, в углу, он смотрел, как за окном тянулись унылые пейзажи: землю окутывал грязный серый покров тающего снега. Его так и подмывало начать сортировать полученные за день впечатления. Внезапно на него снизошло вдохновение, и он приказал кучеру везти его в особняк д’Арране, расположенный на авеню де Пари, иначе говоря, на большой торной дороге в Париж. Этот дом стал его вторым домом; там ему отвели отдельные апартаменты, где он хранил охотничий костюм, ружья, книги и предметы туалета. Он останавливался в нем, когда приходилось оставаться в Версале. Как обычно, его приветствовал дворецкий по имени Триборт, которого Семакгюс некогда спас от ужасной раны, полученной в морском сражении.
— Мерзкая погода, господин маркиз, самое время раскурить трубочку! От сырости ноют кости и скрипят суставы. Надо бы раздобыть бобрового жира для своих старых болячек.
— Триборт, друг мой, дома ли адмирал?
Дворецкий уставился на него своим единственным глазом. Выражение выжидательности на его изборожденном шрамами лице сменилось выражением сожаления.
— То-то и оно, что сейчас на баке никого.
— Значит, я подожду его.
Он не мог понять, почему он упорствовал. Неужели интуиция? В ответе старого матроса прозвучало некое колебание.
— Он уехал с попутным ветром. И пробудет в Бресте несколько дней.
— Спасибо. А мадемуазель? Она тоже уехала с ним?
Триборт расслабился.
— Нет, она на борту. Я сейчас передам.
— Отлично! А я подожду в гостиной.
Хотя все в доме знали его привычки и его особое положение, уважение к благопристойности вменяло соблюдение правил. Рельефный план битвы при мысе Финистерре по-прежнему занимал середину гостиной. Преследуемый взглядом адмирала, сурово взиравшего на него с портрета в полный рост, Николя в задумчивости оглядывал комнату, с которой его связывало столько счастливых воспоминаний. Легкое шуршание тканей вывело его из состояния задумчивости; он обернулся. Эме, в домашнем платье, с непроницаемым лицом стояла на пороге гостиной. При ее появлении его сердце учащенно забилось.
Воззрившись на нее, сама Любовь решила, Что мать прекрасную свою она узрелаМуслиновая косынка прикрывала вырез декольте. Непричесанные волосы, подобранные лентами, двумя прядями ниспадали на плечи. В серых, с синими крапинками глазах плескался гнев.
— Опять вы, сударь?
— Что вы говорите? Снова я! Так-то вы меня встречаете…
Он подошел, намереваясь обнять ее. Но едва он заключил ее в объятия, как она скользящим движением высвободилась и оттолкнула его.
— Довольно, сударь! Вы забываетесь! Кто дал вам право так обращаться со мной?
— Но, послушайте, Эме, откуда эта злость? Какие у вас есть причины столь сурово обходиться со мной? Сейчас, когда я веду важное расследование и выкроил время, чтобы заехать к вам…
В его словах содержалась только часть правды, и он тотчас отругал себя за это.
— Он еще спрашивает! А когда он встретил меня, он меня даже не узнал! Видимо, вы нашли себе другой, более достойный объект для постоянных забот… А я-то думала, что я вам не безразлична…
— По какому случаю, сударыня, я заслужил такую порку? Я категорически опровергаю все ваши подозрения и немедленно приказываю вам сказать, где и когда я вел себя неучтиво!
Слушая себя со стороны, он чувствовал, что говорит мерзким тоном судейского.
— Сударь, сегодня утром, на заре, вы гордо, не удостоив меня даже взглядом, проехали мимо дамы в маске, торопясь воздать законные почести ее величеству.
— Как, этой придворной дамой были вы? Но я думал, вы состоите в свите Мадам Елизаветы.[16] Никогда бы не поверил! Я даже не узнал ваш голос.
— Я могу состоять в свите Мадам Елизаветы и принимать приглашения королевы. А голос я нарочно изменила, — задорно добавила она.
— О! — вздохнул Николя. — Злой умысел и коварная месть. Так обмануть меня! Вы заслуживаете…
— Чего же?
Подойдя к двери, он запер ее на задвижку и, вернувшись к изумленной Эме, заключил ее в объятия. Не сопротивляясь, она прильнула к нему и молча отдалась страсти, доказав, что нисколько на него не сердится. Он отнес ее на софу, и они вступили в жаркую схватку, которой, озабоченные охлаждением своей любви, оба жаждали уже давно. От их бурного сражения изрядно пострадал рельефный план: клочья пакли, изображавшие орудийный дым, один за другим падали на содрогавшиеся палубы миниатюрных кораблей.
После многократных прощаний он наконец забрался в экипаж, и в голове его немедленно возникла масса каверзных вопросов, из которых он отобрал главные. Почему Сартин, получающий сведения обо всем и вся, не знал о гибели узника королевской тюрьмы Фор-Левек? И тут же спросил себя: а почему он сам не заговорил об этом со своим бывшим начальником? Почему министр военно-морского флота хотел скрыть от Николя визит адмирала д’Арране? Сартин прекрасно знал, какие узы связывают его с адмиралом, поэтому, наоборот, он должен был бы… непонятно. Пожалуй, этот вопрос придется осмысливать особо.
Королева искренне просила помочь ей, однако весьма скупо изложила суть дела. Если она, пусть даже против воли, продолжает поддерживать отношения с Каюэ де Вилле, то перспективы у этого дела и вправду мрачные. Тем более что любитель изощренных интриг Сартин не только не пытался встать у него на пути, а, напротив, рекомендовал ему как можно скорее заняться этим делом и даже дал полезный совет. Его бывший начальник никогда не вдавался в подробности расследования, именуемые им следственной кухней, поэтому его неожиданный совет заставлял подозревать, что он ведет какую-то свою игру. Не исключено, что, заостряя его внимание на деле королевы, он хотел отвлечь его от другого дела, тайного и, возможно, неприглядного. Все, вплоть до дружелюбного тона, убеждало Николя в неискренности Сартина. Что ж, пора впечатлениям отстояться, затем надо вычленить из шелухи главное и начать действовать, но действовать осторожно, особенно в случае с делом королевы, избегая любых катаклизмов, способных запачкать грязью трон.
Нельзя держать в стороне Ленуара: ему следует рассказать про оба дела. Королева была сдержанна в объяснениях, но значит ли это, что он обязан хранить ее историю в тайне? Он согласен: подробности расследования не должны выйти за пределы надежного узкого круга людей, но само ли собой разумеется, что к этому кругу принадлежит Ленуар? Сам он в этом уверен, но уверен ли министр королевского дома Амло де Шайу? В голове его тотчас зазвенели куплеты:
Малыш Амло, Язык твой крив, Он все грязнит, И невпопад он говорит. Пух для тебя — груженый воз, Ты до министра не дорос, Беги скорей, а то твой нос Прищемят, ей-же-ей!Свита не делает министров, она их свергает. Вместо того чтобы платить доносчикам, министрам следовало бы обзавестись преданными агентами, дабы те извещали их об умонастроениях публики. А как же Бурдо? Сейчас его помощник нужен ему как никогда: когда расследование начинало топтаться на месте, его проницательность часто позволяла находить неожиданные решения. Но если он посвятит инспектора, семья которого некогда пострадала от королевского дома, в дело о долгах королевы, тот, будучи сторонником новых идей, вряд ли отнесется к нему благодушно. Оно лишь усилит его желчное отношение к королевской власти, которой он, впрочем, верно служит. Рассудок продолжал разрываться между недоверием и доверием, но сердце уже сделало свой выбор в пользу верного друга и помощника.
Он вздохнул, осознав грандиозность задач. Внезапно перед ним возник образ Сатин, и ему ужасно захотелось повидать ее. Он неожиданно сообразил, что в тот памятный день, случившийся почти три года назад, он не только встретил в лесу Фос Репоз Эме д’Арране[17], но и поссорился с Сатин. Случайно заметив Антуанетту с ее лотком в Большой галерее замка, он резко и грубо выразил ей свое неудовольствие. Этот проступок, как и последний разговор с маркизом де Ранреем, завершившийся ссорой, как гневный порыв, побудивший его покинуть дом Жюли де Ластерье, когда ее жизни грозила опасность, тяжким грузом лежали у него на сердце и постоянно бередили душу. Ему пришлось учиться жить с этим грузом. Когда на него накатывал приступ горьких сожалений, только вера в Провидение и тепло дружбы давали ему поддержку, опору и утешение.
Когда его экипаж проезжал заставу Конферанс, что между Сеной и Тюильри, пробило четыре часа пополудни. Николя посчитал справедливым воспользоваться близостью площади Карузель, где после женитьбы проживал его друг Лаборд. По дороге он бросил взор на здание больничного приюта Кенз-Ван: здание намеревались снести, а на его месте разбить площадь Людовика XVI, приют же обещали перенести на улицу Шарантон, в бывшие казармы серых мушкетеров. Став генеральным откупщиком, Лаборд отдал большинство дел по откупам в руки своих верных служащих, оставив себе время для досуга. Поправив финансовые дела, он продолжил свои любимые занятия: изучение географии, китайского искусства и музыки. Взявшись за подготовку монументального четырехтомного труда о старой и новой музыке, он надеялся за несколько лет завершить эту работу.[18] Николя нашел Лаборда в библиотеке; в домашнем халате с куньим воротником, откупщик сидел за письменным столом, заваленным партитурами; гость бросил восхищенный взор на выстроившиеся вдоль всех стен переплеты.
— Боже! Как я вам завидую: вы со всех сторон окружены книгами. Сколько их у вас?
— Ах, войску сему несть числа, думаю, не менее двадцати пяти тысяч.
— Настоящая армия, которая защищает вас, разговаривает с вами и развлекает вас.
— Защищает меня? Пожалуй, да, но только не от пожаров. Их я боюсь больше всего.[19] Но чего мне стоило…
— Я прибыл из Версаля, — произнес Николя, садясь в обтянутое красным шелком кресло-бержер. — Я разговаривал с королевой, потом с Сартином. Министр посоветовал обратиться к вам.
— Вы же знаете, для вас я готов сделать невозможное. О чем идет речь?
— Познакомьте меня с господином Луазо де Беранже, вашим товарищем по генеральным откупам.
— …И чтобы слова «комиссар» и «полиция» ни разу не прозвучали, и чтобы пустой предлог оправдывал, я бы даже сказал, настоятельно требовал встречи с целью… с целью, которую, как мне кажется, я знаю.
Лицо Николя приняло самое невинное выражение.
— У вас обычно настолько искренний вид, мой дорогой Николя, что избыток простодушия тотчас вызывает самые черные подозрения…
И оба расхохотались.
— Итак, в Париже ходит слух, что некая знатная дама, имя которой я называть не стану, влекомая страстью, кою я не назову, попалась в ловушку, от которой кое у кого есть ключ. Оказавшись без средств, эта дама прибегла к помощи некой особы, а эта особа пустилась в сомнительные махинации. Некто (то ли он, то ли она) решился провести посредническую операцию с целью извлечь сумму, большую, я бы даже сказал, гораздо большую, чем требуется. В поисках Грааля сия фея посетила меня и без всяких колебаний предъявила мне бумаги, изготовленные с целью убедить меня дать поручительство и… золото. Она уверила меня, что королева найдет способ выразить мне свое согласие во время какого-нибудь торжества. Собственно, это фея обещает каждому, кто клюнет на ее приманку и позволит заманить себя в ловушку. Вот, мой дорогой, что вы, без сомнения, желали узнать, а в довершение…
— Кажется, господин Беранже согласился на ее условия и попался.
— …я назову даже имя — Каюэ де Вилле, с которой мы имели дело в последние годы жизни покойного короля, нашего оплакиваемого повелителя. К несчастью, она сумела втереться в доверие к королеве, которая продолжает множить свои неосторожные поступки… Да, нынешнему двору не хватает рассудительности… Впрочем, это вам известно лучше меня.
Николя молчал; он мысленно любовался королевой, выходившей из сломавшейся на скользкой Версальской дороге кареты.
— Надо оградить ее величество от необдуманного поступка, — продолжал Лаборд. — Зло таится среди ее окружения. Не секрет, она делит свою привязанность между принцессой де Ламбаль, управляющей ее двором, и графиней де Полиньяк. Графиня входит в партию принцессы де Гемене. Там гудит целый рой молодых людей, обладающих слишком вольными, на мой старческий взгляд, манерами. Они высмеивают все, что заслуживает уважения, исподтишка вредят тем, в ком видят угрозу для себя. Неразборчивая клика обожает интриги, а графиня Полиньяк, мечтая уничтожить свою соперницу и выставить напоказ собственные заслуги, постоянно наушничает Морепа[20], впитывающему в себя как губка все самые мелкие подробности того, что думает и что делает королева.
— Ее величество всегда умела внушить своему окружению уважение и остудить горячие головы.
— Вы истинный златоуст и верный слуга. Остается оборотная сторона медали. Если потребуется, принцесса де Ламбаль возьмет свое. Она нисколько не хуже и не лучше, а среди ее окружения можно встретить даже простолюдинов. Ее кружок усиленно посещают герцог Шартрский и все, кто поддерживает дом Орлеанов. Королева ничего не выигрывает, сменив одну привязанность на другую. Вдобавок в этом кружке замечен граф д’Артуа. Прошлой осенью во время последней поездки в Фонтенбло королева начала крупно проигрывать. Впрочем, сначала ей сообщили об этом те, кто желает ей добра…
Николя предположил, что речь идет о господине Мерси-Аржанто, австрийском посланнике, или об аббате Вермоне, чтеце королевы, чья преданность дочери Марии-Терезии не подвергалась сомнению.
— Подобные вечера опасны также своими последствиями. В угоду развлечениям Мария-Антуанетта оставляет короля в одиночестве, окончательно отбивая у него желание проводить ночь в ее покоях, так что отныне они спят в разных спальнях. Среди молодых женщин нынче это модно… А ведь Франция ждет наследника трона!
Николя подозревал, что наследника с нетерпением ждал и сам Лаборд. Его молодая жена уже несколько лет страдала от приступов меланхолии, и медицина в лице медиков Сорбонны никак не могла ее вылечить.
— Но если бы речь шла только о картах! Игра в бильярд, столы для которого установлены в комнатах королевы, притягивает к себе молодых вертопрахов. Теперь они делают погоду при дворе! В наше время, дорогой Николя, нравы были иные, хотя, признаю, образцовыми я бы их не назвал. Не желая брать на себя роль цензора, я тем не менее утверждаю, что бал правили пристойность и мера, и ничего не просачивалось за пределы дворца.
Наконец коротенькая записочка к Луазо де Беранже была написана, запечатана и вручена Николя. Прежде чем попрощаться с комиссаром, Лаборд пожелал показать ему свое последнее приобретение — китайскую картину на шелке, изображавшую двух ланей, щипавших травку под соснами.
— Полюбуйтесь на изысканную красоту этого простенького пейзажа: едва намеченный задний план, деликатность штриха, застывшее движение настороженных животных… Автор ее, художник Ми Фу, жил в XII столетии при династии Сун. Созерцание сей картины утешает меня во многих горестях.
Вновь сев в карету, Николя подумал, как несправедливо молва отнеслась к его другу Лаборду, создав ему скандальную репутацию либертена. Меж тем Лаборд любил и ценил искусства, а трогательная забота, которой он окружил свою вечно страждущую жену, искупала все его отступления от праведного пути. Беспримерная же верность Людовику XV, по его мнению, заслуживала безоговорочного отпущения.
Глава V КЛАМАР
О, факелы, о, мрачные огни, что освещают мертвых, но не согревают.
КолардоНиколя решил успеть на улицу Нев-де-Люксамбур. Выехав на улицу Сент-Оноре, возле церкви Вознесения экипаж свернул направо, в улочку напротив. Маленький особнячок господина Луазо де Беранже соседствовал с монастырем Зачатия. Лакей в ливрее с серебряными галунами провел его в кабинет с громоздкой мебелью. Кричащая роскошь обивки, гобелены, сияющие свежестью красок, сверкающие бронзовые накладки выдавали стремление хозяина похвастаться своим богатством. Сам откупщик, с набеленным лицом и напомаженными щеками, окутанный пеной дорогих кружев и вышивок, являл собой олицетворение царившей в доме безвкусицы. На плече у Беранже сидела маленькая упитанная макака в красновато-коричневом, с золотистым отливом фраке и пудреном парике. С изумленным видом, но вполне любезно откупщик спросил, что привело сюда посетителя.
— Сударь, прошу меня извинить за столь позднее вторжение. Я позволил его себе лишь потому, что у нас имеются общие знакомые. Господин де Лаборд просил меня передать вам вот это.
И он протянул запечатанную записку. Послание было распечатано, быстро прочитано, а затем брошено в огонь, гудевший в камине. Некое сомнение закралось в душу Николя. Не был ли Лаборд, как и Сартин, членом одной из тех масонских лож, что столь активно множились в Париже? Полиция насчитывала их более четырех сотен. В той, где администратором являлся герцог Монморанси-Люксамбур, председательствовал герцог Шартрский. Говорили, что среди членов этой ложи числились графы Прованский и Артуа, братья короля. У Николя пока не было своего мнения о масонских кружках. Привыкнув судить о людях по их достоинствам, он знал, что там, как и всюду в обществе, дурное в равных пропорциях соседствует с хорошим, а добро — с злом. Ложи успели снискать как дурную, так и добрую славу, а среди их членов числились как философы, так и записные распутники.
— Господин маркиз, я вас слушаю. Я немного знаком с вашим другом… и ко всему, что исходит от него, отношусь с величайшим вниманием.
Трудность заключалась в том, что Николя предстояло добраться до цели не прямыми, а окольными путями.
— Сударь, прежде всего я попросил бы вас сохранить в тайне все, что я вам сейчас скажу.
В знак согласия Беранже кивнул; его спокойствие подтверждало догадки Николя.
— Сударь, сегодня утром я был у королевы. Она рассказала мне о вашем деле.
Откупщик, до сих пор прекрасно справлявшийся со своими чувствами, внезапно покраснел: упоминание его персоны рядом с именем королевы явно ему льстило.
— Ах, значит, меня не обманули, все правда. Я очень рад, сударь, очень. Меня не обманули.
Следовало развить успех.
— Вы ведь договаривались именно с Каюэ де Вилле, с ней вели переговоры?
— Вижу, вам известен предмет переговоров. Что вы хотите! Сумма не маленькая, даже для такого человека как я…
Он откашлялся.
— …поэтому мне надо заручиться гарантиями, установить учетную ставку, подписать соглашения и обменяться векселями. Весьма сложный механизм, колеса которого…
Николя с изумлением отметил все возраставшее возбуждение Беранже: откупщик ерзал на месте, размахивал руками, корчил гримасы и, словно опьяненный золотом, хватал руками воображаемые документы.
— В какой стадии сейчас переговоры, сударь?
— О! Господин де Лаборд уполномочил меня ничего от вас не скрывать. Я вручил очаровательной посреднице небольшую сумму.
— Вы сохранили расписки, переданные госпожой Каюэ де Вилле?
Собеседник смешно дернул головой, видимо, пытаясь изобразить праведный гнев.
— Сударь! Как вы могли подумать! Требовать расписок от королевы! Мне посулили почести, достойные наших блистательных придворных!
Услышав слово «блистательные», Николя улыбнулся. Оно очень точно отражало чувства самого Луазо: он напоминал жаворонка, ослепленного собственным отражением.
— Мне показали апостили королевы, — понизив голос почти до шепота, произнес он.
— Из этого я делаю вывод, что вы расстались с кругленькой суммой!
— Расстался! Однако вы слишком торопитесь! Черт возьми! С кошельком так просто не расстаются!
— Вас обещали представить ко двору. Насколько я понимаю, вся сумма еще не выплачена?
— Вы совершенно правы. Ибо у меня также есть обязательства по отношению к тем, кто идет со мной в одной упряжке. Я обещал им гарантии, а потому мне также приходится требовать подтверждения, гарантий, достоверности, словом…
Казалось, он собирался открыть какую-то тайну.
— …Полагаю, вам известно, сударь, что наличные деньги стали редкостью, ибо займы населения поглощают находящиеся в коммерческом обороте средства. Приходится прибегать к так называемым черным векселям, имеющимся в ходу среди финансистов, чтобы облегчить… гм… текущие сделки. В этих случаях гарантом оплаты сделки выступает только подпись, причем обеих сторон.
Он сделал хитрое лицо.
— Такого рода соглашения не требуют огласки, однако существуют жесткие правила, которые их регулируют. Да что я говорю! Это настоящие цепи, вроде тех, которыми сковывают каторжников.
Николя молчал. Этот тип намеревался торговаться с королевой. Интересно, в какую бездну может увлечь жажда золота и желание блистать при дворе?
— И какие же предосторожности вы намерены предпринять?
— Хе-хе! Сударь, наилучшая предосторожность — это хлопать глазами и во всем соглашаться с начальником… У меня будет встреча с королевой.
Николя не верил своим ушам.
— Именно! — ответил Беранже, и лицо его расплылось в сладкой улыбке.
— Не будет ли нескромным с моей стороны спросить, где и в каком месте?
— В самом шикарном, господин маркиз! При дворе, в Зеркальной галерее, где она отразится в тысяче зеркал. В ближайшее воскресенье по дороге в часовню ее величество кивнет мне в знак окончательного одобрения нашей сделки.[21]
— Сударь, я не только имею честь носить титул маркиза де Ранрея и обладаю правом присутствовать на утреннем малом приеме короля, я еще исполняю обязанности комиссара полиции Шатле. Вы можете мне доверять и как дворянину, и как магистрату.
Яростно теребя кружевные манжеты, Беранже с удрученным видом рухнул на стул: напоминание о заслугах Николя сразило его.
— Сударь, я не мог предположить… Неужели меня использовали?.. А так уверяли, столько обещали! Неужели все рухнуло?
— Ради всего святого, возьмите себя в руки. Еще ничего не потеряно, а ваша готовность оказать помощь в разоблачении мошенников заставит нас забыть оскорбление, кое вы едва не нанесли трону. Как вы посмели подумать, что можете на равных вести переговоры с вашей королевой! Итак, я требую две вещи. Во-первых, храните все в строжайшей тайне; если вы нарушите слово, вас немедленно отправят в Бастилию. И во-вторых, в ближайшее воскресенье, как и условлено, отправляйтесь в Версаль. Не беспокойтесь, я буду рядом, и мы наконец узнаем истинное лицо посредника.
— Господин маркиз, несчастья свалились на меня словно снег на голову. Я в точности исполню все ваши указания.
Николя покидал улицу Нев-де-Люксамбур в полной растерянности. Он убедился, что интриганка затягивает королеву в долговые сети, но, как это часто бывает, за основной интригой ощущались чьи-то грозные происки. Луазо де Беранже являлся одним из тех нуворишей, кто, нажив состояние, еще не успел свыкнуться со своим новым положением. Стремясь скрыть запах золота и больших денег, он хотел увенчать свой успех придворными почестями. Николя спросил себя: зачем и почему все стремились подражать дворянам? Какой ценностью обладал титул, который сегодня стремились заполучить любой ценой? Разумеется, будучи уверенным, что сам происходит из славного и древнего рода, он с легкостью говорил об этом, играя сразу на двух досках. Внезапно он подумал, что положение, доставляющее столько привилегий, налагает на своего обладателя определенные обязательства. Однако, в согласии с духом времени, многие владельцы титулов отличались отнюдь не безгрешным поведением. Так для кого же дворянское достоинство все еще сохраняло свое значение? Может, лучше отменить его и отнять титулы у тех, кто их обесчестил? Сколько раз он видел отъявленных негодяев, избегавших наказания исключительно благодаря своему громкому имени. Он вряд ли сумел бы сосчитать всех. В памяти всплыли слова молодого короля: «Дворянство не должно смешиваться с сословиями, которые задачей своей видят обогащение. Единственным достойным занятием для дворянина является снискание почестей на службе государю и отечеству; дворяне обязаны ставить честь выше материального благосостояния».
За размышлениями он не заметил, как приехал в Шатле. На улице смеркалось, на крышах, терзаемые северным ветром, скрежетали флюгера. Там и тут масляные фонари открывали свои мутные глаза, освещая пустую площадь. Папаша Мари бодрствовал, Бурдо еще не появлялся. Николя спустился в мертвецкую и отрезал от куртки незнакомца кусочек ткани, изготовленной, по предположениям Семакгюса, в Англии. Его портной, проницательный мэтр Вашон, сумеет вынести точный вердикт. Развернув труп незнакомца, он вгляделся в бледное лицо; после воздействия соли и холода оно казалось совсем усохшим. Он порадовался, что художник успел нарисовать с усопшего портрет, где тот выглядел как живой. Затем он бросил взор в зал, где лежали неопознанные трупы. Два тела мужчин неопределенного возраста и несколько пар рук и ног, очевидно, выловленных из реки; разрозненные члены происхождением своим явно обязаны анатомическим занятиям. Завтра безутешные семьи придут сюда в поисках пропавших родных.
Внезапно внимание его привлекли прислоненные к стене заплечные корзины из ивовых прутьев. Он подошел и с ужасом обнаружил четыре трупика новорожденных младенцев; тела их, словно высосанные изнутри, напоминали утробные плоды, что хранятся заспиртованными в кабинетах редкостей. Он вспомнил случайную встречу, случившуюся два года назад по дороге в Вену. В Витри-ле-Франсуа они решили подкрепить силы в трактире «Золотой лев». В общем зале ужинал какой-то человек. На следующий день Николя увидел, как незнакомец вскинул на плечи ивовую корзину, проложенную внутри матрасиком: в корзине лежали новорожденные младенцы. Прежде чем уложить младенцев в корзину, он дал им пососать молока через уголок носового платка, намоченного в чашке с молоком. По непонятным причинам эта картина долго преследовала его. Поднявшись наверх, словно Орфей из ада, он спросил папашу Мари, откуда взялись трупики младенцев.
— Ты что, не знаешь? — проворчал он. — Это младенцы, найденные на церковных папертях или на порогах монастырей. В провинции для них нет приютов, вот их и отправляют в Париж. Кругом столько нищеты, что иногда для матерей это единственный выход… Этих доставили из Лотарингии. Доверенные всадникам, они не выдержали путешествия. По такой-то погоде! Они умерли в дороге. Снег. Из шестерых выжили всего двое.
— А тот, кто их доставил?
— Его арестовали по приказу господина Ленуара. Приют для подкинутых младенцев переполнен. Говорят, каждый год в Париж приносят две тысячи сосунков. Король приказал навести порядок и оставлять подкидышей в провинции.[22] Все это очень печально. Я никогда не помню тех, кто лежит там, внизу… но тут… Интересно, того, кто принес их, долго продержат?
— Посмотрим… я тебе сообщу.
В фиакре видения прошлого вновь обрушились на Николя. Пред взорами предстала церковь в Геранде и саркофаг семейства Карне с вытянувшимися во весь рост каменными статуями на крышке; в сыром зимнем воздухе гранитный камень саркофага источал слезы. Неужели его просто подкинули? Не может быть, все было сделано так, чтобы каноник Ле Флок нашел его! Внезапно его охватила тоска по матери. Кто была она? Может, она еще жива? А знает ли она, что он жив? Документы, представленные Изабеллой для приема Луи в пажеский корпус, свидетельствовали, что оба родителя Николя принадлежали к дворянскому сословию. Но, если говорить честно, какая ему разница? Как ни посмотри, он оплатил свое прошлое. И он ощутил прилив благодарности к Антуанетте за то, что она не бросила Луи…
На улице Монмартр бодрствовала только Катрина. Выглянув из кухни, она живо поинтересовалась, ел ли он вообще. Узнав, что сегодняшний день он жил на вчерашнем ужине, она разбушевалась и стала грозить ему самыми страшными карами, ежели он не станет регулярно заботиться о собственном теле.
— Хозяин здет тепя, — прибавила она, громыхая горшками и ложками. — Он хочет, чтопы тебе бодали наверх, ибо, как он и бредболагал, ты вернулся с бустым зелудком!
— А что у нас сегодня на ужин?
— Ты заслужил только суб из ворон, который я когда-то варила звоим золдатикам накануне зражений! Но сегодня осталось еще немного суба бод черебаху, хотя для тепя это злишком польшая роскошь!
— И это все?! — шутливо возмутился Николя.
— Зними треуголку, когда разгофариваешь з дамой!
Она отвесила ему щелчок, от которого он едва успел увернуться.
— На второе омлет а-ля Селестина.
— То есть?
— С кусочками мазла из Ванва; он восстановит твои силы. Пирожки з телячьим рупцом. Плюдо ребы бод зоусом пешамель с горчицей и немного мармелада на сладкое. А ботом — зпать! Тебе очень нужен зон.
Только сейчас он почувствовал, как он проголодался, — ведь он с раннего утра на ногах, большую часть времени провел в дороге, а вокруг сырость и холод… Продолжая ворчать, Катрина помогла ему стянуть сапоги, и он всунул ноги в старые разношенные башмаки, которые обычно надевал дома. Тихо поднявшись наверх, он увидел перед собой картину, немедленно вытеснившую все треволнения сегодняшнего дня. Стоя перед своим любимым креслом и налегая телом на партитуру, Ноблекур раскачивался в ритме музыки, в то время как пальцы его порхали над дырочками старой флейты из слоновой кости. Серебряный подсвечник, освещавший репетицию, отбрасывал на стены прыгающую тень почтенного магистрата. Любопытные Сирюс и Мушетта сидели рядышком, наблюдая, но не за движениями Ноблекура, а за его тенью, и их головки симметрично раскачивались в такт менуэту. Николя понял, что почтенный магистрат, не желая напрягать дыхание, двигал телом в такт своей партии. Нечаянный скрип половицы нарушил очарование трогательной сцены. Сирюс радостно затявкал, виляя хвостом, а Мушетта, изогнув спинку, сначала потерлась ею о ножку стола и только потом, издав влюбленное урчание, прыгнула к Николя. Она вскочила к нему на плечи и тотчас с мурлыканьем разлеглась.
— Какая гармония! — воскликнул Николя со смехом. — Соната для поперечной флейты, в мажорной тишине! А какая внимательная публика!
— Мой дорогой, не смейтесь, это моя ежевечерняя репетиция. Движение к недостижимому совершенству подобно пути на голгофу. Вы знаете, что помимо постановки пальцев звуки образуются посредством вибрации воздушной струи; прибавьте к этому большее или меньшее сжатие губ и их расположение по отношению к кромке мундштука, да еще необходимость разбирать партитуру… Надо иметь три головы, как Цербер!
— А что это за мелодия?
— О! «Подарок Изиды» Нодо[23], песенка почтенного братства вольных каменщиков.
Осторожно разобрав инструмент, он бережно сложил все части его в обитый бархатом футляр.
— Однако, староста прихода Сент-Эсташ поощряет масонские выдумки!
— Именно так, господин бретонский святоша. Помнится мне, раньше и вас самих…
— Разумеется! Этот слух с легкостью объяснил завистникам причины и покровительства Сартина, и моего быстрого возвышения.
Вошла Катрина с серебряным подносом, где высилась стопка тарелок, лежал хлебец и стоял оловянный кувшинчик.
— Николя, я налила тепе звежего сидру.
Под завистливыми взорами хозяина дома Николя набросился на ужин. Мушетта спрыгнула на ручку кресла и, опершись обеими лапками на левую руку хозяина, скорчила просительную мордочку.
— Вы только посмотрите, какая пантомима! — воскликнул Николя. — Неужели плутовка готовится в актрисы? А я похож на покровителя кошек?
Утолив первый голод, Николя рассказал Ноблекуру, что ему удалось сделать за день, умолчав о встрече с Эме д’Арране. Продолжая кидать вожделеющие взоры на расставленные перед Николя блюда, бывший прокурор слушал внимательно, однако стоило комиссару зазеваться, как он немедленно стащил и бросил в рот кусочек айвового мармелада. Затем Ноблекур надолго умолк и, бормоча себе под нос, задумчиво то закрывал, то открывал глаза. Неожиданно он вытащил из-под себя измятый номер «Журналь де Пари».[24]
— Отсюда изъяли хронику происшествий, — промолвил он, нарушив молчание. — Номер подвергли цензуре.
— Не удивлен. Парламент и судья по уголовным делам вечно жалуются, что газетчики искажают их сообщения. Вместо того чтобы просто опубликовать текст постановления о вынесении смертного приговора, этот листок решил напечатать показания осужденного со множеством подробностей, взятых из секретных протоколов. Подобные статьи только вносят смуту в народ!
— В конце концов, приговор был приведен в исполнение. А если бы подлинные протоколы удалось извлечь на свет божий до вынесения приговора, дело могло бы принять иной оборот.
— Газетчики должны излагать дело так, чтобы суть его была понятна всем…
— Похвальное намерение, тем более что те, кто читает газеты, принадлежат, без сомнения, к наиболее просвещенной части публики.
— …но вряд ли уместно облекать сухие судебные постановления в велеречивые отвлеченные рассуждения.
— Возможно. Раскрывая для публики скрытую сторону судопроизводства, она превращает ее во всеобщее достояние и делает мишенью для обсуждения.
Господин де Ноблекур закрыл глаза, и Николя решил, что он заснул. Сегодня он с трудом следил за извилистым путем мыслей почтенного магистрата.
— Дорогой Николя, когда мне было двадцать лет, отец отправил меня в долгое путешествие по Европе. В Неаполе я слушал дебютное выступление кастрата Фаринелли, исполнившего короткую партию в опере «Анжелика» композитора Порпора. Было это, кажется, в 1720 году. Вы даже представить себе не можете, какие роскошные костюмы, а какие голоса… Бархатные платья, волны сверкающего золотом шелка, высоченные каблуки, головокружительные прически. Позднее, в Милане, в 1726 году, во время своего второго путешествия в Италию, я снова слушал оперу. Но теперь на сцене был только он, его голос затмевал все вокруг него. Ах, какой голос!
Николя спрашивал себя, куда ведут замысловатые извивы мыслей Ноблекура. Каждый раз, когда бывший прокурор сворачивал в сторону, он терялся в догадках: что это, свободный, ничем не сдерживаемый полет мысли или же прозорливый ум Ноблекура, вдохновленный образами и идеями, специально двигался по касательной?
— И куда нас привели кастраты?
В удрученном взоре Ноблекура промелькнула лукавая усмешка.
— Драгоценности, цветы и пурпур притягивают взоры, а скромное очевидное смиренно хранит тайну. Вы понимаете меня?
Не получив ответа, старый магистрат заволновался.
— Ну, давайте, взбодритесь же! — раздраженно и настойчиво произнес он. — Возьмите себя в руки. Приведите в порядок себя и свои действия. Вас, при невинном попустительстве королевы, втягивают в дело, где вполне могли обойтись без вас. Но вас заставляют за него взяться, потянув за самую чувствительную ниточку. Зная вас как верного слугу трона, они понимают, чем вас приманить. Признайтесь, вы никогда не получали выгод от своей преданности. Всейзнайка Сартин ни словом не обмолвился о гораздо более важном деле, которое вы расследуете, и вас это совершенно справедливо удивляет. И не бойтесь делать выводы. Не упирайтесь только в одно дело: продолжайте потихоньку расследовать таинственную смерть загадочного узника. Перед вами жертва, которую, в сущности, убили дважды, а перед смертью непонятным образом заточили в не подходящую для ее приговора тюрьму. Следовательно, кому-то очень надо, чтобы вы не докопались до истины, а значит, вы столкнулись с делом государственной важности. О, разумеется, вы, следователь по особо важным делам, вы вправе бросить след! «Разбейте вдребезги мои справедливые сожаления!»[25] Не думаю, что вы сдадите позиции. Так «вперед же, играйте гордо, трубы!!!»[26]
И Ноблекур в едином порыве схватил хищной рукой огромный лимонный цукат и стремительно заглотил его под укоризненным взором Сирюса: тот уже несколько минут потихоньку придвигал к нему лапу.
Николя по-прежнему был задумчив.
— Вас еще что-то беспокоит?
— Сегодня ночью Луи встречался с матерью. Она в Париже проездом и просила его ничего мне не говорить.
— Но он все же рассказал?
— Да… и я хочу ее увидеть.
— Никто не смеет вас отговаривать или давать советы. Однако не забывайте… Не следует подносить паклю к тлеющей жаровне.
— Вы знаете, как прошла наша последняя встреча в Версале…
— Знаю, и это многое объясняет. Пусть ночь дарует вам совет.
Вторник, 11 февраля 1777 года.
Проснувшись очень рано, Николя быстро вышел из дома; на улице царили мрак и холод. И хотя мороз крепчал, Николя решил отправиться на улицу Бак пешком, перейдя Новый мост, и дальше, набережной левого берега. Антуанетта Годле, в прошлом Сатин, уступив свою модную лавку паре галантерейщиков, сохранила за собой комнатку на антресольном этаже; пока она жила в Лондоне, комнатка пустовала. Добравшись до места, он так уверенно прошел мимо привратника, что тот не решился его расспрашивать. Поднявшись на антресольный этаж, он на миг остановился, вновь охваченный сомнениями. Правильно ли он поступает, нарушая покой Антуанетты, вторгаясь в ее жизнь, которую она по его же предписанию ведет вдали от него? Или она сама захотела уехать? Наконец, убедив себя, что отцовские чувства оправдывают его поведение, он с легким сердцем взял в руку дверной молоток. Несколько минут ожидания показались ему вечностью. Наконец дверь приоткрылась, и он увидел Антуанетту. Узнав его, она зажала рукой рот, сдерживая рвущийся наружу вскрик, отступила, словно намереваясь пуститься в бегство, и неожиданно расплакалась, окончательно смутив Николя. Впрочем, волнение не помешало ему заметить догоравшую в камине кипу бумаг. Продолжая плакать, она судорожно обняла его. Чувствуя, как сильно бьется ее сердце, он вспомнил, как давным-давно в Геранде держал в руках трепещущее тельце ласточки, случайно залетевшей к нему в комнату. Однако как изменилась Антуанетта! Ни от милой простушки его юности, ни от пансионерки «Коронованного дельфина» не осталось и следа. Он видел перед собой соблазнительную женщину, чья внешность за годы разлуки приобрела неизъяснимое благородство. Легонько оттолкнув ее, чтобы получше рассмотреть, он без слов заключил ее в объятия. Охваченный пробудившимся желанием, он отнес ее на кровать и там, прижимая к себе прежнее и одновременно совершенно новое тело Антуанетты, вновь обрел свою юность. Оба с равным пылом предались заново обретенной страсти.
Потом настало время смирить чувства и многое рассказать друг другу. В Лондоне ее лавка располагалась в одном из наиболее многолюдных пассажей, и торговля ее процветала. Она сказала, что поддерживает связи с парижскими модными торговцами, и в частности, со знаменитой госпожой Бертен, что в английской столице лавку ее посещают высокородные клиенты. Ее речь, ставшая, по сравнению с прежней, грамотной, выверенной и изысканной, кружила ему голову. Она была счастлива повидаться с Луи: он стал таким красивым! Но она никак не могла поверить в блестящее будущее, какое сулит ему его положение и имя. Он поблагодарил ее за великодушие, она опять расплакалась, и он, как и семнадцать лет назад, когда они встречались у нее в каморке под крышей, стал утешать ее, нежно гладя по голове. Он, наконец, понял, что она значит не только для него, но и для всего рода Ранреев: в его и ее сыне воплотилось будущее этого рода.
— Я должен просить у тебя прощения. Тогда, в Версале, я был груб…
Она не позволила ему договорить.
— Замолчи! Я страдала, но я тебя простила. Ты не можешь быть жесток. Я все поняла, все!
Приблизился час прощания. Антуанетта исчезла в будуаре. Одеваясь, Николя заметил в углу комнаты груду тюков и узлов. На надписях значилось имя миссис Элис Домби, без сомнения, английской клиентки Антуанетты. Особенно его заинтересовал загадочной формы кожаный футляр: на нем стоял адрес и имя знакомого ему английского поставщика. Не развивая мысль дальше, он на всякий случай отметил этот факт. Выйдя к нему в дорожном платье, мать Луи снова расплакалась и не захотела, чтобы он провожал ее до почтовой кареты, отбывавшей с улицы Фоссе Сен-Жермен л’Осеруа в направлении Булони.
Запутавшись в собственных мыслях, он шел по улице Бак, даже не подумав взять фиакр, хотя они во множестве проезжали мимо. И только колючий мороз вывел его из охватившего его оцепенения. Его обуревали противоречивые чувства. Неужели он забыл Эме д’Арране? Самое время о ней вспомнить! Что за безумие на него нашло? И все же он не чувствовал за собой вины; порыв, которому он поддался, был искренним и неожиданным. Он по привычке принялся анализировать собственные чувства. Антуанетта вызвала у него прилив нежности, ибо являлась частью его молодости. К тому же она — мать Луи. При этой мысли сердце его преисполнилось сладостным трепетом. Однако он не мог не воздать должное ее решительности и способности устроить свою собственную жизнь. Ему стало досадно, что она не нуждается в его покровительстве. Интересно, откуда у него возникла такая потребность? Может, потому, что он старше ее на несколько лет? А может быть, он любит сразу двоих? Ему вспомнилось одно из наблюдений Ноблекура. Неужели старый магистрат читал в его сердце лучше, чем он сам? Пора положить конец бессмысленным рассуждениям; он слишком привык всегда и все усложнять. Но несет ли он ответственность за свою противоречивую натуру? После длительного пережевывания беспорядочных мыслей он с трудом обрел прежнюю ясность ума.
Наконец он взял фиакр и отправился к портному показать кусок ткани от куртки незнакомца из Фор-Левека. Его вторжение в святилище моды вызвало настоящий переполох. Мэтр, как обычно, мрачный, восседал в кресле. Увидев Николя, он дважды стукнул по полу тростью, и толпа подмастерьев, сорвавшись с места, принялась разматывать огромный лист шелковой бумаги, закрывавший ивовый манекен, одетый, как показалось Николя, в ослепительное платье.
— Господа, снимайте. Маркиз де Ранрей оказал мне честь своим посещением. Вот уже пятнадцать лет, как я крою для него фраки, и наши общие воспоминания… «этот достойный господин Вашон…»[27] Ах, мы друг друга понимаем. Но никогда не следует забывать об осторожности, у конкурентов есть свои шпионы.
Поклонившись мэтру, Николя обошел кругом манекен.
— Да это настоящий шедевр!
Вашон просиял от гордости.
— Парадный наряд из шелка цвета слоновой кости. Длинная юбка на панье. Полюбуйтесь, какая вышивка украшает корсет, какой мысочек спускается до самого края юбки! Разумеется, такой фасон был еще у Помпадур, но красота не устаревает! Это парадное платье сшито для немецкого двора.
Николя склонился над узорчатым рисунком, где китайские мотивы переплетались с западными орнаментами и вязью стилизованных цветов.
— Ну разве не красота? Ткань прибыла из Китая. Только тамошние люди, трудолюбивые и терпеливые, могут создавать вышивки и на атласе, и на шармезе. Они умеют аккуратно водить нить во все стороны, сохраняя блеск и свежесть оттенков; видите, как тон за тоном нежный цвет молодой слоновой кости переходит в цвет кости зрелого слона, а затем в цвет кости, потемневшей от времени.
— Итак, дела идут?
— Смотря с какой стороны посмотреть. У нас становится все больше иностранных клиентов, французская мода распространяется повсюду. Но все течет, все изменяется. Мода на высокие прически вытесняет моду на фонтанж, что огорчает наших кружевниц, побуждая их отыгрываться на манжетах. После заключения мира к нам стали поступать ткани из Англии. Сейчас самой модной тканью является имитация атласа. Теперь все хотят носить рединготы как более удобную одежду. Как будто красиво одеваться означает одеваться удобно!
Николя показалось, что последнее замечание сделано специально для него, ибо он, привязавшись к удобному покрою платья, с большой неохотой менял его.
— А знаете, что самое плохое? — продолжал Вашон. — Процветающие модные лавки! Людовик Великий допускал портних только до изготовления нижнего белья, а теперь они шьют верхнюю одежду! Сейчас я вам все объясню в деталях. Возьмите, к примеру, платье для представления ко двору… «этот достойный господин Вашон…» Я шью верх, корсаж на китовом усе, а потом является модистка и начинает придумывать украшения. В сущности, она не делает ничего, только навешивает безделушки. Если верить ей, существует не менее ста пятидесяти способов украсить платье, и каждый способ имеет свое название. Очень трудно отличить аферистку от торговки модным товаром.
— Значит, торговля развивается ко всеобщей выгоде.
— Увы, — произнес Вашон, сморщив свое вытянутое тощее лицо, — игра не ведется честно. У них есть преимущества, с которыми я не могу бороться. Если слухи верны, нравы этих женщин весьма вольны, и они, чтобы оживить торговлю, всегда готовы прыгнуть в закрытую английскую карету! А какие у них шикарные лавки, господин маркиз! Их заведения нисколько не похожи на скромные портновские мастерские. Помнится, был я как-то…
— Вы хотите сказать, что после вашей жатвы остаются колоски?
Бросив властный и одновременно недоверчивый взгляд на молчаливо сбившихся в кучку подмастерьев, Вашон отвел Николя в сторону.
— Я много думал. Сейчас нельзя оставаться ворчуном, мне пришлось переманить работницу у госпожи Бертен, модистки королевы.
— Господин Вашон, что вы такое говорите!
— Я купил помещение на улице Руаяль, очень богатое, и украсил его по последнему слову моды. Работница наняла умелых мастериц. В этой лавке они продают только мои изделия. Таким образом, я, оставаясь в своей старой норе на улице Марэ, тоже пляшу в модном хороводе!
И влюбленным взглядом он окинул окружавшие его мрачные стены.
— Я никогда не отважусь покинуть здешнюю мастерскую… А знаете, ежели все и дальше пойдет как по маслу, то эта разукрашенная лавка утроит мой доход. Лишь бы король сохранил мир!
— И как же называется новое пристанище хорошего вкуса?
— «Серебряные ножницы».
— Отличное название! Вы только что говорили о поставках из Англии.
Он вытащил из кармана кусочек ткани, взятой в мертвецкой.
— Не могли бы вы мне сказать, откуда прибыл к нам сей клочок?
Мэтр Вашон взял ткань, помял ее в руках, понюхал и довольно закивал головой.
— Шерсть, очень хорошего качества, плотная и теплая. Производится в Англии, а точнее, в Шотландии или на соседних с ней островах.
Он потянул ткань за концы.
— Соткана вручную.
— А можно купить такую ткань во Франции?
— Нет. Я видел редингот из нее на одном из своих клиентов, лорде Дэнморе, и, заинтересовавшись, подробно расспросил его, ибо никогда прежде не видел шерсти такого отличного качества.
Пройдя через темный, заваленный снегом дворик, полностью скрывавший мастерскую от любопытных взоров, Николя уходил, довольный своим визитом. Если вердикт портного верен, можно утверждать, что незнакомец из Фор-Левека каким-то образом связан с Англией. Что ж, пора дать отчет Ленуару, а потом вернуться в Шатле и продолжить расследование. Хорошо бы также посетить госпожу Бертен, модистку королевы. Следу я совету Ноблекура, он вместе с расследованием гласным негласно продолжит устанавливать личность незнакомца. К сожалению, пока он далеко не продвинулся ни в одном, ни в другом деле.
В особняке на улице Нев-де-Капюсин Ленуар дал ему краткую аудиенцию, и он, не входя в подробности, обрисовал общее состояние обоих расследований, не утаивая, что для каждого дела предполагает применить разные методы расследования. Начальник полиции задумался.
— Дорогой Николя, ваше сообщение меня изумило. Дело незнакомца из Фор-Левека кажется мне весьма дурнопахнущим, и сейчас я вам скажу, что меня беспокоит. С одной стороны, если бы не вы, я бы не знал, что в одной из королевских тюрем случилось из ряда вон выходящее происшествие. И это совершенно недопустимо!
Приятное одухотворенное лицо, только что выражавшее саму любезность, приняло крайне возмущенное выражение.
— Если каждый будет действовать наугад, работа полиции окажется невозможной. С другой стороны, неведение Сартина, всегда спешащего узнать все первым, заставляет задуматься. Предположим, существует некая секретная комбинация, на которую вы с вашим тонким чутьем, к счастью или к несчастью, вышли. Сегодня я получил известие, подкрепляющее опасения: господин де Мазикур, комендант Фор-Левека, ранним утром уехал из Парижа в Апт, городок в Провансе, куда его призвали неотложные дела. Очень странно, если не сказать подозрительно. Будьте осторожны и держите меня в курсе. Я же подумаю, чем можно вам помочь. О втором деле скажу: поговорите с королем. В конце концов он все равно все узнает, ибо так или иначе, но долги королевы должны быть оплачены. Его величество любит вас и доверяет вам. Но если вы не будете с ним откровенны, от этой любви не останется и следа! Разумеется, король вряд ли вам поможет, но вы же знаете, если у него и не всегда есть воля осуществить свои решения, то ревности у него предостаточно.
При прощании генерал-лейтенант протянул Николя маленький отпечатанный листок, чтение которого тот отложил на потом. Покидая особняк Грамона, он думал, насколько ему повезло работать под началом человека с твердым характером и одновременно доброжелательного, не обладающего язвительностью выскочки и руководствующегося только интересами службы. Овдовев, Ленуар пристрастился к книгам; он вел размеренную жизнь, наполненную тихими радостями, дарил сыновнюю любовь матери и отцовскую — дочери. У него было полно завистников, мечтавших о его смещении с должности, но он не обращал внимания на их нападки и продолжал делать свое дело. Его сдержанное отношение к Неккеру никак не повлияло на благожелательное отношение к нему короля. Господин де Лаборд однажды подвел итог, процитировав Маро:
Коль он понравится тебе, король французский, Бери его, но помни, что, погубив его, Жемчужину погубишь.На улице Николя развернул переданную ему Ленуаром записку:
«Госпожа Ленуар и господин Ленуар, государственный советник и начальник полиции, имеют честь сообщить вам о вступлении в брак мадемуазель Ленуар, их внучки и дочери, с господином Була де Нантей, следователем, и просят вас присутствовать на подписании брачного контракта его величеством, 23 февраля 1777 года в Версале».
Неожиданно ему показалось, что за ним наблюдают. Двигаясь в сторону своего фиакра, он обернулся, и два субъекта немедленно отвернулись, чтобы он не увидел их лица. Полицейские агенты? Он никому ничего не поручал. Тем более что кое-что в этих людях ему показалось странным. Приказав кучеру ждать его на улице Бас-дю-Рампар, со стороны бульвара, он медленно пошел в сторону площади Вандом, которую по привычке продолжал называть площадью Людовика Великого. Но вместо того чтобы направиться на площадь, он, притворившись, что поскользнулся на талом снегу, остановился и, наклонившись, чтобы почистить край плаща, одновременно посмотрел назад. Двое, следовавшие в двух туазах от него, также остановились. Больше сомнений не было, за ним установили слежку. И как долго за ним следят? Он мог подойти к ним или же позвать их, но к чему это приведет? Каждый имеет право гулять по улицам, где ему вздумается. И он предпочел сделать вид, что не замечает их. Добравшись до монастыря Капуцинов, он юркнул в часовню и быстро спрятался за алтарем, откуда был ясно виден расположенный против света вход. Почти следом за ним дверь открылась, вошли двое и, остановившись на пороге, стали оглядывать помещение. Затем, о чем-то посовещавшись, они удалились.
Подозревая, что его наверняка ждут на улице, он задумался. Внимание его привлекла белая мраморная плита. Приблизившись, он прочел взволновавшую его надпись: здесь были похоронены маркиза де Помпадур[28], ее мать Луиза Мадлен де Ла Мотт и ее дочь Александрин. На него снова нахлынула волна воспоминаний. Время остановилось, прошлое возникло, словно обломок судна, выброшенный волной на морской берег. Он увидел совершенное по своей форме лицо, на котором сверкали серые глаза, с обожанием смотревшие на покойного короля. Эта любовь многое оправдывала, даже закулисные происки, которые постаревшая, больная и ревнивая маркиза в конце жизни вела с удвоенной энергией. У каждого, говорила она, две души — одна для добра, другая для зла. Он вновь пережил их свидание в Бельвю, словесный поединок, где каждый старался вложить в свои слова больше смысла, чем они содержали. «Вы верный слуга короля», — бросила она ему при расставании. Несколько минут он молился за ту, чей прах покоился в глубоком подвале, а заодно помянул в своей молитве несчастного Трюша де ла Шо.[29]
— Сын мой, вы, похоже, чем-то сильно удручены?
Николя чуть не подскочил. Старый священник в черной сутане и брыжах участливо смотрел на него. Николя повернулся к нему.
— Я задал вам вопрос не из праздного любопытства; ваше поведение привлекло мое внимание. Вы зашли в часовню и спрятались, потом появились эти двое… Мне показалось… Но я могу заблуждаться… Вас, случаем, никто не преследует? Быть может, вы нуждаетесь в защите святого места?
— Я молился за упокой души одной хорошо известной мне дамы.
— Здесь погребено много знатных дам.
Николя назвал себя и без обиняков объяснил, в какое положение он попал. Священник, оказавшийся исповедником монастыря Капуцинов, немного подумал, а потом направился за алтарь и потянул скрытую в каменном углублении ручку. Вдалеке раздался звон колокольчика. На левой стороне хоров открылась дверь, откуда выскочила низенькая полная монашка с розовощеким лицом и детскими глазами и уставилась на Николя. Священник изложил ей суть дела, и она, обхватив рукой подбородок, задумалась. Николя показалось, что она никак не может решиться, стоит ей исполнять просьбу начальства или же нет. Наконец она приняла решение в пользу комиссара. В стене, окружавшей монастырь, имелась выходившая на бульвар калитка: ею пользовался садовник, когда привозил дрова. Садовник мог спрятать Николя в телеге с дровами. Монашка вручила аббату ключ, и тот, проведя Николя по лабиринту монастырских коридоров, вывел его во внутренний дворик монастыря, где представили его садовнику. Молчаливый старик-садовник уложил Николя в телегу, соорудив над ним из досок своего рода второе дно. Комиссар поблагодарил своих спасителей, и телега выехала на бульвар. Глядя сквозь щели в бортах, Николя заметил одного из сбиров, караулившего у входа; второй сбир сунул нос в телегу садовника, и тот, щелкнув кнутом, сплюнул в его сторону. Убедившись, что телега пуста, субъект вернулся на свой пост, топая ногами от холода. Как было велено, фиакр ждал Николя на углу улицы Бас-дю-Рампар и пассажа Сандрие.
Этот случай заставил его задуматься. Кто мог заказать следить за ним? Тотчас всплыли дурные воспоминания: за свою полную опасностей жизнь он не раз становился объектом слежки. Отныне придется постоянно помнить, что за ним шпионят. Он стал прикидывать различные варианты. Месть? Его участие в расследованиях особо важных дел, знание множества государственных секретов, важных преступников и просто преступников и убийц, сумевших избежать наказания, делали его вероятным объектом для слежки, только вот чьей? Его сегодняшние дела также могли привлечь к нему повышенное внимание… только вот со стороны кого? До самого Шатле он терзался догадками, но не пришел ни к какому выводу. Прыжками поднявшись по большой лестнице, он пролетел мимо папаши Мари, изумленного его спешкой, и ворвался в дежурную часть, где возле камина стоял Бурдо и шевелил угли.
— Николя, наконец-то! Я прибыл из Фор-Левека, — взволнованно начал он. — И знаешь, что я обнаружил?
— Что господин де Мазикур, комендант вышеозначенной королевской тюрьмы, получил приказ отбыть в Апт и, невзирая на выходной день, спешно убыл в указанном направлении.
Лицо Бурдо выражало крайнюю досаду.
— Черт побери, откуда ты знаешь?
— Ха! Дорогой Пьер, неужели ты считаешь, что я бездействовал?
Бурдо не скрывал своего восхищения, и Николя упрекнул себя за высокомерие, допущенное им в разговоре с другом. Однако он был убежден, что начальник обязан уметь застать подчиненных врасплох.
— Ничто и никто, — добавил он, — не может объяснить, почему этому субъекту понадобилось срочно бежать из города.
И он сказал, что Сартин, похоже, не в курсе убийства узника Фор-Левека.
— А знаешь, — с хитрым видом произнес Бурдо, — что мне удалось узнать?
— Ну, так далеко моя проницательность не простирается!
Николя расхохотался, радуясь в глубине души, что искренне признался Бурдо в своем неведении.
— Как ты и сказал, незнакомец содержался в платной камере, а значит, еду ему приносили из города. Так вот, я узнал, что еду доставлял неизвестный с военной выправкой, то есть нисколько не похожий ни на лакея, ни на рассыльного.
— Пуговица! — воскликнул комиссар.
— Те, кто поставляет в тюрьмы обеды, обычно хорошо известны, но тут никто не знает, в каком трактире или харчевне он брал еду. Но, как сказал сторож, блюда, принесенные узнику, всегда отличались изысканностью.
— То есть в них чувствовалась рука умелого повара?
— Причем повара из хорошего дома.
— Из этого следует вывод, что узник — человек не простой, и его хотели содержать достойно, но без шума. Вспомним, что заточили его также по таинственному приказу некой неведомой властной силы.
— Ты множишь загадки. Впрочем, кажется, мы действительно столкнулись с чем-то из ряда вон выходящим: какой бы дорогой мы ни шли, все они приводят в тупик. Фор-Левек — начало пути, но конца у него нет. Увы!
Николя немного подумал.
— Ноблекур сказал бы, что в густом мраке даже маленькая искра становится путеводной звездой.
Бурдо фыркнул.
— В парадоксах, которыми он нас так щедро потчует, всегда есть доля истины. При условии, конечно, что мы сумеем ее вычленить…
— Всегда полезно его послушать. У истины, как и у лжи, множество лиц… Сколько необъяснимых вещей, столько же и способов выдать случайность за истину.
— Не хочешь ли ты, Николя, объяснить бедному малому, что скрывается за твоими пророческими речами?
— Что у нас есть козыри, чтобы продолжить партию. Сейчас я их перечислю. У нас есть точный портрет незнакомца, который мы покажем парижанам. Быть того не может, чтобы кто-нибудь да не узнал его! Мы знаем, как его убили. Ткань, которую, по утверждению Вашона, нельзя найти во Франции, дает основание полагать, что наш незнакомец — англичанин или прибыл из Англии. Есть признаки, доказывающие, что он занимался ремеслом, связанным с механикой. Наконец, у нас есть пуговица и записка, без сомнения, зашифрованная, но и ту и другую мы в конце концов сумеем использовать как улики.
Вошел папаша Мари, осторожно держа в руках дымящийся горшок горячего вина с корицей и две фаянсовые плошки.
— Вот, будет чем согреться! Я добавил туда добрую ложку своего успокоительного. Сегодня стены такие сырые, что от ревматизма не убежать. Печальный день для похорон.
Подскочив, Бурдо хмуро уставился на привратника.
— Черт возьми! Чем он хочет нас огорчить?
— Николя не оставил мне времени доложить ему. Промчался мимо привратницкой, словно хорек, преследующий кролика.
— И что же? — Николя почувствовал, что сейчас им сообщат нечто нехорошее.
— Что? Я всего лишь хотел сказать… Ладно, это мне урок: я о них забочусь, а они еще и недовольны! Принес им жизненный эликсир, а они меня ругают!
— Ну, — нетерпеливо молвил Николя, — давай к делу.
— Не понукай! Я всего лишь следовал твоим инструкциям.
— Каким инструкциям? О чем идет речь?
— Сейчас все тебе скажу и покажу.
Покопавшись в кармане, он вытащил оттуда мятую бумажку и протянул ее комиссару. Тот дважды прочел ее, вскочил со стула и большими шагами зашагал по дежурной.
— Как это возможно?
Бурдо, который в это время дул на горячее вино, поднял голову и заинтересованно уставился на друга.
— Дурная новость, Николя?
— Печальное известие! Да, действительно! Мой почерк, только он подделан. Да еще как мастерски!
И он помахал запиской.
— В этой подделке говорится, что тело следует изъять из мертвецкой и немедленно отвезти на кладбище Кламар для погребения. Ни больше ни меньше! По моему личному приказу! Действительно, дальше некуда!
Ошеломленный папаша Мари слушал, не веря своим ушам.
— Николя, я думал… Ведь ты же сам дал мне распоряжения о погребении.
— Ты здесь ни при чем, — ответил тот, дружески обнимая привратника за плечи. — Ты исполнил свой долг. Не волнуйся, мы найдем и накажем того, кто изготовил эту фальшивку!
Опустив голову, привратник вышел.
— Бедняга, — произнес Бурдо. — Ты его кумир, и ничто не может огорчить его больше, чем известие о том, что он, пусть даже невольно, причинил тебе неприятность.
Взглянув на часы, Николя подбежал к двери и окликнул папашу Мари.
— В котором часу забрали труп?
— Незадолго до одиннадцати. Какой-то молодой человек, военной выправки, дал мне письмо… То самое, которое выглядело, словно это ты его написал.
— Снова военная выправка! — воскликнул Бурдо.
— Нельзя терять ни минуты. Папаша Мари, вели потихоньку подогнать экипаж к боковому выходу, ну сам знаешь к какому. И отопри кабинет начальника.
— Зачем столько предосторожностей? — тревожно спросил инспектор.
— Сегодня утром я обнаружил за собой слежку, и только счастливое стечение обстоятельств позволило мне от нее избавиться. Не хочу, чтобы кто-нибудь вновь отправился за мной по пятам.
Они воспользовались тайным ходом, начинавшимся в кабинете начальника полиции: оттуда вниз сбегала винтовая лестница, упиравшаяся в дверь, выходившую на улицу неподалеку от крепости. Оглядевшись, они убедились, что за ними никто не идет. Фиакр поехал кружным путем по улице Вьей Плас-о-Во, затем по улице Планш-Мибрэ и доехал до моста Нотр-Дам. Переехав мост, они доехали до аббатства Святой Женевьевы и по улицам Муфтар, Фер-а-Мулен и Мюэтт подъехали к владениям монастыря Дочерей Милосердия; справа, рядом с улицей Фоссе Сен-Марсель находился вход на кладбище Кламар. Несколько раз Николя приказывал кучеру остановиться и оглядывался, нет ли за ними погони. Ощущение тревоги не покидало его. Люди, забравшие труп, без сомнения, пользовались высокопоставленной поддержкой, ибо они не стали скрывать место предполагаемого погребения.
— Печальный уголок! — промолвил Николя. — Твой дом ведь находится неподалеку, Пьер?
— У меня нет средств, чтобы переместить семейство в новоотстроенные пригороды. Выходец из народа живет среди народа. Но с весной даже сюда возвращаются теплые дни. Однако ты прав, место достаточно зловещее.
Войдя в калитку, они увидели перед собой достаточно большой участок, весь изрытый и покрытый земляными холмиками, словно кто-то выбрасывал здешний грунт из недр земных. Ни надгробных памятников, ни крестов, ни пирамид, никаких плит; понять, что перед тобой кладбище, не было никакой возможности.
— Никаких могил, — произнес, перекрестившись, Николя.
— Общие могилы; для бедняков и неимущих вполне достаточно. Больничные приюты Отель-Дье и Питье каждый день вышвыривают сюда свою дань. Тела не кладут в гробы, а зашивают в старые тряпки. Их грузят на телегу, которую сопровождает двенадцать могильщиков. Они выезжают в четыре часа утра, и когда я встречаю их по утрам, у меня каждый раз кровь стынет в жилах. Прибыв на кладбище, тела бросают в глубокий ров и сверху насыпают негашеную известь. Но это еще не конец. Ночью молодые хирурги перелезают через стену и выкапывают трупы, чтобы на примере мертвых учиться лечить живых. Итак, после кончины у бедняка забирают даже тело.
— Где может быть наш незнакомец?
— Я понимаю, почему они не стали скрывать, что отправятся на кладбище Кламар.
Стянув шапку, к ним приблизился старик с посиневшим от холода лицом.
— Господа хотят, чтобы им рассказали об этом кладбище? Мне часто задают странные вопросы, особенно иностранцы.
— Скажи, почему это кладбище носит название Кламар? Ведь оно же находится в черте города, а не собственно в Кламаре?
— Такой вопрос мне часто задают! — ответил старик, выпятив грудь. — На этой земле прежде стоял особняк Круи-Кламар, разрушенный в 1646 году. В начале нашего века здесь решили устроить кладбище.
— Большое спасибо, ты просветил нас. Скажи, а сегодня здесь были похороны?
Он внимательно посмотрел на своих собеседников.
— А кто вы такие, чтобы меня об этом спрашивать? Если вы хирурги, то вам тут точно не обломится!
— Что вы этим хотите сказать?
— Две недели назад какой-то юнец, из вашего цеха, решил под покровом ночи утащить труп. Когда пришлось лезть через забор, он привязал добычу к себе веревкой, чтобы удобнее было перебраться. Так вот, когда он полез, веревка соскользнула и затянулась у него на шее. Так он и повис на этой веревке с одной стороны стены, а труп — с другой. Утром мы нашли его задушенным: мертвец повесил живого!
— Что ж, — промолвил Николя. — По крайней мере, мы предупреждены. Мы из полиции и отвечаем за состояние кладбищ.
— Тогда я расскажу вам все. Сюда каждый день привозят партию трупов. Вот и сегодня тоже. Сорок шесть тел.
— И ничего особенного сегодня не произошло?
— Ох, вижу я, у фликов длинные уши. Впрочем, мне-то скрывать нечего. Сегодня доставили тело.
— В котором часу?
— В полдень же, говорю вам! Я ясно слышал, как звонил колокол у Страждущих, тем более ветер дул с севера. Но этот был не из обычной партии. Не было даже «корочки от пирога».[30] Только носилки, а на них тело, накрытое мешковиной. Я было пошел за ними, так меня очень даже грубо отшили. И священника не было!
— В каком рву они его похоронили?
— Не знаю, — произнес он, махнув рукой в непонятном направлении.
— Есть ли надежда отыскать труп?
Оборванец в изумлении устремил взор на собеседников.
— Ну, это вряд ли!
Но собеседники его были совершенно серьезны.
— Конечно, ежели определить тот самый ров… Их там целых шесть, куда они могли его сбросить. Придется копать и измельчать мерзлую землю… И вы, наверное, забыли, что потом сыплют известь, а та разъедает все на свете!
— Он прав, — шепнул Бурдо на ухо другу. — Нас снова обскакали, и здесь нам больше делать нечего. Черт, удар нанесен рукой мастера. Ясно, за тобой следили и знали, что ты уехал… Однако пора им доказать, что мы не дадим безнаказанно смеяться над нами! У нас есть портрет, где мертвец наш выглядит как живой.
Николя дал двойной экю сторожу, и то с благословениями проводил их до фиакра. Что означали все эти события? Какая могущественная сила дергала за веревочки интриги, начатой с неизвестно какими целями? Кто организатор преступления и как его разоблачить? Он чувствовал, как опасности множились с неотвратимой силой, но не понимал, как им надобно противостоять.
— Разум подсказывает: не следует хотеть там, где мы ничего не можем. Если одни двери закрыты, ищи другие, открытые.
— Вот и вы прониклись философствованиями а-ля Ноблекур, — уныло усмехнулся Николя. — Что ж, раз нам не удалось вернуть наш труп, воспользуемся хотя бы тем, что мы находимся в квартале, где проживает некий господин Родоле, к которому меня некогда направлял Секвиль.
— Секретарь посольской службы сопровождения?
— Он самый. Родоле, общественный писарь и каллиграф, может помочь расшифровать записку, найденную в камере нашего узника из Фор-Левека.
— Ты уверен, что этот Родоле согласится нам помочь?
— Не уверен, но попробовать стоит.
Экипаж въехал в узкую и тихую улочку Шипионе. Там, среди всевозможных ограждений, защищавших стены и входные двери от губительного столкновения с колесами экипажей, рискнувших въехать в эту улицу, скопились кучи нападавшего снега.
— Чувствуешь здоровый запах свежего хлеба? Можно подумать, что мы подъезжаем к дому Ноблекура!
— Это значит, — ответил Бурдо, довольный, что может сообщить своему начальнику, справедливо считавшемуся знатоком Парижа, что-то новое, — что мы подъезжаем к дому Шипионе[31], где сейчас расположена пекарня: в ней выпекают хлеб для всех больничных приютов города.
Маленький домик общественного писаря Николя узнал сразу; вплотную к домику примыкала типография. Стоило им войти, как горло им обожгло едкими запахами чернил и лака. Толстяк в сером колпаке и в хламиде без рукавов, заправленной в черные штаны до колен, показался комиссару вынырнувшим из прошлого, такого близкого и такого далекого одновременно. С их первой встречи прошло три года. Родоле смерил визитеров оценивающим взором.
— Сударь, — начал Николя, — полагаю, вы меня помните? Я друг господина де Секвиля.
— Да, господин маркиз. В начале 74-го вы просили у меня совета относительно одного письма и одного поддельного завещания. Я все помню как сейчас.
Когда писарь назвал его титул, Николя удивился, ибо точно помнил, что в свое время представился ему как комиссар Ле Флок. Но когда речь шла о Родоле, похоже, ничему не следовало удивляться.
— Я вынужден еще раз прибегнуть к вашим познаниям, сударь.
— А этот господин? — произнес Родоле, бросив нелюбезный взор в сторону Бурдо.
— Инспектор, мой помощник и мое второе «я».
— Как чувствует себя господин де Сартин?
— Позавчера он принимал меня у себя в Версале. В эти трудные и грозные времена он полностью поглощен делами флота.
— Времена зависят от людей, они делают их справедливыми или несправедливыми. Посмотрим, что у вас на этот раз?
Николя протянул ему тоненькую полоску бумаги.
— Похоже, это зашифрованное послание. Входят ли такие послания в вашу компетенцию, можете ли вы разобраться в шифре?
Родоле засмеялся.
— Вы льстите мне. Мы всего лишь струнные инструменты в руках природы, играющей на них; но когда она касается струны нашего самолюбия, не стоит доверять ее песням. Давайте сюда ваш шифр.
Он поднес к бумажке увеличительное стекло и долго ее изучал.
— Это не чернила… Свечная сажа, разведенная водой… Это вам что-то дает?
— Подтверждает наши предположения, что записка написана именно там, где ее нашли.
Отложив в сторону бумажную полосочку, Родоле стал рыться среди толстенных томов, выстроившихся на полке над его рабочим столом; рядом с книгами соседствовали ячейки для перьев, бутылочки с чернилами и пластинки цветного воска, в растопленном виде употреблявшегося для запечатывания писем. Выудив две книги, он стал вдумчиво листать их.
— Вы говорите по-английски, господин маркиз?
— Да, и мне показалось, что записка составлена на этом языке, но я не понял содержащихся там терминов, если они, конечно, что-либо значат.
— О! Еще как значат. Эти термины из области механики.
— И их могут знать как ювелиры, так и часовщики?
Родоле удивленно взглянул на него.
— Мы движемся ощупью между истинным и ложным, очень легко соскользнуть и в одну, и в другую сторону, и никто не подскажет, если мы ошибемся; однако…
— Однако?
— Все говорит за то, что речь идет о часовом механизме. Видите, FüSee, термин французский, но написан странно. Речь идет о штифте с бороздкой, на который накручивается подвес маятника. Два другие термина английские, они определяют форму штифта и бороздки, и я пока не понимаю, к чему они здесь. Что пытался сказать нам автор этой странной записки: «FüSee coniçal sPiraly»? У вас есть какие-нибудь соображения?
— Никаких. Похоже, единственной задачей автора являлось составление некоего послания.
— Я склонен поддержать вашу гипотезу. Быть может, нам действительно стоит двигаться именно в этом направлении. Конус — это пирамида с круглым основанием. Спираль оборачивается вокруг цилиндра, в нашем случае вокруг конуса. Как ни крути, смысл ускользает от понимания.
Стянув колпак, он яростно скреб лысину, в третий раз перечитывая записку.
— Ах, черт! — наконец воскликнул он, и его морщинистое лицо озарилось радостью. — Как же хитро придумано! Сначала мы идем по ложному пути, потом попадаемся на крючок… Ха-ха! Вот уж точно, великолепная придумка!
Толстяк даже ногами затопал, словно собирался станцевать джигу.
— Что вы хотите сказать, господин Родоле?
— Я боялся, что вы разочаруетесь в моих способностях, а теперь мне все стало ясно… ясно как днем. Долой заблуждения.
Сгорая от любопытства, Николя и Бурдо облегченно вздохнули.
— Что хотел сказать автор записки? Две противоположные вещи, и потому ему пришлось скрыть одну под другой, одна истина служит оболочкой для другой! Во-первых, он хотел привлечь внимание того, кто прочтет его послание, к его деятельности, которая вся или частично связана с изготовлением часов. Но это не все, и я снимаю перед ним шляпу, то есть свой колпак, за его вторую подсказку.
— Какую?
— Та-та-та! Не торопитесь, тайны раскрываются не быстро.
И он принялся снова изучать таинственное послание.
Глава VI ЛАБИРИНТЫ
Demonstres ubi tuae tenebrae.
Скажи мне, в каком темном углу ты спрятался?
КатуллРодоле поднял голову.
— Он сумел скрыть суть, преумножая указания, понятные часовщикам.
— А вы заметили, — произнес Бурдо, — большие буквы посреди слов, а также ü и ç? Разве они стоят на своих местах?
— Вы правы. Я обратил на это внимание.
Он взял бумагу и перо и принялся выстраивать слова без всякого порядка, а затем рассыпал их по буквам. Внезапно он рассмеялся.
— Способ маскировки весьма изобретателен, но шифр оказался совершенно детским. Почему заглавные буквы? Полагаю, чтобы отметить начала слов. Смотрите. F, S и Р. Представьте, что он хотел сообщить свое имя: тогда начальной буквой имени станет первое F. Возьмем самое распространенное имя. Франсуа прекрасно подходит. У нас есть F, r, а, n, ç, о, i и s! Но у нас есть еще строчные буквы и заглавная буква S. Почему бы ей не быть буквой его второго имени? Посмотрим.
Взяв словарь, он принялся его лихорадочно листать.
— Нашел! У нас есть S, а, ü и l. Следовательно, с большой P начинается фамилия.
— И что у нас осталось? — спросил Николя.
— Два e, одно i, I, y и начальное P.
— Что дает нам, — вымолвил после размышления Бурдо, — Пилей или Плеий. Или Пейли.
— Последний вариант мне кажется наиболее предпочтительным, — ответил Родоле. — Получается Франсуа Саул Пейли. Саул — имя крайне редкое, обычно его носят приверженцы так называемой реформированной веры.
— Протестант?
— Да, и, видимо, прибывший из Англии.
— Сударь, — ответил Николя, — я восхищен вашим талантом.
— Тот, кто искренне восхищается талантами другого, сам никогда не бывает бесталанен, господин маркиз.
— Итак, — подытожил Бурдо, — остается отыскать тех, кто встречался с неким Франсуа Саулом Пейли, часовщиком, одетым в куртку из шотландской шерсти.
— Сомнений нет: за вашей запиской скрывается часовая мастерская, но я не настолько разбираюсь в этих материях, чтобы идти с вами дальше. Впрочем, чутье мне подсказывает, что упоминание о часовой механике заключает в себе еще одно, тайное послание. Спросите наших великих часовщиков, например, Берту или Леруа. А потом, я подумал…
Он с удовольствием потер руки.
— Что еще?
— Мы были первыми часовщиками, до тех пор пока не издали эдикт Фонтенбло. Потом…
— Эдикт Фонтенбло? — переспросил Бурдо.
— Да, — ответил Николя, — отменявший Нантский эдикт.
— Совершенно верно; именно в это время многие искусные ремесленники покидали королевство, и пути их лежали в Женеву и Лондон. Но при покойном короле правительство путем заманчивых обещаний сумело вернуть некоторых из тех, кто обосновался за Ла-Маншем. Копайте в эту сторону, возможно, ваш незнакомец — один из бывших эмигрантов.
Родоле проводил их до фиакра и, попрощавшись, попросил передать свои уверения в совершеннейшем почтении Сартину. Прежде чем вернуться к себе в дом, он бросил подозрительный взор в оба конца улицы Шипионе. Отъезжая, они услышали скрежет задвижек: писарь затворялся у себя в лавке. Какие еще секреты он скрывал? По дороге в Шатле оба сыщика возбужденно обсуждали выводы, сделанные их консультантом. Привлекая внимание Бурдо, Николя отметил необъяснимое желание каллиграфа осведомить Сартина о визите Николя. Подумав, сыщики согласились, что Родоле, часто общаясь с власть имущими и вершителями политики государства, перенял у них привычку изъясняться намеками и недомолвками. Но главное, у них появились весомые основания для продолжения расследования: они знают имя незнакомца из Фор-Левека и уверены, что он имел отношение к часовщикам.
— Надо, — начал Николя, — тщательно просмотреть журналы регистрации иностранцев, прибывших в Париж примерно за последние полгода.
— Черт побери! Как ты это мыслишь? Это же муравьиная работа!
— У нас агентов больше чем достаточно. Отправь кого-нибудь из них, пусть пожужжат! А для ровного счета пусть также поищут упоминание о некой миссис Элис Домби.
Записав имя на листке из записной книжки, он передал листок инспектору.
— О ком идет речь?
— Имя, случайно услышанное при дворе.
Бурдо покачал головой и ничего не сказал.
— Мы могли бы пойти поужинать ко мне; улица Фоссе Сен-Марсель совсем рядом.
— Прекрасное предложение! Уверен, твоя жена окажет мне гостеприимство… а потом выцарапает тебе глаза за то, что ты привел меня без предупреждения.
— Не думал, что ты знаешь ее лучше, чем я!
— Это только к Катрине можно заявиться в любое время. Она всегда рада, когда ее просят чем-нибудь поживиться, таков обычай бывший маркитантки.
— У себя дома женщины ненавидят неожиданности.
— В Геранде каноник, мой опекун и приемный отец, часто приводил к ужину голодных бедняков. Если бы ты видел Фину, мою кормилицу. Всегда добрая и радушная, она превращалась в настоящую фурию: била посуду и даже ругалась по-бретонски!
При этом воспоминании он рассмеялся.
— Какие у тебя есть соображения?
— Мы могли бы перекусить у мамаши Морель. В такое время доброе рагу из мясных обрезков отлично согреет нас. К тому же сегодня жирный вторник.
Мысль пришлась Николя по душе, и он велел кучеру ехать на улицу Бушри-Сен-Жермен. При въезде в тупик, где располагалась харчевня, они буквально утонули в кровавой снежной каше, образовавшейся после утреннего забоя скота. Оторвавшись от хлопот у плиты, хозяйка заведения устремилась им навстречу. Она сильно постарела, сгорбилась и передвигалась на высоком стуле с колесиками; при виде перемен, произведенных неумолимым бегом времени с их давней приятельницей, они опечалились. Резво катаясь на своем стуле вдоль плиты, мамаша Морель, словно монарх на троне, зорко наблюдала за хозяйством, управляла голосом и движениями руки, успевая при этом проследить за кипением котелков и шкворчанием сковородок. Посетителей обслуживала шустрая и веселая девушка в коротком казакине с баской и в чепчике.
— Ого, ты обзавелась служанкой, мамаша Морель! — бодро воскликнул Бурдо.
— Пришлось, мои ноги не вечны, как Новый мост. То и дело подгибаются, и я боюсь упасть.
— Мы промерзли, проголодались и тотчас подумали о тебе.
— После того как столько раз изменяли мне! Я уже сказала себе: эти негодяи меня забыли! Но я по-прежнему помню ваши вкусы. Так вот, сегодня вечером я предложу вам ягнячьи потроха с салом, но прежде подам капустный суп, в котором они томились, затем бычьи хвосты в горчичном соусе, яйца с чесноком и на закуску литургические хлебцы.
— Замолчи, несчастная, и это накануне поста! Ты хочешь сказать, гостии.
— Согласна, раз тебе так больше нравится: ты же мой гость.
— Давай-ка расскажи, как ты готовишь свои ягнячьи потроха.
— Сейчас, не торопись. Я беру голову ягненка, печень, сердце и ножки. Все, разумеется, вымытое, подсоленное и бланшированное. Наливаю в котелок воды, кладу голову, сердце и ножки, добавляю сальца, капусты, кореньев, морковки, пастернака, мелко нарезанный лук и гвоздику. И все это, мальчики мои, долго тушится, до тех пор, пока мясо не станет разделяться на волокна. Затем я на минуточку опускаю туда печенку, самую лакомую и нежную часть потрошков. И получается, скажу я вам, пальчики оближешь, особенно когда подают горяченьким. Ну ладно, сейчас я вам кое-что расскажу. Садитесь вон за тот столик, возле меня, жаркий огонь согреет вас. Элиза, миски для моих друзей.
Служанка помчалась исполнять приказание.
— Я могу на нее положиться, — промолвила мамаша Морель. — Она умеет подать, моментально распознает тех, кто пытается съесть, не заплатив. Она знает, сколько будет половинка от полсетье или четвертушка от полштофа, когда убирать закуску и нести жаркое. Все блюда помнит безошибочно и меняет их именно в нужный момент. Да вдобавок еще и скромница, ну чистый цветок! Такое не часто встречается, в нашем деле служанки очень скоро начинают мести не только метлой, но и хвостом! А тот, кто посмеет заигрывать с ней, тотчас получит достойный отпор. Хоп — и блюдо с соусом уже у него на голове.
Подали суп. Она украдкой подсунула им кувшинчик винца, хотя и не имела права торговать вином. Присутствие комиссара она сочла гарантией от неприятностей.
— А вот и потрошки! Вынув из бульона и мелко порубив их, я переложила их в глубокую сковородку, добавив тмин, лавровый лист, петрушку, маленькие луковички, эстрагон, пару ложечек бульона, уксус и несколько капель растительного масла, а потом потушила. Я подаю их теплыми, вместе с мелко нарезанным салом.
Хлопоча вокруг стола, служанка поставила длинную глиняную форму, от которой шел пар.
— А вот и бычьи хвосты. Их сварили, откинули, потом обмакнули в яйцо и запанировали в хлебных крошках. Видите, какого они красивого золотистого цвета? К ним полагается миска горчичного соуса с луком-шалотом и зернышками горчицы. Да, и принеси-ка этим господам несколько корочек, поджаренных на уголечках, чтоб было что макать в тарелку и чем подбирать соус. Ну что, кто после этого скажет, что в тарелке не водится счастье? Что нет приятных ощущений в горле? Если хотите, кушайте все вместе, эти блюда позволяют смешивать соусы безо всякого ущерба для рагу. А длинные рассуждения лучше оставьте для завтрака.
Появилось новое блюдо с резким, но аппетитным запахом.
— Яйца с чесноком, — торжественно провозгласила мамаша Морель.
— Она окончательно добьет нас своими блюдами! — восторженно воскликнул Бурдо, раскрасневшись от жары и вкусной еды.
— Сегодня вечером только хорошая добрая еда, какую нужно есть в жирный вторник! — добавил Николя. — А как ты готовишь эти яйца?
— Эти яйца? Их варят вкрутую, а все самое вкусное — это приправа. Десять долек чеснока раздавить и смешать с горстью анчоусов, щепоткой каперсов, растительным маслом, капелькой уксуса и перцем. Очень знатный вкус! Хрустящий хрящ в объятиях нежного желатина. Вдобавок я гарантирую вам сон без сновидений, чеснок — это панацея.
Обсасывая хрящик бычьего хвоста, Николя, большой ценитель смешения вкусов, неожиданно почувствовал, как кто-то потянул его за полу фрака. Удивленный, он опустил голову и обнаружил на уровне колена старушку, согбенную почти под прямым углом и опирающуюся на палку. Утопавший в груди подбородок не позволял ей поднять вверх лицо, и, чтобы взглянуть наверх, ей приходилось поворачивать голову в сторону. Глаза, грязно-желтого цвета, усеянные красными прожилками, когда-то были голубыми. Николя внимательно вгляделся в этот обломок жизни.
— Сударь, подайте милостыню старухе…
При звуках блеющего голоса в нем пробудилось щемящее чувство жалости, щедро приправленное горечью, и что-то давно забытое зашевелилось в самом дальнем углу памяти.
— Опять эта старая кляча явилась! — проворчала мамаша Морель. — Давай, падаль, вали отсюда. Ух, мерзавка!
Внезапно в памяти Николя вспыхнул свет. Он увидел себя в фиакре вместе с Бурдо шестнадцать лет назад: они ехали на Монфокон на живодерню. И с ними была она, старуха Эмилия! В тот день она сидела напротив него в фиакре и, кутаясь в бывшие некогда роскошными лохмотья, бросала на него бесстыдные взоры. Сколько лет ей сейчас? Если девицей она проводила вечера в обществе регента, герцога Орлеанского, то в 1720 году ей было никак не больше двадцати. Значит, она немногим моложе Ноблекура. Он толкнул локтем Бурдо, успевшего за время его размышлений уплести почти половину яиц.
— Пьер, посмотрите на эту несчастную. Она вам никого не напоминает?
Бурдо украдкой взглянул на старуху. Та, прихрамывая, направлялась к выходу, что-то яростно бурча себе под нос — видимо, разозлившись на ругань мамаши Морель. Окликнув старуху, Николя поднес свечу к ее лицу.
— Ах, дьявол, да это старуха Эмилия! — изумился инспектор. — Вот уж не думал когда-нибудь снова с ней встретиться!
Мамаша Морель хотела было вмешаться, но удержалась, видя, какой интерес вызвала старуха у ее постоянных клиентов. Комиссар вложил в руку старухи несколько луидоров, но она не сразу взяла деньги; ее маленькие глазки шныряли по сторонам, словно у загнанного зверя.
— Ты больше не торгуешь дешевым супом?
Испуганно заморгав, она уставилась на того, кто, по-видимому, знал ее очень хорошо.
— Увы, любезный сударь, я больше не могу толкать тележку.
— А где ты живешь?
Недоверие, плескавшее в ее глазах, превратилось в целое море.
— Где придется. Всегда можно найти пристанище за оградой Сен-Жан-де-Латран.[32] Но я не хочу, чтобы меня замели…
И в испуге прошептала:
— …Я боюсь попасть в богадельню!
Не поблагодарив, она быстро, насколько могла, заковыляла к двери. Николя, казалось, замер. Почему прошлое дважды явилось к нему в один и тот же день? Сатин и старуха Эмилия… Какое предупреждение посылала ему лукавая судьба, устроив эти встречи? С большим трудом ему удалось избавиться от воспоминаний, тянущих следом за собой мрачные размышления.
— В таком возрасте, — прошептал он, — и в такую погоду бродить по улицам!
Одним прыжком он вскочил с места, нагнал старуху Эмилию и накинул ей на плечи свой плащ, окутавший несчастную с головы до ног. Она с трудом повернулась к нему, и, воспользовавшись тем, что он наклонился, украдкой потрепала его по щеке и, не сказав ни слова, вышла за дверь.
— Ваш старый плащ, к которому вы так привязаны! — проворчал Бурдо. — И чего только не придумают!
— Мэтр Вашон скроит мне новый.
Оба замолчали. Потом инспектор шумно высморкался.
— И теперь вы заболеете! Мамаша Морель, быстро графин воды… Той, чистой. Вы знаете, что мне надобно.
Хозяйка взглядом подозвала служанку и что-то прошептала той на ухо; девушка исчезла и вернулась с бутылкой, наполненной чистой водой, двумя стаканами и блюдом с маленькими жареными пирожками.
— Эти пирожочки делать очень просто, — начала мамаша Морель, помня об их пристрастии к описанию блюд. — Берешь…
— Гостии?
— Хорошо, готовим для гостей, если тебе так больше нравится. Ты нарезаешь на подносе тесто, кладешь на кругляшок миндальный крем, вторым кругляшком прикрываешь первый, склеиваешь их, бросаешь во фритюр, жаришь до золотистой корочки, а затем посыпаешь сахаром. И почему ты считаешь, что Господь наш рассердится, если я назову свои пирожочки гостьями? А если вы придете весной, я вам сделаю пирожки с вишней. Обратите внимание, в тесто я всегда добавляю капельку вишневой настойки на косточках!
У них потекли слюнки, и они набросились на кругленькие пирожки, хрустящие снаружи и жидкие внутри. Чистая вода пахла вишней и дягилем, и она щедро спрыснула лакомство.
— Понятно, почему старуха Эмилия боится богаделен, — произнес Бурдо. — Всем известно, что их управители бесстыдно наживаются за счет бедняков, используя к собственной выгоде выделяемые на них суммы.
— Однако французы очень милосердные! Говорят, у нас столько богоугодных заведений, что они могли бы кормить треть населения королевства! Порок заключается в дурной организации распределения средств.
— Главное, не правильно поступать, а правильно организовать!
— Но, — возразил Николя, — в наш век милосердие в чести, и наши французы, особенно те, кто читал вашего Руссо, щедро жертвуют во имя любви к человечеству.
— Похоже, вы тоже его прочли!
— Прочесть не значит согласиться. Почему вы считаете, что я не могу ознакомиться с тем, что он пишет? Я готов даже процитировать: «Тот, кто имеет собственное мнение, уже не сможет стать рабом…»
— Ого! Вижу, вы прониклись его духом: «Люди, не имеющие собственного мнения и довольные своим подчиненным положением, поддерживают власть господ. Но настанет день, когда они восстанут против власть имущих, если те не заменят право силы на власть закона, подчинение которому станет долгом каждого!» Поразмыслите над этой фразой, господин маркиз!
Николя поднял свой стакан.
— Я пью за ваше великодушие, Пьер. Оно ничем не обязано философии. Чтобы и дальше следовать в этом направлении, посмотрите на Троншена, врача, что пользует Ноблекура и Вольтера. Он не только проводит бесплатные консультации, но и раздает необходимые лекарства, и называет это филантропией.
— Ваш слуга! — поднял стакан Бурдо. — Есть и другие, которые, подобно некоему маркизу, вернули арендаторам, у которых пал скот, арендную плату.
— Черт побери! Откуда вы это узнали?
— Новости о благодеяниях распространяются, словно огонь по пороховой дорожке. Очень горько, что наш одаренный молодой монарх, обладающий вдобавок душой чувствительной, позволяет руководить собой старому царедворцу, не способному развить в нем чувство гуманности и внушить ему любовь к народу, потому что его самого…
Он сделал большой глоток чистой воды.
— …потому что его ненавидят и презирают даже его вассалы в Поншартрене, где он показал себя жестоким, властным и далеким от пристрастия к благотворительности хозяином. А что тогда говорить о его жене? Она ведь принимала тебя, не так ли?
— Да, когда его величество по ошибке застрелил ее любимую кошку, я выступил посредником между ними. Так что эта дама мне признательна.
— Всем известно, что графиня Морепа имеет большое влияние на министра не только дома, но и в делах, так что при дворе все делается только через ее посредничество.
— Мне кажется, — с улыбкой произнес Николя, — вы склонны верить памфлетам и недавно перечитали «Игрушки».[33] Как вы помните, упорно ходит слух, что к выходу этого памфлета приложил руку граф Прованский, брат короля.
— Отличное название, Николя! Мы все являемся чьими-то игрушками. Каждый на свой лад. Вы — игрушка Сартина и Ленуара. Я — ваша игрушка. В нашем мире — и нравственном, и физическом — существует только движение. Все заимствует у всего, все сообщается и возвращается, и тот, кого охраняют швейцарские гвардейцы, имеет лишь одно преимущество: он является главной игрушкой в королевстве!
Николя предпочел сменить тему разговора. Ему не нравилось, когда на Бурдо нападало философическое настроение.
— Игрушки или нет, но я волнуюсь за эту старуху. Я слышал, Ленуар говорил о проекте указа, принуждающего нищих немедленно вернуться в те края, откуда они родом, и там найти себе занятие…
— Но как эти несчастные смогут его выполнить?
— …занятие, которое поможет им выжить, не прося милостыню. Когда срок, отведенный декретом, пройдет, их будут отправлять в богадельни или в тюрьму.[34]
— Старуху Эмилию — в богадельню? Уж лучше сразу ее убить. В приюте Отель-Дье на одну кровать приходится по пять-шесть человек, выздоравливающие гниют вместе с умирающими, смерть гасит жизнь. Надо видеть этих несчастных, лежащих плотно, словно сельди в бочке! Раненые, больные, роженицы, чесоточные, чахоточные, всех не перечислишь! Скопище человеческих несчастий, приют отчаяния.
— Разумеется, как не захотеть бежать из этого ужасного места? Говорят, там умирает каждый пятый больной. А одежду их отдают старьевщикам, даже не пытаясь постирать ее. Потом эти лохмотья продают, заражая город тысячью тайных болезней, о происхождении которых мы не подозреваем. Доктор Жевиглан рассказывал мне…
— А, я так и знал, что найду вас.
Перед столом выросла заснеженная фигура. Отряхнувшись, словно мокрая собака, фигура сняла с себя треуголку, и они увидели длинное плутоватое лицо Рабуина.
— Началось, — насмешливо сказал Бурдо, — поесть спокойно не дадут.
Агент оценивающим взором окинул остатки ужина.
— Насколько я вижу, повечерие от карнавала! Я был уверен, что в этот час найду вас где-нибудь за столом. Но ни у вашего земляка из Шинона, ни на улице Монмартр я вас не нашел; я было совсем пришел в отчаяние, но вспомнил о мамаше Морель. Разумеется, куда ж еще идти перед началом поста!
— Садись, угощайся и расскажи, что заставило тебя нас разыскивать, — сказал Николя.
— Буквальное исполнение указаний, — ответил Рабуин, запихивая в рот большой кусок сердца, предварительно храбро обмакнув его в остатки чесночного соуса. — Я отправил с портретом одного из наших, Ришара, — помните, у него еще почтенная буржуазная внешность? Он под предлогом, что разыскивает родственника, ходил и расспрашивал покупателей и торговцев в самых людных кварталах.
— Отлично! И каков результат?
— Результат? Когда он проходил возле Нового моста, ближе к водокачке Самаритен, его огрели по макушке! Кажется, палкой со свинцом в набалдашнике. Думаете, у него забрали кошелек и часы? Нет, нападавшего интересовал только портрет.
— В каком он сейчас состоянии?
— В очень плохом. Его отнесли к аптекарю, и тот сделал ему примочку из гиацинта и мелиссы и перевязал его. У него прочная голова, он отделается шишкой. Он прислал за мной мальчишку-поденщика, я пошел за ним и проводил домой, на улицу Дешаржер.
— И есть свидетели? — спросил инспектор.
— Масса, точнее, никаких. Я не сумел их найти.
— В котором часу это случилось?
— Примерно после пяти, в сумерках.
— Значит, за нами следят, и следят с самого начала расследования!
И Николя рассказал Рабуину о своих приключениях в монастыре Капуцинов.
— Хорошо, что у нас осталось еще два портрета, — молвил Бурдо. — Теперь мы знаем, среди кого надобно искать, и сузим круг поисков до часовых мастерских. У Лавале остались наброски, с их помощью мэтр сможет восстановить украденный оригинал.
— При условии, что они не возьмутся за нашего художника! — воскликнул Николя; эта мысль только что пришла ему в голову. — Похоже, противникам известен каждый наш шаг. Друзья мои, несмотря на поздний час, надо немедленно навестить пастелиста. Мы возьмем фиакр, и ты, Рабуин, поедешь с нами.
— У меня лошадь. Я поеду вперед и доберусь раньше вас.
Они рассчитались с мамашей Морель, огорченной, что они уходят так быстро. Когда фиакр тронулся с места, Рабуин уже исчез из виду. Фиакр ехал медленно, его то заносило на поворотах, то встряхивало на ледяных кочках. Пока Бурдо, немного перебравший чистой воды, клевал носом, Николя размышлял. Нападение у источника Самаритен не напоминало обычную кражу. Все говорило о том, что ее совершил любитель. Опытный воришка завладел бы портретом, не подвергая себя напрасному риску; он точно не стал бы нападать среди бела дня, особенно возле Нового моста, одного из наиболее многолюдных уголков Парижа. Неожиданно Бурдо проснулся.
— Надо искать среди часовщиков… Ваш Родоле назвал два имени. Леруа и Берту, как мне кажется.
— В Париже многие торгуют часами, но большинство лавок и мастерских расположены на площади Дофин, набережной Орфевр, улице Арлэ и в галереях Пале-Руаяля.
Бурдо расчищал рукой грязь, покрывавшую окошко кареты.
— Если погода не угомонится, нам вновь придется прибегать к помощи слепых, чтобы продвигаться по Парижу, как уже было!
— Продвижение вслепую напоминает мне наше расследование. Не в состоянии разглядеть его контуры, мы наугад пытаемся очертить его границы.
С трудом поднявшись на холм Святой Женевьевы, они вскоре увидели впереди массивное здание коллежа Монтегю. Едва они вышли из кареты, как тотчас утонули в снегу по щиколотку. Им пришлось несколько раз постучать дверным молотком, чтобы в проеме медленно приоткрывшейся двери появилось рябое лицо привратницы, утопавшее в кружевах ночного чепца.
— Как! Еще? Мало мне тех, кто ходит днем, так теперь и ночью беспокоят! Чем еще вы хотите меня охмурить? А?
Подняв фонарь, она уставилась на Николя.
— Снова вы! Значит, вам нужен тот шут гороховый, что живет в глубине двора? Его нет дома.
— И где же он?
— А почему я должна вам отвечать? Я здесь не для того, чтобы караулить этого висельника и его шлюху.
Она попыталась захлопнуть дверь перед его носом. Инспектор не позволил, просунув ногу в дверь.
— Довольно, старая! Если ты не откроешь, отправишься в Бисетр, и без всяких формальностей. Ты обязана подчиняться комиссару полиции; только попробуй у меня не отвечать на вопросы. В сущности, ты же славная тетка, так что давай, будь полюбезнее.
— Вы только посмотрите на этого грубияна, что докучает несчастному народу! Не прикидывайся льстецом, лучше давай иди отсюда.
— Интересно, она долго будет водить нас за нос? — пробурчал Николя.
— Осторожно! — предупредил Бурдо, которому надоели хождения привратницы вокруг да около. — Самая скользкая почва — это ложь. Если ты и дальше будешь изощряться во лжи, ты в этом раскаешься.
— Я всего лишь хотела сказать, — неожиданно ласково проговорила она, — что вы явились слишком поздно. Ваши дружки уже побывали здесь и арестовали Лавале.
— Как арестовали?
— А так. Приехали в карете и забрали.
И она вызывающе помахала фонарем, осветившим ее сморщенное личико и грозно лежавшую на бедре руку.
— Хватит, — проговорил Николя, — помолчи немного. Получается, когда Лавале был один, явились неизвестные и его арестовали. Как думаете, они были из полиции?
— Я ничего не думаю, я говорю то, что видела. А что я видела, так это ничего хорошего: волки кушают друг друга… Однако, красавчик, отвечая на ваш вопрос, скажу, что, когда он прошел предо мной, весь опутанный веревками, он был один.
— То есть он был не один, когда к нему пришли?
— Наверняка со своей подружкой, она расточала ему свои непристойные ласки.
— Ну и?..
— Она, похоже, сумела отвести им глаза и ускользнула под шумок.
— У тебя есть ключи от его квартиры? — спросил Бурдо.
— А, ключи! Они вам не нужны, а если понадобятся, то ищите дылду в синем плаще, чьи помощнички взломали дверь. В щепки разнесли, словно топором орудовали. Я этому пачкуну издержки предъявлю, ежели его отпустят, и заставлю все привести в порядок!
Она продолжала возмущаться; тогда инспектор взял у нее из рук фонарь, и, провожаемые проклятиями и руганью, сыщики направились к флигелю. Войдя в разбитую дверь, они увидели печальное зрелище: настоящий разгром, словно тут побывали вражеские орды. Под ногами валялись осколки фарфора и стекла, обрывки бумаги. Очевидно, Лавале оказал достойное сопротивление, и произведенной борьбой беспорядок дополнил царивший в квартирке художника вечный хаос.
— Такого я нет ожидал, — признался Николя.
— Разумеется! Мы опоздали. Все перерыто, они обыскали квартиру и, без сомнения, нашли все, что хотели.
Комиссар не ответил. Всем своим видом напоминая взявшую след гончую, он внимательно осматривал камин и усиленно принюхивался к тоненькой струйке дыма, витавшей над догоравшими углями. Подошел Бурдо.
— Какой странный запах… Ох, как же я не догадался! — хлопнул он себя по лбу. — Они нашли эскизы и сожгли их!
— Совершенно верно! А вот и пепел.
Несмотря на высокие сапоги, препятствовавшие ему присесть на корточки, Николя попытался выдернуть из камина кусок пергамента со следами пастели, которого не коснулось пламя.
— Художник исчез, картины уничтожены, оригинал украден. Что нам остается?
— Мне кажется, пора срочно выяснить, чей сатанинский ум руководит нашими противниками. Он предупреждает все наши действия и уничтожает все, что мы ищем! О какой шлюхе шла речь?
— Уверен, о Киске, девице скорее миловидной, нежели шустрой; когда я приходил к художнику, она была здесь. У нее добрые глаза, но штучка она тонкая и вполне могла упорхнуть. Sbignare.
Бурдо заинтересованно поднял голову:
— С каких пор ты говоришь на таком языке?
— Это итальянский. Друг мой, я читал Тассо в оригинале. Один из иезуитов, преподававший в коллеже в Ванне, прежде служил в Риме; он и обучил меня основам этого языка.
— Если она сбежала, надо бы ее найти. Разумеется, девиц для утех в Париже много, но тех, кто позирует, значительно меньше. Ее должны знать. Нам снова понадобится Полетта, она наверняка еще чего-нибудь знает об этой Киске.
Николя подумал об Антуанетте. Интересно, во время ее короткого пребывания в столице у нее нашлось время посетить старую приятельницу? Он чувствовал, что ему не только интересно, но и очень важно это знать.
— Думаю, — промолвил Бурдо, — что умелый художник способен нарисовать портрет по памяти, даже без эскизов, вот почему похитили Лавале. За нами следят, узнают, что он был у нас, выслеживают его, а потом приходят, все ломают и сжигают, а художника похищают и помещают в тайную камеру. Мне кажется, он вне опасности, иначе бы его убили прямо здесь.
— Слова «тайная камера» не принадлежат к лексикону преступников, так что, дорогой Пьер, видимо, твои подозрения, как и подозрения привратницы, падают отнюдь не на обычных преступников.
— Я сказал «тайная камера», подразумевая, что кто-то хочет заставить художника сохранить тайну…
— А поручить охранять тайну означает пробудить нескромность… Что ж, будем уповать на нескромность противника. А пока утро вечера мудренее; здесь нам больше делать нечего.
Пройдя двор, они миновали привратницкую; мегера не появилась, но, когда они садились в фиакр, они услышали, как яростно хлопнула дверь, разбудив приглушенное снегом эхо. Никола завез домой Бурдо и отправился на улицу Монмартр. Как он ни приглядывался, слежки он не заметил. Не удивительно: они уже предупредили все его шаги. После нападения возле Нового моста и кражи портрета, уничтожения эскизов и похищения Лавале, демарши его и Бурдо предсказуемы, а потому нет оснований продолжать следить за ними. Слуга короля и следователь по особо важным делам, он не готов был поверить, что столкнулся с силой, способной взять его в ежовые рукавицы, ибо эта сила… Он попытался урезонить воображение и изгнать из растревоженного ума дурные мысли, постоянно возвращавшиеся и осаждавшие его. Странное молчание Сартина, неведение Ленуара о событиях в Фор-Левеке, слишком быстрый отъезд коменданта королевской тюрьмы, субъект с военной выправкой, появлявшийся слишком часто, равно как и множество странных фактов, окружавших это дело, — все говорило о том, что он приблизился к одной из грозных и тщательно скрываемых государственных тайн. Но его отстранили от этой тайны, более того, его принесли ей в жертву, и это жертвоприношение является оскорблением для его верности, его гордости, ибо он, как честный и преданный слуга короля, много лет являлся хранителем тайн власти.
С этой неприятной мыслью он вернулся в особняк Ноблекура. На кухне в ожидании хозяина вполглаза дремала Мушетта. При виде Николя она зевнула, потянулась, метнулась в угол и, вытащив дохлую мышь, положила ее к ногам хозяина. Поблагодарив кошечку, он почесал ее за ухом, а потом выбросил мышиную тушку наружу. Нельзя было допустить, чтобы ее нашла Марион, не терпевшая даже вида этих грызунов. Добравшись до кровати, он истребил в зародыше поползновение предаться размышлениям, лег и заснул. Когда прибежавшая Мушетта забралась на кровать и легонько толкнула хозяина лапкой, она убедилась, что тот крепко спит.
Среда, 12 февраля 1777 года.
— Люди и дрова горят одинаково, — проговорил Ноблекур, осторожно касаясь губами чашки с отваром шалфея. — Все, что вы мне рассказали, обладает странным ароматом повторения, своего рода мелодия, темы которой, появившись в разное время, постепенно начинают звучать в унисон. Меня больше всего интригует постоянное появление персонажа с военной выправкой, которому всегда отводится роль распорядителя церемонии! А что вы можете сказать о пуговице?
— Вам известны мои рассуждения, — отвечал Николя, заталкивая в рот, к великому разочарованию хозяина дома, последнюю булочку; с помощью оживленной беседы Ноблекур давно пытался отвлечь комиссара от сей горячей сладости. — Я полагаю…
— И из шести, — раздосадованно произнес Ноблекур.
— Простите?
— Так, ерунда… Мысли вслух. Я задался вопросом, откуда эти повторы, я бы даже сказал, преумножение указаний на то, что у дела есть некий руководитель, скрывающий свое лицо, но оставляющий на местах своих подвигов массу улик, одна красноречивей другой. И все улики дополняют друг друга!
— Я это тоже заметил.
— Быть может, три в одном, один в каждом из трех, или даже наоборот… Давайте разузнавайте! Вы с вашей интуицией вполне можете обойтись без рассуждений, но другие? От вас им нужна версия, но именно та, которую они хотят внушить вам, на которой намерены дальше строить свои планы. Нет ничего хуже, чем изобилие, бьющее через край. Вы боретесь с разумом, насквозь пропитанным горделивым чувством непогрешимости. Найдите его! Он начнет совершать ошибки, и это его погубит.
Николя не решался ответить. Обескураживающие слова друга, произнесенные тоном авгура, вызвали у него смешанные чувства: с одной стороны, доверие, которое он всегда испытывал к советам старого магистрата, а с другой — страх перед пророческим тоном, которым тот излагал свои отточенные формулировки. Ноблекур никогда ничего не говорил просто так: его пророчества всегда оказывались чреватыми на открытия.
Проснувшись поздно, он быстро выскочил из дома и, шлепая по грязи, добрался до угла церкви Сент-Эсташ, где тотчас поймал фиакр. Ничто не указывало на слежку, а так как он намеревался ехать в Шатле, то преследователи его нисколько не волновали. Бурдо ждал его уже несколько часов. Велев принести ему список иностранцев и всех приезжающих в Париж, он сидел и изучал его, тщательно просеивая имена и сопутствующие подробности.
— Что-то ты сегодня очень задумчив, Пьер! Да еще с утра!
— Твои вопросы всю ночь вертелись у меня в голове. Вот я с самого утра и пытаюсь отыскать на них ответы. В шесть я явился в управление полиции на улице Нев-де-Капюсин и поднял неплохую бучу в их стоячем болоте. Представляешь, какое рвение проявляют ночью дежурные!
— Да уж, представляю! А как обстоят дела с ответами на мои вопросы, ставшие причиной столь бурной деятельности?
— Честно говоря, мне кажется, я кое-что нашел и сумею удивить тебя. Все вертится вокруг английского посла в Париже.
— Лорда Стормонта?
— Его самого. 15 января он принял английского джентльмена по имени Келли, проживающего в особняке Гра Вилар по улице Сен-Гийом. Потом он еще несколько раз встречался с этим Келли и имел с ним долгие беседы. 30 января одному из лакеев удалось подслушать обрывок разговора: «Французы стараются проникнуть…» На этом его превосходительство сделал собеседнику знак не продолжать. Запершись в кабинете, они пробыли там около часа, потом Стормонт велел секретарю задержать отправку почты, ибо ему требуется кое-что вложить. Один из пакетов с почтой случайно оказался открытым.
— Что способствует созданию весьма лестного облика нашей полиции. Но как это может помочь нам в расследовании?
— Умерь свой пыл и слушай дальше. Господин Келли, часто принимающий разные обличья и всякий раз меняющий прическу, имел встречу с неким Белфортом, который, по всей видимости, является секретарем лорда Джермейна[35], каковой, разумеется, не заинтересован открыто поддерживать отношения со Стормонтом, принимая во внимание род его занятий. Джермейн действует через посредничество Келли, у которого имеются корреспонденты в Бресте, Шербуре, Лорьяне и Нанте, где они, скорее всего, наблюдают за всем происходящим в этих портах. У Жоффруа, банкира с улицы Вивьен, Келли выспрашивал об отбытии нескольких кораблей. Завтра Келли намерен встретиться с недавно прибывшим из Берлина кавалером фон Иссеном, подданным короля Пруссии.
— Я пока не вижу…
— Когда ты узнаешь, что Келли — это не кто иной, как наш старый приятель лорд Эшбьюри, начальник английской разведки и твой постоянный противник, ты все поймешь! Да, ты еще интересовался, не объяснив мне почему, некой Элис Домби; так вот, она постоянно появляется рядом с ним.
Он открыл еще одну ведомость.
— Слушай дальше. Зачитываю сведения об иностранцах, прибывших в Париж: 10 января — господа Киркпатрик, шевалье Фокс, господа Хантер и Белфорт, господин Келли в сопровождении миссис Элис Домби, торгующей в Лондоне модным товаром. Я подчеркиваю: в сопровождении!
— И что же? — произнес Николя, в то время как сердце его внезапно похолодело.
— Что? Что хорошо бы господину Николя не дурить голову сьеру Бурдо, инспектору полиции Шатле и своему лучшему и давнему другу. Что сьер Бурдо, чистый, как слеза, не принадлежит к тем, кого надобно обводить вокруг пальца, попирая его верность. Что он не заслуживает такого обхождения, особенно когда выясняется, что вышеозначенная Элис Домби проживает в доме, принадлежащем Антуанетте Годле, по прозванию Сатин, а оная Сатин прекрасно известна некоему комиссару! Вот что я имел вам сказать. Прибавлю также, что бледный иезуитский вид и нос, смотрящий на носки собственных сапог, не в состоянии притупить внимание кое-кого, кто тебе дорог…
Голос Бурдо сделался хриплым, и он, отвернувшись, уставился на пламя камина.
«Почему радость всегда идет вместе с горем?» — подумал Николя. Несмотря на угрызения совести, свидание с Антуанеттой оказалось исполненным удивительной нежности. Но почему он должен расплачиваться за него тяжким ощущением, что он оскорбил Бурдо, последнего, кому бы ему хотелось причинить неприятности. Но так как зло свершилось, он обязан найти способ убедить друга в своей невиновности. Самым большим ударом для чувствительного самолюбия инспектора являлось отстранение от дела. Но больше всего он боялся, что дружба их потеряет силу, поэтому любой пустяк мог стать причиной обиды или ревности. Николя помнил, что он сразу, без умолчаний и обиняков, с той минуты когда Сартин назначил Бурдо его помощником, завоевал привязанность инспектора. Подойдя к другу, он обнял его за плечи и тотчас почувствовал, как тот взволнован: в обороне образовалась брешь. Когда напряжение окончательно спало, Николя шепнул инспектору на ухо:
— Пьер, пойми меня. Антуанетта, будучи проездом в Париже, тайно встретилась с Луи. Несмотря на ее просьбу ничего мне не рассказывать, сын не утаил от меня их свидание. Я захотел повидать ее. У нее в комнате, на улице Бак, я заметил тюки с наклейкой: «миссис Элис Домби». Они заинтересовали меня; я подумал, что речь идет о лондонской клиентке, покупательнице Антуанетты. Тюки не выходили у меня из головы, а после твоего рассказа они снова меня тревожат. Нам больше нельзя ошибаться. В какую историю она впуталась? Послушай, я люблю тебя как брата, можешь ли ты простить мне мои заблуждения и не добавлять неприятностей к той новости, которую ты мне только что сообщил?
Бурдо встал и обернулся; в глазах его блестели слезы. Он крепко обнял Николя.
— Ах, я старая скотина! Я все время ищу подтверждения, что мне выпала удача столько лет находиться рядом с тобой, хочу убедиться в реальности этого счастья. Забудь про мой приступ дурного настроения.
Внезапно Бурдо увидел, как Николя побледнел и, поискав стул, рухнул на него, словно сраженный громом небесным.
— Так вот оно что… Да, конечно, я об этом совсем забыл… — бессвязно забормотал он. — Мимолетное видение… карнавальные маски… Карета… Сумерки… а следы… стерлись, исчезли под снегом… Почему я до сих пор не связал эти два события?
Бурдо в изумлении слушал его и ничего не понимал.
— Что ты там бормочешь?
— Ругаю себя, что до сих пор об этом не подумал. Получается, что в день, когда был убит наш неизвестный, я, отобедав в таверне на перекрестке Трех Марий, шел по улице Сен-Жермен-л’Осеруа и обратил внимание на погасшие фонари. Но это еще не все! На углу улицы Сонри мимо меня проехала карета, из окна которой на меня уставилось ярко накрашенное лицо. А может, там была маска? Тогда мне показалось, что я уже где-то видел это лицо, но потом я забыл о нем. Но после твоего рассказа я уверен, что это был лорд Эшбьюри.
— Значит…
— Значит, одно тянет за собой другое. Давай рассуждать хладнокровно. Некто, кем, без сомнения, интересуются власти, помещен в секретную камеру Фор-Левека. Первая несообразность: некто бежит, хотя подготовка к побегу весьма сомнительная. Побег срывается, и кто-то приканчивает беглеца ударом трости. Но еще до побега улицу, куда должен спрыгнуть беглец, патрулирует карета с главой английской разведки. А потом исчезают все свидетели. Комендант? Нет его. Трактирщики, что поставляли пищу? Неизвестны или исчезли. Дело покрыто мраком, Сартин упорно не хочет замечать его, Ленуар о нем не в курсе, а теперь оказывается, что лорд Эшбьюри, мой давний противник и вечный заговорщик, возвращается в Париж в обществе Элис Домби, в роли которой, увы, выступает Антуанетта! И что нам думать об этой путанице?
— Наверняка имеются очень простые объяснения, — примиряющим тоном произнес Бурдо. — Бывают совпадения, пусть даже и досадные. То, что они плыли на одном пакетботе, в один день въехали в Париж и оба привлекли к себе внимание полиции, не означает ничего, кроме случайного стечения обстоятельств.
— Оставь! Ты сам не веришь тому, что говоришь, просто хочешь успокоить меня. Ты же подчеркнул, что она сопровождала Эшбьюри и под именем Элис Домби въехала во Францию. Почему?
— Я этого не знаю, однако могу себе представить, что она хотела прибыть как можно незаметнее, ибо очень боится, что в ней узнают Антуанетту Годле, а главное, Сатин, бывшую девицу для утех, в свое время стоявшую во главе веселого дома «Коронованный дельфин».
Николя задумался.
— В общем, мысль правильная, но меня она не убеждает. И почему тогда она отправилась на улицу Бак, в дом, где ей принадлежит целый этаж! Какая уж тут скрытность…
— Осторожность не всегда является близнецом невинности, даже если они идут рука об руку по одной дороге. И не стоит искать тому причин. Напрасное занятие!
— Получается, дело о трупе возле Фор-Левека связано с отношениями между Англией и Францией. Да, почва, похоже, становится все более вязкой.
И снова он, казалось, погрузился в размышления.
— Тому, кто следит за нами, нельзя больше давать ни единого шанса, — произнес он. — С этой минуты ни тебе, ни мне не следует без нужды выходить на передовую, только ради обходных маневров или военной хитрости. Пусть действуют наши тайные агенты. Я же открыто займусь еще одним делом, о котором тебе пока ничего не известно и которое я прошу тебя сохранить в полной тайне.
Бурдо знаком показал, что рот его на замке. Его восторженный взор ясно дал понять, как он рад, что его посвятили в особое задание. Николя в общих чертах обрисовал интригу, плетущуюся вокруг королевы, постаравшись умолчать об отношении королевы к игре, понимая, что у недоверчивого и добродетельного Бурдо такая страсть может вызвать только неприязнь. Но удовлетворение от приобщения к важной государственной тайне возобладало над любопытством, и инспектор не стал подробно расспрашивать о фактах, рассказанных Николя, который, сдержанно изложив основную интригу, принес в жертву несколько второстепенных подробностей.
План кампании сложился. Враг следит главным образом за Николя, так что именно он отправится к Бертен, а потом поговорит с Полеттой; будучи в курсе всех городских слухов, хозяйка «Коронованного дельфина» могла вывести его на Киску, любовницу Лавале, исчезнувшую в день похищения художника. В то же самое время многочисленные эмиссары начнут прочесывать часовые мастерские. Надо сосредоточиться, во всем разобраться, а затем собраться и нанести ответный удар.
Бурдо застенчиво спросил, что делать с Элис Домби. Постаравшись принять равнодушный вид, Николя оценил риск и необходимость. Антуанетта не могла удержаться от желания повидаться с сыном, для чего ей пришлось сбросить свою английскую личину. Тут его пронзила жестокая мысль, которую он счел неуместной, хотя она и напрашивалась сама собой: а не вышла ли она замуж за англичанина? Впрочем, его это не должно волновать, она свободна, как и он сам; и все же порыв, бросивший их в объятия друг друга, не мог быть чем-то мимолетным, случайным. Он отчаянно кусал себе губы. Наблюдая за ним, Бурдо словно следовал за всеми извивами его мыслей.
— Пусть за ней проследят, как и за господином Келли; мы быстро поймем, что к чему. Возможно, в один прекрасный день мы, действительно, получим самое простое объяснение волнующему нас совпадению.
Он не верил ни единому слову Бурдо: тот наверняка говорил просто так, чтобы усыпить его боль. Антуанетта обманула его, скрыла свой приезд в Париж, и только благодаря преданности сына он узнал о нем. Тревога и тоска нарастали, очередной раз напоминая о его давней привычке разбирать каждое событие по косточкам, а затем делать исключительно мрачные выводы.
— Пьер, ты остаешься на заднем плане. Брось вперед наших тайных агентов. Пусть они рыщут повсюду. Не щади денег.
— К кому ты отправишься в первую очередь? К Полетте или к выскочке Бертен?
Николя бросил взгляд на часы.
— Начну с Полетты. В этот час «Коронованный дельфин» только просыпается… А почему ты называешь ее выскочкой?
— А разве нет? Где она была бы, если бы не втерлась в доверие королеве? Женщины, они все такие! Ох, и кого только ни принимает королева!
— Полно, не преувеличивай изворотливость Бертен, просто она умеет украшать женщин. А женщина, думая об украшениях, думает о любви.
Каждый раз, отправляясь в «Коронованный дельфин», Николя казалось, что он возвращается в прошлое. Этот дом был связан с основными этапами его бурной жизни. Полиция всегда поддерживала особые отношения с притонами разврата, но для него эти отношения стали особенными вдвойне по причине его своеобразной привязанности к Полетте; никогда не закрывая глаза на темные делишки сей особы, он ценил нередко проявляемую ею сердечность и часто оказывал ей снисхождение.
В первый раз дверь оказалась незапертой, и впервые его не встретила хорошенькая негритяночка, которую он помнил еще ребенком. В ротонде стоял полумрак, и он не сразу заметил, насколько обтрепалась и износилась некогда пышная и кричащая обстановка дома. Царившая здесь, как, впрочем, и во многих подобных заведениях, роскошь дурного пошиба не выдержала испытания временем. Обивка потускнела, кое-где виднелись явные пятна грязи. Ножки массивных кресел расшатались, резные ручки обшарпались. Истершиеся до основы ковры махрились по бокам. Заглянув в комнату, где Полетта обычно принимала клиентов, и никого там не увидев, он направился к альковам, скромным абсидам сего храма Венеры. Неожиданно из-за занавеси одного из храмов донесли слова и вздохи, значение которых не подлежало сомнению.
— Ах, какая прекрасная грудь! Ах, какая упругость! Плутовочка моя, как же замечательно смотрятся эти полушария!
— Сударь, уберите вашу руку!
— Как, мошенница! Ты же сама сжимаешь мне… Я прекрасно понимаю, что все это значит. Скинь же, наконец, эти меха! Они тебе не идут и безумно меня раздражают.
— Но сейчас холодно!
— Но я-то весь горю!
— Остановитесь, ради всего святого!
Не расположенный держать свечку, Николя громко закашлялся.
— Ах, ты черт! Опять кто-то явился. Наверняка тот старый бурдюк.
Драпировка резко откинулась, и показался молодой человек, чья одежда — рубашка и кюлоты — пребывала в весьма живописном беспорядке. Он гневно уставился на комиссара.
— Черт, это еще что за тип?
Его лицо, красивое, но пустое и бессмысленное, стало наливаться краской. За ним виднелась юная негритяночка; узнав своего старого приятеля Николя, она понурилась и замахала рукой, видимо, веля ему скрыться; другой рукой она судорожно пыталась оправить платье. Подбоченясь, незнакомый хлыщ разглядывал шпагу комиссара.
— Видали бретера с его испанским клинком? Кому он тут хочет пригрозить, этот матамор? Он что, рассчитывает напугать меня?
Николя чувствовал, как в нем закипает гнев, однако он сдержался, сумев сохранить невозмутимость.
— Сударь, — произнес он, соразмеряя слова, — ваше раздражение неуместно. Я не питаю относительно вас никаких враждебных намерений. Мне всего лишь требуется немедленно поговорить с хозяйкой заведения.
— Только не здесь! Здесь я и больше никого!
— Разумеется, сударь, я это вижу, но повторяю вам, я хочу повидаться с госпожой Полеттой, моей старой приятельницей.
— Госпожа Полетта! Однако, как эта шлюха высоко себя ценит! Старая приятельница! Да мне плевать на тебя… Точно не знаю, но, кажется, она заболела.
За его спиной негритяночка усиленно замотала головой, давая понять, что он врет.
— Еще одной причиной больше повидать ее. Болезнь — весьма прискорбно, поэтому я сейчас схожу за знакомым врачом, что проживает на улице Сент-Оноре.
— Черт, кто здесь хозяин?
Яростно вращая глазами и уперев руки в бока, незнакомец нарывался на ссору. Николя, от чьего внимательного взора ничто не ускользало, заметил, что на наглом красавце форменные панталоны; хотя тело наглеца в изобилии покрывали волосы, ему явно было не более двадцати пяти лет. Решив перейти к действиям, вояка рванулся к пуфику, где рядом с мундиром французского гвардейца красовалась шпага. Сняв треуголку и прижав ее к груди, Николя положил правую руку на курок маленького пистолета, некогда подаренного ему Бурдо. Уставившись на него недобрым взглядом, противник стоял, держа руку в нескольких дюймах от эфеса своей шпаги. Решив предупредить его угрожающие замыслы, Николя резко выбросил вверх руку и выстрелил. С потолка посыпалась штукатурка, подвески большой люстры жалобно зазвенели. Негритяночка взвизгнула, противник же отскочил к стене, словно собираясь прыгнуть на Николя. Из-под софы выкатился белый клубок шерсти и затявкал, обнажая крошечные клыки. Громоподобный удар каблука по полу прогнал клубок в его убежище. Когда все смолкло, послышались тяжелые шаркающие шаги, и появилась Полетта, огромная, сутулая, с трудом переводящая дыхание; ее обмотанные бинтами толстые ноги выглядывали из разреза домашнего платья. Съехавший набок светлый парик едва держался на голове, возвышаясь над ее набеленным лицом с карминными пятнами щек и губ и черными, как сажа, бровями. Она опиралась на увитую лентами трость. Ее маленькие, утопавшие в жирных складках глазки шустренько оглядели поле боя, не упустив ни малейшей детали. Негритяночка с плачем убежала. Пробегая мимо старой сводницы, она получила удар тростью пониже спины и взвизгнула от боли. Подойдя к красавчику, Полетта мигом подавила его попытку поднять мятеж, и тот, бросив на комиссара исполненный ненависти взор, прихватил одежду и удалился. То, что случилось дальше, Николя надолго сохранил в памяти. Его старинная приятельница разрыдалась и заключила его в свои необъятные объятия. Косточки ее корсета впились ему в живот, как раз на уровне желудка, и вдобавок он едва не задохнулся от резкого аромата, соединившего в себе запахи грима, ярких духов, едкого пота и доминировавшие над всем пары ликера. С трудом высвободившись, он мягко оттолкнул ее, она заохала и рухнула в кресло-кабриолет, заскрипевшее под ее грузным телом.
— Очень несчастна… Очень несчастна, — заговорила она невнятно. — Что за грохот? Черт возьми, я так рада видеть тебя, Николя! Ты, наверное, не знаешь…
Словно разладившийся кузнечный мех, она перевела дух.
— Этот мерзавец, этот грубиян, которого я подобрала, накормила, обласкала, разве он выказал мне хотя бы капельку признательности? О! Он до меня снисходит! Я его содержу. Но Полетта еще не в том состоянии, чтобы спокойно взирать на безобразие, что, судя по тому пантомиму, что была у тебя на лице, сейчас здесь творилось.
— Пантомиме.
— Чего? Нехорошо смеяться надо мной. Я всегда говорила как хочу. В конце концов… я же не спрашиваю, что тут произошло. Он такой, как напьется, так и тянет в постель первую попавшуюся!
Николя рассмеялся.
Исподтишка к наскокам не привык я, Но как мне поступить, скажите, Когда, домой вернувшись, нахожу девицу, Что на софе в беспамятстве лежит, А рядом с ней мужчину, Что обнаженные ее ласкает взглядом перси.[36]— Эти строчки ласкают мне память. Я слышала их, когда устраивала тут театр…
— Полагаю, так вы называли живые картины, которые разыгрывали ваши юнцы и молоденькие девицы…
— Смейся: самые знатные красавицы не гнушались участвовать в этих представлениях! Но, возвращаясь к неприятному типу, скажу, что у малышки, ну, той, что мне всем обязана, обнаружилось шило в заднице, и чего бы я ни говорила, она всегда нарушает мои приказы. Приходится закрывать глаза на безобразия этой бесстыдницы: она ж все знает о моих делишках.
Полетта открыла небольшой поставец из дерева акации и наполнила два хрустальных стаканчика янтарной жидкостью. Один она протянула Николя, а другой одним махом опорожнила сама. Несмотря на укоризненный взор Николя, она трижды наполняла свой стаканчик. Успокоившись, она оправилась, посмотрелась в зеркало и вытерла слезы, смешав краску на лице и явив комиссару такую физиономию, что и в кошмарном сне не увидишь.
— Видишь ли, я очень зла, мне стало трудно управлять этим домом, тяжело. Я давно хотела передать его кому-нибудь, дабы избавиться от этого ярма. Но Президентша не смогла с ним справиться… Пустая голова! Мне нужна была помощница…
Неожиданно Николя сообразил, что для него Полетта всегда была женщиной без возраста. Когда он впервые ее увидел, ей было около пятидесяти. Следовательно, ей скоро семьдесят. Что привязывает ее к этому верзиле? Собственный опыт и нравы двора свидетельствовали, что годы не помеха любовным страстям и вожделениям. Ему на память тотчас пришло множество примеров.
— Видишь ли, когда этот малыш с гордым видом подходит ко мне, сердце мое снова начинает биться. Ах! Если бы я сразу поняла, что это всего лишь задира с Нового моста! Ну, он-то быстро меня раскусил и заболтал… а потом, пользуясь тем, что попал в фавор, стал требовать плату за свои услуги.
Она содрогнулась, словно по телу ее прокатилась волна блаженства.
— Я в плохом состоянии… Что делать? Я не могу без него обходиться. Ты знаешь, ведь он меня обкрадывает, хотя я и даю ему деньги без счета…
Что случилось с этой закаленной в жизненных битвах кумушкой, в прошлом такой энергичной? Словно автомат Вокансона, Полетта плеснула себе ликера и опрокинула стаканчик.
— Видишь, как мне все обрыдло? Особенно дела! Конкуренция жестока. Я не хочу гнаться за модой, а потому клиентов становится мало. Клиентам нужна новизна. Ах, как я жалею бедняжку Сатин! Как дела у твоего сына?
Она сама вышла на дорогу, куда он намеревался свернуть.
— У Луи все прекрасно. Он по-прежнему испытывает добрые чувства к своей тетушке и не забыл, как она помогала ему прежде.
Она зарыдала еще громче.
— Смотри, вот… ты и Сатин… можно было все уладить.
— Ты забыла о моей должности?
— Посмотрите на этого лицемера! Будто он не знал, что разврат и полиция идут рука об руку, одной дорогой!
Он решил открыть свои бортовые люки. Незачем искать обходные пути.
— Ты видела Антуанетту после ее отъезда? — спросил он равнодушным тоном, разглядывая стакан.
Казалось, Полетта вся съежилась, уменьшилась в объемах, а ее глубоко посаженные глазки забегали по сторонам.
— У тебя есть от нее известия?
Прозорливая старая бестия не утратила былой мудрости.
— Она пишет Луи, и тот сообщает мне новости о ней, — произнесла она, облизывая ярко-красные губы.
Ответа на свой вопрос он не получил. Тогда он решил пойти напрямик.
— Ты знаешь все, что происходит в городе. Прозвище Киска тебе что-нибудь говорит? Его носит девица, работающая моделью.
Новый поворот разговора пришелся ей по нраву. В глубине души она по-прежнему побаивалась Николя.
— Скажи-ка! — хлопнула она себя по лбу так, что с него посыпались кусочки белил. — Та самая козочка, которую я едва не затащила в свой гарем. Но потом я отказалась, принимая во внимание ее возраст; ты же знаешь Полетту, у нее есть принципы. Она начала играть в свои игры отдельно, на краю сцены, мутить воду в мастерских художников. Модель готова на все. Сейчас она проживает на улице Божоле, возле Пале-Руаяль, в доме виноторговца; его вдова готовит обеды для художников. Долгое время эта Киска жила на содержании у кавалерийского капитана, дворянина солидного возраста, считавшего ее скромницей. Сейчас ее опекает какой-то юный петушок-аристократ, офицер не помню какого полка.
— Тысяча благодарностей, милейшая Полетта. Что я могу для тебя сделать, чтобы тебе было еще приятней со мной распрощаться?
— А припугни-ка ты моего молодца. Может, это его смягчит…
— Зови его.
— Симон!
Появился Симон, одетый в форму французской гвардии.
— Сударь, — произнес Николя, смерив его надменным взором, — вас удостаивает разговором комиссар Шатле.
— Можешь мне поверить, — с усмешкой добавила Полетта, — не просто комиссар, а самый хитроумный!
— Если мне доведется узнать, что моей доброй приятельнице Полетте по вашей вине причинен вред, я немедленно доложу об этом маршалу Бирону, почтившему меня своей дружбой. Ваш слуга, сударь!
И он величественно прошествовал мимо ошеломленного пристыженного гвардейца, успев заметить на торжествующем лице Полетты выражение удовлетворенной мести.
Глава VII АНАМОРФОЗ
Уверен: Егерь рвется на охоту, Слепой мечтает Видеть краски неба и земли… Жак ГревенПредписав кучеру следовать за ним по пятам, Николя пешком отправился на улицу Руаяль. Как всегда, ходьба укрепляла его дух и способствовала ясности ума. Помог ли возврат к прошлому пониманию загадок дня сегодняшнего? В этом квартале все напоминало ему о вехах в его жизни. «Коронованный дельфин», площадь Людовика XV, особняк Сен-Флорантен… каждый из этих уголков оставил в его душе неизгладимую отметину. Подняв глаза, он увидел террасу посольского особняка, украшенную орнаментом в виде военных доспехов; стоя на этой террасе, он стал свидетелем катастрофы 1770 года, когда во время фейерверка в часть свадьбы дофина случился пожар.
Он думал о Полетте. Как она дошла до такой жизни? Почему она не вернулась в мирное пристанище в Медоне, где у нее был свой кусок земли? Увы, судьба вновь заманила ее на прежнюю наклонную плоскость; последствия же предугадать несложно: разорение и богадельня. Постаравшись выбросить из головы удручавшую его мысль, он стал размышлять о том, как реагировала сводница на упоминание о Сатин. Он достаточно хорошо знал ее, чтобы не заметить, как она задрожала, и окончательно проникся уверенностью, что сводница видела Антуанетту или получила от нее какое-то известие. Впрочем, это ничего не значило, так как он пока не мог понять, какую в точности роль играла мать Луи в темных махинациях англичан в Париже. Он хотел бы ошибиться и от всей души надеялся, что ей удалось не угодить в сети лорда Эшбьюри, начальника английской разведки.
Он никак не мог забыть об унижении Полетты, и, вновь переживая его, у него становилось горько на душе. Хлыщ-гвардеец появился в жизни сводницы в самое тяжелое для нее время. По долгу службы он прекрасно знал, что жизнь в столице королевства подталкивает простого солдата к распутству. Каков бы ни был престиж мундира, французские гвардейцы никогда не шиковали, а потому многие начинали искать различные пути и способы для выживания и поправления своего материального положения. Самые соблазнительные и самые удачливые предлагали себя в качестве друга сердца статисткам из Оперы, находившимся на содержании, излишки коего они с удовольствием проматывали. Другие, менее удачливые, мошенничали по мелочам, вынюхивая удачный случай. Этих трутней особенно влекли дамы пожилого возраста.
Самое загадочное заключалось в том, что Полетта, великий знаток такого рода историй, позволила охмурить себя и превратилась в жертву одного из гарнизонных любителей поживиться за чужой счет. Поднимаясь по улице Сен-Флорантен, Николя вздохнул: наиболее отчаявшиеся солдаты тайно просили милостыню, а некоторые, утонув в долгах, кончали счеты с жизнью. Записи квартальных комиссаров пестрели сообщениями подобного рода.
Он надеялся, что сведения о Киске, полученные от Полетты, позволят найти ее и узнать, что на самом деле произошло в доме Лавале. Прежде чем сбежать, девица наверняка успела заметить нападавших, а главное, верзилу в синем плаще, о котором упомянула привратница в доме Лавале.
Добравшись до улицы Сент-Оноре, он направился в модную лавку Розы Бертен. Двигаясь вдоль фасада монастыря фельянтинцев, он, как всегда, полюбовался его порталом, украшенным барельефом Генриха III, принимающего депутацию монахов-основателей монастыря. В прошлом здесь выстраивалась длинная очередь к хирургу; назвавшись именем покровителя своего искусства, он успешно принимал страждущих. Сей Косма прославился как чудесный окулист, но главной его заслугой почитали дробление камней и выведение песка из мочевого пузыря. Со времен Амбруаза Паре не было такой легкой, как у него, руки, способной вытащить, вырезать или раздробить убийственные камни.
Не довольствуясь лечением и исцелением высокопоставленных клиентов, он часто оказывал помощь бесплатно, словно святой бессребреник, любому, кто приходил к нему с жалобой на камни в почках, и его стали почитать воплощением былых чудотворцев. Брат Косма делал свою выгоду, а монастырский аптекарь пользовался его щедротами. Он поставил дело на широкую ногу, превратив свой дом в место, куда приходили не только страждущие парижане, но и иностранцы. Богатые способствовали процветанию его дела, а бедные предоставляли ему возможность набивать руку и совершенствоваться в своем искусстве.
Завидев впереди сбившиеся в кучу кареты и фиакры, он понял, что приближается к храму граций. Высившиеся вокруг новые дома, казалось, источали роскошь и благополучие. На яркой вывеске огромными буквами сверкало: МОДИСТКА КОРОЛЕВЫ. Пока солнце Версаля не коснулось ее своим лучом, Бертен была скромной лавочницей с набережной Жевр и продавала дешевые модные штучки женам проживавших в окрестных кварталах буржуа. Доверие и покровительство королевы, а также клиенты из самых высших слоев общества побудили модистку обосноваться на улице Сент-Оноре, где сосредоточилась торговля предметами роскоши. В ее роскошной модной лавке под вывеской «Великий Могол» сложился своеобразный филиал двора.
Едва Николя переступил порог, как его окутали ароматы женских духов и оглушило шуршание шелка и пышных юбок. Лавка, обустроенная по последней моде, напоминала одновременно и салон, и будуар: только дамаст, узорчатый атлас, бархат и кружева. Портрет жрицы этого храма рядом с портретами королевы и других коронованных особ Европы придавали заведению парадную торжественность. Николя крутил головой во все стороны, восхищаясь позолоченным кессонным потолком; зеркала из богемского стекла в богатых рамах множили до бесконечности изящные силуэты покупательниц. Молодые женщины, специально нанятые из-за своих точеных фигурок, суетились, без устали обслуживая покупательниц. Заметив, что он является единственным мужчиной, он смутился. Присутствие ничтожного субъекта привлекло внимание Розы Бертен; бросив уничтожающий взор на старый плащ посетителя, последствие великодушного поступка Николя по отношению к Эмилии, она обратилась к нему со снисходительной иронией:
— Сударь, вы, случаем, не ищете одну из присутствующих здесь дам? Нет? Так я и думала. Мне придется напрячь все свое воображение, чтобы догадаться, каково же ваше занятие. А вы, случаем, не поставщик? Торговец перьями? Гофрировщик?
Прежде чем дать ответ, он немного понаблюдал за ней. В ней все было соразмерно: не красавица, но и не дурнушка, доброжелательность, тесно переплетенная с надменностью по причине горделивого сознания своей влиятельности.
— Может, вы явились сообщить мне о прибытии принца де Гемене, который должен забрать только что поступившую механическую куклу? — не получив ответа, вновь приступила она к расспросам. — О такой кукле можно только мечтать: ребенок, которому она достанется, сможет причесывать ее, одевать, а кукла будет двигать руками и ногами! Нет? Опять не угадала?
Он с улыбкой поклонился.
— Хотя я и бретонец, но я не имею отношения к принцу де Гемене. Не пригласите ли вы меня в менее людное и шумное помещение?
Раздражение тенью пробежало по лицу Розы Бертен.
— Откуда, сударь, откуда такие странные предложения? Сударь, вы?..
Чтобы шепнуть ей на ухо, ему пришлось наклониться.
— Маркиз де Ранрей, королевский следователь по особо важным делам.
— О-о! Но какие у меня могут быть дела с?..
— Самые разные, сударыня. Я разговаривал с госпожой Кампан и другими лицами по поводу поддельных долговых расписок. Они направили меня к вам.
Она молча повлекла его за занавес, за которым скрывалась дверь; лестница в несколько ступеней привела их на крошечные антресоли, куда через небольшое витражное окно проникал слабый свет. На полу валялись образцы тканей, рядом стоял манекен с надетым на него готовым платьем: оставалось только украсить его. Модистка машинально поправила несколько складок и вытащила несколько булавок.
— Сударыня, перейдем к цели моего визита. Вы стали объектом мошеннических махинаций некой Каюэ де Вилле. Что вы можете мне об этом рассказать?
— Так это вы тот самый «Компьеньский рыцарь», что спас прекрасных дам, потерпевших кораблекрушение?
Он не ответил, возмущенный до крайности столь близкими отношениями королевы со своей модисткой. Ведь если этот случай станет известен недоброжелателям королевы, он быстро превратится в пикантный анекдот и под пером тех, кто издает рукописные новости, немедленно расцветет массой ненужных подробностей. Молодая женщина почувствовала, что тон ее перешел границу дозволенного, и отступила.
— В самом деле, эта особа, о которой я могу много сказать, передала мне заказ на украшения и драгоценности и, не имея возможности их немедленно оплатить, вручила мне векселя, подписанные рукой дамы, о которой мы говорим.
— И вы, видя эту даму почти каждое утро, не усомнились ни в искренности посредницы, ни в подлинности подписи?
— Что вам ответить? С одной стороны, мне неведомы правила при дворе, я только знаю, что подобные заказы часто делаются через госпожу Кампан и других придворных дам; с другой стороны, я была уверена, что госпожа де Вилле входит в окружение королевы, ибо не раз видела ее в Версале.
— Сохранились ли у вас фальшивые расписки?
— Увы, нет, я отнесла их… означенной даме, а та их сожгла.
Николя понимал чувства королевы, однако счел ее поступок весьма неосторожным. Когда имеешь дело с мошенниками, всегда следует сохранять улики.
— Скажите, сударыня, а с тех пор мошенница не появлялась у вас?
— Напротив! Ее дерзость не знает границ! Она не только пришла, но и принесла расписки, а когда я гневно обвинила ее в подлоге, она сначала все отрицала, а потом предложила мне новую аферу…
Невольно он задался вопросом, не сама ли королева, запутавшись в долгах, отказалась принять строгие меры против непорядочного поведения госпожи де Вилле. Невероятная самоуверенность этой женщины вкупе с полной безосновательностью ее претензий путала все карты.
— Разумеется, — продолжала Бертен. — Представьте себе, как я могла себя чувствовать после такого оскорбления! Возможно, она желала положить конец тому, что она называла непониманием, граничащим с легкомыслием… Да, говоря сами понимаете о ком, она использовала именно это слово! Она хотела, чтобы я, как и она, воспользовалась исключительно выгодным предложением…
— О чем шла речь?
— Черт побери, я вряд ли смогу толково изложить. Ее слова меня сразу же смутили, и я не стала вникать в сущность. Какой-то бесценный предмет, который разыскивают любители… Некий инструмент, очень редкий… вот все, что я сумела понять, господин маркиз.
— И это предложение вам понравилось?
— Я рассмеялась ей в лицо, убедительно попросив ее более не обращаться ко мне ни с какими предложениями.
— Ей вряд ли понравился ваш отказ.
— Что вы! Она нисколько не смутилась. Но я надеюсь, что ее величество наведет порядок.
Рассмеявшись, она принялась оглаживать шелк на платье манекена.
— Посмотрите, какая роскошь! Платье для представления ко двору. Корсаж, низ верхней юбки и нижняя юбка черные, а вся отделка из кружев. Манжеты из белых многослойных кружев, под кружевами прячется черный браслет с помпона — ми. Сверху корсажа нашиты белые кружева, поверх накинут узкий черный палантин, также украшенный помпонами; начинаясь от талии, он обнимает плечи и спускается до пояса спереди. Золотые кружевные помпоны дополняют украшения юбки и корсажа.
Опьяненная перечнем украшений, она, возбуждаясь все больше и больше, сладострастно ласкала дорогие материи.
— Передавайте мой поклон мадемуазель д’Арране, — неожиданно произнесла она, и в глазах ее сверкнула жестокая усмешка. — Этот заказ принадлежит ей: подарок королевы, она надевала его всего один раз; теперешняя владелица хочет его немного изменить.
Он поклонился и вышел, сумев сдержать нараставшее в нем раздражение. Итак, при дворе знали все, а молва разносила дворцовые сплетни по городу. Совершенно очевидно, не только королева вела откровенные разговоры с модисткой. Отогнав некстати пришедшие мысли, он попытался сосредоточиться на происках Каюэ де Вилле. Наглость этого создания превосходила любые мерки; несмотря на очевидную неуместность, она упорно множила свои попытки нажиться на людской доверчивости. Иначе говоря, она была в себе уверена. Таким образом, картина, и без того сложная, ибо за ней просматривалось громкое имя, еще больше усложнялась.
Выйдя на улицу, он сообразил, что, если верить словам Полетты, Киска живет недалеко, на пересеченной двумя тупиковыми проулками улице Божоле, связывавшей улицу Шартр с улицей Роган. Если там поставить специального караульного, можно будет легко засечь любого противника. Идеальное место для головорезов, грабящих прохожих. Оглядевшись, он убедился, что слежки за ним нет. Впрочем, сегодняшние его визиты относились только к делу, связанному с королевой, и не были связаны с делом об убийстве в Фор-Левек.
Но сейчас, когда он отправляется на поиски Киски, ему придется быть внимательным вдвойне, ибо от его успеха зависит безопасность, а может, и сама жизнь модели Лавале. В надежде, что злодеи не успели опередить его, он хотел поскорей отыскать ее пристанище, дабы сбить преследователей со следа. Если за ним следят, придется принимать меры и применить еще одну хитрость, отличную от той, что позволила ему ускользнуть от соглядатаев на площади Людовика Великого. Взглянув в круглое зеркальце заднего обзора кабриолета, он тотчас обнаружил, что за ним следят. Он велел кучеру ехать по Сент-Оноре до водокачки Круа-де-Трауар, а потом свернуть на улицу Арбр-Сек; в конце концов кучер высадил его в грязном тупике Курбатон. Спрыгнув в лужу, он углубился в крошечный, напоминавший жерло проход между двумя скособочившимися саманными строениями, чьи соприкасавшиеся крыши оставляли для света лишь маленькую щель.
В надежде обмануть бдительность противника он решил задержаться в одном из домов, сделав вид, что у него здесь дело, а потом, дабы подкрепить обман, громко отдать приказ возвращаться в Шатле. При входе в грязный, вонючий и столь ветхий, что, казалось, он вот-вот рассыплется, дом Николя какое-то время потоптался среди ошметков. Каждый день начальник полиции отправлял во все концы города более сотни мусорщиков с тачками для сбора нечистот, но, судя по здешним горам отбросов, сюда мусорщики не добирались никогда. Войдя в темный коридор, он увидел закутанную в сальные тряпки женщину; держа на коленях грязный поднос, она разбирала сушеные травы и при этом кашляла так, что страшно слушать. Он поздоровался с ней. Между двумя приступами кашля она подняла к нему свое усеянное бородавками лицо, озарившееся беззубой улыбкой.
— Ты очень любезен, сынок. Я тут чего-то проглотила, так с тех пор у меня в глотке словно кошка поселилась: так царапает!
В эту минуту во двор что-то шлепнулось.
— Ах, ты, черт! Надо же!
По запаху Николя понял, что за посылка упала во двор. Несмотря на призывы к опрятности, такое случалось везде и всюду. Ходить вдоль стен домов по-прежнему представляло собой опасность.
— Что вы здесь делаете, мамаша?
— Смотря по обстоятельствам. Я штопаю или составляю отвары, а потом продаю их в разнос.
— Надеюсь, ничего опасного?
Лукаво подмигнув, она посмотрела на него.
— А ты сам-то чем занимаешься? Такие, вроде тебя, не часто сюда заходят. Иногда я добавляю в свои отвары сенца, чтобы побольше получилось, но все равно сгодится. И вкус отменный!
Николя покачал головой. Полицейские, отвечавшие за рынки, издавна пытались пресекать мошеннические проделки с продуктами, но безуспешно: в хлеб подмешивали солому, а в молоко, масло и вино подливали воду. Внимательно изучая его, кумушка очевидно сгорала от любопытства выяснить, что привело к ним столь хорошо одетого господина. Неожиданно из темноты на лестнице возник тощий силуэт с шестом, на котором болталась связка дохлых крыс.
— А, вот и ты, Штырь. Похоже, сегодня удачная охота!
— Да уж, дичи хватает! — ответил человек, освобождая ноги от тряпья, защищавшего его голени от зубов крысиного племени. — Где их только нет! — ворчал он. — Вот, вчера у младенца, что орет в комнате на седьмом этаже, эта гадость отгрызла палец на ноге.
Пробурчав что-то себе под нос, кумушка злым взором уставилась на крысолова.
— Ну что, станешь заливать, что все время провел на этой помойке?
Вместо ответа он завел рассказ о зловредных грызунах, а потом, исполнив залихватский плевок и угодив черной слюной в самый дальний угол, удалился.
Если преследователь начнет расспрашивать старуху, подумал Николя, хорошо бы, чтобы она ответила ему так, как нужно мне. Придется идти на риск.
— А что, девица уже здесь? — с беспечным видом спросил он.
— Ну, на тебе! Наконец-то прочухал! Та, что живет на восьмом? Ну да, только в такую рань она отдыхает. С тобой я ее еще не видела, нет, точно не видела! Но о вкусах не спорят. А девочка и впрямь хороша, хлещет молодое винцо и от чего покрепче не отказывается. Умеет и язык держать за зубами, и вовремя заорать, танцует и джигу, и менуэт. Давай, с ней не соскучишься!
Он осторожно ступил на грязную лестницу с расшатанными ступенями. Стены лестничной клетки покрывала копоть, исходившая из убогих комнат; чем выше он поднимался, тем больше стигматов нищеты открывалось его взорам. Открытые двери являли зрелища ужасающей нищеты: семьи, теснившиеся в узких каморках; полуголые дети, лежавшие вповалку на тюфяках, прикрывшись лохмотьями; кухни без горшков и прочей кухонной утвари, соседствующие с отхожими местами. И всюду жесткий ритмичный стук. Он не сразу сообразил, в чем причина. Оказалось, это стук деревянных сабо по дощатым полам; для здешних обитателей башмаки являлись недоступной роскошью. Вместо обоев на стенах были налеплены объявления, из тех, что расклеивают на улицах.
Сердце его сжалось, и он внезапно понял, что постоянно возмущает Бурдо. Нищета, царившая в этом доме и подобных ему домах, оправдывала многие дерзкие высказывания его помощника. Добравшись до верха, он на минутку прислонился к перилам, обрамлявшим площадку, и сквозь чердачное окошко заметил двух сидевших на крыше кошек. Как можно жить в подобном месте, дышать, существовать? Он осознал, что ни жалость, ни благотворительность не смогут исправить эту несправедливость. Впервые он остро почувствовал, что те, кто имел несчастье здесь родиться, вряд ли когда-нибудь смогут отсюда выбраться.
Немного постояв, он вернулся к кумушке и объяснил ей, что его подружка Киска, которую он надеялся найти у девицы сверху, что является ее подружкой, уже убежала вместе с девицей, ее подружкой… словом, для вящей убедительности он вложил старухе в руку двойной луидор. Впрочем, ему показалось, что ушлая карга догадалась о его занятиях. Отыскав свой кабриолет, он громко приказал ехать в Шатле. Экипаж медленно покатил по улице Арбр-Сек, дабы потом повернуть на набережную. В зеркальце заднего обзора он заметил, как его преследователи, сбившись в кучку у фиакра, о чем-то совещались. Посовещавшись, оба типа устремились в тупик. Похоже, рыбка попалась на крючок!
Погружение в мир нищеты не прошло бесследно; мерзкий гнилостный запах лохмотьев словно прилип к нему. Народ продолжал топить дровами. Влажные и дурного качества, они плохо горели, без жара, и нисколько не способствовали чистоте воздуха. Всевозможные предрассудки окружали использование дурнопахнущего угля, чьи испарения считали нездоровыми. Выехав на набережную, он подумал, что, в сущности, несчастье ютится возле королевских дворцов. Толпы работников, носильщиков, поденщиков трудились у причалов, таская грузы, необходимые для жизни столицы королевства; все они в основном ютились в прибрежных лачугах. Эти старые кривобокие дома для многих были единственным пристанищем, а те, кому даже они были не по карману, бежали тайком, оставляя вместо платы свои лохмотья или испорченный инструмент.
Что общего между несчастными тружениками, утратившими надежду на будущее, и теми, кто просит милостыню на паперти? Он стал мечтать о том, как молодой монарх станет настоящим отцом народа и, возродив исконное согласие между королем и его подданными, установит равновесие между сильными и слабыми.
Проехав по набережной Бурбон, он обогнул старое здание Лувра, довольно быстро добрался до Шато д’О и въехал на улицу Божоле, где сразу увидел таверну, самое подходящее место для сбора сведений. Толкнув дверь с закопченными стеклами, он чуть не упал: ступеньки резко обрывались. Преодолев перепад, он оказывался в темном прокуренном зале. Когда глаза привыкли к полумраку, он увидел группу веселых молодых людей, шумно игравших в карты и кости. Толстый лысый трактирщик смотрел на него враждебно. В конце концов он решился спросить его о мадемуазель Киске, не появлялась ли она здесь. В ответ на его вопрос воцарилась гробовая тишина, и он почувствовал на себе множество враждебных взоров.
— Здесь таких нет, — пробурчал в ответ трактирщик.
— А вы в этом уверены? Я полагаю обратное.
— Вы врете. Кто вы такой, чтобы мне не верить?
— Что вы, я вам верю. Я один из ее друзей и пришел предупредить, что…
Он понизил голос…
— …ее ищут дурные люди. Меня зовут Николя Ле Флок. Она меня знает. Прошу вас, поверьте мне. Речь идет о ее жизни. И вы будете виноваты, если…
— Мэтр Ришар, вам помочь? — раздался громкий голос.
Трактирщик в нерешительности смотрел за спину комиссару, однако тот не изменил позы.
— Нет… мы просто разговариваем.
Вокруг снова стало оживленно, игры и беседы продолжились. Трактирщик все еще колебался.
— Давайте, решайтесь скорее. Я вижу, вы славный малый и оберегаете тех, кого поручили вашим заботам. Скажите Киске, что я здесь, назовите ей мое имя. Чем вы рискуете? Чем больше вы упорствуете, тем быстрей растет моя уверенность, что она здесь. Она здесь, вам меня не переубедить.
— Ладно, ваша взяла. Но берегитесь, — бросил он взор на посетителей, — если что не так, у меня найдутся люди, чтобы призвать вас к порядку!
И он, все еще недоверчиво качая головой, исчез на лестнице. Николя повернулся и стал разглядывать молодых людей. Интересно, это студенты или подмастерья? Понаблюдав за юнцами, он понял, почему Киска решила спрятаться здесь. В трактире собирались подмастерья художников. Рядом находилась расположенная в старом Лувре Академия живописи и скульптуры, многие из членов которой также проживали в Лувре и давали уроки у себя в мастерских. Мэтр Ришар спустился и, не глядя на Николя, направился к двери, предварительно сделав одному из молодых людей знак следовать за ним. Вскоре он вернулся и принес Николя большую кружку пива, оказавшегося теплым и кислым. Через четверть часа, весь красный и запыхавшийся, молодой человек примчался с бумажкой в руке и протянул свою добычу трактирщику. Тот, повертев ее во все стороны, отдал ее Николя, и то понял, что трактирщик неграмотный.
— Сударь, ежели вы тот, за кого себя выдаете…
Комиссар с удивлением обнаружил перед собой афишку, одну из тех, что расклеивают на стенах домов, и с любопытством прочел ее, пытаясь отыскать скрытый смысл:
«„Поющий жаворонок“.
Площадь старого Лувра, возле Королевской академии.
Ниодо, торговец бумажным товаром при Королевской академии, продает оптом и в розницу все виды бумаги для рисования и письма: голландскую олифантовую бумагу для таблиц, бумагу белую, серую и желтую для рисования, тонкие английские карандаши в деревянной рубашке, линейки из слоновой кости и другие потребные вещи из нее же, а также все, что нужно для черчения. Имеется еще: линованная бумага для нот; учетные книги, линованные и нелинованные, разного размера; канцелярские коробочки разной вместительности; письменные приборы для стола и переносные, чтобы возить с собой, а также прочие; голландские и иные перья; испанский воск разных цветов; ножи из слоновой кости для разрезания бумаги; перочинные ножики, скребки, пуансоны, сандараки; игральные карты, пудра, помада, миндальное тесто, трубочки с помадой, всевозможные булавки, ракетки, воланы. Наставления отцов-кармелитов, „как чистить зубы“, и другие книжечки для детей. Чернильницы двойной вместимости и все, что касается бумажных товаров.
Господа члены Академии всегда найдут здесь папки для рисунков всех размеров по умеренным, ценам.
Писано в Париже».
Он не понимал, что все это значило. В растерянности он вертел в руках листовку, пока, наконец, не заметил на обороте несколько слов, нацарапанных неуверенным детским почерком:
«Если ето он то пусть дасть знак».
Поразмыслив, он достал свинцовый карандашик и крупными буквами написал ниже:
«Устрицы с улицы Монторгей очень нежные и сочные».
Он надеялся, что она вспомнит свое замечание об устрицах, все еще звучавшее у него в ушах небесной музыкой, сопровождавшей сладостное видение груди девицы. Мальчишка снова исчез и вскоре вернулся, по-прежнему запыхавшийся. Он шепнул хозяину таверны несколько слов, и тот предложил Николя подняться.
— Мы не знали, стоит ли вам доверять, — произнес он. — Нам надо было убедиться.
— А ваш посыльный?
— Он бегал к Киске через другую дверь.
— А бумага?
— Из лавки, где ученики-живописцы покупают все необходимое. Мы надеялись, что вы помчитесь в «Поющего жаворонка».
— Мои поздравления, мэтр Ришар! Отлично придумано!
Открыв дверь крошечной каморки, он сразу увидел девицу: она пребывала в жалком состоянии. Скорчившись на ободранной кушетке, одетая в разномастные лохмотья, растрепанная и испуганная, Киска походила на загнанного зверька. Испуганно уставившись на него, она вцепилась в его руку, и он почувствовал, как она вся дрожит. Он заметил, что она была без чулок, ступни ободраны и в грязи. Избавившись, наконец, от подозрений, мэтр Ришар ретировался. Николя подтянул к себе скамеечку для ног и сел.
— Мадемуазель, вы должны мне срочно все рассказать, вспомнить все, до мельчайших подробностей.
— Зовите меня Киской.
Она понемногу успокоилась, и к ней вернулось прежнее кокетство. Пригладив волосы, она одернула лохмотья, прикрывавшие грудь.
— Хорошо, пусть будет Киска. Итак, я вас слушаю.
— Не знаю, что и сказать. Мы ужинали, и Жак…
— Жак?
— Так зовут Лавале. Он успел набраться. В общем, все как обычно. Внезапно входная дверь слетела с петель, Жак, схватив подсвечник, вскочил, расплескивая всюду воск, но тут на него накинулся целый полк, и он упал. Эти люди прикрывали лица платками.
Она снова задрожала.
— Я испугалась. Они молчали как рыбы. Они ничего не искали, просто перевернули все вверх дном, все крушили, ломали, рвали… Жака повалили на землю… меня сбили ударом сапога. А они все продолжали ломать, драть, бить, колотить… Ужас!
И она снова залилась слезами, размазывая их по грязному личику. Он протянул ей носовой платок.
— Полно, все прошло. Не бойтесь, я здесь, с вами.
Она подняла голову, и в глазах ее промелькнул гнев.
— Нечего меня утешать! Это после вашего прихода все пошло вкривь и вкось. Жак мне сказал, что за ним следили…
— Ну а теперь все будет хорошо. Мы все исправим.
— А Жак? Где он? Он всегда был к добр ко мне.
И хотя Полетта набросала ему отнюдь не лестный портрет девицы, он оценил, что ей, по крайней мере, присуще чувство благодарности.
— Ваши чувства делают вам честь и свидетельствуют о вашем хорошем характере. Почему, думаете вы, я здесь, почему я бегал повсюду, разыскивая вас? Мне надо все подробно разузнать, чтобы отыскать вашего друга. Желательно как можно скорее. Сами подумайте: может, вы вспомните что-нибудь особенное? Какую-нибудь деталь, поразившую вас? Например, кто вас ударил и что вы можете мне о нем сказать?
Она наморщила хорошенький лобик.
— Когда я попыталась подобраться к двери, один из бандитов — судя по всему, их начальник — бросился на меня… Он был высокий, в треуголке и темном плаще…
— Какого цвета?
— Не знаю, как и сказать. Кругом клубился дым. Насколько я заметила, они бросали в огонь бумаги. Но нитка была синяя!
— Какая нитка?
— От пуговицы, которую я оторвала у него, когда вырывалась. Я…
Она рассмеялась, словно речь шла о забавной шутке.
— Я крепко укусила его за руку! Ничего, он эту метку надолго сохранит. Можете мне поверить!
— А пуговица?
— О! Она досталась мне в качестве добычи. Я так крепко сжала кулак, что даже не почувствовала, что в нем пуговица, и потому унесла ее с собой.
Соскользнув с кушетки, она поддернула юбку, а потом, чтобы залезть во внутренний карман, заткнула ее за пояс. Николя не раз видел, как рыночные торговки проделывают это движение, доставая из внутреннего кармана монетки, спрятанные там от мелких воришек. Наконец она протянула ему позолоченную пуговицу от мундира, такую же, какую он нашел возле Фор-Левек, только чуть меньше размером. Неужели совпадение? Или речь и в самом деле идет об одном и том же субъекте, замешанном в этом деле? Неужели случай вновь сыграл с ним в игру, на какие он всегда мастер? В голову Николя закралось сомнение. Постоянные повторения… неужели его по-прежнему направляют по ложному пути? Разумеется, пуговица — это улика, но он боялся сделать из нее неправильные выводы.
— А каким образом вам удалось ускользнуть?
— О! Я стукнула его по голове фарфоровой вазой, и он от неожиданности отпустил меня. Я подбежала к окну, выходящему в сад, выскочила наружу и бросилась к изгороди, где за старой грушей проделана дырка, в нее-то я и пролезла.
Она рассмеялась.
— Киска всегда ходит сама по себе. Она знает, как ускользнуть от врагов.
— А потом?
— В одной юбке и рубашке, вот почти как сейчас, я среди ночи помчалась к мэтру Ришару, неслась, словно сумасшедшая из Бисетра. А потом мои приятели-подмастерья меня сторожили, несли караул, пока вы не пришли и не написали про устрицы. Так вы мне поможете? Правда?
— Вам нельзя здесь оставаться. Они в конце концов найдут вас. Они взяли след и, быть может, уже совсем близко.
Словно испуганный ребенок, она зажала уши и тихонько заплакала.
— Успокойтесь, — промолвил он, снимая плащ и накидывая ей на плечи, — закутайтесь в этот плащ. Не хватало еще, чтобы вы скончались от простуды. Идемте со мной, я отвезу вас к своему другу в Вожирар, там вам ничто не будет угрожать.
При мысли, что оба его плаща обречены спасать от холода девиц для утех, как старых, так и совсем юных, он улыбнулся. Ему не хотелось, чтобы Киска окончила дни свои, как старуха Эмилия. Пока девица приводила себя в порядок, Николя попрощался с мэтром Ришаром и верными защитниками Киски; затем кабриолет покатил в направлении реки, чтобы, проехав вдоль решетки Тюильри, выехать к заставе Конферанс. Поговорив со знакомыми ему стражниками, Николя велел им, как только он проедет, закрыть заставу на по возможности долгое время; ему хотелось скрыться от предполагаемой погони. Он намеревался доставить Киску в Вожирар, к доктору Семакгюсу: в ожидании развязки этого темного дела дом доктора казался ему самым подходящим убежищем. При подъезде к Севру скопление телег надолго задержало его на берегу реки.
В доме корабельного хирурга возле Круа-Нивер их встретил теплый прием. Ава, отныне занимавшая место подруги Семакгюса, немедленно взяла дело в свои руки и, сопровождая каждое слово смехом, назвала бедную Киску мокрой кошкой и пообещала в самом скором времени придать ей человеческий облик. День близился к вечеру, и Семакгюс, заявив, что не желает испортить скорым прощанием радость видеть Николя, предложил ему остаться и вместе поужинать. Давно прошло то время, когда позднее возвращение Николя становилось предметом тревоги Ноблекура и всех его домашних. Они давно смирились с тем, что он мог исчезнуть посреди ночи, мог несколько ночей вообще не ночевать дома, словом, смирились с его способом расследовать преступления. С радостью приняв предложение друга, Николя отпустил кучера, взяв с него слово, что завтра к семи утра тот будет ждать его у ворот. Затем, удобно устроившись в кресле, он, наслаждаясь обретенным теплом, погрузился в приятное состояние полудремы.
Комната, где сидел Николя, служила одновременно и гостиной, и библиотекой, и кабинетом редкостей. Николя нравились собранные здесь загадочные предметы, гигантские ракушки, навигационные инструменты, изящные статуэтки и жуткие маски, привезенные со всех концов света. Семакгюс налил ему стакан выдержанного ароматного рома, неисчерпаемые запасы которого оживляли вечера друзей в Вожираре. Стемнело, и только искры от догоравших в высоком камине поленьев освещали лица собеседников. Николя потянулся, и на вопрос хозяина дома, как продвигается расследование, подробно изложил все, что накопилось к сегодняшнему дню. Сидя за рабочим столом, заваленным рукописями и книгами, хирург слушал его, вертя в руках странную штуку. Подобные признаки нетерпения удивили комиссара. Прекрасно зная привычки друга, он решил, что тому не терпится высказать свое мнение.
Когда Николя сообщил о второй пуговице, Семакгюс с сомнением покачал головой. К этому времени рассказчик, наконец, рассмотрел, что предмет, столь занимавший его друга, являет собой прозрачную коническую призму; лучи света, проходя через ее грани, распадались в разные стороны и, вспыхивая в стеклянных глазах чучел животных, казалось, пробуждали в них проблески жизни. Он умолк, взирая со смесью страха и любопытства на застывшие глаза, отражавшие пустоту и небытие. У него закружилась голова, а сердце сжалось от непонятной тревоги. Лет тридцать назад неведомый ему искусный ремесленник отыскал секрет, как вдохнуть жизнь в мертвых животных, но он до сих пор не мог привыкнуть к зрелищу чучел. В замке Ранрей, как было принято во всех дворянских домах королевства, на стенах развешивали шкуры и отполированные, словно выточенные из слоновой кости, черепа зверей, убитых на охоте.
Движения рук Семакгюса вновь приковали его внимание. Не в силах долее сдерживать любопытство, он встал и подошел поближе. Взглянув на него с улыбкой, Семакгюс молчал, явно не намереваясь утолить его любопытство. Наконец он поставил призму под углом на бумажный прямоугольник, где среди нарисованных линий расплывались серые, красные и черные пятна.
— Вам стало интересно? С вашей обычной прозорливостью вы пытаетесь определить смысл моих движений, однако у вас не получается, и перед вами вырастает стена непонимания. Но думаю, что, если бы вам дали время, вы бы поступили как те математики, находящие во сне решения задач, над которыми бились днем.
— Да, — усмехнулся Николя, — я, действительно, в затруднении. Ноблекур считает, что пустота не существует, но подчеркивает, что пустоты всегда заполняются, и тут же цитирует китайского жреца в переводе отцов-иезуитов, а вы, Гийом, задаете вопросы и сами отвечаете на них загадками!
— О да, друг мой, — нараспев произнес Семакгюс напевно, — многие отказываются видеть то, для чего следует приложить усилия.
— Ох, — вздохнул Николя, — чем дальше, тем непонятнее. Недостойно изрекать двусмысленности, не разъясняя их.
— Что ж, смотрите, — усмехнулся Семакгюс, подталкивая призму к Николя. — Достаточно одного движения, и высвечивается то, о чем нельзя догадаться с помощью даже самых изощренных умозаключений. Проще говоря, мой вам совет: измените угол зрения.
Внезапно через призму Николя увидел непристойную картинку: в прежние времена подобное изображение наверняка заставило бы его покраснеть. Со всеми скабрезными подробностями, она отражалась в зеркальной грани призмы. Семакгюс изменил положение конуса, и картинка исчезла, уступив место невинным размытым линиям и пятнам.
— Вот уж, действительно, чудо!
— Нет. Но, надо признать, это явление производит большое впечатление и на Новом мосту, и в шатрах на ярмарке Сен-Лоран. Способ, позволяющий скрывать от цензоров и прочих дознавателей то, что им не надобно видеть. Моментальное превращение галантной сцены в расплывчатое пятно и обратно! Никакого чуда, всего лишь плод содружества физики, математики и оптики.
И тоном остроумца Триссотена произнес:
— Вы особым образом переносите рисунок на поверхность, чтобы он, поначалу недоступный для восприятия, в результате оптического смещения складывался в нарисованный вами образ.
— Я отказываюсь понимать.
— Ладно, кроме шуток. В этой области вы пока дитя, потому объясню еще проще: рисунок кажется правильным только при соответствующем расположении глаз, когда смотришь на него под определенным углом. Посетите монастырь миноритов, что на площади Руаяль, и полюбуйтесь фреской, изображающей Марию Магдалину и Иоанна Евангелиста. Если смотреть прямо, вы увидите пейзаж, но если смотреть издалека и под небольшим углом, пейзаж исчезнет, уступив место картине на библейскую тему! Это работа отца Нисрона, монаха-минорита, автора труда «Чудесная оптика», где он разъясняет способы рисования анаморфозов, ибо именно так он называет эти комбинации, обманывающие наши чувства.
Николя указал на хрустальный конус.
— А в этом случае?
— Цилиндрические, конические или пирамидальные зеркала искажают отражения предметов, на которые они направлены, и, как следствие, могут показать искаженные предметы так, словно это и есть их исходная форма. В своем трактате проницательный монах раскрывает секреты, как начертить на бумаге части изменчивого изображения.
— Скажите, почему вы решили преподать мне сей мудреный урок физики?
— Потому что, слушая вас, Николя, и вертя в руках призму, которую я только что приобрел для своей коллекции, мне вдруг показалось, что между вашим рассказом и теми явлениями, о которых я вам сейчас поведал, имеется некая связь.
— О, черт, ну и какая же?
— Надо признаться, все, что лежит на поверхности, очень мало похоже на истину. Ваш разум выстраивает аргументы, которые меня не убеждают.
Богатство — прах, и я не думаю о нем.[37]В вашем рассказе присутствует переплетение мотивов, удивляющее, но не убеждающее.
— Что вы этим хотите сказать?
— Хочу сказать, что с самого начала и вы, и все мы поставлены перед чередой картин. Обманки, призраки? А правильно ли вы на них смотрите? Под каким углом? К каким выводам приводит вас ваш угол зрения? Представим себе, что кто-то решил злоупотребить вашей интуицией и вы рассматриваете совокупность фактов с ошибочных позиций. Тогда вы сами понимаете, к каким искажениям это может привести! Надобно еще раз разложить все факты по полочкам. Их слишком много, а потому внимание рассеивается. Ах, человек быстро утомляется.
Непостоянен он, как ветер легкокрылый! Его рассудок — раб, игралище страстей.[38]— Давайте передохнем, если хотите! Я согласен следовать за вами по извилистому пути, продолжая спрашивать себя, на чем основано ваше видение.
— В том-то и дело! Вы сами туда сунулись. А сейчас чуть ли не обвиняете меня в том, что у меня есть интуиция, та самая, которую прежде вы столько раз противопоставляли моим логическим доводам. И к тому же есть еще кое-что…
Он удовлетворенно потер руки.
— Много кое-чего! Поверьте, свою интуицию я черпаю из источника, который не только удивит вас, но и выстроит пресловутую перспективу под другим углом.
Заинтригованный, Николя вернулся на свое место и с нетерпением стал ждать, что ему поведает его старый друг.
— Соберем вместе все имеющиеся у нас факты. Неизвестный из Фор-Левека, убитый и добитый, как показывают факты, был связан с механическим ремеслом. Ювелир или часовщик?
Семакгюс встал. Николя отметил, что он, как и Сартин, любил подкреплять свои доводы ритмичными шагами.
— Еще добавлю цепочку слов, написанную на бумажке, найденной в стене камеры узника. Так вот, я, Семакгюс, наконец, понял, на что намекала фраза в бумажке! Что вы на это скажете?
— Скажу, что я, Николя Ле Флок, знаю, что это анаграмма, с помощью которой я установил имя жертвы: Франсуа Саул Пейли, часовщик, одетый в куртку из английской шерсти. Вот так! Что вы на это скажете, мой спорщик?
— Скажу, что иногда случайные находки равны чуду, ибо искомая записка предлагает тому, кто ее расшифрует, пути, позволяющие найти причину убийства.
И он широко взмахнул рукой.
— Боюсь, вы здорово опередили меня, и я уже не в силах следовать за полетом вашей мысли. Наверное, я что-то упустил в ваших рассуждениях.
— Вовсе нет. Что вам удалось прочесть на свернутой в трубочку бумажке?
— FüSee coniçal sPiraly, с заглавными буквами посредине.
— Этот гений использовал собственное имя, чтобы дать вам подсказку! Такие совпадения не могут быть случайными. Фраза показалась мне очень любопытной, и я обсудил ее кое-с кем из своих приятелей. Она навела на размышления одного из моих друзей из Академии наук. Он вспомнил о заседании Академии, состоявшемся в 65 или 66 году[39], во время которого королевский часовщик Пьер Леруа представил почтенному собранию совершенно новые часы.
— А чем таким особенным отличались эти часы, что они привлекли внимание столь ученого собрания?
— О-о, сейчас узнаете. Но прежде скажите мне, как обстоят у вас дела с географией.
— В иезуитском коллеже в Ванне географию преподавали весьма поверхностно.
— А что вам известно о географической широте?
— Насколько я знаю, параллели — это линии, проведенные нашим воображением по поверхности земли согласно законам природы, начиная от нулевой линии, именуемой экватором.
— Конечно, это немного общо, но вполне достаточно для просвещенного человека! А географическая долгота?
— Память мне подсказывает, что этот вопрос несколько более сложен. Кажется, географическая долгота, именуемая меридианом, не имеет нулевой линии, и определение ее зависит от времени суток, а также от высоты расположения солнца или звезд над линией горизонта.
— Тогда вы вполне способны понять вопрос, всегда волновавший мореплавателей всего мира. Представьте себе, мой дорогой, что вы плывете из Лорьяна в Бостон. Определить широту довольно просто, но долготу? Надобно определить для себя точку отсчета, установить время в этой точке и в той точке, куда лежит ваш путь, и точно установить момент полдня в той точке, где вы сейчас находитесь. Если ваши часы идут неверно, значит, вы неверно установили время в точке вашего отправления, и ваш курс проложен неверно. Час разницы представляет собой 1/24 часть от 360 градусов, составляющих суточный оборот Земли, иначе говоря, 15 градусов. Ошибка в несколько минут, и вот вы уже отклонились от курса и плывете в незнакомые вам воды. Прибавьте или убавьте еще час, и перед вами открываются Карибские острова или северная часть континента, но никак не Новая Англия!
— Однако, Гийом, мои часы точны, я всегда сверяю их с часами Дворца правосудия.[40] Они всегда точны и отбивают каждый час!
— Это ничего не значит! Ни те ни другие не выдержат испытания морем. На море часам приходится выдерживать качку, большие перепады температур, колебания атмосферного давления и еще много чего. А сколько крушений произошло исключительно по причине неправильного хранения часов! Чтобы не зависеть более от сохранности часов, составили таблицы долготы, основанные на астрономических наблюдениях. Но что делать, если небо заволокли тучи и не видно ни луны, ни звезд? Было решено, что единственным решением может стать изобретение устойчивых часов, которые бы показывали истинное время, начиная от порта отправки и кончая портом назначения, в любой точке планеты.
— И в результате такие часы изобрели?
С горестным видом Семакгюс отхлебнул глоток рома.
— Как сказать, друг мой. Ох, господи, совсем забыл, вы же его знаете! Борда, морской офицер, входивший в состав комиссии Академии наук, наблюдавшей за экспериментами возле моста Руаяль.[41]
— Со странным аппаратом, якобы позволявшим дышать под водой?
— Совершенно верно! Если верить Леруа, он изобрел некую модель часов, равно как и его конкурент Берту, швейцарец, уроженец Невшателя, давно обосновавшийся в Париже. Но, похоже, пальма первенства достанется англичанину, некоему Харрисону.
— Все это прекрасно, но как все это соотнести с нашей таинственной запиской?
— Черт возьми, о главном-то я и забыл! Часы Леруа обладали особым свойством, они работали без штифта. Услышав этот термин, я даже вздрогнул.
— Это значит…
— Не так быстро, мой мальчик! Деталь конической формы, я подчеркиваю: конической. Вспомните, что время развертывания пружины не всегда постоянно. Когда ее заводят, она сначала разворачивается стремительно, а к концу скорость ее равна нулю. Напряжение у нее линейное. Штифт позволяет полностью расслабленной пружине оказывать давление на большой диаметр. Таким образом мы уравниваем силы, действующие при развертывании приводной пружины.
— Из всего, что вы сказали, меня интересует одно. Некто, прекрасно владеющий своим ремеслом, скорее всего, часовщик, в записке намекнул на какой-т о загадочный механизм.
— Более того, дорогой Николя, три слова, что видим мы в записке, в сущности, избыточны. Чтобы заставить нас насторожиться, нашему ремесленнику вполне хватило бы одного из них.
— Тогда почему все три слова вместе? Он не знал, к кому обращается?
— Да просто он хотел назвать свое имя. Следовательно, ни совпадений, ни случайностей, а всего лишь механическое сцепление, ни больше и ни меньше. О! Это очень умный человек!
— Тогда зачем ему понадобились именно три слова?
— А этого я не знаю! Это вопрос к следователю по особым поручениям.
— А может, следователю помогут друзья? — насмешливо-просительным тоном проговорил Николя.
— Что ж, давайте поставим вопрос иначе: знал ли он, что ему суждено погибнуть, когда он прятал записку в щель? Может, к нам в руки попало его завещание, или же…
— Поставим себя на его место. Полагаю, он хотел оставить указания на тот случай, если с ним произойдет несчастье.
— Три! Имя, страна, занятие.
— Четыре. Ибо, оставляя зашифрованную записку, он тем самым говорил, что чего-то опасается, и надеялся объяснить свои страхи тому, кто найдет его послание.
— Похоже, наши мозги начинают закипать, поэтому предлагаю на сегодня поставить точку. Ужин успокоит нас, а ночь даст добрый совет. Но визитов к Берту и Леруа не избежать. Нам повезло, их мастерские расположены неподалеку друг от друга, рядом с улицей Арлэ, сразу за Дворцом правосудия.
Стоя спиной к двери, Николя не мог видеть, как, взявшись за руки, словно в танце, вошли Ава и Киска. Повернувшись, он не поверил своим глазам. Модель облачилась в длинное изумрудное платье, голову украшал креольский платок, завязанный тюрбаном. Необычное платье, облегавшее гармоничные формы девушки, оставляло открытым одно плечо и позволяло бросить нескромный взор в начало ложбинки между грудей. На Аве было точно такое же одеяние, только фиолетового цвета, сиявшее мрачным блеском. Семакгюс полностью разделил восхищение Николя.
— Грации, спустившиеся с Олимпа!
— Нет! — ответила Ава. — Из кухни. Господа окаменевшие редкости, ужин ждет вас.
Корабельный хирург предложил руку Киске, Николя галантно подставил локоть Аве, и, сделав несколько шагов, кортеж вступил в миленькую кухню, где взорам их предстал накрытый стол, обильно уставленный серебряной посудой, свидетельствовавшей о былых морских сражениях и победах. Семакгюс сообщил, что он равным образом любит обедать как вместе с гостями, так и поближе к месту приготовления пищи. Николя с удовольствием вдыхал теплые ароматные запахи, исходившие от плиты и очага. Рядом на столике охлаждались бутылки с шампанским. Вскоре пробки полетели к потолку, и Семакгюс наполнил бокалы. Поводя носом, Николя внимал разлитым в воздухе ароматам. Киска, застеснявшись, опустила глаза.
— Скажите нам, прелестная Ава, — спросил Николя, — чем сегодня угостят нас у вас на камбузе?
— У Семакгюса, — ответствовал хирург, — каждый день праздник. И даже в пост!
— Каждый день? Точнее, через два на третий, — подала голос Ава. — Когда такой старый человек хочет, чтобы в любое время стояло, надо умерять свои аппетиты за столом.
К удивлению Киски, мужчины расхохотались, ибо для них в словах Авы заключался скрытый смысл: они напомнили им, как несколько лет назад здесь, в Вожираре, они перебрали лишнего.
— …Но, — радостно добавила она, — сегодня как раз третий день, а потому вас ждет настоящий пир!
— И что же выступает главным блюдом на нашем торжестве? — спросил Николя, внезапно почувствовавший, что он зверски голоден.
— Плоские колбаски из мяса с бедра утки, итальянский паштет из макарон, и крем-карамель с хрустящей корочкой.
— Увы, придется мне в воскресенье покаяться в грехе обжорства, — стараясь сохранить серьезный вид, произнес Николя.
— Судя по тому, как вы плотоядно облизнулись, вы готовы к покаянию. Что ж, мы постараемся удовлетворить вожделения гурмана. Поверьте, я говорю это со знанием дела.
Вечер прошел прекрасно; Ава заражала сотрапезников своей веселостью, Киска, изумленная всем, что с ней случилось, вела себя крайне сдержанно. В новом платье она выглядела еще более соблазнительно, чем прежде. Плоские колбаски оказались выше всяческих похвал, и Николя потребовал рецепт, пообещав непременно сообщить его Катрине.
— Все очень просто, — отвечала Ава, чье произношение после стольких лет жизни в королевстве звучало словно чарующая музыка. — Потушить под крышкой мясо с бедрышек, чтобы оно стало мягче, затем обернуть каждый кусочек фаршем из мяса рябчика, сала и пряностей. Затем положить на каждую порцию плоский кусочек трюфеля и плотно завернуть в кружевное сальце, иначе именуемое рубежной пленкой, которую вы, разумеется, перед этим хорошенько промыли, чтобы она не пахла прогорклым салом. И все ставите в печку до тех пор, пока корочка не начнет золотиться.
— А соус, столь нежный и столь ароматный?
Ава бросила влюбленный взгляд на Семакгюса.
— Здесь я передаю бразды правления в руки старого человека. Он вам все расскажет.
— Я говорю только об изысканных вкусах. Берем лук-шалот, тушим его в сливочном масле, солим и перчим. Затем я выжимаю сок из трех испанских апельсинов. Перемешав, начинаю выпаривать и тут же добавляю немного костного мозга, добытого из кости, сваренной в бульоне, и он, став связующим звеном, превращает мой соус в однородную массу.
— Брависсимо! — восторженно воскликнул Николя. — Он не только смягчает поджаристые колбаски, но и придает им чуточку кислоты и остроты!
— Приготовление пищи не только удовлетворяет наши насущнейшие потребности, но и украшает нашу жизнь! — с достоинством произнес Семакгюс.
Когда прибыло блюдо макарон, смешанных с мясным фаршем, грибами, мясной подливкой и тертым пармезаном, разговор на время прекратился и возобновился только за десертом. Пока женщины обсуждали модные украшения, друзья обменивались последними новостями.
— Дисциплинарный устав, введенный военным министром, унижает и солдат, и офицеров.
— Граф Сен-Жермен излишне проникся прусским духом, — заявил Семакгюс.
— И есть от чего! В свое время он состоял на службе у курфюрста Пфальцского, курфюрста Баварского и в чине фельдмаршала командовал датской армией!
— Он упорно хочет заставить всех следовать своим принципам, согласно которым люди являются всего лишь марионетками. Читали ли вы жалобу солдат королевы и «Письма гренадера Шампанского полка»?
— Нет.
— Очень красноречиво, но, конечно, излишне пестрит всяческими б… и е… видимо, чтобы сохранить впечатление грубой солдатской речи. Жалуются на новые дисциплинарные предписания во время кортежей и мессы, на наказания ударами сабли плашмя для солдат, на военные школы, отданные на откуп монахам[42], на бессмысленные инструкции для офицеров, на упразднение полков конных гренадер, упразднение литавров в кавалерии и барабанов у драгун… я еще не все перечислил! Хотя желание пресечь торговлю военными должностями мне кажется добрым намерением. Ибо эта торговля является прежде всего свидетельством некомпетентности нашей придворной знати. Черт, маркизов я оставляю в стороне!
— Мой отец наверняка поддержал бы последний пункт реформы, но я не военный. И мою должность комиссара мне пожаловал покойный король. В этой области все зависит от разумности предлагаемых мер. Между двумя крайностями лежит огромное поле… Вспомните последний военный совет в Лилле. На нем разжаловали младших офицеров полка Руаяль-Контуа за то, что они осмелились выступить против полковника и майора, обвинив их в жестоком обращении с подчиненными. Теперь молодые офицеры, занявшие место разжалованных, считают делом чести пребывать в оппозиции к старшим, кого они именуют ретроградами только за то, что те дезавуировали записку, направленную министру. Эти ветреники внесли раскол в офицерскую среду и, несмотря на предупреждения, продолжают высмеивать старших офицеров самым непристойным образом, доходя до прямых оскорблений. С трудом удается предотвратить дуэли!
— Наушнику, на тот иль на другой манер, сторицею воздастся, без сомненья.[43] Из надежных источников мне известно, что их тоже разжаловали. Но это же настоящий хаос! Граф де Шено, майор из их полка, предпочел уйти в отставку, нежели подписывать королевское распоряжение об отставке этих вертопрахов.
— Реформы всегда пугают тех, кто живет за счет злоупотреблений.
— Вот вы и стали «настоящим Бурдо», но тем не менее вы правы. Ни одна реформа не достигнет успеха, если ее начинают люди, чуждые добродетели. А в этой стране результаты преобразований — как дурные, так и хорошие — всегда зависят от того, сколь тщеславен или честен тот, кому доверено их проводить.
— Насколько мне известно, кто-то из старых солдат, израненных в боях, выступил против наказания ударами сабли плашмя. Он заявил, что готов подвергнуться любому иному наказанию, но только не этому. Да вы сами подумайте! На шрамы от старых ран, полученных на службе короля!
— А что сказать о запрете генералам принимать у себя за столом более двадцати четырех офицеров, а капитанам — устраивать балы в расположении полка? Просто какой-то карликовый Фридрих II!
— Посягательство на самолюбие. Нельзя управлять французами, притесняя их подобным образом. Такие запреты оскорбляют их чувство собственного достоинства!
Собеседники перешли в гостиную. Киска устроилась на полу возле ног Николя; через пару минут головка ее наклонилась и она, прижавшись к его коленям, уснула. Усталость и плотный ужин брали свое, разговоры подошли к концу, и Семакгюс предложил гостям отвести их во флигель: там располагались хорошо известные комнаты, где комиссару не раз случалось ночевать. Осторожно встав с кресла, Николя поднял на руки Киску, и та немедленно припала к его плечу. Легкая, как перышко, она невольно прижималась к нему, распространяя вокруг себя дурманящий аромат, и он неожиданно ощутил странное волнение. Заметив его состояние, Ава и Семакгюс расплылись в умильной улыбке. Корабельный хирург проводил его до начала коридора и пожелал спокойной ночи. Николя открыл дверь в спальню, где в алькове, освещенная слабым светом догоравшего камина, его поджидала разобранная постель. Подойдя к кровати, он неловкими движениями попытался снять с головы Киски креольский платок. Уронив сначала гребень, а потом шиньон, ему, наконец, удалось, выпустить на волю ее волосы, упавшие ему прямо на руки. Пытаясь как можно осторожнее опустить девушку на кровать, он нечаянно наступил на подол ее одеяния, и оно соскользнуло на пол, явив во всей красе ее прекрасное тело. Он оторопел и чуть не выронил ее, когда она порывисто, быть может, даже невольно, обхватила его за шею и повалила его на кровать прямо на себя. Тяжело дыша, она выгнулась, и кончики ее грудей коснулись губ Николя. Возбужденный, он почувствовал, как горячая волна нежности охватила его, и он не устоял перед искушением.
Ее он любит так, как ни один влюбленный Возлюбленную не любил свою. И все же он Венеру молит щедрее Даровать ему любовь.[44]Ранним утром, счастливый и совершенно разбитый, он проснулся и, потянувшись, обнаружил, что Киска исчезла, прихватив с собой его плащ.
Глава VIII СОБАЧЬЯ ТРАПЕЗА
Не хуже моего тебе известно, Что шагу не ступить, чтоб не наткнуться На каверзу иль на подвох. РеньярЧетверг, 13 февраля 1777 года.
Они перерыли весь дом в поисках сбежавшей девицы, но нашли только следы ее пребывания: неплотно прикрытые двери, исчезнувшее старое платье служанки, а главное, кучер, который должен был приехать и забрать Николя, так и не явился. Видимо, Киске удалось каким-то образом уговорить его отвезти ее в Париж. Комиссар, давно знавший кучера, добродушного и наивного парня, готов был поверить, что он согласился ехать в столицу, но вряд его могли уговорить поехать в другую сторону. Поэтому он решил, что, как только прибудет в Париж, он отыщет экипаж и спросит у кучера, где тот высадил девицу. Иллюзий он не строил: очутившись в городе, она немедленно затеряется в толпе и даже носа не покажет там, где ее могут искать. Напрасно устраивать засаду, когда козочка уже скрылась в кустарнике. Но чем объяснить это исчезновение? Какие основательные причины внезапно побудили ее к бегству? Ведь здесь, в доме у Семакгюса, она нашла и помощь, и покровительство! Какое событие, какое стечение обстоятельств заставили ее так поступить? Быть может, она действовала как птичка: как только разжали руку, так она и упорхнула, полетела куда глаза глядят? Все же он подозревал иное, но пока решил не делиться своими подозрениями. Радость от вечера, проведенного в Вожираре, была омрачена.
Чтобы Николя как можно скорее попал в Париж, Семакгюс приказал запрягать. Утро сулило дурную погоду на весь день. Неожиданно потеплело, сухой морозный воздух сменился влажным и промозглым. Густой туман, повисший на высоте человеческого роста, искажал окружающие предметы. На полпути к Инвалидам они столкнулись с препятствием: телега угодила колесом в промоину и перегородила дорогу. С громким криком натянув поводья, кучер остановил лошадей, спрыгнул с козел и отправился вытягивать телегу. Николя последовал его примеру; оглядевшись, он с удивлением отметил некоторую странность создавшегося положения. Вокруг не было ни души. Получается, что возница отлучился за помощью? Николя попытался подобраться к телеге, дабы утихомирить тяжеловесную лошадь: с громким ржанием она рвалась из упряжки и била копытами об землю, разбрызгивая вокруг себя грязь. Он ласково пошептал ей в ухо; животное успокоилось и задрожало, почувствовав легкое прикосновение его руки; он нежно погладил ее по морде.
Вытащить телегу оказалось задачей нелегкой. Вокруг по-прежнему не было ни души. По обеим сторонам дороги вперемежку с ветхими хижинами тянулись огороды и заросли кустарника, поодаль прозябали заброшенная стройка и полуразрушенная мельница. Всматриваясь в недостроенное крыло здания, Николя заметил, как из окна его вылетела струйка дыма; прогремел выстрел, и он, ощутив сильный удар в голову, рухнул на землю. Обезумевшая лошадь встала на дыбы, отчаянным усилием дернула повозку и, заскользив на повороте, наконец выдернула колесо из промоины и потащила разболтанную повозку дальше, по грязной обочине. Оглушенный Николя никак не мог подняться. Кучер Семакгюса, бросившись на землю, подполз к нему. Схватив его за воротник, он проволок его по грязи до ближайшей канавы; упав в канаву, они прижались к земле.
— Что случилось, Арман? — спросил комиссар низенького улыбчивого кучера. — Благодарю вас за присутствие духа!
— Хозяин мне никогда бы не простил, если бы я бросил вас в беде. Тем более не убедившись, что вы живы! Нас взяли на прицел, словно кроликов в садке, и намеревались расстрелять по очереди. Вы не ранены, сударь?
— Не думаю… Хотя в голове у меня гудит, словно в ней звонят в огромный колокол.
Поискав глазами треуголку, он увидел, что она валяется в луже посреди дороги. Поднеся руку к голове, он нащупал огромную болезненную шишку. Что все-таки произошло? Похоже, он не ранен, однако… Снова послышались выстрелы, заставившие их еще плотнее вжаться в липкую грязь. А если нападавшие решат подойти поближе, как они смогут защитить себя? Его шпага осталась в экипаже; впрочем, клинок против пистолетов выглядел неважной защитой. Он вспомнил о маленьком пистолете, подаренном Бурдо и спрятанном под полями треуголки, валявшейся в нескольких туазах от него. Впрочем, его единственный выстрел вряд ли смог бы поправить дело, к тому же после показательного выстрела у Полетты он даже не перезарядил его. Внезапно послышалось ржание, а следом топот копыт. Они внутренне приготовились отразить нападение, но шум постепенно удалился, а вскоре смолк совсем, и наступила тишина.
— Увидев, что вы упали, они решили, что их выстрел попал в цель, — пропищал Арман. — Вот они и убрались!
Николя отметил, что кучер был абсолютно уверен, что нападавшие стреляли именно в него. Итак, с насмешкой, словно речь шла не о нем, он подумал, что в очередной раз побывал со смертью на ты. Перебирая пришедшее на ум прочитанное, он вспомнил отрывок из поэмы, услужливо подсказанный ему памятью:
…безжалостная смерть Подъемлет на меня свою косу, И старый кормчий тут как тут.[45]Он забыл имя автора; можно, конечно, было бы спросить у Ноблекура, этого неисчерпаемого кладезя премудростей, которому нужно всего лишь сказать начало стиха, и тот немедленно процитирует его до конца. Неужели ему суждено погибнуть после дружеского ужина, с доверху набитым животом, и вдобавок осыпанным милостями Амура? Да, такой кончине можно позавидовать. Внезапно его охватила смутная тревога. Разве можно радоваться внезапной смерти, пребывая во грехе? В ушах у него тотчас зазвучали проповеди каноника Ле Флока, призывавшего маркиза покаяться. Пробудившийся в нем бретонец задумался, но при мысли о том, что для столь славной кончины ему не хватило лишь крохотного кусочка свинца, пролетевшего мимо его головы, он расхохотался. Кучер взирал на него с изумлением.
— Сударь, с вами все в порядке? Может, позвать на помощь? Если доктор узнает…
— Довольно, давай лучше сядем в нашу лодку и продолжим переправу через Стикс! Все в порядке, мой храбрый Харон! В Париж, и побыстрее!
Направляясь к экипажу, он подобрал свою треуголку и увидел, что на этот раз спасло его. Противник целился метко, но волею Провидения пуля попала в спрятанный под полями маленький пистолет Бурдо и расплющила ему рукоятку. В сущности, он был на волосок от смерти: не хватило всего нескольких миллиметров, чтобы жизнь его оборвалась посреди этого унылого пейзажа. И в первый раз он испуганно вздрогнул. Затем он снова мысленно поблагодарил Бурдо: в тот день, когда инспектор передавал ему этот пистолет, он не знал, что ему суждено не раз спасать жизнь своего владельца. От чего зависит судьба человека? Простое соединение дерева и железа внезапно встают на пути у свинцового шарика! Сколько случайных траекторий вечности изменили свое направление, чтобы этот шарик попал именно туда, куда он попал!
В экипаже, коченея от холода и чувствуя, что грязевая оболочка все теснее сжимает его тело, он попытался привести в порядок свои мысли. Он был уверен, что покушение являлось частью единого замысла, к которому, как он все больше проникался уверенностью, приложили руку англичане. Присутствие лорда Эшбьюри в Париже, тайные происки служащих английского посольства, английские эмиссары и их вечное стремление устраивать заговоры, без сомнения, имели некую цель. Соображения Семакгюса открыли перед ним новые перспективы. Но при чем тут Сартин? Он мог понять интерес министра морского флота к столь важному вопросу, как навигация судов королевского флота. Но почему он ничего не сказал своему бывшему следователю, самому преданному и посвященному в государственные секреты? Почему, если связь между созданием навигационных приборов и смертью заключенного Фор-Левека действительно существовала, Сартин упорно не желал сообщать Николя сведения по этому делу?
При мысли о том, что Сатин, она же Антуанетта, она же мать Луи, могла быть замешана в этом деле, сердце его куда-то провалилось. И еще одна мысль неотступно преследовала его: он не понимал, каким образом его могли выследить в Вожираре? Или в это вновь вмешался случай? Ему казалось, что он оторвался от своих преследователей. Значит… Предположения так и кишели в голове, преумножая боль от полученного удара. Кровь стучала в висках. Объяснений не было. Он вновь вспомнил всю сцену. Он сказал Киске, что отвезет ее в Вожирар, где ей ничто не будет угрожать. После чего она ненадолго покинула его, чтобы справить естественную надобность. О! Для этого вполне могло хватить нескольких секунд. Неужели он прав? Будучи близка с Лавале, она оказалась посвященной во многие подробности дела: вряд ли престарелый любовник таился от девицы столь юного возраста. И еще: она удивительнейшим образом ускользнула от похитителей художника; однако, если посмотреть повнимательней, ее побег был не настолько хорошо продуман, чтобы ее нельзя было отыскать. Или же… А можно ли утверждать, что преследователи были те же самые? Это предположение явно оказалось неуместным, ибо еще больше усложняло картину; однако в урочное время оно, быть может, поможет взглянуть на загадку под другим углом и прояснить ее…
Он ощупал карманы фрака: к счастью, черная записная книжечка на месте. Его даже пот прошиб, когда он подумал, что мог оставить ее в кармане плаща, присвоенного Киской перед тем, как ранним утром тайно покинуть дом Семакгюса. И он отругал себя за то, что пошел на поводу у мелкой плотской страсти. Увы, чтобы отличить добро от зла, надобно смотреть не слишком близко и не слишком далеко. Эрос и Вакх затмили ему разум.
Зачем он постоянно идет на поводу у своих демонов, увлекающих его в лабиринты скрупулезного анализа и вопросов без ответов? Пора действовать, и действовать незамедлительно. Мчаться на улицу Монмартр, избавиться от тошнотворной дорожной грязи, затем отправиться в Шатле и расспросить Бурдо, который, разумеется, не сидел на месте. На улице резко потеплело, и он почувствовал, как с него градом потек пот. Ерзая от нетерпении на месте, он удивлялся, как трудно проехать по городу ранним утром. Повозки, телеги, стада, предназначенные для бойни, то и дело тормозили движение; похоже, разлившееся в воздухе тепло расслабляло всех, кто в этот час выехал на улицу. Вдоль стен скользили размытые тени прохожих, а обычный для такого часа шум и гам стих, увязнув в устремившихся вверх грязевых испарениях.
Он задремал, убаюканный дорожной тряской, проснулся от сухости во рту и долго не мог понять, что он уже приехал на улицу Монмартр, а не видит продолжение сна. Знакомый запах горячего хлеба из булочной Юга Парно[46] взбодрил его, и он окончательно пришел в себя. Юный помощник булочника помог ему выйти из экипажа; узрев его нелепый вид, он застыл, разинув рот, не понимая, смеяться ему или изумляться. Катрина, стоя на коленях, драила выложенный плитками пол на кухне. Увидев перепачканную грязью фигуру, она замахала руками, запрещая ему соваться в ее владения. Николя замогильным голосом предупредил дам, что, принимая во внимание резкое потепление, он отправляется во двор смывать с себя грязь под струей воды из насоса, а потому намерен снять с себя всю одежду. Марион, сидевшая в углу у плиты и наблюдавшая за приготовлением кушанья, как обычно, заохала и запричитала, однако смешливые искорки в уголках глаз изобличали наигранность ее страхов. Между ними шла своего рода игра, питавшаяся воспоминаниями прошлого. Пристроившийся у ног домоправительницы Сирюс подскочил и жалобно затявкал, в то время как Мушетта, развеселившись от неожиданной кутерьмы, принялась с оглушительным мяуканьем носиться по кухне. Николя развязал ленту, удерживавшую волосы, полностью разделся, стянул чулки, вылил на голову ведро воды и, схватив горсть золы, принялся нещадно натираться ею. Несмотря на потепление, вода была холодная и обожгла его. Катрина, прикрыв глаза, пришла с простыней, но, увидев, какой он грязный, принялась обтирать его соломенным жгутом. Энергичное мытье вернуло ему силы. Обмотав бедра простыней, он, отфыркиваясь, поднялся к себе, чтобы завершить туалет. Едва переступив порог, он увидел на кровати письмо. В записке господин Тьерри, первый служитель королевской опочивальни, извещал его от имени короля, что после полудня ему следует прибыть в Версаль, дабы дождаться конца охоты. Он задумался: что хочет сообщить ему король, отдав такое приказание? Без сомнения, речь пойдет о деле Каюэ де Вилле. Значит, ему предстоит разыграть не простую партию. Что ж, можно поздравить себя с тем, что он предупредил королеву, что не сможет сохранить ее секрет от короля, ибо он принес ему клятву верности. Понимая, что он не успеет поговорить с Бурдо, он торопливо набросал ему записку. Спускаясь по лестнице, он услышал рокочущий голос Ноблекура, а на повороте его едва не сбила с ног Катрина, выскочившая из двери спальни магистрата с подносом с руках.
— Фот, злышите, как он грохочет. Похоже, зкоро обять начнется бриступ бодагры. Фчера он вернулся очень поздно. Зтарая мумия заехала за ним. О-хо-хо, он совсем бозабыл бро звои бривычки!
Николя осторожно вошел в спальню. Старый магистрат сидел среди груды подушек, а его правая нога, обернутая корпией, покоилась на подушечке, положенной на низенькую скамеечку. Бурча себя под нос, Ноблекур отбивал тростью воображаемый размер.
— Ах, это вы, Николя! Наконец-то!
— Увы! Вы, кажется, не в лучшем виде. Я всегда волнуюсь, когда на вас нападает дурное настроение. Впрочем, вы и сами знаете, к чему это обычно вас приводит. Что вы на это скажете?
— Подумаешь! Говорить надо тогда, когда слово стоит больше, чем молчание.
— Прекрасно, — произнес Николя, делая шаг назад, — если дела обстоят именно так, не хочу вам мешать и исчезаю, оставляя вас наедине с подагрой, коя, как я понимаю, является главной причиной вашего дурного настроения. Конечно, недолгая беседа могла бы на время заставить вас забыть о нарастающей боли…
Поморщившись, Ноблекур стукнул по полу тростью.
— Нарастающей? Она уже дошла до предела! Все! Сдаюсь, вам сопротивляться невозможно. Но знайте: я страдаю не хуже любого мученика. Впрочем, быть может, приятный обмен словами, действительно… Что там за переполох случился в кухне? Катрина с трудом выдавила из себя пару слов.
Николя отвесил почтительный поклон.
— Ваш покорный слуга, вернувшийся в грязи с ног до головы, без одежды мылся под водяным насосом!
— Неужели?
Он засмеялся, но смех его то и дело прерывался болезненными вскриками. Николя рассказал старому магистрату о своих приключениях и об опасностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Его старый ментор задумался; похоже, его более всего заинтересовали лекции Семакгюса.
— Лучше всего, — назидательно произнес он, — не знать, куда все движется; неплохо также не знать того, что кажется заслуживающим доверия, хотя оно таковым и не является. Словом, можно начинать с чистого листа. Продолжайте расследование, а улики должны созреть.
— Говорят, вы изменили своим привычкам, — проговорил Николя, — уступили прелестным речам «старой мумии» и, словно зеленый юнец, пошли у нее на поводу.
— Вы беспрестанно напоминаете мне, что я тоже старая мумия, я вас слушаю и в конце концов сам начинаю в это верить! Ах, почему я не прислушался к гласу мудрости! Увы, у бедняжки очень слабый голосок, а я вдобавок еще и немного глух. Мумия… какое непочтение! Меня уговорили в салон к графине де… Ну, неважно. Разве я мог сопротивляться маршалу Франции, герцогу и пэру, одному из сорока членов Французской академии? И потом, разве можно заставлять ожидать даму? У моих дверей в собственной карете сидела одна из нынешних знаменитостей.
— Молодая женщина?
— О! Скорее древняя. Герцогиня де Фалари. Некогда регент буквально умирал в ее объятиях. Она захотела меня видеть!
Он откашлялся.
— Поверите ли, когда-то мы были с ней добрыми друзьями. В двадцать лет я не отличался образцовым поведением и вместе с герцогом Орлеанским разгуливал по Парижу. Ну вот! Вы снова заставляете меня петь старые песни, припев которых я вам уже не раз насвистывал.
— Когда вы об этом говорите, ваши друзья радуются, что в былые времена нынешний суровый магистрат, подобно простому смертному, предавался свойственным молодости беспутствам.
— Он еще смеет смеяться! Он что, хочет, чтобы я окончательно уселся в углу у камелька? Герцогиня, бывшая некогда красавицей, теперь просто безобразна. Бледная морщинистая кожа, покрытая толстым слоем белил. Ярко-красные пятна помады на щеках и светлый парик, составляющий резкий контраст с нарисованными угольно-черными бровями. Похоже, она все еще пребывает в погоне за юными особями мужского пола и потому заслужила прозвище мамаши Иезавель.[47] Представляете, какой удушающий запах мускуса она источает! О, потерявший голову Ноблекур, как мог ты принять это ужасное приглашение!
— Как, разве можно так говорить о маршале Франции, герцоге и пэре, одном из…
— Пощады! — завопил Ноблекур, задыхаясь от смеха. — Ваша взяла.
— Так что же, чем завершился ваш галантный вечер? Вы злоупотребили…
— О! Всего двумя каплями мальвазии. И общество, разумеется, самое изысканное. Но эти салонные вечера уже не для моего возраста, там становится тяжко и душно. Сегодняшнее глумление я расцениваю как плод внебрачной связи между иронией и жестокостью. Что я увидел и услышал? Небрежность в поведении, лицемерие в голосах и манерах, злой и легкомысленный ум, ищущий выход в замысловатых витийствах. Вот что сегодня называется приятным обществом! Довольно! На сегодня с меня хватит, да и на потом тоже. Только острое и умное слово, вызывающее полезный для каждого смех, должно пользоваться успехом. Стоит остроумию сосредоточиться на одной цели, беседа немедленно меняется. Такие безделушковые манеры не для меня, и я злобствую, видя, как маршалу Ришелье, герою битвы при Фонтенуа, в лицо воскуряют фимиам, а в спину несутся насмешки. Хватит! Куда мы катимся?
Этот выпад омрачил настроение Николя.
— У вас снова сварливое настроение! Давайте выбросим его и посмеемся! Если не хочешь прослыть шарлатаном, не стоит выходить на сцену. А если уж вышел, то изволь изображать шута, иначе тебя закидают камнями.
— О, как это верно, вашими устами говорит сама мудрость. Почему, чтобы понравиться нынешнему обществу, надо опуститься до гротеска, до карикатуры? И при дворе, и в столице признают только жестокость, она спасает и защищает. Мне смешно, но в глубине души очень горько, особенно потому, что я привык подчиняться только велениям сердца. Я люблю глупых остроумцев, их глупость всегда рядится в одежды любезности и простодушия. Но бойтесь дураков!
— Мне пора бежать, меня ждут при дворе. Надеюсь, что по возвращении найду вас совершенно здоровым!
Вместо прощания Ноблекур весело помахал ему своей тростью.
В кухне Николя подозвал Пуатвена и попросил его сходить за фиакром, который должен был ожидать его перед таверной «Серебряный якорь» на улице Монторгей. Затем, передав ему записку для Бурдо, он вышел на улицу Монмартр, потоптался несколько минут, обмениваясь шутками с подручным Парно, съел горячую бриошь, которую от имени своего хозяина принес ему подмастерье, а потом отправился к тупику, упиравшемуся в один из входов в церковь Сент-Эсташ. Сей храм не раз позволял ему незаметно ускользнуть от преследователей. Войдя в церковь, он тотчас вышел через другой вход, пошел в обратную сторону и, окинув внимательным взором улицу Монмартр, свернул в пассаж Рен-д’Онгри, длинную вонючую кишку, выходившую прямо на улицу Монторгей. На пути ему встретилась толстая кумушка, устроившаяся на плетеной скамеечке с вязанием в руках. При его появлении она вскочила и прижала его к своей широкой груди.
— Ах, Николя, красавчик мой, куда ты бежишь так рано? Как пить дать на свидание.
— Я мчусь на другой конец света. Но если кто-нибудь захочет последовать за мной…
Она уперла руки в бока.
— То я ему покажу! Иди спокойно: прежде чем поймать тебя, им придется обойти меня!
Он заспешил дальше, радуясь встрече со старой знакомой. Как-то раз Жюли Беше, по прозвищу Майская Роза, оказалась в составе депутации рыночных торговок, прибывших в Версаль. А так как она была необычайно похожа на Марию-Терезию, королева заметила ее. С тех пор Жюли обожала королеву, и беднота, проживавшая по соседству, в конце концов назвала улочку, где та проживала, пассажем Рен-д’Онгри.[48]
Перед «Серебряным якорем» его ждал фиакр. По дороге его внезапно скрутил голод, и он купил с лотка корзиночку уже вскрытых устриц[49] и бутылку сюренского, намереваясь скрасить себе сей скромной трапезой дорогу в Версаль. А так как Версальская дорога была не в пример ровнее ухабистых парижских улиц, он устроился и принялся с удовольствием поглощать устрицы, вкус которых возвращал его к воспоминаниям детства, проведенного на берегу океана.
Насытившись, он принялся размышлять о том, что ждет его сегодня. Король вряд ли станет говорить с ним о чем-либо ином, кроме как о неприятностях, случившихся с королевой. Следовательно, к делу надо приступать очень осторожно и деликатно, ибо речь шла о вопросе, вызывавшем ссоры не только между обоими принцами, но и между мужем и женой. К счастью, ничто не побуждало его ни нарушать клятву верности, данную королю, ни непочтительно отнестись к королеве. Соразмеряя деликатность задачи и необходимые ухищрения, он знал, что все зависит от того, как король начнет разговор. Не имея поддержки, Людовик, как и все молодые люди, был застенчив и одновременно надменен. Стоило ему только заподозрить, что кто-то хочет подавить его волю, как он тотчас утрачивал способность изъясняться четко и ясно и его открытость в отношениях с Николя могла испариться в любую минуту.
Оставив экипаж перед двориком Лувра, он спросил знакомого лакея в голубой ливрее, привыкшего держать нос по ветру, не вернулся ли король с охоты. Нет, еще не вернулся; судя по слухам, в охотничьем азарте король стал частенько забираться в самую чащу леса Марли. Взяв с лакея обещание предупредить его, как только охота завершится и все начнут возвращаться, Николя отправился погулять в парк. В последний раз он проходил здесь в прошлом году, но сегодня он не узнавал прежних пейзажей. Деревья, посаженные Людовиком XV, были срублены[50], а те, что не успели срубить, пали жертвами гроз и бурь. Несмотря на то что на их месте прижились новые посадки, Николя не покидало чувство горечи, возникающее при виде не подлежащих восстановлению развалин. Он уже никогда не увидит парк таким, каким увидел его шестнадцать лет назад, во время своего первого приезда в Версаль. Лишенный обрамления, в это хмурое зимнее утро замок выглядел мрачным и застывшим. Неожиданно в плечо ему вцепилась чья-то худая костистая рука, и он вздрогнул, оборвав свои печальные размышления. Обернувшись, он увидел обезьянье личико Ришелье в обрамлении меха выдры, служившего воротником широкому плащу маршала. Возможно, сравнение было неуместным, но тем не менее показалось, что перед ним предстал персонаж жанровой сценки, где одетая в человеческий костюм макака прыгает по гостиной, оставляя после себя полнейший беспорядок. Старая мумия беззвучно усмехалась, что подтверждал пар, исходивший из ее вытянутых в ниточку губ. Рука сделала рывок, и маршал схватил его так крепко, словно пытался удержаться от падения.
— Когда имеешь честь встретить нашего дорогого Ранрея, готовься, события не за горами. Это я давно заметил.
— О, сударь, я всего лишь прогуливаюсь по парку, дышу воздухом и сожалею о прежних деревьях.
— И, как всегда, не отвечаете на вопросы! Ах, как же хорошо я вас знаю…
Костистая рука продолжала сжимать ему плечо. Придвинувшись поближе, герцог задрожал и прильнул к Николя. Волна мускуса, смешанного со столь же одуряющим ароматом, ударила ему в нос.
— …вы скрытны, словно дверь алькова!
— Или как поворачивающийся камин, — со смехом ответил Николя.
— Ах, как давно я не рискую им пользоваться! — усмехнулся Ришелье. — Что новенького? Мне больше ничего не говорят. Свершил ли наш юный монарх свое самое важное дело? Что говорят ночные хроники? Погремушки уже гремят? Скоро ли ждать наследника? Ах, вы опять молчите. Следовательно, наверняка все знаете. Это он? Это она? А может, этой австрийской телке, что сердится на меня и водит меня за нос, нужен молодчик-заводчик?
— Сударь! Я исчезаю, дабы не слушать далее.
— О, это привилегия возраста, дорогой. Можно говорить все и удовлетворять любые свои капризы, если, конечно, ты их не удовлетворил раньше.
Взгляд герцога устремился к новым посадкам. Вид еще не засаженных участков настроил его на язвительный лад.
— Увы, — помолчав, произнес он непривычным тоном, — на моих глазах все стало идти на убыль: власть короля, этикет, парики и деревья. Что стало с раскидистыми деревьями, что шелестели кронами при моем первом повелителе?[51]
Он с улыбкой покачал головой.
— К вашему сыну это не относится, он образец французского дворянина. Что такого вы ему рассказали обо мне, что он смотрит на меня как на статую командора?
— Ноблекур всего лишь поведал ему о битве при Фонтенуа.
Костистая рука задрожала.
— Молодые люди чаще выбирают любовь, нежели воинскую славу. Но породистого пса видать издалека, как говаривал наш покойный король. У вашего Луи есть огонь. Он найдет и любовь, и славу. Но он умеет и развлекаться. Лохматая голова нравится мне гораздо больше прилизанной прически.
Интересно, на что это он намекает, подумал Николя. И тут же успокоился: отцы никогда до конца не знают своих сыновей.
— Мальчикам надо предоставить возможность следовать своим природным склонностям. Мне хотелось бы, чтобы молодой король поступал так же, но он добродетелен. Вот, главное слово и сказано! Верно говорят: пороку, как и добродетели, надо учиться; тот, кто всегда на виду, должен уметь жертвовать своими пристрастиями. У нас в семье это хорошо знают… у людей, как и у животных, от природы появляются морщины, а от воспитания и привычек — мозоли.
— О, сударь, однако, у вас далеко идущие планы.
— Будь вы в моем возрасте, вы бы поняли, что молодость — это постоянное опьянение, это горячка рассудка.[52] Разве ваш собственный путь был прям и усеян розами?
Николя вспомнил, с какой яростью он спорил с маркизом, своим отцом, и ничего не ответил.
— Вот видите! Возвращайтесь к себе. Король слишком благоразумен. У него достаточно чести и знаний, однако у него нет огня, присущего молодости. Когда он выносит решение, оно обусловлено мимолетным приступом ревности к тем, кто на его месте чувствовал бы себя гораздо увереннее…
Он принял привычный тон развратника, того, чья исполненная безумств юность прошла в компании регента Орлеанского.
— …Я бы пожелал ему завести несколько шлюх! А когда я говорю «шлюхи»… Но довольно! Во мне уже заговорил старик.
Со старомодными ужимками, принятыми при прежнем дворе, он раскланялся с Николя и направился к аллее, обсаженной кустарником, и вскоре его прихрамывающий призрак растворился в тумане, поднимавшемся с поверхности водоема.
Темнело, когда лакей в голубой ливрее прервал размышления Николя. Он известил его, что экипажи движутся во дворец. Господин Тьерри, первый служитель королевской опочивальни, уже спрашивал, прибыл ли маркиз де Ранрей. Николя направился ко входу, куда обычно подъезжали кареты после охоты. Там гомонила кучка придворных. Охота была трудной, все долго блуждали напрасно в поисках дичи. Король поскользнулся во время выстрела, и сначала все подумали, что он ранен. Принимая во внимание поздний час, добычу не стали делить на месте, а перевезли в замок, в Олений дворик. Эти новости, сообщенные курьерами, передавались из уст в уста.
Когда его нагнал Тьерри, во дворике уже началось великое оживление, предшествующее прибытию короля.
— Господин маркиз, у нас есть несколько минут, чтобы перекинуться парой слов. Знаете ли вы, зачем король вызвал вас? Я, к примеру, не знаю. Мне кажется, основной причиной явился визит к нему Верженна. Предупреждаю вас, его величество озабочен, а неудачи на охоте тем более не улучшили его настроения.
В первый раз он столкнулся с тем, что Тьерри не в курсе событий и даже не проявляет любопытства. Его вопрос остался без ответа. Что мог сказать ему король? Король тоже менялся, по крайней мере должен был. Тем временем посреди двора шли приготовления к разделке добычи, и толпа придворных заняла места с трех сторон. Николя, опытный охотник, знал все правила этого действа. На большом блюде смешивали мелко нарезанные хлеб и сыр, смесь сбрызгивали кровью оленя, заливали теплым молоком, а поверх месива лакеи набрасывали кусочки шкуры и прочие части животного вместе с головой и остовом, откуда были удалены все острые кости, чтобы собаки не поранились. Зажигали факелы и звуками рога созывали свору. Свора мчалась на зов, однако лакеи ударами хлыста удерживали ее на расстоянии, пока на балконе не появлялся король; разгоряченный охотой, он выходил в одной рубашке и взмахивал рукой. По этому сигналу собак выпускали, и те с лаем, визгом и рычанием устремлялись на добычу. Ужасную сцену сопровождали звуки рога. Николя не заметил, как к нему подошел Сартин. Тотчас между ними встал Тьерри и, потянув Николя за рукав, повел его на второй этаж, в личные покои короля. Николя провели в комнату, где, как он сообразил, он в свое время встречался с покойным королем. Прежде эта комната служила Людовику XV ванной. Молодой король превратил ее в отдельный кабинет для своих личных занятий. И только рисунки на стенах, изображавшие купальщиц и уроки плавания, напоминали о прошлом предназначении помещения.
В этой скромной комнате с низким потолком высокая фигура короля казалась еще выше. Непроницаемый, он смотрел на Николя, не скрывавшего своего волнения. Состояние комиссара поразило Людовика.
— Ранрей, друг мой, что с вами? Как вы себя чувствуете?
— Простите. Ваше величество… В этой комнате я встречался с вашим дедом, и…
Польщенный, король улыбнулся.
— Действительно, ваши повелители завещают вас как наследство.
Он сел в золоченое плетеное кресло, обитое красным дамастом. По небольшой комнате поплыл запах пота, кожи и лошадей. Король в задумчивости массировал ногу. Посетителю не пристало начинать беседу. Но молчание грозило затянуться, и Николя отважился первым взять слово.
— Похоже, собаки очень утомились.
Вздохнув, король вытянул ноги и охотно схватил протянутую ему соломинку.
— Пришлось ехать долго и далеко. Неподалеку от перекрестка Муан произошла подмена животного, и мы стали преследовать очень невзрачного оленя. Собаки, вырвавшиеся вперед, погнались за другими зверями, а остальные просто потеряли след. Я нагнал оленя, когда тот увяз в грязи по самый круп. Со мной были только две собаки. Я спешился. Он раскачивал головой, а так как почва на склоне была скользкой, я поскользнулся; прежде чем я его застрелил, он успел ударить меня копытом.
Король вновь принялся растирать ногу.
— Советую вашему величеству попробовать в качестве примочки винный уксус. Намочите салфетку в уксусе, оберните больную ногу и оставьте на ночь. Наутро все как рукой снимет!
— В самом деле? — рассмеявшись, спросил король; настроение его значительно улучшилось. — Раз так говорит сам Ранрей, непременно попробую. Хотя не знаю, что думает об этом мой врач, господин Лиото.
Снова воцарилась тишина. Король никак не мог перейти к сути дела.
— Что слышно о Наганде?[53]
— Известия от него доходят до меня только тогда, когда это угодно его величеству.
— Вы правы. Он присылает нам подробные отчеты. По его мнению, наши бывшие подданные, те, кто приехал в его края с континента, в основном приспособились к английскому правлению, облегчившему им ведение торговли… С индейцами дело обстоит иначе: их вожди хотели бы вернуться под эгиду Франции. Их привязанность трогает меня.
Что мог ответить Николя? Сидя перед ним, его король размышлял вслух над проблемой, теснейшим образом связанной с вопросами войны и мира.
— Господин де Верженн уверяет меня, что в интересах Франции не дать инсургентам захватить Канаду. Колонии рядом с американскими границами будут являться постоянной угрозой, и у нас будет больше шансов, что они останутся верны союзу, который мы, вероятно, заключим с ними… Мы им поможем… но не столько, сколько они хотят. Что говорят об этом в народе?
— Ваше величество знает враждебное отношение своих подданных к англичанам и их желание когда-нибудь взять реванш за Парижский договор.
Король на момент задумался.
— Но готовы ли мы? Сартин старается на море… Время еще не настало… Ранрей, я позвал вас…
«Так, прелюдия кончилась», — подумал Николя.
— …чтобы показать одну штуку.
Он выдвинул ящик рабочего стола и осторожно достал оттуда продолговатый предмет в чехле из синего бархата. Положив его на стол, он снял чехол и развернул скрывавшую предмет ткань.
— Ранрей, что это, по-вашему?
— Сир, я вижу темную палочку с навершием из слоновой кости.
Король отвинтил навершие и достал другую палочку, на этот раз светлую, с дырочками.
К великой радости короля, Николя с удивлением следил за его движениями.
— Когда я в первый раз увидел эту штуку, мое изумление было столь же велико, — промолвил Людовик.
Затем он посерьезнел.
— Вы, без сомнения, в курсе забот королевы. Тьерри мне все рассказал. По своему размаху дело приобретает государственное значение. Просто не представляю, как такое могло случиться, а главное, как могла королева позволить настолько злоупотребить своим доверием.
Николя с трудом следовал за извивами королевской мысли. Решив, что странный предмет отодвинул на второй план насущный вопрос долгов королевы, он стал обдумывать ответ, тем более что обещавший свою помощь Тьерри так и не появился.
— Как, каким образом, — продолжал король, — вещь, существующая наверняка в единственном экземпляре, могла исчезнуть, чтобы потом обнаружиться в гостиной королевы? Каким образом моя тетка Аделаида могла подарить ее моей жене, каким образом она оказалась у Бальбастра, посредника, вручившего ее королеве? Понимаете, пошел слух, что эту штуку дерзко похитили из кабинета редкостей короля Фридриха в Сан-Суси, о чем прусский министр и сообщил Верженну. И вдруг она появляется в Версале… Да еще у королевы! Все это грозит нам скандалом и оглаской. Союзники могут оскорбиться, имя и репутация королевы будут запятнаны, а честь короны и авторитет Франции скомпрометированы.
— Быть может, ваше величество объяснит мне назначение сего предмета?
Поднеся кончик трубки ко рту, король подул в нее, издав пронзительный звук, и из-под маски монарха снова выглянул шаловливый мальчишка. Заметив растерянную физиономию Николя, король расхохотался.
— Да, да, это именно флейта, Ранрей. Кто бы мог подумать?!
Достав из ящика небольшой листок, он нацепил очки.
— Министр иностранных дел Пруссии барон Гольц передал Верженну вот это описание. «В плоском футляре из дерева и кости находится флейта, выточенная из зуба нарвала, рыбы-единорога, обитающей в северных морях; зуб сей выделан под мрамор. Прошу отметить, в верхней части инструмент является флейтой, а в нижней — гобоем, там же проделаны двойные отверстия для тональности „соль“, имеется латунный изогнутый ключ и трапециевидное кольцо, посаженное на резьбу из слоновой кости; вращая кольцо, можно взять тональность „ми“ как на флейте, так и на гобое. Навинчивающаяся трость защищает язычок, головка из слоновой кости выделана под мрамор. Обе части соединяются с помощью позолоченного металлического кольца, внутри которого стоит авторский знак ШЕРЕР[54] и вставший на задние лапы лев».
— Кажется, — лукаво промолвил король, — зуб нарвала является универсальным противоядием. Кусочек его позволяет определить наличие яда. Но зуб и сам несет в себе яд! Ранрей, — продолжил король, — мы очень надеемся, что вы позволите нам выйти сухими из этой опасной игры. Насколько мне известно, слишком многие при дворе завидуют… я каждый день читаю доставляемые мне господином Ленуаром…
На лице его величества появилась горькое выражение.
— …пачки памфлетов и пасквилей, так что могу себе представить, что это дело…
Николя почувствовал, как сердце его сжалось от жалости к королю.
— Сир, — промолвил он, — можете быть спокойны, все будет выполнено так, чтобы не причинить волнений вашему величеству.
В голове эхом отозвались слова госпожи Кампан, бросавшие свет на многое.
— Я как верный подданный его величества обязан сказать, что предмет сей попал в руки ее величества исключительно злой волей и интригами. Я не могу скрыть от короля, что королева… что в Версале играют по-крупному.
Он смутился и покраснел. Король, сморщившись, поднял руку.
— Я завершу, Ранрей. У королевы есть долги. Я оплачу их. Не беспокойтесь. Продолжайте.
— Ваше величество упрощает мою задачу. Пользуясь снисходительностью королевы, некоторые пытаются воспользоваться ее финансовыми затруднениями. Некая интриганка, за которой я установил наблюдение, вот-вот попадется в наши сети. В воскресенье, после мессы, я рассчитываю доложить королю, что она арестована по предъявлению обвинения в оскорблении величеств и передана в руки правосудия.
Король оживленно вскинул голову.
— Главное, ничего не решайте, не предупредив нас. Все, что так или иначе затрагивает честь трона, необходимо окутать мраком.
Николя уже доводилось выслушивать подобные сентенции из уст Сартина. Сегодняшнее красноречие никак не вязалось с обычным косноязычием короля. Монарх тем временем взял флейту, осторожно сложил ее в футляр и убрал в ящик стола.
— Мы ничего не расскажем королеве о нашем разговоре.
Он рассмеялся.
— А теперь я иду применить ваш рецепт лечения синяков. Главное, найти винный уксус. Надеюсь, Тьерри мне поможет.
Когда Николя выходил из дворца, толпа уже рассеялась. Слуги убирали остатки собачьей трапезы. Он вышел в холодную ночь. Итак, король в курсе неприятностей королевы, но насколько далеко простираются его познания? Он измерил пропасть, в которую едва не угодил со своей искренностью. Внезапно он вспомнил о Бальбастре, подозрительном посреднике при Мадам Аделаиде. Почему принцесса, ненавидевшая королеву, вдруг решила сделать ей такой подарок? Как и кто ее в этом убедил? Прошлое Бальбастра отнюдь не свидетельствовало в его пользу, равно как и его дружба с герцогом д’Эгийоном, открыто ненавидевшим Марию-Антуанетту.
За спиной у него заскрипел гравий и раздался знакомый голос:
— Наш добропорядочный бретонец вышел полюбоваться на луну? — саркастически спросил Сартин.
— Сударь, я к вашим услугам.
— Так о чем поведал вам король?
— Боюсь, что только он может разрешить мне рассказать об этом.
— Николя, с вашей стороны неприлично играть со мной в такие игры. Я этого не забуду. Вы вольны хранить ваши секреты, но советую вам не совать нос в чужие.
— Не знаю, сударь, на что вы намекаете, делая подобное предупреждение. Оно напрочь перечеркивает мою верность.
— Вы слишком много знаете. В серьезных играх чувства в расчет не принимаются.
И, словно сказав слишком много и испугавшись, что в гневе скажет еще больше, Сартин повернулся к Николя спиной и исчез во мраке. Николя с грустью отметил враждебный тон Сартина. Уже не первый раз пути их шли в разные стороны. Оба служили королю, но министр по-прежнему видел в Николя рекомендованного ему провинциала, которого он некогда взял под свое крыло. В то, что этот провинциал давно занимает собственное место, имеет определенное влияние и заслуги, он верить не хотел.
Экипаж привез его к особняку д’Арране, где его встретил жизнерадостный Триборт. Адмирала на борту нет, но мадемуазель, без сомнения, будет рада его видеть. Сказано было с таким энергичным подмигиванием, что испещренное шрамами лицо старого моряка покрылось складками. Встретившись с возлюбленной, Николя постарался быть с ней настолько нежным, насколько ему позволяла его нечистая совесть. Остывшая дичь и бутылка шампанского вскоре уступили веселой игре и жарким, как никогда, объятиям. Зная, что ему предстоит заслужить прощение, Николя пылом своим изумил возлюбленную.
Пятница, 14 февраля 1777 года.
Отъезд Николя не потревожил сон Эме. Триборт, с утра пребывавший на ногах, подал ему на завтрак горячий кофе, сдобренный щедрой порцией рома, и остатки вчерашнего паштета, запеченного в тесте. Подкрепившись, Николя приготовился встретить возвращение холода. На улице стоял трескучий мороз, пар от дыхания кучера, проведшего ночь на сеновале в конюшне, соединялся с паром, исходившим из ноздрей коня.
Когда они подъезжали к холмам Севра, над горизонтом показалось бледное солнце, и серые силуэты раскинувшегося впереди Парижа внезапно приобрели серебристый блеск. Он решил немедленно ехать в Шатле, надеясь отыскать там Бурдо и расспросить его, как продвигается расследование. Казалось, они не виделись целую вечность, и Николя вдруг остро ощутил, как ему не хватает своего верного друга и помощника. Он всегда мог положиться на его здравомыслие, опыт и умение добиваться цели, если он полагал эту цель справедливой. Именно уверенности и спокойствия Бурдо ему сейчас и не хватало.
Сидя в обществе папаши Мари, инспектор сосредоточенно раскуривал глиняную трубку. При появлении на лестнице Николя лицо его прояснилось, и он немедленно потащил комиссара в дежурную часть.
— Мне показалось, что ты отсутствовал целую вечность, — произнес Бурдо.
Видя, что чувства их совпадают, Николя счастливо улыбнулся.
— Есть новости, — промолвил он тоном, по которому нельзя было догадаться, вопрос ли это или намерение самому поделиться новостями.
— Есть хорошие и плохие. Я нашел Киску.
— Я тоже, — весело отозвался Николя, — и снова потерял ее! А рукоятка твоего пистолета покорежилась, но спасла мне жизнь! Впрочем, сейчас я тебе все расскажу.
Бурдо с тревожным беспокойством смотрел на него.
— Боюсь, ты меня не понял: я нашел ее мертвой!
— Мертвой?
— Точнее, убитой пулей в голову. Тело найдено патрульными во рву возле Инвалидов, со стороны города… куда его, без сомнения, сбросили, воспользовавшись туманом… Осмотревший его вчера вечером Сансон сказал, что ее убили ранним утром. И знаешь ли ты, что на ней было надето?..
Он смотрел на Николя, не решаясь продолжить.
— Увы! Знаю, и слишком хорошо. Мой старый плащ.
Он ощутил, как холод сковал его тело, а дыхание остановилось. Наконец, придвинув к себе скамью, он рухнул на нее, обхватил голову руками. Почему именно он должен служить слепым орудием в руках судьбы? В сущности, получается, что он сам ее застрелил. Почему уже второй раз женщине, с которой он был близок, уготована столь печальная участь? Внезапно он встал.
— Я хочу видеть ее.
— Она внизу, в мертвецкой.
Они молча спустились в подвал, все еще тонувший в ночном мраке. При свете факелов Николя разглядел изящные контуры тела, накрытого широким мужским плащом, под которым оно казалось совсем маленьким. Взяв себя в руки, комиссар откинул плащ. Бледное лицо уже посерело. Выпуклый лоб обезобразила четко очерченная дырочка. Волосы покрывала грязь. Взяв платок, он попытался их отчистить, затем вытер погибшей лоб. Ему вспомнилась фраза покойного короля, произнесенная им стоя, когда мимо двигался печальный кортеж с телом маркизы де Помпадур: «Только так я могу отдать ей последний долг…» Сжав зубы, он своим порывом не только хотел отдать последний долг, но и излить внезапно затопившую его жалость. Он долго смотрел на тело, но, наконец, полицейский взял в нем верх.
— Ты обыскал карманы плаща?
— Я ждал тебя, этот же твой плащ.
Признательный Бурдо за доверие, он не стал задавать вопросов. Он знал, что накануне карманы были пусты. В правом кармане, в глубине, надорвалась подкладка, и в эту дыру иногда проваливались мелкие предметы. Ощупав низ плаща, он обнаружил нечто твердое. Аккуратно подняв находку, он вытащил две завалившиеся за подкладку монетки и протянул их Бурдо. Моргая, чтобы лучше видеть, инспектор поднес их к свету факела. Николя продолжал обыск. Наклонившись, он в изумлении уставился на подкладку плаща, затем несколько раз провел по ней пальцами, собрал крошечные частицы и ссыпал их в сложенный листок из своей записной книжки.
— Мне кажется, это английские золотые монеты, — произнес Бурдо. — Вот профиль короля Георга.
Николя подошел поближе.
— Ты прав. Это две гинеи. Прежде чем мы обдумаем нашу находку, мне надо объяснить тебе, — и он печально указал на труп, — почему на ней оказался мой плащ.
Пораженный волнением друга, Бурдо ничего не ответил. Негромким голосом Николя рассказал ему о своих поисках, о том, как он нашел Киску в таверне мэтра Ришара, что на улице Божоле, и как прошел вечер у Семакгюса. Он ничего не скрыл, и, хотя голос его неоднократно прерывался, он ни на шаг не отступил от истины.
— Теперь, — произнес Бурдо, — надо найти убийц. Мне кажется, это те же самые люди, которые напали на тебя по возвращении из Вожирара. И, разумеется, те же, кто похитил Лавале.
— Надо понять причину, — тихо произнес Николя, аккуратно прикрывая лицо Киски, — почему ранним утром она решила бежать из дома Семакгюса.
— Быть может, — задумчиво промолвил Бурдо, — эти золотые и являются той самой причиной или хотя бы одной из них.
— Но тут же всего две гинеи!
— Если предположить, что тот или те, кто ее убил, сначала хотели ее подкупить, почему они не забрали назад золото?
— Подкупить ее? Но зачем? Золото же наверняка забрали, а эти монетки просто завалились за подкладку. Или же… Их опустили туда, чтобы направить нас по ложному следу! Суди сам, ведь тело даже не подумали спрятать, так что заранее было очевидно, что его скоро найдут. А ей предстояло исчезнуть… Неужели она знала нечто очень значимое?..
— Но почему они решили убрать ее? Ведь перед гибелью она провела несколько часов в твоем обществе. Или ее убийцы были уверены, что она тебе ничего не скажет?
— Возможно, она не осознавала важности того, что знала, или важности некой улики, которая у нее имелась.
Неожиданная мысль столь стремительно промелькнула у него в голове, что он не успел ухватить ее.
— Почему и каким образом она покинула дом Семакгюса?
— Почему, я не знаю, но вот как — могу объяснить, — произнес знакомый голос.
Обернувшись, они увидели Семакгюса, закутанного в широкий плащ мышиного цвета.
— Я знал, что найду вас здесь. Арман рассказал мне все, что приключилось с вами по дороге! Так вот, сегодня ночью у меня побывали незваные гости; они перелезли через ограду, взломали дверь кладовой и силой или добровольно увели Киску, пока вы спали…
Тут он расхохотался.
— …сном утомленного праведника!
Отойдя в сторону, Николя приподнял плащ, и доктор склонился над трупом.
— Господи! Бедняжка! Пулевое ранение… Точно в лоб! Разумеется, из пистолета. Для этого даже не нужно проводить вскрытие.
Николя с облегчением вздохнул: Киску не будут подвергать страшной процедуре.
— Надо проследить, чтобы ее достойно похоронили. Кроме Лавале, у нее никого не было. Пусть ей оставят мой плащ.
В молчании они поднялись наверх.
— Ты мне говорил о хорошей новости, — с вымученной улыбкой проговорил Николя. — Полагаю, мы ее заслужили.
— Кажется, я вышел на след часовщика. Это оказалось проще, чем мы предполагали. Мы имели два имени, Леруа и Берту. И вот мы аккуратно расставили в квартале наших агентов. Мастерские обоих мэтров расположены на улице Арлэ. Сортирносу и еще нескольким заслуженным осведомителям поручено вести за ними неустанное наблюдение. Впрочем, хватило несколько умело заданных вопросов соседям…
— И что же они сказали? — нетерпеливо воскликнул Николя.
— Спокойно! Только факты, причем проверенные. Несколько месяцев в мастерской Леруа царит небывалое оживление. Причем крайне странное. В одночасье были уволены все ученики. Сам мэтр сменил замки и укрепил ставни. В доме появились новые личности, которых прежде никто там не видел. Однако прошло уже несколько дней, как никто из них не появляется…
— Наконец-то, — воскликнул Николя, — мы у цели!
— Я ждал тебя, чтобы продолжить поиски.
— Друзья мои, — произнес Семакгюс, — вы оба напоминаете гончих, взявших след. Поэтому я оставляю вас и желаю удачной охоты. Надеюсь, что следы приведут вас в нужное место. А я отправляюсь на встречу с господином Лаландом!
— Опять эта музыка!
Семакгюс расхохотался.
— Не с этим! Этот скончался много лет назад.
— Я не хотел… — смущенно пробормотал Николя.
— О да, ваше раздражение, несомненно, относилось к музыке вообще, а не к композитору, сочинившему «Симфонии для королевских ужинов»! Меня интересует астроном, гений, сумевший определить параллакс Луны. Знайте же, невежды, что в среду, в половине восьмого вечера, при заходе солнца видели сноп света, напоминавший хвост кометы, мчавшейся от созвездия Овна к созвездию Персея. Хвост постепенно вытягивался и к девяти часам образовал светящуюся дугу. В то же время на северо-западе горизонт затопило северное сияние, сияющая завеса, состоящая из множества световых колонн. Разве это не чудо? Предполагают, что феномен сей связан с потеплением, которое мы только что пережили. И мне хочется как можно скорее обсудить эти вопросы с Лаландом.[55]
Ликование его не знало пределов.
— Господин де Бержерак[56] поднимается на Луну, в то время как мы, несчастные смертные, остаемся привязанными к земле, — насмешливо произнес Бурдо.
Не вступая в полемику, корабельный хирург отвесил обществу изящный поклон и, сделав пируэт, удалился.
Жизнь продолжалась. Николя рассмеялся. Расследование шло своим чередом. Предстояло разоблачить убийц и отомстить за Киску.
— Что ж, все складывается неплохо, но нам надобно отыскать рычаг, — начал Бурдо. — Я никак не могу сообразить, под каким предлогом мы можем проникнуть к Леруа, он же часовщик его величества. В этом деле слишком много секретов, и вряд ли часовщик добровольно, без веских оснований согласится что-нибудь нам поведать!
Николя задумался.
— Я кое-что придумал… Нам понадобится ловкость и умение, но ни того ни другого нам не занимать. Мне нужен твой совет. С незапамятных времен у меня сохранилось письмо за подписью начальника полиции, согласно которому мне от имени короля вручались неограниченные полномочия.
— Подписанное Ленуаром?
— Если бы! Проблема в том, что там стоит подпись Сартина. И бумага датирована 1761 годом… Однако, если прикрыть рукой дату, она вполне производит впечатление.
— Но почему бы не попросить еще одну у Ленуара?
— Нет, на это я не отважусь. Несмотря на все его расположение ко мне, он слишком осмотрителен, чтобы идти на такой риск, и вдобавок я не хотел бы его компрометировать. И мне почему-то кажется, что наш Леруа подчинится только приказу, исходящему от Сартина.
— Откуда такое впечатление?
— Притворное неведение министра дает основание полагать, что он знает об этом деле много, если не все.
— Так ты думаешь, что…
— Ничего! Совсем ничего. К тому же этим письмом практически не пользовались… Abusus non tollit usus.[57]
— И уж тем более разрешения, — весело воскликнул Бурдо.
— В сущности, у нас нет выбора. Крайняя необходимость не позволяет нам затягивать расследование. В воскресенье мне надо ехать в Версаль…
Бурдо явно хотел услышать продолжение этой фразы, но комиссар сказал:
— Леруа могут настроить против нас, и тогда он откажется нас принять. Черт, нам предстоит партия не из легких.
— Надо захватить врасплох. Квартал находится под наблюдением. Может случиться, что наше появление всех распугает. За всеми, кто попытается покинуть мастерскую Леруа, пустим слежку. Наши агенты будут сменять друг друга и докладывать нам обо всем, что случится.
Когда их экипаж остановился на углу улицы Арлэ, Николя тотчас заметил Сортирноса с его громоздким оснащением; дребезжащим голоском он монотонно тянул: «У кого нужда — беги сюда!» Отныне его ведра служили для прикрытия его деятельности полицейского соглядатая: маскировка была поистине бесценной. Оставив Бурдо в засаде, комиссар подошел к своему давнему агенту и, прикрывшись широким клеенчатым плащом, занял место над одним из ведер.
— Давай слушай, Николя. Есть новости. Сегодня утром появился новый тип. Молодой, высокий, с военной выправкой.
— В синем плаще с позолоченными пуговицами?
— И точно, ты словно сам его видел! — изумился Сортирнос. — Но тут его знают. Я поболтал немного с соседями. Он частенько встречался здесь со своим приятелем, но того давно не видно, хотя он и работает у часовщика.
— А этот высокий все еще находится в доме у Леруа?
— Нет, ушел около часа назад. До порога его провожала молодая женщина.
— Ему дали уйти?
— Ну, ты опять принимаешь нас за цыплят неоперенных! Мы что, хоть раз тебя подводили? Его ведут по цепочке. Так что скоро мы узнаем, и куда он отправился, и зачем.
— Отличная работа! — похвалил осведомителя Николя, вложив ему в руку несколько монет; при виде золота на лице почтенного соглядатая расцвела улыбка.
Николя отправился к ожидавшему его Бурдо.
— Птички в гнездышке. Неизвестный успел вылететь, но наши ястребы настигнут его и сцапают.
И, не медля более, они отправились к Леруа, часовщику его величества.
Глава IX АБРИКОСЫ ИЗ БИТРИ
Где путь пройдет мой в этом лабиринте? Дороги в нем везде, но потерял дорогу я свою. Леди Мэри РоутКомната больше походила на будуар, нежели на лавку. Бившая в глаза роскошь словно кричала о том, какие высокопоставленные клиенты сюда заходят. За темными дубовыми панелями скрывались сейфы. Пожилой человек в пудреном парике сидел за столом маркетри и что-то писал при свече. Одетый в бархатный малиновый фрак, он походил на магистрата из расположенного рядом Дворца правосудия. Он поднялся и, сняв очки, доброжелательно взглянул на прибывших.
— Приветствую вас, господа, я к вашим услугам. У меня вы найдете самые лучшие часы. Конечно, вы можете сказать, что у меня высокие цены. Но мы устанавливаем их по справедливости, ибо они зависят от качества работы, а она всегда отличная, ибо мы не хотим продавать плохие вещи. Именно благодаря качественным материалам и работе я и заслужил свою репутацию. Часы в золотом корпусе, именуемые Парижскими, уходят за двенадцать, а иногда и за двадцать луидоров, такие же часы с репетицией стоят от двадцати пяти до тысячи. У меня также имеются модели в серебре, менее дорогостоящие. И я, господа, горжусь, что механизмы моих часов, вне зависимости от корпуса, всегда идут точно! Простите мне мое многословие, но я очень люблю свое ремесло!
— Мы побеспокоили вас не ради покупки. Можем ли мы поговорить с вами наедине?
Изумленный Леруа закрыл дверь и пригласил их устраиваться в креслах, стоявших перед его столом.
— Я вас слушаю, господа. Господа?..
Скрывать свои имена они не собирались.
— Я Николя Ле Флок, комиссар королевской полиции Шатле, следователь по особо важным делам, а это инспектор Бурдо, мой помощник. Перед нами поставлена весьма деликатная задача. Полагаю, господин Леруа, вы догадываетесь, о чем пойдет разговор?
Часовщик сразу как-то сжался. Давний коллекционер характеров, Николя с любопытством наблюдал резкую перемену в настроении сидящего перед ним человека; руки часовщика, сжимавшие линейку, внезапно побледнели, суставы пальцев стали совсем белыми.
— Да, да, конечно, — пробормотал он, — но простите, я, в сущности…
Вся его поза и поведение свидетельствовали о том, что он никак не мог найти нужный ответ на вопрос комиссара. На часовщика было жалко смотреть, и Николя решил, что долго сопротивляться он не сможет.
— Да… Наверное… Это о той злополучной подделке? Часы якобы из 24-каратного золота носили клеймо мастерской[58] и продавались из-под полы, ибо на самом деле корпус был сделан из латуни. Представляете, сколько поступило жалоб? А что делать? Только ждать, когда полиция его величества наведет порядок. Я вам признателен, господа, за…
— Соглашаясь с вашим осуждением ненавистных вам подделок, должны сказать, что они нисколько не интересуют наше расследование.
— Но разве…
— Позвольте мне ввести вас в курс дела. У вас в мастерской работал некий молодой человек, родом из Англии.
Леруа встал.
— Господа, господа, помилуйте, остановитесь! Я ничего об этом не знаю… Я провожу вас.
Николя ласково усадил его обратно в кресло.
— С нами так не поступают, сударь. Сейчас я вам докажу, что, состоя на службе у короля, я имею право задавать любые вопросы, и никто не смеет мне противоречить, а уж тем более препятствовать исполнять обязанности.
Вынув из кармана распоряжение Сартина, он развернул его и, держа двумя пальцами, сунул под нос часовщику; нацепив на нос очки, тот внимательно его прочел и вздохнул с облегчением.
— Если приказ исходит от господина де Сартина, это меняет дело. Заявляю, что готов ответить на все интересующие вас вопросы.
— Ничего иного я и не ожидал от часовщика его величества.
— Надо ли начать все с начала? Ведь я, полагаю, вы в курсе?
— Разумеется, сударь, однако я буду вам признателен, если вы все изложите сами.
— Хорошо. Но мне все же хотелось бы знать, на каком основании меня подвергают подобному допросу?
— Допрос? Сказано слишком резко!
— Хорошо, если вас это слово оскорбляет, беру его назад. Но я считал, что он вернулся в Англию и дело закрыто.
В эту минуту Николя сообразил, что, видимо, Леруа известна только часть драмы. Но если он ошибся, значит, им предстоит сражаться с закаленным игроком.
— Продолжайте, сударь.
Раздраженный Леруа начал желчным тоном:
— Если вы еще не в курсе, знайте, что вот уже год, как господин де Сартин, поставщиком которого я имею честь состоять…
— Равно как и моим, — сказал Николя, желая завоевать доверие часовщика. — Вот, взгляните на мои часы: они мне очень дороги.
Он протянул ему свои часы, и Леруа внимательно осмотрел их.
— Прекрасный экземпляр с репетицией. Да, помню. Офицер, один из самых доблестных. Он сопровождал в Париж вражеские штандарты, добытые на полях сражений. Его звали… Кажется, Ранрей… Точно, маркиз де Ранрей! Но как они оказались?..
— Как они попали ко мне? Очень просто. Я его сын и маркиз де Ранрей.
Интермедия завершилась счастливой развязкой. Леруа, с почтительным изумлением воззрившийся на комиссара, окончательно убедился, что может говорить без утайки.
— Итак, министр морского флота втянул меня в некий замысел, который, по его словам, должен храниться в самой глубокой тайне.
Николя улыбнулся: Сартин всегда обожал секреты.
— Меня обязали ревностно хранить секрет. Некий молодой человек, знакомый, как мне сказали, с основами ремесла, прибыл ко мне в мастерскую для усовершенствования своих навыков. Но какой приятный сюрприз! Я редко встречал таких одаренных и сообразительных учеников. Надо вам сказать, часовое дело требует знания механики, законов движения тел, геометрии и физики. Часовщик должен не только уметь производить расчеты и понимать теорию, но и воплощать ее в механизмах. Но если теорию постигают постепенно, ступень за ступенью, то умение достигается многократным повторением; чем больше преуспеваешь в теории, тем лучше получается то, что ты делаешь. Я всегда советую начинать с теории, а уж потом приступать к практике, а если не получается, то пусть хотя бы практика идет рука об руку с теорией. Чтобы стать часовщиком, надобно уметь учиться, постигать искусство ремесла и обладать талантом сборщика, а все три способности редко уживаются в одном человеке, тем более что до сих пор главным в часовом ремесле считалось изготовление деталей часового механизма, в то время как на самом деле это дело третьестепенное. Подобное утверждение можно проверить, взяв часы или ходики, которые, несмотря на искусно выточенные детали, не показывают точное время, ибо собраны на основе неправильной теории, в то время как посредственно сработанный механизм будет идти точно, ибо собран он исходя из правильных принципов.
— Так ваш молодой человек оказался способным и в теории, и в практике? Как, вы сказали, его имя?
— Франсуа Саул Пейли. На самом деле он родился в одной из тех семей, что, приняв так называемую реформированную веру, эмигрировали в Англию после отозвания Нантского эдикта. Без сомнения, это была семья часовщиков, причем весьма искусных, судя по моему ученику. Вы правы, он обладал неудержимой тягой к исследованиям.
— И он занимался изысканиями, как можно вычислить географическую долготу.
— Вы все знаете! Мне больше нечего вам объяснять. Я посвятил этим поискам всю жизнь. В 1754 году я представил на рассмотрение Академии естественных наук письмо, где излагал описание придуманных мною морских часов. В 1767 году маркиз де Куртанво провел их испытание на борту «Авроры», совершавшей сорокадневное плавание. Мои часы показали опоздание всего на семь минут. На следующий год Кассини[59] за то же время плавания выявил ошибку всего на одну восьмую градуса. В 1768 и 1773 годах Академия наградила меня за открытие изохронизма и балансовой спирали.
— Итак, Пейли отличался…
Речь зашла о любимом деле, и Леруа оживился.
— Отличался! Не то слово! Он все схватывал на лету! Самые сложные для учеников материи! Все, что связано с установкой часов, от чего зависит их точность, как сделать, чтобы часы никогда не опаздывали. Он изучал влияние сопротивления воздуха на часовой механизм, искал, как уменьшить это сопротивление, как справиться с постоянным колебанием корпуса, изучал расширение металлов под действием тепла и воздействие на металл холода, вдумчиво изучал законы физики.
— Ваше искусство, сударь, вероятно, привлекает к вам завистников?
— Да что вы, сударь! Награды не столь велики, да и круг моих заказчиков ограничен, в основном это ученые и моряки. Мастер-часовщик может прожить всю жизнь в безвестности, в то время как какой-нибудь бесстыжий плагиатор, шарлатан и прочие нечестные торговцы незаслуженно прославятся и сделают состояние. Вы же знаете, имя в свете чаще всего получают не за то, что вы сделали, а за то, как подали то, что вы сделали. Публике, верящей шарлатанам на слово, очень просто заморочить голову, особенно когда никто не видит самого изделия.
— Ваша обличительная речь, сударь, имеет определенного адресата?
— Да, сударь, я адресую ее своему соседу и конкуренту, господину Берту. Увы! Я могу лишь с горечью смотреть на расточаемые ему благодарности. Чтобы сделать свои открытия, я истратил большую часть состояния. Бросив дела, я, несмотря на неважное здоровье, отправился в море, проследить, как работают мои часы. Они явились плодом моих бдений, но единственной наградой, той, которой я более всего дорожу, является непоколебимое убеждение, что я создал прибор, полезный моей стране.
— Господин Берту поставил ваше открытие под сомнение?
— Ах, сударь, сказать так значит ничего не сказать. Как вы сами видите, я человек мирный, но этот тип преследует меня своей бранью и клеветой. Он постоянно ставит под сомнение надежность моих механизмов, утверждает, что пользоваться моими морскими часами опасно, ибо они сделаны на основе непроверенных гипотез! Использовать их на море означает подвергать опасности государственное имущество, славу монарха и жизнь флотоводцев… Именно так заявляет этот желчный лицемер.
— Но каким образом молодой англичанин намеревался использовать доверенные ему секреты ремесла? — спросил Бурдо. — Ведь он, по вашим словам, отбыл к себе домой. В чем состоит интерес короны, для чего предпринимать такие сложные маневры?
— Хороший вопрос! — воскликнул Леруа, понижая голос. — Вижу, вы не знаете всех подробностей. Спор между Англией и Францией продолжается. В каждой стране стараются создать как можно более точные морские часы, иначе именуемые хронометром. Часы не только точные, но и меньшие по размерам. Открытым остается вопрос об их массовом изготовлении, о возможности снабдить ими все корабли морского флота. Пейли должен был тайно переправиться в Англию из Булони. Знания и навыки, полученные у меня в мастерской, должны были позволить ему без труда сблизиться с Джоном Харрисоном, моим главным английским конкурентом, очень известным в своих кругах. Британские адмиралы постоянно торопят его с решением вопроса, который я вам только что изложил. Мой ученик должен был притвориться, что нашел долгожданный способ, и увести англичанина на ложный путь, дабы основательно замедлить английские разработки. Принимая во внимание, как далеко они продвинулись по пути истинному, такой маневр для нас очень важен.
Хитроумный замысел поразил Николя. Бурдо, сидевший рядом с ним, также весь напрягся. Осталось разгадать последнюю тайну, если, конечно, ключ от нее находится в руках Леруа. Пока Пейли находился у часовщика, все было ясно. Но что случилось, когда он покинул мастерскую?
— Следовательно, однажды он вас покинул?
— О да! В начале февраля. Я нисколько не удивился, так как господин де Сартин предупредил меня об этом. Возможно, конечно, он сорвался с места слишком рано.
— И с тех пор вы о нем ничего не знаете?
— Сегодня утром пришло известие. Крошечная записка. Разумеется, осторожность прежде всего. Я это понимаю и одобряю.
Вытащив из кармана записку, он протянул ее Николя. Тот развернул ее и прочел написанный печатными буквами текст:
«Остаюсь вашим должником и передаю вам свою благодарность. Я никогда не забуду абрикосы из Витри». Что за странное послание! Оно вас не удивляет?
Леруа покачал головой.
— Думаю, текст составлен не случайно: он не может указать на своего отправителя. А в остальном…
Он рассмеялся.
— Полагаю, вас заинтриговали абрикосы? Должен вам сказать, он обожал эти фрукты из моего сада: в Витри у меня имеется дом и сад. Мы с ним привыкли шутить на эту тему. Он подчистую объел мое абрикосовое дерево, оно даже начало болеть.
— Это понятно, — промолвил Николя, — но могу я вас спросить, каким образом к вам попала эта записка?
— Не знаю, должен ли я…
— Вы уже многое нам рассказали, и вряд ли есть смысл что-либо скрывать дальше.
— Вы совершенно правы. Пока Пейли жил у меня, связь с Сартином поддерживал один молодой морской офицер.
— Его имя?
— Эмманюэль де Риву.
— Звание?
— Лейтенант.
— И он носит синий форменный плащ?
— Да, довольно часто. Сейчас зима.
— Так, значит, это он передал вам записку от Пейли? Каким образом она у него оказалась?
— Повторяю: я взял ее и ничего не спрашивал. В конце концов, хотя они и друзья, между ними существовал дух соперничества… О, с благими намерениями… они оба ухаживали за моей крестницей, Аньес Генге. Соперники вели себя исключительно благородно и не скрывали друг от друга своих намерений. Аньес, похоже, никак не могла выбрать одного из них. Ах, молодость, молодость!..
— Мы выслушаем вашу крестницу.
— Не вижу смысла, но, думаю, возражать вам бесполезно.
— Кто еще знал о причинах пребывания у вас Пейли?
— Депла, мой работник. Разумеется, он знал не все, но так как он работал вместе с нами, то он многое слышал. На время пребывания Пейли я, по просьбе министра, отправил всех учеников в другие мастерские, дабы избежать ненужного риска. Но Арман — другое дело, ему я полностью доверяю.
— Вы в нем полностью уверены?
— Сударь, он работает у меня с пятнадцати лет. Я взял его под крыло, когда он только окончил коллеж. Он мне нужен, он помогал мне в моих исследованиях.
— И это мы проверим.
— Однако не скажете ли вы мне, наконец, в чем дело?
— Пока это невозможно, но как только мы во всем убедимся, вы все узнаете. Где проживает Эмманюэль де Риву?
— Откуда мне знать! Наши встречи были редкими, а разговоры короткими. Иногда он приходил, не известив меня, запирался с Пейли, и они о чем-то подолгу разговаривали.
— Когда Пейли исчез, вы были дома?
— Нет, из-за приступа подагры мне пришлось покинуть город и несколько дней провести в своем загородном доме в Витри.
— Так, значит, он оставался один на улице Арлэ?
— Разумеется. Крестница поехала со мной, у Депла собственное жилье в городе, точнее, в новом предместье, на улице Эшикье, неподалеку от бывшего дворца Меню-Плезир, где теперь размещаются мебельные склады.
— Следовательно, вам неизвестны обстоятельства его отъезда?
Николя хотел узнать, был ли произведен арест по всем правилам. Догадавшись о причинах его настойчивости, Бурдо навострил уши.
— Однако, сударь, — пошел на риск Николя, — квартальный комиссар утверждает, что его арест произвел большой шум. Кареты, факелы, кони, целый полк солдат, крики, вопли! Настоящий скандал!
Леруа побагровел и, не выдержав, взорвался.
— Но… Но… да, все прошло именно так… И пошло все к черту!
— Такова участь всех лжецов. Так что же вам известно, господин Леруа?
— А вам? Легко выдавать себя за эмиссаров господина де Сартина, однако очень странно спрашивать о том, что вы и сами должны знать!
— Сударь, подобный ответ не сулит вам ничего хорошего, кроме того, что может привести вас в Бастилию, в самую холодную камеру. Поверьте мне, лучше вам рассказать нам все и облегчить душу, пока есть время!
С этими словами он достал из кармана камзола «письмо с печатью» и помахал им перед носом несчастного часовщика.
— Смотрите. Вот подпись Амло де Шайу, министра королевского дома, и пустые строчки, которые следует заполнить. Все произойдет так быстро, что вы не заметите, как окажетесь в камере без окон раньше, чем раскаетесь в собственных недомолвках. Прислушайтесь к моему совету и не задавайтесь лишними вопросами; если вам что-то кажется странным, помните, что речь идет о государственной безопасности. Когда сопротивление бесполезно и, я бы даже сказал, преступно, самое мудрое — вести себя как положено верному и послушному подданному его величества. Пролейте немного света на справедливое дело.
Удрученный часовщик повиновался.
— Не знаю, по какой причине, но арест приказали обставить очень шумно.
— Спасибо, господин Леруа, вы честный человек. Теперь мы поговорим с вашей крестницей и с вашим работником. Прошу вас указать инспектору Бурдо, где он может их найти. А вас я прошу пока удалиться к себе.
— Здесь у меня небольшая комнатка, где я произвожу свои испытания. Я иду туда.
Открыв позади себя дверь, замаскированную под деревянную панель, Леруа удалился. Бурдо, переговорив с Николя, устремился в дебри дома. Николя наблюдал за оживленной улицей до тех пор, пока в комнату не вошла молодая женщина, поразившая его своей строгой красотой. Светлые волосы, стянутые в узел, открывали лицо, на котором сияли голубые глаза с фиалковым отливом. На ней было светлое платье из вышитого шелка, на плечи накинута косынка. Она смущенно терла руки, счищая с них железные опилки, сыпавшиеся ей на подол. Неотрывно глядя в глаза Николя, она неловко поклонилась ему.
— Сударь, простите, что пришлось явиться к вам в таком виде…
Она с досадой посмотрела на свои руки.
— …я как раз шлифовала тонкую деталь. Надо сказать, я иногда помогаю своему крестному отцу, ибо его зрение оставляет желать лучшего. Ах, как мне это нравится! Но…
Обернувшись и бросив взор на Бурдо, она умолкла, закусив губу.
— …этот господин велел мне прийти сюда.
— Мадемуазель, — произнес Николя, — вы знаете, почему и зачем находился во Франции молодой Пейли?
Она покраснела и опустила глаза.
— Отчасти, сударь.
— Вы говорили об этом между собой?
— Он был очень сдержан и в основном рассказывал о своей жизни в Англии.
— И что же он рассказывал?
— Он сирота, его воспитал дядя. У него было тяжелое детство, а когда он вырос, он захотел повидать страну своих родителей, которую ему описывали как логово нечестивцев.
— После отъезда он писал вам?
Она покраснела.
— Увы, нет.
Он отметил глубокое разочарование, прозвучавшее в ее ответе.
— А он обещал писать вам?
— Он надеялся, что в скором времени мы сможем увидеться.
— Абрикосы из Витри, — неожиданно бесцветным тоном бросил Николя.
Результат его эксперимента не замедлил сказаться; девушка залилась краской, и на глаза у нее навернулись слезы.
— Что вы хотите этим сказать, сударь?
— Значит, эти слова имеют для вас смысл? — спросил он, протягивая ей носовой платок; она схватила его и лихорадочно промокнула глаза.
— О, как вы меня мучаете!
— Мадемуазель, я не хотел. Что значат эти слова для вас?
— Сударь, я уверена, вы человек порядочный и ничего не скажете крестному. Под абрикосовым деревом в Витри мы поклялись принадлежать друг другу. Мне кажется, господин Леруа догадывался о наших чувствах, однако неуверенное положение Пейли препятствовало осуществлению наших желаний.
Николя полагал, что записка, переданная Риву в то время, когда автор ее уже был мертв, должна скрывать тайный смысл. Но на что он намекал: на несварение желудка после неумеренного поедания абрикосов или на любовные клятвы? И кто мог знать об этих подробностях его личной жизни?
— А господин де Риву? Говорят, к нему вы тоже относились снисходительно?
Она с удивлением взглянула на Николя.
— Разве?.. Ну да… Я притворялась, что никак не могу выбрать из них двоих. Эмманюэль мой друг, и он очень мил.
Она расплакалась.
Встревоженный ее рыданиями, часовщик выскочил из своего убежища и, бросив тяжелый, полный упреков, взор на следователей, обнял Аньес и увел ее к себе в комнату, громко хлопнув дверью.
— Иногда наша работа бывает крайне неприятной, — откашлявшись, пробурчал Бурдо.
— Мы узнали главное. О! Женщине не может понравиться, что ее заставляют появиться перед мужчиной, которого она видит впервые, в не лучшем, по ее мнению, виде. И все же мне кажется, она говорит искренне. Достаточно посмотреть на нее, чтобы понять, что случилось. Она не стала отнекиваться, как ее крестный… Если, конечно, она не разыграла перед нами чистую невинность. В таком случае она неподражаемая актриса.
— Оно и видно! Но я с тобой согласен. Два голубка… Ладно, иду за помощником.
Оставшись один, Николя лег на пол и принялся внимательно его исследовать. Послюнив указательный палец, он собрал железные опилки, слетевшие с платья Аньес. Поднявшись с пола, он аккуратно ссыпал опилки в листок из записной книжки и положил его в карман. Когда Бурдо вернулся в сопровождении Армана Депла, он увидел, что комиссар сидит в той задумчивой позе, когда ему в голову обычно приходили странные выводы. Помощнику часовщика было лет тридцать, он обладал располагающей к себе внешностью. Худой, хорошо сложенный, несмотря на средний рост; мечтательные карие глаза, стянутые на затылке волосы; его черное платье подчеркивало бледность кожи. Он поклоном приветствовал Николя.
— Господин Депла, что вам известно о нахождении здесь господина Пейли?
Видимо, предупрежденный Бурдо, он встретил вопрос спокойно, без лишних кривляний. Но, похоже, осмотрительность побуждала его как следует обдумать ответ.
— Что он прибыл сюда, чтобы углубить свои знания по часовому делу и совершенствоваться в создании как простых часов, так и морских. С целью создания точных часов, потребных для использования на море для определения долготы.
— И?
— Что его пребывание было временным и держалось в тайне.
— Вас это не смущало?
— Я подчиняюсь господину Леруа и не задаю лишних вопросов.
Он сжал зубы, отчего подбородок его резко заострился.
— Какие чувства вы питали к нему?
— А разве я должен был их питать? Это был весьма искусный ремесленник и приятный товарищ.
— А господин де Риву?
Допрашиваемый уставился на свои руки; сам того не замечая, он одернул рукава, отчего плечи его резко распрямились.
— Я мало имел с ним дела. Он показался мне холодным и надменным, словом, неприступным.
— Похоже, вы к нему не расположены.
— А разве должен? Разве я должен спрашивать у него одобрения?
— Какие отношения были у него с Пейли?
— Я в них не участвовал и не присутствовал. Они часто разговаривали, уединившись ото всех.
— А его отъезд? Вы при нем присутствовали?
— Нет. Я узнал о нем на следующий день. Птичка вылетела.
— Да, да, — задумчиво произнес Николя, — именно вылетела…
— Вам было жалко?
Подвижные глазки Депла переметнулись к Бурдо, в то время как ни тело его, ни голова даже не шелохнулись.
— Могу ли я вернуться к своей работе?
— Вы любите абрикосы из Витри? — как бы случайно бросил Николя.
Решительно, упоминание об абрикосах творило чудеса. Депла покраснел.
— Что еще? Что вы еще хотите мне вменить? — зачастил он.
— Я всего лишь спросил, любите ли вы фрукты.
— Да… Нет… Не знаю.
— Пока все, сударь. Но только пока.
— Могу я узнать, что означают ваш визит и ваши вопросы? Николя подумал, что отсутствие подобного любопытства с самого начала показалось ему подозрительным.
— О! Всего лишь рутина. Своего рода пятое действие. У меня остался один вопрос. Где вы живете?
— Но… на улице Эшикье, возле монастыря Сен-Лазар.
— Да, отлично. Там живет наш друг.
— Небольшой эскиз, выполненный вашей рукой, нам очень пригодится, — добавил Бурдо, протягивая ему грифель и клочок бумаги.
— А я обязан?
— Не волнуйтесь, сударь, это простая формальность.
Уступив, Депла принялся делать набросок.
— И последнее: ваши ключи, сударь.
— Мои ключи?
— Конечно, вы же не хотите, чтобы мы высадили дверь?
— Но зачем они вам? Что вы думаете у меня найти?
— Успокойтесь, мы вернем их вам в конце дня. Впрочем, уверен, что вам нечего скрывать, не так ли?
— Хорошо.
И он протянул им ключ. Беря ключ, Николя, к великому удивлению Бурдо, с жаром сжал руки ремесленника. Депла молча удалился, а комиссар поспешил собрать железные опилки, похожие на те, что сыпались с рук Аньес Генге, и завернул их в отдельный листок.
— Черт, что ты делаешь? — спросил Бурдо.
— Увеличиваю свой маленький капитал, вложенный в ренту парижской ратуши.
— А, я и забыл об этом.
Леруа и его крестница были выпущены из укрытия, и им объявили, что визит полиции окончен. Николя не стал тратить время на предупреждение хранить их визит в тайне ввиду — как показали допросы — полнейшей бессмысленности сей предосторожности.
Они подошли к фиакру. По словам Сортирноса, никаких сведений о человеке в синем плаще, которого по цепочке вели осведомители, пока не поступало. Ему велели, как только поступят первые сведения, немедленно сообщить о них в Шатле папаше Мари, а тот, в свою очередь, передаст им, где бы они ни находились. Николя приказал ехать на улицу Нев-дез-Огюстен. Хотя он и не был уверен в решительности своего начальника, тем не менее настала пора дать ему отчет, дабы его неофициальное расследование обрело официальный вид. Николя опасался не за себя, а за Бурдо, отца многочисленного семейства, который, став его помощником, что, в сущности, противоречило его должности инспектора, нисколько не обогатился, а, скорее, напротив. Бурдо беспокоило, что они не произвели обыск в доме у Леруа и в комнате, которую занимал Пейли. Но, по мнению комиссара, обыск ничего бы не дал, так как после ареста неизвестные наверняка успели все обшарить и найти то, что хотели. И он погрузился в размышления.
Итак, существует секретное досье, материалы которого касаются интересов королевства и его морского флота; нить интриги, без сомнения, сплел Сартин при поддержке адмирала д’Арране. Мизансцена, выстроенная вокруг молодого Пейли, напоминала грубый холст; вышитый заботливой рукой, он приобретал совершенно новый, ни с чем не сравнимый шик, который должен была ввести в заблуждение английского противника. Все указывало на то, что и шумный арест, и побег, без сомнения, подготовленный, являлись частью прекрасно продуманного плана. Но предприятие провалилось, а приманку убили и добили. Лавале исчез, на осведомителя напали, Киска убита, сделана попытка убить комиссара Шатле. Можно предположить, что кем-то осведомленный Эшбьюри приказал убить перебежчика. Или надо искать убийц среди парижского окружения молодого часовщика? Прочие гипотезы представлялись гораздо более маловероятными.
— Я исключаю Леруа, а что касается его крестницы и обоих молодых людей, надобно еще поразмыслить.
— С удовольствием отмечаю, — произнес Бурдо, и Николя понял, что он мыслил вслух, — что мы пришли к одним и тем же выводам.
В особняке управления полиции старый лакей, с незапамятных времен оберегавший вход в кабинет начальника, доверительно сообщил, что господин Ленуар только что вернулся из Версаля.
— И чего только не выделывает случай! Он только что отправил меня за вами!
Когда они вошли в кабинет, первое, что бросилось им в глаза, была любезная и, как им показалось, даже веселая физиономия начальника.
— Что ж, придется мне немного потерпеть, пока вы расскажете мне все, что сможет подкрепить мое хорошее настроение. Я вас слушаю, дорогой Николя. А вы, Бурдо, надеюсь, также скажете свое слово.
— Сударь, оба дела, о которых я имел честь вам докладывать, немного продвинулись. Я должен дать вам отчет, а также поблагодарить за советы, которым я скрупулезно следовал.
Закрыв глаза, Ленуар, казалось, упивался каким-то невообразимо сладким напитком. С присущим ему мастерством и лаконизмом, всегда поражавшими собеседников, Николя изложил все подробности расследований, а именно расследования драмы в Фор-Левеке и дела о долгах королевы. Не забыл он и о самых свежих сведениях, только что полученных на улице Арлэ. Несколько раз за время рассказа генерал-лейтенант издавал удивленные возгласы.
— Черт возьми! Николя, все это мне кажется чертовски интригующим и полностью оправдывает подозрения и сомнения относительно первопричины этой истории. В первом деле очевидное по-прежнему не доказано, однако мы его предчувствуем, и в этом наша заслуга; но увы, наши чувства проснулись слишком поздно, когда зло уже свершилось. Что же касается второго дела, где, к несчастью, замешан злосчастный подарок Мадам Аделаиды королеве, то замысел, связанный с этим подарком, кажется, уже провалился. Несмотря на мою признательность Сартину, его скрытность меня удручает, хотя я и понимаю ее причины… Остается надеяться, что в один прекрасный день его страсть к тайнам выплывет наружу. Он переходит границы разумного и излишне маскирует свою деятельность. Неумеренность во всех смыслах приводит на тропу между двумя безднами. Будем уповать, что все его интриги плетутся во благо государству.
— Боюсь, — молвил Николя, — как бы он не оказался зажатым в ловушку, расставленную нашими противниками англичанами.
— Поэтому я и решил отправиться к королю. Сегодня он принял меня во внутренних покоях. Я рассказал ему все, что вы мне доложили. Он был явно недоволен. Вы же знаете, как он сердится, когда ему кажется, что от него что-то скрывают… Он говорил с вами… Я ему сказал, что велел вам обо всем мне докладывать, а я, в свою очередь, прибыл доложить ему. Но оказалось, что гнев его направлен на министра морского флота: многие часто принимают добродушие короля за слабость, но потом им придется в этом раскаяться. Король, разумеется, не против самостоятельных действий, но тогда они должны завершаться успехом! Короче говоря, он вспомнил о вас и теперь надеется, что вы прольете свет на это темное дело. «Пусть Ранрей станем моим разящим мечом и сам даст мне отчет», — заявил он и, чтобы избавить вас от лишних забот, — полагаю, он решил, что вам могут угрожать, — выписал вам ордер. Видите, сколь велико ваше влияние… и мое, если он не только обязуется, но и ставит свою подпись! Отныне ваше прозорливое благоразумие шагает прямо и уверенно, оставляя позади превышения и злоупотребления. — Ленуар протянул Николя бумагу, с которой тот немедленно ознакомился.
Предъявитель этих полномочий, Николя Ле Флок, маркиз де Ранрей, комиссар полиции Шатле, действует по моему приказу и на благо государства. Все, кому будет предъявлен сей приказ, обязаны повиноваться ему и оказывать помощь и содействие. Подписано: Людовик.
— Что ж, господа, идите, куда зовет вас долг, и да сопутствует вам успех. Боюсь, что скоро мне придется столкнуться с холодной яростью графа д’Альби.[60]
Подъезжая к предместьям, оба сыщика оживленно обсуждали визит к начальнику полиции. Им обоим показалось, что, несмотря на всю свою лояльность, Ленуар был вполне доволен, что им удалось обойти Сартина.
— Конечно, его карьера отчасти зависит от нашего бывшего начальника, — задумчиво рассуждал Бурдо, — но, как и другим, Сартин неоднократно указывал ему на это…
Николя промолчал.
— …Как Ленуар мог согласиться с тем, что его отстранили от секретов политики, проведению которой он столь долго способствовал? Он состоял в секретной службе покойного короля, и именно ему поручали вести дела, связанные с английским парламентом. Оставаясь безвестным, он играл очень важную роль.
— Ого! — воскликнул Николя. — А ты откуда знаешь?
— Ха! Это было еще до того, как Ларден нас познакомил. Мне доводилось заниматься чрезвычайными делами.
Они въехали в улицу Эшикье. Бурдо с изумлением взирал на новые и еще строящиеся дома.
— Я помню, как здесь были сады, старые развалюхи и остатки каких-то стен.
— Ты прав. В 1772 году монахинь из монастыря Дочерей Христовых вынудили дать разрешение разрушить принадлежавшие им строения, чтобы проложить новые дороги. Помню, тогда все тетки короля выступили на стороне монахинь, но их не послушались. Дома теснят деревню со всех сторон. Рушат даже прежние крепостные стены, построенные великим королем.
— Денежная река возводит каменные стены! Этот уголок притягивает многих. Квартал очень оживленный, прежде всего за счет складов в бывшем дворце Меню-Плезир и Малых конюшен.
— На самом деле улица носит название Энгиен, но обычно ее называют Эшикье, так как на фронтоне одного из разрушенных домов прежде красовалось изображение шахматной доски.
— Откуда ты это знаешь?
— О! У каждого свои секреты. В 1773 году Сартин поручил мне расследовать дело чиновников из охотничьего ведомства, которые за солидные взятки сговорились с казначеями государственной казны и присвоили себе право решать, где будут проложены проезжие тракты, дороги и улицы, строящиеся и содержащиеся за счет короля.
— И что же?
— А ничего. Одно самоубийство, один попал в Бастилию, один бежал в Голландию. Бессмысленная работа, практически никаких результатов. Расхищение государственной казны продолжается, как и прежде. Если не прокладка дорог, то высота домов! Когда речь заходит о строительстве, игра идет на самом верху!
На третьем этаже дома, еще пахнущего известью и краской, они отыскали квартиру Депла. Устройство квартиры облегчило им задачу. Николя умел извлекать массу сведений из мест проживания свидетелей. Сотни мелких деталей становились неопровержимыми уликами. План квартиры оказался на удивление простым: коридор, спальня, туалетная комната, крошечная гостиная, кабинет. И хотя ни одна из комнат не отличалась простором, все было обставлено не только со вкусом, но и с удобством и содержалось в отменном порядке. Подчиненная строгому правилу симметрии, обстановка, похоже, расположилась здесь на века: ничего ни прибавить, ни убавить. Николя задумался. Они сами не знали, что искать. Но в подобных расследованиях править бал часто начинал случай. В спальне, в ящике комода, Бурдо сделал любопытное открытие. Под аккуратно сложенными подштанниками и чулками лежали складные деревянные прямоугольные рамки, напоминавшие плоские коробочки; рамки были заполнены неплавленым пчелиным воском. Поразмыслив, они сообразили, что имеют дело с хитроумным изобретением, которым пользуются слесари при снятии слепков с ключей. Одна за одной, они стали открывать коробочки.
— Так, слепок с ключа для часов, и тут тоже, и тут. А тут, скорее, от сундука или ящика стола. Снова ключ для часов. Ага, а вот и старый добрый дверной ключ, причем солидных размеров.
— Непонятно, — произнес Бурдо. — Видимо, за часами мы никак не можем разглядеть леса.
— Меня заинтересовали два экземпляра — большой ключ и ключ маленький, но явно не от часов. Давай подумаем. Мы имеем дело с искусным ремесленником, мастером своего дела. И мы находим у него слепки ключей. В этом нет ничего удивительного. Только вот вопрос: почему дома, а не в мастерской? И почему ключи такие разные?
— Наверняка тому есть множество причин, причем весьма правдоподобных.
— Разумеется! Но только одна из них соответствует истине. Остальные — для отвода глаз. Возьмем два подозрительных слепка и сложим все, как было, чтобы ничто не указывало на то, что кто-то рылся в этой стопочке. Мне кажется, самое простое объяснение и будет верным. Теперь у нас есть два ключа, осталось только найти к ним замочные скважины. Давай на всякий случай изготовим копии.
Он посмотрел на часы.
— Чтобы вовремя вернуть оригиналы, надо срочно отыскать хорошего ремесленника. Найдем слесаря, а потом отправимся обедать. Приглашаю тебя в ресторацию «Большой олень», что на улице Депорт.
Бурдо с радостью принял предложение.
— Как, однако, хорошо иногда оказаться другом маркиза и рантье одновременно!
— Не смейся! Я совершенно не могу представить себя в образе рантье.
Расспросив привратника и соседних лавочников, они узнали, что самый лучший здешний слесарь владел мастерской, расположенной на перекрестке бульвара и улицы Борегар. Ошибиться сложно: вышеуказанный ремесленник выстроил там семиэтажный дом. По словам соседей, слесарь несколько раз менял вход, устраивая его то с улицы, то с бульвара.
Слесарь, мэтр Бетанкур, поражал своей толщиной. Положив увесистый живот на верстак, он с сокрушенным видом снисходительно взирал на пришельцев; Николя пришлось немного поразмыслить над тем, как подобрать ключик к столь величественной крепости. Наконец он решил избрать самый простой путь.
— Сударь, один из ваших клиентов сказал мне, что вы можете изготовить ключи со слепков.
Слесарь смерил взором комиссара. Экзамен, похоже, удовлетворил его.
— Я иногда это делаю, но в рамках устава нашей корпорации.
— И эти ключи отличаются удивительной точностью. Но уверен, вы не берете заказов у тех, кто раздобывает эти слепки окольным путем, чтобы заполучить ключи для дурного дела, и строго соблюдаете правило: не делать дубликатов, не имея перед собой замка.
— Вижу, сударь, вы знаете о нашем ремесле.
— Еще бы! Я комиссар Шатле.
Отвислые щеки, внезапно покрасневшие, задрожали. Живот расплющился о прилавок, тело съежилось.
— Сударь, я всегда к услугам магистрата, ваш покорный слуга.
Николя развернул слепки.
— Недавно вы изготовили с них ключи. Сомневаюсь, что такой опытный мастер, как вы, мог забыть столь необычный заказ.
— О! У меня много подмастерьев и компаньонов.
— Но вы же их всех знаете?
Бетанкур осмотрел кусочки воска и, скорчив задумчивую мину, откашлялся.
— Да, думаю, мы могли этим заняться.
— И кто же, — угрожающим тоном начал Николя, — кто вам их заказал? Вы разве не знаете, что нарушили распоряжения короля? Неслыханное оскорбление!
— Уставы давно устарели… Но… Я не мог предвидеть последствий. Чтобы угодить вам, я припоминаю… Молодой человек, хорошо одетый. Вот почему я и взялся за работу.
— Вы можете немедленно сделать новые ключи?
— Немедленно! Как вы шустры! Для этого понадобится по меньшей мере несколько часов.
Николя посмотрел на часы.
— Сейчас полдень. В три часа ключи, сделанные с этих слепков, должны быть у меня в руках. И никому ни слова. Иначе…
Они оставили мэтра Бетанкура в совершенно подавленном состоянии; быстро собравшись с силами, мэтр, держа в руках слепки, потрусил к себе в мастерскую.
Экипаж доставил сыщиков к дверям роскошной ресторации. Метрдотель, похоже, знал Николя; он сразу провел гостей к столику возле большого камина и поинтересовался, что господа желают.
— А что вы можете нам предложить? — поводя носом, спросил Бурдо.
— Господа, в эту пятницу высокопоставленным гостям я бы рекомендовал яйца по-швейцарски, превосходную прожаренную до золотистой корочки миногу под соусом, а чтобы придать сладости вашему обеду, я рекомендую тарталетки, наполненные восхитительным крем-карамелью с добавлением дамасского муската, а также гордость нашего заведения — жидкий бисквит.
— Жидкий бисквит? А это как?
— Вы оцените его нежность и богатство вкуса. Не возражаете, если я подам вам охлажденное вино из Вуврэ?
— Восхитительно! Мы оба родом с Луары.
И потекли счастливые минуты. Они предались воспоминаниям. Прибывшие вскоре яйца по-швейцарски отвлекли их внимание от разговора. Как бы между прочим Бурдо заметил, что лицо метрдотеля испещрено следами оспин; когда, подав яйца, метрдотель собрался уходить, они попросили его сказать несколько слов о блюде, предложенном их вниманию.
— Блюдо очень простое, господа. Простое во всех отношениях. Яйца запекают в горшочке, сверху кладут смесь из рубленой щуки и тертого сыра, присыпают сухарями и снова ставят в плиту, дабы сухари подрумянились.
— У меня уже слюнки текут, — заявил Бурдо, наполняя стакан Николя вином, ожидавшим своей участи в заполненном льдом сосуде.
Комиссар погрузил в яйцо гренок.
— Нежнейшая присыпка, источающая аромат рыбы и обладающая неповторимым вкусом пармезана. Непередаваемая гармония!
Приступив к еде, они немедленно почувствовали, что зверски голодны. Зал постепенно наполнялся посетителями, в основном иностранцами.
— Жареная минога под соусом.
Блюдо источало такие невообразимые ароматы, что, когда его внесли в зал, все головы повернулись к нему.
— Раз господа хотят знать, что да как, не скрою, что представшая перед вами минога весьма достойных размеров является рыбой нежной и вкусной. Куски миноги опускают в кастрюлю вместе с маслом, петрушкой, репчатым луком, нарезанной зеленью, солью и перцем и кипятят несколько минут. И вас, конечно, заинтересует соус? Горсточка мелко нарезанных грибов, ну и лучок, соль, перец, каперсы и анчоусы. Все вместе смешивается и разводится рыбным бульоном, а в качестве связующей материи мы берем пюре из раков. Пюре из брокколи, прибывшей прямо из садов Версаля, станет достойным гарниром к этому блюду!
— У них, похоже, парадный выход, — указывая на публику, бросил Николя.
Метрдотель вздрогнул.
— Понимаете, сударь, иностранцы обожают все, что хоть как-то связано с его величеством!
Друзья приступили к хрустящим кусочкам миноги, прекрасно сочетавшимся с острым ароматным соусом. Вторая бутылка «Вуврэ» пришлась как нельзя кстати.
— Что вы намерены сделать с ключами? — спросил Бурдо.
— Мы вставим их в предназначенные для них скважины.
— Но где?
— Пока не знаю. На улице Арлэ, в Витри или у лейтенанта нашего флота. Уверен, искать эти скважины у Депла бесполезно.
— А потом?
— Я уже говорил тебе. Положимся на волю Господа. Всему свое время. Если ничего не найдем, спросим у Депла. Конечно, у нашего способа есть свои неудобства: если у него рыльце в пушку, он насторожится и закроется, словно устрица в своей раковине.
— Однако у тебя умная голова, бретонец! Но может, имеется и совсем простое объяснение, и если мы не станем на него давить…
Хозяин унес грязные тарелки и вернулся с поджаристыми тарталетками на теплой лопатке и коротенькими палочками, обсыпанными сахаром.
— Господа, я не стану говорить о тарталетках с крем-карамелью с изюмом из Дамаска: это слишком просто. А для рассказа о жидких бисквитах, сделавших славу нашему заведению, я пригласил нашего мэтра кондитера, согласившегося раскрыть вам свой секрет.
И он отошел, уступив место краснолицему малому, вертевшему в руках поварской колпак. Монотонным голосом малый загундосил о приготовлении жидких бисквитов.
— Господа, чтобы приготовить жидкий бисквит, надо взять цукаты из апельсиновой корки португальских апельсинов, четыре сушеных абрикоса и немного мармелада. Все вместе протирается через сито. Затем надо взбить добела четыре свежих желтка и смешать их с предыдущей массой, добавив к ней две унции сахарной пудры и комочек марципановой массы размером с яйцо. Все смешать, чтобы получилось однородное тесто. Затем разрезать тесто на кусочки и обвалять их в сахаре. Выложить на бумагу и выпекать на слабом огне. Вот и все.
Прощаясь, он сложился пополам в поклоне и стремительно исчез, так что они не успели задать ему ни единого вопроса.
— И как обычно, господин маркиз, бутылочку вина из Обанса? Того самого, которое любит госпожа маркиза?
Не дожидаясь ответа, метрдотель удалился. Николя покраснел, а Бурдо усмехнулся.
— Я вижу, ты частенько здесь бываешь.
— Да, мне случается обедать здесь.
— О, да ты настоящий иезуит!
— Я тебе раскрою один секрет.
Бурдо с радостью наклонился и приготовился слушать.
— Ты видел здешнего метрдотеля? Так вот, это не кто иной, как Гаспар, бывший лакей в голубой ливрее.[61]
— А разве он не умер от оспы, заразившись ею у изголовья покойного короля?
— Мы, Лаборд и я, решили распустить такой слух, чтобы избавить его от преследований. С тех пор, благодаря Лаборду и с моего благословения, он занял место здесь, разумеется, под другим именем.
Лакомства соответствовали их ожиданиям, затем Николя обратился к Бурдо.
— Чем больше я думаю о нашем визите к Леруа, тем больше у меня возникает вопросов. В том, что автором этой загадочной интриги является Сартин, у меня сомнения нет, да это и не удивительно. Его странное поведение по отношению ко мне подкрепляет мою уверенность. Самым удивительным в этом хитроумном замысле является его крайне плохое исполнение. Ни один из этапов четко не продуман, выводы поспешны, а самое главное, не обеспечена строжайшая тайна.
— Также отметь, — вставил Бурдо, — очень трудно понять, кому что известно и до какой степени.
— Когда имеешь перед собой такого грозного шахматиста, как лорд Эшбьюри, надобно предпринимать все возможные предосторожности.
Мысль об Антуанетте кинжалом пронзила его мозг.
— К тому же, — увлеченно продолжал инспектор, — это государственное дело затрагивает исконные интересы многих. А что говорить о комедии в стиле Мариво, которую разыгрывают наши персонажи? При чем здесь все эти сады, абрикосы и воркование голубков, в то время когда идет речь об успехе наших судов накануне возможной войны?
От вина и возмущения добродушное лицо Бурдо раскраснелось.
— Ты прав. А я добавлю, что мне непонятны причины той враждебности, которую очевидно питает Депла к морскому офицеру. Это ни с чем не согласуется.
Он бросил взгляд на часы.
— Идем, быть может, у слесаря мы получим ответы на все свои вопросы.
Когда метрдотель снова подошел к ним, Бурдо принялся внимательно его разглядывать.
— Сударь, совсем юный посыльный принес для вас записку. Я позволил себе вознаградить его. Ответа он ждать не стал.
Ознакомившись с содержанием записки, Николя протянул ее Бурдо.
— Отлично! — промолвил тот. — Улица Конде, дом на углу улицы Пти Льон, на антресолях.
Забрав ключи у угодливо улыбавшегося мэтра Бетанкура, они отправились в квартиру Депла, где аккуратно вернули слепки на прежнее место и на всякий случай опробовали новые ключи на тамошних замках. Предположение комиссара оправдалось: замки к этим ключам находились где-то в ином месте. Комиссар заставил себя еще раз внимательнейшим образом осмотреть помещение, а также башмаки и сапоги, многократно повертев их в разные стороны. Затем по Новому мосту они перебрались через реку и по улицам Дофин и Фоссе-Сен-Жермен поехали по интересующему их адресу. Навстречу им двигалась вереница телег, груженных камнем и гравием. И людей, и лошадей окутывало облако известковой пыли.
— Откуда взялся этот белый туман? — со смехом спросил Бурдо. — Еще немного, и мы станем похожи на мерланов.
— Это разбирают особняк Конде; на его месте собираются строить театр.[62]
— А что же принц?
— Принц приобрел Бурбонский дворец и велел его расширить.
Выйдя из фиакра, они тотчас увидели, как нищий с посохом в руке сделал им неприметный знак и принялся канючить: «Подайте бедному слепому!» Старая привратница, оказавшаяся весьма любезной представительницей сей распространенной породы парижанок, сказала, что Эмманюэль де Риву, действительно, проживает на антресольном этаже, первая дверь справа от лестницы. После удара дверного молотка дверь стремительно отворилась, и на, пороге появился темноглазый длинноволосый высокий молодой человек в рубашке и панталонах до колен. Он уставился на Николя, словно давно знал его и ждал его визита.
— Господин де Риву?
— Он самый. Господа?
— Николя Ле Флок, комиссар полиции Шатле, и мой помощник, инспектор Бурдо.
Он решил сразу приступить к делу.
— Сударь, не буду ходить вокруг да около. Сегодня утром вы принесли господину Леруа…
Молодой человек гневно вскинул голову.
— О, не надо отрицать. Вы передали ему записку от Франсуа Саула Пейли. Мы хотим знать, каким образом к вам попала эта записка.
Молодой человек ничем не выдал своего волнения, и Николя заподозрил, что тот давно приготовился нагородить целый короб лжи. Казалось, он только и ждал, чтобы начать словесную баталию. Естественной реакцией было бы поинтересоваться причинами такого вопроса, равно как и имеют ли непрошеные гости право задавать ему вопросы.
— Она ко мне попала, и все тут. Вы должны знать, что в такого рода делах незнание является гарантией безопасности. Если говорить честно, я нашел ее у себя под дверью.
— А абрикосы? — внезапно спросил Николя, немедленно отметив отразившееся на лице офицера любопытство.
— Придется признать, что вы читаете чужие письма. Абрикосы? Послание для Аньес Генге, крестницы господина Леруа. Молодые люди любезничали в загородном доме часовщика.
Он говорил свободно, однако излишне быстро отвечал на вопросы комиссара. Николя показалось, что он сражается на дуэли: поединок только начался, и противники пока только нащупывают защиту друг друга и легкими касаниями пытаются определить сильные и слабые места. Сделав паузу, ибо тишина нередко приводила к пробуждению истины, Николя решил ею воспользоваться, чтобы окинуть взором и запомнить прямоугольную комнату, скудно освещаемую двумя полукруглыми, почти на уровне пола, окнами. Обозревая ковры, оружие, навигационные инструменты, книги и раскиданные бумаги, он вспомнил такую же комнату, которую ему довелось посетить, и офицера, спасенного им от эшафота несколько лет назад.
— Итак, — резко начал он, — все прошло согласно вашим планам и желаниям?
— Разумеется.
— Значит, человек, о котором идет речь, сейчас в Англии?
— Все говорит за это.
— Каковы ваши отношения с крестницей господина Леруа?
— Не вижу связи с нашим делом.
— Позвольте мне задавать те вопросы, кои я полагаю необходимыми.
— Хорошо, раз вы так настаиваете. Мы с ней любезничали, не более того.
— Вас называют соперником Пейли.
— Оказывать любезности не означает ухаживать.
— Носите ли вы синий форменный плащ?
На лице промелькнула презрительная улыбка.
— Вопрос содержит ответ.
— Можем мы на него посмотреть?
— Сударь, сколь далеко намерены вы простирать свою дерзость? В чем меня, в конце концов, обвиняют? И по какому праву вы допрашиваете офицера короля?
— Не заставляйте комиссара прибегать к силе, — холодно произнес Бурдо.
— Сударь, — продолжил Николя, — прошу вас, ознакомьтесь с этим приказом.
Он протянул ему письмо, подписанное королем.
— Но… господин де…
И он закусил губу. Николя догадался, какое имя чуть не сорвалось с его уст.
Пожав плечами, Риву повел их в спальню. Там не было ничего лишнего: старинный портрет женщины в чепчике, распятие, комод, кровать, ночной столик, большой шкаф — все как в деревне: только самое необходимое.
— Вся моя одежда здесь.
— Прежде чем приступить к осмотру, скажите, вам доводилось терять пуговицы?
— Конечно. Приходилось пришивать новые.
— Вы потеряли пуговицу во время вашего разбойничьего нападения на Лавале, художника-пастелиста. Это не вопрос.
Риву вновь отразил удар.
— Зачем тогда вы задаете вопросы, если заранее знаете на них ответы?
— Ваши слова подтверждают имеющиеся улики. Вы признаете, что явились к Лавале, чтобы уничтожить портреты Пейли и…
Несмотря на сопротивление молодого человека, он схватил его за левое запястье и поднял на уровень глаз. На нижней мягкой части ладони, с мелкими промежутками, отпечатались синие точки.
— …там вас укусила молодая женщина, с которой обошлись крайне грубо.
— Вы все правильно говорите. Но знайте, господин комиссар, что на карту были поставлены интересы, превосходившие…
— Были? Превосходившие?
— Я получил приказ избавиться от всех, кто так или иначе мог проникнуть в тайну государственной важности.
— Понимаю. И для этого вы ворвались в частное жилище, уничтожили произведения искусства и, полагаю, отправили в мир иной невинного человека, а потом еще и преследовали девицу.
— Девицу легкого поведения! Да убережет нас от них Господь. Бедняжка!
Слова были произнесены таким оскорбительным тоном, что Николя замер, словно скованный льдом. Опасаясь, как бы он не схватился за шпагу, Бурдо положил ему руку на плечо.
— Мы еще к этому вернемся.
Комиссар принялся яростно рыться в шкафу. Там висели три форменных плаща. У одного спереди не хватало большой позолоченной пуговицы.
— Два уже изрядно поношены, я их больше не надеваю, — произнес Риву; похоже, он впервые почувствовал себя неуверенно.
— Какие из трех?
Он указал на два плаща. У одного из указанных отсутствовала пуговица. Николя достал из кармана пуговицу, найденную возле тела беглеца из Фор-Левека. Она была точно такая же, как и все остальные пуговицы на плаще, включая темные царапины и оттиск якоря, слегка помятый от удара. Поднеся ткань почти к самому носу, Николя долго ее исследовал. Затем, сунув под мышку, он вынес оба плаща в гостиную и вынул из кармана большой ключ.
— Узнаете этот ключ?
— А должен?
— Посмотрите хорошенько!
Риву взял ключ и внимательно вгляделся в него. Подойдя ко входной двери, он вытащил из замка ключ, сравнил его и вернулся к Николя.
— Могу я узнать, сударь, откуда у вас дубликат ключа от моего дома?
— Он только что сделан с воскового слепка, найденного нами у господина Депла.
Риву молча опустил голову.
— Да, да… конечно. Я часто терял ключи и просил его сделать новые.
— Значит, у вас с ним доверительные отношения?
— Мы приятели.
— Приятели… разумеется. А этот? — спросил Николя, вытащив из кармана второй ключ.
Риву залился краской. Взгляд его, за которым пристально следил Бурдо, на короткое время задержался на маленькой шкатулке маркетри с перламутром; она стояла на книжной полке, сливаясь с рыжеватым цветом переплетов. Инспектор взял ключ из рук Николя, подошел к шкатулке и одним поворотом ключа открыл ее. Оттуда посыпались письма. Николя подобрал их и сразу понял, что это любовная переписка Саула Пейли и Аньес Генге.
— Как, сударь, вы объясните наличие у себя в доме личных писем господина Пейли к Аньес Генге?
Опустив глаза, Риву молчал.
— Нельзя оставлять следов, — пробормотал он. — Аньес слишком неосторожна, потому что хранила их, а он — потому что их писал.
— И вы это называете любезностью, не так ли?
Николя не сумел определить чувство, которое внушало ему поведение офицера. У него накопилось слишком много подозрений. Оставить его на свободе было слишком рискованно, а рисковать он не хотел.
— Сударь, пребывая в нерешительности относительно имени убийцы Саула Пейли, событии, о котором вы наверняка осведомлены, скажу вам, что при имеющихся уликах главным подозреваемым являетесь вы, а потому я обязан, от имени короля, арестовать вас. Вас поместят в одиночную камеру, дабы потом вы предстали перед уголовным судьей. Советую вам как можно скорее указать нам место, где удерживают художника Лавале.
Риву хотел что-то сказать, но в последний момент сдержался. Натянув мундир, он последовал за полицейскими. Когда экипаж остановился под аркой ворот Шатле, на улице уже стемнело. Из экипажа вышли двое, Николя Ле Флок и переодетый в костюм и треуголку Бурдо Эмманюэль де Риву.
Глава X БЕЗУМНЫЕ ДНИ
Господи, я всего лишь человек,
но этот человек — Король Франции.
И ваше дело оберегать меня.
Филипп АвгустВернувшись в ночи на улицу Монмартр, Николя отклонил соблазнительные предложения Катрины и довольствовался тарелкой постного бульона, чтобы согреться. Наверху раздался требовательный стук трости. Предупрежденный о его возвращении возней Сирюса и Мушетты, господин де Ноблекур из спальни призывал его явиться. Облаченный в ночную рубашку, он усадил Николя в тесном пространстве между своей кроватью и стеной. Пребывая после беседы с герцогом де Ришелье в состоянии, близком к блаженству, Ноблекур лежал, зарывшись в подушки и закрыв глаза, так что на первый взгляд можно было подумать, что он спит; на самом деле он внимательнейшим образом слушал рассказ Николя о последних событиях. Когда рассказ подошел к концу, он испустил удовлетворенный вздох.
— Он идет своим путем. Неужели вы считаете, что он станет заботиться обо мне? О, я вполне могу окочуриться, кому ж до этого есть дело. Итак, вопреки его равнодушию, я имею сообщить, что благодаря шалфею, сухим корешкам и отвару из слив дама подагра покинула сие жилище. Я вновь завоевал вертикальное положение, а ум мой, обострившийся благодаря вынужденному отдыху, готов рассыпать свои блестки на пользу вашей неблагодарности!
Николя с трудом удерживал смех.
— Спасибо Всевышнему, у меня все хорошо, господин прокурор.
— Гм! Вам лучше помолчать. Вы заслужили прощение лишь потому, что, как я вижу, вас опечалила судьба несчастной Киски. Так знайте же, сударь, ваше дело не выходило у меня из головы, и, прежде чем задуть свечу, я хочу поделиться с вами своими тревогами. В вашем теперешнем расследовании наблюдается нарушение равновесия. Искорежились весы правосудия? Не знаю. Театр теней, где каждый играет чужую роль? Какой странный teatro di puppi[63], где паяцы, пляшущие по воле руки невидимого кукловода, обмениваются масками и костюмами! Много уловок, горы пыли в глаза, и весь маскарад на фоне оптических иллюзий. Фигуры из волшебного фонаря, движущиеся по мутной поверхности зеркала, отсылающего их в небытие!
— Какие захватывающие картины! Полагаю, это результат сего растительного териака, ставшего в последние дни вашей обычной панацеей?
— Смейтесь, смейтесь! Я больше ничего не скажу. Думайте сами. Измените вашу точку зрения. Сделайте шаг вперед, потом отступите, опустите голову, потом поверните, поднимите или опустите глаза.
— Забавно, вы изъясняетесь совсем как Семакгюс; тот целый вечер докучал мне своими анаморфозами и сменой угла зрения.
Приподнявшись на подушках, Ноблекур вытянул палец в сторону Николя.
— Вот именно! Это то же самое. Вы верите в то, что вы видите, в то время как на деле все представлено так, чтобы сбить с толку ваши чувства.
И он уставился на содрогнувшегося Николя.
— Если вы мне верите, вы пойдете и немедленно ляжете в постель, ибо вы дрожите как озябшая лошадь, которой пришлось долго бегать.
По дороге к себе Николя попросил у Катрины капельку ее эльзасского подкрепляющего снадобья и глотнул немалую толику. Прежде чем раздеться, он подробно исследовал захваченный им с собой плащ Эмманюэля де Риву. Каково же было его удивление, когда, ощупывая край, он обнаружил в подкладке монету и с трудом, но вытащил ее. Это оказалась английская гинея. И снова очередная тайна, причем двойная, ибо в плаще, похищенном несчастной Киской, также… Неужели это совпадение? Или в этом есть некая закономерность? Что можно сейчас сказать об этом? Решив понапрасну не терзать себя предположениями, он лишь отметил, что английская рука появляется в этой истории уже не в первый раз. Находка же, вместе со всеми прочими, становится важной уликой против лейтенанта морского флота.
Забравшись в кровать, он согрелся, и его снова одолели думы о расследовании. Один за другим, он стал осмысливать каждый имевшийся у него факт; иногда размышления его прерывались невольно возникавшими перед глазами картинами пережитого или — еще хуже — бредовыми видениями: синие плащи, шествовавшие рука об руку с сапогами и башмаками, сменялись жуткими видами мертвецкой и усеянного трупами рва неподалеку от Инвалидов. Двуликие тени отделялись от своих обманчивых фигур. В состоянии, близком к безумию, он больше не мог определить, кто виновен, а кто нет. Чего он боится больше: навредить государству или скомпрометировать правосудие? Кто позволил ему исследовать темное дно колодца? Подступавшие со всех сторон вопросы яростно отталкивали совесть. Внезапно он вспомнил о Киске и не сдержал слез. Рядом с образом этой жертвы немедленно возник образ Антуанетты. Какая роль отведена ей, живущей в окружении англичан? Оба лица слились в одно, печаль затопила его, и он забылся сном. Мушетта, устроившись на груди хозяина, дышала ему в нос и, словно маленький сфинкс, оберегала его беспокойный сон.
Суббота, 15 февраля 1777 года.
Николя вышел из дома на заре. Накануне он велел Бурдо установить слежку за Депла и домом Леруа. Понимая, откуда нанесен удар, Сартин, без сомнения, станет искать Риву в секретной камере древней крепости. Стремясь узнать, где его содержат, и прекрасно зная своего Ле Флока, ему даже в голову не придет искать лейтенанта в самой обыкновенной камере. Несколько «болтливых» осведомителей должны были направить поиски министра в уединенный сельский домик, расположенный за городскими стенами. Сам комиссар сначала отправился на мост Менял к знакомому ювелиру, который, после долгих разговоров, согласился исследовать металлические опилки, снятые с синего плаща и плаща, укрывавшего Киску. Затем на улице Арлэ он встретился с Фердинандом Берту, конкурентом Леруа в изготовлении приборов для определения долготы. К своему соседу Берту относился с состраданием, однако не уставал досадовать на него. Бесхитростный с виду, швейцарец наверняка преуспевал в делах. Обвиняя соседа в плагиате, он видел в нем мечтателя-неудачника, жаждущего почестей, в то время как себя он считал успешным владельцем мануфактуры, стремящимся найти способы производить, а значит, и продавать во множестве приборы, потребные на кораблях его величества. Затем комиссар долго бродил по кварталу, расспрашивая о Леруа привратниц и соседей.
Наконец он отправился к мэтру Вашону, своему портному, заказать, несмотря на недовольное ворчание мэтра, два понравившихся ему плаща военного покроя; Вашон не любил, когда его благородные клиенты стремились либо опередить моду, либо не следовать ей вовсе. Николя с сожалением вспомнил о двух утраченных плащах, один из которых согрел старуху Эмилию, а другой послужил саваном Киске.
В Шатле Бурдо еще не появлялся; Николя ждали три записки. В одной Ленуар сообщал ему, что в три часа пополудни его ожидают в замке Бельвю, в павильоне Забав; во второй госпожа Кампан неожиданно желала с ним встретиться в Версале, в воскресенье, перед началом мессы, а в третьей адмирал д’Арране просил его в шесть часов прибыть в Фос Репоз. Казалось, все сдвинулось с места. Николя стал снаряжаться. Ему могла понадобиться помощь, и имелись все основания обеспечить собственную безопасность. Отыскавшийся поблизости Рабуин был взят кучером; ему в помощь дали агента, бывшего учителя фехтования, человека, чье мужество не вызывало сомнений. Потом он заехал на улицу Монмартр, дабы переодеться.
За четверть часа до назначенной встречи его экипаж въезжал во двор Бельвю. Лакей, казалось, уже поджидавший его, указал ему на сад, где извивалась тропинка, ведущая к павильону Забав. В голове теснились воспоминания. Здесь он сумел добиться от стареющей Помпадур смягчения наказания Трюшу де ла Шо.[64] Уже дважды за время нынешнего расследования он сталкивался с тенью доброй дамы. В задумчивости он спускался по пологому склону, именуемому Цветочным; сейчас склон был по-зимнему пустынен; от протекавшей внизу реки тянуло сырым промозглым воздухом. Добравшись до пригорка, он стал разглядывать идущие вниз по течению баржи и рыбацкие лодки, мелькавшие среди плывущего над рекой клочковатого тумана. Шум подъезжающего экипажа заставил его обернуться. Скрипя гравием, возле входа в павильон остановилась маленькая садовая коляска, откуда вышла закутанная женщина; по высоко поставленной голове и горделивой походке он узнал Мадам Аделаиду. Как странно: эта принцесса, столь ненавидевшая Помпадур, теперь вместе с сестрами проживала в замке, освященном любовью покойного короля. Не удостоив взглядом склонившегося в глубоком поклоне персонажа, ожидавшего ее в тени павильона, она направилась внутрь. С содроганием узнав в персонаже Бальбастра, он замедлил шаг, чтобы пропустить его вперед. Следом за музыкантом лакей провел его в небольшую гостиную, где пахло горящими сырыми дровами. Сидя возле камина, принцесса яростно шевелила в камине никак не разгоравшиеся поленья.
— Черт бы побрал это сырое дерево!
Устремившись вперед, Николя опустился на колени и принялся раздувать огонь; наконец, дрова занялись, и вскоре вверх взметнулись яркие языки пламени.
— Ах, наш дорогой Ранрей! Мой отец был прав, когда надеялся на вас.
Он встал и, изобразив на лице величайшую преданность, поцеловал ей руку. В ответ Мадам Аделаида признательно улыбнулась. Вот уже несколько лет, как он лишь мельком виделся с ней при дворе; она сильно постарела. Зачесанные назад волосы, начесанные и напудренные, украшал кружевной чепец с бантом на макушке. Серый плащ с меховым воротником оставлял открытым жакет из зеленого бархата. Боже, подумал он, как она похожа на своего отца. Ослепительная свежесть юности уступила место суровому выражению лица, которое смягчал лишь взор карих, таких же, как у покойного короля, глаз. При обилии белил тонкая линия ярко накрашенных губ придавала лицу дополнительную суровость; двойной подбородок также ее не красил.
— Нам приятно видеть вас, — продолжала она, указывая ему на стоявшее поблизости кресло.
Он сел. Бальбастр сделал робкую попытку последовать его примеру, однако взор Мадам Аделаиды дал ему понять, что не стоит и пытаться.
— Вы знакомы с Бальбастром?
— Да, сударыня.
— Музыкант. Он также неплохо сочиняет музыку. Он органист моего племянника, графа Прованского… Архиепископ Парижа уже трижды запрещал ему дотрагиваться до органа в Нотр-Дам, ибо стоит ему начать играть, как сбегается толпа желающих его послушать. Но эти канальи не уважают святость места! А еще он обучает игре на клавесине мою племянницу, королеву. А для полноты картины он еще и торгует редкостями на аукционе. Вот каков господин Бальбастр! — По мере того, как принцесса произносила свою филиппику, музыкант настолько стушевался, что Николя даже пожалел его.
— Вы вправе, господин маркиз, выразить свое удивление нашей встречей втроем. Ей мы обязаны Верженну. Он счел ее необходимой. Одним словом, желая задобрить короля, моего племянника, который с недавних пор относится ко мне весьма прохладно, я решила понравиться А…[65], его жене. Этот господин…
Подбородком она указала в сторону Бальбастра.
— …которому я оказала честь поразмышлять вслух в его присутствии, предложил мне приобрести удивительную вещь: единственный в своем роде музыкальный инструмент, сделанный из кости нарвала; исключительные качества этого инструмента делают его достойным французского двора. Так вот, оказалось, оказалось… О Господи!..
Разразившись слезами, принцесса умолкла.
— Что происхождение подарка, — продолжил Николя, — далеко не столь безобидно, как хотелось бы. И скандал, готовый запятнать трон, вот-вот разразится!
— Я знала, что надо обратиться к вам, — изрекла Мадам Аделаида.
Когда он сказал все за нее, она облегченно вздохнула.
— Так что же, Мадам?
— Верженн умолял меня узнать, откуда происходит этот предмет и кто может быть причастен к мошенничеству, помимо, разумеется, этого господина.
— О Мадам, — пробормотал Бальбастр.
— Ах, не надо лишних слов. Лучше расскажите все, что знаете.
— Но я не знал…
— На это я и надеюсь, — отвечала Аделаида, и в голосе ее прозвучало раздражение. — Давайте к делу. Кто вас выбрал посредником в этой дурной и грязной афере? Король в ярости, моя племянница оскорблена. Она…
Мадам яростно пошевелила дрова в камине, и оттуда немедленно вылетели снопы искр.
— Сударь, — молвил Николя, обращаясь к музыканту, — я знаю, кому следует задать подобный вопрос. И он подтвердит вашу невиновность.
Бальбастр не верил своим ушам: он не мог поверить, что спасение придет от маркиза де Ранрея.
— Кто-то изобрел способ скомпрометировать королеву и нашел марионетку, готовую его осуществить.
— В самом деле, господин маркиз, будучи приближенным к ее величеству, которой я даю уроки игры на клавесине, — ведь вам известен ее изысканный вкус, — я сначала хотел предложить ей приобрести эту флейту. Но, узнав, что Мадам ищет, что бы подарить королеве, мне пришла в голову мысль…
— Вот уж чего, действительно, от вас не требуется, — проворчала принцесса.
— Кто предложил вам сделку?
Бальбастр пребывал в нерешительности.
— Должен ли я, сударь, напомнить вам о прошлом?
— В доме герцога д’Эгийона я познакомился с прусским дворянином, сказавшимся моим поклонником. Он долго расхваливал мои импровизации в Нотр-Дам, о которых упомянула ее высочество, а также похвалил обе мои пьесы для клавесина и фуги для органа.
— Вы нам рассказываете басню о вороне и лисице!
— Увы, Мадам! Я оказался падким на лесть.
— А как зовут этого поклонника?
— Я не могу…
— Не можете? Как это вы не можете? Слово дочери Франции, я велю колесовать вас, сударь, за оскорбление величеств, если вы не скажете.
— Было бы очень жаль прибегать к подобным мерам, когда имеешь дело с владельцем клавесина с портретом великого Рамо. Отвечайте, сударь, ее королевскому высочеству. Имя, и немедленно.
— Речь идет о шевалье Тадеуше фон Иссене.
— А знаете ли вы, — заорала принцесса, — где он раздобыл сей предмет? Он был украден из покоев короля Фридриха! Да, из Сан-Суси! Этого вполне достаточно.
Она встала, с улыбкой протянула Николя руку для поцелуя и, смерив взором Бальбастра, вышла из гостиной.
— Сударь, — сказал Николя, — несмотря на прошлое, отнюдь не побуждающее меня полагаться на вашу нынешнюю верность престолу, тем не менее мне хочется верить в ваше здравомыслие. И еще. Где можно найти этого прусского дворянина?
— Я не знаю, но я хотел бы выразить вам…
— Это лишнее. Ваш слуга, сударь.
Спускаясь с холма, он вспоминал о Жюли де Ластерье; на сердце у него стало тяжело, но душа его была спокойна: он сумел устоять перед искушением низменной ревности.[66] Ему не удалось вспомнить, где он слышал имя фон Иссена, и он решил непременно разузнать о нем подробнее. Ничто нельзя отпускать на волю случая. Он взглянул на часы: ровно пять. Велев Рабуину ехать шагом, он в глубоких сумерках подъехал к особняку д’Арране. Триборт открыл ему дверь и принял плащ.
— Похоже, — вполголоса произнес он, — там начинает штормить. И хотя адмирал льет масло бочками, чую, качки не избежать. Очень уж министр расшумелся!
— Благодарю за совет. Но я бретонец, а потому не боюсь морской болезни.
В гостиной было темно, только в камине горел огонь, и его отблески плясали на лицах стоявших друг напротив друга Сартина и д’Арране. Николя поклонился. Адмирал отступил в тень.
— Николя, — произнес министр, — я рад вас видеть. Теперь, чтобы повидать вас, приходится вас разыскивать. В тот вечер вы бессовестнейшим образом улизнули от меня.
— Сударь, как вы можете так говорить? Скажите, когда я не внимал вашим словам?
— Во время собачьей трапезы в Оленьем дворике.
— Я не знал, что вы там присутствовали, о чем и сожалею. Видимо, когда вы появились, меня уже увел господин Тьерри.
— С какой целью?
— Чтобы проводить к его величеству, назначившему мне аудиенцию. Полагаю, вам об этом известно.
— Его величество! На встречу с королем? Что, господин Ленуар смещен, а я об этом ничего не знаю? О чем вы могли беседовать с королем?
— Я не вправе разглашать содержание беседы.
Сартин сжал руки, словно желая удержать их от резкого жеста.
— Николя, дружочек, друг мой… Разве мы не друзья?
Смена настроений, от гнева до дружелюбия, готового перейти в приступ холодной ярости, всегда была свойственна Сартину. Лед и пламень…
— Давайте поговорим начистоту. Вы, конечно, поняли, я в этом не сомневаюсь, что секретность операции была связана с государственной безопасностью. Речь шла о совершенно особом деле, о том, чтобы одурачить Англию. Помню, в свое время я рассказывал вам о планах, зародившихся в то время, когда секретная служба короля, в сущности, развалилась, и было решено искать новые способы разузнавать о состоянии дел в армии противника, добывать сведения о ее вооружении, о новых изобретениях в области артиллерии, и среди прочего, об оснащенности английского флота.
— Например, о создании часов, позволяющих определять долготу.
— Да, и это тоже. Поэтому пешку поставили…
Перед глазами Николя промелькнуло скорчившееся на снегу тело и труп в мертвецкой.
— …туда, где она всем видна, а именно в мастерскую Леруа; это было сделано для того, чтобы предупреждать ходы противника.
— С какой целью?
— Прежде всего чтобы убедить противника, что английский перебежчик французского происхождения, и вдобавок протестант, решил отомстить за себя короне. Это удваивало гарантию, что приготовленный нами крючок будет заглочен. Пешку арестовали по подозрению в шпионаже и посадили в Фор-Левек. Почему туда? Потому что, в отличие от Бастилии и Венсенна, оттуда легче всего бежать.
— Сударь, этот план кажется мне не слишком удачным. Некто, пожелавший предать свою приемную родину, неожиданно меняет решение и поворачивается в другую сторону. Будь я англичанином, у меня возникли бы серьезные подозрения.
— Вы не знаете подробностей, — тоном учителя, объясняющего урок ребенку, произнес Сартин. — После заключения мира между Англией и Францией наладилась почтовая связь. Наша пешка порвала со своей английской семьей. Шли месяцы. Он написал им и объяснил, что творится у него в душе, он понял, что хочет отомстить за изгнание семьи, и выражал свою ненависть по отношению к Франции. Мы постарались, чтобы эта переписка попала в руки английской разведки. Пешка, которую они отыскали и стали искушать, наконец поддалась на их уговоры. Арест его подтвердил уверенность англичан, и механизм стал раскручиваться.
Сартин радостно излагал свой замысловатый план, который он, очевидно, намеревался довести до конца.
— Несчастный случай чуть не поставил план на грань провала, а затем на пока ничем не омраченном горизонте появились вы. Что вынюхивал сьер Ле Флок на улице Сен-Жермен-л’Осеруа? Зачем он нарушил порядок четко выстроенной интриги? Как обычно, он появился и поставил все на грань провала. Образовался труп, а потом начался хаос…
Ровный в начале тон постепенно перешел в крещендо.
— Наша пешка, заключенная в Фор-Левек, готовила побег. Все шло как нельзя лучше. Увы! Побег не удался. Головокружение, неловкость, он отпускает веревку, скользит, падает, и вот уже наша пешка лежит на земле, мертвая и никому не нужная. Но нет! Я ошибаюсь. Это же удачная находка для сьера Ле Флока! Его обуревает ненасытное любопытство ко всему, что его не касается, к чему у него нет доступа. И как вы думаете, что он делает? Он делает стойку, поднимает шум, вынюхивает, выискивает, утаскивает труп и назначает вскрытие. Впрочем, он привык так развлекаться со своими хирургами и палачами. Не найдя ничего, что бы могло удовлетворить его мрачную фантазию, он, без всяких поручений и разрешений, начинает собственное расследование, и знаете, почему? Исключительно из тяги к знаниям. Неужели прежде мы так превознесли его заслуги, что он забыл, откуда пришел? Конечно, он не без способностей, но нужны ли нам такие способности?
Николя с улыбкой слушал Сартина.
— К счастью, сударь, сейчас вы не являетесь начальником полиции, иначе после такой обличительной речи мне бы оставалось только написать прошение об освобождении от обязанностей; однако должность я вряд ли бы отдал, ибо она принадлежит мне и дарована мне моим повелителем, покойным королем.
— Благодаря моей благосклонности, не забывайте об этом!
— Я ничего не забываю. Только тот заслуживает благодеяний, кто умеет быть признательным.
— Какая надменность! А помните, как вы прибыли в Париж? Грязный и унылый бретонец!
— Сударь, своими словами вы рискуете навсегда освободить меня от обета верности, который принесла моя признательность. Оказывая на меня давление и обращаясь со мной как с врагом, вы можете свести мою признательность на нет.
Вперед выступил адмирал д’Арране.
— Сударь, оставьте этот ни к чему не ведущий спор, слова, что вы сказали друг другу…
Сартин гневно взмахнул рукой.
— …вы сами рано или поздно пожалеете о них. Позвольте старому офицеру заверить вас, что ваша компетентность не подвергается сомнению. Маркиз де Ранрей…
Адмирал сделал ударение на титуле.
— …в прошлом не раз доказывал, что его слова не расходятся с делом. Мне кажется, мы обязаны выслушать его. Наверняка у него имеются веские доводы. Узнав о провале дела, нам следовало немедленно посвятить его в детали, тем более что он начал расследовать гибель так называемого узника Фор-Левека. Думаю, мы могли бы рассказать ему кое-что интересное. По крайней мере давайте хотя бы выслушаем его. Ваш гений, сударь, всегда принимал сторону здравого смысла, а именно на нем основаны мои предложения.
Сартин невнятно выругался и махнул рукой комиссару.
— Сударь, отнюдь не любопытство побудило меня взяться за это дело. Случаю было угодно, чтобы побег произошел практически у меня на глазах, и, оказавшись на месте происшествия единственным представителем власти, я просто не мог поступить иначе. Когда же обнаружились многие мелкие детали этого дела, само собой попавшего в мои руки, я начал расследование и столкнулся со множеством фактов, которые вы упорно не желаете замечать.
Адмирал сдержал яростный порыв Сартина.
— Ваши слова, — обратился он к Николя, — говорят о том, что у вас имеется иное видение гибели нашего молодого часовщика.
— Да как это возможно? И почему в таком случае Ле Флок не сообщил мне о своих открытиях, тем более что вскоре после означенного события он виделся со мной?
— Сударь, быть может, я неправ, но ваше поведение нисколько не располагало к откровенности. Одалживают только богатым, а вы всегда все знаете. Я считал, что вы в курсе событий. Вы же меня ни о чем не спрашивали!
В эту минуту Николя почувствовал, что и Сартин, и д’Арране в самом деле не представляют истинной картины событий. Никто, помимо караульного сержанта, Сансона, Семакгюса и Бурдо, не знал, что же на самом деле случилось с Саулом Пейли, не знал, что ему готовили ловушку, а когда он оказался на земле, безжалостно добили.
— Позвольте, сударь, задать вам один вопрос.
— Он не… — начал Сартин.
— Какой? — прервал министра д’Арране.
— Почему похитили художника Лавале и устроили погром в его мастерской?
— Нам сообщили, что в городе появились портреты Пейли и что ищут свидетелей. Вы упростили нашим осведомителям задачу и добрались до Лавале. Успокойтесь, он в надежном месте.
— Этот его не касается, — бросил Сартин.
— Касается, и еще как! Сударь, потрудитесь поставить себя на мое место, дабы здраво судить о моем поведении. Иначе ваши рассуждения уходят в пустоту. Мне кажется, лучше признаться в неведении, чем делать вид, что тебе известно то, чего ты не знаешь.
— И чего же, по-вашему, мы не знаем?
— От вас ускользает главное, то, что стало причиной неподготовленных заранее действий. Как вы считаете, как погиб Пейли? Вы говорите, что он не удержался и сорвался. Сорвался, совершая заранее подготовленный побег? Никакого следствия по проверке фактов, ничего. Предположим, что веревка перетерлась о камень…
— Да, именно веревка, нам это известно, — нетерпеливо проговорил Сартин.
— Это была не веревка, сударь.
— Как не веревка, вы же сами…
— Завершаю свои слова. Это не веревка перетерлась о камень, а связанные друг с другом простыни. Видите, на вашем уровне мелочи от вас ускользают.
Адмирал воздел руки к небу, словно желая успокоить министра, наливавшегося гневом.
— Кто дал ему эти простыни? — продолжал Николя. — Резонно предположить, что это люди, отвечавшие за подготовку и организацию побега. Узник сидел в платной камере, ему приносили лакомства из города. Так вот, как подтвердили знатоки, простыни обработали кислотой, в результате чего они стали значительно менее прочными. Вес тела, длительное натяжение, и веревка из простыней рвется, а ваш человек падает в пустоту, дабы разбиться о каменную мостовую. Однако и тут от вас ускользнула одна подробность: он упал, но не разбился, ибо, как показал осмотр тела, повреждения, полученные им при падении, были не смертельны. Орудием смерти стала окованная железом трость: удар нанесли прямо в шею!
— Что ж, хорошо, что вы это знаете. Однако не идет ли речь о тех злополучных похоронных манипуляциях, которыми вы развлекаетесь вот уже много лет?
— Сударь, то, что вы называете манипуляциями, в наш просвещенный век торит дорогу прогрессу в области следствия по уголовным делам. Методы, которые в Вене применяют уже несколько лет, нередко помогали мне раскрывать дела, порученные вами.
— Хорошо. Готов согласиться, что в ваших словах присутствует доля истины. Однако вы задержали офицера короля, и я велю вам немедленно вернуть его мне.
— Над лейтенантом Эмманюэлем де Риву нависли серьезные подозрения. Собранные улики требуют содержать его в секретной камере до дальнейших распоряжений.
— Сударь, как вы смеете! Вы забываетесь! Знайте, что даже если Риву и виновен, чего, конечно, Господь не допустит, он не находится в вашей юрисдикции. Адмирал, напомните ему устав.
— На флоте правосудие осуществляет его величество при посредничестве государственного секретаря, министра морского флота и заморских колоний. Если преступление совершено на королевской службе, виновный поступает в распоряжение отдельного военно-морского суда. Если речь идет именно о таком случае, вы не имеете права распоряжаться его судьбой.
— Вы только что сказали, что его величество вправе осуществлять свое прямое правосудие?
— Можно сказать и так.
— Прекрасно! Так вот, у меня есть право вести это дело сообразно собственному разумению, право брать под стражу любого, равно как и назначать любую процедуру, необходимую для раскрытия преступления.
— Да он с ума сошел! Самонадеянность ударила ему в голову. Он же готовый пациент для Бисетра!
Не говоря ни слова, Николя вытащил подписанное королем письмо и протянул его адмиралу.
— Что это еще такое? — бросил Сартин, нещадно теребивший локоны своего длинного парика.
— Судя по этому документу, маркиз де Ранрей получил неограниченные полномочия, а чтобы эти полномочия не оставались только на словах, к документу приложено несколько незаполненных бланков.
— Как вы посмели? — воскликнул Сартин.
— Сударь, я всего лишь подчинился приказу начальника полиции, который и вручил мне приказ короля.
— Как! Ленуар в курсе и, быть может, даже…
Он на секунду задумался.
— Господин Ле Флок, немедленно верните мне Риву.
— Я в отчаянии, что не могу исполнить вашу просьбу. Но я от имени короля требую вас немедленно освободить господина Лавале и передать его мне.
Побагровевший Сартин резко повернулся и, оттолкнув Триборта, внесшего поднос с ромом, напитком, никогда не переводившимся в доме д’Арране, выскочил из гостиной.
Вздохнув, адмирал взял стакан и большими глотками опустошил его. Затем протянул стакан Николя.
— Боже, что за человек! Да, его работа не всегда легка. Он еще вернется. Временами быть министром особенно трудно. Мы часто гневаемся из-за собственного бессилия… Драма такой личности, как он, состоит в том, что у него есть воля, но нет прав. И все же мы ему признательны за то, что, несмотря на сопротивление генерального контролера финансов и всех, кто отказывает ему в средствах, он продолжает делать попытки развивать морской флот.
— Следовательская кухня его всегда утомляла, он стремился одним прыжком достичь результата. Не соглашаться с ним зачастую означает помочь ему.
Д’Арране налил себе очередной стакан рома и столь же жадно опустошил его.
— Конечно, но разве можно себе представить, чтобы человек, слывущий в обществе честным, кротким и обязательным, чью скромность хвалят все, кого берут за образец немногословия, кто всегда в курсе всего, а если и не в курсе, то по виду его вы об этом никогда не догадаетесь, — как может такой человек в ближнем своем окружении вести себя так высокомерно, грубо и противоречиво, что и в городе, и при дворе ему мог бы позавидовать сам председатель Сожак.
— Набросанный вами сейчас портрет я нарисовал уже много лет назад. В глубине души я уверен, что он по-прежнему меня любит, но никак не может поверить, что я уже не тот юнец, который явился к нему в 1760 году.
— Он служит Франции и королю с не меньшим рвением, чем вы, поэтому ему прощают все его выходки. Почитайте его проект развития морского флота. Он понял, что в войне, которая может начаться со дня на день, королевство, если оно хочет дать достойный отпор англичанам, должно иметь обновленный и мощный флот. Для этого, разумеется, требуется золото, и это преступление — отказывать ему в нем! Тюрго не переносил его, теперь он не перестает слать записки Неккеру.
— А Лавале?
— Не волнуйтесь. Он под моим покровительством, в укромном месте, где ему созданы все условия для приятной жизни. Как только буря пройдет, ему вернут свободу и предоставят средства для восстановления жилища. Еще одно, гм… деликатное дело. Вы встречались с Антуанеттой Годле. Я вас об этом не спрашиваю, ибо ответ мне известен. Она мать вашего сына.
— С вами, сударь, я готов поделиться своими подозрениями: мне кажется, она работает на лорда Эшбьюри, начальника английской разведки.
— От вашей проницательности ничто не ускользает. Я подтверждаю, что она, действительно, имеет дело с этим субъектом: она передает ему кое-какие сведения.
Растерянный вид Николя изумил адмирала.
— Я знаю, истина не всегда приятна, но успокойтесь, госпожа Годле действует в интересах секретной службы короля. Она двойной агент. Она работает на нас и сообщает нам все, что слышит у себя в магазине. Благодаря ей мы несколько раз сумели обезвредить опасные замыслы противника, и мы уважаем ее за это. Ее сердце принадлежит Франции.
— Но как она могла решиться?
— Министр сообразил, что можно повлиять на даму, состоявшую в связи…
Адмирал вздохнул.
— …с ее прошлым. Заботясь о вас и о сыне, она тотчас согласилась.
— Это возмутительно со стороны Сартина! Если бы с Антуанеттой случилось несчастье, я бы ему не простил, — тихо произнес Николя, словно разговаривал сам с собой.
— Чтобы доказать вам свое доверие, я расскажу вам, какую роль ей предназначили. Она прочитывает английские газеты, где печатают статьи о постройке новых кораблей, об их перемещении, а также списки назначенных на офицерские должности. На каждый корабль заведена своя карточка, где указаны год его постройки, плавания, сражения, повреждения и починки, репутация, имена командиров и сведения о команде. Коробки с такими карточками хранятся в министерстве. Сообщения, спрятанные в брикетах с углем, грузовые суда привозят в Булонь и Кале, где их забирают наши военно-морские комиссары и эстафетой отправляют в Париж, где каждый понедельник Тьерри, первый служитель королевской опочивальни, приносит королю отчет, составленный на основании полученных сведений. Таким образом, благодаря госпоже Годле король всегда в курсе состояния и перемещений английского флота![67]
— Я с ужасом думаю о том, каким опасностям подвергается она ежеминутно!
— Она ловкая и осторожная.
— Если бы вы только знали… Эшбьюри ничто не остановит.
— Не беспокойтесь. У нас есть в запасе неоспоримые аргументы, которые, если ее разоблачат, позволят защитить ее.
— Сударь, я хочу попросить у вас об одной любезности. Видя, в каком дурном настроении пребывает господин де Сартин, я не думаю, что он в состоянии выслушать меня, а тем более ответить на вопросы. Вы понимаете, какие подозрения нависли над Риву. Однако еще ничего не решено, все зависит от его собственных показаний. Он должен иметь возможность защищаться и отвечать на поставленные законным образом вопросы. Сейчас он отказывается говорить и тем самым усугубляет свое положение. Без сомнения, он в курсе некоторых подробностей, важность которых ему неизвестна, но которые, как мне кажется, вполне могут свидетельствовать в его пользу. Необходимо убедить его заговорить. Одно ваше слово, снимающее с него запрет на разглашение, облегчит мне дальнейшее расследование, в течение которого не только Пейли, но и еще одна девушка, присутствовавшая при похищении Лавале, рассталась с жизнью. Меня же просто хотели подстрелить как кролика. Добавлю, что в настоящее время ради безопасности королевства необходимо установить, почему столь четко разработанный план провалился и чья предательская рука помешала его осуществлению.
Адмирал немного подумал, потом сел за небольшой рабочий столик. Взяв перо, он набросал несколько строк, свернул записку, запечатал ее своей печатью и протянул комиссару.
— Постарайтесь, чтобы меня потом не упрекнули за этот поступок.
Эме не было дома: ее задержала у себя Мадам Елизавета; как пошутил адмирал, она приучала дочь к прикорабельной жизни.
Они поужинали вдвоем; Триборт принес им рагу из осетрины и, вставляя веселые реплики в их беседу, окончательно развеял желчное настроение, охватившее обоих после сцены с Сартином. Они обсудили последние придворные и городские новости, и в частности, обед, данный архиепископом Парижским Кристофом де Бомоном в честь директора Бюро финансов Неккера. Адмирал процитировал эпиграмму, распространившуюся по такому случаю в Париже.
Ах, что за скандал начался! За пиршественный стол Неккер с Кристофом сели. Рыдает Церковь, дьявол же хохочет, Неккер хоть в янсенизме не замечен, Зато он протестант закоренелый.Николя не остался в долгу и, продолжая церковную тему, рассказал адмиралу, что кардинал де Ларош-Эмон, великий сборщик милостыни Франции, впавший в детство, пожаловался своему врачу, господину Бувару, на подагру, простонав, что он страдает, словно грешник в аду, на что сострадательный эскулап грубовато ответил: «Как, уже, сударь?»
Они также коснулись американских дел. Адмирал сообщил ему о всеобщем недовольстве военных медлительностью правительства. Агенты инсургентов возбуждают волнения в народе, желая поскорее добиться выгодного для них решения. Маркиз де Лафайет, недовольный тем, что министр не сдержал обещание относительно его повышения, после переговоров с американскими посланцами Франклином и Дином, в Бордо тайно снарядил корабль и вместе с пятью десятками молодых офицеров отплыл на нем, чтобы присоединиться к армии Вашингтона.
Несколько стаканов старого рома, выпитых вместе с Трибортом, приглашенным разделить удовольствие, достойно завершили вечер. Добравшись до своей комнаты, Николя растянулся на кровати и тотчас забылся тяжелым сном.
Воскресенье, 16 февраля 1777 года.
Николя совершал утренний туалет особенно тщательно. Темная лента ордена Святого Михаила подчеркивала строгость костюма, более походившего на одежду магистрата, нежели придворного. С видимым раздражением он натянул парик и прицепил шпагу маркиза де Ранрея. Глянув в зеркало, он отметил, что, выделяясь ярким пятном на фоне серого переливчатого фрака и светло-серого жилета, она делает его моложе. Прибыв во дворец задолго до полуденной мессы, он взял для Рабуина и сопровождавшего его агента напрокат две шпаги, чтобы их пропустили на территорию дворца; на костюм обычно внимания не обращали. В Зеркальной галерее его настиг Луи: он примчался поздороваться с отцом. Сияя от гордости, он покрасовался перед Николя в своем синем, обшитом малиновыми и белыми галунами, фраке. Госпожа Кампан ожидала комиссара в гостиной Мира. В помещении, отныне относившемся к апартаментам королевы, возле высокого камина из разноцветного мрамора сидела дама в черной мантилье, зябко потирая над огнем руки. Николя бросил взор на картину над камином: «Людовик XV, дарующий мир Европе».
— Ах, господин маркиз, не зная, получили ли вы мою записку, я изнывала от нетерпения в ожидании.
Она окинула тревожным взором зал, но никто из деловито шествовавших мимо теней не привлек ее внимания.
— Чем быстрее разворачиваются события, тем сильнее мои тревоги. Мне надо открыть вам один секрет… Ее величество вновь принимала известную вам особу.
— Опять! После всего того, что ей о ней рассказали. Вы присутствовали при их встрече?
Она смутилась.
— В некотором роде… на самом деле я находилась в соседней гардеробной, где, сама того не желая, услышала большую часть разговора. Поверьте, я очень смущена.
— Не сомневаюсь; и все же что вы слышали?
— Вначале ничего интересного. Она отчитывалась в мелких поручениях и покупках, которые королева велела ей сделать в Париже. Затем речь зашла о более серьезных материях: она произнесла имя Луазо де Беранже, затем заговорила о возможности получения ста тысяч ливров от некоего банкира по имени Лафос. А дальше стало еще хуже, вот почему я столь настоятельно призвала вас на помощь. Конечно, я могла не понять…
Оговорка не смутила Николя, и он попросил ее продолжать.
— Сегодня утром Каюэ де Вилле явится в часовню в сопровождении двух дам. Знаками, не оставляющими сомнений, королева должна оценить их прически. И хотя я в этом ничего не понимаю, я содрогнулась при одном только подозрении, что эти знаки могут означать нечто иное. Подозреваю, тут какая-то уловка. Мысль о том, что за этим кроются происки злых сил, преследует меня неотступно, я каждую минуту боюсь упасть в обморок, а смачивание висков уксусом мне уже не помогает.
— Сударыня, успокойтесь. Мне кажется, я смогу пролить свет на эту темную историю. Господин Луазо де Беранже дал мне надлежащие разъяснения, позволяющие разобраться в игре госпожи де Вилле. Беранже будет стоять рядом с ней, и, поглядев в его сторону, королева…
— Как, сударь? Вы уверены?
— …даст ему знак согласия на сделку…
— О Боже!
— …точнее, на заем некой суммы для покрытия ее долгов. Сцену разыграют в Зеркальной галерее. Но вы, кажется, упомянули часовню. Неужели план изменился?
— Похоже, изменения произошли по просьбе сьера Луазо де Беранже.
Откупщик наверняка попал под влияние обаятельной Каюэ де Вилле, подумал Николя.
— Но я не могу поверить в то, что вы мне сейчас сказали, — чуть не плача, проговорила госпожа Кампан.
— Сударыня, вы, как и я, состоим на службе ее величества. Надо спасти ее от западни, куда ее завлекла ее собственная доброта и доверчивость: ведь она верит всем, кому удается к ней пробиться. Даму надобно брать с поличным, и я выступлю свидетелем этой комедии. Но я ее никогда не видел, а потому вы должны помочь мне. В галерее уже собираются зрители. Как мне ее найти? Идите, высмотрите ее, а потом скажите мне, где ее искать.
Ободренная его уверенной речью, госпожа Кампан стремительно вышла и вскоре вернулась обратно.
— Ее в галерее нет и быть не может, ибо она уже заняла место в часовне. Вы легко ее узнаете, рядом с ней справа сидит Луазо де Беранже, а слева две дамы с вычурными прическами, щедро украшенными дарами Цереры и Помоны. Эта женщина такая дерзкая! Ах, как я боюсь, что капкан захлопнется!
— Успокойтесь, она свое получит. Дерзость хороша, но не во всем, не стоит всюду прибегать к ее услугам.
Когда он выходил из салона Мира, откуда-то появился Тьерри и, остановив его, шепнул ему на ухо, что король желает видеть Николя у себя в библиотеке, расположенной в королевских апартаментах возле рабочего кабинета. Там соберется своеобразный совет в составе Морепа, Верженна, Сартина, министра королевского дома Амло де Шайу, а также Мерси д’Аржанто, посланника императрицы Марии-Терезии и ментора Марии-Антуанетты.
Зеркальная дверь, ведущая в зал совещаний, открылась, и из нее вышли пажи, офицеры и гвардейцы, обычно шествующие впереди короля. Из салона Мира выдвинулся кортеж королевы. Николя заторопился в королевскую часовню.
Он сразу заметил сочный фиолетовый фрак Луазо де Беранже; слева от него сидела дама, чье заурядное, изобильно уснащенное гримом лицо являло собой карикатуру на постаревшее лицо графини дю Барри. С другой стороны рядом с генеральным откупщиком разместились две дамы, не заметить которых было невозможно, ибо на головах у них высились поистине невероятные сооружения. Не привлекая к себе внимания, ему удалось сесть позади них. Когда раздались величественные звуки органа, все, повернувшись к алтарю спиной, склонили головы перед королевским кортежем. Король всматривался в толпу, словно кого-то искал, но Николя, хорошо знавший Людовика, понимал, что тот не мог никого искать, ибо без очков видел только колыхавшееся расплывшееся пятно. Переднюю стенку кафедры обрамляла мраморная балюстрада, покрытая большим покровом малинового бархата с золотой бахромой.
Наблюдая со своего места за королевой, Николя увидел, как та начала искать взглядом двух дам с высоченными прическами. Наконец, обнаружив пресловутую четверку, она слегка кивнула головой и вскоре повторила это движение совершенно отчетливо. Придвинувшись к сидящей впереди де Вилле, Николя расслышал, как та прошептала на ухо обрадованного откупщика:
— Вот видите! Надеюсь, вы больше не сомневаетесь. Королева, которой я сообщила о ваших колебаниях, дважды кивнула, чтобы рассеять ваши подозрения.
— Приношу вам тысячу извинений; теперь я весь к вашим услугам.
Единственный свидетель этого разговора, Николя окончательно убедился в виновности госпожи Каюэ де Вилле. Вдобавок она знала о продаже флейты, украденной у короля Пруссии, что красноречиво свидетельствовало о существовании целого клубка интриг, которыми намеревались опутать королеву. Оставалось установить, кто служил посредником для этой женщины, ловко извлекавшей деньги из своих жульнических проделок. Внимание его отвлек пробежавший по рядам шепот. У входа появилась молодая женщина в роскошном платье; следуя вдоль вереницы придворных, она, приседая через каждые три шага, протягивала всем копилку для сбора пожертвований. Он узнал изящную фигурку и легкую походку Эме. Вечером, после игры, настанет черед королевы собирать милостыню в пользу бедных; по обычаю, в пост полагалось жертвовать только золото.
Неожиданно он понял неуместность подобных мыслей во время Божественной литургии. Отринув суету, он, как в детстве, принялся вслушиваться в слова молитв. Отражаясь под сводами, гимн salvum fac regem [68] вернул его к реальности. Думая о том, сколь велико расстояние, отделявшее величайшего в мире короля, на которого уповали стар и млад, от тех ничтожных людишек, что, подобно грязному вспученному болоту, окружали трон, он ощутил, как к горлу подкатила тошнота. Николя знал, что французский народ не только страдает, но и исполнен рвения. Интересно, что сказали бы подданные, живущие в городах и деревнях, если бы знали, какая угроза нависла над их королем, знали про плетущиеся вокруг него интриги? Интриги, напоминавшие гнусных змей, что извивались на пьедесталах под копытами бронзовых коней…
Осиянный ослепительным блеском королевской часовни, король мигал подслеповатыми глазками; переваливаясь с боку на бок при ходьбе, он был несовершенен и наделен множеством слабостей, но, несмотря на свою нерешительность и робость, он искренне хотел облегчить страдания измученного народа, и он, Николя, был тому свидетелем. Пробудившееся в душе чувство несправедливости побуждало его делать все для спасения короля, укрепляло руку и закаляло волю. Уверенность, что король рассчитывает на него, наполняло его справедливой гордостью, заставляя забыть всю преподнесенную ему жизнью горечь.
Что его ждет? Доказательства наличествовали, решения лежали на поверхности, пусть даже их, как и все, что приближалось к трону, следовало должным образом узаконить. В сущности, кто он такой, этот Луазо де Беранже, рвущийся вперед, позабыв об осторожности и предупреждениях? По окончании совета, причину созыва которого он все еще не мог понять, Николя предстояло дать отчет королю.
Королевская семья удалилась, толпа придворных покинула часовню следом. Он поторопился добраться до прихожей «Бычий глаз»; там его встретил Тьерри и, взяв под руку, повел через анфиладу комнат, зал совета, королевскую спальню, где когда-то он и Лаборд приняли последний вздох Людовика XV, салон часов… Пройдя еще две комнаты, они, наконец, очутились в королевской библиотеке, где царило молчаливое ожидание. Водрузив на нос очки, король сидел в дальнем конце комнаты и листал большую книгу, в которой Николя, обладавший ястребиным зрением, узнал «Путешествие вокруг света» Бугенвиля. Рядом с ним и впереди стояли в ожидании Морепа, Сартин, Верженн, Амло де Шайу и Мерси д’Аржанто. Можно держать пари, подумал Николя, чья преданность королю не исключала резких суждений о мелких недостатках его величества, что он не решается ex abrupto[69] приступить к сути вопроса, ради которого всех собрал.
— А! — воскликнул Людовик XVI, бросив на него дружелюбный взор. — Вот и наш дорогой Ранрей. Знаете ли вы, господа, что за время пребывания наших моряков с «Ворчуньи» и «Звезды» в Батавии болезни унесли гораздо больше жизней, нежели все путешествие! Это не только…
Как ни странно, именно Тьерри прервал цепочку географических рассуждений. И хотя он вполголоса обратился к королю, услышал его каждый. Стоя поодаль, Николя убеждался в справедливости слухов, утверждавших, что первый служитель королевской опочивальни набирает все больший вес.
— Сир, господин де Ранрей имеет сообщить вам новости, которые вашему величеству следует выслушать как можно скорее.
— Хорошо, — кивнул король, резко захлопывая книгу; судя по выражению его лица, ему очень не хотелось заводить предложенный ему разговор. — Итак, Ранрей?
Николя бросил выразительный взор на австрийского посла. Верженн тотчас понял его колебания.
— С вашего разрешения, сир. Ранрей, вы можете говорить в присутствии графа Мерси. Он, как и вы, безгранично предан королеве.
Николя решил просто изложить события, одно за другим. Несмотря на дар рассказчика, ему с трудом удалось избежать упоминания о признаниях королевы и найти объяснение своему интересу к поступкам госпожи Каюэ де Вилле. Он бегло изложил причины, позволившие сей даме приблизиться к королеве, и указал, сколь далеко сумели дотянуться коготки сей хищницы. Он напомнил о прошлом дамы, об обуревающем ее желании добиться милостей двора, куда ее не призывали ни происхождение, ни занятия. Он напомнил, каким образом она втерлась в доверие управляющего финансами королевы, господина де Сен-Шарля, через которого она доставала листы с привилегиями и распоряжениями, подписанные ее величеством, а потом изготовляла такие же и подделывала подпись королевы. Вооружившись ложью и подлогом, она ради личной выгоды писала милые дружеские письма и записки, ставя под ними подпись королевы. С помощью таких посланий она заказывала украшения, а потом предъявляла торговцам расписки от королевы, убеждая их, что она, действительно, пользуется расположением нашей повелительницы.
Под суровым взором короля он продолжал, искусно приближаясь к истине, однако не раскрывая ее и даже не намекая на двусмысленность поступков королевы. Наконец, подойдя вплотную к сегодняшнему случаю, он изложил его в шутливом тоне, не вдаваясь в подробности, дабы все сделали вывод, что стремление Марии-Антуанетты к нарядам и пребыванию на людях является следствием милой привычки приветствовать ликующую толпу. Стоя позади короля, Тьерри внимательно слушал рассказ, взглядом одобряя осмотрительность рассказчика.
— Вы, воистину, верный и преданный слуга! — прошептал Мерси на ухо Николя. — Императрице известна ваша преданность.
Тот понял, что посол знает все, что известно ему самому.
Король огорченно опустил голову.
— Однако, крайне неприятная особа! — обиженным, почти детским тоном произнес он. — Что вы на это скажете, господин посол?
— Позволю себе сказать и даже утверждать, сир, что происки этой женщины и ее интриги, которыми она опутала стольких людей, велят судить ее как преступницу обычным судом.
Ответом на его заявление была тишина. Король тоже молчал в нерешительности, затем обратился к Морепа.
— Сир, — ответил тот, прекратив выписывать тростью круги на ковре, — после ясного и подробного доклада Ранрея я задался вопросом. Да, эта женщина виновна и должна понести заслуженное наказание. Она злоупотребила именем, почерком и подписью королевы. Как ни сложно в это поверить, но, согласно законам этой страны, даже за один из вышеназванных проступков она заслуживает виселицы, но…
— Но что же? — спросил король.
— Но я бы вам не советовал, — ответил с неподражаемым движением головы старый министр. — В самом деле, чего мы достигнем? Что все будут трепать наше грязное белье? Что перед казнью сия особа настроит против нас чернь, и без того охваченную возбуждением и готовую в любую минуту взбунтоваться? Мы только что преодолели неимоверные трудности. Народ еще не успокоился окончательно, его безмолвие — это всего лишь спокойствие спящего зверя. Так не будем же будить его. Разве благоразумно бросать имя и репутацию королевы в пасть памфлетистам и пасквилянтам всех мастей? Их борзые перья и без того доставляют нам множество хлопот!
Мерси снова склонился к уху Николя.
— Похоже, он опасается, как бы его племянник, герцог д’Эгийон, не оказался замешанным в интригах этой де Вилле, сыгравшей немалую роль в возвышении дю Барри.
Николя с горечью слушал, с какой брезгливостью Морепа отзывался о народе. Он вспомнил свои размышления в часовне. Он никогда не сможет презирать людей из народа, с которыми ему в силу своих обязанностей приходится ежедневно разговаривать и находить взаимопонимание. Он чувствовал, что он и сам во многом такой же, как они.
— А вы, Верженн? — произнес король.
Министр сощурил крошечные, прячущиеся между двух валиков осененной ресницами плоти, глазки.
— Предав ее суду, мы больше потеряем, нежели выиграем…
— …так что лучше решить это дело в глубокой тайне, — завершил Сартин.
— А что думаете вы, господин Амло?
Министр поперхнулся, закашлялся и наконец собрался с силами.
— Я д-д-д-д… д-д-ду-думаю, сир, что я… с-с-с-соображаю. Есть с-с-с-свои… за и пр-р-р-р… против.
— Дурак! — прошептал Мерси.
Король открыл книгу и, казалось, погрузился в созерцание гравюры, изображавшей аборигенов Зондских островов. Затем столь же резко, как и в предыдущий раз, захлопнул ее.
— А что скажет Ранрей?
Не выразив удивления, все посмотрели на Николя. «Вот, — подумал он, — я снова наживаю себе врагов. Король часто следовал советам тех, кому предоставлял слово в последнюю очередь».
— Есть смысл принять во внимание его мнение, сир, — промолвил Морепа. — Моя жена считает его умелым переговорщиком, способным спасти провальное дело.[70]
Лица у всех вытянулись. Что хотел сказать своим выступлением почтенный ментор?
— Говорите, Ранрей, вы уже получили одобрение господина де Морепа.
— Я полагаю, ваше величество, что дело, действительно, крайне деликатное, скандальное и в то же время совершенно ничтожное. С одной стороны, в нем замешано священное имя королевы, с другой стороны, это имя будет упоминаться в одном ряду с именами мелких гнусных интриганов. Если ваше величество не возражает, искомую даму следует арестовать и посадить под замок. Конечно, публика, следуя пагубному пристрастию к секретам, сунет в это дело нос, начнет обсуждать, но через несколько дней она о нем забудет, появятся новые моды, другие новости, и никто даже не вспомнит об этой истории. Если же устраивать публичный процесс, всплывут возмутительные подробности, слетятся продажные перья Лондона и Гааги и в воздухе вновь запахнет заговором. Только в тишине мы сможем спокойно и навсегда вымести эту грязь.
Заключительную часть речи встретили глубоким молчанием; Сартин и Морепа подмигиванием выразили ему свое одобрение.
— Полагаю, — поспешил добавить Морепа, — Ранрей ясно и убедительно изложил мысль, которую мы все считаем справедливой. Не нужно приучать адвокатов к процессам, затрагивающим честь первых лиц королевства, они слишком хорошо запоминаются и публикой, и защитниками, и мелкой судейской сошкой. Пристальный интерес к делу, где затронута честь короны, может у кого угодно пробудить желание попастись на лужку, где растут лилии.
— Еще бы! — тихо вздохнул Мерси. — И в первую очередь у твоего племянника!
— Господин Амло, — проговорил король, выразительно поглаживая переплет книги, — прикажите немедленно арестовать вышеозначенную даму и поместить ее в секретную камеру в Сент-Пелажи.[71] Потом мы вас известим. Господина Каюэ де Вилле отправьте в Бастилию и держите там до тех пор, пока не прояснится его роль в этом деле или не будут предъявлены доказательства его непричастности. И, прошу вас, никакого шума. Да будет так.
Все направились к выходу; король знаком задержал Верженна, Сартина и Николя.
— До меня дошел слух, что некий ценный предмет, принадлежащий королю Пруссии, был подарен королеве моей теткой Аделаидой. Я хочу знать правду. Ранрей, вы распутали этот клубок?
— Все началось с того, что герцог д’Эгийон представил Бальбастру, обучающему ее величество игре на клавесине, прусского кавалера фон Иссена.
— Герцог д’Эгийон! — вздрогнул король.
— Означенный прусский дворянин рассказал о вещице Бальбастру, а тот предложил ее Мадам Аделаиде, которая как раз подыскивала подарок для королевы. На мой взгляд, самое странное в этом деле заключается в том, что авантюристка Вилле пыталась ввести в заблуждение Розу Бертен, модистку королевы, предложив ей поучаствовать в афере. Бертен, устав от ее хитростей, вежливо выпроводила ее за дверь. Это также… О, фон Иссен… вспомнил, при каких обстоятельствах я слышал это имя! Список иностранцев…
Все с изумлением уставились на Николя, стремительно листавшего страницы своей черной записной книжечки.
— Но мы знаем, о ком идет речь, — произнес Верженн, — о прусском агенте. Все говорит за эту версию.
— Тогда скажите мне, — ответил Николя, — какие у него могут быть дела с английскими агентами?
И, кончив листать, он прочел:
— …31 января. Господин Келли, иначе лорд Эшбьюри, глава английской разведки, встретился с прибывшим из Берлина кавалером фон Иссеном, подданным короля Фридриха.
— И что это значит? — спросил король.
— Что господин де Ранрей, — ответил Сартин, — прошедший хорошую школу, раскопал весьма животрепещущий факт, сир, а именно сговор между нашими противниками.
— Но почему флейту решили подарить именно королеве?
— Сир, — ответил Верженн, — Европа замерла в ожидании нашего решения относительно помощи американцам. Поддерживая вашу любовь к миру, все хотят знать, сколь долго мы будем размышлять, а каждый в отдельности хочет узнать первым, готовы ли мы сей мир нарушить. У Англии и Пруссии общие интересы. Оба заинтересованы в скандале, порочащем корону, ибо такой скандал наносит ущерб не только нашему королевству, но и рикошетом бьет по нашему союзнику Австрии. Видите, сколь сложную игру они затеяли. Предположим, что один из агентов английской разведки украл из Сан-Суси бесценную флейту, принадлежащую королю Фридриху. В Париже английские и прусские разведывательные службы сговариваются. Обходительность д’Эгийона… Попытки сбыть флейту через мошенницу Вилле и Розу Бертен провалились. Появляется Бальбастр, вполне подходящий для этой роли, а невинная простота Мадам Аделаиды довершает остальное. Ловушка расставлена и захлопнулась. При дворе ничего нельзя удержать в секрете: новость тотчас разносится по гостиным. Барон Гольц, дипломатический представитель его прусского величества в Париже, получает описание флейты, а об остальном узнает из слухов. Он открыто проявляет недовольство. Скандал вот-вот разразится. Ее величество оказывается замешанной в историю со скупкой краденого.
— А король Фридрих знает об этом? — спросил монарх.
— Скорее всего, нет. Такого рода дела проделывают в полнейшей тайне, и подробности не достигают ушей государей. Значение имеет только конечный результат.
— Да, — согласился король, бросив взор на Сартина, — мне кажется, это обычная практика, а потому, видимо, вы совершенно правы.
— Как бы там ни было, надо отражать удар. Но прежде скажите, где сейчас яблоко раздора?
— В наших руках, в надежном месте.
— Отлично, — с облегчением выдохнул Верженн. — Я приму барона Гольца и разыграю полнейшее удивление и непонимание; притворяться глупцом всегда так приятно! Я подробно, во всех мелочах распишу ему флейту, выбранную для подарка Мадам Аделаидой, и даже прикажу принести ее, чего он, разумеется, не допустит, ибо та флейта, о которой я стану рассказывать, нисколько не похожа на ту, которую он считает украденной. О, так она из слоновой кости? Вы говорите, из кости нарвала? Нет, нет, из кости слона. Трость? Скорее уж скипетр царька Анголы, привезенный каким-нибудь португальским купцом. А чтобы никому мало не показалось, мы намекнем, что представитель его прусского величества стал жертвой махинаторов, желающих вырыть ров между Версалем и Потсдамом…
Видя, как невозмутимый Верженн мимикой изображает разговор с Гольцем, король расхохотался.
— …возможно, он нам не поверит, но он попадет в положение, когда лучше тайно проиграть, нежели прослыть дураком. Только потом придется сделать так, чтобы сей предмет так или иначе вновь занял свое место в кабинете редкостей короля Пруссии. То, что сумел сделать агент иностранной разведки, сможет сделать и наш агент!
— Никто, — поспешно вставил Сартин, — не выполнит столь деликатную миссию лучше, чем Ранрей, сумевший раскопать подоплеку этого дела.
— Сударь, — ответил Николя, — я всегда к услугам его величества, но прежде мне надо уладить еще одно дело.
Сартин намеревался возразить, но король прервал его.
— Боги имеют разные мнения… Мы желаем, чтобы Ранрей пролил нам свет на события, о которых я беседовал с нашим начальником полиции и о которых вам, Сартин, следовало бы узнать первому; как только Ранрей будет в состоянии это сделать, он изложит все вам и господину Ленуару. А после посвятит себя этой злосчастной истории с флейтой.
И, в третий раз открыв книгу, он опустил глаза и более их не поднимал. Совещание завершилось. Как обычно, Верженн удалился стремительно, ни с кем не попрощавшись. Сартин, который, похоже, с трудом сдерживал возмущение, при выходе из зала опередил Николя.
— Наш с вами разговор еще не окончен, — бросил он, не оборачиваясь.
Николя кивнул.
— Я в вашем распоряжении, сударь. Ваш слуга, покорный и почтительный.
Глава XI ТЕАТР ТЕНЕЙ
Здесь смерть и истина Подъемлют факел свой. Бакюляр д'АрноПо дороге в Париж, забившись по привычке в угол фиакра, Николя размышлял. Он все еще пребывал под впечатлением военного совета, состоявшегося у короля. Какой путь пройден с той поры, когда он со своими ровесниками, сорванцами в деревянных башмаках, играл в суле на илистых берегах Вилена между Треигье и Пенестеном! Скромный от природы, он даже содрогнулся от сознания, что отныне своим привилегированным положением он обязан только себе, и никому иному; он перестал быть тенью, отбрасываемой то одним, то другим титулованным придворным. Думая о том, что нить, связывавшая его с Сартином, оборвалась, ему становилось горько. Собственно, это должно было случиться уже давно, но он не хотел смотреть правде в глаза, откладывая на потом выводы, которые ему очень не хотелось делать. Смерть покойного короля стала первым предвестником разрыва, в то время еще ловко маскируемого. Конец предыдущего царствования совпал для него с окончанием молодости. Неумолимое время разрушало его оборону, но теперь он стал зрелым мужчиной, и его тень вернулась к нему.
Вздохнув, он снова задумался о странном совещании в королевской библиотеке. Его поразило присутствие на этом совете посланца иностранной державы, причем в качестве одного из советников. Тут было над чем поломать голову. Приемлемо ли, что королева Франции пребывает под его опекой и едва ли ни каждый божий день прибегала к его советам? Какими бы приятными ни были его отношения с графом Мерси д’Аржанто, в глубине души он был уверен, что граф — австрийский шпион. Каким бы тесным ни был союз Франции и Австрии, ничто не было столь хрупким, как эти эфемерные дипломатические союзы, распадавшиеся при малейшем нарушении равновесия в отношениях между великими державами.
К требующим осмысления наблюдениям, сделанным во время совета, принадлежало и выступление Морепа. Сознавая, что здоровье его резко ухудшилось и многие давно хотят удалить его от дел, он не мог удержаться от того, чтобы не напомнить о своем ласковом и мягком диктаторском влиянии на молодого короля. Иногда казалось, что искушение выйти в отставку наконец победило, но самолюбие и жажда власти, пусть даже ограниченной, всегда одерживали верх над советами разума и рассудительности. Он боялся покинуть двор и оказаться непричастным к власти.
Верженн, привыкший существовать среди дипломатических интриг, поступал осторожно, неоднократно просчитывал возможные события, не интересовался мелочами и всегда выказывал себя верным слугой трона, не пытаясь и не желая подняться выше по властной лестнице. И потому, когда следовало разбираться в интригах подчиненных, помощи от него не было никакой.
О «малыше Амло» все сказано в куплетах, которые распевали о нем на улицах.
Николя снова вспомнил о Сартине. Мысли его, словно рука, что постоянно тянется почесать гниющую рану, все время возвращались к бывшему начальнику полиции. Он знал, что министр всегда двигался сразу несколькими извилистыми путями. Его привязанность к Шуазелю шла рука об руку со страстью к флоту, с помощью которого он жаждал расквитаться с англичанами за разгромный Парижский мирный договор. Он продолжал уповать на возвращение затворника из Шантелу. Эти две страсти побуждали его препятствовать восхождению новых звезд. Сейчас он, как некогда Тюрго, критиковал директора Бюро финансов Неккера; неустанно интригуя, дабы расчистить место для Шуазеля, ему в результате приходилось довольствоваться исключительно скудными кредитами для своего министерства.
Громкие вопли прервали размышления Николя: на подъезде к Парижу вереница экипажей застопорилась. Бледное солнце заливало мягким светом полуденный пейзаж. Опустив окошко, он высунулся наружу. Причиной оказалась обычная ссора, какими столь богат каждый день. Постепенно, преграждая проезд, вокруг образовалась толпа, всегда подозрительная в глазах полиции. Начавшись с зевак, сначала равнодушно, а потом все с большим интересом взиравших на участников драки, толпа постоянно прибывала любопытствующими и мошенниками; последние, пользуясь давкой и неразберихой, обчищали карманы и срезали часы и кошельки. Для вящего развлечения толпа разделилась на две партии, одна из которых пустила в ход кулаки; другая в долгу не осталась, и началась всеобщая потасовка. Благодаря легкому характеру парижан, который столь ценили иностранцы, подобные стычки считались своеобразным развлечением, и к месту происшествия немедленно стягивался самый разный люд: попрошайки, слепцы, калеки, мелкие воришки, пьяненькие солдаты и добропорядочные буржуа с семьями. Разносчики предлагали сухарики, печенье, вафли и фрукты на маленьких лоточках. В разношерстной толпе волнения вспыхивали и разгорались словно пакля.
Пока он раздумывал, толпа, смеясь и обсуждая последние события, уже рассеялась. Слова Морепа не шли у него из головы; внезапно ощутив мощный прилив любви и жалости, он в едином порыве захотел обнять этот огромный город вместе со всеми его жителями.
Добравшись до моста Руаяль, он отпустил экипаж: ему хотелось пройтись. Как всегда, когда требовалось привести в порядок запутанные мысли, ходьба становилась его лучшим помощником. Подчиняясь ритму шагов, мысли рождали новые подходы к запутанным расследованиям. Он дошел до набережной Гальри и порта Сен-Николя. Там он остановился и, присев на парапет, принялся наблюдать за кипевшей вокруг жизнью. Вымощенный камнем берег покато уходил в воду; всюду теснились тюки, ящики, тесаный камень и пустые бочки. В небо устремлялись загадочные силуэты подъемных механизмов, подпорок с укосинами, вертикально поставленных багров и шестов. Там и сям виднелись брошенные каретки для спуска тяжелых грузов. Две старые списанные клячи, запряженные в повозку, понурив головы, выискивали среди камней былинки соломы. В тростниковых и дощатых времянках обретались клерки, привычно носившие за ухом свое перо. Возле берега, на отмели, ожидали разгрузки плоскодонные баржи; несколько груженых судов упирались носом в стенку из габионов. На грязной, усыпанной соломой земле, усугубляя впечатление беспорядка, лежали якоря и прикрытые холстом бесформенные предметы. Отовсюду доносились крики, ругань и забористая брань носильщиков. Поденщики торговались при найме, разносчики, среди которых мелькал продавец кокосового молока, выкрикивали свой товар. Подняв глаза, он увидел лодки и лодочки, бороздившие бурлящую, с зеленовато-желтой водой реку; несколько яликов совершали челночные ездки с одного берега на другой. Пронзительные крики снующих над водой чаек добавляли зрелищу сходство с морским пейзажем. Переведя взор, Николя поразился, сколь непохожими были вымощенные камнем берега реки. На левом берегу, между Бурбонским дворцом и элегантной набережной Театинцев утопал в нечистотах порт Гренуйер, застроенный жалкими лачугами. Со стороны моста Руаяль, неловко борясь с течением, пытался пристать к берегу галиот Сен-Клу, привлекая взоры вышедших на воскресную прогулку парижан. Бросая взор все дальше влево, он видел лишь пышность и роскошь. Словно гигантская фреска, в синеватых предвечерних сумерках вытянулась перспектива: Лувр, павильон водокачки Самаритен, Новый мост, оконечность острова Сите, бронзовый всадник, стрела Сент-Шапель и за ней башни Нотр-Дам. От такой красоты у него захватило дух. Удлинившиеся тени напоминали о наступлении вечера, подкравшийся холод все больше давал о себе знать.
Продолжая свой путь, он вскоре затерялся в старых улочка острова Сите. Пройдя Новый рынок, он по улицам Вьей Жюиври и Пеллетри вышел к мосту Менял. Увидев ювелирную лавку, хозяин которой не соблюдал воскресный отдых, он зашел внутрь и долго беседовал с мастером. Когда он вышел из лавки, из темноты вынырнула какая-то девица, почти девочка, и вцепилась ему в рукав. Он осторожно высвободился. «Сударь, — произнесла она с выговором, присущим жителям предместий, — не откажите своей красавице!» Пройдя несколько шагов, он в недоумении остановился. Что-то в этой простой фразе было не так. Он остановился под первым же фонарем и, достав черную записную книжку, принялся лихорадочно листать ее. Ему показалось, что на него неожиданно снизошло озарение, на миг приподнявшее завесу тайны, и, придав всему непредсказуемый облик, поменяло местами выводы и указало путь к истине. Ускорив шаг, он быстро добрался до Шатле, где немедленно отправился в камеру к Эмманюэлю де Риву. Но, несмотря на письмо д’Арране, узник категорически отказался отвечать на его вопросы. Поднявшись в дежурную часть, Николя велел папаше Мари вызвать приставов. Вскоре из ворот старинной крепости выехали две кареты. Когда они вернулись, на город уже опустилась ночь. Из карет высадили двух узников и немедленно отвели их в одиночки.
Понедельник, 17 февраля 1777 года.
С самого утра Николя вышел на тропу войны: он провел долгий разговор с Бурдо, по окончании которого сияющий инспектор, словно на крыльях, вылетел из дежурной части. Затем, применив все свои дипломатические таланты, комиссар поговорил с Ленуаром. В конце концов генерал-лейтенант со всем согласился, однако последний шаг дался ему нелегко. В результате решили, что он немедленно отправится в Версаль и потихоньку предупредит короля о стечении обстоятельств и о срочности дела. Николя подсказал начальнику, какие слова следует сказать королю, весьма ревниво относившемуся к своему авторитету и в глубине души опасавшемуся, что секретная служба его покойного деда будет восстановлена без его участия. Цель маневра состояла в том, чтобы в шесть часов пополудни призвать министра морского флота и адмирала д’Арране на заседание тайного суда, не раз собиравшегося в прошлом под эгидой короля, и принять решения по делу чрезвычайной важности.
Остаток дня Николя в полном согласии с собственными мыслями ходил по городу. Он хотел освободить свой мозг от всего лишнего, дабы доклад его был особенно убедителен. Все же полностью успокоиться он не мог, ибо постоянно задавался вопросом об успехе миссии Ленуара. Он не жаждал взять реванш над министром, ни разу не поддержавшим его на протяжении всего расследования, но последнюю точку следовало поставить в его присутствии. Хитрый замысел, придуманный государственными лицами, оказался не только плохо подготовлен, но и стал причиной нескольких смертей. Своим молчанием и презрительным упрямством Сартин предпочитал разрубать гордиевы узлы, забывая, сколько раз под его началом комиссар не только распутывал узлы, но и заставлял воссиять истину.
Со слов каноника Ле Флока маркиз де Ранрей запомнил, что брать реванш можно только добрыми поступками. Обратившись к собственной совести, он немедленно обнаружил, что чем больше он старается забыть нанесенную ему обиду, тем больше гордость делает все для того, чтобы он о ней помнил. Ну вот, подумал он, теперь придется расследовать дело собственной совести. Когда же я избавлюсь от злосчастной привычки припирать самого себя к стенке и доводить до полного изнеможения и неуверенности? Когда же он, наконец, перестанет впадать из одной крайности в другую? Увы, беззаботное настроение явно не собиралось к нему возвращаться. Неужели он так и будет вертеться волчком на любой поверхности?
Когда он шел по саду Тюильри, размышления его были прерваны грубым смехом и громкими голосами. Четверо молодых людей прогуливались в окружении толпы зевак, которые, показывая на юнцов пальцами, отпускали непристойные шуточки. На одном из кавалеров был долгополый редингот из тонкого белого ратина, а на голове серая жакейская шапочка, отороченная длинным мехом и с козырьком из меха куницы. В руке он держал модную трость. Именно на него толпа обрушивала ругань и насмешки, видимо, полагая его наряд неуместным и смешным. Одни только смеялись, другие пытались ударить его по ногам тростью, чтобы он споткнулся и упал. Трое приятелей молодого человека удрали, оставив его один на один с разбушевавшейся толпой. Николя, издалека наблюдавший за этой сценой, увидел, как молодой человек нашел защиту у привратника, сидевшего возле ворот Фельянов. Вскоре юноша вышел: то ли привратник выгнал его, то ли он сам решил поскорее покинуть сад. Николя последовал за ним. Перейдя Пон-Турнан, молодой человек направился на площадь в надежде найти экипаж. Он лишился шапочки и трости, а его белый редингот пестрел пятнами от плевков и гнилых овощей. Сев в карету, он задвинул жалюзи, но толпа, которую кучер безуспешно пытался разогнать ударами кнута, вновь принялась оскорблять его и забрасывать огрызками, а некоторые даже попытались опрокинуть кузов. Возмущенный подобными выходками, Николя подозвал караульный патруль, в составе которого оказалось несколько всадников, и, сославшись на свою должность, велел обеспечить молодому человеку отступление. Проходивший мимо старый офицер, кавалер ордена Святого Людовика, присоединил свой командный голос к голосу Николя, попутно сетуя, что полиция и служба охраны порядка бесстрастно взирают на то, как толпа оскорбляет человека, повинного единственно в пристрастии к вычурности. Происшествие заставило Николя задуматься. Сколь же непостоянен народ, и как совершеннейший пустяк может изменить его настроение, сменить добродушие на жестокость! Внезапно он понял, что разлившаяся в воздухе угроза в любую минуту может собраться в губительную штормовую волну, и ему стало не по себе.
Погода, как и его настроение, изменилась в худшую сторону. Легкий ветерок уступил место яростным порывам ветра. Свет, с трудом пробивавшийся сквозь наползавшие с запада свинцово-черные тучи, исчерчивал иссиня-зелеными полосами крыши и каминные трубы. Внезапно началась метель, быстро превратившая улицы в потоки грязи. Изменения, происходившие в природе, никогда не оставляли Николя равнодушным. Привыкнув вслушиваться в тайный голос природы, он отметил, что в решающие моменты его жизни всегда шел снег. И хотя он вырос на берегу океана, среди песчаных равнин и лесов, он не знал, как назвать этот голос, всегда вызывавший в нем вопреки разуму чувство подавленности. Неужели он был связан с тайной его рождения? Неожиданно возникшая мысль о матери породила в нем ощущение пустоты. Однако он прекрасно понимал, что его внутренние терзания являются следствием вынужденного разрыва с Сартином. Их особым отношениям пришел конец, и он чувствовал себя осиротевшим во второй раз. Крупные хлопья снега падали ему на лицо, и он надвинул треуголку до самых глаз. Вспомнив, как Сартин поддерживал его на протяжении многих лет, он почувствовал, как тесно переплелись в их отношениях добро и зло, и разделить их, не порвав саму ткань, невозможно. И в глубине души сознавал, что, не выдержав злопамятности Сартина, ткань порвется сама собой.
В Шатле он вернулся успокоенный и уверенный в себе. Бурдо отправился на встречу. Вскоре появился Ленуар; судя по обострившимся морщинам на лице, его обуревали дурные предчувствия. Отведя Николя в сторону, он сообщил: бой был упорным, король изо всех сил уклонялся от ответа и уводил разговор в сторону. Он отказывался отдавать приказы и пытался переложить решение на Морепа; в конце концов он все же разрешил призвать на суд Сартина, но поручил это сделать злосчастному Ленуару. С тяжелым сердцем тот явился к министру и, выслушав множество яростных упреков, сумел убедить его подчиниться. С адмиралом дело обстояло примерно так же. Тут Ленуар расхохотался и заявил, что теперь он обязан подарить Сартину парик, но выбор он поручит Николя как имеющему большой опыт в этом деле. По его словам, это единственный способ восстановить мир.
Когда вернулся Бурдо, Николя справился у него об узниках. Их уже доставили, и они, под надежной охраной, раздельно друг от друга, ожидали начала суда. Он напомнил Бурдо, что по условленному знаку ему предстоит внести улики, дабы фактами подкрепить его слова.
Из-за нападавшего на Версальскую дорогу снега Сартин и адмирал прибыли с получасовым опозданием. Министр холодно приветствовал собравшихся. На нем был хорошо известный Николя старый черный фрак, отнюдь его не молодивший, но зато напоминавший о его прежней должности городского магистрата. Д’Арране надел парадный адмиральский мундир. При виде его Николя задался вопросом, отчего лицо адмирала багровеет больше, чем обычно? Причиной тому холодная погода или жар предстоящей словесной баталии?
В просторном кабинете с готическими сводами, где в камине весело потрескивали толстенные поленья, министр тотчас устроился за своим прежним столом, расправив кудри своего модного короткого парика. Адмирал сел справа от него, опершись спиной о шкаф. Бурдо, готовый выполнить любую просьбу Николя, занял место возле двери. Ленуар, видимо, желая показать, кому достались его симпатии и поддержка, подошел к камину и сел в кресло рядом со стоявшим Николя. Наступило долгое тягостное молчание, наполненное множеством задних мыслей, обуревавших всех перед началом заседания.
— Если вам угодно, мы можем начинать, — произнес начальник полиции, обращаясь к министру.
— Не будем терять времени, — ответил Сартин, откидываясь на спинку стула. — Раз мы явились сюда по воле короля, выслушаем, что должно выслушать, но понимая, что все, без исключения, сказанное здесь, должно быть…
— …сохранено в глубокой тайне.
Николя почтительно завершил его фразу, не дав Сартину ни единого повода придраться к нему. Министр лишь поджал губы и молча кивнул.
— Сударь, семнадцать лет назад вы оказали мне честь, приняв меня на службу в полицию его величества, от вас я получил множество разумных советов, которые я никогда не забуду и которым я всегда старался следовать. Речь шла о правосудии и правилах, кои необходимо соблюдать, невзирая на обстоятельства. Я постоянно об этом помнил, а когда мне случалось усомниться, вы снова повторяли их для меня. Во имя этих принципов сегодня я прошу вас выслушать меня.
— Опять выслушать, — недовольным тоном бросил Сартин. — К чему эта проповедь? Неужели нас пригласили выслушивать выспренные речи, да еще в исполнении вас, Ле Флок?
— Сударь, сегодня эта речь в честь вас, я составил ее, желая напомнить, на чем основана моя деятельность как полицейского магистрата и что я усвоил, работая с вами. Судите сами, господа, разве мы можем угадать цвет, если не знаем о его существовании?
— Ладно, ближе к делу и подальше от фантасмагорий. К чему это предисловие в духе Альберта Великого?[72] Кстати, предваряя ваши своеобычные рассуждения, напомню, что Альберт писал также и о цветах радуги!
Всеохватность знаний Сартина, плод долгих часов, проведенных в обществе книг из собранной им великолепной библиотеки, всегда восхищала Николя.
— Представьте себе, господа, — не смутившись, продолжил он, — что этот кабинет в Шатле совсем не такой, каким вы его видите…
— Николя, — ласково произнес Ленуар, — вы хорошо себя чувствуете? Ваши слова невозможно понять.
— Невозможно понять? Невозможно с вашей точки зрения. Господа, в интересующем нас деле одни видят специально разработанную, но, к сожалению, провалившуюся операцию; другие, а именно я, Бурдо и все те, кто обычно помогает нам, видят клубок преступлений, который, впрочем, легко распутать, если посмотреть на него под другим углом.
— Опять уходит от поставленных вопросов, — воскликнул Сартин и так громко хлопнул ладонью по столу, что парик на нем перекосился, придав его суровому лицу уморительнейшее выражение.
Николя с трудом сдержал рвущийся наружу смех. Что ж, отметил он, комедия часто сочетается с трагедией и серьезные минуты нередко прерываются взрывами смеха.
Снова раздался голос Сартина:
— Он продолжает гнуть свое, и, без сомнения, сейчас мы услышим и о волшебных фонарях, и об оптических картинах, что показывают на ярмарке в Сен-Лоран, к великой радости простонародья. Моя осведомленность основана на фактах.
— Ваша осведомленность? Множество сведений, что обрушивается на вас, сударь, хоронит под собой истину. Давайте вспомним канву событий, собравших нас здесь, и быстро перечислим известные всем факты. Но прежде о делах государственных. Вы, сударь, поручили адмиралу д’Арране создать бюро по сбору сведений об английском флоте. Адмирал быстро выявляет, что основной проблемой является не оснащенность артиллерией и не конструкция наших кораблей, вызывающая восхищение самих англичан, а вычисление долготы, вопрос, интересующий всех мореплавателей без исключения. И вы решаете отправить в Альбион Троянского коня. Каким образом? На неизвестных мне условиях, в сущности значения не имеющих, молодой способный часовщик, рожденный в семье бежавших в Англию гугенотов и охваченный тоской по утраченной родине, позволяет уговорить себя отправиться во Францию в учение к мэтру Леруа.
— Давайте, не затягивайте, — произнес Сартин.
— Я напоминаю об этом, чтобы подойти к вопросу о ходиках и морских часах. Затем, при обстоятельствах, мне неизвестных…
— Боже, сколько неизвестных!
— Достаточно того, сударь, что эти обстоятельства организованы вами. Так вот, как я уже сказал, при обстоятельствах, мне неизвестных, к часовщику привлекают внимание англичан. После заключения мира, а главное, после восстания в американских колониях Париж буквально наводнен английскими шпионами. Перед носом у тех, кто за ним наблюдает, размахивают должным образом составленными письмами молодого человека, из которых можно понять, что он готов обратить свой талант против тех, на кого он сейчас работает. Неожиданно быстро возникает слух о его предательстве, во весь голос кричат о шпионаже, молодого человека арестовывают и помещают в Фор-Левек, что весьма неосмотрительно, ибо любой может задаться вопросом, почему субъекта, подозреваемого в шпионаже, сажают в столь жалкую тюрьму? На деле его помещают туда именно потому, что эта тюрьма отнюдь не является неприступной крепостью. С воли в тюрьму доставляют средства для побега. 8 февраля этого года он готов бежать, его ждут, он выдергивает несколько железных прутьев из оконной решетки, затем привязывает свитую из простыней веревку и начинает спускаться вниз. Все ясно и понятно. Но когда он находится на середине пути, простыни обрываются и он падает. Это падение затмило все остальные факты, о которых никто никогда бы не узнал, если бы в тот вечер я случайно не проходил мимо.
— Ну вот, я все ждал, когда же появится deus ex machina! Вам следовало бы отправляться на Парнас, там вы бы снискали успех с вашими сказками и баснями, господин сеятель трупов.
— Сударь, ваши насмешки ни к чему не приведут, ибо ваш часовщик был убит. Простыни, которые постепенно передавали заключенному, были пропитаны кислотой, истончающей ткань и делающей ее непрочной. Упав с высоты, он сильно разбился, однако не умер. Его прикончили ударом трости или окованной железом палки. Процедура, именуемая вами похоронными манипуляциями, это подтвердила. А так как жертва, видимо, что-то заподозрив, оставила в углублении стены своей камеры записку, то мы, расшифровав ее, узнали его имя и его причастность к поискам способа определения долготы. Да, сударь, если бы в тот вечер случай не задержал меня в дежурной части и не привел на улицу Сен-Жермен-л'Осеруа, вряд ли бы записку обнаружили. Одно ваше слово, сударь, могло бы ускорить наше кропотливое расследование.
— Господин комиссар, — произнес Сартин, дергая рукой, словно отгоняя последнюю фразу Николя, как назойливую муху, — бывает, что зола, используемая для стирки, портит белье. Что же касается убийства нашего человека, то здесь следует принять во внимание некое обстоятельство. Он бежал, англичане ждали его. Раненый часовщик, способный заговорить, представлял собой угрозу, значит, ее надо было как можно скорее устранить.
— Возможно, сударь, вы и правы. Немногим ранее, на вышеуказанной улице я поравнялся с каретой явно какого-то знатного лица. Сидевший в ней человек в маске увидел меня и узнал; я тоже узнал его. Это был лорд Эшбьюри, который, как нам известно, сейчас находится в Париже для совещаний с лордом Стормонтом, полномочным представителем Англии при его величестве.
— Превосходно! Закроем главу. Наконец мы пришли к согласию. Собрание, как я и предполагал, оказалось бесполезным, и нечего было тормошить короля по столь бессмысленному вопросу! Мои поздравления комиссару, проявившему своеобычную прозорливость в крайне простом деле. Идемте, адмирал, не станем придираться к мелочам, приказываю трубить отбой. Нас ждут серьезные дела. Ваш слуга, господа. Не стоило беспокоить нас по таким пустякам! Этот Ле Флок неисправим. Ленуар, его надобно сдерживать.
Натягивая на ходу шубу, он тронулся к двери. Но тут раздался мягкий и хорошо поставленный голос Ленуара.
— Боюсь, сударь, что изложенные сейчас факты являются лишь прологом к тому, что маркиз де Ранрей должен изложить вам по поручению короля.
— Сударь, давайте перейдем ко второй части. Те, кто старался установить личность жертвы, наши люди, бывшие ваши люди… оказались объектом действий, недопустимых между членами одной… семьи. Кроме того, верный и честный подданный его величества, своим талантом…
— Ерунда! Какой-то мазила, да вдобавок кутила и развратник!
— …подвергся нападению в собственном доме, его картины были уничтожены, а жилище разгромлено…
— Довольно, сударь, довольно! После пребывания в очаровательном загородном доме этот субъект ос… доставлен к нему домой. Его щедро вознаградили.
— Этим вы, без сомнения, хотите сказать, что ему полностью возместили ущерб и извинились за причиненное насилие?
— Я сказал то, что сказал, каждый понимает как хочет. Дело улажено, оставим его.
— Как вам угодно, сударь. Осталась еще его любовница, модель по прозвищу Киска; стоило ей сбежать из дома Лавале, как ее начали преследовать. Те, кто похитил ее покровителя? Возможно. Или кто-то иной? И это не исключено. Или одни, или другие.
— Ну вот, нам снова предлагают ярмарочные фокусы! — воскликнул Сартин; он явно не собирался сдаваться.
— Нисколько! Но по мере углубления в лабиринт стечения обстоятельств, напоминающих вихри Декарта, становятся значительно запутаннее. Представьте себе подвижные частицы, которые сталкиваются друг с другом, сжимаются, разжимаются, отталкиваются и наконец взрываются.
— А дальше?
— Дальше? Подхваченная вихрем, маленькая частица Киска рассталась со своей коротенькой жизнью, ваш слуга едва не расстался со своей, не говоря уж о синяках и шишках несчастного эстамписта.
— Вы с вашей жалостью смешиваете бесконечно великое с бесконечно малым. Горе тем, кто пошел по пути, на котором он не может удержаться. Довольно об этом. Куда теперь вы намерены нас завести?
— Прежде всего покарать убийцу несчастной девицы, найденной во рву возле Инвалидов с пулей между глаз.
— Закутанную, как мне сообщили, в ваш плащ…
— Могу я, сударь, просить вас разъяснить, что вы этим хотите сказать?
Адмирал д’Арране попытался вмешаться, но Ленуар опередил его.
— Ничего, Николя. Министр просто вспомнил важную для следствия деталь, которая, без сомнения… Расскажите об удивительных вещах, найденных вами на месте преступления.
Сартин выругался и так сильно ударил кочергой по прогоревшим поленьям, что они рассыпались целым веером искр; покатившись по полу, несколько угольков докатились до ковра. Не дожидаясь, пока ковер затлеет, Бурдо подскочил и, предварительно затоптав, вылил на уголья кувшин воды. Происшествие разрядило напряженную атмосферу. На улице бушевал ураган. Ветер с воем проносился по пустынным коридорам крепости, сотрясая тяжелые двери.
— Мы еще вернемся к плащу, — ответил Николя. — Пока скажу только, что за его подкладкой нашли две английские гинеи.
— Несоразмерное вознаграждение одного из тех богатых английских путешественников, которых столько развелось в Париже после заключения мира.
— В нашем случае надо отстраниться от видимости, чтобы понять смысл находки. Но и к ней мы еще вернемся. Сейчас мы вступили в самую запутанную часть лабиринта. Вернемся назад, а потом попробуем продвинуться вперед. Отправимся к господину Леруа, королевскому часовщику, в его мастерскую на улице Арлэ. Окружение часовщика составляют его крестница, Аньес Генге, его работник Депла, заморский ученик Франсуа Саул Пейли и, наконец, лейтенант морского флота Эмманюэль де Риву, почти каждый день появляющийся у него в доме. Все на виду. Входят, выходят, болтают, смеются. Какие слухи, какие шпионы! И мы понимаем: именно так и должно быть. Это та самая приманка, что бросают в реку для привлечения рыбы.
— Значит, мы слепцы! — бросил Сартин.
— Давайте рассмотрим положение хорошенькой молодой женщины в окружении трех молодых людей. Это положение искры, поднесенной к труту. Кто может поручиться, что женские чары не сыграют свою роль? Полиция, сударь, та самая, которая благодаря вам стала лучшей в Европе, знает свою задачу. Когда надо докопаться до истины, в ход идут и хитрости, и содействие осведомителей. Полиция выполнила свою работу, выяснив, что происходило в непримечательном доме на улице Арлэ до прибытия Пейли. В то время мадемуазель Генге тайно состояла в любовной связи с Арманом Депла. Неожиданно появились англичанин и морской офицер; обаяние вновь прибывших, вкупе со свойственным мечтательным женщинам пристрастием к авантюрам, заставило девицу дать отставку ремесленнику. Подумать только! Настоящий шпион и настоящий моряк! И случилось то, что должно было случиться.
— О господи, что могло случиться, чтобы решительным образом повлиять на интересующий нас вопрос? — проговорил Сартин, вернувшийся на прежнее место за рабочим столом.
— Она уступает ухаживаниям молодого англичанина и, чтобы дать отставку Депла, флиртует с Риву.
— И вам этого достаточно для…
— Я всего лишь констатирую факт, имеющий значение для обитателей дома на улице Арлэ. Можно вообразить себе все, включая враждебные чувства обоих героев по отношению к третьему. Можно даже предположить, что они вступают в сговор, отложив на потом выяснение отношений между собой. Это одна из гипотез.
— На чем основаны ваши утверждения? — спросил адмирал, явно намеревавшийся отстаивать репутацию подчиненного ему офицера. — Какие у вас доказательства, что интрига, действительно, существовала?
— Никаких доказательств. Признаки и предположения. Впечатления.
— Впечатления! Значит, вы собрались убеждать нас впечатлениями, — бросил Сартин.
— Да, сударь, и самыми интригующими. Отправимся в дом к Арману Депла, работнику Леруа. В его жилище, в ящике, мы нашли спрятанные под бельем слепки ключей; мы отнесли их к слесарю, и тот сделал нам два ключа, один из которых оказался ключом от входной двери квартиры лейтенанта Эмманюэля де Риву, а другой — ключом от его шкатулки.
— Вы допросили Депла?
— Разумеется. Он утверждает, что сделал ключи по просьбе офицера, который подтверждает его слова. Часто забывая свои ключи, Риву якобы просил Депла изготовить копию. В упомянутой нами шкатулке мы обнаружили любовную переписку мадемуазель Аньес Генге, крестницы Леруа, с Франсуа Саулом Пейли.
— Совершенно очевидно, он пожелал ее сохранить, чтобы не оставлять следов…
— …того, что следует держать в секрете? Действительно, это самое простое объяснение, столь простое, что Риву сам дал мне его. Каким образом он мог завладеть этой перепиской?
— Процесс на основании предположений.
По мере того как Николя излагал этапы расследования, он проникался уверенностью, что Сартин не намерен дать себя убедить. Прежде он не раз вел себя подобным образом, упрямо не соглашаясь ни с логически обоснованными доводами, ни с кричащими фактами. Эта игра, в которой он, выступая в роли адвоката дьявола, подталкивал Николя к краткости, дабы поскорее прийти к сути, вошла у них привычку. Но сейчас иной случай. Язвительные слова Сартина звучали откровенно враждебно, что немало удивляло присутствовавших при этом адмирала, Ленура и Бурдо. Будоража воспоминания прошлого, инспектор с горечью наблюдал, как, слово за словом, происходит разрыв между бывшим начальником и подчиненным.
— Это еще не все, сударь, мы сделали и другие открытия. В частности, оказалось, что синий форменный плащ сначала размножился, потом исчез, а потом удвоился. В первый раз его видят в Фор-Левеке, когда туда привозят Пейли, затем еще три раза там же, потом в доме Лавале и, возможно, даже в Вожираре, когда исчезла Киска… От плаща отрываются пуговицы, одну находят под трупом Пейли на улице Сен-Жермен-л’Осеруа, другую вырывает Киска. Та, что оторвалась от плаща, найденного у Риву, заинтересовала меня особенно. Пуговица же, найденная под трупом Пейли, доказывает, что ее оторвали и бросили до прихода караульных. В плаще лейтенанта мы тоже находим английскую гинею… В итоге: исполнитель замысла, лейтенант флота Эмманюэль де Риву оказывается обнесенным частоколом из вопросительных знаков. Наконец…
— Что еще?
— Риву передает часовщику Леруа предполагаемое послание Пейли, хотя к этому времени Пейли уже мертв.
— Само собой разумеется, — изрек Сартин. — Надо было замять его злополучное исчезновение и сохранить тайну.
— Не думаю, что это разумелось само собой, — отважился произнести Ленуар. — На мой взгляд, столь деликатному делу более пристали тишина и тайна. Зачем напоминать о человеке, который уже умер?
— А что ответил Риву? — спросил д’Арране.
— В сущности, ничего; несмотря на ваше дозволение, он отказался отвечать.
Слишком поздно сообразив, что он допустил бестактность, Николя прикусил губу.
— Так! Все хотят перебежать дорогу.
— Сударь, мне казалось неизбежным… — начал адмирал, с упреком взглянув на Николя.
— Бесполезно, ни слова больше. Мы прекрасно понимаем, что нас хотят запутать. Привыкнув всегда быть правым, Ле Флок ощутил себя непогрешимым и принимает желаемое за действительное. Его воображение несется вперед, а факты отстают.
— Это еще не все, — холодно продолжил Николя. — Риву попадает под подозрение. Он имел возможность подстроить ловушку, дабы Пейли сломал себе шею. Им может руководить ревность.
— Согласен, — произнес Ленуар. — Однако, дорогой Николя, если считать, что он влюблен в Аньес Генге, зачем передавать записку, доказывающую, что англичанин жив, и тем самым питать надежды девушки?
— Ставим вопрос по-иному. Какой ему интерес так поступать? В этом деле каждая составляющая его часть находится не на месте. Поэтому есть и другие подозреваемые. Попробуем проанализировать поведение Армана Депла и, невзирая на объяснения Риву, задуматься о найденных у него дома восковых слепках. Ибо во второе посещение жилища Депла мне удалось обнаружить еще кое-что. Сейчас мы увидим.
Бурдо внес серебряный поднос, на котором лежала пуговица от мундира и маленькие листочки бумаги, пронумерованные и сложенные пополам. Ставя поднос на стол, инспектор загасил факел.
— Какой неуклюжий! — воскликнул Сартин.
Бурдо забрал факел, собрал расставленные по углам свечи и с довольным видом водрузил все на каминную полку. Теперь камин стал единственным источником света.
— Пусть приведут Депла, — приказал Николя.
Инспектор открыл дверь. В полумраке вошел человек в форменном плаще и треуголке.
— Я же говорил, что его ужимки ни к чему не приведут, — фыркнул Сартин. — Надо было тщательнее продумать представление, господин комиссар. Призывают Депла, а появляется Риву. Конечно, когда рассчитываешь на неожиданность, провал неизбежен.
— Вы так думаете, сударь? Как говорит ваш друг, аббат Галиани, человек создан для того, чтобы наслаждаться результатом, а не выискивать его причины.
— Не упоминайте тех, кто уехал из Парижа, когда вы только что прибыли в столицу.
— Я не господин Риву, — произнес вошедший.
— Довольно, — бросил Сартин, — шутка затянулась!
— Он говорит правду, я знаю своих офицеров, это не голос Риву.
— Адмирал прав, — промолвил Николя, — я всего лишь хотел показать вам, как из мрака выплывает истина.
— Снимите ваши сапоги и можете удалиться.
Когда приказ был выполнен, Николя взял один сапог и вытащил из него толстый кожаный подпяточник.
— Вот еще улика, найденная в доме Депла. Как можно увеличить рост? Будучи невысоким, он придумал вот такую штуку и, как мы только что убедились, сумел ввести всех в заблуждение. Обман разрушил только голос. Следовательно, ему ничего не стоило провести тех, кто не был близко знаком ни с ним, ни с лейтенантом. Посмотрите на них, они очень похожи. Тот же цвет глаз, тот же профиль, особенно если надеть соответствующий парик; все сходится, кроме роста. Но зачем, имея в распоряжении гардероб Риву, ему понадобилось увеличивать свой рост? Зачем этот маскарад? Мы снова попадаем в область загадок.
— В чем вы хотите нас убедить? — спросил адмирал.
— Я думаю, что Депла и есть тот самый человек, с помощью которого Франсуа Саул Пейли вступил в отношения с англичанами. Думаю, это он несколько раз появлялся в камере узника Фор-Левека, возможно, даже с согласия Риву; он приносил ему еду и, скорее всего, обработал простыни кислотой, которую легко найти в любой часовой мастерской. Предполагаю, что страстно влюбленный Депла придумал способ избавиться от Риву, подложив под труп форменную пуговицу и таким образом скомпрометировав его. Он хотел устранить второго соперника в борьбе за благосклонность Аньес Генге.
— Какое буйное воображение, — проговорил Сартин. — Я отказываюсь понимать! Только что вы утверждали, что Риву находится под подозрением и все говорит в пользу его виновности. Будьте же последовательны хотя бы в словах!
— Но вы забываете об убийстве Киски.
— О! Зачем нам вообще эта девица?
— Ее нельзя устранить. Девица, погибшая ужасной смертью, является лишней частью головоломки. Дополнительным кусочком вырезанной бумаги.[73] Куда нам поместить его?
— Полагаю, вы нам объясните.
— Несомненно, чтобы вам стало понятно, сударь. Предположим, Киска не имеет никаких отношений с подозреваемыми. Это исходная точка. Поначалу она оказывается причастной к делу исключительно как любовница Лавале. Не зная истинных причин похищения художника, я бросаюсь на поиски сбежавшей Киски. Поверьте, сударь, мне не верится, что ваши люди преследовали ее и убили; значит, надо найти мотив убийства, равно как появления английских гиней как в плаще Риву, так и в плаще, бывшем на Киске в момент ее гибели. И снова прямые факты свидетельствуют против нашего офицера. Я заранее знаю, что вы скажете, но это ни к чему не приведет. Быть может, вы правы с одной точки зрения, но если посмотреть на дело иначе, перспектива изменится.
— Ну, что я говорил! Ле Флок в роли фокусника на ярмарке Сен-Лоран, в окружении праздного любопытного народа. Он ставит на треногу волшебный фонарь, манипулирует линзами, вращает зеркала и, ослепляя нас, зажигает свечи. Была не была, вот вам иллюзия!
— Сударь, — презрев насмешку, продолжил Николя, — с вашего разрешения, мы выслушаем лейтенанта морского флота Эмманюэля де Риву.
Сартин снова помахал рукой, словно отгоняя мух. Бурдо ввел офицера; тот выглядел бледным и удрученным.
— Сударь, — начал Николя, — прошу вас ответить на вопросы, которые я должен вам задать от имени его величества и в присутствии ваших начальников.
Молодой человек безжизненным взглядом посмотрел на комиссара.
— Я не могу ничего сказать.
— Не молчите, Риву, — командным голосом произнес адмирал, — надо говорить, мой мальчик, рассказать все, что вам известно. Маркиз де Ранрей вам не враг. Он всего лишь ищет истину.
— Возможно, вам трудно ее выразить? — ласково подсказал Николя. — Я мало вас знаю, но мне кажется, что я читаю в вашей душе. Вы хотели как можно лучше выполнить задание. Когда я спросил вас о Киске, я почувствовал, что вам пришлось пойти против собственной порядочности. Ваше ледяное презрение, пробудившееся столь стремительно, насторожило меня. Оно не соответствовало вашей натуре. Я долго думал. Дворянин, офицер не может с такой злобой говорить о молодой женщине. Ваше поведение не соответствовало вашему характеру. Стараясь сыграть как можно правдоподобнее, вы не удержались и воскликнули «Бедняжка!» Сколько жалости прозвучало в этом слове! Ваша спальня, сударь, ее строгая и скудная обстановка, навела меня на мысль, что вы не из тех мужчинам, которые легкомысленно относятся к любимым женщинам.
— Что он такое говорит?!
— Да, сударь, в этом государственном деле тесно переплелись любовь и смерть. Слово, вылетевшее среди потока брани, можно объяснить только сильными чувствами. Во время похищения Лавале Киска не вырвалась из рук нападавшего, он сам позволил ей бежать. Она сопротивлялась для виду и укусила его для вящей убедительности. А ведь еще имеется записка, доставленная Риву, чтобы доказать, что Пейли жив! Как, однако, все запутано! Куда мы пришли? Кто кого обманывает? Все смешалось, усложнилось, окуталось мраком. Эмманюэль де Риву, говорите! Я сомневаюсь, что вы знали о письмах Пейли, найденных у вас в шкатулке, но там наверняка лежало нечто, относящееся к Киске. Вы разволновались, когда я открыл шкатулку, и успокоились, когда я сказал вам, что там всего лишь письма. Сударь, я убежден, все было подстроено с целью скомпрометировать вас.
Словно уличенный в обмане подросток, офицер опустил голову. Николя подумал, что Риву не намного старше короля.
— Сударь, — произнес Риву, — прошу меня простить; я думал, что смогу сам распутать это дело. Вы угадали, Киска была моей возлюбленной. Серьезная и непростительная неосторожность с моей стороны. Я осмелился… Уверен, Депла об этом знал.
В каком воображаемом мире жил этот мальчик, задумался Николя. Многие его ровесники и равные ему по званию без малейших угрызений совести проделывали гораздо худшие вещи. Без сомнения, это результат воспитания янсенистов. Скудная обстановка спальни офицера побудила его вынести правильное суждение о его характере.
— …Мне известно меньше, чем комиссару, но я отказывался говорить, потому что опасался раскрыть…
— Наконец-то! — вздохнул д’Арране. — Как видите, вне службы молодой человек ведет вполне пристойную жизнь. Продолжайте.
— Слушаюсь, адмирал. Я был убежден, что попал в ловушку и что Пейли заплатил жизнью за какие-то темные интриги, что плели вокруг него загадочные заговорщики. Но я не мог разглядеть границ этого заговора.
— Что ж, сударь, вас не в чем упрекнуть, разве только в излишней щепетильности, которую возраст и опыт непременно убавят. В этом отношении искренность гораздо более привлекательна, нежели ложь… Но продолжим. Зачем вы написали и отправили Леруа записку с того света? С какой целью?
— Увы, зная о трагической участи Пейли, я решил, что записка заставит виновного обнаружить себя. Словно камешек, брошенный в воду.
— И каков результат?
— У меня не было времени осведомиться, ибо меня арестовали.
— Возможно, я спас вам жизнь, но вы, без сомнения, скомпрометировали Киску. Ваше послание заставило кого-то заподозрить, что вы знаете больше, чем на самом деле, а ваша связь с Киской, которой вы позволили бежать, убедила его, что она что-то знает.
Офицер выглядел подавленно.
— Вот именно: кого-то! — проворчал Сартин. — Опять только предположения! Ваша речь напоминает восточную сказку. Что вы еще хотите сказать?
— Вернемся к Пейли. Кто его убил? Мы приближаемся к истине.
— Сударь, — произнес Риву, — теперь я могу сказать, что Депла, изображавший трактирного слугу, носил Пейли еду в камеру.
— Конечно, — задумчиво изрек адмирал, — мы могли бы пустить все на самотек и подождать, пока англичане попытаются перехватить перебежчика. Но тогда нам пришлось бы иметь дело с таким множеством людей, что мы предпочли сами предоставить ему все необходимое для побега. Депла, действительно, передавал сведения англичанам, оставляя свои послания в полой части колонны в церкви Сен-Пьер-о-беф, что возле Нотр-Дам. И еще: именно Депла поручили занять пост возле тюрьмы и незаметно проследить за операцией.
— Надо снова допросить его. Был ли он безвольным инструментом или?..
Бурдо ввел Депла — уже без офицерского плаща.
— Господин Депла, мы в курсе доверенных вам миссий. Настал час признаний. Полагаю, вы достаточно умны, чтобы не принимать нас за дураков и не лгать нам. В вечер побега вы наблюдали за заключенным, это подтверждают все присутствующие здесь. Что вы видели?
— Я не сумел найти фиакр, а потому немного опоздал. Прибыв на место, я устроился в укромном углу. Тело уже лежало на улице. Я с трудом различал его: фонари не горели…
— И понятно почему, — заметил Николя, бросив взгляд на Сартина.
— …тело не шевелилось. Неожиданно появился господин де Риву, в мундире и плаще. Осторожно двигаясь вдоль стены, он подошел к телу, огляделся, видимо, опасаясь случайных прохожих, затем вытащил шпагу и погрузил ее в тело несчастного Пейли.
— Врешь, мерзавец! — воскликнул Риву, рванувшись так, что Бурдо с трудом удержал его. — Обвинять меня в убийстве, когда я могу доказать, что…
— …что он был в Версале, — докончил за Риву Сартин, — где в указанный час я принимал господина де Верженна.
— Спокойствие, — промолвил Николя, — и давайте уточним факты. Глядя из своего убежища, вы видели, как лежало тело?
Депла задумался.
— Оно лежало на животе, лицом к земле.
Николя вспомнил свой осмотр тела и наконец смог восстановить сцену. Пейли тяжело рухнул на спину. Депла подбежал к нему, прикончил его ударом шпаги или трости, подложил пуговицу, оторванную от форменного плаща Риву, перевернул тело и убежал. Именно в это время появилась карета лорда Эшбьюри, и англичанин увидел труп. Вопреки всем предположениям получается, что лорд Эшбьюри не убивал Пейли. Но зачем тогда он оставил пуговицу и как он ее раздобыл?
— Сударь, — произнес он, — вы лжете! И я скажу вам, почему. Тело Пейли могло лежать только на спине. Его раны не позволяли ему перевернуться. Мы же обнаружили его лежащим лицом к земле. Раз мы точно знаем, что господин Риву не мог находиться на месте происшествия, ибо уезжал в Версаль, значит, вы лжете. Вы раздобыли офицерский плащ. Как мог лейтенант потерять пуговицу, найденную нами под телом, если его в это время не было в городе? Вы утверждаете, что Пейли был убит. Но кто, кроме вас, мог его убить и подложить под тело вышеозначенную пуговицу? Я считаю сей факт установленным и предоставляю возможность всем вынести свое решение. Да, у меня еще вопрос. Неужели ревность настолько одолела вас, что вы не боялись обманывать и одних, и других?
Депла опустил голосу.
— Ну и кто же вдохновитель всех этих событий? — спросил Сартин.
— Убив Пейли, он освобождался от одного ненавистного соперника и компрометировал другого. Но, скажите, сударь, зачем устраивать на Версальской дороге покушение на меня?
— Сударь, — пробормотал Депла, — тут я ни при чем.
— Что ж, возможно. Или все же… — словно разговаривая сам с собой, задумчиво произнес Николя. — Определенно, гинеи меня смущают; неужели он служил и вашим, и нашим? Уведите его.
Сартин молчал; упавшие на лоб кудри парика скрывали выражение его лица.
— Невиновный оправдан, а преступник сознался. Блестящее расследование, — сказал Ленуар, радуясь тому обороту, который приняло заседание.
— Увы, сударь, мы еще не закончили. Полагаю, вы еще не знаете истории Аньес Генге, которую поведал мне господин Леруа, человек честный и порядочный. Оказывается, она не его крестница. Он подобрал ее на улице, зимним вечером, голодную и оборванную, привел домой и оставил у себя. Самое странное, что она оказалась столь одаренной и способной к часовому ремеслу, что он привлек ее к работе в мастерской. Странно также, что из прошлой жизни она не помнила ничего, кроме своего имени. Мне искренне жаль, что этот прелестный ангел красоты, похоже, является центральным персонажем не только драмы ревности, но интересующего нас дела государственной важности. При обыске, произведенном на улице Арлэ во время ее ареста, мы также нашли немало гиней.
— Опять вас заносит в высокие сферы. Лучше объясните, что к чему.
— Я обвиняю Аньес Генге в том, что она является агентом английской разведки. Эта молодая женщина неожиданно появляется в доме Леруа и быстро, слишком быстро приобретает навыки очень сложного ремесла. Она становится любовницей Депла, затем любовницей Пейли и кокетничает с Риву. Она манипулирует и теми и другими, выведывает все у Пейли, который от нее ничего не скрывает, доводит до крайности Депла, сходящего с ума от ревности, и каким-то образом узнает о связи Риву с Киской. Если Депла действует под влиянием ревности, то ею руководит исключительно холодный расчет: уловки, ловушки, соблазн — все идет в ход. Без сомнения, в дальнейшем она бы нашла способ отделаться и от Депла, дабы продолжать исполнять свою миссию на службе у английской разведки. Господин де Риву, если ваши начальники не возражают, вы свободны и можете удалиться. Теперь приведите Аньес Генге.
Со слезами на глазах офицер благодарно пожал руку Николя и вышел. Появилась Аньес Генге, хрупкая и смущенная, словно ребенок, нечаянно оказавшийся в неприличном месте.
— Мадемуазель, — начал Николя, — вы не являетесь крестницей господина Леруа.
— Я этого никогда не скрывала. Вам нужно было только спросить меня об этом. Называя себя его крестницей, я тем самым подчеркиваю признательность, кою я к нему питаю.
— Где вы проживали до того, как он вас встретил?
— Я не помню, и вы, задавая мне подобный вопрос, должны это знать. Я была больна и в беспамятстве.
— Именно в этом вы и убедили Леруа. Кто обучил вас ремеслу?
— Я знаю лишь его основы, которые преподал мне мой крестный.
— Что вы делали на прошлой неделе в ночь со среды 12 февраля? Это было недавно, и вы должны помнить.
Приложив палец к губам, она задумалась.
— Кажется, я была на балу в Опере.
— Полагаю, вы ошибаетесь. В Пепельную среду балов не бывает.
— Да, конечно, вы правы. Я ошиблась неделей.
— Так где же вы были?
— Ну, разумеется, дома!
— Уточните, пожалуйста. Вы были одни?
— Я была одна, господин Леруа уехал в Витри.
— Откуда у вас английские гинеи?
— Подарок, сделанный мне господином Пейли перед отъездом.
— Вы занимаетесь окончательной отделкой самых дорогих часов?
— Да, золотых часов.
Николя указал на два маленьких пронумерованных листка бумаги, лежавшие на серебряном подносе.
— Вы знаете, что это? Нет, конечно. На одном листке собрана металлическая пыль с подола плаща, бывшего на плечах молодой женщины по прозвищу Киска. Вы ее знаете?
— А должна? — с вызовом спросила она.
— Смотря по обстоятельствам. На другом листке лежит золотая пыль, которую вы, явившись по моему вызову в доме Леруа, стряхнули с рук. Пыль совершенно одинаковая. Можете ли вы объяснить мне подобное совпадение?
— Это не мое дело.
— Думаю, вы заблуждаетесь. Дайте мне вашу руку.
— А почему я должна это сделать?
— Потому что если вы откажетесь, вы тем самым признаетесь в убийстве.
Она робко протянула ему левую руку.
— Правую, пожалуйста.
Тщательно осмотрев ладонь, он платком провел под ногтями. Завороженные зрители внимательно следили за его движениями. Попросив инспектора зажечь факел, он поднес к нему платок и, покачав головой, уверенно заявил:
— Я так и думал: золотая пыль! С примесью черного порошка. Это уже интересно! Я удивлен, как такая хрупкая юная особа столь ловко обращается с оружием… Следы от пороха сохраняются долго.
— Что это значит, сударь?
— Вы не понимаете, и почтенные слушатели тоже. Дело в том, что два года назад, будучи в Вене, у меня оказалось немного свободного времени, и я отправился в учреждение, где исследуют трупы погибших насильственной смертью.
— Ну вот, снова похоронные манипуляции. Интересно, какой чертовщиной он станет хвастаться на этот раз?
— Не чертовщиной, сударь, а научными достижениями нашего века. Тогда мой ученый собеседник поведал мне, что, когда стреляют из пистолета, частицы черного пороха въедаются в кожу и долго там остаются. Мадемуазель, несколько минут назад мы вас только подозревали, но теперь сомнений нет. Вы убили девицу по прозвищу Киска и стреляли в меня на Версальской дороге.
— Нет, меня там не было, — прошептала она в растерянности.
— Как так? Вас видели, когда вы убегали.
— Это была не я.
— Не вы? Кого вы хотите в этом убедить? Возле мельницы были не вы? Однако память вас явно подводит!
— Меня там не было, потому что в это время я была…
Она замолчала.
— Где же? Уж точно не дома. И не в Опере. Так где же, мадемуазель? По-моему, вы были возле Инвалидов.
— Нет, нет! — крикнула она в отчаянии.
— Тогда на дороге в Версаль? Если нет, тогда скажите, откуда у вас под ногтями следы пороха?
— Мне приходится работать с ним в мастерской.
— Итак, вы признаете, что вам доводилось иметь дело с порохом. И признаете, что на ваших руках сохранились его следы. Это решающий аргумент, и сейчас объясню, почему. В этой мрачной комнате я ничего не сумел извлечь ни из-под ваших ногтей, ни собрать с ладоней. И те и другие безупречно чисты.
И он помахал снежно-белым платком.
— Вы молчите, ибо вам, действительно, нечего сказать. Я вам верю и заявляю, что вы появились в доме Леруа по заданию английской разведки. Так как вы не знали, что мог доверить своей любовнице Риву, участь Киски была предрешена. Когда одни шпионят за другими, вы без труда узнали, что Риву позволил ей бежать. В Вожираре же бедняжку, без сомнения, ввел в заблуждение синий плащ. Полагаю, нам следует пересмотреть роль Депла в этом деле. Считаю, что вы также не причастны к покушению на мою жизнь. Думаю, это лорд Эшбьюри подослал ко мне своих наемных убийц. Идите, мадемуазель, и да свершится королевское правосудие.
Внезапно он ощутил смертельную усталость. Он победил, распутал хитросплетения дела, при расследовании которого ему пришлось столкнуться с грозным противником и вести игру против Сартина. Но какой ценой! Сартин вышел, не попрощавшись; и все же на пороге он обернулся и произнес загадочную фразу:
— Вы думаете, что одержали победу? Да вы ничего не знаете! Поверхность вещей…
Идущий следом за министром адмирал обнял Николя.
— Успокойтесь, вы же его знаете. Он к вам вернется. Не ваше упорное желание раскрыть преступление, а провал операции не дает ему покоя и угнетает его.
Он долго сидел в опустевшем кабинете. Победа оставила горький привкус. Оправдывала ли она принесенные жертвы и этот разрыв? Ведь, в сущности, он так и не узнал, чем на самом деле все кончилось. Ленуар и Бурдо взяли его под руки и вывели из стен Шатле. Генерал-лейтенант пригласил обоих отужинать. По дороге им довелось испытать на себе ярость стихии: порывы ветра то и дело сотрясали кузов кареты. Небо было такое же мрачное, как и мысли Николя.
ЭПИЛОГ
Нельзя безнаказанно играть королей.
Кардинал де Рец20 февраля, в четверг, Лавале, Риву и маркиз де Ранрей отдали последний долг останкам Киски. Только Николя мог оценить иронию судьбы, собравшую их вместе. После заупокойной службы в церкви Сент-Этьен-дю-Мон тело предали земле на кладбище Кламар. Неподалеку от Киски, в безымянной могиле, покоился Френсис Саул Пейли.
27 февраля, в четверг, когда все готовились отправиться на торжественную службу по случаю бракосочетания дочери господина Ленуара, пришло известие о скоропостижной кончине Сен-Флорантена, герцога де Ла Врийера. В результате семейной ссоры со старым министром случился удар. Известие огорчило Николя: оборвалась еще одна ниточка, связывавшая его с покойным королем. Время делало свое дело, неумолимо приближая одиночество.
1 марта два фургона, сопровождаемые отрядом кавалерии, галопом выехали из ворот Шатле и умчались в неизвестном направлении. Никто больше никогда не слышал ни об Аньес Генге, ни об Армане Депла.
В тот же день в Лорьяне линейный корабль «Сюрприз», державший курс на Пондишери, принял на борт кавалера Тадеуша фон Иссена. Капитан корабля получил предписание подвергнуть пассажира домашнему аресту в его каюте, не позволять общаться с экипажем и высадить его на Капском побережье.
Письмо французского посла в Берлине маркиза де Понса господину де Верженну, отправленное 5 апреля 1777 года.
Господин граф,
Король Пруссии пребывает большей частью в добром здравии. Отмечают, однако, что хотя с 25-го числа прошлого месяца его величество регулярно совершает моцион, его пока не видели ни на параде, ни на полковых смотрах, а конные прогулки его редки и непродолжительны. Погода, действительно, ужасно нехороша и вполне могла побудить его прусское величество поберечься, но обычно он так мало печется о своем здоровье, что полагают, он заранее готовится к тяготам грядущих смотров.
Похоже, прусский король вынужден нарушать свои военные привычки, возведенные им до уровня непоколебимых принципов, что свидетельствует об истощении его сил, не позволяющих ему более испытывать переутомление. Работа с кабинетом министров также стала изрядно утомлять сего государя. Из достойных доверия источников мне известно, что недавно, пребывая в дурном настроении, он неосмотрительно заявил, что перегружен делами, и с досадой добавил, что, состарившись, не видит никого вокруг, кому можно было бы доверить даже самое ничтожное дело. И это несчастье он каждодневно ощущает все больше и больше; однако административная реформа, поистине, является вызовом сего государя его соперникам.
Не так давно я сообщал о загадочном исчезновении из покоев его прусского величества редкостной вещицы, к которой государь был сильно привязан. При столь же загадочных обстоятельствах вещица снова появилась на своем месте. Это дело порождает излишние слухи и вызывает неоправданно большой интерес общества; впрочем, этому способствует сам король, который, усмехаясь, радостно сообщил о ее возвращении всему двору.
31 мая, в понедельник, двор облекся в траур по случаю смерти короля Португалии и принцессы Фредерики-Шарлотты Гессен-Кассельской, матери принцессы Генриетты Прусской.
Ко двору в качестве английского полномочного дипломатического представителя приехал господин Элиот. Саксонский посланник Штуттергейм отозван, а на его место прислан Фридрих Август фон Цинцендорф, бывший посланник Дрезденского двора в Копенгагене.
Множество французов прибывает в Берлин проездом. Едучи из России, граф де Меран рассказал мне забавную историю про императрицу. По Вашей рекомендации я пригласил на ужин маркиза де Ранрея, путешествующего в сопровождении доктора Семакгюса, говорливого чудака, проводящего большую часть времени в ботанических садах и кабинетах редкостей.
Остаюсь, господин граф, с почтением, Ваш смиренный и покорный слуга маркиз де Понс.
Граф Крейц, полномочный представитель его величества Густава III, короля Швеции, в столице Франции.
Рекомендательная приписка от 10 марта 1777 года:
…Если королева поведет себя благоразумно и с достоинством, она, несомненно, одержит верх и станет руководить королем. Но она непоследовательна, ветрена и постоянно идет на поводу у собственного легкомыслия. Дело госпожи Каюэ де Вилле причинило ее репутации невосполнимый ущерб. Госпожа де Вилле, которая могла бы стать любовницей Людовика XV, если бы тот не выбрал дю Барри, сумела втереться в доверие к королеве. Она пикантна и обожает интриги. От имени королевы она наделала долгов на четыреста тысяч ливров. Но ее махинации разоблачили, а ее самое заточили в Венсеннский замок. Все бумаги де Вилле были арестованы, но, к счастью, в них не нашлось ничего, компрометирующего королеву. Тем не менее дело это вызвало шумный скандал, и с тех пор король обижен на супругу; но и эта обида пройдет, как прошли все грозы, бушевавшие между ними.
Сир, примите выражение моего глубочайшего почтения.
Вашего величества смиренный и почтительнейший слуга и подданный
Густав Крейц.Рукописные новости, Версаль, 5 октября 1777 года.
Выпущенная из Бастилии дама де Вилле, о которой я вам не так давно рассказывал, получила устный приказ удалиться в монастырь Дочерей Святого Фомы, что на улице Сен. Говорят, ее новый образ жизни совсем не отвечает ее жизнерадостному характеру. Скорее всего, не выдержав монотонности монастырского существования, она вскоре тихо угаснет.
Иври-Лa Бретеш-лан-Бисау
Январь 2006 — май 2007
Примечания
1
См. «Мучная война».
(обратно)2
См. «Мучная война».
(обратно)3
«Порнограф» — сочинение Ретифа де ла Бретона.
(обратно)4
Это право было им получено.
(обратно)5
Современное название — бульвар Капуцинов.
(обратно)6
Около 117 м.
(обратно)7
11 января 1777 г.
(обратно)8
Никола Пиччини (1728–1800) — композитор, чье имя прочно связано с разногласиями между пиччинистами и глюкистами, иначе говоря, между парижскими сторонниками серьезной оперы и сторонниками оперы французской.
(обратно)9
Мишель Коррет (1707–1795) — французский музыкант, открыл музыкальные курсы для народа и опубликовал ряд методических указаний по обучению игре на разных инструментах.
(обратно)10
Масийон.
(обратно)11
См.: Taillemite Etienne. Louis XVI ou le navigateur immobile.
(обратно)12
Модные в то время карточные игры.
(обратно)13
«Лувр» — мраморный дворик, огороженный решеткой, которая впоследствии была снесена. Сейчас эта решетка восстановлена, и ее предполагают установить там же, где она находилась в 1789 году.
(обратно)14
Аттик — жилой этаж, расположенный непосредственно под скатной кровлей здания и меньший по площади, чем предшествующий ему верхний этаж.
(обратно)15
См. «Мучные войны».
(обратно)16
Мадам Елизавета — сестра Людовика XVI.
(обратно)17
См. «Преступление в особняке Сен-Флорантен».
(обратно)18
Вышла в 1780 г.
(обратно)19
Библиотека эта была полностью уничтожена огнем в 1794 г.
(обратно)20
Морепа — первый министр.
(обратно)21
Подлинный факт.
(обратно)22
В 1779 г. Неккер представил на рассмотрение Людовика XVI указ о запрещении перевозки младенцев и призвал местных кюре следить за его исполнением.
(обратно)23
Нодо (1690–1762) — флейтист и композитор.
(обратно)24
Первая ежедневная газета во Франции.
(обратно)25
Из оперы «Кастор и Поллукс» Рамо.
(обратно)26
Из оперы «Кастор и Поллукс» Рамо.
(обратно)27
См. «Мучная война».
(обратно)28
В 1804 г. часовня монастыря Капуцинов была разрушена, а останки маркизы де Помпадур, скорее всего, перенесли в катакомбы.
(обратно)29
См. «Человек со свинцовым чревом».
(обратно)30
Гроб, одна стенка которого приподнималась, и тело соскальзывало в общую могилу.
(обратно)31
Дом Шипионе — особняк, построенный в 1565 г. итальянским банкиром Шипионе Сардини. Особняк существует и поныне: это дом 13 по улице Шипионе, V округ.
(обратно)32
Огороженный расчищенный уголок, обустроенный на месте разогнанного Людовиком XIV Двора чудес на улице Нев-Сен-Совер.
(обратно)33
«Игрушки, сказка или быль, как вам больше угодно», 1776.
(обратно)34
Декрет был принят несколько месяцев спустя.
(обратно)35
Лорд Джермейн (1716–1783) — английский военный и политик. Государственный секретарь, поверенный в американских делах в кабинете лорда Норта.
(обратно)36
«Сладострастник», комедия Леграна (1738).
(обратно)37
Мольер. Тартюф, д. 4, сц. 1. Пер. М. Донского.
(обратно)38
Буало. Сатира VIII. Пер. С.Т. Аксакова.
(обратно)39
5 августа 1766 г., в присутствии Людовика XV.
(обратно)40
Часы Дворца правосудия являются старейшими часами в Париже.
(обратно)41
См. «Дело Николя Ле Флока».
(обратно)42
Речь идет о создании в провинции десяти военных учебных заведений для детей обедневших дворян; руководство этими школами было поручено религиозным конгрегациям.
(обратно)43
Лафонтен. Лев, волк и лиса. Пер. О. Чуминой.
(обратно)44
Колардо (1732–1776).
(обратно)45
Вольтер.
(обратно)46
См. «Мучная война».
(обратно)47
Иезавель — жена израильского царя Ахава, мать Гофолии.
(обратно)48
Reine d’Hongrie (фр.) — королева Венгрии.
(обратно)49
На улице Монторгей торговали вскрытыми и очищенными устрицами, готовыми к употреблению.
(обратно)50
В 1776 г.
(обратно)51
Людовик XIV, при котором Ришелье в молодости состоял пажом.
(обратно)52
Ларошфуко.
(обратно)53
Вождь индейского племени микмак в Новой Франции. См. «Призрак улицы Руаяль».
(обратно)54
Об этом замечательном инструменте я узнал от своего верного читателя Ронана Турнона, который вот уже несколько лет страстно увлекается инструментами мастера Шерера из Буцбаха.
(обратно)55
Подобное явление, действительно, наблюдалось в Париже в 1777 г.
(обратно)56
Сирано де Бержерак (1619–1655) — писатель, автор сатирического сочинения «Иной свет, или Государства и империи Луны».
(обратно)57
Злоупотребление не исключает употребления (лат.).
(обратно)58
В дальнейшем Леруа обустроил свою мастерскую в Пале-Руаяль.
(обратно)59
Кассини (1714–1784) — французский астроном и географ.
(обратно)60
Граф д’Альби — один из титулов Сартина.
(обратно)61
См. «Дело Николя Ле Флока».
(обратно)62
Будущий театр «Одеон».
(обратно)63
Театр марионеток (ит.).
(обратно)64
См. «Человек со свинцовым чревом».
(обратно)65
Когда в 1770 г. Мария-Антуанетта прибыла ко двору, дочери Людовика XV, носившие титул Мадам, дали ей прозвище Австриячка.
(обратно)66
См. «Дело Николя Ле Флока».
(обратно)67
Такая система ведения наблюдений, придуманная и реализованная еще при Людовике XV отцом госпожи Кампан, была продолжена при первом консуле.
(обратно)68
Господи, храни короля (лат.).
(обратно)69
Без подготовки (лат.).
(обратно)70
См. «Преступление в особняке Сен-Флорантен».
(обратно)71
Сент-Пелажи — женская тюрьма, куда также отправляли раскаявшихся девиц легкого поведения, находилась на улице Пию-де-Лермит, возле нынешней улицы Монж.
(обратно)72
Альберт Великий — Альбрехт фон Больштедт (1193–1280), немецкий философ и теолог. Предположительно ему принадлежит объемный корпус алхимических текстов.
(обратно)73
Головоломки, составленные из вырезанных кусочков плотной бумаги, теперь называются пазлами.
(обратно)
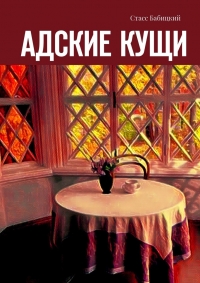

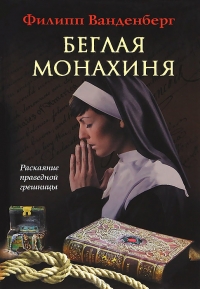


Комментарии к книге «Таинственный труп», Жан-Франсуа Паро
Всего 0 комментариев