Часть 1 БИБЛИОТЕКА
Глава 1
У того, кто желал приобрести книгу в Лондоне в 1660 году, было на выбор четыре места. Церковные книги и богословские труды предлагали книготорговцы в ограде собора Святого Павла; те магазины и лавки, что находились в Малой Британии, торговали исключительно произведениями греческих и латинских авторов; а в тех, что выходили на западный конец Флит-стрит, преобладали юридические сочинения — для нужд городских барристеров и судей. Четвертым же местом для поиска книг — несравненно лучшим трех других — был Лондонский мост.
В те времена на этом старинном мосту в домах с остроконечными крышами располагались разного рода лавки и заведения. Здесь обосновались два перчаточника, кузнец-оружейник, два галантерейщика, торговец чаем, переплетчик, несколько сапожников и даже мастер, делающий шелковые зонты — изобретение, совсем недавно вошедшее в моду. На северном конце имелась также лавка plummassier[1], где торговали ярко окрашенными перьями для касторовых шляп, наподобие тех, что носил новый король.
Больше же всего на мосту было почтенных книготорговцев — в общей сложности к 1660 году их насчитывалось шестеро. Поскольку эти магазинчики не стремились удовлетворить только нужды священников, или законоведов, или кого-нибудь еще в частности, они предлагали куда более разнообразный товар, чем торговцы, обосновавшиеся в других трех районах, так что почти все когда-либо нацарапанное на пергаменте или напечатанное и переплетенное можно было обнаружить на их книжных полках. А книжный магазин с наиболее обширным выбором расположился в самой середине Лондонского моста, в так называемом «Редком Доме», где над зеленой дверью и двумя рядами поблескивающих окон красовалась вывеска, чьи полустершиеся от солнца и дождя буквы гласили:
РЕДКАЯ КНИГА
Продажа и покупка любых сочинений
Владелец Исаак Инчболд
Я и есть тот самый владелец, Исаак Инчболд. К лету 1660-го «Редкая Книга» принадлежала мне уже около восемнадцати лет. Сам же магазин — уставленные книгами полки на первом этаже и тесные жилые комнатушки на втором, куда вела винтовая лестница, — существовал на Лондонском мосту, в угловой части «Редкого Дома», самого красивого из здешних зданий, гораздо дольше — вот уже сорок лет. Меня отдали сюда в учение в 1635-м четырнадцати лет от роду — после того, как отец мой умер во время чумного поветрия, а мать, столкнувшаяся затем с его долгами, избавила себя от всех бед, выпив чашку отравы. Смерть господина Смоллпэйса, моего хозяина, — также от чумы — случилась как раз около того времени, когда мое ученичество подошло к концу и я как полноправный член был принят в Канцелярскую гильдию. В тот знаменательный день моей жизни и стал я владельцем «Редкой Книги», где жил с тех пор среди беспорядка, который создавали несколько тысяч моих сафьяновых и матерчатых компаньонов.
Я вел размеренную, наполненную размышлениями жизнь среди ореховых книжных полок. Она состояла из привычных, не доставляющих беспокойства дел, выполняемых по мере надобности. Я был вполне благоразумным и образованным человеком — по крайней мере, мне хотелось так думать, — но мой житейский опыт был ничтожен. Я знал все о книгах, но мало, должен признаться, о той жизни, что бурлила за зеленой дверью моего магазина. Я отваживался выходить в тот чуждый мир грохочущих колес, дымящих труб и беспорядочной спешки не чаще, чем того требовали обстоятельства. К 1660 году я едва ли отъезжал от ворот Лондона дальше чем на две дюжины лиг, да и в самом Лондоне редко выбирался на улицу без крайней необходимости. Выйдя же по какому-нибудь мелкому делу, я испытывал безнадежную растерянность в том лабиринте тесных и грязных улиц, что начинался в двадцати шагах от северных ворот моста, и когда я еле-еле приплетался обратно, к своим книжным полкам, у меня было такое чувство, словно я вернулся из изгнания. По всему этому — в сочетании с моими близорукостью, астмой и изуродованной стопой, из-за которой я ходил немного кривобоко, — я, пожалуй, меньше всего подходил для участия в тех событиях, которым суждено было последовать.
Что еще вам нужно знать обо мне? Моя жизнь казалась мне слишком уж уютной и безмятежной. К сорока годам я достиг почти всего, чего только может пожелать человек моих наклонностей. Помимо процветающей торговли у меня имелись еще собственные зубы, большая часть собственных волос, совсем немного седины в бороде и симпатичное брюшко, на которое удобно пристраивалась книга, когда я просиживал час за часом вечерами в моем любимом мягком кресле, набитом конским волосом. Каждый вечер старушка по имени Маргарет готовила мне ужин, и дважды в неделю другая бедняжка, Джейн, отстирывала мои грязные чулки. Жены у меня уже не было. Смолоду я был женат, но жена моя, Арабелла, умерла несколько лет назад, через пять дней после того, как оцарапала палец дверной щеколдой. Наш мир чреват опасностями. У меня нет и детей. Я исправно исполнял свои супружеские обязанности: детей родилось четверо, но все они также умерли от тех или иных болезней и сейчас покоятся рядом с их матерью на кладбище при церкви Святого Магнуса-Мученика, куда я неизменно наведываюсь раз в неделю с букетом из лавки цветочницы. Жениться вновь я не надеялся и не строил на сей счет никаких планов. Уклад моей жизни устраивал меня донельзя.
Что же еще? Я жил один, если не считать моего ученика Тома Монка, который, когда торговля заканчивалась, уединялся на верхнем этаже «Редкой Книги», где он ел и спал в комнатенке размерами чуть больше чулана. Но Монк не жаловался. Как, впрочем, и я. Я оказался удачливее большинства тех четырехсот тысяч душ, которые теснились в Лондоне или его пригородах. Торговля приносила мне ежегодно доход в 150 фунтов — приличная по тем дням сумма, особенно для человека, не имевшего ни семьи, ни вкуса к чувственным удовольствиям, на которые так щедр Лондон. И конечно же, моя спокойная книжная идиллия так и продолжалась бы до тех пор, пока я не занял бы свое место на маленьком прямоугольном участке земли, который оплатил для себя рядом с Арабеллой, если бы не одно странное письмо, доставленное мне летним днем 1660 года.
В то теплое июльское утро, соблазнительно скрипнув, приоткрылась дверь в один загадочный и странный дом. И мне, считавшему себя таким разумным, скептически настроенным человеком, пришлось в неведении бродить по его темным коридорам, наталкиваясь на тупики и потайные комнаты, в которых и ныне, спустя много лет, я блуждаю в поисках ключа. Легче найти лабиринт, пишет Комениус, чем путеводную нить. Однако любой лабиринт представляет собой некий круг, который начинается там, где кончается, как говорит нам Боэций, а кончается там, где начинается. Потому-то мне приходится ныне вновь повторить все мои блуждания и, разматывая за собой нить повествования, вернуться в то место, с которого началась для меня история сэра Амброза Плессингтона.
Событие, о котором я упомянул, произошло утром, во вторник первой недели июля. Мне хорошо помнится то время, поскольку совсем недавно король Карл II вернулся из французского изгнания, дабы взойти на престол, пустовавший одиннадцать лет, с тех пор как Кромвель казнил его отца, Карла I, и его приверженцев. Начало того дня не предвещало ничего особенного. Как обычно, я раскрыл деревянные ставни, отпустил зеленый навес на легкий ветерок и послал Тома Монка на Главный почтовый двор, находившийся на Клоклейн. В обязанности Монка входило убирать золу из камина, подметать пол, выносить ночные горшки, чистить водосток и запасаться на день углем. Но прежде, чем он приступал к этим своим занятиям, я посылал его в Доугейт справиться, нет ли мне писем. К этому я относился очень внимательно, особенно по вторникам, так как по этим дням доставляли пакетботом почту из Парижа. Когда он наконец вернулся, послонявшись, как обычно, на обратном пути по набережной Темзы, на моем брюшке как раз примостился том с Шелтоновым переводом «Дон Кихота», изданный в 1652 году. Я оторвал взгляд от страницы и, поправив очки, скосил глаза на темневшую в дверном проеме его фигуру. Никакому оптику было не под силу отшлифовать пару линз, достаточно толстых для того, чтобы исправить мое косоглазие. Держа указательный палец на недочитанной строчке, я зевнул.
— Есть что-нибудь для нас?
— Одно письмо, сэр.
— Да? Давай-ка посмотрим его.
— Мне пришлось заплатить за него два пенса.
— Что ты имеешь в виду?
— Сэр, на почте мне сказали, — он протянул руку, — что за него недоплачено. Неверно оплаченное письмо, сказал приемщик. Поэтому мне пришлось доплатить два пенса.
— Ну хорошо, так и быть. — Я отложил в сторону «Дон Кихота» и, с раздражением компенсировав Монку его затраты, завладел письмом. — А теперь ступай. Принеси угля.
Я ожидал известий от месье Гримо, моего посредника в Париже, которому было поручено купить для меня экземпляр «Одиссеи», изданной Виньо. Правда, я сразу заметил, что на этом перевязанном бечевкой и запечатанном печатью письме стоял не красный штамп иностранного отдела, а зеленый — используемый для внутренней почты. Это было необычно: местная почта поступала на Почтовый двор по понедельникам, средам и пятницам, а это письмо почему-то прибыло во вторник. В тот момент, однако, я не придал значения этой странности. Почтовый двор, как и все в стране, переживал перетряску. Уже многие старые почтмейстеры — самые старательные шпионы Кромвеля, если верить слухам, — остались без места, а генерального почтмейстера, Джона Терлоу, упекли в Тауэр.
Я повертел письмо в руках. В правом верхнем углу стоял штамп с датой — «1-е июля», то есть письмо прибыло на Главный почтовый двор два дня назад. Мое имя и адрес были написаны на конверте наклонным, торопливым почерком. В одних местах буквы казались слишком жирными, а в других — тонкими, словно чернила загустели от старости, а гусиное перо плохо заточили или оно основательно износилось. Продолговатую печать на обратной стороне письма, сделанную перстнем-печаткой, украшал герб легендарного Марчмонта. Я разрезал ножичком обтрепавшуюся бечевку, сломал печать, надавив на нее большим пальцем, и развернул письмо.
У меня до сих пор сохранилось это странное письмо-приглашение — первый из многих текстов, которые привели меня к вечно ускользающей личности сэра Амброза Плессингтона, и я воспроизвожу его здесь слово в слово.
28 июня
Понтифик-Холл
Крэмптон-Магна
Графство Дорсетшир
Милостивый государь,
прошу Вас не счесть за дерзость, что незнакомая дама обращается к Вам с просьбой, которая Вам, без сомнения, покажется странной; но я вынуждена поступать сообразно обстоятельствам. Печальные заботы, о коих я говорю, суть неотложного свойства, но я полагаю, Вы в немалой степени поможете мне их уладить. Я не дерзну вдаваться в подробности, пока не уверюсь в вашей личной заинтересованности — до тех пор же я, к сожалению, должна всецело полагаться на Ваше честное слово.
Я прошу Вас приехать в Понтифик-Холл так быстро, как только возможно. Карета, каковой будет править мистер Финеас Гринлиф, будет ждать Вас 5 июля в восемь утра на Хай-Холборне под вывеской «Три голубя». Вам совершенно нечего опасаться этой поездки, которая, я обещаю, окажется достойной затраченных Вами сил и времени.
На этом я вынуждена закончить, милостивый государь, заверив Вас в моей искренней признательности.
Всегда к вашим услугам,
Алетия Грейторекс.Постскриптум: Пусть следующий совет послужит Вам предостережением: не говорите никому, что Вы получили это письмо, и не раскрывайте места и цели Вашего путешествия.
Вот и все, и ничего больше. Это странное послание не содержало никаких проясняющих сведений, ничего, что побуждало бы принять предложение. Я перечитал письмо еще разок, и первым моим желанием было выбросить его в корзину. Можно было не сомневаться, что под «печальными» и «срочными» делами Алетии Грейторекс подразумевается приведение в порядок разоренного имения, унаследованного ею от бедного покойного супруга. Жалкое появление неоплаченного письма предполагало плачевное безденежье его отправительницы. Конечно же, скромное обаяние Понтифик-Холла скрашено некой библиотекой, благодаря непритязательному содержимому которой ее владелица надеется удовлетворить претензии кредиторов. В просьбах такого рода не было, разумеется, ничего необычного. Мне приходилось уже три или четыре раза разбираться с печальными делами, касавшимися означенных ценностей, что сохранились среди жалких останков разоренных имений — по большей части они принадлежали старым роялистским семьям, чье богатство мгновенно растаяло во время правления Кромвеля. Обычно я покупал для себя лучшие издания, а прочий заплесневелый хлам отсылал на аукцион или к господину Хопкрофту, старьевщику. Но за всю мою деловую жизнь меня ни разу не нанимали на таких секретных условиях и не просили приехать в такую даль, как Дорсетшир.
И все-таки я не выбросил это письмо. Одна из наиболее загадочных фраз — «Я не дерзну вдаваться в подробности» — захватила мое воображение, так же как просьба о соблюдении секретности в постскриптуме. Поправив сползшие на нос очки, я вновь уставился на письмо близоруким взглядом. Интересно, с чего бы мне было «опасаться» этого путешествия и каким образом может быть исполнено туманное обещание, касавшееся не зря потраченных мною сил и времени? Выгода, на которую намекали эти слова, казалась одновременно и более возвышенной, и более туманной, чем обычное денежное вознаграждение. Или у меня просто разыгралось воображение, жаждущее, по обыкновению, сплести и затем распутать некую загадочную интригу?
Монк вынес на улицу мусор и сейчас появился в дверях — с грохочущим ведром, в котором лежали куски битумного угля. Он поставил его на пол, вздохнул, взял метлу и стал вяло подметать залитую солнечным светом комнату. Я отложил было письмо, но чуть позже опять взял его, решив повнимательнее изучить наклонный почерк, выглядевший старомодно уже в те дни. Я медленно перечитал текст, и на сей раз его содержание показалось мне менее понятным, менее похожим на мольбу о помощи от вдовы, испытывающей денежные затруднения. Я расправил письмо на столе и тщательнее исследовал герб на печати, сожалея, что в спешке сломал ее, поскольку надпись на гербе расшифровать уже было невозможно.
И именно тогда я заметил нечто необычное в этом письме, еще одну из его странных и на тот момент необъяснимых особенностей. Подняв лист к свету, я увидел, что отправитель складывал эту бумагу дважды и запечатал ее не воском, а рыжим шеллаком. В сущности, конечно, тут не было ничего особенного: большинство людей, включая меня, запечатывает письма, расплавляя конец палочки шеллака. Но когда я собрал осколки и попытался восстановить исходное изображение печати, то заметил, что шеллак смешался с веществом слегка другого цвета и состава, немного более темным и менее вязким.
Я пододвинул письмо в луч света, падающего на мою конторку. Метла Монка медленно шаркала по половицам, и я почувствовал его любопытный взгляд. Очень осторожно, словно аптекарь, разрезающий семенную коробочку редкого растения, я срезал перочинным ножичком эту печать. Вещество раскрошилось и посыпалось на конторку. К шеллаку, по какой бы то ни было причине, явно прибавили пчелиный воск. Я тщательно разделил несколько крошек, с удивлением обнаружив, что мои руки слегка дрожат.
— Что-то не так, господин Инчболд?
— Нет, Монк. Все в порядке. Продолжай, пожалуйста, не отвлекайся.
Выпрямившись, я отвел от него взгляд и уставился в окно. На узкой улице шла бойкая утренняя торговля, мелькали головы прохожих, вертелись колеса. Поднимавшаяся над проезжей частью моста пыль, попадая в полосы солнечного света, казалась золотой. Я опустил глаза на рассыпанные по столику крошки. Что же все это значило — и значило ли что-нибудь вообще? Может, в шеллаке, которым леди Марчмонт запечатывала письма, была примесь воска? Или она запечатала другое письмо воском за мгновение перед тем, как запечатать мое шеллаком? Такое предположение едва ли имело смысл. Но если не это, то что же: кто-то поставил сначала исходную восковую печать, потом сломал ее и, намазав поверху слой шеллака, запечатал поддельной печатью? В этом также было не много смысла.
Кровь быстрее побежала по моим жилам. Да, вероятнее всего, печать подделали. Но кто? Служитель Почтового двора? Это объяснило бы задержку с доставкой письма — почему его выдали только во вторник, а не в понедельник. Ходили слухи, что на верхнем этаже Главпочтамта сидят особые чиновники, которые вскрывают и копируют письма. Но зачем? Насколько я знал, мою корреспонденцию никогда прежде не вскрывали — даже если пакеты приходили от моих посредников из Парижа и Оксфорда, из этих двух бастионов роялистских изгнанников и мятежников.
Правдоподобнее, конечно, что истинным объектом такого пристального внимания был мой корреспондент. И все-таки меня поразила странность сложившейся ситуации. Если у леди Марчмонт были основания чего-то бояться, то почему она доверила доставку своего письма такому знаменитому своей недобросовестностью ведомству, как почтовое? Почему не отправила письмо с мистером Финеасом Гринлифом или другим посыльным?
Вновь сложив письмо и сунув его в карман, я не почувствовал никакого беспокойства, хотя, возможно, и следовало бы. Скорее, я ощутил легкую заинтересованность. Мне было любопытно, только и всего. Казалось, что это странное письмо и его печать представляли собой просто часть некоего хитрого, но ни в коем случае не непостижимого ребуса, который можно было разгадать, если напрячь ум — а я безгранично верил в способности человеческого разума, особенно моего собственного. Это письмо стало просто еще одним документом, ожидавшим дешифровки.
И вот, поддавшись внезапному порыву, я поручил не верящему своим ушам Монку присмотр за магазином, а сам, подобно Дон Кихоту, решился оставить мои книжные полки и отправиться в рискованное путешествие — в тот мир, который до сей поры я умудрялся избегать. Остаток дня я обслуживал моих постоянных клиентов, помогая им, как всегда, найти то или иное издание или же комментарий. Но сегодня этот ритуал проходил несколько иначе, поскольку я постоянно чувствовал, как письмо тихо шуршит в моем кармане, приглушенным, безымянным шепотком напоминая о конспирации. Как мне и советовали, я никому его не показывал и даже Монку не сказал, в какие края я предполагаю отправиться и кому намерен нанести визит.
Глава 2
Через несколько дней после получения мною письма от леди Марчмонт три всадника подъехали с востока к сумрачному предрассветному Лондону. Когда звезды начали тускнеть, а облака мало-помалу окрашиваться светом, они разглядели городские шпили и дымовые трубы; тройка облаченных в черное наездников галопом промчалась по берегу реки в сторону Рэтклиффа. Должно быть, они прибыли издалека, хотя мне мало что известно об их путешествии — за исключением последних нескольких лиг пути.
Два дня назад рыболовный смэк высадил этих путешественников на берегу Кента, в Ромни-Марше. Даже в хорошую погоду и при спокойном море переправа через канал занимала восемь с лишним часов, но время высадки было точно оговорено. Хозяин судна, Калфхилл, получил подробные указания, и ему были известны все мели, бухты и таможни на любом отрезке тысячемильных побережий Англии. Они пристали к берегу в темноте, во время прилива — судно шло тихо, нос его подпрыгивал на волнах, а на носу стоял сам Калфхилл с длинным шестом в руках. В такое время расположенные на побережье таможни обычно еще пустуют, но так будет еще всего лишь час, а может, и меньше, поэтому нужно было действовать быстро. Калфхилл бросил якорь и, когда якорные рога зацепились за каменистое дно, шагнул за борт и оказался по колено в воде, которая оставалась ледяной даже сейчас, в середине лета. Не зажигая факелов и фонарей, трое мужчин высадились на берег и протащили лодку по гальке за линию прилива, где в зарослях ивняка стояли на привязи три черных жеребца. Пофыркивающие и бьющие копытами в темноте лошади были уже оседланы и взнузданы. Кроме них, на берегу никого не было.
Встревоженный и полный недобрых подозрений Калфхилл топтался возле своего судна, пока его пассажиры, бесшумно вернувшись к морю, смывали сажу со своих лиц и рук. Над головой у них порскнула стайка ржанок. Ветерок нес к морю ароматы тимьяна и овечьих пастбищ. До рассвета оставалось совсем мало времени, но спутники Калфхилла мылись с такой тщательностью, словно совершали обычный утренний туалет. Один из них даже задержался, чтобы отполировать смоченным в воде носовым платком желтые пуговицы на своем камзоле — строгой черной ливрее; а затем, нагнувшись, протер еще и башмаки. Дотошность поразительная.
— Ради всего святого! — прошептал Калфхилл. Пусть даже его пассажиры не понимали, чем рискуют, он-то понимал. Он был из «шерстянщиков» — контрабандистов, переправлявших во Францию мешки с шерстью, а обратно — вино и бренди. Не гнушался он и тайной перевозкой пассажиров — еще более доходным промыслом. Прежде гугеноты и католики, как и бочки с бренди, стремились в Англию, а роялисты тянулись в противоположном направлении, во Францию. Но сейчас с острова бежали как раз пуритане; и пунктом их назначения была Голландия. За последние шесть недель он переправил по крайней мере дюжину таких беглецов из Дувра или Ромни-Марша через пролив к юго-западным островам Зеландии или на поджидавшие их у причалов северного побережья пинки; а несколько человек с таких пинок он переправил в Англию для шпионажа против короля Карла. Занятие, понятно, рискованное, но он прикинул, что если все эти шпионские и жульнические махинации будут продолжаться (а иначе, по его разумению, и быть не могло, поскольку такова уж человеческая природа), то уже года через четыре он сможет заняться более спокойным промыслом, прикупив какую-нибудь сахарную плантацию на Ямайке.
Но эта последняя сделка показалась весьма странной даже такому видавшему виды контрабандисту, как Калфхилл. Два дня тому назад в Кале, в одной из таверн, где он обычно получал сведения об очередной партии бренди, к нему обратился с выгодным предложением один человек по имени Фонтене, заплатил половину оговоренной суммы — десять золотых пистолей — и дал подробные указания. Наклевывалась еще одна прибыльная ночная работенка. Фонтене сразу исчез, однако на следующий день, как и было договорено, с наступлением темноты эти незнакомцы подошли в одно укромное местечко, и Калфхилл, как обычно замаскированный под рыбака, отчалил вместе со своим контрабандным грузом и — насколько он мог определить их личности — случайными роялистскими посредниками или папистскими священниками. Его новые пассажиры, тяжело отдуваясь, забрались на борт. В лунном свете Калфхилл хорошо разглядел одного из них: тучная фигура, красное, как у трактирщицы, лицо, глаза почти закрыты веками, чувственный рот и такой раскормленный живот, какой сделал бы честь любому лондонскому олдермену. Едва ли он привык путешествовать по морям. Наверняка у него, как у большинства подобных пассажиров, мгновенно начнется морская болезнь и его вывернет за борт. Как ни странно, этого не случилось. Однако за все время их ночной переправы эта троица не сказала ни слова ни Калфхиллу, ни друг другу, несмотря на то что Калфхилл, поднаторевший в языках, как того требовало его ремесло, пытался разговаривать с ними по-английски, по-французски, по-датски, по-итальянски и по-испански.
И сейчас, пошатываясь, они так же молча шли к пофыркивающим жеребцам, лишь сухие ивовые ветки трещали под ногами. Заинтригованный Калфхилл уже в который раз задался вопросом, к какому же государству — или к какой партии внутри какого государства — могли они принадлежать. Все трое, судя по виду, были джентльменами, что уже выглядело необычно: Калфхилл по опыту знал, что шпионаж — занятие не совсем для джентльменов. Большинство мужчин, которых он переправлял, были крепкими на язык мужланами — наемные убийцы, трактирные половые, карманники, драчуны, головорезы на любой вкус: всех их вербовали в самых злачных публичных домах или кабаках Лондона и Парижа, и они за ничтожную, рабскую плату с превеликой радостью предавали и своих друзей, и свои страны. Но кем же были эти парни? Они выглядели слишком холеными для таких опасных развлечений. Ладони толстяка, когда он вручал оставшиеся монеты, были гладкими и пухленькими, как у леди. До того как он вымазал лицо сажей — поначалу он отказывался от подобного способа маскировки, — от его гладких щек исходил смешанный аромат мыла для бритья и тонких духов. И их черные одежды, плащи, жилеты, бриджи и камзолы — все было отлично скроено и даже изящно отделано, словно напоказ, золотой тесьмой и лентами. Так какая же чрезвычайная необходимость могла заставить их оторваться от винных погребов, вылезти из-за обеденных столов и отправиться рисковать жизнью и здоровьем в Англию?
Но вот наконец-то черная троица приготовилась к отъезду. С четвертой попытки толстяк неуклюже взгромоздился на лошадь — видно, привык садиться в седло с помощью приставной тумбы, предположил Калфхилл, — и затем, даже не обернувшись и не махнув рукой на прощанье, направил своего першерона вверх по крутому склону. Калфхилл сразу понял, что наездник из толстяка совершенно никудышный. Его шатало из стороны в сторону, голова тряслась, толстые ноги вяло подскакивали при каждом шаге. Кареты и портшезы ему явно больше по душе, догадался Калфхилл. Несчастная лошадь, пытавшаяся добраться до нависшей над обрывом травянистой кромки, отчаянным прыжком завершила подъем и легким галопом направилась прочь от берега.
Его работа подошла к концу; Калфхилл вернулся к судну и начал спихивать его обратно в море. Он спешил, поскольку в той самой таверне в Кале кроме Фонтене к нему подошел еще один заказчик и сейчас шесть тодов лучшей котсуолдской шерсти дожидались его в пещере, в двух милях дальше по берегу. В прибрежном тростнике его должны встретить трое мужчин и заплатить ему пять пистолей за перевозку контрабандной шерсти во Францию, где ему заплатят вторые пять пистолей. Киль его суденышка уже царапал дно, когда он услышал позади себя какой-то звук. Обернувшись, Калфхилл увидел, что один из трех путников, повернув лошадь к воде, все еще остается на берегу.
— Эй! — Калфхилл выпрямился и сделал несколько шагов по громко заскрипевшей гальке. — Что-нибудь забыли?
Облаченный в черное всадник ничего не ответил. Он просто натянул поводья и развернул лошадь в сторону холма. И вдруг, словно что-то вспомнив, изогнулся в седле и, полыхнув золотой вышивкой, достал из складок плаща кремневый пистолет.
Калфхилл изумленно вытаращил глаза, словно увидел ловкий трюк, затем отступил назад.
— Что за черт?..
Мужчина, не церемонясь, разрядил пистолет. Выстрел был удивительно тихий, только легкий дымок поднялся над стволом. Свинцовая пуля ударила Калфхилла прямо в грудь. Качнувшись, как неуклюжий танцор, он отступил к морю, потом опустил голову и с любопытством взглянул на рану, из которой струей хлестала кровь, словно из дырки в винной бочке — вино. Он хотел зажать рану рукой, но перед его куртки уже потемнел, а лицо стало белым как полотно. Его рот открылся и закрылся, точно пытаясь напоследок гневно возразить. Но ничего не получилось: плавным, почти балетным манером он исполнил полуповорот и рухнул в тростник у кромки воды. Мужчина убрал пистолет и уже через пять минут присоединился к своим спутникам, поджидавшим его на гребне холма. Около мили троица следовала по одной из овечьих троп, вьющихся между холмов. Затем всадники поскакали по узкой почтовой дороге. А в это время полдюжины песчаных крабов уже спешили по галечному берегу к телу Калфхилла, над которым, словно плакальщицы, склонились красавицы ивы. Его труп обнаружат только через несколько дней, когда черная троица уже достигнет ворот Лондона.
Глава 3
В те дни добраться из Лондона в Крэмптон-Магна можно было лишь так: до Шафтсбери ехать по дороге, что ведет на Плимут, а там повернуть на юг и петлять по скверным и редко используемым колейным дорогам, ведущим к этому далекому побережью. Одна из таких дорог, подходивших к Дорчестеру, — самая из них разбитая — огибала селение: десять-двенадцать бревенчатых домов с закопченными, поросшими мхом тростниковыми крышами, скрытыми в ложбине между невысокими холмами. Еще в Крэмптон-Магна — поскольку мы наконец-то добрались до него — имелись ветхая мельница с пересохшим каналом, одна-единственная гостиница, церковь с восьмиугольным шпилем и обмелевший, торфяного цвета ручей, который в одном месте можно было перейти вброд, а в другом — в нескольких сотнях ярдов ниже по течению — по узкому каменному мостику.
Солнце уже клонилось к холмам, когда карета, в которой я путешествовал, подъехала к этой деревне и наконец, еле-еле протиснувшись на мост и задев бортами парапет, переправилась на другой берег.
Минуло пять дней с тех пор, как мне прислали то странное приглашение. Высунувшись из дверного окна, я оглянулся на дома и церковь. В воздухе витал слабый запах дыма от дров, горящих в очагах, — но в тающем вечернем свете, когда все вещи отбрасывают длинные бурые тени, деревня выглядела неестественно пустой. Выехав утром из Шафтсбери, мы за целый день не встретили никого, кроме случайного стада черномордых овец, и у меня сейчас возникло чувство, словно я оказался на краю покинутых людьми земель.
— Далеко ли еще до Понтифик-Холла?
Мой возница, Финеас Гринлиф, опять что-то тихо промычал — так он отвечал на большинство моих вопросов. И я, уж в который раз, подумал — не глух ли он? Это был мрачный и сонный, еле-еле двигающийся старик. Я поймал себя на том, что всю дорогу разглядывал не столько сельские пейзажи, сколько жировую шишку у него на шее да его сухую левую руку, торчавшую из укороченного рукава куртки. Три дня назад, как и было обещано, он ожидал меня в «Трех голубях» на Хай-Холборне. Его карета была явно самым впечатляющим транспортным средством на конном дворе этой таверны: просторный четырехместный экипаж с покрытыми навесом козлами и лакированными стенками, в которых я разглядел свое волнообразное отражение. Дверцу украшал замысловатый герб. Пришлось пересмотреть давешнюю гипотезу о безденежье моей будущей заказчицы.
— Значит, мне предстоит встреча с леди Марчмонт? — спросил я Гринлифа, когда мы выехали с конного двора, преодолев узкую подъездную дорогу. В ответ я услышал лишь его уклончивое мычание, но я еще не успел испугаться и рискнул задать следующий вопрос: — Возможно, леди Марчмонт желает приобрести некоторые из моих книг?
Этому вопросу повезло больше.
— Купить ваши книги? Нет, сэр, — помолчав, сказал он, сильно прищурившись на убегающую вдаль дорогу. Его вытянутая вперед голова и вздернутые плечи придавали ему сходство с какой-то хищной птицей. — Пожалуй, у леди Марчмонт книг уже вполне достаточно.
— Тогда, может, она желает продать книги?
— Продать свои книги? — Опять озадаченное молчание. Он нахмурился — и морщины, точно клинопись прорезавшие его лоб и щеки, стали еще глубже. Он снял свою низко надвинутую касторовую шляпу и, обнажив голый череп, пятнистый, как перепелиное яйцо, вытер пот со лба. Наконец, водрузив шляпу обратно своей недоразвитой ручкой, он выдавил из себя какое-то мрачное кудахтанье. — Вообразить такого не могу, сэр. Леди Марчмонт очень любит свои книги.
Это был, вероятно, самый содержательный разговор за все три дня пути. Дальнейшие вопросы либо игнорировались, либо в ответ доносилось традиционное мычание и хмыканье. Больше никаких звуков он не издавал, не считая замогильного храпа, который не давал мне спать и в нашу первую ночь в Багшоте, и во вторую — в Шафтсбери.
Мы продвигались вперед безумно медленно, просто с черепашьей скоростью. Мне, коренному горожанину, привыкшему к городскому дыму и суете, к стремительному движению толпы и вращению железных колес, наше неторопливое передвижение по сельской местности, по пустующим вересковым низинам и крошечным безымянным селениям, казалось почти невыносимым. Но угрюмый Гринлиф явно не собирался прибавить ходу. Он торчал как столб на своем кучерском месте, и милю за милей поводья свободно болтались в его руках, а кнут покачивался между колен, точно рыболовная удочка над форелевой речкой. А теперь, после Крэмптон-Магна, еще и дорога вовсе испортилась. Этот последний этап нашего путешествия длился целый час, хотя проехали мы всего одну или две мили. Похоже, сюда годами никто не заглядывал. Кое-где высокая трава полностью скрывала дорогу; то левая колея становилась значительно глубже правой, то наоборот, а местами обе они были завалены довольно крупными камнями. Ветви деревьев шелестели по крыше кареты, а неподстриженные живые изгороди из бука и колючего кустарника царапали бока. Нам постоянно грозила опасность перевернуться. Но вот наконец, после того как карета протиснулась через второй каменный мост, Гринлиф натянул поводья и отложил в сторону кнут.
— Понтифик-Холл, — пробормотал он себе под нос.
Я высунулся из окна, и на мгновение меня ослепили пылающие мазки, окрасившие склон неба. Сначала я ничего не заметил, кроме монументальной арки, на замковом камне которой с трудом смог разглядеть несколько высеченных букв: L TE A S RIT M N T.
Подняв правую руку, я прикрыл глаза от закатных лучей. Гринлиф, причмокивая, погонял лошадей, которые опустили головы и устало продвигались вперед, помахивая хвостами и хрустя копытами по гравию, и уже через несколько ярдов вышли на грунтовую дорожку. Резная надпись — затененная, оплетенная плющом и покрытая мшистыми проплешинами горчичного и черного мха — по-прежнему плохо читалась, хотя теперь можно было разобрать еще несколько букв: LITE A S RIPT M NET.
Одна из лошадей фыркнула, шарахнулась в сторону, словно отказываясь входить в ворота, и встала на дыбы. Гринлиф дернул поводья и громко выругался. Мы въехали под тенистый арочный свод, и огромный особняк вдруг появился на горизонте. Опустив руку, я высунулся в маленькое оконце кареты.
В течение последних нескольких дней я мысленно пытался представить себе Понтифик-Холл, но ни одна из моих воображаемых картин не выдерживала сравнения с видом этого здания, обрамленного, точно картина, массивными столпами арки. Оно возвышалось за обширным зеленым газоном, который перерезала желтая дуга подъездной дороги, обсаженная с двух сторон рядами лип. Этот газон, волнообразно опускаясь и вздымаясь, подходил к массивному, траченному временем кирпичному фасаду, разделенному четырьмя гигантскими пилястрами. Между ними симметрично располагались восемь окон. Низкое солнце подчеркивало темные силуэты медного флюгера и шести цилиндрических каминных труб.
Карета продвинулась вперед еще на несколько футов, звякнули постромки. Так же неожиданно, как первый раз, картина вдруг преобразилась. Солнце, почти скрывшееся за коньком крыши, вдруг представило все в ином свете. Луг, как внезапно увидел я, зарос сорняками и был весь в рытвинах — как и подъездная дорога, испещренная какими-то давними ямами и возвышающимися рядом земляными пирамидами. Многие липы зачахли и сбросили листву, а от остальных деревьев и вовсе остались лишь короткие обрубки. Да и самому дому, протянувшему к нам длинную тень, жилось не лучше. Весь фасад покрылся щербинами, оконные рамы треснули, каменные водосточные желоба разрушились. Пустующие оконные проемы наскоро закрыли соломой и клочками ткани; в одно из окон даже забрался толстый ствол плюща. Сломанные солнечные часы, высохший фонтан, заросший тиной пруд, неухоженный цветник — все довершало картину разорения. Флюгер, когда мы подъехали чуть ближе, полыхнул угрожающим блеском. Мои надежды, только было ожившие и посветлевшие, вновь исчезли.
Одна из лошадей опять заржала и уклонилась в сторону. Гринлиф резко дернул поводья и издал очередной резкий окрик. Еще пара неохотных шагов по посыпанной гравием дорожке — и нас проглотила арка. В последний момент перед тем, как она накрыла наши головы, я взглянул вверх на клинчатые кирпичи свода и венчающий его замковый камень: LITERA SCRIPTA MANET. [2]
Десять минут спустя я уже стоял в центре огромной комнаты, в которую свет проникал лишь через разбитое окно, выходившее на заросший цветник, за которым, в свою очередь, располагались растрескавшийся фонтан и сломанные солнечные часы.
— Не соблаговолите ли подождать здесь, сэр, — произнес Гринлиф.
Пещерный полумрак особняка огласился глухими звуками его шагов, он поднялся по скрипучей лестнице и прошел по второму этажу, над моей головой. Мне показалось, я расслышал какой-то разговор и другие шаги — более легкие.
Время шло. Постепенно глаза мои привыкли к сумрачному освещению. Присесть в этой комнате, похоже, было не на что. Я гадал: знак ли это пренебрежительного отношения ко мне или подобное странное гостеприимство — оставлять человека в одиночестве в полутемной комнате — в обычае у титулованных особ. Видя полуразрушенное состояние Понтифик-Холла, я решил было, что это несчастное поместье в числе других подверглось разграблению войсками Кромвеля во время Гражданской войны. Мне не нравился Кромвель с его пуританами — шайка иконоборцев и уничтожителей книг. Но и к нашим надменным аристократам особой любовью я не пылал, поэтому меня развлекали сообщения в наших новостных листках о буйствах подмастерий, которые, обстреляв их великолепные родовые гнезда пушечными ядрами и крупной картечью, выпроваживали благородных неженок в поля, дабы затем свободно порезвиться в их винных погребах и содрать золотые украшения с дверей и карет. Должно быть, думал я, некогда величественный Понтифик-Холл подвергся, наряду с многими другими особняками, такому же уничижению.
Половица скрипнула под моим башмаком, когда я повернулся и пошел прочь от окна. Затем носок моей косолапой ноги за что-то зацепился. Приглядевшись, я заметил пухлый, распластанный на полу фолиант, его страницы трепетали от дуновений ветерка, проникавшего сквозь разбитое окно. Рядом с ним, дополняя картину беспорядка, валялись квадрант, маленькая зрительная труба в проржавевшей оправе и еще несколько инструментов менее определенного назначения. Среди них я заметил с полдюжины старых карт, сильно помятых и с завернутыми уголками. В таком тусклом свете невозможно было узнать ни береговые линии, ни предположительные очертания материков.
Однако… было все-таки нечто знакомое. Какой-то старый запах, пропитавший все это помещение… и я узнал его: этот запах я знал лучше и любил больше, чем любые благовония. Я вновь повернулся и, взглянув наверх, увидел, что стены сплошь закрыты рядами книжных полок, на полпути вверх опоясанными галереей с перилами, — а над ней вновь теснились книги, уходя ввысь к невидимому потолку.
Библиотека. Итак, подумал я, задрав кверху лицо, по крайней мере в одном Гринлиф был прав: книг у леди Марчмонт действительно много. Какие знания разбросаны по сотням стоящих на полках томов всевозможных размеров, форм и объемов! Некоторые из книг, доступных моему взгляду, были огромны, как каменные глыбы, и прикованы к полкам длинными цепями, которые, словно ожерелья, повисли на деревянных крышках их переплетов, а другие — размером в одну шестнадцатую листа — были не больше табакерки и вполне могли уместиться на ладони; их переплеты из клееного картона завязывались выцветшими тесемками или закрывались на крошечные застежки. Но и это было не все. Те книги, что не влезли на полки — сотни две, а то и больше, — громоздились на полу и заполоняли смежные коридоры и помещения; явный перебор: то, что начиналось по-военному ровным строем, через пару шагов превращалось в беспорядочный хаос.
Изумленно оглядевшись кругом, я подошел к одной из ближайших стопок и осторожно опустился на колени. От нее пахло сыростью и гнилью, как от компоста, — а этот запах не казался таким уж приятным. Мое обоняние было оскорблено, так же как мои профессиональные инстинкты. Тихий, трепетный жар волнения, зародившегося в моей груди при виде этих золотых надписей на четырех или пяти языках, что подмигивали мне с прекрасных тисненых переплетов, — вид столь обширных знаний в прекрасных изданиях — мгновенно превратился в яростное пламя. Видимо, здешние книги, как и весь Понтифик-Холл, уже обречены. Эту библиотеку скорее можно было назвать склепом. Я возмутился еще больше, чем прежде.
Но и любопытство мое разгорелось сильнее прежнего. Я взял наугад книгу из рассыпавшейся стопки и открыл потрепанную обложку. Буквы на титульном листе были едва различимы. Я перевернул еще одну покоробившуюся страницу. Не лучше. Тряпичная бумага так сильно сморщилась от влажности, что вид страниц напоминал гимениальные пластинки под шляпкой гриба. Такая книга не делала чести ее владельцу. Я пролистал жесткие страницы, большинство из которых было изъедено червями; целые абзацы стали совершенно нечитаемыми, превратившись в бумажную пыль. С отвращением положив эту книгу на место, я взял другую и затем еще одну — обе они столь же сильно пострадали и могли заинтересовать разве что старьевщика. Четвертая книга выглядела так, словно ее вытащили из огня, а пятая давно выцвела и пожелтела под лучами солнца. Я вздохнул и сложил их в стопку, надеясь, что леди Марчмонт не рассчитывает восстановить благосостояние Понтифик-Холла посредством продажи такого мусора.
Однако не все книги были в столь плачевном состоянии. Подойдя к полкам, я увидел, что многие тома — по крайней мере, их переплеты — обладали немалой ценностью. Здесь можно было встретить прекрасную сафьяновую кожу всевозможных цветов; одни книги украшали золотое тиснение или вышивка, другие — драгоценные камни и металлы. Правда, много пергаментов покоробилось, и сафьян слегка утратил свой блеск, но не было таких дефектов, с которыми не справилась бы капля кедрового масла или ланолина. Одни только камешки — на мой неискушенный взгляд, они походили на рубины, лазуриты и лунные камни, — должно быть, стоили небольшое состояние.
Полки вдоль южной стены, у самого окна, были посвящены греческим и римским авторам, и целые две полки прогибались под тяжестью различных трудов и изданий Платона. Владелец этой библиотеки, должно быть, обладал как обширными знаниями, так и большим кошельком, поскольку ему явно удалось заполучить лучшие издания и переводы. Здесь имелось не только напечатанное в Венеции знаменитое пятитомное второе издание Platonis opera omni[3], переведенное на латинский Марсилио Фичино и включавшее также поправки, сделанные к первому изданию, заказанному Козимо Медичи, но и более авторитетный перевод, изданный в Женеве Анри Этьеном. Аристотель между тем был представлен не только двухтомным базельским изданием 1539 года, но и изданием 1550-го с исправлениями Виктория и Флакия, и, наконец, здесь стояли Aristotelis opera [4], подготовленные к печати великим знатоком античной литературы Исааком Казобоном и опубликованные в Женеве. Все они находились в приемлемом состоянии, не считая случайных надписей или царапин, и их можно было продать за хорошую цену.
Другим классическим авторам здесь также воздали по заслугам. То поднимаясь на цыпочки, то приседая на корточки, я доставал с полки том за томом и просматривал каждый, прежде чем аккуратно вернуть его на место. Тут оказались и изданная Пламерием Natyralis historia Плиния, переплетенная в красную телячью кожу, и изданные Мануцием труды Ливия, и к тому же Historiarum Тацита в изысканном переплете, изданное Винделином. Встретилось мне здесь и базельское издание Цицерона De natura deorum, переплетенное в оливкового цвета сафьян с прекрасно выполненным рельефным орнаментом… De rerum natura в издании Диониса Ламбина. И самое удивительное, я узнал издание Какстона, книгу Confessiones Святого Августина с полустертым тиснением на телячьей коже. Кроме того, на полках стояло множество более тонких книг с комментариями, к примеру толкование Порфирием — Горация, Фичино — Плотина, Донатом — Вергилия, Проклом — «Государства» Платона…
Так я и бродил, глядя во все глаза, вдоль полок, совершенно забытый неучтивой хозяйкой дома. Помимо трудов древних ученых здесь были также представлены научные достижения начала нашего столетия. Библиотеку украшали книги по навигации, земледелию, архитектуре, медицине, садоводству, теологии, естественным наукам, астрономии, астрологии, математике, геометрии и «стеганографии», или тайнописи. Был даже целый ряд сборников поэзии, драматургии и nouvelles.[5] Английские, французские, итальянские, германские, богемские, персидские авторы — видимо, приобреталось все подряд. Авторы и названия, украсившие прошлое, перекличка славных имен. Остановившись возле одной из полок, я пробежал пальцами по корешкам изданных в формате ин-кварто книг с пьесами Шекспира; всего девятнадцать томов, в переплетах из клееного холста. Но здесь отсутствовало, как я заметил, известное любому книготорговцу собрание его пьес в книгах большего формата, ин-фолио, которое издал Уильям Джагтард в 1623 году. Подобное упущение поразило меня, ведь стремление хозяина этой коллекции к всестороннему и полнейшему обладанию книжными изданиями бросалось в глаза. Похоже, в этой библиотеке не было ни одной книги, изданной после 1620 года. К примеру, большое собрание травников представляли: De historia plantarum Теофраста, Medicinae herbariae Агриколы и «Общая история растений» Джерарда, но совсем не было более поздних работ, таких как Pharmacopoeia Londinensis Кулпепера и «Сад здоровья» Лангэма, или даже дополненной и значительно исправленной книги Джерарда, изданной в 1633-м Томасом Джонсоном. Что бы это могло значить? Что коллекционер умер до 1620 года, прервав осуществление своих грандиозных планов? Что в течение последних лет сорока это великолепное собрание оставалось неприкосновенным и нечитанным, что его некому было пополнять?
Далее я перешел к северной стене, и здешнее собрание показалось мне еще более замечательным. Дотянувшись до верхних полок, я потрогал парочку выступающих переплетов. За окном быстро темнело. Оказалось, что обширный раздел слева посвящен металловедению. Сначала шел ряд работ, которые я и ожидал увидеть, таких как Pirotechnia Бирингуччо и Besdhreibung allerfurnemisten Mineralischen Ertzt Эркера, переплетенные в свиную кожу и отличавшиеся превосходными гравюрами. Немного устаревшие, но тем не менее приличные книги. Однако мне было непонятно, как среди них затесались такие произведения, как Mettalurgia Якоба Бёме, Mineralia opera Исаака Голландского и «Истинная естественная философия металлов» в переводе некоего Дениса Захарии, — книги, которые считались едва ли не учебниками черной магии, измышлениями жалких и погрязших в суеверии умов.
На той же полке встретились мне и другие жалкие и погрязшие в суеверии умы. Мудрость и хороший вкус, до сих пор очевидные в выборе книг, обернулись всеядным и неразборчивым пристрастием к авторам невысокой репутации, которые с излишней — и даже греховной! — готовностью принимали на веру сверхъестественные природные явления. Выцветшие завязки, подобно наглым розовым язычкам, свисали с корешков книг. Прищурившись, я старался прочесть названия в сумеречном свете и вытащил французский перевод трудов Артефия. Рядом с ним стояли комментарии Алана де Лиля к пророчествам Мерлина. Дальше пошло еще хлеще. Роджер Бэкон — «Зеркало алхимии», Джордж Рипли — «Алхимическая смесь», Корнелий Агриппа — De occulta philisophia, Пауль Скалих — Occulta occultum occulta … Все как один обманщики, шарлатаны или шаманы, которые, по моим понятиям, были просто не способны преуспеть в истинных науках. На нижней полке стояла дюжина книг по различным формам гаданий. Пиромантия. Хиромантия. Астрология. Скиомантия.
Скиомантия? Я приставил к полке мою суковатую терновую палку и достал последний том. Все ясно, «гадание по теням». Я захлопнул книгу. Такому вздору, казалось бы, совершенно не место в библиотеке, в остальном посвященной более благородным научным предметам. Я вернул книгу на полку и, наугад потянув за завязки, вытащил другую. Как жаль, что черви не устроили пир на этих страницах, подумал я, открывая ее. Но прежде чем я успел прочесть название на титульном листе, сзади меня вдруг раздался голос.
— «Поймандр» [6], перевод Фичино, издание Лефевра. Прекрасное издание, господин Инчболд. Конечно же, у вас также имеется нечто подобное.
Я вздрогнул и, подняв глаза, увидел в дверях библиотеки две темные фигуры. У меня вдруг появилось тревожное ощущение, что за мной какое-то время незаметно следили. Одна из фигур — женская — сделала несколько шагов вперед и, отвернувшись, зажгла фитиль лампы на рыбьем жиру, стоявшей на одной из полок. Ее тень метнулась в мою сторону.
— Позвольте мне извиниться, — сказал я, поспешно вставляя книгу на место. — Я не предполагал…
— В издании Лефевра, — продолжала она, повернувшись и раздув вощеный фитиль, — подчеркивается, что обе книги Corpus hermeticum изданы под одной обложкой впервые с тех пор, как они были собраны в Константинополе Михаилом Пселлом. Здесь есть даже «Асклепий», которого не было в распоряжении Фичино, потому-то он и не смог включить его в издание, подготовленное для Козимо де Медичи. — Она чуть помедлила. — Не желаете ли выпить вина, господин Инчболд?
— Нет… вернее, да, — ответил я, делая неловкий поклон. — Я хотел сказать… Немного вина не помешало бы…
— И немного закуски? Финеас сообщил мне, что вы не ужинали. Бриджет! — Она повернулась к своей спутнице, все еще стоявшей в дверях.
— Да, леди Марчмонт?
— Будь добра, принеси бокалы.
— Слушаюсь, миледи.
— Венгерское вино, думаю, подойдет. И передай Мэри, пусть приготовит ужин для господина Инчболда.
— Слушаюсь, миледи.
— И поторопись, Бриджет. Господин Инчболд совершил длинное путешествие.
— Да, миледи, — пробормотала девушка и поспешно исчезла.
— Бриджет только недавно поступила на службу в Понтифик-Холл, — пояснила леди Марчмонт каким-то странно доверительным тоном, медленно идя по библиотеке со светильником, который при движении поскрипывал на петлях и превращал ее глаза в темные провалы. Она, по-видимому, была не склонна к церемонному знакомству, словно знала меня целую вечность и ничуть не удивилась, обнаружив меня крадущимся в темноте, как грабитель, и жадно шарящим по книжным полкам в ее библиотеке. Может, это тоже в обычае у аристократов? — Прежде она служила, — добавила она, — в семье моего покойного мужа.
Я думал, что на это ответить, — и ничего не придумал; я просто в каком-то тупом молчании смотрел, как она приближалась ко мне, окруженная приглушенным светом лампы, и лишь тонкая струйка дыма от фитиля поднималась за ней к потолку. О, я помню тот момент во всех подробностях! Ведь именно там, в библиотеке, все и началось… и именно там довольно скоро и закончится. Сквозь разбитые стекла доносились трели соловьев, стороживших этот запущенный сад, и царапанье сухой ветви по одному из средников оконной рамы. В самой библиотеке стояла тишина, если не считать медленных шагов ее хозяйки (она носила высокие кожаные ботинки со шнуровкой), а потом — хлопка от задетой подолом ее юбки и упавшей книги (одной из тех, что стопками сложены были прямо на полу).
— Скажите, господин Инчболд, как прошло ваше путешествие? — Подойдя ко мне, она наконец остановилась; черты ее плохо освещенного лица видны были смутно, и в них читалась досада. — Нет, нет. Не стоит начинать наше знакомство со лжи. Оно было ужасным, не правда ли? Да, я знаю, что это так, и должна извиниться перед вами. Финеас вполне заслуживает доверия как кучер, — сказала она со вздохом, — но, пожалуй, собеседник он совсем никудышный. Бедняга, за всю жизнь он не прочел ни единой книжки.
— Мы славно попутешествовали, — неуверенно пробормотал я. Да, вопреки тому, что она сказала, наше общение было построено на лжи. На лжи — от начала до конца.
— Сожалею, что не могу предложить вам присесть, — продолжала она, обводя библиотеку широким жестом. — Солдаты Кромвеля пустили всю мою мебель на растопку.
Я удивленно прищурился:
— Здесь был расквартирован один из полков?
— Лет четырнадцать или пятнадцать тому назад. Наше имение конфисковали за изменническую деятельность против парламента. Эти солдафоны сожгли даже мою лучшую кровать. Двенадцати футов высотой, господин Инчболд. С четырьмя буковыми колонками и шикарным занавесом, на который пошло множество ярдов тафты. — Леди Марчмонт помолчала и взглянула на меня с кривой усмешкой. — Остается утешать себя тем, что она хоть согрела их на какое-то время, не так ли?
Сейчас она уже стояла прямо передо мной, почти рядом, и я более отчетливо видел ее в желтоватом ламповом свете. У нас с ней были лишь три короткие встречи, и мое первое впечатление — как ни странно мне это сейчас — оказалось не слишком благоприятным. Должно быть, мы с ней были примерно одного возраста, и хотя черты ее были довольно привлекательны, даже благородны — безупречной формы лоб, тонкий орлиный нос и черные глаза, в которых сквозила воля и решительность, — однако эти достоинства портила неряшливость или бедность. Ее густые темные волосы, в отличие от моих, еще не начали седеть, но они были распущены и на макушке непослушно топорщились, образуя какой-то несуразный нимб. Ее платье было сшито из довольно хорошего материала, но его ворс давно выносился, и покрой уже вышел из моды, а хуже всего, что оно было грязное, как старый парус. Она носила не то складывающуюся шляпку-«кибитку», не то накидку с капюшоном, может быть даже шелковую, но непохожую на те очаровательные бледно-желтые накидки, что украшают головки модниц, прогуливающихся в Сент-Джеймсском парке: головной убор леди был черен, как гагат, и заношен, как ее платье. Из-за этих мрачных расцветок и пары черных перчаток, натянутых выше локтя, казалось, что она в трауре. Во всем этом сквозил, подумал я, тот же дух былой роскоши, разоренной и порушенной, как сам Понтифик-Холл.
— Пуритане сожгли всю вашу мебель?
— Не всю, — ответила она. — Нет. Полагаю, часть ее, наиболее ценные вещи, просто продали.
— Простите, мне очень жаль. — В этот момент кромвелевская бесштанная солдатня показалась мне совсем уж непривлекательной.
Ее губы тронула полуулыбка.
— Не стоит, господин Инчболд. Нет нужды извиняться за их поведение. Кровати ведь можно заменить, в отличие от других вещей.
— Вашего мужа, — сочувственно пробормотал я.
— Даже мужа можно заменить, — сказала она. — Даже такого мужа, как лорд Марчмонт. Вы знали его? — Я отрицательно покачал головой. — Он был ирландцем, — просто сказала она. — Умер во Франции два года назад.
— Он был роялистом?
— Конечно.
Отвернувшись от меня, она медленно обходила библиотеку, окидывая взглядом книжные полки, точно ревностный эконом, оглядывающий образцовое стадо или на редкость хороший урожай зерна. У меня уже возникали сомнения: принадлежат ли они ей. Не похоже, что это так. Я знал по опыту, что книги — дело не женское. Но откуда, в таком случае, она знала о Фичино, о Лефевре д'Этапле и Михаиле Пселле? Я почувствовал, как меня мало-помалу охватывает дрожь любопытства.
— Это все, что у меня осталось, — сказала леди Марчмонт, словно разговаривая сама с собой. Она пробежала затянутыми в перчатку пальцами по корешкам книг почти так же, как сделал это я несколькими минутами раньше. — Все, чем я владею. Эти книги и сам дом. Правда, еще очень не скоро я смогу стать официальной владелицей Понтифик-Холла.
— Поместье принадлежало лорду Марчмонту?
— Нет, его поместье находилось в Ирландии, был еще и особняк в Хартфордшире. Отвратительные места. Понтифик-Холл принадлежал моему отцу, но после нашей женитьбы лорд Марчмонт был объявлен предполагаемым наследником. Детей у нас не было, и после его смерти имение по завещанию перешло ко мне. Вон там… — Она махнула рукой в сторону окна, где уже почти стемнело. Цветник затерялся в тени, на которую накладывались наши отражения. — Около стола стояли четыре обтянутых кожей стула и превосходная старинная конторка орехового дерева, за которой отец обычно писал письма. Пол покрывал турецкий ковер ручной работы с вытканными обезьянками, павлинами и всевозможными восточными орнаментами. — Медленно она перевела взгляд обратно на меня. — Мне даже интересно, какая судьба постигла все эти вещи. Не удивлюсь, если эти грабители продали их за бесценок.
Я откашлялся и высказал мысль, только что пришедшую мне в голову:
— Просто чудо, что сохранились ваши книги.
— О нет, они тоже не сохранились, — последовал ее быстрый ответ. — Вернее, не все сохранились. Вернувшись сюда, я обнаружила, что многое пропало. А некоторые книги, как вы видите, находятся в ужасном состояний. Но пожалуй, без чуда не обошлось. Солдаты могли бы сжечь половину библиотеки, и не только из-за зимних морозов. Часть книг могли счесть папистскими или дьявольскими или теми и другими одновременно. — Она кивнула в сторону высившихся за мной полок. — «Поймандра» в переводе Фичино, например. К счастью, все они были спрятаны.
— Что вы имеете в виду?
— Спрятаны моим отцом. Это долгая история, господин Инчболд. Все в свое время. Видите ли, любая из здешних книг имеет собственную историю. Многие из них пережили кораблекрушение.
— Кораблекрушение?
— А другим, — продолжала она, — пришлось стать беженцами. Вы видите те цепи? — Она показала на ряд томов, прикованных к полке за переплеты. Звенья цепей тускло поблескивали в полумраке. Я кивнул. — Эти книги уже однажды спасли, вывезли из колледжей Оксфорда. Из цепных библиотек, — пояснила она, слегка выдвинув одну из них, большой фолиант, с полки. Ее затянутая в перчатку рука с нежностью погладила кожаную поверхность. Цепь протестующе звякнула. — Это произошло в прошлом веке.
— Их спасали от Эдуарда Шестого?
— От его сторонников. Книги тайно вывезли из университетских библиотек, спасая от грядущих костров. — Она открыла огромный том и начала вяло перелистывать страницы. — Просто поразительно, с какой решимостью короли и императоры стремились уничтожать книги. Но культура ведь вся построена на таких осквернениях, разве не так? Великий Юстиниан сжег все греческие свитки в Константинополе после того, как кодифицировал римское право и победил в войне с остготами в Италии. А Шихуанди, первый император Китая, человек, объединивший пять царств и построивший Великую стену, приказал уничтожить все книги, написанные до его рождения. — Она захлопнула фолиант и решительно вставила его на место. — Эти книги, — сказала она, — мой отец приобрел гораздо позднее.
— Вот как, — сказал я, надеясь, что мы наконец подошли к сущности дела. — Значит, все эти книги являются его собственностью? И вы желаете продать их?
— Являлись, — уточнила она. — Они являлись его собственностью. Да, он собрал эту коллекцию. — Она помолчала мгновение и печально взглянула на меня. — Нет, господин Инчболд, я не хочу продавать их. Почти наверняка не хочу. А вот и Бриджет, — поворачиваясь, сказала она. — Не перейти ли нам в столовую? Думаю, там я смогу предложить вам присесть.
Чуть позже мне подали большую тарелку с уткой, которую кухарка миссис Уинтер запекла с зеленым луком-шалотом. За отсутствием обеденного стола — видимо, очередная военная потеря, — эта тарелка ненадежно балансировала у меня на коленях. Я испытывал неловкость и ел без аппетита, ощущая на себе проницательный взгляд хозяйки дома, сидевшей напротив меня. В какой-то момент она начала откровенно разглядывать мою усохшую и развернутую внутрь стопу, которая походит, как мне всегда казалось, на жалкий отросток уродливого карлика из собрания немецких сказок. Я почувствовал, как щеки мои наливаются кровью от обиды, но к этому времени леди Марчмонт уже смотрела в другую сторону.
— Я должна извиниться за это вино, — сказала она, кивнув Бриджет, чтобы та наполнила мой бокал вином в третий раз. — Когда-то мой отец выращивал собственный виноград. В этой долине. — Она сделала неопределенный жест в сторону разбитых окон. — На речных склонах, защищенных от ветра. Из того винограда получались превосходные вина, по крайней мере так мне рассказывали. В то время я была слишком молода, чтобы наслаждаться ими, а позже эти виноградники вырубили.
— Солдаты, я полагаю?
Она отрицательно покачала головой:
— Нет, другой род вандалов, и вдобавок местные. Крестьяне.
— Крестьяне? — Мне вспомнилась зловеще пустая деревня, через которую мы проезжали. — Из Крэмптон-Магна?
— Да. И не только оттуда.
Я пожал плечами:
— Но зачем им это?
Подняв свой бокал, она задумчиво заглянула в темную жидкость. Чуть раньше она уже рассказала — сбивчиво и несколько невпопад — о том, как эти бокалы изготовляли. Ее отец получил что-то вроде патента на такое производство: оно заключалось в том, что сперва золото в плавильном тигле смешивали с ртутью, затем ртуть выпаривали и покрывали стекло тонкой пленкой оставшегося золота. После него осталось много патентов, пояснила она. Настоящий Дедал. Сейчас она, казалось, внимательнейшим образом разглядывала вензель на дне бокала — переплетенные буквы АП, которые я уже и сам заметил.
— Скажите, господин Инчболд, — начала она после паузы. — Подъезжая к Понтифик-Холлу, не обратили ли вы случайно внимания на те раскопки, что ведутся на лужайке и подъездной дороге?
Я кивнул, вспоминая хаотично прорытые канавы и кучи земли на их склонах.
— Я принял их за какие-то земляные укрепления. — (Она покачала головой, окруженной подобием черного нимба.) — Артиллерийский огонь?..
— Нет, ничего столь… драматичного. Понтифик-Холл никто не осаждал. Обе воюющие стороны сочли наш парк недостойным внимания. К счастью для нас, господин Инчболд, иначе вряд ли бы мы с вами сегодня здесь беседовали.
Меня так и подмывало спросить, чего ради мы тут беседуем. Я понятия не имел, зачем она пригласила меня и почему описывает мне историю ее своеобычного и, откровенно говоря, мрачного дома. Может, это очередная аристократическая причуда? Если она не хочет, чтобы я оценил или распродал на аукционе ее книги, какую же еще услугу могу я ей оказать? Определенно, у нее не было желания — и необходимости — приобретать новые книги. Кто же возит дрова в лес? Неожиданно я почувствовал себя как никогда выдохшимся и измученным.
Но похоже, мне еще не скоро откроют суть предстоящей работы, поскольку леди Марчмонт уже приступила к пространному рассказу о недавней истории Понтифик-Холла. Пока я неловко расчленял запеченную утку, она поведала мне, что после того, как военные удалились, порубив на дрова фруктовый сад и мебель и разобрав кованую железную ограду, чтобы перелить на мушкеты и пушки, дом пустовал много месяцев. Имение передали в руки некоего опекунского совета, узаконенного парламентом в 1651-м, и в конечном итоге его продали местному члену парламента, человеку по имени Стэндфаст Осборн.
— Мы с лордом Марчмонтом жили в то время изгнанниками во Франции. Я вернулась обратно в Англию месяца два назад, когда этот дом возвратили мне согласно Акту об амнистии и компенсации. Осборн уже почти год как уехал. Сбежал в Голландию. Очень благоразумно с его стороны, поскольку он был одним из судей, приговоривших к смерти Карла Первого. Возвращаясь из Франции, я не ждала, что меня радушно встретят в Понтифик-Холле, ведь народ в наших краях поддерживал сторонников парламента. И мои ожидания оправдались. Добропорядочные обыватели Крэмптон-Магна, думаю, уже считают меня ведьмой. — На лице ее вновь мелькнула полуулыбка, и она с равнодушным видом пожала плечами. — Пожалуй, вам, как лондонцу и образованному человеку, это может показаться странным, но тем не менее такова правда. Любую женщину, умеющую читать, здесь считают ведьмой. Так что уж говорить о той, которая живет одна в полуразрушенном доме, окруженная книгами и странными инструментами, живет без мужа, без отца, без детей, которые могли бы вразумлять ее и руководить ею… В общем, хуже не бывает, правда?
Она помолчала, внимательно наблюдая за мной своими глубокими, близко посаженными глазами, которые, как я заметил благодаря более сносному освещению столовой, были серо-голубыми. Медленно и вяло я пережевывал мясо, как корова жвачку. Ногу я спрятал под стул, с глаз долой. Леди Марчмонт повернулась и жестом приказала Бриджет наполнить мой бокал.
— Теперь можешь идти, — сказала она служанке, когда та справилась со своей задачей. И едва звук шагов девушки, проглоченный огромным, гулким домом, наконец затих, она продолжила: — Я столкнулась с ужасными сложностями, попытавшись нанять слуг в здешних краях, — сказала она доверительным тоном. — Вот почему мне пришлось забрать сюда прислугу из имения лорда Марчмонта.
— Но из-за чего возникли сложности? Из-за лорда Марчмонта? Или из-за ваших… политических взглядов?
Она покачала головой.
— Нет, из-за моего отца. Возможно, вы слышали о нем, он был достаточно известной фигурой в свое время. Его звали сэр Амброз Плессингтон, — после короткой паузы добавила она.
Это имя, как ни странно мне теперь это кажется, тогда не вызвало у меня никаких ассоциаций, абсолютно никаких. Но когда я сейчас вспоминаю то мгновение, мне чудится, что наступила звенящая тишина, что весь мир остановился и повис — и в тишине выросла длинная тень, затопившая комнату и опустившая надо мной тяжелый покров темноты. На деле же я просто отрицательно покачал головой, удивляясь про себя, как я мог не знать человека, умудрившегося собрать такую замечательную библиотеку.
— Нет. Я не слышал о нем, — ответил я. — Кем он был?
Она молчала, словно не слышала моего вопроса, и сидела совершенно неподвижно, сложив руки на коленях. Масляная лампа отбрасывала тень леди Марчмонт на изогнутую стену у нее за спиной. От нечего делать я вспомнил о встретившейся мне в библиотеке книге по скиомантии и подумал, какие загадки мог бы разгадать ее автор по этой искаженной тени.
— Допивайте вино, господин Инчболд, — сказала она наконец и, подавшись вперед к желтому ламповому кругу, вновь изучающе взглянула на меня, словно пыталась прочесть по выражению лица, стоит ли мне доверять. Возможно, в этот момент я был для нее почти так же непостижим, как она для меня. — Я хочу кое-что показать вам. Нечто такое, что вы можете счесть весьма интересным.
В каком отношении? Теперь мое любопытство сменилось нетерпением. Но что же мне оставалось делать? Залпом допив вино, я поспешно вытер руки о бриджи. Затем, подавив полдюжины раздраженных вопросов, я проследовал за ней к дверям столовой.
Глава 4
Так уж случилось, что впервые столкнуться с сэром Амброзом Плессинггоном мне пришлось в подземелье, или крипте, Понтифик-Холла.
Покинув столовую, мы вновь спустились по широкой лестнице и, не раз и не два повернув налево, миновали нескончаемый ряд коридоров, вестибюлей и пустынных комнат — пока не вышли к другому, гораздо более узкому лестничному пролету. Леди Марчмонт шла впереди, высоко подняв масляную лампу, точно комендант крепости, обходящий ее дозором, а я ковылял за ней, оглашая подземелье глухим стуком шагов. Скудный свет озарял покрытую выбоинами стену, на которой вырисовывались причудливые и устрашающие очертания наших теней. Мы прошаркали вниз по ступеням и оказались в помещении, походившем на нечто вроде крипты. Свисающая с потолка паутина коснулась моих губ и головы. Я отмахнулся от нее и поспешно закрыл нос и рот носовым платком. С каждым шагом гнилостное зловоние, казалось, становилось вдвое сильнее. Леди Марчмонт, однако, явно не обращала внимания ни на эту вонь, ни на холод и мрак.
— Здесь находились кладовые и погреба, — на ходу поясняла она, — и также комнаты лакеев. Насколько я помню, у нас было три ливрейных лакея. А сейчас остался один Финеас. Он начал служить у моего отца больше сорока лет назад. Это милость Божья, что я смогла найти его вновь. Хотя, вернее, это он нашел меня после моего возвращения. Понимаете, он очень предан мне…
Когда мы спускались, я ожидал обнаружить внизу некий лабиринт коридоров и комнат, примерно воспроизводящий в плане первый этаж особняка. Но, достигнув наконец дна, мы оказались в коридоре с низким потолком, убегавшим прямо вперед, насколько позволял видеть тусклый свет лампы. Мы медленно продвигались по нему, перешагивая через какие-то фрагменты мебели, сломанных бочек и прочие менее определимые препятствия. Пол еще не совсем выровнялся; мы по-прежнему спускались, продолжая идти по пологому склону. Здесь, внизу, стены сочились влагой, и до нас доносилось тихое журчание бегущей воды, сопровождаемое каким-то едким запахом. На полу, видимо, лежал слой песка. Коридор все не кончался. Может, мы все-таки идем по лабиринту, подумал я: своеобразный mundus cereris[7] наподобие катакомб, что римляне строили под своими городами, — совсем темные склепы и пересекающиеся извилистые тоннели — для общения с обитателями нижнего мира.
Вдруг леди Марчмонт постучала по стене костяшками затянутой в перчатку руки. Раздался звон, похожий на звук литавр.
— Медь, — пояснила она. — Солдаты Кромвеля хранили здесь порох, поэтому обшили медью стены и двери. Я бы не сказала, что они выбрали самое сухое место в доме.
— Черный порох?
Теперь мне стала понятна природа едкого запаха и песка под ногами. И я сразу забеспокоился из-за масляной лампы, которую леди Марчмонт беспечно раскачивала из стороны в сторону. Ее свет озарял сейчас ряд запертых дверей и небольшие ниши по обеим сторонам коридора. Я вновь вздрогнул в этой холодной темноте от мысли, что за этими дверями в обваливающихся склепах свалены в беспорядочные груды черепа и большие берцовые кости множества покойных Плессингтонов. Мы быстро прошли по коридору, чей конец — если таковой был — терялся в кромешной тьме.
Наконец мы достигли цели. Леди Марчмонт остановилась перед одной из дверей и, позвенев связкой ключей, заставила ее открыться. Зловеще заскрипела пара проржавевших петель.
— Пожалуйста, — сказала она, с улыбкой поворачиваясь ко мне, — проходите, господин Инчболд. Внутри вы обнаружите бренные останки сэра Амброза Плессингтона.
— Останки… — Я сделал шаг назад, но сопротивляться было уже слишком поздно. Леди Марчмонт взяла меня за руку и потянула через порог.
— Вот…
Она показала в угол крошечной комнаты, где на низком постаменте стоял старый дубовый гроб. Я в ужасе попытался высвободить свою руку, но тут с облегчением увидел, что «останки» ее отца были бумажными, а не телесными; ибо гроб, стоявший открытым, наполняли не кости, а кипы документов, огромные связки которых грозили свалиться на пол.
— Все здесь, — почтительно произнесла она, осторожно продвигаясь вперед. — Все о моем отце. О Понтифик-Холле. Или, вернее, почти все…
Повесив лампу на стенной крюк, она встала на колени на тростниковую подстилку, покрывавшую земляной пол перед постаментом. Гроб, как я успел заметить, облепляли комья земли. Один за другим вытаскивая документы, леди Марчмонт бегло просматривала их и возвращала на место. Ее плащ откинулся на спину, как пара сложенных крыльев. Своего рода архив, решил я, оставаясь в дверях, пока она не поманила меня к себе.
— Имущественные документы, — пояснила она. — Перечни, описи, завещания. — Возможно, она предпочла бы погрузить свои затянутые в перчатки руки в сундук, наполненный лунными камнями и аметистами, а не множеством пожелтевших пергаментов. — Именно из-за них, понимаете, Стэндфаст Осборн стремился заполучить наше поместье. — Ее голос гулко отражался от голых стен. — Именно из-за этих грамот и документов. Дом ему был не нужен, и он о нем не заботился — сами видите. Но гроб с документами надежно спрятали. Об этом позаботился лорд Марчмонт.
Помещение было душным и тесным, стены покрывала изморозь, как мне показалось, калийной селитры. Лампа горела уже слабее, освещая густо припорошенные землей и пылью заросли многолетней паутины. Я всю свою жизнь мучился от астмы — слишком прокоптились мои легкие угольным дымом Лондона. Сейчас, стоя в дверях этого странного склепа, я почувствовал знакомые хрипы в груди.
— То есть все эти годы они хранились здесь, в этом помещении? — сумел выдавить я, опираясь на суковатую палку.
— Нет, конечно. — Она все еще стояла ко мне крылатой спиной. — Здесь их обнаружили бы через час. Нет, их захоронили в одном месте на церковном дворе в Крэмптон-Магна. Прямо в этом гробу. Оригинально, правда? Под надгробным камнем с именем одного из наших лакеев. Вот, взгляните… — Она повернулась, протягивая мне какой-то документ своей затянутой в перчатку рукой. — Этот приказ окончательно решил нашу судьбу.
Документ был написан на толстой тряпичной бумаге, ее края завернулись и слегка усохли. Взяв листок и повернув к свету лампы, я поднес его поближе к глазам и увидел парламентскую печать и под ней слегка выцветшее постановление, написанное убористым канцелярским почерком:
Сим постановляется, что все Поместья и Земли, наследственные и арендованные, со всем к оным относящимся, сказанного Генри Грейторекса, барона Марчмонта, конфискованы, сиречь изъяты в казну, вместе с правом владения, пользования и распоряжения оными и передачи оных по наследству, с 20 дня, месяца мая Лета Господня 1651, и всякое право на доступ в сказанные Поместья и Земли, наследственные и арендованные…
— Указ о конфискации этого поместья, — пояснила она и протянула мне другой документ или, вернее, небольшую связку бумаг. Эта подборка, перевязанная выцветшей и обтрепанной лентой, очевидно менее официальная, была написана красивым почерком, принадлежавшим самому сэру Амброзу Плессингтону — хотя в то время я еще не знал этого, — то есть впервые он предстал передо мной в виде длиннейшего текста — списка его вещей: «Опись всему личному имуществу, движимому и недвижимому, Амброза Плессингтона, рыцаря, из Понтифик-Холла, описанному и оцененному в приходе Святого Петра в присутствии четырех советников графства…»
Отставив в сторону палку, я развязал ленту. Все эти шесть исписанных с обеих сторон страниц завещания представляли собой внушительной длины список владений и имущества сэра Амброза, включавший мебель, картины, ковры, столовое серебро, а также более эзотерическое имущество, как то: телескопы, квадранты, штангенциркули, компасы, да еще несколько кабинетных шкафов, чье содержимое — законсервированные животные, раковины и кораллы, монеты и наконечники стрел, фрагменты старинных ваз, всевозможные objects d’art[8] и даже два самодвижущихся устройства — было перечислено по отдельности. Одним из самых ценных был Kunstschrank [9], инкрустированный бриллиантами и изумрудами, хотя что хранилось в этом сверкающем ковчеге — оцененном в поразительную сумму 10 000 фунтов, — данная опись была не склонна сообщать. Все содержимое особняка сэра Амброза оценивалось на последней странице документа в 155 000 фунтов; неслыханная и весьма грандиозная сумма даже для нынешнего 1660 года, а уж для июня 1622-го, времени составления означенной описи, она должна была звучать совершенно потрясающе. Даже за сокровища покойного короля Карла, известного знатока искусств и коллекционера, не дали такой суммы, когда Кромвель изъял их из королевских дворцов и распродал алчным европейским принцам.
Леди Марчмонт перехватила мой потрясенный взгляд.
— Как вы можете, понять от всего перечисленного здесь почти ничего не осталось, — произнесла она спокойным голосом. — Что не удалось уничтожить, военные просто унесли с собой. Только этот гроб с его документами свидетельствуют о том, каким был некогда Понтифик-Холл. Да и все, что затевал мой отец.
— Но библиотека… — Я вернулся к первому листу и стал теперь просматривать его более внимательно. — Я не вижу упоминания о книгах вашего отца.
— Да. — Она взяла у меня документ и, завязав его лентой, положила на место в гроб. — Эта опись не включает содержимого библиотеки. Для нее составили отдельную библиографию. — Повернувшись кругом и пошелестев бумагами, леди Марчмонт достала пачку потолще прежних. — Исключительно подробную, как видите. Здесь приведены цены, заплаченные за каждую книгу, а также имена книготорговцев или посредников, через которых их приобрели. Интересные материалы, но сейчас нет времени изучать ее. На данный момент… — Она отложила документ в сторону и вновь начала старательно рыться в гробу, переворачивая груды слежавшейся бумаги. — Сейчас, господин Инчболд, вам стоит прочесть кое-что другое. За свою жизнь мой отец получил жалованные грамоты во многих странах от разных королей и императоров. Но есть среди них… особо важные.
Важные для чего? Как мое приглашение в Понтифик-Холл могло быть связано с этим зловонным подземельем и ворохом старых документов? С королями и императорами? Но леди Марчмонт уже повернулась и вручила мне несколько документов. Первым был пергамент с потрескавшейся огромной печатью из красного воска, по окружности которой шла едва различимая надпись:
Romanum Imperatores Rudolphus II Caesarum Maximus Imp: Rex SALVTI PUBLICAE[10]Я поднес документ поближе к свету. Над печатью имелось несколько абзацев текста, начертанного жирным готическим шрифтом на немецком языке, и — сколько смог я разобрать со своими ограниченными познаниями в этом наречии — он гласил, что данный документ наделяет полномочиями на поиск и приобретение книг и манускриптов в пределах Богемии, Моравии, Силезии и Галаца. Он датировался 1610 годом. Я немного потер между пальцами сморщенный уголок документа, наслаждаясь прекрасным качеством пергамента, нежного и гладкого, как девичья щечка. Затем я осторожно перевернул его, услышав тихое, радующее душу похрустывание, и поправил большим пальцем очки на переносице.
Второй документ, датированный следующим годом и скрепленный такой же печатью, был сходного значения, только его юрисдикция распространялась за пределы Чешских земель и включала Австрию, Штирию, Майнц, Верхнее и Нижнее пфальцграфства, а самое удивительное — и владения турецкого султана. Заключительные три страницы содержали, соответственно, императорскую грамоту о пожаловании дворянского достоинства, приказ о назначении ежегодного пенсиона в 500 талеров и о присвоении степени доктора философии Каролинума. Последний, написанный по-латински, документ был украшен рельефным оттиском герба. Подняв глаза, я увидел, что леди Марчмонт, сведя брови к переносице, пристально следит за моей реакцией. Лампа зашипела и — это меня встревожило — почти погасла.
— Это в Праге.
— В Праге? — Мой вопросительный взгляд вернулся к пергаментам из телячьей кожи, которые я нервно теребил в руках.
— Каролинум, — сказала она монотонным голосом, словно повторяла простой урок для бестолкового ребенка, — находится в Праге. В Богемии. Мой отец провел там много лет.
— В Каролинуме?
— Нет. В Богемии. После того как Рудольф перевел императорский двор из Вены в Прагу.
Я продолжал рассматривать документы.
— Значит, сэр Амброз состоял на службе у императора Священной Римской империи?
Она кивнула, явно довольная оттенком благоговения, появившимся в моем голосе.
— Сначала да. В качестве одного из посредников для приобретения книг в Императорскую библиотеку. А позже он выполнял такую же работу для курфюрста Пфальцского, укомплектовывая его библиотеку в Гейдельберге.
Она умолкла и вновь начала тщательно перебирать бумаги, лежащие в гробу. В течение следующих десяти минут мне пришлось, отдуваясь, пробормотать вслух еще с дюжину разных документов — все грамоты, предоставляющие особые права или патенты на изобретения, касавшиеся новых методов проверки чистоты золота или оснащения кораблей, и, кроме того, документы, подтверждающие безусловное право собственности на владения, разбросанные по Англии, Ирландии и Виргинии. Множество потертых страниц деятельной и бурной жизни сэра Амброза. Я про себя отметил, что леди Марчмонт сует мне каждый новый документ так же горячо и ревностно, как квакер на перекрестке — свои душеспасительные брошюры. Но вскоре я, прищурившись, заметил, что держу в руках документ иного сорта — очередная жалованная грамота, скрепленная в конце Большой государственной печатью Англии, и ее значение было поважнее, чем у других:
Сие соглашение, составленное в 30 день августа Лета Господня 1616, в четырнадцатый год царствования Государя и Повелителя нашего Иакова, милостию Божьей короля Англии, Шотландии и Ирландии, защитника Веры, между реченым Государем нашим с одной стороны, и Амброзом Плессингтоном, кавалером ордена Подвязки, с другой стороны, относительно постройки, оснащения и прочего обеспечения корабля, известного как «Филип Сидни», дабы реченому Плессингтону отправиться на оном корабле в качестве капитана из порта Лондона к Читти-Маноа, что в Гвианской империи…
Я моргнул, протер глаза и продолжал читать. Далее документ оговаривал для сэра Амброза вознаграждение в три тысячи фунтов за путешествие не в поисках книг и манускриптов — как во время службы у императора Рудольфа, — а к верховьям реки Ориноко и золотому месторождению вблизи какого-то городка, называемого Маноа, в Гвианской империи. Я слышал кое-что о той экспедиции, если речь здесь шла именно о ней, поскольку хорошо знал, что сэра Уолтера Рэли казнили как раз через год после его провалившейся экспедиции в Гвиану в 1617 году. Неужели этот «Филип Сидни» поднялся до верховьев Ориноко вместе с обреченным флотом Рэли? А если так, то что стало с этим кораблем и его капитаном?
Я не мог больше читать. Буквы грамоты расплывались перед моими усталыми глазами, а грудь сдавило еще сильнее. Сняв очки, я потер глаза костяшками пальцев. Я закашлялся, пытаясь прочистить легкие от спертого и пыльного воздуха. Вновь послышалось тихое журчание воды, которая, казалось, течет прямо за стеной этого крохотного архива. Я вновь нацепил очки на нос, но буквы на странице по-прежнему расплывались и корчились перед моими слезящимися от боли глазами.
— Извините, но я…
— Да-да, я понимаю.
Леди Марчмонт взяла у меня бумаги и вернула их в гроб. Но до того, как она закрыла его крышку, я успел ухватить взглядом какой-то документ, выглядевший поновее, какой-то еще договор. Верхний край этого пергамента был оборван, а нижний — завернут и скреплен печатью, подвешенной на пергаментной полоске. Уж не намеренно ли — думал я позднее — позволила она мне краем глаза увидеть этот хитрейший из всех ключей к разгадке? Рядом с печатью стояла неразборчивая подпись, но мне удалось разобрать несколько слов, написанных сверху: «Sciant presentes et future quod ego…»
Но тут крышка с шумом захлопнулась, и мгновение спустя я вздрогнул от легкого прикосновения затянутой в перчатку руки, дотронувшейся до моего предплечья. Когда я обернулся, леди Марчмонт улыбнулась мне самой загадочной и непроницаемой из всех улыбок.
— Нам пора выбираться отсюда, не так ли, господин Инчболд? Воздух в подвалах стал совсем скверный. Паре человек его едва хватает на полчаса.
Я кивнул с благодарностью и нащупал мою суковатую палку. Воздух вдруг показался мне неимоверно спертым, и я впервые заметил, что леди Марчмонт тоже тяжело дышит. Сняв лампу с крюка, она повернулась к двери.
— Мой отец проветривал эти помещения с помощью воздушного насоса, — продолжала она, — но разумеется, насос украли вместе со всем остальным.
Вновь раздался скрип петель закрываемой двери, звякнули ключи на серебряной цепочке — это она запирала замок. Я последовал за ее черным платьем по коридору.
Sciant presentes et future quod ego…
Орудуя в темноте своей палкой, я озадаченно наморщил лоб, погрузившись в размышления. «Да ведают все в настоящем и будущем…» — что ведают? Когда мы взобрались по лестнице, я обнаружил, что думаю не столько о множестве документов, которые подсовывали мне под нос, сколько о том таинственном новом пергаменте, промелькнувшем среди прочих бумаг в гробу, о том документе с обрезанным краем, ведь он, как кусок составной картинки-загадки, вероятно, должен был иметь ответную часть, вторую часть пергамента, которую от него так аккуратно отделили. Подозревал ли я тогда, что он может оказаться частью еще более сложной картинки-загадки, чьи недостающие фрагменты мне еще предстоит узнать и обнаружить? Или только сейчас, задним числом, я вспоминаю все это так четко?
Когда мы выбрались из подвала, грудь моя свистела и булькала, как чайник, и я еле-еле тащился по лестнице, шумно шаркая косолапой ногой. Скривившись от досады, я порадовался темноте. Но леди Марчмонт, повернув лицо в мою сторону, шагала на две ступеньки выше и, казалось, не замечала производимого мною шума. По дороге наверх она рассказывала о некоторых деталях службы ее отца у Рудольфа II, великого «императора-чародея», чей дворец в Праге был полон астрологов, алхимиков, причудливых изобретений — и книг, которых там были десятки тысяч. Сэр Амброз, утверждала она, сделал довольно много приобретений для этой императорской коллекции. Ибо где бы ни умирал какой-нибудь состоятельный дворянин или ученый в пределах империи, — от Тосканы на юге до Клеве на западе, и до Лужиц или Силезии на востоке, — ее отец отправлялся в путь по потрепанному лоскутному одеялу княжеств и прочих имперских вотчин, дабы приобрести для императора самые значительные и впечатляющие предметы из их наследства: картины, мраморные скульптуры, часы, драгоценные камни, новые открытия или изобретения в любой области и конечно же библиотеки, особенно если в них имелись тома по алхимии и другим оккультным наукам, к которым Рудольф относился с особой любовью. Из таких экспедиций, похвалилась она, ее отец редко возвращался разочарованным.
— Только за один год ему удалось договориться о покупке библиотек Бенедикта из Рихновы и австрийского дворянина Антона Шварца фон Штайнера. — Она перевела дух и повернулась ко мне. — Наверное, вы слышали об этих коллекциях?
Я отрицательно покачал головой. Мы достигли вершины лестницы. Покрытый плитками пол, казалось, раскачивался у меня под ногами, точно палуба идущего ко дну корабля. Леди Марчмонт распахнула передо мной дверь, и я проковылял вперед, следуя за собственной тенью. Бенедикт из Рихновы? Антон Шварц? Очевидно, я еще многого не знал в данной области.
— Каждая библиотека насчитывала более десяти тысяч томов, — доносился ее голос из полумрака за моей спиной. — Среди прочих сокровищ имелись алхимический трактат Рупесциссы и Роджер Бэкон в издании Фине. Кроме того, еще и манускрипты по астрологии Альбумазара и Сакробоско. Большинство книг отправились в Императорскую библиотеку в Вене, где их должен был внести в каталог Гуго Блотиус, Hofbibliothekar[11], но некоторые отвезли в Прагу на просмотр Его Превосходительству. Нелегкое дельце. Книги перевозили по горным дорогам и через богемские леса в специальных, запряженных мулами повозках и фургонах на рессорах — новым изобретением тех дней. Щелястые деревянные ящики с книгами законопачивали и смолили, точно корпуса военных кораблей, а потом еще заворачивали в два слоя пропитанной танином парусины. Наверное, потрясающее было зрелище. Такой караван занимал на дороге почти целую милю, причем все книги укладывались еще и в строго алфавитном порядке.
Ее голос отражался от невыразительных голых стен. Слова казались заученными, словно она рассказывала эту историю уже много раз. Я припомнил богатое собрание сочинений по оккультным наукам в библиотеке ее отца и подумал, не связаны ли здешние книги каким-то образом с коллекцией Бенедикта из Рихновы или Антона Шварца, а может, и самого «императора-чародея».
Мы шли теперь рядом, быстро проходя обратно по лабиринту коридоров, — насколько я представлял себе — в направлении библиотеки. Одно неизвестно, этим ли путем шли мы полчаса назад. Все слуги, даже Финеас, словно куда-то исчезли. Мне пришло в голову, что два человека или даже полдюжины людей могут спокойно жить в Понтифик-Холле, занимаясь своими делами, и целыми днями не встречаться друг с другом.
Внезапно ее рассказ прервался.
— Дорогой господин Инчболд…
Я хрипел и пыхтел из последних сил, стараясь не отставать от нее. А сейчас едва не столкнулся с ней, поскольку она вдруг остановилась посередине коридора.
— Дорогой господин Инчболд, я слишком долго пользовалась вашим добродушием. Должно быть, вы спрашиваете себя — зачем я рассказываю вам все эти вещи. Зачем показала библиотеку, описи, грамоты…
Я распрямился и обнаружил, что не моту поймать ее взгляд.
— Что ж, леди Марчмонт, должен признаться…
— О, прошу вас… — прервала она меня, подняв руку. — Алетия. Надеюсь, мы обойдемся без церемоний.
Ее просьба прозвучала скорее как приказ. Я молча согласился: с титулом или без него, она все равно выше меня по положению. Ведь титул — всего лишь слово и ничего не меняет.
— Алетия, — я произнес ее странное имя с осторожностью, как дегустатор, пробующий новое экзотическое блюдо.
Она пошла дальше, правда уже помедленнее, толстые подошвы ее ботинок шаркали по плиткам пола. Мы свернули налево, в другой, более длинный коридор.
— В сущности, мне хотелось, чтобы вы хоть немного представили себе, каким был когда-то Понтифик-Холл. Может быть, у вас уже сложилось определенное представление? Вообразите фрески, гобелены… — Легко и непринужденно, точно фокусник, она взмахивала рукой, показывая на голые стены и в глубину уходящего вдаль коридора. Тупо щурясь в темноте, я был не в состоянии ничего вообразить. — Но главное, — продолжала она понизив голос, — я хотела, чтобы вы поняли, каким человеком был мой отец.
Мы подошли к библиотеке, в которой уже царила полнейшая темнота. Прикосновение ее руки вновь заставило меня вздрогнуть. Поворачиваясь, я увидел в зрачках ее близко посаженных глаз два крошечных пляшущих огонька, порожденные светом лампы. Я нервно отвел взгляд. В данный момент сэр Амброз казался мне еще более невообразимым, чем его разграбленные владения.
— У меня нет мужа, нет детей, не осталось в живых никого из родственников. — Ее голос упал до шепота. — У меня почти ничего не осталось. Но я живу сейчас лишь одной мыслью, одной мечтой. Понимаете, господин Инчболд, я хочу вернуть Понтифик-Холлу его былое величие. Восстановить все в точности до малейших деталей. — Выпустив на свободу мое плечо, она вновь махнула рукой в темную, необитаемую пустоту. — Да, до малейших деталей, — повторила она с особым нажимом. — Мебель, картины, сады, оранжерею…
— И библиотеку, — закончил я, думая об испорченных и пылящихся на полу книгах.
— Да. И библиотеку тоже. — Она вновь схватилась за мое предплечье. Лампа раскачивалась, описывая короткие дуги. Наши тени колебались из стороны в сторону, точно танцоры. Здесь, в этом пустующем доме с его голыми стенами и обваливающейся штукатуркой, ее мечта казалась дикой и неосуществимой. — Все будет в точности таким, каким было при отце. И я сделаю это. Хотя понимаю, что мне придется нелегко.
— Да, — откликнулся я, надеясь, что в моем голосе прозвучит оттенок сочувствия. Я думал о расквартированных здесь полках, о разрушенном фасаде здания и огромной ветви плюща, что заползла в комнату через окно второго этажа… о той ужасающей общей картине разрухи, которую я увидел при въезде в поместье. Действительно нелегко.
— Буду с вами откровенной. — Она приподняла лампу, чтобы осветить наши лица. Пламя ее сейчас разгорелось ярче, но оно лишь сделало тени более глубокими. — Сложности с реставрацией дома будут возникать не только из-за многочисленных разрушений и не только из-за того, что я, скажем так, стеснена в средствах, как вы, впрочем, уже могли догадаться. Они будут возникать вдобавок и потому, что здесь замешана еще кое-чья корысть. — Она произнесла это нарочито небрежно, но глаза с расширенными зрачками, блестящие в темноте, как два обсидиана, смотрели напряженно и испытующе. — Да, еще кое-чьи интересы. Видите ли, господин Инчболд, я, как и мой отец, приобрела в этой жизни больше врагов, чем мне причиталось бы по справедливости. — Она сдавила мою руку до боли. — Вы поняли из нашей имущественной описи, что сэр Амброз был человеком огромного богатства.
Я послушно кивнул. На мгновение мне представились члены совета графства, бродившие по этому коридору и по всему остальному дому, по покоям, роскошное убранство которых могло соперничать с пещерой Аладдина; вот они, все четверо, оценивают вазы, часы, гобелены, секретеры и умопомрачительные драгоценности; их глаза раскрываются все шире; и очередной баснословной цены пункт добавляется в роскошную опись. А теперь все эти богатства исчезли.
— Богатство привлекает врагов, — сказала она, добавив тем же небрежным тоном: — Сэра Амброза убили. Как и лорда Марчмонта.
— Убили? — Мой вопрос гулко отозвался среди голых стен этого пустого коридора. — Но кто? Люди Кромвеля?
Она отрицательно покачала головой.
— Не могу с уверенностью сказать. Но у меня есть некоторые подозрения. А что произошло на самом деле, мне неизвестно. Я надеялась, что хранящиеся в гробу документы помогут мне разгадать эту загадку. И лорд Марчмонт рассчитывал, что сможет обнаружить кое-что, но… — Она вновь покачала головой и опустила глаза. Подняв их через мгновение, она, должно быть, увидела на моем лице выражение, истолкованное ею как беспокойство, и поспешила прибавить: — О, только не надо беспокоиться. Сейчас уже нет никакой опасности, господин Инчболд. Позвольте мне заверить вас в этом. Пожалуйста, поймите. Вы будете в полнейшей безопасности. Я вам это обещаю.
Ее настойчивые заверения посеяли в моей душе семена сомнений. Почему мне может грозить опасность? Однако времени подумать над этим у меня не осталось, поскольку леди Марчмонт выпустила мою руку и позвонила в колокольчик. Он прозвучал резко и жалобно, точно сигнал тревоги.
— Ничего не бойтесь, — сказала она, вновь поворачиваясь ко мне, когда утих этот звон. — Услуга, о которой я попрошу вас, будет достаточно проста. И из-за нее вы не подвергнетесь совсем никакой опасности.
Ага, подумал я. Наконец-то.
— Услуга?
— Да. — В конце коридора показался Финеас. Леди Марчмонт повернулась к нему лицом. — Однако я и так уже вас заговорила. Надеюсь, вы простите меня. Наши дела могут подождать до завтра. Сейчас вам нужно отдохнуть, господин Инчболд. Вы проделали очень дальний путь. Финеас? — Мрачное лицо лакея показалось в желтой световой дорожке масляной лампы, заправленной рыбьим жиром. — Пожалуйста, покажи господину Инчболду его спальню.
Следуя вверх по лестнице вслед за Финеасом, я думал: да уж, дальний путь я проделал. Даже сам не знал, насколько дальний.
На ночь меня разместили в спальне верхнего этажа, в одной из комнат, выходивших в просторный коридор, где через равные интервалы располагался ряд закрытых дверей. Предоставленная мне комната была большой, но, как я и думал, более чем скудно обставленной. Обстановка состояла из постели с соломенным тюфяком, трехногого табурета, пустого камина, украшенного спутанными гирляндами грязной паутины, и маленького стола, на котором лежали перо, книга и еще какие-то предметы. Я слишком устал, чтобы обращать на них внимание.
Я настолько устал, что какое-то время не мог даже двигаться. Тупо глядя в пустое пространство, я недвижимо стоял в центре комнаты. Мне подумалось, что сельские дома, мимо которых я проезжал по дороге к Крэмптон-Магна, были изнутри, должно быть, побогаче. На мгновение в воспоминании всплыла опись, запертая двумя этажами ниже в крохотном подвальном архиве; бесконечный перечень ковров, гобеленов, напольных часов и дубовых кресел с твердой резной спинкой. В былые времена обстановка этой комнаты — «Бархатной спальни», как Алетия назвала ее, — должно быть, выглядела впечатляюще; может, здесь спал даже сам сэр Амброз. И сейчас еще обнаруживались остатки прежней роскоши — выщербленное и облезшее резное украшение над камином или треугольный лоскут обивки с ворсистым рисунком в верхней части стены. Следы былого величия Понтифик-Холла. Для полуголодных пуритан в черных домотканых одеждах этот дом выглядел просто непристойно. А кому-то еще, очевидно, подсказал мотив для убийства.
Я медленно разделся. Финеас или кто-то из слуг принес сюда мой саквояж и поставил около этой убогой постели. Порывшись в нем и вытащив ночную рубашку, я натянул ее через голову. Затем, послюнив указательный и большой пальцы, я погасил сальную свечу, оставленную Финеасом на столе, и спустя мгновение в спальню через открытое окно хлынула лавина влажного ночного воздуха. Я закрыл глаза, и сон запечатал мои веки своей тяжелой печатью.
Глава 5
Издалека видна была венчающая гребень скалистого холма асимметричная диадема Пражского замка, возвышающегося над соломенными крышами Старого города за Влтавой. На рассвете его окна поблескивали в лучах утреннего солнца, а в сумерках тень его незаметно протягивалась к реке, словно гигантская рука, и медленно вползала в узкие улочки Старого города, вбирая в себя его шпили и площади. Изнутри же Пражский замок поражал еще больше: здесь было множество сводчатых проходов, соединяющих внутренние дворы, часовни и дворцы и даже несколько монастырей и таверн. Все замковые строения были окружены крепостными стенами, чьи очертания сверху напоминали гроб. В центре крепости высился собор Святого Витта, а к югу от этого собора находился Краловский дворец, где в 1620 году жили новые король и королева Богемии — Фридрих и Елизавета. В двух сотнях ярдов по прямой линии от Краловского дворца располагались так называемые Испанские залы, самые последние и замечательные постройки замка, но чтобы добраться до них, нужно пройти ряд внутренних дворов, затем миновать защищенный навесом источник, фонтан и сад. Эти залы находились в северо-западном углу, рядом со знаменитой Математической башней, что высилась на берегу крепостного рва. Их построили около пятидесяти лет назад, чтобы дать кров тысячам книг и прочим многочисленным сокровищам императора Рудольфа II, чью унылую бронзовую статую — с ястребиным носом и бородой, спускающейся к круглому плоеному воротнику, — воздвигли перед южным фасадом. К 1620 году Рудольф уже лет десять как почил с миром, но его сокровища продолжали здравствовать. Книги и рукописи, из числа самых драгоценных в Европе, хранились в библиотеке этих Испанских залов, а обязанности замкового библиотекаря исполнял в то время человек по имени Вилем Йерасек.
Вилему было лет тридцать пять; это был тихий и скромный мужчина, плохо обутый и неухоженный, в заплатанном платье, в очках, за линзами которых щурились и слезились его глаза. Несмотря на уговоры Иржи, его единственного слуги, он оставался безразличным к своему убогому внешнему виду. Равно ему были безразличны и дела внешнего мира, происходившие за стенами Испанских залов. Много событий произошло в Праге за годы его десятилетней работы в библиотеке, включая восстание 1619 года, когда пражские дворяне-протестанты сместили католического императора Фердинанда с трона Богемии. Но какими бы бурными ни были политические события, они не могли помешать научным изысканиями Вилема. Каждое утро он шаркающей походкой выходил из своего крошечного дома на Злате уличке и садился за свой заваленный бумагами стол ровно через семнадцать минут, в тот момент, когда многочисленные механические часы в Испанских залах отбивали восемь ударов. Каждый вечер, усталый и с покрасневшими глазами, он пробирался все той же шаркающей походкой обратно на Злату уличку, когда часы отбивали шесть ударов. За десять лет он, сколько известно, ни разу не отклонился с этой орбиты, пропустив рабочий день или опоздав хоть на минуту.
Должность Вилема, конечно же, требовала такой пунктуальности. Ибо все эти десять лет он, при содействии двух помощников, Отакара и Иштвана, описывал и определял на место каждый том из собрания Испанских залов. Труд огромный, нескончаемый и обреченный на провал, ведь Рудольф был ненасытным коллекционером. По одним только оккультным наукам он собрал тысячи книг. Целый зал был заполнен трудами по «священной алхимии», другой — книгами по магии, включая «Пикатрикс», которую Рудольф использовал, чтобы околдовывать своих врагов. Но, словно и этой уймы книг было недостаточно, каждую неделю библиотека пополнялась сотнями новых томов, не считая множества атласов и альбомов с гравюрами, — и все это надо было описать и разместить на полках в анфиладе переполненных залов, где порой мог заблудиться даже сам Вилем. Ко всему прочему еще из Венской императорской библиотеки в Прагу теперь начали прибывать ящики с книгами, чтобы обезопасить их как от турок, так и от трансильванцев. Именно поэтому издание Корнелия Агриппы Magische Werke[12], лежавшее на столе Вилема в первое утро его работы в 1610 году, все так же лежало там и десять лет спустя, не описанное и не определенное на должное место, а захороненное еще глубже под растущими стопками книг.
Или таково, по крайней мере, было положение дел в библиотеке к весне 1620 года, когда наступила, казалось, пора передышки. После восстания против императора и коронации Фридриха и Елизаветы река поступающих книг уменьшилась до струйки. Несколько ящиков с книгами Фридриха прибыли прошедшей осенью из Гейдельберга, из главной библиотеки Пфальцграфства, и в большинстве своем они стояли нераспакованными, не говоря уже о каталогизации и размещении. Но другие источники — библиотеки мужских монастырей, поместья обанкротившихся или умерших дворян, — видимо, совсем пересохли. Прошел даже тревожный слух, что большинство ценных рукописей Фридрих собирается продать, дабы финансировать обносившуюся и плохо экипированную богемскую армию, готовясь, как утверждал другой слух, к грядущей войне с императором. Множество книг и рукописей предполагалось также отослать на хранение либо в Гейдельберг, либо, в случае сдачи Гейдельберга, в Лондон.
На хранение?.. Трех библиотекарей Пражского замка озадачили такие разговоры. От чего нужно охранять книги? Или от кого? Они лишь пожимали плечами и продолжали работать, не в состоянии поверить, что их тихие повседневные труды могут нарушиться событиями столь глобальными и непостижимыми, как войны и свержения монархов. Если внешний мир, по скромным понятиям о нем Вилема, пребывал в беспорядке и смятении, то в этих залах, по крайней мере, преобладали прекрасный порядок и гармония. Но в 1620 году это изысканное спокойствие было нарушено навсегда, и для Вилема Йерасека, жившего затворником среди множества возлюбленных книг, первым предвестником надвигающегося несчастья стало очередное появление в Праге англичанина сэра Амброза Плессингтона.
После долгого отсутствия сэр Амброз должен был вернуться в Прагу то ли зимой, то ли весной 1620 года. В это время ему, как и Вилему, было лет тридцать пять, хотя в отличие от Вилема он даже отдаленно не походил на человека, поглощенного научными изысканиями. Он отрастил толстый живот, как у мясника или кузнеца, и выглядел высоким, несмотря на пару кривоватых ног, наводивших на мысль о том, что больше времени он проводит в седле, нежели за письменным столом. Брови и бородка у него были черны, причем бородка была клиновидная, по последней моде, как и его жесткий плоеный воротник, напоминавший жернов. Вилем знал о нем понаслышке, поскольку с легкой руки сэра Амброза в Испанские залы попало изрядное количество книг и диковин. Лет десять назад он считался самым знаменитым посредником Рудольфа, объездившим вдоль и поперек каждое герцогство, Erbgut[13], ленное владение и Reichsfreistadt [14] Священной Римской империи, чтобы доставить в Прагу как можно больше книг, картин и редких антикварных вещей для всеядного и помешавшегося на собирательстве императора. Он добрался даже до Константинополя, откуда вернулся не только с мешками луковиц тюльпанов (особо любимых Рудольфом), но также с множеством древних манускриптов, которые числились среди величайших раритетов Испанских залов. Однако что именно привело его обратно в Богемию в 1620 году, несомненно, оставалось тайной для тех немногих в Праге, кто знал о его приезде, — и для Вилема в том числе.
Конечно, сэр Амброз был не единственным англичанином, прибывшим в Прагу именно в это время; город был наводнен ими. Елизавета, новая королева, была дочерью английского короля Иакова, и Краловский дворец стал пристанищем для ее обременительного окружения: для орды галантерейщиков, для модисток и лекарей — палубных матросов, трудившихся изо дня в день, чтобы достойно держать ее величество на плаву. Среди легионов ее слуг было шесть придворных дам, и одну из них, молодую женщину, дочь англо-ирландского дворянина, умершего несколько лет назад, звали Эмилия Молинекс. Эмилии, как и ее сиятельной госпоже, в то время исполнилось уже двадцать четыре года. Внешне она также походила на королеву, которую отличали строгость, бледность и изящество, — но обладала вдобавок густой черной шевелюрой и близорукостью.
Можно лишь гадать, как Эмилия впервые встретилась с Вилемом. Возможно, это случилось на одном из многочисленных маскарадов, которые так любила молодая королева, в тот поздний час, когда придворный этикет растворялся в бурных потоках музыки и вина. А может быть, их знакомство произошло более прозаично. Королева читала запоем — одна из ее более симпатичных привычек — и поэтому могла послать Эмилию в Испанские залы за одной из своих любимых книг. А возможно, Эмилия отправилась в Испанские залы по своему собственному почину: помимо прочих достоинств она и читать умела. Каким бы ни было первое знакомство, но последующие встречи они хранили в секрете. Вилем исповедовал католическую веру, а королева, благочестивая кальвинистка, испытывала к католикам почти такое же отвращение, как к лютеранам. Благочестивость ее была настолько велика, что она даже отказывалась переходить по мосту через Влтаву, поскольку в конце него стояла деревянная статуя Богородицы, и в итоге по распоряжению королевы из церквей Старого города убрали все статуи и распятия. Придворный священник даже проверил все антикварные вещи, хранящиеся в Испанских залах, дабы среди усохших экспонатов не оказалось случайно святых мощей или иных подобных папистских реликвий. И застань кто-нибудь Эмилию в компании католика — католика, воспитанного иезуитами в Клементинуме, — это означало бы высылку из Праги и незамедлительное возвращение в Англию.
Потому встречались они в домике Вилема на Злате уличке. В те вечера, когда обязанности придворной дамы не задерживали ее допоздна, Эмилия часов в восемь вечера выскальзывала по черной лестнице из Краловского дворца и в темноте, без всяких светильников или факелов, на ощупь, вдоль стен пробиралась по внутренним дворам. Злата уличка — ряд скромных домиков — находилась в задней части замка, а домик Вилема, один из самых маленьких, завершал ее, прижимаясь к сводам арки северной крепостной стены. Но в его окошке обычно горел свет, из трубы шел дымок, и сам Вилем встречал ее с распростертыми объятиями.
Он всегда поджидал Эмилию, вышедшую на такую вечернюю прогулку, и заранее открывал ей дверь всякий раз — до того самого холодного ноябрьского вечера, когда она обнаружила темное окно и бездымную трубу. Эмилия поспешила обратно во дворец, но возвращалась к домику Вилема следующие два вечера. На четвертый вечер, вновь поглядев на его темный дом, она пошла в Испанские залы и там обнаружила не Вилема и даже не Отакара или Иштвана, а какого-то незнакомца, рослого мужчину в сапогах со шпорами, чья длинная тень, в свете масляного светильника, неровно колыхалась на дощатом полу за его креслом. Позже она будет вспоминать этот вечер не столько потому, что впервые тогда встретила сэра Амброза Плессингтона, сколько потому, что в тот вечер началась война.
Дело было в воскресенье. В воздухе кружились хлопья снега, а река подернулась корочкой льда. Приближалась очередная зима. Заспанные слуги ковыляли к заутрене в церкви, чьи колокольни терялись в тумане, а потом играли в кегли в прихваченных морозцем дворах или, стуча зубами от холода, болтали в коридорах и на площадках черных лестниц. Из конюшен и от навозных куч валил пар. Стадо тощих коров тянулось, позвякивая колокольчиками, по крутым улицам Малой Страны. В замок текли непрерывной чередой телеги с вязанками хвороста и мешками сена — вперемешку с бочками сельди и пльзеньского пива, которые сгружались с пришедших по реке лихтеров. Корпуса этих судов взламывали лед с треском, что одним напоминал гром, а другим, более робким, — орудийные залпы.
Эмилия с содроганием думала об очередной пражской зиме, поскольку с наступлением холодов замок становился невыносимым местом. Сквозняки хлопали усохшими на морозе дверями Краловского дворца, и под них задувало снег, который слоем в несколько дюймов ложился вокруг мебели. Вода в колодцах и источниках покрывалась льдом, и солдатам приходилось разбивать его копьями. Во дворах по ночам завывал ветер, словно вторя вою голодных волков на холмах за крепостными стенами. Иногда волки прокрадывались в Малую Страну и нападали на бедноту, искавшую объедки по мусорным кучам, а иногда какого-нибудь бедолагу находили мертвым в снегу — полураздетый и замерзший, он все еще сжимал свой посох и выглядел как сброшенная с пьедестала статуя.
Но если бедняки в стужу голодали, то богачи объедались, поскольку именно зимой королева Богемии устраивала множество пиров. На этих торжествах всем шести придворным дамам надлежало оставаться на ногах до самого конца, без еды и питья, храня почтительное молчание, им не разрешалось ни кашлянуть, ни чихнуть, пока королева и ее гости — принцы, герцоги, маркграфы, послы — набивали свои животы дымящимся мясом павлинов, или оленей, или кабанов, заливая все это бочками пльзеньского пива или бутылями вина. Темы разговоров не отличались разнообразием. Поддержат ли гости претензии Фридриха на трон Богемии? Сколько денег они готовы выложить для его поддержки? Сколько войск? Когда эти войска смогут подойти? И только в самом конце, когда королевские гости наедались до отвала, придворные дамы сражались за жирные объедки с кухарками и лакеями.
Однажды Эмилию вместе с остальными придворными дамами вызвали на один из таких праздников — после окончания церковных служб, когда церкви уже опустели. Очередной пир, проходивший во Владиславском зале, на сей раз устроили в честь двух английских послов. Эмилия в то время уже лежала в постели, читая книгу, от которой ее оторвал резкий звон колокольчика, висевшего на крючке возле кровати. Чтение в те годы являлось для нее одним из немногих удовольствий, и она, поставив свечу на ночной столик, предавалась ему в постели, подоткнув под спину подушки, закутавшись в одеяло и держа книгу в трех дюймах от своего носа. Она уже проглотила сотни книг с тех пор, как, покинув Лондон в 1613 году, отправилась в Гейдельберг, — по большей части романы о короле Артуре, например «Сэр Гавейн и зеленый рыцарь», или «Смерть Артура» Мэлори, или истории о любви и приключениях, такие как Olivante de Laura Торквемады и «Превратности любви» Лофразо. Но она также прочла и биографию сэра Филипа Сидни, написанную Ветстоуном, а сонеты самого Сидни перечитывала так часто, что знала их наизусть, как, впрочем, и сочинения Шекспира, чьи пьесы читала в потрепанном издании формата ин-кварто. Она слыла такой страстной читательницей, что последние семь лет ее часто приглашали читать для самой королевы — одна из немногих обязанностей в Краловском дворце, всегда доставлявших ей удовольствие. Когда Елизавета укладывалась в кровать после приема или маскарада или даже, будучи беременной, вовсе не вставала с постели, Эмилия занимала место на стуле возле королевской кровати и читала главу или две из какой-нибудь выбранной ею книги, пока сиятельная госпожа не засыпала. Обычно королева просила почитать что-нибудь навевающее сон, например «Хроники Англии» Холиншеда или какой-нибудь религиозный трактат.
Но ее сегодняшние обязанности не имели ничего общего с таким приятным времяпрепровождением, как скоротать часок-другой с объемистым томом на коленях. Придя во Владиславский зал, Эмилия обнаружила, что столы ломятся от яств и у стен расположились стройные ряды бочонков с вином. Королева ни в чем не ограничивала ни себя, ни своих гостей, несмотря на то что цены на рынке подскочили и ходили слухи о надвигающемся голоде. Послы, должно быть, знали об этих слухах, поскольку с такой жадностью заглатывали цыплят и объедали окорока, словно эта трапеза была последней в их жизни. Незнакомая с этикетом любимая обезьянка королевы пронзительно верещала, прыгая со стула на стул и принимая вкусные подачки. Все это время Эмилия стояла тихо и неподвижно, едва слушая рассказы послов о смелых планах короля Иакова, намеревавшегося послать войска в Богемию, дабы освободить свою дочь из лап папистов. Только часа через два, чувствуя приближение обморока, Эмилия осмелилась отщипнуть кусочек хлеба, сунутого ей в карман одной из служанок. На хлебе уже появился зеленовато-серый налет плесени. Такой хлеб, по ее представлениям, приходится есть во время осады — и такой хлеб, если хотя бы половина слухов окажется верной, вскоре будет есть вся Прага. Во рту крошки превратились в плотную и вязкую массу. Точно не хлеб жуешь, а птичий клей.
Но никакой осады не будет, заверяли королеву послы, не будет даже войны. Прага в полной безопасности. Императорская армия еще находится в восьми милях от города, а войска Фридриха, все двадцать пять тысяч солдат, готовы во всеоружии сдержать их наступление. Английские войска уже в пути, и голландские тоже, а герцог Бекингем, лорд-адмирал, снаряжает корабли, чтобы атаковать испанцев. Кроме того, приближается зима, заметил один из них, опершись локтем о край стола, туловищем подавшись вперед и ковыряя во рту зубцами вилки. Никому из генералов не придет в голову такая дикая идея, как начать войну зимой, тем более в Богемии. Даже паписты, заверил он собравшихся, не могут быть такими варварами.
Но конечно же, относительно католических армий послы эти ошиблись, и на войско короля Иакова и флот Бекингема они тоже надеялись зря. Грязные тарелки еще стояли на столе, и слуги даже не успели расхватать объедки, когда первое пушечное ядро перелетело через крышу Летнего дворца, находившегося всего лишь в пяти милях от замка, и упало в лес. Императорская артиллерия подошла к Белой горе. Сверкая и грохоча как надвигающийся ураган, первый залп взорвался в морозном воздухе, испугав лошадей в конюшнях и заставив горожан врассыпную броситься по домам.
Но к тому времени Эмилия уже вернулась в свою комнату на верхнем этаже дворца и завязывала ленты капюшона, собираясь в последнюю отчаянную вылазку на Злату уличку. Она не думала об императорских солдатах, о тех огромных армиях, что, вероятно, расположились на подступах к маленькой Богемии, намереваясь потребовать для Фердинанда трон, похищенный Фридрихом и Елизаветой. Она думала только о Вилеме, и лишь услышав еще несколько взрывов, поняла, что это не гром и не лед, разламывающийся на Влтаве.
Дальнейшие события ей удалось рассмотреть в объектив телескопа, инструмента из Испанских залов, которым Вилем научил ее пользоваться всего пару недель назад. Сражение началось около Летнего дворца, где богемские солдаты прятались за земляными валами. Поднимающаяся с низин завеса тумана накрыла увеселительный парк, и видно было только одно из дворцовых зданий, охваченное языками пламени. Дрожащими руками Эмилия удерживала направленную в окно зрительную трубу. Дым валил вверх из-под провалившейся крыши здания, экзотические розово-оранжевые цветы расцветали после каждого пушечного залпа. Затем один из взрывов осветил богемских солдат, которые удирали вниз по склону, петляя между деревьями и оставляя позади тележки с боеприпасами и лафеты. Чуть выше на склоне показались первые вражеские отряды: роты копейщиков и мушкетеров достигли брустверов.
Меньше чем через час Эмилия направилась к служебному выходу из дворца. На лестничных площадках стайки посудомоек вопили о вторжении казаков, но она, пробежав мимо них, вышла во внутренний двор. К тому времени уже сгустились сумерки, а у ворот появились первые из бежавших богемских солдат. Из внутреннего дворцового двора она слышала, как они отчаянно переругиваются с часовыми, потом раздался скрип открывающихся ворот. Часть мужчин побросала свое оружие — цепы и серпы, но некоторые тащили их с собой, точно уставшие крестьяне, вернувшиеся с полей. Изголодавшиеся, в грязных кожаных защитных камзолах с продавленными нагрудниками, они больше напоминали бродячих лудильщиков, чем солдат. Пока они озадаченно толпились на булыжной вымостке двора, Эмилия незаметно прошмыгнула между ними. Небо над замком освещалось взрывами, и она, приподняв юбки, побежала к северу, на Злату уличку.
В этот час окна домов на Злате уличке были темными, все до последнего. Их хозяева, должно быть, сбежали вместе с десятками других обитателей замка. Несколько дней назад, когда императорские войска вошли в Раковник, английские и пфальцграфские советники удрали вместе со своими семьями и пожитками. Неужели Вилем бежал вместе с ними? Неужели он бросил ее? Эмилия вновь постучала в дверь, на сей раз посильнее, но по-прежнему не дождалась ответа. Неужели он бросил даже свои книги?
В небе еще горело огненное зарево, когда она через несколько минут отправилась в обратный путь к Краловскому дворцу, не обнаружив даже следов Иржи, слуги Вилема. К этому времени ворота за Пороховым мостом с шумом захлопнулись, разделив орущую толпу пополам. Королевскую карету уже заложили, и она стояла наготове во дворе. Ураганный огонь становился все ближе, до замка доносились звуки ружейной стрельбы, мушкетеры делали выстрел, затем отступали шеренгой, чтобы перезарядить мушкеты для следующего кровопролитного залпа анфиладного огня. Лошадиные упряжки перевозили длинные кулеврины и короткие, похожие на обрубки мортиры через гребень горы, доставляя лафеты к месту следующего артиллерийского залпа. Эмилия втянула голову в плечи и по скрипучему снежку побежала к Испанским залам. Библиотека оказалась на линии огня, окна ее западной стены выходили на темнеющую громаду Белой горы, которая в сумерках напоминала огромного, припавшего к земле зверя. Тысячи книг обитали в глубочайших нишах Испанских залов, поэтому она решили сначала пройти через лабиринт галерей, хранивших другие сокровища Рудольфа; множество украшенных драгоценными камнями застекленных шкафов с их причудливыми редкостями и древностями — рогами единорогов, клыками и челюстями драконов — выглядели как реликварии какого-то безумного священника. Правда, за последние дни большинство залов опустело, или, вернее, шкафы лишились своего содержимого. Лишь кое-где за стеклянными створками еще виднелись чучела животных и рептилий, словно замерших на миг в своем движении. Но множество механических часов исчезло, как и бесценные научные инструменты — астролябии, маятники, телескопы, — которые Вилем показывал ей несколько недель назад. Как, впрочем, и картины, вазы, рыцарские доспехи…
Ее не удивило такое опустошение, поскольку два дня назад, проходя на цыпочках по Испанским залам, Эмилия отметила, что они лишились своих экспонатов. Тогда ей также не удалось найти там Вилема; казалось, он исчез вместе со всеми сокровищами. Остался только Отакар. Она нашла его сидящим на полупустом ящике с книгами, рядом с ним на полу валялась опрокинутая бутылка вина. Он лил слезы и был настолько пьян, что едва мог держать голову прямо и глаза его с трудом открывались. Большинство сокровищ, икая объяснил он, уже отправили.
— На сохранение, — сообщил он Эмилии, нетвердо поднявшись на ноги и кое-как умудрившись наполнить свой кубок из второй бутылки, также похищенной из королевского винного погреба. — Все целиком, подчистую. Король беспокоится, как бы его сокровища не попали в руки солдат или, еще того хуже, в руки императора Фердинанда.
— О чем ты говоришь? Куда их могли отправить?
Они вдвоем стояли около опустевшего письменного стола Вилема, избавившегося наконец от горы неучтенных книг. К удивлению Эмилии, на полках также недоставало большинства книг. Отакар пытался объяснить ей что-то, и его голос гулко отдавался от голых стен. Он понятия не имел, куда отправили ящики, но исторгал — под влиянием выпитого — мрачные пророчества. Похоже, он рассматривал вторжение в Богемию как личное оскорбление, целью которого было не что иное, как осквернение библиотеки. Известно ли ей, спросил он, что в 1600 году, будучи эрцгерцогом Штирии, Фердинанд сжег все протестантские книги в своих владениях — тогда в одном только Граце сожгли более десяти тысяч книг! А сейчас, став императором, он не остановится, пока не испепелит все книги также и в Праге. Ведь каждый правитель празднует свою победу, закидывая факелами ближайшую библиотеку. Разве не Юлий Цезарь испепелил свитки великой библиотеки в Александрии во время его похода против республиканцев в Африку? А Стиликон, предводитель вандалов, приказал сжечь в Риме пророческие Сивиллины книги. Его неразборчивая речь многократным эхом отражалась от пустых стен зала. Эмилия уже собралась уходить, когда он остановил ее, неуклюже схватив за руку. Нет на свете большей опасности для короля или императора, говорил он, чем книга. Да, большая библиотека — такая библиотека, как эта, — это опасный арсенал, которого короли и императоры страшатся больше, чем самой большой армии или огромного склада боеприпасов. Возьми Фердинанд город — не уцелел бы ни один том из наших Испанских залов, громогласно заявил он, припадая к кубку; да-да, ни единый листочек не избежал бы всесожжения!
Но сегодня вечером, когда вокруг гремели орудийные залпы, в библиотеке не было даже Отакара. Пройдя мимо опустевших полок, Эмилия подошла к крохотной комнате, где обычно работал Вилем. Из-под закрытой двери пробивался луч света, однако комната оказалась пустой, если не считать масляной лампы и двух опорожненных Отакаром винных бутылей. Перед камином на своем обычном месте стоял письменный стол Вилема, и освещался он масляной лампой с низко подрезанным фитилем и почти израсходованным топливом. Уже собираясь уходить, Эмилия уловила едкий запах и заметила на столе набор предметов: бутылочку с чернилами, гусиные перья и книгу — манускрипт — в кожаном переплете. Два дня назад, насколько она помнила, этих вещей здесь не было. Неужели Отакар занялся научной работой? Или вернулся Вилем? Возможно, это его книга. Одно из тех философских сочинений — связанных с Платоном или Аристотелем, — которыми он пытался разнообразить ее поэтическо-романтическую диету.
На цыпочках подойдя к столу, Эмилия окинула взглядом разбросанные письменные принадлежности. Среди них она заметила шлифовальный камень и кусок мела, словно за этим столом работал писец. Ей было известно все о такой работе, о том, что писцы обрабатывают пергаменты пемзой, а потом мелом, чтобы удалить животный жир и чтобы чернила не растекались. Пару недель назад помимо телескопов и астролябий Вилем показывал ей много древних манускриптов, скопированных — как он говорил — константинопольскими писцами. По его словам, эти рукописи считались самыми ценными документами во всех Испанских залах, а писцы-монахи — самыми искусными мастерами своего дела во всем мире. Поднеся к свету один из документов, он показал ей, что за тысячу лет ни единый росчерк не потерял четкости и яркости цвета — красные краски получали из растертой в порошок киновари, желтые — из почвы, выкопанной на склонах вулканов. И самые прекрасные и ценные пергаменты — так называемые «золотые книги», сделанные для личных собраний византийских императоров, — окрашивали в пурпурный цвет, по которому потом писали чернилами, изготовленными из золотого порошка. После того как Эмилия закрыла крышки переплета, толстые, как обшивные доски корабля, ее ладони и пальцы заблестели, словно она погрузила их в сундук с сокровищами.
Но сейчас прекрасные рукописи из Константинополя исчезли вместе с остальными книгами. Осталась только та, что лежала на письменном столе. Отодвинув в сторону несколько перьев, Эмилия и взглянула на нее более внимательно. Изысканный переплет. Передняя крышка была искусно обработана, ее тисненую кожу украшал симметричный рисунок из завитушек, спиралей и переплетенных листьев — подобные замысловатые узоры, как припоминала Эмилия, украшали некоторые книги из Константинополя. Однако, открыв обложку, она не обнаружила там пурпурного пергамента с золотыми буквами, страницы этой рукописи пребывали в плачевном состоянии, жесткие и сморщенные, словно их залили водой. Черные чернила сильно потускнели и расплылись, и хотя она не умела читать по латыни, ей показалось, что текст написан именно на латинском языке.
Медленно перелистывая страницы, она прислушивалась к раскатистому грохоту мортир, стреляющих за стенами крепости. Одно из пушечных ядер, должно быть, попало в зубчатый парапет, поскольку пол вдруг содрогнулся под ногами, а оконные стекла задребезжали в своих рамах. Мягкий рассеянный свет от пожара в Летнем дворце озарял дальнюю стену комнаты. «Fit deorum ab hominibus dolenda secessio, — прочла она в начале одной из страниц, — soli nocentes angeli remanent…»[15]
Другой пушечный снаряд угодил гораздо ближе, и опять в парапет; часть стены с грохотом обрушилась в ров. Испуганная этим взрывом, Эмилия оторвала взгляд от пергамента и увидела высокую фигуру и ее черную, растянувшуюся по полу тень. Несколько секунд она пыталась осознать, что же она видит перед собой, — борода, меч, пара кривоватых ног, что твой медведь, вставший на дыбы. Позднее она пришла к выводу, что он выглядел как Амадис Галльский, или Дон Белианис, или даже как сам рыцарь Феб — другими словами, один из героев ее любимых рыцарских романов. Она понятия не имела, долго ли он уже стоял здесь, наблюдая за ней.
— Простите, — запинаясь проговорила Эмилия, роняя книгу на стол. — Я только…
Очередное ядро мортиры ударило в стену, и окно библиотеки вспыхнуло огнем.
Глава 6
Меня разбудил стук молотков. В первое мгновение, глядя на потолок, видя торчащие из-под обвалившейся штукатурки дубовые балки и перекрытия, я не мог вспомнить, где нахожусь. Я приподнялся на локтях, и полоса солнечного света упала на мою грудь, словно нагрудный патронташ. Меня удивило, что я спал на правой половине кровати, хотя в прежние времена это всегда была половина Арабеллы. В первый год моего вдовства я пробовал спать на ее половине, но затем постепенно — месяц за месяцем, дюйм за дюймом — переползал обратно на свою левую половину, где в итоге и остался. Сейчас у меня возникло тревожное ощущение, будто мне снилась моя жена, которую я не видел во сне почти целый год. Поднявшись с кровати и нацепив на нос очки, я проковылял к окну, надеясь посмотреть наконец, как выглядит Понтифик-Холл при дневном свете. Голый дощатый пол холодил ноги. Открыв одну створку окна и глянув вниз, я увидел, что нахожусь в одной из южных комнат. Под окном раскинулся цветник, а за ним обелиск, подобный тому, полуразрушенному, что я видел вчера вечером на северной стороне дома. За обелиском виднелись еще один фонтан и еще один декоративный пруд, такой же полувысохший и заросший, как его двойники на северной стороне. Или это и есть северная сторона? Симметрия, похоже, была присуща всему парку, так что даже в руинах одна половина Понтифик-Холла являла собой зеркальное отражение другой половины.
Нет, солнце слева — над стеной, проходящей по границе парка; сквозь листву она едва заметна. Значит, я все-таки смотрю на юг. Вглядываясь через открытое окно в жалкие останки цветника, я понял, что, должно быть, нахожусь прямо над библиотекой.
Я немного постоял у окна; чистый воздух благоухал ароматами трав, приятное отличие от моей «Редкой Книги», где река в часы отлива порою воняла так, что врагу не пожелаешь. Молотки перестали выбивать барабанную дробь, но несколько мгновений спустя раздался резкий стук в дверь моей спальни. В комнату вошел Финеас с тазиком горячей воды.
— Сэр, завтрак ждет вас внизу. — Вода плескалась по краям тазика, зажатого его усохшей клешней, пока он здоровой правой рукой освобождал для него место на столе. — Спускайтесь в чайную гостиную.
— Спасибо.
— В любое время, сэр, как только вы будете готовы.
— Все ясно, спасибо, Финеас. — Он направился к двери, но я остановил его вопросом: — А что это там за стук?
— Штукатуры, сэр. Реставрируют потолок Большого зала. — Что-то неприятно-елейное было в его манерах. Он оскалил зубы, сточенные и прореженные, как грабли. — Надеюсь, сэр, они вас не потревожили.
— Нет-нет. Все в порядке. Спасибо, Финеас.
Быстро совершив утреннее омовение, я энергично расчесал щеткой бороду и начал одеваться, размышляя о «столкновении интересов» и о «врагах», упомянутых Алетией. Вчера вечером меня не испугали эти откровения, как она предположила, — скорее просто озадачили. А сейчас, днем, в залитой солнцем комнате, продуваемой свежим ветерком, сама мысль об этом казалась смешной. Возможно, местные жители были и правы. Бедная Алетия, подумал я, возясь со своими подвязками. Может, она и впрямь страдает лунатизмом. Возможно, смерть отца и мужа — насильственная или нет — лишила ее рассудка. Восстанавливать это имение в его прежнем виде — затея конечно же эксцентричная.
Наконец я был готов спуститься вниз. Закрыв дверь Бархатной спальни, я направился вдоль по коридору. По бокам имелись две двери, обе закрыты; затем третья — тоже закрытая, прямо впереди меня. Выйдя через нее, я прошел по какому-то залу и оказался в следующем коридоре. В нем имелась такая же пара закрытых дверей, но его пересекал третий коридор, с очередными закрытыми дверями.
Я остановился в легком недоумении. В какую сторону мне повернуть? До меня донеслись скрип перил и звук шагов Финеаса, видимо, поднимавшегося по лестнице. Я хотел было позвать его, но, вспомнив его повадки — это унизительное высокомерие, эту плотоядную улыбочку, — отказался от своего намерения. Финеас относился ко мне явно не по-дружески. Поэтому я наугад пошел дальше, неуклюже шаркая своей косолапой ногой. Может, стоит повернуть назад, размышлял я, и попытаться открыть одну из первых дверей? Но я продолжал идти вперед. Поперечный коридор вскоре завершился запертой дверью.
Развернувшись, я пошел обратно. Сейчас шаги Финеаса уже затихли, и вокруг стояла тишина, если не считать звуков моих собственных нерешительных шагов и случайных стонов дощатого пола. Я растерялся, догадавшись, что здешние двери и коридоры должны повторять хитросплетения нижнего этажа. Здесь все подчинялось симметрии — как по вертикальной, так и по горизонтальной оси.
Остановившись на пересечении коридоров, я слегка призадумался, в какую сторону лучше пойти. В итоге я свернул налево и, пройдя дюжину шагов, — еще раз налево. Я где-то читал, что из лабиринта можно выбраться, все время поворачивая налево. Стратегия эта, похоже, увенчалась успехом, поскольку вскоре коридор заметно расширился и я оказался в длинной галерее. На стенах выделялись, точно тени, темные прямоугольники — следы висевших здесь портретов, вероятно уничтоженных или украденных пуританами. Однако выхода на лестницу здесь тоже не было.
Я продолжал идти по галерее, постукивая своей суковатой палкой, точно слепой нищий. Вскоре проход стал уже, а двери и ниши исчезли. Очередной коридор предательски заводил в тупик, как и прежние. Может, стоит дать задний ход, подумал я, и вернуться в Бархатную спальню? Хотя едва ли мне удастся теперь отыскать даже ее. Я окончательно заблудился. Но вот коридор вновь повернул налево и наконец, шагов через двадцать, внезапно закончился двумя дверьми, расположенными друг против друга. Обе были заманчиво приоткрыты, их медные ручки заговорщически поблескивали в полумраке. Чуть помедлив, я толкнул локтем дверь справа от меня и шагнул внутрь.
Меня сразу же поразил резкий запах. Воздух за дверью был настолько едким, что у меня защекотало в носу, словно я попал в аптеку, — большего, чем в аптеках, смрада не было ни в одной лондонской лавке. И когда глаза мои привыкли к полумраку, я с удивлением обнаружил, что комната действительно напоминала аптеку: столы и полки сплошь были заставлены перегонными аппаратами, плавильными горелками, воронками, пестиками и ступками, не говоря уже о множестве склянок и пузырьков с химическими реактивами и порошками всевозможных цветов. Я ненароком наткнулся на какую-то лабораторию. Впрочем, скорее всего, зелья, что готовились здесь, были не по фармацевтической, а по алхимической части. Вспомнив ряд книг на полках здешней библиотеки — маловразумительную писанину таких шарлатанов, как Роджер Бэкон или Джордж Рипли, — я решил, что Алетия по-дилетантски занимается алхимией, этим причудливым искусством, создание коего приписывали Гермесу Трисмегисту, египетскому жрецу и магу, чьи книги также имелись в ее библиотеке в переводе Фичино.
Медленно подходя к столу, я испытал легкое сожаление. Неужели леди Марчмонт — одна из искательниц так называемого elixir vitae[16], чудодейственного снадобья, якобы дарующего бессмертие? Или она надеется отыскать таинственный философский камень, который превратит кучу угля или глины в золотые самородки? Мне вдруг представилось, как она склоняется над этими булькающими колбами и перегонными устройствами, бормоча заклинания на вульгарной латыни, и черная пелерина, точно крылья летучей мыши, вяло колышется у нее за спиной. Ничего удивительного, что добропорядочные обитатели Крэмптон-Магна считают ее ведьмой.
Должно быть, чуть позже я увидел на подоконнике телескоп. Искусно сделанный инструмент, двух футов в длину, в кожаном чехле и с медными муфтами, он стоял на деревянной треноге, и его зрительная труба, расположенная примерно под углом сорок пять градусов к полу, словно указующий перст, была направлена в небеса. Я наклонился вперед и прищурившись посмотрел на эти выпуклые линзы, размышляя, не занимается ли Алетия кроме алхимии еще и астрологией. Вновь мне вспомнились тома суеверной чепухи и полдюжины звездных атласов, которые я также приметил на полках. Или же этот телескоп и химикаты принадлежали ее отцу — может, это он был некромантом и звездочетом? Возможно, Алетия стремилась вернуть его лаборатории, как и всему остальному, первоначальный облик, восстановить еще один боковой придел в великом храме-усыпальнице сэра Амброза Плессингтона.
Но это помещение явно не походило просто на место поклонения. Телескоп был новым — от его чехла еще исходил запах свежевыделанной кожи, — и здесь явно не так давно смешивали химические препараты: крошки и пятна от них еще виднелись на столе, а одна из ступок содержала остатки какого-то порошка. Среди многочисленных полупустых склянок имелась одна с надписью «цианистый калий».
Цианистый калий? Я поставил склянку, наполненную кристаллами, обратно на полку с таким чувством, будто случайно узнал нечто запретное. Неужели Алетия стряпает какую-то ужасную отраву, желая расправиться со своими таинственными противниками? Эта идея была не такой дикой, как кажется ныне. Ведь в те дни наши «Ведомости» изобиловали тревожными сообщениями о том, что на туалетных столиках прекрасных парижанок склянки с ядом соседствуют с духами и пудрой. А римские священники докладывали Папе, что молодые прихожанки признаются на исповедях, как отравили своих богатых мужей мышьяком и шпанскими мушками, купленными у одной дряхлой гадалки по имени Иеронима Спара. Неужто и лорд Марчмонт умер такой ужасной смертью — от яда? Поданного собственной супругой? Или же Алетия предается каким-то другим занятиям — более невинным? Я плохо разбирался в алхимии и знал только, что ядовитые цианиды, которые содержатся в листьях лавра и в косточках вишни и персика, используют, чтобы извлекать из руды золото и серебро.
По спине у меня пробежали мурашки. Мне вдруг стало как-то зябко в этой комнате. Снаружи, из раскрытого окна, донеслось лошадиное ржание, заглушающее некий щелкающий звук, резкий и звонкий, как бряцание сабель. Я медленно повернулся к выходу, убеждая себя, что мое дело в Понтифик-Холле, каково бы оно ни было, не имеет ничего общего с этой наводящей ужас маленькой комнатой. Ведь моей вотчиной была библиотека, а не лаборатория. Вот тогда-то я и заметил кое-что еще в окружавшем меня хаосе.
Эти два тома были почти незаметны среди множества склянок и приборов. Ожидая увидеть очередной алхимический трактат, я взял верхнюю книгу. Но она оказалась знаменитым атласом мира, Theatrum orbis terrarum Абрахама Ортелия. Насколько я помню, это издание вышло в Праге в 1600 году, через пару лет после смерти Ортелия. Вода сильно повредила страницы атласа, но их искусно переплели новым клееным холстом. Внутреннюю сторону крышки переплета украшал витиеватый экслибрис со знакомым девизом Littera scripta manet.
Я полистал сморщенные страницы, разглядывая десятки прекрасных гравированных карт. Мне был хорошо известен этот атлас, хотя данное издание я видел впервые. Что, впрочем, совсем не удивительно, поскольку атлас много раз переиздавался со времени его первой публикации в 1570 году. Интересно только, зачем его принесли сюда из библиотеки. Может быть, фолиант великого Ортелия, некогда придворного космографа короля Испании Филиппа II, унизительно использовали в качестве дверного упора или подставки?
Положив атлас обратно на стол, я взял вторую книгу, выпущенную недавно и значительно лучше сохранившуюся. Ею оказался не менее замечательный труд: сочинение Галилея Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo в переводе Томаса Солсбери. По-английски эта книга называлась: «Устройство мира в четырех диалогах», и вышла она в Лондоне всего пару месяцев назад. Я заказал в типографии пару дюжин экземпляров, и все они были распроданы за несколько часов. Сейчас у меня еще осталось два десятка заказов на эту книгу из разных графств Англии, а также из Голландии, Франции и Германии. Похоже, вся Европа жаждала прочитать этот философский шедевр, самый значительный и спорный труд своего времени, который, по мнению отцов-иезуитов из Колледжо Романе, мог нанести римско-католической церкви больший вред, чем Лютер и Кальвин, вместе взятые.
Я сам недавно дочитал эту книгу. Она содержит ряд диалогов, в которых некий Симплициус, сторонник Птолемеевой системы мира, полемизирует с более сообразительным сторонником Коперника. Что произошло с Галилеем после этой публикации в 1632-м, известно достаточно хорошо. Несмотря на то что автор дипломатично поддерживает систему Птолемея и несмотря на восторженный прием, который книга встретила в Европе, она пришлась не по нраву церковным властям. Папа Урбан VIII, друг Галилея, назначил расследование, и в итоге старого астронома вызвали в Рим, где он предстал перед судом инквизиции по обвинению в распространении идей Коперника, учение коего, вопреки Священному Писанию, утверждало, что скорее Солнце, а не Земля является центром Вселенной. В 1633 году его признали виновным и по распоряжению Папы заключили в подземелья инквизиции, где подвергли пыткам, а потом препроводили в церковь и вынудили отказаться от своих взглядов. Всю оставшуюся жизнь Галилея содержали под домашним арестом, а его «Диалоги» занесли в Index librorum prohibitorum, ватиканский список запрещенных книг.
Чик-чик-чик…
Странные лязгающие звуки за окном стали громче. Вновь зябко поежившись, я положил на место книгу, размышляя, зачем Алетия приобрела шедевр этого величайшего европейского астронома. Его книга выглядела совершенно неуместной в алхимической лаборатории, поскольку Галилей был врагом всяческих надувательств и суеверий, распространяемых алхимиками, оккультистами и прочими последователями древнего шамана Гермеса Трисмегиста. Так какая же связь могла быть между этой книгой и расставленными вокруг нее химическими препаратами? Или даже между Ортелием и Галилеем, между картографом и астрономом?
Я уже решил, что никакой связи тут быть не может, что присутствие этих книг в лаборатории — чистая случайность, и вдруг заметил кое-что еще. Ветерок из окна, перелистнув страницы Theatrum, показал мне странный листок, вставленный примерно в середину книги. На этом листке были напечатаны бессмысленные буквосочетания, напоминавшие какой-то варварский язык:
FUWXU KHW HZO IKEQ LVIL EPX ZSCDWP YWGG
FMCEMY ZN FRWKEJA RVS LHMPQW NYJHKR
KHSV JXXE FHR QTCJEX JIO KKA EEIZTU
AGO EKXEKHWY VYM QEOADL PTMGKBRKH
Сначала я решил, что эта тарабарщина появилась в результате грубой ошибки печатника или переплетчика. Однако едва ли кто-то мог так сильно дать маху.
Я перевернул эту страницу. Обратная сторона оказалась пустой, но на следующей странице была очередная карта Ортелия — Тихий океан с россыпью островов. Могло ли так быть, что этот листок вшили сюда намеренно, чтобы скрыть нехватку страницы в атласе? Конечно же, первоначально его не было — по какой-то причине его вшили в книгу, когда ее вновь переплетали. А по выровненным краям страниц я понял, что у этого атласа действительно заменили переплет. То есть, возможно, все дело в небрежности переплетчика? Под руку ему случайно попала страница из другой книги — водяные знаки этой вставки, как я заметил, отличались от остальных, — и в итоге ее по ошибке вшили в чужой переплет? Том Монк, становившийся жутко неуклюжим, когда дело доходило до переплетных работ, часто совершал подобные ошибки. Но едва ли это была промашка неумелого переплетчика. Вставка была сделана старательно, и страница не выглядела простым клочком бумаги. Я быстро пролистал атлас до конца и, не обнаружив больше никаких погрешностей, вернулся обратно к загадочному листу.
Если страница попала в книгу не случайно, у этого могло быть объяснение. Ведь последние лет десять ходило много слухов о том, что богатые роялисты, прежде чем отправиться в изгнание, зарывали ценности в землю своих имений, надеясь откопать их по возвращении в более счастливые времена. И именно такие слухи, вероятно, стали причиной раскопок, замеченных мною вчера рядом с подъездной аллеей, раскопок, в которых Алетия обвиняла ложно направленное крестьянское усердие. Я в подобные истории не очень-то верил, но сейчас заподозрил, что передо мной не текст на неведомом языке, а шифрованное послание, которое в начале Гражданской войны напечатали на этом листе и спрятали в экземпляре атласа Ортелия. Может, здесь содержатся сведения о местонахождении сокровищ живописи и разных диковин из коллекции сэра Амброза, которая, по утверждению Алетии, исчезла. Может, подобно прекрасным гравюрам атласа, эта шифровка тоже представляла своего рода карту.
У меня возникло ощущение, что из коридорного лабиринта я попал в другой, еще более запутанный. И эту путаницу уж точно не распутать… разве что я возьму эту книгу с собой или, еще лучше, просто вырежу таинственную страничку перочинным ножиком, только что замеченным мною на столе. Но при любых обстоятельствах простительно ли мне, библиофилу, так увечить книгу?
Это постыдное деяние совершилось за две или три секунды. Я надавил ладонью на переплет, получше раскрыв том, и провел острием ножичка по вставному листку вдоль самой линии прошивки, словно вспарывал рыбье брюхо разделочным ножом. Страничка тихо отделилась от переплета. Я сложил ее вдвое и засунул в нагрудный карман, с удивлением обнаружив, как сильно колотится мое сердце. После чего, глубоко вздохнув, я вышел обратно в коридор.
Чик. Чик. Чик-чик-чик…
Эти частые звуки казались резкими и пронзительными, как зубовный скрежет или крик какой-то диковинной птицы. Я повернулся кругом, утреннее солнце нагрело мне спину. Нет-нет, кричала не птица. Сквозь брешь в зеленой изгороди виднелся загорелый лоб, вернее — вся верхняя половина мужской головы. Присмотревшись к этой ветвистой живой стене, я разглядел, что пониже головы быстро мелькает металлический инструмент.
Чик, чик, чик…
Хороший ритм, каждому резкому звуку вторил другой, отражавшийся от кирпичных стен дома. Я видел, как постепенно расширяется проход в этой зеленой стене. На землю падали обстриженные ветви и листья. Изгородь, как и цветник, была местами запущена, а местами деревья были выкорчеваны или вырублены — беспросветная путаница граба, колючего боярышника, бирючины и падуба окружала дом. Голова нырнула в листву, и лязгающий клюв исчез из вида.
— Там бьют родники, — сказала Алетия. — Левее. Сразу за оранжереей.
Я отвел взгляд от подстригаемой зеленой изгороди. Мы с Алетией стояли к западу от Понтифик-Холла, в нескольких ярдах от его огромной четырехугольной тени, тянувшейся к нам по газону. Алетия показывала рукой в сторону неглубокой, заваленной мусором ямы, над которой поднималось несколько жалких бревен, подобных древним идолам. Вокруг них громоздились обломки старой кирпичной кладки. Дальше, на всхолмье, виднелась россыпь камней, складывающихся в ломаные геометрические фигуры.
— Еще можно разглядеть остатки купальни.
Она кивнула в сторону концентрических кругов. Ее рука вновь сжала мое предплечье, на сей раз как-то совсем уж по-приятельски. При дневном свете ее заношенное платье выглядело вовсе не черным, а темно-зеленым, как оперение селезня. Накидка с капюшоном, несмотря на жару по-прежнему наброшенная на ее плечи, была, кажется, расшита крошечными опавшими цветами.
— Родники выходят на поверхность в тех камнях, — продолжала она, — и вода от них поступала в купальню и пруд с лилиями. И то и другое устроено по проекту моего отца. Дальше вода уходила под землю и по трубам доставлялась к крыльям особняка. Воду приручили — и использовали для фонтанов и искусственных водопадов. Крутилось даже огромное водяное колесо. Оно стояло вон там, — сказала она, поворачиваясь в южную сторону.
— И все это придумано сэром Амброзом?.
— Конечно. Он получил множество патентов за изобретение водяных насосов и усовершенствование ветряных мельниц.
Она замолчала. Сегодня с утра Алетия, казалось, была погружена в какие-то собственные печальные размышления — судя по приступам молчаливости и туманным, загадочным взглядам. Мы прошли по краю разрушенной оранжереи и теперь стояли на берегу выложенного камнями пруда. Его поверхность затянула зеленая ряска, и даже в это время над ним роилось плотное облако мошкары.
Поскольку ее молчание грозило затянуться, я повернулся и взглянул на мрачноватую громаду Понтифик-Холла, тщетно пытаясь представить былые фонтаны и налаженную систему водоснабжения — вместо нынешних зарослей сорняков и буйно разросшихся кустарников. Там с важным видом расхаживала одинокая сорока, направляясь в нашу сторону. Дурная примета, сказала бы моя матушка: одна — к печали, две — к радости. Приставив к глазам ладонь, я невольно поискал взглядом вторую птицу, но увидел только, как уходят, закончив свои труды, рабочие, восстанавливающие дом, небрежно бросив стамески, кирки, тупоносые рубанки и ручные пилы. Просмоленная парусина, придавленная по углам кирпичами, покрывала толстые мраморные плиты. Для отделки каминов, пояснила позже Алетия. Недостроенные деревянные леса неуклюже карабкались по щербатой стене северного крыла здания. Под ними отдыхал один из штукатуров, покуривая трубку и время от времени бросая на нас рассеянный взгляд.
Прошел уже примерно час с тех пор, как я, поддавшись врожденной склонности, вырвал страничку и, спрятав ее в кармане, покинул лабораторию. Со второй попытки я безошибочно нашел верный путь в лабиринте коридоров; дверь, вначале мешавшая моему продвижению, оказалась не запертой, а просто плотно закрытой, и через несколько минут я уже спустился вниз по лестнице. Словно этот листок с непонятной надписью был своеобразным ключом или пропуском — путеводной нитью, без которой я был обречен на бесконечные блуждания по верхнему этажу. В чайной гостиной меня поджидал Финеас. Леди Марчмонт, пояснил он, уже позавтракала и вышла в парк. Если мне будет угодно присесть за стол, то мисс Бриджет с радостью обслужит меня. После чего леди Марчмонт настоятельно просила составить ей компанию на прогулке.
Когда мы с ней, шагая бок о бок, направились обратно к дому и проходили мимо множества голых пней, торчавших на заросшем участке погибшего фруктового сада, вырванный листок тихонько шуршал в моем кармане. Я уже твердо решил, что он был своего рода зашифрованным посланием. Но кто зашифровал его?
Мы приблизились к буйно разросшейся зеленой изгороди, и лязг садовых ножниц стал громче, а лишенная тела голова садовника, покачиваясь, проплывала вдоль этого неухоженного живого бруствера. По мере того как ветки падали на землю, все больше начинали проявляться замысловатые формы этих насаждений. Похоже, что здесь посадили не одну изгородь, а целую дюжину, и все они были взаимосвязаны. Ряды посадок, видимо, имитировали крепость — угловые бастионы, равелины, эскарпы и контрэскарпы — целая серия концентрических окружностей, подобных тем, что мы видели у купальни. Каково же предназначение такого цветника? Лабиринт? Затенив ладонью глаза, я внимательно посмотрел на ряд неподстриженных грабов с темно-зелеными вкраплениями тиса; и прорывала эту стену незаконченная дорожка, лишь частично посыпанная гравием.
Да, зеленый лабиринт: нечто вроде «дьявольских садов», которыми славились замки Гейдельберга и Праги. Через сводчатый вход я видел, как начинает вырисовываться сложное переплетение коридоров. План, как я догадывался, уничтожен или затерян, и пока что ломаные очертания этого сада образовывали лабиринт невозможный, бесформенный. Садовник наклонил голову и яростно защелкал ножницами. Мы как раз проходили мимо, и возможно, он хотел предостеречь меня, или это просто искаженное линзами памяти представление, наложившаяся память о вскоре последовавших событиях, которые страшно соединяются в сознании с образом этого заросшего лабиринта и вооруженного убийственными лезвиями садовника.
— Трубы засорились, — продолжила свой рассказ Алетия, выходя из печальной задумчивости. — Они были сделаны из выдолбленных стволов вязов и под землей выдерживают всего двадцать пять, от силы тридцать лет. Потом они начинают гнить, засоряться или протекать. И тогда вода разливается повсюду. — Она резко остановилась и взглянула на обнесенное лесами крыло Понтифик-Холла. — Вы понимаете, уже начало подмывать фундамент. С каждым днем все больше воды скапливается под домом. Меня предупредили, что через пару месяцев весь дом может просто рухнуть.
— Рухнуть? — Отвернувшись от зеленого лабиринта, я прикрыл глаза рукой и, прищурившись, окинул взглядом это трагическое зрелище — Понтифик-Холл. Мне вдруг припомнились звуки, сопровождавшие наш вчерашний поход в подземелье, постоянное журчание невидимых ручейков, — Неужели у источника нельзя построить запруду? Или отвести воду в сторону?
— Этих источников слишком много, чтобы строить запруды. Родники бьют по меньшей мере в пяти или шести местах. Некоторые из них даже не удалось обнаружить. Все это здание подмывается целой подводной рекой. Значит, в самом деле — надо отвести воду в другую сторону. Я наняла в Лондоне одного инженера, и он сейчас придумывает новый план системы водоотводов. — Она устало вздохнула и потянула меня за руку, как вчера у двери в подземный архив. — Пойдемте.
Во время прогулки по парку Алетия поведала мне кое-что еще об истории их имения. Прежде, говорила она, здесь стояло здание времен королевы Елизаветы, которому, в свою очередь, уступило место небольшое аббатство, Понтифик-Эбби, конфискованное Генрихом VIII у монахов-кармелитов согласно парламентскому акту 1536 года о закрытии монастырей. История этого дома была историей сменявших друг друга расцвета и увядания, иногда одно здание строилось буквально на развалинах другого; периоды забвения сменялись периодами возрождения. Она показала мне, где находились обширные виноградники и огороды закрытого аббатства; где стояла их, также конфискованная, библиотека; где над окрестными полями и пустошами когда-то высились купола, колокольни и башни. Все следы монастыря давно исчезли, остались только странное земляное укрепление да груда камней от разрушенной кладки — средоточие старых ран и костей. Мне вдруг вспомнились вчерашние слова Алетии о кощунствах, с которых начинается цивилизация. Но в таком случае, подумал я, кто же сможет определить разницу между цивилизованными и варварскими деяниями?
— Елизаветинский особняк сгорел лет пятьдесят назад, уничтожив обитавший в нем древний род де Куртене. Изрядно обедневший род, как я полагаю. Через год после того пожара мой отец приобрел право собственности на эти земли у совсем уж обедневшего наследника этой семьи, одного торговца сыром из Дорчестера. И следующие лет пять — или около того — он строил вот этот самый дом. Видите ли, он сам все спроектировал. Все сам, до последней мелочи, — и внутри, и снаружи.
Итак, сэр Амброз собственной персоной был архитектором нынешнего Понтифик-Холла, страстным любителем лабиринтов и симметрии. Пожалуй, он и вправду Дедал — как называла его Алетия, — ведь именно Дедал, в числе прочего, построил критский лабиринт. Но чем же объяснить такое пристрастие к бесконечным отражениям и повторам? Простая причуда — или здесь имелись какие-то тайные соображения? Несмотря на истории, рассказанные Алетией, и «останки», виденные мною в подземном склепе, я осознавал, что практически ничего не знаю о сэре Амброзе. Выцветшие документы и сморщенные пергаменты из телячьей кожи, наполнявшие эксгумированный гроб, — как, впрочем, и здешняя библиотека — намекали на весьма странные и, возможно, трагические события. Но в то время мне и в голову не могло прийти, какой мрачный сюжет свяжет их всех воедино. Он представал передо мной то в одном, то в другом образе, так что невозможно было угадать настоящий облик этого странного химерического создания. Кто же он был? Коллекционер? Изобретатель? Архитектор? Мореплаватель? Алхимик? Я решил, что, вернувшись в Лондон, проведу небольшое расследование.
Я также понимал, что едва ли знаю больше и об Алетии. О чем бы ни шла речь — о библиотеке, о доме, об отце, — непонятно было, говорит она правду или утаивает ее. Меня мучил вопрос, насколько следует доверять ей. Когда мы подошли к дому, я размышлял, могу ли я, ничем не рискуя, довериться ей, разумно ли рассказывать о моих блужданиях в лабиринте коридоров верхнего этажа или тем более спрашивать об атласе Ортелия. Или молчание — по-прежнему самое разумное, что можно придумать?
Я так ничего и не решил, когда Алетия подвела меня к двери, точно слепого.
— Библиотека ждет нас, господин Инчболд. Пришло время вам узнать, в чем заключается ваша работа.
Глава 7
Как выяснилось, мое задание представлялось сравнительно простым, если не совсем легким, по крайней мере на первый взгляд.
Оно имело отношение к книгам сэра Амброза. А к чему же еще? Вновь приведя меня в библиотеку — в лучах проникавшего через оконный проем солнечного света она выглядела еще более обширной и многотомной, — Алетия достала небольшой список, включающий всего дюжину книг. И объяснила, что по возвращении обнаружила пропажу из библиотеки этих ценных томов. А поскольку она желала восстановить всю коллекцию и вернуть библиотеку в то состояние, в каком она пребывала при жизни сэра Амброза, то ей настоятельно необходимо найти все его книги.
— Значит, вы желаете, чтобы я нашел для вас экземпляры… — Я попытался прочесть названия книг из перевернутого вверх ногами списка. К испытываемому мною облегчению от того, что все наконец разъяснилось, примешивалось, быть может, и разочарование. Такой жуткий переполох из-за дюжины книг. Слегка вытянув шею, я умудрился прочесть одно из названий: Джироламо Бенцоли, Historia del Mondo Nuovo. [17]
— Понятно. Отлично. Должно быть, я смогу найти другие экземпляры…
Но Алетия прервала меня с таким видом, словно ее необычайно рассердило мое предположение.
— Нет, господин Инчболд. Вы не поняли. Необходимо, чтобы именно его книги вернулись в библиотеку. — Она хлестко ударила пальцем по листу бумаги, хрустнувшей как отголосок громового раската. — Именно эти пропавшие книги. Каждую из них можно узнать по экслибрису с изображением герба моего отца. Вот…
Наугад взяв с полки одну из книг, она открыла крышку переплета, внутреннюю сторону которой украшало рельефное черно-белое изображение гербового щита. Она протянула мне этот том, издание Леонсио Пилато, латинский перевод Гомеровой «Илиады», и я рассмотрел книжный знак очень внимательно, чтобы не усиливать ее гнев. Поле щита, как я заметил, было разделено шевроном и незамысловато украшено у основания открытой книгой с двумя печатями и двумя застежками. Вполне подходящий, по-моему, экслибрис. Опять-таки я отметил, что эта эмблема также выдавала особое пристрастие сэра Амброза к симметрии, поскольку левая часть щита, в геральдике считающаяся «темной», теневой, полностью повторяла правую. Вернее, они совпадали во всем, кроме цвета, поскольку цветовое решение было необычно: левая половина была белой, а правая — черной, и наоборот — левая половина шеврона была черной, а правая — белой, и точно так же левая половина раскрытой книги была белой, а правая — черной, и так далее. Впечатление было своеобразным как от самого контрастного изображения, так и от отличительных знаков и вариаций симметрии. Единственной не имевшей двойника деталью был развернутый свиток в нижней части экслибриса, на котором читался уже знакомый мне девиз сэра Амброза: Littera scripta manet. «Написанное послание остается» — такой девиз воспринимался одновременно и как надежда, и как угроза.
Закрыв книгу, я поднял глаза и обнаружил, что Алетия взволнованно следит за мной с необычайной empressement. [18] Исчезла былая меланхоличная задумчивость; вид у нее был оживленный и встревоженный. Аккуратно поставив на полку возвращенную мною книгу, Алетия вновь обернулась ко мне.
— Вам нужно, чтобы я отыскал двенадцать книг, принадлежавших вашему отцу, — рискнул предположить я. — Двенадцать книг с его экслибрисом, — С какой-то двусмысленной озабоченностью она молча вручила мне перевернутый вверх тормашками список. Теперь я смог наконец прочесть еще несколько названий. Одна из книг оказалась Elegias de varones ilustres de las Indias Хуана Кастелланоса, а другая — Primera parte de la cronica del Peru Педро де Леона — обе они, как и издание Бензоли, представляли собой описания испанских исследовательских экспедиций в Новый Свет, — Но это трудная задача, — добавил я тем тоном, которым говорю с самыми отъявленными профессионалами, — возможно, даже невыполнимая. Книги могли исчезнуть по самым разным причинам. Они могут быть где угодно. Или вообще нигде. Что, если их сожгли квартировавшие здесь войска?
Вертикальная складка залегла между темными дугами ее бровей. Алетия отрицательно покачала головой и посмотрела на меня безнадежно усталым взглядом учителя, вынужденного объяснять новый урок непонятливому ребенку. Я покраснел — от гнева к которому, правда, примешивалось какое-то более тонкое чувство, поскольку я заметил, как изменилась ее внешность — вне всякой связи с ее очевидным во мне разочарованием. Сегодня утром она припудрила лицо и слегка подкрасила губы, а буйная шевелюра ее волос была укрощена, хотя бы частично, маленькой шапочкой из черных кружев. Она походила на Юнону как по стати, так и по поведению — или даже на амазонку, но тем не менее выглядела… да, пожалуй… весьма соблазнительно. А еще мне почудился запах ароматического масла, что напомнило, с ужасной неуместностью, о душистой воде из цветов апельсинового дерева, которой пользовалась моя Арабелла. Кроме того, прелести Алетии настолько отличались от обаяния Арабеллы — моей тихой, скромной Арабеллы, — что я даже затруднился определить, идут ли ей пудра и румяна. Поспешно опустив глаза, я мельком взглянул на четвертую книгу в списке: Эдвард Райт, «Некоторые ошибки навигации».
— Пожалуйста, господин Инчболд. Выслушайте меня предельно внимательно. — Ее голос стал более серьезным и внушительным, чем, казалось, того требовали обстоятельства, и в нем начисто отсутствовали терпение и обходительность, которые у меня до сих пор ассоциировались с женскими манерами. — Я хочу поручить вам найти одну книгу. Одну-единственную книгу. С радостью сообщаю вам, что местонахождение остальных одиннадцати томов уже определено. Но вот последняя, двенадцатая, книга так и не обнаружена, хотя поиски велись весьма обстоятельно.
Значит, весь этот переполох из-за одной-единственной книги. Я вздохнул про себя.
— Итак, выходит, вы желаете поручить мне поиск одной только двенадцатой книги. — Я попытался удержаться на грани смирения. Не хотелось вновь видеть вспышку ее раздражения.
— Совершенно верно. Видите ли, от успеха ваших поисков зависит очень многое.
— Не слишком ли много хлопот? Вы привозите человека из самого Лондона ради одной-единственной книги?
— Очень ценной книги.
— Пусть даже ради очень ценной.
Вертикальная складка на ее хмуром челе стала глубже.
— Господин Инчболд, мне хотелось бы особо подчеркнуть важность вашего поручения.
— Вам это уже удалось.
Однако за ее словами крылось нечто большее, ей явно не хотелось «подчеркивать» кое-что гораздо более важное; я был уверен в этом. Все ее рассказы напоминали тщательно отобранные главы из большого неизвестного романа с неким общим сюжетом или интригой, на которую она лишь намекала. Взять, к примеру, врагов ее отца или «столкновение интересов». Неужели еще кто-то хотел заполучить эту таинственную двенадцатую книгу? Но я задумался также, насколько следует доверять ее рассказам об отце и муже.
Повернувшись к ней спиной, я несколько мгновений с хмурым видом пялился невидящим взглядом в окно, поверх осколков стекла, еле державшихся в своих рамах. Наконец, тихо кашлянув, я спросил:
— А если я откажусь?
— Тогда мы оба окажемся в проигрыше, — спокойно ответила она. — И мое положение станет крайне тяжелым.
— Есть же другие книготорговцы.
— Так-то оно так. Но никто, на мой взгляд, не обладает вашими знаниями и возможностями.
Это была правда, или, по крайней мере, мне хотелось так думать. Но бесполезно было пытаться сыграть на моем тщеславии. Так же как и на жадности, которую она незамедлительно попыталась пробудить.
— Я очень хорошо заплачу вам. — Она стояла в паре футов за моей спиной, и в ее голосе появился оттенок, которого я не слышал прежде. — Сотню фунтов. Устраивает вас такая сумма? Разумеется, плюс расходы. Я думаю, вам придется отправиться в путешествие.
— Путешествие? — Эта мысль привела меня в смятение. Если я и хотел куда-то отправиться, то лишь к себе домой, в «Редкую Книгу». Сотня фунтов, конечно, приличная сумма денег. Но нужны ли мне эти деньги? Я вполне довольствовался тем, что имел, моими надежными ста пятьюдесятью фунтами в год; с моим креслом, моей трубкой, моими книгами.
— Сотню фунтов, учтите, просто за ваше согласие взяться за это поручение, — продолжала она. Казалось, я чувствовал, как ее взгляд буравит мне спину. — А если вы найдете книгу… в чем я не сомневаюсь… То получите еще одну сотню. Две сотни фунтов, господин Инчболд. — Она вдруг заговорила легкомысленным тоном, противоречившим важности сделанного предложения. — Две сотни фунтов только за то, чтобы отыскать книгу. Разумеется, есть одно условие: вы должны быть предельно осторожны.
Две сотни фунтов за книгу? Сняв очки, я принялся энергично протирать линзы полой куртки. Мое любопытство начало пробиваться на свободу из крепких оков, которыми я сковал его. Две сотни фунтов за одну-единственную книгу? Неслыханно. Смехотворно. Половину всего моего магазина можно приобрести за такую цену. Какая книга может стоить таких денег? Даже «Исповедь» Блаженного Августина в издании знаменитого Какстона — этот экземпляр я вчера мельком видел в ее библиотеке — не стоила таких больших денег.
Я вновь нацепил очки и на мгновение умолк. Алетия молчала, ожидая моего ответа. М-да… Что, в сущности, я теряю? Возможно, мне вовсе и не понадобится путешествовать. У меня имеется множество посредников: толковые партнеры в Оксфорде, Париже, Амстердаме и Франкфурте. А Монку вполне можно поручить прочесать все книжные лавки Патерностер-роу и Вестминстера или любые другие места, куда я сочту необходимым послать его. И кроме того, по моим представлениям, эта книга уже сейчас могла просто стоять на моих ореховых полках. Славно, да? Случались и более странные вещи. В конце концов, я точно знаю, что на моих полках имеется книга Уолтера Рэли «Открытие обширной, богатой и прекрасной Гвианской империи» — пятое название в списке, подмеченное мною чуть раньше.
Повернувшись, я взглянул на нее. Почти против воли я протянул руку, чтобы скрепить договор.
— Итак? Могу я поинтересоваться, каково же название столь ценной книги?
После полудня я уже плюхнулся на сиденье кареты, готовой отвезти меня обратно в Лондон. Впервые за много часов — за несколько дней — я почувствовал себя спокойно. Финеас щелкнул кнутом, и лошади рванулись вперед, чахлые деревья пролетали мимо боковых окошек. Но чуть позже, приблизившись к арке, мы едва не столкнулись с одиноким всадником, полным ходом скачущим в сторону дома.
— Сэр Ричард!
— Эй ты, старый болван! Прочь с дороги!
— Слушаюсь, сэр Ричард!
Финеас резко дернул поводья, круто поворачивая в сторону. Сильно накренившись, карета выехала на травянистую обочину, где правое переднее колесо натолкнулось на камень и нырнуло в канаву. Слетев с сиденья на пол, я вывихнул бедро. Всадник пришпорил лошадь, гнедую кобылу, и с кличем, напоминающим вороний грай, пролетел мимо моего окна.
Когда я привел себя в порядок, мы уже выбрались из канавы и проезжали под аркой. Скривившись, я развернулся назад и поднял кожаный клапан овального заднего оконца. Мне удалось увидеть, как всадник спешился и склонился в поклоне перед Алетией, а она, сделав реверанс, протянула ему руку. Она уже переоделась в амазонку в ожидании его приезда — и, видимо, последующей верховой прогулки. Ее гость был здоровым малым в старомодном плоеном воротнике, похожем на мельничный жернов, и высокой шляпе с пурпурной лентой, которая судорожно подергивалась на ветерке. Они застыли на мгновение между крыльями Понтифик-Холла, который, точно старинная рама, вмещал в себя две написанные маслом фигуры. Затем мы свернули за угол — и эта картина исчезла за полуразрушенной стеной и буйными зарослями живой изгороди.
— Сэр Ричард Оверстрит, — крикнул Финеас, на сей раз решивший добровольно поделиться информацией. — Сосед. Надумал взять леди Марчмонт в жены.
— Неужели?
— Не удивлюсь, если он добьется своего еще до конца года. Негодяй, сэр, если вы спросите меня, — подытожил он с необычной для него страстностью.
— Да?
Но Финеас уже сказал все, что хотел. Больше никаких откровений не предвиделось. Все три дня мы ехали в мрачном молчании.
Но случай этот странно на меня подействовал. Гнев и раздражение улетучились, уступив место иному чувству. Ведь вчера в какой-то момент в моем спокойном существовании образовалась некая трещина. В беспорядочных потоках воспоминаний стали отчетливо вычленяться образы Алетии. Стоило мне закрыть глаза, как эти струящиеся ручейки памяти приносили мне живые картины: вот она склоняется над книгами, сдувает пыль с корешков или проводит кончиками пальцев по их переплетам, словно исследуя изгибы любимого лица. Однажды она даже поднесла книгу к губам и, закрыв глаза, вдохнула ее запах с таким наслаждением, словно перед ней была благоухающая роза.
Дорога, петлявшая перед нами, сзади казалась прямой — а я тем временем начал испытывать первые приступы сбивающего с толку и неожиданно острого раздражения, робкое трепетание одного чахлого и рудиментарного органа, для которого, как и для аппендикса, я больше не имел применения; нечто бездействующее и забытое, подобное копчику или зубу мудрости, напоминало о давно угасшей жизни. Внезапно мне вспомнилось, какие взгляды Алетия бросала на меня в подземном архиве, а к тому же — сколько книг по магии теснится на библиотечных полках, и у меня мелькнула мысль, уж не околдовала ли она меня за время моего пребывания в имении, точно колдунья или знахарка, — что, если причиной этого странного раздражающего подрагивания был какой-то языческий заговор? Но я не успел толком поразмыслить над этой дурацкой фантазией, как течь моих шлюзовых затворов заглушилась болью в бедре. И все же как ни кратки были эти ощущения — они не становились от того менее опасными. Надо будет последить за дальнейшими симптомами.
Меня нещадно трясло, то вдавливая в сиденье, то едва не скидывая на пол, но я упорно таращился на безлесые глубокие ложбины, на холмы и деревья, бежавшие нам навстречу и таявшие вдали. В небе повисло несколько серых, как пороховой дым, облаков. Ко мне вновь вернулось спокойствие. Вскоре я увижу золотые столичные купола и медные флюгеры «Редкой Книги», вздымающиеся в прокопченное лондонское небо. Вскоре я вновь окажусь за моими книжными стенами, надежно ограждающими меня от тревожных головоломок внешнего мира. События последнего дня станут казаться не чем иным, как странным сном, от которого я с благодарностью пробужусь, уже сомневаясь, ездил ли я вообще куда-то и происходило ли все это на самом деле.
Хотя одна памятка о моем путешествии всё же еще у меня останется — некие письмена, свидетельствующие о его странной цели… Когда мы достигли Крэмптон-Магна, я вытащил из кармана листок бумаги и пристально взглянул на смазавшиеся слова, написанные старомодным наклонным почерком Алетии: Labyrinthus mundi, что в переводе с латинского означает «Лабиринт мира».
Подскакивая на ухабах, я сосредоточенно разглядывал листок, так же сосредоточенно, как в первый раз, когда Алетия вручила его мне. Название книги казалось смутно знакомым, хотя я никак не мог вспомнить, где его слышал. Это было название сочинения, совершенно отличного от прочих потерянных фолиантов — всех этих трактатов по навигации и книг о путешествиях в далекую Испанскую Америку. Данный манускрипт появился, как утверждала Алетия, в начале пятнадцатого века: его содержимое скопировал с написанного на папирусе оригинала — ныне утраченного — и перевел на латынь некий писец из Константинополя. Это был фрагмент, насчитывающий, возможно, десять или двенадцать пергаментных листов в тисненом переплете, украшенном витиеватым восточным орнаментом, известным как «ребеск», то есть арабески. Она не добавила больше ничего, кроме того что это — герметический текст, невразумительный и никогда прежде не публиковавшийся. Но в данный момент мне не хотелось ломать голову над тем, почему такая рукопись оценивалась в двести фунтов и каким таинственным образом она могла способствовать увеличению благосостояния леди Марчмонт.
Много ли мне было известно в то время о так называемом Corpus hermeticum? Не больше, наверное, чем любому другому человеку. Я помнил, разумеется, что такие рукописи впервые появились во Флоренции пару столетий назад после того, как Козимо де Медичи разослал повсюду своих агентов, приказав им везти в его великолепную библиотеку любые рукописи, из всех церквей и монастырей, которые откроют перед ними двери. И я знал, что эти добытчики — в большинстве своем монахи из обители Сан-Марко во Флоренции — обнаружили множество шедевров в затхлых библиотеках и скрипториях далеких монастырей Монте-Кассино, Лангра, Корвея и Санкт-Галлена — труды таких почитаемых авторов, как Цицерон, Сенека, Ливий и Квинтилиан, и множество других сочинений, которые в скором времени издали, перевели и вместе с прочими сокровищами поместили в библиотеку Медичи для изучения и хранения. Меня всегда согревали мысли об этих ученых-исследователях, отважных монахах, покачивающихся на широких спинах мулов. Смиреннейшие трудяги, они совершали, однако, самые замечательные исследовательские путешествия и пускались в десятки опасных походов, опережая Колумба и Кабота и охватившую весь мир страсть к мореплаванию, и целью их опасных странствий было не золото, специи или торговые пути, а древние манускрипты, немного усохшие пергаменты из телячьей кожи, чьи тайные миры возвращались к жизни только после многодневных и долгих блужданий по труднопроходимым и кишащим разбойниками горным тропам.
И наконец, я знал, что величайшее из таких открытий было сделано примерно в 1460 году, меньше чем через десять лет после захвата турками Константинополя, когда один из бесстрашных посланцев Козимо привез во Флоренцию первые четырнадцать книг «герметического свода». Это обнаруженное в Македонии сокровище являлось не менее ценным — по крайней мере, так полагал Козимо, — чем индийские специи или перуанское золото инков, и стоит оно всех других книг в библиотеке Медичи, вместе взятых. Рукописи эти прибыли во Флоренцию вскоре после подлинных диалогов Платона, найденных в Македонии Джованни Ауриспа. Но Козимо заказал Марсилио Фичино, величайшему ученому Флоренции, а следовательно, и величайшему ученому всего мира, перевести сначала труды Гермеса, поскольку он, как и Фичино, разделял общее мнение, что все свои знания Платон позаимствовал не у кого иного, как у древнего египетского жреца Гермеса Трисмегиста. Ведь разве такой древний ученый, как Ямвлих Апамейский, не писал, что Платон во время посещения Египта испил до дна чашу благочестивой мудрости Гермеса Трисмегиста? Тогда чего же ради Козимо должен читать копии выскочки Платона, если он разжился оригиналами, принадлежавшими самому Гермесу Трисмегисту?
Фичино усердно переводил эти четырнадцать книг с греческого на латынь, а тем временем во Флоренции, да и во всей остальной Европе, возникло множество слухов о существовании пока не обнаруженных новых герметических рукописей — и в Македонии, и в других местах. В итоге, подкупив множество священников и обшарив множество храмов, нашли еще около двадцати рукописей, но все они, за исключением трех, оказались версиями или отрывками первых четырнадцати книг, так что в сумме получилось семнадцать обнаруженных герметических текстов. Через сто лет после смерти Козимо греческий текст македонских рукописей издали в Париже, и впоследствии оба перевода «герметического свода» — и латинский, и греческий — выдержали множество изданий, с бесчисленными исправлениями, а сэр Амброз, видимо, дотошно собирал все герметические издания и переводы, что успели напечатать в Европе за прошедшие две сотни лет.
Поманив меня к книжным полкам, Алетия показала, что ее отец приобрел издания, которые подготовили Лефевр де Этапль, Турнебус, Флуссас, Патрицци, Розелли, даже тринкавелливское издание Иоханнеса Стобея, македонского язычника, более тысячи лет назад собравшего воедино часть герметических рукописей. Но ни в одно из этих собраний, утверждала она, не входила восемнадцатая рукопись, первый герметический текст, обнаруженный почти двести лет назад, — «Лабиринт мира».
Я скептически поглядывал, как она стояла около книжной полки и скороговоркой проговаривала все названия одно за другим, и думал о том, какая жалость, что сэр Амброз истратил такие огромные деньги — на эти тома, по крайней мере. Все они, правда, в добротных переплетах, и я мог бы быстро продать их любому из дюжины коллекционеров. Но пятьдесят лет назад Исаак Казобон доказал, что весь «герметический свод» — этот предполагаемый первоисточник древнейшей магии и мудрости нашего мира — не что иное, как подделка, плод труда нескольких греческих ученых, живших в Александрии в первом веке от Рождества Христова. Так какую же ценность или интерес могла иметь еще одна подобная книга, очередная подделка?
Карета пересекла узкий ручей, с обеих сторон из-под колес взметнулись фонтаны воды. Задаток в виде золотых соверенов — целая дюжина — тихо позвякивал в моих карманах. Я прикрыл глаза и не открывал их, насколько я помню, пока мы не достигли дымного Лондона, запах которого, могу поклясться, никогда еще не казался мне столь приятным.
Глава 8
Битва за Прагу длилась меньше часа. Солдаты Фридриха и их ненадежные земляные укрепления не способны были противостоять императорским полчищам с их кремневыми мушкетами и двадцатичетырехфунтовыми пушечными ядрами. Артиллерия в пух и прах разнесла линию обороны перед Летним дворцом, и затем в дело вступили мушкетеры: уравновесив свои ружья на развилках опор, они палили по скользящей и скатывающейся вниз по склону горы чешской пехоте. Тех, кто избежал мушкетных пуль, выкосили сабли кавалерии, которая чуть позже пронеслась по Потешному парку, сметая все на своем пути. Увернувшиеся от столкновения с кавалерией и прорвавшиеся в ворота замка солдаты рассыпались по его территории, а те, кто не успел, бежали к реке. Они пытались переплыть Влтаву на излучине, рассчитывая добраться до еврейского квартала или до Старого города и надеясь, что водная преграда защитит их от грозного врага.
Мирные обитатели замка тоже пытались перебраться через Влтаву. Перегруженные кареты, запряженные мулами и ломовыми лошадьми, стояли вереницей, теснясь по трое в ряд на всем протяжении моста, заполняя всю узкую, стиснутую домами Карлову улицу вплоть до Староместской площади. Сама королева находилась в середине этого плотного потока, ее скарб, поспешно связанный в узлы, громоздился на крыше экипажа, словно у цыган или бродячих лудильщиков. Чуть раньше ей подали меховой плащ и посадили в королевскую карету. Сейчас ее карета покачивалась на мосту, парчовые оконные занавески грустно шуршали, а колеса терлись о крытые повозки и ручные тележки, которые толкали спасающиеся бегством подданные. Медленно проплывали мимо статуи святых. Несколько месяцев назад они были обезглавлены по приказу королевы, и сейчас один вид их наполнял сердце ужасом. Напоследок показалась деревянная статуя Богоматери — еще одно зыбкое привидение. Но кучер прикрикнул на испуганных лошадей, пригрозив им кнутом. С Богоматерью или без нее, королева проедет все-таки в Старый город.
Эмилия также двигалась в Старый город. Покинув Испанские залы вместе с сэром Амброзом, она бежала по уже почти опустевшим дворам — лишь несколько слуг еще толкали перед собой ручные тележки, нагруженные мехами и бочонками с вином, считая, что успеют унести ноги до того, как императорские войска прорвутся через ворота и всерьез займутся грабежом замка. Хотя в библиотеке им мало чем удастся поживиться. Два ее помещения уже пылали; в коридорах клубился черный дым, а языки пламени озаряли ярким мерцающим светом бастионный сад и луковичный купол собора. Пушечное ядро, проломив стену, угодило в жаровню, и языки пламени почти сразу перекинулись через пролом. Сэр Амброз попытался сбить их своим плащом, и его огромная кривая тень заметалась по стене, но пламя все разгоралось — и ему пришлось отступить, поскольку почернел уже не только оштукатуренный потолок, но и сам воздух. Развернувшись кругом, он протянул Эмилии затянутую в черную перчатку руку.
— Скорей! Сюда!
Во дворе он схватил поводья брошенной кем-то лошади и, вскочив на нее, поднял Эмилию и посадил сзади себя. Это была старая извозчичья лошадь, больше привычная к упряжи, чем к верховой езде, но сэр Амброз пустил ее во весь опор, направляя вниз по крутому спуску к Малостранской площади, где вереница повозок возле чумного столба распадалась на два рукава, а потом опять сливалась в единый, еще более плотный и широкий поток. Эмилия уже разглядела островерхую башню моста, возвышавшуюся на фоне путаницы шпилей и флюгеров, столпившихся над Старым городом.
Куда они направлялись? Сэр Амброз был неразговорчив и, с тех пор как они покинули библиотеку, просто отдавал отрывистые приказы — идти за ним, держаться крепче или пригнуть голову всякий раз, когда лошадь проезжала под арочным сводом. Он даже не соизволил представиться — манеры у него, как Эмилия заметила, даже в лучшие времена были что у турка. Но она уже догадалась, кто он такой. Она поняла, что этот высокий англичанин был тем агентом, который привез в Прагу «золотые книги» из Константинополя и множество других рукописей — те древние труды, которые, как утверждал Вилем, не видели света дня с тех пор, как султан Мехмет завоевал этот город в 1453 году. Но Вилем не говорил ей, что этот англичанин вернулся в Богемию. Очевидно, его визит был sub rosa, «под розой», то бишь без огласки, как говорят послы. О том, что он снова здесь, она знала лишь из сплетен, ходивших в Краловском дворце; утверждали, что на сей раз он прибыл в Прагу не для того, чтобы доставить новые книги в Испанские залы, как прежде, а для того, чтобы продать старые и направить вырученные средства на вооружение богемской армии.
Лавируя между повозками и ломовыми тяжеловозами, лошадь сэра Амброза быстро обогнала разношерстную процессию и легким галопом выехала на Карлову улицу. Здесь, на другом берегу реки, они вдруг поехали каким-то окольным, сложным путем, притом скача все быстрее. Вырвавшись из толпы, сэр Амброз пустил лошадь галопом и направил ее в лабиринт темных и узких улочек, уводивших в глубину Старого города. Эмилии, неумелой наезднице, едва удавалось сохранять равновесие, ей просто пришлось вцепиться обеими руками в его плащ, чтобы не свалиться с лошади. Рукоятка его сабли упиралась ей в бедро. Из книг она знала, что такой изогнутый и широкий на конце клинок называют ятаганом, — должно быть, еще одно приобретение, сделанное сэром Амброзом в Константинополе. Она также заметила у него на поясе кремневый пистолет в кожаной кобуре; другой торчал из-за голенища его сапога. Эмилия закрыла глаза и посильнее стиснула кулаки.
Выполнив свою задачу, артиллерия на горе затихла. Сейчас оттуда доносился только железный стук копыт и колес по камням, да где-то вдали изредка лаяли мушкеты. Когда Эмилия осмелилась открыть глаза, то увидела, что Пражский замок то появляется в поле зрения, то исчезает за одиночными спиралями дыма. Гораздо ближе, на стене одного из домов улицы, по которой они проезжали, она мельком увидела кое-что еще: полустертый, непонятный символ, нарисованный мелом на прокопченных кирпичах фахверкового дома:
Этот рисунок казался знакомым. Она видела его совсем недавно, но не могла вспомнить где. На какой-то стене? Или в книге? Проводив странный значок взглядом, Эмилия быстро пригнулась, поскольку они въезжали под арку.
Они петляли взад и вперед по городу еще около четверти часа — скакали в южном направлении по каким-то переулкам, чтобы чуть позже проехать по параллельным переулкам в северную сторону. Сточные канавы стояли замерзшие, грязь и отбросы затвердели от стужи. Эмилия подумала: уж не заблудились ли они? Прежде она никогда не переезжала за Карлов мост, никогда не бывала в Старом городе и в Еврейском квартале, по пустынным улицам которого они также проскакали галопом, быстро оставляя позади молитвенные школы и синагоги.
Они как раз выезжали из Еврейского квартала, когда вдруг позади них раздался громкий ружейный выстрел. Лошадь от испуга взвилась на дыбы и с новой силой рванулась вперед на следующую улицу. Эмилия тоже вздрогнула. Неужели императорские солдаты, прорвавшись через ворота, так быстро добрались до Старого города? Еще одна пуля, точно оса, прожужжала над их головами и пробила кружку для сбора пожертвований на стене синагоги. Забренчали монеты, в воздухе распространился едкий запах пороха. Лошадь стрелой неслась вперед, а Эмилия, оглянувшись назад, увидела, что за ними скачут три всадника.
Сначала она подумала, что это казаки, самые жестокие и свирепые воины Европы, о которых на дворцовых судомойнях и кухнях рассказывали истории одна страшнее другой. Но эта троица одета была не по-казачьи — в длинный кафтан и высокую каракулевую папаху; на них были плащи, бриджи и камзолы, черные, как у пуританского проповедника, но отделанные по рукавам золотой парчой, которая слегка блеснула, когда преследователи миновали тускло освещенную таверну. Никогда прежде Эмилия не видела таких костюмов ни в Праге, ни в Гейдельберге. И не встречала таких странных, отвратительных физиономий. Смуглые и бородатые, они гримасничали, как горгульи, и намерения у них были явно недобрые. Сверкнув золотой парчой, один из преследователи поднял пистолет. Но сэр Амброз уже вытащил из сапога свое оружие и, повернувшись назад, сделал ответный выстрел. Сначала послышалось шипение, потом фитиль задымился, вспыхнул, и уж тогда пистолет полыхнул огнем, едва не задев Эмилию по носу. В горле опять защипало от едкого запаха. Ослепленная на мгновение, она испуганно вскрикнула. Сэр Амброз, вытаскивая второй пистолет из кобуры, направил лошадь на очередную улицу.
Вновь закрыв глаза, Эмилия в отчаянии прижалась к сэру Амброзу. Но выстрелов больше не было. Через несколько минут, петляя в лабиринте улиц, они оторвались от резвых лошадок преследователей. Когда она открыла глаза, их взмыленная лошадь уже цокала копытами по мостовой, въезжая в большой внутренний двор церкви с двумя башнями и большими часами. Они прибыли на Староместскую площадь. На булыжной вымостке толпилось множество лошадей и вьючных мулов. Мужчины в военных мундирах выкрикивали какие-то приказы на английском, немецком и чешском языках, а остальные сновали вокруг них, точно грузчики в порту.
Врезавшись в эту толпу, сэр Амброз пересек площадь по диагонали, направляясь к ряду домов с украшенными арками фасадами и тускло освещенными окнами эркеров. Там он остановил запыхавшуюся лошадь у дверей одного из больших домов и, быстро спешившись, помог спуститься Эмилии, поддержав ее под локоть. Когда, оказавшись на мостовой, девушка взглянула на своего спутника, его искаженное гримасой лицо в багрово-рыжем свете фонаря напоминало не об Амадисе Галльском или рыцаре Фебе, а скорее о тех бородатых черных преследователях. Интересно, подумала она, ее спасли или взяли в плен?
У расписного фасада дома они попали в водоворот мельтешащих факелов и суетящихся фигур. Сэр Амброз повел ее к сводчатой нише в стене, мимо растянувшегося архипелага навозных куч и нагромождений багажа, которые мощным приливом прибило к этим колоннам. Вокруг ревели ослы, а в воздухе пестрели языки пламени. Куда он тащит ее? Она чувствовала себя пернатой дичью, пойманной охотничьей собакой. Эмилия попробовала вырвать руку — это была первая попытка сопротивления. Затем, когда они проходили мимо закрепленного на стене факела, она заметила, что он держит в другой руке какой-то предмет. Он снял перчатки, и стало видно, что его пальцы испачканы чернилами. Почти сразу она узнала в этом предмете книгу, один из библиотечных манускриптов: ту единственную рукопись в кожаном переплете, что лежала на столе Вилема. И вновь она попыталась высвободиться, но тут дверь распахнулась и ее втолкнули внутрь дома.
Часть 2 ТОЛКОВАТЕЛЬ ТАЙН
Глава 1
Вернувшись домой после изматывающего путешествия в Крэмптон-Магна, я не обнаружил в «Редкой Книге» ожидаемого беспорядка. Когда Финеас оставил меня на Лондонском мосту, я заметил за одним из поблескивающих окон Монка. Он склонился над прилавком, а книги за его опущенной головой выстроились ровными шеренгами на своих полках, и послеобеденные солнечные лучи согревали их корешки. Все было на должных местах — включая, наконец, и меня. Мое изгнание закончилось.
Выйдя из кареты, я потопал башмаками по маленьким булыжникам мостовой, словно хотел стряхнуть с них пыль и тлен Понтифик-Холла. Помедлив немного, я вытер пот со лба и пару раз полной грудью вдохнул едкого воздуха, увлажненного речным ветерком. Было около шести часов вечера. Толпы горожан, прикупив еду для будущего ужина, возвращались с рынков по мосту, держа путь в Саутворк. Хозяйки и слуги, проходя мимо меня по пешеходной части дороги, тащили корзины, из которых торчали говяжьи рульки, прикрытые оберточной бумагой, и рыбы с серебристыми плавниками и широкими сардоническими ухмылками. Сделав несколько шагов вперед и испустив благодарный вздох, я дал себе слово — вскоре нарушенное — никогда не покидать больше Лондон и открыл мою зеленую дверь.
— Сэр! Добрый день! — Монк вскочил со своего места, точно ошпаренный кот, и помог мне перетащить через порог дорожный сундук. — Как прошло ваше путешествие, господин Инчболд? Понравилось ли вам в тех краях? — Он бросил на мой саквояж удивленный взгляд, поскольку, очевидно, ожидал, что тот будет до отказа набит книгами, которые, как он справедливо считал, были единственным возможным основанием для моего отъезда. — Какие там погоды, тепло ли, сухо ли?
Я терпеливо ответил на уже заданные и еще полдюжины новых оживленных вопросов. К тому времени, когда я закончил, колокола Святого Магнуса-Мученика пробили шесть часов, поэтому я убрал навесной тент, закрыл ставни и запер дверь. Действия эти я совершал с явной неохотой, поскольку мне не терпелось окунуться в водоворот прекрасных повседневных дел, увидеть, как мои постоянные покупатели входят в двери магазинчика; разбавить тревожные воспоминания прошедшей недели привычными разговорами и общением со знакомыми лицами. Монк заметил, что я заинтересовался почтой, аккуратной стопкой сложенной на прилавке. Наконец пришло из Парижа письмо от месье Гримо, пояснил он.
— Ладно, Монк. — Я уже читал письмо, поднимаясь к себе в комнату по винтовой лестнице. Виньоновское издание Гомера все-таки ускользнуло от нас, но даже это досадное известие не могло испортить моего бодрого настроения, поскольку я уже чувствовал обнадеживающие ароматы пищи и слышал знакомый стук посуды из кухни. — Ступай разузнай, что Маргарет приготовила нам на ужин.
Конечно, я и сам это знал, ведь сегодня у нас вторник, а значит, купленного на рынке Чипсайда кролика, как обычно, зажарят на вертеле, а к нему подадут отварной сладкий картофель, приобретенный в Ковент-гардене. И — тоже как обычно — Маргарет откупорит бутыль наваррского вина, а я позволю себе отпить из нее три пурпурных дюйма, устроившись в любимом мягком кресле и выкурив, как всегда, ровно две трубочки табака.
В первую очередь, по моим представлениям, мне следовало разрешить загадку шифра. Исчезнувшая рукопись может и подождать, по крайней мере денек-другой. Даже не знаю, почему я чувствовал, что нужна именно такая последовательность действий. Возможно, мне казалось, что между этими двумя таинственными текстами — одним я уже завладел, а другой искал — существовала какая-то связь и что расшифровка одного поможет обнаружению другого. Поскольку сам сэр Амброз был совершенно загадочной личностью — для меня, по крайней мере, — я рассудил, что, расшифровав вырванный из атласа листок, смогу добавить кое-что к тем отрывочным и скудным сведениям, которыми удостоила меня Алетия. Конечно, результат оказался противоположным, поскольку эта тайнопись не являлась, как я полагал, моей золотой нитью, а, напротив, увела меня далеко от центра лабиринта. Но в то время я еще об этом знать не знал и, покончив с ужином, естественно, сразу вознамерился приступить к расшифровке, используя в качестве подспорья имевшиеся на моих полках книги по криптографии или «тайнописи». Кроме того, я решил написать письмо моему кузену Эразмусу Инчболду, математику из Уэдхэмского колледжа Оксфорда.
Вскарабкавшись по лестнице к себе в кабинет, я зажег сальную свечу. К тому времени Монк успел удалиться на свой чердак, а Маргарет — в свою лачугу в Саутворке. На мосту уже все затихло, и снаружи доносились лишь журчание да плеск волн отлива между мостовыми быками. А внутрь проникал последний луч дневного света, озарявший окно, на котором уже давно высились стопки книг, загораживая вид на реку. Кабинет мой был совсем крохотным и находился сразу за винтовой лестницей, то есть мне приходилось терпеть любые вторжения с первого этажа. На всех горизонтальных поверхностях кабинета сейчас громоздились книги, стопку которых я вынужден был для начала снять с письменного стола, чтобы освободить место для подсвечника.
Прежде чем приступить к расшифровке, я мельком бросил взгляд на другой листок бумаги из Понтифик-Холла, тот, что дала мне сама Алетия: «Лабиринт мира». Отыскать пропавший герметический текст? Именно такое задание озадачивало меня больше всего. Кому в наш век просвещения и научных открытий могли понадобиться эти якобы тайные знания, заключенные в «герметическом своде»? Сегодня мы читаем Галилея и Декарта, а не магов наподобие Гермеса Трисмегиста и Корнелия Агриппы. Мы делаем переливание крови и пишем трактаты о структуре колец Сатурна. Восхищаемся прекрасными формами древних мраморных статуй, привезенных из Греции лордом Арунделем, и стремимся воссоздать их. Мы вступаем в войны не из-за религиозных убеждений, а ради торговой и коммерческой выгоды. В Новой Англии уже основан университет, а в Лондоне — Королевское научное общество по повышению естественных знаний. Ведьм больше не жгут, и никого не подвергают экзорцизму. Мы уже не верим, что такое заболевание, как зоб, можно исцелить прикосновением руки повешенного человека, а оспу — молитвами Святому Иову. Но главное, мы стали цивилизованными людьми. Так какой же интерес для любого из нас может представлять невразумительное учение, ложная мудрость, заключенная в «герметическом своде»?
Минуту спустя я отложил в сторону записку Алетии и взялся за шифрованный текст. Он казался еще более загадочным. Поднеся бумагу к свечке, я попытался разглядеть водяные знаки. На страницах Theatrum orbis terrarum Ортелия просвечивали шутовские колпаки — такой знак использовали богемские бумажники в 1600 году. Но шифровка отпечатана была на бумаге, отмеченной другим знаком — рогом изобилия с двумя стоящими рядом заглавными буквами: слева — J, а справа — T.
Сердце мое отчаянно забилось. Разумеется, я узнал этот рисунок и узнал также инициалы. Они принадлежали Джону Тимбльби, производителю бумаги, чья мануфактура располагалась на восточном берегу Темзы. Значит, этот лист вставили в атлас гораздо позднее 1600 года. Но эта единственная зацепка могла оказаться совершенно бесполезной: Тимбльби был одним из крупнейших поставщиков бумаги в Англии и дело свое держал уже более четверти века. И все же стоило нанести ему визит, чтобы выяснить, каким печатникам он поставлял бумагу, роялистам или пуританам, и не выполнял ли какие-то заказы для Дорсетшира.
Я перевернул листок, понюхал его, затем лизнул кончиком языка, пытаясь выяснить, нет ли здесь еще чего-то, кроме типографской краски. Известно, что даже шифровальщики-любители имели в своем распоряжении полдюжины хитроумных способов написания тайных посланий с помощью так называемых «симпатических чернил». Лук, вино, азотная кислота, жучиный сок, пропущенный через перегонный куб, — в общем, чего только не использовали. Я удивился, что Алетия, с ее странной заботой о секретности, не прибегла к такому способу. Хотя, решил я, это и к лучшему. У меня не было желания уподобляться алхимику или фармацевту, возясь с плошками воды и угольной пылью из каминного ящика. Поскольку именно таким образом дешифруют подобные невидимые послания. Сообщения, написанные особыми чернилами, сделанными, к примеру, из растворенных квасцов — вещество, которое чаще используют, чтобы останавливать кровотечение, или для приготовления клея, или при выделке кожи, — можно прочитать, лишь намочив их: только тогда кристаллы этого вещества проявятся на бумаге. А если чернила сделаны из козьего молока или гусиного жира, то листок надо сначала посыпать отрубями, и тогда буквы, словно по волшебству, возникнут из небытия. При другом изощренном методе используют чернила, сделанные из гнилой древесины ивняка, — этот тип чернил виден только в совершенно темной комнате, точно так же как сделанный по другому рецепту, который включает в себя, сколько я помню, выделения жуков-светляков. Я даже читал где-то, что из смеси хлористого аммония и прокисшего вина тоже делают чернила. Послания, написанные этой дурно пахнущей бурдой, вроде бы оставались невидимыми, если только получатель не оказывался достаточно сообразительным, чтобы подержать бумагу над пламенем свечи.
Но не было никаких свидетельств того, что на моем клочке бумаги писали подобными чернилами поэтому я отложил в сторону листок и достал с полки первую из моих книг по дешифровке.
Что ж, вероятно, в наш век, с его научным духом, мы еще не полностью изжили эти старые обманные трюки. Спрос на книги по дешифровке подозрительно высок, немало их я заметил и в Понтифик-Холле. И конечно, чуть ли не целая полка была посвящена искусству стеганографии. Сейчас, сидя перед кучей этих книг, разложенных передо мной, точно готовые к ощипыванию тетерева, я отметил, что большинство из них напечатано в Лондоне в течение последних двадцати лет. Да, в нашем столетии определенно высоко ценят искусство хранить — и раскрывать — тайны. И кто бы стал нас обвинять, я полагаю, после стольких лет войн, заговоров и интриг?
На моих полках обнаружилась Steganographia Иоганна фон Гейденберга, известного под именем Иоанн Тритемий, — этот монах-бенедиктинец якобы сумел вызвать дух покойной жены императора Максимилиана I. Имелись также Magia naturalis[19] оккультиста Жана Батиста делла Порты, который основал некую «Тайную Академию» в Неаполе, а также De cifris [20], написанная Леоном Альберти, чьим величайшим изобретением стал «шифровальный диск», то есть два медных диска, один внутри другого, которые вращаются в разные стороны. Была у меня также книга английского автора Джона Уилкинса, женатого на сестре Оливера Кромвеля. И еще я владел экземпляром самого знаменитого учебника по криптографии — шестисотстраничного труда Блэза де Виженера Traicte des chiffres, ou secretes manieres d’escrire [21], впервые опубликованного в Париже в 1586 году. Экземпляр этой уникальной книги, как мне помнилось, был также и в библиотеке Понтифик-Холла.
Целых два часа просидел я сгорбившись над этой бумажкой и растерянно покачивал головой, пытаясь понять смысл — сперва смысл книг по криптографии, затем — смысл шифра, который я собирался разгадать с помощью их туманных указаний. Идея шифра достаточно проста. Это своего рода маскарад: имеется некая заместительная последовательность букв, за которой прячут свой облик истинные буквы. Исходные буквы изменяют в соответствии с произвольным, заранее выбранным правилом, которое зовется кодом, или языком шифровки. Как любой язык, такой код имеет свои особые законы и правила. Таким образом, дешифровка подразумевает знание или же выявление использованных законов и правил с целью установления подлинных значений самозванцев, спрятавшихся под чужими масками. Вопрос, стало быть, в том, каким образом эти маски снять. Обычно получатель шифрованного послания открывает эту тайну посредством ключа, то есть основных правил, объясняющих язык шифровки. В таком ключе может, например, оговариваться, что истинные буквы смещены на два места по алфавиту, то есть:
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
CDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZAB
В данном случае произведен сдвиг двух букв направо, и шифровальщик просто заменяет буквы верхней строки на соответствующие им буквы из нижней строки, а дешифровщик сдвигает их обратно на две буквы. Эта довольно примитивная система известна как «алфавит Цезаря», поскольку впервые ее использовал Юлий Цезарь для связи со своими войсками в Испании и Сирии. Системы такого типа, как поясняли лежащие на моем столе книги, можно довольно легко разгадать. Например, согласно подсчетам наборщиков, чаще всего в английских словах встречается буква E, на втором месте — A, на третьем — O, затем — N, и так далее. Из слов чаще всего попадается, конечно, определенный артикль the. И вот, располагая этими скромными сведениями, дешифровщик должен сначала определить, какая буква встречается чаще других. По-видимому, это будет не E, поскольку, как и все другие буквы, E прячется под своей маской. Допустим, такой буквой оказалась X, значит, она является кандидатом на букву E. И если эта буква часто встречается в соединении с двумя другими, то есть основание предполагать, что данное трио представляет определенный артикль, что, кроме всего прочего, позволяет узнать еще две буквы.
Или, точнее, мы надеемся, что узнали их. Но нужно действовать осторожно. Для продвигающегося наугад дешифровщика может быть расставлено много ловушек. Слово может быть написано задом наперед или изменено каким-то иным способом. Бывают также «пустышки» — буквы, не имеющие никакого значения и вставленные в слова лишь затем, чтобы сбить дешифровщика со следа. Ключ может оговаривать, например, что буква Y является «пустышкой» и, следовательно, в незашифрованном тексте она совершенно лишняя. А еще ключ может оговаривать, что каждую пятую букву в шифровке нужно пропускать или что учитывать следует лишь вторую букву в каждой строке. А иногда определенный артикль и даже сама буква E могут быть и вовсе пропущены.
Ум заходил за разум от всех этих хитроумных ловушек, поэтому я переключился с книг о способах тайнописи на саму шифровку. К этому времени солнце за окном уже обернулось пушистым оранжевым снегирем, и ночной сторож, проходя туда-сюда по мосту, звякал своим колокольчиком. Как выяснилось, чаще всего в моем тексте встречалась буква K, их я насчитал одиннадцать штук. Я сделал замены, исходя из предположения, что K означает E, откуда логически следовало, что шифровальный алфавит имеет шестибуквенный сдвиг вправо относительно истинного алфавита. Но после этих элементарных замен послание не стало более понятным. Очевидно, мой шифровальщик превзошел в хитроумии Юлия Цезаря.
Поэтому я решил, что он, должно быть, использовал систему, известную шифровальщикам под названием le systeme Vigenere[22], — более сложный способ, когда некое ключевое слово используется для того, чтобы сначала замаскировать, а потом выявить буквы истинного текста. Согласно Виженеру, такое ключевое слово является путеводной нитью для буквенного лабиринта: золотой клубок, который дешифратор разматывает, двигаясь извилистыми путями. Слово это необходимо, чтобы определить, какие шифрованные алфавиты — зачастую штук шесть или семь — использовались для кодировки исходного текста. Обычно это бывает одно слово, но бывает и два или три, а возможно, даже целая фраза. Сам Виженер рекомендует фразу, поскольку чем длиннее ключевое слово, тем труднее разгадать шифр.
И вновь я почувствовал растерянность перед сложностью решаемой мною задачи. Я со скрипом открыл «Трактаты» Виженера и, спотыкаясь, начал разбираться в архаичных французских пассажах, пытаясь постичь суть длинных буквенных колонок и таблиц, заполнявших страницу за страницей. Видимо, подобные шифровки практически невозможно разгадать без ключевого слова, поскольку для одного послания могло использоваться до дюжины кодов.
Наконец-то я хотя бы понял, что эта система Виженера, в сущности, совсем не сложна, по крайней мере по своей идее, а как способ шифровки текстов она весьма остроумна, чтобы не сказать — пугающе эффективна и действенна. Изучая «Трактаты», я осознал величие Виженера как мага или колдуна, пользовавшегося в своих опытах скорее словами и буквами, нежели огнем или химическими соединениями, — словами и буквами, чьи очертания изменялись по некой магической формуле или мановению волшебной палочки.
Суть его системы, подобно методу Цезаря, заключается в алфавитных заменах, но заменах более сложных и разнообразных, при которых буквы исходного текста заменяются одним из двадцати пяти шифровальных алфавитов. Буква A исходного текста может заменяться, например, буквой C шифровального алфавита, как в «алфавите Цезаря». Но отсюда еще не следует, что буква B будет заменяться на D: ее может с равной вероятностью заменить любая из оставшихся двадцати четырех букв. И это также не означает, что буква C в шифровке будет всегда служить маской для буквы A исходного текста, поскольку A также может изменить свое значение. Ибо подстановочной таблицей Виженера любую букву исходного текста по горизонтальной оси может заменить любая другая из нижних или находящихся левее столбцов, согласно коду шифровки
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDE
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFG
IJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGH
JKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI
KLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJ
LMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJK
MNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKL
NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM
OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN
PQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNO
QRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOP
RSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQ
STUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQR
TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS
UVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRST
VWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
WXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
XYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
YZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Таким образом, букву B исходного текста в верхней горизонтальной строке может заменить любая из двадцати шести букв, имеющихся в двадцати шести строках кодирующих алфавитов, расположенных ниже. Дешифровщик узнает, какой из этих двадцати шести алфавитов выбрать, только благодаря ключевому слову, нескольким буквам, чья структура вполне логична, но которые по действенности не уступают магическим заклинаниям, превращающим неблагородный металл в слиток золота. Это заклинание начинает действовать, когда буквы ключевого слова многократно накладываются на буквы шифра, так что каждой букве ключевого слова соответствует при каждом повторении одна из букв зашифрованного текста. Затем производится снятие масок. Значения букв в шифровке изменяются в соответствии с буквами того алфавита, применить который указывает дешифровщику ключевое слово. В результате последовательной замены всех букв происходит некая текстовая метаморфоза, и в результате спрятанная надпись обретает определенную форму, подобно тому как написанное квасцами послание проявляется после погружения в воду, то есть его структура перестраивается неким предопределенным образом. Процесс дешифровки становится простым и понятным, словно мы, переворачивая игральные карты, узнаем их достоинство или срываем атласную маску, дабы открыть лицо злодея.
Мне очень понравилась идея ключа, с помощью которого можно открыть самые хитрые секреты — ключевого слова или фразы, которая, словно по божественному соизволению, создает порядок из хаоса. Виженер вовсе не был чародеем. Нет, его система принадлежала нашему новому времени, времени Кеплера, Галилея и Фрэнсиса Бэкона, веку, в котором внешняя скорлупа отбрасывалась и на всеобщее обозрение представлялось ядро истины. Его система укрепила мою веру в человеческий разум, способный проникнуть в глубины любой тайны. И потому — что удивительного, если этот клочок бумаги, сопоставленный с секретными словами, поможет мне проникнуть в тайну сэра Амброза Плессингтона?
Если не считать того, что я не знал пока необходимого ключевого слова. Потрясенный, я отложил все книги в сторону, когда ночная стража возвестила о наступлении десяти часов вечера. Лучшим помощником в таком деле мне по-прежнему представлялся мой кузен Эразмус. За многие годы я снабдил его множеством книг по дешифровке, и ходили слухи, что он даже занимался криптографическими изысканиями для Кромвеля. В общем, я решил, что кому, как не ему, знать, что делать с этим загадочным текстом. Но о моих подозрениях касательно содержания этой криптограммы (а я думал, что она сообщает, где спрятаны богатства сэра Амброза) я писать ему не собирался. «Мой дорогой Эразмус», — начал я, удивляясь тому, что моя рука слегка дрожит от волнения.
Когда я закончил письмо, на улице уже совсем стемнело и колокола Святого Магнуса пробили одиннадцать раз. Очевидно, надо поспешить, если я хочу успеть отправить его с последней почтовой каретой. Но тут я вздрогнул, совершенно неожиданно, при мысли еще об одном срочном деле.
«Вам нечего бояться, господин Инчболд. Вы будете в полной безопасности. Я обещаю…»
Я потянулся за курткой, не отводя пристального взгляда от шифровки на столе, и крошечная щель сомнения, появившаяся в первый вечер моего пребывания в Понтифик-Холле, стала шире, и тогда я, подчиняясь внезапному импульсу, опустился на кони возле письменного стола и, приподняв две незакрепленные половицы, засунул между ними этот листок бумаги. Чуть подумав, я отправил туда же список пропавших книг и письмо Алетии, присовокупив к ним двенадцать соверенов аванса, — все, что говорило о моей связи с Понтифик-Холлом. Затем, аккуратно вернув доски на место, я прикрыл их двумя стопками книг и, лавируя между остальными громоздившимися на полу изданиями, направился к винтовой лестнице.
— Сэр…
Я уже прошел половину лестницы. Полускрытое ночным колпаком лицо Монка появилось на лестничной клетке. Я даже вздрогнул от страха.
— Я собираюсь прогуляться, — заявил я ему. Даже в темноте было заметно, как его брови удивленно поползли вверх. Я редко осмеливался выходить из дома после наступления темноты, а если и выходил, то обычно не дальше чем до «Веселого лодочника». Даже днем в Лондоне было страшновато, а уж ночами, судя по моему скудному опыту, он представлял собой нечто совершенно ужасное. Решительность почти покинула меня. — Я ненадолго, — добавил я. — Мне надо отправить письмо.
— Позвольте мне, сэр. — Он начал спускаться по закручивающимся ступенькам. Отправка писем входила в немалое число возложенных на него обязанностей.
— Нет-нет, — остановил я его взмахом руки. — Я совсем засиделся в этой карете, — пояснил я, разминая ноги и потирая поясницу, чтобы успокоить его. — Именно прогулки мне сейчас и не хватает. А ты, Монк, пожалуйста, ложись спать.
Ночной колпак исчез. И спустя минуту я вышел из дома и зашагал по мостовой. Улицы за воротами были пустыми и темными. Попадавшиеся время от времени ночные фонари — тускло-желтые пятна у фасадов домов — едва освещали мне путь. Издалека донесся колокольчик ночного сторожа. Втянув голову в плечи, я поспешил за своей тенью, ступая с неуверенностью человека, идущего по яичным скорлупкам.
Ближайшая к «Редкой Книге» почта находится на Тауэр-стрит, около Ботольф-лейн. Я без труда нашел ее и, опустив письмо в щель почтового ящика (этакое крепко сколоченное сооружение, прикованное к стене цепью), под вечерний звон быстро пошел обратно по Фиш-стрит-хилл. Услышав этот погребальный сигнал, двое часовых слегка оживились, собираясь закрыть скрипучие ворота моста. Решетка начала медленно опускаться. Я успел как раз вовремя проскочить под ней и с радостью увидел вновь черно-белый корпус моего «Редкого Дома», чей силуэт вздымался передо мной на фоне темного неба.
Через полчаса мое письмо вынули из ящика и доставили в отдел внутренних доставок, который занимал верхний этаж Почтового двора на Клок-лейн. Здесь при свете свечного огарка, среди хаоса ярлыков и печатей, веревку отрезали перочинным ножиком, а запечатанное облаткой письмо аккуратно вскрыли, чтобы служащий мог переписать его слово в слово. Затем писарь отнес копию на нижний этаж, в комнату побольше, где другой чиновник сидел за письменным столом, барабаня по нему пальцами правой руки. Сидел он спиной к двери.
— Сэр Валентайн, — пробормотал вошедший, по имени Оттермоул.
— В чем дело?
— Еще письмо, сэр. Из «Редкого Дома».
Сэр Валентайн повернулся, скрипнув кожаным креслом. Писарь положил копию письма на стол и, поднявшись на свой этаж, вновь сложил письмо по старым складкам и аккуратно запечатал его каплей воска. Теперь письмо также отправлялось на первый этаж. Возле дверей стояло полдюжины сумок с медными оковками. Сэр Валентайн уже куда-то исчез. На улице, в тесном каретном дворе, упряжку лошадей запрягали в почтовую карету, которая должна прибыть в Оксфорд примерно через пятнадцать часов, сделав по пути пять остановок.
Оттермоул поднялся по лестнице обратно в свой отдел внутренних доставок. За время его короткого отсутствия на столе появилась новая пачка запечатанных писем. Вздохнув, он сел перед своим свечным огарком и, вооружившись ножичком, собрался разрезать бечевку очередного письма. Как обычно, ему предстояло работать всю ночь.
Глава 2
Окаймленный дымкой ноябрьского тумана Пражский замок, возвышавшийся на другом берегу Влтавы, выглядел спокойным и мирным. Всю ночь валил густой снег. Умолкли даже фонтаны во внутренних дворах, их журчащие воды замерзли, а арки и ворота покрылись слоем свежевыпавшего снега в несколько дюймов толщиной. Под крепостными валами едва различались очертания садов и аллей с подстриженными деревьями, четкий порядок которых нарушали беспорядочные трещины теней. Пожар в Испанских залах уже несколько часов как утих — слишком мало там оставалось книг, чтобы дать пищу огню, — но призрак черного дыма неподвижно висел в воздухе. Казалось, весь замок плывет в каком-то молчаливом взвешенном состоянии, выжидающе затаив дыхание. Но вот послышались редкие оружейные выстрелы, пока далекие; постепенно они становились все ближе и громче. Времени оставалось мало, самое большое день до того, как солдаты переправятся через Влтаву и ворвутся в ворота Старого города. А еще могут появиться казаки, о которых рассказывают такие ужасы.
Стоя на балконе дома, выходящего на Староместскую площадь, Эмилия вздохнула, выпустив легкое облачко пара, и прислушалась к доносившимся снизу крикам. Исход продолжался. Кучки слуг старательно закрепляли корзины на вьючных мулах или набрасывали брезентовые чехлы на перегруженные повозки и фургоны, чьи колеса избороздили весь снег на площади. Мужчины трудились всю ночь. Внизу стояло пятьдесят с гаком телег, в основном уже загруженных и запряженных ломовыми лошадьми и рыжеватыми волами, которые с сонным видом покачивали головами из стороны в сторону. Этот караван огибал всю площадь и исчезал где-то на окутанных туманом улочках. По утоптанному снегу носились ливрейные пажи; несколько верховых легким галопом курсировали вдоль фургонов с вещами, извергая английские и немецкие проклятия. На противоположной стороне площади, под часовой башней городской ратуши, подковывали тяжеловоза. Приглушенный стук молота долетал до балкона спустя долю секунды после удара кузнеца, и оттого все зрелище казалось фальшивым и безумным — словно некий чародей плохо оживил картину.
Сжав руками покрытые инеем перила, Эмилия подалась вперед, навстречу морозному воздуху, и пристально смотрела поверх покрытых снегом труб и крыш на запад, туда, где в пяти милях от города высилась Белая гора, сокрытая завесой серого тумана. Летний дворец захватили этой ночью. Убили всех — и солдат, и придворных. Ее взгляд скользнул вниз по склону холма к Влтаве, где заржавленные клинки порой посверкивали под соломенными крышами в пробитых стенах оштукатуренных домов. Она мельком увидела жуткий балет, исполняемый телами, уносимыми рекой вниз по течению, — с раскинутыми руками, с фалдами мундиров, вздымающимися за спиной подобно крыльям ангелов. Моравские пехотинцы. Прошлым вечером, ища спасения в Старом городе, они пытались, но не смогли переплыть реку.
Спасение? Эмилия опустила глаза и, отойдя от перил, получше запахнула плащ на плечах. Всю ночь тут ходили слухи, один хуже другого. Войскам из Трансильвании, впрочем как и из Англии, так и не удалось дойти до Праги, а мадьярская кавалерия либо была разбита, либо перешла на сторону императора. А первые казаки уже появились на вершине горы и начали спускаться по склону в сторону моста, чьи ворота не смогут надолго задержать их. Католики торжествовали. Прага будет разграблена, а ее жителей бросят в тюрьмы и подвергнут пыткам, всех до единого, кого не успеют истребить. Господи, спаси их души!
Только короля Фридриха никто не возьмет в плен. Он уже бежал в Глатц и спрятался в своей крепости, как утверждали другие слухи. Но королева все еще здесь, в этом доме, и также готовится к бегству. Всю ночь Эмилия слышала резкие повизгивания ее обезьянки, всю ночь хлопали двери ее покоев, пропуская и выпуская толпы посланников и советников. Сейчас наступало время, когда паж или звон колокольчика обычно призывали Эмилию и других придворных дам на длительную церемонию облачения королевской особы в одеяния из шелка и дамаста, церемонию застегивания пуговок, завязывания бантиков, нанизывания украшений и, наконец, завивания волос горячими щипцами, завершающего волшебное превращение изящной и хрупкой Елизаветы в королеву Богемии. Но нынешним утром не было слышно ни призыва пажа, ни звона колокольчика. Может, про нее забыли? Здесь она также не нашла никаких следов Вилема, ни в доме, ни на площади, а дым по-прежнему не поднимался из труб на Злате уличке. И вот она стояла на балконе — позавтракать было нечем, почитать нечего — и ждала.
На площади раздался крик, и она, взглянув вниз, увидела сэра Амброза Плессингтона, тяжелой походкой вышагивающего по снегу. Он-то, по крайней мере, вполне обычное явление и постоянно попадается ей на глаза. Прошлой ночью он сопроводил ее наверх в отведенную для нее комнату и, не сказав ни слова, удалился, держа под мышкой свой переплетенный в кожу манускрипт. Сегодня утром этой книги у него уже не было, хотя он следил за погрузкой ящиков с книгами в один из фургонов, приподнимая своим ятаганом их крышки, а потом накрепко забивая молотком. Должно быть, грузили не меньше сотни ящиков. Девушка уже десятый раз задавалась вопросом, что же он делал вчера вечером в библиотеке. Может, именно он стоял за исчезновением Вилема? Ведь они, судя по всему, знакомы друг с другом. Возможно даже, Вилем участвовал в каком-то тайном заговоре, который и привел в Прагу этого англичанина. От Вилема она узнала, что в библиотеке помимо множества книг и рукописей есть секретный архив, запертое подземное помещение, где хранятся самые ценные и даже опасные книги, внесенные в Index Librorum Prohibitorum, Ватиканский список запрещенных книг. Лишь горстка людей имела доступ в это таинственное убежище. Сотни ученых ежегодно приезжали в Прагу, чтобы ознакомиться с библиотекой, — ученые, чье появление, подобно ласточкам или кукушкам, возвещало о наступлении весны. Но никому и никогда не позволялось заглянуть в книги секретного архива. Даже Вилему, хранителю библиотеки, не разрешалось читать их. Среди них есть трактаты, пояснял он, таких религиозных реформаторов, как Гус и Лютер, брошюры их последователей и множество других еретических книг. Хранились там и труды знаменитых астрономов, к примеру «Об обращении небесных сфер» Коперника и сочинение Галилея о приливах и отливах, а также разнообразные трактаты, как о комете 1577 года, так и о новой звезде, что появилась в созвездии Лебедя, — считалось, что все эти книги противоречат свято чтимой мудрости Аристотеля. Вилем не одобрял такую секретность, особенно когда дело касалось научных изысканий. Как много вечеров на Злате уличке провела Эмилия, выслушивая его гневные проклятия насчет Index Librorum Prohibitorum! Книги, подобные трудам Коперника и Галилея, должны побуждать ученых и астрономов к спорам, настаивал он, дабы отбросить старые предрассудки, просветить невежественных и наставить мир на путь великого обновления знаний. Какие бы мудрствования ни содержались в этих книгах, они выглядят опасными лишь постольку, поскольку их прячет от мира горстка скрытных людей, подобных кардиналам Святой палаты, которые желали править народами подобно тиранам.
Сейчас, глядя, как сэр Амброз проверяет и заколачивает крышку очередного ящика, Эмилия подумала, есть ли в этих ящиках книги из секретного архива. Может, именно оттуда был взят тот манускрипт, что она видела прошлой ночью, — запрещенная книга, влияния которой страшится Рим? Мало разбираясь в хитросплетениях богемской политики, Эмилия тем не менее понимала, что этот англичанин, как и Фридрих с Елизаветой, — поборник протестантизма и враг императора Фердинанда и его зятя, короля Испании. Дворцовые сплетни сообщали, что три года назад сэр Амброз принимал участие в экспедиции другого дерзкого англичанина и поборника протестантизма, чей флот отправился в Гвиану в надежде отвоевать у испанцев золотые месторождения. Экспедиция Уолтера Рэли, конечно, закончилась катастрофой. Мифические рудники так и не обнаружили, равно как и проход из Ориноко в Южное море. Не удалось также победить испанцев и выгнать их с берегов Гвианы. И в довершение всех этих поражений сам сэр Уолтер Рэли расстался с головой. А сэр Амброз выжил — если, разумеется, он действительно принимал участие в той экспедиции. Сейчас Эмилия размышляла, не связано ли его необъяснимое появление в Праге с подобной миссией, с попыткой нанести очередной удар ненавистным католикам. Если ее предположение верно, то, возможно, вчера на улицах Старого города их преследовали агенты кардинала или епископа.
— Госпожа…
Огромные часы на другой стороне площади отбивали восемь ударов. Обернувшись, Эмилия увидела в дверях служанку, сжимавшую в руках кружевной носовой платочек. Выглядела она так, словно только что плакала. Из коридора донесся голос королевы, а с улицы — мычание вола, сменившееся гневными проклятиями сэра Амброза.
— Пойдемте, — прошептала девушка. — Карета уже заложена.
Лишь через час этот караван, ведомый отрядом всадников, тронулся в путь по улицам Старого города. Извилистый поток повозок, фургонов, карет, вьючных мулов с корзинами и мешками: похоже, все содержимое Пражского замка тряслось в этом дребезжащем караване. Вереница повозок и вьючных животных, по двое в ряд, медленно продвигалась на запад по узким улочкам, колеса вспахивали снег, а волы упирались и артачились, словно их вели на бойню. Тонкая ледяная корка трещала под копытами, когда животных гнали по улице, а их следы тотчас вновь сковывало морозом. Продвижение шло медленно и беспорядочно. Весь караван то и дело останавливался и ждал, пока всадники пытались расчистить путь, убирая снег сапогами и прикладами мушкетов. Потом снег начал таять, дорога превратилась в жидкую грязь, и скорость еще больше замедлилась. За полчаса голова процессии едва ли преодолела половину Целетной улицы.
Эмилия сидела, зажатая между двумя другими придворными дамами, в одном из небольших экипажей в конце каравана. Закутанная в какую-то попону, она дрожала от холода, постоянно разминая пальцы и согревая их дыханием, растирая ладони друг о друга и хлопая руками, а потом вновь поглубже засовывала их под овчинную полость в отчаянных, но тщетных попытках согреться. С тем же постоянством она вертелась на месте, поглядывая в заднее оконце на площадь, потом поднимая глаза на замок, но ее, в отличие от других, занимали не казаки и даже не та троица черных преследователей. Но уже слишком поздно, поняла она, когда они проехали мимо грязных и пустых деревянных конюшен, тянувшихся вдоль стен гуситской церкви. Караван уже покидал Прагу. Теперь Вилем не сможет найти ее, даже если он еще жив.
Потуже закутав ноги меховой полостью, она обернулась, чтобы посмотреть на туманное солнце, поднимавшееся над крутой крышей Пороховой башни, в тень которой заползала голова каравана. Их легкая коляска так крепко засела в грязи, что ее оттуда еле вытащили. Конники бранились — на счету была каждая минута. Затем распахнутые солдатами ворота под башней широко зевнули, открывая взору заснеженные поля, через которые проходила еще более грязная дорога с колеями, залитыми водой чуть ли не доверху. Но по этим ухабам караван вдруг зазмеился вперед, передвигаясь быстрей и слаженней, словно даже мулы и волы поняли, что, выйдя из-под защиты городских стен, они стали мишенями для вражеских орудий. Со стороны замка еще доносился гром выстрелов — анфиладный огонь, постепенно затихший, когда королевская процессия отъехала далеко от замка, а последние богемские мятежники пали или сдались в плен.
Остаток дня караван тащился по этой грязной дороге, проезжая через обнесенные стенами городки, показавшиеся Эмилии уменьшенными копиями Праги, — с остроконечными сторожевыми башнями, чумными столбами и маленькими площадями, на каждой из которых высилось здание ратуши — с флюгером и огромными часами. Солдаты прятались в караулках под городскими воротами, арки которых украшали резные каменные гербы. Провожаемая молчаливыми взглядами горожан, вереница повозок и экипажей проезжала по улицам и выныривала из других ворот на противоположном конце городка. Уже через несколько часов города стали попадаться реже. Показались леса, постепенно становившиеся все гуще, и снег на обочинах дорог стал глубже. Исчезли следы всякой человеческой деятельности, лишь изредка попадались полускрытые снегом верстовые столбы да маячили вдалеке замки, припавшие к земле в долинах или вздымающиеся к небу на гребнях холмов.
Куда же держал путь этот беглый караван? Целый день по его изгибам — из конца в конец — порхали слухи о месте возможного спасительного пристанища. Некоторые утверждали, что караван следует в Баутцен, но вскоре появился всадник с печальными новостями о том, что курфюрст Саксонский — охочий до кабанов пьяница и лютеранин, ненавидевший кальвинистов еще больше, чем католиков, — перешел границы Лужиц и осадил этот город. По другим сведениям, их путь лежал в Брно… пока не возник следующий слух, утверждавший, что Моравское маркграфство уже отказалось от союза с Богемией. Кто-то заявил, что королева отправила послание своему кузену и бывшему поклоннику, герцогу Брунсвик-Вольфенбюттельскому, в котором испрашивала дозволения расположиться на время в его владениях. Но ответ герцога показал его смятение и трусость: он писал, что должен сначала посоветоваться со своей матушкой, которая, к сожалению, сейчас из Вольфенбюттеля отлучилась. Тогда заговорили о городах Ганзейского союза, но вскоре все также припомнили, что Фридрих позаимствовал у купцов Любека и Бремена большие суммы денег и, увы, забыл вернуть свои долги. Затем прошел слух о возможном возвращении в Гейдельберг — безумный вариант, поскольку, как известно, Пфальц уже захвачен испанскими войсками. Равно невероятной была и мысль о княжестве Трансильвания, и хотя его князь, Габор Бетлен, считался добрым кальвинистом, но его земли были слишком уж близко к владениям турецкого султана, чьи янычары, как говорят, как раз сейчас готовились взять в руки оружие. И в конце концов Бранденбург взобрался на верхнюю строчку сего скромного перечня возможностей, ибо курфюрст Бранденбургский, Георг Вильгельм Гогенцоллерн, был не только добрым кальвинистом, но также и зятем королевы, а потому просто не мог отказать ей в приюте. Однако Бранденбург находился за Гигантскими горами, и до него еще почти две сотни миль пути.
В сумерках караван достиг городка со множеством шпилей и колоколен, не более чем в двенадцати милях от ворот Праги. Он расположился у реки, протекавшей под его крепостными стенами, вдоль которых выстроилась по-солдатски прямая шеренга купеческих домов, а за ними белел речной берег, мелководье было затянуто льдом и покрыто инеем. «Эльба», послышался чей-то голос. Процессия постепенно загромоздила пустынную площадь, где, несмотря на тесноту, все устроились на отдых вместе с измученными и хромающими животными. В меркнущем вечернем свете Эмилия мельком увидела королевскую карету — массивная коробка с мягкими сиденьями и плотными занавесками, стоящая на основании из переплетенных кожаных ремней. Сдвинуть ее с места могла лишь шестерка сильных лошадей. Королева сидела внутри, закутанная в подбитую мехом полость и окруженная тюками с одеждой и, вероятно, еще стопками книг. Она, как и Эмилия, даже в самое короткое путешествие не отправлялась, не взяв с собой огромный запас чтива. Зато она едва не забыла в Праге одного из принцев, самого младшего, Руперта. Говорят, его нашли лишь благодаря стараниям королевского гофмейстера и в последний момент успели запихнуть в карету. Сейчас все три принца ехали за своей матерью, принц Руперт спал на руках у кормилицы. Когда экипаж придворных дам повернул к площади, Эмилия заметила сэра Амброза. Проезжая на высоком першероне, взметавшем своими копытами смешанный с грязью снег, он, точно главнокомандующий, окидывал строгим взглядом весь караван и выкрикивал приказы по-английски и по-чешски.
После долгой неразберихи demoiselle d’bonneur[23] определила придворных дам в непрезентабельную гостиницу «Золотой единорог», располагавшуюся в переулке напротив кальвинистской церкви. Как печально это убожество (согласились все они) после былых королевских путешествий, когда в любом городе давались пиршества и возводились триумфальные арки, устраивались приемы для знати, а группы простых горожан приближались к королевскому кортежу, дабы почтительно обнажить головы и преклонить колена.
Голый пол комнатенки, где разместили Эмилию, был испачкан крысиными экскрементами. Она долго дрожала на узкой кровати, измученная, но не способная уснуть. Из-за стены слышались тихие, сдавленные рыдания, судорожный и безутешный плач. С улицы доносился порой то нервный звон церковного колокола, то скрип снега под ногами случайного прохожего. Долго пролежав без сна, она встала с кровати, закуталась в одеяла и села перед почерневшим от копоти окном. На небе развиднелось и взошла жирная луна. Разгрузка вещей еще не закончилась. В центре площади она увидела сэра Амброза, он опирался на стек и отдавал распоряжения солдатам, делившим корм между лошадями и волами. Она прищурила глаза, разглядывая его крупную фигуру. Загадочный человек. Он не сказал ей ни слова с тех пор, как они покинули Прагу. Не дал никаких объяснений ни по поводу его присутствия в библиотеке, ни по поводу их полного опасностей бегства по улочкам Старого города. Никаких признаков того, что между ними что-то произошло — и что он, вообще помнит, кто она такая. Эмилия не знала, оскорбиться ей этим — или вздохнуть с облегчением.
Какие же у него планы? Поскольку девушке нечего было читать в дороге, а маленькие оконца кареты показывали лишь унылые каменистые и заснеженные ландшафты, у нее оказалось вдоволь времени, чтобы поломать голову над тем таинственным томом из библиотеки, подумать о трех преследователях — и даже о самом непредсказуемом сэре Амброзе. Разнообразные сюжеты выстраивались в ее голове. Она знала: начиная с весны и до конца лета в Пражский замок приезжало множество чужеземцев. Это были не простые студенты или ученые, не смиренные пилигримы, путешествующие в почтовых каретах или на тощих мулах. Нет, то были посетители другого сорта, зачастую облаченные в ливреи или имевшие при себе рекомендательные письма от герцогов и епископов из любого уголка империи, а также из Франции, Испании и Италии. «Стервятники», как называл их Вилем. Ходят упорные слухи, пояснил он, что для снаряжения своих войск король Фридрих решил продать сокровища Испанских залов — сотни картин, часов, шкатулок, даже астролябии и телескопы, сделанные самим Галилеем. Высшая богемская знать тайно составила пятисотстраничный каталог и разослала его властителям Европы. Вскоре их посредники начали прибывать в Пражский замок, на один шаг опережая их мародерствующие войска.
Разумеется, в состав этого огромного каталога вошло изрядное количество книг из библиотеки. Фридрих собирался распродать их — точно уличный торговец капустой, горько сетовал Вилем. И естественно, на такие книги нашлось много покупателей, особенно на самые ценные, включая и «золотые книги» из Константинополя. Кардинал Бароний, занятый воистину циклопическим трудом — составлением каталога Ватиканской библиотеки, должен был склонить к приобретению пражского собрания Папу. Должно быть, нелегко ему пришлось, насмешливо говорил Вилем, так как Павел V слыл грубым человеком, отъявленным филистером, — именно он в 1616 году подверг цензуре труды Галилея и внес работы Коперника в Index. Но, очевидно, на сей раз Его Святейшество привлекла идея приобретения не только пражских сокровищ, но также и наследного достояния Фридриха, книг библиотеки Пфальца — полнейшего во всем мире собрания протестантской вероучебной литературы.
То есть вполне вероятно, что книги этой библиотеки и стали причиной появления в Праге очередного посланника и не менее таинственного посредника. Эмилия поежилась от холода, наблюдая, как сэр Амброз руководит солдатами, которые сейчас перетаскивали в отведенный для ночевки дом многочисленные ящики и дорожные сумки. Королевский багаж уже разгрузили, а лошадей поставили в конюшни. Не уместившийся на площади хвост каравана заворачивал в темную боковую улочку, где чихали и мычали волы, время от времени засовывая свои широкие морды в торбы с кормом. Солдаты, работая молчаливо и споро, лавировали между повозками и фургонами, но вот один из них, с трудом вытащив ящик из фургона, растянулся на снегу. Ящик упал на землю, раздался звон бьющегося стекла.
— Болван!
Сэр Амброз резко хлестнул поверженного солдата стеком по заднице, затем вытащил свой ятаган и с силой сорвал крышку с пострадавшего ящика. Эмилия, все еще стоявшая у окна, подалась вперед. Этот уплотненный соломой ящик, похоже, был наполнен не книгами, как большинство других, а какими-то склянками и пузырьками, и вот часть сосудов разбилась, а их содержимое вылилось на снег. Какова бы ни была эта жидкость, от нее, должно быть, исходила жуткая вонь, поскольку солдаты, стараясь не дышать и зажимая носы, поскорее отступили на пару шагов. Сэр Амброз, однако, опустился на колени, тщательно проверил все бутылочки и лишь потом вновь забил крышку несколькими ударами молотка.
Увиденное озадачило Эмилию. Сначала она подумала, что в ящик уложили бутылки, изъятые из королевского винного погреба: разве Отакар не утверждал, что Фридрих помимо всего прочего увозит из Праги и свою винную коллекцию? Но эти бутылки, пожалуй, маловаты для вина; они больше похожи на парфюмерные флакончики или аптекарские пузырьки. Должно быть, решила она, их взяли в одной из многочисленных лабораторий замка. В Пражском замке было полно таких таинственных местечек; истории о них слышал всякий, хотя бы год проживший в Праге. Судя по разговорам, бесчисленные оккультисты и алхимики императора Рудольфа занимались своими тайными науками в особых тайных помещениях, где-то в Математической башне. Библиотека была полна не только их печатных работ, сказал ей как-то Вилем, таких как трактаты Basilica chymica Кролла, Novum lumen chymicum Сендивогия и Magna alchemia Турнейссера, но также и рукописей — сотни документов, исписанные непонятными цифрами, астрологическими знаками, а то и нацарапанные как курица лапой. Неужели сэр Амброз, подумала Эмилия, тащит такие сомнительные шедевры по заснеженным просторам вместе с порошками и зельями из потайных лабораторий? Он затеял какое-то необычное дело, уж в этом Эмилия была уверена. Может, сэр Амброз был ко всему прочему еще и алхимиком, одним из языческих магов Рудольфа?
Отведя подальше в сторону изъеденную молью занавеску, она прижалась лбом к заиндевевшему окну и в последний раз попыталась увидеть сэра Амброза. Но он уже ускользнул в темноту вместе с деревянным ящиком в руках.
Глава 3
Восемь часов. Наступившее утро источало в лондонский воздух бледно-розовые и перламутрово-серебристые потоки света. Город уже давно бодрствовал: бурлил, грохотал, скулил, звенел, пел и вздыхал. Но небо еще оставалось сумрачным, несмотря на летний сезон. Вверх поднимались волнистые пряди дыма, пропитывая и окрашивая воздух размытыми темными полосами, — точно бесчисленные джинны, выпущенные из бутылок, толпились они на берегах Темзы от Смитфилда до Рэтклиффа и дальше в сторону моря, насколько мог видеть глаз. Поднявшийся дым затем оседал и скапливался над городом мелким темным порошком, облепляющим стены и разъедающим их облицовку, рассеянной в воздухе плотной взвесью, от которой нет никакого спасу. Свиные окорока, висевшие на Леднхоллском рынке, уже потемнели, как и воротники, шляпы, навесы и подоконники во всем городе. И понятно было, что дальше будет только хуже, ведь уже в этот ранний час начинало припекать, а где жара, там и смрад. Около Темзы, в путанице обветшалых складов и мануфактур, что теснились на пристанях, зловоние речного ила смешивалось с подслащенной мелассой, сахаром и ромом, и все это еще приправлялось едким запахом морских водорослей и улиток, оставленных на берегу отливом. Западный ветер, необычный для середины лета, направлял это зловонное облако вверх по реке, в бесконечные хитросплетения мощеных улиц, в темные дворы и проулки, в приоткрытые двери и окна, наполняя этим смрадом все городские закоулки и щели.
Речная вонь уже свербила у меня в горле и терзала легкие, когда я вышел из-под арки северных ворот Лондонского моста и направился к Фиш-стрит-хилл. Прогулка от «Редкого Дома» до Малой Британии, куда я планировал зайти сегодня в первую очередь, занимала минут двадцать. Оттуда мне предстояло пройтись в южную сторону к Патерностер-роу и в ограду Святого Павла. И если в этих местах я ничего не найду, то найму экипаж и поеду к Вестминстеру. В сущности, я не очень-то надеялся найти нечто нужное мне в череде букинистических лавок под стенами Вестминстера или даже в книжных рядах во дворе собора Святого Павла или Малой Британии. Опираясь на свою суковатую палку, я тащился вперед, хмуро пряча нос в поднятый воротник, безуспешно пытаясь преградить путь отвратительному городскому зловонию. День обещал быть долгим.
Позавтракав часом раньше, я решил, что пора начать поиски рукописи сэра Амброза. Но сейчас, еще не успев пройти полпути по Фиш-стрит-хилл, уже пожалел о принятом ранее решении. Не только потому, что улицы были полны народа и затоплены смрадом, но и потому, что во время вчерашнего обследования моих книжных полок, каталогов изданий и оригиналов Corpus hermeticum мне не удалось найти ни единого упоминания о «Лабиринте мира». М-да, долгий будет денек. Опустив голову, я быстро протиснулся через толпу, что собралась поглазеть на ломовую лошадь, завалившуюся посреди улицы и дико молотившую копытами воздух.
Удивительно ли, что я обычно избегал прогулок по лондонским улицам? Я продолжал идти по тротуару, петляя среди шатких прилавков и рыночных грузчиков, сгибавшихся под тяжестью свежеразделанных козьих туш. Путь к тому же загромождали старики, катившие тележки с устрицами, и разносчики с лотками, заполненными гребнями и роговыми чернильницами. Мне пришлось отступить в сторону, чтобы пропустить пару таких торговцев, но сзади кто-то толкнул меня, и я вляпался ногой в свежую кучу дерьма, сброшенную в сточную канаву. Очищая башмак о край тротуара, я мог плохо кончить, но чудом избежал тяжелых копыт ломовой лошади. Под дружный хохот толпы я громко выругался и отскочил на безопасное расстояние.
Однако такие привычные унижения не могли особенно испортить мое хорошее настроение. По-моему, я даже начал что-то насвистывать. Нынче ночью — а вернее, около четырех часов утра — я нашел ключ к шифру и расшифровал таинственный листок из Theatrum orbis terrarum Ортелия.
Четыре дня тщетно прождав ответа от моего кузена, я наконец догадался, что он, возможно, уехал в свой долгий отпуск, который неизменно проводит в окрестностях Сомерсетшира, в Пудни-Корт, почтенных развалинах, что служили родовым поместьем для обедневшего клана Инчболдов. Поэтому, закрыв вчера вечером магазин, я решил сам взяться за расшифровку. Вновь я засел в своем освещенном свечой кабинете, положив на один край стола книгу Виженера, на другой — шифрованное послание и листы чистой бумаги — посередине. Когда ночная стража возвестила час ночи, я уже достаточно овладел премудростями «Трактатов» и удовлетворенно проверил схему работы подстановочной таблицы — но при этом в полной мере осознал, что каким бы чудом искусства эта таблица ни была, без ключевого слова в ней толку мало.
К двум часам ночи я уже испробовал огромное количество вероятных — а потом все более и более невероятных — слов и фраз, начиная с имени сэра Амброза и кончая уже именем самой Алетии, которое, как я вдруг понял, происходило от alhqeia, или aletheia, от греческого слова, означающего «истину» — понятие, которым афинские философы обозначали процесс снятия масок, извлечения на свет Божий того, что лежало, свернувшись, в потайной расщелине. Однако даже такое многообещающее имя не помогло обнаружить скрытую истину, когда дело дошло до дешифровки — получилась очередная чепуха, и я уж было прекратил свои изыскания и предался размышлениям над странной иронией его исходного значения применительно к леди Марчмонт, которая явно была не из тех, кто открывает собеседнику свое истинное лицо. Час за часом я сутулился за письменным столом, хмыкая и чертыхаясь, машинально вычерчивая бесконечные значки и зажигая каждую следующую свечу от предшествующего огарка. Нет, все напрасно, продолжал твердить я, совершенно напрасно: от такой головоломки недолго и свихнуться. Можно месяцами пытаться разгадать ее — а ведь далеко не факт, что этот клочок бумаги вообще содержит хоть что-нибудь вразумительное.
Наконец я откинулся на спинку стула и в изнеможении следил, как догорает последняя свеча, шипя и пофыркивая, как котенок. Теплый ветерок, проникающий через окно, постукивал ставнями и колебал огонек оплывающей свечи. Неожиданно на меня навалилась жуткая усталость. Я закрыл на мгновение глаза, погружаясь в дрему, и перед моим мысленным взором всплыли очертания Понтифик-Холла, обрамленные арочным сводом, и затененная, покрытая пятнами мха и лишайника надпись на замковом камне, ее едва различимые слова. ITT. LITTE. LITTER…
Задним числом — в последующие дни — этот ключ будет казаться мне очевидным, само собой разумеющимся. Ведь едва ли не на каждом втором камне в Понтифик-Холле был вырезан этот своего рода девиз сэра Амброза, который украшал и каждую из многих тысяч принадлежащих ему книг. Но в первое мгновение я был ужасно раздосадован, что не сумел обнаружить его без этих многочасовых или даже многодневных трудов. И с этого мгновения расшифровка свелась к простой последовательности действий: заполнять пробелы, сопоставлять зашифрованный текст с ключевой фразой, пользоваться таблицей и наблюдать, как неуклонно становится явным тайное сообщение. Я написал буквы девиза над соответствующими буквами зашифрованного текста, вот так:
LITTERASCRIPTAMANETLITTERA
FVWXVKHWHZOIKEQLVILEPXZSCD
И так до конца, снова и снова — букву девиза под буквой текста. Пользуясь таблицей Виженера, я искал в первом вертикальном ряду букву девиза, потом в горизонтальном ряду, к которому эта буква относилась, находил соответствующую ей букву шифрованного послания, а затем смотрел верхнюю букву этого вертикального ряда — это и была искомая буква нового текста; такая последовательная замена привела к тому, что вскоре вместо бывшей тарабарщины стал получаться вполне внятный текст — настолько интригующего содержания, что перо начало дрожать в моей руке, и я едва сдерживал волнение, чтобы продолжить расшифровку:
LITTERASCRIPTAMANETLITTERA
FVWXVKHWHZOIKEQLVILEPXZSCD
UNDERTHEFIGTREELIESTHEGOLD
«Under the fig tree lies the gold…».[24] Я недоумевающе уставился на эту строчку, раздумывая, где в Понтифик-Холле могло расти фиговое дерево и неужели моя исходная инстинктивная догадка в итоге оказалась верной: то есть в начале Гражданской войны сэр Амброз действительно спрятал свои сокровища где-то в поместье, оставив только этот тщательно спрятанный и зашифрованный клочок бумаги, указывающий на их местонахождение. Что ж, если в Понтифик-Холле росло фиговое дерево, то о нем безусловно известно Алетии.
Но чем дальше я подставлял новые буквы, тем труднее было понять этот текст как указание места, где должно искать закопанные сокровища. Я работал быстро, чувствуя себя Кеплером или Тихо Браге, которые, сутулясь над своими вычислительными каракулями, продирались сквозь бесконечные ряды математических вариаций общих законов космической соразмерности. Спустя три четверти часа у меня получились следующие четыре строки:
UNDER THE FIG TREE LIES THE GOLDEN HORN FABRIC OF MYSTERY AND SHAPES UNBORN THAT SETS THE MARBLE ON ITS PLINTH AND UNTWISTS THE WORLDS LABYRINTH[25]Мой восторг при обнаружении этого странного четверостишия ослаблял лишь тот факт, что — помимо потрясающего упоминания о «Лабиринте мира» — он содержал не намного больше смысла, чем та зашифрованная тарабарщина, из которой его извлекли. Очевидно, фиговое дерево, золотой рог и лабиринт представляли другой вид шифра: загадку, для разгадки которой у великого Виженера не было, увы, никаких методов или ответов и лишь самым косвенным образом относящуюся (если вообще относящуюся) к топографии Понтифик-Холла. Прежде чем отправиться спать, я еще целый час пытался постичь смысл этих строк. В первую очередь я подумал: уж не цитата ли это из какого-нибудь стихотворения или пьесы — и пролистал джаггардовское фолио Шекспира, а затем «Метаморфозы» Овидия, где описывалась история критского лабиринта. Хотя в легенде о Тезее и лабиринте, по-моему, не было упоминания о золотом роге. Золотая нить, пожалуй, была, но рога не было. Кроме того, упоминание о лабиринте наводило на мысль о том, что это сообщение имеет какое-то отношение к делам сэра Амброза. Золотой рог — волшебный клубок, который, как предвещали причудливые строки, поможет «найти путь в лабиринте», — также отдавал чем-то знакомым. Как и фиговое дерево, он, весьма вероятно, должен напоминать о каком-то эпизоде классической истории или мифологии.
Но лишь утром, пробудившись после трех часов беспокойного сна, я вспомнил, где встречал упоминание о золотом роге. Бегло просматривая различные издания герметических текстов, я нашел там достаточное количество ссылок на Константинополь — этот величественный оплот учености, где монах Михаил Пселл, используя сирийские фрагменты, собрал почти все произведения, известные нам как Corpus hermeticum, — чтобы заинтересоваться этим городом. Порывшись на полках, посвященных географии и путешествиям, я наконец нашел, что искал, — монументальную многотомную «Географию» Страбона. Монк как раз приготовил на завтрак копченую рыбу, когда я, пролистав половину огромного тома, нашел-таки нужный мне отрывок. В томе VII, где помимо прочего дана география пограничных земель, соединяющих Европу и Азию, Страбон упоминает о «Византийском Роге» — узком заливе, формой напоминавшем бычий рог, а его топографию и местоположение он описывает со ссылкой еще на одну гавань, которая в переводе называется «Под смоковницей».
Этот отрывок я читал и перечитывал добрых пять минут. Ну разве могли быть упоминания о таких местах случайным совпадением? А если они не случайны, то рог из расшифрованных стихов относится к заливу, омывающему Константинополь, или, как сейчас говорят, Стамбул: заливу, известному под названием Золотой Рог. Но все становится куда занятнее, если брать в расчет и другое, совершенно неожиданное упоминание о гавани, называемой «Под смоковницей», и припомнить, что смоковница и фиговое дерево суть два названия одного растения.
Но эти открытия, как и сама расшифровка, не давали мгновенных ответов и не подсказывали дальнейших идей. Ссылка на древнюю Византию мало что проясняла в этих четырех строчках — и уж тем более не помогала «найти путь в лабиринте»; также необъяснимо, почему Золотой Рог — водный залив — определяется как некой «материи строй», словно речь идет о декоративной ткани или даже постройке. У меня возникли лишь туманные предположения о том, почему этот хитроумно зашифрованный стих, вставленный в атлас Ортелия, может иметь отношение к месту встречи двух континентов, гавани, удаленной от Понтифик-Холла на расстояние около пятнадцати сотен миль. В то время я еще не задумывался, побывал ли сэр Амброз в Константинополе в поисках книг, хотя, кажется, припоминал, что одна из грамот, выданных императором Рудольфом, — один из множества пергаментов, покоившихся в гробу Понтифик-Холла, — относилась к путешествию в земли оттоманского султана.
В общем, доедая свой рыбный завтрак, я размышлял, имеет ли эта шифровка какое-то отношение к библиотеке сэра Амброза или даже к самому пропавшему герметическому манускрипту. Нельзя было сказать ничего определенного при наличии таких ничтожных указаний. Но я решил, что, быть может, сам манускрипт прольет свет на этот стих, и поэтому, еще не закончив завтрак, я решил рискнуть отправиться на его поиски.
Но мое приподнятое настроение вскоре испарилось, поскольку расспросы в магазинах и лавках, как я и опасался, оказались удручающе бесполезными. В районе Смитфилда зловоние стало настолько отвратительным, что, когда сироты в Христовом приюте начали первый урок, подъемные окна в классных комнатах не открыли, несмотря на жару. Книготорговцы Малой Британии, расположившиеся под восточной стеной приюта, занавесили окна своих лавок шторами, пропитанными хлоридом извести. Когда я там появился, они, закрыв носы платками, выкладывали на прилавки книги, с которых им по три раза на дню приходилось смахивать копоть. За три часа поисков я перерыл кучи книг, но преуспел лишь в стаптывании ног, да еще мои нос и шея подгорели на солнце — лучи которого становились обжигающе горячими, как только угольный дым слегка рассеивался, пропуская их, — а равнодушные владельцы лавок бессмысленно таращились на меня и заявляли, что слыхом не слыхивали ни о книге, ни о рукописи под названием «Лабиринт мира».
Выпив пинту ламбетского эля в качестве второго завтрака, я приободрился и успел на шестиместный наемный экипаж, запряженный парой лошадей, который ехал к Вестминстер-Холлу, где мне, естественно, повезло не больше, чем в Малой Британии или на Патерностер-роу. Однако день нельзя было считать полностью потерянным, поскольку мне удалось узнать кое-что о пражском издании Theatrum orbis terrarum Ортелия, хоть это и не имело никакой видимой связи с тем, что мне уже удалось узнать о сэре Амброзе Плессингтоне и его пропавшей рукописи. Все продавцы книжных магазинов и лавочек имели в наличии экземпляры Theatrum, а один даже обладал редким изданием 1590 года, напечатанным в Антверпене знаменитым Плантеном. Но никто в жизни не слыхивал о пражском издании и уж тем более не продавал его. Это издание вызывало у них такое же недоумение, как и у меня. Поэтому я решил, что, должно быть, неверно прочел выходные данные или же издание 1600 года было подделкой. Уже собираясь возвращаться домой, я заметил в сводчатой галерее Новой биржи на Стрэнде магазинчик торговца географическими картами — «Молитор и Барнакль». Я хорошо знал их заведение. В бытность моего ученичества оно было для меня самым интересным местом в Лондоне, поскольку в те дни я еще мечтал путешествовать по миру, а не избегал общения с ним, как нынче. Отправляясь выполнять поручение моего хозяина, господина Смоллпэйса, я порой заныривал в их магазинчик и часами внимательно изучал карты и металлические глобусы, начисто забыв о своем деле, пока наконец господин Молитор, добродушный старик, не выпроваживал меня из своих владений, собираясь запирать двери.
И сейчас тоже близилось время закрытия, но я вошел в знакомую дверь и увидел, что большинство глобусов и астролябий исчезло, исчезли и карты мира, прекрасно изданные репродукции карт Птолемея и Меркатора, которые господин Молитор обычно прикалывал к стене подобно морским картам в корабельной каюте. Лет восемь, а то и девять прошло с тех пор, как я в последний раз заходил в их магазин. Господин Молитор, увы, также исчез — умер от чахотки в 1656-м, как сообщил мне господин Барнакль. Я с грустью понял, что этот магазинчик переживает трудные времена и что господин Барнакль, сам уже пожилой джентльмен, не узнает меня. Надсадно дыша, он сутулился за своим прилавком, и перед моим мысленным взором возникла отрезвляющая картина, показавшая мне, каким я стану лет через двадцать — тридцать.
Однако дело свое господин Барнакль знал так же хорошо, как прежде. Он сообщил мне, что слышал о пражском издании Theatrum, но он никогда не попадал к нему в руки. Это издание — чрезвычайная редкость, пояснил он, и считается даже более ценным, чем издание Плантена, поскольку напечатано было всего лишь несколько экземпляров. Но дело не только в малочисленности пражских атласов. Пражское издание стало первым посмертным, поскольку Ортелий умер за год или два до его выхода в свет. Он был фламандцем, подозреваемым в протестантизме, но в течение четверти века исполнял обязанности королевского космографа при испанском дворе. После смерти Филиппа II в 1598 году Ортелий отправился в Прагу по приглашению императора Рудольфа II, но умер, не успев вступить в должность императорского космографа. Господин Барнакль упомянул о бытующей среди картографов легенде, ничем, разумеется, не подтвержденной, что Ортелия якобы отравили. Пражское издание появилось спустя пару лет. И та же легенда вдобавок рассказывала, что в его картах имелись определенные изменения, хотя сам господин Барнакль не знал точно какие. Но именно из-за этих-то новых дополнений и убили великого картографа.
— Изменения? Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду, что издание тысяча шестисотого года отличалось от всех прочих изданий, включая Плантеновы. У господина Молитора имелась своя собственная версия на сей счет, — сообщил он доверительным тоном, доставая с полки экземпляр этого атласа. Когда он раскрыл его, я увидел карту Тихого океана и картуш со словами NOVUS OPBIS. [26] — Изменения подразумевали особый метод картографической проекции, которую Ортелий применил для пражского издания. — Вдруг оживившись, он вновь повернулся к полкам и достал другую книгу. — Новая сетка широт и долгот. Все прочие издания используют проекцию Меркатора. Вы слышали о Меркаторовой проекции?
— Немного. — Я наблюдал, как он со скрипом открывает знаменитый атлас Меркатора — атлас, карты которого я обычно изучал с особым удовольствием во времена своего мечтательного ученичества. У меня нет склонности к математике — совсем наоборот. Слова, а не цифры являются моей metier. [27] Но я смог отчасти оценить, с каким мастерством Герард Меркатор изобразил сферу земного шара на плоскости; он сплющил наш мир и поместил его в книгу, сохранив более или менее соразмерность и точность его пропорций.
— Он старался ради навигаторов, — пояснил мне господин Барнакль и, постучав по одной из страниц обломанным желтым ногтем, поправил очки на носу — пару линз, почти таких же толстых, как у меня. — И разработал новую проекцию в тысяча пятьсот шестьдесят девятом году, во время великой эпохи географических исследований и открытий. Его широты и долготы образуют сетку из параллельных линий, пересекающихся под прямыми углами, что дает мореплавателям возможность вычерчивать компасный курс прямыми линиями вместо изогнутых. Очень удобно, конечно же, для путешествий по океану.
Его большой палец скользил наискось по листу, вдоль линии локсодромии, что протянулась, как нить паутины, через сеть квадратов. Затем внезапно он оттолкнул оба атласа в сторону и потянулся за одним из глобусов, огромной, оклеенной картоном моделью, примерно четырех футов в диаметре, который и раскрутил на его лакированном пьедестале. Голубые океаны, пестрые материки и большие острова замелькали внутри медного горизонтального кольца, опоясывающего экватор.
— Но карта отличается от глобуса, — продолжал он, пристально глядя на меня поверх этого большого крутящегося шара. — Любая карта предполагает искажения. Меркатор чертит меридианы параллельно друг другу, но всем известно, что меридианы, в отличие от широтных параллелей, на самом деле не параллельны.
— Разумеется, — пробормотал я, испытывая головокружение от вида глобуса, который все еще быстро вращался на скрипучей оси, прокручивая моря и континенты. — Меридианы сходятся на полюсах. Расстояние между ними уменьшается по мере продвижения к северу и югу от экватора.
— А вот у Меркатора меридианы никогда не сходятся. — Он вновь клюнул ногтем карту. — Они остаются параллельными друг другу, что искажает расстояние в направлении восток — запад. А из-за этого Меркатор искажает и истинные расстояния между широтами, увеличивая их по мере продвижения от экватора к полюсам. Поэтому и говорят о «растущих широтах». В результате этих изменений в районе полюсов картина совершенно искажается. Дальние северные и южные земли растут в размерах, поскольку параллели и меридианы растягиваются, чтобы сохранилась сетка из параллельных линий, пересекающихся под прямыми углами. В общем, карта Меркатора вполне пригодна, если плавание проходит вдоль экватора или в нижних широтах, но не слишком пригодна для исследования высоких широт.
— Не слишком пригодна, — с воодушевлением поддакнул я, — для того, кто ищет северо-западный проход к Китаю. — Я вспоминал, как во времена детства любил рассматривать пути следования экспедиций Фробишера, Девиса и Гудзона — этих великих английских героев — по арктическим морям с плавающими льдами и россыпями островов, изображенных на вершинах глобусов господина Молитора.
— Или морской путь на северо-восток мимо Архангельска и Новой Земли. М-да. Или юго-западный проход в южных морях, через пролив Магеллана или вокруг мыса Горн.
Он переворачивал страницы атласа и проводил указательным пальцем по упоминаемым путям. Когда он поднял голову и прищурившись взглянул на меня, я учуял вонь от его гнилых зубов, смешанную с затхлым запахом поношенной одежды. И на секунду мне показалось, что я вижу, как в линзах его очков отражается чья-то фигура, стоящая за моей спиной у эркерного окна: некто стоял там, подавшись вперед, словно пытался рассмотреть что-то через стекло. Но вот господин Барнакль опустил свою голову, и это отражение исчезло.
— Вы же понимаете, что если и существуют все эти новые морские пути, то они проходят в высоких широтах, вблизи полюсов, в тех местах, где проекция Меркатора практически непригодна. Потому морякам и не удавалось найти их. И по той же причине испанцы и датчане бились над новыми, улучшенными принципами построения картографической проекции. В тысяча шестьсот шестнадцатом году датчане открыли новый проход в Тихий океан между Магеллановым проливом и мысом Горн, так называемый пролив Ле-Мэр, — Барнакль послюнявил палец и неловко перевернул очередную страницу, — он тянется вдоль пятьдесят пятой параллели. Воспользовавшись этим новым путем, их флот прошел в Тихий океан и атаковал испанцев в Гуаякиле и Акапулько. Таким образом, стратегическое значение подобных путей очевидно, — сказал он, — но чтобы найти их, нужна была некая путеводная нить, которая могла бы правильно провести навигаторов через лабиринты островов и бухточек.
И вот в чем заключалась любимая версия господина Молитора: математики и картографы в Севилье, состоявшие на службе у Филиппа II, завершили на рубеже шестнадцатого и семнадцатого веков разработку нового метода картографической проекции, сохранявшего Меркаторову сетку и одновременно устранявшего ее искажения, в результате чего упрощалось кораблевождение в более высоких широтах. Тем самым появлялся шанс открыть новые более короткие пути в Китай, Индию и к легендарному потерянному континенту, Terra australis incognita[28], находившемуся, как полагали, где-то в южных морях, в высоких широтах к югу от экватора.
— А что же Ортелий? — Я изучал перевернутый вверх ногами атлас, надеясь вернуть торговца к интересующей меня теме. — Он, вероятно, знал о такой новой проекции?
Господин Барнакль энергично кивнул.
— Конечно же, он мог знать. В конце концов, он был королевским космографом. Наверняка даже он лично участвовал в ее разработке. Но когда в тысяча пятьсот девяносто восьмом году король Филипп умер, Ортелий, покинув Испанию, отправился в Богемию. Может быть, он рассчитывал получить кругленькую сумму, продав тайну нового метода императору Рудольфу или еще кому-то. Прага в те дни кишела фанатиками-протестантами, врагами католической Испании и Габсбургов. И, возможно, поэтому испанские агенты и убили его. — Барнакль пожал плечами и решительно захлопнул атлас. — Интересная версия, но ее невозможно проверить, ведь гравюры Ортелия давно исчезли. Некоторые говорят, что их украли, но и это невозможно проверить. — Он слабо улыбнулся и вновь беспомощно пожал плечами. — Нельзя даже сказать, сохранился ли хоть один из этих томов. Судя по всему, те несколько экземпляров, что успели напечатать, либо потеряли, либо уничтожили, когда Прага подверглась разграблению во время Тридцатилетней войны.
Нет, думал я, быстро выходя спустя несколько минут из дверей книжной лавки обратно в жару и вспоминая поврежденный водой том в странной маленькой лаборатории: не все его экземпляры пропали. Но пока я бесцельно брел назад к Чаринг-кросс, то уже размышлял, не впустую ли в итоге потрачено мною время? Ну какая связь может существовать между атласом Ортелия и герметическим текстом, который меня подрядили отыскать? Между новой картой мира и рукописью, посвященной древнему учению? Но тут мне припомнилось, что господин Барнакль говорил об эпохе открытий, и у меня мелькнула мысль — не связано ли это хоть отчасти с экспедицией сэра Амброза в Гвиану, если это путешествие вообще имело место?
Но я выбросил эту мысль из головы. Мое воображение, как и мои ноги, завело меня слишком далеко. Пора было возвращаться домой.
Вероятно, шел уже седьмой час, когда, выйдя из «Почтового рожка» (в крохотном садике которого под тенистой шелковицей я утешил себя очередной пинтой эля), я нанял экипаж и он повез меня обратно к Лондонскому мосту, продираясь сквозь хаотичные потоки вечернего уличного движения. Через несколько минут я задремал, но где-то в районе Флит-стрит меня разбудили громкие крики. Улица сегодня, казалось, была запружена людьми и повозками гуще обычного, поскольку уже несколько минут наш экипаж едва двигался. Я вновь задремал, но еще раз проснулся, на сей раз оттого, что какой-то рожок пронзительно и заунывно блеял на двух нотах. Выпрямившись, я отдернул занавеску, ожидая увидеть за окном Флит-бридж и Лудгейт. Только мы застряли уже совсем не на Флит-стрит.
Высунувшись в окошко, я окинул взглядом улицу. Должно быть, мы куда-то не туда свернули. Я не узнал ни одну из таверн и пивных, теснившихся на этой улице, впрочем как и саму улицу, узкую и пустынную дорогу, трудно различимую под клубами черного дыма.
— Извозчик! — Я постучал по крыше экипажа. Неужели этот идиот заблудился?
— Сэр?
— Что за черт, куда ты заехал, приятель?
Он развернулся на своем сиденье — медведь медведем, с толстой шеей и облупленным, обгоревшим на солнце носом. Смущенно ухмыльнувшись, он обнажил темноватые деревянные зубные протезы.
— Несчастный случай на Флит-стрит. Ломовая лошадь упала замертво, сэр. И я подумал, что вы пожелаете…
Я прервал его:
— Где мы находимся?
— Уайтфрайерс, сэр, — ответил он, щелкнув зубами. — Эльзас. Я подумал, что вернусь обратно к Флит-бриджу со стороны Уотер-лейн, сэр, а потом…
— Эльзас?..
Этот узкий переулок теперь стал казаться еще более зловещим. Об Эльзасе шла дурная слава. За сточными зловонными водами Флит-ривер начиналась опасная глубинка: десяток с гаком улиц, и одному только Богу известно, сколько задних дворов и переулков, каждый из которых почитал себя неподвластным городским судьям и магистрату — на основании некой грамоты, дарованной им в начале века королем Яковом. Результатом этих привилегий стало то, что Эльзас теперь давал убежище всевозможным преступникам и грабителям. Бейлифы и судебные приставы, как и любые добропорядочные горожане, поступили бы довольно глупо, решив прогуляться к югу от Флит-стрит. Звук рожка, разбудивший меня, наверное, был сигналом от одного из местных наблюдателей, предупреждавших остальных о том, что в их район заехали чужаки. Хотя сейчас в тусклой позолоте антикварно-ювелирного солнечного света квартал выглядел вполне невинно, я не собирался рисковать.
— Уезжай-ка отсюда поживее, — скомандовал я извозчику.
— Слушаюсь, сэр.
Экипаж погромыхал вперед, сделал сложный вираж, завернув за угол, и потащился по узкой улочке, стиснутой с обеих сторон ветхими домами с прокопченными и жирными окнами. Изрытую дорогу попытались слегка подлатать, завалив хворостом кой-какие ямы. Улица казалась совершенно пустынной. Справа от нас текла Темза, проглядывая то и дело за каменистыми пустырями, по ее набережной тянулся ряд ненадежно выглядевших причалов. Черные призраки из угольной пыли преграждали нам путь. Мы ехали вдоль реки, экипаж так и шатало из стороны в сторону, пока этот деревяннозубый иеху на козлах лихо лавировал между разнообразными преградами, как то: обвалившейся черепицей, сломанными жерновами, железными ободами и прочими останками давно опустевших бочонков из-под эля. Вскоре я почувствовал запах тины, доносившийся с Флита; а спустя минуту показался и берег, и мы свернули на дорогу, что вела, на мой взгляд, вовсе не в сторону Флит-стрит.
— Бога ради, приятель!
— Минуточку, сэр…
Но через минуточку мы все еще тряслись и раскачивались по дороге, подгоняемые ветрами от этой страдающей запором речонки, и наши колеса увязали в грязи. Флит пенился от нечистот, и над его поверхностью висели облака насекомых. Я прикрыл нос платком и задержал дыхание.
Однако я успел заметить, что за окном промелькнуло нечто знакомое, своего рода граффити — детский рисунок? — нацарапанный мелом на глухой стене:
Я вытянул шею, пока мы медленно проезжали мимо. Что же означал этот странный иероглиф? Было ли это карикатурное изображение человека? Рогатого человечка? Может быть, самого дьявола? Я был уверен, что мне уже приходилось видеть раньше такой рисунок. Но где? В книге?
— Тьфу, пропасть!
Я повернул голову и посмотрел вверх на козлы.
— В чем дело?
— Прошу прощения, сэр. — Экипаж окончательно остановился. — Похоже, мы влипли.
— Влипли?..
Рисунок был забыт. Я распахнул дверцу, вышел из кареты, и мои башмаки тут же скрылись под слоем жидкой грязи. Колеса экипажа и лошадиные копыта тоже глубоко в ней завязли. Я поднял глаза. В небе маячили колокольня тюрьмы Бридуэлл и высокая крыша церкви Святой Бригитты, а вокруг темнело несколько едва различимых мрачных развалюх. Мне и в голову не приходило, что уже так поздно, — солнце садилось за неровные зубчатые очертания Уайтхолла, и в окнах окрестных строений то здесь, то там вспыхивал тусклый свет. Эльзас пробуждался к жизни.
— Позвольте мне, сэр.
Отбросив хлыст в сторону, извозчик спрыгнул вниз со своих козел и одарил меня заискивающей улыбкой. Он уже собрался подсадить меня обратно в экипаж, когда я оторвал взгляд от земной грязи и заметил свет, появившийся в окне ближайшего к нам дома: судя по всему, таверны. Ее вывеска слегка поскрипывала на ветерке. Прищурившись, я попытался прочесть ее название. Мне удалось разглядеть голову какого-то животного со следами золотой краски.
— Поехали, сэр. — Руки возчика подталкивали меня в спину. — Сэр? С вами все в порядке?
— Да… — Я едва слышал его. Не оглядываясь, я вложил шиллинг в его ладонь. — Вот твои деньги. Держи. — Я был уже на пути к таверне. — Езжай.
— Сэр? — послышался его недоверчивый голос за моей спиной.
— Поезжай, я сказал.
Грязь засасывала мои башмаки, и мне с трудом удалось не потерять их, вытягивая ногу при каждом шаге. Но спустя несколько секунд я уже стоял на твердой земле, на кирпичной дорожке перед входом в таверну. Возле открытой двери на кирпичной вымостке лежал треугольник света. Я двинулся вперед и, щурясь, пытался разглядеть вывеску. Теперь я уже яснее увидел, что там изображено: голова оленя с рогами, выкрашенными золотой краской. А над рогами — два слова: ЗОЛОТОЙ РОГ.
Глава 4
Еще при входе меня поразил запах: застоявшаяся табачная и угольная вонь смешалась с запахом опилок и проточенной червями смоленой древесины; это был запах помещения, которое, похоже, знать не знало, что такое метла или воск, свет или воздух. Когда я вошел внутрь и мои глаза попривыкли к тусклому освещению, мне удалось уловить еще один всепобеждающий аромат: кофе. Ведь «Золотой рог» в итоге оказался вовсе не таверной, а кофейней.
Дверь со стуком захлопнулась за мной, и я сделал еще несколько шагов сквозь плотную дымовую завесу, выискивая себе местечко. Кофейня была последним заведением, которое я ожидал встретить в центре Эльзаса, хотя, в сущности, не следовало бы так удивляться, поскольку тогда, то есть в 1660 году, кофейни, пожалуй, встречались уже на каждой улице. И я даже бывал в одной из них, в «Голове грека», просторном зале, наполненном будущими актерами и поэтами, но его благоприятная атмосфера никоим образом не могла подготовить меня к дыму и мраку «Золотого рога».
Найдя место, трехногий табурет, я сел подальше от камина, огонь в котором едва теплился.
— К вашим услугам, сэр.
Возле моего столика возник коротконогий толстопузый слуга, вытирающий руки о грязный передник. За его спиной о чем-то серьезно спорили два не внушающих доверия мужчины, а чуть дальше устроился одинокий посетитель, который только что вошел и, сев к нам спиной, начал срезать ножом мозоли со своих ладоней. Оглядевшись вокруг и увидев грубую мебель, крошечный камин, какие-то пожелтевшие объявления, криво пришпиленные на стенах, я подумал, какие же хитросплетения судьбы могли связать «Золотой рог» с Понтифик-Холлом. И как-то сразу усомнился, что все эти приметы, между которыми я видел некую связь, — шифровка, ключевая фраза, странный стих, Страбон и, наконец, эта кофейня «Золотой рог» — имели хоть какое-то реальное значение помимо моих личных фантазий. Существовало ли объяснение этой серии зацепок, или все это случайности и совпадения?
Был только один путь выяснить это. Я сунул руку в карман и выудил мелочь.
— Чашку кофе, пожалуйста.
Но никакие свидетельства или таинственные силы не желали проявлять себя; по крайней мере — пока. К тому времени, когда я покончил с кофе — горьким, грязноватого вида напитком, — помещение пополнилось новыми посетителями. Прибавилось в общей сложности около дюжины новых любителей кофе, они заходили по одному или по двое, все в изрядно поношенной одежде, видавших виды ботинках и залатанных куртках. Тихие спорадические разговоры прерывались иногда резкими взрывами смеха. Между стойкой и столиками постоянно мелькал слуга, позвякивая чашками на подносе. Казалось, все находятся в ожидании некоего события, но ничего не происходило. Я ошибся, придав особое значение названию кофейни; должно быть, это чистое совпадение и ничего больше. Вероятно, существует полдюжины таверн и кофеен под названием «Золотой рог», которые не имеют никакого отношения к Понтифик-Холлу, — и уж меньше всего эта.
Только спустя несколько минут я заметил один шкаф. Он стоял в углу комнаты, маленький застекленный шкаф с диковинами того сорта, которые используют владельцы подобных заведений для привлечения посетителей. Но со своего места я видел, что данная конкретная коллекция еще жалче, чем в других кофейнях: подобному колдовскому набору не поверит даже самый доверчивый клиент. Но я от природы любознателен, хотя я и не легковерен, — и потому встал и подошел к шкафу.
Он стоял в самом темном углу, и никто, кроме меня, не обращал ни малейшего внимания на эту унылую, пыльную экспозицию. На карточках дрожащим почерком и с ошибками были написаны названия тех невдохновляющих предметов, что, казалось, стыдливо съежились за стеклом. Я склонился вперед и прищурившись рассматривал их через очки. Поеденный червями обрывок ткани претендовал называться фрагментом савана Эдуарда Исповедника, а соседняя карточка, лежавшая под ничем не примечательной, полусгнившей веткой дерева, гласила, что сия ветвь с того дерева, по поверхности которого скользнула стрела, убившая короля Вильгельма Рыжего. А еще более неприметный экспонат, также согласно ярлыку, объявлялся фрагментом усыпальницы Себерта, короля саксов.
Я едва не прыснул от смеха при виде таких фальшивых исторических ценностей, но тут на глаза мне попалась еще одна карточка. Пожелтевшая и согнувшаяся, она стояла у задней стенки шкафа, и в ней утверждалось, что несколько квадратных дюймов обтрепанной парусины являются фрагментом грот-марселя «Бритомарта», корабля, принимавшего участие в Оринокской экспедиции 1617 года, возглавляемой Уолтером Рэли. Насупив брови, я вновь склонился вперед. Сомнительно, чтобы этот обрывок был более подлинным, чем остальные, но он напомнил мне об одном патенте, хранившемся в гробу Понтифик-Холла, патенте на строительство «Филипа Сидни».
И наконец я заметил последний экспонат выставочного шкафа, пожалуй самый ужасный. Он также располагался у задней стенки и напоминал отрезанную человеческую голову. Вздрогнув, я опять наклонился вперед, чтобы получше разглядеть этот жуткого вида раритет, свидетельствовавший, должно быть, о каком-то варварском языческом обряде. Голова производила ужасающее впечатление. Спутанные каштановые волосы свисали на бледный лоб, а из-под него таращились два запавших глаза — причем один смотрел в потолок, а другой — в пол. Левое веко полуопущено, словно подмигивает, а губы — карикатурно толстые и ярко-красные, как у шлюхи, — изогнуты в циничной и многозначительной усмешке. И только до меня дошло, что голова-то не настоящая, а сделана из воска и бархата, как я опять невольно вздрогнул — на сей раз прочитав карточку, приколотую под выступающим подбородком и написанную той же по-детски неуверенной рукой, что и остальные:
Автоматическая Голова
из Королевства Богемия,
некогда принадлежавшая
Его Императорскому Величеству
Рудольфу II.
Еле передвигая ноги, я дополз до моего столика, замети в, что за окнами уже потемнело и облачка каминного дыма проплывали под потолочными балками. Дрожащей рукой я поднес ко рту чашку с кофе. Интересно, может ли эта страшная голова быть подлинной, в отличие от других экспонатов. Неужели она каким-то образом попала сюда из Понтифик-Холла? Возможно, с помощью солдат Кромвеля или какой-то другой банды грабителей.
Я просидел за столиком еще с полчаса, чувствуя себя еще более уставшим и встревоженным и время от времени бросая взгляды на восковой череп, который, казалось, подмигивает мне, самодовольно и многозначительно, из-за своей стеклянной дверцы. Чашка кофе вовсе не взбодрила меня, как я надеялся, а подействовала крайне раздражающе. Когда слуга пробегал мимо моего столика, я, однако, успел спросить его, показав на шкафчик, как приобрели этот экспонат. Но он заявил, что знать не знает, когда тот появился в «Золотом роге». По правде говоря, он выглядел таким удивленным и озадаченным, что создавалось впечатление, что он едва ли не впервые заметил выставочный шкафчик, не говоря уж о его самом ужасном обитателе.
Подумав о возвращении домой, я пожалел, что так опрометчиво отпустил извозчика. Обратная дорога на Флит-стрит явно сопряжена с опасностями. Я осознавал, что мне придется идти пешком, поскольку невероятно, что на эту улицу завернет какой-то наемный экипаж, особенно после наступления темноты. Пробираясь к выходу из кофейни, я пытался отогнать мысли о всевозможных неприятных встречах, рождавшиеся в моей голове.
Именно тогда я сделал последнее открытие этого вечера. Оказавшись у двери, я заметил рекламное объявление, приклеенное к стене рядом с дверным косяком. Тут не было ничего необычного, ведь стены этой кофейни пестрели всевозможными видами подобных объявлений. Попивая кофе, я успел ознакомиться по меньшей мере с парой десятков засиженных мухами театральных афиш, торговых предложений, непристойных стишков, напечатанных на порыжелых плакатах, — вперемежку с рисунками, также непристойными, вырезанными на скамьях и столах или намалеванными на деревянных балках. Поэтому я готов был пройти мимо, не удостоив особым вниманием это объявление, но так как мне пришлось отступить в сторону, пропуская новых посетителей, мое внимание привлек его жирный текст, оттиск медной печатной формы:
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН
состоится 19 июля в девять часов утра в «Золотом роге»,
Уайтфрайерс (Эльзас), в указанное время много
разнообразных и редких книжных изданий будет выставлено
на обозрение и предложено к распродаже в 300 лотах
доктором Сэмюэлем Пиквансом.
Несколько посетителей протиснулись к столикам, а потом еще несколько протиснулись мимо меня, выйдя на вечернюю улицу, а я все стоял, задумчиво глядя на это объявление. Книжный аукцион? У меня возникло ощущение, будто я наткнулся на книги Гомера или Вергилия в джунглях Гвианы. Мне казалось, я знаю всех, кто имеет отношение к книготорговле Лондона, включая организаторов аукционов, но мне еще не приходилось слышать о человеке по имени Пикванс, если, конечно, это его настоящее имя. Интересно, какие же «разнообразные и редкие» издания он собирается продавать и какого рода коллекционеры появятся на торгах. Но самое интересное, почему он решил устроить аукцион в «Золотом роге». Впрочем, все это можно довольно легко выяснить, поскольку до девятнадцатого июля, дня аукциона, осталось всего два дня.
Эльзас выглядел почти умиротворенным, когда я вышел на мощеную дорожку, вечерний воздух казался прохладным и свежим в сравнении с адским климатом «Золотого рога». Но эта иллюзия быстро исчезла. Вскоре я уже почуял ароматы Флита, а минуту спустя меня грубо оттолкнули, едва не сбив с ног, четверо или пятеро мужчин — все при шпагах или с кинжалами на боках, — важно шествующих к двери кофейни. В темноте маячили еще какие-то мрачные фигуры. Эльзас тупо и неотвратимо пробуждался к жизни. Я содрогнулся при мысли о предстоящем мне сейчас путешествии.
Но через два дня мне предстоит вернуться сюда. Осознав это, я обернулся и бросил последний взгляд на вывеску с золотыми рогами, увенчанными соответствующей надписью, едва различимую в угасающем свете и казавшуюся набором таинственных блестящих иероглифов. Я вдруг почувствовал уверенность в том, что существует определенная связь между рукописью, которую я ищу, и «разнообразными и редкими» изданиями доктора Пикванса.
Возвращение в «Редкую Книгу» в итоге прошло без приключений. Следуя вдоль дорожной колеи, я спустился к реке и нашел лодочника, дремавшего на веслах возле одного из угольных причалов. За два шиллинга он согласился отвезти меня вниз по течению, учитывая, что начался очередной отлив. Он вставил весла в уключины и, проворчав что-то, оттолкнулся от берега, а я уже спокойно сидел в его ялике и смотрел на цепочку удалявшихся прибрежных огней. Медленно проплывали мимо силуэты зданий и шпилей; какая-то лодка обогнала нас. Наши весла размеренно опускались и поднимались, опускались и поднимались, и зачерпнутый их лопастями мелководный ил шлепался обратно в воду. Островерхая крыша «Золотого рога» отступила вдаль, уменьшилась в размерах и исчезла из виду. А спустя пару минут я уже видел луну, встающую над дымовыми трубами домов Лондонского моста. Прикрыв глаза, я почувствовал, что ялик скользит между каменными быками и ныряет, невесомый, в пять футов гудящей темноты и водяных брызг, беспорядочно прорезающих воздух.
Когда мы вынырнули с другой стороны, я дрожащими ногами сошел на берег и обнаружил, что в окнах моей «Редкой Книги» горит свет. Монк ушел спать, но Маргарет еще мариновала устрицы на кухне. Она пожурила меня за опоздание к ужину (она приготовила отварную свинину, которую я съел холодной, устало уединившись в своем кабинете) Через полчаса мне тоже удалось доползти до постели. Я долго лежал неподвижно, слушая, как волны плещутся о мостовые опоры, и пытаясь выровнять дыхание. На мгновение мне показалось, что я все еще скольжу между гигантскими ногами моста; словно я вновь весело покачиваюсь на корме ялика, заглатывая порывистый встречный воздух. Засыпая, я думал не только об объявлении, наклеенном на стене «Золотого рога», но также и о письме, запечатанном знакомой печатью, что лежало у меня на письменном столе в ожидании моего возвращения.
Глава 5
Если путешествие до Эльбы было нелегким, то в следующие несколько дней, когда кареты и повозки оставили позади Богемию, странникам пришлось еще хуже. С пасмурного неба повалил снег — сперва редкими кружившимися снежинками, потом тяжелыми хлопьями. Бесконечные ветры с востока дули в Карпатах — в сторону Моравского нагорья и Великого хребта, завывали среди валунов и сугробов, через которые пытался пробраться караван беглецов. Они миновали несколько городков — а дальше шли только селения в дюжину домов, лепившиеся, точно ласточкины гнезда, к склонам крутых холмов. Но вот и селения сменились редкими хуторками, а вскоре пропали и они. Да и сами дороги грозили исчезнуть. В одних местах проезд преграждали снежные заносы, в других — оползни. Путешествия в такое время года, шептались между собой слуги, — чистое варварство. В конце концов, даже войска — даже валлоны и ирландцы Фердинанда — грабили пока Прагу, ожидая прихода весны. Однако каждое утро, невзирая на погоду и крутизну дорог, на количество подхвативших лихорадку пассажиров и охромевших, растянувших связки или повредивших копыта лошадей, это печальное путешествие продолжалось. Вскоре окрестный снежный пейзаж уже не подавал никаких признаков жизни лишь волки дали о себе знать, когда дорога, петляя по лесу, начала подниматься в гору. Поначалу являясь поодиночке, затем стаями — по десять или двенадцать, волки следовали за караваном на некотором расстоянии, прячась за гранитными уступами. Потом они осмелели и уже подкрадывались так близко, что Эмилия видела их желтые глаза и заостренные морды. Тощие и изголодавшиеся, точно нищие, они бросались врассыпную после приглушенных выстрелов аркебуз. Звук этих выстрелов пугал также и путников, поскольку по каравану поползли слухи, что императорские наемники уже догоняют их, хотя невозможно было представить, что кто-то, даже казаки, может быстро продвигаться по этим ужасным горным дорогам.
На закате девятого дня первый этап путешествия наконец завершился. Из последних сил медленно проехав мимо мужского монастыря и спустившись с холма, караван остановился не в одной из обычных гостиниц, а перед замком с освещенными провалами бойниц, которые пронзали подступающую темноту лучистыми световыми стрелами. Эмилия, успевшая за время пути обморозить пальцы на ногах, сидела съежившись в своей коляске, и вдруг ей пригрезилось, что она слышит журчание речной воды. Подавшись вперед; девушка всматривалась в заоконный мрак через щелочку между оконными занавесками и увидела группу мужчин в длинных одеждах и широкополых шляпах, быстро пересекавших внутренний двор, по периметру которого стояло множество экипажей всевозможных форм и размеров. Со скрипом и скрежетом поднялась опускная решетка, и затем пара тяжелых дверей с гулким стуком захлопнулась за ними. Бреслау, сказал кто-то. Они добрались до Силезии.
В этом древнем замке Пястов изгнанники оставались около недели. До конца путешествия было еще далеко, а здесь скитающийся богемский двор просто устроился на очередной привал. Эмилию вместе с тремя остальными придворными дамами поселили в комнате без окон, которую тем не менее терзали таинственные сквозняки, приносившие снежную пыль. Королева спала в одной из соседних комнат. Она серьезно заболела почти сразу после прибытия каравана в Бреслау, и поэтому Эмилия ее совсем не видела. В королевские апартаменты заходили только врачи, они сновали туда-сюда с унылыми и мрачными физиономиями. Спустя день или два по замку прошел слух, что королева умерла. Днем позже — что умер ее еще не родившийся ребенок, но другой слух, более похожий на правду, утверждал, что она разрешилась от бремени. А под конец начали поговаривать, что и мать, и дитя вместе испустили последний вздох. Правда стала такой же редкостью, как дрова и корм для скота. Выпало много снега. Одер покрылся льдом. Затем, на четвертый день пребывания в замке, сэр Амброз Плессингтон зашел навестить Эмилию.
Она находилась в комнате одна и читала книгу. Услышав стук в дверь, Эмилия не стала вставать со своей узкой кровати, поскольку, как и ее королева, испытывала недомогание. Уже два дня она плохо себя чувствовала. Боли, предшествующие месячным, начались у нее на несколько дней раньше срока, а сами месячные все не наступали. У нее болели голова и зубы, и ее мучила бессонница. Даже чтение книг давалось ей с трудом. Из-за недостатка собственных книжных запасов она была вынуждена довольствоваться книгами из собрания королевы. Весь последний день Эмилия читала труд сэра Уолтера Рэли «Открытие обширной, богатой и прекрасной Гвианской империи», с его блаженными описаниями теплых краев и заполненных сокровищами погребений. Ей как раз удалось задремать — впервые за несколько дней, — когда неожиданный стук в дверь разбудил ее.
Появление сэра Амброза, конечно, удивило ее. Ведь за прошедшие две недели он не перемолвился с ней даже словом; в сущности, он просто не замечал ее. Она же, со своей стороны, следила за всеми его передвижениями. Из окошек дорожной коляски или гостиничных комнат она видела, как он руководит погрузкой и разгрузкой ящиков или едет верхом рядом с королевской каретой, придерживая подпрыгивающий на боку ятаган. А бывало, он галопом улетал вперед, опережая караван, чтобы найти проход через горы или разведать, не устраивают ли засаду польские наемники, отряд которых, как говорили, он перебил до последнего человека и оставил на съедение волкам. От таких вылазок охромели три его лошади, и их пришлось пустить в расход, а вот сам сэр Амброз выглядел совсем неплохо.
— Надеюсь, я не помешал вам?
Он стремительно вошел в дверь в своих непомерно высоких сапогах и широкополой касторовой шляпе, заполнив собой почти всю комнату. Вынужденный пригнуть голову, чтобы не удариться о притолоку, он смотрелся как воин, забежавший в палатку на поле боя. Когда он выпрямился во весь рост, вид его не стал менее воинственным, поскольку на одном его боку висел ятаган, а на другом — пистолет. Кроме того, он пришел с фонарем, держа под мышкой книгу. Сделав поклон, он остановился, и стремительность его движений наконец-то замедлилась. Склонив голову набок, он, точно художник, критически оглядывающий свою натурщицу, смотрел на Эмилию.
— Вы спали?
— Нет-нет, — выпалила Эмилия, обретая дар речи. Приподнявшись на кровати, она прижала к груди, словно щит, «Открытие» Рэли. — Нет, сэр. Я читала, только и всего.
Взъерошив сапогами шуршащую солому, он сделал еще шаг вперед, окинул ее мрачным оценивающим взглядом. Плюмаж его шляпы слегка коснулся подбалочников.
— Вам нездоровится, госпожа Молинекс?
— Нет-нет, — вновь запинаясь, сказала она. У нее не было никакого желания рассказывать кому-либо о своем недомогании, и меньше всего сэру Амброзу. — Я совершенно здорова, благодарю вас, сэр. Мне нравится читать в постели, — пояснила она, поднимая книгу и чувствуя, что краснеет.
— Ах вот оно что, — он качнул своей огромной шляпой. — Мне говорили, что вы страстная читательница. Да, истинная Донна Кихота. — Слегка усмехнувшись в усы, он почесал бородку указательным пальцем. — По правде говоря, именно эта очаровательная привычка, мисс Молинекс, и привела меня к вам. — Он наклонился вперед, скрипнув кожаными сапогами, и положил принесенную книгу на столик около двери. — Королева прислала вам еще одну книгу для вашего удовольствия. А также добрые пожелания. — Сделав легкий поклон, он повернулся, собираясь выйти из комнаты.
— Пожалуйста… — Эмилия спустила ноги с кровати. — Вы знаете, что происходит? Королеве нездоровится, сэр?
— Нет-нет, с королевой все в порядке. Не следует верить слухам. — Задержавшись на пороге, он подмигнул ей. — Как не следует и безоговорочно верить всему, что вы читаете.
— Простите, о чем вы?
— О сэре Уолтере Рэли. — Его обветренное лицо опять расплылось в улыбке, когда он качнул полями шляпы в сторону ее книги. — Гвиана совсем не такой рай, как расписывает сэр Уолтер. Всего наилучшего, мисс Молинекс.
С этими словами он покинул комнату и удалился по коридору, а она так и не успела спросить о Вилеме — да и ни о чем другом. Но внезапно в душе Эмилии затеплилась надежда. Должно быть, Вилем рассказал ему о ее увлечении чтением. Или все-таки королева? Нет, скорее всего, Вилем, решила она. От кого еще мог сэр Амброз узнать, что она любит рыцарские романы? Она тщательно скрывала эту любовь от королевы, поскольку королева ненавидела все, что было связано с Испанией.
Чуть позже в комнату вернулись остальные придворные дамы. На сегодняшний вечер была назначена благодарственная церковная служба в честь выздоровления королевы, после чего обещали торжественный обед. Минут двадцать дамы весело щебетали, заползая в ниспадающие раковины своих платьев, ярко-красных и лиловых, с кружевами и бантами — как в былые времена, словно за окнами Прага или Гейдельберг; словно последние дни были всего лишь ночным кошмаром, от которого они так счастливо пробудились. Когда они упорхнули, Эмилия наконец открыла книгу, оставленную сэром Амброзом. Очередной рыцарский роман — «Принц Пальмерин Английский» Франсиско де Мореса. И только открыв книгу, она обнаружила между страниц записку, написанную знакомым почерком.
В записке Вилем приглашал ее спуститься в замковый погреб, где они наконец и встретились нынешним вечером. В это время все остальные придворные участвовали в исступленном и оглушающем сборище. Празднество уже началось. Призванные из местной таверны музыканты дудели в альпийские рожки, били в тамбурины и громко распевали польские песни, а танцоры в беспечном неистовстве кружились по полу обшарпанного зала — в вихре взлетающих фижм и стремительных пируэтов. Ворота замка распахнули настежь и пускали всех подряд обывателей Бреслау, и бюргеров, и нищих, так что Эмилии, с трудом пробиравшейся между ними, не удалось заметить ни одного знакомого лица. Она также понятия не имела, откуда взялось пиршественное угощение. Блюда с говядиной и олениной, фазанами и цыплятами, жареный кабан, множество перепелов и даже павлин, украшенный своими же перьями, — а рядом вазы, полные устриц, сыров, отварных яиц, засахаренных фруктов и орехов, изюма, хурмы, севильских апельсинов и даже мороженого, тающего от жара дюжины пылающих факелов и множества свечей, — вот какой пир устроили для компании беженцев, которая всего лишь двумя днями раньше до смерти мерзла на диких горных тропах, питалась испорченным долгоносиками хлебом и замороженными кусками соленой гусятины. Но теперь к ним присоединился и Вилем. Через час Эмилия умудрилась выскользнуть из зала и спуститься в подвалы, где в старом винном погребе и нашла его склонившимся над ящиком с книгами.
Она была потрясена его видом. Он прибыл в Бреслау более двух недель назад, еще до морозов, но, видимо, его путешествие было еще более тяжким. Он выглядел похудевшим и более потрепанным, чем обычно. Его бриджи и камзол висели жалкими складками на плечах и бедрах, точно лохмотья на пугале. Может, он тоже болел? Она знала, что у него слабое здоровье, — иногда ей приходилось ухаживать за ним на Злате уличке, когда он прихварывал. Вдруг сильный приступ кашля согнул его пополам.
— Вилем?..
Их воссоединение оказалось не таким, как она ожидала. Он был настолько поглощен проверкой ящиков — открывал их по одному, вытаскивая завернутые в непромокаемую ткань тома, суетился и трясся над ними, прежде чем поменять деннаж, — что даже не заметил появления Эмилии. Она быстро прошла к нему по погребу, лавируя между пустыми винными полками и множеством ящиков. Большинство крышек были открыты, и крошечные золоченые буквы поблескивали в свете факела, когда она проходила мимо. Позже она догадалась, что книги сложили в ящики в алфавитном порядке: Абулафия; Агрикола; Агриппа; Артефий; Аугурелло. За ними следовали Бёме; Бирингуччо; Борбоний; Бруно; Бэкон. Эти имена мало значили для нее, так же как и названия книг: De occulta philosophia, De arte cabalistica. Наводили на мысль о каких-то нечестивых занятиях. «Зеркало алхимии». Occulta occultum oculta. Что собирается королева, заклятый враг католицизма и суеверий, делать с этими трудами? FICINUM, прочла она на корешке одного объемистого фолианта, Pimander Mercurii Trismegisti.[29]
— Вилем!
Наконец заметив ее, он проявил не больше удивления или радости, чем при обнаружении некоторых дорогих его сердцу книг в ящиках, которые он продолжал обследовать еще минут двадцать. На самом деле еще несколько дней он больше беспокоился о книгах, чем об Эмилии. Как и Отакар, он был одержим идеей, что эта коллекция попадет, как он выражался, в плохие руки, то есть будет разграблена, сожжена или исчезнет в архивах Фердинанда или кардиналов Святой палаты. Позже он расскажет ей, что помогал перевозить «первую партию», около пятидесяти ящиков с книгами. Вторую партию отправил из Праги по реке сам сэр Амброз, поэтому Вилем не удивился, что этот англичанин торчал один в библиотеке. Только когда Эмилия описала последний эпизод, происходивший перед взрывом, — в ту минуту они разговаривали, сидя на паре винных бочек, — это вызвало у него хоть какой-то интерес. Точнее, заинтересовался он тем переплетенным в кожу манускриптом, что она видела на библиотечном столе. Дважды он заставил ее пересказывать события того вечера, но в итоге растерянно признался, что не узнает по ее описаниям ни книги, ни всадников. Он спрыгнул с бочки, присел на корточки и порылся немного в одном из ящиков, бормоча и ворча что-то себе под нос.
— Ты говоришь, переплет у нее был, — бросил он через плечо, — похож на вот этот, — Он развернулся, прижимая к груди толстый том. — Вот такой?
В свете факела она разглядела сложные завитки, оттиснутые на кожаной крышке, — орнамент в виде причудливых завитков напомнил ей вдруг затейливые дорожки сада-лабиринта Пражского замка, виденные ею из окон верхнего этажа Краловского дворца. Из-за цветного переднего обреза (переднего поля страниц) этот том выглядел как одна из «золотых книг», которые он показывал ей месяцем раньше. Она кивнула:
— Точно такой же, да. Такой же узор, я хотела сказать.
— Странно… очень странно. — Он крутил пальцами клочок своей нечесаной бороды, задумчиво поглядывая на эту тисненую кожу. — Но ты говоришь, что страницы не были окрашены? — Она отрицательно покачала головой. — Гм-м, — хмуро промычал он, опустив нос в свой грязный плоеный воротник. — Надо же, и правда крайне странно.
— Как ты думаешь, ее привезли из Константинополя?
— О, возможно. — Он вдруг встряхнул головой. Похоже, эта идея взволновала его. — Да, могло быть и так. Разумеется, нельзя судить о книге по ее переплету. Но, судя по твоему описанию, это были мусульманские украшения, известные как «ребеск», или арабески, их обычно применяли переплетчики Стамбула. В нашей библиотеке имелась дюжина подобных книг, но та, что ты описываешь, гм-м-м…
Открыв книгу, он начал медленно перелистывать ее пурпурные листы. Эмилия помнила, как он рассказывал ей, что эти страницы сделаны из кожи нерожденных телят, иногда на один том требовалось до пятидесяти особей. Такой материал назывался «пергамен». Телят оглушали и тщательно выпускали кровь, затем снимали шкуру. Утраченное ремесло, утверждал Вилем.
— Но все-таки, что это могло быть? — Она следила за его лицом, размышляя, говорит ли он ей все, что знает. — Нечто ценное, ты полагаешь?
Он пожал узкими плечами и аккуратно отложил фолиант в сторону.
— О, это могло быть все, что угодно. Но думаю — ценное. Возможно, крайне ценный манускрипт. Особенно если его привезли из Константинополя. Понимаешь, тамошние библиотеки и мужские монастыри были величайшими в мире хранилищами древних знаний.
Он говорил, как обычно, когда был в ударе, подергивая бородку и устремив в пространство остекленевший взгляд. Неистовство танцующих в зале первого этажа придворных было хорошо слышно под сводчатым потолком погреба, но Вилем явно ничего не замечал.
— За несколько прошлых столетий именно в Константинополе обнаружили больше всего произведений греческих и римских авторов. Бесценные открытия, заметь! Одиннадцать пьес Аристофана… семь Эсхила… поэзия Никандра и Мусей… «Труды и дни» Гесиода… сочинения Марка Аврелия… Да что там, даже «Элементы» Евклида, хвала Всевышнему! Ни одна из этих книг не дожила бы до наших дней, если бы ее не переписали для архивов Константинополя. Они могли бесследно исчезнуть, все до последней. И насколько беднее стал бы мир от такой потери!
Эмилия сдержанно кивнула, слегка удивившись, однако, пылкости его рассказа, который ей уже приходилось слышать прежде. Она знала, что Вилему были духовно близки те скромные труженики, которые стремились собрать и сохранить документы, обнаруженные ими в пострадавших от пожаров или войн библиотеках Александрии, Афин или Рима. И себя он, безусловно, считал таким же тружеником.
— Но эти турки…
— О да, да, — встрепенулся он. — Турки. Именно турки. Ужасное несчастье! Сколько бесценных манускриптов было утрачено во время вторжения Султана в тысяча четыреста пятьдесят третьем году! Или вернее, — добавил он, — сколько бесценных манускриптов до сих пор не обнаружено!
Она вновь кивнула, чувствуя признаки спазматической боли в животе. Винный погреб вдруг показался ужасно душным и тесным; ей стало почти нечем дышать. От законопаченных паклей и пеньковыми очесами ящиков исходил смолистый дух — резкий, неприятный запах, который, как многое другое в последние дни, вызывал у Эмилии вдобавок ко всему еще и тошноту. Ей вспомнился корабельный трюм, в котором она путешествовала из Маргита в Голландию на «Наследном принце» семь лет назад. Тогда у нее началась морская болезнь. И сейчас голова ее болела и кружилась точно таким же образом. Казалось, она кружится в одном направлении, а живот — в другом, словно все действительно происходит на борту зловонного, попавшего в шторм корабля.
Но она сделала глубокий вдох и попыталась сосредоточиться на словах Вилема. Конечно, она отлично знала эту историю — он рассказывал об этом не меньше полудюжины раз. Когда султан Мехмет захватил Константинополь в 1453 году, его люди украли сотни ценнейших манускриптов из церквей и монастырей, даже из самого императорского дворца. Лишь малую часть этих произведений удалось потом разыскать благодаря таким замечательным и отважным агентам, как Джакопо да Скарперия, Гизелин де Бусбек, да и сам сэр Амброз. История этих находок вызывала у Вилема одновременно восторг и ужас: еще пара дней — и древние манускрипты окончательно пропали бы, поскольку владевшие ими торговцы уже собирались стереть старые тексты и продать чистые пергаменты для новых записей. Какие еще сокровища древних знаний могли так балансировать на острие ножа, между уничтожением и открытием, как тот единственный пергамент с сочинениями Катулла, что был обнаружен — по утверждению Вилема — в виде пробки затыкающей винную бочку в одной из таверн Вероны?
— …книги Херемона. Его трактат о египетских иероглифах упоминался как Михаилом Пселлом так и Джоном Цецесом, но его никто не видел с тех пор — со времен разграбления Константинополя. И еще много других книг и свитков могли бы быть найдены. Нам известно, что Эсхил написал более девяноста пьес, однако найдено только семь, а из трудов Historae и Annales Тацита осталось меньше половины, из исходных тридцати книг обнаружено всего пятнадцать — и половина из них фрагменты! Или Каллимах — он написал восемь сотен томов, из которых сейчас известно всего лишь несколько отрывков Может статься, существуют даже неизвестные нам работы самого Аристотеля, ожидающие своего открытия в Стамбуле. Его слава в древнем мире зиждилась на нескольких диалогах — так называемых экзотерических и гипомнематических сочинениях, — но ни одного из этих текстов никто не видел и не читал уже на протяжении веков, — Вилем помедлил секунду, и взгляд его медленно вернулся к лицу собеседницы. — Так вот, именно такие книги, как ты понимаешь, сэр Амброз надеялся отыскать в Стамбуле.
Эмилия медленно кивнула. Стамбульские путешествия сэра Амброза стали легендарными, по крайней мере для Вилема. Многие сочинения, привезенные этим англичанином из владений султана, — к примеру, трактат Аристотеля на тему астрономических исследований, «История астрологии» (αστρολογική δ ιστοριαδ), сочинение, упоминаемое Диогеном Лаэртским, но совершенно неизвестное Европе, — считались, утверждал он, величайшими сокровищами библиотеки.
— Он был одним из агентов императора Рудольфа — говорил Вилем, — начиная с тысяча шестьсот шестого года. Именно в тот год затянувшаяся война с турками наконец закончилась, и путешествия в оттоманские владения стали менее опасными. Но сэр Амброз добирался до Стамбула еще раньше, скорее всего в качестве драгомана при одном из английских посольств. Говорили, что он был знаком с самим Великим Визирем и впервые попал на прием к императору благодаря Мехмету Аге, послу султана в Праге. Сэр Амброз подарил Рудольфу манускрипт Carmina de mystica philosophia Гелиодора, бесценное произведение по оккультной науке — оно в одном из наших ящиков, — некогда принадлежавшее Константину Седьмому. Тогда Рудольф поручил ему продолжить поиски. И он организовал покупку известных пергаментов из коллекции султана. А другие затерянные манускрипты находил на городских базарах и в мечетях. И именно в таких местах, — сказал он, повышая голос в надежде перекрыть назойливый шум, доносящийся сверху, — он обнаружил эти палимпсесты.
— Извини, что?
— Палимпсесты, — повторил он, — древние пергаменты, исходный текст которых стерли и заменили новым. Видишь ли, пергаменты часто использовались повторно. На них всегда был большой спрос. Но иногда исходные тексты оказывались не полностью стертыми или со временем начинали проступать на поверхность между строчками новой записи. Сэр Амброз умудрился восстановить их средствами алхимии, оживляя угольную составляющую исходных чернил. Одна из этих рукописей оказалась сочинением Аристотеля по астрономии, другая — комментариями к Гомеру, писанными Аристофаном Византийским. — Он махнул рукой на стоявшие перед ним ящики. — Они тоже где-то здесь. Но что до того тома, который видела ты… — Его узкие плечи дернулись. — Насколько мне известно, сэр Амброз вот уже лет десять не ездил в оттоманские земли, и я понятия не имею, откуда мог появиться этот манускрипт. И естественно, не представляю, кем он написан.
После этого он замолчал и, поднявшись с бочки, возобновил свою работу, старательно обследуя каждую книгу и проверяя, чтобы ее упаковка не была как слишком тесной, так и слишком свободной. Шум веселья в зале становился все громче, проникая в погреб через каменный потолок чередой глухих ударов. У Эмилии кружилась голова, и она испытывала небывалую слабость. Ее больше не волновал сэр Амброз и его драгоценная рукопись — как и все прочие книги, над которыми Вилем трясся, словно мать над младенцами. Ее больше не волновала даже сама королева. Она хотела только, чтобы это путешествие закончилось и двор прекратил эти тяжкие странствия. Бранденбург — вот что сейчас волновало ее. Все ее мысли были устремлены к нему. Она даже начала представлять, как они с Вилемом устроят там свою жизнь. Она сможет работать белошвейкой, он откроет книжную лавку, а то устроится учителем к сыну какого-нибудь богатого бранденбуржца. Они смогут жить вместе в маленьком домике под стенами городского замка.
— Как ты думаешь, двор едет в Бранденбург? — спросила она наконец.
— Королева может ехать, куда пожелает, — пробурчал он, — в Кюстрин, Шпандау или Берлин, где только ее примут. — Он вновь склонился над ящиком. — Но в Бранденбурге ей долго укрываться не дадут. Как, впрочем, и в любом другом месте в империи.
— Правда? — Образы белошвейки и учителя растаяли без следа; их маленький домик скрылся за обрывистым и кровавым горизонтом. — Но почему ты так думаешь?
— Потому что бранденбуржцы — кальвинисты, вот почему. — Он пожал плечами. — Им придется отбиваться от лютеран из соседней Саксонии, которая уже захватила Лужицы. Не говоря уж о том, что Георг Вильгельм получил некий имперский рескрипт от Фердинанда. — Вилем начал распеленывать один из томов. — Разве ты не знаешь последних слухов? Император не советует Бранденбургу терпеть присутствие короля и королевы Богемии в его владениях. Нет, нет, нет, — он безнадежно покачал головой. — Королеве опасно пока появляться в Бранденбурге. И книги тоже не будут в безопасности в Бранденбурге. Как, впрочем, и в любом другом месте империи, коли на то пошло, — добавил он. — Уж я-то точно не собираюсь следовать за ней в Бранденбург.
— Не собираешься в Бранденбург? — Эмилия почувствовала, как у нее свело живот от тошнотворного страха. — Но куда же тогда?..
Несколько минут назад, когда она пыталась рассказать ему о страшной битве, о мертвых в реке, он сказал, что его мало волнует судьба Богемии и еще меньше — судьбы ее короля и королевы, парочки глупцов и прожигателей жизни, которые так жаждали распродать свои сокровища в обмен на солдат и пушки. Говорили же, что Фридрих предлагал ганзейским купцам Пфальц — в том числе и его знаменитую библиотеку — в обмен на прибежище в Любеке. Так для какой же отвратительной сделки, чтобы спасти свою шкуру, он приберегал бесценную коллекцию Испанских залов? В общем, Вилем намерен уберечь эти книги от короля Фридриха — а заодно и от мародерствующих войск Габсбурга.
В этот момент с лестницы донеслись шаркающие и гулкие звуки шагов, но Эмилия даже не заметила этого шума. Она поднялась с бочки. Сводчатый потолок, казалось, закружился над головой.
— Что ты такое говоришь? Куда же тогда ты отправишься, если не в Бранденбург?
— Ах, вот и он… — Похоже, Вилем не слышал ее. Он высоко поднял распеленутый том, точно священник, поднимающий младенца над купелью. Завитки пара поднимались над его вспотевшим лбом. — Как вижу, великий Коперник отлично перенес это путешествие.
— Герр Йерасек…
Звук шагов прекратился. Вошедший в погреб неряшливого вида, захмелевший мальчик-паж отвесил неуклюжий поклон. Герр Йерасек, опять-таки в молитвенной позе, склонился над очередным ящиком. Эмилия пошатнулась и нащупала руками бочку. До боли закусив губу, она почувствовала вкус крови. Все ясно: его волнуют только книги. Больше ничего.
— Fräulein…[30] — Очередной неуклюжий поклон. Мальчик ухватился за край одной из бочек, чтобы не упасть. — Mein Herr? [31] Вы были бы очень любезны, если бы соблаговолили… — он словил отрыжку затянутой в перчатку рукой, — соблаговолили подняться наверх в бальный зал. Устраивается развлечение, — произнес он, запинаясь на каждом слове, — для нашей королевы Елизаветы.
Сверху доносились какой-то треск и грохот, поскольку придворные устроили импровизированную игру в кегли, используя для этой цели кувшины, шляпы и севильские апельсины, фрукты катались по полу, попадая под ноги пар, танцующих зажигательные кадрили и гавоты. Под рев одобрительных возгласов по залу с грохотом прокатился винный бочонок. Еле держась на ногах, мальчик вернулся к лестнице и начал подниматься по ней. Эмилия присела на бочку и схватилась за ее железные обручи для надежности.
— Была заключена одна сделка, — сказал наконец Вилем. Он говорил тихо, хотя мальчик уже удалился. — Выгодная сделка, — прошептал он и добавил еще что-то, но его последние слова заглушили очередные грохочущие удары с потолка и взрывы смеха, плывущие вниз по лестнице.
— Сделка? — Она подалась вперед, чтобы лучше слышать его.
— Да, с Англией, — повторил он. Склонившись над ящиком, он, казалось, говорил уже сам с собой. — Мы отправимся в Англию, вот куда.
Глава 6
Эльзас ранним утром был спокойным и мирным, словно убаюканным какими-то тихими надеждами. Когда мой наемный экипаж остановился в начале Уайтфрайерс-стрит, дома здесь, окутанные сероватым светом, еще выглядели совершенно нематериально, подобно театральному заднику, ожидающему, когда рабочие сцены снимут его и оттащат обратно на склад декораций. Казалось, за ними вот-вот проступят очертания первых поселений, основанных столетия назад, — темные монастыри, церковные колокольни с десятком колоколов, кармелиты во власяницах, под своими белыми капюшонами, бродят туда-сюда, работают в библиотеке или вместе шепчут молитвы в часовне по утрам или перед обедней. В прошлом столетии, разумеется, этот небольшой монастырь был разрушен, точно так же как Понтифик-Эбби. Теперь здесь больше не было ни библиотеки, ни часовни, ни монахов в белых капюшонах, от них остались лишь безмолвные руины — полуразвалившаяся колонна, фрагмент фундамента, несколько стойких кирпичей, заросших мокричником и пыреем. Вокруг этих остатков выросла россыпь таверн, пивных и прочих заведений, не афиширующих свое несомненно более дурное и грешное назначение.
— Неужели вы хотите ехать сюда, сэр?
— Да-да, езжай прямо.
Я давал указания извозчику, который заявил, что ноги его не будет в Эльзасе, и упорно держался за свои слова, пока я не посулил ему еще два шиллинга. Высунув голову в окошко, я смотрел вверх, пытаясь припомнить свое позавчерашнее случайное путешествие. По обеим сторонам улицы, точно пьяные, стояли дома с перекосившимися дверями и закрытыми ставнями окнами. На сей раз при нашем появлении улица не огласилась блеянием рожка; но возможно, два дня назад оно мне просто пригрезилось в полудреме. А может быть, существовали другие, тайные сигналы, некий безмолвный язык, на котором переговаривались обитатели соседних домов. Если верить слухам, все таверны в Эльзасе изобиловали потайными каморками, двойными полами и тайными проходами, множеством укромных местечек, где прятались сами преступники и контрабандисты или же их добыча. Прокопченные фасады деревянных и каменных домов с соломенными крышами скрывали другой Эльзас, таившийся в их недрах за множеством стенных панелей и обшитых досками лестничных площадок. Я весь извертелся и вновь, десятый раз за эту утреннюю поездку, высунулся в окно, чтобы обозреть оставшуюся позади улицу. Ничего. Чуть позже на глаза мне попалась знакомая ноздреватая вывеска.
Если уж говорить откровенно, я понятия не имел, чем меня может порадовать этот аукцион. К началу нынешнего лета, лета 1660 года, я успел побывать всего лишь на четырех или пяти таких распродажах, но это не было проявлением нерадивости или безразличия с моей стороны, ведь книжные аукционы, как и кофейни, появились совсем недавно. В сущности, два эти института были в некотором роде взаимосвязаны. Большинство аукционов в те дни проводилось в помещениях, арендуемых в кофейных домах, в «Голове грека» к примеру, где аукционист, как правило бывший книготорговец, председательствовал на распродаже примерно тысячи книг, владелец которых либо обанкротился, либо отошел в мир иной. Такие книжные распродажи обычно проходили оживленно, и на них собиралось много народа. Аукционист рекламировал свой аукцион с помощью рассылаемых по подписке ведомостей, рекламных объявлений и каталогов с названиями книг, предполагавшихся к распродаже. Посетители — такие же книготорговцы или другие коллекционеры — всегда с готовностью повышали ставки, борясь друг с другом за приобретение того или иного редкого издания Гомера или Аристотеля. Именно так, исходя из моего небольшого опыта, и работали аукционы. Но распродажа в «Золотом роге» обещала нечто иное. С одной стороны, о нем не сообщалось в ведомостях. Мне не удалось отыскать ни единого упоминания об этом аукционе в официальных газетах, как их называют, хотя я прошерстил их за последние две недели. Я также не встретил никаких других объявлений, за исключением того, что висело в самом «Золотом роге», хотя внимательно приглядывался к глухим стенам, угловым тумбам, позорным столбам и всем тем разнообразным местам, которым оказывали предпочтение городские расклейщики объявлений, включая внутренние помещения пары популярных таверн и кофейных домов. И те несколько покупателей — мои постоянные и самые благоразумные клиенты, — с которыми я осмелился переговорить на эту тему, как оказалось, пребывали в полном неведении: они признались, что ничего не слышали ни о докторе Пиквансе, ни о кофейне «Золотой рог», не говоря уже о предполагаемом аукционе. Их взгляды стали еще более недоумевающими, когда я пояснил, что «Золотой рог» находится в Эльзасе, недалеко от Флит-ривер. С тем же успехом я мог бы сообщить им, что собираюсь отправиться на аукцион в Патагонию или Оттаву.
Я стремился узнать все возможное о пропавшем манускрипте, о расшифрованном четверостишии, равно как и о самом «Золотом роге», поскольку за предшествующие дни мне удалось выяснить совсем немного. Я провел несколько часов у моих книжных полок, ища информацию о «герметическом своде». Не представляя даже, с чего начать, я просмотрел все-таки издания Лефевра и Турнеба, которые завели меня в прошлое, в глубь веков, к горстке греческих и римских писателей, а те вдруг повели меня вперед — самыми неожиданными путями, выделывавшими странные и гипнотические извивы. Я выяснил, что герметические тексты, словно некое подводное течение, исподволь подпитывали почву почти двух тысячелетий мировой истории. Они могли забурлить где-то на поверхности — в Александрии или Константинополе — лишь для того, чтобы вновь ускользнуть в незримые каналы под пустынями, горными кряжами и разрушенными войной городами… а затем вдруг прорваться в новом месте, отделенном от прежнего несколькими столетиями и тысячами миль.
Самые ранние комментаторы полагали, что родиной этих книг являлся Египет, Гермополис-Магна, который древние называли старейшим местом на земле. Считалось, что эти книги были откровениями некоего жреца, известного египтянам под именем Тот, а их последователям-грекам под именем Гермес Трисмегист, или Гермес Триждывеличайший, которого Боккаччо называет «interpres secretorum», или «толкователь тайн». Тот — в египетской мифологии бог мудрости, счета и письма, который, согласно Phaedrus Сократа, дал миру арифметику, геометрию и письменность, а на досуге изобрел такие развлекательные игры, как шашки и кости. Полагали, что мудрые сочинения Тота изначально были вырезаны на каменных плитках, позднее их скопировали на листы папируса и в третьем столетии до Рождества Христова, во время правления Птолемея II, эти свитки привезли в недавно основанную Александрийскую библиотеку, где Птолемеи надеялись сохранить копии всех когда-либо написанных сочинений. Именно здесь, в Александрии, в этой великой библиотеке, давшей пристанище тысячам свитков и ученых, знаменитый историк Египта, священник по имени Манефон перевел египетские иероглифы откровений Тота на греческий язык.
И именно отсюда, из Александрии, герметический поток разливается, как Нил. Из великой библиотеки эти тексты распространяются во все уголки Древнего мира, и в последующие семь сотен лет любой заслуживающий внимания трактат — не важно, посвящен ли он был вопросам астрологии, истории, анатомии или медицины, — обязательно включал в себя какие-нибудь (на выбор автора) ссылки на этого египетского жреца, откровения которого, по общему мнению, были неисчерпаемыми источниками разнообразных знаний. Со временем поток этот замедляется, мельчает, разделяется на ручейки и — после указа императора Юстиниана, который закрыл академию в Афинах и сжег греческие свитки в Константинополе, — вовсе исчезает. Никто не слышал о герметических текстах в течение нескольких сотен лет. И вот, в начале девятого века, эти тексты появились в новом городе Багдаде, среди сабеев — религиозной секты немусульманского толка, которая пришла из северной Месопотамии. Они превозносили откровения Гермеса как священное писание, и их величайший писатель и учитель Табит ибн Курра утверждает, что сабейские тексты содержат «сокрытую мудрость». Но часть этой мудрости, видно, припрятали не слишком хорошо, поскольку вскоре она попала в руки мусульман. Следующее упоминание о Гермесе Трисмегисте уже встречается в труде «Китаб аль-улуф» мусульманского астролога Абу Машара, и алхимик ар-Рази изучает некий герметический текст под названием «Изумрудная скрижаль», являющийся частью более значительного сочинения, известного как «Книга о тайне творения».
Но вскоре после этих арабских писателей герметический поток сужается и исчезает из Багдада, опять-таки по политическим и религиозным причинам. Начиная с двенадцатого столетия строгая мусульманская ортодоксия торжествует во всем халифате, и о сабеях из Багдада больше нет ни слуху ни духу. Однако герметические сочинения вновь почти сразу всплывают на поверхность в Константинополе — этот город, возможно, подразумевается в расшифрованном мною стихе, — где в 1050 году в руки ученого монаха Михаила Пселла попадает поврежденный манускрипт, написанный на древнесирийском, на языке сабеев. И вот одну из таких скопированных писцом на пергамент рукописей увозят из захваченного турками Константинополя, а в итоге, примерно четыре века спустя, она попадает во Флоренцию, в библиотеку Козимо де Медичи.
Но в какое же место этой длинной и запутанной истории может вписаться «Лабиринт мира»? Мне не удалось найти упоминания об этой книге ни среди герметических изданий, ни в комментариях к ним — нет их даже в Stromaties Климента Александрийского, который перечисляет названия нескольких десятков священных текстов, написанных Гермесом Трисмегистом. Судя по всему, «Лабиринт мира» был еще гуще окутан покровом тайны, чем остальные герметические книги.
Обескураженный итогом моих поисков, я выбрал для них несколько иное направление и нанял лодку до Шедуэлла, решив навестить бумажную фабрику Джона Тимбльби. Много лет я вел дела с Тимбльби, и, по моим подозрениям, именно его водяной знак «ДТ» был на вставленном в атлас листке. Но Тимбльби не смог сказать точно ни когда был сделан мой таинственный листок бумаги, ни кто был его покупателем.
Образец, заметил Тимбльби, довольно низкого качества. Будто я сам не видел, какая тонкая эта бумага. Что она уже пожелтела и покоробилась. Что она почти прозрачна, если поднести ее к свету. Все это означало, что ее, возможно, сделали в сороковых годах, вероятно между 1641 и 1647 годами. В те годы Тимбльби был основным, хотя и не единственным поставщиком бумаги для роялистских печатных станков, включая королевскую типографию, которая сопровождала в походах поредевшие и осаждаемые роялистские войска и выпускала пропагандистские памфлеты так быстро, как успевали писать. В те дни производилась бумага низкого качества, пояснил он, поскольку спрос резко превосходил предложение.
Тимбльби пригласил меня в свой производственный цех, где два человека загружали нечто похожее на овсянку в огромный котел. Именно так обычно изготовляют бумагу, пояснил он, махнув рукой на овсянку, которую третий работник старательно помешивал: в дело идут тряпки, разорванные книги и брошюры и прочая рвань, собираемая старьевщиками. Все сырье разрезается на полоски, измельчается, кипятится в чане, выдерживается в кислом молоке, бродит в течение нескольких дней, затем, как правило, процеживается или протирается через проволочную сетку. Однако из-за нехватки льняного тряпья приходилось импровизировать. Морские водоросли, солома, старые рыболовные сети, банановая кожура, мотки веревок, даже коровий навоз и прогнившие похоронные саваны со скелетов, эксгумированных для кремации, — то есть Тимбльби вынужден был использовать почти все. В результате бумага получалась сомнительного качества, которую он тем не менее отправлял войскам роялистов. Проверив свои записи, он сообщил мне, что в 1645 году отправлял большие партии в Шрусбери, Вустершир и Бристоль, и в 1646 году — в Эксетер. Но он ежегодно изготовлял сотни стоп бумаги, и мой таинственный листок, по его словам, мог быть взят из любой пачки.
В общем, в тот вечер я вернулся в свою «Редкую Книгу» лишь с весьма неопределенным указанием на то время, когда сэр Амброз мог зашифровать этот стих. И все же рассказ Тимбльби приободрил меня. Если четверостишие написано в сороковых годах, перед началом или даже во время Гражданской войны, то моя первая версия имела смысл. То есть шифровка должна иметь отношение к неким сокровищам, включавшим, быть может, и искомую рукопись, которые надежно спрятали — в Понтифик-Холле или где-то еще, — и их надлежало вновь вытащить на свет Божий, когда сторонники парламента потерпят поражение и можно будет спокойно вернуться в Понтифик-Холл. Но пока эти сокровища никто не нашел. Почему же? Потому что сэра Амброза убили, как утверждала Алетия? Но когда убили? Я понял, что не знаю, когда умер сэр Амброз. Должно быть, до 1651 года, до окончания Гражданской войны, во время которой Понтифик-Холл был конфискован, но я не помнил, что говорила Алетия.
Перед тем как засунуть шифровку обратно под половицу, я внимательно изучил ее, поднеся к пламени свечи и посмотрев сначала на водяной знак, затем на близко расположенные строки, на слабый отпечаток формирующей сетки на поверхности бумаги. Я вспомнил подробное описание Тимбльби и подумал, из чего же именно сделали эту самую страницу. Из рыболовных сетей? Из отбеленных страниц книг или брошюр? Или из савана какого-то древнего скелета? Как странно, что каждая страница, даже самая белая или даже с какими-то надписями или водяными знаками, всегда скрывает в себе другой текст, другую самобытность, не явленную на поверхности, а мы видим только то, что написано на месте прежнего, незримого текста, который можно прочесть, лишь разгадав тайну секретных чернил, проявляющихся под воздействием магического порошка или жара. Но какой порошок и какое пламя, подумалось мне, могут прояснить сообщение сэра Амброза, дать ему новую жизнь?
Я засунул шифровку под пол между досками, к другому листу бумаги, такого же, как оказалось, низкого качества и написанному старым гусиным пером. Это было письмо от Алетии, отправленное пять дней назад, которое Монк притащил с Главного почтового двора. Какое же тайное сообщение, размышлял я, скрыто за его расплывающимися чернилами, за этими вежливыми и загадочными фразами, которые леди Марчмонт вывела на странице старомодным корявым почерком?
Я вновь перечитал письмо, чувствуя странное брожение в животе и какие-то упорные и непонятные толчки и корчи в груди.
Милостивый государь.
Не сочтите за обиду, что я обращаюсь к Вам вторично. Не могли бы Вы встретиться со мной примерно через неделю, 21 июля, в шесть часов вечера? Прошу Вас навестить меня в Лондоне, в Пултени-хаус, на северной стороне Линкольн-Инн-Филдс. На данный момент достаточно будет сказать, что в нашем деле появились новые важные обстоятельства.
Я с нетерпением буду ждать Вашего прихода. К сожалению, пока все еще необходимо соблюдать прежнюю осторожность.
Всегда к Вашим услугам,
Алетия.«Прежнюю осторожность», — уныло подумал я, лежа в кровати часом позже и вспоминая тот шеллак, которым была сделана — или подделана — ее печать. Алетия, очевидно, крайне неосторожно относилась к почтовому ведомству: совершенно удивительное легкомыслие, думалось мне, для человека, во всех иных отношениях одержимого секретностью. Поначалу я не слишком серьезно относился к ее предостережениям. И даже убедил себя, перечитав письмо пару раз, что, возможно, я ошибался и письмо ее вовсе не вскрывали. Но на следующий день я отправился в Шедуэлл, и у меня создалось впечатление — крайне смутное впечатление, — что во время этой поездки, и туда, и обратно, меня кто-то сопровождал. Возможно, за мной просто присматривали. В общем, не происходило ничего особенного, просто ряд странных случайностей, на которые я не обратил бы внимания, если бы не ее письмо и еще множество других вещей, последние дни сильно действовавших мне на нервы. К примеру, ялик, отчаливший от пристани всего лишь через мгновение после меня. Фигура, маячившая за моей спиной и отражавшаяся в застекленной двери, когда мы с Тимбльби зашли пообедать в «Старую шхуну». Пара прищуренных глаз, следивших за мной сквозь узкую щель между книгами, когда я в тот же день, ближе к вечеру, прочесывал полки одного книжного магазинчика на саутворкском конце Лондонского моста. Даже моя «Редкая Книга», казалось, как-то изменилась. Совершенно незнакомые мне люди входили и, окинув беглыми взглядами полки, уходили без всяких покупок; другие просто пялились через окно, а потом внезапно скрывались, ныряя в толпу. А когда я вышел на улицу, чтобы поднять тент, какой-то мужчина на другой стороне вдруг глянул на меня с виноватым видом и лениво пошел прочь.
Нет, конечно, все это ерунда. Чистейшая ерунда. По крайней мере, так я упорно твердил себе, направляясь следующим утром в Эльзас. Но почему же тогда я поминутно оглядывался назад, боясь, что увижу второй экипаж в крошечном овальном оконце заднего вида?
Однако в оконце ничего не появлялось, и я выкинул из головы моих таинственных преследователей — по правде говоря, я забыл почти обо всем, включая Алетию с ее «новыми важными обстоятельствами», когда, обойдя слугу, вошел в дверь «Золотого рога».
Ровно в девять часов доктор Самюэль Пикванс вышел к столу, громко постучал по нему молоточком и откашлялся в ожидании тишины. Это был мужчина лет сорока, высокий, худой как жердь, с вдовьим мыском на лбу, с бросающимся в глаза носом и тонкими, аскетическими губами, изгиб которых производил впечатление презрительной гримасы. Он маячил перед нами на небольшом возвышении, где он расположился, точно судья в зале суда или, скорее, как священник у алтаря, и орудовал своим молоточком, как церковным колокольчиком или кропилом. Он постучал им второй раз, еще громче, и в помещении наконец установилась тишина. Церемония готова была начаться.
Я проскользнул на одно из последних свободных мест в заднем ряду, ближайшее к двери. В «Золотом роге» было по-прежнему темно, если не считать единственной свечи с фитилем из сердцевины ситника и задымленного солнечного луча, который, словно упавшая балка, наискосок прорезал комнату. Но вот Пикванс извлек фонарь и торжественно зажег с помощью вощеного фитиля, принесенного его помощником, молодым человеком с рыжеватой шевелюрой. Теперь ряд голов впереди меня приобрел четкость, включая и автоматическую голову в угловом шкафу. Она все так же ухмылялась, самодовольно и хитро.
Войдя в этот зал несколькими минутами раньше, я застал беспорядочную толчею — рай для карманника. Собравшиеся по большей части рвались занять сорок или около того стульев, расставленных рядами перед возвышением, на котором стоял стол, а через минуту появились Пикванс и его помощник. Я ожидал, что увижу знакомых — возможно, кого-нибудь из моих клиентов или парочку других книготорговцев. Но знакомых не оказалось, даже когда зажгли фонарь. Вид собравшихся поразил меня. Публика, пришедшая послушать Пикванса, — а похоже, все мы именно ее и составляли, — не слишком отличалась от завсегдатаев этой кофейни, которых я видел позавчера вечером; в сущности, я сказал бы, что это могла быть та же самая компания. Наряды в большинстве своем не отличались разнообразием: кожаные бриджи, помятые льняные куртки да низко надвинутые на лоб фетровые шляпы с заломленными полями; было еще несколько человек в черных домотканых одеждах с мрачными лицами квакеров или анабаптистов. Довольно примечательно, что на этом аукционе присутствовало также несколько дворян — из тех, что вернулись в Англию вместе с королем; вид у них был порочный и цветущий — они то и дело ухмылялись или непристойно подмигивали друг другу, скрестив ноги, топорща холеные остроконечные испанские бородки. Непостижимо, какие интересы могли собрать вместе столь разношерстную компанию?
Но когда начался аукцион и был объявлен первый лот, я понял, почему мне не удалось встретить здесь знакомых, — почему ни один из участников этого аукциона не бывал в моем магазине и почему сюда не заглянул ни один из книготорговцев или, по крайней мере, никто из известных мне почтенных книготорговцев. Доктор Пикванс напоминал скорей шарлатана с Варфоломеевской ярмарки, морочащего головы доверчивым зрителям, чем священника или судью. Он был либо невеждой, либо обманщиком, поскольку даже издалека я видел, что он приукрашивал и преувеличивал качества каждой книги, которую его помощник, представленный как господин Скиппер, подавал ему для демонстрации. Возмутительно. Обычные переплетные материалы, клееный холст или даже простая бортовка, величались «прекраснейшей doublure» [32] или «великолепно тисненным левантийским сафьяном», а все прочие книги на этой распродаже, естественно, были «ручной работы», «с рельефным тиснением», «роскошными» и «изысканными», сплошь «альдины» и «плантены», либо переплетенными собственноручно «личным переплетчиком покойного короля Карла», либо еще хлеще — «бесподобным Николасом Ферраром из Литтл-Гиддинга».
Меня так и подмывало встать и раскрыть эти нелепые выдумки, но всех остальных Пикванс, похоже, околдовал своими чарами. Зачастую он устанавливал начальные цены в один и два пенни, но они быстро вырастали до шиллинга и фунта, а через считанные минуты раздавался очередной удар молотка и наш порочный аукционист торжествующе выкрикивал: «Продано! За тридцать шиллингов! Джентльмену во втором ряду!»
Я был настолько потрясен этим надувательством, что лишь после двух или трех лотов вдумался в то, какого типа книги предлагаются покупателям. Первыми ушли переплетенные сборники политических или религиозных трактатов, включая памфлеты таких преследуемых сект, как рантеры, квакеры и самая многочисленная из них — Банхиллские братья, — другими словами, сочинения, противоречащие закону о богохульстве, который был принят парламентом лет десять назад. Посему ни один почтенный книготорговец не притронулся бы к ним, по крайней мере ни один торговец, дороживший своим предприятием, поскольку государственный министр постоянно посылал своих досмотрщиков в магазины для изъятия и сжигания любых богохульных и мятежных книг и памфлетов, которые могли попасть им в руки.
Так вот почему, подумал я, доктор Пикванс проводит свой аукцион в «Золотом роге» — чтобы избежать глаз этих досмотрщиков. Ибо, очевидно, ни одна из продаваемых книг не имеет лицензии государственного секретаря. Но ни одного из участников торгов это не отпугнуло. Я изумленно смотрел, как облаченные в черное сектанты борются за эти брошюры с парочкой ухмыляющихся, надушенных розовой водой кавалеров-роялистов, для которых, должно быть, даже самые скользкие моменты в учении Банхиллских братьев были не более чем шуткой. Но я полагал, что министерские соглядатаи в Эльзасе появлялись не чаще, чем бейлифы или судебные исполнители, поэтому нам не грозило попасть — если можно так выразиться — в лапы закона.
Вскоре лоты стали еще более скандальными, а торги — более оживленными. Через полчаса стали объявляться издания с наспех выполненными ксилографиями и гравюрами, изображающие самые пикантные подробности непристойных сцен между господами и их кухарками или между дамами и их кучерами или садовниками. Другие книжицы представляли собой скромные собрания откровенно дилетантских виршей, воспевавших подобные связи, а также благопристойные с виду медицинские трактаты в прозе, иллюстрированные изобретательными, но практически невыполнимыми сексуальными позициями, гарантирующими — тем акробатам, что попытаются их выполнить, — почти невероятную степень наслаждения.
При оглашении каждого лота доктор Пикванс или господин Скиппер с живостью безумных кукловодов представляли эти гравюры на всеобщее обозрение. Кроме того, Пикванс своим визгливым тонким голоском еще и зачитывал вслух пассажи из этих книжиц, глаза его при этом стекленели и на лбу проступали бисеринки пота, а господин Скиппер скромно стоял в сторонке с лицом почти малиновым от стыда.
Я увидел и услышал достаточно. Среди этих кричащих изданий не могло быть ничего подходящего для моих поисков. Следующие десять или двенадцать лотов имели отношение в тому роду оккультной литературы, что я видел в Понтифик-Холле, но они находились в гораздо более плачевном состоянии и отличались плохими переплетами, в основном из телячьей кожи, и экслибриса сэра Амброза Плессингтона, на мой взгляд, на них просто не могло быть. Я собрался уходить. Скрипнув стулом, я привстал со своего места как раз в тот момент, когда Пикванс выкрикивал очередной лот, подобный, казалось, предыдущей паре дюжин.
— Джентльмены! Вот перед вами лот шестьдесят шестой, — хвастливо объявил он, эффектно понижая голос, — книга из знаменитого собрания Антона Шварца фон Штайнера!
Я встрепенулся, вспомнив, что уже слышал это имя прежде. Пикванс с гордостью демонстрировал штайнеровскую книгу, обхватив ее своими пальцами, должно быть изуродованными какой-то болезнью: его ладонь напоминала когтистую лапу животного. И тут я вспомнил. Когда мы с Алетией поднимались из подземелья Понтифик-Холла, она шла на два шага впереди меня и, описывая подвиги сэра Амброза, рассказывала, как он организовал для императора Священной Римской империи покупку целой библиотеки одного австрийского дворянина, знаменитого коллекционера оккультной литературы по фамилии — я был уверен — фон Штайнер.
Ставки на лот 66 начались с десяти шиллингов. В основном торговались два мужчины: один из них сидел в первом ряду, другой — слева от меня. Пикванс азартно выкрикивал все новые и новые, более высокие предложения. Двадцать шиллингов… тридцать… тридцать пять…
Во рту у меня пересохло, и по позвоночнику поднялась щекочущая дрожь, словно по нему прокатился ртутный шарик. Прищурившись, я пытался рассмотреть книгу, которую демонстрировал господин Скиппер, гордо вышагивая взад и вперед по своеобразной сцене. Каковы шансы, учитывая все предыдущие обманы Пикванса, что она действительно была из библиотеки Шварца, не говоря уж об Императорской библиотеке? Но звено цепи, связующей сэра Амброза Плессингтона с «Золотым рогом» или, по крайней мере, с доктором Самюэлем Пиквансом, каким бы тонким оно ни было, уже выковалось.
Подавшись вперед на стуле, я облизал губы. В помещении, казалось, воцарилась невозможная тишина. Мужчина в моем ряду перестал увеличивать ставки. Пикванс поднял молоток.
— Тридцать пять шиллингов раз… два…
К тому времени, когда последний из трех сотен лотов был продан, колокола Святой Бригитты отзвонили четыре часа. С трудом выбравшись на улицу, я щурился и моргал от яркого солнечного света, неуклюже толкаясь в потоке уходящих посетителей аукциона, к которым сейчас, после столь долгих проведенных вместе часов, испытывал чувство нежелательной близости. Чтобы избавиться от них, я направился вниз к Флит-ривер и постоял немного на берегу, наблюдая, как лениво плещутся волны, медленно откатываясь назад. На поверхности воды дрожала маслянистая пленка, переливаясь всеми цветами радуги. Наконец голоса за моей спиной утихли, и я сунул руку в карман куртки.
Лот 66, по меркам этого аукциона, был изданием весьма примечательным: настоящий сафьяновый переплет, аккуратно сброшюрованная книга, напечатанная на тряпичной бумаге, не поврежденной ни влагой, ни книжной вошью. Мое приобретение оказалось трудом Корнелия Агриппы фон Неттесгейма Magische Werke, опубликованным в Кельне в 1601 году неким издателем по имени Манфред Шлоссингер. Я мало знал об этом сочинении, кроме того что это был перевод на немецкий De occulta philosophia[33], книги заклинаний или магических формул, в которой помимо прочего впервые упоминалось слово «абракадабра». Она обошлась мне почти в пять фунтов, что было, конечно, чересчур дорого. Едва ли мне удалось бы продать ее даже за два фунта, не говоря уж о пяти. Но меня интересовало не само сочинение, а экслибрис, приклеенный к внутренней стороне обложки. На нем изображался герб с девизом — Spe Expecto [34] — и имя, оттиснутое под ним крупными готическими буквами: Антон Шварц фон Штайнер.
Разумеется, экслибрис мог быть поддельным. Книготорговцы привыкли недоверчиво относиться к таким второстепенным доказательствам подлинности. Как говорится, нельзя судить о книге ни по ее переплету, ни по ее экслибрису. К примеру, этот экслибрис могли взять с другой книги — той, что действительно принадлежала фон Штайнеру, — и наклеить на внутреннюю сторону обложки другой, ничем не примечательной книги Агриппы Magishe Werke. Известно, что некоторые неразборчивые в средствах книготорговцы прибегали к таким средствам, чтобы набить книге цену, — что, по-моему, было бы вполне в стиле Пикванса. Да и сам экслибрис фон Штайнера мог оказаться подделкой. Но судить об этом я смогу, только если увижу подлинный образец экслибриса фон Штайнера, что в ближайшем будущем не представлялось мне вероятным.
С другой стороны, говорил я себе, ведь хорошо известно, что содержимое Императорской библиотеки в Праге было разграблено и рассеяно по миру во время Тридцатилетней войны. То, что не захватили наемники, разграбившие Пражский замок в начале войны, заполучила по ее окончании, тремя десятилетиями позже, королева Швеции Кристина. То есть, возможно, экслибрис Штайнера был подлинным и его книга каким-то образом попала в Англию. Ее мог привезти сюда сэр Амброз, к которому она попала благодаря его деловым связям с императором Священной Римской империи. Возможно, этот англичанин действовал не только в интересах Рудольфа и, особо не церемонясь, оставил некоторые тома для своей собственной личной коллекции, которая со временем вполне смогла бы поспорить с императорской. Но в таком случае, почему этот том не доехал до Понтифик-Холла? Почему сэр Амброз не приклеил свой экслибрис на внутреннюю сторону крышки? А если книга была утрачена или пропала, как многие другие, то почему Алетия не упомянула ее в своем списке?
Я закрыл книгу, и мне почему-то вспомнилось, что Агриппа, так называемый «король магов», приятель как Эразма, так и Меланхтона, секретарь императора Максимилиана, а позднее врач и астролог при дворе Франциска I, почитался в Европе большим знатоком герметических писаний. Несмотря на все эти обстоятельства — путь от Magishe Werke к украденному из Понтифик-Холла герметическому манускрипту обещал быть длинным и извилистым. Подлинная это «шварциана» или нет, в любом случае она, возможно, вообще не имеет отношения ни к сэру Амброзу, ни к его пропавшему манускрипту. Неужели я напрасно потратил пять фунтов и целый рабочий день?
Надеюсь, что нет. Я выудил из кармана визитную карточку, которую Пикванс вручил мне, когда я протолкался к столу за своим приобретением. Вблизи аукционист оказался более низкорослым и выглядел гораздо старше. Глубокие складки изрезали его чахоточное лицо, а белки глаз — или, точнее, их желтки — покрывала филигранная красная сеточка. Его длинные пальцы были, как я уже заметил, странно скрючены, как будто изуродованы подагрой, — а может, сломаны пыточными тисками. Интересно, пытал ли Пикванса один из министров Кромвеля, или его пальцы просто придавило упавшим подъемным окном? Взяв экземпляр Агриппы из этих ужасных лап, я нашел в себе достаточно смелости, чтобы спросить, кто предоставил эту книгу на продажу.
— Может быть, меня заинтересуют другие книги подобного происхождения, — сообщил я ему, понижая голос. — Из собрания фон Штайнера.
Пикванс, казалось, испугался моего вопроса. И мне уже не в первый раз пришла в голову мысль, что это могла быть краденая книга: еще одна причина, чтобы выбрать для аукциона именно «Золотой рог». Возможно, его каталог — те лоты, что не являлись подделкой, — сплошь состоит из добра, награбленного в библиотеках имений, принадлежавших роялистам и, подобно Понтифик-Холлу, разоренных или конфискованных. Его ответ ни на йоту не уменьшил моих подозрений. Он пожал плечами и заявил, что не имеет права разглашать свои источники. Его истощенное лицо растянулось в отвратительной усмешке.
— В конце концов, существуют же профессиональные тайны.
Я удержал его за рукав, когда он уже разворачивался, чтобы заняться очередным покупателем. Мне подумалось, что звон нескольких золотых соверенов с легкостью заглушит те легкие сомнения или чувство осторожности, которые могли владеть им, поэтому я сказал ему таким же приглушенным голосом, что мой клиент охотно заплатил бы изрядную сумму — более значительную, чем пять фунтов, — за нужную книгу. Он задержался и, медленно повернувшись, взглянул на меня. На секунду я усомнился в правильности своих действий… возможно, за маской вора и обманщика, нацепленной Пиквансом, скрывается нечто большее. Как бы то ни было, он, казалось, сразу отбросил в сторону все сомнения и с готовностью заглотил наживку.
— О, надо подумать. Пожалуй, да, у меня, возможно, имеется что-то в таком роде. — Его тон стал более уважительным. Вероятно, говоря все это, он уже строил планы для обширной «шварцианы», для серии новых фальшивых книг. — Конечно, мне нужно свериться с моими каталогами. Но, пожалуй, да, там вполне может оказаться…
Теперь настала моя очередь заглотить наживку.
— Вы храните каталоги? Записи ваших распродаж?
Этот вопрос, видимо, оскорбил его.
— А как же?! Конечно же храню.
— Ну да, разумеется. — Я продолжал натиск с прежними вежливостью и усердием. — Как интересно, а не позволите ли вы мне справиться…
Но меня прервали крики, доносившиеся сзади. Кавалеры и Банхиллские братья начали проявлять нетерпение, желая поскорее заполучить свои сомнительные покупки, и господин Скиппер, стремясь удовлетворить их, попытался оттащить Пикванса в сторону. Аукционист пробурчал что-то в свой шейный платок и, вернувшись ко мне, запустил свои ужасные сплющенные пальцы в жилетный карман.
— Завтра, — успел он шепнуть мне, прежде чем волна тел разделила нас.
И вот сейчас, глядя на эту карточку, я понял, что когда завтра вечером пойду в Пултени-хаус, то, возможно, уже смогу сообщить кое-что Алетии — кое-что важное, — если моя встреча с Пиквансом окажется плодотворной. Я не представлял, что именно, если уж на то пошло, смогу отыскать в одном из его каталогов. Может быть, списки покупателей и продавцов или имя того, кто предложил для продажи этот том Агриппы. Может, даже какую-то связь, слабый след, способный привести к искомому пергаменту или, по крайней мере, к его отправной точке, библиотеке сэра Амброза, и к тем, кто ограбил ее. Ведь грабители могли продать книги — это же был, в конце концов, сбыт краденого! — как раз через такого беспринципного дельца, как Пикванс.
Я повернул обратно в сторону «Золотого рога», куда как раз входило несколько посетителей. Час был еще не поздний: не пробило, кажется, и пяти. С нарастающим чувством вины, чтобы не сказать удивления, я понял, что мне не хочется возвращаться в «Редкую Книгу»; пока еще не хочется. Может, стоит вернуться домой пешком, неторопливо прогуляться. День выдался прекрасный, даже здесь, в Эльзасе. Я пришел к выводу, что вонь от воды Флит-ривер не так уж сильна, если к ней немного привыкнуть. Усилившийся ветер рассеивал мерцающие миазмы и тучи насекомых. Он также пригнал несколько облаков, которые медленно проплывали над головой в восточном направлении. По пути можно будет заскочить в таверну, подумал я, или в кофейню.
Засунув Magishe Werke обратно в карман куртки, я вновь глянул, словно уточняя адрес, на полоску бумаги в моей руке. Обычная визитная карточка торговца, включающая в себя герб — несомненно, поддельный — и четыре строчки аккуратно отпечатанного текста:
ДОКТОР САМЮЭЛЬ ПИКВАНС
Книготорговец и аукционист
Уайтфрайерс, Оружейный двор
Таверна «Голова сарацина»
Значит, мне предстоит еще по крайней мере одно путешествие в Эльзас; однако в первый раз такая перспектива не наполнила мою душу ужасом. И я осознал также, что меня не пугает перспектива посещения Линкольн-Инн-Филдс. Лицо Алетии вдруг представилось мне волнующе отчетливо, и я осознал также, что жду этой встречи почти с нетерпением. И вот, направляясь в сторону дома по Флит-стрит, где я действительно заглянул в таверну, я размышлял о том, что же происходит со мной последнее время. Я становился смелым и непредсказуемым, незнакомым для самого себя: словно где-то в глубине моего существа происходила одна из алхимических реакций Агриппы Неттесгеймского, некое основательное и волнующее превращение.
Глава 7
Пултени-хаус находился на середине северной стороны Линкольн-Инн-Филдс, в окружении шести или семи таких же особняков, похожих друг на друга как близнецы: кирпичные фасады, белые пилястры, высокие, смотрящие на площадь окна, в которых отражалось десятка два солнечных дисков. Я добрался туда по одной из дюжины пешеходных дорожек, заросших очным цветом и сушеницей. Дело шло к вечеру, и я сильно вспотел за время долгой прогулки. Ноги у меня начали заплетаться, а блуза прилипла к спине. Прикрыв рукой глаза от клонящегося к закату солнца, я огляделся вокруг.
Когда-то Линкольн-Инн-Филдс считался самым фешенебельным лондонским районом, здесь наши лорды и леди, блиставшие при обреченном дворе Карла I, предавались высокомерной и дерзкой роскоши. Но во времена республики они спешно укатили в Голландию или Францию, и поэтому последние десять лет большинство этих домов пустовало. Да и сейчас в окнах не было света и трубы не дымили, а подойдя поближе, я увидел облезающую краску стен, там и сям разбитые окна и слои копоти на подоконниках и четвертных валиках. Исчезли кованые железные ограждения и ворота вокруг заросших сорняками садов. Думаю, их перелили на мушкеты и пушки для армии Кромвеля.
Пултени-хаус смотрелся, в сравнении с другими, получше: у входа на страже стояли молодые шелковицы, а солнце заливало сияющим светом его блестящие окна. За ними едва угадывались тяжелые складки украшенного золотыми кисточками занавеса. Я не припоминал, чтобы Алетия говорила о том, что сэр Амброз или лорд Марчмонт имели собственные дома в Лондоне, и в итоге, совладав с массивным дверным молотком в виде львиной лапы, пришел к огорчительному заключению, что Пултени-хаус должен принадлежать сэру Ричарду Оверстриту, тому мужчине, с которым, как утверждал Финеас Гринлиф, леди Марчмонт была помолвлена. Упомянутые в письме «важные обстоятельства» наверняка имели какое-то отношение к свадебным планам.
Поэтому я был удивлен, когда дверь открыл не кто иной, как Финеас Гринлиф собственной персоной. Он и вида не показал, что узнает меня, и я счел это странным, учитывая, что мы с ним провели в дороге шесть дней и провели не одну ночь на унизительно близко друг к другу расположенных кроватях. Он приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы я смог с трудом протиснуться в нее, и молча провел меня по коридору в комнату — нечто вроде гостиной с темно-зелеными занавесками, придававшими ей сумрачный вид.
— Не соблаговолите ли подождать здесь, сэр?
Я слышал, как он поднимается по незримой лестнице, а затем над моей головой заскрипели половицы. События, похоже, повторяются довольно огорчительным и разочаровывающим образом. В тот первый вечер в библиотеке Понтифик-Холла он точно так же оставил меня одного и, волоча ноги, поплелся наверх искать свою хозяйку. Поэтому я не слишком удивился, обнаружив, что провели меня все-таки не в гостиную. И на сей раз Финеас оставил меня в затруднительном положении посреди библиотеки. Точнее, посреди помещения, которое в своем предыдущем, более счастливом воплощении называлось библиотекой. Оголенные книжные полки подчистую лишились своих обитателей, и кое-где не хватало даже самих полок. Интересно, не сжег ли их в камине один из военных полков Кромвеля. Однако прочая домашняя обстановка мало пострадала от огня или грабежа, на стенах висели изъеденные молью гобелены, а возле мраморного камина располагались каминные щипцы и железная подставка для дров. Четыре мягких кресла стояли вокруг квадратного столика розового дерева.
Однако в этой библиотеке все-таки имелись кой-какие книжки. В тусклом свете я заметил стопку объемистых томов, примостившуюся на столике, — книги, которые, как я предположил, захватила с собой Алетия, чтобы скоротать время в дороге. Я со скрипом открыл верхнюю книгу, совершенно уверенный, что обнаружу на обратной стороне экслибрис сэра Амброза. Но оказалось, что эта книга разительно отличается от всех книг Понтифик-Холла своей новизной, как, впрочем, и три ее соседки. Их переплеты пахли свежевыделанной кожей.
Новые книги? Такое открытие удивило меня. Чего ради хозяйке Понтифик-Холла покупать новые книги? Присев в одно из кресел, я листал первую книгу со смешанным чувством любопытства и греховного удовольствия. Какие же сочинения удостоились того, чтобы она привезла их с собой? Ученые книги, скажем, Платона или Гермеса Трисмегиста в переводах Фичино? Или тома по колдовскому искусству, а возможно, даже по черной магии?
Но все эти книги охватывали более земные сферы, и их едва ли можно было предпочесть, на мой взгляд, даже обществу угрюмого и сурового Финеаса Гринлифа. Я хмуро прочел названия, по очереди поднимая тома и возвращая их на место. Все они касались вопросов наследования собственности и правомочности завещаний. Названия их были достаточно известны, но у меня никогда не возникало желания открыть подобную книгу, не говоря уж о том, чтобы прочесть больше страницы. Причем одна из книг — судя по положению закладки, прочитанная по меньшей мере на три четверти — представляла собой некий «Трактат о завещаниях и распоряжениях на случай смерти», принадлежавший перу Хобхауса; ниже лежал прославленный своей неудобочитаемостью «Критерий прав передачи собственности и недвижимого имущества» Блэкакра. Его страницы были разрезаны все до единой, как и у третьего, огромного фолианта Филлимора «Обычное право и практика Верховного суда». Лишь последняя книга, насколько я понял, казалось, согласовывалась с запросами леди Марчмонт: некий том под названием «Законное постановление о правах женщин». Ее страницы также были разрезаны от начала и до конца, а нацарапанные на полях заметки сделаны были знакомым мне лихорадочным и небрежным почерком.
Но вот на верхнем этаже скрипнули шаги. Я положил на место последний том и откинулся на спинку кресла, чувствуя себя обессиленным. Я еще не пришел в себя то ли после моих напряженных трудов — почти все утро и добрую часть дня я провел в Эльзасе, — то ли от потрясения своим открытием. Растерев ладонями лоб и щеки, я сделал пару глубоких вдохов и глотков, как будто пил из тяжелой бутыли густой и разогретый воздух этой комнаты. Я аккуратно вытащил из кармана экземпляр Агрипповой Magishe Werke и положил его на столик рядом с другими книгами. Да, сегодня мне удалось далеко продвинуться. Узнать много нового. Закрыв глаза, я слушал тихие жалобы ступеней и подступеней, пока Алетия спускалась по лестнице. Удобно устроившись в кресле, я ждал ее прибытия. Что из того, что мне удалось выяснить, думал я, стоит сообщать ей?
Сегодня рано утром я вновь отправился в Эльзас, на сей раз проехав вверх по реке на лодке. Арроусмит-корт, когда я наконец нашел его, оказался в точности тем местом, где Пикванс, по моим расчетам, мог проворачивать свои сомнительные сделки: клочок грязной и склизкой булыжной мостовой с трех сторон окружал тесный строй закопченных четырех- или пятиэтажных доходных домов. Орава костлявых кошек трудилась на куче рыбьих отбросов, а парочка других нежилась у дверей и на подоконниках. Мутные лужи, образовавшиеся после ночного дождя, уже воняли, как трюмная вода. Пока я обходил их, из окна верхнего этажа кто-то выплеснул содержимое ночного горшка. Я едва успел отскочить в сторону. Да, уныло подумалось мне: я попал в нужное место.
«Голова сарацина» находилась непосредственно напротив узкого арочного прохода во внутренний двор. Смуглый усач со свирепым и безжалостным выражением лица пялился на меня с гостиничной вывески над дверью. Сама таверна оказалась закрытой. С одной стороны от нее находилась табачная лавка, с другой — какой-то магазинчик менее понятного назначения; оба эти заведения были также закрыты и смотрели на мир своими бутылочного стекла окнами, помутневшими от грязи и копоти. С дверью в табачную лавку соседствовала другая, поменьше, чья тусклая медная вывеска гласила: «Доктор Самюэль Пикванс — книготорговец и аукционист».
Я дернул за дверной колокольчик — и мистер Скиппер с каким-то заговорщицким видом впустил меня в дом. Мы поднялись на пять лестничных пролетов; Скиппер объяснил, что доктор Пикванс сейчас занят, но что он, мистер Скиппер, сочтет за честь помочь мне. «Контора», судя по тому, что мне позволили увидеть, состояла из единственной комнаты с двумя письменными столами, парой стульев и какими-то устройствами, видимо предназначенными для переплетных работ: в дальнем углу лежали бараньи кожи и отбойник, а в оставшейся части комнаты помимо набора буравов теснились сшивальные станки, переплетные прессы и шлифовальные железные круги. У них имелся также печатный станок, громадный механический монстр, к которому и направился господин Скиппер, усадив меня за один из столов. Передо мной лежала стопка примерно из двух дюжин каталогов в засаленных переплетах из коричневой кожи.
— Желаю удачи, — с унылой улыбкой пробормотал он и отвернулся от меня, чтобы начать, как мне показалось, стряпать очередные «шедевры» для будущего аукциона доктора Пикванса. Я взял первый том и открыл его.
За следующие восемь часов, перечитав все каталоги и подкрепившись лишь безвкусным пирогом с крольчатиной, принесенным господином Скиппером из какой-то закусочной, я постепенно выяснил кое-что о таинственном докторе Пиквансе. Мне удалось установить, что аукционы он проводил примерно раза два в год, начиная с 1651 года, когда, после окончания Гражданской войны, парламент издал закон о богохульстве. Все его аукционы, похоже, были такими же нелегальными, как последний в «Золотом роге», поскольку проводились они исключительно в Эльзасе: примерно половина в «Золотом роге», а остальные — в ближайших тавернах и пивных, включая два или три аукциона, состоявшихся в «Голове сарацина». Похоже, книжные распродажи, подобные проведенной в «Золотом роге», были его основной деятельностью, и на некоторые аукционы выставлялось до 500 лотов. В каталоги заносили автора сочинения, его название, дату издания, стиль переплета, число страниц и иллюстраций, общее состояние книги и, наконец, источник ее приобретения. Последняя графа приободрила меня. Я отметил, что Пикванс или его помощники записывали имя не только того, кто предоставил лот на аукцион, но и покупателя.
Однако, по моим подозрениям, многие из указанных имен и источников были такими же поддельными, как и сами книги, поскольку в 1651 году Кромвель конфисковал много роялистских имений, и, на мой взгляд, содержимое их библиотек — или тома, украшенные поддельными экслибрисами их хозяев, — прошли через контору Пикванса. Я заметил на одном из аукционов 1654 года рекламировались «книги, некогда принадлежавшие сэру Джорджу Вильерсу, герцогу Бекингему, изъятые из его замечательной коллекции в Йорк-хаусе на Стрэнде». Известно, что часть этой «замечательной коллекции» — поистине одной из самых лучших в Европе — разграбили после Гражданской войны, после конфискации Йорк-хауса; остальные книги распродали с аукциона спустя несколько лет, когда сын Джорджа Вилльерса, второй герцог Бекингемский, роялист, бедствовал в изгнании в Голландии. Но по записям в этих каталогах невозможно было определить, продавал ли Пикванс подлинные тома, украденные из библиотеки Бекингема.
С бьющимся сердцем я смотрел на множество названий из коллекции Йорк-хауса. Мы жили в эпоху исключительно разборчивого и тонкого вкуса, эпоху эстетов и коллекционеров, подобных Бекингему и покойному королю Карлу, но это был и век ужасных осквернений. Сколько сокровищ помимо коллекций Бекингема пришлось утратить Англии из-за наших войн? Из-за пуритан и их суеверного фанатизма. Пусть Кромвель и его войска не уничтожали произведения искусства — не обезглавливали статуи и не швыряли картины Рубенса в Темзу, — зато они продавали их за бесценок агентам короля Испании и кардинала Мазарини, а возможно даже — и неразборчивым в средствах торговцам вроде доктора Пикванса. Я заметил, что многие книги, значащиеся в каталогах Пикванса, поступили из аукционных залов Антверпена, который в последние несколько десятилетий стал центром распродаж по сниженных ценам, где алчным правителям Европы продавали добро, награбленное в многочисленных европейских войнах. Приступив к изучению очередного каталога, я пал духом, представив всю сложность порученного мне задания. Как смогу я отыскать «Лабиринт мира» в таком бесчисленном множестве украденных книг?
Одним из первых я просмотрел каталог вчерашнего аукциона, где обнаружил упоминание о книге Агриппы, с указанием моей собственной фамилии. Magishe Werke, судя по записи, изначально происходила из венского собрания Антона Шварца фон Штайнера. Но сейчас меня больше интересовал его предпоследний собственник, то есть тот, кто предложил его на аукцион Пикванса. Раньше мне не приходилось слышать имя этого человека: Генри Монбоддо. Оставалось совершенно неясным, как эта книга попала от фон Штайнера к Монбоддо, и, следовательно, невозможно было узнать, каким путем Монбоддо приобрел эту книгу, — в любом случае ее мог привезти в Англию сэр Амброз Плессингтон, а уж потом ее украли из библиотеки Понтифик-Холла. Единственной зацепкой для установления личности Монбоддо являлся адрес его дома в Хантингдоншире, указанный в каталоге. Правда, не было никаких сведений относительно того, жив ли этот Монбоддо или уже умер, что часто бывало при распродажах личных библиотек. Я записал его имя и адрес на клочке бумаги и продолжил просмотр остальных каталогов, тщетно выискивая еще какие-то книги, которые он или его наследники предлагали для продажи.
Но это издание Агриппы и даже сам таинственный Генри Монбоддо имели скорее побочное отношение к моим поискам. Я вернулся к самому раннему каталогу, с описью 1651 года, и начал продвигаться вперед, от аукциона к аукциону, год за годом, стараясь не пропустить знакомое имя или название, которое могло привести меня к Понтифик-Холлу. Время тянулось медленно. Только около четырех часов дня я добрался до последнего каталога, до описи того аукциона, что состоялся всего четыре месяца назад:
Catalogus Variorum et Insignium Librorum Selectissimae Bibliothecae,
что в переводе с латинского означало:
Каталог представляет широкий выбор древних и современных английских и французских книг по теологии, истории и философии.
Аукцион этот проводился в «Золотом роге» недавно, 21 марта, и список изданий почти не отличался от всех остальных аукционов. Пробежав пальцем по строчкам одной страницы, я перевернул ее и начал так же читать следующую. В глазах у меня чуть ли уже не двоилось. Я так плохо соображал от усталости, что когда дошел до этой строчки — почти в самом конце каталога, — она не вызвала у меня ни удивления, ни потрясения, и мне пришлось прочесть ее несколько раз, прежде чем до меня дошла ее суть: Labyrinthus mundi, или «Лабиринт мира». Фрагмент. Сочинение оккультной философии, приписываемое Гермесу Трисмегисту. Латинский перевод греческого источника. 14 рукописных страниц прекраснейшего пергамена. Переплет в стиле арабесок. В отличном состоянии. Время издания и источник неизвестны.
По некоторой оплошности или по намеренному упущению — эта запись не давала сведений об имени продавца. Но зато имя нового владельца — имя человека, купившего ее четыре месяца назад, — было четко написано карандашом. Именно повторная встреча с именем Генри Монбоддо, вкупе со всеми остальными сведениями, вывела мой ум из состояния отупения. Внимательно перечитав запись, я обнаружил, что этот Монбоддо заплатил за указанный фрагмент всего пятнадцать шиллингов — почти даром, подумал я, вспоминая настойчивые заверения Алетии о ценности манускрипта и ее готовность заплатить любую цену за его возвращение в коллекцию. Но я не сомневался, что это и был предмет моих поисков. Здесь не упоминалось наличие экслибриса, хотя такое упущение едва ли удивительно: вероятно, его убрал либо Пикванс, либо предыдущий владелец, который просто не хотел привлекать внимание к тому, что книга украдена из Понтифик-Холла.
И все-таки цена в пятнадцать шиллингов озадачила меня. Неужели ни Пикванс, ни анонимный владелец не знали ее истинной ценности? Я не мог представить себе, чтобы Пикванс продал книгу хоть на пенни меньше ее стоимости. И тогда я решил, что Алетия, должно быть, глубоко заблуждалась относительно ценности этого фрагмента. Наверное, цена в пятнадцать шиллингов не сильно отличалась от цен всех прочих книг, выставляемых Пиквансом на продажу.
Я не осмелился спросить господина Скиппера, что ему известно о Генри Монбоддо — все-таки Алетия настаивала на осторожности, — и ограничился тем, что, переписав для себя обнаруженную запись, закрыл том каталога и положил его к остальным. Спустя несколько минут я покинул контору Пикванса и отправился на прогулку по улицам Эльзаса легкой, едва ли не окрыленной походкой. Мне почти удалось разрубить этот гордиев узел, решил я. Осталось найти Генри Монбоддо, сделать ему щедрое предложение — воспользовавшись деньгами Алетии — и получить вознаграждение. Тогда я смогу покончить с этим делом раз и навсегда и вновь вернусь к своему тихому, сидячему образу жизни. Какой удачный денек, сказал я себе. Мне кажется, что я даже начал насвистывать какой-то мотивчик. Я был все в том же настроении — усталый, но довольный, — когда звуки шагов, доносившиеся из коридора, стали громче. Мне с трудом удалось подняться с кресла. Вошла леди Марчмонт.
Минут через десять я сидел за огромным обеденным столом, слушая извинения Алетии за ужасное состояние Пултени-хаус. Ее явление в дверях библиотеки Гораций, вероятно, назвал бы mentis gratissimus error, или «ложное, но сладчайшее видение». Невзирая на теплую погоду, наряд ее был точно таким же, как в Понтифик-Холле, все те же высокие, со шнуровкой кожаные ботинки и темная шляпка «кибиткой». Я уже решил было, что она, должно быть, совсем недавно купила Пултени-хаус, — отсюда и тематика объемистых томов на библиотечном столике. В конце концов, по нашим законам вдова есть «женщина одинокая», а не «находящаяся под покровительством». Она вправе покупать и продавать собственность и даже при желании подать иск в суд лорда-канцлера. Но на деле правильным оказалось мое первое предположение, поскольку, пока мы поднимались по лестнице в столовую, она сообщила, что Пултени-хаус принадлежит ее «соседу» (так она называла его), сэру Ричарду Оверстриту, который «любезно» предложил ей остановиться в его лондонском доме. Жить в Понтифик-Холле стало небезопасно, поэтому она на некоторое время переехала в Лондон: надолго ли, она не могла сказать. Однако, несмотря на опасности, нам с ней следовало встретиться, по ее мнению, для «обмена сведениями».
Понтифик-Холл стал небезопасен? Меня озадачило ее заявление. Что же там за опасности? Может быть, грунтовые воды подмыли фундамент? Или появилась какая-то более серьезная угроза?
— Разумеется, Пултени-хаус был необитаем почти десять лет, — говорила она сейчас, — и его едва ли назовешь вполне пригодным для жилья. Трубы в подземных ходах засорились или дали течь, поэтому у нас нет воды. К сожалению, он выглядит еще более плачевно и негостеприимно, чем Понтифик-Холл. — Она сдержанно улыбнулась, и ее быстрый взгляд в который уж раз скользнул по Агрипповой Magishe Werke, которую я все еще держал в руке. — Пожалуйста, господин Инчболд. — Она кивнула на обеденные блюда — дичь из оленьего заказника, принадлежавшего сэру Ричарду, — которые Бриджет только что подала на стол, — Может быть, приступим? Полагаю, нам есть о чем поговорить за столом.
Пламя свечей отплясывало свой магический танец, а я тем временем рассказывал ей все, что узнал за последние пару дней; вернее, почти все. Я сомневался, что мне следует раскрывать все карты. Я решил ничего не говорить о зашифрованном письме и о моих догадках, связанных с ним. Зато рассказал все о «Золотом роге», о странном аукционе и о докторе Пиквансе, а в заключение — о той огромной стопке каталогов, что я закончил просматривать всего пару часов назад. Однако я заметил, что упоминание имени Генри Монбоддо не вызвало у нее никакого недоумения. В это время мы приступили к десерту, сладкому пудингу. Помедлив немного, я спросил, известно ли ей это имя.
— Конечно, известно, — коротко ответила она и, погрузившись в продолжительное молчание, созерцала свое отражение в выпуклом боку серебряной супницы. Я видел отражения свечи — двух прекрасных огней — в ее расширенных зрачках. Наконец Алетия отложила ложку в сторону и, взяв салфетку, аккуратно приложила ее к губам. — В сущности, — проговорила она в конце концов, — Генри Монбоддо и является той причиной, по которой я пригласила вас сегодня в Пултени-хаус.
— Вот как?
— Да. — Она поднялась из-за стола, и я сделал то же самое — пожалуй, слишком поспешно. От вина у меня закружилась голова. — Пойдемте со мной, господин Инчболд. Я должна показать вам кое-что. Видите ли, я тоже сделала одно открытие, касающееся Генри Монбоддо.
Сначала меня провели по коридору, а затем через маленькую ротонду в спальню. Очевидно, сэр Ричард, по крайней мере, пытался обустроить эту часть Пултени-хаус для своей гостьи, поскольку стены были оклеены новыми обоями, а обстановка комнаты включала кровать с пологом на четырех столбиках, кресло и зеркало, чья покрытая бурыми пятнами поверхность показала мое причудливо укороченное и горбатое отражение, когда я остановился на пороге. Рядом с кроватью на полу стояла дорожная сумка, из которой высовывались небрежно уложенные наряды. Я торчал в дверях, как столб, как деревянный индеец из табачной лавки.
— Пожалуйста, господин Инчболд. — Показав на кресло, она склонилась над дорожной сумкой. Окно было открыто, и я уловил мягкий шорох бархатных штор. — Не желаете ли присесть?
Я направился к креслу и смотрел с тревогой и настороженностью, как она роется в своем сундуке, сначала пробираясь через слой одежды — перед моим взором промелькнули женские сорочки и блузы, сминавшиеся от ее прикосновений, — а затем добравшись до более глубоких отложений. Наконец, найдя искомое, она протянула мне извлеченную на свет Божий пачку бумаг.
— Очередная опись, — пояснила она, присаживаясь на край кровати.
— Такая же, как на Понтифик-Холл? — Мне хорошо запомнился тот документ: шесть удивительных страниц, и на каждой — подписи четырех советников графства.
— Не совсем такая же. Эта составлялась почти на тридцать лет позже. Она включает только книги, как видите. Каталог библиотеки Понтифик-Холла в тысяча шестьсот пятьдесят первом году.
— Непосредственно перед конфискацией имения?
— Да. Перед тем как мы отправились в изгнание, лорд Марчмонт сделал оценку всего содержимого библиотеки. Он собирался продать всю коллекцию. Мы были… стеснены в средствах. Но не смогли найти покупателя. Сложное было время. То есть не нашлось никого, кому бы лорд Марчмонт имел хоть малейшее желание продать нашу коллекцию. Поэтому он задумал переправить библиотеку во Францию. И даже уже договорился, что «Бельфеба», один из немногих военных кораблей, не переметнувшихся к Кромвелю в сорок втором году, перевезет ее из Портсмута через Английский канал. Но его план, конечно, провалился. Недели за две до того, как мы собирались отправить книги из Понтифик-Холла, «Бельфеба» затонула около острова Уайт. Неожиданно налетевший шторм. Но, как оказалось позднее, это кораблекрушение спасло нашу коллекцию. Нет нужды говорить вам, что могло бы произойти в ином случае.
Нужды действительно не было. Множество библиотек, перевезенных во Францию для сохранности на время Гражданской войны, стали собственностью французской короны согласно Droit d’Aubaine[35], то есть праву наследования имущества после смерти их владельцев. Участь, которую книги сэра Амброза несомненно разделили бы после смерти лорда Марчмонта.
— Я обнаружила эту опись в том подвале, где хранился архив, — продолжала Алетия. — На дне гроба, через день после того, как вы покинули Понтифик-Холл. Иначе я, безусловно, сразу отдала бы ее вам. — Не вставая с кровати, она чуть подалась вперед. — Очень подробная, как вы можете заметить.
— И здесь упоминается наш манускрипт?
— Разумеется. Но это еще не самое интересное. Пожалуйста, не желаете ли взглянуть на последнюю страницу? Там вы обнаружите, что библиотеку описывал и оценивал человек, которому лорд Марчмонт поручил продать ее.
Опись состояла по меньшей мере из пятидесяти листов, бесконечная череда имен авторов, названий, издателей, цен. У меня закружилась голова. Слишком много каталогов пришлось мне перечитать за тот день. Но последняя страница оказалась пустой, как я увидел, если не считать нескольких слов, написанных в конце листа: «На 15 февраля 1651 года вышеперечисленная книжная коллекция оценивается суммой 47 000 фунтов стерлингов; оценку производил Генри Монбоддо, Уэмбиш-парк, Хантингдоншир».
Я почувствовал неприятную тяжесть в животе и, подняв глаза, обнаружил, что Алетия внимательно следит за моей реакцией.
— Генри Монбоддо, — задумчиво пробормотала она. — Человек, хорошо известный среди роялистских изгнанников в Голландии и Франции.
— Значит, вы знали его?
— Разумеется, знала. — Она взяла у меня опись и аккуратно положила ее обратно в сумку. — Или, вернее, я встречалась с ним по делу один или два раза. В то время он работал в Антверпене, — продолжала она, столбики кровати тихо скрипнули, когда она вновь села на свое место. — Торговец картинами и другими произведениями искусства. Он устраивал распродажи многих библиотек и картинных галерей, включая коллекции Йорк-хауса. Вам известно о них?
Я кивнул, вспоминая каталог Пикванса за 1654 год с описанием предметов из «замечательной коллекции» младшего герцога Бекингема.
— Мы все тогда переживали тяжелые времена. Бекингем также сидел без денег. Йорк-хаус конфисковали, и многие из сокровищ, собранных его отцом, достались людям Кромвеля. Поэтому в сорок восьмом году, для пополнения доходов герцога, Монбоддо продал около двух сотен его картин. И получил за них приличную сумму, поскольку недавно был подписан Вестфальский мир, и, следовательно, грабительские источники грозили иссякнуть. И правда, после Вестфальского мира поток ценностей вполне мог прекратиться совсем, если бы закончились беспорядки здесь, в Англии.
— Значит, Монбоддо продавал книги и картины для обедневших изгнанников? Для всех тех, чьи поместья были конфискованы?
Она кивнула:
— Он находил покупателей для их художественных коллекций. Герцогов и принцев, которые хотели украсить ими свои библиотеки и кабинеты. Он наладил связи со всеми странами христианского мира. Мой отец не раз имел с ним дело, занимаясь поставками для коллекций императора Рудольфа.
— Вы хотите сказать, что сэр Амброз тоже встречался с Монбоддо?
— Да. Гораздо раньше, конечно. Монбоддо вел переговоры с такими посредниками, как мой отец, и получал за это отличные комиссионные. — Она перевела взгляд на книгу Агриппы, которую я держал в руке. — Мне кажется, как раз с ним он вел переговоры в Вене по поводу покупки коллекции фон Штайнера. О деятельности Монбоддо ходило много слухов, — добавила она. — Поговаривали, что он обслуживал не только роялистов, которым не под силу было платить налоги со своих имений, но и клиентов совсем другого рода.
Замолчав, она вытащила из складок своей юбки какой-то предмет, и из-за тусклого освещения спальни мне не сразу удалось распознать в нем трубку, которую Алетия со знанием дела принялась набивать табаком. Я ожидал, что она протянет трубку мне, но удивился, увидев, как она привычным движением закусила ее зубами. Лицо ее озарялось оранжевым светом, пока она разжигала трубку огоньком свечи.
— Извините, — сказала она, с наслаждением вдохнув дым и взмахнув свечой, чтобы погасить пламя. — Виргинский табак. Лист огневой сушки Nicotiana trigonophylla, на редкость ароматный сорт. Сэр Уолтер Рэли уверяет, что табак вреден для здоровья, но лично я всегда считала, что послеобеденное курение отлично способствует пищеварению, особенно если курить глиняную трубку. У моего отца когда-то был калюмет, — продолжала она, глядя на облачко дыма, медленно проплывавшее между нами. — Такая длинная трубка из глиняной чашечки и тростникового черенка, срезанного на берегу Чесапикского залива. Ее преподнес отцу вождь племени нантикоков в Виргинии.
— В Виргинии? — Сэр Амброз Плессингтон, этот многоликий Протей, декагон со всеми его таинственными боковыми гранями, нацепил очередную новую маску. Но я пришел сюда по другому делу. — Вы говорили, что Монбоддо…
— Да-да, мы говорили о Монбоддо, а не о моем отце. И не о Рэли. — Откинувшись назад, Алетия прилегла на кровати среди полдюжины разбросанных подушек, прислонив свою увенчанную спутанной шевелюрой голову к изголовью. — Да, есть немало историй, можно сказать даже легенд, о Генри Монбоддо.
— Что же это за легенды?
— Ну… с какой бы начать? — Она обхватила ладонью чашечку трубки и пару минут задумчиво разглядывала балдахин над головой, словно ища там вдохновения. — Во-первых, — продолжила она, — поговаривали, что это он ухитрился купить в тысяча шестьсот двадцать седьмом году мантуанскую коллекцию. В те дни он был художественным агентом короля Карла. Это всем известно. Он занимался такими же делами для герцога Бекингема. Старшего герцога, я имею в виду сэра Джорджа Вильерса, лорд-адмирала. Для этих-то двух заказчиков Монбоддо прочесывал королевские дворы и художественные мастерские Европы, доставляя в Англию всевозможные сокровища. Книги, живопись, статуи… все, что могло бы потрясти воображение этих двух великих знатоков. — Алетия сделала очередную глубокую затяжку, и покачнувшаяся глиняная трубка сверкнула передо мной. — Вы слышали о мантуанской коллекции?
Я кивнул:
— Разумеется.
Кто же о ней не слышал? Множество картин Тициана, Рафаэля, Корреджо, Караваджо, Рубенса и Джулио Романе, все куплены королем Карлом за 15 000 фунтов стерлингов — в общем, почти даром, учитывая подлинную ценность коллекции. Эти картины висели в галереях Уайтхолла до тех пор, пока Кромвель и его свора филистеров не продали их, чтобы расплатиться с долгами. На мой взгляд, именно в этом величайший позор правления Кромвеля — он ограбил весь наш народ.
— В двадцатые годы шелковая промышленность Мантуи пришла в упадок, — продолжала Алетия, — и поэтому Гонзаги испытывали сильный недостаток в средствах. Король Карл, конечно, тоже, но его подобные мелочи волновали мало, когда дело касалось живописи, особенно тех чудесных и драгоценных картин, что украшали мантуанское собрание. Он не поверил своим ушам, впервые получив сообщение из Мантуи об этой сделке. В стране немедленно ввели специальный налог, и Монбоддо добыл недостающие деньги вместе с сэром Филиппом Бурламаки, главным королевским финансистом. И одновременно, разумеется, Бурламаки собирал средства для оснащения флота, сотни кораблей для похода Бекингема в Иль-де-Ре, где протестантов Ла-Рошели держали в осаде войска кардинала Ришелье. Неудачное стечение обстоятельств, — пробормотала она. — Король был вынужден выбирать между кораблями и картинами.
Но он выбрал картины. Я отлично знал эту историю. Он поставил картины выше жизней своих моряков и осажденных гугенотов, доведя до нищеты свой флот, чтобы заплатить мантуанцам. Пять тысяч английских моряков на прогнивших судах умерли голодной смертью или были разбиты в пух и прах французскими войсками, и кто знает, сколько еще гугенотов погибло в Ла-Рошели. Этот поход закончился настоящей катастрофой, еще более полной, чем набег Бекингема на Кадис двумя годами раньше. Итак, картины мантуанской коллекции — все эти образы Девы Марии и святого семейства — были обагрены кровью протестантов, за них поплатились жизнью английские моряки и защитники Ла-Рошели.
— Эта прекраснейшая коллекция стала позором протестантской Европы, — сказала Алетия, — как и сокровища, собранные Бекингемом в Йорк-хаусе. Ведь Бекингем не только возглавил тот неудачный поход, но и устроил женитьбу короля Карла на сестре Людовика Тринадцатого, а также предоставил французскому флоту корабли, с которыми Ришелье продолжал громить Ла-Рошель и позднее полуголодный английский флот. Так что ж удивительного в том, что Кромвель пожелал продать обе коллекции, как из Йорк-хауса, так и из Уайтхолла? — Она умолкла и задумчиво втянула в себя табачный дым. — Но тут, господин Инчболд, уже начинается другая история.
Я сосредоточенно хмурился в сумраке спальни, пытаясь ухватить все хитросплетения, собрать воедино всех действующих лиц: Бекингема, Монбоддо, короля Карла, Ришелье.
— Неужели вы считаете, что Монбоддо занимался продажей не только мантуанской коллекции, но и картин из Йорк-хауса?
— Так я полагаю.
— Значит, он был на стороне Кромвеля?
— Нет, он играл на стороне кого-то другого. Судя по слухам, Монбоддо был тайным агентом кардинала Мазарини, первого министра Франции, протеже Ришелье. Все знали, что Мазарини надеялся заполучить те сокровища, что продавал Кромвель. Монбоддо, конечно, старательно заметал следы, как и Мазарини, но мой муж счел слухи достоверными. Поэтому он отказался от посреднических услуг Монбоддо и не пожелал расстаться ни с одним томом, хотя в те годы мы были бедны, как церковные крысы.
— Но почему лорд Марчмонт был так решительно настроен именно против этой сделки? Правда, Англия могла бы утратить отличную коллекцию. Что было бы очень печально. Но мы же больше не воевали с Францией. В то время они уже были нашими союзниками в войне, которую Кромвель затеял против Испании.
— Да, но тут были затронуты принципы. Существовали определенные препятствия.
Она нерешительно помолчала, словно раздумывая, стоит ли продолжать. Но наконец, когда очередное облачко дыма рассеялось, она пояснила, что подобная сделка противоречила бы воле ее отца, высказанной в завещании, где оговаривалось, что его коллекцию не следует продавать по частям, а тем более отдавать ее в руки сторонников римско-католической церкви. Рим с его Index librorum prohibitorum был врагом любых истинных знаний. Сэр Амброз полагал, что Рим стоит не за развитие человеческой мысли, а скорее за ее подавление. Труды Коперника и Галилея были запрещены, так же как Каббала и другие магические иудейские сочинения, изучавшиеся такими, к примеру, учеными, как Марсилио Фичино. В 1558 году смертный приговор выносили всем, кто печатал или продавал запрещенные книги. Сотни книготорговцев бежали из Рима после опубликования «Индекса запрещенных книг» в 1564 году, а за ними и тысячи евреев, изгнанных Пием V, который подозревал их в содействии протестантам. Знатоки герметических наук вскоре оказались в таком же тяжелом положении, как евреи. Инквизиция объявила еретиком редактора и переводчика многоязычного издания «герметического свода», а величайшего ученого герметиста, Джордано Бруно, приговорила к сожжению на костре. Его преступлением была защита теории Коперника.
— О, я понимаю, все это может показаться вам странным, господин Инчболд, как бред фанатика. Но мой отец твердо держался за свои принципы. Он верил в реформацию, в распространение знаний и во всемирное сообщество ученых, в некую просвещенную Утопию, подобную той, что описал Фрэнсис Бэкон в «Новой Атлантиде». Именно поэтому, по его мнению, было бы несчастьем, если бы хоть одна книга попала в руки такого человека, как кардинал Мазарини, ученик иезуитов. — Алетия вновь помолчала, затем вдруг добавила, понизив голос, словно боялась, что ее могут услышать: — Видите ли, мой отец однажды уже спас эти книги от костра иезуитов.
— Что вы имеете в виду? — спросил я; подавшись вперед. — Что значит — спас? — Я вспомнил, как вечером, во время моего пребывания в Понтифик-Холле, она говорила об этих книгах как о «спасенных», упоминая, что некоторые из них пережили кораблекрушение. Интересно, думал я, собирается ли она рассказать мне об упомянутых ею «врагах» и «столкновении интересов».
— Спас их от кардинала Барония. — Она с тихим стуком прикусила черенок трубки. — Хранителя Ватиканской библиотеки. Может быть, вам известны его труды? Он подробно писал о «герметическом своде». Возможно вы читали об этом в его истории Римской церкви, Annales ecclesiastici[36], выпущенной в двенадцати томах. В свое время кардинал Бароний был одним из главных специалистов по сочинениям Гермеса Трисмегиста. Он взялся за перо, чтобы опровергнуть теологические воззрения гугенота Дюплесси-Морне. В тысяча пятьсот восемьдесят первом году Дюплесси-Морне опубликовал герметический трактат, озаглавленный De la verite de la religion chretienne [37] Он посвятил его защитнику протестантов в Европе Генриху Наваррскому, чьим советником он позже стал. Это сочинение перевел на английский сэр Филип Сидни.
— Еще один защитник протестантов, — пробормотал я, вспоминая, что именем Сидни — этого великого человека, блиставшего при дворе Елизаветы и погибшего в сражении с испанцами, — был назван корабль, построенный для сэра Амброза, согласно патенту, в 1616 году.
Закрыв глаза, я попытался собраться с мыслями. Имя Барония было мне знакомо, хотя и не в связи с Дюплесси-Морне или «герметическим сводом», а в связи с тем, что некий кардинал с таким именем организовал перевозку — кражу — пфальцской библиотеки в 1623 году, после того как войска католиков вторглись в Пфальц. Это было самым скандальным происшествием Тридцатилетней войны. Около 196 ящиков с книгами из величайшей библиотеки Германии, европейского центра протестантского учения, переправил через Альпы целый караван мулов, причем у каждого мула на шее висела серебряная бирка с надписью: fero bibliothecam Principis Palatini. [38] Эти книги и рукописи исчезли, все до единой, в недрах Ватиканской библиотеки.
Или все было иначе? Я открыл глаза. Вино и дым затуманили мою голову, но сейчас я также вспомнил, как Алетия уверяла меня в том, что сэр Амброз работал в Гейдельберге в качестве посредника пфальцского курфюрста. Одна мысль медленно всплывала на поверхность.
— Неужели книги в Понтифик-Холл попали из пфальцской библиотеки? Вы это хотели сказать? Значит, кардиналу Баронию не удалось украсть эту коллекцию? Сэр Амброз спас их от…
— Нет, нет, нет… — Она протестующе взмахнула трубкой. — Пфальц тут ни при чем.
Я ждал продолжения, но виргинский табак, похоже, погрузил ее в приятно расслабленное состояние. Она свесилась с кровати и выбила трубку о каменную плиту перед камином. Я откашлялся и попробовал зайти с другой стороны.
— А не причастен ли кардинал Мазарини, — спросил я как можно мягче, — или, возможно, его агенты к… к…
— …к убийству лорда Марчмонта? — донесся ее приглушенный голос из уютного подушечного гнезда. — Да. Возможно. Вернее, так я думала одно время. Моего мужа убили в Париже. Я рассказывала вам об этом? Мы переезжали в карете через Понт-Неф, и на нас напали около того места, где Равальяк убил Генриха Наваррского. Его ударили в шею кинжалом, — спокойно продолжала она, — так же, как короля Генриха. Убийц было трое, все на лошадях, все одеты в черное. Мне никогда не забыть их. Черные камзолы с золотой отделкой. Было уже темно, но мне дали все разглядеть, понимаете? Мне позволили увидеть их наряды, их лица. Это было предостережение.
— И кто же вас предостерегал? Кардинал Мазарини?
— Именно так я думала одно время. Но обстоятельства изменили мое мнение. Теперь я считаю, что этих убийц подослал Генри Монбоддо.
Я облизнул губы и тихонько вздохнул.
— Но чего ради Монбоддо?..
— «Лабиринт мира», — донесся ее голос из душной полутьмы. — Именно ради него, господин Инчболд. Других причин не существовало. Он стремился заполучить этот манускрипт. Не всю коллекцию, а только один-единственный манускрипт. Он был одержим этим стремлением. Найденный им покупатель отчаянно хотел во что бы то ни стало приобрести его. И его заказчик распорядился убить моего мужа. А теперь, кажется, подтверждаются худшие опасения моего мужа, — добавила она после короткой паузы, вновь понизив голос. — Если то, что вы говорите, правда — значит, Монбоддо все-таки удалось заполучить желаемое.
Крошечный огонек вдруг взметнулся и исчез возле окна. За ним темнели безмолвные просторы. Я почувствовал, как у меня тревожно заколотило в висках и по коже пошли мурашки. Откуда-то снизу донеслось медленное шарканье Финеаса и подагрический скрип половиц. Взглянув в сторону кровати, я увидел, что Алетия поднялась и сидит под балдахином, обхватив колени руками. Я почувствовал, что она смотрит на меня.
— Итак, мы все обговорили, — сказала она наконец.
— Обговорили, мадам?
— Да, господин Инчболд. — Кровать издала стон, когда Алетия поднялась на ноги. Ее длинная тень легла на меня. — Видимо, будет уместно посетить Уэмбиш-парк, не так ли? Этот манускрипт нужно вернуть. И мы должны поторопиться и потребовать его обратно, пока Монбоддо не продал его своему заказчику. Но вам следует быть осторожным, — прошептала она, провожая меня к лестнице, — действительно крайне осторожным. Поверьте моему слову, господин Инчболд: Генри Монбоддо опасный человек.
Часом позже, вернувшись в «Редкую Книгу», я сидел в своем кабинете, покуривал трубку и клевал носом над Шелтоновым переводом «Дон Кихота». Я добрался до дома без всяких приключений и без подозрительных сопровождающих. По крайней мере так мне показалось, хотя все мои чувства слегка притупились и вокруг была кромешная тьма. Пару раз я начинал клевать носом, и, когда мы достигли места назначения, извозчику пришлось разбудить меня. А теперь моя трубка все время гасла, и я никак не мог сосредоточиться на страницах «Дон Кихота», прочитывая их, но не улавливая ни капли смысла.
Будет уместно посетить Уэмбиш-парк…
Пожалуй, да: тот слабый, ускользающий след, по которому я шел, стал уже более четким и, казалось, неуклонно и однозначно сворачивал к Уэмбиш-парку и Генри Монбоддо. Однако как бы оптимистично ни был я настроен днем в Эльзасе — сейчас от моего тогдашнего воодушевления ничего не осталось. Я думал о лорде Марчмонте, убитом на Понт-Неф, и о тех темных личностях, что тайно выслеживали меня.
Генри Монбоддо — опасный человек…
Вскочив с кресла, я подошел к окну. Беззвездное небо высилось черной бездной; город под ним выглядел таким же темным, хотя вдали, ниже по течению, на кормах торговых кораблей у причалов Лаймхауса покачивалось несколько фонарей. Поднимают паруса, предположил я, чтобы выйти в море с началом отлива, — воды уже уходят, с привычным шумом скользя между быками моста.
Я вновь зевнул, и оконное стекло слегка запотело от моего дыхания. Рядом со мной на полу что-то звякнуло, и, приглядевшись, я увидел на половицах какой-то блестящий предмет. Ключ. Я задумчиво повертел его в руке, глядя, как отблески от горящей свечи играют на полированной меди. Его дала мне Алетия, когда мы прощались в темном атриуме Пултени-хауса. Ключ этот отпирал замок тайника, спрятанного под каменным ромбом в верхней части надгробного камня одной из могил на кладбище при церкви Святого Олава на Харт-стрит, что проходила неподалеку — с северной стороны от Лондонского моста. В дальнейшем любые сообщения мы будем передавать через этот тайник, объяснила она, поскольку поняла, что ее почту вскрывают, — поздновато поняла, подумалось мне. Она также добавила, что мы не сможем больше встречаться в Пултени-хаус, который ей в любом случае, вероятно, предстоит вскоре покинуть. Поэтому все последующие послания Алетия будет оставлять мне на этом церковном кладбище, в тайнике над могилой некоего человека по имени Сайлас Кобб.
Я сунул ключ обратно в карман и вернулся к моей книге. Я понял, что опять мне придется покинуть Лондон и устремиться в неизвестность, чреватую, возможно, многочисленными опасностями. Я почувствовал себя усталым рыцарем из испанского романа: обедневшим идальго со сломанным копьем и покореженным щитом, который по прихоти своей возлюбленной отправляется в мир интриг и магии, намереваясь справиться с непосильной задачей.
Но тут я напомнил себе, что Алетия — не моя возлюбленная, что никакое волшебство меня в Уэмбиш-парк не поджидает и, наконец, что мое задание теперь — учитывая мое сегодняшнее открытие — уже не кажется таким непосильным.
Глава 8
Тонкий ледяной панцирь только-только сковал Гамбургские каналы, когда «Беллерофонт», торговое судно водоизмещением триста тонн, раздробил его своим могучим носом — и таким образом начал заключительный этап своего двухтысячемильного плавания из Архангельска. Последнюю отметку в корабельном журнале сделали в декабре 1620 года. Мартынов день уже прошел, знаменуя начало самого опасного и непредсказуемого морского сезона, хотя это путешествие вниз по Эльбе к Куксхафену началось вполне обычно. Благодаря отливу «Беллерофонт» быстро продвигался вперед, оставляя позади по правому борту скученные прилавки рыбного рынка Санкт-Паули, по левому — череду канатных дворов и складов с остроконечными крышами. Ниже по течению в более глубоких местах, поскрипывая, так и рвались с якорных цепей несколько флейтов Ганзейской флотилии, и возле каждого из них суетилось по полдюжине лихтеров и лодок с провизией. Лавируя между ними, «Беллерофонт» выглядел отменно, его туго натянутые оттяжки посвистывали на ветру, а кремовые паруса хлопали и вздувались, едва их начинали разворачивать. Хотя трюм корабля заполняли меха из Московии, его ход был ровным и легким. Корпус высоко поднимался из воды, и тени от его взмывающих ввысь парусов быстро проплывали над портовыми рабочими, которые сидели на корточках на причалах или взбирались по сходням складов, горбясь под бочками с исландской треской или тюками с английской шерстью. На шкафуте можно было заметить нескольких размахивающих шапками матросов, а высоко над их головами темнели на фоне серо-стального, извергающего снег декабрьского неба крошечные фигурки верхолазов, они сновали вверх и вниз по выбленкам, скользили по реям, натягивая толстые веревки и закрепляя марсели, которые, надувшись под ветром, еще быстрее несли корабль по солоноватому отливу к морю.
Пока шпиль церкви Михаэлискирхе уменьшался и таял за кормой, на шканцах стоял капитан Гэмфри Квилтер и, не обращая внимания на снежные хлопья, что, опускаясь, таяли на его щеках, наблюдал за своей командой, занимавшейся привычными делами. Плавание из Архангельска было трудным. Двина замерзла почти две недели назад, и помедли «Беллерофонт» и его команда еще пару дней, то остались бы в ее ледяных тисках. Квилтер уже однажды попал в такую ледяную ловушку два года назад, когда вход в бухту замерз намертво в первую же неделю октября. Никто из тех, кто помнит это ужасное испытание, не пожелал бы пройти через него еще раз. Шесть холодных месяцев в ледяных челюстях Двины, в ожидании весеннего таяния, которое в тот год началось на три недели позже обычного. Но плавание в северных краях всегда чревато опасностями. На сей раз корабль избежал ледяных объятий, зато его атаковал штормовой ветер в Белом море. Поврежденное судно с трудом достигло гавани Хаммерфеста, чтобы отремонтировать треснувшую бизань, и на сей раз «Беллерофонту» тоже посчастливилось ускользнуть от льдов — просто благодаря отливу.
Но сейчас, спустя четыре недели, капитан Квилтер мог вздохнуть спокойнее. Этот последний переход, из Гамбурга в Лондон, будет самым легким, хотя уже настал декабрь, когда погоду предсказать невозможно, — несмотря даже на то, что наступившие времена, по слухам, были не лучшими для путешествий. Скоро уже любому кораблю будет трудно отправиться в плавание, и дело тут не в хорошей или плохой погоде и даже не в скованных льдом гаванях. Порты, так же как и морские пути между ними, закроются для всех судов, кроме военных: на горизонте новые битвы. Вся континентальная Европа напоминала сейчас бочку с порохом, а уж за фитилем дело не станет. И этот взрыв, думал Квилтер, не пощадит никого.
Широко расставив ноги, он твердо стоял на поскрипывающей палубе и вдыхал морской ветер, становившийся все холоднее и солонее. Болотистые берега и соляные топи с их дамбами и плетеными заграждениями уплывали вдаль вместе с изогнутой береговой линией порта. Капитан хорошо знал устье этой реки, ее отмели и наносные песчаные острова, и ему не было особой нужды в морских картах, которые лежали, свернутые в трубочку, в его каюте, чтобы убедиться в правильности курса. Вскоре после полудня они дойдут до Куксхафена, и если Северное море встретит их попутным ветром и хорошей погодой, то побережье Англии появится перед ними через два дня. Хотелось бы, конечно, быстрее: сорока шести человекам, входившим в его команду, не терпелось вернуться домой после пяти месяцев плавания. Но зато теперь у них, по крайней мере, появятся деньжата в карманах, несмотря на то, что обещанная партия висмарского пива заблудилась где-то между Любеком и Гамбургом. Пожалуй, улов вполне оправдывает трудности путешествия. Все получат условленные деньги да еще и добавочное вознаграждение, не говоря уж о той изрядной прибыли, что ждет акционеров Королевской биржи. Ведь «Беллерофонт» везет в своих трюмах почти пятьсот связок наилучшего меха, закупленного у лопарей и самоедов в английском форте Архангельска. По расчетам Квилтера, они везли в Англию столько бобровых шкур, что их хватит на несколько сотен шапок, не говоря уж об ондатрах и лисах для множества шуб, соболях и горностаях для отделки сотни судейских мантий… Да к тому же еще несколько дюжин медвежьих и оленьих шкур, первые — с сохранившимися когтями и мумифицированными головами, вторые — с неповрежденными рогами; все они предназначались для украшения стен или полов в разнообразных дворянских имениях. Прошлая зима была холодной даже по меркам Московии (по крайней мере, так утверждали самоеды), и поэтому меха получились более густыми — то есть более ценными, — чем обычно.
Имелся также и другой груз, правда секретный, за который капитан Квилтер не заплатил ни единого талера таможенной пошлины. Обернувшись, он бросил взгляд в сторону люка. Хоть и правда, что, взяв на борт тайный груз, он повел себя как мелкий контрабандист, но был ли у него в данном случае выбор? От торговца из Любека не прибыли две сотни бочек с пивом, а это означало, что «Беллерофонту» приходилось взять несколько ластов дешевой люнебургской соли для балласта. Но люнебургскую соль было бы трудно продать в Лондоне, даже если бы ее и удалось закупить за такой короткий срок, — а так получилось, что соли на складе не было. Не было и никакого другого балласта — ни красителей, ни чугуна, вот Квилтер и согласился — с меньшей неохотой, чем надлежало бы для приличия, — взять на борт эти таинственные ящики, не записанные в книге портового смотрителя, — а по прибытии в Англию о них также не следовало сообщать в таможне. Таков, по крайней мере, был план. За беспокойство капитану посулили две тысячи имперских талеров, то есть почти 400 фунтов стерлингов, половину из которых ему уже заплатили, и она была надежно спрятана в его матросском сундучке. Ну что ж, сказал он себе, когда по правому борту появилась крепость Глюкштадт, — пожалуй, улов у нас действительно весьма удачный.
Однако кое-что во всем этом деле по-прежнему беспокоило Квилтера. Откуда, к примеру, тот человек из «Золотой грозди» узнал его имя? Откуда он узнал о потерявшейся партии висмарского пива? И что за пассажиров его уговорили взять на борт и спрятать в трюме за несколько дополнительных талеров? Может, обычные шпионы, которыми, поговаривали, кишел в то время всякий европейский порт. Но для кого они шпионили? И тот незнакомец из таверны, Джон Крукис, — может, он тоже шпион?
Последняя сделка была странной и внушала беспокойство. Квилтер прислушался к привычным корабельным звукам, полотнища парусов вздувались над головой, превращаясь от порывов крепчавшего речного ветра в охваченные дрожью белые пузыри. Эту сделку предложили ему вечером, два дня назад, в портовой таверне Альштадта, где он попивал добрый эль и закусывал его жареным хеком в компании со своим боцманом и с полдюжиной других членов команды «Беллерофонта», которые, расположившись за столами, уткнули носы в объемистые пивные кружки. Тот вечер в Гамбурге грозил пойти по накатанному пути — выпивка, карты, может быть, проститутки с Кёнигштрассе и, наконец, возвращение на подкашивающихся ногах к спасительным сходням корабля. Но когда колокола на башне Петрикирхе начали сумасшедший перезвон, в дверь таверны проскользнул новый посетитель и сел по соседству с Квилтером за свободный столик. Этот сосед, перехватив взгляд Квилтера, представился, сказав, что зовут его Джон Крукис, что он англичанин и представляет интересы торгового дома «Крабтри и Крукис», занимающегося поставками товаров из ганзейских городов в Англию. После стаканчика голландского джина он пояснил, что его фирма обычно пользовалась услугами ганзейского флота, чьи корабли иначе ходили бы в Англию с пустыми трюмами. Только нынче, прошептал он, все пошло наперекосяк из-за того, что гамбургцы поссорились с датчанами, чей король только что построил мощную крепость в нескольких милях ниже по течению в Глюкштадте. И поскольку английский король Иаков женат на сестре датского короля — этого неуемного забияки, который хочет держать под каблуком и Эльбу, и всю Балтику, — то ни один из ганзейских кораблей не желает везти грузы английских торговцев. В этот момент, не отводя глаз от лица Квилтера, Крукис вытащил из внутреннего кармана мешочек и легким жестом подвинул его по столу.
— Поговорим без обиняков, капитан Квилтер, — тихо сказал он. — Мне нужен корабль. Или часть корабля. Ну и вот… — Он постучал указательным пальцем по кожаному мешочку. — Я подумал, не сочтете ли вы возможным посодействовать мне в одном деле — как англичанин англичанину?
В мешочке оказалась сотня серебряных талеров. Груз доставили на борт вечером следующего дня, когда совсем стемнело, не пользуясь ни факелами, ни прочими светильниками; потушили даже четыре сигнальных фонаря, установленных на корме. В общем счете — девяносто девять ящиков. Докерам хорошо заплатили, чтобы они пошевеливались на погрузке и держали рот на замке, поскольку Квилтеру меньше всего хотелось, чтобы речные бандиты, промышлявшие в портах Лондона и Грейвзенда, прослышали о ценном грузе, заложенном в трюм «Беллерофонта». Иначе их корабль мог бы попасть на заметку пиратам еще до выхода из Гамбурга.
Капитан следил за погрузкой сверху, стоя на узком мостике и покусывая губы и костяшки пальцев. Докеры подтаскивали ящики к грузовому люку и передавали их членам команды, которые уже строили догадки относительно их содержимого, но даже не подозревали, какую беду этот тайный груз вскоре навлечет на них. Тяжеленных ящиков оказалось так много, что в какой-то момент Квилтер со страхом подумал о перегрузке и разбалансировке судна. Но его страх оказался напрасным; и сейчас отлично загруженный «Беллерофонт» уже быстро шел по Эльбе. К тому времени, когда солнце, разорвав облака, появилось над фок-мачтой, на горизонте впервые блеснули шпили куксхафенских колоколен, знакомый и долгожданный вид.
Капитан Квилтер позволил себе удовлетворенно улыбнуться. Высоко над его головой заполаскивали передние шкаторины, пока верхолазы растягивали парус. Тень облака проползла по палубе и исчезла, рассеянная солнечным светом. Погода, похоже, не собиралась меняться. Через два дня «Беллерофонт» достигнет Темзы, а точнее — Нора, якорной стоянки, где таинственные ящики перегрузят на полубаркас, и тогда он, получив еще тысячу рейхсталеров, сможет навсегда вычеркнуть их из памяти.
Спустя минуту он уже был в своей каюте среди разбросанных карт и компасов. Вскоре после этого, когда «Беллерофонт» входил в Гельголандскую бухту, издалека донесся перезвон церковных колоколов — дурное предзнаменование. Однако тогда капитан Квилтер не обратил на это никакого внимания; и даже мельком не подумал он о другом торговом корабле, «Звезда Любека», что маячил в окошке иллюминатора, следуя за ними примерно тем же курсом. Вместо этого он склонил голову над потрепанным морским атласом с указанными местами отмелей и затонувших судов, чтобы наметить подходы к Нору и дальше — к лондонскому порту.
Путешествие в Гамбург из Вроцлавского замка заняло более трех недель. Снег валил по всей Богемии и Пфальцу так же, как и в Силезии. Целыми днями снегопады преграждали дорогу рыщущим в поисках провизии войскам, заставляя их разбивать лагерь в чистом поле или, к удивлению сельчан, в первой попавшейся деревне. От Гейдельберга на западе до Моравии на востоке императорские солдаты с трудом размещались на постой, а то стояли биваками в глубоких расселинах прямо под открытым небом, увязая в снегу и ругаясь, что так мало корма можно найти для их голодных лошадей. Во внутренних дворах и садах Пражского замка снег лежал в три фута глубиной. После того как ворота рухнули под напором атакующих, грабежи не прекращались пять дней; худшие пророчества Отакара сбылись. Дворцы и Испанские залы — все постепенно разграбили, так же как и церкви, и даже на кладбище разрыли могилы: у покойников, по слухам, имелись золотые зубы. Дома на Злате уличке и лаборатории в Математической башне тоже не убереглись — из-за очередных слухов о том, что Фридриховы алхимики из общества розенкрейцеров открыли способ превращения угля в золото. Нашлось там золото или уголь — неизвестно, но сокровищ замка, а в дальнейшем и Старого города, оказалось вполне достаточно, и немало мародерствующих солдат были вынуждены нанять «ишаков», которые тащили для них мешки с награбленным добром.
После долгого via dolorosa[39] из Праги беглый королевский двор прибыл в Силезию и прожил в Бреслау шесть дней. Утром седьмого дня караван, точнее, часть его двинулась на север, а затем повернула к западу, следуя вдоль извилистых берегов Одера; в рассветных лучах они смотрелись как грязное стадо каких-то кочующих животных. Шли с неизменными остановками. Через день драгоценные ящики погрузили на семь барж, но сперва мужчинам, ловко орудующим шестами, пришлось разбивать лед, поскольку Одер, а вслед за ним и Эльба уже подмерзли. И все-таки одна из барж получила пробоину, и ее отбуксировали к берегу, что повлекло за собой, однако, очередную задержку, после которой путешествие возобновилось во всей своей неизменной медлительности. За кормой появлялись и исчезали пограничные столбики. Фридланд. Саксония. Бранденбург. Мекленбург. Таможенные посты, каждый со своей охраной и пушками, маячили и пропадали в тумане. На каждом из них давались изрядные взятки, и ни одну баржу не досматривали, ни один из ящиков не вскрыли для проверки.
От Бреслау до Гамбурга напрямик всего триста миль, но из-за стариц Эльбы, из-за льдов и морозов путь в конечном счете оказался гораздо длиннее, превратившись в мучительное продвижение по узким ущельям с рыжеватыми крутыми откосами из песчаника, мимо городков на лесистых речных склонах с домами, теснившимися за крепостными стенами. Наконец баржи достигли покрытых снегами и продуваемых ветрами пустошей, где редкие загоны для овец да можжевеловые кусты, подобно руинам, нарушали плавное единообразие слепленных природой сугробов. Вскоре Эльба расширилась и, очистившись ото льда, заполнилась угольщиками и рыболовными судами, и тогда появилось солнце и погода улучшилась. На следующий день русло еще больше расширилось, течение реки стало быстрее, а поток судов — плотнее и беспорядочнее. Башни и колокольни теснились над болотистой приморской Гестландией.
Эмилия, растиравшая свои озябшие пальцы, уже потеряла счет дням и даже не представляла, где они находятся. Она молча смотрела, как баржа, протиснувшись между двумя другими, подошла к людному причалу. И так же молча наблюдала, как полдюжины мужчин, во главе с управляющим пристани, спотыкаясь, спустились по сходням на баржу. Уже сгустились сумерки, но никто не зажигал фонарей, и снующие по палубе фигуры казались не более чем тенями.
Вилем взял ее под руку, и они вместе сошли на берег, вскарабкавшись по скользкой насыпи, и все происходящее внизу сразу стало мрачновато-туманным в тусклом свете, исходившем от портовой таверны. Откуда-то сзади доносился отрывистый лай управляющего, быстрая череда команд по-немецки. Ящики перетаскивали в один из складов, что беспорядочно сгрудились на речном берегу. Вилем сильнее сжал ее руку.
В Гамбурге они оставались три дня, в Ганге-Виртель Альштадта. Каждую ночь Эмилия проводила в новой Gasthaus[40], в отдельной комнате, тесной маленькой келье, где, просыпаясь, ожидала услышать из соседней комнаты требовательный перезвон колокольчика королевы. Но никакого требовательного колокольчика уже не было, не было с той самой ночи, когда ее подняли с постели и, дав две минуты на сборы, препроводили к Одеру и сдали на попечение сэру Амброзу. Из-за этого панически спешного отъезда и выражения лица Вилема — он как раз закреплял один из ящиков под крышей фургона — Эмилия подумала, что отряды наемных казаков все-таки догнали их. Однако позже обнаружилось, что они убегали вовсе не от казаков; скорее уж от королевы и ее двора. Поскольку лишь после того, как тьма начала рассеиваться и солнце тусклым ледяным отблеском озарило серый горизонт, она поняла, что нигде не видно королевской кареты, нагруженной множеством книг и шляпных коробок. Теперь они путешествовали втроем, если не считать полдюжины рабочих, уроженцев Силезии, которые не знали ни английского, ни немецкого языка.
Что же за дела тут творились? Глядя, как ящики уносят с пристани, она подумала, уж не украли ли их, попросту говоря, уж не был ли сэр Амброз всего лишь вором или пиратом. Во время кратких свиданий Вилем заверил ее, что ему мало известно о планах этого англичанина и он знает только, что они должны встретиться в Лондоне с человеком по имени Генри Монбоддо. Монбоддо был посредником при покупке разного рода произведений искусства, добавил он, торговцем картинами и книгами, снабжавшим состоятельных английских лордов ценными полотнами и редкими манускриптами, да и любыми другими очаровательными антикварными вещицами, которые он умудрялся выманить у принцев и монархов Франции, Италии или империи Габсбургов. Сэр Амброз уже не раз имел с ним дело, ведь Монбоддо также щедро оценил несколько необычных вещиц, попавших в коллекции императора Рудольфа. Сейчас, похоже, Монбоддо нашел очередного заказчика. Вилем понятия не имел, кого именно. Но в их второй вечер в Альштадте он признал то, что Эмилия уже подозревала. Их преследовали.
Вилем и Эмилия сидели вдвоем за столом в ее комнате при свете одинокой свечи, вставленной в ветвистый канделябр с восемью чашечками, перешептываясь над шахматной доской. Он опять затянул знакомую песню, утверждая, что не знает ни кто именно их преследователи, ни как им отвязаться от этих людей в черных с золотом камзолах. Также он не знал, состоят ли эти черно-золотые преследователи на службе у кардинала Барония, у императора или у какой-то совсем иной партии. Но он признался, что среди множества книг, увезенных им и сэром Амброзом из Праги в девяноста девяти деревянных ящиках, были и те, что находились в секретном архиве библиотеки, — то есть книги, запрещенные Святой палатой. Был ли виденный Эмилией манускрипт из их числа? Вилем говорил, что не знает. Но заметил, что кардиналам инквизиции совсем не понравится как то, что эти книги вышли на свободу из Пражского замка, так и то, что они отправились в еретическое королевство, в Англию. Ведь в этих книжных ящиках лежали такие будоражащие умы трактаты, как сочинение Коперника, которое Эмилия видела своими глазами в винном погребе Бреслау. Отдел папской курии внес в Индекс знаменитый труд, De revolutionibus orbium coelestium[41], пояснил он, после ареста Галилея инквизицией в 1616 году. Сочинения Галилея — как опубликованные, так и неопубликованные — тоже хранились в этом архиве. А Галилей, по мнению Рима, был самым опасным автором.
Но в этих девяноста девяти ящиках находилось и множество других важных документов. Тайное убежище, расположенное в Испанских залах, сильно разрослось за последние несколько лет, и не только благодаря рвению отдела папской курии, ответственного за Индекс. По словам Вилема, в этом архиве хранилось также множество пергаментов, в которых описывались разнообразные деяния этой величайшей на земле империи. Несколько лет назад Фердинанд, будучи эрцгерцогом Штирии, подписал некое соглашение со своим кузеном и зятем, королем Испании. Этот договор примирил две ветви династии Габсбургов — австрийскую и испанскую, — которые впредь намеревались объединенными усилиями подавлять любые происки протестантов. В те дни кровосмесительные королевские браки не были редкостью. Документы архивов Севильи могли попасть в Венскую императорскую библиотеку, и наоборот. Филипп даже послал в Вену экземпляр Padron Real, карты его владений в Новом Свете. Но положение Вены уже нельзя было назвать безопасным, поскольку ей угрожали Турция и Трансильвания. Именно поэтому в последующие несколько лет многие документы Императорской библиотеки перекочевали на более надежное хранение в Пражский замок, в секретный архив Испанских залов. А потом, конечно, все изменилось. Фердинанда лишили трона Богемии и заменили протестантом.
Эмилия закрыла глаза и почувствовала, что комната начинает кружиться. Король Испании? Жалобные стоны ветра в каминной трубе напоминали завывания волчьей стаи. Кардиналы инквизиции? Свеча оплывала на сквозняке, проливаясь восковыми сосульками. Какой же роковой ящик Пандоры открыли в Пражском замке? Не в первый уже раз у нее возникло ощущение, что сэр Амброз втянул их в опасное дело — более страшное, чем укусы мороза или ледяные заторы на Эльбе. Возможно, опасность исходила даже от самого англичанина и его стоило бояться так же, как тех таинственных преследователей.
Через пару минут сэр Амброз, предварительно постучав в дверь, быстрым шагом вошел в ее комнату. Вид у него был вполне бодрый. Вручив им обоим пропуска и справки о состоянии здоровья — выписанные на фальшивые имена, — он обратился к Вилему:
— К сожалению, должен сказать, что если полученные мною сведения верны, то вам может также понадобиться еще кое-что. — Он протянул Вилему мешочек из телячьей кожи. — На тот случай, если нас схватят, как вы понимаете. Мне сообщили, что они применяют очень неприятные методы убеждения.
— Убеждения? — Вилем взял протянутый мешочек и развязал его. Эмилия, поглядывая из угла, увидела, как Вилем высыпал на ладонь три или четыре маленьких семечка.
— Strychnos nux vomitica[42], — пояснил сэр Амброз. — Семена одного индийского дерева. Полагаю, завезены в Европу иезуитами. Действуют, очевидно, безболезненно и почти мгновенно. Я проверил их действие на дроздах. — Он помолчал. — На мой взгляд, одной штучки будет достаточно для достижения нужной цели; а уж двух точно.
Вилем нахмурился:
— Но как же я смогу?..
— Что?
— Уговорить этих людей проглотить их?
Сэр Амброз озадаченно посмотрел на него и вдруг расхохотался.
— Дорогой мой! — воскликнул он. Вытирая носовым платком щеки и подавляя новые приступы смеха, он производил потрясающее впечатление. — Нет же, нет, дорогой мой. Они предназначаются для вас. Именно вы должны будете проглотить эти семена, если, по несчастью, им удастся схватить вас. О мой Бог!..
На следующий день вечером Эмилию тайно привезли на борт «Беллерофонта», в кромешной темноте провели сначала по укрепленному трапу, а затем помогли спуститься через люк в душный кубрик, на самом нижнем из жилых уровней корабля. Крошечная каюта — очередная тесная келья, в которую ее запихнули, — пропахла порохом, смолой и гнилой трюмной водой. Когда «Беллерофонт» отправился вниз по Эльбе, Эмилия, глядя в единственное в ее каюте оконце, видела, как река становится все пустынней и сердито морщится волнами у берегов. Но вот судно вышло в море, и через несколько лиг пути, когда на горизонте показались песчаные скалы острова Гельголанд, Эмилии уже было очень плохо и она едва ли не целыми днями лежала в своем гамаке, чувствуя, как «Беллерофонт» со скрипом поднимается и опускается на волнах безбрежного моря. Судовой врач навестил ее и дал настойку из имбиря и ромашки. Но она-то, разумеется, знала, что ее болезнь нельзя исцелить травами; это было нечто более серьезное и, кроме того, более чудесное, чем просто морская болезнь.
Глава 9
Рядом с монастырем братства крестоносцев на Харт-стрит в тени здания Военно-морского министерства и башни Тауэр-хилл расположилась церковь Святого Олава. Подойдя к ее открытым настежь дверям, я увидел освещенный свечами неф и толпу расходящихся прихожан. Закончилась вечерня. Я обошел группу людей, свернул за угол и медленно проковылял по извилистой дорожке к церковному кладбищу, чьи ворота венчала пара каменных черепов. Глазницы мрачно взирали на меня, когда я проходил по краю кладбищенского участка, надеясь, что выгляжу достаточно серьезным и почтительным, как того требовало это место, а не как злодей, решившийся на дурную проделку, — которым, судя по всему, я и являлся.
Вчера я нанес визит в Пултени-хаус, и сегодня, второй вечер подряд, Том Монк остался один в «Редкой Книге». Он начал подозревать меня, думаю, в некоем романтическом увлечении — забавное подозрение, хотя и спровоцированное букетиком цветов, который я сжимал в руке. Однако такой ритуал — цветы и кладбище — был вполне обычным. Каждое воскресенье в течение последних пяти лет я на цыпочках входил на кладбище, примыкавшее к церкви Святого Магнуса-мученика, прижимая цветы к груди и пробираясь мимо могил жертв чумы, чахотки и множества других несчастий к знакомой гранитной плите окруженной четырьмя крошечными ромбообразными надгробиями. И с легким уколом печали и вины я осознал, что не заходил на могилу Арабеллы уже довольно давно, со времени получения первого письма от Алетии и путешествия в Понтифик-Холл. Покрепче сжав букет, я неуверенно двинулся вперед.
Большую часть нынешнего дня я провел в Уайтхолле, в канцелярии казначейства, просматривая бесконечные расходные книги и отчеты о доходах от подушного налога. Я надеялся побольше узнать о Генри Монбоддо, прежде чем мне придется встретиться с ним лично. Кто предупрежден, тот вооружен, как любила говорить моя матушка. Я намеревался вернуться в Эльзас и порасспросить Самюэля Пикванса, но боялся, что это вызовет излишние подозрения у аукциониста. Ведь, возможно, они с Монбоддо в сговоре. И поэтому я удовольствовался посещением дворца, доехав до него на лодке вверх по течению по оживленной большим утренним движением реке.
Дворец Уайтхолл в те дни представлял собой беспорядочный лабиринт примерно из тридцати деревянных зданий с соломенными крышами, в коридорах и дворах которых толпились люди, а угольного дыма и крысиного помета было не меньше, чем в любом другом месте Лондона. Едва ли такое обиталище пристало королю, подумал я, или даже его любовницам. Пройдя через множество темных дворов и узких проходов, я оказался возле ряда неприметных просмоленных домов, отведенных для учета и хранения королевской казны. Из справок об уплате подушного налога, в которых указывался род занятий, я надеялся узнать что-нибудь о сделках, заключенных Монбоддо, а из книг местных сборов — имел ли он какую-то собственность помимо Уэмбиш-парка. Думаю, я уже тогда если и не вовсе потерял доверие к Алетии, то, по крайней мере, относился с изрядной долей скептицизма ко всем ее утверждениям. Но это был здоровый скептицизм, уверял я себя. Вера, в сущности, мать обмана. И поэтому мне хотелось отыскать какие-нибудь непредвзятые сведения о деятельности Генри Монбоддо.
Мои поиски оказались долгими и трудными. Мне пришлось просмотреть все книги до 1651 года, прежде чем я нашел хоть какое-то упоминание о Монбоддо, потому что, по моим предположениям, он, как и Алетия, провел последние девять лет в изгнании. Обнаруженные записи полностью соответствовали тому, что рассказала Алетия. Генри Монбоддо, упомянутый как торговец прекрасными книгами и картинами, служил хранителем королевской библиотеки Сент-Джеймсского дворца в течение пяти лет во время царствования Карла I. Однако не было никаких зацепок, указывающих на личность его заказчика, желавшего заполучить «Лабиринт мира». В местных расходных книгах приводились его адреса: Уэмбиш-парк, а также дом в Ковент-гардене — как оказалось, некий заброшенный особняк, который я посетил двумя часами позже. В книгах также упоминалась некая контора в Чипсайде, перешедшая, как я выяснил, во владение серебряных дел мастера, который заявил, что никогда не слышал о человеке по имени Генри Монбоддо.
Перед уходом из Уайтхолла мне взбрело в голову также просмотреть записи, связанные с сэром Ричардом Оверстритом. Он не возвысился в моих глазах, когда я узнал, что он числился законоведом. Но не все же юристы обязательно подлецы, сказал я себе, а сэр Ричард, как оказалось, сделал блестящую и прибыльную карьеру до того, как вынужден был уехать в изгнание в 1651 году. В частном порядке он занимался операциями по передаче недвижимости, а в 1644 году получил должность генерального стряпчего. Позднее он состоял при Морском министерстве и Министерстве иностранных дел, причем, служа по дипломатической части, он был чрезвычайным послом в Мадриде. Он даже входил в состав одного королевского посольства, отправленного в Рим.
Корпя над этими сморщенными документами, я вдруг подумал, не был ли сэр Ричард, как многие из наших мелкопоместных дворян, тайным католиком, а может быть, даже шпионом на службе у Папы или испанцев. Это была дикая мысль, хотя я знал, что в 1645 году в Рим отправилось тайное посольство с целью заключения договора о военной поддержке против Кромвеля в обмен на обращение короля Карла и его советников в римско-католическую веру. Правда, у меня не было никаких сведений относительно того, было ли путешествие сэра Ричарда в Рим связано именно с этой миссией. Да и то немногое, что мне удалось отыскать о Генри Монбоддо, никак не проливало свет на его характер, мотивы действий и даже на религиозные пристрастия. В итоге, поблагодарив клерка за помощь, я отправился в обратный путь по этому обветшалому дворцу к ведущей на пристань лестнице.
Проходя по дорожке церковного кладбища, я увидел среди надгробных плит мужчину и женщину в трауре, стоящих по разные стороны одной из могил. Лицо женщины скрывала вуаль, а голову мужчины покрывала широкополая шляпа. Я прошел мимо прилавка с траурными ветками тиса к первому ряду памятников, чувствуя, что выгляжу подозрительно, да и глуповато, внимательно изучая надписи на могилах. Больше сотни надгробных досок лежали на земляных холмиках под разными углами, отбрасывая длинные полосатые тени на свежескошенную траву, в их неровных рядах тут и там имелись бреши, словно в этих местах не проросли посаженные по весне семена.
Могилу Сайласа Кобба я нашел в центре кладбища, наполовину скрытую под ветвями тиса, который отгораживал ее, по крайней мере частично, от остальных могил: гранитная плита, увенчанная черепом с темными провалами глазниц. К тому времени, когда я нашел ее, один из скорбящих уже ушел, но другой, я чувствовал, следил за мной, слегка повернувшись и наблюдая за моими неловкими передвижениями. Я решил, что, когда он уйдет, мне стоит осмотреть тот памятник, перед которым он стоял. Затем я глубоко вздохнул и нащупал в кармане ключ. И одновременно перечитал надпись:
Здесь покоится
Сайлас Кобб
1585–1620
Soli Deo laus et gloria in saecula [43]
На надгробной плите лежал букетик гиацинтов с ромашками. Это удивило меня. Неужели даже спустя сорок лет кто-то еще печалится о господине Коббе? Его престарелая вдова разве что? Трезво рассудив, что через сорок лет после моей смерти на мою могилу никто не положит цветы — даже через сорок дней после нее, уж если на то пошло, — я с еще большим удивлением разглядывал саму плиту. Остальные мемориальные доски в этом ряду также были установлены в 1620 году, но черепа на них покрылись моховыми париками и надписи частично истерлись, а вот плита Сайласа Кобба выглядела совсем новой. Этот гранит явно не мог пролежать здесь сорок лет.
Мягкие тисовые иглы причесали мои волосы, когда я преклонил колена около этого надгробия и положил принесенный букет на плиту. Сама плита отчасти заросла крапивой, которую я удалил концом палки, прежде чем скользнуть под надгробие пальцами. Почва под ним была темной и теплой и пахла сгнившими клубнями. В образовавшейся после изъятия нескольких пригоршней земли полости пряталась шкатулка. Я почувствовал себя ребенком, выкапывающим игрушечные сокровища, спрятанные прошлой осенью. Вставил ключ в замочную скважину — и замок вдруг открылся с поразительно громким щелчком. Затаив дыхание, я оглянулся через плечо и обозрел кладбище сквозь дрожащие на ветру ветки тиса. Второй плакальщик исчез.
В шкатулке не было никаких сообщений от Алетии, поэтому я просто вложил туда листок бумаги, где подтверждалось мое намерение съездить в Уэмбиш-парк по ее поручению, как мы и договорились. Затем я запер шкатулку, поставил ее обратно, плавно подвинул ромб на место и поплелся к выходу вдоль рядов побитых ветрами и дождями гранитных плит. Меня удивляло, почему Алетия, одержимая секретностью, не настояла на использовании какого-нибудь шифра или симпатических чернил.
Окна в церкви были уже темными, а на Харт-стрит в это время я не встретил ни одного экипажа. Я двигался в обратную сторону, наискосок пересекая церковный двор на юго-запад — к Ситинг-лейн, которая также выглядела пустынной. Уж если я ненавидел дневные прогулки среди толчеи и вони, то что говорить о вечернем Лондоне. У меня возникло неприятное ощущение на спине между лопатками, словно там пристроилась какая-то огромная птица и медленно хрупает своим клювом, помахивая темными крыльями. Было нечто зловещее и опасное в стоявших на Ситинг-лейн домах, казалось, они что-то замышляют, притаившись в сумраке за воротами. Рядом с ними маячила темная громадина Морского ведомства.
Я остановился возле одной из могил и повнимательнее взглянул на это огромное здание, что возвышалось над изгородью тисовых деревьев. Вспомнив о патенте, выданном сэру Амброзу для снаряжения экспедиции в Ориноко, а также о клочке паруса из «Золотого рога» — якобы главном топселе «Бритомарта», я подумал, не зайти ли мне как-нибудь сюда, чтобы навести кое-какие справки. Возможно, у них сохранился судовой журнал «Филипа Сидни», а может, в этом министерстве есть кто-нибудь, кто сможет рассказать мне о его участии в экспедиции сэра Уолтера Рэли к берегам Гвианы. Я вяло размышлял: а нет ли какой-либо связи, ну хоть самой незначительной, между экспедицией Рэли и «Лабиринтом мира». В конце концов, Алетия говорила, что Монбоддо был посредником герцога Бекингема в приобретении произведений искусства, а я знал, что Бекингем, будучи лордом-адмиралом, поддерживал Рэли в его намерении отправиться в Гвиану. Мне также вспомнилось, что пропавшие из Понтифик-Холла книги — одна из которых, написанная самим Рэли, называлась «Открытие обширной, богатой и прекрасной Гвианской империи…» — все так или иначе имели отношение к исследованию Испанской Америки. Или же я просто хватался за любую соломинку?
Разумеется, я давно знал о злополучной экспедиции Рэли. Еще будучи учеником в магазине господина Смоллпэйса, я проглатывал описания путешествий Рэли и Дрейка так, словно это были приключенческие романы. И у меня по-прежнему хранилось много книг об Оринокской экспедиции Рэли, включая рассказы очевидцев, написанные людьми, которые служили на «Дестини» [44] или на других судах этой экспедиционной флотилии. Вернувшись из Понтифик-Холла, я сразу же просмотрел их, но не нашел ни единого упоминания ни о «Филипе Сидни», ни о сэре Амброзе Плессингтоне.
Но какая же потрясающая история получилась из путешествия сэра Рэли! Отважный мореплаватель проводит тринадцать лет в тюрьме из-за участия в заговоре против хитрого старого короля, который затем освобождает его с условием, что Рэли пополнит вечно тощую королевскую казну, отыскав мифическое золотое месторождение за океаном, за тысячи миль от Англии, в глубине почти неизведанной земли, заполненной вражескими солдатами. Эта история достойна высокого слога Гомера или пера Шекспира: опальный герой, коварный король, жуликоватые советники, невыполнимое задание, трагическая смерть — все смешалось в ледяном мире вероломства и алчности. Мне часто думалось, что Рэли — своего рода новое воплощение Ясона, ведь его тоже узурпатор Пелий послал добыть золотое руно, или Беллерофонта, когда он отправляется в Ликию сразиться с огнедышащей Химерой, разгневав коварного Протея, — Беллерофонта, который, как и Рэли с его роковым заданием, несет приказ, требующий его собственной гибели. Кто же после этого скажет, что мы живем не в героическую эпоху?
Основные события печальной истории Рэли известны достаточно хорошо. Он вышел из Лондона со своей флотилией в апреле 1617 года, оставив позади вздорные политические разногласия и могущественных врагов. Его проект поддержал новый фаворит короля Якова, сэр Джордж Вильерс, ставший позже герцогом Бекингемом, а также антииспанская придворная группировка, так называемая «партия войны», возглавляемая графом Пемброком и архиепископом Кентерберийским. Пемброк и архиепископ выдвинули молодого Вильерса, чтобы свалить королевского фаворита Сомерсета и подорвать позиции поддерживающей его происпанской фракции. Однако даже льстивым речам Вильерса не удалось склонить короля отказаться от его происпанской политики. Поэтому хотя сэру Рэли и приказали отыскать золотые прииски, но в его патенте также оговаривалось, что он не должен атаковать испанские корабли или поселения. В случае нарушения последних условий испанский посол в Лондоне, граф Гондомар, самый могущественный из его врагов, вправе был, как оговаривается в патенте, потребовать его смерти.
А плавание, конечно же, с самого начала пошло наперекосяк. Через два дня пути, когда на горизонте еще виднелся мыс Лендс-Энд, шторм потопил один из четырнадцати кораблей вместе с шестьюдесятью людьми его экипажа. Когда, спустя восемь месяцев, пережив штормы и цингу, флотилия достигла устья Ориноко, сам Рэли заболел так серьезно, что не в силах был продолжать экспедицию и остался вместе с «Дестини» в Тринидаде. Потом наступил сезон засухи, время, когда уровень Ориноко падает и навигация становится еще более опасной, чем обычно. Но сэр Рэли не мог больше ждать, и пять кораблей были выбраны для подъема вверх по реке. Предполагалось, что месторождения находятся в сотнях миль от берега, близ призрачного Эльдорадо, «Золотого города», расположенного, судя по слухам, на острове посреди некоего озера. Легенды об этом городе и его сказочных богатствах пересказывали все испанские хроники, и в течение семидесяти лет конкистадоры, странствующие рыцари джунглей, бороздили в поисках этого призрака воды Ориноко и ее притоков. Но ни Эльдорадо, ни его золотых месторождений никто так и не увидел, за исключением якобы одного человека по имени Хаун Мартин де Альбуяр, сбежавшего из экспедиции Маравера де Сильва в 1566 году, экспедиции, о которой — не странно ли? — не осталось никаких свидетельств.
И людям Рэли не удалось найти эти месторождения. Вместо этого флотилия случайно наткнулась на Сан-Томас, захудалое поселение с испанским гарнизоном, экипированным парой ржавых пушек, состоявшее из глинобитной церкви и сотни бамбуковых лачуг, притулившихся на берегу Ориноко. Тут-то и начались настоящие несчастья. Завязалась перестрелка, погибли люди, поиски Эльдорадо пришлось прервать, и в итоге флотилия оказалась в так называемой «змеиной пасти», проливе Бока-де-ла-Сьерпе, и мгновенно рассеялась, словно ее и не было. Рэли и его команда с позором вернулись домой. Рэли прикинулся больным, потом сумасшедшим, потом попытался сбежать во Францию. Но его схватили и бросили обратно в уже знакомую ему камеру в башне Блади-тауэр. [45] Расследованием гибели этой экспедиции занялся сэр Фрэнсис Бэкон. А в октябре 1618-го по приказу Гондомара Рэли обезглавили. Официальной причиной была измена королю Иакову.
Но я не понимал, как вписывается в этот трагический сюжет сэр Амброз Плессингтон. Неужели «Филип Сидни» был одним из погибших кораблей флотилии Рэли? Если так, то какие связи существовали между «Лабиринтом мира», Генри Монбоддо и тем давним путешествием в дебри Гвианы?
Прищурившись, я взглянул на здание министерства и вдруг засомневался, что там мне удастся найти ответ. Затем я развернулся и направился к тому месту, где стоял второй плакальщик. Там под раскидистым шатром кипариса, протянувшего ветви над Ситинг-лейн, расположилось надгробие с маленькой гранитной колонной. Я рассчитывал увидеть свежий холмик земли, усыпанный букетами цветов, но обнаружил неухоженную могилу с треснувшей плитой и совсем неразборчивой надписью. Кипарисовый корень, взломав землю, прорвался наружу и выглядел жутко, будто согнутая в колене нога. Я осторожно склонился вперед и прищурился. Надгробие было поставлено в память младенца по фамилии Сметуик — первое имя совсем неразборчиво, — который умер в третьей четверти прошлого века. С трудом верилось в то, что кто-то еще горевал по этому ребенку, поэтому я решил, что неверно запомнил, где именно этот человек стоял. И безусловно, ошибся, решив, что он обратил на меня какое-то особенное внимание. Да и потом, разве не выглядит подозрительным тип, заявившийся, как я, в сумерках на кладбище и шастающий по нему, точно кладбищенский вор? В те дни на кладбищах происходило множество ужасных вещей. Вероятно, он принял меня за похитителя трупов: такие грабители раскапывали свежие могилы, чтобы продать трупы ученикам цирюльников, которые занимаются лечением и удалением зубов, или студентам-медикам. По крайней мере, так я подбадривал себя, стараясь успокоиться, когда пробирался обратно к тем мрачным надвратным черепам, борясь с желанием броситься наутек и чувствуя, как когтистые лапы страха все глубже погружаются в дрожащую плоть моей спины.
Домой я возвращался пешком. Позже я буду размышлять, что могло бы случиться, если бы я нанял экипаж и вернулся к «Редкой Книге» пятью минутами раньше. Но никаких экипажей поблизости не оказалось, и я побрел в направлении дома, добравшись до моста минут на двадцать позже. Все казалось обычным, когда я приблизился к «Редкой Книге», но от уже закрытой аптекарской лавки я заметил, что бледный и потрясенный Монк, пошатываясь, идет мне навстречу прямо по проезжей части дороги. Видневшаяся за ним зеленая дверь «Редкой Книги» была полуоткрыта и кособоко висела на одной петле.
— Господин Инчболд!..
Множество зевак столпилось перед входом в магазин, словно перед уличным балаганом, не зная, продолжить прогулку или постоять и поглазеть да приглушенно поделиться своими мнениями, как это обычно бывает, когда ломовая лошадь случайно лягнет ребенка или упадет замертво на улице. Монк уже добрел до меня и, схватив за рукав, начал бормотать что-то невразумительное.
Я прошел мимо него и дернул за дверную ручку. Дверь пошатнулась и еще больше скособочилась, жалобно скрипнув петлями. А именно — верхними петлями, поскольку нижние были сорваны и висели на треснувшей дверной раме. Все это грозило развалиться от одного прикосновения. Но я осторожно расширил проход еще на несколько дюймов — настолько, чтобы пролезть внутрь. И у меня перехватило дыхание от страха и гнева.
Я слегка поскользнулся на чем-то, а когда глаза привыкли к полумраку, увидел, что мои книги — похоже, все до единой — сброшены с полок и раскиданы по всей комнате. Сотни томов беспорядочно теснились на полу, словно в ожидании костра: переплеты оборваны, обложки неуклюже раскорячились или распахнулись как крылья, выставляя напоказ вислоухие страницы, шелестевшие на легком ветерке, проникавшем в сломанную дверь. В помещении стоял запах пыли, кожи, затхлости — запах старых, потертых книг, чей знакомый приятный дух как-то даже усилился, словно успел хорошо настояться, как лекарственный отвар: всепроникающее, но незримое облако, взметнувшееся, как пушечный дым, над этими изящными руинами.
Выпрямившись, я начал осторожно пробираться через книжный развал к прилавку и спотыкаясь обошел вокруг, тщетно пытаясь оценить размеры погрома и даже не пытаясь понять его цель. Я опустился на колени посреди моего магазина, лишь смутно осознавая, что за моей спиной возник Монк. Мое драгоценное убежище, тихая гавань, спасающая меня от суматохи внешнего мира, — все разрушено, все испорчено. Моя грудь начала вздыматься, как в детстве, от приближающихся рыданий. Я помню пару рук на моих плечах, но не знаю, кому они принадлежали и что случилось потом.
По правде говоря, я мало что помню из событий последующих нескольких часов; это было похоже на плавание в подводном тумане: мы с Монком дрейфовали по магазину, обреченно обозревая ущерб, поднимая с пола книги и сортируя их, оплакивая повреждения одного тома или, реже, сдержанно радуясь неожиданной сохранности другого. Мои ореховые полки, как я обнаружил, также были сломаны — сорваны и брошены на пол, где и валялись беспорядочной грудой, изломанные, как корабельные снасти после бури. Позже я предположил, что для проведения такого погрома, должно быть, понадобилось целое войско, но Монк сказал мне, что здесь орудовали всего лишь три человека, причем управились они, судя по всему, за какие-то пять минут. Они уже успели удрать, когда он, услышав шум, спустился по винтовой лестнице и заглянул в магазин. Они явно что-то искали, добавил он, поскольку хватали с полки каждую книгу, в страшной спешке пролистывали ее и, отбросив в сторону, брались за следующую. Но время от времени один из них, просунув руку к стене, смахивал все книги с полки на пол или же срывал саму полку с кронштейнов, даже не озаботившись взглянуть ни на одну из сброшенных книг.
— Да уж, напугали меня основательно, — закончил он, испуганно сверкнув глазами от этих воспоминаний. — Хотя я не хотел говорить вам об этом.
— Как ты думаешь, кто они были, Монк? Это были сыщики?
— Какие еще сыщики, сэр?
Время близилось к полуночи. Мы сидели за прилавком на наших обычных местах, мастер и ученик, словно эти привычные позы как-то могли восстановить катастрофически утраченное равновесие. Много полуразорванных книг еще валялось на полу, но нам удалось приладить на места несколько полок и расставить на них те немногие книги, которые не требовали ремонта.
— Ну, сыщики, служащие в министерстве, — настаивал я. — Припомни.
Взгляд Монка стал еще тревожнее. Он немного знал этих прислужников закона, ведь два года назад Джон Терлоу, заняв пост министра, отправил их с досмотром в Малую Британию и на Лондонский мост. Они нанесли нам визит всего через пару дней после того, как некая беременная женщина появилась у нас в «Редкой Книге», сказав, что с трудом добралась сюда на барке из Оксфорда. Испуганно и недоверчиво Монк наблюдал, как она произвела на свет тройню, — на прилавке появились три экземпляра трактата Сексби «Умерщвление не есть убийство» — призыв к устранению Кромвеля. Спустя два дня вечером наша дверь сотряслась под тяжелыми ударами этих министерских досмотрщиков. Бедного Монка подняли с постели и, сунув ему в лицо фонарь, громогласно потребовали, чтобы он назвал свое имя. Он не забыл этот эпизод.
— Нет… Не досмотрщики, — ответил он. — Иностранцы.
— Иностранцы?
— Да. Французы. А может, и турки. Такие смуглолицые, хозяин. Очень похожи на пиратов, а одеты во все черное. У одного из них была золотая серьга. У другого — нож, — сдержанно добавил он.
— Они что-нибудь сказали?
— Ни слова.
— А что унесли с собой? Какие-то книги?
— Не знаю, хозяин. — Он отрицательно покачал головой. — По крайней мере, я не видел.
— Вот как. И правда, ничего, кажется, не пропало, так ведь? — Он вновь мотнул головой. Пока мы вроде бы не заметили никаких пропаж, хотя завтра надо будет все перепроверить по каталогу. — В какую сторону они ушли?
— К Саутворку. Я бросился за ними, но они оказались проворнее меня. — Он опустил глаза на прилавок. Его руки нервно подергивались на коленях.
— Понятно. Спасибо тебе, Монк, — сказал я. — Ты все сделал правильно.
Откинувшись на спинку стула, я закрыл глаза и попытался обдумать ситуацию. На мгновение я почти убедил себя, что этот погром не имеет ничего общего с тем, что происходило со мной в последние дни. А может, это были и сыщики. Может, новый министр нанял французов для выполнения грязной работы. Но что же они могли искать? Не задумал ли новый король изводить книготорговцев почище Кромвеля? Я решил, что завтра надо будет поспрашивать нашу братию в Малой Британии и Патерностер-роу. Может, еще кому-то нанесли подобные визиты.
Открыв глаза, я заметил, что Монк внимательно наблюдает за мной. Я постарался ободряюще улыбнуться.
— Да-да, ты действовал хорошо, — повторил я. — Просто отлично. Но, к сожалению, наша работа на сегодня еще не закончена.
— Да?
Я кивнул в сторону скособочившейся на петлях двери. Через проем было видно проезжую часть дороги. Каждые несколько минут к нам с любопытством заглядывали прохожие и тут же спешно ретировались.
— Завтра я позову к нам плотника и слесаря, — сказал я. — Но сегодня…
Заглянув под прилавок, я вытащил пистолет. Увидев его, Монк удивленно вытаращил глаза. Это было отвратительное на вид оружие, тяжелое и нескладное; я купил его по случаю много лет назад у одного слепого, одноногого ветерана Гражданской войны, которому пришлось просить милостыню около моего магазина. Я понятия не имел, работает ли эта кремневая хлопушка и тем более сколько пороха нужно в нее насыпать. Старик-ветеран пытался тогда научить меня, но я и не предполагал, что мне придется когда-нибудь задействовать эту штуковину, а купил ее, просто чтобы облегчить его нищенское положение.
— Сегодня ночью нам придется по очереди охранять магазин, — сказал я Монку. — Просто на случай того, если у кого-нибудь возникнет искушение попользоваться нашим товаром. — Я положил это грозное устройство на прилавок между нами. — Или на тот случай, если наши друзья пожелают вернуться.
От такой неприятной перспективы глаза Монка еще больше округлились, поэтому я попытался снова подбадривающе улыбнуться — но вышла только вымученная гримаса.
— Отправляйся спать, — мягко сказал я ему. — Я разбужу тебя в два часа.
Но в результате я сам просидел всю ночь. Задавшись целью починить переплеты нескольких книг, я, однако, через каждые десять минут вылезал из-за сшивального станка и, подкравшись к двери, выглядывал на улицу, чтобы убедиться в полнейшем спокойствии, напрягал слух, стараясь уловить звуки крадущихся или затихающих вдали шагов. Но там не было никого, за исключением ночного сторожа, старика-подагрика, который едва ли являлся надежной охраной. К тому же я заметил, что он полуслеп. Один его глаз был затянут пленкой, как у мертвой рыбы, а другой он строго вытаращил на меня и посоветовал отремонтировать дверь, дабы не подвергать излишнему искушению бедные грешные души. С тем он и поплелся дальше, помахивая своим фонарем.
Только когда восток озарился рассветными лучами, я покинул сшивальный станок и разбудил Монка. Еле дотащившись наверх до своей кровати, я наконец позволил себе подумать о тех трех одетых в черное фанатиках, которые убили в Париже лорда Марчмонта. Неужели это были те же люди? Вполне возможно… однако какой в этом смысл? Если убийцы были агентами Генри Монбоддо, как подозревала Алетия, и если Монбоддо теперь завладел рукописью, как я обнаружил, то что они могли искать на моих полках? Может, они состояли на службе у кого-то другого, может даже у самого кардинала Мазарини. Я забрался в кровать и попытался уснуть. Есть еще много вещей, сказал я себе, которые мне хотелось бы узнать.
Усталый, но растревоженный, я пролежал без сна на боку несколько часов, глядя в стену, прислушиваясь к шебуршанию точильщиков, грызущих ее изнутри. Внезапно этот привычный звук показался угрожающим и зловещим, словно бы насекомые пожирали балки и опоры той благопристойной жизни, которую я для себя построил. Казалось, моя «Редкая Книга» вот-вот рухнет и я полечу вверх тормашками в реку, которая бурлит шестью футами ниже, под Лондонским мостом.
Глава 10
Выйдя из пресноводной Эльбы у Куксхафена, «Беллерофонт» взял курс на восток — мимо Фризских островов, мимо заснеженных солончаков и дамб, мимо песчаных отмелей и молов, выступающих из седых морских вод, точно ребра. Почти целые сутки судно держалось мелкой воды, десяти фатомов под килем, пока наконец на рассвете следующего дня не удалилось от побережья Голландии, прибавило парусов, поймало ветер и, взяв курс на юго-запад, развернулось носом к Англии. Часа через два капитан Квилтер, стоя на своем мостике, уже видел ее берега в подзорную трубу. Все шло по плану. Он опустил трубу и сунул ее обратно в карман штормовки. Через восемь часов, если все пойдет хорошо, они прибудут в Нор и, бросив якорь, отправятся в «Альбатрос».
Но с того мгновения больше ничего не шло хорошо. Позже, осознав, в чем корень всех несчастий, капитан Квилтер проклянет не только свою собственную алчность — желание разбогатеть еще на пару тысяч рейхсталеров, — но пуще того невежество своей команды. Это невежество не касалось их морской выучки — он нанимал лишь опытных и умелых людей, — но то было дремучее невежество, питающее наихудшие суеверия в людях, предоставивших себя на волю суровой стихии. Да, моряки жутко суеверный народ, нельзя было не учитывать этого факта. Квилтер видел их странные ритуалы в «Золотой грозди»: они покупали у старой карги, постоянно снующей в портовых тавернах, ужасные амулеты на счастье — сорочки новорожденных. Эти люди верили с какой-то чудной и недостойной верой, что эта высушенная плева (на самом деле, как подозревал Квилтер, это был мочевой пузырь свиньи) спасет их от смерти в водах морских. А однажды, когда «Беллерофонт» попал в полный штиль в Двинской губе, он заметил собравшуюся украдкой компанию, которая бормотала какие-то заговоры, а потом размахивала метлой над полуютом, словно именно такое помахивание, а не (как известно любому образованному человеку) движение звезд в небесах, или вращение Земли, или сближение планет, или затмение, или восход Ориона и Арктура, или полдюжины других небесных явлений, которые находятся вне досягаемости для усилий слабого человека с метлой, могут заставить измениться такую могучую и непредсказуемую стихию, как ветер!
Так же, разумеется, было и с колокольным звоном. Далекий, почти призрачный перезвон, который слышали на верхней палубе, когда «Беллерофонт» выходили из Куксхафена, — якобы верный знак того, что корабль и его команда попадут в беду, ибо нет более ужасного предзнаменования для моряка, чем звон церковных колоколов в море. В тот же день корабельный врач вылез из кубрика и доложил, что три матроса слегли с лихорадкой. Через два поворота песочных часов доложили, что заболела еще группа матросов, но к тому времени капитана Квилтера уже тревожили более серьезные опасности.
Что, размышлял он позднее, вызвало на сей раз ветер и в итоге сдернуло колдунчик с линя на палубу, когда солнце уже взошло в конце утренней вахты? Никто, однако, не обратил на это внимания, поскольку небо было ясным и чистым, ветер устойчивым, и большая часть команды — та, что не заболела, — сидела на тросовых талрепах в нижних кают-компаниях и усердно резалась в карты. Но постепенно на восточный горизонт навалился штормовой фронт, словно тень приближающегося исполина, и начал свое неумолимое и иссиня-черное наступление по небу. Палубные бимсы громко заскрипели, и вода заливалась через бортовые отверстия. И вот первая пенная волна перевалилась через нос на палубу, сопровождаемая обжигающими каплями дождя. Через пару секунд трапы и палубы огласились топотом бегущей по своим местам команды. Гардемарины уже стояли на коленях на шкафуте, силясь открыть шпигаты, а следующие, успевшие выбраться из люков, уже карабкались вверх по раскачивающимся выбленкам. Пока они спешно пытались совладать с парусными рифами — Пинчбек снизу орал им приказы, — первые оленьи рога молнии прокололи небо.
Удача, спасшая эту команду от Сциллы Двины и Харибды Белого моря, казалось, теперь покинула ее. Накричавшийся до хрипоты Пинчбек обеими руками вцепился в грот-мачту, но огромная волна, обрушившаяся на среднюю часть судна, отшвырнула его к борту, как пьяного забияку. Он поднялся — и тут же вновь его сбило с ног, когда корма резко пошла вниз, а на палубу полуюта хлынула ледяная вода. Людей понесло на корму со шкафута, сбивая их с ног, точно кегли. Затем нырнул нос, бушприт врезался в воду, и люди покатились в обратном направлении. Обычные действия сменились паникой, когда вдогонку мечущимся по палубе людям полетел сразу десяток отчаянных приказов. «Право руля!» «Отставить!» «Лево руля, круто к ветру!» Трое матросов бросились к румпелю, который крутился и вырывался из рук, как дикая лошадь, штуртрос обжигал руки и даже сломал одному из них запястье. «Круто в подветренную сторону!» «Так держать!» И напоследок, когда один из верхолазов, раскинув руки, пролетел вниз и его крик затерялся в порывах штормового ветра, — «Человек за бортом!».
Со стихией не поспоришь, оставалось только убрать все паруса и молиться. Стоя на ходящем ходуном юте с подветренной стороны, капитан Квилтер в беспомощном гневе наблюдал, как стремительно разворачивается, словно свиток, небо над головами старающихся изо всех сил верхолазов, над верхушками корабельных мачт, как уплотняющаяся стена дождя почти стирает их очертания. Он рассматривал этот шторм как личное оскорбление, такое же наглое и приводящее в ярость, как атака пиратского корабля испанцев. И ведь не было никаких предупреждений: ни тройного кольца вокруг луны сегодня на восходе, ни гало вокруг Венеры на вчерашнем закате, и даже буревестники не кружили над кораблем, как положено за полчаса до шторма, — ни одной из тех примет, по которым, исходя из большого опыта Квилтера, обычно предсказывали зловещие перемены погоды. Стихия играла не по правилам.
И вот, поскользнувшись на залитой водой палубе, капитан грохнулся на спину, и вдобавок бесхозное ведро больно ударило его по лодыжке. Он поднялся на ноги и, в очередной раз выругавшись, отправил ведро за борт. Потом отбросил в сторону мокрую карту, залепившую ему лицо. Она выпорхнула за борт, как безумная чайка, и сквозь пелену дождя капитан вдруг увидел маячивший с подветренной стороны берег — сейчас скорее опасный, чем спасительный. Выжить во льдах Архангельска и Хаммерфеста, мрачно подумал он, только чтобы разбиться вдребезги у своих родных берегов!
Но оказалось, что не только «Беллерофонту» и его команде угрожает опасность крушения. В двух полетах стрелы от их правого борта по волнам швыряло другой корабль, на грот-стеньге которого горело два сигнальных огня, сообщающих о бедственном положении. Минутой позже на втором корабле раздался пушечный выстрел, мелькнула вспышка пламени — и клубы дыма, едва различимого из-за дождя и ветра. Показались бушприт и фок-мачта, и минуту спустя Квилтер видел, как в нее ударила молния и два сидевших на мачте матроса полетели в море. Постаравшись как можно лучше закрепиться на палубе, Квилтер поднял подзорную трубу и наконец смог разглядеть название второго торгового корабля, идущего из Гамбурга в Лондон, — «Звезда Любека». Ее балласт, похоже, переместился или же она зачерпнула воды — тонны воды, — поскольку очень сильно накренилась, ее мачты только что не ложились на вздымающиеся волны. Квилтеру оставалось надеяться, что эта «Звезда» будет держать приличную дистанцию и не подойдет ближе к «Беллерофонту», чтобы потянуть его за собой на дно…
За следующие два часа «Звезда Любека», однако, скорее удалилась, чем приблизилась. И лишь когда шторм слегка поутих — а своенравное солнце тотчас прострелило столбами света толщу разошедшихся облаков, — этот корабль вновь оказался в зоне видимости. К тому времени «Беллерофонт» шел по ветру со штормовыми парусами, сильно накренившись на правый борт. Квилтер понимал, что полученные ими повреждения были значительно хуже, чем в Белом море. Разорванные в клочья паруса, сломанный румпель. Брам-стеньга бизани, косо лежавшая на полуюте, падая, пронзила двух палубных матросов, а третьему проломила череп. Кто знает, сколько еще человек оказалось за бортом. И хуже всего, что киль протащился по краю песчаной отмели и с оглушающим треском ударился о скалы. Вероятно, дно было пробито, и в эту самую минуту судно заполнялось водой, так что у команды оставалось совсем немного времени, чтобы заткнуть течь парусом или якорным ящиком. Необходимо что-то делать, понимал Квилтер, или остатки команды и судно тоже погибнут, превратившись в дрова и в корм для рыб прямо у берега, вздымавшегося теперь совсем близко.
Спустившись в ближайший люк, капитан прошел по главной и средней палубам; последняя была скользкой от запасов провианта, вывалившегося из бочек и кладовок, и накренилась под углом в сорок пять градусов, напоминая скат крыши, с которой хотелось бы не упасть. Вскоре в воздухе распространилось зловоние, и он запоздало понял, что по полу разлилось содержимое ночных горшков. А на батарейной палубе эта вонь стала еще сильнее.
— Пробоины, капитан.
К нему присоединился Пинчбек, который закрывал нос грязным платком. Они вдвоем осторожно продолжили путь по истерзанному кораблю. Через батарейные отверстия хлестала вода, разбросанные в беспорядке клинья и промокшие заряды уже погрузились в воду на полдюйма. Квилтер услышал, как кричат больные матросы в кубрике.
— Ужасная болтанка, надо думать, — добавил боцман приглушенным голосом.
— Какая разница, — отрывисто бросил Квилтер. — Пошли команду матросов вниз к насосам. И пусть захватят несколько запасных парусов. Да и якорный ящик, если смогут достать его. Если есть пробоина, то ее надо быстро залатать, иначе пойдем ко дну. — Боцман стрельнул в него тревожным взглядом. Квилтер раздраженно махнул рукой. — Давай действуй поживее! Да отсылай всех, кого еще встретишь, в трюм, — крикнул он вслед удаляющемуся Пинчбеку. — Нужно перераспределить груз!
Оставшись один, Квилтер спустился по следующему трапу. Помещение для помощников капитана и кают-компания были пусты, спутавшиеся гамаки вяло покачивались, свисая с балок. Вскоре он добрался до нижней палубы и с удивлением обнаружил, что там тоже пусто. Он рассчитывал найти здесь трех таинственных пассажиров — несомненно, перепуганных до смерти, — но их нигде не было видно. До сих пор они держались замкнуто; ни разу он не видел их на верхних палубах. Небось позеленели от страха, не без удовольствия думал он несколькими часами раньше. Но сейчас он обнаружил, что их каюты пусты.
Лишь достигнув ведущего в трюм трапа, Квилтер уловил первые признаки жизни. Вонь со дна стала еще сильнее; направляясь вниз, он почувствовал горечь во рту. Снизу доносились голоса. Похоже, там разгорелся какой-то спор. Капитан схватил один из масляных светильников, покачивающихся на палубном бимсе, и, нащупывая одной рукой путь, спустился по трапу.
Трюм пострадал больше всего. В дрожащем свете Квилтер увидел беспорядочно разбросанные шкуры, деннаж и ящики, часть которых была перевернута и отброшена к шпангоутам. Другие ящики просто развалились и скользили туда-сюда, повинуясь любому капризу качки. Стараясь расслышать голоса, доносившиеся из дальнего конца трюма, и не желая думать об ущербе, нанесенном его мехам, капитан сделал несколько неуверенных шагов вперед. Путь ему преградила пара ящиков, из которых вывалилось полдюжины книг.
Книги? Он отпихнул их, чтобы расчистить себе проход, затем поднял фонарь и устремился дальше, чувствуя, как вода забирается в его башмаки. Чего ради этой компании, «Крабтри и Крукис», понадобилось пересылать в Англию книги? И почему вокруг них такая секретность? Прежде ему уже приходилось несколько раз возить контрабанду, но книги еще никогда не путешествовали в его трюмах. В колеблющемся свете он пригляделся к разбросанным томам. Вода заметно повредила некоторые из них. Страницы пропитались влагой и набухли, напоминая складки плоеного воротника.
Квилтер поднял глаза. В конце трюма маячила, пожалуй, дюжина каких-то фигур, их тени дрожали и метались на обструганных досках.
— Эй вы! Что там у вас происходит?
Никто не обернулся. Он пробрался к ним через все препятствия. Опять книги. Ища, куда бы поставить ногу, он почувствовал неприятное напряжение в животе. Может, назревает какой-то мятеж? Если так, то Квилтеру уже не раз удавалось погасить тлеющие угольки мятежа на борту «Беллерофонта».
— Принимайтесь за работу, — проревел он застывшим в неподвижности теням. — У нас пробоина. Вы что, не слышите меня? Быстро перетаскивайте груз. И подключайте насосы. А ну-ка пошевеливайтесь! Пока мы не пошли на дно!
Опять никто не пошевелился. Затем он увидел меч, сверкнувший в свете фонаря, и услышал голос.
— Назад, вам сказано!
Только немного погодя Квилтер понял, что эта команда относится не к нему. С протестующим ропотом плотный ряд фигур переместился на несколько шагов назад. Квилтер стоял достаточно близко, чтобы увидеть их лица в неровном свете фонаря: три чужака, прижатых к стене, противостояли доброму десятку его матросов. Один из чужаков, тот, что повыше, угрожающе поднял кривой меч. Что за странные дела тут творятся? Ухватившись за край перегородки, капитан сделал еще шаг вперед, но вдруг отшатнулся, едва не задохнувшись. Что это, черт побери?..
Его нога замерла в воздухе. Внизу, высовываясь из развалившегося ящика, лежало нечто, напоминавшее огромную челюсть размером с целый арбалет и с дюжиной зубов, злобно оскалившихся в тусклом свете. Встревоженный Квилтер, смущенно моргая, опустил фонарь. Откуда, черт побери, здесь появилась эта штуковина? Он переступил через нее и тут же отпрянул снова — рядом с челюстью лежало нечто еще более ужасающее, труп двуглавого козла с четырьмя рогами. Эта тварь вывалилась из развалившегося на части сосуда, а вытекшая из него жидкость воняла хуже, чем трюмная вода. Да что это такое, ради всего святого?..
Вскоре появились и другие странные твари — жуткие монстры, которых память Квилтера, сама себе не веря, сможет воспроизвести только много позже, и они будут преследовать его в ночных кошмарах еще долгие годы. Он склонился к ящикам, из которых тут же вываливались эти чудища, свиваясь в кольца и вытягивая щупальца, разевая влажные и ужасно плотоядные пасти. Другие же являлись не в плотском обличье, а в виде резных фигур — причудливые и грозные твари с двумя головами и множеством извивающихся конечностей — или в виде картинок в огромной книге, чьи страницы перелистывались вперед и назад с каждой волной, ударяющей по кораблю. Проходя мимо этого распростертого фолианта, Квилтер мельком заметил рогатого демона размером с быка, насилующего своим огромным черным членом юную деву. А когда судно качнуло, появилось изображение ведьмы с усохшими грудями, вонзающей зубы в шею обнаженного юноши, распростертого рядом с ней. Объятый ужасом, Квилтер таращился на эту страницу, чувствуя, как у него на затылке под промокшей штормовкой начинают шевелиться волосы. Еще одна волна. И вновь появился демон.
Но значительно хуже всех этих видений было похожее на труп создание, которое лежало на спине в одной из ближайших к стене коробок, — этот образ будет преследовать капитана Квилтера во всех мучительных снах до самой могилы — человеческое существо с маской вместо лица, чьи окоченевшие конечности дергались и вскидывались, словно эта тварь пыталась встать из гроба. Даже глаза яростно вращались, как у куклы, а голова судорожно опускалась и поднималась, точно у любопытной птицы. Несколько гардемаринов оглядывались назад с выражением тупого изумления; один из них несколько раз перекрестился, тихо бормоча молитву. Квилтер не мог двинуться с места, прирос к шпангоуту, точно околдованный. Жуть какая-то, ведь это создание еще и ухмылялось, шевеля губами, словно пыталось что-то сказать, произнести какое-то страшное пророчество!
— О! Капитан! Вы наконец решили присоединиться к нам.
Этот голос вернул Квилтера к жизни. Он оторвал взгляд от этого безумно жестикулирующего создания и увидел поклон мужчины с мечом, концом которого тот, выпрямившись, начертал в воздухе несколько букв. Кольцо матросов робко расступилось.
— Не соблаговолите ли вы, капитан, отозвать своих людей? Пожалуйста! Иначе я буду вынужден перерезать им глотки.
— Черта с два, — усмехнулся один из матросов, Роули, бывалый портовый скандалист. Квилтер заметил, что он вооружился шилом из парусного рундука. Что произошло? Несколько других матросов также сжимали в руках импровизированное оружие — запальные железные пруты, серпантину и даже пару ручек от метел, — и все это они сейчас угрожающе подняли, словно вооруженные вилами разъяренные крестьяне, загнавшие в угол местного вампира. Роули сделал шаг вперед. — Разве мало людей ты уже поубивал?
— Уверяю вас, я не делал ничего подобного.
— Колдун! — пропищал чей-то голос из-за спин вооруженных матросов. Мальчик, подносчик пороха. — Убийца!
— Да, очень похоже на пьесу, — возразил чужак с добродушной усмешкой и рассек своим клинком зловонный воздух. — Но не кажется ли вам, что мы сможем сыграть ее позднее? В другом месте? Вы слышите, капитан? Наш корабль…
Роули не дал ему договорить и с резким криком рванулся вперед, выставив свое шило. Но именно в этот момент корабль резко накренился на правый борт, зачерпнув еще больше воды в свои трюмы. Команду отбросило на ящики, а невезучий задира, потеряв равновесие, упал на одно колено и беспомощно размахивал в воздухе шилом. Попытавшись подняться, он обнаружил острие клинка у своей ключицы.
— Ублюдок, — прошипел он, скрежеща зубами и оседая назад. Острие последовало за ним и, надавив чуть сильнее, прорезало кожу. Капля крови появилась и сбежала за воротник. — Дьявол! Убийца!
— Роули! — Квилтер уже с трудом протискивался вперед. — Ради бога, мы же получили пробоину. — Он попытался оттолкнуть своих матросов от стены, подальше от этой непонятной троицы. Что с ними со всеми случилось? Неужели они не слышат шума воды? Пробоина была всего в нескольких футах под ними, оттуда доносился приглушенный, как раскаты грома, гул быстро пробивающего себе дорогу моря. В любой момент эта вода может появиться в трюме — и тогда «Беллерофонт» пойдет ко дну, как камень. — Вы что, не слышите меня? Груз надо перенести к другому борту! Немедленно! Пока мы не затонули!
Вновь никто не сдвинулся с места. Тут корабль получил страшный удар и сильно наклонился на правый борт, когда его киль проехал по песчаной отмели. Матросы заскользили по загроможденной палубе и, словно любовники, упали в объятия друг друга. Квилтер тоже потерял равновесие и, не успев выпрямиться, почувствовал, как кто-то упал ему под ноги. Намереваясь оказать помощь, он обернулся, но увидел лишь, что на него таращится пара незрячих глаз ухмыляющейся маски. Эта тварь, покинув свой гроб, перекатывалась по полу. Он пнул ее ногой в живот — и ее судороги стали еще более неистовыми. Оглянувшись, он увидел, что еще кое-кто — Роули — тоже корчится, лежа на палубе.
Все произошло почти мгновенно. Чуть раньше Роули решил воспользоваться случаем и с криком рванулся вперед, нацелив шило в живот незнакомцу. Но его противник оказался слишком проворным. Два его спутника отскочили назад, а он сделал полшага в сторону и несколькими изящными движениями руки начертал очередной набор знаков своим мечом, на сей раз кровью на адамовом яблоке нападавшего. Роули закашлялся, точно подавился рыбьей костью, забрызгав камзол своего убийцы каплями крови. Затем, выронив шило, он рухнул на мокрые доски, где и лежал, подергиваясь, слабо хватаясь за горло и вращая тускнеющими глазами, точно как та отвратительная горгулья, что корчилась и дергалась всего лишь в нескольких футах от него.
Поднимаясь с пола, Квилтер заметил, что стоявший над Роули мужчина протирает клинок своего оружия и хмуро разглядывает капли крови на своем камзоле, словно не понимая, откуда они там взялись. Его спутники все еще прятались за его спиной, пока алая лужица крови расплывалась около головы Роули, вскоре окончательно затихшего.
— Итак? Какие еще возражения?
Группа моряков подалась назад. Мужчина аккуратно засунул свою саблю за пояс. Звук снизу стал напоминать рычание, словно в пробоину пытался забраться какой-то монстр с оскаленными клыками и пылающими глазами.
— Нет? Тогда я предлагаю, чтобы все мы помогли капитану.
Потрясенный Квилтер уже выпрямился, переводя недоумевающий взгляд с утопающего трупа на высившегося над ним человека. Впервые он на миг забыл о подступающей воде, о том, что меньше чем через четверть часа их корабль разнесет в щепки и все они утонут.
— Помогли?.. — выпалил он с напряженной яростью. — Какого дьявола вы вообще…
Но он не успел договорить, палуба в третий раз резко накренилась. Вяло взмахнув рукой, Роули перекатился к стене и шлепнулся на спину, словно его тоже оживила зловещая магия человека, который по-прежнему стоял рядом с ним, широко расставив ноги. Смущенные матросы спотыкаясь отступили еще на шаг. И тут первые струи воды зажурчали в трюме.
Квилтер уже в основном догадывался, из-за чего началась заваруха в трюме, но точно узнал обо всем лишь позже. Оказалось, что матросы, увидев странные книги и экспонаты — дьявольские реликвии, как назвал их мысленно Квилтер, — обвинили сэра Амброза Плессингтона (как позже представился воинственный колдун) не только в шторме, но также и во внезапных приступах лихорадки. Как же еще можно было объяснить эти трагические выверты фортуны, если не карой Всемогущего за перевозку дьявольских книг и чудовищ? И как же еще они могли отвратить несчастье и спасти корабль, если не вышвырнув эти греховные и отвратительные ящики за борт?
Сэр Амброз с данной постановкой вопроса согласиться не мог. Он обвинил команду в попытке разграбить его ящики, хотя капитан Квилтер не мог понять, с чего бы это кто-нибудь — даже тот, кто хранит в своем сундучке сорочку новорожденного младенца, — решил вдруг поживиться этими наводящими ужас сокровищами. Но в итоге он поддержал требования своего пассажира, приказав оставить эти девяносто девять ящиков в трюме. Они все-таки обеспечат устойчивость корабля, если передвинуть их — но быстро, быстро — к левому борту.
Поэтому следующие полчаса, пока гибельная вода постепенно заполняла дно трюма и по углам уже достигла глубины в целый фут, группа матросов трудилась, перетаскивая ящики на более высокое место. Их вновь запечатали, уложив по местам жуткое содержимое — ужасающее дельце, вызывавшее тошнотворный страх даже у самых смелых матросов, — перетащили к левому борту, поставили на соломенные тюфяки и крепко связали вместе, укрепив обломками корабельных досок и прочими уплотнителями, собранными на палубе. Другая группа матросов вырезала отверстия в палубах, а третья стояла наготове с брезентовыми ведрами, чтобы отчерпывать воду. Но, забравшись со второй половиной команды на полубак, Квилтер вскоре понял, что все эти отчаянные усилия напрасны, поскольку крен «Беллерофонта» оставался все таким же сильным. Это был уже лишь вопрос времени: еще максимум несколько минут — и корабль вместе со всем грузом и командой пойдет ко дну.
Дождь наконец прекратился, однако норд-ост дул с прежней силой. Белой пеной обрушивались на корабль горбатые волны, сметая все на своем пути. Пинчбек с горсткой матросов, собравшись на палубе полубака, пытались заделать пробоину в правом борту. Двое матросов погружали обернутую парусиной корзину в воду рядом с пробоиной и с помощью длинного шеста старались подвести эту корзину достаточно близко к бреши, чтобы сплетенные канаты вытряхнулись из корзины и, втянувшись внутрь, заткнули течь. Пинчбек уже пытался безуспешно протащить парусину под носом корабля. Но сейчас этот парус уже бесполезно проплывал мимо кормы, как огромный кальмар, раскинувший щупальца перед возвращением в свое подводное логово. Трех человек послали к рундукам за новым парусом, но Квилтер понял, насколько тщетны все их усилия. Он видел, что их несет на огромную отмель Маргит-Хук, хорошо заметную благодаря отливу. Надежды больше нет, понял он. Когда эта троица вернется, корабль уже разнесет в щепки на песчаной отмели.
— Слишком мелко, капитан, — послышался сквозь завывания ветра хриплый голос боцмана, когда корзина в десятый раз скрылась под водой. — Отлив! Глубина едва ли четыре фатома! Мы на мели. Нам не удастся заткнуть парусиной пробоину! Слишком сильный ветер! — Замолчав, он показал туда, где матросы покрасневшими и закоченевшими от холода руками пытались справиться с корзиной. — И корзина не поможет!
— Продолжайте попытки!
Квилтер затаил дыхание, когда корзина с приглушенным всплеском исчезла под водой. «Беллерофонт» накренился еще сильнее; изогнувшаяся верхняя часть фок-мачты почти касалась воды. Полубак походил на горный склон, и удержаться на его скользкой палубе можно было, только вцепившись в какую-то опору. Первые волны уже перехлестывали через планшир с правого борта. А с левого борта зазывно маячил опасно близкий берег. До Квилтера донеслись крики чаек, и ему показалось, что он различает запах пастбищ. Так неужели именно здесь смерть призовет их, на расстоянии всего лишь мушкетного выстрела от берега? Когда уже видны деревья и отары овец, спокойно жующих свою жвачку. Спустя пару секунд, обманув очередные надежды, корзина вновь вынырнула на поверхность, вызвав шквал проклятий.
— Безнадежно, капитан! — Пинчбек выпрямился и вытер лоб окровавленным носовым платком. — Пора покинуть корабль.
Собравшиеся на востоке облака начали быстро двигаться в сторону земли, и именно на них с полубессознательной отрешенностью смотрел ничего не слышавший Квилтер. Его пальцы и щеки закоченели, он стоял по колено в воде. Маргит-Хук была уже совсем близко, сигнальный огонь старого деревянного маяка тускло подмигивал им. Через минуту, не больше, волны выкинут их на эти подводные скалы.
— Пора покинуть корабль! — повторил Пинчбек, повернувшись к матросам на полубаке, не дождавшись ответа Квилтера. — Спускайте шлюпки!
— Нет времени, — пробормотал Квилтер себе под нос, когда пара матросов бросилась на корму, к подвесным лодкам. Но не успели они сделать и полдюжины шагов, как были остановлены криком со шкафута:
— Капитан! — Один из матросов-верхолазов, схватившись одной рукой за фок-мачту, другой указывал назад: — Смотрите! Там корабль!
Квилтер прищурил глаза от ветра: по правому борту со стороны кормы появилось судно со сломанными бушпритом и фок-мачтой, остальные мачты стояли голые или опутанные обрывками парусов. Потеряв управление, он дрейфовал, его корпус глубоко погрузился в воду, а один из реев вращался, точно крылья ветряной мельницы. Прищурившись, Квилтер смог разглядеть несколько человек на шканцах, другая группа людей пыталась спустить один из баркасов на море, уже заливающее шкафут. Даже с такого расстояния он смог прочитать название, написанное на носу корабля: «Звезда Любека». Чуть позже он заметил на шканцах три фигуры в черном. Сквозь туман они выглядели как тени.
Но вдруг они исчезли из виду, поскольку в этот момент «Беллерофонт» наскочил на подводный хребет Маргит-Хука и его корпус начал разваливаться на части. Киль протащило по скале примерно до середины, трещали шпангоуты, ломались мачты, и наконец с последним сотрясающим ударом судно застыло, зарывшись бушпритом и форштевнем в обнажившуюся гальку. «Беллерофонт» завалился на правый борт, его бушприт сломался, доски обшивки гнулись и трещали, их нагели, как пробки, с треском вылетали из пазов. Спустя пару секунд взбаламученная вода обрушилась на разбитые в щепу палубы и серые челюсти моря сомкнулись над капитаном Квилтером и его командой.
Глава 11
Когда я вновь прибыл на Ситинг-лейн, здание Морского ведомства уже накрыло своей огромной тенью церковь Святого Олава. В дневном свете это здание казалось еще более мощным, напоминая гигантский фрегат, севший на мель в центре Лондона. Это впечатление усилилось, когда я миновал домик привратника и вошел в только что открытые массивные дубовые двери. Множество служащих и посыльных металось по деревянному полу, точно палубные матросы, готовящиеся к шторму, а через открытую дверь большого кабинета я увидел двух или трех капитанов, совещавшихся над картой, углы которой были прижаты к столу сделанными в виде якорей пресс-папье. Их красивые, загорелые под тропическим солнцем лица напомнили мне, что пока я просиживаю штаны в своем магазине, другие люди бороздят моря и океаны, исследуя новые земли и проходя по неизведанным и таинственным рекам. Я почувствовал себя здесь безнадежно неуместным.
Со времени погрома в моем магазине прошло два дня. К середине вчерашнего дня «Редкая Книга» приняла свой обычный, или почти обычный, вид. Судя по моему опыту, нет таких повреждений, которые нельзя было бы исправить с помощью фальцевальной косточки (кисточки), пробойников и сшивального станка. Столяр починил зеленую дверь и навесил ее обратно на петли, а слесарь заменил замок на новый, даже более надежный. Тот же столяр сделал и установил пять новых ореховых полок, и я незамедлительно заполнил их рядами книг. Мы с Монком убрали остатки книг с пола и занялись реставрацией тех, что пострадали сильнее всего. Я рассчитал, что еще день, самое большее два — и мы сможем возобновить торговлю.
Нынешним утром я оставил магазин на попечение Монка и вернулся на Ситинг-лейн, не для того, чтобы незаметно пройти на кладбище Святого Олава, а чтобы навести справки в Морском ведомстве, которое казалось самым подходящим местом для выяснения подробностей о путешествии сэра Амброза в Гвианскую империю. Я решил, что смогу побольше узнать о моих таинственных противниках — возможно, даже о Генри Монбоддо, — если побольше узнаю о сэре Амброзе. Была надежда, что сохранился судовой журнал «Филипа Сидни», а возможно, и собрание морских карт с курсом его следования или какие-то другие памятные вещицы. Мне также подумалось, что неплохо было бы раздобыть экземпляр доклада лорд-канцлера по поводу злополучной экспедиции Рэли 1617–1618 годов.
Но два часа, проведенные в министерстве, пропали впустую. Я все так же сидел в ожидании на скамье, когда колокола Святого Олава пробили сначала девять, а потом и десять часов. Капитаны в парчовых камзолах входили и выходили, держа под мышками свернутые в рулон карты. Делопроизводители и писари сновали взад-вперед, скрипя половицами, или склонялись над столами, энергично помахивая перьями. Ни один из них не признался, что слышал о капитане по имени сэр Амброз Плессингтон; не могли они также вспомнить ни о судовом журнале, ни о докладе канцлера. Один из этих человечков посоветовал обратиться в старое здание министерства на Минсинг-лейн, а другой ляпнул про Тауэр, где, по его словам, хранились какие-то документы расследований лорд-канцлера. Третий пояснил, что в министерстве нынче неразбериха, поскольку бывших служащих Кромвеля уволили, а новые, назначенные королем, вряд ли смогут сейчас отыскать дела сорокалетней давности: они и собственные столы не всегда сразу находят.
После полудня я вышел из министерства, решив, что настало время разузнать о сэре Амброзе где-нибудь в другом месте. Путь мой лежал к Причальной башне, у причалов уже собралось множество лихтеров и полубаркасов, точно стадо послушных домашних животных. Минут десять я бродил взад и вперед по набережной, налетая на докеров с их гулкими бочками и тихо ругаясь себе под нос, но наконец нашел пустую лодку и забрался в нее.
Сейчас, во время прилива, нам потребовалось почти тридцать минут, чтобы добраться до Уоппинга. Это селение находилось примерно в миле ниже по течению Темзы от Причальной башни и насчитывало всего лишь пару улочек, застроенных свайными домами, которые нависали над берегами Пула. Из моей верхней комнаты я порой видел эти дровяные склады и шпиль колокольни, но никогда не бывал в этом местечке раньше. Сегодня, однако, мне хотелось найти здесь одного старика, Генри Биддульфа, который прожил в Уоппинге добрую половину своих семидесяти лет. Он служил делопроизводителем по морским делам до 1642 года, когда большинство кораблей флота переметнулось на сторону Кромвеля, а Биддульф, хранивший верность королю Карлу, потерял работу. С тех пор он занялся составлением истории военно-морского флота начиная со времен Генриха VIII — колоссальная работа, учитывая, что, написав за восемнадцать лет три тома, он еще не добрался до 1588 года, до «Непобедимой армады». Книги его продавались тоже не слишком ходко, хотя я почтительно хранил у себя все три тома: ведь за эти годы Биддульф стал одним из моих лучших покупателей. Он заглядывал в «Редкую Книгу» по нескольку раз в месяц, и я разыскал для него множество разных книг. По моим подозрениям, он знал о кораблях так же много, как я знаю о книгах, и теперь я, в свою очередь, надеялся получить от него нужные сведения.
Капитан Биддульф (так называли его соседи), похоже, был знаменитой личностью в Уоппинге, хотя его жилище, к которому я направился от единственной таверны, выглядело весьма скромно: крошечный деревянный домишко с проваливающейся крышей, окруженный неухоженным садиком. Два фасадных окна смотрели на реку, два задних — на дровяной склад, из которого доносились оглушительный стук молотков и визг пил. Но этот шум явно не мешал Биддульфу, упорно корпевшему над четвертым томом, когда я постучал в его дверь концом моей терновой палки. Он тотчас узнал меня и сразу пригласил в дом.
Мне всегда нравился Биддульф. Живенький старичок с веселыми голубыми глазами и монашеской каймой белых волос, которые топорщились над его ушами, как перистые рожки у филина. Обозрев хаос его кабинета, я с удовольствием осознал, что мы с ним одного поля ягоды. Все свои деньги он, видимо, тратил либо на книги, либо на полки для их размещения. По правде сказать, сафьяновые переплеты большинства книг выглядели куда наряднее, чем их владелец, который обходился парой потертых бриджей да рваной кожаной курткой. До сих пор мы с ним виделись только в «Редкой Книге», в привычном мне окружении, и поэтому мне было странно видеть его в другом месте — здесь, в его собственном гнездышке с пожелтевшими гравюрами кораблей, развешанными на стенах. Наблюдая, как рыжий кот пролезает через окно и устраивается на коленях своего хозяина, я с уколом печали размышлял о том, как мало мне знакомы даже мои самые верные покупатели.
После того как он приготовил небольшое угощение — ломтики угря, обжаренного в сухарях на решетке, мы удалились в его кабинет, где он настоятельно рекомендовал мне отпробовать новый напиток под названием «ромбольон», или, коротко говоря, «ром». Похоже, эта адская жидкость была создана для обжигания глоток и затуманивания мозгов.
— Вдвое крепче бренди, — посмеиваясь, сообщил он, заметив мою гримасу. — Моряки из Вест-Индии называют его адским зельем. Его гонят из мелассы, черной патоки. Один мой знакомый капитан контрабандой провозит для меня лишний бочонок с Ямайки. Он останавливается в Уоппинге перед заходом в городской порт, — Старик вновь хихикнул, но затем взгляд его голубых глаз сделался серьезным и заинтересованным. — Но ведь вы, господин Инчболд, заехали ко мне в Уоппинг не для того, чтобы отведать рома.
— Нет, конечно, — пробормотал я, пытаясь восстановить дыхание, которое этот напиток вышиб из моей груди, — Нет, господин Биддульф, я заехал, чтобы расспросить вас об одном корабле.
— О корабле? — Он выглядел удивленным. — Ну-ну. И какой же корабль вас заинтересовал?
Ни название «Филип Сидни», ни имя его капитана сначала ничего не сказали Биддульфу. Я стал пояснять, что, по моим сведениям, этот корабль участвовал в последней экспедиции Рэли, но мой приятель продолжал сощурившись разглядывать темно-фиолетовые балки на потолке, тихо бубня при этом: «Плессингтон, Плессингтон», — словно повторял некое заклинание. Спустя мгновение он хлопнул в ладоши, напугав рыжего кота.
— Да, да, да… теперь я вспомнил. Точно, точно. Капитан Плессингтон! Как же я мог забыть? — За щекой у него был кусок жевательного табака, и сейчас, сделав паузу, он выпустил струю сока в стоявшую под ногами плевательницу. — Просто в данное время я живу в другом столетии, — сказал он, указывая на свой маленький рабочий стол, на котором среди множества томов я заметил книгу Фазби «Подлинный доклад о крушении „Непобедимой армады“». Итак, понял я, он добрался-таки до решающих событий 1588 года. — Я провел столько времени в эпохе королевы Елизаветы, что порой мой утомленный старый мозг не сразу включается в современную жизнь. Но капитан Плессингтон… да-да, я помню его корабль. — Он энергично закивал головой. — Я действительно его помню, господин Инчболд. Отлично помню. — И вдруг он прекратил кивать, и его веселые голубые глаза вновь с интересом прищурились. — Что же вы желаете знать о его корабле?
— Все, что вы сможете рассказать мне, — сказал я, пожав плечами. — Насколько мне известно, в тысяча шестьсот шестнадцатом году Плессингтон получил патент на его строительство. Я интересуюсь его путешествием, если таковое вообще имело место.
— О, оно имело место, господин Инчболд, — вновь закивал Биддульф, поглаживая кота, разлегшегося на его коленях. — И вам повезло, поскольку я могу рассказать вам об этом патенте. И еще о многом другом, если пожелаете. Видите ли, в то время я служил в министерстве помощником делопроизводителя, и через мои руки проходили всевозможные контракты и денежные документы на «Филипа Сидни». — Он многозначительно взглянул на меня, приподняв седую бровь. — И они поведали мне странную историю, господин Инчболд.
На мгновение шум горе-лесорубов на лесопилке вроде бы затих, и я услышал плеск волн по сваям дома.
— Что же странного там могло быть? — спросил я как можно небрежнее, вертя в руках свою чарку.
— Ну, в общем-то, господин Инчболд, вся эта экспедиция была странной. И я не сомневаюсь, что вам это известно. Но прошу вас о снисхождении… — Он вновь устремил взгляд на потолочные балки, задумчиво пережевывая внушительную порцию табака. — Старикам приходится вспоминать события постепенно. В старческой памяти все так легко перепутывается.
— Конечно, пожалуйста, не спешите, господин Биддульф. — Разволновавшись, я чувствовал, как сильно и медленно бьется жилка у меня на шее. Я откинулся на спинку кресла и сделал еще один обжигающий глоток ромбольона.
Но старый мозг Биддульфа был остер, как всегда, и обстоятельного рассказа долго ждать не пришлось.
— Этот патент выдали, насколько я помню, летом шестнадцатого года, — сообщил он после недолгих размышлений, по-прежнему изучая потрескавшиеся балки. — Сразу после того, как Рэли освободили из Тауэра. А вскоре началось строительство этого корабля. Его строили на верфи Вулиджа, где сооружались все наши прекрасные военные суда. Для Генриха Восьмого там построили «Гарри Грейс а Дью» и «Роял Суверен» для короля Карла. Упокой, Господи, его душу, — добавил он после короткой паузы.
— А «Филип Сидни»?.. — намекнул я, когда очередное задумчивое молчание грозило затянуться.
— Ах да. «Филип Сидни». Его строили под руководством главного кораблестроителя, Финеаса Петта. Работенка не из легких, даже для такого мастера, как Петт. Водоизмещение шестьсот тонн, и более сотни пушек на палубах. Он был даже больше, чем «Дестини», его тоже строили в Вулидже. Добрых восемь месяцев прошло с того дня, как упряжка лошадей притащила на место строительства бревна для его киля, и до того вечера, когда «Сидни» соскользнул со слипа в вешние воды. Я был в тот вечер на верфи. Сам принц Карл оказал честь, посетив церемонию и выпив кубок вина. Тогда он был еще почти что мальчиком. «Благослови Бог сие судно и всех, кто отправится на нем в плавание…» Ну, вот вам и шуточка, разве нет? — загадочно проворчал он. — Учитывая все, что случилось. Я, помню, удивлялся: как это «Сидни» вообще умудрились достроить.
— Из-за размеров?
— Не только. Вы понимаете, никто в нашем министерстве не ожидал, что его строительство когда-нибудь закончится. Вся затея с экспедицией Рэли с самого начала выглядела какой-то глупой причудой. Сэр Уолтер любил прихвастнуть, все это знали. Сначала он задумал основать колонии в болотах Виргинии. Потом провел чертову дюжину лет в Тауэре, вынашивая безумные планы об открытии золотых месторождений в джунглях Гвианы. Чистое безумие, доложу я вам. В итоге гофмейстер Монетного двора взял пробы полевого шпата, доставленного на «Лайенс Уэлпе»… [46]
— Простите, — прервал его я, — «Лайенс Уэлп»?.. Звучит очень знакомо.
Биддульф кивнул на одну из гравюр с кораблями, висевших на стене над его столом.
— Вон он, корабль, на котором Рэли совершил первое путешествие в Гвиану.
— Ах… да. — Я вспомнил сочинение Рэли «Открытие обширной, богатой и прекрасной Гвианской империи… совершенное в 1595 г.» — тонкая книга, имевшаяся на моих полках, и ее название я также видел в списке книг, пропавших, по словам Алетии, из Понтифик-Холла. Одна из тех, что пропала вместе с «Лабиринтом мира». — Конечно же.
— Так вот, скажу я вам, что в белом шпате, доставленном из Гвианы в тысяча пятьсот девяносто пятом году, содержалось всего лишь двадцать унций золота на тонну руды. Смехотворно мало, едва ли ради этого стоило копать шахту в Англии, не говоря уж о том, чтобы ездить за тысячи миль и плутать в гвианских джунглях. Кроме того, как известно, никто, даже испанцы, еще не составил достоверную карту реки Ориноко, хотя их лучшие специалисты из Школы навигации и картографии в Севилье десятки лет продирались через эти гвианские заросли. А что касаемо золотых месторождений, то испанцы тут полагались только на слова нескольких замученных дикарей, но ведь каждый знает, что жертва готова сказать своему мучителю все то, что его воображение пожелает услышать. — Умолкнув на мгновение, он вновь воспользовался плевательницей. — Хотя главным виновником был испанский посол.
— Гондомар, — пробормотал я.
— Точно. Все знали, что король Яков находился под его влиянием. Гондомар вертел им еще почище Бекингема — конечно, в те дни его величали просто сэр Джордж Вильерс. И поговаривали, что Гондомар в ярости оттого, что Рэли получил эту жалованную грамоту. Видите ли, он ставил Рэли на одну доску с пиратами типа Дрейка. А вскоре также поползли слухи, что Вильерс больше не испытывает особого восторга от этой опасной затеи. Вот почему все восемь месяцев мы ждали, что плотники Петта не сегодня завтра побросают свои инструменты или, проснувшись однажды утром, мы узнаем, что «Сидни» сгорел дотла на своих киль-блоках.
Порыв ветра наполнил комнату неприятным, солоноватым запахом прилива. Я заметил пролетевшую мимо открытого окна серебристую чайку и покачивающуюся мачту полубаркаса, медленно поднимавшегося вверх по течению. Биддульф впал в молчание, и молотки на дровяном складе, казалось, застучали с небывалой силой.
— Но ничего подобного не произошло, — опять подначил его я. — Корабль отправился в плавание.
— Именно так. — Биддульф переместил табачную жвачку за другую щеку и пожал плечами. — Алчность заглушила и страх, и здравый смысл, как обычно и бывает. Деньги на снаряжение этого корабля и для найма команды уже собрали благодаря вкладчикам Королевской биржи — то есть теперь страх и здравый смысл обанкротили бы половину Лондона. И вот в июне семнадцатого года «Сидни» вышел из Лондона для воссоединения с остальными кораблями экспедиции в Плимуте. Его отплытие мне тоже удалось увидеть. Я глядел, как он поднял якоря и пошел вниз по Темзе от Вулиджа. Я видел также, что на доске с названием судна золотыми буквами написано «Филип Сидни», — задумчиво сказал он и добавил: — Странное название для корабля, не так ли? В честь какого-то поэта.
— М-да, — откликнулся я. — И правда странный выбор. — Мне уже приходило в голову, что, может быть, существует связь между этим кораблем и одной из книг по герметической философии, с которой я стирал пыль пару дней назад, — Spaccio della bestia triofante[47] Джордано Бруно, эзотерическое сочинение, восхваляющее религию древних египтян. Бруно посвятил свой трактат господину Филипу Сидни, который был не только поэтом и придворным, но также солдатом, погибшим, сражаясь с испанцами в Нидерландах.
— Как я и сказал, я видел, как это судно отправляется в свое первое плавание, — продолжал Биддульф. — Но понимал, что вижу его в последний раз. Я даже знал, что «Сидни» никогда уже не вернется в Лондон.
— Из-за Гондомара? — Кажется, я знал эту часть истории. Когда Рэли отчалил из Плимута, флотилия испанских военных судов, судя по слухам, должна была выйти из Ла-Коруньи. — Поговаривали, что испанцы пытались перехватить наши корабли.
— Нет, там было нечто большее. — Он поерзал на своем маленьком стуле, волосяная набивка которого прорвалась наружу. — В то время мне по службе приходилось просматривать контракты, связанные с этим кораблем. Через мои руки проходила документация на все корабли, а не только то, что касалось снаряжения и продовольственного обеспечения «Сидни». Я тогда отвечал за подготовку всех контрактов и писем, входящих и выходящих из министерства, за их подписание и отправку. В таких документах в основном описывались закупки товаров и леса, снастей и парусов и так далее. Флотилия кораблей, сами понимаете, — это все равно что стадо гигантских прожорливых хищников. Их надо обеспечить запасами воды и продовольствием, затем вымыть и начистить, как премированную скаковую лошадь, а потом они украшаются парусами, точно аристократки в галантерейных лавках или у портних. Я также проверял все чертежи и модели, сделанные судостроителями, — подытожил он, — наряду с контрактами на проведение работ.
— И что же вы поняли из контрактов на «Филипа Сидни»?
Его лицо оставалось бесстрастным.
— Я понял, что его капитан не собирается блуждать по притокам Ориноко. Понимаете, господин Инчболд, судно капитана Плессингтона вовсе не было похоже на остальные в этой флотилии.
Я почувствовал, как моя голова начинает пухнуть. Этот ромбольон и стук молотков вызывали ужасную головную боль.
— В каком смысле не было похоже?
— «Сидни» был первоклассным кораблем, — пояснил он. — То есть на нем могли установить более сотни пушек. «Дестини» была рассчитана только на тридцать шесть. Да, и с такой тяжелой артиллерией «Сидни», естественно, нуждался в глубокой осадке, как большинство наших первоклассных судов. Потому-то наши военные суда и лучше голландских, — добавил он, понизив голос, словно боялся, что голландские шпионы околачиваются рядом с его развалюхой. — И потому-то Кромвелю удалось наголову разбить голландцев в пятьдесят четвертом. Они вынуждены строить свои военные суда с небольшой осадкой, чтобы те могли пройти в их собственные прибрежные воды, а поскольку у них была небольшая осадка, то они не могли позволить себе такое количество пушек, как мы. Следовательно, мы имели значительно превосходящую огневую мощь. Один наш линкор с парой тридцатидвухфунтовых пушек легко мог бы разогнать весь флот. Испанцы со своими фрегатами, однако… впрочем, это уже совсем другая история, — с сожалением добавил он.
— Но осадка «Филипа Сидни», — вновь попытался я направить его в нужное русло, — была глубокой?
— Вот именно — глубокой. Это был прекрасный корабль для сражения, но непригодный для исследования рек в Гвиане. С такой глубокой осадкой ему ни за что не удалось бы пройти по Ориноко. Видите ли, господин Инчболд, была еще одна странность во всем этом деле. Я спрашивал себя: почему флотилия Рэли вышла из Англии с таким расчетом, чтобы прибыть в Гвиану в декабре или январе, когда навигация там сложней всего. Чтобы пройти в глубь материка по Ориноко, нужны лодки, погружающиеся в воду лишь на пять или шесть футов, причем местами это можно сделать только во время прилива, даже в дельте. Даже в сезон дождей. А ведь январь…
— Да, — кивнул я, — сезон засухи. — Я попытался осмыслить новые сведения. — Но что, если эти пушки предназначались просто для защиты? И что, если «Филип Сидни» вовсе не собирался в первую очередь исследовать эту реку? Что, если корабль думали поставить на якорь у побережья? Сэр Амброз легко мог отправиться вверх по течению в шлюпе или другой небольшой лодке.
— Вполне справедливо, — Биддульф пожал плечами и помолчал, сплюнув очередную порцию табачной слюны с быстротой гренландского кита, выпускающего фонтан воды. — И на корме, его корабля, конечно, такой шлюп имелся. Но зато у него не было многого другого. Понимаете, другие корабли были гружены кроме бочек с водой и солониной всевозможным изыскательским оборудованием. Киркомотыгами, лопатами, носилками, тачками и запасами ртути. Эти счета и контракты скапливались на моем столе. А вдобавок к ним — договоры с солдатами и членами команды, по большей части, надо сказать, негодяями, от которых так и несло то ли тюрьмой, то ли публичным домом, поскольку лучшие моряки Лондона и Плимута отказались участвовать в этой безумной затее.
— Но «Филип Сидни»?..
Итак, вот что казалось самым странным. По словам Биддульфа, «Филип Сидни» не взял на борт никакого исследовательского оборудования, никаких землекопных инструментов — ничего в таком роде. В министерство не поступило никаких документов на сей счет. Никаких скрепленных печатями договоров, прошедших через руки помощника делопроизводителя. Только солдаты и оружие, причем оружие закупалось, а солдаты нанимались, как показалось молодому Биддульфу, под строжайшим секретом. Заказывали для «Сидни» и другие вещи — пачки бумаги, столы и приборы, — хотя он не мог толком сказать, для чего точно. Он отговорился тем, что не разбирается в подобных делах. Но при строительстве и снаряжении «Филипа Сидни» использовались всевозможные сложные чертежи и таблицы для математических вычислений. Знаменательно для тех времен, добавил он. Где-то в министерстве хранилась книга под длиннющим названием «Секретные изобретения, полезные и необходимые в сии дни для защиты сего острова и противостояния чужестранцам, врагам истинной Господней веры и религии». Его автором, сообщил он, был один шотландец, Джон Нейпир.
— Едва ли вы, мистер Инчболд, найдете эту книгу на ваших полках или в любом другом подобном магазине — именно поэтому… Это документ конфиденциальный. И вообще было напечатано очень мало экземпляров.
— Джон Нейпир? Боюсь, вы запутали меня. Разве он был не математиком?
Все верно, согласился Биддульф. Разносторонне образованный и талантливый ученый, Нейпир первым среди математиков сделал величайшее изобретение: логарифмы. В те дни, по словам Биддульфа, открывались целые новые миры, не только Америка и южные моря, — в математике и астрономии тоже. Такие люди, как Галилей и Кеплер, исследовали небеса — так же как Магеллан и Дрейк когда-то исследовали океаны. Благодаря своему телескопу Галилей в 1610 году впервые увидел спутник Юпитера. К 1612 году Кеплер насчитал 1001 звезду, на 200 с лишним штук больше, чем Тихо Браге. Несколькими годами раньше Кеплер, стойкий протестант, прервал свои астрономические наблюдения, чтобы вычислить для сэра Уолтера Рэли, как лучше расположить пушечные ядра на батарейной палубе. Эта новая наука, пояснил Биддульф, стала развиваться как раз с началом географических открытий и войн — войн за золото и войн религиозных. Математики и астрономы состояли на службе у королей и императоров. В Шотландии, которая страшилась новой испанской армады, очередного вторжения католиков на остров, Нейпир придумал сложную систему «тайных изобретений», и в их числе — гигантское зеркало, которое поджигало бы вражеские корабли в канале солнечным жаром. Его логарифмы вскоре применил в навигационном деле Эдвард Райт, ученый из Кембриджа, автор книги «Обнаружение и исправление навигационных ошибок».
— Война стала сложнейшим искусством, — пояснил Биддульф, — использующим таинственные логарифмические значки и хитроумные геометрические построения. То же самое произошло с навигацией. Фрэнсис Бэкон придумал, как увеличить водоизмещение торговых судов до тысячи ста тонн, с килем ста пятнадцати футов в длину, а гротом — семидесяти пяти футов в ширину. А еще он проводил опыты — как лучше разместить и поставить паруса, чтобы океанские путешествия были не так долги. Поговаривали даже, будто сам Бэкон и спроектировал «Сидни», что, насколько я знаю, могло быть правдой. Как большинство людей в те дни, он пресмыкался перед Вильерсом. Если бы Вильерсу нужен был корабль, то Бэкон, конечно, его бы спроектировал. Вильерсу приглянулся его дом на Стрэнде, Йорк-хаус, и Бэкон тут же продал ему свое владение. Именно там Вильерс собирался держать книги и картины, которые он начал коллекционировать.
— Так к чему же вы клоните? — умудрился я вставить слово. — Что на «Филипе Сидни» установили… ну даже не знаю… одно из гигантских зеркал Нейпира?
Я начал подумывать, уж не ослабел ли и правда ум Биддульфа. Но потом вспомнил, что «Навигационные ошибки» Эдварда Райта также числились в списке пропавших из Понтифик-Холла книг — это был один из тех томов, что исчезли из библиотеки вместе с «Лабиринтом мира».
— Разумеется, нет, — спокойно ответил он. — Я просто пояснял вам, что «Филип Сидни», судя по всему, снаряжали для целей, отличных от поисков золота на Ориноко.
— И сие означает?..
— Ничего особенного, возможно, и не означает. Как говорится, в открытом море опасностей в изобилии, и выбирать не приходится. Было бы глупо не взять с собой на борт как можно больше пушек. Но чтобы понять истинную цель путешествия «Сидни», надо сперва понять, как обстояли дела в то время. Я имею в виду, каково было положение дел в Морском ведомстве, да и в стране в целом.
— Истинную цель?
Биддульф умолк. Его глаза закрылись, и я вдруг подумал, уж не сморил ли его сон. Я и сам чувствовал, что начинаю потеть и задыхаться в этой тесной и душной комнатке. Я уже придумывал очередной вопрос, как вдруг он открыл глаза и с каким-то мучительным стоном поднялся на ноги. Сонный кот, уткнувшийся в его подмышку, поднял мордочку и заморгал, ослепленный прилипчивым лучом солнечного света, подкравшегося к окну.
— Да. Истинную цель. Но может, нам немного прогуляться, господин Инчболд? — Стоя в столбе света, он почесывал кота за ушами и прищурившись поглядывал вниз, на меня. — Я дорасскажу вам все на прогулке. Ходьба, знаете ли, порой освежает усталые старые мозги.
К тому времени, когда мы покинули домик, прилив уже повернул вспять, и основное движение на Пуле теперь шло вниз по течению. Весла скрипели и шлепали по воде, ветер шелестел парусами. Мы брели вдоль набережной в сторону Шедуэлла, солнце пригревало наши спины. Мне пришлось изо всех сил орудовать своей суковатой палкой, чтобы не отставать от Биддульфа, который несся вперед как настеганный. Он умерял шаг, только чтобы сорвать примулы, росшие у кромки воды, обратить мое внимание на какие-то особенности ландшафта или вежливо раскланяться с местными дамами, возвращавшимися со Смитфилдского рынка, неся в соломенных корзинках провизию к ужину. Мы прошли почти целую милю и добрели до причалов Лайм-хауса. И лишь когда мы повернули и, щурясь от яркого солнца, направились обратно к дому, он продолжил свой рассказ.
Эта история, в изложении Биддульфа, походила на одну из «драм отмщения», которые в ту пору были так популярны в театре, — что-то в духе Джона Вебстера или Томаса Кида. Там были придворные интриги, непостоянство союзников, заговоры, контрзаговоры, кровная вражда, расчетливые любовные связи, взятки и даже отравления — все это с порочным удовольствием разыгрывала труппа коварных епископов, льстивых придворных, испанских шпионов и осведомителей, нечистых на руку чиновников, наемных убийц и разведенных графинь с запятнанной репутацией.
Мы проходили мимо паутины покрытых соляной глазурью рыболовных сетей, разложенных на солнечном берегу для просушки, и мне подумалось, что вся эта история, пожалуй, отлично подходит для театра. С одной стороны, «партия войны», возглавляемая архиепископом Кентерберийским, стойким кальвинистом, рвущимся в бой с ненавистными испанцами. С другой — «испанская партия» во главе с аристократами Говардами — родом богатых тайных католиков, которые оказывали влияние на короля через своего ставленника, розовощекого молодого шотландца Роберта Карра, получившего титул графа Сомерсета. Сомерсет шпионил в пользу испанцев, передавая Гондомару всю корреспонденцию короля Иакова и его послов. Но в 1615-м он впал в немилость, когда его новую невесту, из рода Говардов, обвинили в отравлении сэра Томаса Овербери, который препятствовал женитьбе этого фаворита на женщине, чья дурная слава была из ряда вон выходящей даже по тем дням. В итоге и Гондомар и Говарды одним махом лишились влияния при дворе.
И именно в это время на сцене появляется новое лицо, сэр Джордж Вильерс, очередной розовощекий молодой кавалер, быстро заменивший распутному старому королю заточенного в тюрьму Сомерсета. Вильерса взлелеял и поддержал давний враг Говардов архиепископ Эббот. У архиепископа были далеко идущие планы: он хотел провести Вильерса на место графа Ноттингема — еще одного Говарда, — возглавлявшего адмиралтейство. Ноттингем, некогда геройски сражавшийся с «Непобедимой армадой», теперь был трясущимся восьмидесятилетним стариком, которого водили за нос и неразборчивые в средствах родственнички, и продажные адмиралтейские чиновники, не говоря уж о том, что он все еще получал щедрый пенсион от короля Испании.
— С приходом Вильерса в министерстве все должно было пойти по-новому, — пояснил Биддульф. — Наши корабли больше не были бы на побегушках у Говардов и «испанской партии». Наше министерство перестало бы служить сборищем воров и осведомителей, продажных и развращенных сверху донизу. Дела его вновь пошли бы в гору. Стали бы строиться новые и лучшие корабли, и английский флот стал бы тем же, чем был во времена короля Генриха.
Но дело не ждало, ведь в это время на сцене постоянно появлялись новые персонажи, тайные агенты и посланники со всей Европы. Все они прибывали в Ламбетский дворец с шифрованными сообщениями и тайно переправленными документами, в которых излагались новости, ужасные для «партии войны». Мало того что в Германии уже действовала Католическая лига в противовес Евангелической унии, так сама уния уже стала разваливаться на части. И фракция Эббота-Пемброка понимала, что перемирие между Голландией и Испанией готово было разлететься в пух и прах, что в Нидерландах вот-вот начнется новая война на тех же вспаханных выстрелами полях сражений, где тридцать лет назад сложил голову Сидни. К такой войне Англия не была готова, а когда при дворе господствовала «испанская партия» — и не желала ее. Ужаснее всего, однако, было новое послание из Праги, доставленное курьером в красной с золотом ливрее Де Кестера, в коем сообщалось, что Габсбург, Фердинанд из Штирии, вскоре будет избран императором Священной Римской империи с благословения его кузена и зятя, короля Испании. Ведь Фердинанд с помощью испанских войск мог счесть целесообразным восстановить по всей империи католические порядки да к тому же отменить Грамоту Его Величества, дарованную Рудольфом II протестантам Богемии.
— Таким людям, как Эббот и Пемброк, да и Вильерсу, не было нужды объяснять, что происходит. Никогда еще положение протестантизма не было столь шатко, мистер Инчболд, не только на континенте, но и в самой Англии. Король Иаков лишился поддержки пуритан, которые больше не верили, что его царствование приведет к настоящей реформации Церкви. Опасность раскола была налицо — либо англиканская церковь разделится на разные течения, либо вовсе рухнет, а Рим, воспользовавшись установившимся хаосом, вернет утраченные позиции. Оглядываясь назад, я думаю, что изданная в одиннадцатом году «Библия короля Иакова» — так называемый авторизованный перевод — должна была, как предполагалось, примирить все англиканские конгрегации, но вызвала, разумеется, противоположную реакцию, поскольку вдруг каждый скорняк и чесальщик в Англии пришел к убеждению, что он может проповедовать Слово Божие. Протестантизм начал разваливаться на части, приход за приходом, возникали многочисленные секты и сепаратистские течения. Поэтому к семнадцатому году назрела необходимость в какой-то хитроумной операции, нужно было нанести победоносный и дерзкий удар в самое сердце Испанской империи, дабы объединить протестантов в их борьбе против двойной власти Рима и Мадрида.
Я плелся рядом с Биддульфом, пытаясь разобраться во всех этих переплетающихся и встречных течениях, которые, то появляясь, то исчезая, понесли «Филипа Сидни» вниз по Темзе с его секретной миссией через океанские просторы к далеким джунглям и не нанесенным на карту рекам, за тысячи миль от противоборствующих фракций и перепалок английских министров. В задумчивости я споткнулся о проржавевшую якорную лапу, но умудрился не упасть и, вновь взглянув вперед, увидел вдали Лондонский мост, протянувшийся через реку за дымными трубами Шедуэлла.
— Драгоценная флотилия, — прошептал я чуть позже себе под нос.
— Точно, — подхватил Биддульф. Он остановился и поглядел за реку в сторону Ротерхайта. — Корабли Рэли искали вовсе не золото, они направились на поиски серебра. Потому-то и должны были прибыть в Тьера-Фирме к засушливому сезону. Они не собирались плыть вверх по коварной Ориноко в поисках золотых месторождений, которых, по всей вероятности, вообще не существовало, им надлежало напасть на ежегодный серебряный караван, тот, что следовал из Гуаякиля в Севилью. Весь этот караван, вероятно, стоил около десяти или двенадцати миллионов песо. Порядочная сумма — ее вполне хватило бы на оплату армии наемников для Пфальца или Нидерландов или для каких-то иных надобностей.
Мы пошли дальше — уже помедленней, опустив вниз поля шляп, чтобы спрятаться от солнца. Я пытался обдумать все, что он сейчас нарассказывал мне: что флотилия Рэли субсидировалась отчаявшимися германскими князьями, находившимися на грани войны, и принцем Морицом Нассауским, и английскими купцами, надеявшимися расширить свою торговлю в Испанской Америке, и еще кальвинистами всех толков, и английскими, и датскими, только и мечтавшими о религиозной войне с испанцами, чтобы обойтись с католиками из Англии, Нидерландов и всей империи точно так же, как король Филипп обошелся всего лишь два или три года тому назад с испанскими морисками.
— Захват этой флотилии — и даже ее потопление — отозвался бы по всей империи, по всем уголкам католического мира. Испанских флотилий никто не трогал с тысяча пятьсот девяносто второго года, со времен захвата Madre de Dios. [48] Даже Дрейку, — Биддульф развернулся кругом и показал своей палкой за реку, туда, где в сухом доке Дептфорда стоял «Голден Хайнд», — даже Дрейку в девяносто шестом году это не удалось.
Вот какая это была смелая авантюра. Под руководством «Филипа Сидни» флотилия Рэли должна была всем напоказ изменить маршрут, атаковав ежегодный испанский транспорт, когда тот шел из Номбре-де-Диоса. «Партия войны» полагала, что Иаков не подпишет указ о казни Рэли за нарушение условий патента, и не только потому, что в руках у Вильерса и его друзей уже будет не только флот, но и двор, и не потому, что в итоге утратит свое влияние Гондомар. Об этом условии забудут по той простой причине, что, согласно другому условию этого патента, алчный старый король, величайший транжира Европы, должен был получить в свое личное пользование одну пятую всего того, что Рэли удастся привезти в трюмах его кораблей: одну пятую сокровищ этого богатейшего на земле каравана.
Но все пошло наперекосяк еще до того, как эта флотилия покинула Плимут. Биддульф возлагал ответственность за все бедствия не на капризы стихии, не на злой рок или плохую стратегию, а на испанских шпионов и осведомителей, которых было полным полно в Уайтхолле и в Морском ведомстве. Документы, тайно полученные из Мадрида, сообщали, что один из осведомителей Гондомара занимает в нашем министерстве важную должность — некто, скрывающийся под именем «Эль Сид» или «Лорд», — это навело Биддульфа на мысль, что шпионом был не кто иной, как старый Ноттингем собственной персоной. Поэтому, возможно, серебряный караван заранее предупредили об опасности. Может, он задержался в Перу, в гавани Гуаякиля. Или пошел кружным, южным путем, мимо мыса Горн, чьи продуваемые ветрами проливы были по-прежнему в руках испанцев, несмотря на недавние налеты датчан. Как бы там ни было, но флотилия Рэли, не дождавшись обещанных богатств в Номбре-де-Диосе, направилась-таки к берегам Ориноко.
С этого момента, по мнению Биддульфа, экспедиции всячески мешали испанские агенты и заговорщики. Так называемое неспровоцированное нападение людей Рэли на Сан-Томас в действительности было, утверждал он, хитроумным заговором, призванным опорочить эту экспедицию в глазах короля Иакова, хорошо спланированной интригой, осуществленной agents provocateurs[49] Гондомара, часть из них затесалась на корабли Рэли, а часть обосновалась в самом Сан-Томасе. Нападение на испанское поселение в Гвиане не пугало Гондомара и «испанскую партию» — они не только были рады этому происшествию, но и сами приложили к нему руку. Рэли не было надобности сражаться в Гвиане, ведь он мог потерять все, даже собственную голову. Важнее всего было то, что Вильерса, Эббота и всю «партию войны» та история покроет позором, а Говарды, bien intencionados [50] Гондомара, будут снова править и морским флотом, и королем Англии.
— А что же стало с «Филипом Сидни» после неудачи флотилии? — спросил я, вновь задумавшись, насколько можно верить версии Биддульфа — этой повести о заговорах и контрзаговорах. — Ведь капитан Плессингтон не участвовал в нападении на Сан-Томас. По крайней мере, сколько я знаю.
— И я сомневаюсь, что вы когда-нибудь узнаете, что именно делал тогда капитан Плессингтон, — ответил Биддульф. — Даже комиссия Бэкона не смогла разобраться во всех деталях. Хотя, как я полагаю, не особенно и стремилась, — добавил он с мрачной усмешкой. — Официальная история, конечно, гласит, что после набега на Сан-Томас вся флотилия была рассеяна. Известно, что Рэли пытался подговорить своих капитанов напасть на богатый мексиканский караван — один из тех караванов из Новой Испании, что отплывают из Веракруса. Но в итоге большая часть кораблей последовала за «Дестини» до Ньюфаундленда, где они закупили рыбу и с ней вернулись в Англию. Можете вы себе представить выражение лиц вкладчиков? — Биддульф затряс своими седыми заушными хохолками. — Ньюфаундлендская треска вместо перуанского серебра! Вообразите негодование немецких и голландских князьев и герцогов, когда они узнали, что поддержка, которую окажут их священной войне, заключается в нескольких ящиках соленой рыбы!
Так к трагедии примешался фарс, ведь европейские правители скатывались к краю пропасти. Шли месяцы, и все чаще в ламбетской резиденции и в нашем министерстве появлялись курьеры. Трансильванцы осадили Вену; поляки вторглись в Трансильванию; турки напали на поляков — смертоносный круг ударов и контрударов, отплата злом за зло. Европа уподобилась лязгающему зубами зверю, кусающему свой собственный хвост. Переговоры отвергались, соглашения не подписывались. В Праге на собрании богемских землевладельцев выбросили из окна двух католических посланников, но те уцелели, приземлившись в навозную кучу. Так вот: их спасение было воспринято по всей Европе с благоговением, как Божественное знамение. Начали собираться новые армии. В небе появились три кометы, и астрологи восприняли их как неопровержимое доказательство близкого конца света.
— Что было отчасти верно, не так ли? — с унылым видом заметил Биддульф. — Поскольку последовало тридцатилетие самой ужасной войны, которую только знал мир.
Какое-то время мы молча шли по берегу реки. Я все еще пытался переварить все, что только что узнал, найти некую связующую нить между всеми этими причудливыми поступками, странными и наполовину скрытыми от глаз событиями, за которыми стоят таинственные игроки, — хотя все это, насколько я мог понять, имело мало отношения к тому, что Алетия рассказывала мне о Генри Монбоддо и о «Лабиринте мира».
Биддульф уже описывал, как через недолгое время запыхавшийся курьер доставил в министерство очередные новости. Это случилось поздней осенью 1618 года, вскоре после того, как появились зловещие кометы, а Рэли взошел на эшафот, сколоченный специально для него во дворе Вестминстерского дворца. В сообщении утверждалось, что испанский галеон «Сакра Фамилиа» [51], принадлежавший мексиканскому флоту, пошел на дно вместе со всем экипажем у берегов испанского порта Сантьяго-де-Куба. Об этом утоплении было известно доподлинно, а вот обстоятельства, приведшие к нему, были весьма таинственны. В Морском ведомстве ходили слухи, что «Сакра Фамилиа» взяли на абордаж и затем потопили солдаты с «Филипа Сидни». Ведь «Сидни» пока не вернулся в Лондон. Очевидно, что он, наряду с еще несколькими кораблями из этой флотилии, пиратствовал в Вест-Индии, по примеру потерпевшего поражение Дрейка, занимавшегося тем же промыслом в девяносто шестом году прошлого века. Но даже в Морском ведомстве почти невозможно было выяснить подробности. Факты и выдумки безнадежно сваливались в одну кучу.
Вскоре поступило новое сообщение, что «Филип Сидни» затонул в Вест-Индии, быстро сменившееся, однако, другим — утверждающим, что «Филип Сидни» взял на абордаж «Сакра Фамилиа», а затем пришло третье известие — что «Сакра Фамилиа» просто затонула, попав в сильный шторм. Но один слух пользовался поистине долгим успехом — достаточно долгим для того, чтобы превратиться из слуха в нечто более почтенное — в миф. Он много лет процветал в тавернах Тауэр-Хилла и Ротерхита, в общем, везде, где собирались моряки. Как и остальные слухи, он утверждал, что «Филип Сидни» погнался за испанским галеоном и затем, расстреляв его из бортовых пушек, наблюдал, как судно тонет вместе со всем экипажем. Однако галеон-то был крайне необычный.
— Я знаю эту историю, — сказал Биддульф, — ведь мне пришлось выслушать ее не меньше дюжины раз Она касается некоторых пассажиров, путешествовавших на борту «Сакра Фамилиа». Можно сказать безбилетных пассажиров. Они выжили и доплыли до берега, уцепившись за обломки корабля.
— И что же это были за люди? — Я уже слушал с напряженным вниманием. — Испанские моряки?
Он отрицательно покачал головой.
— Нет, совсем даже не испанские моряки. Их вообще нельзя назвать моряками. — Усмехнувшись своим мыслям, он выплюнул на траву табачный сок. Мы уже почти дошли до Уоппинга, и впереди на причалах Нью-Крейн-Стайерс грелись на солнце многочисленные лодочники. — Крысы. Вот кого команда «Сидни» видела плывущими к берегу, пока «Сакра Фамилиа» шел ко дну. Множество крыс. Вода просто кишела от них, а некоторым даже удалось забраться на борт «Сидни». О, я понимаю, какой корабль не кишит крысами? Но учтите, это были не простые крысы. Никто из тех моряков никогда не видел подобных. Они были в два раза больше тех, что шныряли в трюмах «Филипа Сидни». Огромные, толстые, рыжие с проседью твари, коротконогие и короткохвостые. — Он помедлил немного, скривив рот в какой-то нервной улыбке. — В итоге, мистер Инчболд, эти создания оказались не кем иным, как бамбуковыми крысами.
Мне не приходилось слышать о подобных вещах.
— Надо же, а я считал, крысы повсюду одинаковые.
— Отнюдь нет. Джонстон в своей книге «Развитие млекопитающих» описывает добрую дюжину разновидностей, включая рисовую крысу и тростниковую крысу. Но это особый вид: бамбуковая крыса уникальна тем, что ее диета состоит исключительно из побегов бамбука.
— Бамбука? Я не знал, что в Мексике растет бамбук.
— Я тоже, — согласился Биддульф. — И никто его там не видел. И в Вест-Индии также.
— Откуда же взялись эти крысы, если не из Мексики или не из Вест-Индии?
Он пожал плечами.
— А разве это не очевидно? Должно быть, они забрались на борт «Сакра Фамилиа» в том месте, где бамбук растет. А где же можно найти бамбук, как не на тихоокеанских островах? На «Островах пряностей», к примеру. Джонстон так и говорит, что бамбуковая крыса особенно многочисленна именно на Молуккских островах.
— Выходит, что «Сакра Фамилиа» шла с Молуккских островов?
— Или еще с какого-то тихоокеанского острова. Да. Загадка только, что они делали там, ведь в те годы испанские экспедиции в Тихий океан были редкостью. Менданья в последний раз отправился на поиски Соломоновых островов в тысяча пятьсот девяносто пятом, затем последовали путешествия Кироса и Торреса в тысяча шестьсот шестом. На том испанцы, в сущности, и остановились. Вся акватория Тихого океана быстро стала владением злейших врагов Испании — голландцев, которые нашли новый путь в южные моря через пролив Ле-Мер. Многие из этих морских путей теперь полностью контролируются голландскими кораблями Ост-Индской компании, устранившими конкурентов.
— Значит, эта «Сакра Фамилиа» нашла иной путь, — с жаром сказал я, вспоминая статьи патента сэра Амброза и его обязательство открыть новый путь в южные моря. — Новый проход в Тихий океан через истоки Ориноко.
Биддульф стрельнул в меня удивленным взглядом.
— Такая мысль не приходила мне в голову, — ответил он, отрицательно покачав головой. — И слухи тоже об этом не упоминали. Однако должен признать, вы сделали интересное замечание. Но что бы там они ни открыли или чего бы ни достигли, «Сакра Фамилиа» была в Тихом океане, вот что кажется вполне определенным. Только вот маскировался галеон под мексиканское торговое судно. Эта экспедиция, судя по всему, проводилась в большой тайне, поскольку когда «Филип Сидни» атаковал «Сакра Фамилиа», испанская команда выбросила за борт все карты и описания маршрутов, судовой журнал, все судовые документы и вахтенный журнал — все, что могло выдать суть их путешествия. Должен сказать, они избавились от всего, за исключением запаха.
Это была заключительная и, возможно, самая любопытная часть истории. Поскольку «Сакра Фамилиа» даже на расстоянии распространяла удивительный запах. То был не обычный малоприятный запах корабля в море — вонь гниющей провизии, застоявшейся в трюмах воды, пропитанного влагой дерева и пороха и ночных посудин, перевернутых штормами. Напротив, от него доносился прекрасный аромат, который так и плыл по волнам к «Филипу Сидни», изысканный запах, напомнивший морякам аромат ладана или духов. Он, казалось, так и висел над водой еще много часов после того, как горящие обломки окончательно скрылись под водой. Ходили упорные слухи, что тот чарующий запах исходил не от груза — к примеру, взятого на борт на Молуккских островах, — но от самого корабля, словно дивный аромат источали каким-то таинственным образом его бимсы и мачты.
— Не знаю уж, что можно вывести из всех этих историй о крысах и о прекрасном аромате. Только то — если все это не сказки, — что «Сакра Фамилиа» была просто не тем судном, за которое себя выдавала.
Пожалуй, заинтригованно подумал я, путешествие этого галеона не менее таинственно, чем плавание «Филипа Сидни», и судьбы их явно связаны.
— Очень сожалею, господин Инчболд, — сказал Биддульф с мягкой улыбкой, открывая со скрипом дверь своего домика. — Боюсь, мне больше нечего вам рассказать. Слухи и сплетни — это все, что я когда-либо слышал об этом эпизоде.
Мы вошли обратно в маленькую комнату, где меня угостили очередной порцией ромбольона. В течение следующего часа я выслушал новые версии некоторых событий, придуманные Биддульфом на досуге, — включая «темное дело» (так он называл его) с убийством Бекингема в 1628 году: если официальная версия обвиняла в этом злодеянии полубезумного пуританского фанатика, он возлагал ответственность за содеянное на агента кардинала Ришелье, хитроумно замаскированного под фанатика-пуританина. Но я уже едва слушал Биддульфа. Вместо этого я размышлял о необычайной расплывчатости фигуры сэра Амброза — по крайней мере для меня, — который уже не раз маячил на горизонте, но тут же исчезал, так и не обретя четкие формы. Я вспоминал также таинственное издание Theatrum orbis terrarum Ортелия 1600 года и патенты, хранившиеся в архиве Алетии, и думал о том, как сэр Амброз появился в Праге в 1620 году — от его таинственных похождений в Вест-Индии эти события отделяло два года и шесть тысяч миль. Интересно, есть ли какая-то глубинная связь между двумя этими обреченными на провал авантюрами, тайная история, как-то связанная и с утраченным герметическим текстом, который так жаждали заполучить Генри Монбоддо и его таинственный клиент? Или я просто заразился небезынтересным логическим умозаключением Биддульфа, согласно которому между любыми двумя событиями, как угодно далеко разнесенными во времени и пространстве, всегда найдется связь?
И тут я вспомнил о том, что собирался спросить у него еще пару часов назад. Я уже, в общем-то, вышел из его дома, и мы как раз прощались. Солнце скатилось за далекий силуэт «Редкой Книги», и речные волны казались серыми, как крылья чайки. Я чувствовал, что ромбольон производит какие-то непонятные действия с моими внутренностями. Выйдя на крыльцо, я тут же оступился, а в ушах у меня стоял слабый звон, высота которого увеличилась, когда мы вышли на улицу. Наши тени протянулись через весь крошечный садик.
— А вот интересно, — спросил я, после того как мы пожали друг другу руки, — вы когда-нибудь встречали капитана Плессингтона? Он заходил в Морское ведомство?
— Нет. — Биддульф отрицательно качнул головой. — Я не встречался с Плессингтоном. Ни разу. Вы же понимаете, он был слишком важной фигурой, чтобы иметь дела с такими, как я. Ведь в те времена я служил всего лишь скромным помощником делопроизводителя. Хотя нет, однажды я его видел, и это случилось в тот вечер, когда «Сидни», отшвартовавшись от пристани, шел вниз по Темзе. Плессингтон стоял на шканцах, и я смутно видел его в слабом свете кормового фонаря.
— А вся подготовка к плаванию?..
— О, Плессингтон завел для таких дел посредника. Все организационные дела решались либо им, либо корабельным казначеем «Сидни».
— Посредника?
— Да. — Глубоко задумавшись, он поглядывал на крышу своего домика. За нашими спинами вздыхал и поплескивал волнами ветер. — Сейчас… как же, черт побери, его звали? Я провел столько времени в царствовании королевы Елизаветы, что в моем старом мозгу порой перепутываются все имена. Нет-нет… Постойте-ка! — Внезапно его лицо просветлело. — Да, точно, я вспомнил все-таки его имя. Странное имя к тому же. Монбоддо, — торжествующе произнес он. — Да, именно так. Его звали Генри Монбоддо.
Глава 12
Как говорил философ Лукреций, нет более грандиозного зрелища, чем кораблекрушение. И крушение «Беллерофонта» действительно было впечатляющим для зрителей, которые, покинув свои фермы и дома, собрались на продуваемом ветрами берегу, у Чизлетских топей. Ближе к вечеру, между пятью и шестью часами, он развалился на части на Маргит-Хук. Средняя часть судна уже получила пробоину, потом волны развернули его правым бортом к рифу — самому большому и самому опасному рифу на всем побережье Кента, — и всего лишь через несколько секунд, зачерпнув дюжину тонн воды, он неуклюже завалился на один борт. Мачты рухнули, как подкошенные колокольни, оторвались реи и ванты. Волны вспенились белым вихрем и обрушились потоками воды на полубак. Все оказавшиеся на верхней палубе были смыты в бурное море, хотя тем, кто находился на нижних палубах, пришлось не лучше. Людей, отчаянно работавших ручными насосами, также затопило, когда потоки воды хлынули в трюм, или задавило насмерть разнокалиберными бочками, полетевшими вниз со вставшей на дыбы палубы, точно стадо перепуганных быков. Раскалывались черепа и ломались шеи падавших на пиллерсы, которые и сами тут же раскалывались на части, а когда очередной поток воды хлынул в отверстия люков, утонули и те, кого, по несчастью, поймали в ловушку упавшие бимсы. Так уж случилось, что, когда, наскочив на Маргит-Хук, «Беллерофонт» разлетелся на тысячу частей, на нем не осталось ни одной живой души.
Обломки исчезли быстро. Почти сотня зрителей собралась на топком берегу, где горели три огромные кучи плавника. Яркий свет этих костров придавал зрелищу почти праздничную атмосферу. Гибель какого-нибудь корабля на отмели Маргит-Хук являлась единственным утешением в жизни обитателей этого медвежьего угла. Народ надеялся, что повторится знаменитое кораблекрушение трехлетней давности, когда на этом самом месте «Скифия» раскололась, точно устрица, — тогда скромным рыбакам и собирателям береговых улиток удалось упиться до положения риз благородной испанской мальвазией, приговорив две сотни больших бочек. Поэтому лишь только море слегка успокоилось, целая флотилия примерно из дюжины тендеров и смэков вышла в море. К рассвету на берег вытащили чуть больше двадцати ящиков и тринадцать мокрых и взъерошенных членов команды.
Среди них был и капитан Квилтер. Больше десяти часов его качало и швыряло по волнам, носило туда-сюда приливными и отливными потоками, но он упорно цеплялся за один из девяноста девяти контрабандных ящиков. А когда прилив вторично достиг максимума, перед капитаном вдруг замаячили костры и его ящик с глухим ударом выбросило на мелководье. Это испытание совсем истощило промерзшего до костей Квилтера, и едва его ноги коснулись наконец прибрежной гальки, он заметил трех мужчин, бредущих ему навстречу, — вот спасители, подумал он, — но они отпихнули его обратно в море. А ящик выволокли на берег и присоединили к остальному улову.
— Эй, вы не имеете никаких прав на этот груз. — Капитан поднялся из воды и пошлепал по песчаному заиленному берегу к группе людей, собравшихся вокруг одного из костров. Из воды вытаскивали очередные ящики и сундуки, а часть запряженных ослами телег с разномастной добычей уже двинулась от берега в глубь острова. — Эти ящики смыло с нашего корабля, они законная собственность «Беллерофонта», и я как его капитан…
Запоздало заметив взметнувшийся аншпуг, капитан Квилтер вновь рухнул на колени. Его рука попыталась нащупать за поясом пистолет, которым он запасся на случай, если придется отбиваться от Роули и его дружков, но, конечно, и пистолет исчез. И та малость, что осталась от его корабельного груза, — те остатки, что он мог бы вернуть своим вкладчикам с Королевской биржи, — все сейчас исчезало в руках этих береговых пиратов.
У другого костра, как он обнаружил, грелась горстка трясущихся от холода, с посиневшими губами людей — немногие уцелевшие матросы с его корабля. Трое из выбравшихся на берег, включая Пинчбека, умерли в течение последнего часа. Их тела отнесли к телам восьми других моряков, чьи захлебнувшиеся трупы прибило к берегу. Карманы их штормовок и широких штанов мародеры лишь наспех прощупывали: главный их расчет был на выплывшие на поверхность сундуки. Сердце Квилтера упало при виде этого зрелища. Грабители толкали и пинали трупы, до жути напоминая хлопающих крыльями стервятников, но закоченевший капитан был еще слишком слаб, чтобы прогнать их.
Некоторые из береговых пиратов оказались все же порадушнее. Уцелевшим дали одеяла и ломти хлеба с сыром да в придачу еще бутылку бренди, из которой моряки потихоньку отхлебывали. Минут через пятнадцать, когда еще один спасенный испустил последний вздох, но сам Квилтер почувствовал, что начинает оживать благодаря целительным силам бренди и костра, вдруг раздался треск оружейного выстрела — хотя откуда стреляли, никто потом не мог толком вспомнить. На мгновение Квилтер подумал, что этот выстрел предназначался ему, но увидел, что рывшиеся в ящиках и возле трупов грабители с удивленными криками бросились в укрытие. Затем над берегом прогремел второй выстрел.
К этому времени он уже полз по-пластунски по илистому, покрытому водорослями песку, чтобы спрятаться за вынесенной на берег бочкой. Первые рассветные лучи озарили обломки «Беллерофонта», усеивающие почти всю морскую гладь, обозреваемую с берега. Дождь превратился в легкий туман, и Маргит-Хук исчезла под водами прилива. Прекрасная погода для отплытия, с горечью подумал Квилтер. Он видел, как приливная волна вынесла на берег часть киля. Затем очередной выстрел прорезал тишину, и Квилтер спрятал голову за бочку. Впереди потрескивал и шипел костер, отбрасывая на песок неровные тени, источая дым. Чуть погодя Квилтер поднял голову, ожидая увидеть сэра Амброза, бредущего по берегу и размахивающего своим ятаганом или пистолетом, но вместо этого в глаза ему бросился покачивающийся на горизонте корабль, выглядевший скорее как призрак, — то был их бывший попутчик, «Звезда Любека».
Завеса водяной пыли почти скрывала ганзейское судно. Оно по-прежнему имело сильный крен, и его несло по ветру под спущенными парусами — и все-таки оно уцелело и держалось на плаву. На верхней палубе маячили фигуры моряков, поднимающих уцелевшие паруса на обломанные мачты. Но мушкетный огонь, понял Квилтер, звучал гораздо ближе к берегу.
Четвертый выстрел полыхнул вдоль прибрежной полосы. Грабители, ругаясь между собой, отступили дальше к безопасным зарослям ивняка. Квилтер видел, как они шарят в своих поясах, нащупывая кинжалы и старинные фитильные пищали, — только вот фитили невозможно будет зажечь из-за мелкой измороси.
Его взгляд скользнул влево, где из-за дыма и обломков только что появилась одномачтовая лодка с хлопающим, вздуваемым ветром парусом. Чуть позже он разглядел маячившую на носу фигуру, мужчина припал на одно колено, словно почтительно приветствовал кого-то. Догадавшись, что это все же не приветствие, Квилтер сообразил, что мужчина целится из мушкета в людей, оставшихся около сложенных в пирамиды ящиков. После пятого выстрела одна из фигур крикнула как коршун, выгнулась дугой и рухнула на песок. Лодка шла вперед, качаясь носом на волнах.
Пожалуй, там действительно сэр Амброз Плессингтон, решил Квилтер. Довелось же такому шельмецу, как он, выжить, когда такой порядочный человек, как старина Пинчбек, погиб! Две другие Фигуры — спутники сэра Амброза, предположил он — сгорбились на корме, едва различимые за надувшимся парусом. Значит, и они пережили это кораблекрушение. Теперь заявятся сюда и потребуют то, что осталось от их драгоценного груза, от тех дьявольских реликвий, которые, можно сказать, и стали причиной всех этих ужасных злоключений.
Он перекатился из-за своей бочки и попытался подняться на ноги. Лодка уже была на мелководье, парус свернули, один человек на банке работал веслами. Квилтер захромал к пенящейся воде, размахивая руками, как прохожий на лондонской улице, отчаянно подзывающий наемный экипаж.
— Сэр Амброз! — Он сделал еще шаг вперед по воде. Лодка подошла к берегу, и мужчина, стоявший на носу, уже перелезал через борт. — Сэр…
Еще до того, как мушкетная пуля просвистела мимо его плеча, заставив его вновь броситься под защиту бочки, он понял, что на носу стоял вовсе не сэр Амброз и что лодка эта не с «Беллерофонта».
Ярдах в пятистах от капитана Эмилия также наблюдала за высаживающимися из лодки тремя мужчинами. Она оказалась на берегу почти час назад. Так уж случилось, что капитан оказался прав. Она и Вилем действительно спаслись после гибели «Беллерофонта» вместе с сэром Амброзом. Им удалось освободить один из баркасов от его парусиновых подвязок и забраться в него буквально минут за десять до того, как корабль развалился на части. Путешествие от корабля к берегу, расстояние не больше мили, по опасностям и трудностям превзошло даже их переезд от Вроцлава до Гамбурга. Планширы на этом баркасе были повреждены, а весла уплыли. К тому же в днище образовалась течь, и за час набралось столько воды, что Вилем и сэр Амброз стали отчерпывать воду своими шляпами, а Эмилия — подолами своих юбок. Но так или иначе их суденышко осталось на плаву. И следующие десять часов их носило взад-вперед по волнам; костры тускло маячили впереди, когда течение направляло их к берегу, и совсем бледнели, когда их относило прочь. Но наконец ветер стих, и парус — изорванный кусок парусины — был поднят. Спустя пятнадцать минут они протащили лодку по гальке на песок.
Сейчас Вилем и сэр Амброз вытаскивали на берег ящики, волоча их по шуршащей гальке, по створкам хрупающих под ногами улиточных раковин. В лодку успели спустить пять ящиков с книгами. Сэр Амброз объяснил, что остальные ящики придется поднимать со дна. К счастью, сказал он, в Эрите есть команда водолазов, имеющих особые водолазные колокола и даже приспособление под названием «субмарина» — хитроумное изобретение голландского мага Корнелия ван Дреббеля, с которым сэр Амброз встречался в Праге. Их услугами пользовались торговцы и вкладчики Королевской биржи для спасения грузов, ведь на рифах Гудвин-Сэндс, да и на других отмелях в устье Темзы ежегодно разбивалось более тридцати кораблей. А субмарина — просто чудо инженерного искусства, судно, сделанное из легкого бальзового дерева и кожи гренландского тюленя, оснащенное шверцами и надувными камерами, — отлично справится со сложными подводными работами.
— Вы должны как можно быстрее отправиться в Лондон, — говорил сэр Амброз, волоча очередной ящик. — Немедленно. Монбоддо ждет вас. И Бекингем тоже. При первой же возможности я отправлю сообщение в Морское ведомство.
Обхватив второй конец этого ящика, Вилем вытащил его из ила, и они вместе с сэром Амброзом дотащили его до берега и поставили на песок. Крышка съехала набок, и часть содержимого даже вывалилась наружу. Мужчины поплелись к лодке за следующим ящиком, а Эмилия перекладывала книги, последняя из которых, раскрывшаяся как палатка и сильно поврежденная водой, оказалась объемистым томом, известным ей по Испанским залам; одну из таких книг Вилем читал ей всего лишь пару месяцев назад — Anthologia Graeca[52], собрание эпиграмм, составленное в Константинополе ученым мужем по имени Кефалас. Оригинальный текст обнаружили среди манускриптов Пфальцской библиотеки в Гейдельберге, хотя данный перевод был напечатан в Лондоне.
Она перевернула этот том, но не сразу закрыла его промокшую крышку, от которой исходил запах мокрой сапожной кожи, — внимание Эмилии привлек отрывок на середине открытой страницы, подсвеченной неярким светом костра:
Где твоя восхитительная красота, дорийский Коринф, где твоя башенная корона? Где твои древние сокровища, где бессмертные храмы, где дворцы и где жены Сизифидов и десятки тысяч твоих бывших жителей? Ибо даже и следа, о великая печаль, не осталось от тебя, и война смела все воедино и начисто поглотила все…
Вилем читал ей эти строки одним пасмурным сентябрьским вечером, когда до Праги долетели вести, что войска испанского генерала Спинолы вторглись в Пфальц и вскоре будут осаждать Гейдельберг — в замкнутом круге вражды, то расширяющемся, то сужающемся, захватывающем полушария и столетия, начиная с гибели Коринфа и Константинополя, — и то, что осталось от пфальцской библиотеки, включая это издание Anthologia Graeca.
С другого конца берега донеслись какие-то беспорядочные крики. Грабители убегали, в спешке натыкаясь друг на друга и взметая за собой комья грязи и песка. Сама не зная зачем, Эмилия сунула эту книгу в карман и попыталась закрыть деревянную крышку.
— …на Стрэнде, — добавил сэр Амброз. Они с Вилемом принесли очередной ящик. — Йорк-Хаус. На берегу Темзы. Мне уже приходилось раньше пользоваться его услугами.
— Да?
— Он один из лучших. Живопись, скульптура, книги. Никаких сомнительных делишек. К тому же он уберег изрядное количество безделушек от алчных ручонок графа Арундела, уж я-то знаю, о чем говорю.
Вилем тяжело дышал:
— А он знает о нашем плане?
— Безусловно знает. Он знал обо всем с самого начала. Не беспокойтесь. — Опутавшие ящик водоросли свалились на песок. — Он настоящий профессионал.
— И заслуживает доверия?
— Заслуживает ли он доверия? — Сэр Амброз фыркнул от смеха и, приподняв одну бровь, глянул на Вилема. — О, Монбоддо платит хорошей монетой, мы можем не волноваться на сей счет. Вы оба будете в безопасности. Главное — добраться до Лондона, — добавил он, кивком указав на грабителей, которые, поскальзываясь и спотыкаясь, бежали в их сторону. Недалеко за ними виднелись три человека, сошедшие с лодки. — К несчастью, я, кажется, потерял пистолет, — сказал он небрежным тоном и медленно зашагал к баркасу. — Не говоря уже о моей сабле. Похоже, друзья, нам предстоит выпутаться еще из одной опасной ситуации.
Ни один экипаж не двигался по дорогам Англии в те дни так быстро, как те, что принадлежали почтовой службе Ведомства иностранных дел, возглавлявшейся Де Кестером. Любой транспорт в службе Де Кестера специально предназначался для того, чтобы миновать семидесятимильное расстояние от Лондона до Маргита, или от Маргита до Лондона, меньше чем за пять часов, даже с несколькими пассажирами на борту и тяжелым грузом, насчитывающим десяток почтовых мешков, привязанных к кожаной крыше или уложенных внутри экипажа. Все деревянные детали упряжи изготавливались из легчайшей сосны, оси смазывались графитом, подрессоренные колеса оковывались железом. Все это хитроумное изобретение тащили по дорогам упряжки берберийских лошадей, которых именно для этой цели выращивали в конюшнях Кембриджшира. И вот когда над Чизлетскими топями рассвело, там можно было увидеть необычное зрелище: одна из этих стремительных почтовых карет ползет, увязая в грязи, еще медленней, чем нагруженные ящиками и запряженные ослами повозки, ползущие в противоположном направлении.
В низменных краях Кента этот участок дороги особо славился своими рытвинами и тем, что его затопляло при первых же признаках дождя. Кучер почтовой кареты, некто Фокскрофт, прищурившись вглядывался в туманную изморось и, поеживаясь в своей брезентовой куртке, вел упряжку по этой коварной дороге. Он выехал из Маргита шесть часов назад и уже не поспевал доставить к сроку в Лондон почтовые мешки из Гамбурга и Амстердама. Он мог бы прибыть в столицу вовремя в любую погоду, если бы поехал по главной дороге через Кентербери и Фавершам, а не по этому злосчастному окольному пути, вдоль продуваемого ветрами берега. Но конечно, он не осмеливался теперь ездить по главной дороге, так же как не осмеливался больше носить и красно-золотую ливрею Де Кестера. В данное время лорды совета все еще спорили, не посягает ли монополия Де Кестера на права лорда Стенхопа, начальника почтовой связи, который с недавних пор стал использовать своих собственных агентов — банды негодяев, по мнению Фокскрофта, — для перевозки писем в Гамбург и Амстердам. Еще и месяца не прошло, как Фокскрофт попал в засаду у стен Кентербери; а недели две назад бандиты в масках напали на другую карету в Гэдс-Хилле. В обоих случаях грабители были одеты как разбойники с большой дороги, но все знали, что за этими нападениями стоят наемники лорда Стенхопа. И потому вот уже несколько недель Фокскрофт был обречен ездить этим окольным путем — путем настолько безлюдным и заброшенным, что даже самые отчаянные разбойники и не подумали бы появиться здесь, тем более декабрьским утром, таким холодным и промозглым, как сегодня.
И поэтому Фокскрофт поначалу не поверил собственным глазам, когда, сделав поворот, увидел вереницу приближающихся повозок, а за ними на берегу какой-то переполох — огонь, дым, мечущиеся фигуры. Опять наемники лорда Стенхопа? Он испуганно выругался и натянул поводья, пытаясь остановить лошадей, но было слишком поздно: от грохота, напоминающего ружейный залп, берберийские кони заржали и встали на дыбы. Фокскрофта сильно тряхнуло, но он успел выпрямиться, ухватившись за край сиденья одной рукой, а другой — удерживая вожжи. За миг до того, как шляпа съехала ему на глаза, он разглядел вдалеке нечто похожее на следы недавнего кораблекрушения.
Лошади очертя голову рванулись вперед по грязи, мимо вереницы мулов, по узкой дороге к берегу и его оранжевым кострам. На очередном повороте карета жалобно заскрипела и завизжала, дав резкий крен и выбрасывая куски грязи на обочину дороги, с обеих сторон заросшей ивняком. Фокскрофту показалось, что в кустах прячутся какие-то люди. Но затем одно из колес наскочило на камень и он подпрыгнул на козлах, как деревенская мегера на своем позорном стуле.
Меньше чем за минуту карета вылетела из этой грязи на еще более грязный и топкий берег. Тут колеса наткнулись еще на пару камней, и Фокскрофт чудом не вылетел с козел, но ему удалось ухватиться обеими руками за сиденье, хотя ноги его болтались едва ли не в дюйме от вращающихся спиц. За борт полетели два мешка с почтой и его собственная шляпа. Затем оправленные в железо колеса увязли в песке, движение кареты резко замедлилось, и тут грянул еще один выстрел, на этот раз уже гораздо ближе. Лошади вновь взвились на дыбы. Сделав отчаянное усилие, Фокскрофт подтянулся и рывком вскочил обратно на козлы.
И именно тогда он впервые увидел эти темные фигуры: к нему разом бросились человек пять или шесть. Пожалуй, все-таки какая-то засада. Он развернулся и поискал хлыст, но хлыст исчез вместе с почтовыми мешками и шляпой. Лошади вновь заартачились, и вдруг накренившаяся на один бок карета почти остановилась, ее колеса глубоко увязли в песке.
— Но! Пошли!
Фокскрофт полез за мушкетом, спрятанным за козлами, но тот тоже исчез, как и мешочек с дробью. Он развернулся на сиденье, чтобы взглянуть на нападающих, — их было явно больше, чем в Кентербери. Лошади снова заупрямились, потом сделали резкий рывок, но колесные валы вспахивали берег, и карета продвинулась не больше чем на пару дюймов. Затем послышался треск рвущейся кожи, и карета, выехав на твердую гальку, пошла быстрее.
Но было слишком поздно, понял Фокскрофт. Головорезы его светлости — добрых полдюжины — уже почти настигли его.
— Пресвятая Богородица, — прошептал он, готовясь к прыжку.
Спрятавшись за бочкой сельди, сброшенной с борта «Звезды Любека», капитан Квилтер следил за злоключениями кареты, запряженной шестеркой лошадей. Прикрывавшую его бочку уже пробила мушкетная пуля, и рассол вытекал через расщепленную доску на песок. Услышав крик от кустов ивняка, он повернул голову и заметил несущуюся к воде карету, из которой вывалилась в грязь пара мешков.
Ухватившись за обруч бочки, капитан приподнялся на пару дюймов. Мягкий песок проваливался под его коленями, как болотная кочка. Еще один крик, на сей раз с другого конца берега. Повернув голову, он заметил группу людей, бегущих к карете. Экипаж уже остановился, пробороздив песчаную илистую полосу у края воды. Лошади вставали на дыбы и брыкались, а одинокая фигура на козлах лихорадочно пыталась высвободить перепутавшиеся поводья.
Поднявшись на ноги, Квилтер пристально смотрел сквозь дождевую пелену на странную сцену, которая происходила перед его глазами. Три фигуры добежали до кареты, как раз когда Фокскрофту удалось распутать поводья и карета тронулась с места. Еще три человека — один из них с мушкетом — немного отстали, но быстро нагоняли первую тройку.
— Но! Пошли!
— Забирайтесь! — Это был сэр Амброз, подсаживавший одного из своих спутников — а именно даму — на козлы. — Пошел! Вперед!
Один из преследователей упал на колено. Его мушкет полыхнул и чихнул, выпустив струйку дыма. Но карета уже набрала ход, раскачиваясь из стороны в сторону, как баркас в бурном море. Вторым запрыгнул в карету худощавый мужчина без шляпы. Он держался за перекладину багажного отделения, а сэр Амброз бежал рядом, протягивая своему спутнику некий сундучок. Тот изо всех сил выгибал свое тощее тело и тянул руки к сундучку, их преследователь, одетый в ливрею, перезаряжал мушкет.
Но в этот момент новое событие отвлекло внимание Квилтера. Внезапно прогремел оглушительный взрыв: должно быть, в одной из кают «Беллерофонта» от фонаря или топки воспламенился разлитый кожаный бурдюк или бочка со спиртом. Рухнув на колени, Квилтер взглянул в сторону банки и увидел фонтан оранжевого огня, пиротехническую демонстрацию, настолько впечатляющую, что она затмила пламя костров и даже блеск выступившего из-за облаков утреннего солнца. Струи огневого дождя еще падали в море, когда Квилтер повернул голову, чтобы взглянуть на карету. Но ни кареты, ни ее пассажиров уже не было видно. Окинув взглядом уходящий вдаль берег, он увидел лишь трех преследователей, чьи черные, отделанные золотом плащи полыхали красноватой медью в отблесках множества низвергающихся обломков его корабля.
Глава 13
Я проснулся на следующее утро, испытывая легкое недомогание. Во рту все пересохло, и нёбо покрылось каким-то странным сладковатым налетом. Когда, пошатываясь, держась за столбик кровати и чувствуя непонятную слабость, я поднялся на ноги, то понял, что тело стало скользким от пота, а постельное белье так пропиталось влагой, словно меня всю ночь лихорадило — или во сне мне пришлось усердно трудиться. Испугавшись, я поначалу подумал, что подхватил лихорадку или еще что похуже (со времени смерти Арабеллы я был склонен к ипохондрии), но затем с уколом облегчения вспомнил ромбольон Биддульфа. Прошлый вечер всплыл у меня перед глазами: Уоппинг, Ориноко, Вильерс, Монбоддо — постепенно восстанавливаясь во всех подробностях. С тихим стоном я погрузился в кресло и несколько минут слушал безжалостно пронзительные крики серебристых чаек, хлопающих крыльями в поисках корма над мутной прибрежной водой. Казалось, я вспоминаю кошмарный сон, жестокий и пугающий. Должно быть, еще одно тревожное послевкусие вчерашнего ромбольона.
После того как я позавтракал редиской с черным хлебом, выпил утренний отвар и провел четверть часа на стульчаке над ночным горшком, мне стало немного лучше. Я спустился в магазин и следующие четверть часа занимался повседневными делами с тентом и ставнями, открыл дверь, навел порядок на прилавке, то и дело озадаченно останавливаясь и поглядывая вокруг в приятном изумлении, словно удивлялся тому, что мой магазин еще стоит, а сам я цел и невредим. Сегодня утром смолистый запах орехового и соснового дерева — запах свежего леса — придавал новую остроту привычно витавшим в воздухе пыльноватым запахам тряпичной бумаги и клееного холста. Магазин — как новенький, решил я, проверив полки и петли на зеленой двери. Я чувствовал себя как капитан, потерпевший кораблекрушение, которому мастерски починили корабль на далеком чужеземном берегу, и теперь ему настала пора отправляться домой.
Да, мне явно полегчало. Монк уже ушел на Почтовый двор, а я вышел из магазина и постоял немного на пешеходной дорожке, чувствуя, как новорожденное солнце мягко ласкает мое лицо, и окидывая слезящимися глазами проезжую часть, словно пытался уяснить свое местоположение относительно других вывесок. И тут внезапно мне вспомнился сегодняшний сон — с жуткой отчетливостью.
Обыкновенно я не придаю большого значения снам. Те немногие, что запоминаются, оказываются приземленными, расплывчатыми, бессвязными и неинтересными. Но этой ночью все было иначе. После возвращения из Уоппинга я удалился в спальню с экземпляром «Дон Кихота» и, дойдя до шестой главы, прочел, как священник и цирюльник осматривают книгохранилище несчастного безумца, а затем предают огню источник его сумасшедших фантазий. Именно этот эпизод и повторился в моем сне с тем лишь исключением, что горели уже не книги Кихота, а мои собственные. Сжимаясь от страха, я смотрел, как их срывает с полок и охапками бросает в костер какая-то шайка ухмыляющихся преступников, которая решительно не хотела растворяться, мельтеша туда-сюда в отблесках каминного огня. Вскоре эти фигуры исчезли во мраке, а я обнаружил, что нахожусь в Понтифик-Холле, один, сначала в библиотеке, где огонь пожирает книжные полки, потом, спустя несколько мгновений, уже стою снаружи в зеленом лабиринте и смотрю, как огромные щупальца черного дыма возносят к небу пепел и обрывки бумаги, которые возвращаются к земле угольной пылью проснувшегося вулкана. И вдруг Понтифик-Холл превращается в пылающий корабль, и сон мой завершается жутким грохотом ломающихся балок и падающих мачт. Тут я проснулся и обнаружил, что том «Дон Кихота» свалился на пол с моего живота.
Интересно, размышлял я, как же понимать столь обескураживающую цепь образов. Платон утверждает, что все сны суть пророчества грядущих событий, видения будущего, которые душа получает через печень, в то время как Гиппократ утверждает, что они — предвестники болезни или даже безумия. Ни то, ни другое меня не вдохновляло. И я решил последовать совету Гераклита, говорившего, что все сны — просто бессмыслица и поэтому на них лучше всего не обращать внимания.
Я еще стоял на улице под тентом, как слабоумный глазея с открытым ртом по сторонам, когда Монк вернулся с Даугейт, принеся почту. Пришло два письма: одно от книготорговца из Антверпена, другое от престарелого священника из Саффрон-Уолдена. Я проследовал за Монком в зеленую дверь. Впереди нас ждал новый день.
Часом позже наемный экипаж уже вез меня на Ситинг-лейн. Я не собирался вновь посещать Сайласа Кобба или Морское ведомство, а скорее предполагал побеседовать с приходским казначеем церкви Святого Олава. Подойдя к церкви, я обнаружил, что там еще идет утренняя служба, и поэтому тихонько проскользнул на одну из задних скамей и начал листать молитвенник — одну из тех книжиц, к сжиганию которых Кромвель и его генералы приложили все силы; я был смущен и почему-то полон сознания собственной греховности. Нельзя сказать, чтобы я часто захаживал в церковь — в отличие от Арабеллы, которая иногда посещала по две службы в день. Я не имел ничего против этих обрядов — ни против пуритан с мятежной строгостью тайных молений, ни против государственной церкви с ее ладаном, отгороженными алтарями и прочими полупапистскими ритуалами. Но мне лично больше по душе квакеры, верующие в так называемый внутренний свет, для воспламенения которого не нужны ни священники, ни таинства.
Сидя в солнечных лучах, льющихся сквозь витражные окна, я, однако, размышлял вовсе не о духовных предметах. Я думал о Генри Монбоддо и сэре Амброзе Плессингтоне, о том, какая же не поддающаяся точному определению связь существовала между «Лабиринтом мира» и их приключениями в Испанской Америке, между «герметическим сводом» и протестантскими фанатиками. Мои бесплодные размышления прервало окончание службы, и я направился вдоль по проходу навстречу прихожанам, размышляя, не покажусь ли я викарию, с моим, как обычно, неухоженным видом (да плюс болезненные последствия вчерашних возлияний), кающимся грешником, отмаливающим свою распутную жизнь. Как бы то ни было, он без видимых раздумий направил меня в ризницу, где я, найдя ризничего, объяснил ему, что хотел бы выяснить кое-что в приходских записях об одном из их прихожан — моем предке, уточнил я, — похороненном на здешнем церковном кладбище. Он охотно согласился мне помочь и после долгого копания в одном из шкафов выдал мне пухлый том, регистрационную книгу за 1620 год в переплете из воловьей кожи. Предложив мне присесть за его столик, он удалился в церковь, которая уже опустела, если не считать одной старушки, ковыляющей по проходам с шваброй в руках.
Приходская книга делилась на главы сообразно трем важнейшим этапам жизненного пути: крещение, венчание и смерть. Я быстро открыл раздел смертей. В сумрачной обстановке ризницы такое чтение не навевало веселья. Я знал, что в былые времена, как и в наши дни, приходские служащие составляли и выдавали свидетельства о смерти, а в приходские книги обычно записывали ее причины. Но я оказался совершенно не готов читать эти описания кончин, которые следовали за каждым именем и датой, графа за графой, страница за страницей: апоплексические удары, водянки, плевриты, сыпной тиф, дизентерия, «убиение», истощение, чума, отравление, самоубийство — и так далее, непрерывный каталог давно забытых трагедий. Одного бедолагу «покалечил медведь, сбежавший из медвежьей ямы в Саутворке», другого — «съел крокодил в Сент-Джеймсском парке». Имелись и записи, где причина смерти оказывалась не такой очевидной: к примеру, мужчины или женщины были «найдены мертвыми на улице» или «убиты осенью», а около некоторых имен стояла запись: «Причина смерти неизвестна».
Кончина Сайласа Кобба была в числе самых таинственных. После тридцати минут поисков я нашел его имя почти в конце книги, на страницах, отведенных декабрю, который, судя по всему, был особо опасным месяцем для прихожан Святого Олава. Но имеющиеся сведения разочаровали меня. Чья-то неуверенная рука просто записала, что Сайлас Кобб был «обнаружен мертвым в Темзе ниже Йорк-хауса». И больше ничего. Ни рода его занятий, ни места жительства, ни ближайших родственников. Никаких зацепок относительно его личности.
Потерянное время, решил я. Закрыв приходскую книгу, я поблагодарил служащего, но уже в дверях вдруг вспомнил вчерашний рассказ Биддульфа и его упоминание о том, что Йорк-хаус принадлежал Фрэнсису Бэкону, вероятному проектировщику «Филипа Сидни», который в конечном счете продал дом герцогу Бекингему, а тот, в свою очередь, хранил там книги и картины, пока его сын не был вынужден продать их, пригласив в качестве посредника (согласно словам Алетии) не кого иного, как Генри Монбоддо.
Я так разволновался, что у меня пощипывало баки… но вскоре решил, что, скорее всего, это просто мои странные фантазии. Если между Коббом и Бэконом или Бекингемом или Коббом и Монбоддо и могла быть какая-то связь, то лишь самая отдаленная. Да и связь Кобба с Йорк-хаусом и хранившимися там картинами — вероятно, лишь случайное совпадение, ведь приливы и отливы могли отнести труп и вверх, и вниз по течению, прежде чем его вытащили из реки поблизости от Йорк-хауса. Он мог свалиться в Темзу — или его сбросили в нее мертвым или живым — практически в любом месте от Челси до Лондонского моста. Ведомости рассылавшиеся по подписке, в те дни были полны историями о подобных коротких плаваниях; об отчаявшихся людях, которые прыгали с ограждений моста, но обязательно всплывали через несколько дней в трех или четырех милях ниже по течению.
Перед выходом из церкви я надумал спросить служку о надгробии Кобба, которое выглядело значительно новее соседних, значительно новее, подчеркнул я, чем те, что были изготовлены в 1620 году. Но служка только пожал плечами и пояснил, что это обычное дело — ставить новые надгробия над старыми могилами. Более того, получившие богатое наследство люди зачастую исправляли себе родословную, выбирая для могил своих предков местечко получше, — дело доходит даже до того, рассказал он, что эксгумируют кости из каких-нибудь мрачных отдаленных участков и перезахоранивают их в более почетное место, например в церковные нефы или склепы, а там уж место нового упокоения украшают дорогой мраморной плитой или даже бюстом или статуей. Вот порой так и получается, объяснил он, что в замечательной компании герцогов и адмиралов среди величественных памятников, изваянных в мраморе или отлитых в бронзе, вдруг, лет через пятьдесят после смерти, оказывается скромный лодочник или торговец рыбой. Но, по словам служителя, в церкви не ведется никаких официальных записей о таких улучшениях.
— Вы можете расспросить на сей счет плиточника или каменотеса, они занимаются резьбой по камню, — посоветовал он. — Обычно они записывают имена или гербы на обратной стороне плит.
Но мне не хотелось плестись при свете дня к могиле Кобба — как, впрочем, не хотелось и заходить в шумный и пыльный камнерезный двор, — с одной стороны, из-за полуденной жары, а с другой — из-за последствий употребления Биддульфова ромбольона. И поэтому я вернулся в «Редкую Книгу», размышляя, что же полезного для моих поисков есть в этих новых сведениях; если вообще в них есть хоть что-то полезное.
Остаток дня я занимался обычными делами среди моих книжных полок и в случае надобности обслуживал покупателей. Ах, славный целительный бальзам привычного распорядка, то, что Гораций называет laborum dulce lenimem, «сладостное успокоение напряженных трудов». Потом я подкрепился приготовленным Маргарет ужином, выпил пару бокалов вина и выкурил трубочку, а затем в десять вечера, мое обычное время, отправился в кровать, решив отложить вчерашнего «Дон Кихота» и водрузив вместо него на живот Вольфрамова «Парцифаля». Уснул я, должно быть, вскоре после того, как стража возвестила об одиннадцати часах.
Я никогда не мог похвастаться хорошим сном. С детства я был известным лунатиком. Мои странные гипнотические состояния и полуночные прогулки постоянно беспокоили моих родителей, наших соседей, и, наконец, господина Смоллпэйса, который однажды привел меня обратно в «Редкую Книгу», босоногого и растерянного, после того как я добрел уже до южных ворот моста. С возрастом мое лунатическое беспокойство превратилось в приступы бессонницы, преследующей меня и по сей день. Я подолгу лежал без сна, то и дело поглядывая, как стрелки часов пробегают круг за кругом переворачивая и взбивая подушку, отчаянно крутясь на тюфяке, словно сражался с врагами, прежде чем сон наконец наваливался на меня, чтобы прерваться чуть позже, когда его вспугнет легчайший шум или зазубренный осколок не оставшегося в памяти сновидения. Год за годом я выискивал разных фармацевтов, которые прописывали всевозможные лекарства от бессонницы. Я выпил множество пинт отвратительно пахнувших сиропов, сделанных из адиантума и семян мака (цветка, который, по словам Овидия, растет возле самой Обители Сна), или за час перед отходом ко сну в соответствии с рекомендацией натирал виски другой бурдой, составленной из сока салата-латука, розового масла и бог знает чего еще. Но ни одному из этих дорогостоящих эликсиров так и не удалось даже на минуту ускорить приход желанного сна.
В довершение всего с наступлением темноты «Редкая Книга» становится каким-то странным и даже пугающим местом (в особенности я стал замечать это, видимо, после смерти Арабеллы) — в просторном помещении лавки обитает гулкое эхо, половицы скрипят и ворчат, ставни дребезжат, камин завывает, крыша издает булькающие звуки, жуки топочут, крысы скребутся и попискивают, выдолбленные из стволов вяза трубы содрогаются и стонут, когда в них замерзает или оттаивает вода. Я считал себя здравомыслящим человеком, но долгие месяцы после кончины Арабеллы обычно просыпался совершенно внезапно, охваченный ужасом, по нескольку раз за ночь и дрожал под покрывалом, как перепуганный до смерти ребенок, слушая, как сонмы враждебных привидений и демонов нашептывают мое имя, как они бродят по моим комнатам и коридорам, занимаясь своими тайными делами.
В эту ночь я внезапно проснулся, испугавшись одного из таких звуков. Резко сел на кровати и нашарил на прикроватном столике кремневый пистолет. Я намеревался держать его под подушкой — так, по моим предположениям, делают все, кто боится взломщиков, — но вдруг мне представилось, что он выстреливает в меня, когда я поворачиваюсь во сне на другой бок, да и в любом случае оружие это было слишком большое и неудобное для того, чтобы пристроить его под моей тощей подушкой из гусиного пера. Поэтому я держал пистолет на ночном столике, зарядив дробью и порохом, но ствол направлял в сторону от изголовья кровати. Остальные боеприпасы находились в ящике, в том нагрудном патронташе, что одноногий ветеран продал мне вместе с оружием: тридцать свинцовых пулек, которые выглядели на редкость безвредными, словно окаменевший помет маленького грызуна.
После нескольких секунд суматошных поисков я наконец нащупал свой пистолет, сразу сжал его в руке и, стараясь не дышать, прислушался к этим раздражающим звукам. Они напоминали какое-то слабое дребезжание или позвякивание пары шпор. Но стало тихо. Эти звуки мне приснились, сказал я себе. Или прошла стража со своим колокольчиком.
Звяк-позвяк, звяк-позвяк, звяк…
Едва задремав, я вновь проснулся, услышав на сей раз определенно странные звуки, отличавшиеся от обычного домового репертуара: казалось, позвякивал тихий обеденный колокольчик или связка ключей на цепочке. Таким мог бы быть и отзвук колес или цоканье копыт, если не считать того, что вечерний звон уже давно миновал, а значит, и ворота должны быть заперты, и вряд ли какая-то карета могла сейчас катить по мостовой.
Я вновь приподнялся на кровати, опять-таки схватившись за пистолет. Зажег свечу и прищурившись взглянул на часы, которые тоже нашарил на ночном столике. Третий час ночи. Внезапно шум прекратился, как будто преступник спохватился и мгновенно затих. Спустив ноги на пол, я представлял себе, как этот злоумышленник стоит, прижавшись к стене, затаив дыхание и прислушиваясь.
Звяк-позвяк-позвяк-ЗВЯ-Я-АК!
Звуки становились более громкими и частыми, пока я крался по коридору и потом, затаив дыхание, спустился по лестнице первые пару ступенек. В темноте я хожу неуверенно — и все-таки я умудрился пропустить третью скрипучую ступеньку — решив застать неосторожных взломщиков врасплох, — а также пятую ступеньку, которая была на четыре дюйма выше, чем остальные. Мне не хотелось тревожить Монка, ведь он перепугался бы до смерти, увидев, как я с пистолетом крадусь по дому. И не хотелось также спугнуть грабителя, который — теперь я был в этом уверен — уже либо внутри лавки, либо еще пытается открыть входную дверь: поскольку источником странных звуков, как я понял, было звяканье отмычек.
Звяк-по-ЗВЯ-Я-АК…
Мой затылок покалывало от страха. Судорожно вздохнув, я покрепче сжал пистолет и нащупал босой пяткой следующую ступеньку. Звяканье прекратилось, но теперь я услышал щелчок замка и, ловил тихий скрип новых петель, подсказывающий, что зеленая дверь медленно приоткрылась. Я замер, стоя на одной ноге, не смея опустить на следующую ступеньку мою косолапую стопу. Взломщик крался по магазину, и половицы под ним тихо постанывали. Облизнув губы, я вслепую нащупал следующую ступеньку.
Случившееся далее, по-моему, было неизбежным. Крутые, слегка наклонные и стертые ступени винтовой лестницы были различны по высоте; а я к тому же был косолап и почти слеп, поскольку очки мои остались в спальне. И вот, когда я делал очередной шаг, моя покалеченная стопа соскользнула на следующую ступеньку, и я, вскрикнув, приземлился на лестничную площадку. Более того, пытаясь в темноте остановить свое падение, я выпустил пистолет. Он с шумом ускакал по лестнице впереди меня.
Я вздохнул и затаил дыхание. Вокруг стояла мертвая тишина. Полежав немного на лестничной площадке, я осторожно приподнялся и встал на карачки. Было так тихо, что мне на мгновение показалось, будто я ошибся и все мне приснилось, или чем-то звенел ветер, или со скрипом покачивался сам дом, вторя речному плеску. Но затем я безошибочно услышал звук шагов и спустя мгновение — шепот голосов.
Подобравшись, я приготовился к прыжку. Я мог еще дотянуться до пистолета. Но грабителей было по меньшей мере двое, а у меня, даже если я ухватил бы пистолет, был только один выстрел. Поэтому я продолжал сидеть скорчившись на лестнице и боялся даже дышать.
Еще через несколько ужасных секунд я услышал отчетливое шипение фитиля. Затем снизу хлынул конусом свет и по стене начали закручиваться тени. Вскочив, я стал пятиться по узкой лестничной площадке, стараясь нащупать ведущие вверх ступени. Но слишком поздно. Пара ботинок уже скрипела по ступеням всего несколькими футами ниже. Я услышал тихое шипение горящего факела, потом резкий царапающий звук — кто-то вынул из-за пояса пистолет. Еще пара мгновений — и они доберутся до меня.
Я развернулся и, нащупывая ступеньки, бросился наверх. Но едва мне удалось найти точку опоры, как чья-то холодная рука схватила меня сзади за шею.
В те дни дому «Редкой Книги» перевалило за восемьдесят лет. Его построили в Голландии в 1577 году и по частям перевезли в Лондон, где все его резные фронтоны и луковки куполов собрали вместе без единого гвоздя, деталь за деталью, словно сложили сегменты исполинской головоломки. Он стоял посередине моста, с северной стороны от небольшого разводного пролета, чьи деревянные зубчатые колеса скрипели и, вращаясь, терлись друг о друга шесть раз в день. И поэтому во время прилива шесть раз в день все движение на мосту заведомо останавливалось на двадцать минут, чтобы пропустить направляющиеся вверх по течению баржи и шлюпы, груженные солодом и вяленой треской, или лодки с корабельной провизией и полубаркасы, идущие к морю с большими бочками эля и мешками сахара для торговых судов в Тауэр-доке, а порой даже величаво проплывала яхта самого короля, державшая курс к стремнинам Гринвича. На мосту в такие моменты наступало затишье, рабочие лошадки и толпящиеся пешеходы — все замирали на месте перед этой сказочной процессией из двадцати или тридцати судов. В бытность моего ученичества я тоже обычно останавливался и удивленно наблюдал, как проезжая часть круто поднимается к небу и парусники осторожно проскальзывают мимо наших окон, их полотнища, наполняясь ветром, вздуваются, как жилет на гигантском пузе. Но затем господин Смоллпэйс окрикивал меня с другого конца лавки, и я с послушно переключал свое внимание обратно на стопки книг.
Этот впечатляющий ритуал наполнял сердце гордостью, но также наносил сильный ущерб дому «Редкой Книги», особенно моему углу, который непосредственно примыкал к разводной части и шесть раз на дню содрогался и стонал при ее подъеме. Вращались колеса, и плыла вверх мостовая, и я чувствовал, как содрогается у меня под ногами пол, и слышал дребезжание стекол в оконных рамах. Книги, понятное дело, падали с полок, чашки и тарелки — из буфетов, медные котелки и части разрубленных мясных туш — со своих крюков на кухне. Более того, вскоре после смерти господина Смоллпэйса я обнаружил в кабинете настолько большой зазор между одной из вертикальных балок и потолком, что стена начала угрожающе крениться наружу.
Надо было что-то делать. Нанятый мной в кузнице подмастерье должен был вернуть заблудившуюся балку на место, но во время его работ в ветхой фахверковой стене образовалась дыра, за которой оказалась маленькая полость. Расширив эту дыру, мы обнаружили комнатку, семи футов в высоту и трех в ширину, в которую я смог протиснуться и даже сделать пару шагов. Пробное простукивание железной кочергой показало, что в эту комнатку попадали через замаскированный на потолке люк, доски которого сейчас служили полом крошечного обувного чулана, расположенного этажом выше.
Кто соорудил эту тайную крохотную келью, оставалось лишь гадать. Я не нашел там ничего особенного, за исключением деревянной тарелки, ложки, слегка сплющенного серебряного подсвечника и кусков кожи, видимо, раньше составлявших кожаную куртку. Если я что-то и надеялся найти, так это пару алтарных сосудов или обрывки одеяния священника, ведь известно, что в правление королевы Елизаветы такие тайники были широко распространены, — маленькие потайные кельи под лестницами или под каменными плитами у каминов и очагов для укрытия католических патеров или других жертв наших религиозных гонений.
В тот вечер я сидел на полу в этой келье, подтянув к себе ноги и упершись подбородком в колени, и при свете горевшей в старом подсвечнике свечи пытался представить того, кто здесь прятался: монах-францисканец во власянице, может даже иезуит? На мгновение его образ очень отчетливо всплыл перед моим мысленным взором: маленький человечек, преклонивший колена на тростниковом коврике, шепчет мизерере и еле дышит в своем тесном и темном тайнике, а совсем рядом за тонкой стенкой перекликаются судебные исполнители, простукивая полы и стены рукоятками своих шпаг. Я не поддерживал папистов, но надеялся, что ему, кем бы он ни был, удалось спастись и сохранить свою скрытную жизнь — такое тихое, аскетическое и почти герметически запечатанное существование, к которому, как мне кажется, я всегда стремился. Возможно, поэтому, наняв плотника чтобы замуровать эту комнату, я в последний момент внезапно изменил ему задание и велел оставить это маленькое убежище так, как есть, но восстановить стену. Эту стену потом оштукатурили и закрыли панелями, к которым пристроили книжные полки. И вновь эта келья оказалась невидимой.
Я не надеялся, что мне доведется когда-нибудь заглянуть в потайную келью — боже упаси! Мне хотелось сохранить ее как своеобразный памятник, вот и все. В последующие несколько лет я почти не вспоминал о ней, хотя после того, как цензоры начали наносить свои краткие визиты, я воспользовался ею, чтобы спрятать несколько трактатов и памфлетов, которые в ином случае были бы конфискованы и сожжены. Никто больше не знал о существовании тайника, кроме Монка, для которого он стал местом бесконечного изумления. Частенько я слышал, как он топает там, внутри, затевая, как мне думалось, какие-то таинственные детские игры. Но однажды, открыв в обувном чулане люк и приглядевшись, я обнаружил, что он натащил в комнатенку всякий хлам — трехногий стул, свечи, одеяло, книги, даже раздобыл где-то старый ночной горшок. У меня возникло подозрение, что он вынашивает планы переселиться сюда. В общем-то, в этой келье, примерно одного размера с его спаленкой, вероятно, было не более неуютно.
Но как-то вечером, когда я сидел в кресле, я услышал страшный шум из-за стены и, быстро взлетев по лестнице, увидел, что он загоняет гвозди в подошвы трех пар старых ботинок, а потом прибивает их к крышке деревянного люка. Он объяснил мне, что придумал одну хитрость, в результате которой если он откроет люк и заберется в тайник — вот так, — то обувь останется на своих местах, когда он закроет крышку. А значит, вход будет по-прежнему замаскирован. Умно, не правда ли? Он высунулся из отверстия, тяжело отдуваясь. Я, безусловно, согласился с его доводами. Не было необходимости спрашивать, что вдохновило его на это изобретение. Всего три дня назад досмотрщики ворвались в его дверь поздно вечером и сунули ему в лицо зажженный фонарь.
— Хорошо придумано, — повторил я. Я решил простить ему испорченные ботинки, которые уже вряд ли стал бы носить. — Пожалуй, даже очень остроумно. — Но при взгляде на эту комнатенку мне припомнился горбившийся во мраке священник, моливший о сохранении своей подпольной жизни и скромной миссии. — Однако будем надеяться, что нам никогда не придется проверить твое укрытие на практике.
Мы закрыли люк и вышли из чулана. Потом целыми месяцами — иногда даже дольше — я не вспоминал о маленькой келье, примыкавшей к стене моего кабинета.
— Мистер Инчболд. — Шепот. Хватка на моей шее стала крепче. — Сюда, сэр. Наверх. Идите за мной…
Мы быстро поднялись, опережаемые нашими тенями. Миновали кабинет и спальню, завернули на следующий винтовой пролет. Снизу пробивался яркий свет факела и доносился топот быстрых шагов. Вся скрытность уже была отброшена. Я услышал угрожающие возгласы, затем наши преследователи, вероятно, оступились на высокой пятой ступеньке — до меня донесся глухой удар падающего тела и проклятия. Они поднялись, снова выругавшись, и возобновили погоню. Чей-то голос выкрикнул мое имя.
К тому моменту мы уже забрались наверх. Показывая путь, Монк проворно пробежал по коридору, пока я, ковыляя сзади него, цепенел от страха и оглядывался через плечо, ожидая, что вот-вот первая голова появится над верхней ступенькой. Я понятия не имел, что у него на уме (помимо бегства), пока не наткнулся на него. Монк стоял возле чулана и уже открыл изящным жестом дверцу люка, словно приглашал меня занять место в шикарной карете.
— После вас, сэр.
Я встал на колени и спустился вниз, в темноту, цепляясь кончиками пальцев за край отверстия, пока мои ноги не нащупали опору на стуле. Мгновение спустя Монк легко, как кошка, приземлился рядом со мной, затем тихонько опустил замаскированную дверцу люка. Мы оказались в полной темноте, даже лучик света не проникал к нам сквозь потолочные щели. Я совершенно не видел Монка, хотя слышал его сдавленное, затрудненное дыхание всего в нескольких дюймах от меня. Я развернулся, также с трудом переводя дух, но наткнулся на какое-то препятствие. Панический страх заполнил все мое существо. Мрак был настолько непроглядным, что воздух казался почти осязаемым и тяжелым.
Повернувшись в другую сторону, я опять наткнулся на стену. Эта нора была чуть больше гроба. Я уже собрался вылезти наружу, но тут Монк взял меня за руку, и мы услышали шаги — казалось, над нашими головами марширует целая армия. Незваные гости достигли верхней площадки лестницы. Чей-то голос вновь выкрикнул мое имя. Я попытался найти стул, чтобы присесть. Мне было нечем дышать. Топот ног стал громче. Захлопали двери. Я чувствовал, что сейчас потеряю сознание…
Но я не потерял сознание. Монк пододвинул ко мне табурет, на котором я и примостился, и вот следующие несколько часов мы оба прислушивались к шуму над нашими головами, поглядывая на невидимый люк, и замирали в молчании, пока злоумышленники, — их было, вероятно, трое или четверо — открывали двери и простукивали весь дом своими палками и рукоятями шпаг. Наши гости старались изо всех сил. Все в доме было проверено — лестница, каменные стенки камина, его полка и плита перед ним, потолки и полы, шкафы и буфеты, стенные панели, кровати, портьеры, каждый крошащийся кирпичик или изъеденная жучками балка. Трижды мы слышали их прямо над нами, они топтались в коридоре возле обувного чулана, открывали его двери и простукивали стенки. Но все три раза дверь нашего чулана захлопывалась, а шаги и постукивание затихали. Чуть позже я услышал тихие удары всего в паре дюймов от моего уха: кто-то тщательно простукивал палкой стену моего кабинета. Но перегородка была толстой, ее заполнили штукатуркой и глиной, и если там и был глуховатый звук, то понять это было сложно. Вскоре постукивание прекратилось. Я облегченно вздохнул и почувствовал, как рука Монка сжимает мое плечо.
— Все в порядке, сэр?
— Да, все в порядке, — пробормотал я, пожалуй, чуть громче, чем следовало.
Меня сильно трясло, и я надеялся, что он не заметит этого, хотя, по-моему, это было уже не важно. На время этого испытания мы, учитель и ученик, словно поменялись ролями. С первого же момента нашего поспешного бегства вверх по лестнице он вел себя терпеливо и храбро, а я, его учитель, не мог противопоставить ничего, кроме страха, растерянности, а позже — жалоб и сетований. Меня раздражало пребывание в этом замкнутом пространстве. Просидев всего несколько минут на табурете, я почувствовал, что у меня разболелась голова; потом у меня затекли ноги, еще немного погодя я понял, что моему мочевому пузырю отчаянно нужно опорожниться. Потом меня раздражал спертый воздух. В груди что-то булькало, и моя диафрагма судорожно сжималась, когда я сдерживал лающий кашель, который сразу же мог бы нас выдать. Зажав рот рукой, я пытался найти силу и успокоение в мыслях о священнике, который был нашим предшественником в этой келье; возможно, в такой же ситуации тот человечек целовал образок с изображением агнца Божия, читал молитвы, перебирая четки, шепотом повторял литании. Но думать о нем — это все, что мог делать я, чтобы удержаться от стонов.
А Монк в кромешной темноте нашей тесной каморки чувствовал себя как рыба в воде. Словно он долго готовился к такому событию, или словно его предыдущая встреча с незваными гостями была своего рода суровым плавильным тиглем, в котором возросли его терпение и мудрость, и он стал уже не моим исполнительным подчиненным, а деятельным и решительным вождем, способным быстро спланировать ход действий и оценить положение. Именно он решил, что не стоит зажигать свечу, нашел одеяло, чтобы укрыть мне спину, шепотом уверял меня, что воздуха еще вдоволь и надежда на спасение есть… и именно он, после того как входная дверь с шумом захлопнулась и все затихло, догадался, что один человек еще остался в доме и, затаившись, ждет, когда мы вылезем из укрытия, что я уже и собирался сделать. И конечно же через пару минут до нас донесся приглушенный кашель из моего кабинета. Поэтому мы переждали еще пару часов, пока последний гость тоже не ушел. Тогда Монк, скрестив на удачу пальцы, вылез из нашего тайника и втащил меня наверх. Жадно глотая воздух, я вылез в чулан и бродил по залитым утренним светом коридорам и комнатам, точно человек, выползающий из-под груды камней после окончания жуткого камнепада.
Правда, признаков камнепада не удалось обнаружить нигде — ни в жилых комнатах, ни внизу в лавке. Определенно ничего подобного тому, что случилось несколько дней назад. Мы на цыпочках прошли по сумеречным комнатам, держась подальше от окон — еще один мудрый совет Монка, — в поисках хоть какого-нибудь следа ночных событий. Но все выглядело так, словно в доме никого, кроме нас, и не было; словно последние несколько часов были всего лишь нашим общим кошмарным наваждением. Я даже нашел под лестницей свой кремневый пистолет, очевидно нетронутый. О былом пребывании незваных гостей свидетельствовал лишь слабый запах факельного дыма, подмешавшийся к спертому, но такому привычному воздуху лавки.
— Как вы думаете, сэр, кем были эти взломщики? — Как только мы оказались в привычной обстановке, Монк вновь сделался моим почтительным учеником. — Те же парни, что устроили погром, как вы считаете?
— Нет, я так не думаю. — Мы уже стояли в лавке пристально разглядывая нашу зеленую дверь. — Они ведь не рылись в наших книгах, правда? В отличие от предыдущих негодяев.
Он согласно кивнул головой, и какое-то время мы молча разглядывали все вокруг. Да, книг они явно не тронули. Все они стояли аккуратными рядами на полках, куда мы их расставили, прежде чем закрыться на ночь. Деньги наши также остались целы. Замок на железном сундуке под моей кроватью был цел и невредим, как и мешочек с монетами под прилавком в лавке и как, что более важно, соверены и бумаги, спрятанные под половицами. Из дома не пропало ни одного захудалого фартинга. Я заметил, что совершенно недоумевающий Монк продолжает вопросительно пялиться на меня.
— Тогда, может, вы считаете, что они искали именно вас?
Я пожал плечами, не в силах противостоять его оценивающему взгляду. Отвернувшись, я проверил дверной замок, который оказался нетронутым, как и все остальное. Наши взломщики, кем бы они ни были, хорошо знали свое ремесло.
Но как раз в этот момент кое-что привлекло мое внимание, какая-то грязь около двери, и я встал на колени, чтобы исследовать ее. Серые мелкие комочки почвы, песчаной на ощупь и слегка переливающейся в лучах утреннего света.
— Что это, сэр? — Монк наклонился над моим плечом.
— Ракушечник, — сообщил я ему после краткого исследования. — Известняк.
— Известняк? — Вконец озадаченный, он громко вздохнул. — Из какого-то карьера?
— Нет, не из карьера. С моря. Вот видишь? — Я сдул немного почвы, чтобы показать ему крошечный кусочек, похожий на костяной осколок. — Он образуется из прессованных ракушек — оттуда и название.
Он потрогал пальцем грязь.
— Чтоб мне провалиться, сэр. Как же могли попасть сюда эти осколки? Вы считаете, что их принесли?..
— Вот именно. — Я выпрямился, все еще рассматривая мелкие крошки почвы на ладони. — Ракушечник используется при строительстве дорог, — пояснил я. — Подъездных аллей перед особняками и так далее. Его, должно быть, принесли сюда на подошвах обуви.
Кивнув, Монк продолжал с серьезным видом смотреть на меня, словно ожидал каких-то дальнейших объяснений, от которых я уклонился. Немного погодя я отряхнул грязь с ладоней и постоял перед забранным ставнями окном. Было уже почти восемь утра. Я смотрел, как утренний солнечный свет, просачиваясь сквозь щели ставен, ложится полосками на пол сзади меня и вытравливает длинные тени на мостовой. От этих ярких световых полос у меня защипало в глазах, и колющая боль отдалась в затылке. Но я наклонился вперед и — точно так же, как поступал полдюжины раз за прошедшие два дня, — повертев головой направо и налево, окинул пристальным взглядом всю дорогу. Обычное утреннее движение с привычной какофонией громких голосов, цоканья лошадиных подков, звяканья отпираемых засовов и решеток. Перед лавками материализовались подмастерья с метлами и принялись мести пятна солнечного света.
Глядя на разворачивающуюся сцену, я почувствовал щемящую боль в груди. Это было мое любимое время дня, время, когда я распахивал ставни, опускал тент, протирал воском прилавок и книжные полки, чистил камин и разжигал огонь, приносил чайник с водой, чтобы приготовить первую чашку утреннего кофе, и потом, удалившись за прилавок, с радостью ждал, когда первый из моих покупателей откроет зеленую дверь и войдет внутрь. Но сегодня утром я заподозрил, что этот ритуал никогда уже не будет таким, как прежде. Еще неизвестно, озадаченно думал я, кто может появиться на мосту нынче утром и открыть дверь магазина? Кто еще подстерегает меня, какая злая сила, наделенная тайным могуществом, прячется за дверями и стенами соседних домов, следя за моей зеленой дверью и выжидая очередного удобного случая? Ведь я не сказал Монку, что ракушечник покрывает подъездные аллеи и дорожки во дворце Уайтхолл — именно ракушечник хрустел у меня под ногами, когда я пробирался к архивам казначейства. Мои мрачные мысли прервал громкий скрежет; потом задребезжали стекла, и под моими ногами предупреждающе задрожали балки каркаса. Скосив глаза, я увидел сквозь дощечки ставен, как разводной пролет поднимается к небу, словно деталь огромных заводных часов, протянувших свою черную тенистую стрелу к фасаду лавки. На проезжей части наступило привычное затишье. Телеги и повозки скапливались около «Редкой Книги», а дюжина светло-желтых, наполненных ветром парусов величаво проплывала сквозь образовавшийся проем. Через несколько минут последний парусник вышел из-под моста. Затем заскользили и натянулись на шкивах канаты, деревянные зубцы сошлись вместе, балки под полом задрожали, и мост опустился на место, издав очередной старческий стон. Движение перед «Редкой Книгой» возобновилось, и, как обычно в этот час, над булыжником разнеслись шумная брань, назойливый скрип и грохот.
Да, начался обычный день. Но я вдруг понял, что не смогу участвовать в сегодняшней привычной жизни, что не смогу открыть свою лавку, что впервые за долгую трудовую жизнь я уклонюсь от своих обязанностей. Ибо мой маленький корабль не приближался, как я думал, к спокойной родной гавани, а мчался на всех парусах невесть куда, без карт и компаса. Чуть позже, карабкаясь наверх по винтовой лестнице и придерживаясь за стену, чтобы не упасть, я понял, что «Редкая Книга», служившая мне надежным убежищем все эти двадцать лет, стала теперь небезопасной.
Часть 3 ЛАБИРИНТ МИРА
Глава 1
Так вот началась моя тревожная и скитальческая жизнь — мое суматошное бегство или, точнее, изгнание из «Редкой Книги». Сначала я не мог даже сообразить, где бы мне спрятаться. Карабкаясь по винтовой лестнице в свою спальню, я прикидывал, не лучше ли мне вовсе уехать из Лондона, но потом придумал кое-что получше. За всю свою жизнь я уезжал из города раз шесть, не больше: дважды — ради книжной ярмарки в Или, трижды ездил в Оксфорд и один раз заехал даже в Стаурбридж, тоже на книжную ярмарку. И наконец — то затяжное и изнурительное путешествие в Понтифик-Холл, с которого, похоже, и начались все мои беды и неприятности.
Я подумывал, не поискать ли мне пристанища в Уоппинге, но быстро отверг эту идею, решив не подкидывать на мельницу бедного Биддульфа нового зерна — у него и так в избытке страхов и секретов. Поэтому, укладывая в кожаный ранец смену одежды, я вспоминал других моих постоянных клиентов. В их числе было несколько тихих почтенных ученых, которые, думаю, охотно приютили бы меня на пару ночей или даже дольше, если понадобится. Но как объяснить им причину? Я застегнул пряжку ранца и закинул его за плечо. Нет: в Лондоне имелось только одно укромное местечко; только одно место для такого беглеца, как я.
Когда я спустился вниз, Монк уже открыл лавку и несколько покупателей — приятные, знакомые лица — неспешно осматривали книжные полки. Я приветливо кивнул им и шепнул Монку, что мне придется оставить «Редкую Книгу» на несколько дней и что магазин вновь остается на его попечении. Он взглянул, на мой ранец, но взгляд его выразил лишь легкое удивление. Видимо, события последних нескольких дней показали ему, что от его мастера можно ожидать любых неожиданностей и причуд. Покидая его, я чувствовал себя очень виноватым — словно только я один на всем белом свете мог бы спасти или защитить его. Напоследок я обвел взглядом лавку и выскользнул на улицу, а там быстро затерялся в густой толпе, теснившейся по пять человек в ряд на тротуарах моста.
Через пять минут я вышел за Саутворкские ворота, где толпа уже слегка поредела. Оглянувшись через плечо, я поковылял, опираясь на мою суковатую палку, вниз по дороге, ведущей к ступеням причала, где и нанял ялик. Лодочник усмехнулся и спросил, куда я желаю отправиться.
— Вверх по течению, — ответил я.
Устанавливая весла и отталкиваясь от причала, он подозрительно поглядывал на меня, без сомнения, потому, что я натянул парусиновый навес на деревянные дуги и сразу, несмотря на солнечную погоду, залез под его попахивающий плесенью свод. Выглянув из этого укрытия, я убедился, что никто не следит за мной с причальной лестницы. Ниже по течению река была пустынна, не считая пары рыболовных смэков, бросивших якоря на мелководье и быстро убавивших паруса в ожидании следующего подъема разводного пролета. За их мачтами над устоями моста высилась «Редкая Книга», но вскоре она подернулась легкой дымкой, словно постепенно растворялась в воздухе.
— Так что же вам угодно, сэр? Куда прикажете вас доставить?
— В Эльзас, — ответил я и нырнул обратно под навес, из-под которого не показывался до тех пор, пока нос нашего ялика не прошелестел по дну к ступеням угольной пристани поблизости от «Золотого рога».
Я снял комнату в таверне «Полумесяц», что располагалась в Эбби-корт, то есть примерно в центре (по моим скудным понятиям) того лабиринта дворов и переулков, что представлял собой Эльзас. Моя комната размещалась на верхнем этаже, и попасть в нее можно было только по узкой винтовой лесенке, по которой меня провела сама хозяйка этого заведения — миссис Фокс, маленькая темноволосая женщина, чьи спокойные и благопристойные манеры скорее наводили на мысль о монастыре, чем о таверне в центре Эльзаса. Я записался в книге постояльцев под именем Сайлас Кобб и заплатил пару шиллингов за две ночи вперед, что давало мне право не только на ночлег, — пояснила она своим кротким голосом, — но также на завтрак и ужин. А если мне понадобится еще что-нибудь — эль, табак, услуги горничной, — я должен, не раздумывая, сразу же дать ей знать. Скромно потупив свои черные глаза, она упомянула о юных леди, поглядывавших на нас из-за прикрытых занавесами дверных проемов, пока мы поднимались вверх по лестнице. Я заверил ее, что ничего такого мне не нужно.
— В сущности… — Я выудил из кармана очередной шиллинг, который постарался незаметно сунуть ей в руку. — Крайне необходимо, чтобы во время моего пребывания в вашей гостинице меня никто не тревожил. Никто, ни днем, ни ночью. Вы понимаете меня?
По реакции госпожи Фокс я догадался, что ей не раз приходилось слышать подобные просьбы от постояльцев.
— Конечно, господин Кобб, — улыбнувшись, прошептала она и смущенно опустила глаза, взглянув сначала на связку ключей, висевших у нее на поясе, а потом на черного кота, сопровождавшего нас вверх по лестнице. — Ни одна живая душа не побеспокоит вас. До тех пор, пока вы проживаете под моей крышей. Уверяю вас.
Когда она вместе с котом удалилась, я положил свой ранец на кровать и окинул взглядом комнату. Своими скромными размерами и спартанской обстановкой она напоминала монашескую келью; здесь имелись лишь жесткий стул со спинкой из перекладин, стол и кровать на четырех ножках с тощим тюфяком. Но комнатка была довольно чистой и отлично подошла мне. Через крошечное оконце я увидел колокольню тюрьмы Бридуэлл, а далеко за ней маячил северный конец Лондонского моста, и его вид весьма приободрил меня, сделал мое изгнание — как я уже мысленно назвал свое бегство — немного более терпимым. Я сел на кровать, судорожно вздохнул и порадовался, что мне удалось выбрать правильное местечко.
Прибыв в Эльзас часом раньше, я чувствовал себя подавленным и крайне расстроенным. Испытания прошедшей ночи измотали меня, и я не придумал ничего лучшего, как, по примеру многих, поискать убежища в этом районе. Сначала я подумывал, не снять ли комнату в «Золотом роге» или в «Голове сарацина», но в итоге отказался от этих мыслей. И в том и в другом месте я мог столкнуться с доктором Пиквансом, отношения которого с Генри Монбоддо пока оставались для меня загадкой. Кроме того, таверна «Полумесяца» выглядела чуть более респектабельно — если можно так выразиться, — чем оба те заведения. Я прибыл туда к открытию, и в тот момент миссис Фокс провожала к выходу нескольких богато одетых господ, сопровождаемая черным котом, который следовал за ней повсюду, как за ведьмой. В остальном дом выглядел пустым, если не считать тех юных леди, которые поглядывали на нас из своих занавешенных комнат.
Да, сказал я себе, ложась на кровать: пожалуй, здесь я буду в безопасности. И все же на всякий случай я вытащил пистолет из ранца и положил его рядом с собой.
Сон сморил меня почти мгновенно, и проснулся я только в начале вечера, когда на Лондонском мосту уже зажглись первые желтые фонари. Карманные часы сообщили мне, что я проспал без малого десять часов.
Еще одурманенный сном, я поднялся с постели и вытащил из ранца два пузырька: два из трех в общей сложности приобретений, сделанных перед тем, как снять комнату. В первом пузырьке был лечебный отвар из листьев ежевики, купленный у аптекаря по фамилии Фоскетт, сообщившего мне, что сие лекарство, созданное в его личной лаборатории, является превосходным средством от болячек во рту и (как он, подмигнув мне, выразился) в «тайных членах». Я тоже подмигнул, выразительно поморщившись, и позволил ему предполагать все, что угодно.
Вскипятив в чайнике воду, я вылил в нее отвар ежевичных листьев, размешал и добавил туда три грамма едкого натра из другой склянки, купленной в той же лавке. Я уже окончательно проснулся и трясущимися руками закрыл пузырьки пробками. Когда настой достаточно охладился, я вылил его в умывальный таз и смочил им волосы, бороду и даже брови. Знал о том аптекарь или нет, но его настойки годились не только для лечения венерических недомоганий. Круглое зеркальце для бритья подтвердило, что из каштанового с проседью цвет моей шевелюры и бороды стал угольно-черным. Вдобавок, по излюбленной моде кавалеров, я подстриг бороду клинышком.
Наконец, я достал последнее утреннее приобретение, костюм, купленный у торговца мужской одеждой на Уайтфрайерс-стрит. Сложив и убрав с глаз долой мой скромный наряд книготорговца — потрепанный камзол, бриджи, протершиеся сзади почти до дыр, и чулки со спущенными петлями, — я постепенно облачился в новый костюм. Во-первых, фиолетовый камзол с золотыми пуговицами, затем пара украшенных лентами бриджей и подходящие к ним шелковые чулки; а напоследок бархатная шляпа с загнутыми кверху полями, затейливо обшитая фиолетовой лентой. Уж будьте уверены, теперь я стал достаточно заметной личностью, но едва ли кто-то — даже я сам — принял бы ее за Исаака Инчболда. Нет, думал я, приглядываясь к своему отражению в темном оконном стекле: никто не узнает меня, когда сегодня вечером я пойду по делам.
Удовлетворенный достигнутым результатом, я заказал ужин. Вскоре его принесла ко мне в комнату одна из так называемых горничных, крутобедрая девица со щеками цвета дамасской розы и сельским выговором. Она поставила еду на стол, получила за это два пенса и мою благодарность и благоразумно удалилась, даже не взглянув на меня. Ужин, жареная треска с пастернаком, оказался довольно вкусным, и я съел его с отменным аппетитом. С удовольствием выпил и пару кружек доброго эля. И уже через пару минут спускался по лестнице, засунув пистолет за пояс моих новых бриджей.
В этот час «Полумесяц» был полон завсегдатаев, чей грубый смех, прорезающий визгливую скрипичную мелодию, был слышен и наверху. Скрип ступеней привлек внимание пары обитательниц занавешенных комнат: их расплывчатые лица с уже отмеченными мною пухлыми щеками цвета дамасской розы появились из-за складок, а откинутые драпировки явили взору освещенные свечами будуары с зеркалами и вазами, полными ярких цветов. До меня донеслись ароматы духов и табачного дыма и приглушенное хихиканье. Я быстро пригнул мою увенчанную шляпой голову, бросив, правда, взгляд в одно из зеркал: на меня глядел черноволосый головорез в камзоле с блестящими пуговицами и в лихо сдвинутой на ухо шляпе. Только моя верная суковатая палка — с ней мне не захотелось расстаться — напоминала о моей прежней жизни. Позднее меня поразит сгущение странных событий, загнавших меня сюда, но сейчас я даже не задумался о том, как же так получилось, что я, законопослушный горожанин и скромный книготорговец, изменив внешность, на ночь глядя спускаюсь по лестнице какого-то борделя в центре Эльзаса.
Небо уже потемнело, когда я вышел на Эбби-корт. Быстро оглядевшись, я заметил на углу столб с выгоревшей на солнце вывеской и, сориентировавшись, направился в северном направлении к Флит-стрит. По пути я миновал Эроусмит-корт и в его узком проходе мельком заметил жуткого вида турка, стрельнувшего в меня косым взглядом. «Голова сарацина» пылала оранжевыми окнами, но темные комнаты доктора Пикванса прятались за закрытыми ставнями. Я продолжал двигаться на север; заткнутый за пояс пистолет при ходьбе неудобно ерзал и натирал кремневым замком косточку бедра. Около рва, в Блэкфрайерс, между недавно выстроенными домами, сушилось на веревках выстиранное белье, блеклые раздвоенные хвосты рабочих блуз и рубах, точно флаги какой-то исчезнувшей процессии. На Уайтфрайерс-стрит дорогу мне перебежала лиса с низко опущенной мордочкой и задранным пушистым хвостом. Это вызвало у меня какое-то дурное предчувствие, как и размашисто начертанный мелом рисунок, который я увидел чуть позже на сломанном заборе: точно такой же символ — рогатого человечка — я уже дважды видел, именно в Эльзасе. Но сейчас я вдруг понял, что это было изображение не рогатого человечка и не черта, а человечка в крылатой шапке. Ибо знак этот был не только алхимическим символом ртути, но также и астрологическим символом планеты Меркурий.
Уже почти выкинув из головы этот знак, я продолжил прогулку. В конце концов, наш город полон шарлатанов, составляющих гороскопы и стряпающих пророчества. И правда, «Ведомости» пестрели рассказами о том, что король Карл обращается к самому знаменитому нашему астрологу, Элиасу Ашмолу, для составления гороскопа, чтобы выбрать благоприятную дату для заседания парламента. Но потом я вспомнил, что Меркурий, посланец богов, покровитель купцов и торговцев, таких как я — римское соответствие Гермесу Трисмегисту. А Гермес Трисмегист был автором «герметического свода», в состав которого, конечно же, входил «Лабиринт мира».
Я стоял перед щитом, словно завороженный этими детскими каракулями. Может, это чей-то нелепый розыгрыш? Совпадение? Путеводная нить? Совершенно непонятно, как это истолковать, что, впрочем, касалось и всех остальных выясненных мною сведений.
Развернувшись, я быстро пошел на север, свинцовые пули позвякивали в кармане моих бриджей. Ветер усилился, и у меня саднило щеки от угольной пыли, метавшейся над мостовой. Я ускорил шаг. Чуть позже передо мной возникла Флит-стрит, и я поднял руку, чтобы нанять экипаж.
Вновь местом моего назначения стала церковь Святого Олава, в чьи ворота я вошел спустя полчаса и обнаружил, что на кладбище почти пусто, — скорбящий родич перед чьей-то могилой в дальнем конце, что выходит на Ситинг-лейн, да могильщик, роющий новую могилу при свете фонаря. Человек у могилы стоял спиной ко мне и, похоже, не заметил меня; могильщик тоже: макушка его головы едва виднелась над краем могилы. Его лопата строгала влажный лондонский глинозем и звенела, когда металл ударялся о камень.
Мне нечего было сообщить Алетии. Чуть раньше, заканчивая ужин в «Полумесяце», я дискутировал сам с собой — написать ли ей о том, что в мою лавку дважды забирались непрошеные гости и что потому я покинул «Редкую Книгу», опасаясь за свою жизнь. Но в итоге я решил не делать этого. У Алетии, как и у Биддульфа, хватало диких фантазий: не было нужды добавлять к ним еще одну. Я решил не говорить ей и о том, что снял комнату в «Полумесяце».
Хотя мне было велено заглядывать в тайник каждый вечер, но до сих пор я еще ни разу не получил таким образом весточки от Алетии, поэтому удивился и даже обрадовался, обнаружив там на сей раз листок бумаги. Не желая привлекать внимание плакальщика, внимательно смотревшего на Ситинг-лейн, будто поджидал знакомого, который должен был пройти на кладбище через те ворота, я как можно тише открыл замок шкатулки. Повернув листок к мерцающему свету фонаря могильщика, я начал читать: да, это было то послание, которого я ждал уже несколько дней. Подготовка к моему путешествию, писала Алетия, уже завершена. Запряженная четверкой лошадей карета будет ждать меня у «Трех голубей» на Хай-Холборне завтра утром в семь часов. В конце письма стояло ее имя, написанное с изящным росчерком.
Я закрыл тайник, но не уничтожил записку, а сложил листок по прежним сгибам и сунул его в карман. Но я уже решил, что буду покорно следовать новым указаниям и отправлюсь в путь в упомянутой карете завтра утром. Меня не прельщала мысль выходить из дома в дневное время, но, возможно, Хантингдоншир будет для меня безопаснее, чем Лондон.
Спустя пять минут я вновь вернулся на улицу и быстро пошел по темной дороге, но останавливался ненадолго на каждой развилке или перекрестке, стараясь высмотреть на узких, застроенных домами улицах свободный экипаж. Никто не появился. Ни единой души. Поэтому я продолжал идти пешком по улицам темным и таким пустынным, словно все покинули город, спасаясь от чумы или войны.
Только минут через двадцать я увидел некий просвет и вышел на широкий простор Стрэнда. Отсюда было совсем недалеко до Эльзаса и «Полумесяца», о котором, став изгнанником, я уже начал думать как о доме.
Глава 2
Почтовая карета медленно двигалась по низинам Чизлетских топей. Подгоняемые Фокскрофтом лошади месили грязь прибрежных дорог и наконец дотащились до одного из постоялых дворов Де Кестера. Там сменили выдохшихся берберийских лошадей, и трудное путешествие возобновилось. Целый день густой белый туман укутывал дренажные канавы и клубился над залитыми водой полями хмеля, но Фокскрофт не осмеливался зажечь фонарь, опасаясь бандитов лорда Стенхопа. Не зажег он его и когда сгустились сумерки. Карета ехала вслепую мимо заброшенных пастбищ и одичавших, изрезанных тропинками фруктовых садов.
К этому времени число его неожиданных пассажиров сократилось до двух. В Хэрн-Бее эту странную троицу покинул один мужчина, более крупный и важный, который хоть что-то говорил. Оставшиеся с Фокскрофтом попутчики съежились под одеялом и, прижавшись друг к другу, тихо сидели между мешками с почтой. Полдюжины раз он безуспешно пытался вовлечь их в разговор. Тем не менее он принес им с постоялого двора сыр с черным хлебом и кружки с сидром. Он даже предложил им глотнуть из его личного винного бурдюка, что было отклонено легким поворотом головы. Женщина иногда оглядывалась и смотрела на дорогу, но мужчина, худой, низкорослый парень, сидел совершенно недвижимо. Он прижимал к груди что-то вроде украшенного драгоценностями сундучка размером с большую сахарную голову.
— Чего это у вас там, а? Сундук с драгоценностями?
Сзади продолжали молчать. Фокскрофт тряхнул поводьями, и лошади пошли резвее, вскинув головы и пуская из ноздрей султаны белого пара. Через несколько минут они выедут на большую лондонскую дорогу, где увеличится опасность попасть в лапы к бандитам Стенхопа. Но если впереди и ждет засада, думал он, может статься, нападающие удовольствуются такой добычей, как этот сундучок. Потому-то Фокскрофт терпел попутчиков в своей карете. Эта парочка могла уберечь его от очередного мордобоя.
— Ваши, что ли, драгоценности-то? — он обернулся на сиденье. — Я говорю, очень красивая вещица.
Опять никакого ответа. В темноте он с трудом мог различить две головы, маячившие всего лишь в дюйме друг от друга. Худой коротышка не сводил глаз со своих ног. Может, они не понимают по-английски? Фокскрофт, как любой англичанин, знал, что в Лондоне в эти дни полно иностранцев, большей частью испанцев, и все они либо шпионы, либо священники, зачастую в одном лице. Такие уж времена настали. Испанский король и его посол вертели старым королем Иаковом как хотели. Во-первых, сэр Уолтер Рэли, этот Дрейк наших дней, сложил голову на плахе за то, что осмелился сразиться с испанцами на их земле. Потом король Иаков начал выпускать из тюрем священников и даже осмелился заявить всему честному народу о женитьбе своего сына — на ком бы вы думали? — на испанской принцессе! А сейчас и того хуже этот старый дурень стал до того прижимист, что даже не послал войска в помощь собственной дочери, несмотря на то, что земли ее мужа в Германии захватили орды испанцев.
Правда, его обнадеживало то, что ни один из его пассажиров вовсе не походил на испанца. Женщина, насколько он успел мельком разглядеть ее, выглядела необычайно привлекательной, несмотря на грязную одежду. Она была к тому же очень молода, совсем юная девушка. Что же связывало ее с этим хлюпиком, разве что та шкатулка, которую он прижимал к своей костлявой груди?
Спустя еще час сельские запахи сменились городскими, а тишина — то затихающим, то нарастающим шумом. Уже стемнело, когда запряженная шестеркой лошадей почтовая карета пересекла большую лондонскую дорогу и быстро понеслась в сторону Темзы к Грейвзенду. Там Фокскрофт намеревался дождаться лошадиной переправы и от Тилбери ехать в Лондон уже по северному берегу, где забияки Стенхопа едва ли будут поджидать его. Если все пойдет нормально, то он доедет до Альд-Гейта как раз ко времени открытия ворот, а оттуда его путешествие станет уже короткой увеселительной прогулкой до самой конторы Де Кестера в Корнхилле. Только он понятия не имел, что делать с дополнительным грузом — с его двумя таинственными пассажирами.
Оказалось, он попусту беспокоился. Когда карета наконец достигла Грейвзенда, парома на Тилбери пришлось дожидаться почти два часа. Фокскрофт сговорился о замене упряжки и отправился бродить по улицам, пока не нашел открытую пивную, где и опустошил три пинты пива и уничтожил пирог с голубятиной, а к назначенному времени вернулся к постоялому двору — посмотрел, как паром выгружает горстку пассажиров. О своих собственных пассажирах он к тому моменту и думать забыл и внезапно вспомнил о них, лишь когда, заплатив положенные два шиллинга, оказался на середине реки. Обернувшись на козлах, он с удивлением обнаружил, что попутчики его бесследно исчезли вместе с их великолепным грузом.
Между тем в данный момент Вилем и Эмилия, успев нанять лодку, уже шли вверх по течению к Лондону, находившемуся примерно в двадцати милях к западу. Эта небольшая посудина отчалила из Грейвзенда почти час назад и, лавируя между пинками и торговыми судами, стоявшими на якоре перед таможней, вышла на середину говорливого речного потока. Отсюда до Биллингсгейтской пристани плыть три часа, не меньше, даже во время прилива, сообщил им хозяин баркаса. А от Биллингсгейта до места их конечного назначения — где-то еще час.
Эмилия поежилась и поглубже забилась под парусиновый навес, слушая, как плещется и журчит вода, ударяясь в борта лодки. Еще четыре часа холода и страха. Но теперь-то она хоть узнала, куда они направляются. Их цель, по словам Вилема, — добраться до Йорк-хауса, особняка на Стрэнде, расположенного рядом с Чаринг-кросс, где они встретятся с Генри Монбоддо. Вилему поручили передать эту шкатулку, в которой хранилась рукопись, только Монбоддо и никому другому. Монбоддо опытен в таких делах, подчеркнул Вилем, когда волны уже несли их лодку по течению. Он дружил с принцем Чарльзом, а сейчас должен был обставить Йорк-хаус в соответствии с экстравагантным, но утонченным вкусом его нового владельца, Джорджа Вильерса, герцога Бекингема.
Эмилия смотрела, как бледнеют и исчезают огни Грейвзенда, по мере того как русло реки поворачивало к северу. Это имя было знакомым. По доходившим в Прагу слухам, герцог Бекингем снаряжал военную флотилию для сражения с испанцами в Средиземном море. Но снарядили или нет эту флотилию, ушла она или нет в Средиземное море — самого сражения так и не произошло.
— Значит, именно для него предназначены все пражские книги? Для герцога Бекингема?
Отрицательно мотнув головой, Вилем оторвал взгляд от стоящей у него между ног шкатулки и глянул на хозяина лодки, который, орудуя багром, периодически похрюкивал. Совсем недавно этот бородач, одетый в кожаную куртку, подозрительным взглядом встретил их у себя на барке и, приподняв тускло горящую свечу, еще более подозрительно посмотрел на их шкатулку. Сэр Амброз предупредил Вилема, что все лодочники на Темзе состоят на службе у государственного секретаря или у графа Гондомара, испанского посла, поэтому для подстраховки они накинули сверх цены еще пару лишних шиллингов. При виде такой щедрости — не говоря уж о просьбе идти к верховьям Темзы, не зажигая фонарей, — старый пройдоха стал смотреть на них еще подозрительней.
— Нет, не для Бекингема, — прошептал он, наклоняясь к ней поближе. — Он, как и Монбоддо, всего лишь посредник, агент, представляющий интересы второй стороны — кое-кого еще более могущественного.
— Правда? — она тоже подалась вперед. Кого-то более могущественного, чем лорд-адмирал? Парусиновый тент, натянутый над их головами, попахивал плесенью и поблескивал кристалликами соли. Снаружи холодный ветер хлестал его по задубевшим бокам. — Но для кого же тогда?
Для самого богатого и взыскательного коллекционера во всей Англии, вот для кого. Поскольку Монбоддо и сэр Амброз собирали книги не только для библиотек Фридриха и Рудольфа, но также для их соотечественника, пояснил Вилем, тончайшего ценителя, для самого принца Уэльского. Молодой принц Чарльз не был иконоборцем, как его сестра Елизавета с ее пуританскими пасторами, готовыми растерзать все, в чем им чудился папизм или роскошь. Нет, Чарльз любил изображения святых и другие реликвии настолько же пылко, насколько его сестра их презирала. Всем известно, что он надеялся купить у разоренных Гонзаго прекрасную Мантуанскую коллекцию, но менее известно — как говорил Вилем, — что он захотел прибрать к рукам сокровища библиотек Пфальца и Испанских залов. Ведь это множество книг, рукописей и разнообразных антикварных вещей было не только выигрышным дополнением к королевской библиотеке Сент-Джеймсского дворца (что уже само по себе недурно): это было единственное средство, позволяющее держать в узде неистовых испанцев и тем самым сохранить веротерпимость и свободу для половины Европы.
— Вот как? — Перед мысленным взором Эмилии возникли образы высушенных змей, эти мумифицированные головы с их причудливыми оскалами. — Но каким же образом?
Вилем сидел, медленно потирая руки. Она почувствовала его волнение. Отсутствие сэра Амброза, казалось, пошло ему на пользу: раньше он и за неделю не наговорил бы так много.
— Нет нужды объяснять тебе, — прошептал он, — что есть опасность: обе коллекции попадут в руки испанцев или кардинала Барония, я имею в виду — если прежде их не уничтожат вояки или береговые грабители. Но принц собирается купить все целиком у своего свойственника — все содержимое обеих библиотек, включая сокровища Испанских залов. За какую цену — я понятия не имею, но его финансист Бурламаки собирал деньги последние три месяца. А Фридрих планирует использовать эти деньги на экипировку и вооружение армии, чтобы выгнать захватчиков из Пфальца и Богемии.
Удивившись таким намерениям, Эмилия вспомнила, как встревожили Вилема слухи о тайных каталогах, о сделках, заключаемых с епископами и принцами, которые посылали своих агентов и шпионов — «стервятники», называл он их — в Прагу до наступления армии, чтобы они, как падальщики, могли добраться до трупа Богемии, пока от него еще хоть что-то осталось.
— То есть ходившие по Праге слухи оказались верными? Фридрих действительно хотел продать эти коллекции?
— Да-да, но сейчас стратегия посложнее, чем прежде, — быстро сказал он, — сложнее, чем просто обмен книг на оружие. Собрание останется в целости и сохранности, и ящики с книгами и рукописями сами по себе станут средством борьбы — благодаря им католиков прижмут и в Богемии, и в Пфальце. Точнее, такой план придумал сэр Амброз вместе с Бекингемом и принцем Уэльским. Но вся сделка должна проводиться в строжайшей тайне, — внушительно добавил он.
Эмилия получше закуталась в покрывало, позаимствованное в почтовой карете Де Кестера.
— Из-за испанцев.
Вилем кивнул.
— И само собой, ни король Филипп, ни Гондомар не должны узнать об этом плане. Бурламаки собирает средства втайне, потому что многие из них поступают от банкиров Италии и Испании. Нельзя помешать и планам помолвки принца с инфантой. Конечно, такое двурушничество противно, но, думаю, игра стоит свеч: рука инфанты оценивается в шестьсот тысяч фунтов. Представляешь, сколько можно купить книг и картин? Не говоря уже о том, что это обеспечит множество солдат — лучших солдат Европы! — порохом и пулями на много лет вперед. Оригинально, ведь правда, воспользоваться деньгами короля Испании для того, чтобы отвоевать у него же Богемию и Пфальц. Чтобы сохранить библиотеку Пфальца, а заодно и сокровища Испанских залов!
Эмилия проследила за его взглядом, устремленным в щелку парусинового навеса. Одни ли они спешат к Лондону или там вдали виднеется еще одно судно, едва различимое в свете фонаря дежурной шлюпки? Пока на реке было пустовато, случайная баржа с углем да вереница смэков, нагруженных уловом макрели. Всякий раз, когда кто-нибудь из них приближался, Эмилия и Вилем поглубже забирались под навес и прятали лица. Но последние минут десять они не видели никого.
— Хотя в их плане есть еще кое-какие детали, — продолжил он вскоре. — Ситуация осложнилась. Тут замешались интересы еще и других людей.
Книги и другие сокровища в Англию приходилось доставлять втайне от самого короля Иакова. Сделку невозможно было осуществить, как выразился Вилем, «обычным путем» — через охватывающую весь континент сеть посредников и финансистов, — тогда она не ускользнула бы от многочисленных агентов графа Арундела, одного из богатейших английских коллекционеров статуй и других диковин, в том числе и книг. Арундел был из Говардов, римский католик, представитель могущественного рода, чья ненависть к Бекингему была так же хорошо известна, сказал Вилем, как его тесные связи с испанским посланником. Не секрет и то, что последние несколько лет король Иаков был только что не слепым исполнителем воли Гондомара, игрушкой в руках испанцев. Нужно ли ей напоминать, что он получил ежегодный пенсион в пять тысяч фелипе от короля Испании? Что он встал на сторону Филиппа, когда в Богемии вспыхнул мятеж? Что он отказал в поддержке своей дочери, собственной плоти и крови, и ее супругу? Что он выдал их католикам точно так же, как два года назад выдал Рэли? Так вот король с большинством его придворных и министров, включая Арундела, не участвовали в этом сговоре. Арундел сразу же доложил бы о нем Гондомару, Гондомар доложил бы королю Иакову, а король Иаков — «впавший в детство старик» — счел бы его не чем иным, как попыткой ограбления.
— Да-да, — подытожил Вилем, — и несомненно, он счел бы такого человека, как сэр Амброз, всего лишь обычным пиратом. И несомненно, сэра Амброза ждала бы та же участь, что выпала сэру Уолтеру Рэли…
Барка осторожно разворачивалась на излучине, входя в Лонг-рич. Несколько рыболовных смэков отошли от причала Гринхита и направились вниз по течению реки к устью. Эмилия смотрела, как они скользят по волнам навстречу приливу и их косые паруса светятся, словно призраки. Вилем погрузился в молчание. Слегка изменив позу, она сидела на жесткой скамье и размышляла, какая часть из того, что он рассказал, — правда, а какая — искусный вымысел.
Судно долго шло вперед с приливом, сделав очередной поворот в Эрит-рич, где вдоль одного берега тянулись удобные рейды, а на другом — раскинулись мастерские по литью колоколов и изготовлению якорей. До рассвета было еще больше часа, но и до Лондона было не меньше, несмотря на то, что подул западный ветер. Эмилия уже чувствовала первые признаки лондонских, мускусных и дымных, запахов, отвратительных, как зловонная шкура какого-нибудь дряхлого зверя. Шпили и ромбовидные очертания складов, темные и молчаливые, помаячив в сумерках, постепенно исчезали, как и торговые суда, чьи мощные борта отражали разводы потревоженной багром воды. Она оглянулась и пристально посмотрела назад, не обратив внимания на темную фигуру их шкипера. Неужели кто-то там догоняет их, орудуя парой весел?
Она повернулась к Вилему, но он, похоже, ничего не замечал. Он сидел, согнувшись почти пополам, и не отрывал взгляда от шкатулки.
В шкатулке хранился некий герметический текст, четырнадцать страниц древнего манускрипта в персидском, украшенном арабесками переплете; по словам Вилема, ценность этого манускрипта превосходила ценность всех остальных ящиков с книгами, вместе взятых. Он представлял собой копию, сделанную два столетия назад с еще более древнего документа, привезенного в Константинополь неким изгнанником, харранским писцом, бежавшим от преследований багдадского халифа. Когда Константинополь захватил один из потомков халифа, оттоманский султан Мехмет II, текст избежал уничтожения благодаря другому писцу, которому удалось тайком вынести его из монастыря Магнаны прежде, чем турки разграбили монастырские библиотеки и помещения для переписки рукописей. И вот почти два столетия спустя этот пергамент вновь тайно вынесли с той же целью: чтобы спасти от очередного пожара, очередной религиозной войны, на сей раз в королевстве Богемском.
Эмилия ничего не знала о Corpus hermeticum. Хотя это название смутно напоминало ей о книгах, которые ее взгляд случайно выхватывал из множества других в погребах замка Бреслау в ту праздничную ночь, и названия этих книг как-то напоминали о процессах над еретиками. Но Вилем клялся, что в герметических текстах нет ничего, противоречащего вере. Напротив, в некоторых из них даже предсказывалось пришествие Христа. Всего таких книг около двух десятков, пояснил он, а сколько их еще исчезло за века, полные войн и бедствий, не знает никто. Некоторые из герметических книг затрагивают философские вопросы, другие — теологические, третьи — те, что привлекали большинство читателей и комментаторов, — связаны с алхимическими и астрологическими изысканиями.
Для Эмилии все это звучало дико. Как могут какие-то четырнадцать рукописных страниц — несколько кусков козлиной кожи, испещренные каракулями из смеси ламповой сажи и растительного клея, — быть настолько ценными для кого-то, чтобы ради них можно было пойти на убийство?
Их судно осторожно огибало Хорнчерские топи, стараясь удержать нужный курс на поворотах с опасно быстрым течением, а Вилем все еще продолжал свой рассказ. Слова сыпались из его рта так быстро, что Эмилия едва успевала уловить их смысл. «Герметический свод» описывает целую Вселенную, говорил он, некое магическое пространство, каждый элемент которого, от спутников Юпитера до мельчайшей пылинки, образуют нити вечно существующей паутины, и каждая ее крошечная частица связана с любой другой крошечной частицей. Все составляющие также притягиваются или, вернее, влияют друг на друга так, что некая тонкая, но сокровенная и четкая связь существует, скажем, между циркуляцией крови в организме и движением звезд в небесах. Эти удивительные взаимосвязи выявляются посредством секретных знаков, начертанных на поверхности или сокрытых в ядре всякого живого существа, и, обнаружив их, можно научиться ими управлять и использовать для заживления ран, исцеления болезней, предсказания или предвосхищения событий — истолкования или даже изменения судеб целых государств. Человек, способный прочесть эти запутанные иероглифы, эти тайные письмена, — чародей, обладающий огромной властью, способный обратить влияние небес к своей выгоде. И любая книга, претендующая на описание этих секретных знаков, на их описание и истолкование… в общем, ценность любого из таких трудов просто запредельна.
— Значит, эта рукопись — что-то вроде магической книги? — умудрилась наконец Эмилия вставить слово. — И именно поэтому принц Карл хочет заполучить ее?
— По-видимому, да, так оно и есть. Безусловно, ему хочется, чтобы она украсила его библиотеку в Сент-Джеймсском дворце. Но вероятно, есть еще и другие причины. — Вилем оторвал взгляд от шкатулки. — Ведь у этой рукописи есть не только магическое, но и политическое значение.
Место «герметического свода» в литературном пантеоне сейчас стало более сложным, пояснил он. Рим стал с большей, чем прежде, подозрительностью относиться к герметическим текстам. В некоторых из этих текстов предсказывалось пришествие Христа — во всяком случае, таково благочестивое толкование, данное им ватиканскими советниками. Но прочие герметические учения таили угрозу ортодоксальной традиции. Особое беспокойство вызывали отрывки, посвященные строению Вселенной и божественности Солнца. В конце концов, сам Коперник начал «Об обращении небесных сфер» с цитат из «Асклепия», еретической книги, зачисляющей Землю в подданные великого Солнца. Но еще страшнее были политические угрозы, исходящие от тех, кто листал страницы герметических текстов, свободно распространившиеся во множестве новых изданий и переводов. Философы, подобные Бруно и Дюплесси-Морне, мечтали, что распространение философии герметизма вытеснит христианство и положит конец религиозным войнам между католиками и протестантами. Но римские власти считали герметистов, как и иудеев, сторонниками протестантского дела, стремившимися подорвать могущество Папы. Эти подозрения были не лишены оснований. К 1600 году, когда Бруно предали мученической смерти, герметические книги стали подобны магниту, притягивающему всевозможных еретиков и реформаторов. По всей Европе, как грибы на свалках, начали плодиться многочисленные секты и тайные общества: оккультисты и революционеры, наварристы и розенкрейцеры, каббалисты и маги, либералы и мистики, фанатики и лжепророки любых видов, — и все они требовали церковной реформы и пророчествовали падение Рима, все цитировали древние писания Гермеса Трисмегиста как авторитетный источник, требуя всеобщей реформации.
— Контрреформация потеряла точку опоры, — пояснил Вилем, — несмотря на армии Максимилиана и костры инквизиции. Открылся ящик Пандоры, который Рим пытался закрыть всеми возможными средствами. Колдовство и магия теперь причисляются к догматической ереси. Каббалистическую литературу внесли в Index, а в 1592 году инквизиторы осудили Франческо Патрицци, одного из переводчиков «герметического свода». Иезуиты из Римской Коллегии завели свой собственный Index, в который наряду с работами Галилея включила труды Парацельса и Корнелия Агриппы. Иоганн Валентин Андреа, основатель ордена розенкрейцеров, был объявлен еретиком. Траяно Боккалини, наставника Андреа, сторонника Генриха Наваррского, убили в Венеции, а сам наваррский король, на которого возлагались все их надежды, был убит в Париже. Но движение их оказалось многоглавым и непобедимым, как гидра. После смерти Генриха появилась новая надежда, новая ось, жизнь вокруг которой по-прежнему могла крепнуть и вращаться.
— Курфюрст Пфальца, — пробормотала Эмилия. — Король Фридрих.
— Да. — Он вновь пожал плечами. — Очередная надежда, которая оказалась печальным заблуждением.
Редкие береговые огоньки, покачиваясь, проплыли мимо. Барка свернула в Галеонс-рич, не задев причальных пирсов, протянувшихся в чернильно-черной воде. Волнение, поднятое их судном на реке, пробудило к жизни вереницу пришвартованных лихтеров, закачавшихся на этих волнах. За пирсами и илистыми берегами виднелись безымянные деревушки с полуразрушенными домами. Они плыли на барке уже два часа с лишним, но Темза стала лишь немного уже. Порой казалось, что берег растворяется вдали.
— То есть этот манускрипт представляет опасность для чистоты веры. — Эмилия начинала понимать интересы разных сторон, по крайней мере ей так думалось. — Рим надеется завладеть им, искоренить эту ересь, прежде чем она наберет силу.
— Вполне возможно. Сейчас Рим до смерти боится всего, что может угрожать его догматам, всякого раскола, который может подорвать его борьбу с протестантизмом. Галилей с открытыми им спутниками был одной такой угрозой, но четыре года назад Святая палата заставила его замолчать, а кардинал Беллармин настоятельно советовал воздержаться от любых сочинений в защиту еретика Коперника. Но если появится очередное свидетельство в пользу учения Коперника или любой другой ереси — это может стать тяжелейшим ударом, особенно сейчас.
— И особенно если удар будет исходить из такого авторитетного источника, как Гермес Трисмегист.
— Да. Поэтому этот манускрипт будет заперт в тайных архивах библиотеки Ватикана, если кардиналам и епископам удастся заполучить его. Может быть, его даже уничтожат. — Вилем вновь опустил взгляд на шкатулку, стоявшую между его ног. — Но есть кое-что еще, — медленно произнес он, — чего я пока никак не могу понять. Ведь за последние несколько лет авторитет Гермеса Трисмегиста подвергли сомнению и чуть ли не вовсе разрушили. Не римские теологи, нет, а один протестант, гугенот.
И он рассказал Эмилии о недавней дискуссии между протестантским ученым Исааком Казобоном и кардиналом Баронием, хранителем Ватиканской библиотеки, тем самым, который — по словам Вилема — сейчас хотел бы вывезти в Рим и библиотеку Пфальца, и раритеты Испанских залов. Много лет назад этот кардинал выпустил солидную монографию по церковной истории, Annales ecclesiastici, где Гермес Трисмегист описывался как один из языческих пророков наряду с гадателями по Гиадам и сивиллами. Этим сочинением просто восхищались учителя Вилема, иезуиты Клементинума, но потом гугенот Казобон, швейцарец, приехавший в Англию по приглашению короля Иакова, полностью опроверг его. В своем выдающемся сочинении: De rebus sacris et ecclesiasticis exercitations XVI[53], опубликованном шесть лет назад в 1614 году, Казобон приводил несомненные доказательства того, что весь «герметический свод» — фальшивка, созданная не древним египетским жрецом в Гермополис-Магна, а несколькими греками, жившими в Александрии в первом веке после Рождества Христова. Эти ученые мужи смешали Платона, Евангелие, еврейскую Каббалу, приправили изысками египетской философии и умудрились всей этой мешаниной более тысячи лет дурачить ученых, священников и королей.
Барку болтало из стороны в сторону, а Вилем с мрачным недоумением покачивал головой. Бессмыслица. Почему сэр Амброз столь настойчиво стремился тайно вывезти «Лабиринт мира» из Праги? Сэр Амброз, убежденный протестант, наверняка знал об этом труде Казобона. И почему также, если это подделка, кардинал хотел завладеть ею? Ведь именно по его указанию их преследовали от самой Праги, сообщил ей наконец Вилем, агенты кардинала Барония.
— А она не открывается? — Эмилия перевела взгляд на шкатулку. — Есть ключ от этого замка?
Он вновь отрицательно покачал головой.
— Только у сэра Амброза есть один ключ. О других мне ничего не известно.
Барка теперь достигла глубоких вод и ее несло течением к Вулиджу. По левому борту уплывали вдаль скелетоподобные остовы недостроенных военных кораблей, стоявшие в сухих доках. Эмилия передвинулась к другому борту барки, откуда открывался обзор на убегавшую назад к морю реку. Темные фигуры с сигнальными лампами и фонарями сновали туда-сюда через ворота корабельных верфей и между деревянными кранами, чьи профили маячили на фоне неба. Когда лодку качнуло назад, ей показалось, что в этих кратких проблесках света она увидела очертания еще одной барки, точнее — парусиновый навес, под которым темнели чьи-то фигуры. Их разделяла примерно сотня ярдов. Она высунулась из-под навеса.
— Далеко ли еще до Биллингсгейта?
Шкипер погрузил свой багор в воду, оперся на него и затем легко и быстро вытащил его.
— Миль восемь, — буркнул он, прежде чем вновь погрузить багор. Судно накренилось на правый борт, и он едва не потерял равновесие. — Еще пара часов, — добавил он чуть погодя. — Если успеем до окончания прилива.
Вновь спрятавшись под навес, Эмилия окинула пристальным взглядом темнеющую впереди речную гладь. Перед ними лежала старица очередного речного колена, полная опасных течений. Гринвичские болота выглядели пустынными, но у другого берега пришвартовалось полдюжины торговых судов Ост-Индской компании, и огни за их гакабортами освещали покачивающиеся в вышине леса мачт. За ними находились склады Ост-Индской компании. В районе этих верфей, когда река повернула к югу, Эмилия опять оглянулась, пытаясь в свете корабельных фонарей разглядеть идущую за ними лодку. Со времени Вулиджа она приблизилась к ним на несколько корпусов, может и больше. На борту торчало два лодочника, а их пассажиры — три темные фигуры — скрывались под навесом. Обернувшись к Вилему, она заметила, что он держит что-то в руке.
— Возьми одну.
— Что?
— Это они, — прошептал он, — люди кардинала. — Он слегка разжал кулак. — Восемь миль. Мы не сможем оторваться…
Один из ост-индских складов маячил по правому борту, посылая к ним с порывами усиливающегося ветра запах мелассы, черной патоки. В проблеске света Эмилия разглядела, что он держит в руке кожаный мешочек, выданный ему сэром Амброзом. Strychnos nux vomitica. Невольно отшатнувшись, она прижалась к полотнищу навеса.
— А что касается этой шкатулки… — Свет проплыл мимо, и они оказались в темноте. Под пронзительный крик пролетающей над ними чайки Вилем, не выпуская из руки мешочка, наклонился и с тихим ворчанием поднял шкатулку на колени. — Боюсь, ее придется выбросить за борт. Таков приказ.
— Чей приказ?
Молчание. Он неотрывно смотрел на этот сундучок. Она подняла глаза. Мимо них проплывали очередные верфи, прижатые к берегу лабиринтами зданий. Судно развернуло боком, и волна, перехлестнув через борт, брызнула Эмилии в лицо и намочила юбки. Они прибавили скорость, но потеряли контроль над коварным течением. Шкипер выругался и, используя багор в качестве своеобразного руля, попытался вернуть судно на прежний курс. Барка пошла медленнее, но сильно раскачивалась на поднятых ею же самой волнах. Вскоре волнение успокоилось, и уставший перевозчик начал вновь продвигаться вперед. Однако их преследователи приблизились еще на несколько корпусов.
Весь следующий час Эмилия, пристроившись на краю скамьи, вертелась как на иголках, поглядывая то назад за корму, то вперед на реку. Следующая крутая подковообразная излучина появилась перед ними у Гринвича, и шкипер опять начал клясть всех на свете: убыстрившееся течение мотало барку из стороны в сторону. Небо окрасилось мягкими розово-желтыми оттенками, и прилив замедлился. Вскоре река начала оживать, множество лихтеров направлялось к Легал-кис, городским пристаням чуть ниже Тауэра, а баркасы с миногами и лодки с устрицами спешили к Биллингсгейту. Среди них скользили и лавировали вереницы шлюпов и полубаркасов, уносимые вниз по течению на раздутых парусах. Расстояние между двумя соревнующимися лодками сократилось, но после Шедуэлла вновь увеличилось, поскольку их преследователи поотстали в Пуле, попав в затор, где суда кружились, как стаи разъяренных птиц.
Через несколько минут, прищурив глаза, Эмилия увидела арки Лондонского моста, перепоясывающие реку. Обернувшись назад, она вновь заметила показавшийся в поле зрения весельный катер с навесом. Лодочник, истекая потом, с силой гнал барку, но это было бесполезно. Когда они наконец поравнялись с битком набитыми причалами перед таможней, катер преследователей был всего лишь на два корпуса сзади. Агенты кардинала выползли из-под навеса, и в свете пробудившегося солнца Эмилия разглядела их смуглые лица и черные как смоль камзолы с золотой окантовкой. У всех троих были кружевные плоеные воротники, и один из них — затаившийся на носу — сжимал кинжал. Оглянувшись, Эмилия увидела, что Вилем стоит на коленях на дне барки, держа шкатулку в руках.
— Слишком поздно… — Вилем вылез из-под навеса и пополз на нос барки, где попытался поднять сундучок на край борта. — Мы не сможем добраться до Йорк-хауса, — пробурчал он. — Не сможем добраться даже до Биллингсгейта.
— Нет, не надо!
Обдирая голени, Эмилия перелезла через скамьи и неловко обняла его, положив руку на шкатулку, но Вилем оттолкнул ее назад. Он поднял груз и вновь наклонился к планширу, держа сокровище на вытянутых руках.
Эмилия вскочила на ноги, но в этот момент шедший сзади катер ударил по корме их барки. Она слышала проклятия лодочника: его барка пошла вбок и через мгновение одним из бортов врезалась в идущий навстречу ялик. Столкновение было очень сильным. Последним, что Эмилия увидела, падая на палубу, была пара ботинок, исчезнувших за бортом.
— Вилем!
Барка сильно раскачивалась из стороны в сторону к тому времени, когда Эмилия умудрилась подняться. Их взяли на абордаж. Еще ничего не видя, она услышала шум драки. Бедный лодочник яростно отбивался своим багром, но не смог избежать удара кинжалом, прорезавшего его кожаную куртку и живот. С последним проклятием он упал на колени и рухнул на корму как раз в то мгновение, когда барка вновь получила удар по правому борту — от рыболовного смэка, выбитого с курса тем разогнавшимся яликом. Люди кардинала повалились один на другого и растянулись во весь рост на корме. Упавший кинжал зазвенел по палубе.
— Эмилия!
Смэк проходил мимо, направляясь вверх по течению под хлопающим парусом, мачта его дико раскачивалась, а хозяин с трудом сохранял равновесие на корме. Эмилия перехватила взгляд Вилема — он распростерся на этой раскачивающейся палубе, запутавшись в сетях, полупогребенный под лавиной серебристой рыбы.
— Эмилия! Прыгай!
Смэк уже двигался быстрее, скользя мимо сбившейся с пути барки, поймав ветер полусвернутым парусом. Эмилия поспешно шагнула на одну из качающихся банок и приготовилась к прыжку, когда чья-то рука дернула ее за юбку назад. Но в этот момент барку протаранила четвертая, и последняя, лодка, гуари с дюжиной пассажиров на борту. Тут рука исчезла, и она поняла, что летит вперед, к смэку, через пятифутовую полосу водяных брызг.
Глава 3
Все поля кругом затопила вода. Дождь лил всю ночь напролет и сейчас по-прежнему продолжал сыпаться с неба на Эппинг-форест, поменяв, правда, свой оттенок с угольно-черного на пепельно-серый: от изобилия небесной влаги рыбные пруды и песчаные карьеры вышли из берегов. За одну ночь эта лесистая, покрытая мхом местность превратилась в болото. Центр грозы уже сместился в сторону, но дождь и сильный юго-западный ветер не прекращались. Дубы и буки стояли в воде, словно севшие на мель корабли; стволы других деревьев, сваленных ураганным ветром или молнией, лежали поперек идущей из Лондона дороги на самых продуваемых ветрами участках.
В глубине этого леса, около домов егерей и лесников, заботящихся об отстреле больных и опасных животных, шлепала по лужам Эппинг-роуд четверка лошадей, волоча за собой по грязевым лужам обтянутую кожей карету. Дело было в начале восьмого утра. Лошади, пошатываясь от напряжения, с трудом продвигались на север через Эссекс, их мокрые гривы развевались как знамена, а из-под колес кареты в разные стороны разлетались огромные комки грязи. Достигнув самого низкого участка дороги, где лужи были глубже всего, карета остановилась, опасно накренившись на один бок. Кучер, которому за это утро уже пришлось убирать с дороги три упавших дерева, выкрикивал проклятия и охаживал конские крупы хлыстом. Лошади силились сдвинуться с места, но карета осталась неподвижной.
— Что случилось? — Я поднял кожаный клапан и выглянул в окно. Капли, брызнувшие мне в лицо, казались водяной пылью больших волн.
— Увязли в грязи, — пожаловался кучер, с плеском спрыгнув в дорожную лужу. Его чавкнувшие сапоги тут же засосало, и он едва не потерял равновесие. Одежда на нем промокла почти насквозь. — Не беспокойтесь, сэр, — буркнул он себе под нос, натягивая поглубже шапку. — Я нас мигом вытащу.
Откинувшись назад, я вытащил из кармана овсяную лепешку и кусок темного сыра. Мы ехали уже больше часа, покинув Лондон еще до рассвета. Как и было обещано, запряженная четверкой лошадей карета ждала меня на заднем конном дворе «Трех голубей». Я рассчитывал вновь увидеть Финеаса, но не испытал разочарования, обнаружив, что в Уэмбиш-парк меня повезет другой кучер, дюжий мужик, который представился как Нэт Крамп. Он оказался более словоохотливым спутником, чем Финеас, хотя с таким же скверным характером. В отличие от первого путешествия в Понтифик-Холл, сейчас я сидел у задней стенки кареты и, пережевывая свой завтрак, слушал издаваемые Крампом проклятия, понукания и удрученные замечания по поводу поганой погоды.
— Лучше бы мы поехали по другой дороге, — говорил он, засовывая толстую ветвь под одно из задних колес и пытаясь вытащить его из грязи. Он прикрикнул на лошадей, и их упряжные ремни натянулись и заскрипели. Карета слегка вздрогнула, колеса с железными ободами застонали, словно упрямый осел, но сдвинулись всего лишь на пару дюймов и опять увязли в грязи. Я встревожился, увидев, что вода доходит уже до задней оси. Крамп и лошади стояли по колено в воде. — Надо было ехать через Пакеридж, — добавил он, приспосабливаясь к очередному подъему колеса. — Там дорога повыше.
— Через Пакеридж? — Меня слегка потряхивало от дергающихся движений кареты. По крыше с силой хлестали ветви вяза. — Ну, и почему же мы тогда не поехали тем путем?
— Так велено, — сердито буркнул он, крякнув от напряжения. — Велено было ехать здесь, что мне делать-то? — Он помолчал, взглянув в мою сторону. Похоже, ему казалось, что это я во всем виноват. — Мне велели ехать через этот лес.
— Да? И почему же именно через этот?
Ухватившись за спицу и обод колеса, он начал подпихивать под него ветку насквозь промокшим сапогом. По его команде коренники натужились рвануть с места, встав почти на дыбы, но тут же плюхнулись обратно в грязь. На сей раз колеса не сдвинулись даже на дюйм. Он вновь выругался и пошлепал вперед по грязи.
— Почему? — Он начал расчищать грязь перед колесами концом стека. — Да потому же, почему мы не взяли карету лорда Марчмонта, вот почему. Дескать, мол, так безопаснее.
Он невесело усмехнулся, но затем временно прервал свои достаточно долгие и многотрудные усилия, чтобы пойти и по-хозяйски выбрать подходящую ветвь в ближайшем леске. Его шляпа упала в воду, и я увидел, что промокшая под дождем копна его густых, светлых волос облепила голову. Еще раньше, в тусклом свете конного двора, мне показалась знакомой его физиономия, но, учитывая многочисленные события последних дней, я решил, что не могу больше доверять своей интуиции. Еще мне почудилось, что он слегка удивился моей внешности — моим потемневшим волосам и подстриженной бородке, — предположим, потому, что я не соответствовал описанию. Так или иначе, он совершенно спокойно пригласил меня в карету.
— Нас не выследят, если мы поедем этой лесной дорогой, — пояснил он, вздыхая и покрякивая от напряжения. Он нашел новую ветвь, подходящую для рычага, и, притащив ее к задней части кареты, вновь начал возиться с колесом. Карета раскачивалась вперед и назад, как лодка во время прилива.
Я поднял кожаный клапан заднего оконца и пристально взглянул на покрытую сучьями дорожку, что вилась вслед за нами. Вокруг еще царил утренний полумрак. В сероватой мгле я разглядел за кустами пару ланей, самца и самку: оба настороженно поглядывали в нашу сторону, готовые в любой момент броситься наутек. Но поблизости не было заметно никаких признаков человеческой жизни, не было даже браконьеров, которыми был печально знаменит Эппинг-форест. Из-за сегодняшней ужасной погоды дорога была пустынна. С тех пор как мы выехали на Эппинг-роуд, нам встретилась только случайная, направляющаяся в Лондон повозка или фургон, запряженный малорослой лошадкой.
— Но-но! Давай! Пошли!
Одна из веток хрустнула и сломалась с громким треском, и вдруг наша карета резко рванулась вперед, едва не сбросив меня на пол. Оконная занавеска приоткрылась, и я увидел, как колеса, гоня волну, выбираются из лужи на более сухой участок тропы. Уцепившись за угол кареты, Крамп запрыгнул на козлы. И вот мы снова в пути, снова с трудом пробираемся к северу сквозь плотные заросли деревьев и завесу дождя. Я устроился поудобнее, сознавая, что нам предстоит долгая поездка. Мы рассчитывали добраться до Уэмбиш-парка к середине завтрашнего дня.
Весь остаток утра мы медленно, накручивая милю за милей, ехали дальше. Совершенно невыспавшийся, я то и дело задремывал: ведь вчера я добрался до Эльзаса только за полночь и спал урывками, поскольку в «Полумесяце» с наступлением темноты начинался шум, как на ведьминском шабаше. Всю ночь по лестницам кто-то топал, в пивной визжали скрипки, танцующие и хохочущие компании шатались взад-вперед по коридорам. Только за час или два до рассвета все наконец утихомирились, но совсем скоро меня разбудил стук в дверь и голос одной из горничных, миссис Фокс, сообщил мне из-за дверной панели, что заказанный мною наемный экипаж уже прибыл.
Поездка в Уэмбиш-парк началась со знакомого предзнаменования. Когда экипаж прибыл на Чансери-лейн, мне попался на глаза очередной знак, нарисованный мелом на стене, — один из тех таинственных иероглифов, которые я теперь благодаря моим герметическим изысканиям держал в памяти; этот символ Марсилио Фичино называл герметическим крестом. Под ним виднелась также нацарапанная мелом и полустертая дождем одна-единственная фраза, словно подпись под иллюстрацией: «Мы, незримые братья Розы и Креста».
Откинувшись на спинку сиденья, я озадаченно размышлял, правильно ли я понял эту подпись. Может, кто-то просто решил пошутить? Поскольку все это казалось слишком уж странным, чересчур таинственным, чтобы быть правдой. Разумеется, мне приходилось слышать о таком тайном обществе, известном как братство розенкрейцеров. Мне пришлось как-то познакомиться с их странной историей, пролистывая некоторые из моих трактатов по герметической философии. Меня удивило, что в рассказе Биддульфа они не упоминаются в числе других тайных протестантских заговорщиков. Несмотря на скудость информации, я понял, что розенкрейцеры — тайное общество протестантских алхимиков и мистиков, которые противостояли католической контрреформации в начале нашего века. Они поддерживали Генриха Наваррского как поборника их веры, а потом, после убийства Генриха в 1610 году, — курфюрста Фридриха V Пфальцского. Их граффити и лозунги быстро, как грибы, множились на стенах Гейдельберга и Праги в 1616 и 1617 годах, то есть примерно в то время, когда Фердинанд Штирийский был провозглашен королем Богемии. Должно быть, розенкрейцеры относились к Фердинанду, воспитаннику иезуитов, с ужасом и ненавистью, но их лозунги и манифесты, исполненные странного оптимизма, предсказывали некую реформацию политики и религии во всей империи. И эти реформы планировалось провести посредством магических знаний, открытых Марсилио Фичино, первым переводчиком «герметического свода» на латинский язык. С помощью этой «научной магии», почерпнутой в герметических текстах и Libri de Vita[54] Фичино, братья розенкрейцеры надеялись превратить подгнившие и замшелые развалины современной жизни — мир религиозных распрей, войн и гонений — в некий идеальный мир Золотого века или Утопию примерно тем же путем, каким они надеялись получить золото из угля и глины в своих лабораториях.
На мой взгляд, их жажда реформации вполне понятна. Что видели розенкрейцеры, оглядываясь назад на последние столетия европейской истории, как не залитые кровью протестантов массовые расправы судов инквизиции? Резню гугенотов в Париже во время праздника Святого Варфоломея, костры в Смитфилде и Оксфорде во время правления королевы Марии. Внушали ужас и испанская инквизиция, и суды Святой палаты, не говоря уж о войнах с испанцами в Нидерландах, где расстался с жизнью Филип Сидни. Они видели лютеранских пасторов, изгнанных из Штирии, и сожженные на кострах протестантские книги в городе Граце, из которого изгнали Кеплера. Коперника запугали и заставили замолчать, а в 1616 году Галилея вызвали в Рим на допрос к Роберту Беллармину, одному из кардиналов инквизиции, который в Кампо-де Фьоре отправил на костер герметического философа Джордано Бруно. Томмазо Кампанеллу измучили пытками и бросили в неаполитанскую тюрьму. Вильгельм Молчаливый погиб от руки наемного убийцы, подосланного испанцами, а Генриха IV заколол на Новом мосту фанатичный католик Равальяк.
Однако в итоге и сами розенкрейцеры присоединились к этой трагической литании. Им не удалось найти философский камень и построить светлое общество Золотого века, поскольку в 1620 году короля Фридриха и богемских протестантов разгромили войска Католической лиги. Несомненно, большинство «братьев Розы и Креста» были суеверными шарлатанами и глупыми идеалистами, но я испытывал жалость к этим людям, ведь они хотели с помощью своих книг, химических препаратов и невнятных магических заговоров отвратить ту опасность, которую, по их понятиям, представляли пороки контрреформации, пороки Испании и Габсбургов, а вместо этого их самих поглотили трагические события Тридцатилетней войны.
Но сегодня утром, пока карету потряхивало по Чансери-лейн, мне пришла в голову еще одна мысль в связи с деяниями розенкрейцеров. Я осознал, что их манифесты появились в Праге примерно в то самое время, когда и флот Рэли — финансируемый другой организацией ревностных протестантов — отплыл в Гвиану. Ну конечно же — самый знаменитый розенкрейцерский трактат «Химическая женитьба Христиана Розенкрейца», экземпляр которого я нашел на своих полках, был опубликован в Страсбурге в 1616 году и в том же году Рэли выпустили из Кровавой башни! И мне вновь подумалось, не являлся ли сэр Амброз с его герметическим текстом своеобразным связующим звеном между двумя этими обреченными на провал авантюрами: во-первых, гвианским путешествием Рэли, и во-вторых, интригами Фридриха в Богемии? На сей счет у меня не было сведений; но на днях, пролистывая экземпляр «Химической женитьбы», я заметил в нем нечто более интересное, чем год издания, поскольку и на полях его страниц, и на титульном листе были отпечатаны крошечные символы Меркурия, точные копии тех рисунков, что постоянно встречались мне на стенах в Лондоне.
Но вот наша карета достигла Бишопсгейта, где со скрипом открывшиеся ворота пропускали стаю гусей, ведомых на рынок на убой. Я опустил оконную занавеску и прикрыл глаза, но поскольку скрип кареты не давал мне уснуть, я осознал, что думаю о бесчисленных алхимических трудах, хранившихся в Понтифик-Холле наряду с хорошо оборудованной лабораторией, и о том, не был ли отец Алетии, ярый протестант, членом братства розенкрейцеров. Но в этот момент в мои мысли ворвалось ликующее гусиное гоготание — шумливый гомон созданий, не ведающих о той участи, что уготована им в ближайшем будущем.
— Голодны, сэр?
— М-м-м-м?.. — Этот резкий окрик выдернул меня из дремоты, и несколько мгновений я испуганно приходил в себя, не в силах пошевелиться или отвечать.
— Мы будем останавливаться на обед, сэр?
Я потянулся и, смущенно моргая, выглянул в окно, чувствуя себя не в своей тарелке, как всегда, когда мне приходилось выезжать из города на природу. Равнинный пейзаж медленно уплывал вдаль вместе с полями и редкими посадками, полузатопленными водой. Завеса дождя все не ослабевала, и его крупные капли по-прежнему барабанили по кожаной крыше.
— Далеко ли еще до Кембриджа?
— Около часа, — ответил Крамп.
— Нет. — Я откинулся обратно на спинку сиденья. — Езжай дальше.
На самом деле до Кембриджа мы добирались два часа с лишним, но к тому времени дождь прекратился и ветер наконец разогнал тучи. Впечатляющий закат часом раньше окрасил бледно-розовой палитрой отару овец, бредущую по известняковой равнине. Влажный ветер взметнул мои волосы, когда я высунул голову в окно и заметил, что за нами на некотором расстоянии едет забрызганная грязью карета, запряженная четверкой лошадей; а за ней — всадник на какой-то понурой чалой лошади. Но в тот момент я не обратил на них особого внимания. По мере нашего приближения к Кембриджу на дороге появилось много разнообразных экипажей, всадников на лошадях, почтовых карет, направляющихся в Лондон или Колчестер. Я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.
Мы собирались переночевать в Кембридже и с рассветом отправиться дальше в Уэмбиш-парк. С этой целью он предложил постоялый двор под названием «Приют переплетчика», находившийся, по его словам, на берегу реки около колледжа Магдалины. Я охотно согласился. До сих пор Крамп проявлял себя как на редкость сведущий путешественник.
Но именно с этого момента наше путешествие превратилось в беспорядочное мытарство. Возможно, виновата была подступающая темнота, или усталость Крампа, или узкие улицы с рядами нависающих домов. А может, виноваты были нерадивые почтовые лошади, которые останавливались перед каждыми воротами или неосвещенным переулком и беспокойно закусывали удила. Но какова бы ни была причина, — самоуверенность, с которой Крамп пробирался через Эппинг-форест и преодолел более пятидесяти миль размытой после грозы дороги, сейчас, похоже, покинула его. И следующие три четверти часа мы плутали по узким улочкам — едва ли шире размаха рук, — минуя колледж за колледжем, постоялый двор за постоялым двором, кружа по собственным следам, прищуриваясь и вытягивая шеи, блуждали в темноте по мостовым и мостам, но нас вечно останавливали либо канавы либо тупики, и мы никак не могли доехать ни до колледжа Магдалины, ни до «Приюта переплетчика». Поэтому Крамп, не выдержав, предложил мне сесть рядом с ним на козлы: я буду высматривать гостиницу, а он — следить за дорогой.
Места на козлах было совсем мало, наши ноги едва разместились на подножке, и мы довольно долго сидели плечом к плечу, кружа по улицам. Он хранил молчание и напряженно вглядывался в бегущую впереди дорогу, а я, крутясь туда-сюда, высматривал вывески и в то же время присматривался к своему соседу. Здоровый как бык мужчина с бледными глазами, светлыми волосами и носом пьяницы, изрытым ямками, как померанец. Я встречал его прежде — теперь я убедился в этом, — но не мог вспомнить, где именно. Может быть, среди рабочих Понтифик-Холла, прикидывал я, или среди потягивающих кофе завсегдатаев «Золотого рога»?
На миг смутное воспоминание забрезжило и поднялось над горизонтом моей памяти, но тут карета въехала в какую-то колдобину и мне пришлось ухватиться за края сиденья, чтобы не вылететь на дорогу. В это мгновение я почувствовал вдруг, как что-то уткнулось мне в бок, посмотрел вниз — и увидел за поясом у Крампа рукоятку пистолета. Подняв глаза, я встревожился, увидев на его обветренном, прорезанном глубокими морщинами лице нечто новое — какой-то беспокойный, даже испуганный взгляд.
— Может, мы остановимся здесь? — спросил я, показывая на стоявшую поблизости гостиницу, чей нечищеный конный двор можно было учуять даже с такого расстояния. Мы уже дважды проезжали мимо этой вывески. — Выглядит вполне прилично. Какая разница? Все они одним миром мазаны, эти гостиницы.
— Держите-ка лучше рот закрытым, а глаза открытыми, — прорычал он, яростно работая челюстями и сильно тряхнув поводьями. — А то еще провороните то, что надо.
«Святой Георгий и дракон» проплыли мимо, как и «Посох пастыря», «Баранья лопатка», «Вязанка хвороста», «Веселый лев», «Кожаный бурдюк», «Свинья с поросятами» и еще по меньшей мере полдюжины других гостиниц и таверн, решительно отвергнутых Крампом. Я уж было решил, что могу спрыгнуть на дорогу и пойти пешком — вместе с Крампом или без него — в любой из постоялых дворов. Но едва я поднялся с козел и, встав поустойчивее, приготовился перепрыгнуть через колесо на подножку, как сразу вдруг увидел этот «Приют переплетчика», бледную громадину с мерцающими окнами и крутой крышей, устремленной в небо как зиккурат. Она стояла за рекой, прямо напротив нас, на другой стороне узкого моста, на который Крамп направил лошадей.
— Вон он, — сообщил я ему. Теперь я услышал привычное говорливое журчание воды: река Кем старательно пропихивалась в узкие ворота между опорами моста. — Видите? «Приют переплетчика».
Но Крамп ничего не ответил. Стиснув зубы, он вновь оглянулся через одно из его могучих плечей, тряхнул поводьями, и лошади резвой рысью понеслись вперед. Возможно, он не расслышал моих слов из-за гула воды. Я показал рукой на здание и хотел дернуть его за руку — мы уже были в конце моста и на такой скорости явно промчались бы мимо нашей гостиницы, — но мои пальцы наткнулись на что-то твердое и холодное. Опустив глаза, я увидел, что в правой руке он сжимает пистолет.
— Но, но! Пошли! Но!
Лошади помчались через мост так быстро, что я едва не слетел с сиденья. Выпрямившись, я услышал ругательства Крампа и, повернув голову, заметил, что мы уже не одни. С противоположной стороны, преграждая нам путь, приближалась заляпанная грязью карета, запряженная четверкой лошадей, а маячившая впереди нее понурая чалая кобыла с всадником решительно двигалась на нас.
Я в смятении повернулся к Крампу. Он скривился, вновь выругавшись, поднял пистолет и направил его на приподнявшегося в стременах человека. Лошадь повернула в сторону каменного парапета, когда его оружие выстрелило и яркая вспышка искр обожгла мне левую щеку. Перепуганные звуком выстрела, наши лошади рванули вперед, а за ними, дико раскачиваясь, неслась карета. Я вцепился в край сиденья, пока Крамп неловко возился с поводьями, одновременно перезаряжая свой пистолет. Через несколько мгновений другая карета должна была поравняться с нами.
— Да помогите же мне, бога ради! — Крамп совал мне пистолет и патрон. Ступица одного колеса прошкрябала по парапету, карета сильно накренилась на один бок, и наши головы сошлись вместе. — Они же убьют нас!
Но я не взял пистолет, и он с лязгом упал на мост за нами. И когда карета выровнялась, я сместился в сторону и, развернувшись на сиденье, неловко поднялся на раскачивающуюся крышу кареты, где скорчился на мгновенье, держась за край. Затем, не обращая внимания на крики Крампа и не оглядываясь назад, я перепрыгнул через перила прямо в шумный, стремительный поток полноводного после дождя Кема. С плеском войдя в воду и скрывшись под ней, я проплыл через среднюю арку вниз по течению мимо «Приюта переплетчика», и мне слышался не грохот речной воды, а отзвук Крамповых деревянных челюстей, щелкнувших, как погремушка.
Потому что теперь наконец-то я вспомнил, где видел его прежде. Но долгое время, пока поток тащил меня вниз по течению, я не мог ни о чем думать, потому что весь мир вдруг погрузился во мрак и безмолвие.
От моста Магдалины река Кем течет на северо-восток к Айл-оф-Или, в нескольких милях ниже которого, на краю торфяных болот, она пересекается с древними римскими осушительными каналами, чьи воды впадают в Большой Уз и затем устремляются на север, в сторону моря, где миль через тридцать вливаются в залив Уош, простирающийся до пустынного горизонта. Из-за вчерашнего ливня болота стали еще более топкими, чем обычно, а течение реки в тот вечер было бурным и быстрым. Понятия не имею, сколько миль меня несло вниз по течению. Знаю только, что пришел в себя, промокший и замерзший, на борту лихтера, идущего на рынок, который толкал против течения один из жителей этого болотного края, престарелый резальщик торфа по имени Ной Брайт. В небесах кружились звезды, а мимо, покачиваясь, проплывали топкие илистые берега. Я откашлялся, чтобы очистить легкие от речной воды, и с трудом продышался. Со времени моего прыжка в реку могли пройти часы или даже дни.
Об этом путешествии обратно к Кембриджу у меня сохранились лишь самые смутные воспоминания: старик-лодочник, отталкивающийся шестом; скольжение лихтера по реке и темные прибрежные пейзажи, проплывающие за бортом судна; сладковатый запах высушенного солнцем торфяного брикета, к которому прижималась моя щека. Отталкиваясь шестом, Брайт вел судно, не прекращая свой оживленный монолог, хотя о чем он говорил, я толком не знаю, потому что почти не слушал и не отвечал. Я все время думал о Нэте Крампе, о том, что я увидел, когда наши головы столкнулись на том мосту: деревянные зубные протезы, оскаленные, как у злой и перепуганной дворняжки.
Несчастный случай на Флит-стрит. Ломовая лошадь свалилась замертво, сэр …
Это открытие потрясло меня. Даже сейчас я не понимал, с чем связано его появление. Но именно Крамп вез меня в наемном экипаже в Эльзасе, об этом-то я догадался сразу. Именно Крамп привез меня тем, по видимости, случайным окольным путем к «Золотому рогу». В тот момент я был уверен в этом, как ни в чем другом.
Несчастный случай на Флит-стрит…
Итак, понял я, пока что я знаю лишь то, что несколько дней назад некто по имени Нэт Крамп следил за мной до Вестминстера, до «Почтового рожка», где он подобрал меня на улице якобы случайно и доставил в район «Золотого рога» также якобы случайно. Но это путешествие нужно было тщательно спланировать и провести, чтобы весь детально проработанный замысел показался неким стечением обстоятельств, просто совпадением, редкостной удачей. Отсюда следует, что все случившееся со времени той первой поездки в Эльзас со всеми гладко вытекающими последствиями — аукцион, томик Агриппы, списки — также было подстроено. Как, разумеется, и путешествие в Уэмбиш-парк. Меня водили за нос, постепенно подстраивая все более рискованные и опасные ситуации. Даже если этот дом действительно существовал, то я не сомневался, что он, как и все прочее, приплетен сюда лишь для отвода глаз. Но ради чего меня обманывать? Ради кого?
Похоже, мы зашли в тупик …
А теперь еще этот словоохотливый торфодобытчик Ной Брайт, который возвышался надо мной на корме. А он кто такой? Беспрестанно работая языком, он, похоже, внимательно следил за мной, устремляя на меня пару глаз, таких же смышленых и настороженных, как у видавшего виды пойнтера. Мне удалось объяснить, что я лондонский книготорговец по имени Сайлас Кобб, приехавший поискать кое-какие книги в магазинах и лавках кембриджского рынка, но свалился в реку, не в меру насладившись гостеприимством одного из многочисленных городских кабачков. Даже не знаю, поверил ли он моим скороспелым выдумкам — и мог ли я доверять ему. Внезапно я начал подозревать всех и каждого. Что, если этот добытчик торфа — очередной Крамп или Пикванс, актер, выведенный на сцену, чтобы сыграть порученную ему роль, марионетка, веревочки которой дергает кто-то, скрытый за ярмарочной ширмой. Неужели он случайно нашел меня в реке, так прямо чисто случайно? Или даже мой прыжок в реку был каким-то образом точно спланирован, предопределен набором указаний, автор и цели которых покрыты тайной? Я задавал себе вопрос — где же кончается этот заговор? Что, если Биддульф с его рассказами о Королевском флоте и «Филипе Сидни» тоже лишь играл свою тщательно выверенную роль, как и все остальные. И возможно, нацарапанные на стенах лондонских домов знаки и редкости, пылящиеся в застекленном шкафчике, предназначены только для моих глаз…
Лихтер резко развернулся правым бортом и пошел к берегу. Волна перехлестнула через борт, а рядом со мной опасно закачались брикеты торфа. Подняв голову, я увидел, что Брайт перестал отталкиваться и, присев на корме, встревоженно вглядывается в речное течение. Повернувшись, я разглядел слабые огни Кембриджа, отражавшиеся в речной воде далеко впереди нас. Должно быть, мы находились в доброй миле к северу от моста Магдалины. Фонарь закачался на краю баржи, угрожая свалиться в воду. Вновь обратив внимание на Брайта, я почувствовал, как у меня от затылка к спине побежали мурашки.
— Что такое?
— Вон там, — прошептал он, кивая на берег. — Там на берегу что-то есть.
Я снова взглянул туда и заметил какое-то темное пятно, полускрытое заболоченной осокой: с виду оно походило на земноводную тварь, наполовину вылезшую из воды. Световая дорожка от фонаря побежала в ту сторону, когда Брайт, погрузив свой шест в тину, оттолкнулся, осторожно направляя нос лихтера поперек изменчивого течения. Он едва удержался на ногах, но зато выровнял курс, орудуя шестом, когда нас раскачивало на этой стремнине. Через пару секунд днище с мягким шуршанием проехало по прибрежному илу. Я разглядел руку, торчавшую из осоки. Брайт, буркнув что-то, вытащил шест из воды.
На берегу лицом вниз лежал распластавшийся человек; его ноги скрывались в полноводной реке. Брайт с шумом плюхнул шестом по воде, но еще прежде, чем он ткнул лежавшего в плечо и перевернул на спину, было ясно, что этот человек мертв. В призрачном свете фонаря я увидел, что его горло перерезано от уха до уха, точнее даже голову почти отсекли, и она скособочилась под жутким углом. Почувствовав приступ тошноты, я отвернулся, а Брайт перешагнул через борт и, оказавшись по колено в воде, поднял фонарь. Когда он подошел к телу, волна окатила их обоих, но прежде, чем погас фонарь и тело скрылось в осоке, я успел мельком увидеть лицо убитого: нос картошкой, а под ним деревянные челюсти, крепко сжатые в какой-то немой ярости.
Глава 4
Одно из моих самых ранних детских воспоминаний — образ пишущего отца. Мой отец работал переписчиком, то есть профессионально переписывал всякие бумаги, и занимался этим педантично, со всевозможными хитрыми ритуалами. Я по-прежнему представляю его себе с упавшими на лицо волосами, в какой-то молитвенной позе согбенным над старым письменным столом, в его тонкой руке подрагивает индюшачье перо. Как и я, отец не обладал представительной внешностью — неприметный маленький человек в темных одеждах и с мрачновато-встревоженными, как у буревестника, глазами. Но, понаблюдав за его работой, нельзя было не восхититься его удивительным каллиграфическим способностям. Я любил постоять около его стола, держа в руках свечу, пока он смешивал чернила или затачивал перья перочинным ножичком с такой аккуратностью, словно совершал тончайшую хирургическую операцию. Затем он окунал заточенный кончик пера в чернильницу и приступал к магическому действу: начинал выписывать буквы на разложенных на столе перед ним листах отбеленного и гладкого пергамента.
Что писал мой отец? Мне неизвестно. В те детские наивные дни букварь еще не открыл мне тайны расшифровки наклонных головок и тонких ножек с завитушками, и странные чернильные человечки рисуемые отцом, были для меня неотразимо привлекательны, как иероглифы фараонов. На самом деле отцу приходилось переписывать всевозможные тексты наиглупейшего свойства. Разнообразные патенты, протоколы манориального суда и церковные книги — такого рода вещи. Жизнь переписчиков была на редкость тяжелой и скучной. Только став старше, я понял, что спина моего отца сгорбилась оттого, что он постоянно сутулился за своим письменным столом, а зрение у него испортилось потому, что бедность не позволяла ему почаще зажигать свечи. Его трудовые будни проходили в крохотной чердачной комнате, служившей кабинетом, и раз в неделю в них вносилось разнообразие, когда отец отправлялся по магазинам за чернилами и бумагой или относил плоды свои трудов в судебную канцелярию или архив, где он получал жалованье, позволявшее кое-как перебиваться. Став постарше, я иногда сопровождал его в таких вылазках на улицы Лондона. Со свернутыми в рулон пергаментами, засунутыми под мышку или в потрепанный заплечный мешок с петлей на шее, он мог заявиться в Клементс-Инн или в одно из двух дюжин подобных учреждений, а я ожидал его в тихой приемной, глядя через дверь, как мой сгорбленный отец в своем темном плоеном воротнике смущенно разворачивает дрожащими руками плоды своих трудов на столах худосочных и неулыбчиво-суровых судебных секретарей.
До сих пор я отлично помню те наши путешествия. Держась за руки, мы вдвоем брели по улицам к холодным и неприветливым зданиям, принадлежащим к могущественному и привилегированному миру, бесконечно далекому от нашего скромного домика и отцовского письменного стола с чернильными кляксами. Дважды мы заходили даже в Уайтхолл, где облаченные в шелковые ливреи пажи сопровождали нас в королевскую канцелярию. Хотя чаще всего в таких еженедельных одиссеях мы посещали Чансери-лейн, ведь именно там, на восточной стороне рядом с игорным домом под названием «Колокольный двор» — увы, еще одно излюбленное место отдыха моего отца — находилась та самая архивная часовня.
Отец мой был скорее атеистом и частенько шутил, что архивная часовня — единственный храм, который он когда-либо посещал. Снаружи это здание действительно выглядело как церковь. С шестиугольной колокольней и витражными окнами, оно свысока смотрело на барристеров и судей, сновавших взад и вперед по Чансери-лейн. За украшенной декоративными гвоздями дубовой дверью находилось подобие алтаря с длинным нефом, заставленным рядами скамей. Однако скамьи эти заполняли не набожные прихожане со своими молитвенниками, а увесистые тома в сафьяновых переплетах и стопы документов, писанных на бумаге и на пергаменте, в три фута высотой. И заходившие внутрь люди — небольшими кучками теснившиеся в северо-западном углу — возносили молитвы не Господу, а лорду-канцлеру, или, вернее, его помощнику, начальнику архивов канцлерского суда, который, словно священник, принимал прошения в этом алтаре, устроившись за столом. Ведь эта архивная часовня вроде бы когда-то была церковью — ее построили, как говорил мне отец, для английских евреев, обращенных в христианство, — но она сама давно уже «обратилась», и сейчас в ее колокольне и в крипте, скрывающейся под серыми плитами, хранится многотомная документация лорда-канцлера.
Я встретился с призраком моего детства — с малышом Исааком Инчболдом, одетым в домотканое красновато-коричневое платье и проеденные молью рейтузы, — утром после моего возвращения из Кембриджа, заняв свое место на скамье возле двери. Преображенные витражными окнами солнечные лучи рисовали на вымощенных плитами проходах между рядами скамей причудливые яркие картины, я отлично помнил их с тех давних утренних часов, которые просиживал здесь, постукивая ногами по скамеечке и ожидая, когда мой отец спустится с колокольни или поднимется из крипты. Сейчас, как и в мои детские годы, в архивной часовне стояла тишина и пахло заплесневелыми старыми пергаментами и древними камнями.
Но часовня жила своей напряженной жизнью. Со своего места я видел, как множество канцеляристов и переписчиков осторожно пробираются между аналоями и клиросами, а со мной за компанию на скамье сидела дюжина господ, по большей части из кавалеров, по крайней мере на вид. А за изъеденной червями алтарной оградой начальник архива, толстяк в пурпурной мантии, что-то втолковывал небольшой аудитории правоведов в париках из конского волоса. Я сверился с карманными часами и вновь обеспокоенно взглянул на ведущую в колокольню дверцу, куда пару минут назад удалился один из служащих. Надпись над этой дверцей гласила: «Rotuli Litterarum Clausarum». Вздохнув, я убрал часы обратно в карман. Я ужасно спешил, поскольку находился в смертельной опасности, которая угрожала также и Алетии.
Со времени моего отъезда в Кембридж прошло два дня. Я вернулся в Эльзас вчера вечером, проведя целый день в дороге. Мне не терпелось попасть в Лондон, потому что одна жуткая мысль, пришедшая мне в голову, заставляла меня трепетать от страха. Я пришел к выводу, что все эти странные стечения обстоятельств, подстраиваемые для меня какой-то неизвестной личностью — или личностями, — возвращают меня к шифровке в атласе Ортелия, к тайному тексту, который, очевидно, мне было предназначено найти и расшифровать. Откуда следует, что человек, раскинувший эти сети, в любом случае имел доступ в Понтифик-Холл и его лабораторию. И следовательно, на подозрении, по всей вероятности, лишь два человека — либо Финеас Гринлиф, либо сэр Ричард Оверстрит, или, возможно, они оба состояли в сговоре. Так или иначе, преступник не только знал Алетию, он еще и пользовался ее доверием. И один из них — вероятнее, сэр Ричард — убил Нэта Крампа.
События последних двух дней, однако, по-прежнему приводили меня в недоумение. Я никак не мог понять, зачем понадобилось убивать Крампа и как связаны вторжения в «Редкую Книгу», Генри Монбоддо и его таинственный заказчик, и Оринокская экспедиция — с альфой и омегой всех тайн, с этой чашей Грааля, с самим нашим затерянным манускриптом, который, похоже, становился все более затерянным.
Но потом вдруг я догадался, как можно все-таки разрубить этот гордиев узел, как выяснить, что скрывается за таинственным Генри Монбоддо и Уэмбиш-парком, — и затем на основе добытых сведений вычислить того, кто стоит во главе всего этого дела. Ведь этот злодей не до конца замел следы. Ответ прятался не в Уэмбиш-парке, а прямо в Лондоне на Чансери-лейн — в нескольких строчках текста, написанного на архивном пергаментном свитке.
И вот утром, по-прежнему в костюме кавалера, я добрался до архивной часовни после бесполезного заезда в Пултени-хаус, который выглядел темным и покинутым. Я объяснил мою надобность секретарю, сидевшему за столом около крестильной купели, и он с ухмылкой поведал мне, что мое желание невыполнимо, поскольку все клерки, обслуживающие закрытый архив, — я должен понять — сейчас крайне заняты. Никто не сможет выполнить мою просьбу, пояснил он, по крайней мере еще несколько дней.
— И все из-за «Грамоты о возмещении и помиловании», — пояснил он, пожав узкими плечами.
— Простите, о чем вы?
— Свидетельства о наследовании или продаже земли, — произнес он насмешливо-высокомерным тоном. — Все занимаются сейчас поисками архивных документов, подтверждающих право на земельные владения, дабы конфискованные Кромвелем поместья могли быть возвращены их законным владельцам.
— Но я же обращаюсь к вам по тому же вопросу!
— Неужто в самом деле? — Он оторвал глаза от стола и окинул меня с головы до ног откровенно изучающим взглядом — вполне справедливо скептическим, я полагаю, поскольку ему было непонятно, как персона столь простецкого и весьма потрепанного вида может иметь отношение к аристократическим владениям, даже и конфискованным. — Ну, тогда вам придется подождать вашей очереди, как всем остальным. — Он кивнул на представительную галерею «кавалеров». Затем медленно скосил на меня глаза. — То есть если, конечно…
Малый деликатно кашлянул в кулачок, опушенный кружевным манжетом, и украдкой глянул в сторону алтаря. Мысленно вздохнув, я достал шиллинг. Конечно, я понимал, что алчность присуща законоведческой братии, но не сознавал, что этим пороком заразились уже и их канцелярские помощники. Поскольку монету удостоили лишь одного сомнительного взгляда, мне пришлось добавить вторую. И обе монеты, точно по волшебству, растаяли в воздухе. Он перевел взгляд на лежащие на столе бумаги.
— Присаживайтесь и подождите, пожалуйста.
И вот уже целый час от него не было ни слуху ни духу. В алтаре успели выслушать два прошения и отпустить истцов восвояси. Канцеляристы и законоведы шаркали туда-сюда, рылись в томах, сложенных на скамьях или в ризнице справа от меня. Сверкающий солнечный свет, медленно проползая по каменным плитам, уже почти достиг кончиков моих башмаков, которые, как в детстве, нетерпеливо постукивали по мягкой скамеечке, стоявшей на полу передо мной. Наконец я услышал, как назвали мое имя, и, подняв глаза, увидел клерка, худощавого юношу, появившегося на пороге той дверцы, что вела на колокольню.
— Теперь, если угодно, вы сможете посмотреть акты регистрации, — объяснил мне сидевший за столом секретарь. — Мистер Спайсер покажет вам дорогу.
Подъем оказался трудным. Перила заменяла потрепанная веревка, а лестничный колодец был настолько узким, что я постоянно терся плечом о Центральную колонну, сложенную из песчаника. Мне приходилось быстро вертеться вокруг нее в погоне за шустрым мистером Спайсером, но после дюжины ступенек я представил, что все эти тонны камня со страшной силой давят на меня, и испытал уже знакомый леденящий ужас, пережитый мною совсем недавно в потайной келье собственного дома. Я всегда ненавидел замкнутые пространства, они напоминали мне, по-видимому, о том вечном ограничении, которое вскоре предъявит мне свои права. Дело усугублялось тем, что молодой мистер Спайсер не видел никакой надобности в освещении лестницы, вынуждая меня на ощупь пробираться наверх в этой затхлой темноте, лишь изредка тускло освещавшейся через щелевидные оконца.
Тяжело отдуваясь, я достиг-таки верхней площадки и увидел, что Спайсер поджидает меня в маленькой шестиугольной комнате. Сразу стало понятно, почему он не зажег свечку по пути наверх: комната была заполнена множеством пергаментов, часть которых, последовательно скрепленная между собой, была намотана на толстые катушки, достигавшие нескольких футов в диаметре. Почти весь пол покрывали беспорядочно расставленные деревянные ящики, также содержавшие пергаменты, часть которых уже потемнела от старости, но были и новые.
Мой взгляд пробежал по этим рулонам и ящикам, по полоскам пергамента с висящими яркими печатями, похожими на украшения. То был мир моего отца, мир переписчиков. Но меня это место интересовало совсем по другой причине, я знал, что эти документы, возможно, помогут установить личность моего преследователя. Сколько же документов я уже изучил в поисках ответов? Налоговые книги, патенты, церковные книги, каталоги аукционов, издания «герметического свода» и описания экспедиции Рэли — и все они лишь еще больше запутывали меня. Но теперь, наконец, я был на пороге правды. Она записана здесь, я уверен, в одном из этих пергаментов.
— У нас регистрируются все завещания, патенты, приказы и грамоты, — с гордостью объяснял мне Спайсер, перехвативший мой ошеломленный взгляд. — Здесь находится лишь малая часть документов, не уместившаяся в крипте и ризнице. В подвалах нашей крипты содержится уже более семидесяти пяти тысяч документов, составляющих примерно тысячу рулонов.
Он протиснулся к своему столу и, склонившись, со скрипом выдвинул глубокий ящик, из которого с преувеличенным ворчанием вытащил огромный, переплетенный в кожу фолиант. Толщина его явно была не меньше фута.
— У меня так много работы, — вздохнул он, садясь на свое место, — что, я надеюсь, вы оцените по достоинству. Поэтому, если вы не возражаете…
— Да-да. Разумеется. Перейдем сразу к делу. — Я шагнул вперед, опираясь на свою палку. — Я разыскиваю документ, подтверждающий право собственности.
— И таких, как вы, великое множество, — пробормотал он себе под нос. Затем, скрипнув кожей, он открыл обложку извлеченного из ящика картулярия и вооружился лупой. — Отлично. Право собственности. — Он послюнявил большой палец и начал листать толстые страницы. — В каком году она была зарегистрирована? Время года может ускорить поиски, если вам оно известно. Лето? Осень?
— А, ну… видите ли, в том-то, к сожалению, и загвоздка. — Я попытался изобразить обаятельную улыбку. — Мне не известно, когда именно произошла эта сделка.
— Вот как. Что ж, тогда могу я узнать, каково имя покупателя?
— Еще одна загвоздка, к сожалению. — Я улыбнулся еще шире. — Понимаете, именно это я и надеюсь отыскать. Имя нынешнего владельца этой собственности.
— Но у вас нет даты покупки? Нет даже примерных сроков? Так ведь? Что ж получается, — произнес он, сурово поджав губы, когда я отрицательно покачал головой, — вы желаете запрячь телегу впереди осла, если вы не возражаете против такого выражения. Необходимо знать либо одно, либо другое, либо имя, либо время. Уверен, вы понимаете это. — Огромная, удерживаемая приоткрытой, переплетная крышка вновь скрипнула и захлопнулась с глухим тихим стуком. — Как я уже сказал, мистер Инчболд, у меня очень много работы. — Он вновь склонился над столом, убрав картулярий в ящик. — Полагаю, вы сможете сами спуститься по лестнице.
Но я не собирался так легко отступать.
— Нет, минуточку. Я скажу вам имя, — заявил я. — Два имени, если позволите.
Однако Спайсеру не удалось найти в своей книге упоминаний о каких-либо владениях в Хантигдоншире, принадлежащих сэру Ричарду Оверстриту — первое имя, которое я попросил его отыскать в аккуратных графах, заполнявших страницы тряпичной бумаги, — или Генри Монбоддо. Хотя в итоге он обнаружил в своем картулярии запись о собственности, зарегистрированной на фамилию Монбоддо, но первое имя было другим — Изабелла. Почти час ушел на эти поиски. Подавшись вперед, я пытался прочесть вверх ногами строки, которые кто-то, один из предшественников господина Спайсера, начертал аккуратным канцелярским почерком.
— Этот дом представлял собой недвижимое имущество, переходящее по закону вдове наследователя, — пояснил он скучающе-монотонным голосом, — и оно завещано Изабелле ее мужем, имя которого — да-да — Генри Монбоддо. — Склонившись над книгой, он прижал нос к увеличительному стеклу, — Безусловное право собственности на недвижимость, означенную как Уэмбиш-парк.
— Так и есть, — пробормотал я. — Да, то есть…
— Право на это имущество подтверждено, — продолжал он, словно не слыша моего бормотания, — завещанием, составленным Генри Монбоддо в тысяча шестьсот тридцатом году. С того времени его сдавали в аренду парламенту, позднее конфисковали, а затем возвратили владельцу согласно «Грамоте о возмещении и помиловании».
— Возвращено Изабелле Монбоддо?
— Так точно. Она записана как вдова Генри Монбоддо.
— Вдова? Но когда же умер сам Монбоддо?
— Это вам не церковные книги, мистер Инчболд. Картотека не сообщает нам о подобных вещах.
— Разумеется, — умиротворяюще пробормотал я, пытаясь переварить полученные сведения. Монбоддо умер? Знала ли об этом Алетия? Я еще больше подался вперед. — Значит… Изабелла Монбоддо является владелицей этого имения?
— Являлась владелицей. Уэмбиш-парк, кажется, перешел в другие руки после недавней земельной сделки.
Он опять низко склонился над страницей, точно ювелир, исследующий с помощью лупы драгоценные камни редкого качества. А я со своей стороны видел, как под лупой проплывают искореженные червячки строчек. Перевернув страницу с резким хрустом, Спайсер впервые за двадцать минут отложил лупу и взглянул на меня.
— Да, — сказал он, — его продали. Видимо, совсем недавно. Эту сделку зарегистрировали всего несколько недель назад. Хотя, конечно, в своем графстве она могла быть зарегистрирована даже на месяц раньше секретарем мирового судьи. Мы немного отстаем в нашей работе…
— Да, разумеется, все земельные сделки… — Я едва осмеливался дышать. — И кому же оно продано?
— М-да. Ну… — Он удовлетворенно улыбнулся. — Этого картотека нам не сообщает.
— Но как же сделка? — Желая самолично прочитать запись, я едва сдерживался, чтобы не вырвать эту книгу у него из рук. — Вы же говорите, что ее зарегистрировали?
— Безусловно, зарегистрировали. Таков закон, вы же понимаете.
— И в таком случае, где же о ней можно узнать?
Спайсер, казалось, не слышал моего вопроса. Вооружившись лупой, он вновь ссутулился над фолиантом, напоминая прилежного ученика, постигающего азы премудрости. Чуть погодя он вытащил одно из своих перьев и, старательно заточив его кончик, вывел на клочке бумаги, выуженном из очередного ящика, ощетинившийся частокол цифр, которые я, склонившись еще ниже, едва ли был способен расшифровать: CXXXIIIW.DCCLXXVIII.LVIII.
— Вот, держите, — сказал он, подталкивая кончиком указательного пальца в мою сторону по столу это таинственное послание. — Полагаю, именно это вы хотели узнать.
Я осторожно взял листок и подержал его за краешек, чтобы не смазать чернила. Сосредоточенно нахмурившись, я взглянул на Спайсера. Он следил за мной с самодовольной улыбкой.
— Что вы имеете в виду? Что это за тарабарщина?
— В крипте, господин Инчболд. — Крышка картулярия издала прощальный хлопок. Улыбка исчезла с лица Спайсера. Он поставил перо на место в роговую чернильницу и убрал увеличительное стекло в ящик. — Там вы найдете то, что ищете. В крипте.
Когда я спустился вниз по узкой лестнице и вошел в неф, солнце уже переместилось на сторону западных окон. Народа в церкви поубавилось; я заметил лишь пару служащих, тихо совещающихся в алтаре. Опираясь на мою суковатую палку, я брел по проходу, ослабевший от голода, поскольку не ел со вчерашнего дня. Но мне некогда было тратить время на еду. Держась за скамью, я перекинул косолапую ногу через преградившую мне путь скамеечку, цепко сжимая при этом драгоценную полоску бумаги. Да, мне предстояло еще очень много сделать, прежде чем я смогу удовлетворить запросы моего желудка.
Дверь в крипту находилась в передней части церкви, рядом с алтарем, под которым, по моим предположениям, она и располагалась. Здесь имелась такая же надпись, как над дверцей, ведущей на колокольню, «Rotuli Litterarum Clausarum», и за этой скрипучей дверью оказался ряд ступеней, в равной степени пологих и узких. Лестница была такой же темной, и лишь на дне маячил какой-то тусклый проблеск света. Нагнув голову, я нырнул под покоробленный деревянный средник и, сделав глубокий вдох, как ныряльщик перед погружением, начал медленный спуск.
В крипте меня должен был встретить архивариус по имени Эпплъярд, который разберется в шифровке и найдет все, что мне нужно. Но я уже догадался, что эти цифры означают номер полки, где хранится интересующий меня документ. Спустившись, я увидел, что в этом подземелье все полки и шкафы пронумерованы, так же как и ящики и множество перевязанных тесемками бумажных рулонов, теснящихся на полках. И все же пока невозможно было определить, какой именно рулон мне нужен. Когда глаза мои попривыкли к тусклому свету, я обнаружил, что крипта представляла собой пространный лабиринт, значительно превосходящий размеры алтаря, простиравшийся под нефом и захватывающий, по моим понятиям, Чансери-лейн и, возможно, даже еще добрый квартал Лондона. Узкие коридоры шириной не более двух футов, заполненные по бокам пергаментными рулонами, — одни толстые, как колбаса, другие тонкие, как черенок трубки, — уползали в темноту, разветвляясь на другие, такие же тесные каналы. Только благодаря моему невысокому росту и скромных размеров животу я смог нормально пройти по самому широкому из этих коридоров туда, где тусклая лампа освещала крохотный столик, занимаемый господином Эпплъярдом. Ламповый фитиль был низко подрезан, а господин Эпплъярд крепко спал.
Понадобилось минуты две, чтобы разбудить его. Это был хилый на вид старичок с венчиком белоснежных волос над ушами и лысой макушкой, пожелтевшей от времени, как и окружавшие его бумаги Дважды я слегка потряс его за плечо. На второй раз он всхрапнул, закашлялся и резко выпрямился, моргая выцветшими глазами.
— Да? — Его руки шарили по столу. — В чем дело? Кто здесь?
Я положил листок на стол, объяснив, что меня послал к нему господин Спайсер.
— Я ищу один документ, — добавил я. — Моя фамилия Инчболд.
— Инчболд… — Его руки застыли в воздухе над принесенной мною запиской. Он помедлил немного, сильно нахмурившись и постукивая указательным пальцем по кончику носа, словно замечтался о чем-то сокровенном. — Не из тех Инчболдов, что из Пудни-корт? Из Сомерсетшира?
Его вопрос удивил меня.
— Да, там живут мои дальние родственники.
— Ясное дело. Ну а с Генри Инчболдом, похоже, вы не такая уж дальняя родня. Верно? У вас не только фамилия, но и голос почти как у него.
Теперь я был просто потрясен.
— Вы помните моего отца?
— Еще бы, отлично помню. Превосходные образцы почерков. Строчные буквы, с верхним выносным элементом у него получались, помнится мне, весьма изящно. — Он пожал плечами и улыбнулся беззубым ртом, — Видите ли, в те времена я еще наслаждался радостями зрения.
Только тут я сообразил, что Эпплъярд с его шарящими руками и моргающими глазами был слеп, как Гомер. Сердце мое тревожно забилось. Неужели Спайсер решил подшутить надо мной? Как мог слепой человек — даже с такой изумительно ясной памятью, как у Эпплъярда, — провести меня по лабиринтам этого подземелья?
— Но, как я понимаю, господин Инчболд, вы пришли сюда не для того, чтобы побеседовать о вашем отце.
— Верно.
— И не о документике на Пудни-корт. Или, возможно, он-то вам и нужен? Вы знаете, я помню также, как он выглядит. Прекрасный образец витиеватого почерка, которым писались все документы до так называемой реформы написания букв в тринадцатом веке. Реформа… — повторил он с презрением. — Кастрация — вот как я называю ту реформу.
— Да, — подтвердил я, — Пудни-корт меня также не интересует. Речь идет об одной земельной собственности в Хантингдоншире.
— А-а-а… — Он быстро закивал желтоватой головой.
— Имение называется Уэмбиш-парк. По-моему, его недавно продали. — Я взял обратно со стола записку. — Мистер Спайсер дал мне шифр полки. Прочитать его вам?
Как я и подозревал, он сразу расшифровал записку. Документ должен быть на полке с номером CXXXIII, которая находилась в западном крыле подземелья. В соответствии с буквой W в вашей записи, пояснил Эпплъярд. В рулоне под номером DCCLXXVIII находится часть сделок текущего года, зарегистрированных на сегодняшний день. Сам документ значился под пятьдесят восьмым номером и, следовательно, находился примерно в середине. (Насколько я помню, заметьте.) Давая эти пояснения, он шел впереди меня по коридору, слегка задевая полки, мимо которых проходил, и продвигаясь вперед так быстро, что я с трудом поспевал за ним. В одной руке я тащил свою палку, а в другой — фонарь, который Эпплъярд посоветовал мне не уронить, если я не желаю увидеть, как пламя проглотит четыреста лет официальной истории.
— Вот мы и пришли, — сказал он наконец, пробежав как крот по разветвлениям постоянно сужающихся проходов. — Полка номер сто тридцать три. Верно?
Я поднял вверх фонарь. И он осветил надпись, сделанную на пожелтевшей и покоробленной этикетке, приклеенной на одном конце полки: CXXXIIIW.
— Верно, — ответил я.
— Вот и хорошо, тогда остальное уже ваше дело, господин Инчболд. Вы сведущи в латинском, я полагаю?
— Конечно.
— А в почерках переписчиков? Канцелярский? Курсив?
— В общем, да.
— Разумеется. Ваш отец… — Он ухватился за рулон, который я помог ему снять с полки. Этот нескладный сверток документов, перевязанный красной тесьмой, был удивительно тяжелым. — Вам придется искать то, что вам нужно, прямо здесь. Сожалею, но в крипте вы не найдете лучшего места. Хорошо еще, что этот коридор и следующий достаточно длинны..
— Достаточно длинны?
— Ну вам же придется раскатать рулон. Только не забывайте про фонарь. Это все, о чем я вас прошу.
Бубня что-то себе под нос, он шаркающей походкой удалился по коридору, предоставив мне возможность одному корчиться на полу, скрипя костями и изучая этот любопытный трофей, попавший мне в руки. Развязывая тесьму — медленно, как распаковывают некий драгоценный подарок, — я слышал доносившийся сверху приглушенный шум проезжающих колясок. Значит, этот коридор проходит под Чансери-лейн. Не по звуку ли находит старый архивариус путь в своем лабиринте? Или он одарен, как ослепленный Тиресий, сверхъестественными способностями?
Развязав тесемку, я сунул ее в карман, чтобы не потерять. Затем, пристроив конец рулона у стены и прижав его к полу моей палкой, я начал осторожно разматывать огромную катушку. Вскоре я достиг конца коридора, передвигаясь на руках и коленях и чувствуя себя Тезеем, пробирающимся по лабиринту, влача за собой золотую нить Ариадны. Затем я перешел в следующий коридор, который через несколько шагов сделал резкий поворот под углом примерно 120 градусов. Потом — еще один такой же резкий поворот, уже в другом направлении. По обе стороны от меня теснились полки. Рулон становился все тоньше, а его хвост длиннее. Что же я найду в итоге? Минотавра? Или выход из этого лабиринта на дневной свет? Я отползал все дальше, заметив, что уровень пола слегка понижается. 66… 65… 64… 63…
Наконец я достиг своей цели: на середине рулона и на середине очередного коридора. Затаив дыхание, я ждал, когда покажется мой номер, хотя, конечно же, этот пятьдесят восьмой документ архивного свитка DCCLXXVIII на первый взгляд ничем не отличался от прочих: обычный лист пергамента, примерно восемнадцати дюймов в длину, с печатью, подвешенной на полоске пергамента внизу документа, который прикладывался и подшивался к началу предыдущего документа. Итак? Что же я надеялся увидеть? Пристроив фонарь рядом, я сел на пол, скрестив ноги и разложив пергамент на коленях.
Развертывая этот архивный рулон, я думал, что через несколько мгновений, дойдя до нужного документа, узнаю имя преступника. Но вот я изучил его вдоль и поперек, а смысл никак не доходил до меня. Первым, на что я обратил внимание, были две неразборчивые подписи на обратной стороне документа. Наверное, свидетели, предположил я: скорее всего, служители-законоведы. Я перевернул документ, затаив дыхание. Пока все еще не было никаких откровений, но я сразу отметил зазубренный верхний край листа. Я провел указательным пальцем по этим неровным зазубринам — очевидно, это был документ с отрывным дубликатом, обычно разрезаемый надвое, — и в памяти мимолетно промелькнул какой-то знакомый образ. Где-то я уже видел подобный пергамент, документ с дубликатом, очень похожий на этот. Но не мог мгновенно вспомнить, где и когда.
Sciant presentes et futuri quod ego Isabella Monboddo…
Эта первая строчка, написанная черной тушью, была неровной. Надпись выполнял переписчик, на мой взгляд, менее одаренный, чем мой отец, хотя все изыски канцелярского почерка были налицо: и изящные изгибы линий, и кинжально-острые росчерки. Я был так зачарован этим пергаментом, что мне понадобилось еще несколько секунд для осознания смысла прочитанного.
Sciant presentes et futuri quod ego Isabella Monboddo quondam uxor Henry Monboddo in mea viduitate dedi concessi et hac presenti carta mea confirmavi Alethea Greatorex…
Но наконец, переведя эти строки, я все понял. Однако не мог поверить тому, что видели мои глаза. Прищурившись в полумраке тесного коридора, я вглядывался в этот документ, держа его так близко к фонарю, что край пергамента касался стеклянного колпака. Мои глаза перемахнули через убористые строчки, вернувшись к началу документа, чтобы перечитать его вновь:
Да будет известно ныне и присно, что я, Изабелла Монбоддо, бывшая женой Генри Монбоддо, ныне же во вдовстве пребывающая, в дар отдала и сей грамотой дарение скрепила Алетии Грейторекс, леди Марчмонт из Понтифик-Холла, Дорсетшир, вдове Генри Грейторекса, барона Марчмонта, все земли и угодья, включая луга, пастбища и выгоны со всем, что к оным относится, и со всеми доходами от оных, кои имею я в Уэмбиш-парке, Хантингдоншир…
Но я был не в силах дочитать до конца. Документ выпал из моих пальцев, и я привалился к полке, оцепеневший от потрясения, все еще не осмеливаясь постичь, что именно я прочитал. Должно быть, я задел ногой катушку, поскольку последним архивным воспоминанием стал вид самопроизвольно разматывающегося рулона, который сначала прокатился несколько футов по слегка наклонному коридору, а затем начал по инерции наращивать скорость и, развернув полосу документов, ускользнул в темноту следующего коридора.
Глава 5
Йорк-хаус находился менее чем в миле вверх по течению от Биллингсгейта; там выступающие на набережную склады и мастерские сменялись особняками, которые вырастали из Темзы, как острые скалы. Один за другим они выстроились вдоль берега, у каждого причала стояла барка — а чуть выше арочные ворота, ведущие в прибрежный сад. Йорк-хаус завершал этот ряд на западном конце, располагаясь около Новой биржи, в том месте, где река поворачивала на юг к грязно-серым, беспорядочно сгрудившимся корпусам дворца Уайтхолл. Капризное течение, пенясь волнами, омывало каменные ступени, поднимающиеся к арочным воротам, а по обе стороны от них тянулись поблескивающие ракушечником каменные стены, которые сдерживали натиск приливов. К просмоленным деревянным тумбам был привязан многовесельный баркас; в чьих лакированных боках искаженно отражался речной пейзаж, оживленный утренним солнечным светом. За воротами раскинулся сад: склоненные ивы, подстриженные тополя, одинокий гранат — все деревья отбрасывали веретенообразные тени на цветник, где еще видны были увядшие останки последних летних цветов. Воробьи прыгали вокруг самшитовой изгороди, поклевывая семена и оставляя свои тайные иероглифы на инее, который еще не успело растопить низкое солнце.
Поднявшись по ступеням пристани, Эмилия с удивлением увидела, что этот особняк — в недавнем прошлом дом лорда-канцлера, один из самых больших на берегу — кажется почти развалиной. Пустые глазницы окон и редкозубая балюстрада взирали вниз на груды камня, громоздившиеся перед западным крылом здания. У восточного крыла стояли корзины с кирпичом и шифером, а к стене, примерно до половины высоты, пристроились деревянные леса. Подъемные веревки свисали с настилов, как раскачиваемые ветром арканы. Изнутри дома доносился стук молотков.
Сейчас было восемь утра. Почтовый рожок одной из покидающих Лондон почтовых карет лорда Стенхопа прозвучал с Чаринг-кросс, когда Эмилия шла вслед за Вилемом по саду к тому входу, которым пользовались обычно лавочники и торговцы. Часом раньше она сильно ударилась о борт рыболовного смэка, и теперь у нее болели ребра и левое колено. В последнюю секунду Вилем схватил ее за руку и втянул на корму разворачивающегося по течению смэка. Когда судно причалило к пристани Биллингсгейта, они вдвоем высадились на берег и, прихрамывающие и промокшие, прошли через рыбный рынок на другую сторону Лондонского моста. Свободных лодок хватало. Люди кардинала, похоже, заблудились в зарослях мачт и парусов.
Йорк-хауса они долго не могли достичь из-за прилива, который вновь начался, когда их лодка отчалила от пристани около таверны «Старый бард». Вилем нанял двух самых здоровенных перевозчиков с крепкой, хорошо ухоженной лодкой, но все равно их путешествие заняло почти час. Дело осложнялось тем, что перевозчики не знали толком, о каком доме идет речь. Эссекс, Стрэнд, Сомерсет — с воды все пристани выглядели одинаковыми. Эмилия сжимала рукой мокрую бумазею камзола Вилема. Расположившись на носу, он сидел с рассеянным видом, подняв голову, и словно принюхивался к ветру. Но в одном месте, когда они оказались примерно в середине ряда частных пристаней, он кивнул в сторону одного из особняков:
— А вот и дворец Арундела.
Повернувшись, чтобы взглянуть на дворец, проплывавший с правого борта, Эмилия увидела уже по-зимнему убранный сад, заполненный не людьми, как она сначала подумала, а множеством статуй. Несколько облаченных в каменные одеяния фигур стояли точно парализованные: застывшие позы и жесты, взгляды незрячих мраморных глаз устремлены за реку — на Ламбетские болота. Другие статуи сплелись друг с другом в борьбе, иные упали на траву и, словно трупы на поле боя, глядели в облака — их отколовшиеся во время героической схватки руки валялись рядом на земле. Возле стен самого особняка она заметила еще одну руину: беспорядочная груда камней, на взгляд издалека — хаотическое скопление разрушенных фронтонов и погребальных урн, чьи останки побелели, как кости под лучами древнего солнца. Над ними, на замковом камне свода, была вырублена надпись «ARVNDELIVS».
Знакомое имя. Вытянув шею, она глядела на исчезающий из виду дом и силилась вспомнить, что Вилем говорил несколько часов назад об Арунделе и Говардах, об их соперничестве с Бекингемом.
— Из Константинополя, — говорил Вилем почти шепотом. — Самая прекрасная коллекция во всей Англии, если не во всем мире. У Арундела есть свой агент в Сиятельной Порте, который доставляет их в Лондон целыми ящиками. Он подкупает имамов. Убеждает их в том, что эти идолы нужно убрать из дворцов и с триумфальных арок. Большинство статуй вывезены из Рима, где у Арундела добрые отношения с католическими властями.
— И с кардиналом Баронием у него тоже добрые отношения?
Вилем мрачно кивнул.
— Арундел и его агенты работали на Барония, раскидывая частые сети и пытаясь поймать в них любые сокровища из Испанских залов и библиотеки Пфальца. Судя по отчетам из Рима, там заключили тайную сделку. Если Арундел достанет этот герметический манускрипт, Папа разрешит ему вывезти множество статуй, которые граф страстно желал заполучить. Среди них есть египетский обелиск, который сейчас находится в амфитеатре Максенция. И еще несколько раритетов из Палаццо Пигини. Арундел, думаю, собирается украсить ими свой сад. Они будут великолепно смотреться. Римские памятники в центре Лондона.
И вот сейчас, раздвигая склоненные ветви ив, пробираясь между осинами, Эмилия спешила вслед за Вилемом, который медленно шел на три шага впереди, ловко прижимая к себе сундучок и осторожно огибая цветник Йорк-хауса. Возле корзины с кирпичами в тени лесов притаился боковой вход. Когда Вилем нерешительно постучал в дверь, изнутри донеслись какие-то неблагозвучные стоны и рычания. Они оба попятились назад, а Вилем покрепче прижал к себе сундучок. Чьи-то когти яростно скребли по внутренней стороне двери.
— Тише, тише! Нельзя, нельзя! Ахилл! Нельзя!
Но этот приглушенный голос, приближавшийся к двери, не смог особенно успокоить животных. Чуть погодя послышался скрежет дверного глазка, и Эмилия заметила чей-то прищуренный властный взгляд.
— Кто там?
Вилем, решив, должно быть, что это лучший способ представиться, не сказал ни слова и только поднял сундучок достаточно высоко, чтобы тот попал в поле зрения хозяина. Вновь раздался подвывающий лай, а потом — звук задвижки, скользящей по деревянным пазам. Через мгновение дверь со скрипом приоткрылась и в щель высунулись четыре голосистые, слюнявые морды. Свора гончих. Эмилия попятилась, поскальзываясь на заиндевевшей земле.
— Ахилл! Антон! Фу!
Псы выбежали из дома, перепрыгивая через гибкие спины друг друга, точно акробатическая труппа. Эмилия отскочила еще на шаг, но споткнулась сначала о корзину, а потом об одну из этих беспокойных собак. Ее хвост ударил Эмилию под коленку, и она, вскрикнув, упала на траву. Чуть позже она почувствовала на своих руках и на шее горячее дыхание собак, затем делом занялись их носы и языки.
— Соль, — объяснил спокойный голос, раздавшийся откуда-то сверху. — Они обожают вкус соли. Очевидно, моя дорогая, вы сильно вспотели. — Кто-то громко хлопнул в ладоши. Посмотрев наверх сквозь хаос ушей и хвостов, она увидела мужчину в ливрее, почесывающего подгрудок одной из этих разрезвившихся гончих. — Ко мне, ребятки. Сюда, мои мальчики! Август! Ахилл! Антон! Хорошие мальчики!
— Мы прибыли по важному делу, — говорил Вилем откуда-то от двери, где сжимался от страха, высоко подняв сундучок, поскольку две поджарые пятнистые гончие, стоя на задних лапах, похлопывали его по животу и груди, точно дети, проверяющие карманы на предмет сладостей. — Нам нужно поговорить с мистером Монбоддо!
— Входите, пожалуйста, — посмеиваясь сказал лакей. — Только поаккуратнее с коврами, если не возражаете. Отлично. У графа, знаете ли, особое отношение к его коврам. Восточные, как вы можете заметить. Вот этот очень красивый. Ручной вязки. Все привезены из самой Турции. — Он загонял гончих в дом. — Подарок великого визиря.
По стенам коридора тянулись два ряда бюстов и мраморных статуй, подобных тем, что украшали сад Арундел-хауса, — с разрушенными временем носами и губами, сделавшими их похожими на сифилитиков. Некоторые скульптуры еще находились в деревянных ящиках, уплотненных изнутри соломой, и выглядели как поэты и императоры, покоящиеся в своих гробах. Наверное, эти статуи похитили у Арундела, подумала Эмилия. Дальше виднелись портреты в тяжелых рамах, висевшие слегка наклонно на вбитых в стену крюках; часть картин, еще завернутых в бумагу и обвязанных бечевкой, стояли на полу возле стен.
Проходя по коридору, Эмилия не могла толком ничего рассмотреть. Лай собак, которых теперь стало еще больше, казался оглушительным в этом тесном помещении. С глухим стуком они возбужденно молотили хвостами по стенам и по картинам. С розовых языков капала слюна, блестящими ожерельями ложась на подаренные визирем ковры, которые бесконечно расстилались впереди.
— Хорошие мальчики, — перекрывая весь этот шум, кричал слуга в ярко-зеленом, как грудка селезня, камзоле. — Парни что надо! Здоровяки!
Гостей провели через анфиладу комнат, причем состояние каждой последующей было плачевнее предыдущей. Трудно сказать, что именно происходило с этим домом: изнутри он, как и снаружи, не то разрушался, не то перестраивался. Поднявшись за лакеем вверх по лестнице, они миновали еще один коридор и в итоге оказались в зале, переполненном очередными бюстами и обломками ваз, очередными ящиками и портретами, приставленными к дубовым панелям, которыми начали обшивать стены.
— Не соблаговолите ли подождать здесь?
Слуга исчез вместе с гончими, которые носились вокруг него по сумасшедшим орбитам, их когти клацали по полу, как кости по игральному столу. Подъемное окно было открыто, и в зале стоял ледяной холод. Сердце у Эмилии упало. Развернувшись, она хотела взять Вилема за руку, но он уже пересек комнату и сидел на корточках возле ряда полок. Не все книги уже стояли на полках, часть их еще лежала запакованной и также переложенной соломой в трех ящиках, находившихся в дальнем от окна углу. Вилем как раз взял с полки какой-то том, когда заскрипели покоробленные половицы. Эмилия развернулась и увидела белый плоеный воротник, черный плащ и блеск золотой серьги в ухе.
— Из Венгрии, — пророкотал низкий голос. — Библиотека Корвина. — Тембр этого голоса отличался глубиной и благозвучием, как у оратора или политика, хотя сам говоривший, насколько Эмилия смогла разглядеть его в тусклом свете, был низкорослым и скорее даже коренастым мужчиной. — Или, точнее, из Константинополя, куда ее перевез визирь Ибрагим, после того как турки в тысяча пятьсот сорок первом году захватили Офен и разграбили эту библиотеку.
Вздрогнув, Вилем едва не уронил книгу на пол. Он смущенно поднимался на ноги. С нижнего этажа донеслось гулкое, усиливаемое эхом, собачье повизгивание, затем хлопнула дверь.
— Внутри есть экслибрис Корвина, — продолжал рокотать бассо профундо. — Эту покупку организовал ваш друг сэр Амброз. Думаю, он обнаружил это собрание среди инкунабул в султанском дворце. — Темная голова повернулась: человек окинул взглядом комнату, равнодушно скользнув глазами по Эмилии и внимательно поглядев на украшенный драгоценными камнями сундучок, стоявший на полу в центре комнаты. — Разве сэр Амброз не прибыл сегодня вместе с вами?
Вилем отрицательно покачал головой, продолжая сжимать книгу.
— Нет, возникли некоторые сложности. Он…
— Так же как и граф, к великому сожалению. Неотложные дела в адмиралтействе. Жаль, герр Йерасек. Я полагаю, Стини очень хотелось бы лично показать вам эту библиотеку. Впрочем, возможно, я тоже смогу быть вам полезным? — Изысканно поклонившись, он шагнул вперед, заставив рассохшиеся половицы издать еще один сердитый скрип. — Меня зовут Генри Монбоддо.
Только когда Монбоддо выпрямился и сделал очередной шаг вперед по покоробленному полу, вступив в полосу свету, проникавшего через подъемное окно, — точно актер, выходящий на середину сцены, подумала Эмилия, — некто, состоящий из воротника, плаща и серьги, наконец обрел реальные человеческие черты. Он был едва ли выше Вилема и все же производил весьма внушительное впечатление, чему способствовал не только его голос — похожий на звук тяжелого мельничного жернова, отлично отшлифованного бархатом, — но и орлиный нос, аккуратно подстриженная бородка и густая черная шевелюра — лоснящаяся, словно мех какого-то водного зверя. А еще Эмилия обратила внимание на азартный блеск в его глазах, словно Монбоддо заметил в углу зала, возможно где-то за спиной Вилема, некий смешной, но приятно щекочущий воображение объект или картину, которую только он и мог оценить.
— Я должен принести извинения от имени графа, — продолжал он, — за нынешнее состояние этого дома. Но его нужно перестроить хотя бы ради того, чтобы представить как должно коллекции статуй, картин и, разумеется, книг.
— М-да… весьма впечатляющее собрание, — запинаясь произнес Вилем.
— Да уж… осмелюсь заметить, mein Herr, что тут вы сели в лужу. — Он тихо усмехнулся, издав звук, подобный флегматичному рокоту, который, казалось, поднимался из глубин его тела, от самых каблуков его начищенных черных башмаков. Но мгновение спустя он уже выглядел гораздо более серьезным. — Этой коллекции далеко до собрания Арундела. Но конечно, здесь все будет расставлено надлежащим образом, как только эти полки и шкафы — он широким жестом обвел расшатанные стеллажи — будут доделаны. Вы понимаете, весь этот особняк будет отдан под коллекции, весь до последнего чулана или спальни. Стини приобрел это владение у сэра Фрэнсиса Бэкона. Сейчас он приценивается к еще одному имению, Уоллингфорд-хаусу, также расположенному в удобной близости от Уайтхолла. Виконт Уоллингфорд продает его по вполне приемлемой цене. — Он вновь разразился смехом, густым и тягучим, как черкая патока. — Понимаете, все уже договорено. Уоллингфорд продает дом всего за три тысячи фунтов в обмен на жизнь своей невестки, леди Фрэнсис Говард.
В этот момент плутоватые глаза его, видимо, узрели в сумрачных окраинах зала некую чертовски привлекательную картину, развеселившую его больше прежней. Его широкое лицо расплылось в насмешливой улыбке, которая сделала его похожим на школяра, вдруг подумала Эмилия, наблюдающего за какой-то великолепной проделкой. Занервничав, она быстро взглянула в ту же сторону и увидела через окно, как блестящая барка Бекингема отчалила от ступеней пристани и, выйдя на середину реки, направилась вниз по течению. На борту маячили две фигуры, облаченные в зеленые ливреи.
— Возможно, вы слышали о леди Фрэнсис? Нет? Она кузина графа Арундела, — пояснил он, обхватив руками свой бархатный, украшенный часовой цепочкой живот, словно пытался зажать очередной раскатистый смешок. — Сейчас она сидит в Тауэре, в полном отчаянии, ожидая, когда воин с боевым топором распахнет дверь ее камеры. Может, известия об этом страшном скандальчике достигли Праги? Отравление старины сэра Томаса Овербери? Позор Сомерсета? Нет, нет, нет, — он помахал в воздухе обрамленной кружевным манжетом рукой и произнес уже более серьезным тоном: — Конечно же, вы не могли слышать об этом. До того ли вам было? У вас в Богемии сейчас дела посерьезнее, чем наши жалкие лондонские свары. Но пойдемте… — Он сделал эффектный приглашающий жест. — Позвольте мне показать вам кое-что из сокровищ Стини.
В течение следующих тридцати минут Монбоддо с важным видом расхаживал из комнаты в комнату, опекая вновь прибывших, и они слушали, как его бесцеремонный рокочущий бас отдается от стен с обваливающейся штукатуркой и покоробленных стенных панелей. Пусть сам Йорк-хаус выглядел бледновато — его коллекция сокровищ и впрямь впечатляла. Смуглое лицо Монбоддо озаряла горделивая улыбка, когда он с удовольствием распеленывал каждый экспонат и подносил его к свету. Он, видимо, доподлинно знал происхождение каждой вещи, привезли ли ее из библиотеки Неаполя после итальянской кампании Карла VIII в 1495 году или из римской церкви, разграбленной фон Фрюндсбергом в 1527 году, когда ландскнехты посягнули на святая святых и разграбили могилу самого апостола Петра, или добыли в одном из десятков других военных походов, набегов или грабежей. Он пересказывал все эти истории о кровопролитиях, кражах, изменах и разрушениях с искренним наслаждением. Но Эмилии, медленно тащившейся за ним и разглядывающей вырезанные из рам полотна и снятые с постаментов статуи, казалось, что в этих драгоценных экспонатах коллекции Бекингема смешались воедино красота и мерзость, словно в любом отблеске позолоты или драгоценного камня таилась история жестокости и страданий. Ее раздражало то, как Монбоддо любовно поглаживает каждую вещицу или постукивает по ней костяшками толстых пальцев, поросших черными волосками. Его руки казались не столько руками коллекционера или знатока искусств — привыкшими касаться хрупких ваз или скрипок, — сколько отвратительными лапами насильника или душегубца.
Ее переворачивало от этих душераздирающих разглагольствований. Карфаген. Константинополь. Венеция. Флоренция. Города красоты и смерти. Гейдельберг. Прага. Она отвернулась к окну и сквозь оконную решетку заметила, как по желтовато-коричневой глади реки промелькнуло два паруса. Барка Бекингема со своими пассажирами уплыла вниз по течению.
— …И вот он совершил путешествие из Богемии в Лондон, — громоподобный, как у Юпитера, голос Монбоддо заканчивал описание последнего предмета этого ужасного перечисления, — точно так же, как и вы двое. — Его полные губы, обрамленные гагатово-черной бородкой, изогнулись в снисходительной улыбке, когда он ставил кубок обратно в наполненный соломой ящик. — Это подарок Стини от короля Фридриха в благодарность за поддержку протестантов в Богемии. Доставлен всего пару месяцев назад, лишь на шаг опередив начало новых баталий. Но нет нужды рассказывать вам об этих маленьких беспорядках, не так ли?
Маслянистый взгляд его черных глаз вцепился в Вилема, который медленно покачал головой из стороны в сторону. И внезапно черты лица Монбоддо приняли торжественное и официальное выражение.
— Кстати говоря… — Его взгляд теперь обратился на шкатулку, которую Вилем по-прежнему прижимал к груди. — Я полагаю, у нас с вами также есть одно дельце, герр Йерасек. К вопросу о некоторых других странствующих сокровищах. Но давайте обсудим его подробно после завтрака, вы согласны? Вы выглядите совсем усталыми, мои дорогие!
Сначала принесли стулья, затем подали есть — жареные свиные потроха, деревенское кушанье, за которое Монбоддо извинился и, подмигнув им, пояснил, что Стини любит такую простую пищу, поскольку его мать была служанкой. Ни Вилем, ни Эмилия не смогли съесть больше нескольких кусочков, но аппетит Монбоддо не устрашился простоты упомянутого блюда, заткнувшего ему рот достаточно надолго для того, чтобы Вилем успел поведать свою историю. Дотошно и без утайки он поведал о крушении «Беллерофонта», о «Звезде Любека» и о преследователях в черных камзолах, о береговых пиратах и о том, что сэр Амброз собирается нанять спасательное судно с водолазным колоколом, чтобы поднять ящики, и еще один корабль — для перевозки спасенного груза.
Когда Вилем умолк, не столько достигнув конца истории, сколько впав вдруг в какое-то смущенное и тревожное молчание, то дом, казалось, погрузился в полнейшую тишину. Через окно проникали далекий звон церковного колокола и дыхание свежего, лишенного запаха ветра. Когда шпалеры слегка заколыхались, Эмилия услышала плеск весел и чуть погодя увидела подходящую к воротам пристани длинную барку с каким-то скульптурным украшением на борту. Незаметно она вновь перевела взгляд на Монбоддо.
Он откинулся на спинку обтянутого шелком стула, помахивая в воздухе носком черного башмака. Казалось, что он вот-вот расплывется в очередной самодовольной ухмылке, а вернее, что ему с трудом удается не расхохотаться, словно Вилем рассказывал какую-то запутанную, но увлекательную историю, некий непристойный анекдот, чья комичная развязка ему уже известна. Тихо срыгнув, он вытер бородку тыльной стороной ладони. Взгляд его черных глаз, оторвавшись от покачивающегося ботинка, вцепился в Вилема. Кормовое весло прошелестело в речной воде, и ботинок прекратил свое безостановочное движение.
— Так-так, — сказал он философским тоном, вздохнув полной грудью, — несчастье, причины которого в основном известны. Настоящая трагедия. Спастись от войск Фердинанда только для того, чтобы пойти на дно у берегов Англии! О боже, Стини совсем расстроится, уж поверьте мне. И принц Уэльский, разумеется, тоже. Крайне огорчительно. Из того, что Стини говорил мне об этой тайной договоренности, я понял, что Бурламаки уже собрал большую часть денег. Одному богу известно, как ему это удалось — или какую фантастическую историю он придумал для итальянских банкиров. Но не все потеряно, не правда ли? Отнюдь не все. Водолазные колокола, вы говорите? Подводная лодка? — Похоже, он нашел эту идею весьма занимательной. — Да уж, сэру Амброзу никак не откажешь в изобретательности. А как насчет манускрипта… м-да… его, по крайней мере, удалось спасти, не так ли?
Его взгляд опустился на шкатулку, которая, казалось, съежилась на полу между ног Вилема. Встревоженный Вилем сидел на краешке стула, напряженно выпрямив спину.
— Да, — медленно сказал он, — это манускрипт. В этом мы уверены.
— Ну да, манускрипт, — повторил Монбоддо. — «Лабиринт мира». По крайней мере, и на том спасибо.
Он мечтательно вздохнул — и умолк. Его взгляд изучал свежеоштукатуренный потолок, где на рельефном плафоне с завитками и листочками был вылеплен герб Бекингема. Через окно за его головой Эмилия видела, как два человека в зеленых ливреях подтягивают блестящее судно к пристани. На борту теперь появились и другие люди в ливреях. Судно с глухим стуком ударилось об одну из швартовочных тумб. И вдруг занавес дернулся, скрыв из виду этот речной пейзаж.
— А вот интересно, есть ли у вас ключ? — небрежным тоном пробасил Монбоддо.
Вилем вздрогнул. Он напряженно вытянул шею, словно пытался уловить в воздухе какой-то ускользающий аромат: так олень на лесной поляне прислушивается к тихому треску сучьев.
— Ключ, сэр?
— Да. Ключ от этой шкатулки. Не доверил ли вам его случайно сэр Амброз? Печально, — проронил он тем же небрежным тоном, когда Вилем, удивленно раскрыв глаза, отрицательно покачал головой с какой-то тревожной решительностью. — Ужасно печально. Он мог бы избавить нас от лишних усилий.
Скрипнув обтянутым шелком стулом, он лениво отклонился назад и подхватил своей волосатой лапой инструмент — железный ломик, — стоявший у окна.
— Ну и что же, как вы думаете, мои дорогие? — Он помахал инструментом. — Рискнем мы открыть этот замок?
— Нет-нет, — с запинкой сказал Вилем. — Мы должны подождать…
Но Монбоддо уже наклонился вперед и схватил шкатулку своими толстыми лапами. Вилем нерешительно поднялся со стула. И в этот момент через окно из сада донеслись чьи-то похрустывающие шаги по заиндевелой земле.
Потребовалось несколько минут, чтобы открыть шкатулку. Она оказалась крепкой штучкой, вырезанной из красного дерева, срубленного на берегах Ориноко. И при этом также весьма ценная — одна из самых ценных среди многочисленных шкатулок Рудольфа, хранившихся в Испанских залах. Ее поверхность украшали алмазы из Аравии, лазуриты из Афганистана и изумруды из Египта, а кроме того — чистейшее золото, добытое в горах Мексики и перевезенное через океан испанским торговым флотом. Однако Монбоддо, этот великий знаток произведений искусства, не проявил должного уважения ни к ее красоте, ни к ценности. Он нанес три яростных удара по крышке и петлям, прежде чем Вилем успел вмешаться.
— Прекратите, я вам говорю. — Он попытался удержать толстую руку Монбоддо, когда тот снова размахнулся. — Нужно подождать, пока… — Но уже через мгновение мощный удар куда более крепкого Монбоддо сбил его с ног, и Вилем распростерся на полу.
— Без труда, — ударив еще раз по крышке, прорычал Монбоддо в свой воротник, — не вытащишь и рыбку из пруда.
Он пристроился на корточках около шкатулки и, покраснев от натуги, крякал, как будто сидел на ночном горшке. В глубоких морщинах у него на лбу скопились капли пота. Он пытался просунуть конец ломика под скобу, потом под язычок и, наконец, под дужку висячего замка, пытаясь сломать хоть что-то.
— Черт!
Ломик скользнул по замку, вызвав ответный металлический стон. Крышка скрипнула, словно протестуя, и затем глуховато зазвенела, когда Монбоддо, размахнувшись, нанес очередной яростный удар своей железякой. Один из камней раскололся, и его осколки, блестящие и голубые, как стрекозы-красотки, рассыпались по полу и закатились в угол. Поднявшийся с пола Вилем опять забормотал что-то протестующее. Эмилия слегка отступила назад. Она услышала, как на первом этаже хлопнула дверь, и собаки вдруг устроили новый переполох.
— Ахилл! Антон! Нельзя, фу, нельзя, нельзя!
Монбоддо уже стоял на коленях и, ругаясь вполголоса, с силой пропихивал плоский носик своего инструмента под засов — а потом навалился всем своим весом на другой конец ломика. Его голова затряслась от напряжения. Наконец золотая навеска замка вновь лязгнула, ее металл деформировался, и один из крепежных гвоздиков вылетел на свободу.
— Ха! Мы все же справились с ней, мои дорогие!
Гончие уже, повизгивая, цокали коготками по лестнице. Эмилии показалось, что она слышит сквозь этот возбужденный гомон звон шпор чьих-то сапог, ступивших на первые ступени. Она глянула на Вилема, но тот во все глаза смотрел на шкатулку. Второй гвоздик выскочил из своего гнезда. С грохотом вытащив ломик из-под искореженного замка, Монбоддо опустил голову и, набычившись, тяжело дышал, готовясь к очередной попытке. Шкатулка издала тихий стук, словно ее содержимое переместилось с места на место.
— Август! Амё! Нельзя, нельзя!
Первая из гончих влетела в комнату, преследуемая тремя другими, и один из псов опрокинул ржавый доспех, висевший на деревянной стойке. Застежка и шлем с опущенным забралом упали на пол и покатились в сторону Монбоддо. Но тот и бровью не повел. Еще четыре гончие ворвались в комнату и набросились на остатки пищи на столе. Вдребезги разлетелась тарелка. Звон шпор слышался уже в коридоре.
— О господи!..
С громким стоном замок сорвался с петель. Монбоддо вновь издал торжествующий вопль. Он по-прежнему сидел, склонившись над шкатулкой, на своих толстых ляжках, и пот уже капал с его носа; Вилем опустился на колени рядом с ним, его лицо необычайно побледнело. Эмилия прищурилась в тусклом свете. На нее нашло какое-то завороженное оцепенение от всего этого урагана грохочущих сапог, прыгающих собак, скачущих тарелок и доспехов. Шкатулка еще раз треснула, когда Монбоддо схватил ее своими волосатыми алчными лапами. Наконец он медленно поднял крышку.
— Ахилл!
Внутри оказалась другая шкатулка, точная копия первой, из полированного красного дерева, с золотыми петлями для ее бриллиантовых вставок. Монбоддо вынул ее, повернул к свету и пристально, нахмурив брови, поглядел на ее украшенные бока. Тыкающуюся носом собаку без слов отпихнули в сторону. Вилем все еще стоял рядом с ним, наклонив голову, и также выглядел удивленным. Монбоддо поднял крышку второй шкатулки и обнаружил там третью, еще поменьше, затем четвертую, еще меньше… — ряд деревянных коробочек, которые он отбрасывал в сторону одну за другой.
— Что? Что это такое? — Он добрался до пятой шкатулки, размеры которой были чуть больше нюхательной табакерки. Он повернул свою бычью голову к Вилему, побледневшему еще сильнее. — Что это значит? Шутка? Что вы там задумали? — Он швырнул пятую коробочку об стену; от удара она развалилась, и наружу выпала шестая. — Вы что, решили разыграть меня? Где манускрипт? Где он, черт вас возьми?
Шпоры перестали звенеть, и гончие затихли. Монбоддо с трудом поднялся на ноги, под его каблуками хрустнули осколки стекла. Эмилия, взирая на разбросанные по комнате шкатулки, почувствовала, что Вилем отступает в ее сторону.
— Господа! — Монбоддо повернулся лицом к двери. — Плохие новости, досточтимые господа. Судя по всему, сэр Амброз и его друзья решили повеселиться за наш счет.
Он указал ломиком на шкатулки красного дерева. Эмилия, подняв голову, увидела в дверном проеме трех мужчин в черных камзолах с золотым шитьем, отливавшим в солнечных лучах, которые пробивались через подъемное окно. Но вот жалобно скрипнула половица, и первый из них вступил в комнату.
Глава 6
Случалось ли у нас когда-нибудь такое дождливое лето? Когда я вспоминаю те дни, мне кажется, что свинцовые тучи непрерывными потоками изливали на землю дожди. Солнце целыми неделями скрывалось за угрюмыми, гонимыми ветром облаками; погода скорее походила на октябрьскую или ноябрьскую, но никак не июльскую. Лондонские сточные канавы переполнились и постоянно подпитывали вспухшую Темзу. Подоконники и натянутые во дворах веревки больше не украшало выстиранное белье, поскольку ни разу солнце не выглядывало так надолго, чтобы просушить белье. В пригородах реки выходили из берегов, неся свои потоки по чахлым полям, разрушая дороги и сметая мосты. Люди начали соблюдать строгие посты и умерщвляли свою плоть, своевременно решив, что эти непрерывные дожди, должно быть, ниспосланы им разгневанным Господом в наказание за то, что судьи, приговорившие к смерти Карла I, остались безнаказанными. Прежде чем закончится год, этих изменников поймают в Голландии и повесят на Чаринг-кросс, и Стэндфаста Осборна в том числе. Огромные толпы шли к Уайтхоллу и по Стрэнду, желая посмотреть на это зрелище, и тысячи голосов возликовали, когда вышли палачи, дабы исполнить свои обязанности. Один за другим животы преступников вспарывали опытной рукой, а истекающие кровью внутренности бросали в костры, что шипели и потрескивали под холодным октябрьским дождем. Ничего подобного народ не видел со времен королевы Марии, повелевшей предать протестантов мученической смерти на рынке Смитфилд, или королевы Елизаветы, расправившейся с иезуитами в Тайберне. Но естественную смерть Кромвеля сочли слишком мягким наказанием, поэтому его труп выкопали из могилы в Вестминстерском аббатстве и перевезли на телеге к Тайберну, где сначала повесили, затем обезглавили. Разложившееся тело захоронили под эшафотом, а череп обмазали дегтем и насадили на пику у Вестминстер-Холла, откуда он мрачно взирал на толпы горожан, спешивших мимо прилавков с книгами, мимо продавцов гравюр и эстампов. Мальчишки швыряли в него камнями; слышались смех и ликование, когда вороны дрались за его глазницы. Месть, месть — все в те дни жаждали мести.
А жаждал ли мести я? Неужели именно она заставила меня в горячечном бреду пуститься в то последнее роковое путешествие? Надеялся ли я найти возмездие, когда в проливной дождь сел в Эльзасе у задней стенки почтовой кареты, что медленно проталкивалась по Стрэнду к Чаринг-кросс, направляясь на восток?
Я помню сырое утро моего отъезда, в отличие от предшествующих ему дней, ясно и четко. Июль все еще не закончился, но уже строили эшафоты для нашего скромного аутодафе. Или, может, уже начался август. Я потерял ощущение времени. Сколько дней я провалялся в бреду, вернувшись в Эльзас из архивной часовни? Четыре или пять? Или даже неделю? Мои воспоминания об этих промежуточных днях довольно смутные, но их не сравнить с тем белым пятном, которое скрывает мое возвращение из подземного лабиринта на Чансери-лейн в таверну «Полумесяц». Как я вернулся: пешком или в экипаже? В какое время суток я наконец оказался в моей крохотной комнате, потрясенный и встревоженный?
Следующие несколько дней — или следующая неделя — прошли ужасно. По ночам мне снились кошмары, я то и дело просыпался, весь взмокший и больной, и был не в силах пошевелиться, запутавшись во влажном постельном белье, точно перепуганный зверек, попавшийся в сеть. Временами моя комнатка казалась мне невыносимо жаркой; потом подступал ледяной холод. Я страдал от голода и жажды, но был слишком слаб, чтобы подняться с постели. У меня остались смутные воспоминания о звуках чьих-то шагов по коридору. В какой-то момент, после наступления сумерек, я разобрал звон ключей, скрип петель и в дверном проеме встревоженное лицо горничной. Миссис Фокс, должно быть, появилась вскоре после этого. Припоминается, кажется, и кое-что еще — какой-то человек, шаркающие шаги, скрип половиц. Кем бы он ни был, но он осмотрел мне язык, приложил тыльную сторону руки ко лбу, а ухо к моей груди. Очевидно, у меня была лихорадка; несомненно, результат моего маленького плавания по Кему, усугубившийся напряжением, переездами и плохим питанием. Я никогда не отличался крепким здоровьем. Моему телу, так же как и уму, нужна размеренная и привычная жизнь. В довершение всего у меня усилилась астма. Из груди вырывались резкие и свистящие хрипы, которые явно беспокоили всех, кто их слышал. В один из редких моментов просветления мне пришло в голову, что мои клиенты с удивлением и ропотом воспримут новость о том, что почтенный букинист Исаак Инчболд скончался в борделе.
Однако миссис Фокс не пожелала дать мне умереть; возможно, она надеялась, что я заплачу по счетам. И поэтому в течение нескольких дней за мной всячески ухаживала череда ее горничных. Через каждые несколько часов меня кормили с ложки мясным бульоном и жидкой овсянкой, а мои ноющие конечности растирали замшевыми перчатками. Какой-то брадобрей пустил мне кровь, и она, стекая в его чашку, выглядела такой же блестящей и быстро испаряющейся, как ртуть. В должное время меня, пошатывающегося от слабости, препроводили в парильню — доселе неизвестное мне заведение, — где парили и отмачивали в некоем водоеме, чье обычное назначение (судя по выделывающим курбеты розовым нимфам, изображенным на окружающих его изразцах) лишь отчасти совпадало с оздоровительными целями. Но эта ванна, похоже, помогла, как и все остальное, и постепенно мне стало лучше.
Однажды утром, когда дождевые облака шныряли по небу, я встал с одра болезни, сунул мои исхудавшие конечности в кавалерский костюм, кем-то заботливо выстиранный и сложенный, взял мою суковатую палку и прихрамывая поплелся вниз по лестнице, чтобы расплатиться с миссис Фокс за ее заботу и гостеприимство. Через окна, имевшиеся на каждой лестничной площадке, я видел, как по мере моего спуска скрываются за плоскими крышами башенки и вымпела «Редкой Книги», такой знакомой, но в то же время нереальной, словно она была призрачным видением или игрушечным макетом себя самой или промелькнувшим во сне образом. Разводной пролет моста поднимался в небо, как в замедленной пантомиме. На последнем повороте этот вид исчез из поля зрения, и внезапно, едва не упав вместе с моей палкой, я едва не задохнулся от горя, безнадёжно отрезанный от собственного прошлого.
— Но, мистер Кобб… — Миссис Фокс, казалось, напугал вид золотых соверенов, которые я вложил в ее руку. — Но… куда вы собираетесь идти, сэр?
— Меня зовут Инчболд, — сказал я ей. Мне уже надоело лгать. — Исаак Инчболд. — Я развернулся и направился к выходу. Дождь лил как из ведра. Я взглянул на бурлящий посреди улицы поток воды. — Я собираюсь в Дорсетшир, — добавил я, впервые осознав, что, пока я, потея и дрожа, валялся в постели, темная путаница в моем лихорадочном мозгу начала постепенно распутываться и наматываться на катушку. — У меня есть неотложное дело в Дорсетшире.
Шесть почтовых дорог выходили в те дни из Лондона: шесть дорог расходились как нити гигантской паутины, в центре которой примостилось Почтовое управление и его глава сэр Валентайн Масгрейв, новый государственный министр. Эти лучи новой королевской монополии переплетались с более тонкой, почти неопределимой сеткой обходных дорог и общественных перевозчиков: эти независимые курьеры обслуживали мелкие рыночные города и удаленные районы королевства, до которых кареты Почтового управления пока не могли добраться. Это были прискорбно первобытные и необустроенные грунтовые дороги, но без них осложнилось бы осуществление как шпионской и контрабандной деятельности, так и перевозки или доставки запрещенных книг. В 1657 году Кромвель безуспешно попытался разогнать этих независимых посыльных, а сейчас, как мне кажется, они могли бы стать modus operandi[55] многочисленных врагов нового короля, тайными каналами связи новых формаций инакомыслящих. Где-то не доезжая Солсбери я, вероятно, впервые столкнулся с полдюжиной таких перевозчиков, и дальше меня повезла маленькая колымага, попросту крытая телега, которая медленно ехала по сельской местности весьма причудливым маршрутом, учитывая десятимильные объездные дороги, затопленные деревеньки и вынужденные остановки, а потом мне пришлось еще ждать пересадки в очередной экипаж, который лишь через три часа прикатил к месту стоянки и в итоге оказался еще более мелкой повозкой, под завязку нагруженной оплетенными бутылями с токсберийской горчицей и гэмпширским медом. Но последняя нанятая мною карета, — та, что доставила меня все-таки в Крэмптон-Магна, — была значительно больше и проворнее других. На ее выгоревшей на солнце позолоченной дверце располагался знакомый мне символ, некий герметический знак, едва различимый между брызгами грязи цвета спелой ржавчины.
Уже клонился к закату четвертый день моего путешествия. Все мои попутчики давно сошли. Я стоял под мокрым навесом у табачной лавки, совмещенной с почтовой конторой, и недоверчиво разглядывал этот рисунок, предполагая, что либо у меня галлюцинации, либо опять началась лихорадка. Неужто мне не убежать за пределы действия этих знаков, проникших даже сюда, в эту безликую деревушку, расположенную в сельской глуши?
— Меркурий, — пояснил кучер, старик с широким, как у скафиринха, носом по имени Джессоп, заметив, что я разглядываю дверцу. Он запрягал лошадей, привязывал дышла к хомутам. — Почтальон богов. Эта карета из старого каравана Де Кестера, — добавил он с известной долей гордости, осторожно постучав рукой по заляпанной грязью дверце. — Ей уж перевалило за сорок лет, а бегает по-прежнему быстро. Знак Меркурия был частью герба Де Кестера.
— Де Кестера? — Где-то я слышал уже это имя. Может, от Биддульфа?
— Мэтью Де Кестер, — отозвался старик. — Я выкупил эту карету в его компании, когда она лишилась патента. С тех пор прошло уж много лет. Не удивлюсь, сэр, если вас тогда еще не было и в помине.
С некотором усилием он забрался на козлы и предложил мне последовать его примеру. Охваченный страхом и тревогой, я забрался в карету. В течение следующих нескольких часов, пока изнуренные лошади ковыляли, утопая по голень в грязи, я размышлял, удастся ли мне вообще докопаться до дна этих странных дел, если Алетия намеренно скрывала таинственную правду, не позволяя мне даже приблизиться к ее разгадке. Все мои расследования, очевидно, сводились к сплошной суете. Я чувствовал себя алхимиком, который после многочасовых трудов, после бесконечных перегонок, выпариваний и дистилляций, остается не с грезившимся ему в мечтах ослепительным слитком золота, а скорее с caput mortuum[56], никчемным осадком, остатками сгоревших химикатов. Последние дни я начал сомневаться в своих умственных способностях. Я, считавший себя весьма разумным и мудрым, вдруг обнаружил, что ничего не знаю и во всем сомневаюсь. Вся уютная и спокойная определенность, казалось, разрушилась.
— Вот мы и прибыли, сэр.
Голос Джессопа вырвал меня из мрачной задумчивости. Подняв глаза, я увидел церковную колокольню, высившуюся над стайкой унылых домиков. Фонари и голоса приближались.
— Крэмптон-Магна. — Он спрыгнул с козел, и лужа отозвалась плеском. — Конечная остановка.
Но прошло еще двенадцать часов, прежде чем я достиг места своего назначения. В деревенской гостинице под вывеской «Дом пахаря» мне не удалось уговорить никого из пяти малоразговорчивых посетителей предпринять путешествие в Понтифик-Холл. И только я смирился с мыслью о долгой прогулке под дождем, как ко мне подошел один из вновь прибывших, молодой человек с веснушчатым лицом, который предложил отвезти меня туда утром, если я изволю подождать. Его отец, пояснил он, служит в Понтифик-Холле садовником.
Хозяин был явно смущен, когда я потребовал себе комнату для ночлега, но ко времени закрытия меня провели наверх по скрипучей лестнице в комнатенку, стены которой в изобилии украшала паутина, а постельное белье пожелтело от времени. Похоже на то, что с незапамятных времен никто не открывал эту дверь и не спал на этой кровати. Тем не менее я с благодарностью повалился на комковатую подушку и, погрузившись в какие-то тревожные и бессвязные сны, пробудился через несколько часов раздраженным и неотдохнувшим. Через единственное окно, выходившее на простор грязных соломенных крыш и угол церкви, я увидел, что дождь льет с прежней силой. Сомнительно, что мой молодой кучер появится в такую погоду. Но после того как я, доковыляв вниз по лестнице, плотно позавтракал, а потом облегчился в дурно пахнущем сортире, маленькая двуколка перешла вброд полноводный ручей и легкой рысью приблизилась к гостинице. Наконец начнется последний этап моего долгого путешествия.
Что же я скажу Алетии, увидев ее вновь? За последние несколько дней в голове моей созрело много обвинительных речей, но сейчас, когда Понтифик-Холл неумолимо становился все ближе, я осознал, что не имею ни малейшего представления о том, как мне вести себя и что сказать. В сущности, я не имел понятия, чего хотел добиться, — разве что учинить какую-то драматическую сцену, которая завершила бы всю эту авантюру. Я также осознал — не без паники, — что подвергаю себя опасности, так смело решив нарвать крапивы голыми руками. Мне вспомнился труп Нэта Крампа в реке, злодеи, врывавшиеся в мой дом и напавшие на нас в Кембридже. Опять меня охватили сомнения. Возможно, эти же люди убили лорда Марчмонта? Или эта история, как и все остальное, лишь выдумка Алетии? Может, именно она, а не кардинал Мазарини являлась их таинственным хозяином и именно она направляла их по моему следу? В конце концов, разве не она представила всю историю в ложном свете? И она предала меня.
Вскоре лошади замедлили шаг, и я, подняв глаза, увидел арочный проход на двух массивных опорах, а за ними особняк, медленно поднимающийся нам навстречу. Над этими опорами маячила уже знакомая мне надпись. Заросли плюща обрезали, девиз на замковом камне подчистили. Я заметил, что многое выглядит уже получше, чем в прошлый мой приезд. Засохшие липы срубили и на их место посадили молодые деревца, плющ подрезали и дорогу покрыли гравием. Зеленый лабиринт тоже стал вырисовываться почетче: хитросплетение зеленых изгородей семи футов в высоту, образовывающих какие-то священные геометрические символы. Казалось, что все лишнее постепенно отслаивается или отшелушивается — старые вещи обретают новую жизнь. Понтифик-Холл, видимо, изменился не меньше, чем я. На северной стороне дома разбили садик, посадив там очанку, костенец и еще множество других трав и цветов. Вся зелень буйно цвела, листья и лепестки подрагивали на ветру. Насколько я помнил, в мой первый приезд ничего этого не было.
— Лекарственный огород, сэр, — пояснил парень, перехватив мой взгляд. — В селе говорят, он не цвел уже более сотни лет, с тех пор как монахи покинули наши места. Семена посадили слишком глубоко; по крайней мере, так считает мой отец. Ничего не росло, пока он не распахал всю эту землю весной. — Он бросил на меня из-под полей своей шляпы долгий настороженный взгляд. — Это похоже на чудо, правда, сударь? Как будто монахи вернулись.
Нет, подумал я, необычайно растроганный этим зрелищем: похоже на то, что монахи на самом деле никуда не уходили, словно все эти годы изгнания что-то от них продолжало жить здесь, затерянное, но небезнадежно, подобно словам в книге, что ждет читателя, который, сдув с нее пыль и открыв обложку, пробудит к новой жизни ее автора.
— Мне подождать вас здесь, сэр?
Двуколка подъехала к дому, чьи полуразрушенные отливины выплевывали дождевые потоки. Карнизы крыши захлебывались водой. Сам дом, несмотря на улучшения, выглядел таким же угрюмым и неприветливым, как прежде. Что может произойти с подземными каналами, размышлял я, от таких обильных дождей? Остается надеяться, что инженер из Лондона уже прибыл, чтобы незамедлительно провести спасательные работы.
— Минутку, пожалуйста.
Выбравшись из коляски, я окинул окрестности более внимательным взглядом. Не заметно было ни единого признака каких-либо работ. Окна со сломанными рамами — их, по крайней мере, не починили — были темны. Возможно, обитатели уже покинули дом? Неужели я приехал слишком поздно?
Но вдруг я учуял его: едва уловимый аромат примешивался к влажному утреннему воздуху, сладковатый и едкий, такой же легкий и мимолетный, как галлюцинация. Я вновь взглянул наверх и увидел в одном из открытых окон — в том, за которым находилась лаборатория, — силуэт телескопа. Я почувствовал слабый укол страха в животе.
— Нет, — сказал я парню, чувствуя, как комок подкатывает к горлу. — Ты мне больше не нужен. Пока не нужен.
Я зашел под фронтон. Аромат трубочного табака — того, огневой сушки Nicotiana trigonophylla — уже испарился. Подняв палку, я постучал в дверь.
Глава 7
— Инчболд!
Голос звучал осуждающе. Приоткрывшаяся дверь, в щель которой выглянула угрюмая физиономия Финеаса Гринлифа, сейчас начала закрываться, как и его тусклые глаза, полыхнувшие взглядом по уезжающей коляске. Я поспешно шагнул вперед и неловко схватился за медную головку ручки.
— Подождите…
— В чем дело? — спросил он тем же суровым тоном. — Что привело вас сюда?
Даже от Финеаса я не ожидал подобного приема. Я просунул мою косолапую ногу в уменьшающийся дверной проем.
— Неотложное дело, — ответил я. — Позвольте мне войти, будьте так любезны. Я приехал с визитом к вашей госпоже.
— В таком случае, господин Инчболд, вы приехали слишком поздно, — прошипел он через свои прореженные зубы. — К сожалению, должен сказать, что леди Марчмонт нет дома.
— Неужели? Могу я поинтересоваться, не отправилась ли случаем ее светлость в Уэмбиш-парк? — Я раздраженно покрутил ручку. — Возможно, мне стоит навестить ее там?
— Уэмбиш-парк?
На лице его появилось невинное, даже недоуменное выражение. Либо он отлично играл свою роль, либо Алетия не поделилась с ним своими секретами.
— Позвольте мне войти, — повторил я, зацепившись моей суковатой палкой за каменный дверной косяк. — Или мне придется вышибить дверь!
Это была пустая угроза для человека моего телосложения, но мне не оставалось ничего другого, как попытаться ее исполнить, когда дверь вдруг захлопнулась перед моим носом. Извергая проклятия, я налег плечом на массивную дубовую дверь, потом, когда это не помогло, пнул ее ногой — с тем же результатом. Вероятно, я сломал бы себе пальцы на ноге или ключицу, если бы мне не пришла в голову мысль повернуть медную дверную ручку. Когда защелка открылась, я услышал изнутри приглушенное ругательство, а потом дверь распахнулась и на пороге вновь появился Финеас. На сей раз он выглядел еще менее приветливым. Оскалив зубы, он шагнул в мою сторону, угрожая вышвырнуть меня отсюда, как наглого и невоспитанного грубияна. Переступив через порог, я ударил его палкой по ноге, и наконец, после еще нескольких физических неучтивостей, мы оба, сцепившись вместе, оказались на мозаичных плитках пола.
Вот так начался мой заключительный визит в Понтифик-Холл. Какое постыдное и комичное зрелище: два неуклюжих человека, орудуя локтями и не жалея проклятий, дерутся в глубоком провале атриума. Я по натуре ни в коем случае не драчун. Я ненавижу насилие и всегда прилагал всяческие усилия, чтобы избежать его. Но разбуди в трусе храбрость — и он, как говорится, будет драться почище самого дьявола. Поэтому, вступив в бой с моим престарелым противником, я обнаружил, что укусы и кулачные удары — весь жестокий портовый репертуар — с готовностью пришли мне на помощь. Я ударил его в живот косолапой ногой, а мои зубы вцепились в его большой палец, когда он попытался придушить меня. Эта отвратительная свалка закончилась, когда я обхватил его шею в замок и начал молотить по носу кулаком. Только увидев алую струйку крови, я отпустил его, и он пополз, мыча как бычок и прикладывая к своему пораженному ужасом лицу тыльную сторону ладони. Да-да, то была постыдная сцена, но я ни чуточки не раскаивался. По крайней мере, до тех пор, пока раздавшийся откуда-то сверху голос не произнес мое имя. Со стоном перекатившись на спину — Финеас со своей стороны тоже нанес мне несколько хороших ударов, — я поднял глаза и увидел Алетию, перегнувшуюся через перила на лестничной площадке второго этажа.
— Господин Инчболд! Финеас! Прекратите немедленно! — Ее голос с гулким эхом пролетал по лестничному колодцу. — Пожалуйста… джентльмены!
Я пошатываясь поднялся с пола, отдуваясь, шаркая ногами и стряхивая капли дождя, как дурно воспитанная и нашкодившая гончая, вылезшая из пруда для домашних уток. Порыв ветра, проникший через разверстый дверной проем, раскачал люстру, запоздало возвестившую о моем прибытии нестройным перезвоном. Я неловко топтался на месте, и мои чулки при этом издавали какие-то хлюпающие звуки, а стекла моих очков так запотели, что почти лишили меня способности видеть. Я осознавал, что потерял известное преимущество. Усмехнувшись себе в бороду, я ощутил праведный гнев при мысли о том, в каком положении оказался. Я выглядел одновременно разбойником и придурком.
Но Алетию, казалось, вовсе не удивили ни моя внешность, ни поведение или даже сам факт моего неожиданного прибытия. Не выглядела она и сердитой, когда спустилась с лестницы просто озадаченной и расстроенной, словно ждала развития событий, истинной кульминации, которая еще не случилась. На мгновение я подумал, что она, возможно, почему-то предвидела мой приезд сюда. Может даже, этот дикий гамбит, моя поездка в Дорсетшир, входил в ее таинственные планы?
— Пожалуйста, — сказала она, переводя взгляд на меня, — разве мы не можем держаться в рамках приличия?
Изумленно глянув на нее, я подавил приступ горького как полынь смеха. Я едва мог поверить своим ушам. В рамках приличия? И вдруг вся накопившаяся злость вместе с хорошо продуманными речами мгновенно всплыли в моем сознании. Я резко шагнул вперед и, размахивая палкой, как пикой, требовательно спросил, что она подразумевает под «рамками приличия». Являются ли приличными ее лживые игры? Или устроенная за мной слежка? Или нападения на мою лавку? Или убийство Нэта Крампа? Было ли все это, вопрошал я высокомерным и разгневанным тоном, было все это тем, что она осмелилась бы назвать приличным?
Полагаю, я продолжал еще какое-то время в том же духе, срывая злобу, как обманутый любовник, и обвиняя Алетию во всех рождавшихся в моей голове грехах; мой голос срывался на визг, и я подчеркивал каждое злодеяние стуком палки. Как же я вопил и орал! Мое бравурное выступление впечатлило меня самого; я даже не думал, что способен исполнить такую пламенную и внушительную речь. Краем глаза я видел, что Финеас ползет по плитам пола, оставляя за собой кровавые кляксы. На полпути вниз по лестнице Алетия застыла на полушаге, ее глаза тревожно расширились.
Постепенно моя гневная тирада иссякла. Ira furor brevis est[57], как пишет Гораций. Я задыхался от изнеможения, пытаясь сдержать рыдания и слезы. Глянув в овальное зеркало, стоявшее у стены, я заметил в нем трясущегося кавалера, изголодавшегося и оборванного, с впалыми щеками и лихорадочно блестящими глазами. Я совсем забыл о моей трансформации, о последствиях лихорадки в тандеме с препаратами Фоскетта. Из зеркала на меня пялилось безумное привидение, некто вернувшийся из царства мертвых, дабы свершить ужасное возмездие, — что, впрочем, было не так уж далеко от истины.
Алетия помолчала какое-то время, словно собираясь с мыслями. Но, к моему удивлению, она не стала отвергать никаких обвинений — никаких, за исключением убийства Нэта Крампа. Ее, видимо, даже расстроило известие о смерти ее кучера. Она признала, что действительно поручила ему увезти меня от «Почтового рожка» и прокатить мимо «Золотого рога». Но об убийстве в Кембридже ей ничего не известно.
— Можете мне поверить. — На ее лице постепенно проявилась какая-то взволнованная и успокаивающая улыбка. — Никого не должны были убить. Совсем напротив.
— Я не верю вам, — раздражительно проворчал я, поскольку моя ярость уже сменилась хандрой. — Я больше не верю ни одному вашему слову. Ни о Нэте Крампе, ни о чем-либо другом.
Она помолчала, с задумчивым видом покручивая прядь волос.
— Его, должно быть, убили те же люди, — наконец тихо произнесла она, скорее рассуждая сама с собой, чем поддерживая разговор, — люди, убившие лорда Марчмонта. И они же преследовали вас в Кембридже.
— Агенты Генри Монбоддо, — фыркнул я.
— Нет, — она отрицательно покачала головой. — И не агенты кардинала Мазарини. Это тоже, к сожалению, обман. Вы правы, я наговорила вам с три короба лжи. Но была и правда. Люди, убившие лорда Марчмонта, существуют на самом деле. Но неизвестно, кто их послал.
— Ох?! — Я надеялся, что в моем тоне звучит издевка. — И кто бы это мог быть?
Она уже сошла с последней ступеньки, и я вновь уловил слабый аромат виргинского табака. Но смешанный еще с чем-то. Этот резкий запах исходил от ее одежды, и мне поначалу подумалось, что так пахнет костяная мука: должно быть, Алетия занималась в саду удобрением цветочных клумб. Но чуть позже я понял происхождение странного запаха: химикаты. И не садовые удобрения, а лабораторные вещества.
— Мистер Инчболд, вам многое удалось узнать, — произнесла она наконец, словно начала заготовленную речь. — Вы меня просто потрясли. Как я и предполагала, вы хорошо справились с заданием. Пожалуй, даже чересчур хорошо. — Когда она сделала приглашающий жест рукой, я с тревогой взглянул на ее пальцы, они выглядели странно обесцвеченными. — Не желаете ли подняться со мной наверх?
Я не двинулся с места.
— Наверх?
— Да, в лабораторию. Понимаете, мистер Инчболд, именно там закончатся ваши поиски. В лаборатории.
— Какие поиски?
— Финеас, запри двери. — Она развернулась и, приподняв юбки, начала покачиваясь подниматься по ступеням. — Никого к нам не пускай. Мы с господином Инчболдом должны обсудить дела.
— Какие поиски? — вновь заорал я, чувствуя, как гнев вновь овладевает мною. Надо учесть, что у меня была повреждена нога. И я вновь потерял свое преимущество. — О чем вы говорите?
— О предмете ваших поисков, господин Инчболд. О манускрипте. — Она продолжала подниматься, всходя по этой широкой мраморной спирали. И снова ее голос отразился от стен просторного лестничного колодца. — Пойдемте, — повторила она и, обернувшись, поманила меня за собой. — Разве вы не хотите после стольких тревог и неприятностей взглянуть на «Лабиринт мира»?
Бура, сера, железный купорос, поташ… Мой взор блуждал по названиям, написанным на склянках и пузырьках, толпившихся между куполообразными перегонными аппаратами с их закрученными в спирали трубками. Желтоватые, зеленые и белые химические реактивы, а рядом химикаты цвета ржавчины и лазури. Вонь была даже более сильной и едкой, чем мне запомнилось. У меня запершило в горле и глаза начали слезиться. Купоросное масло, концентрированная азотная кислота, графит, хлористый аммоний…
Достав носовой платок, я вдруг замер, не донеся его до носа. Хлористый аммоний? Я вновь глянул на склянку, на ее бесцветные кристаллы, вспоминая рецептуру для симпатических чернил, — чернила, приготовленные с добавлением хлористого аммония, проявляются, только если сделанную ими надпись прогреть над огнем. Меня охватило волнение — с каждым мгновением усиливающееся; к тому же начала кружиться голова, словно моя лихорадка возвращалась.
— Нашатырный спирт, хлорид аммония, — пояснила Алетия, заметив направление моего взгляда. Она стояла рядом со мной, слегка запыхавшаяся по причине нашего быстрого подъема. — Неотъемлемый атрибут алхимических опытов. Арабы получают его, смешивая мочу, морскую соль и печную сажу. Первое упоминание о нем найдено в «Книге о тайне творения», сочинении, которое багдадские мусульмане приписывали Гермесу Трисмегисту.
Я молча кивнул, вспоминая мои изыскания, проделанные неделей или двумя раньше. Но вдруг я заметил еще кое-что: на три четверти опустошенную склянку с надписью «цианистый калий», стоявшую на столе перед открытым окном. Рядом темнел телескоп, по-прежнему установленный на треножник и направленный в небо. Издания Галилея и Ортелия исчезли, но их место заняла другая, более тонкая книга, едва заметная в беспорядке, царившем в этой лаборатории: пара десятков страниц, переплетенных в обложку из тисненой кожи.
— Эта лаборатория принадлежала моему отцу, — продолжила Алетия, переходя к столу. — Он устроил ее в подвале, где проводил множество разных опытов. — Сделав паузу, она наклонилась к столу и взяла склянку с цианистым калием. — Но для моих целей мне потребовалась комната с хорошей вентиляцией.
Я с тревогой смотрел, как она открывает яд. Выплеснув гнев в атриуме, я, однако, еще пребывал во взвинченном состоянии. И также в некотором смущении. Все это было так не похоже на меня. Я уж подумал, не стоит ли принести извинения, — а спустя мгновение еле совладал с очередной волной гнева и жалости к самому себе.
Поставив склянку обратно на стол, Алетия начала просматривать другие пузырьки. Видимо, она просто рассеянно переставляла их с места на место, поэтому я снял очки и протер глаза платком, оказавшимся испачканным в крови. Когда вновь нацепил очки на нос, Алетия поворачивалась ко мне, держа в руках книгу в кожаном переплете, сделанном в персидском стиле, с арабесками.
— Вот, мистер Инчболд, — она протянула мне книгу. — Вы все-таки нашли его. «Лабиринт мира».
Я стоял неподвижно, словно меня нисколько не интересовал этот том. Я уже знал, как умеет она пускать мне пыль в глаза — словно недотепе-школяру. Больше я в дураках не останусь, говорил я себе. Кроме того, в этот момент меня больше интересовала та крошечная баночка с ядом, которая, если я верно помню, прежде была значительно полнее. Вновь на ум мне пришли знаменитые истории о прекрасных дамах Парижа и Рима, отравивших своих мужей. Но, почувствовав на себе ее внимательный взгляд, я хмуро спросил, где же она нашла его.
— Мне вовсе не нужно было искать его, — ответила она, — поскольку, во-первых, он никогда и не терялся. Не в том смысле, в каком вы понимаете. Он все время находился в Понтифик-Холле. Лежал здесь, в этом доме, тщательно спрятанный сорок лет назад.
— Значит, все это время он был в вашем распоряжении? Вы хотите сказать, что наняли меня для определения местоположения книги, которую…
— И да и нет, — прервала она меня, открывая книгу. — Конечно, надо признать, что манускрипт находился у меня. Но все не так уж просто. Пожалуйста… — Она поманила меня вперед. Горький запах миндаля примешался к melange[58] запахов. В тусклом освещении я разглядел экслибрис, оттиснутый на внутренней стороне крышки переплета: Littera scripta manet. — Постойте здесь, будьте любезны. Вы появились как раз вовремя, чтобы увидеть последний смыв.
— Последний смыв? — И вновь я не сдвинулся с места, а только смотрел, как она взяла склянку вновь и насыпала некоторое количество кристаллов в раствор, похожий на простую воду.
— Да, — она откупоривала другую бутылочку. — Мы сотрем то, что было написано на месте прежнего, стертого текста. Вы понимаете, что это значит? Этот манускрипт переписали заново, поэтому исходный текст надо восстановить с помощью химических средств. Очень тонкая работа. И очень опасная. Но я думаю, что наконец нашла нужные реактивы. Я получила цианистый калий, добавив хлористый аммоний к смеси графита и поташа. Такое соединение описывается в трактате одного китайского алхимика.
Заинтересовавшись почти против воли, я подался вперед. Мне приходилось слышать истории о палимпсестах, древних документах, обнаруженных в монастырских библиотеках и тому подобных местах: с пергаментов стирали старые тексты, освобождая место для написания новых. Как известно, греческие и римские писцы, когда испытывали нехватку в бумаге, стирали один текст, вымачивая листы в молоке и затем соскабливая остатки чернил пемзой, для написания на этих очищенных листах нового текста, то есть в итоге один текст скрывался или прятался между строчками другого. Но ничто не исчезает навеки. Спустя столетия, из-за атмосферных условий или благодаря разнообразным химическим реакциям, стертый текст иногда едва различимо проявляется на поверхности, и тогда между строками новой рукописи можно прочесть забытое послание. Таким образом было спрятано много древних книг, но спустя столетия их вновь обнаружили: острословие Петрония перемежало серьезнейший стоицизм Эпиктета, а непристойные вирши «приапеи» незаметно вкрадывались между строк посланий апостола Павла. Littera scripta manet, думал я: да, написанная буква остается даже после соскабливания.
Я подался вперед, пристально вглядываясь в покоробленную страницу. Алетия пошире открыла окно и уже откупоривала другой пузырек, на сей раз с этикеткой «железный купорос». Значит, именно так, размышлял я, сэр Амброз обнаружил «Лабиринт мира»? Между строчек другой рукописи? Я был заинтригован. Какой же книготорговец не мечтал найти палимпсест, оригинальное сочинение, на тысячу лет потерянное для мира?
— Сначала я опробовала дубильный орешек. — Она тщательно перемешивала раствор. Я тихо кашлянул в платок. Едкий запах стал еще сильнее. — Танин глубоко проникает в пергамент, даже после того, как гуммиарабик растворяется. Я думала, что раствор дубильного орешка поможет тексту вновь проявиться на поверхности, но…
— Танин? — Я пытался вспомнить то немногое что знал о чернилах. — Но разве эти чернила изготовлялись не на основе угля? Из смеси ламповой сажи или угля? В конце концов, именно так готовили чернила греки и римляне. Поэтому в дубовом орешке мало пользы, если вы хотите использовать его для…
— Все верно, — рассеянно пробормотала она. — Но этот текст писали не греки и не римляне. — Она склонилась над книгой, нанося раствор на поверхность пергамента, на котором, как я видел, проступали слова, написанные черным по белому на латинском, а может, итальянском языке. Сквозняк взметнул ее волосы и с силой захлопнул дверь. — Он написан значительно позднее.
— В Константинополе?
— Нет, и не в Константинополе. Не могли бы вы открыть дверь?.. Цианид весьма ядовит даже при испарении. Позже я попробовала раствор хлористого аммония или нашатыря, — продолжала Алетия, добавляя очередную каплю. — Я приготовила раствор, нагрев хлористый аммоний, и связала этот газ купоросным маслом. Я думала, что если танин не проявился, то, возможно, проявится железо. Конечно, со временем железо в чернилах могло подвергнуться коррозии, но я надеялась по возможности восстановить их цвет. Но и вторая попытка оказалась неудачной. Видимо, первоначальный текст зачистили хорошо — даже чересчур хорошо. Вы можете догадаться, что эта работа отняла у меня много времени. В целом уже несколько недель. Изрядное количество последовательных смывов.
— И именно поэтому вы наняли меня, — проворчал я. Мне стало как-то нехорошо; я едва стоял на ногах. — Как приманку. Как пешку в чужой игре.
— Вы должны были отвлечь моих преследователей. — Еще одна капля упала на пергамент. Доковыляв до окна, я плюхнулся на ее кресло. Алетия, склонившись над томом, казалось, ничего не замечала. — Вы дали мне несколько недель драгоценного времени, — сказала она. — Поймите же, не все, что я говорила вам в Пултени-хаус, было ложью. Покупатель на эту рукопись действительно есть, и он готов заплатить приличную сумму. Но есть также люди — наш государственный секретарь, к примеру, — которые желают завладеть ею, ничего не заплатив. Я полагаю, именно его агенты нанесли вам недавно ночной визит.
Распахнув пошире окно, я спихнул телескоп с треножника. Пешка. Отвлекающий фактор. Вот чем, оказывается, я был — только и всего. Голова у меня кружилась так же, как в крипте архивной часовни. Алетия начала тем же отсутствующим тоном описывать весь свой хитроумной обман — шифровка, граффити, раритеты в кофейном доме, томик Агриппы, каталог аукциона. Все эти ловушки расставлялись передо мной. Все намеренно уводило меня дальше и дальше от Понтифик-Холла и от «Лабиринта мира». Чтобы другие заинтересованные лица также устремились за мной по ложному следу. С чего бы еще она стала посылать мне письма через Почтовый двор, если не хотела, чтобы их вскрыли агенты сэра Валентайна Масгрейва?
— Но здесь замешаны и другие интересы, — расстроенно говорила она. — Агенты, служащие еще более коварной и жестокой силе, до которой далеко даже государственному секретарю. Их тоже надо было увести в сторону. Тайные знания могут быть опасной вещью. В конце жизни даже мой отец хотел уничтожить эту рукопись. Он говорил о ней как о некоем проклятии. Слишком много людей уже умерло из-за нее.
Я едва слушал. Подавляя тошноту, я высунулся в окно и вдыхал прохладный воздух. Дождь шелестел по кирпичной кладке и шумел в желобах над моей головой. Внизу темнела остроконечная крыша фронтона, заливаемая дождевыми потоками. Мои очки запотели, и, протерев их платком, я заметил вдалеке за каменной аркой нечто похожее на карету — она почти как тень двигалась сквозь густую листву и поднимающийся туман. Но вдруг меня напугало раздавшееся за моей спиной восклицание. Я повернулся и увидел, что Алетия держит книгу в руках. Между двумя рядами черных слов проявилась еще одна строчка, размытая, неотчетливая, ярко-синяя.
— Наконец-то, — сказала она. — Эти реагенты начинают взаимодействовать.
— Что это? — Перед моими глазами проплывал прерывистый ряд синих значков, состоящий из цифр и букв. И вновь мой гнев начал рассеиваться и я почувствовал заинтересованность. — Это герметический текст?
— Нет, — ответила она. — Другой текст. Его воспроизвел сэр Амброз.
— Сэр Амброз сам сделал этот палимпсест? — На лбу у меня выступила испарина. Дрожа, я опустился в кресло, озадаченный таким поворотом событий.
Она кивнула, и вновь пипетка вспорхнула над страницей.
— Именно он воспроизвел этот текст, а потом стер его. Понимаете, он уже обнаружил два палимпсеста в Константинополе. Один — произведение Аристотеля, другой — комментарии к Гомеру Аристофана Византийского. Оба скрывались под текстами Евангелия, но древние письмена начата проступать на поверхность. Это называется «привидение»: прежний текст является своему преемнику, как призрак. Отец довольно быстро понял, что это может быть отличной маскировкой.
— Маскировкой?
— Да. Ведь можно спрятать один текст внутри другого. — Очередная синяя строчка появилась на странице, постепенно проступая на поверхности, словно чернила через промокательную бумагу, но со своего места я не мог прочесть ничего. — Прекрасный способ для тайной перевозки текста. Особенно если написанное сверху сочинение не представляет никакой ценности.
— Что вы имеете в виду? Зачем нужна тайная перевозка? Откуда?
— Из Императорской библиотеки в Праге, — постепенно объясняла она и в то же время продолжала свою работу, склонившись над столом, словно проводила тонкую хирургическую операцию.
Дело было в 1620 году, в самом начале вражды между протестантами и католиками. Годом раньше Фридриха выбрали королем Богемии, посадили протестанта на католический трон, и в итоге его сторонники по всей Европе вдруг получили доступ к содержимому великолепной библиотеки, собранной императором Рудольфом. Папские нунции и послы поспешно бежали обратно в Рим, и их союзники из правителей Католической лиги встревожились таким поворотом дел, поскольку любая библиотека всегда представляет собой некий арсенал или средоточие силы. В конце концов, разве Александр Великий не рассчитывал, что библиотека Ниневии, на которую он претендовал, будет так же полезна для его власти, как и его македонские армии? А когда один из учеников Аристотеля, Деметрий Филарей, стал советником Птолемея I, правителя Египта, он дал этому царю самый мудрый совет: собрать воедино всевозможные книги о царствах и об искусстве правления. И вот весть о том, что великолепная коллекция Рудольфа в руках розенкрейцеров, каббалистов, гуситов, джорданистов — всех этих еретиков, которые много лет расшатывали не только власть Габсбургов, но и самого Папы, — прозвучала по всей Европе, как набатный колокол. Вот тогда-то летом и осенью 1620 года войска Католической лиги начали стягиваться к Праге, и одна из их основных целей, как утверждала Алетия, состояла в возвращении — и сокрытии — Императорской библиотеки.
— В этом собрании имелись дюжины еретических книг из «Индекса», — продолжала она. — В Риме такие сжигали на кострах. Теперь же дамбу пражского архива угрожало прорвать. Как только Фридрих прибыл из Гейдельберга, ученые и студенты со всех концов империи потянулись в Прагу. Кардиналы Сент-Уффицо поняли, что вскоре они не смогут определять, кому можно, а кому нельзя читать книги и рукописи. Знания распространятся из Праги подобно великому взрыву, благоприятствуя рождению еретиков и революционеров как в самом Риме, так и за его пределами — плодя новые ереси, новые книги для костров и для «Индекса». По мнению Рима, Пражская библиотека стала ящиком Пандоры, из которого готов был вылететь целый рой грехов и пороков.
Я сидел возле окна, подставляя лоб прохладному ветерку. Дождь припустил пуще прежнего. Потолок в коридоре уже начал протекать, а чашки и кюветки позвякивали дружно на столе. Еретические книги? Я почесал бородку, собираясь с мыслями.
— Какого же рода сей грех? — спросил я, поскольку она умолкла, склонившись над страницей. — Новый герметический текст, который инквизиция хотела запретить?
Она отрицательно качнула головой.
— Церкви уже больше нечего было бояться сочинений Гермеса Трисмегиста. Уж вам ли этого не знать. В тысяча шестьсот четырнадцатом году древность этих текстов оспорил Исаак Казобон, который убедительно доказал, что все они — подделки более позднего времени. В итоге, разумеется, Казобон, при всем его таланте, направил свое великолепное орудие против самого себя. Своим трактатом он надеялся опровергнуть папистов, в частности кардинала Барония. А вместо этого просто помог уничтожить одного из их самых заклятых врагов.
— Потому что Corpus hermeticum использовали такие еретики, как Бруно и Кампанелла, чтобы оправдать свои нападки на Рим.
— И они, и множество других. Да. Но мудрейший Казобон одним ударом уничтожил тысячи лет магии, суеверий и, по мнению Рима, ереси. После того как время написания герметических текстов определилось, появление любой новинки такого рода уже не имело никакой опасности и едва ли заинтересовало бы кого-либо, кроме кучки полусумасшедших астрологов и алхимиков. Что позволяло использовать их в качестве прекрасной маскировки.
— Маскировки? — Я беспокойно поерзал на стуле, пытаясь уразуметь сказанное. — О чем вы говорите?
— Неужели вы не догадались, мистер Инчболд?
Она отложила тонкую книгу в сторону, и, прежде чем ветер прошелестел ее страницами, я увидел, что на верхней половине первой страницы уже проявились синие строчки, привидение прежнего текста, вызванное из небытия ядовитой смесью Алетии. Она аккуратно приложила к новоявленному тексту лист промокательной бумаги и затем закрыла книгу. Ветер посвистывал в горлышках склянок и бутылей, создавая жуткую какофонию звуков. Кусок сдвинувшейся сланцевой плитки лязгнул по желобу и упал на землю. Оконная створка с шумом захлопнулась. Отодвинувшись назад на своем стуле, Алетия встала из-за рабочего стола.
— «Лабиринт мира» был всего лишь новой записью, — сказала она наконец, — только поверхностным текстом. Подделка не хуже других, уловка, которую сэр Амброз использовал, чтобы скрыть другой текст, обладавший великой ценностью. Сами кардиналы инквизиции желали бы заполучить это сочинение. — Она осторожно закупорила склянку с цианидом. — И многие другие также.
— Что же это за текст? Очередная ересь?
— Да. Новорожденная. Поскольку если в тысяча шестьсот четырнадцатом году один свет угас, то другой начал зарождаться. В том же году, когда Казобон нанес свой удар по «герметическому своду», Галилей напечатал три письма в защиту своей Istiria e dimostrazioni, изданной им в Риме годом раньше.
— Его трактат о солнечных пятнах, — озадаченно кивнул я. — Тогда он впервые выступил в защиту модели Вселенной, предложенной Коперником. Хотя я не возьму в толк, какое…
— В тысяча шестьсот четырнадцатом году, — продолжала она, не слушая меня, — учения двух египтян — Птолемея и Гермеса Трисмегиста — были разбиты наголову. Оба они ответственны за тысячу с лишним лет ошибок и заблуждений. Но кардиналы и их советники в Риме относились к авторитету астронома более ревниво, чем к репутации египетского шамана, и поэтому письма, опубликованные Галилеем в тысяча шестьсот четырнадцатом году, они восприняли в первую очередь как довод в пользу того, чтобы черпать из Библии моральные, а не астрономические уроки, воспринимать ее аллегорически, если она вступает в противоречие с научными изысканиями. Все пошло прахом, разумеется, поскольку уже в следующем году одно из этих писем лежало перед инквизицией.
— Значит, это один из текстов, опубликованных Галилеем? — Я вспоминал переведенные Солсбери Dialogo; именно за «Диалоги» Рим преследовал знаменитого астронома, заставив Галилея отречься от своих открытий. — Один из тех, что внесли в «Индекс» после того, как в тысяча шестьсот шестнадцатом году инквизиция предала анафеме учение Коперника?
Алетия отрицательно покачала головой. Она стояла перед окном, положив руку на трубу телескопа, который уже аккуратно установила на треножник. Сквозь затуманенное окно я заметил, что карета, с трудом тащившаяся по грязи, подъехала немного ближе. Ближе к дому, насколько я мог разглядеть через дождевые завесы, размывающие очертания зеленого лабиринта; даже с высоты он выглядел безнадежно запутанным, бесконечная путаница причудливых узоров и тупиков.
— Нет, — ответила она, взяв ведерко с рабочего стола и направляясь в коридор. — Этот документ не публиковался ни разу.
— Да? Так что же это за документ?
Вода с потолка уже не капала, а текла ручьем. Алетия нагнулась и, поставив ведро под дождевую струю, выпрямилась.
— Теперь этот пергамент будет сохранен, — сказала она. — Давайте продолжим наш разговор в другом месте.
Я бросил последний взгляд в окно — карета исчезла за деревьями — и последовал за ней к лестнице. Кто же ехал сюда? Сэр Ричард Оверстрит? И вдруг я почувствовал себя еще более тревожно.
Ухватившись за перила, я начал спускаться по ступеням. Я уже собирался что-то сказать, но всего через пару шагов она вдруг так внезапно остановилась и повернулась ко мне, что я чуть не налетел на нее.
— Интересно, — сказала она, задорно взглянув на меня, — много ли вам известно о легендарном Эльдорадо?
Глава 8
Запах, витавший в библиотеке, резко отличался от лабораторного. Все в этом похожем на пещеру помещении осталось в точности таким же, как мне запомнилось, только теперь приятный затхловатый дух старых книг смешался с привычными для меня ароматами кедрового и ланолинового масла и резким смолистым запахом свежей древесины: и неудивительно — в глаза бросались несколько отремонтированных полок и починенные перила на галерее. Эти запахи навеяли мне воспоминания о моем собственном магазине, ведь никакие другие раздражители не возвращают нас в прошлое с такой легкостью и остротой, как запахи. И внезапно я почувствовал себя таким же несчастным, как в то последнее утро в таверне «Полумесяц». Я покинул свой дом совсем недавно, а казалось, что я не видел его уже много лет.
Алетия предложила мне присесть у окна в одно из обитых кожей кресел. Они также были новыми, как и стоявший между ними столик орехового дерева и лежавший под ними на полу ручной выделки ковер с множеством обезьян и павлинов. Прошаркав по полу, я послушно опустился в одно из этих скрипучих кресел. Финеас как сквозь землю провалился. Даже его кровавый след исчез. Как бы мне хотелось, чтобы наша постыдная потасовка оказалась лишь плодом моего возбужденного воображения.
Я закинул ногу на ногу, потом снова вытянул ноги, ожидая объяснений Алетии. В те дни я мало знал о мифической стране Эльдорадо, или Золотой земле, — о том призрачном огоньке, на который уже почти столетие устремлялись бесчисленные искатели приключений в коварные джунгли бассейна Ориноко. Эта страна упоминалась такими летописцами испанских завоеваний, как Фернандо де Овиедо, Сьеза де Леон и Хуан де Кастеллано, — с их записями я бегло ознакомился в первые же дни по возвращении из Понтифик-Холла, причем все их истории противоречили друг другу. Слухи об Эльдорадо достигли ушей конкистадоров вскоре после того, как Франсиско Писарро в 1530 году завоевал Перу: некий город золота, управляемый отважным одноглазым вождем, el indio dorado[59], который каждое утро по обычаю разрисовывает свое тело золотоносным песком, выловленным в Ориноко или, возможно, в Амазонке… или в одном из их бесчисленных притоков, змеившихся через джунгли. Испанцев заинтересовали слухи о золотоносных реках, и в 1531 году некий капитан по имени Диего де Ордас получил от германского императора Карла V capitulation подняться в верховья Ориноко и отыскать этого нового Монтесуму и его золотой город. Он не нашел ровным счетом ничего, но тем не менее будущие исследователи проявили редкостное упорство, и в течение нескольких последующих десятилетий конкистадоры постоянно отправлялись в эти джунгли подобно странствующим рыцарям из столь популярных в то время романов. Один из них, по имени Хименес де Кесада, подвергал пыткам всех встречных индейцев, поджаривая им пятки на углях и поливая кипящим свиным жиром животы. Поощряемые такими действиями, его жертвы вдохновенно рассказывали истории о тайном городе золота — его порой теперь называют Омагуа или Маноа — в дебрях гвианских джунглей или даже, по аналогии с Теночтитланом, в центре озера.
Но Кесада не нашел ничего; так же как и муж его племянницы, Антонио де Беррио, многоопытный исследователь Ориноко и ее притоков, которого сэр Уолтер Рэли захватил после разграбления Тринидада в 1595 году. В том же году теперь уже этот англичанин, воодушевленный услышанными легендами, поднялся по Ориноко с сотней людей и месячным запасом провизии. Только когда эти запасы истощились, он вернулся в Англию, захватив с собой сына одного из индейских вождей и оставив в джунглях для дальнейших исследований речных просторов двух своих самых доверенных членов экспедиции. Один из них был захвачен испанскими солдатами, хотя успел-таки отослать в Англию приблизительную карту с указанием места предположительных золотых рудников на слиянии рек Ориноко и Карони. Но минуло еще двадцать лет, прежде чем Рэли вернулся в Гвиану, чтобы пуститься в свое последнее гибельное путешествие, на сей раз в компании с сэром Амброзом Плессингтоном.
Молодая служанка, Бриджет, вошла в комнату с чайником, от которого пахнуло ароматом душистого чая. Прикусив нижнюю губу, я удобно устроился в кресле и разглядывал стоявшие наверху атласы. Среди них, насколько я видел, имелись Universalis Cosmographia[60] Мартина Вальдсимюллера, несколько изданий Птолемеевой «Географии» и один из атласов Герарда Меркатора. Перехватив мой взгляд, Алетия поставила на стол чашку и оттолкнула назад свое кресло.
— Многие из этих карт и атласов — исключительно редкие, — поднимаясь на ноги, заметила она. — Некоторые относятся к редчайшим и самым ценным экземплярам всего здешнего библиотечного собрания. Вот этот, к примеру. — Встав на цыпочки, она вытащила один из томов, который с глухим стуком опустился на столик, бодро откликнувшийся звоном наших чашек. Я вздрогнул, увидев поврежденный водой атлас Theatrum orbis terrarum Ортелия, тот самый, что я смотрел в лаборатории: ведь из него-то я и выдрал листок с шифровкой. — Вы узнаете его?
— Да, я продаю такие книги, — ответил я, а она открыла фолиант, переплетенный клееным холстом. Вытянув шею, я попытался прочесть колофон. — Пражское издание?
— Да, опубликовано в тысяча шестисотом году. — Она начала перелистывать покоробившиеся от воды страницы. — Исключительная редкость. Их напечатали всего несколько экземпляров. Император Рудольф пригласил Ортелия в Богемию. К несчастью, он умер в тысяча пятьсот девяносто восьмом году, вскоре после своего приезда в Прагу. Некоторые врачи утверждали, что он умер от язвы почек, которая, по мнению Гиппократа, почти всегда имеет роковой исход у пожилых мужчин. — Она медленно перевернула еще одну страницу. — Другие полагали, что великого Ортелия отравили.
— Неужели? — Я взглянул на этот атлас, вспоминая слухи, упомянутые господином Барнаклем. Книга была сейчас открыта на странице с надписью «Mare Pacificum»[61] — том самом месте, где я обнаружил шифровку. — Но из-за чего? — Я пытался припомнить, что мистер Барнакль говорил о путешествиях по островам в высоких широтах. — Из-за нового способа картографических проекций?
Она отрицательно покачала головой.
— Ни один из ныне существующих способов проекций нельзя назвать совершенным. Я понятия не имею, кто распространял эти слухи, если только не сам убийца Ортелия.
— Значит, Ортелия убили?
Она кивнула.
— После его смерти из типографии исчезли медные печатные формы, с которых делали эти карты. Или, вернее сказать, исчезла одна форма, та самая, с которой сделали вот эту гравюру. — Она постучала указательным пальцем по волнистой странице. — Вы понимаете, данная карта Нового Света из Пражского издания Theatrum orbis terrarum отличается от таких же карт, имеющихся в любых других его переизданиях.
Я все еще внимательно разглядывал эту гравюру, сомневаясь, должен ли я верить ее рассказу больше, чем мистера Барнакля. На карте имелся затейливый картуш «AMERICAE SIVE NOVI ORBIS, NOVA DESCRIPTIO»[62] и изображался Тихий океан с четко прорисованными островами и галеонами, развернувшими все свои паруса. Эта карта выглядела точно такой же, какой запомнилась мне в тот овеянный грезами день в лавке «Молитор и Барнакль», — включая систему долгот и широт.
— Изготовление карт — своего рода умозрительное искусство, — сказала Алетия, разворачивая атлас по столу на 180 градусов, так что теперь передо мной предстало прямое изображение. И вновь она постучала по нему пальцем, на сей раз прямо над картушем. — Взгляните сюда. Что вы видите?
Под ее указательным пальцем я увидел группу примерно из полдюжины островов и надпись «Insulae Salomonis»[63]. Я пожал плечами и поднял глаза.
— Соломоновы острова, — осторожно ответил я.
— Точно. Но никто не знает, находятся ли Соломоновы острова именно в том месте, где обозначил их Ортелий. В сущности, никто даже не знает, существуют они в действительности или являются только фантазией Альваро де Менданья, который заявил, что открыл их в тысяча пятьсот шестьдесят восьмом году. Он назвал их Islas de Solomon[64], полагая, что они являются островами, на которых царь Соломон добывал золото для своего храма в Иерусалиме. Но, должно быть, царь Соломон был лучшим навигатором, чем Менданья, поскольку испанцы больше никогда не нашли эти острова. В тысяча пятьсот девяносто пятом году он отправился во второе путешествие, чтобы подтвердить свое открытие, но не достиг желаемой цели. Его главный кормчий, Кирос, в тысяча шестьсот шестом году сделал третью попытку, и многие другие искали с тех пор эти острова. Но они словно провалились в океан раз и навсегда, подобно Атлантиде. Они остаются некой иллюзией, как Terra australis incognita, которую Менданья и Кирос также надеялись отыскать. — Палец Алетии скользнул по странице и остановился внизу, слева от картуша, где я смог прочесть надпись «TERRA AUSTRALIS». Остальное пространство, большой континент, чья береговая линия спускалась вниз к двухсотому меридиану, оставалось просто белым пятном. — Еще одна мифическая земля, изображенная Ортелием.
— Этот континент описан в «Географии» Птолемея, — заметил я, удивляясь, какое отношение такие легендарные земли могли иметь к Галилею или Пражской библиотеке.
— А также еще в арабских и китайских источниках. Слухи об их существовании уже много столетий передаются из уст в уста. На их поиски испанцы отправляли многочисленные экспедиции для их обнаружения, но все тщетно, хотя в тысяча шестьсот шестом году Кирос открыл некую большую землю — в сущности, всего лишь острова, — которую назвал Australia del Espirito Santo. Позднее ее пытались найти голландцы, также тщетно — до тех пор, пока ряд их кораблей, направляясь на Яву, не сбился с курса и не увидел неведомый берег и побережье огромного острова, охраняемого коралловыми рифами. Двадцатью годами позже их корабли исследовали неизвестную береговую линию, что протянулась от десятой до тридцать четвертой параллели южной широты. Стало быть, Terra australis incognita — нечто более реальное, чем миф. А если существует Terra australis incognita, то тогда реальностью вполне могут быть и Соломоновы острова. — Она наклонилась вперед и провела указательным пальцем по Тихому океану к правой стороне карты. — Взгляните сюда. Вы увидите, что в этом пражском издании есть одно занимательное отличие.
Я пристально взглянул на страницу. Свет, падавший из залитого дождем окна, был настолько слабым, что мне пришлось напрячь глаза, чтобы разглядеть хоть какие-то очертания. Но где-то между тридцатым и сороковым градусом широты к западу от Перу, в дюжине параллелей южнее экватора посреди обширного, изображенного Ортелием Mare Pacificum, виднелся крошечный прямоугольный остров, помеченный как Маноа. Да я уверен, что такой островок не был отмечен ни в одном из изданий господина Смоллпэйса.
— Но мне казалось, что Маноа находится где-то в Гвиане или Венесуэле.
— И все так считали. Но, по мнению Ортелия, этот остров находится в Тихом океане, в той огромной впадине, что образовалась на Земле, когда от нее откололась Луна. Предположительно он находится к западу от Перу и к востоку от легендарных Islas de Solomon, на двести восьмидесятом меридиане к востоку от Канарских островов, местоположение которых Ортелий, вслед за Птолемеем, принимает за исходный нулевой меридиан. По крайней мере, именно там располагается Маноа в атласе пражского издания тысяча шестисотого года. — Она поднялась из-за стола и аккуратно вставила том обратно на полку. — Понимаете, ни в одном другом издании Ортелия нет изображения острова Маноа, — пояснила она, возвращаясь к креслу, — ни в Тихом океане, ни в каком-либо другом месте. Именно поэтому данное пражское издание является уникальным. И именно это, разумеется, очень заинтересовало сэра Амброза.
— Но Маноа есть на других картах, — запротестовал я, вспоминая карту Рэли, изданную Хондиусом в Амстердаме, которую я когда-то досконально изучил, сидя на корточках между полками в магазине господина Молитора.
— Да, но в большинстве из них были грубые ошибки. Маноа располагали в самых разнообразных местах. Но благодаря проекциям Меркатора мореплаватели стали наносить курс на карты, используя широты и долготы. Они могли долго следовать прямо по намеченному курсу, не пересчитывая то и дело данные компаса. Все, что было нужно, — это линейка, циркуль и компас. Просто детская игра.
— Да, — кивнул я. — За исключением незначительной детали, что никому не известно, как определить долготу в море.
— Да, трудность именно в этом, — согласилась она, возвращаясь к полке. — Определить широту достаточно просто даже ниже экватора, где Полярную звезду невозможно увидеть. Надо просто определить положение Солнца в полдень посредством солнечных часов или тому подобным образом. Но долгота — такая же трудная проблема, как квадратура круга.
Эта проблема с древности, я знал, озадачивала всех моряков. Долгота — просто другое название для временного различия между двумя местами. В принципе ее вычисление, насколько я понимаю, не представляет особой сложности. Над Лондоном или над Соломоновыми островами, как и над любым другим местом Земли, Солнце всегда достигает зенита в двенадцать часов дня: это местный полдень. Таким образом, если бы мореплаватель на Соломоновых островах мог узнать, который час в Лондоне, когда у него полдень, он мог вычислить долготу своего положения по разнице между этими двумя временами, поскольку каждый час равен пятнадцати градусам долготы. Все бы было прекрасно, но как можно узнать лондонское время, если ты находишься где-то на полпути вокруг земного шара, на берегах этих самых Соломоновых островов?
— Даже древние при всей их мудрости не смогли разрешить эту проблему, — говорила Алетия. — Птолемей в своей «Географии» обсуждает метод Гиппарха из Никеи, который советует использовать наблюдения лунных затмений, чтобы высчитать различие местного времени к востоку или к западу от заданной точки. Позже Иоганн Вернер из Нюрнберга, — она показала на один из томов на полке, — предлагает в своей книге о Птолемее метод так называемого лунного расстояния, по которому Луна и зодиакальный круг представляются в форме небесных часов, показывающих местное время в любой точке земного шара. Но все эти методы оказались бесполезными в море или в далеких землях, куда невозможно доставить надежные счетчики времени.
— И именно поэтому Менданья и Кирос не смогли найти Соломоновы острова, вернувшись во второй раз в Тихий океан.
— Точно. Ведь в тысяча пятьсот шестьдесят восьмом году Менданья фиксирует их на двести двенадцатом меридиане к востоку от Канарских островов, однако, вернувшись на их поиски в тысяча пятьсот девяносто пятом году, понимает, что найти этот двести двенадцатый меридиан так же трудно, как и сами эти острова.
— Значит, карта Ортелия бесполезна, — сказал я. — Она не более точна, чем любые другие.
Алетия вернулась на свое место и налила нам еще по чашке чая, редкого напитка в те дни, который я пробовал до сих пор всего два или три раза. Похоже, он слишком взбудоражил меня. Мои руки дрожали, когда я взял чашку.
— Безусловно, вычисление долготы не более чем приблизительная оценка на основе имеющихся сведений, — ответила она наконец. — Но этот остров? Неужели он тоже выдумка? И если так, то почему эту карту запрещают?
— Но кто запрещает ее? Испанцы?
— Так полагал сэр Амброз. И у них имелись для этого основательные причины. Уж где меньше всего испанский король и его министры хотели, чтобы их секретные документы оказались, — это в Праге. Ее колледжи кишели протестантами, алхимиками и евреями, не говоря уже о всякого рода мистиках и фанатиках. Именно их действия спустя двадцать лет перепугали кардиналов Святой палаты. И поэтому великого Ортелия отравили и его карту изъяли.
Она закрыла книгу и внимательно взглянула на меня. Я слышал, как кто-то проходит по атриуму и потоки дождя с шумом вылетают из водосточных труб. Огромная лужа вокруг солнечных часов становилась все больше, и все больше воды переливалось через треснутый край фонтана. Вдалеке, за чахлым фруктовым садом, виднелись источник и салатный пруд, также переполненные водой, их вздувшиеся поверхности покрылись рябью и пузырями. Я в беспокойстве пошаркал ногами по ковру, вспоминая подъезжавшую карету.
— На сем эта история могла бы и закончиться, — сказала она наконец, — если бы не маленькая деталь. Она касается одного корабля, мистер Инчболд. Испанского галеона. Обнаруженного совершенно случайно в водах Карибского моря. — Вдруг раздался еще более оглушительный громовой раскат, и дождь с новой силой обрушился на окно. — Возможно, вы узнали что-то о нем в ваших расследованиях? Он назывался «Сакра Фамилиа».
Когда сверкнула молния и грянул гром, в дверях библиотеки появилась Бриджет со светильником, заправленным рыбьим жиром. Поставив его на стол, она удалилась с чайным подносом, шаркая туфлями по кафельным плитам пола. Алетия тоже прошлась по комнате. Несколько минут она что-то сосредоточенно искала на полках, приставив к ним стремянку и снимая с них книги, подобно собирателю яблок в саду. Но вот она вернулась с целой стопкой томов, которые лавиной рассыпались по столу. Я подхватил одну из падающих книг, не дав ей свалиться на пол, и удивился, увидев, что это «Об истине христианской религии» Дюплесси-Морне, трактат по герметической философии, переведенный на английский сэром Филипом Сидни.
— …выпущенные в новых изданиях и переводах, — говорила она под шум дождя и стук падающих на стол книг. — «Апология» Вильгельма Оранского, «Испанская колония» Бартоломе де Лас Касаса, Relaciones[65] английского осведомителя Антонио Перетца…
Пока она раскладывала эти книги, в полосу света попал труд Лас Касаса, испанского священника, который описал злодеяния, совершаемые конкистадорами над индейцами.
— Даже печатники и книготорговцы присоединились к борьбе против Испании. Множество подобных книг тайно распространялись во все уголки Испанской империи, чтобы поднять отряды разгромленных повстанцев и других недовольных жителей в Каталонии, Арагоне и Калабрии. Их перевели даже на арабский и тайно переправили в Африку, чтобы их смогли прочесть мориски, изгнанные Филиппом Третьим из Испании. Теперь тысячи морисков, как и повстанцы Калабрии и Каталонии, были готовы вновь взяться за оружие, чтобы продолжить войну с кастильцами. Только на сей раз вся протестантская Европа собиралась вступить в бой на их стороне.
Так получилось, что мне пришлось второй раз выслушать историю экспедиции Рэли, рассказ о заговорах епископов и правителей всей Европы, строивших тайные планы coup de main[66] на их общего врага, короля Испании. Но в рассказе Алетии король Филипп утратил часть своего всемогущества. Английские и голландские шпионы из портового района Ла-Коруньи и из улочек Кадиса сообщали, что его военный флот еще не оправился от поражения, нанесенного так называемой «Непобедимой армаде»: ее потеря в 1588 году была первым указанием на возможность конца его гигантской империи. Галеоны не восстанавливались и не ремонтировались, потому что запасы строевого леса на Иберийском полуострове были крайне истощены, да и денег на их строительство все равно не было, поскольку шпионы из Торговой палаты сообщали, что ежегодный ввоз золота и серебра из Америки упал с девяти тысяч тонн до трех тысяч с небольшим. В итоге Филипп изрядно задолжал hombres de negocio[67], и множество торговцев и судовладельцев в Севилье могли лишь беспомощно наблюдать за тем, как тает их серебро и исчезают торговые галеоны. Главная европейская война — война, уже почти проигранная испанцами, — могла раз и навсегда положить конец испанским караванам, тем, что дважды в год везли сокровища Нового Света через пять тысяч миль Атлантики к Андалусии. Требовался лишь быстрый огнепроводный шнур, чтобы поджечь бочку, а фитиль должен был поднести сэр Амброз и его солдаты на борту «Филипа Сидни».
Но намеченное выполнить не удалось. Я вновь услышал историю о том, что это смелое предприятие загубили осведомители и шпионы, обосновавшиеся в Адмиралтействе и на борту самого «Дестини». По крайней мере, это предприятие можно было считать провалившимся до тех пор, пока «Филип Сидни», направляясь к дому через Наветренный пролив, не встретил остатки мексиканского флота, рассеянные вдоль берегов Кубы одним из тех жестоких штормов, что испанские мореплаватели называют huracan[68]. Все произошло по чистой случайности и казалось редким подарком судьбы в годину несчастий. Действительно, сэр Амброз мог бы никогда не натолкнуться на этот караван, говорила Алетия, если бы не тот странный запах, о котором доложили палубные матросы, когда корабль шел по мелководью еще примерно в десяти лигах к западу от испанского порта Сантьяго-де-Куба.
— Запах? — Я вспомнил, что Биддульф рассказывал об этом ароматическом галеоне. — Какого рода запах?
— Благоухание, — ответила она. — Все море пропахло духами или, возможно, ладаном. Можете вы себе вообразить нечто более странное? Сначала люди на борту «Филипа Сидни» подумали, что это не что иное, как обман чувств и наваждение: ведь в море галлюцинации далеко не редкость. В основном они цветовые: иногда волны кажутся такими зелеными, что возникает четкое представление, будто корабль движется по зеленому лугу. Однако никто на борту «Филипа Сидни» никогда не слышал о таком странном наваждении, даже сэр Амброз. Запах становился все сильнее, и вскоре моряк с дозорной площадки марса заметил что-то на горизонте.
— Галеон, — пробормотал я.
— Караван галеонов, — ответила она.
Этот транспорт из испанских колоний три недели назад покинул Веракрус: четырнадцать галеонов, следовавших курсом норд-норд-ост по бурным водам Мексиканского залива к тропику Рака, а потом в более высокие широты, 40-е и 50-е, чтобы избежать встречи с северо-восточными пассатами. Четырнадцать кораблей шли среди бесконечных сверкающих волн, что бурлили и вскипали водоворотами в проливе между Испаньолой и Кабо-Майси, большинство из них были так тяжело нагружены, что их нижние орудийные отверстия едва не скрывались под водой. Их должна была уже встретить armada de la guardia de la carrera[69], чтобы эскортировать до Канарских островов, но этой эскадре не удалось найти их, вероятно, все из-за тех же ураганных ветров, что в течение предыдущих двух дней разметали этот караван вдоль берегов Кубы. Тринадцать из них сгрудились вместе, как стая китов, огибая этот продуваемый ветрами мыс, но четырнадцатый шел с сильным креном. Он уже отстал от остальных на несколько полетов стрелы.
— «Сакра Фамилиа», — подсказал я, когда она сделала паузу.
Она медленно кивнула:
— Сначала этот галеон казался не более чем призраком. Когда «Сидни» подошел ближе, странный запах стал еще сильнее и матросы увидели, что у этого корабля золотистый цвет и его топ-мачты и нок-реи пылают на солнце или горят, словно огни Святого Эльма. Только угроза протащить дезертиров под килем смогла убедить самых суеверных из моряков остаться на своих местах. Однако сэр Амброз почти сразу узнал этот запах. Он понял, что то было не благоухание святости, а запах сандалового дерева, которое используется для изготовления мыла и ладана. Дерева, чью золотистую ядровую древесину царь Соломон, согласно преданиям, использовал для постройки древнего иерусалимского храма.
— Неужели «Сакра Фамилиа» была нагружена сандаловым деревом? — Я был озадачен и одновременно разочарован такой разгадкой, таким понижением статуса волшебного судна, объекта стольких мифов, до простого грузового корабля, обычного трансатлантического «вьючного мула».
— Груз тут был ни при чем, хотя поначалу сэр Амброз подумал так же. Но потом он заметил, что, несмотря на сильный крен, грузовая ватерлиния этого галеона находится высоко над водой. И понял, что «Сакра Фамилиа» не загружена ни сандаловым деревом, ни серебром или золотом из рудников Новой Испании; на нем вообще не было никакого груза, несмотря на то что он шел вместе с этим мексиканским караваном. Понимаете, запах исходил от самого галеона, — объяснила Алетия, — от его обшивки и мачт. Весь корабль от носа до кормы построили из сандалового дерева, точно как храм Соломона. И тогда сэр Амброз сразу же забыл о тех тринадцати кораблях в караване и отдал приказ преследовать этот галеон.
Тринадцать кораблей, набитые серебром из мексиканских рудников, а возможно, золотыми слитками или тюками китайского шелка из Манилы. Я попытался представить эту ситуацию. Богатейший торговый караван без всякой охраны собирается преодолеть пять тысяч миль коварного океана, направляясь к Кадисскому заливу. Однако сэр Амброз отказывается от него — и пренебрегает своей священной миссией, — пускаясь вдогонку за другим кораблем с пустыми трюмами. Пустопорожний галеон, построенный из сандалового дерева.
— Такое дерево, возможно, прекрасно подходило для храма Соломона, — продолжила Алетия, — но едва ли оно пригодно для судостроения. Его ядровая древесина является такой плотной, что с трудом плавает в воде. Это объясняет, почему корабль так сильно отстал от остального каравана. И также объясняет, почему «Филип Сидни» догнал его с такой легкостью. Так же быстро арабский жеребец мог бы догнать мула.
— Но почему сандаловое дерево? Почему не дуб или тик?
— Именно этим вопросом и задавался сам сэр Амброз. И он догадался. Он понял, что «Сакра Фамилия» шел вовсе не из Веракруса с остальным караваном. Он сразу понял, что этот корабль плывет из каких-то гораздо более дальних краев.
— Тихий океан, — пробормотал я, вспомнив о бамбуковых крысах Биддульфа и о его предположении, что этот корабль прошел через пролив Магеллана, тот узкий пролив из отмелей и островов в нижней части земного шара.
— Он понял, что этот галеон, должно быть, изначально построили из дуба, — продолжала она, — поскольку судостроители Ла-Коруньи никогда не стали бы строить корабль из сандалового дерева, насколько бы скудными ни были их запасы строевого леса. Но некий судостроитель мог оказаться в безвыходном положении. Сэр Амброз понял, что «Сакра Фамилиа» потерпела кораблекрушение и затем была перестроена плотниками в некой стране, где не растут дубы, в земле, где под рукой есть только сандаловые деревья. И должно быть, дело происходило на одном из островов Тихого океана — потому что это единственное известное место, где растут такие леса.
Однако сэр Амброз не осознал значения этого факта до тех пор, пока за час до наступления сумерек не обогнал этот галеон. Дело было примерно в лиге от пустынного восточного берега Кабо-Майси. У «Сакра Фамилиа» не осталось никаких шансов на спасение бегством, хотя он шел налегке, поскольку «Филип Сидни» был самым сильным военным кораблем, когда-либо бороздившим моря, и его команда была готова к сражению. По команде сэра Амброза солдаты начали смазывать свои копья, а лучшие стрелки вскарабкались на площадки мачт со своими мушкетами и серпантинами. Внизу на батарейных палубах канониры подтаскивали деревянные картриджи с порохом и закладывали их в пушки, а рядом на жаровнях лежали наготове зажигательные ядра, похожие на кучу огромных каштанов. Но сражение закончилось, так и не успев толком начаться, поскольку «Сакра Фамилиа» была не в состоянии ни сражаться, ни спасаться бегством: порох отсырел после шторма, а днище, обросшее слоем ракушек, так опутали водоросли — те, которые португальцы называют sargaso, — что его руль поворачивался с огромным усилием. Английский корабль подошел на расстояние пушечного выстрела уже через час после того, как увидел испанцев, и его тридцатидвухфунтовое ядро ударило в нос галеона. Ответного удара не последовало, даже когда два выстрела картечи разорвали его паруса, не говоря уже о том, что испанцы просто занялись установкой новых парусов и тщетно пытались поднять их, чтобы спастись бегством.
На остальное потребовалось меньше часа. Стрелки открыли огонь сверху, а с палуб метали зажженные копья и пускали горящие стрелы из луков. Одна из этих стрел попала через отверстие в переднюю рубку, и на судне начался пожар, так что матросы начали прыгать в море. Огонь быстро распространился по кораблю, вынуждая почти всю остальную команду покинуть борт. К этому времени галеон уже несло к коралловым рифам, где, точно выставленный для устрашения труп, торчал разбитый остов старого галеона, чье название, «Император», еще различалось на гниющей доске с названием судна. «Сакра Фамилиа» вскоре присоединилась к нему и начала разваливаться на части на глубине нескольких морских саженей — как раз когда команда из пятидесяти солдат с веревочными лестницами и абордажными крюками отчалила на баркасах от борта «Филипа Сидни». Те немногие испанцы, кто не пошел ко дну, стали добычей акул; но они успели побросать за борт или в огонь свои судовые журналы, собрание судоходных карт, деревянный планшет, derroterro — все, что могло выдать тайну их путешествия. В итоге после этого кораблекрушения выжили только крысы, огромные бамбуковые крысы, которые, покинув корабль, плыли к банановым плантациям, протянувшимся вдоль береговой линии.
— Уже сгущались сумерки, и яркий закат предвещал конец штормовой, погоды. Проверив глубину, сэр Амброз отдал команду своим людям бросить якорь в миле за мысом, где «Сидни» и переждал затихающий шторм. Галеон всю ночь полыхал на рифах, а утром туда отправили команду, чтобы осмотреть обломки и привезти то, что уцелело. Приходилось действовать быстро. Пламя могли заметить с берега, и тогда весть об этом крушении вскоре достигла бы Сантьяго, если сам запах еще не предупредил испанцев, поскольку к восходу ветер поменялся на юго-восточный и теперь дым вместе с запахом сандалового дерева плыл в сторону острова.
— И они что-нибудь нашли?
— За несколько часов — почти ничего. Ничего, что могло бы вознаградить этих людей за их опасную работу в кишащих акулами водах. Без следа пропали судовой журнал и собрание морских карт с маршрутами — документы, за которые Адмиралтейство могло бы заплатить хорошие деньги. К полудню от галеона почти ничего не осталось, кроме киля, а то, что пощадил огонь, рассеяли волны и ветер. Сэр Амброз уже хотел отдать приказ своим людям возвращаться — у берега заметили испанский фрегат, — но тут компания моряков обнаружила кое-что на мелководье. Нечто обожженное и пропитанное водой, но тем не менее целое.
— Да? — Я затаил дыхание. — И что же это было?
— Матросский сундучок, — ответила она. — Но не обычный, поскольку его сделали из того же дерева, что и корабль. А на одной из сторон вырезан герб человека по фамилии Пинсон.
— Капитана? — не утерпев, спросил я.
Алетия отрицательно покачала головой.
— Франческо Пинсон был мореплавателем, причем знаменитым, выпускником Школы навигации и картографии в Севилье. Он плавал лоцманом на одном из кораблей Кироса во время его экспедиции тысяча шестьсот шестого года, отправившейся на поиски Соломоновых островов. Должно быть, сундучок выбросили за борт вместе с остальным имуществом, но он уцелел в огне, поскольку сандаловое дерево не только очень красивое, но и очень прочное. Когда его открыли, внутри обнаружили множество книг, поскольку уважаемый сеньор Пинсон, очевидно, читал запоем. В основном там лежали истории о похождениях рыцарей, но кроме рыцарских романов в сундучке оказалась и другая книга, тоже свидетельствовавшая об опасном и невероятном приключении.
— Атлас Ортелия?
— Да. Пражское издание этого Theatrum orbis terrarum, атлас в те дни еще настолько редкий, что даже сэр Амброз не видел раньше его экземпляра. Он только успел открыть обложку, как вдруг один из моряков ворвался в его каюту. В воде нашли еще кое-что.
Это был еще один ключ: множество обрывков бумаги из журнала или дневника, который кто-то пытался разорвать, прежде чем выбросить за борт. Обрывки тщательно выловили из воды, и сэр Амброз высушил их и аккуратно разложил на столе в своей каюте. Это дело отняло большую часть дня и осложнялось тем, что многих обрывков недоставало или они были плохо читаемы. Сначала он смог разобрать всего лишь несколько слов: Toledo, Longitudo, JUPITER[70]. К этому времени испанскому фрегату оставалось пройти до них не больше лиги, а у берегов Испаньолы появился более многочисленный караван. Но «Филип Сидни» не имел намерения с ними встречаться. Он поднял якорь и вскоре после заката достиг Багамских островов. И именно там, среди этих пальмовых островов, в темных водах, кишащих как акулами, так и пиратами, сэр Амброз закончил собирать уцелевшие обрывки и узнал тайну «Сакра Фамилиа».
— Он обнаружил еще одну карту? — спросил я.
— Нет, — ответила она. — Нечто гораздо более загадочное. Может, вы сами хотите взглянуть? — Она встала из-за стола. — Какие-то остатки и сейчас еще вполне читаемы.
Я тоже поднялся на ноги, но движения мои были неуверенными, я вновь почувствовал головокружение. Пошатываясь, я проследовал за ней по плитам атриума, который озарялся грозовым светом молний. Дождь лупил по окнам еще громче, а над нами, под стать ему, шумно позвякивала люстра. Вода начала стекать по мраморным ступеням лестницы, капая с перил и образовывая лужи на полу, но Алетия то ли ничего не замечала, то ли ей было безразлично все происходящее, поскольку она спокойно шла мимо этого маленького водопада, мягко увлекая меня за собой и рассказывая о каком-то альманахе. Шум дождя слегка приглушал ее голос. Пол, казалось, дрожал под нашими ногами, когда мы, миновав большой зал и столовую, пробирались по коридору. И внезапно лестница крипты развернула перед нами свои глубины.
— …навигационные створы, солнечные и лунные затмения, — ее голос эхом отдавался от обшитых медью стен, пока мы спускались в это спрятанное от людских взоров помещение. Спустившись с последней ступени, я почувствовал воду под ногами. Видимо, она стекала по стенам, поскольку, когда я задел одну из них плечом, оно сразу намокло. Мимо нас проплывали волны, похожие на жидкое масло. Алетия же пошла еще скорее, шлепая по воде в своих высоких ботинках, словно не замечая этой плачевной картины.
— Все вычисления в этих таблицах сделаны с величайшей точностью. — Ее голос звучал словно издалека, пока она шагала в темноту впереди меня, подняв вверх потрескивающий светильник. Отовсюду исходили звуки невидимо льющейся воды, с журчанием и свистом струящейся по каменистым бороздчатым стенам. — Этот альманах составил, вы понимаете, сам Галилей.
Итак, я вновь оказался в этом подземном архиве, том самом месте, где впервые столкнулся с многочисленными фрагментами, из которых складывался таинственный образ сэра Амброза Плессингтона. Я помедлил на пороге. По полу здесь, так же как и в коридоре, бежала вода. Она сонно захлюпала, когда Алетия начала пробираться по комнате к гробу, по-прежнему стоявшему на прочном постаменте и избежавшему пагубного влияния времени. Когда она повесила светильник на стенной крюк, я удивился тому, что вода была почти красного цвета. С потолка мне на пальцы упала капля, похожая на кровь.
— Венецианский кармин, — пояснила Алетия, — я использовала эту краску в моих поисках для обнаружения подземных водотоков. Я налила эту краску в пруд с лилиями, чтобы определить, куда вода направляется оттуда. Наверное, можно было бы использовать какой-нибудь менее жуткий цвет, но так уж случилось, и в итоге эта краска сделала свое дело, а я смогла проследить много скрытых каналов. Инженер прокладывает трубы и строит водостоки, так что эти ключи будут укрощены и их воду направят в фонтаны.
Я вытер руку о камзол и молча смотрел, как она со скрипом открыла крышку гроба и начала рыться в документах. Вокруг нас глухо шумела вода, пробираясь по своим таинственным каналам за этими стенами. Укротить такие воды? Мне оставалось только восхищаться ее оптимизмом, этой непотопляемой жизнерадостностью ее мечтаний. Вокруг начиналось настоящее наводнение, а она по-прежнему твердила о своих грандиозных планах по реставрации этих владений. Но, наверное, не только это восхищало меня в ней. Ведь я приехал в Понтифик-Холл, пылая от гнева и ненависти, но сейчас обнаружил, почти с досадой, что к Алетии невозможно испытывать неприязнь. Возможно, я, как и она, поддался заблуждению; и возможно, даже ковыляя по этой прибывающей воде, я лелеял те же мечты и желания.
— Вот, нашла.
Ее голос вырвал меня из задумчивости. Алетия повернулась ко мне с листом бумаги или какой-то другой подкладкой, на которую было наклеено множество обрывков. Еще один текст, очередной фрагмент, рассказывающий историю жизни ее отца. Когда она повернула его к свету, я увидел три или четыре колонки цифр, иногда прерываемых интервалами.
— Вот она, загадка «Сакра Фамилиа», — говорила она, — разгаданная сэром Амброзом. Вам видно? Эти таблицы предсказывают затмения каждого из спутников Юпитера.
В полном недоумении я продолжал старательно пялиться на сие творение человеческого ума.
— Спутники Юпитера? Но я не возьму в толк, какое отношение они могут иметь…
И вдруг меня осенило. Шрифт вдруг обрел четкость и слова словно засияли со страницы. Брызги венецианского кармина покрывали бумагу, но лишь только мне удалось разобрать слова JUPITER и LONGITUDO, как камень выскочил из стены, точно затычка из бочки, и в отверстие хлынул красноватый поток.
Пошатнувшись, я отступил на шаг, чувствуя, как ледяная вода просачивается в мои башмаки. Еще один камень вырвался на свободу, и вода с новой силой хлынула внутрь, стремительно обвивая наши ноги, словно падающая розово-коричневая стрела. Начался потоп. Оцепенев на мгновение, я представлял, как вся стена обрушивается внутрь и мы оба оказываемся погребенными под тоннами воды и обломками каменной кладки. Опомнившись, я бросился вперед, схватив Алетию за руку.
— Пошли, — сказал я. — Быстрее, или мы утонем!
Но она вырвалась и наугад выхватила целую охапку бумаг из гроба, который уже опасно покачивался на своей подставке.
— Документы, — сказала она. — Помогите мне!
Но я не собирался тонуть ради сэра Амброза Плессингтона. Шагнув вперед, я вновь схватил ее за руку и потащил к выходу. Бумаги, прижатые к ее груди, упали в воду, чернила начали расплываться и течь по пергаменту, смываясь прибывающим потоком. Среди этих мокрых листов плавал документ, раскрывающий секрет галеона, — тайну «Сакра Фамилиа» вновь закружили волны.
Возможно, ее не удастся восстановить во второй раз. Я снял фонарь и, не отпуская руку Алетии, попытался приоткрыть дверь пошире. Вода, должно быть, уже заливала все подземелье, поскольку в коридоре ее глубина была на фут больше и она текла настоящим потоком со стороны лестницы. Подняв повыше фонарь, я попытался разглядеть далекую лестницу. Мои ноги уже онемели. Слышно было, как вода, закручиваясь по углам, плещет в обитые медью стены. Оглянувшись, я посмотрел на Алетию.
— Есть другой выход?
— Нет. — Она все еще пыталась спасти остатки отцовских документов, которые уже проплывали мимо, как форель в ручье, унося за собой ленточки с печатями. — Только та дверь, в которую мы входили!
Я потащил ее прочь, шагая по колено в воде. Цвет воды уже сменился с красного на черный. Через несколько шагов я услышал, как гроб упал со своей подставки и перевернулся. Я быстрее устремился вперед. Приподняв фонарь, я увидел, что сокрушительный напор воды распахнул другие двери в этом туннеле и притоки убыстряли затопление. Вскоре на нашем пути стали попадаться обломки деревянных бочек и мотки старых веревок, преследуемые погребальными урнами из какого-то древнего склепа. Затем пошли сами останки: покачивающиеся на волнах черепа и бедренные кости, разрозненные мощи множества монахов плавно скользили нам навстречу.
С Алетией на буксире я пробирался через эти жуткие обломки, напоминавшие какой-то нелепый груз, смытый с корабля. По моим расчетам, у нас оставалось не больше минуты, чтобы выбраться отсюда, прежде чем крипта заполнится водой. Когда вода достигла середины бедер, я услышал другой шум, безумный писк, который ошибочно принимал за скрип петель фонаря, пока не увидел множество крыс — толстых шерстистых тварей, которые плыли против течения, используя для облегчения передвижения обломки бочек и черепа. Оступившись, я выронил фонарь, и он с шипением погас в воде. Мы оказались в полной темноте, и лишь далеко впереди маячил слабый свет, просачивающийся в отверстие люка. Мы с трудом продвигались к нему, но, когда достигли ступеней, я так ослабел, что едва стоял на ногах. Вода уже доходила мне до груди; только с третьей попытки я нашел-таки скрывшуюся под водой ступеньку. Схватившись за перила и перебирая руками, я начал карабкаться наверх, Алетия следовала за мной по пятам, и вот наконец, измученные и замерзшие, мы вылезли из этого люка.
По верхнему коридору бежала вода, сливаясь с подвальным потоком. Мы пошатываясь направились к атриуму, миновав по пути столовую и Большой зал. В последнем карнизы и консоли, словно сталактиты, сочились разбавленной водой побелкой. Посреди зала валялись обломки рухнувшей лепнины, а над ними в потолке зияла рваная рана с решетчатой дранкой и балками. Трещины, точно молнии, змеились по стенам, сбрасывающим в воду все больше штукатурки. Но вдруг сквозь шум воды мы услышали отчаянный голос Финеаса, призывавший леди Марчмонт.
— Книги! — кричала Алетия, перекрывая непрестанный водяной шум. — Мы должны спасти книги!
Однако нам не удалось достичь библиотеки, по крайней мере так быстро, как хотелось бы. Поскольку, доковыляв до атриума, мы увидели, как стоящий к нам спиной Финеас пытается закрыть дверь так же, как он уже сегодня проделывал это, встречая меня. Дверь содрогалась в своей раме под яростными ударами, наносимыми снаружи. Его попытки не увенчались успехом и во второй раз, после очередного удара дверь широко распахнулась со стоном измученного дерева и порывом ветра. Высоко над головой зазвенели хрустальные подвески люстры, а Алетия вдруг крепко сжала мою руку. Наши гости наконец прибыли.
Сначала я заметил маячившую за дверью карету: быстроходный с виду экипаж с куполообразной крышей, запряженный четверкой покрытых пеной и бьющих копытами лошадей. Затем раздался хруст гравия и в треснувшей дверной раме появилась широкая фигура, сопровождаемая шустрой троицей в черных с золотом камзолах.
— Сэр Ричард? — Открыв рот от изумления, Алетия стояла как вкопанная рядом со мной. Может, ей вспомнилось убийство на Понт-нефе? Она сразу отпустила мою руку. — Что вы здесь делаете? Что все…
Первым откликнулся Финеас, он бросился вперед и схватился с одним из прибывших. Но борьба была неравной, его противник выхватил из-за пояса короткий кинжал, которым он ловко отпарировал два слабых удара, прежде чем быстрым и натренированным движением послал клинок в цель. Лакей рухнул, не издав ни звука, а его победитель, толстый мужчина с большими, прикрывающими глаза веками, вытер кинжал о бриджи и пошел в нашу сторону.
— Сэр Ричард? — Алетия нерешительно шагнула вперед. Ее лицо побелело. Однако сэр Ричард направил взгляд не на свою потрясенную невесту, а на меня.
— Мистер Инчболд, — сказал он ровным голосом, снимая взмахом руки свою шляпу. — Так-так, оказывается, предоставленные мне сведения все-таки были верны. Как же вы, однако, изобретательны! Собственными глазами я видел, как вы утонули в реке, хотя меня уверяли в обратном. Могу лишь надеяться, что вы проявили такую же изобретательность в ваших поисках. — Расстегнув медную пуговицу, он показал засунутый за пояс пистолет. Водный поток, завихряясь, обтекал его туфли. — Итак, где же он теперь? — Он сделал несколько шагов в нашу сторону. Трио в черных одеждах за его спиной пылко последовало его примеру. — «Лабиринт мира», — сказал он все тем же спокойным тоном. — Где он?
Но когда он сделал очередной шаг, коснувшись своего пистолета, пол в атриуме закачался, как палуба тонущего корабля, и четверка непрошеных гостей потеряла равновесие. Едва они выпрямились, как люстра со скрежетом сорвалась с потолка вместе со своим креплением и упала на пол между нами, разлетевшись на тысячу осколков. Сэр Ричард отшатнулся назад, все еще нащупывая свой пистолет. Осколки стекла брызнули мне на башмаки, и в этот момент пара рук легла мне на спину.
— Идем! — Это была Алетия. — Бежим!
Глава 9
Все четыре луны Юпитера, даже самая большая из них — Каллисто, слишком тусклы, и их невозможно увидеть невооруженным глазом. Зимней январской ночью 1610 года Галилей первым разглядел их, сконструировав телескоп с тридцатидвухкратным увеличением: четыре спутника вращались вокруг Юпитера с периодами от полутора до шестнадцати с половиной дней. Четыре новых мира, не виданные доселе ни древними, ни новыми учеными. Он опубликовал свое открытие в Sidereus nuncius, или «Звездном вестнике», и в течение года его открытия подтвердили астрономы-иезуиты в Риме и Кеплер в Праге. Их также подтвердил германский астроном Симон Мариус, который и дал им имена: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.
Потрясающее открытие Галилея сразу же вызвало множество горячих дискуссий. Мало того что эти четыре новых спутника не согласовались с Писанием — они заставляли усомниться в словах Аристотеля из сочинения De caelo[71] о том, что звезды неподвижны в небесах. И что хуже всего, они противоречили описанию Вселенной, данному в другой славной книге, Птолемеевом «Альмагесте». Главным возражением противников учения Коперника было то, что если Земля не центр Вселенной — почему же вокруг Земли, и только вокруг Земли, вращается Луна? Но вращения лун вокруг Юпитера подвели Галилея к осознанию того, что звезды могут вращаться вокруг планет и одновременно сами планеты — вокруг Солнца. Юпитер и его четыре спутника стали для Галилея моделью Земли и ее собственной Луны. И действительно, в 1613 году он написал в дополнении к своим письмам по поводу солнечных пятен — в которых он полемизирует с астрономом-иезуитом Кристофером Шайнером, — что луны Юпитера, вне всяких сомнений, доказывают правильность теории Коперника.
Но для Галилея эти луны имели также тайное практическое значение, которое он хранил даже под более строгим секретом, чем свою приверженность учению Коперника. Галилей, конечно же, был весьма практичным человеком. Он бросал пушечные ядра с Пизанской башни, чтобы опровергнуть теорию движения Аристотеля, а в Падуе в Auditorium Maximum учил студентов новейшим методам фортификации и конструирования артиллерийских орудий. Итак, он понял, что спутники Юпитера — и, в частности, их затмения, случающиеся, когда они проходят за планетой, — можно использовать для решения древней проблемы нахождения долготы в море; за разрешение этой задачки король Испании посулил вознаграждение в 6 000 дукатов, а Генеральные штаты Нидерландов попытались превзойти его, пообещав 30 000 флоринов. Подписанное в 1609 году перемирие между двумя этими странами вскоре должно было закончиться, конечно если пушки не заговорят до срока. Новая война грезилась и испанцам, и голландцам, сражавшимся не только на старых европейских полях сражений, но и среди островов Тихого океана. Собственно говоря, уже сообщалось о нескольких нападениях голландцев на presidios[72] Тьера-Фирме. И вот тогда-то Галилей, истый католик, вычислил таблицу затмений и обратился к Филиппу III через посредство тосканского посла в Мадриде. Эти таблицы — залог испанских удач в Тихом океане — предсказывали время начала и длительность затмений каждого спутника: их затмения, подобно нашим лунным, происходили в одинаковое время в любой точке Земли. В отличие от лунных затмений, однако, они случались гораздо чаще, в случае Ио — почти ежедневно. Поэтому Юпитер и его спутники могли служить своеобразными небесными часами, показывающими разницу времени между любыми двумя точками на Земле любому человеку, способному предсказать их затмения.
— К середине тысяча шестьсот пятнадцатого года агенты «партии войны» и голландской Республики соединенных провинций присылали из Мадрида сообщения о том, что испанские корабли в Тихом океане начали пробные плавания с использованием таблиц Галилея. Эти таблицы, разумеется, были строго секретными. — Алетия шла на два шага впереди меня, показывая путь по затемненному коридору, ковер которого уже пропитался водой. — Галилей никогда не упоминал о них в своих трудах.
— И «Сакра Фамилиа» была одним из таких кораблей?
Она кивнула.
— Сэр Амброз читал все сообщения, поступавшие в Ламбетский дворец, и потому ему сразу вспомнилось название этого корабля, как только он прочел его на доске.
Преследуемые сэром Ричардом, мы выбежали из атриума и, шлепая по лужам и поскальзываясь, влетели в библиотеку, где уже скопилось так много воды на полу, что она наполовину скрывала книги, стоявшие на нижних полках, а множество более высоких полок угрожающе накренилось. Картонные переплеты сморщились, и страницы из тряпичной бумаги распадались на исходные составляющие — лен и пеньку. Я наклонился, надеясь спасти один из томов — тщетная надежда, — но Алетия настояла на продолжении бегства. Мы забрались на библиотечную галерею по приставной лесенке и втянули ее наверх, чтобы наши преследователи не смогли ею воспользоваться. Я уже слышал топот ног по ступеням, когда мы, преодолевая препятствия — обвалившиеся куски штукатурки и досок, — вбежали в лабиринт темных коридоров второго этажа.
— Значит, «Сакра Фамилия» нашла метод определения долготы в море?
— Нет, — сказала она, поспешно продвигаясь вперед. — В море метод Галилея оказался бесполезным. На суше или в обсерватории — да, лучшего метода пока не существует. Но в море он неприменим. Довольно трудно найти некую отдаленную точку отсчета, доступную лишь телескопу, на движущемся корабле, тем более при сильном волнении, которое далеко не редкость в Тихом океане. Юпитер можно наблюдать в течение нескольких секунд, но самое легкое покачивание палубы не позволит увидеть его спутники, даже если в объектив вставлены особые бинокулярные линзы, изобретенные Галилеем.
Как долго они еще будут за нами гоняться? Из-за оштукатуренных стен доносились звуки грома, а возможно, топот ног наших преследователей. Или то были потоки воды, прорывающиеся внутрь здания? Пол, казалось, содрогался у нас под ногами. Прихрамывая от боли, я ковылял за Алетией. Весь промокший и обессиленный, я, однако, не потерял интереса к ее рассказу. По всей вероятности, мне требовалось узнать тайну, из-за которой я чуть не погиб.
— Какое же открытие сделали на «Сакра Фамилиа»?
— Они открыли остров с бамбуком, сандаловыми деревьями и золотом, — пояснила Алетия, когда мы завернули за угол. Она взяла меня за руку. — «Сакра Фамилиа» села на мель возле одного из островов, куда ее занесли юго-восточные пассаты, что дуют между экватором и тропиком Козерога. А точнее, они обнаружили на острове не золото, а светлый плавиковый шпат — такие желтоватые кубические кристаллы, которые мусульманские алхимики называют markasita, их обнаружение всегда свидетельствует о наличии золота. Пинсон понял, что они оказались на том самом острове, что изображен на карте пражского издания Theatrum orbis terrarum. Понимаете, Пинсон прежде уже бывал на этом острове в тысяча пятьсот девяносто пятом году, во время последней экспедиции Менданьи, искавшей Соломоновы острова.
— То есть Менданье не удалось найти Соломоновы острова, зато он открыл Маноа?
— Или, возможно, это и был один из тех легендарных Islas de Solomon. Кто знает? Менданья и Пинсон могли принять этот новый остров, со всеми его сандаловыми деревьями и белыми шпатами, за то место, где находились копи царя Соломона. Но, как и исходные Islas de Solomon, никто не смог, конечно, повторно обнаружить новый остров, хотя его нанесли на карту в пражском издании Theatrum.
Завернув за угол, мы прошли мимо комнат с открытыми нараспашку дверями, за которыми, должно быть, сидели в свое время переписчики рукописей: там стояли двухтумбовые письменные столы со всем необходимым инструментарием. Полы в них также покрывала вода; стенные панели набухли, и потоки воды сбегали вниз по стенам. Затем коридор повернул налево. Куда же мы так бежали?
— Зато теперь можно было определить долготу этого острова, — сообщила мне Алетия, — Исходя из данных таблиц Галилея, определяется точное время, в которое эти затмения можно видеть в Толедо — именно там испанцы располагают нулевой меридиан. А Пинсон, в свою очередь, записал точные времена таких же затмений на этом острове. И вот, когда корабль починили с помощью сандалового дерева, он отправился обратно в Испанию, намереваясь снарядить новую экспедицию, которая должна была, используя соответствующие координаты, определить точное местоположение этого острова. Но конечно, «Сакра Фамилиа» так и не вернулась в Кадис. — Она сильнее сжала мою руку и после очередного поворота добавила: — И даже если бы она дошла до Испании, то ценность привезенных сведений была бы не дороже бумаги, на которой их записали. Всего лишь за год один из самых ценных документов христианского мира превратился в опаснейшую ересь, последователей которой сжигали на кострах.
Ведь если даже спутники Юпитера вызывали бурные споры, то об их затмениях и говорить нечего. Галилей обнаружил их только в 1612 году, через два года после обнаружения самих спутников. Он начал вычислять движения спутников в 1611-м, но сначала вместо таблиц Коперника использовал таблицы Птолемея, составленные на основе того предположения, что Земля — а не Солнце — является центром, вокруг которого вращается Юпитер. Только применив таблицы Коперника и исправив свои вычисления, он обнаружил, что луны попадают в фазу затмения, когда Юпитер заслоняет их от солнечного света. С тех пор предсказание этих затмений стало довольно простой задачей, но такие расчеты нельзя было делать с использованием Птолемеевых таблиц, которые вносили ошибки как в определение времени начала затмений, так и в положения каждого спутника относительно звезд в моменты начала и конца затмений. Следовательно, вычисление этих затмений — путь решения задачи определения долготы — влекло за собой признание учения Коперника, той ереси, за которую Джордано Бруно сожгли в Риме всего лишь двенадцать лет назад.
Последствия этих событий мне были известны достаточно хорошо: печальная история торжества невежества над разумом, традиций и предрассудков над новым открытием. В 1614 году Галилей написал письмо Кристине Лотарингской, пытаясь доказать, что учение Коперника не противоречит Библии. Эта попытка, однако, оказалась бесполезной, так как письмо попало в руки инквизиции, чей тайный механизм привел в действие Папа Павел V. Кардиналы из дворца Сан-Уффицо призвали Галилея в Рим и в результате допроса утвердились во мнении о еретичности учения Коперника. Это произошло зимой 1616 года, вскоре после того, как «Сакра Фамилиа» отправилась в плавание в южные моря. И следовательно, к тому времени, когда потрепанный штормами караван вернулся в Кадис, метод Галилея уже был не только непрактичным: он стал еще и еретическим.
— В другие времена подобную ересь не сочли бы столь катастрофической… Пойдемте, мистер Инчболд.
Мы продвигались уже почти вслепую. Целые стаи крыс шныряли и пищали под нашими ногами.
— Но в тысяча шестьсот шестнадцатом году война между католиками и протестантами уже маячила на горизонте. Рим не мог допустить возникновения новых угроз его ортодоксии, особенно если они исходили от такого выдающегося ученого, как Галилей. Хотя Исаак Казобон и развенчал миф о Гермесе Трисмегисте, но теперь герметические философы ухватились за эти новые и, по мнению папской курии, не менее опасные идеи. Астрономия, заменившая «герметический свод», стала самой большой опасностью для церковной власти. Галилея осудили, а его труды иезуиты включили в «Индекс», поставив их в один ряд с работами таких оккультистов, как Агриппа и Парацельс. Испанцы отказались от его проекта, вычисление долготы в море было запрещено, и поиск этого таинственного острова в Тихом океане прикрыли.
Вот такой конец могла бы иметь эта история, сказала Алетия, если бы весть о том, что не всё находившееся на корабле пропало, когда галеон «Сакра Фамилиа» разбился о рифы, не достигла Лондона. Существовали еще копии его мореходных карт. Сначала эти сообщения казались такими же иллюзорными и не заслуживающими доверия, как те, что касались самого острова, хотя со временем их подтвердили агенты из Мадрида и Севильи. Они утверждали, что «Сакра Фамилиа», покинув Веракрус, встретилась с остальными кораблями мексиканского каравана в Гаване, где капитан, устрашившись надвигающегося шторма, оставил на хранение зашифрованные копии своих карт в иезуитской миссии Сан-Кристобаль — со временем документы доставили в Севилью для надежного хранения в архивах Торговой палаты.
Но не только там нашли приют эти документы. В марте 1617 года, как раз когда флот Рэли готовился отбыть в Гвиану, эрцгерцог Фердинанд Штирийский заключил с королем Испании договор, по условиям которого Филипп признавал Фердинанда преемником императора Маттиаса в обмен на германский Эльзас и два императорских анклава в Италии. Принятое соглашение соединило два самых влиятельных рода Европы, два дома Габсбургов, один — испанский, другой — австрийский. Объединившись, две эти великие империи смогут теперь действовать заодно, будут делиться своими армиями и знаниями и, поступая таким образом, разобьют протестантов в Европе раз и навсегда. А их самым могущественным арсеналом являлись, разумеется, библиотеки.
Наверху прогрохотал кусок шифера, падая с крыши. Часть потолка обвалилась, обнажив чердачные балки. Вода, низвергаясь в эту дыру, преграждала нам путь. Откуда-то сзади донесся крик, и тут Алетия схватила меня за руку и протащила под этим водопадом.
— Но этот арсенал в Вене подвергался опасности, — задыхаясь сказал я, когда мы вышли из потока воды.
— Да. В семнадцатом году граф Турн уже стягивал войска протестантов к воротам Вены.
— И тогда эти документы увезли в Богемию?
— Вместе с множеством других сокровищ из Императорской библиотеки Вены. Всё поместили в архивы Испанских залов, которые уже содержали множество астрономических рукописей Тихо Браге наряду с запрещенными книгами Галилея, Коперника и прочих еретиков.
И именно тогда в Лондоне зародился новый заговор: послать сэра Амброза в Пражский замок в свите курфюрста Пфальцского. Перед ним поставили задачу спасти как можно больше книг из Испанских залов, но в первую очередь — найти эти мореходные карты и привезти их в Англию. Тогда, возможно, еще удалось бы выступить с решительными — хотя и несколько запоздалыми — coup de main против короля Испании.
— Но их план провалился, — сказал я. — Этот палимпсест так и не доставили в Ламбет-Пэлас.
— Нет, — ответила Алетия. — В последний момент сэр Амброз предал «партию войны».
— Предал? — Мы остановились перед закрытой дверью, которую Алетия попыталась открыть плечом. — Но почему? Не хотите же вы сказать, что сэр Амброз был испанским агентом?
— Нет, сэр Амброз как раз им не был. Но их было полно как в Военном министерстве, так и в Ламбетском дворце. Весть об этом палимпсесте уже достигла и Рима, и Мадрида.
Она сильнее надавила плечом на дверь, которая отказывалась шевелиться. Я услышал, как где-то за нами раздался бой напольных часов, сменившийся отдаленными голосами.
— Ven acqui![73]
— Vayamos por orto lado![74]
Дверь скрипнула и слегка сдвинулась. Я понял, что перед нами та самая дверь, что задержала мой выход со второго этажа в то давнее утро. Решив помочь Алетии, я подался вперед. Дверь скрипнула, приоткрываясь еще немного, изнутри повеял свежий ветерок и послышался ужаснувший меня звон — не шпор, как я подумал сначала, а пузырьков и склянок на полках лаборатории.
— Чудо уже то, что этот палимпсест все-таки сохранился, — сказала Алетия, когда мы чуть позже прорвались внутрь и направились в другой темный коридор. — А в итоге его хотел уничтожить сам сэр Амброз. Его последним желанием было, чтобы эта рукопись сгорела, хотя он рисковал жизнью, спасая ее.
Обломок штукатурки свалился с потолка прямо перед нами, и верхние балки скрипели от какого-то огромного напряжения. С некоторой опаской мы продолжали двигаться по коридору. Впереди, футах в десяти от нас, опять начала падать штукатурка.
— Пуритане хотели раздобыть эти документы, — сказал я, — Стэндфаст Осборн…
— Верно, — согласилась Алетия. — Как и испанцы. И сейчас очевидно, что наш новый министр тоже узнал об их существовании. Сэр Амброз утверждал, что они прокляты, и оказался прав, поскольку десять лет назад его отравили испанские агенты. Они боялись, что он предаст их Кромвелю, поскольку в те годы мы нуждались в деньгах, а пуритане готовились к Священной войне против короля Испании. К тому времени, разумеется, я уже знала, что сэр Амброз мне не родной отец, — понизив голос, добавила она. — Вот кто, конечно же, наши нынешние преследователи: испанские агенты. Именно они убили лорда Марчмонта.
На мгновение я усомнился, правильно ли понял ее слова.
— Сэр Амброз не был вашим отцом? Но…
— Да, — ответила она. — Это мой последний обман. Моего настоящего отца тоже убили испанские агенты — если на то пошло, это сделал Генри Монбоддо. Это произошло много лет назад. Понимаете, Генри Монбоддо был не только посредником по приобретению произведений искусства, но также и испанским агентом. Он узнал о существовании палимпсеста от своих шпионов в Праге. Но сэр Амброз уже догадался о его измене после провала Оринокской экспедиции, и поэтому он использовал моего отца как подсадную утку. Моя мать — она бежала из Праги вместе с моим отцом — умерла во время родов, и вскоре после этого…
— Ваша мать?
— …сэр Амброз забрал меня к себе и воспитал как свою дочь. Мне кажется, он считал это своим долгом, может быть искуплением вины за то, что предал моего отца вместе с теми алчными герцогами и епископами «партии войны». Мой родной отец был богемцем, тихим человеком, посвятившим себя книгам и учености. Но сэр Амброз чувствовал, что не может полностью доверять ему, поскольку тот был католиком.
За нами по лабиринту коридоров летело эхо голосов. Алетия ускорила шаги. Переступив через упавший гобелен, мы прошли комнату, за окном которой полыхали молнии. И в их отблесках я увидел вдалеке липовую аллею.
— Caray![75]
— Por Dios! Las aquas han subido![76]
Коридор повернул налево, и мы оказались в просторном, но пустом зале, также залитом водой. Мне показалось, что где-то сзади раздался пистолетный выстрел, сменившийся грохотом ломающейся балки. Посреди зала меня подвела косолапость, и я, поскользнувшись на плитах, шлепнулся в воду. В считанные секунды я вновь вскочил на ноги, уже не сомневаясь, что мы спешим к некой ужасной смерти.
— Я выросла в Понтифик-Холле, — продолжала Алетия, как будто не замечая никаких опасностей, — и именно от сэра Амброза я узнала все то, что знаю. Мы были как Миранда и Просперо на волшебном острове, в ожидании бури, что занесет на их берег захватчиков. Со временем он рассказал мне даже об этом палимпсесте и его истории. Ему хотелось уничтожить его, как я уже говорила, и мне нравилась эта мысль. Но мой муж, а потом и сэр Ричард — оба они отговаривали меня. Понимаете, такой документ просто необходимо продать. За него дадут десять тысяч фунтов. Сэр Ричард действовал как посредник. Я понятия не имела, кто покупатель, да меня это и не волновало. Я желала только избавиться от этого палимпсеста, вот и все. Я полностью доверяла сэру Ричарду. Мы собирались пожениться. Деньги хотели использовать на восстановление этого дома. Мы могли бы жить здесь вместе. — Она немного помолчала. Голоса и крики раздавались уже ближе. — Но теперь сюда прибыли враги, — произнесла она печально. — И теперь я знаю, что я…
Я не разобрал ее последних слов, поскольку стена рядом с нами начала рушиться и очередной обломок штукатурки, падавший с потолка, слегка ударил меня по плечу. Я отшатнулся и упал плашмя во второй раз. Весь мокрый и задыхающийся, я поднялся на ноги и на ощупь поискал руку Алетии; но к тому моменту она уже исчезла в конце коридора. И где-то в том конце, в лаборатории, множество склянок подавало сигнал тревоги.
И теперь я знаю, что я должна сделать…
* * *
Как говорится, от страха у нас порой вырастают крылья. Но он также, по утверждению Ксенофонта, сильнее любви. Должен признаться, что мысли о судьбе книг и Алетии уже вылетели из моей головы, я думал только о себе, когда бежал по коридору спустя пару секунд. Я отчаянно хромал, неравномерный перестук моих шагов эхом отдавался от промокших оштукатуренных стен, и вот наконец, резко затормозив, я оказался — нет, не в лаборатории, а на верхней площадке лестницы, осознав, что именно она должна вывести меня на верный путь. Увидев, куда попал, я испытал замешательство, сам не веря, что мне удалось так легко выбраться из лабиринта коридоров. Но мраморные ступени коварно скользили, и, когда я начал спускаться, у меня вновь закружилась голова. С верхней площадки я видел почти весь атриум, вся эта внушающая ужас живая картина смерти и разрушения предстала передо мной. Овальное зеркало в атриуме опрокинулось; в его потрескавшемся овале сейчас отражалась брешь в потолке, откуда упала люстра. Тут же лежала и люстра, словно покалеченная бронзовая птица. А потом я увидел Финеаса, он лежал на животе возле двери, широко раскинув руки.
Из лаборатории больше не доносилось ни звука — ни звона склянок, ни криков о помощи. У меня вдруг мелькнула мысль, не стоит ли вернуться за Алетией, но вместо этого я ухватился за перила и продолжил мой осторожный спуск. Я не готов умереть, уговаривал я сам себя, за грехи сэра Амброза Плессингтона. Через открытую дверь я увидел, что дождь наконец прекратился. Ветер утихомирился, и солнце напоминало о своем существовании. Какая насмешка судьбы. Когда я проходил по атриуму, под моими ногами хрустели осколки хрустальной люстры. У меня появилось ощущение какой-то беспомощности и зыбкости, я вдруг осознал, что это пол содрогается у меня под ногами. От распростертого тела Финеаса растекались ручейки крови, словно ветви ярких морских водорослей. Лишь успев обойти эту витиеватую живопись, я услышал крик и увидел одинокую черную фигуру, стоявшую в дверях библиотеки. Мой взгляд напоследок скользнул по рухнувшим полкам, по размокшим книгам, беспорядочно валявшимся на полу, и, не медля больше ни минуты, я выскочил через дверной проем навстречу тусклому дневному свету.
Я бросился к лошадям, которые, напуганные грозой и грохотом, беспокойно вскидывая головы, шарахнулись от меня в сторону. Наполовину затопленный парк разливался передо мной, отражая пылающее небо. Я собирался вскочить в карету и уехать, но не успел. Мой преследователь прокричал что-то по-испански, и его напарник появился из-за угла дома, около аптекарского огорода. Поэтому я побежал не к выходу, а к зеленому лабиринту. Может, я воображал, что смогу увести этих убийц от Алетии — выполнив в последний раз задание, ради которого меня нанимали. Ведь, скорее всего, именно мое поспешное бегство из Лондона и привело их в Понтифик-Холл! То была глупая и странная фантазия: мог ли я, с моей хромотой и одышкой, соперничать с преследователями, одним из которых, как я заметил, оказался сэр Ричард Оверстрит. Но, приблизившись к лабиринту, я отважился бросить беглый взгляд через плечо и увидел глубокую трещину в земле, открывшуюся за мной, — длинная траншея протянулась по парку от пруда с лилиями к запряженной четверкой карете.
Задним числом эта трещина кажется неким катаклизмом, чуть ли не библейским, — возможно, даже чудом, если чудо может быть таким нелепым и трагичным. Первыми погрузились в землю задние колеса кареты. Земля, содрогнувшись под ними, разъехалась, карета начала оседать назад — и наконец рухнула в ров, который мгновенно расширился до шести с лишним футом и заполнился вырвавшимся на свободу подземным потоком. Крупы лошадей на мгновение блеснули в воде — и исчезли из виду. Первый из моих преследователей, мужчина в черном камзоле, резко остановившись, замер на самом краю обрыва. Объятый ужасом, он потрясенно глядел на меня, пока буроватая почва уходила у него из-под ног и пропасть между нами становилась все шире. Его тоже поглотили челюсти обвала.
Я повернулся и продолжал бежать. Воздух пропитался терпким запахом бирючины, и когда я нырнул в этот лабиринт с горчичного цвета изгородями, их разросшиеся ветви оцарапали мне щеки и цеплялись за плечи — но потом я повернул налево, к еще более густому строю мокрых ветвей и острых листьев падуба. Под ногами плескалась вода. Через маленькую брешь в изгороди я увидел сэра Ричарда с пистолетом в руке, он бросился ко входу в лабиринт. Еще развилка. Поворачивая то направо, то налево, я держал путь в глубину, к центру этих извилистых коридоров. В какой-то момент, зацепившись за корень, я едва не упал, но зато обнаружил забытые в траве садовые ножницы. Прихватив их с собой — лезвия заржавели, но были еще достаточно остры, — я вновь бросился бежать.
Должно быть, через минуту или две раздался этот резкий, пронзительный вопль. Я как раз достиг центра лабиринта, крошечного пятачка земли, где стояла прогнившая от дождей деревянная скамья. Сэр Ричард с треском ломился по зеленым коридорам, и я понял, что он, должно быть, идет по моим оставленным в грязи следам. Еще один предательский след, оставленный мною. Вскоре он доберется до меня — если этот лабиринт сначала не уйдет под землю, поскольку она вздрагивала и сотрясалась, как пол в мастерской каменщика. Когда этот резкий крик прорезал воздух, я схватил садовые ножницы за рукоятки и, повернувшись спиной к подрезанным ветвям изгороди, приготовился к схватке. Взглянув поверх брустверов граба и самшита, я заметил в окне второго этажа одинокую фигуру.
Алетия все-таки добралась до лаборатории. Взобравшись на скрипучее сиденье скамьи, я увидел, что она широко распахнула окно и начала отчаянно жестикулировать. Это продолжалось всего лишь мгновение, поскольку едва оконные стекла блеснули в солнечном свете — невероятно, но солнце уже появилось, — как южное крыло дома начало оседать в разверзшийся ров. Со скрежетом искривлялись и ломались балки, следом начала обваливаться кладка из тесаного камня, и из-за них в тумане меловой пыли проступила библиотека, прежде чем она тоже начала оседать в эту необъятную бездну, увлекая за собой множество книг. Второй этаж несколько секунд повисел над провалом и тоже начал тяжело оседать вниз. Часть крыши качнулась вперед, сбрасывая шифер; затем треснули перекрытия, и наконец вся крыша рухнула в реку, подмывшую основы дома.
Оцепенев от страха, я по-прежнему стоял на скамье и смотрел на жуткое зрелище. Я услышал еще один вопль со стороны восточного фасада, который потрескался и обрушился лавиной камней, подняв облака пыли, вздымавшиеся и клубившиеся в воздухе, как дым от пушечного залпа. Это величественное сооружение с его открывшимися ячейками — каждая с мебелью и обоями — сейчас выглядело не более чем кукольным домиком или архитектурным макетом. Передо мной даже промелькнула лаборатория с разбитыми склянками на полках. Но Алетии нигде не было видно, впрочем как и никого другого. Спрыгнув со скамейки, я уже пробирался обратно к выходу из лабиринта, когда пол атриума разъехался и остатки кукольного домика рухнули вниз с таким грохотом, что я даже почувствовал, как эта звуковая волна ударила меня в грудь. Мне показалось, что я слышал еще один крик, но, должно быть, ошибся: это были лишь звуки терзаемого железа и ломающихся балок, последних обломков Понтифик-Холла, обрушивающихся в эти ненасытные воды.
Эпилог
Время закрытия. Темнота сгустилась за окнами и упала на широкий простор Темзы. Пролет древнего разводного моста застонал и поднялся, чтобы пропустить последние продубленные морскими ветрами паруса барок и смэков, идущих вниз по течению к седому взморью. Последние на сегодня экипажи проскрипели по заснеженной мостовой. Вот-вот там начнется тихая суета, свернется навес и захлопнутся ставни. Том Монк со своими тремя детьми суетится внизу, гремя ключами и подсчитывая выручку, а я сижу наверху в своем кабинете, в моем последнем пристанище, и, сжимая гусиное перо подагрическими пальцами, медленно оставляю на бумаге свои следы, выписывая эти строки. Внизу открывается зеленая входная дверь, и моя свеча оплывает от порыва ветра. Я получше пристраиваю очки на носу — мое зрение теперь еще слабее, чем в былые дни, — и с надеждой склоняюсь над столом. В камине посвистывают горящие угли. Наконец мой труд почти завершен. Не знаю, много или мало мне еще надо сказать. Что случилось в Понтифик-Холле в тот последний день, мне кажется, я так никогда до конца и не пойму — хотя я единственный, кто остался в живых, чтобы рассказать эту историю. Мое спасение было делом удачи и случая, а может, милостью святого Иоанна, покровителя и защитника печатников и книготорговцев. В конце концов я убежал от сэра Ричарда, или, вернее, он убежал от меня, бросившись обратно по садовому лабиринту в сторону пропасти, когда дом начал рушиться. Надеялся он спасти Алетию или манускрипт, мне не суждено узнать, поскольку его тоже поглотили воды. Я появился из лабиринта в тот момент, когда могучий поток уносил его прочь. К этому времени дом и все его содержимое утонули без следа, за исключением части крипты. Передо мной развернулась картина полнейшего и ужасного разрушения. Даже обелиск исчез. Не удалось мне также обнаружить никаких признаков Алетии, хотя я больше двух часов разыскивал ее, переворачивая обломки, и даже отважился побродить — почти по пояс в воде — по затопленной крипте. Множество раз ее отчаянный крик о помощи звучал в моих ушах. Однако я не нашел ничего, кроме нескольких книг, которые я старательно спасал, словно верил, что эти промокшие останки могут либо смягчить ее потерю, либо загладить мою вину.
Я брел назад в Крэмптон-Магна вдоль речного потока, что вился между заболоченными полями с маленькими островками деревьев и полузатопленными пшеничными скирдами. В общей сложности дорога заняла у меня несколько часов. Среди проплывающих мимо обломков Понтифик-Холла я увидел еще несколько книг из погибшей библиотеки, по большей части так сильно пострадавших, что я едва мог прочесть их названия. Но им я тоже не дал пропасть без следа и вытащил на сушу. Уже в темноте я добрел до «Прибежища пахаря» со своей промокшей насквозь ношей, завязанной в плащ, и поставил эти книги — всего семь штук — сушиться у огня в моей комнате. Много часов я провел без сна на лежанке, чувствуя себя как выживший после кораблекрушения человек, который выбрался на полоску берега и все еще лежит среди морских водорослей и обломков корабля, осторожно проверяя состояние своих членов и карманов, прежде чем встать на ноги и сделать первую вылазку в тот странный новый мир, куда его забросила судьба.
А мир, в который я отважился вступить, действительно был странным. Когда спустя четыре дня я доехал-таки до Лондона, то моя «Редкая Книга» показалась мне совсем чужой, изменившейся почти до неузнаваемости. Все было на своих местах, включая Монка, но сама лавка неуловимо изменилась, будто на каком-то атомном уровне. Даже привычные дела не в силах были рассеять это наваждение. Я нашел утешение — слабое, но и на том спасибо — в моих книгах. В те первые недели после моего возвращения я чаще всего изучал тома, спасенные из Понтифик-Холла, словно искал в их покоробленных, распухших страницах какую-то разгадку всей этой трагедии. Их шрифт стал тусклым, и поистерлась позолота на переплетах; даже экслибрис стал почти незаметным. Они по-прежнему стоят вместе на полке над моим столом, и из всех томов, имеющихся в «Редкой Книге», лишь эти семь экземпляров не продаются.
Но одна из спасенных книг имела особое значение. Экземпляр Anthologia Graeca — представлявший собой сборник отрывков греческих авторов, составленный в Константинополе Кефаласом и спустя несколько веков обнаруженный среди манускриптов Пфальцской библиотеки в Гейдельберге. Экслибрис отсутствовал, однако на форзаце было написано «Эмилия Молинекс», а среди страниц обнаружились подорожная и удостоверение о состоянии здоровья — оба документа на имя Сайласа Кобба, оба с печатями, проставленными в Праге в 1620 году. Поначалу эти имена невозможно было разобрать. Только со временем они проявились: буквы-«призраки», как Алетия назвала их, словно благодаря некой загадочной химической реакции, произведенной танинами и солями железа, проступили обратно на поверхность этих пергаментов. И именно из-за этих листков бумаги, нескольких нацарапанных слов в палимпсесте, я занялся кропотливым воссозданием событий.
Некоторые части этой загадочной истории складывались довольно легко, в отличие от других. О ней упомянули даже в большинстве «Ведомостей», которые сообщали о смерти сэра Ричарда Оверстрита, известного дипломата и землевладельца, недавно вернувшегося из изгнания во Франции. Его тело обнаружили спустя несколько дней в нескольких милях от Понтифик-Холла. Но нигде не упоминалось ни об Алетии, ни о трех испанцах. Их тела, я полагаю, так и не нашли; насколько мне известно, пропал также и злополучный палимпсест вместе с тысячами книг сэра Амброза.
И конечно же, сам сэр Амброз остается для меня такой же великой загадкой, как и прежде. Я частенько размышлял с тех пор, почему он решил предать своих союзников и спрятать палимпсест в Понтифик-Холле. Да, он был идеалистом; он верил в реформацию и распространение знаний, в то сообщество ученых, которое описывали розенкрейцеры в своих манифестах или Фрэнсис Бэкон в «Новой Атлантиде», поведавшей, как естественные науки вернут нас в Золотой век, к тому совершенству, что царило в мире до изгнания человека из Эдема. По своем возвращении в Англию сэр Амброз, должно быть, сильно разочаровался. Он обнаружил среди приверженцев «партии войны» не тех просвещенных ученых, которыми славились академия Платона или лицей Аристотеля, а скорее воров и убийц, таких же невежественных и порочных, как римские или мадридские. Европа балансировала на краю пропасти, а изучение природы вещей и поиск истины подменялись вульгарным соперничеством между протестантами и католиками, стремившимися одолеть друг друга. Наука больше не заботилась о совершенствовании мира: она стала служанкой предрассудков и святошества, а предрассудки и святошество служили грабежу и убийству. Видимо, сэр Амброз не захотел участвовать в этой грязной игре. Пусть таинственный остров и его богатства, если они существуют, лучше остаются неоткрытыми до тех времен, пока мир не станет достойным таких сокровищ: так, должно быть, решил он.
Однако не о сэре Амброзе и его книгах — и даже не о «Лабиринте мира» — больше всего мне думалось в те дни. Поскольку я осознал, что печалит меня именно судьба Алетии. Временами я позволял себе верить, что ей каким-то образом удалось спастись из-под развалин. Годы спустя я буду часто замечать за окном «Редкой Книги» знакомую женскую походку или осанку, женщину с узнаваемыми жестами или профилем, и испытывать на мгновение острое потрясение — а потом неизбежно разочарование и грусть. Алетия, как и Арабелла, вновь и вновь отступает в мир призрачных воспоминаний, все больше отдаляется и походит на плод воображения, как те затерянные в Тихом океане острова, которые даже сейчас, в 1700 году от Рождества Христова, никто еще так и не обнаружил. Со временем за моим окном перестали мелькать даже эти мимолетные напоминания, и теперь я вижу ее, если повезет, только в снах.
Примечания
1
Изготовитель перьев для шляп (фр.).
(обратно)2
Написанное остается (лат.).
(обратно)3
Все труды Платона (лат.).
(обратно)4
Труды Аристотеля (лат.).
(обратно)5
Новелл (фр.)
(обратно)6
«Поймандр» («Пэмандр») — «Пастырь мужей» (греч.).
(обратно)7
Подземный мир (лат.).
(обратно)8
Предметы искусств (фр.).
(обратно)9
Художественный шкаф (нем.).
(обратно)10
Римский император Рудольф II
Верховный самодержец Империи: царь
ПРИВЕТСТВУЕТ НАРОД (лат.)
(обратно)11
Придворный библиотекарь (нем.).
(обратно)12
Магический труд (нем.).
(обратно)13
Родовое поместье (нем.).
(обратно)14
Вольный торговый (имперский) город (нем.).
(обратно)15
Происходит прискорбное отделение богов от людей, остаются одни грешные ангелы (лат.).
(обратно)16
Эликсира жизни (лат.).
(обратно)17
История нового мира (ит.).
(обратно)18
Подчеркнутая любезность, экспансивная сердечность (фр.).
(обратно)19
Магия природы, или естественная магия (лат.).
(обратно)20
О шифрах (ит.).
(обратно)21
Шифровальные трактаты, где описываются способы тайнописи (фр.).
(обратно)22
Система Виженера (фр.).
(обратно)23
Статс-дама (фр.).
(обратно)24
«Под фиговым деревом лежит золото…» (англ.).
(обратно)25
Под фиговым деревом рог сокрыт золотой Нерожденной и тайной материи строй Он памятник на постамент вернет И в лабиринте мира путь найдет (англ.). (обратно)26
Новый Свет (лат.).
(обратно)27
Профессией (фр.).
(обратно)28
Неизвестная южная земля (лат.).
(обратно)29
<Труд> Фичино; Поймандр Меркурия Трисмегиста (лат.).
(обратно)30
Госпожа (обращение к незамужней женщине) (нем.).
(обратно)31
Мой господин (нем.).
(обратно)32
Подкладка (фр.) — шелк, кожа и т. п., наклеиваемые на внутреннюю сторону переплета.
(обратно)33
Об оккультной философии (лат.).
(обратно)34
Надежда ждет (лат.).
(обратно)35
Выморочное право (фр., юр.).
(обратно)36
Церковные анналы (лат.).
(обратно)37
Об истине христианской религии (фр.).
(обратно)38
Везем библиотеку правителя Палатината (т. е. Пфальца) (лат.).
(обратно)39
Скорбный путь (лат.), путь Христа на Голгофу.
(обратно)40
Гостиница (голл., нем.).
(обратно)41
Об обращении небесных сфер (лат.).
(обратно)42
Стрихнин (лат.).
(обратно)43
Господу Единому хвала и слава в веках (лат.).
(обратно)44
Destiny (англ.) — богиня судьбы, парка.
(обратно)45
Bloody Tower (англ.) — Кровавая башня.
(обратно)46
Lion’s Whelp (англ.) — молодой лев или детеныш льва.
(обратно)47
Изгнание торжествующего зверя (итал.).
(обратно)48
Богоматерь (исп.).
(обратно)49
Агенты-провокаторы (фр.).
(обратно)50
Благонамеренные (исп.).
(обратно)51
«Sacra Familia» (исп.) — «Святое семейство».
(обратно)52
Греческая антология (лат.).
(обратно)53
О шестнадцати загадках священных и проповеднических упражнений (лат.).
(обратно)54
Книга о жизни (лат.).
(обратно)55
Способ или образ действия, план (лат.).
(обратно)56
Мертвой головой (лат.).
(обратно)57
Гнев есть безумие на миг (лат.), пер. С. Гинцбурга.
(обратно)58
Смесь, здесь: мешанина (фр.).
(обратно)59
Золотой индеец (исп.).
(обратно)60
Всеобщая космография (лат.).
(обратно)61
Тихое море (лат.); на картах XVI в. так назывался Тихий океан.
(обратно)62
«Америка, или Новый Свет, новое описание» (лат.).
(обратно)63
«Соломоновы острова» (лат.).
(обратно)64
Соломоновы острова (исп.).
(обратно)65
«Рассказы», или «Сообщения» (исп.).
(обратно)66
Внезапного нападения (фр.).
(обратно)67
Торговым людям (исп.).
(обратно)68
Ураган (исп.).
(обратно)69
Охранная эскадра, конвой (исп.).
(обратно)70
Толедо, долгота, Юпитер (исп.).
(обратно)71
«О небе» (лат.).
(обратно)72
Крепости (исп.).
(обратно)73
Иди сюда! (исп.).
(обратно)74
Пошли в другую сторону! (исп.).
(обратно)75
Черт возьми! (исп.).
(обратно)76
Бог мой! Вода все прибывает! (исп.).
(обратно)

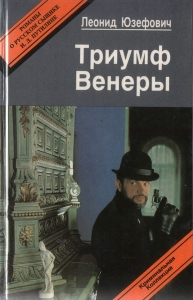

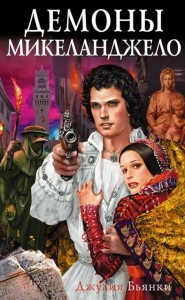

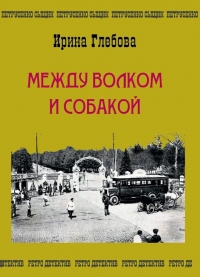

Комментарии к книге «Экслибрис», Росс Кинг
Всего 0 комментариев