Леонид Девятых Магнетизерка
Глава первая
Положение обязывает. — Абцуг, лоб и соник. — «Ваша дама убита!» — Судари, держитесь подальше от неудачников. — Сходили ли туда, куда их послал ротмистр Нелидов, антиквариус Иван Моисеевич Христенек и белесый лапландец? — Отцовы думки. — «И разделились Небо и Земь надвое…» — Тайник с «Петицей». — Что, жжется? — Извольте, пожалуйста, расписочку!
На Руси положение завсегда обязывает.
Крестьянину надлежит ходить в пестрядинной рубахе и портах, кланяться барину, держа кукиш в кармане, воровать лес в господских угодиях и сморкаться через ноздрю. А коли вырядишься ты в чесучовую поддевку, смазные сапоги да сменишь шлык на фетровую шляпу или, того чище, на треугол, то ты — дворовый человек или, бери выше, посадский, то есть уже не деревенский, но и не городской еще, а так, ни то ни се. Сие плохо, потому как каженный чин свою форму иметь должон и особенный манер, токмо ему одному свойственный.
Сословие мещанское, вышедшее из людей посадских, — люди вольные. И есть сословие сие срединная прослойка меж крестьянством и дворянами. Одеваются мещане чище крестьян и манеры имеют, потому что живут в городу; из них, по большей части, состоит мелкая чиновная сошка. Не гнушаются они и торговлишкой, хотя в гильдейном купечестве их немного, ибо не в купцы мещане устремляют свои мечтательные взоры, но в сословие дворянское. Последнее же есть соль земли, именуемой Россиею. Дворяне служат либо по гражданской части, либо по военной и добраться могут до чинов отнюдь не малых. Это люди грамотные, во многих искусствах и науках разбирающиеся и паче всего блюдущие уставы, честь и приличия, принятые только в их обществе.
Дворяне военные — категория особая, почитаемая более всего, а гвардия среди них есть самый шик, особливо кавалергарды и кирасиры — личный императорский конвой. Этим должно раздумывать мало, сомневаться редко, действовать решительно и смело и вести себя от других отлично. То есть разъезжать только на лихачах или держать личный выезд, проживать в бельэтажах, в театре иметь собственную ложу или первые места в партере, пить вино, иметь известные сношения с женщинами, как можно более числом, посещать собрания и непременно играть в карты в Английском клубе. Ибо ежели ты не играешь в банк или фараон, то какой из тебя гвардейский офицер? Положение обязывает.
Ротмистр Его Величества лейб-гвардии Кирасирского полка Андрей Борисович Нелидов по складу и наружности полностью соответствовал занимаемому им положению. Был он белокур и голубоглаз, росту двух аршин и десяти вершков, и сначала делал, а потом думал. Вот и второго марта восемьсот первого года вместо того, чтобы поразмышлять, садиться ли ему за карточный стол с господином Огниво-Бурковским или погодить, он вошел в азарт и ухнул в фараон годовое родительское содержание в тридцать пять тысяч рубликов. Знал ведь, что Михал Михалыч Огниво-Бурковский — известный в обеих столицах игрок, весьма искусный и везучий, подвизавшийся на сем поприще уже третий десяток лет! Ходила даже молва, что Огниво-Бурковский крайне ловко шельмует. Но Андрей Борисович в силу своего природного характера не дал себе труда принять во внимание сие обстоятельство, ведь за руку его противника никто не ловил, а посему слух сей можно было счесть совершенно ненадежным.
И теперь Нелидов, белый как мел, хмурился и ерзал в кресле, а расписки на тридцать пять тысяч аккуратной стопкой лежали напротив, у локтя Огниво-Бурковского. На нем был надет фиолетовый фрак, из-под коего выглядывали два жилета — бархатный цветом а-ля Лавальер, расшитый золотистыми звездочками, и белый пикейный. Жилеты, считавшиеся в то время одеждой революционной, а также низкие, с отворотами, сапоги входили в противоречие аж пяти параграфам императорского уложения о ношении статской одежды! И, словно в пику Нелидову, Михал Михалыч был румян и весел.
— Я хочу отыграться, — мрачно произнес Нелидов.
— Но у вас более нечего ставить на кон, — резонно заметил Огниво-Бурковский.
— Я надеюсь, вы, сударь, поверите мне в долг, — без всякой вопросительной интонации проговорил Андрей Борисович. — Клянусь честью, что я…
Говорок зрителей за спинами игроков смолк. Все знали, что Михал Михалыч не играет в ничем не обеспеченный долг, и ждали его решительного «нет».
— Если вы проиграетесь, то будете должны мне семьдесят тысяч, — вдруг заявил он.
— Согласен, — ответил Нелидов. — А если выиграю я, мы квиты.
Михал Михалыч будто поразмыслил некоторое время, а затем коротко бросил:
— Идет.
Принесли две новые колоды карт. Понтировал Огниво-Бурковский. Перемешав свою колоду, он вынул из нее короля и положил рубашкой кверху.
— Прошу, — протянул ему свою колоду Нелидов.
Михал Михалыч снял колоду банкомета, и игра пошла.
Первый абцуг прошел мимо: лоб и соник не совпали с картой Огниво-Бурковского.
Он положил себе новую карту — четверку. У Нелидова лоб — валет, соник — семерка. Опять мимо. После третьего пустого абцуга вокруг стола, где шла игра, стояла такая тишина, каковую обычно называют гробовой.
На четвертом абцуге у ротмистра Нелидова задрожали руки. Михал Михалыч казался внешне спокойным, но по испарине на верхней губе можно было догадаться, что и ему эта талия дается весьма непросто.
На шестой абцуг Огниво-Бурковский выбирал карту очень долго. Сомневался между девяткой и королем. Все же выбрал короля. И правильно сделал, ибо Андрей Борисович открыл лоб — девятку пик. Направо выпала двойка.
Нелидов выдохнул и велел принести себе еще вина. Выпил, затем глухо произнес:
— Ваше слово.
На этот раз Огниво-Бурковский сомневался между восьмеркой и дамой. Что он выбрал, не увидел никто. Положил карту и спокойно взглянул на Нелидова.
Андрей Борисович открыл лоб — восьмерка! Но Бурковский лишь чуть заметно усмехнулся. Лоб в руках банкомета пополз вправо. Показалась масть — черви, а затем карта доползла до половины. Дама!
— Ваша дама убита! — хрипло произнес Огниво-Бурковский.
Он открыл свою карту — дама пик. Все, кто стояли вокруг стола, дружно в один голос ухнули. Шутка ли! Выигрыш в семьдесят тысяч даже для Огниво-Бурковского весьма велик. На ротмистра Нелидова старались не смотреть: неудача — болезнь, милостивые государи, заразительная, можно подхватить, как инфлюэнцу от легкого чиха, даже если просто находиться рядом. А посему от неудачников надобно держаться подале.
— Надеюсь, вам хватит времени до завтрашней ночи, чтобы рассчитаться со мной? — с некоторой долей участия спросил Огниво-Бурковский. — Я буду здесь, в клобе.
Нелидов молчал, на нем лица не было.
— Ну, вот и славно, — улыбнулся Михал Михалыч и, поднявшись, вышел из-за стола. Хотя инфлюэнца картежных неудач вряд ли могла заразить его.
* * *
Слава богу, в кармане шинели нашлось серебро.
— На Садовую, дом Нелидова, — буркнул Андрей Борисович лихачу и уже занес ногу, дабы усесться в коляску, как вдруг возле него материализовалась небольшая тучная фигура, похожая на крупного жука. Даже в блеклом свете масляного фонаря над парадной Английского клуба видно было, что он одет в черное.
— Да-с, беда-а, — участливо промолвил «жук», пытаясь заглянуть в глаза Нелидову.
— Что вам угодно? — с раздражением отозвался Андрей Борисович, усаживаясь в коляску.
— Семьдесят тысяч! — продолжал сокрушаться незнакомец. — Где же их взять? Ваш батюшка при всем желании не сможет вам помочь, да и занять такую сумму за столь короткий срок вам вряд ли удастся.
— Пошел! — ткнул кулаком в спину вознице Нелидов.
— Погодите, господин ротмистр, я хочу сделать вам одно предложение, — заторопился «жук».
— Трогай! — рявкнул Нелидов, и коляска двинулась. Странный господин вначале пошел, а затем побежал следом.
— Я могу достать для вас деньги!
— Что?
— Я могу достать деньги, — с трудом переводя дух, повторил человек-«жук». Похоже, бежать за коляской ему было крайне затруднительно.
— Под сумасшедшие проценты, да? — желчно спросил Андрей. — Чтобы весь остатний век я был у вас в долгу?
— Боже упаси! Вовсе нет. Да остановитесь наконец! — почти взмолился он, тяжело дыша.
Нелидов окликнул возницу. И покуда «жук» шел к коляске, Андрей Борисович сверлил его тяжелым взглядом.
— Уф, — отдуваясь, произнес черный человечек, дойдя до коляски. — Одышка, знаете ли, и вообще, возраст…
— Вы кто такой? — резко спросил Нелидов.
— Ах, да, я не представился, — как бы спохватился «жук». — Прошу прощения. Антиквариус Иван Моисеевич Христенек. Да-с. Мой магазейн на Большой Морской улице в доме Гунаропуло. Там, стало быть, и проживаю, господин рот…
— Что вы говорили насчет денег? — прервал его Андрей Борисович.
— Я могу вам помочь.
— Каким образом?
— В собрании вашего отца есть книга. В старинном кожаном переплете. Толщиной с тетрадь. «Петица». Вы, верно, знаете?
Нелидов молчал.
— Нам нужна эта книжица.
— Кому это «нам»?
— Мне. И я готов купить ее.
— Отец не торгует книгами, — твердо сказал Нелидов. — И он никогда не продаст ни одну из них даже за семьдесят тысяч.
— Мы… Я готов дать за нее восемьдесят.
— И за восемьдесят тоже, — отрезал Нелидов. — Больше вы ничего не имеете мне предложить?
— Но вы можете сами взять ее, — скороговоркой, глядя в сторону, забормотал антиквариус. — А я дам за нее… восемьдесят пять, нет, девяносто тысяч. Батюшка ваш, конечно, будет недоволен, но зато вы сможете вернуть долг.
— Что?! — взревел ротмистр Нелидов, и Христенек лишь сморгнул, когда перед самым его носом рассек воздух палаш, похожий на средневековый меч. — Как ты смеешь делать мне подобные предложения, гнусный торгаш? А не пойти ли тебе на хер?
Последнее слово заглушил грохот копыт взявших с места лошадей. Но Иван Моисеевич расслышал его хорошо, ибо сказано оно было весьма выразительно и громко.
* * *
Поразительно, но все петербургские ростовщики, которых знал или о коих слышал Нелидов, отказали ему в одолжении денег.
— Денег в наличии нет, — твердили заимодавцы, избегая встретиться с ним взглядом. — Зайдите через недельку.
Андрей едва не взорвался, когда очередной ростовщик, разведя беспомощно руками, произнес ненавистную фразу:
— Простите, господин ротмистр, но в настоящий момент я не располагаю даже самой незначительной суммой, чтобы выручить вас. Все, буквально все роздал по рукам. И никто, положительно никто не торопится отдавать. Зайдите денька через два-три.
Весь день прошел в поисках денег, и только к вечеру в одном из ломбардов некий медлительный лапландец согласился ссудить Нелидову на месяц десять тысяч под рост в сорок процентов, в ответ на что был послан туда же, куда до того ротмистр предложил сходить антиквариусу Христенеку. Лапландец долго хлопал белесыми ресницами и понял наконец, куда ему надлежит идти, когда Нелидова уже и след простыл.
Оставались еще сослуживцы и приятели, но семьдесят тысяч были слишком большой суммой, даже если занимать ее частями. Словом, выхода не было, кроме того чтобы идти к отцу и просить помощи у него.
Андрей Борисович вернулся из офицерского собрания, где отобедал, и прямиком отправился в кабинет отца. Борис Андреевич, как обычно в это время, сидел за столом и что-то писал. Оторвавшись на мгновение от бумаг, он кивнул в знак приветствия сыну, как бы говоря: «Присаживайся и немного подожди, я сейчас освобожусь», и вновь погрузился в работу. Через четверть часа он наконец поднял голову и откинулся на спинку кресла.
— Ты что такой смурый? — спросил он, заметив мрачное выражение лица Андрея. — Случилось что?
— Я… — замялся Нелидов-младший и умолк, не зная, с чего начать.
Борис Андреевич некоторое время пристально и серьезно разглядывал сына, будто продолжая что-то обдумывать и решая какую-то важную проблему. Затем он как будто решился:
— Андрей, я давно хотел поговорить с тобой.
— Извольте, — беспомощно согласился тот.
— Прошу выслушать меня крайне внимательно и серьезно. Я — Хранитель, — четко выговаривая слова, произнес Борис Андреевич. — Хранителями были и твой дед, и твой прадед, и зачинатель нашего рода Нелид Светоярович, и пращур наш Ермила Велеславович. Именно он и Боян, что был сыном Буса Белояра, являлись первыми Хранителями Слова, Веры и Знаний и волхвами земель русских еще во времена Бусовы. С тех самых заповедных времен кто-нибудь из рода Нелидовых является Хранителем. А сам Ермила Велеславович был внуком Вещего Велеса, третьего демиурга. Тогда боги еще жили среди людей.
Борис Андреевич на мгновение умолк, на лице появилось строгое и торжественное выражение, и он продолжил:
— И разделились Небо и Земь надвое, ибо Сварог-Отец так изволил, Перун-Громовержец дал Силу, а Велес Вещий изрек Слово. И стало по Воле Сварога все сущее, Силою Перуна укрепилось, Словом же Велеса объявилось. И услышали то Слово боги и духи, небо, воды и твердь земная; услышали камни и рощения, люди и звери. И обрело Слово то форму, и тако глаголили язык и языцы, и стало Слово словами.
Старший Нелидов сделал небольшую паузу, переводя дух.
— Было же то Слово Имя паче всех имен и имяречий, но и оные, что следом за Словом шли, силу несли немалую. После забылись имена первые, силу свою растеряли, лишь самую малость сохранили. И сплел тогда Велес из слов вещие наузы, песни и сказы, речущие о Забытом, и вразумил своих внуков, боянов, волхвов и скоморохов прозреть за словами Слово, а за именами — Имя, дабы вспомнить Забытое, и сохранить его, и донести до людей его Свет. Всего, естественно, я сказать тебе не смогу. Пока, — со значением посмотрел Борис Андреевич на сына, — но когда ты обретешь Завет, ты узнаешь все.
— Отец, — с трудом дождавшись окончания сего странного монолога, произнес Андрей. Подобного рода речи он слышал уже не раз, но сию минуту, когда его занимали совершенно иные материи, они вызвали у него лишь досаду и раздражение. Нашел время вещать про пращуров и их заветы, когда тут долг чести!
— Я крупно проигрался, — единым махом выпалил Андрей.
— Опять? Сколько на сей раз? — нахмурился Нелидов-старший.
— Все свое содержание до конца года и еще тридцать пять тысяч.
— Ты с ума сошел! Семьдесят тысяч!
— Да, и я вас прошу…
— У меня сейчас нет и десятой доли от этой суммы, — поднялся из-за стола Борис Андреевич. — Ты мужчина, так что ищи выход сам, дружок. Залезай в долги, можешь продать мой выезд, я все равно никуда уж не езжу, наконец, кинься в ножки своему полковому командиру. И ежели твое пристрастие к карточным забавам заставит тебя страдать, может, это послужит для тебя хорошим уроком, и в следующий раз ты вначале подумаешь перед тем, как сесть за игорный стол.
— Вы отказываете мне в помощи? Вы, мой родной отец? — вспыхнул Андрей.
— Называй это, как хочешь. Да и нет у меня наличных денег!
— Но у вас есть большая коллекция древностей. Можно что-нибудь из этого заложить, продать!
— Продать? Заложить? — мало не задохнулся в негодовании Борис Андреевич. — Отдать в чужие руки или руки закладчика рукописи и книги, которые хранили и берегли пуще живота своего дед и прадед? И которые добыли и сохранили ценою собственных жизней твои далекие предки? Да знаешь ли ты, что это значит? Это значит оболгать и сделать бесполезными их жизни, наплевать на память о них! И это после того, что я тебе рассказал?! Впрочем, — Борис Андреевич как-то странно взглянул на сына, — у тебя, верно, имеется иное мнение. Вы, молодые, завсегда все лучше знаете и на все вопросы у вас готов ответ. Вопросы, ответов не имеющие, появляются с годами. — Нелидов-старший немного помолчал. Потом спросил: — Что же ты хочешь продать?
— Ну, хотя бы «Петицу».
— Что?! — вперил в сына пылающий взор Нелидов. — Да ты знаешь, кем может стать человек, прочитавший ее? Какими силами он сможет обладать?! Книга сия заповедная и вещая! А ты… Долой с глаз моих!
Борис Андреевич замолчал и бухнулся в кресло. На сына не смотрел и, кажется, не заметил даже, как он вышел. О том, чтобы посвящать его в Тайну и делать Хранителем, покуда не могло быть и речи. А он-то думал, что пришло время!
* * *
Андрей очнулся и огляделся, увидел пистолет со взведенным курком, перевел взгляд на початую бутылку рейнвейна. Он сидел за столом в своем кабинете, за которым и уснул. В голове стояла муть, как бывает, когда забудешься спьяну кратким сном, а потом вдруг проснешься, охваченный мрачными мыслями и ощущением гнетущей безысходности. Андрей вспомнил, как его выбранил и выгнал из кабинета отец.
Внизу, в гостиной, напольные часы пробили половину первого пополуночи. Андрей тяжело вздохнул и налил полный чайный стакан рейнвейна. Выпил залпом, набил трубку. О том, что его ждет, если он не отдаст этой ночью долг, старался не думать. Но не думать не мог.
Ежели он не найдет денег, в Английском клубе тотчас об этом узнают. Завсегдатаи наверняка уже заключили на него пари. Утром станет известно в полку, с ним тотчас перестанут здороваться, а суд чести полкового офицерского собрания обяжет его подать в отставку. И прощай, гвардия! В лучшем случае он сможет перевестись в армейский полк поручиком, но от бесчестия не скрыться и там!
Нелидов перевел взгляд на пистолет.
Вот что разом может решить все проблемы! Ведь это только кажется, что положение безвыходно. Выход есть! И заключается он в том, что коли нельзя поправить и сделать лучше, то всегда имеется возможность сделать хуже. Себе, другим, всем…
Он взял пистолет в руки и повернул дулом к лицу. Крупнокалиберный тяжелый «кухенрейтер» смотрел на него своим единственным темным зрачком. Спустить курок — и все.
— Застрелился, — скажут про него, — не смог отдать долг. Честный малый. Но такой молодой!
«Молодой!» Именно! Ему всего двадцать четыре года!
Андрей медленно положил «кухенрейтер» на стол, долил из бутылки вина, залпом выпил. Затем поднялся и, стараясь ступать как можно бесшумнее, вышел из комнаты.
Дверь в кабинет отца открылась без обычного скрипа. Андрей зажег шандал, стоящий на рабочем столе, и пододвинул его поближе к массивному креслу из орехового дерева. Затем сел в него и, взявшись за правый набалдашник в форме головы медведя, коими заканчивались подлокотники кресла, нажал на него и резко повернул по часовой стрелке. В подлокотнике что-то щелкнуло, и его верхняя часть отъехала вбок, обнажив углубление. Сей тайник Андрей обнаружил еще в детстве, когда, снедаемый любопытством, тайно проник в кабинет отца и проделал с головой медведя те же действия, что — он видел это однажды — проделывал отец. Тогда-то он и увидел книжицу в старинном кожаном переплете с нарисованной птицей с человечьим лицом, сидящей на дереве, растущем корнями вверх. Она называлась:
П Е Т I Ц А.
Книга была на месте. Андрей достал ее из тайника, закрыл его и, воровато оглядевшись, задул свечи.
* * *
Дворовый человек Христенека покорился только тогда, когда ротмистр Нелидов, выпив очередной полуштоф прямо из горлышка, слегка съездил его по уху, после чего лакей, отлетев сажени на полторы от ротмистра, положительно капитулировал.
Андрей Борисович, гремя ботфортами по доскам лестничного пролета и нимало не стесняясь сим обстоятельством в столь поздний для визита час, поднялся на второй этаж и вошел в гостиную. Прошел по персидским коврам, утопая в них по щиколотку, пнул носком сапога двери и вошел в спальню. Антиквариус уже проснулся и встретил Нелидова наведенным на него дуэльным испанским пистолетом.
— А, это вы, — выдохнув, произнес Христенек и опустил пистолет. Однако в глазах его светилась тревога.
— Именно, — вызывающе произнес Нелидов и, оглядевшись, плюхнулся в ближайшее кресло, грустно застонавшее под его тяжестью. — Деньги давайте, сударь!
— Вы принесли книгу?! — вскинулся антиквариус, и в его крохотных черных глазках вспыхнули багровые искорки. А может, это огонь единственной свечи от ночника отразился в его глазах.
— П-принес, — ответил с пьяной запинкой Андрей и похлопал себя по груди. — Несите деньги.
— Покажите, — поднялся с постели Христенек, глядя затаив дыхание, как Нелидов неверными движениями доставал книгу из-под мундира.
— Во, видел? — покрутил он книжицей перед самым носом антиквариуса.
Христенек протянул руку к книге, дотронулся до нее и резко отдернул ладонь.
— Что, жжется? — усмехнулся Нелидов и вдруг, топнув, гаркнул: — Ну что, долго я буду ждать?
— Сию минуту, — быстро моргая, ответил антиквариус и выскользнул из спальни. В своей длинной белой рубахе и ночном колпаке он походил на привидение из иллюстраций к романам Симеона де Круи.
Вернулся он через минуту, держа в руках пухлую пачку денег.
— Вот, прошу. Ровно семьдесят тысяч.
— Сколько? — вскинул на него Нелидов взор, сверкнувший весьма недобро.
— Семьдесят, — промолвил антиквариус, пытаясь улыбнуться.
— Ты же давеча говорил: «Девяносто», — нахмурился ротмистр и стал угрожающе подниматься с кресла. — Шельмуешь, мерзавец!
— Что вы! — попятился от него Христенек. — Я забыл. Да! А теперь вспомнил! Я и правда обещался вам дать за книгу девяносто тысяч. Просто сейчас у меня денег в наличности более нет, но к вечеру я, сударь, непременно их достану и, конечно же, передам вам. Вы не верите мне?
— Не верю, — отрезал Андрей, однако снова опустился в кресло. — Потому что ты — шельма.
— А вот это вы зря, — обиженно протянул Христенек. — Я же понимаю, что у меня могут возникнуть в связи с вами разные неприятности.
— И возникнут! — заверил его Нелидов.
— Ну, вот видите? Мне неприятности ни к чему! Так что к вечеру или, крайний срок, завтра я предоставлю вам недостающую сумму. Дайте книгу.
Андрей, не сразу, протянул ему «Петицу».
— Положите, пожалуйста, на диванный столик возле вас, — словно действительно боясь обжечься о книгу, произнес антиквариус. — Благодарю. А теперь извольте, пожалуйста, расписочку.
— Какую еще расписочку? — недовольно спросил Нелидов.
— В том, что вы получили от меня за книгу «Петица» деньги. Девяносто тысяч. Так положено.
— Я получил семьдесят, — язвительно поправил его Андрей.
— Да боже мой, получите вы свои двадцать тысяч, — не допускающим сомнения тоном произнес Христенек. — А расписку напишем сейчас, чтобы вам два раза не писать. А ну как потом у вас желания не будет или времени? Человек вы занятой.
— Черт с тобой, — согласился Андрей. — Значит так: «Я, нижеподписавшийся Его Величества лейбгвардии Кирасирского полка ротмистр Нелидов, настоящим удостоверяю, что…» Как дальше-то?
* * *
В Английский клуб, место отдохновения мужских душ и тел от домашней рутины, а подчас и женской тирании, Нелидов приехал уже во втором часу пополуночи. Мельком взглянул в клубный журнал, увидел, что он весь испещрен записями пари на него, в коих чаще прочих фигурировала фамилия Огниво-Бурковского. Сей господин спорил едва ли не с десятком клубных завсегдатаев, что Нелидов отдаст карточный долг. Его пари в сумме составляли несколько тысяч рублей.
«А ведь он опять выиграл», — подумал Андрей и прошел в клуб. В полупустой библиотеке, как обычно, дремали с газетой в руках несколько генералов. В говорильне было накурено и велись дискуссии о сроках начала Индийской кампании, войне с Англией и предполагаемом разделе Турции. В малой и большой гостиных шла игра.
Михал Михалыча он нашел за одним из игральных столов.
— Прошу прощения, что прерываю игру, сударь, — громко произнес Нелидов и выложил на стол перед Огниво-Бурковским пачку денег. — Семьдесят тысяч, мой карточный долг. Извольте принять.
— Благодарю вас, господин ротмистр, — слегка привстав, вежливо произнес Огниво-Бурковский. — Я нисколько не сомневался в вашей исключительной порядочности.
Он полез в жилетный карман и достал расписки Нелидова.
— Вот, прошу.
Андрей принял их и порвал в мелкие клочки.
— Не желаете ли талию в банчок?
— Нет, благодарю, — покачал головой Нелидов и пошел в буфетную.
Клубные завсегдатаи посмотрели ему вслед с нескрываемым уважением.
И только взгляд Огниво-Бурковского был насмешлив и немного презрителен.
Глава вторая
О том, какие сны снятся с похмелья. — Katalepsus. — Комплот из столичных светил. — Как лечат каталепсию в Малороссии. — Странный совет доктора Сторля.
От разорвавшегося саженях в пяти пушечного ядра Ярый встал на дыбы и повалился набок, подмяв его под себя.
— Живы, поручик? — склонился над ним секунд-майор Татищев, прикомандированный к их полку незадолго до штурма Дербента.
— Вроде жив, — попытался улыбнуться он, безуспешно стараясь высвободиться из-под дергающегося в предсмертных судорогах коня.
— Я помогу, — спешился секунд-майор, и с его помощью ему удалось кое-как выкарабкаться. Мундир был в крови Ярого, который, вряд ли сознавая, что с ним происходит, закатил в предсмертной агонии глаза и конвульсивно дергал ногами, словно все еще скакал вместе с хозяином в атаку.
— Вы ранены? — спросил Татищев, покосившись на кровь.
— Нет, это кровь коня.
Граната плюхнулась совсем недалеко от них, испуская дымок и угрожающе шипя. Сейчас она разорвется и брызнет десятком смертельных осколков в живот, грудь, лицо…
— Ложись! — крикнул Татищев и дернул его за рукав мундира, увлекая на землю. Граната, мячиком покрутившись в траве, рванула огненным пламенем, и гром от ее взрыва заложил уши.
Когда дым рассеялся и Нелидов открыл глаза, то увидел, что над ним склонилась рябая физия Ферапонта, старого камердинера отца. Старик дергал его за руку и дышал на него амбре из лука и квашеной капусты, от коего с похмелья очень даже запросто могло стошнить. Словно заведенный механизм, Ферапонт повторял:
— Поднимайтесь, барин, с вашим батюшкой худо. С барином Борисом Андреевичем худо, вставайте, барин.
— Пошел к дьяволу, — щурясь спросонья, отпихнул его Андрей. — Я нынче болен.
— Поднимайтесь, барин, с вашим батюшкой удар случился, — настаивал тот. — Беда!
Андрей рывком поднялся на постели, и в голове тотчас забили своими молотами безжалостные молотобойцы. Нелидов сжал обеими руками виски, кое-как при помощи Ферапонта накинул архалук и поплелся за камердинером.
Отец лежал на полу в библиотеке, красный, с раздувшимися щекой и шеей, и вращал глазами. Завидев Андрея, он заворочался и промычал нечто нечленораздельное, тщетно силясь что-то сказать. Затем затих, вперив свой горящий взор на сына. Пахло уксусом и альтонскими каплями, кои камердинер считал панацеей от всех хворей и напастей, ибо однажды они помогли ему избавиться от лютого запора урины.
— Когда это случилось? — присел Андрей около отца, не спускающего с него взора.
— С полчаса тому, может, чуть более. Барин прошли в библиотеку, затем громко закричали, а когда я прибег, они уже лежали на полу, — сокрушенно ответил Ферапонт. — Я велел Лизке принести альтонских капель, и мы дали ему их выпить. Сам он не мог, и мы влили их ему в рот.
— За доктором послали?
— Семка побег. Чай, на обратном пути уже.
Андрей поднялся с корточек, и ему в глаза бросился раскрытый тайник в подлокотнике кресла, где хранилась «Петица». Так вот в чем дело! Отец прошел в библиотеку, открыл тайник, не обнаружил в нем «Петицы», и его хватил удар. Что же он наделал?!
Липкий холодный пот пробил его с головы до пят. Какой же он мерзавец! Это он виноват в том, что случилось с отцом!
— Я перенесу его на диван, — хрипло произнес Андрей и, наклонившись, поднял отца с пола, стараясь не встречаться с ним взглядом. Ферапонт устроил в головах подушку, и Андрей бережно, как ребенка, положил на диван отца. Тот по-прежнему неотрывно смотрел на него, и от его взгляда Андрею было так муторно и тяжко, что впору было завыть.
* * *
— Katalepsus, — немедленно констатировал доктор Сторль, открывая свой пузатый саквояж с лекарскими инструментами. — Почти полный паралич и онемение нервов.
— Как это понимать? — посмотрел на доктора Андрей.
— Нервы, сударь, это такие жилы или, для лучшего объяснения скажем, веревочки в теле людей, кои выходят от мозга и суть начало и чувствам, и движениям всякого человека. Они у вашего батюшки онемели, то есть не побуждают никаких телесных движений. Зато он совершенно не чувствует никакой боли.
— Это опасно? — с дрожью в голосе спросил Андрей.
— Поднимите его повыше, — вместо ответа произнес Сторль, — надо, чтобы он не лежал, а полусидел. И оголите ему грудь. Так, — добавил доктор, когда Андрей все исполнил, — теперь все выйдите из комнаты.
— Но…
— Я что, плохо изъясняюсь по-русски? А мне казалось, что за тридцать лет пребывания в вашей стране я вполне прилично научился говорить, — желчно произнес Сторль, не удосужившись даже повернуть в сторону Андрея голову. — Да, и пришлите ко мне, пожалуйста, горничную почистоплотней.
Нелидов и камердинер вышли. Прислав доктору горничную Лизку, встали у дверей библиотеки, думая каждый о своем.
Андрей горестно размышлял о том, что не будет ему прощения, если отец умрет. А старый Ферапонт, незаметно кося глаза на молодого барина, сокрушался, что ежели умрет старый барин — что, конечно, шибко жаль, — то молодому господину он станет не нужон, и отошлют его в дальнюю деревню доживать свой век, и ладно еще, ежели не придется христарадничать.
Более часа прождали вот так, подпирая плечьми стены, а когда Сторль вышел, кинулись к нему с вопросами.
— Ну, что? Как он?
— Плохо, — объявил доктор. — Он волновался в последнее время? Переживал за что-либо?
— Он много работал, — неопределенно ответил Андрей.
— Что ж, удары случаются и от этого. — Сторль как-то странно посмотрел на Нелидова и, будто решившись, сказал: — У вашего батюшки произошел разрыв кровяных жил и, возможно, образовалась внутримозговая опухоль. Положение весьма серьезное, посему я намерен собрать у вас вечером консилиум из наших ведущих врачей и хирургических операторов. Часов в пять пополудни вас не стеснит?
— Да боже мой, делайте все, что считаете нужным, только спасите отца! — мало не воскликнул во весь голос Андрей. — Прошу вас, помогите ему!
— Я сделаю все, что смогу, — заверил его доктор. — Покуда я пустил у него кровь из шейных жил и велел вашей горничной прикладывать к голове примочки из холодной воды, уксусу и нашатыря. Чуть позже надлежит сделать ему ножную ванну из теплой воды и затем обмазать его икры горчичным тестом. И постоянно поить его яичною водою с лимонным или клюквенным соком. Вы поняли меня?
— Понял, — почти по-военному ответил Андрей и с несвойственным для него выражением благодарности посмотрел на доктора. — Спаси вас Бог, сударь.
— Благодарить после будете, — нахмурился тот, — ежели мы вашего отца на ноги поставим.
— А это возможно? — с надеждой спросил Андрей.
Но доктор лишь покачал головой.
Ровно в пять пополудни в спальне Бориса Андреевича, куда перенес его Андрей после осмотра доктора Сторля, собрались, кроме доктора, еще четверо столичных светил врачебной науки, при орденах, лентах и прочих отличиях статских генералов. Более двух часов они разглядывали язык Бориса Андреевича, щупали пульс, трогали его шею и затылок и проводили, прости господи, аускультацию сердца и легких, а потом еще с час задумчиво бормотали на латыни заумные речения, то и дело поглядывая в сторону больного. Андрей волновался, как мальчишка, вслушивался в непонятные ему фразы, следил за выражениями лиц докторов и старался поймать их взгляды. Но сделать какие-либо выводы относительно положения отца было невозможно, светила явно темнили, скованные его присутствием, и в ответ на его вопросы только разводили руками. Однако скоро они забыли о нем, благо Андрей пересел в дальний угол и более ничем не обозначал своего присутствия. Положение отца постепенно стало проясняться, что, впрочем, принесло Андрею вовсе не успокоение, но боль и тревогу.
— А я говорю, что надо продолжать пускать больному кровь, ставя пиявиц к его вискам и почечуйным жилам, именно почечуйным, ибо он подвергся геморрагическому удару, — безапелляционно заявлял один из светил. — Это более действенно, нежели пускать кровь из ручных или ножных жил.
— Вряд ли, профессор, это ему поможет, — хмурился другой. — Положение больного таково, что надо в любую минуту ожидать ухудшения его самочувствия и, возможно, судорог и колик.
— Зря вы сомневаетесь. Я вот вам сейчас расскажу один случай…
— Мы должны до последнего бороться за жизнь больных, даже если они безнадежны.
— Верно, профессор. Вы абсолютно правы.
— Да кто ж спорит? Бороться за жизнь больных, даже если это не принесет никаких положительных результатов — наш долг.
— Господа, мне кажется, мы забыли о промывательных. Это просто необходимо.
— Сомневаюсь я в необходимости промывательных и последующего вслед за этим выпоражнивания, мой дорогой профессор. Больной и так на грани жизни и смерти, а тут еще этакие добавочные потрясения. Господину Нелидову нужны полный покой и неотлучная сиделка, дабы наблюдение за ним было неукоснительно постоянным. Опасность для жизни, конечно, существует, но при надлежащем уходе и впускании через известное отверстие в теле лекарств и пищи посредством клистирной дудочки надежда на выздоровление вполне реальна и осуществима.
— Зря вы сомневаетесь. У меня вот был случай…
— Главное, не дать больному простудиться. В его состоянии, как мы знаем, весьма легко схватить простуду, а с ней и пневмонию. Пневмония его убьет, — глубокомысленно произнес один из профессоров.
— Да он и так умрет, безо всякой пневмонии. Следует признать, господа, что врачебная наука покуда не в состоянии справляться с подобного рода заболеваниями.
— Так значит, у меня был случай…
— В Малороссии невладение членами и даже полную каталепсию с отличным успехом лечат муравьями.
— Прошу прощения, профессор, как это — муравьями?
— А так, дорогой коллега. Идут в лес, насыпают живых муравьев вместе с их гнездами в мешки, ежели поражено все тело, либо наволоки, если, к примеру, не двигается рука или нога, и надевают потом эти вместилища вместе с муравьями на пораженные члены или все тело. Завязывают плотно, чтобы муравьи не могли расползтись, и не снимают два или три дня. Муравьи ползают по членам, кусают их, и эфирно-летучее начало, коим изобилуют эти животные, производит столь сильное возбуждение в теле, что больной начинает потеть, как от сильного жару в парной бане, после чего онемевшие члены понемногу начинают двигаться. Так можно повторять по нескольку раз, с перерывами, конечно.
— Вы прелагаете советовать господину Сторлю лечение муравьями?
— Я ничего не предлагаю, я только констатирую, что подобный факт существует.
— Господа, касательно промывательных и принудительного выпоражнивания, у меня был случай…
Врачебный консилиум окончился только часам к девяти. Когда светила, наговорившись и получив внушительные гонорары, ушли, доктор Сторль обратился к Андрею:
— Кажется, вы все слышали?
— Слышал, — отозвался тот уныло. — Этот, длинный и худой, совсем не верит в выздоровление отца.
— Профессор Малышев, хирургический оператор?
— Кажется, да.
— Он самый опытный. Впрочем, — Сторль виновато посмотрел на Андрея, — простите, но я тоже мало верю в благоприятный исход лечения вашего отца. Конечно, все, что будет в моих силах, я сделаю, но вы должны быть готовы к худшему. У вашего батюшки действительно геморрагический удар и кровяная опухоль в мозге. И рост ее мы остановить не в силах. В таком состоянии больные обычно не живут долее двух-трех дней.
Андрея после этих слов качнуло, и он едва не рухнул на пол.
— Неужели ничего нельзя сделать?
Он беспомощно посмотрел на доктора, как смотрят дети, когда не знают, как им надо поступить.
По своему обыкновению, доктор Сторль промолчал. А потом неожиданно произнес фразу, которую Андрей, не будь он в крайне подавленном состоянии, воспринял бы не иначе как издевку или, в лучшем случае, как весьма не умную шутку:
— Попробуйте обратиться к госпоже Турчаниновой.
— А кто это?
— Девица. Зовут ее Анна Александровна. Она иногда занимается врачебной практикой. По собственной методе. Имеются поразительные результаты.
— Она знахарка?!
— Не совсем. Попытайтесь уговорить ее помочь вам. Она живет в вашей же улице.
Глава третья
Как сочиняются стихи. — И кирасирские ротмистры иногда произносят витиеватые монологи. — Лгать девицам очень дурно. — Нелегкое признание ротмистра Нелидова. — «Я готова». — Воля умирающего — закон. — Всегда легче бороться с последствиями, нежели устранять их причину.
…Доброй быть от ней учиться; Слезы скорбных отирать, Лютой Парки не страшиться…— Госпожа, ротмистр Нелидов просит принять.
— Я не принимаю.
«Негу от нее вбирать… Нет, не годится. Нега слишком… такое… интимное словечко. Лучше жребий. Да, жребий… свой… благословлять! Ну-ка, что получается?
Нет иных путей ко щастью, Другом как существ всех быть, Всякою чуждаться страстью, В тишине с природой жить. Доброй быть от ней учиться; Слезы скорбных отирать, Лютой Парки не страшиться, Жребий свой благословлять.Еще одна строфа, и стих готов. О, когда бы в сем веденьи, нет, лучше в сем спокойстве посещенье грела Муз, всех душевных наслаждений… Наслаждений? Да что с тобой? Лучше все-таки удовольствий…»
— Он не уходит.
— Кто?
— Ротмистр Нелидов.
— Скажи ему, что меня нет.
— Я уже сказала ему, что вы есть, барыня, и велели мне сказать, чтобы я сказала ему, что вас нет и вы не принимаете.
— Ты сама-то поняла, что сейчас наговорила? — строго посмотрела Анна Александровна на горничную.
— Поняла.
— И что он ответил?
— Что ему «крайне важно вас видеть».
— Хм. Ладно, ступай к нему и передай, пусть ждет.
«…удовольствий, удовольствий… Заключила б я союз!»
— Итак… — произнесла она вслух и дописала к первым двум строфам третью:
О, когда бы в сем спокойстве Посещенье грела Муз! Всех душевных удовольствий Заключила б я союз.«Славно! Ну, что теперь скажет мадам Хвостова? Неужели Александрин отважится назвать эти стихи слабыми и лишенными жизни? Правда, саркастический князь Белосельский непременно обругает их „бабьими“… Но я и не мужчина вовсе! Мне положено писать „бабьи“ стихи. — Тут госпожа Турчанинова на миг задумалась. — С другой стороны, какая я баба — в своем затянувшемся девичестве?..»
Раздался бой часов. И вовремя, иначе Анна Александровна вконец бы запуталась и тем наверняка испортила бы себе настроение.
Часы на камине показывали без четверти одиннадцать утра. Почему этот настырный ротмистр не мог дождаться хотя бы одиннадцати и прийти в нормальное для визитов время? И что это за дело, если ему «крайне важно» ее видеть?
Анна дернула сонетку.
— Этот… Нелидов ушел? — с надеждой спросила она пришедшую на зов горничную.
— Нет, дожидают.
— Надо говорить не «дожидают», а «ожидают» или «дожидаются», — поправила ее Анна. — Повтори.
— Ожидают или дожидаются, — механически повторила горничная.
— Что ж, — вздохнула Турчанинова. — Проси.
Такие молодые люди, как вошедший в гостиную гвардейский ротмистр, никогда не обращали внимания на Анну. На нее вообще никто не заглядывался, хотя, присмотревшись к ней внимательней, можно было бы заметить, что у нее очень выразительные черные глаза и точеная фигурка с прекрасно очерченной грудью. Правда, одежда темного цвета, более похожая на монашеское одеяние, нежели на женское платье, начисто скрывала оба последних достоинства, и еще никто из мужчин не мог похвастать, что видел тонкую щиколотку Анны Александровны. Иначе же человеку опытному сей щиколотки было бы довольно для того, чтобы сделать вывод, что и ножка мадемуазель Турчаниновой неплоха, а попка аппетитна, как у большинства дам, имеющих тонкую щиколотку. К тому же портили впечатление копна черных волос, не всегда хорошо уложенных, и дурацкий берэт пунцового или малинового цвета, коий ей нисколько не шел, но она всякий раз надевала его на выход. Словом, Анна Александровна Турчанинова была, конечно, не брильянтом, но неким драгоценным камнем уж точно. Правда, без огранки и должного ухода. Малый же росточек и вовсе делал ее в своем одеянии почти незаметной, до коей многим, ежели не всем, не было никакого дела.
А ротмистр был настоящий красавец! Росту, верно, без пяди три аршина, косая сажень в плечах, голубые глаза. Настоящий русак! Таких красавцев, как он, только и встретишь, как в императорском дворце или на плац-параде. Впрочем, чтобы встретить подобного рода молодых людей, надобно бывать в свете, а Анна Александровна этого до крайности не любила. Ежели она и бывала в обществе, так только в литературном салоне своей короткой приятельницы Александрин Хвостовой, которая жила на набережной Фонтанки и именно там устраивала свои литературные вечера.
— Прошу прощения за ранний визит, сударыня. Мы не представлены друг другу, однако крайне важные обстоятельства, приведшие меня к вам, вынуждают несколько нарушить приличия, принятые в обществе, и вы, узнав о сих обстоятельствах, смею надеяться, поймете и простите мне мою невольную навязчивость.
Ротмистр сочинил этот витиеватый монолог, пока покорно ожидал появления Турчаниновой, и теперь выпалил его, как выученный накрепко урок.
— Позвольте представиться. Ротмистр Нелидов. Андрей Борисович.
— Анна Александровна Турчанинова.
— Очень приятно, — произнес Нелидов вежливую фразу, хотя его полные тревоги глаза говорили о том, что сие знакомство скорее нужно ему, нежели приятно. Впрочем, Анна Александровна не очень этому удивилась.
— Слушаю вас, господин ротмистр, — сказала она и села в кресло. — Присаживайтесь, пожалуйста.
Нелидов поблагодарил, но остался стоять. Верно, тревога и беспокойство, коими весьма заметно веяло от него, не позволяли ему сесть, чтобы изложить причину своего визита.
— С моим отцом случился удар… Положение его крайне тяжелое… и ему необходима помощь, — заговорил он. — Иначе он умрет… через несколько дней…
— Простите, но я не врач и…
— …у него нашли кровяную опухоль в мозге…
— …у меня нет лицензии от Врачебной управы…
— …она продолжает расти…
— …ее мне просто не дали, а это значит, мне не разрешено заниматься какой бы то ни было врачебной практикой…
— …и доктор Сторль посоветовал обратиться к вам…
— …Доктор Сторль?
— Да.
Собеседники наконец-то услышали друг друга.
— А вы не путаете? Доктор Сторль как раз был одним из тех, кто категорически воспротивился выдать мне разрешение на получение врачебной лицензии.
— Нет, не путаю, — устало произнес Андрей и опустился в кресло.
Анна Александровна впервые пристально посмотрела ему в глаза, беспокойные, мечущиеся, исполненные чувства вины и безысходности. Что ж, если доктор Сторль подал ротмистру надежду, сославшись на нее, так пусть это будет на его совести. Очевидно одно: она обязана хотя бы попытаться помочь.
— Расскажите, что случилось с вашим батюшкой.
— Это случилось утром, — Нелидов опустил голову. — Меня разбудил камердинер отца и сказал, что…
— Нет, — перебила Нелидова Анна. — Расскажите мне о причинах, вызвавших апоплексию.
— Боюсь, мне они неизвестны, — сказал ротмистр. Чувство вины выплеснулось из его глаз и заполнило комнату. Так показалось Анне. А то, что кажется, и то, что есть, — не две ли стороны единой действительности?
— Если я не буду знать причин, вызвавших болезнь, то лечение, скорее всего, будет бесполезным. Если попытаться устранить причины, вызвавшие заболевание, то можно бороться с болезнью более успешно, — заявила Анна.
— Но… я действительно не знаю, — глядя мимо Турчаниновой, промолвил Нелидов. — Отец в последнее время много работал с разными бумагами, и…
— Прощайте, — поднялась с кресла Анна. — И впредь прошу меня более не беспокоить.
— Но…
— Вы мне лжете, — жестко сказала она. — Поверьте, при желании я могу выведать у вас все, о чем вы сами давно забыли. Но это будет мое желание. Вашего я не вижу, хотя за помощью обратились вы.
— Что ж, извольте, — ротмистр опустил голову, и Анна увидела, как заметно пунцовеют его лицо и уши. Невероятно! Красавец гвардейский ротмистр, по виду гуляка и ловелас, умеет краснеть, словно молоденькая пансионерка! Верно, не весь еще мир находится под черной пятой зловещего Тартара, и есть, выходит, пусть крохотная, но надежда, что злу никогда не удастся завладеть всеми человечьими душами.
— Нет, не «извольте»! Не надо делать мне одолжения, — чуть не прикрикнула на него Турчанинова. — Я вовсе не собираюсь зубными клещами вытягивать из вас признания. Это должны сделать вы сами, к тому же охотно.
«Боже, откуда у меня этот менторский тон и желание всех поучать? Вначале горничную, теперь вот этого ротмистра? Неужели старею?» — подумав это, Анна вернулась в кресло.
— Я жду.
— Я выкрал из библиотеки отца очень важную для него книгу, — уставившись в узоры ковра на полу, медленно произнес Нелидов. — И когда он обнаружил пропажу, с ним случился удар.
— Зачем вы украли книгу?
— Я проиграл в карты большую сумму денег и, чтобы рассчитаться, взял ее из библиотеки отца и продал.
— Рассчитались? — не без презрительной нотки в голосе спросила Анна.
— Да, — тихо ответил ротмистр и поднял глаза. — Поймите, карточный проигрыш — это долг чести, и если бы я его не отдал…
— Вас бы погнали из гвардии, — закончила за него Турчанинова.
— Да, — еле слышно произнес Нелидов.
— Сколько вы проиграли? — поинтересовалась Анна.
— Семьдесят тысяч.
— Семьдесят тысяч? За эту сумму вы продали… взятую из библиотеки отца книгу? — удивилась Анна.
— Да.
— Что же это за книга?
— Она называется «Петица».
Что-то давно забытое пронеслось в ее мыслях и тут же улетучилось. Так иногда случается: приснится вам сон, и, проснувшись, вы тщетно пытаетесь его вспомнить, ибо он кажется чрезвычайно важным, но в сознании не сохранилось ничего, кроме каких-то неясных всполохов. Память отказывается служить вам, и вы, изрядно помучившись, оставляете попытки его вспомнить. Поэтому Анна не стала ломать голову над тем, где она могла слышать название книги и в связи с чем. Поняла, что вспомнить все равно не удастся.
Собралась Турчанинова скоро. Когда она, согласившись помочь, попросила Нелидова «подождать пять минут», ротмистр вздохнул и сел в кресло, невольно бросив взгляд на каминные часы и приготовившись к длительному ожиданию. Ведь известно, сколь «скоро» собираются женщины. Однако ровно через пять минут Турчанинова вышла.
— Я готова, — сообщила она, и Нелидов быстро поднялся, машинально отметив для себя некоторую странность наряда Анны Александровны. На ней было креповое черное платье, весьма свободное для ее щуплой позитуры, застегнутое до самого подбородка. И ежели бы не малинового цвета берэт, ее вполне можно было бы принять за монашку или послушницу, готовящуюся вот-вот принять постриг. Впрочем, одеяние госпожи Турчаниновой менее всего волновало Андрея Борисовича.
* * *
В спальне Бориса Андреевича Нелидова царил полумрак, большие окна закрывали тяжелые шторы — нелишняя мера, чтобы избежать сквозняков, могущих вызвать простуду, смертельную для организма, растерявшего все охранительные жизненные силы. Андрей Борисович, осторожно ступая, вошел в спальню. На опухшем лице отца живыми выглядели только глаза, и смотрели они на Андрея с укором и мольбой.
— Вот, познакомьтесь, Анна Александровна Турчанинова, — произнес Андрей, отходя в сторону и пропуская вперед себя Анну. — Она любезно согласилась врачевать вас, и теперь вам придется слушаться ее во всем.
Он попытался улыбнуться, но из этого ничего не получилось. Взгляд отца жег, не давая говорить.
— Добрый день, господин Нелидов, — сказала Анна и присела на краешек стула возле постели. — Я здесь, чтобы попытаться вам помочь.
Борис Андреевич продолжал неотрывно смотреть на сына.
— Он нас слышит? — прошептал Андрей.
Анна кивнула.
— Оставьте нас вдвоем, пожалуйста.
Нелидов-младший воспротивиться не решился и покорно вышел из спальни.
Если вы думаете, что Анна Турчанинова начала с того, что, оптимистически взглянув в глаза Бориса Андреевича, произнесла эдаким бодрым голосом обычную для врачевателей фразу типа: «Что, сударь, приболели малость?» или «Ну, и что это мы здесь лежим-полеживаем»? — то вы глубоко ошибаетесь. Ничего подобного не случилось и близко. Напротив, Турчанинова, даже и не глядя на больного, стала вдруг часто и быстро сжимать и разжимать свои кулачки, а потом потерла одну ладонь о другую, будто какой негоциант, свершивший выгодную сделку. Затем, ни слова не говоря, она поднялась и, наклонившись над ним, обратила пристальный взор прямо в глаза Нелидова.
Дальнейшие ее действия вызвали бы у возможного наблюдателя недоумение, а может, и нервический смешок. Приблизив ладони к лицу Бориса Андреевича и почти касаясь его, она стала совершать дугообразные движения изнутри наружу, как бы поглаживая лик больного. Затем она проделала те же манипуляции возле его груди, живота и ног.
Когда она произвела свои раппорты трижды, лицо Нелидова порозовело и опухоль с него стала спадать.
— Пошевелите рукой, — приказала ему Анна.
Борис Андреевич повиновался.
— Теперь ногой, — таким же тоном сказала ему Турчанинова.
Нелидов согнул и разогнул под одеялом ногу.
— А теперь скажите что-нибудь.
— Позовите сына, — вполне внятно произнес он.
— А вы сами разве не можете этого сделать? — не очень вежливо ответила Анна, не спуская с него глаз.
Борис Андреевич приподнялся и дернул сонетку. Тотчас двери спальни приоткрылись и в их проеме показалась голова горничной.
— Андрея Борисовича… попросите ко мне.
Мало не вскрикнув от радости, горничная пропала, и из-за двери послышалось:
— Барин разговаривают. Сами!
Через мгновение двери спальни распахнулись и вошел Нелидов-младший. Увидев отца порозовевшим и могущим двигать членами, он просиял и с благодарностью посмотрел на Турчанинову.
— Подойди ближе, — вполне внятно произнес Борис Андреевич.
Андрей приблизился.
— Ты взял книгу? — спросил Нелидов, глядя на сына и нимало не смущаясь присутствием Анны. — А вернее, похитил?
Нелидов-младший опустил голову. Он теперь был похож на напроказившего мальчишку, только проказы его стоили отцу здоровья, а может, и самой жизни.
— Как ты посмел?!
— Отец…
— Молчи.
Борис Андреевич подтянулся и присел на постеле.
— Верни ее, — жестко произнес он. — Заклинаю тебя. И если я умру…
— Отец…
— И если я умру, — повысил голос Нелидов-старший, — то это моя последняя воля. Ты понял?
Андрей молчал.
— Я тебя спрашиваю, ты понял?
— Понял, — еле слышно ответил Андрей.
— То-то.
Борис Андреевич устало откинулся на подушки.
— Благодарю вас, — обратился он к Турчаниновой, и его взгляд потеплел, — что вы предоставили мне возможность говорить. Думаю, это ненадолго, не так ли?
— Верно, — не стала лукавить Анна. — Это улучшение временное, и лечение ваше еще, по сути, и не началось. А сейчас вам будет больно, и я прошу вас немного потерпеть.
Тотчас после этих слов лицо больного исказила гримаса. Тело его вытянулось, и по нему прошли судороги. Продолжалось это недолго, и скоро члены Нелидова вновь омертвели, как и прежде. Живыми остались только глаза, но теперь они смотрели на Андрея требовательно и жестко.
— Пойдемте, ротмистр, — сказала Турчанинова. — Ваш отец сию минуту заснет. Да и хватит на сегодня. Прощайте, — кивнула она Борису Андреевичу.
Он в ответ лишь прикрыл глаза.
* * *
— Спаси вас Бог, добрая барыня, спаси вас Бог, — кинулся к Анне с поклоном дежуривший у дверей Ферапонт. — Каженный день теперь за вас буду Богу молиться, каженный день…
— За барина своего молитесь, — ответила старому камердинеру Турчанинова и долгим взглядом посмотрела на Андрея. — Где мы сможем поговорить?
— В гостиной, в моем кабинете, где пожелаете, — с готовностью произнес тот.
— И за барина буду молиться, и за вас, — продолжал бормотать Ферапонт, кланяясь.
— Пройдемте к вам, — кивнув камердинеру, сказала Анна.
Когда вошли в кабинет, Анна, отмахнувшись от предложения Андрея «располагаться», не стала присаживаться и сразу сказала:
— Положение вашего отца очень и очень скверное. Может статься, его лечение займет весьма длительное время, и еще не факт, что мне удастся поставить его на ноги.
— Но ведь вам удалось сделать так, что он стал двигаться и говорить! — с надеждой воскликнул Андрей.
— Это было несложно, потому что я обладаю определенными и весьма действенными практиками и у меня есть свой метод, — туманно ответила Турчанинова. — К тому же это было не лечение, а простой осмотр. А лечение вашего батюшки сможет иметь положительные результаты лишь в том случае, если будет устранена причина его заболевания.
После недолгой паузы она добавила:
— Вы говорили, что карточный долг есть долг чести?
— Именно так.
— Теперь у вас другой долг чести. Вы должны вернуть книгу. Только тогда причина болезни вашего батюшки будет устранена. Тогда проще будет справиться с ее последствиями. Вы поняли меня? — спросила она почти так же требовательно, как до того спросил Нелидова его отец.
— Понял, — ответил Андрей.
— Хорошо, — смягчилась Анна Александровна. — Я приду завтра. В это же время. Не провожайте меня, я помню, где выход.
Глава четвертая
О том, как у христенековского лакея собственный зуб оказался в собственной же ладошке, и о том, что не следует бить полициантов, когда они честно исправляют свои обязанности. — Домашний арест — наказание не из тяжелых, но все же наказание. — Секретное поручение лакею Семке. — Как свезло горничной Лизке, или любиться три раза кряду может не всякий. — Новый визит лекарки.
— Никого пускать не велено, — как показалось Андрею, с усмешечкой произнес лакей. — Иван Моисеевич ноне никого не принимают и велели сказать, что…
На сей раз лакей отлетел после удара Нелидова сажени на три.
— Где хозяин? — грозно спросил он.
Лакей молчал.
— Ну?! — Андрей сделал шаг в его сторону.
— Оне в столовой, — отползая назад, нечисто произнес лакей разбитым ртом и сплюнул в ладонь выбитый зуб.
— Смотри у меня, — буркнул ему Нелидов и пошел по коридору.
Иван Моисеевич трапезничали в одиночестве. Закуска и первое блюдо были уже откушаны, и антиквариус с умилением посматривал на фаршированную щуку под луковым соусом, когда двери в столовую распахнулись, и вошел ротмистр Нелидов.
— Вей! — прошептал Христенек и быстро сморгнул.
— Где книга? — рявкнул Андрей.
Христенек сморгнул еще раз.
— Я тебя спрашиваю: где книга?
Антиквариус сложил руки на животе и закатил глаза.
— И где двадцать тысяч?
— Какие двадцать тысяч? — быстро спросил Христенек и посмотрел на Нелидова.
— Те, что ты мне должен.
— Вы заблуждаетесь, сударь, я вам ничего не должен, — безапелляционно заявил Иван Моисеевич.
— Как это «не должен»?! — задохнулся Нелидов.
— А вот так. Вы, господин ротмистр, выпивши были, вот ничего и не помните. А я не пью-с.
— Ах ты, шельма. Мерзопакостник. Гад ползучий. Да я тебя сей же час придушу!
— И пойдете прямиком на каторгу.
— Из-за тебя-то?
— Из-за меня!
Христенек поднялся, выпрямился во фрунт.
— Я, между прочим, лейтенант флота в отставке! И попросил бы вас учитывать сие обстоятельство.
— Срать я на тебя хотел, гнида. Где книга, гад? Сказывай, ну!
Андрей сжал кулак и поднял руку для удара. Христенек втянул голову в плечи и вдруг облегченно выдохнул.
— Прекратить! — послышалось сзади.
Андрей обернулся. За его спиной стояли полицианты — квартальный надзиратель с помощником. В раскрытый проем двери столовой заглядывала ехидная морда лакея с распухшими брылами.
— Прекратите творить беззаконие, господин ротмистр, — сказал квартальный и шагнул вперед. — Служба в Его Величества лейб-гвардии не дает вам никакого права…
— Уйдите, это частное дело, — сквозь зубы произнес Нелидов.
— Какое же это частное дело, когда вы только что намеревались ударить господина антиквариуса? — возразил квартальный.
— Вот именно! — обрел голос Христенек. — Врываются, понимаете ли, в дом и требуют денег! Это не частное дело, господа полицианты, а форменный разбой!
— Каких таких денег? — насторожился квартальный.
— Позвольте, господин надзиратель, я вам все объясню. — Христенек с готовностью вышел из-за стола. — Вот и поручик ваш пусть послушают. Господин ротмистр продали мне третьего дня одну старинную книгу. За девяносто тысяч.
— Прошу прощения, за сколько? — недоуменно переглянулись квартальный с помощником.
— За девяносто тысяч рубликов, все как есть государственными банковскими билетами, — повторил Иван Моисеевич, предусмотрительно отступая от Нелидова. — Деньги господин ротмистр получили сполна, а сегодня пришли и требуют еще двадцать тысяч, каковые я ему будто бы должен.
— Так и есть! — воскликнул Андрей. — Книгу я продал за девяносто тысяч, а получил только семьдесят.
— Господин ротмистр, извиняюсь, говорят неправду-с, — продолжая пятиться, заверил Христенек. — Деньги они получили все и сразу. Они запамятовали, потому как были сильно, прошу прощения, подшофе. У меня расписочка имеется, в коей господин ротмистр собственноручно изволили написать, что…
Договорить Иван Моисеевич не успел. Андрей, сметя со стола фаршированную щуку, графинчик и прочие обеденные приборы, бросился на него, аки разъяренный лев, и порвал бы гадского антиквариуса в клочья, ежели б не полицианты. Христенеку все же слегка досталось, и его ухо стало похожим на сочный и румяный оладушек и даже будто засветилось, бросая на его побелевшее лицо светлые веселые блики.
Получили свое и полицианты. У квартального плетью повисла вывихнутая рука, а у его помощника случился на лбу от соприкосновения с локтем Андрея внушительных размеров лиловый бубон, каковые произрастают у блядствующих лиц, зараженных препаскуднейшей французской хворью, в пахах и под мышками. Кое-как удерживая ротмистра от дальнейших абмаршей, полицианты с трудом поволокли его к выходу.
— Я еще вернусь! — заверил в дверях Нелидов, мстительно сверкнув очами.
Христенек на это сморгнул и приложил к распухшему уху прохладную столовую ложку.
Сей инцидентус не имел бы никаких последствий для Андрея Борисовича, так как Иван Моисеевич решительно отказался писать ябеду на буйного кирасирского ротмистра. Однако налицо были телесные увечья, причиненные полициантам, к тому же квартальный надзиратель был из дворян и молод, а посему полон благородных амбиций. Сыграло свою роль также презрительное отношение военных к полицейским, за что тоже приятно было малость посчитаться. Поэтому о происшествии было сообщено частному приставу, пристав донес полицмейстеру, а тому ничего не оставалось делать, как доложить обер-полицмейстеру Александру Андреевичу Аплечееву, который в свою очередь попросил его превосходительство барона Павла Петровича фон дер Палена как-то наказать ротмистра Нелидова.
Как, вы не знаете, кто он таков?
Павел Петрович Пален, генерал-майор и курляндский барон, приходился сыном столичному губернатору графу Палену и являлся прямым начальником ротмистра Нелидова.
Утром следующего дня Андрея вызвали в полковую канцелярию к шефу.
— Что ж это вы безобразничаете, а? — строго спросил Павел Петрович, хотя в голосе его не было и намека на суровость. Как-никак, воевали, в девяносто шестом вместе ломали Персидскую кампанию и брали Дербент, да и старше генерал ротмистра был всего на один год. — Вот, обер-полицмейстер жалуется на вас, дескать, вы учинили драку в доме весьма уважаемого господина антиквариуса и покалечили двух полициантов. Что же это вы, Андрей Борисович, по пьяному делу, что ли?
— Вовсе нет, ваше превосходительство, — ответил Нелидов. — Трезв был, как мрамор.
— Так отчего ж драка?
— А мошенник этот антиквариус, господин генерал, мошенник и самый настоящий гнус. На двадцать тысяч меня нагрел, — стоя во фрунт, ответствовал Андрей. — И доказать теперь ничего нельзя.
— На двадцать? — вскинул брови Пален. — Однако!
— Именно, — подтвердил Нелидов.
— А с полицейскими зачем подрались? Все ж таки они на службе. При исполнении, так сказать.
— А пусть под руку не лезут, — просто ответил Андрей.
— Тут, брат ты мой, такое дело…
Палену стало неловко, и он опустил глаза.
— Я, как твой полковой командир, обязан отреагировать. Все же стычка с полицейскими!
— Я понимаю, ваше превосходительство.
— Вот и хорошо, что понимаешь. В общем, объявляю тебе домашний арест на месяц, нет, на две недели. Прости, брат.
* * *
Конечно, домашний арест — это не сидение под караулом в съезжем доме, а паче в остроге, да все ж наказание.
Делать визиты запрещено. Посещения балов, раутов, клубов, рестораций и прочих собраний и заведений, включая присутственные места и книжные лавки, невозможны, и даже просто прогуляться, скажем, по Невскому прошпекту или Летнему саду значило бы нарушить приказ. В общем: туда нельзя и сюда не можно.
Запрещалось также отправлять и получать какую-либо корреспонденцию, кроме газет и журналов. Правда, ограничение свободы передвижения не распространялось на посещение церквей, аптек и кладбищ, однако это еще более подчеркивало щепетильность сего наказания и вызывало немалую досаду. Да и ослушаться полкового командира и фронтового товарища, коий никогда не давал своих сослуживцев в обиду, означало окончательно и бесповоротно утратить его доверие.
Но как в таком положении вернуть книгу? И как ее вообще вернуть, когда нет даже денег, чтобы выкупить ее обратно?
Остается одно: думать, искать того, кто бы мог помочь.
Но кто может помочь в таком деле?
Тот, кто обладает достаточной властью, и тот, кого все боятся.
Но у него нет таких знакомых.
Андрей поднялся с оттоманки и подошел к окну. Серое небо, серые здания, посерелый снег меж лавками Гостиного двора напротив. Все серое, как тогда, после разрыва гранаты, когда он, брошенный рывком секунд-майора Татищева на землю, открыл глаза…
Есть! Татищев! Павел Андреевич!
Татищев теперь чиновник Тайной экспедиции розыскных дел при Правительствующем сенате, о коей ходили самые невероятные слухи. Говорили, что в архиве сей канцелярии есть сведения не только о государственных преступниках, злоумышлявших противу императорской власти и Российской державы, но также сведения о едва ли не всех живущих и уже покойных подданных империи, имеющих чины и звания, а то и не имеющих их, однако по той или иной причине попавших в сферу интереса Тайной экспедиции. Вот кого боялись все, или почти все, имеющие за собой хотя бы мало-мальские грешки. А что оные водились за антиквариусом Христенеком — в этом нет никакого сомнения!
Да, Татищев — именно тот, кто ему поможет!
Андрей отошел от окна и плюхнулся в кресло.
С Павлом Андреевичем они виделись в сентябре прошлого года. Случайно. Столкнулись на углу Мошково переулка. Кажется, Татищев теперь подполковник. Он был искренне рад его видеть.
Где же он живет? Ах, да, на Невской набережной, недалеко от Сената.
Андрей дернул сонетку. Еще раз. Затем третий. Наконец в дверном проеме появилась взъерошенная голова лакея Семки.
— Звали, барин?
— Где тебя носит, скотина?
— Дык, это…
— Сейчас я напишу записку. Отнесешь ее господину подполковнику Татищеву на Невскую набережную. Повтори.
— Сейчас я напишу записку…
— Болван! — воскликнул Нелидов и едва не запустил в лакея скляницей с чернилами, стоящей на бюро рядом с креслом.
— Истинно глаголете, барин, болван и есть, — с удовольствием согласился Семка.
— Тьфу ты, — выдохнул Андрей и принялся писать. Когда закончил, сложил листок вчетверо и протянул лакею.
— Вот тебе записка. Отнесешь ее на Невскую набережную, в дом… В общем, найдешь, где проживает подполковник Татищев, и отдашь ему лично в руки. Понял?
— Понял, барин, чего ж не понять, — деловито ответствовал Семка и свел брови к переносице, глядя на Нелидова преданными глазами.
— Тогда повтори.
— Вот тебе записка…
— Твою мать! Ты что, нарочно издеваешься надо мною! — почти простонал Нелидов.
— Никак нет, барин, — вытянулся перед ним Семка. — Лакеям над своими барами издеваться не можно, непорядок это. Вот господам над лакеями измываться — это пожалте! Это за милую душу! А ежели наоборот, то я, к примеру, не согласный.
Семка переступил с ноги на ногу и верноподданнически посмотрел на хозяина.
Андрей нервически сглотнул и, стараясь не встречаться с Семкой взглядом, сказал:
— Ладно, ступай. И чтобы мигом! Вернешься — доложишь.
* * *
— Что так долго, Семушка? — обдала его жарким дыханием Лизка. — Я уж стосковалась вся. Распалил девушку и смылся. — Она игриво улыбнулась. — Так приличные кавалеры не поступают.
— Барин звали, — степенно ответил Семка, благосклонно разрешая Лизавете обнимать себя. — Никак оне без меня обойтись не могут. Вот и теперя задание мне дали господину одному послание тайное отнесть. Дескать, ты, Семен, самый у меня смышленый, и никто, окромя тебя, с поручением сим не справится. Выручай, грит, иначе пропаду!
— Что, прям так барин и сказали? — восторженно захлопала глазами Лизавета.
— Ну, дыкть, — Семка задрал подбородок и посмотрел на Лизку сверху вниз. В глазах его прыгали смешливые бесенята. — Так что ты, покуда я барина выручать буду, обожди меня, я, чай, скоренько, а ты никуда не уходи, здеся меня жди. Поняла?
— Как скажете, Семен Сосипатрович, — послушно кивнула в ответ Лизка.
Когда Семка вышел из каморы под лестницей — места их любовных утех, — Лизавета вздохнула и смиренно уселась на кушетку.
Все же, как повезло ей с Семеном, какого парня бог послал, ну никоего сравнения с иными!
Как сладко ей с ним!
Как он умеет обниматься, ведь ноженьки после этого не держат! Руки его, ну прям везде побывают, все места ее заповедные потрогают-помнут, все складочки телесные проведают!
А какие он слова ей сказывает — заслушаешься, ласковые, какие, верно, только господа полюбовницам своим сказывают: и акциденцией назовет, и кондицией, и обструкцией. А еще — как это? — диареей! Красиво как звучит! Ну разве устоишь перед таким к себе обращением? Вот свезло так свезло.
И уж как любит ее, ведь аж по три раза кряду может любить без передыху. Нет, конечно, не совсем без передыху, чуток времени проходит в перерывах. А все ж кто еще на такое способен, окромя свет-Семушки?
И бережет ее, не хочет, чтоб до свадьбы забрюхатела, в ладошку ейную или на живот сласть свою изливает. В общем, свезло с мужиком! Несказанно просто, ей-богу. А и свадьба, что ж, верно, не за горами. Вот поговорит Семушка с барином насчет его согласия, и обвенчаются они. А иначе-то как?
А как он лихо делает у барина кальеру! Ему и двадцати пяти годочков еще нетути, а уж в камер-лакеи вышел. До камердинеров рукой подать, а камердинер есть кто? Камердинер есть второе лицо после барина и господин всем лакеям и дворовым.
Колоколец у двери известил о прибытии гостя.
«Семушка возвернулся», — подумала радостно Лизавета, но потом отклонила эту мысль: для Семена слишком рано.
«Верно, черная лекарка пожаловала, что вчерась приходила», — решила горничная и пошла открывать.
Она не ошиблась.
Глава пятая
Неожиданное послание. — Как доблестно воевал с турками и как потом попал в экспедицию Тайных розыскных дел капитан-поручик Татищев. — Гений сыска обер-секретарь Степан Иванович Шешковский и его методы дознания. — Исповедь ротмистра Нелидова. — «Баба-знахарка», или странная женщина Турчанинова.
Милостивый государь Павел Андреевич!
Обстоятельства мои сложились так, что я нахожусь под домашним арестом. Посему, не имея возможности посетить Вас лично, посылаю Вам сию записку с убедительнейшей просьбою как можно скорее посетить меня в доме моего отца для крайне важного разговора по делу, имеющему как разрешение вопроса жизни и смерти моего батюшки, так и спасение моей чести.
Ротмистр Андрей НелидовТатищев пожал плечами и надел мундир. Накинув шинель и треугол, вышел из дома. Собственного выезда у него, увы, не было, и не то чтобы не позволяли средства — поднатужившись, можно было бы и обзавестись, — просто не имелось привычки пускать пыль в глаза, да и служба обязывала поменьше быть на виду. Даже Степан Иванович Шешковский не имел собственного выезда и всегда брал извозчика.
Возков и саней становилось все меньше. Колеса карет и экипажей освободились от полозьев, что означало явную близость весны. Правда, еще несколько недель будет длиться погодная неразбериха: не зима, не весна, а невесть что, но все равно, даже в Северной Пальмире зиме приходит конец.
Павел Андреевич взял извозчика, коротко приказал:
— На Садовую, дом Нелидовых.
Тронулись. Ехать было недалеко, но все равно Татищев успел впасть в раздумье, которое всегда навевала на него дорога. Нет, он не стал думать о странной записке и о том, что случилось с ротмистром Нелидовым и его отцом, — зачем гадать, когда через малое время он все узнает от ротмистра. Думал он о покойном Шешковском.
Именно ему был обязан Татищев своей службой в Тайной экспедиции. Ему и, в какой-то степени, Юсуф-паше.
* * *
Куда может лежать дорога новоиспеченного поручика и недавнего воспитанника Шляхетского корпуса? На феатр военных действий. Надобно скорее испытать себя на прочность, узнать, чего ты стоишь, отличиться!
Татищев вспомнил, как в мечтах своих он, восемнадцатилетний поручик, представлял себе, как, приняв командование после ранения ротного командира, поднимает солдат на штурм Измаила:
— Ребятушки, за мной!
И бегут турки, мелькая полосатыми шальварами, побросав фески и свои кривые сабли! — мечталось ему. Он впереди всех со своими солдатами врывается в неприступную крепость, и после недолгой схватки сам Мехмет-паша, тоскливо уронив голову на грудь, отдает ему свою саблю.
Он представлен самому светлейшему князю Потемкину. Тот собственноручно вручает ему золотую шпагу с надписью «За храбрость». Барабанная дробь, сияющие лица сослуживцев, сухое рукопожатие генерала Суворова:
— Поздравляю капитан-поручиком, Павел Андреевич. Для меня честь служить вместе с вами!
Действительность оказалась совершенно иной. Покуда поручик писал рапорты с просьбою направить его в действующую армию, генералы Суворов, де Ривас, Львов и Кутузов взяли Измаил, завершив турецкую кампанию девяностого года. Война близилась к концу, а рапорты его не имели никакого продолжения.
Наконец в феврале следующего года пришел ответ: поручик Павел Андреевич Татищев направляется в Южную армию под командованием генерала князя Репнина, для чего ему, поручику Татищеву, следует прибыть при полном военном снаряжении в распоряжение генерала Кутузова в селение Тулча.
Что есть российские дороги в конце зимы и весной — про то разговор особый и места требующий весьма пространного, а пера скептического, ежели не сказать язвительного. Да и не дороги то вовсе, а едино направления к местам следования, не более. Словом, когда Татищев добрался из Петербурга до селения Тулчи, генерала Кутузова там уже не было: ушел на Добруж.
Поручик двинул в Добруж, но Кутузова не оказалось и там: он переправился через Дунай и пошел на Бабадагу, где, по данным полковой разведки, стоял большой турецкий отряд.
Делать нечего, поручик Татищев, растерявший к тому времени пустые амбиции и как-то разом повзрослевший, двинулся на Бабадагу. По дороге в одной из харчевен прямо на его глазах случилась драка: двое в платье румынских крестьян били третьего смертным боем. Благородный Татищев вмешался в драку, но было уже поздно: живот третьего был взрезан от пупа и до самой груди кривым турецким ятаганом. Убийцы убежали, и взрезанный остался умирать буквально на руках у Татищева. Он все время просил пить и тщетно пытался заправить вывалившиеся кишки обратно в живот. А потом, за несколько мгновений до предсмертной агонии, поведал Павлу Андреевичу, что при штабе командующего Южной армией генерала Репнина имеется некто капитан-поручик Касымбек, родом перс. Касымбек подкуплен лазутчиками Юсуф-паши с целью убиения генерала.
Раненый умер, а поручик Татищев отправился на Бабадагу.
Он нагнал отряд Кутузова пятого июня, когда генерал, днем раньше разбив турок у Бабадаги, шел на соединение с основными силами Репнина, форсировавшего Дунай у Галаца.
Татищева представили Кутузову, и, после назначения в первую роту полка князя Львова, поручик приватно доложил ему о заговоре против Репнина. Тотчас в ставку командующего армией ускакал порученец с пакетом, и, как оказалось позже, весьма вовремя: капитан-поручик Касымбек был взят днем того самого дня, вечером коего или ночью должно было случиться покушение на командующего, в чем злоумышленник после дознания с пристрастием и признался.
Седьмого июня, на заре, отряд генерала Кутузова, как обычно, поднялся на ноги от залпа пушек. Отслужив молебен и подкрепившись кашею, двинулись на Мачин, крепость Юсуф-паши, со взятием которой можно было принудить Турцию пойти на мирные переговоры и наказать ее за нарушение мира отнятием плодороднейших земель между Бугом и Днестром.
Подъехали к холму, густо поросшему лесом. За небольшой лощиной начинался большак.
Только ступили на него — саженях в сорока вьючный верблюд навстречу. Рядом с ним пешим ходом человек в чекмене и тюрбане; идет спокойно, будто совесть его чище снега на вершинах Карпатских гор. Ну, верблюд и верблюд, мало ли торговцев таковую животину имеют. А животина сия тем временем по приказу погонщика опустилась на колени, башку свою страхолюдную склонила, а на горбу — пушка легкая! И фитилек уже тлеет. А потом — мать честная! — как ахнуло громом, и кончилась военная кампания для поручика Татищева, потому как несколько ранений он разом принял, а одно так и вовсе тяжелое. Едва выжил. И ведь что обидно: когда дым рассеялся, ни верблюда, ни человека в чекмене уже не было, ибо при нужде скачет сия горбатая животина, коли разохотится, не хуже, нежели кавалерийская лошадь.
Полгода без малого провалялся Татищев в лазаретах да гошпиталях. А тут и война окончилась. Спрашивается: и где теперь геройство свое казать? К тому же получил поручик из армии бессрочный отпуск с причислением к Военной коллегии: в службе числишься, да не служишь, а посему ни чинов тебе, ни наград. Правда, в конце девяносто первого года чин капитан-поручика все же ему вышел. В канцелярии сказали, что сам его высокопревосходительство генерал-аншеф князь Николай Васильевич Репнин представление написал, памятуя о его заслуге в деле выявления шпиона Касымбека. Однако далее судьба представлялась весьма туманной. Покуда не пришли к нему двое дюжих молодцев и вежливо, но настойчиво не пригласили пройти в Тайную экспедицию, что находилась в Петропавловской крепости. Дескать, господин обер-секретарь Шешковский оченно хочут с вами повидаться.
Пошел капитан-поручик Татищев вместе с молодцами. И не такие, как он, на зов господина Шешковского хаживали, даже трусцой бежали, потому как только одно имя знаменитого гения сыска и дознания Степана Ивановича наводило ужас и леденило души людей неправедных и имеющих за собой разные грехи, а иногда и вовсе никоих грехов не имеющих. Конечно, коленки у капитан-поручика не тряслись, потому что никакой вины он за собой не ведал, однако в животе все же было как-то прохладно. Петропавловская крепость — это вам не Демутов трактир. К тому же известное дело: на Руси от сумы да тюрьмы зарока нетути.
Старик Шешковский чем-то был похож на графа Суворова: такой же орлиный профиль, такая же невысокая сухощавая позитура, в коей чувствовалась скрытая сила — тронь, тогда узнаешь! Он вполне добродушно встретил Татищева, тотчас отпустил молодцев, которые исчезли, словно дематериализовались — таковое словечко вычитал Татищев в одной скушной книге, валяясь целыми днями на продавленном диване.
— Вы, верно, гадаете, зачем, мол, понадобились старику Шешковскому, ведь за вами ничего такого нет? — после обычных приветствий произнес Степан Иванович, вглядываясь в Татищева.
— Вам виднее, господин обер-секретарь, — довольно смело ответил Павел Андреевич.
— Верно, нам виднее! — усмехнулся советник императрицы, очевидно имея под словом «нам» государыню императрицу Екатерину Лексевну и себя. — Но за вами действительно ничего особого не числится. Так, грешки молодости. Впрочем, у кого их нет?
Татищев промолчал.
— Да вы присаживайтесь, — указал рукой Шешковский на свое знаменитое зловещее кресло, о коем легенд ходило не менее, чем о его владельце.
Павел Андреевич сел и непроизвольно вцепился в кожаные подлокотники, на что Шешковский усмехнулся одними уголками губ.
— Не беспокойтесь, господин Татищев, это другое кресло, — произнес обер-секретарь серьезно.
Ну конечно! Тебе верить — что у фактора Зельца золото покупать. Такое же дутое, как твои заверения.
«Это другое кресло». Эти слова, да еще сказанные с учтивой улыбочкой, услышала несколько месяцев назад генеральша Кожина, а потом, когда села, подвинул Степан Иванович на нем какой-то рычажок, и замкнуло сие креслице генеральшу по рукам и ногам железными обручами. После в полу люк открылся, и стало сие кресло опускаться под пол, а генеральше и вовсе показалось, что в преисподнюю. А потом, когда только голова над полом осталась, освободили подпольные мастера генеральшу от кресла, подняли юбки, сняли кружевные порты и, покуда обер-секретарь читал голове генеральши мораль, высекли ее по филейным частям как сидорову козу. Затем надели порты, опустили юбки и, прикрепив к ней кресло, подняли, всю изреванную, наверх. К тому времени и Степан Иванович закончил моралитэ. Снова рычажок на креслице подвинул, и оковы железные прочь, как будто никакой экзекуции и не было. Да и то: зачем генеральше Кожиной понадобилось говорить в маскераде, что пора бы императрице угомониться и престать проводить в Эрмитаже свои интимные сатурналии и менять любовников как перчатки.
Кто ее за язык тянул?
Она что, «Указа о неболтании лишнего» не читала? Впрочем, как известно, незнание указов не освобождает подданных империи от наказания.
— Не извольте сомневаться, это другое кресло, — снова повторил Шешковский, словно прочитав мысли Татищева. — А пригласил я вас, милейший Павел Андреевич, с тем, чтобы сделать вам предложение.
«Руки и сердца?» — едва не вырвалось у капитан-поручика, но он вовремя спохватился. Так шутить с начальником тайной полиции, да и вообще с весьма пожилым человеком, конечно, не следовало.
— Я знаю о вас довольно, — начал издалека Шеш ковский. — Знаю, что вы добровольно отправились в действующую армию, чтобы участвовать в боевых действиях, и готовы были «положить живот свой за святую Отчизну», — процитировал строчку одного из рапортов Татищева обер-секретарь без малейшей иронии. — Знаю о вашей роли в деле гнусного предателя Касымбека, ибо ежели не вы, то, возможно, генерал-аншефа князя Репнина сегодня уже не было бы среди живых. Знаю о вашем чувстве справедливости, чему есть немало свидетельств со времен учебы вашей в Шляхетском корпусе. Знаю и о нынешнем положении, когда после тяжелого ранения вас, по сути, уволили из армии. Отсюда исходит и мое предложение: я хочу, чтобы вы служили у меня.
— То есть? — Татищев не понял, чего именно от него хочет Шешковский.
— Я предлагаю вам поступить на службу в экспедицию Тайных розыскных дел. Будете выполнять мои поручения.
— Боюсь, я вряд ли буду полезен в деле собирания компрометажа на знакомых мне людей. К тому же, я не считаю сию работу… — Павел Андреевич замолчал, подбирая подходящее слово.
— Пристойной, — закончил Степан Иванович. — Это вы хотели сказать?
— Примерно, да, — посмотрел прямо в глаза Шешковского Павел.
— Выходит, вы меня совершенно не поняли. Я вовсе не желаю сделать из вас доносителя, боже упаси. Секретных агентов и подобного рода помощников у меня вполне хватает, — усмехнулся Шешковский, — даже с избытком. Нет, мои поручения вам будут носить совершено иной характер.
— Какой же?
— Есть разного рода преступления, дознания по которым нежелательно поручать полиции. Не те нужны мозги и навыки. Выследить, арестовать — да, это можно поручить полиции. А вот выявить причину иных злоумышлений, да кто за ними стоит и кому это выгодно, а главное, привести к наказанию виновных — этим должны заниматься иные, специальные люди. К тому же подобные дела в интересах государственной безопасности обычно не подлежат разглашению, и утечка информации, имеющая место быть в полиции в масштабах весьма широких, здесь крайне нежелательна. Понимаете меня?
— Кажется, да, — не сразу ответил Татищев.
— Вот и славно, — заметил обер-секретарь и продолжил: — Скажем, дело княжны Таракановой или самозваного государя Петра Федоровича, то бишь Емельки Пугачева. Разве следствие по сим вопиющим фактам можно было поручить полиции? Или, к примеру, преступные деяния издателя Новикова, поющего под дудку французских масонов? Или выявление иных преступлений против Российской империи: государственная измена, странные убийства и исчезновения людей — разве с этим могут справиться полицейские? Такими делами занимается Тайная экспедиция. Кроме того, она осуществляет разведывательные и контрразведывательные функции, к чему со временем мы намерены вас привлечь. Соглашайтесь, Петр Андреевич, это весьма увлекательное занятие, уверяю вас.
— Но я причислен к Военной коллегии, — уже не очень уверенно произнес Татищев. — А экспедиция Тайных розыскных дел, насколько мне известно, состоит при Сенате.
— Это не должно вас волновать, — заверил его Шешковский. — Из Военной коллегии вы будете бессрочно прикомандированы к экспедиции, причем вам будет оставлен ваш чин и обеспечен служебный рост. Жалованье почти профессорское, полторы тысячи рублей в год, плюс квартирные. Неплохо, согласитесь.
— Неплохо, — был вынужден признать Татищев.
— Стало быть, вопрос решен, — подвел итог Шешковский.
Так капитан-поручик Павел Татищев сделался чиновником Тайной экспедиции, о чем впоследствии ни разу не пожалел.
* * *
Дом Нелидовых показался сразу, как только коляска повернула на Садовую. Подъехав к арочным воротам небольшой усадебки с двухэтажным особняком в двенадцать окон по фасаду, Павел Андреевич отпустил извозчика, поднялся по нескольким ступеням крыльца и дернул звонковую кисть.
Не открывали довольно долго. Наконец вышел розовощекий слуга, тот самый, что три четверти часа назад принес от Нелидова записку.
— Чем могу служить, господин… — начал он, но, подняв блуждающий взор (оторвали от Лизаветы в самое время, когда уже рук стало не хватать), распахнул двери: — Проходьте. Барин ожидают-с.
Павел Андреевич вошел в дом. Навстречу со ступеней второго этажа мало не бегом спустился Нелидов:
— Вы пришли! Слава богу! Пройдемте в мой кабинет.
— Мы, кажется, были на «ты»? — сказал Павел Андреевич, усевшись в кресло против Нелидова.
— Да, были, — кивнул Андрей.
— Тогда рассказывай.
— Понимаете… Понимаешь, много чего произошло.
И Нелидов рассказал Татищеву все, с самого начала. Как проиграл в фараон в клубе семьдесят тысяч, как повстречал антиквариуса Христенека, и как тот пожелал купить книгу, как он в полупьяном бреду и отчаянии совершил роковую ошибку — выкрал у отца «Петицу» и принес проклятому антиквариусу. Как отца хватил удар, и теперь он при смерти, и дабы лечение его могло быть успешным, надо вернуть книгу, чтобы устранить, как говорит госпожа Турчанинова, причину, вызвавшую несчастие. Он попытался это сделать, и вот теперь сидит под домашним арестом.
— Кто такая госпожа Турчанинова? — после недолгого молчания спросил Татищев.
— Это лекарка, согласившаяся пользовать отца.
— Бабка-знахарка? — удивленно вскинул брови подполковник.
— Все не так, как ты думаешь, — принялся уверять его Нелидов. — После ее посещения вчера отец какое-то время мог двигаться и говорить.
— Вот именно, «какое-то время», — проворчал подполковник. — А что говорят настоящие врачи?
— Что у отца имеется кровяная опухоль в мозге и жить ему осталось всего два-три дня. — Андрей замолчал, потом с усилием добавил: — Теперь уже меньше.
— Да, брат, наворотил ты делов, — раздумчиво произнес Павел Андреевич. — А к этому, как его, Христенеку зачем поперся? Ведь и ребенку ясно, что с этой книгой все было подстроено.
— Что значит «подстроено»? — в упор посмотрел на собеседника Нелидов, вдруг начиная понимать, к чему клонит Татищев.
— То и значит. Этот Христенек был в клубе?
— Не знаю. Может, был записан чьим-то гостем.
— Не Огниво-Бурковского, случаем?
— Ты хочешь сказать, что…
— Впрочем, решительно не важно, был антиквариус в клубе или не был, — не дал договорить Нелидову Татищев. — Важно то, что против тебя был настоящий сговор. Огниво-Бурковский обдирает тебя как липку — нашел с кем играть, святая простота! — и тут как бы случайно подворачивается со своим предложением продать книгу этот антиквариус. Ты посылаешь его в известное место, но предложение-то сделано! Хочешь не хочешь, но подспудно ты раздумываешь о нем. Когда же остальные лихоимцы отказывают тебе в займе, что тоже являлось условием сговора и было подстроено, ты, впав в отчаяние и усугубив его винными возлияниями, созреваешь для злоумышления и изымаешь — скажем так — из библиотеки отца нужную Христенеку книгу. Ничего не скажешь, ювелирная работа! Обложили тебя весьма грамотно и тонко, с учетом твоего взбалмошного характера и привычки сначала сотворить, а потом подумать. И вся эта акция была затеяна единственно ради того, чтобы заполучить эту книгу. Как она, говоришь, называется?
— «Петица», — мрачно ответил Андрей.
— Что, очень старинная книга?
— Ты не представляешь, насколько она старинная и что в ней написано. Отец говорил, что эта книга…
Дальше случилось весьма странное. Нелидов открывал рот и что-то, очевидно, говорил, но слышно ничего не было. Он был похож на большую рыбу в аквариуме, беззвучно открывавшую рот. Наконец он сам понял, что из него не исходит звуков, и «замолчал».
— Ну что же, ясно, — резюмировал сей оглушительный монолог армейского товарища Татищев.
И тут в кабинет постучали.
— Войдите, — вполне членораздельно произнес Нелидов.
— Я к вам… — Стремительно вошедшая в кабинет Турчанинова осеклась, заметив Татищева.
— Знакомьтесь, — поспешил представить их друг другу Нелидов. — Павел Андреевич Татищев, Анна Александровна Турчанинова.
Подполковник окинул пренебрежительным взглядом Анну. Турчанинова кивнула, и вовсе не глядя на Татищева.
— У вашего батюшки начался судорожный припадок, — сказала она, обращаясь к Нелидову. — Дыхание весьма хриплое, возможно, его будет тошнить. Велите, чтобы кто-нибудь из горничных всегда был при нем, даже ночью.
— Хорошо, — ответил Андрей. — Что еще от меня требуется?
— Вернуть книгу, — не задумываясь, ответила Анна. — И чем скорее, тем лучше.
Татищев с немым вопросом воззрился на Нелидова.
Андрей коротко кивнул ему и сказал тихо:
— Этим я как раз сейчас и занят. Вот, прошу Павла Андреевича, моего фронтового товарища, помочь мне.
— Смею надеяться, что господин Татищев будет в состоянии оказать вам помощь, — сухо произнесла Турчанинова, скользнув взглядом в сторону подполковника. — Для вашего отца это вопрос жизни и смерти. Что вы собираетесь предпринять?
Вопрос предназначался Татищеву. Подполковник молчал и, очевидно, не собирался раскрывать своих планов перед «бабкой-знахаркой».
— Можете не отвечать мне, — взглянула наконец на Татищева Анна. — Но к этому антиквариусу я пойду с вами.
— Нет, — решительно ответил Татищев.
— Да, — спокойно и быстро промолвила Анна, словно ожидала подобный ответ. — Возможно, вам понадобится моя помощь.
— Это в чем же, позвольте вас спросить? — не без язвочки в голосе поинтересовался Павел Андреевич.
— Вы думаете, что вы придете к антиквариусу, и он запросто отдаст вам книгу? — блеснула глазами Анна Александровна.
— Нет, мы так не думаем, — повернул голову в ее сторону подполковник. — Антиквариус, конечно, будет запираться. Поначалу. А потом добровольно отдаст нам книгу.
— А если ее у него уже нет?
— Тогда он скажет, где она.
— А если не скажет? — спросила Анна. — Что, примените пытки?
— Пытки запрещены законом, — холодно ответил Татищев.
— Я могу помочь вам разговорить его, — примирительным тоном произнесла Турчанинова. — А если я увижу, что проблем с возвратом книги у вас нет, я тотчас повернусь и уйду.
Нелидов вопросительно посмотрел на друга.
«Какая все же странная женщина эта Турчанинова», — подумал Павел Андреевич и молча пожал плечами.
Сей жест совершенно не означал «да».
Но не означал и «нет».
Глава шестая
Визит к антиквариусу. — Как Иван Моисеевич Христенек, «разложенный на атомы», сползал со стула и жалостливо пукал. — Новый хозяин «Петицы». — Проклятая щука. — Некто Катерина Дмитриевна. — Дай почувствовать женщине ее необходимость и считай, что любовная игра проиграна. — Ошибки, боль и исцеление влюбленного мужчины. — Намерения подполковника Татищева и… никаких дискуссий.
При виде Нелидова лакей Христенека непроизвольно поджался и прикрыл лицо руками, а на короткий вопрос ротмистра: «У себя?» лишь быстро кивнул.
— Доложи, что к твоему господину с визитом подполковник Татищев и ротмистр Нелидов с дамой, — буркнул лакею Павел Андреевич и пошел следом за Нелидовым, который ориентировался в доме антиквариуса, как в своем собственном.
— А не зря ли ты пошел со мной? — совершенно игнорируя Турчанинову, спросил Андрея Татищев. — Все же ты под домашним арестом и делать визиты тебе не положено.
— А кто об этом узнает? — буркнул в ответ ротмистр.
Павел Андреевич покосился в сторону Анны Александровны. Та фыркнула, промолчала.
Иван Моисеевич Христенек снова намеревался отведать фаршированной щуки — верно, в прошлый визит Нелидова антиквариус так и не возымел этого удовольствия. Он уже занес над щукой серебряный двузубец, выбирая самый сладкий кусочек, как в столовую буквально влетел лакей, за коим вошли Нелидов, плотный среднего роста подполковник с каменным лицом и субтильная дамочка в черном. Если бы не малиновый берэт, Иван Моисеевич несомненно принял бы ее за монашку. Сия троица, не чинясь приличиями, прошла к столу и остановилась возле Христенека.
— Ну! — грозно произнес человек с каменным лицом и в подполковничьих эполетах.
— Что, простите, «ну»? — тихо произнес Иван Моисеевич, с тоской поглядывая на щуку.
— А вы сами не догадываетесь? — еще более грозным тоном спросил каменнолицый подполковник.
— Н-нет, — быстро сморгнул Христенек.
— Огниво-Бурковский арестован и все нам рассказал, — чеканя каждое слово, заявил подполковник.
Антиквариус поежился и заерзал на стуле: от этого человека, чем-то смахивающего на разбуженного некстати медведя, ощутимо веяло угрозой.
— О ком вы говорите? — принудил себя посмотреть на каменнолицего Христенек.
— Вы не знаете? Это ваш соучастник, господин антиквариус. Подельник, как говорят прокурорские и судейские чины.
— К-какие с-судейские-е? — пролепетал антиквариус.
— Которые судить вас будут! — сказал, будто заколотил последний гвоздь в крышку гроба, каменнолицый.
— За что судить? — уже едва слышно произнес Христенек и шумно втянул в себя воздух. Ему было явно нехорошо.
— За мошенничество и преступный сговор нескольких лиц, принесший имущественный и моральный ущерб другому лицу и повлекший, к тому же, ущерб здоровью лицу третьему. Каторга, милейший, решительнейшим образом каторга, — мрачно констатировал Павел Андреевич. — А далее: Сибирь, острог, голод, чахотка, смерть.
Христенек обмяк и стал потихоньку сползать со стула, словно куль с мукой. Не придержи его за рукав Татищев, Иван Моисеевич, верно, сполз бы под стол.
— Вы куда это? — поинтересовался подполковник.
— А?
— От нас не скроетесь, — угрожающе молвил каменнолицый и закончил: — Кажется, я не представился. Экспедиции Тайных розыскных дел при Правительствующем сенате подполковник Татищев Павел Андреевич.
Иван Моисеевич жалостливо пукнул и натурально превратился в подрагивающее желе. Он был «готов».
— Верните господину ротмистру книгу. Немедленно, — приказал антиквариусу Татищев. — Деньги за нее будут возвращены, очевидно частями. Может быть.
— У меня нет книги, — булькнул горлом Христенек.
— А где она? — продолжал вести себя как прокурор с обвиняемым Татищев.
— Я ее отдал, — проблеял Иван Моисеевич.
— Отдали или продали? — спросил Татищев.
— Отдал.
— Значит, деньги, что вы передали господину Нелидову, не ваши?
— Не мои.
— А чьи?
— Господина адмирала де Риваса.
— Вот как! — удивленно поднял брови подполковник. — Выходит, это вы ему передали книгу?
— Ему, — выдохнул антиквариус и в изнеможении прикрыл глаза.
— Хорошо, — чуть смягчившись, произнес Татищев, — мы покидаем вас. Вам будет зачтено, что вы не увиливали от моих вопросов и не пытались ввести следствие в заблуждение. Однако я просил бы вас повременить покуда с выездом из города.
Когда страшные визитеры удалились, Христенек еще с четверть часа полулежал на стуле, бездумно уставясь в потолок. Потом подтянулся на стуле, сел нормально. Взгляд его упал на щуку, и его едва не стошнило прямо на фарфоровое блюдо.
* * *
— Ну, вы… ты, Павел Андреевич, ма-астер, — протянул восхищенно Нелидов. — Разложил этого Христенека прямо на…
— Атомы, — подсказала ротмистру Турчанинова.
«Шибко умная, что ли»? — едва не сорвалась с языка Татищева расхожая в простонародье фраза. Он даже кашлянул, чтобы, не дай бог, не произнести ее вслух. Ведь умная и образованная женщина, помимо всех плюсов, имеет один значительный минус: рядом с ней надобно быть тоже умным и образованным.
Однажды он уже был знаком с умной дамой — Катерина Дмитриевна ее звали, — и хоть соответствовал ей вполне, но намучился с нею по самую маковку. Возможно, образованность и прочие духовные достоинства Катерины Дмитриевны являлись злом наименьшим по сравнению с настоящей бедой, произошедшей с Павлом Андреевичем. Татищев влюбился. И ведь знал: нельзя даже на миг дать почувствовать женщине, что не можешь без нее жить, ибо как только исчезнут у нее в этом сомнения — начнутся муки. Так всегда: чем больше любит один человек другого, тем второму меньше этой любви хочется, ведь первый никуда не денется и сделает все, чего ни пожелает второй. Если нет препятствий — тает страсть и исчезают искания души. У того, кто любит больше, и страсти, и исканий в избытке, но тепла получает он все меньше и меньше. И приходит боль, и начинаются муки.
Татищев страдал, метался, пытался вылечиться, но Катерина Дмитриевна время от времени вновь была с ним ласкова, покорна и уступчива, давая ему ненадолго торжествовать победу. Потом начиналось все сначала: она отдалялась и Павел Андреевич заглатывал сей любовный крючок все глубже, а боль и муки делались все нестерпимей.
Когда власть ее над ним стала безграничной, Татищев дошел до края и начал бороться. Он вытравливал из себя любовь с мясом, кровью и слезами. Долго и мучительно.
И вытравил.
С тех пор Татищев был с женщинами не особенно приветлив.
— Вот видите, сударыня, ваша помощь совершенно не понадобилась, — съязвил Павел Андреевич.
— Понадобится в следующий раз, — самоуверенно парировала она.
— А вы полагаете, он будет, следующий раз?
— Нам необходимо нанести визит господину адмиралу де Ривасу, не так ли?
— Нам? — снова искренне удивился Павел Андреевич. — Мне. Одному, — добавил он, заметив, что Нелидов собрался что-то возразить. — К тому же я должен подготовиться к этому визиту.
— Вы хотите узнать больше про адмирала, — догадалась Турчанинова.
Татищев взглянул на нее и ничего не ответил. Не хотел объясняться с этой дамочкой, говорить, что намерен посетить архив Тайной экспедиции. Но как она точно все схватывает! Прямо на лету.
— Может, все-таки я пойду с тобой? — спросил Нелидов. — Этот адмирал фигура непростая, как я слышал.
— Право же, господин подполковник, — попыталась встрять Турчанинова. — Ну, что вы какой… упертый!
Павел Андреевич бросил на нее испепеляющий взгляд и нахмурился: ведь он сказал же, что пойдет один! Значит, так оно и будет. Поэтому уже с явным раздражением Татищев как отрезал:
— Все. Прения и дискуссии по этому вопросу отменяются.
Глава седьмая
Как чрезвычайно далеки от жизни некоторые романисты и романистки. — Пиратские отпрыски, или характер и поступки людей зачастую определяются местом их рождения. — На что смотрели пустые глазницы контрабандиста Сильвио Касторе. — Лейтенант русского флота Иосиф Михайлович де Ривас. — Архивные изыскания подполковника Татищева, или подноготная адмирала де Риваса.
Иногда жизнь выкидывает такие коленца, что куда там до них разным Августам Лафонтенам, Сэмюэлям Ричардсонам, Мариям Коттен и Жанам Батистам Луве де Кувре с их семейными и чувствительными романами о Клариссах, Матильдах, Ловеласах и Фобласах! Настоящие, невыдуманные истории, кои время от времени преподносит нам жизнь, куда романтичнее, неожиданнее и хлеще писательских измышлений и фантазмов.
Взять хотя небезызвестных братьев Орловых. Или знаменитого князя Потемкина. Или генералиссимуса Суворова.
Или вот, сподвижника и приятеля обоих светлейших сих князей, адмирала Иосифа Михайловича де Риваса.
Да про таких, как он, и десятка романов будет мало, а может, и целой сотни. Жизнь их полна столь причудливыми кунштюками, что перьев не хватит все описать.
По чину старше адмирала де Риваса только канцлер да генерал-фельдмаршал. Еще выше, милостивые государи, идет уже сам государь император да следом за ним Господь Бог.
Кому бы могло прийти в голову, что Хосе, сын дона Мигеля де Ривас-и-Бойенса, управляющего королевской Военной канцелярией, окажется в русской службе?
Родился будущий русский адмирал в Неаполе летом 1749 года. Детство провел в ампирных и необарочных залах дворца и на террасе с фонтанами: должность отца и происхождение его от дочери английского короля Эдуарда I Елисаветы сделали свое дело.
А что такое, милостивые государи, детство в залах дворца?
О, это совсем не то, что детство в рыбацких поселках острова Капри, расположенного в южной части Неаполитанского залива, в коем было полно внуков и правнуков пиратов, что не единожды высаживались на Капри отдохнуть и расслабиться и чувствовали себя здесь как дома. Кто мог вырасти из таких детей? В лучшем случае какой-нибудь рыбак по имени Доменико или Адриано, обремененный семьей в двенадцать человек и проклинающий день своего рождения. В худшем же — отчаянный контрабандист Сильвио Касторе, которого нашли в одну из полнолунных ночей у фонтана Непорочного зачатия Девы Марии в конце улицы Партенопе со стилетом в спине. Его пустые глазницы, лишенные глазных яблок, были устремлены в сторону залива и горы Везувий, а руки с отрубленными кистями были скрещены на груди.
Еще из такого вот ребенка, родившегося в рыбачьем поселке с названием Казамиччиола, мог вырасти бродяга вроде Чезаре Чипполоне, коий убил и изнасиловал восемнадцать толстушек в возрасте от тринадцати до тридцати трех лет и в конце своей кровавой карьеры расчленил на сорок четыре кусочка известного тенора Придворного театра Джузеппе Скарлаттини.
Нет, не так сложилась судьба дона Мигеля. Напротив, сказывали, что молодой де Ривас уже в отрочестве владел семью языками и отличался от своих сверстников живым воображением, ясным умом, предприимчивостью, страстностью натуры и явной нетерпеливостью характера. К совершеннолетию Хосе Мигеле приобрел качества необычайно умного, хитрого, ловкого и крайне осторожного человека, неимоверно обаятельного и большого мастера тонкой интриги. Его прозвали Улиссом — за многоумие, бывшее, как известно, характерной чертой литературно-мифологического Улисса, или Одиссея. Невероятно, но хитрый и расчетливый делец и комиссионер вполне органично уживались в нем с отважным рыцарем без страха и упрека, смелым до безрассудства и благородным. Правда, последнее качество для многих являлось губительным, но только не для него.
Двадцати годов от роду, лейтенант неаполитанской армии Хосе Мигеле де Ривас познакомился в порту Ливорно с русским графом Алексеем Орловым, стоявшим здесь со своей эскадрой. Ох уж эти Орловы! Знакомство с оными красавцами, силачами и заговорщиками, прирожденными героями, победителями и авантюристами, переворачивало судьбы всех, кто попадался им на пути. Они сами для многих были Судьбой.
Де Ривас почувствовал это сразу. И принял предложение графа вступить в русскую службу. Поговаривали, что причиной сему послужило жалованье, много большее, нежели Хосе получал в неаполитанской армии, однако знающие люди утверждали, что лейтенант просто сбежал от вендетты, грозящей ему на родине неминуемой гибелью.
Первым делом, в котором участвовал лейтенант де Ривас, было сражение при Чесме у побережья Малой Азии. Алехан, как звали графа его братья, не имел никакого опыта ведения морских баталий, да и флот нельзя было назвать хорошо подготовленным, однако Орлов пошел на риск, запер турецкий флот в Чесменской бухте и уничтожил его посредством брандеров, одним из которых командовал де Ривас. Когда загорелся флагманский корабль турок «Реал-Мустафа», его пылающая мачта упала на русский «Евстафий», и тот, взорвавшись, уничтожил и флагман, и вместе с ним надежду турок на победу. Мало кто из командиров и матросов зажигательных суден смог увидеть, как горит и тонет турецкий флот. Все они были обречены на смерть. Лейтенант де Ривас выжил.
Флот возвратился в Ливорно. Война с турками не была окончена, и пороховой дым еще витал над Средиземным морем. К тому же из России приходили тревожные вести: звезда фаворита императрицы Екатерины Второй князя Григория Орлова закатилась и он подал в отставку, как и остальные братья. Алехан же остался в службе, попал в весьма необычную историю, а вместе с ним попал в необычную историю и капитан Иосиф Михайлович де Ривас — именно так стали звать бывшего неаполитанца на русской службе.
* * *
Папка была пухлой. Верно, адмирал успел натворить в своей полувековой жизни столько дел, что иным бы хватило на десяток жизней. Пришлось потрудиться, чтобы заглянуть в ее содержимое: наивысший гриф секретности, стоявший на ее обложке, закрывал доступ к ней даже секретарям Тайной экспедиции, не говоря уже о прочих чиновниках, в число коих входил Татищев. Павлу Андреевичу пришлось несколько дней добиваться аудиенции у генерал-прокурора и в приватной беседе просить его выдать письменное разрешение на досмотр личного дела адмирала де Риваса. Генерал-прокурор таковое разрешение, правда, не без колебаний, выдал.
Татищев посмотрел на архивного секретаря, погруженного за соседним столом в какие-то бумаги.
«Непыльная у них работа», — подумал подполковник. Как бы в ответ на его мысли секретарь поднял голову и, встретясь с ним глазами, улыбнулся немного виновато. «Каждому свое», — казалось, хотел сказать ему архивный секретарь. Павел Андреевич отвел взор и принялся читать дальше.
* * *
Когда Алехан, увенчанный лаврами героя Чесменской битвы, находился у берегов Италии, там объявилась отчаянная молодая дама, княжна Тараканова, выдававшая себя за тайную дочь покойных императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Григорьевича Разумовского.
Напуганная обилием самозванцев и претендентов на русский трон, самым опасным из коих был Емелька Пугачев, Екатерина решила покончить с очередной побродяжкой-авантюрьерой, как она называла Тараканову. Для сей деликатной миссии требовался человек отважный и преданный ей безусловно. Выбор пал на графа Алексея Орлова, маявшегося бездельем опального вельможи на почетной должности генерал-аншефа и главнокомандующего русским флотом в Ливорно. К сему времени капитан де Ривас, благодаря своей отваге под Чесмой — Алехан, сам до отчаяния бесстрашный, любил и приближал к себе смелых людей, — приобрел расположение графа, и тот поручил ему прояснить все касательно объявившейся «авантюрьеры». Иосиф Михайлович покинул эскадру, и через некоторое время графу Орлову пришло пространное письмо.
Копия, оригинал писан на французском языке:
Главнокомандующему российской эскадрой на Средиземном море Его Высокопревосходительству господину генерал-аншефу графу Алексею Григорьевичу Орлову.
Ваше Сиятельство!
Во исполнение поручения, данного мне Вашим Высокопревосходительством, имею сообщить следующее.
Особа, интересующая Вас, выдает себя за родную дочь императрицы Елисаветы от ее тайного брака с графом Разумовским. Имянем она обладает таким же — Елисавета. Ребенком двух лет якобы была оная свезена на юг России, в Малороссию к родственникам графа Разумовского, казакам Дараганам в их поместье Дарагановку, кою народ прозывал Таракановкой. Толкуют некие, что царица-мать в шутку прозывала девочку Тьмутараканской княжной. Сперва ее снабжали, чем надо, перевозили с места на место: из Малороссии в Сибирь, затем в Персию, где она жила у одной старушки в Испагани, потом в Багдад. Сие мною лично слышано из уст ее секретаря некоего ляха Чарномского, вызвавшегося добровольно служить ей. Это человек сорока лет, бывший рубака и дуэлист, некогда весьма и весьма богатый, бросивший все свое состояние к ногам «княжны», в которую, верно, без памяти влюблен. Сведения о ее прошлом он клятвенно подтвердил мне в личной беседе, устроенной моим знакомцем маркизом де Марином, который тоже подпал под дьявольское обаяние сей «княжны» (как и иные, но об этом позже), но можно ли верить человеку, связанному с конфедератами, ищущими любую возможность подставить ножку России?
После смерти императрицы ее потеряли из виду и наконец забыли. Возможно, и она забыла, кто она такая, однако, как говорят, нашлись добрые люди, напомнили.
«Княжна» начала свой вояж: она объявила себя воспитанницей турецкого вельможи княжной Алин Эметте и… наследницей Российского престола. Попутешествовав по Персии, с почетом и свитой, преимущественно из поляков и иезуитов, Эметте появилась в Германии, Киле и Берлине под именем принцессы Пиннеберг и едва не вышла замуж за немецкого принца из княжеского дома Нассау. Затем она посетила Лондон и Париж под именем принцессы Азовской. В Венеции, где она сейчас проживает, она зовется «Всероссийской княжной Елисаветой» и, по слухам, собирается ехать в Стамбул к султану, а затем в Рагузу (Дубровник) искать защиты своих прав в его армии, воюющей с нами на Дунае. Французский двор уже выбирает помещение для нее в доме своего консула и готов оказать ей всяческую поддержку и содействие.
Теперь, Ваше Сиятельство, что касается самой Алин Эметте.
Первое, что бросилось мне в глаза, это ее совершенно вульгарный практицизм, расчетливость и жесткость, ежели не жестокость. Всех, кто ее окружает, она обирает до последней нитки! Князя Филиппа Лимбургского, своего очередного «жениха», она заставила оплатить все ее векселя на баснословные суммы, чем привела его в совершеннейшее разорение. А человека, узнавшего ее как содержанку богатого старика, она, посредством того же князя Лимбургского, упрятала в тюрьму, и это притом, что сей человек был другом князя! Воистину, влюбленный ума лишен.
Всюду толкуют, что она красива, умна и обаятельна. Верно, она умеет пробуждать в мужчинах фатальную страсть, как Клеопатра, коли все, от герцогов Эмбса и Рошфора и до князей Лимбурга и Доманского, ее натуральные рабы, не говоря уж о маркизе де Марине. Она положительно роковая женщина, некий падший ангел, коего то и дело бросаются спасать благородные рыцари. Благородные, но слабые к ее чарам. К тому же, говорят, она немного косит, а сие отличительная черта всех ведьм.
Да, я обещал Вам, Ваше Высокопревосходительство, рассказать о маркизе де Марине, тем паче что он поведал о «княжне» весьма много интересного.
Бедный маркиз! Когда я увиделся с ним, то совершенно не узнал его! Выглядел он так, как натурально выглядят усопшие на смертном одре.
«Она порабощает души, — сказал он мне, мало не плача. — Мне, блестящему вельможе самого блестящего двора в мире, она предложила стать ее интендантом. И я согласился! Стать мальчиком на побегушках у неизвестной женщины с неизвестным прошлым! Я бросил двор, бросил замки на Луаре, бросил все, что имел! Я подписывал ее векселя на чудовищные суммы. Я следовал за ней повсюду! И сам не заметил, как низко пал. Чтобы добывать для нее деньги, я сделался карточным шулером, и от меня отвернулись все! Мне всегда нужны деньги. Только с деньгами я могу показаться к ней. Я ненавижу ее, когда ее не вижу. Но она велит, и я скачу, куда она прикажет, дабы помочь ей бежать от долгов. О, она демон! У нее не только разные имена, но, клянусь, и разные лица! Вот ее волосы кажутся совсем черными и глаза становятся как уголь — она истинная персиянка. А затем ты видишь, что на самом деле ее волосы темно-русые, а лицо нежно-румяное и с веснушками. Она истинная славянка! А вот она повернулась в профиль, и этот хищный нос с горбинкой, и этот овал… Дьявольщина, но она уже итальянка! Она мое проклятие! И если вы пришли убить ее — умоляю, сделайте это скорее».
Вот истинные слова человека, находящегося в свите сей «княжны». Помимо его и секретаря Чарномского, в ее ближнем круге состоят ее «близкий друг» князь Радзивилл и его сестра графиня Моравская, княгиня Сангушко, граф Потоцкий — глава сплотившейся против нас польской конфедерации, староста Пинский, граф Пржездецкий и несколько радзивилловских офицеров. Все они величают ее «ваше высочество» и не смеют сидеть в ее присутствии.
Русского языка «княжна» не знает. «Забыла». Так она отвечает всем, кто об этом спрашивает. Она располагает французскими списками завещания императора Петра Первого и духовной Елисаветы, по коей императрица завещает престол ей. Имеются якобы и оригиналы, которые из-за боязни покражи она хоронит в секретном и одной ей известном месте.
Недавно она тайно виделась с путешествующим по Европе графом Шуваловым, бывшим в свое время фаворитом императрицы Елисаветы. Говорят, граф после беседы с ней был крайне смущен. Но чем вызвано сие смущение: тем, что он признал в ней действительную дщерь императрицы Елисаветы или просто поражен безмерной наглостию сей особы, — о том не ведает никто, кроме него самого. Узнать же о том подробнее не представляется возможным.
А теперь, Ваше Сиятельство, вкратце о том, чего желает новоявленная «княжна». Вот ее собственные слова, пересказанные мне тем же маркизом де Марином:
«Я единственно желаю признания меня и моих прав. Если императрица Екатерина захочет по совести и без спора мирно поделиться со мной, я готова сделать для нее все. Отдам ей Север; с Петербургом, балтийскими провинциями и со всею московской областью; себе возьму Кавказ, вообще юг и часть востока империи. Я буду свято чтить мирный раздел, буду всем довольна; населю и устрою мои родовые страны — увидите, я мастерица. И, разумеется, прежде всего восстановлю Украину и Польшу. Я ведь жила в детстве на Украине. Если же Екатерина заспорит, мне остается добывать мои права силою. Я собираюсь в Стамбул, к султану; он ждет меня. Я явлюсь среди его войск за Балканами, у Дуная, перед армией Екатерины. И я ей отплачу. При этом многие мне помогут, в том числе все недовольные, например…»
И тут, Ваше Высокопревосходительство, она назвала Ваше имя, сказав, что Вы-де обижены за брата, «коего время кончилось», и будете ей весьма полезны в ее начинаниях. И она уже якобы послала Вам свой «Манифест», в коем предлагает Вам объявить его эскадре, принять ее и всегласно заявить ее права на Российский престол.
За сим послание оное заканчиваю, оставаясь преданнейшим Вашим слугой, капитан Иосиф де Ривас.Что произошло далее, Татищев более-менее знал. Когда случился мир с Турцией, поляки отвернулись от «княжны»: сие «знамя» их борьбы против «московитов» стало слишком обременительным и ненужным. «Княжна» оставила Рагузу и какое-то время жила в Барлетте, а затем под видом знатной польской дамы поселилась в Риме. Граф же Орлов приступил к последнему действию задуманной им пиесы. Он заплатил все долги «княжны» и открыл для нее безграничный кредит у римского банкира Дженкинса. После этого в ответном на «Манифест» письме послал ей приглашение в его штаб-квартиру в Болонье. Письмо сие должен был доставить «княжне Таракановой» не кто иной, как Иосиф де Ривас, выехавший в Рим резидентом по приказанию графа первого февраля 1775 года.
* * *
Рим — город, куда ведут все пути. Сия фраза ходит уже не один век. Читая документы, Татищев нарисовал в своем воображении то, что могло произойти с героями этого весьма необычного дела.
Татищев представил дом Жуяни на Марсовом поле в Риме, где под именем знатной полячки графини Селинской стала жить «побродяжка-княжна». Дом стоит уединенно и особняком, прикрытый с улицы небольшим тенистым садом. Ривас подошел к двери и негромко ударил в нее скобой.
Из окна, увитого виноградными лозами, сперва выглянула горничная, а потом в дверях показалась фигура секретаря «княжны» Чарномского.
— Я с письмом от его высокопревосходительства господина генерал-аншефа графа Орлова, — важно произнес де Ривас.
— От кого? — спросил Чарномский, с недоверием оглядывая де Риваса.
— От его сиятельства графа Алексея Григорьевича Орлова, с личным письмом, — со значением повторил посланец и протянул пакет Чарномскому: — Писано собственноручно его высокопревосходительством генерал-аншефом графом Алексеем Григорьевичем Орловым.
Секретарь судорожно схватил письмо и скрылся за дверью. Через минуту он с вежливым поклоном широко растворил перед де Ривасом двери.
— Простите, не узнал вас сразу. Пожалуйте, милости просим.
Чарномский едва сдержался, дабы не броситься расцеловывать флотского капитана.
Княжна приняла де Риваса в небольшой комнатке на нижнем этаже дома, выходившей окнами в сад. Здесь уже не было ни дорогих штофных обоев и бронз, как в Неаполе или Берлине, ни золоченой мебели, не было и десятков комнат, наполненных поклонниками, которые нетерпеливо ожидают любого ее приказания или хотя бы благосклонного взгляда.
Несколько убогих комнаток, три горничные, секретарь, аббат-иезуит и доктор, — вот и все окружение княжны Таракановой. И всюду, во всех углах — откровенная бедность. Сама «Всероссийская княжна Елисавета Тараканова, принцесса Владимирская, dame d’Azov», пленительница персидского шаха и немецких фюрстов, лежала теперь в чахоточном жару на кожаной софе, прикрытая голубой бархатной мантильей. В комнате холодно и сыро. Языки тощего пламени едва заметны в камине. Верно, «княжна» экономила даже на дровах.
— Благодарю вас за письмо, — произнесла она по-французски и закашлялась. — Я прочла его. Весьма признательна.
На ее щеках выступил нездоровый румянец.
— Прошу прощения, что я принимаю вас так. Я, видите ли, приболела. Как некстати! Впрочем, не будем об этом говорить, все это пустяки по сравнению с вестью, которую вы принесли.
Она привстала и, поправив свои пышные волосы, дружески протянула де Ривасу руку, которую тот весьма почтительно поцеловал.
— Как видите, за исключением самых преданных друзей, — она с благодарностью посмотрел на аббата и секретаря, — едва армия заключила мир с Турцией, меня тут же все бросили, оставив без средств к существованию. Мне надо платить за квартиру пятьдесят цехинов в месяц, но у меня нет ни байока, и мне нечем даже заплатить доктору. Я задолжала за провизию, меня осаждают кредиторы, грозит полиция.
Она снова закашлялась и устремила на де Риваса лихорадочно горящий взгляд.
— Но ничего, — вдруг со злорадством произнесла она, — когда Россия признает меня, я все им припомню.
— Ваше высочество, — почтительно произнес де Ривас, величая «княжну Елисавету» так, как ему было велено графом Орловым, и протягивая ей запечатанный шифром графа кредитив на имя банкира Дженкинса, — его высокопревосходительство граф Алексей Григорьевич предлагает вам небольшую помощь, дабы вы не чувствовали себя стесненной в средствах.
«Княжна» схватила кредитив, прочла и вскочила на ноги.
— Безграничный кредит! — «Княжна» со смехом и слезами выбежала в другую комнату. Послышалось громкое, истерическое рыдание. Чарномский вышел следом, а когда вернулся, был крайне взволнован и мертвенно-бледен.
— Ее высочество чрезвычайно вам благодарны, — с чувством произнес он, пожимая де Ривасу руку. — Не знаю, согласится ли она приехать в Болонью, куда приглашает ее граф Орлов, но смею надеяться, что согласится. Ведь ее высочество крайне смела, бесстрашна и… предприимчива. Я был бы очень признателен вам, если бы вы подождали ее решения день-два. А покуда держите все в величайшей тайне.
При этих словах он приложил палец к губам.
Более недели де Ривас и переодетый нищим лейтенант Христенек (на четверть немец, на половину еврей, а в остальном грек), присланный для подмоги Иосифу Михайловичу, посменно следили за домом княжны из австерий напротив ее дома. Поначалу ничего не происходило, «княжну» по-прежнему навещали доктор и аббат-иезуит. Затем она посетила контору Дженкинса, после чего расплатилась с долгами и полиция и кредитор перестали досаждать ей. Однако она и не думала собираться в Болонью.
* * *
Татищев оторвался от чтения, поднял голову.
Так вот когда познакомились де Ривас и Христенек, более четверти века назад! А может, были знакомы еще ранее. Незнакомых людей редко посылают для «подмоги» резидентам.
Павел Андреевич вздохнул и снова углубился в чтение. И его воображение, в котором ему отказывали плохо знавшие его люди (а кто мог похвастаться, что знает подполковника Татищева хорошо?), снова стало рисовать в сознании образы и картины, непроизвольно возникающие от чтения сухих строчек.
* * *
Дом Жуяни совершенно преобразился.
«Графиня Селинская» стала принимать гостей, держать открытый стол, начала выезжать, посещая то гуляния, то выставки и галереи. Ее красивейший в городе экипаж, а то и саму, наряженную и веселую, бешено мчащуюся на резвоногом скакуне с кавалькадой вновь появившихся поклонников, можно было ежедневно наблюдать на улицах Рима. У ворот дома днями и ночами тесно стояли экипажи, толпы нищих осаждали ограду, глазея во двор и оглашая криками всякое появление «княжны», а паче — ее блестящий выезд. Рим заговорил о сиятельной гостье, как до того о ней говорили Берлин, Венеция и Рагуза.
Де Ривас, будучи однажды на вечере у «княжны», изыскал возможность остаться с ней наедине и спросил:
— Когда вы намерены ехать в Болонью?
— Все устроится, будьте покойны, — не сразу ответила она.
Еще через два дня де Ривас письменно напомнил «княжне» о предложении графа Орлова. Ответа он дожидался бесконечно долго. Наконец капитан получил от «княжны» короткую записку, где она приглашала его на свидание в церковь Санта-Мария-Анджели. Здесь, в пустынном сумраке одной из молелен, она заявила:
— Желание благоденствия моему отечеству и моим будущим подданным столь велико, что я принимаю предложение графа. Я еду завтра.
Двенадцатого февраля, поместившись со своей свитой и слугами в несколько экипажей, «графиня Селинская» выехала из Рима на Флорентийскую дорогу. Артисты, художники и местная знать провожали ее пожеланиями удачи и держали батистовые платочки у глаз. Толпы народа долго бежали за ее поездом, в восторге от того, что присутствуют при сем действе и являются его участниками.
Какие-то два юноши бежали за поездом «княжны» столь долго, что поначалу, уменьшаясь в размерах, превратились в две точки, а затем совершенно скрылись из виду провожающих. Посему никто не видел, что они скорее соревновались уже в беге между собой, нежели пытались догнать экипажи. Бег их закончился, когда один из юношей, споткнувшись о неровности Флорентийской дороги, так приложился физией об эти неровности, что, кажется, своротил набок челюсть. Его соперник, разумеется, остановился тоже, помог товарищу подняться и повел его, рыдающего, обратно в Вечный город.
В Болонью «княжна», то бишь «графиня Селинская», прибыла шестнадцатого. Капитан де Ривас приехал днем ранее. Далее произошло то, чего многие до сих пор не могут простить генерал-аншефу графу Алексею Орлову. Его высокопревосходительство принял княжну весьма ласково, оказывал ей всяческие почести и, наконец, влюбился. Игра ли то была с его стороны во исполнение данного ему императрицей поручения, или на самом деле «княжна» охмурила и его своими чарами, только в отношении ее граф повел такие негоции, чтобы ни у кого не оставалось никакого сомнения, что он влюблен. Он дарил ей дорогие подарки, открыто выезжал с ней и даже покинул ради нее свою любимую фаворитку Машеньку Давыдову.
А потом граф тайно обвенчался с «княжной» во флотской церкви на адмиральском корабле «Три иерарха», что стоял на рейде в Ливорно. Роль попа при венчании исполнял де Ривас, коему наклеили фальшивые бороду, брови и усы, а роль диакона — лейтенант Христенек.
* * *
Здесь Татищев хмыкнул. Секретарь поднял голову, посмотрел на подполковника и снова углубился в свои бумаги.
«Ай да капитан флота! — подумал Павел Андреевич. — На все руки мастер! Ну ладно Христенек, на нем, верно, клейма ставить негде. Но вы-то, господин Ривас? Как же королевская кровь в жилах? Разве понятия о чести и благородстве для вас пустой звук? И как это возможно, чтобы в одном человеке уживались лихой брандер, герой Чесмы, выказавший вершины мужества и героизма, и обманщик, паяц, шут? Но факт участия в липовом венчании столь высокопоставленной особы и побродяжки, всклепавшей на себя высочайшее имя, может весьма пригодиться!»
Подполковник Татищев вновь углубился в чтение.
* * *
Ах, как был обласкан императрицей Иосиф Михайлович, когда княжна Тараканова, арестованная адмиралом эскадры Грейгом, была доставлена в Петербург! Как стремительно стала двигаться ввысь его карьера!
Перво-наперво стал он жить во дворце, потому как сделался капитан де Ривас воспитателем Алеши Бобринского, сынка Екатерины Алексеевны от князя Григория Орлова. Потом, допущенный на интимные вечера в Эрмитаже, которые устраивала императрица, — честь, оказываемая немногим, к тому же означавшая полное доверие к лицу, принимавшему участие в сих оргиях, — теперь уже майор де Ривас сошелся с камер-фрейлиной императрицы Анастасией Соколовой и с высочайшего разрешения и благоволения женился на ней. А через два года случился у подполковника де Риваса роман с самой императрицей, после коего подарила она ему тайно сына, названного именем отца Иосиф и перевернутой его фамилией — Савир, да пожаловала в придачу орден Святого Иоанна Иерусалимского. А сие, ни много ни мало — высшая награда Мальтийского ордена.
Сделав де Риваса полковником, кавалером командорского креста и рыцарем Мальтийского ордена, императрица отправила его на юг, в действующую армию. Да и то, заскучал Иосиф Михайлович при дворе, ведь не до скончания же века расшаркиваться с вельможами да шпацировать по балам и раутам. К тому же проект реорганизации русского флота, коим он занимался несколько лет, был полностью готов.
Полковник де Ривас получил назначение к князю Тавриды Григорию Потемкину. Светлейший, наслышанный о его отношениях с императрицей, погрызя, по своему обыкновению, ногти, на флот его не взял, а поручил ему Мариупольский кавалерийский полк. Затем, в очередную турецкую кампанию, Потемкин сделал его дежурным генералом при своем штабе — то есть генералом на побегушках. Де Ривас отомстил ему за это следующим: он попросил светлейшего, с коим у него установились внешне дружеские отношения, пристроить своего сына, Оську Савира, на службу. Дескать, пора юнцу пороху понюхать.
— Твоему сыну? — спросил его светлейший.
— Так точно, — ответил де Ривас.
— А пошто он Савир, а не Ривас? От кого сынок-то?
И Иосиф Михайлович, разыгрывая смущение и явно издеваясь над фаворитом «номер один», выдавил из себя признание:
— От нее. От кого ж еще-то?
После громкого скандала Потемкин сослал де Риваса с казачьим отрядом в деревню Тузлы, где стоял корпус генерала Гудовича. Скоро Гудович получает приказ взять крепость Хаджибей. Такой же приказ получает и генерал Войнович, командующий Лиманской флотилией у Очакова. Гудович отдает приказание отряду де Риваса выступить на штурм Хаджибея, однако основные силы его корпуса почему-то задерживаются у Тилигула. Войнович же и вовсе не собирался являться со своей флотилией под стены Хаджибея: Потемкин негласно отменил обоим генералам свой приказ.
Но де Ривасу-то приказ никто не отменял! И если его не выполнить — он окажется полным ничтожеством и трусом, о чем обязательно и очень скоро донесут императрице. Уж светлейший, конечно, постарается!
* * *
Павел Андреевич не сдержался и тихо выматерился. Но, очевидно, получилось это достаточно громко, так как секретарь снова поднял голову и посмотрел на него. Впрочем, сие не в диковинку: бывало, что тайные советники, читавшие по тем или иным причинам подобные папки, степенные и тишайшие в быту, стучали кулаками по столу и пинали в ярости стулья и столы. А бывало, что и седовласые генералы, обвешанные орденами мало не до причинных мест, рыдали, как истерические барышни, и пачкали кучу носовых платков.
А Татищев продолжал читать, и его взору вместо каллиграфически выведенных строчек представлялся небольшой казачий отряд, который, обмотав пушечные колеса соломой, а сабли и тесаки — тряпицами и паклей, сознательно идет на верную смерть.
Но, черт возьми, они взяли крепость! И де Ривас, удачливый демон, как и прежде, в сражении при Чесме, выжил и вышел победителем. Георгий 3-й степени, дающийся исключительно за боевые подвиги, был ему наградой.
А потом Иосиф Михайлович создает собственную флотилию. Он и два казачьих полковника, Чапега и Головатый, задумали поднять со дна Черного моря затопленные между Очаковым и Хаджибеем турецкие лансоны. И подняли-таки! Они создали Черноморскую гребную флотилию, которая, влив в себя Лиманскую флотилию генерала Войновича, успешно уничтожила прибрежные батареи крепости Измаил и прикрывающие ее турецкие суда и готова была атаковать Измаил со стороны Дуная. Общее командование штурмом было поручено генералу Суворову.
Измаил пал, причем исход сего победного предприятия во многом решил казачий десант отряда де Риваса, что и было отмечено в победной реляции Суворова императрице. Татищев видел сию крепость, но не мог представить, как умудрились взобраться на ее каменные стены со стороны Дуная казаки и морские гренадеры контр-адмирала де Риваса. Бросив к ногам императрицы отнятые у неприятеля сто тридцать знамен, Иосиф Михайлович получил взамен Георгия 2-й степени и шпагу, усыпанную брильянтами. Большим подарком его душе послужило крайнее неудовольствие Екатерины Потемкиным, который получил от императрицы полный отлуп, отчего чрезвычайно расстроился и через малое время помер.
Удивительное дело, но звезда де Риваса не закатилась со смертью Екатерины и принятием российского престола императором Павлом Петровичем, как это случилось со многими бывшими любимцами императрицы. Император Павел матушку свою не любил, а паче не мог простить ей гибели отца. Посему делал ей все наперекор, как бы мстя уже покойной. Ведь сделать что-либо в противовес ей, покуда она была жива, он не имел никоей возможности.
К тому времени вице-адмирал, Иосиф Михайлович был вызван в Петербург и принял должность генерал-кригскомиссара. Тут в нем опять проснулся деляга и фактор, и интендантство чуть не вылетело в трубу, а сам вице-адмирал едва не поехал за казенный счет в Сибирь, потому что запускал руку в казну и извлекал иные выгоды из сей хлебной должности. Спасли его многочисленные друзья и весьма дельный проект по реконструкции кронштадтских укреплений, вовремя представленный императору Павлу. Де Ривас был назначен членом Адмиралтейств-коллегии и принял выхлопотанную им самим должность управляющего Лесным департаментом. Он поселился в особняке Калмыкова близ Каменного моста (по непроверенным сведениям, он сей особняк купил), завел свой выезд, словом, не бедствовал, хотя имение в 800 душ, подаренное Екатериной после взятия Измаила, ощутимого дохода не приносило.
Под 1799 годом в папке имелась выписка из протокола визитационной комиссии, состоящей из двух сенаторов и трех сенатских секретарей. Сия выписка гласила, что его превосходительство вице-адмирал, исправляя должность управляющего Лесным департаментом, получил вперед жалованья, которое он, как управляющий департаментом, начислил сам себе аж до 1811 года. Комиссия настоятельно рекомендовала отстранить господина де Риваса от исправления сей должности со взысканием всего полученного вперед жалованья, а над ним самим учинить следствие в его прочих злоупотреблениях, имевших место наверное и почти доказанных.
Под тем же годом имелось донесение знакомого Татищеву агента Тайной экспедиции, ведшего наблюдение за английским посланником лордом Уитвордом. Агент сообщал, что сей известный ненавистник России имеет весьма тесные сношения с графом Никитой Петровичем Паниным и вице-адмиралом Иосифом Михайловичем де Ривасом, причем речи их друг с другом происходят на невразумительном для него, агента, языке, вероятно специально придуманном и секретном, чтобы не было понятно, кроме них, никому. Все же агенту, знакомому с подобным шифрованием речи, удалось кое-что разобрать из этой тарабарщины. А говорили Уитворд, Панин и де Ривас об императоре Павле Петровиче, да продлит Господь дни его, что пора-де ему передать бразды правления цесаревичу Александру, а самому добровольно отречься от престола в его, цесаревича, пользу. А ежели Курносый — так уж они величали нашего государя императора — добровольно на сие не согласится, тогда принудить его на то шпагой, то бишь силою.
Обе бумаги не имели никаких последствий для вице-адмирала.
Лорда Уитворда вежливо попросили убраться из страны, Панина задвинули в свое имение, а де Риваса через несколько месяцев сам Павел Петрович поздравил адмиралом. И поручил ему возглавить работы по реконструкции укреплений Кронштадта на случай вторжения британского флота в Финский залив.
На сем папка кончилась. Из архива подполковник Татищев вышел в крайне противоречивых чувствах. По дороге домой напряженно думал, как он будет мотивировать свою просьбу вернуть книгу и вообще в каком ключе разговаривать с адмиралом.
Надумал.
Все же болевые точки, на которые при необходимости можно будет надавить, у адмирала были. И не в единственном числе.
Татищев решил нанести ему визит завтра, десятого марта, вечером.
Вечерами меньше посторонних глаз.
Глава восьмая
Как смотрят на мужчин вдовы, нимфоманки и бляди. — Не желаете ли получить удовольствие? — Осторожность, и еще раз осторожность. — Небольшое красное пятнышко на лбу. — Без причины и чирей не вскочит. — А был ли визитер? — Горе Селиваныча. — Часто ли бывает, чтобы господа здоровались за руку со своими слугами? — Молчание блудницы.
Слуга подал ему плащ и треугол, и он, вместо того чтобы просто кивнуть, как делают иногда другие господа, медленно поднял руку и раскрыл ладонь. Жест получился как будто благодарственным и прощальным одновременно. Слуги — тот, что подавал ему платье, и тот, что стоял на лестнице — замерли, словно сраженные такой деликатностью. Затем они занялись своими делами, будто в парадной никого не было. Гость же еще какое-то время наблюдал за ними. Затем он вышел, причем вновь никто не обратил на него ни малейшего внимания.
«Теперь меня здесь будто и не было, — удовлетворенно подумал он, плотнее запахиваясь в черный испанский плащ. — Простофили о моем визите даже не вспомнят».
В самом благостном расположении духа, каковое бывает у человека, только что хорошо сделавшего свое дело, да так хорошо, что лучше и не сработать, он легко спустился со ступеней парадного крыльца и пошел по аллее к выходу из усадьбы, хрустя гравием под ногами. Вечер вступал в свои права, но, похоже, не собирался колоть прохожих в лицо ледяными иголками и выдувать из них последнее тепло. Все же, как ни крути — весна.
Он не сразу услышал шаги сбоку и слева от себя. Вот что значит расслабиться даже на несколько мгновений! Идиот. Забыл, что постоянно повторял Учитель: находиться всегда начеку, все видеть, все примечать, быть постоянно готовым к любым неожиданностям и гнать от себя всякие посторонние мысли!
Он замедлил шаг и скосил глаза влево.
«Баба. Из простых. Точнее из тех, кто проще некуда. Лицо, походка. Одним словом, шлюха. Откуда она идет? Ах да, в глубине двора слева от особняка флигель. Верно, была в гостях. И ты видел этот флигель, когда шел сюда. Почему не учел возможность подобной ситуации? Промах, приятель. Что, хочешь засветиться, как два года назад в Москве?»
Он снова замедлил шаг. Пусть мамзелька окажется впереди, когда две аллейки от дома и флигеля сойдутся перед воротами в одну.
— Эй, господин хороший!
Заметила. Остановиться? Пройти вперед, не оглядываясь? Кончить ее здесь, возле дома?
«А вот это будет уже глупость. Два трупа — один в доме, другой около — могут навести, и несомненно наведут, полициантов на нежелательные раздумия. Нет, убивать нельзя».
— Эй, сладенький! Не хотите получить удовольствие? Все, что пожелаете, и даже больше! Полтина серебром, и вы в райских кущах.
Тропинки сошлись в одну. Она остановилась в ожидании. Смотрела на него оценивающе, как смотрят вдовы, нимфоманки и бляди. Он неторопливо подошел к ней.
— Ну чо, еться будем? — спросила она призывно и нагло. — Пять гривен, и делай со мной, хороший, что хошь.
— Все что хочу? — он хищно улыбнулся.
— Все! — она блудливо тронула себя за грудь под ватной телогреей. — Получишь полное… это… блаженствие.
— Хорошо.
Он галантно пропустил блудницу впереди себя. Они вышли из ворот, встали друг против друга.
— Значит, все что хочу?
— Все. Только денежку па-пра-шу вперед, сладкий. Такое правило.
— Да, конечно.
Он снял перчатку. Шлюха смотрела на него, ждала денег. Послышался звук приближающегося экипажа. Он толкнул ее к воротному столбу, поднес руку к ее глазам, сделал несколько движений, будто хотел уплотнить воздух меж ладонью и лицом, затем быстро отвел ладонь в сторону. Звук экипажа стал громче.
Он смотрел ей глаза. Зрачки ее мало не с гривенник. Порядок.
Теперь она ничего не будет помнить. Не так, как слуги в доме, а совсем ничего. Он резко пошел в сторону от приближающегося экипажа.
Стук копыт стихает. Человек в черном испанском плаще и шляпе обернулся: экипаж остановился возле ворот, из коих минуту назад вышли они с мамзелькой. Из экипажа вышел военный, кажется в штаб-офицерском чине, и направился в усадьбу.
Посмотрел ли офицер в его сторону? Похоже, нет. Вовремя он ушел! И все же неладно как-то, шлюха и этот офицер! Впредь он будет осторожней.
* * *
Павел Андреевич отпустил извозчика, выдохнул и направился к воротам дома Калмыкова, в котором жил адмирал де Ривас. Возле столба увидел тень, пригляделся: девица весьма низкого пошиба!
Что она здесь делает? Прогнать? Впрочем, может, здесь ей назначено. Кем? Любителем такого рода развлечений? Известно, имеются такие господа, коим не надобно образованных, холеных да умытых, а чем хуже, тем лучше. Дабы вволюшку поизмываться и потешить свою плоть крайним непотребством. Впрочем, к его делу сие не имеет никакого отношения.
Мельком глянув на быстро удаляющегося одинокого прохожего в черном плаще и шляпе, Татищев вошел в ворота и пошел по ухоженной аллейке к дому. Дернул кисть звонка, и на вежливое лакейское: «Чем могу служить?» — ответил по-военному внятно и четко:
— Доложите его высокопревосходительству господину адмиралу, что Тайной экспедиции подполковник Татищев просит принять его по делу, крайне не терпящему отлагательств.
Лакей поклонился и ушел. Его не было минуту. А затем раздался крик:
— Батюшки-светы, барин преставился!
Павел Андреевич, как был, в шинели и треуголе, кинулся на крик по лестнице второго этажа, перемахивая через ступеньку, а то и две. Оттолкнул бледного лакея, обогнул сбежавшихся на крик горничную и экономку и ворвался в кабинет. Адмирал лежал на полу в архалуке и смотрел из-под полуприкрытых век туда, куда смертным до поры смотреть заказано. Ноги его были согнуты, руки распластаны в стороны. Очевидно, смерть пришла внезапно: стоял человек, думал о чем-то, затем яркая вспышка и ночь. Ноги подломились, и он рухнул на пол, так и не поняв, что это конец.
Хорошая смерть. Чаще бывает хуже. Много чаще.
Татищев наклонился над бездыханным адмиралом, машинально пощупал пульс: сердце не билось. Рука была еще теплой, очевидно, де Ривас умер перед самым его приходом. У дверей кто-то навзрыд заплакал. Подошел старый камердинер адмирала, спросил убитым от горя голосом:
— Нам-то что делать, господин офицер?
— Зовите доктора и полицейских.
Полицейские прибыли. Цыкнули на девицу возле ворот, чтобы убиралась восвояси, по-хозяйски проследовали в дом, переговорили с Татищевым и лакеями. Затем стали шептаться возле трупа адмирала. Явно это не их дело. Признаки насильственной смерти отсутствовали, и надо было лишь дождаться доктора, чтобы тот официально сие удостоверил.
Прибывший доктор удостоверил.
— Сердечный удар. То бишь апоплексия. Внезапное кровоизлияние в мозг, что и вызвало смертельный исход. Я уверен, что телесное вскрытие покажет именно это.
— Когда будет готово врачебное заключение? — сурово спросил помощник полицмейстера, вызванный ввиду значительности преставившейся фигуры.
— Завтра, после вскрытия, — ответил доктор.
— Тогда пришлите копию врачебного заключения в управу, — сказал помощник полицмейстера и ушел. За ним потянулись и остальные полицианты. Стал собираться и доктор.
— Доктор, вы совершенно уверены в том, что господин адмирал умер… вследствие естественных причин? — осторожно спросил Татищев, когда тот собирал свой саквояж.
— Абсолютно, — щелкнул замочком медик. — Взгляните сами: признаков насильственной смерти решительно никаких, впрочем, и признаков отравления тоже. Конечно, более ясную картину даст только вскрытие, но я и без него могу утверждать: адмирал умер сам, без посторонней помощи. Внезапное кровоизлияние в мозг — и все.
— А отчего могло произойти это кровоизлияние?
— От чего угодно. Погодите-ка, — наклонился лекарь к лицу покойного, — это что такое?
— Где? — спросил Татищев.
— Да вот, какое-то покраснение. Похоже на ожог. Видите?
— Вижу, — ответил Павел Андреевич, наклонившись над трупом адмирала вслед за доктором и заметив в центре смуглого лба покойника красное пятнышко размером с серебряный гривенник.
— Впрочем, от таких ожогов кровоизлияний не бывает, — выпрямился доктор. — Простите, я могу идти?
— Да, конечно.
Вот те раз! Адмирал-то взял и помер в самый неподходящий момент. И что теперь?
Татищев осмотрелся. Кабинет как кабинет: бюро, кресло-бержетка, в коем можно утонуть. Стол красного дерева с двумя тумбами, шкап с книгами; на диванном столике пенковая трубка, пепельница из панциря черепахи; напольные часы, тяжелый бронзовый шандал в три свечи, на стене собственный погрудный портрет на фоне неприступной крепости в облачках дыма от выстрелов пушек. Словом, ничего необычного.
«Вот так, живешь себе, строишь какие-то планы, а тут р-раз! — внезапное кровоизлияние, и ты труп. Все просто, как исподние порты. Но так ли уж все просто? — стал рассуждать Павел Андреевич по привычке, появившейся еще во времена его патрона Шешковского. — Просто даже чирьи на заднице не вскакивают, а тут апоплексический удар. Сие не настораживает? А если предположить, что на то были причины? Отца Нелидова, к примеру, паралич стукнул не просто так. Ну, а какая причина здесь? Попробую выяснить. Надо побеседовать со слугами».
* * *
Странное дело, но слуги не смогли сказать ничего вразумительного. На его вопрос о посетителях адмирала оба лакея отвечали, что к нему сегодня никто не приходил, но горничная и старый камердинер слышали звонок входной двери и в один голос утверждали, что визитер был и, по всей вероятности, виделся с их хозяином. Причем перед самой его кончиной.
— Кто же открывал ему дверь? — кипятился Татищев, переводя взгляд с одного слуги на другого. — Ты?
— Нет, — отвечал один и смотрел на подполковника ясным и чистым взором.
— Ты? — спрашивал Павел Андреевич другого слугу и получал по-военному исчерпывающий ответ:
— Никак нет.
Было непохоже, чтобы лакеи врали. Да и зачем?
Нет, тут все же что-то неладно. А вот книгу, переданную адмиралу антиквариусом, очевидно, теперь не отыскать.
Жаль Андрея. И его отец, скорее всего, умрет. И лекарка — как ее? — Турчанинова вряд ли поможет.
— Ну, хорошо. А в поведении его высокопревосходительства вы не заметили чего-нибудь необычного? — уже по инерции продолжал допытываться Татищев. — Может, он был чем-то взволнован или рассержен?
— Не-е, оне ни на что не сердились, — ответил второй лакей, а первый в знак согласия кивнул головой. — Добрые были, тихие, не как раньше.
— А раньше, значит, злился на вас хозяин?
— Всяко бывало, — уклончиво ответил второй слуга, а первый опять поддакнул ему кивком головы. — Да вы об этом лучше у Селиваныча поспрошайте.
— Кто это, Селиваныч?
— А камердинер ихний.
Селиванычу было, верно, крепко за шестьдесят. Смертью барина он был расстроен весьма шибко и, похоже, только что плакал, на что указывали сильно покраснелые глаза и распухший нос.
— Ты камердинер покойного господина адмирала? — спросил старика Павел Андреевич.
— Теперь уже бывший, — тихо ответил тот.
— Скажи, не заметил ли ты в поведении его высокопревосходительства в последние дни чего-нибудь необычного, чего раньше не наблюдалось?
— А все было необычным, — неожиданно для Татищева изрек старик.
— Поясни, — тотчас отозвался подполковник.
— Не похож он стал на себя прежнего. Тих стал, задумчив. Лицом светел. А сегодня поутру за руку со мной поздоровкался!
Селиваныч шмыгнул носом, кое-как справился с собой, дабы не разрыдаться, и добавил:
— А что касаемо визитера, так был у барина гость, самолично слышал. И шаги, и разговор.
— Может, почудилось тебе?
— Почу-удилось, — мало не передразнил подполковника камердинер и нехорошо глянул на него из-под насупленных бровей. — Я из ума еще не выжил. Ждал, призовет барин, распоряжение даст. Чаю, там, принесть либо кофею. Не призвал.
Татищеву вдруг вспомнилась удаляющаяся фигура в плаще, которую он заметил, когда входил в ворота усадьбы. И девица.
Круто развернувшись, Татищев выскочил из кабинета, бегом спустился по лестнице и буквально вылетел из дома. Выбежав за ворота, он облегченно вздохнул: девица стояла на прежнем месте. Около нее толклись, кипя от гнева, пристав и квартальный.
— Убирайся, лярва! — орал пристав. — Иначе запрем тебя в съезжий дом на хлеб и воду!
Возиться с ней полициантам явно не хотелось.
— Что здесь происходит? — придав голосу начальническое металлическое звучание, спросил Павел Андреевич.
— Да вот, блудницу не можем никак восвояси спровадить, — буркнул пристав. — И молчит, курва, будто язык проглотила. Как звать тебя? Где проживаешь?
Девица молчала и равнодушно взирала на полициантов как на пустое место.
— Ты давно здесь стоишь? — уже без металла в голосе спросил Татищев.
Девица перевела на него взгляд, совершенно ничего не выражающий.
— Из этого дома кто-нибудь выходил? — продолжал допытываться подполковник, уже понимая бесполезность этого предприятия.
— Да она, похоже, не в себе, ваше высокоблагородие, — вынес вердикт квартальный надзиратель.
— Вижу, — буркнул в ответ Татищев.
— Так мы ее тово, в участок? Может, посидит у нас, оклемается?
— Может, — мрачно произнес Павел Андреевич и пошел прочь. Мысли путались. Да и, честно говоря, не было среди них ни одной толковой.
Глава девятая
О непользительности советов двуличных графов. — Случай на прогулке. — Кому принадлежала ботфорта, или призраки иногда разговаривают. — Птички из запертых клеток не улетают. — Об испорченных брабантских кружевах и нетрадиционном использовании золотых табакерок и гвардейских шарфов. — Тайник под периной или секретное письмо. — «Ты умрешь…»
Крик послышался со стороны кухоньки, смежной с прихожей в его покои. Павел резко открыл глаза и сел на постеле. Голос, кажется, был камер-лакея, впрочем, какое сейчас имело значение, кто кричал? Главным было то, что они все-таки решились: их шаги, на время замершие возле прихожей, стали приближаться к его спальне. Павел вскочил с постели и бросился к двери, ведущей в покои императрицы, потом встал как вкопанный, вспомнив, что еще третьего дня ее заколотили по совету графа Палена, якобы в целях безопасности.
— Сволочь, какая сволочь, — прошептал Павел, растерянно оглядываясь. И тут, в углу за каминным экраном, увидел худощавую фигуру человека высокого роста в испанском плаще, скрывавшем нижнюю часть лица. Верхняя часть была также сокрыта тенью от полей шляпы, надвинутой на самые глаза.
— Павел! — глухо произнесла фигура, и на императора пахнуло холодом, будто перед ним настежь распахнулись двери ледника. — Бедный Павел…
Лет двадцать назад, после одного славно проведенного вечера, кои у цесаревича Павла Петровича выдавались не столь часто, решил он со своим приятелем князем Куракиным побродить по Петербургу инкогнито. Стояла весна, было тепло, и луна светила так, что при желании можно было вполне сносно читать какой-нибудь французский роман. Дышалось легко, на душе было весело и покойно, и казалось, что все горести и напасти кончились, а ждут великого князя единственно радость и счастие. Один из его слуг шел впереди, рядом с цесаревичем — князь Куракин. Второй слуга замыкал сию процессию. Павел с Куракиным беспечно болтали обо всем и ни о чем. Вдруг возле одного из парадных внимание великого князя привлекла фигура человека высокого роста, худощавого, в испанском плаще и шляпе, надвинутой на самые глаза. Казалось, незнакомец кого-то поджидал. Когда процессия поравнялась с ним, человек в плаще выступил от подъезда и молча пошел слева от Павла. Как цесаревич ни всматривался в него, ему не удавалось разглядеть черты его лица. Однако шаги по мостовой тот печатал так громко, что, казалось, камень бьется о камень. Сначала Павел очень удивился такому прибавлению в их компании, потом почувствовал, что его левый бок замерзает, словно незнакомец, шедший рядом, был сотворен изо льда. Стуча зубами от холода, великий князь повернулся к Куракину и спросил:
— Как тебе наш новый спутник?
— Какой спутник? — удивился Куракин.
— А вот тот, что идет по левую руку от меня, и притом довольно громко идет.
— Я никого не вижу, — ответил Куракин после недолгой паузы, во время которой он, верно, пытался присмотреться.
— Да вот же! — остановился Павел. — В плаще, слева, между мной и стеной!
— Ваше высочество, слева от вас никого нет, только стена.
— Да как же стена! — возмутился будущий император и протянул руку. Но он коснулся лишь шершавого камня. Рука цесаревича беспрепятственно прошла сквозь незнакомца, присутствие коего он продолжал чувствовать рядом и даже различал его одеяние. Затем Павел пристально взглянул на него и встретился со сверкающим из-под шляпы завораживающим, знакомым взглядом. Как будто он когда-то давно видел этот взгляд.
— Куракин, — обратился к приятелю цесаревич, дрожа все сильнее и чувствуя, как кровь стынет в его жилах. — Не могу изъяснить, но это очень странно…
И вдруг незнакомец позвал великого князя печальным глухим голосом, точно сидел на самом дне глубокого колодца:
— Павел!
Влекомый какой-то могущественной силой, цесаревич тотчас ответил:
— Что вам надобно?
— Павел, — повторил незнакомец снова, однако голосом более мягким, но тем же печальным тоном.
— Ты слышишь? — снова спросил Куракина цесаревич, превозмогая лютый холод.
— Ничего не слышу, ваше высочество, — отозвался тот.
Великий князь продолжал смотреть на незнакомца. В том, что это призрак, цесаревич уже не сомневался.
— Павел. Бедный Павел, — произнес призрак.
Шляпа его сама собою приподнялась и открыла лоб. Цесаревич узнал его и отпрянул в изумлении, но прежде, чем он пришел в себя, незнакомец бесследно исчез. Только какое-то время был еще слышен звук удаляющихся шагов.
— Это вы? — прошептал Павел.
Ни слова не говоря, фигура черным крылом распахнула плащ, как бы приглашая его укрыться под ним. Блик света упал на бледное лицо призрака, и Павел узнал: это был тот человек, которого они встретили, когда с князем Куракиным решили побродить по Петербургу инкогнито. Узнал Павел и круглые, как у кота, глаза, смотрящие на него с каким-то холодным участием, и жесткую ниточку усов, тонкими стрелками торчащих в стороны.
Павел быстро скользнул к призраку и присел на корточки, обхватив руками ботфорту. Плащ запахнулся, обдав его ледяным холодом, и наступила тьма.
* * *
— Его здесь нет! Сбежал?!
— Не может быть! Далеко не уйдет, всюду наши караулы.
— Никуда он не денется, господа, постеля совсем теплая. Наша птичка не улетела, она где-то здесь спряталась.
Павел узнал голос. Последнюю фразу сказал отставной генерал-поручик Беннигсен. А потом над самым ухом императора прозвучало:
— Le voila![1]
Павел открыл глаза. Прямо над ним, облокотившись о каминную полку, стоял длинный и сухой, как жердь, барон Беннигсен и насмешливо смотрел в глаза императору.
— Государь, вы перестали царствовать, — не меняя позы, как бы мимоходом обронил генерал-поручик.
— А, господин англинский подданный, — не сводя с него горящих глаз, поднялся с корточек Павел. — Теперь вы здесь приказываете, больше, верно, некому?
— Вы арестованы, ваше величество, — произнес кто-то за спиной Беннигсена.
Павел поднялся на цыпочки, дабы разглядеть сказавшего, и увидел князя Зубова.
— Что ж вы это творите, Платон Александрович?
Светлейший хотел было ответить, но тут в комнату ворвался незнакомый Павлу поручик и что-то шепнул Зубову на ухо. Тот кивнул и поспешно вышел, и тотчас в прихожей раздался топот ног и шум.
— Солдаты! — с тревогой воскликнул кто-то, и заговорщики ринулись вон из спальни.
Беннигсен побледнел, но не тронулся с места. Павел сделал несколько шагов по направлению к нему и увидел шпагу, нацеленную ему в живот.
Шума борьбы в прихожей слышно не было. Напротив, двери в императорскую опочивальню открылись, и вместе с недавно вышедшими офицерами в спальню вошла еще одна группа заговорщиков, тесня один другого, между коими Павел узнал двух других братьев Зубовых, полковника Аргамакова, статс-секретаря Трощинского, князя Яшвиля и командира Преображенского полка генерала Талызина.
— Что все это значит? — Павел старался говорить громко и уверенно. — Я требую объяснений!
— Еще четыре года тому с тобой следовало бы покончить! — пьяно воскликнул кто-то.
— Что я сделал? — в негодовании воскликнул Павел.
— Ваш деспотизм слишком тяжел для нации, — провозгласил Платон Зубов, стараясь не встречаться взглядом с Павлом. — Мы пришли требовать вашего отречения от престола!
— Отречения?! — закричал Павел и вытянул руку, указуя перстом в сторону говорившего. — Вы полагаете, что вы вот так можете входить в спальню императора и требовать его отречения?!
— Что ты так к-кричишь? — пьяно скривился граф Николай Зубов и ударил Павла по руке. Павел с силой оттолкнул его, и тот пошатнулся, поскольку был совершенно пьян.
— Не смейте касаться меня! — с негодованием воскликнул Павел.
— Его императорское величество брезгуют вами, граф, — сказал в затылок Зубову генерал Талызин.
Зубов обернулся, посмотрел на генерала и, круто развернувшись, наотмашь хлестнул Павла по лицу, поцарапав массивным перстнем его щеку. Несколько алых капелек императорской крови попало на белоснежные брабантские кружева манжеты графа.
— Ах ты, с-сука! — выпучив глаза на испорченные манжеты, воскликнул в бешеной ярости Зубов и с высоты своего огромного роста что было силы ударил императора кулаком с зажатой в нем массивной золотой табакеркой.
Удар пришелся Павлу в висок и свалил его с ног. Император опрокинулся на ширмы, и Зубов, дико оскалившись, начал бить его ногами в тяжелых ботфортах. К Зубову присоединились несколько заговорщиков. Император отчаянно сопротивлялся. Кто-то эфесом шпаги ударил его по голове, а поручик Измайловского полка Скарятин сорвал с себя гвардейский шарф и подал его князю Яшвилю. Князь, навалившись всем телом на Павла, обернул шарф вокруг шеи императора и принялся душить. Павел хрипел и вырывался. К Яшвилю присоединился полковник Татаринов, и вдвоем они затянули на шее императора узел.
— Уложите его на кровать, — приказал Беннигсен, когда все было кончено.
Тело Павла подняли и положили на кровать.
— Найти лейб-медика, пусть приведет его в порядок, — продолжал командовать Беннигсен, спокойно рассматривая картины на стенах императорской спальни. — И не пускайте сюда императрицу ни под каким предлогом.
— Я расставлю вокруг дворца караулы, — произнес генерал Талызин.
— Хорошо, Петр Александрович, — кивнул Беннигсен. — Славная получилась револьюция, не правда ли?
Талызин мельком глянул на барона, ничего не ответил и вышел.
Преображенцы выстроились, ждали во дворе.
— Братцы, император Павел скончался! — прокричал им Талызин. — Да здравствует император Александр!
Солдаты ответили гробовым молчанием.
— Поручик Марин, — обратился потемневший лицом Талызин к начальнику внутреннего караула Преображенского полка. — Расставьте караульные посты.
Когда Талызин вернулся в покои Павла, там уже никого не было, и только лейб-медик Вилие колдовал над трупом с мазями и гримом, дабы наутро бывшего императора можно было показать войскам и императрице в доказательство его естественной смерти. Бледный, с трясущимися руками, Вилие смывал с тела Павла кровь и замазывал раны гримом. Но на лице покойного императора опять проступали синие и черные пятна.
— Господин Вилие, у вас плохо получается. Вы торопитесь и слишком взволнованы. Ступайте в сад, подышите воздухом, успокойтесь, — заявил медику Талызин.
— Но, господин генерал… — попытался было возразить Вилие, однако Петр Александрович повторил ему тоном, не терпящим никаких возражений:
— Ступайте!
Когда лейб-медик вышел, Талызин, приказав страже у дверей никого не пускать, подошел к телу императора. Он посмотрел на его полуприкрытые глаза, вздернутый нос, плотно сжатый рот, затем наклонился и стал шарить рукой под периной. Тот факт, что Павел кладет особо важные бумаги себе в постель, намереваясь прочитать их ночью, Петру Александровичу однажды со смешком поведал граф Никита Панин, инициатор заговора против императора. Никита Петрович был племянником воспитателя цесаревича Павла обер-гофмейстера графа Панина, жил в его доме, и дядя много рассказывал ему о привычках цесаревича, а затем и государя. И вот — пригодилось!
Пальцы Талызина вскоре нащупали угол плотной бумаги. Он потянул его на себя и вытащил на свет одинокого ночника, стоящего на столике в головах постели, довольно большой и тяжелый конверт. Он был распечатан. Выходило, что Павел либо успел прочитать его содержимое, либо вот-вот собирался это сделать.
Петр Александрович поднес ближе к глазам угол конверта с половинкой красной сургучной печати и удовлетворенно кивнул. На сургуче ясно виднелся гербовый оттиск печатки отправителя: под мальтийской короной часть итальянского щита, окаймленного двумя флотскими ленточками с родовым девизом:
IN LUCE LUCET[2]
Талызин сунул конверт за пазуху и выпрямился, и в этот момент в углу за каминным экраном увидел неясную тень. Это была фигура человека высокого роста в шляпе и плаще, топорщащемся с одного бока так, словно под его полой скрывался кто-то еще, много меньше ростом или присевший на корточки. Шляпа его вдруг сама собою стала приподниматься и открыла зловещий взгляд, направленный прямо в зрачки Талызина.
— Ты умрешь, — глухо произнесла фигура, обдав Петра Александровича ледяным холодом.
«Мы все умрем», — хотел ответить генерал отважно и дерзко, но у него ничего не вышло. Пытаясь отогнать видение, он прикрыл глаза и мотнул головой. Когда открыл глаза вновь, за каминным экраном тени уже не было. Талызин глянул на покойного императора, заставил себя криво усмехнуться и, повернувшись, пошел к выходу из спальни, ежась от стекающих по груди и спине капелек холодного пота.
Глава десятая
— Император умер, да здравствует император! — Что пишут «Санкт-Петербургские губернские ведомости». — Случайностей в жизни не бывает. — Сэр Ньютон и Зверь из Жеводана. — Репортеры тоже неплохо стреляют. — Анна Александровна начинает действовать. — Крестьянская дочь Евфросиния Жучкина. — «Крайне странный случай». — Как багровел доктор Иван Карлович Штраубе. — Две скучающие сущности, или загадочные пророчествования ясновидящей блудницы.
Город шумел. Множество людей вырядилось в противуправительственные круглые шляпы и запрещенные ранее сапоги с отворотами — фрондистов императорских указов относительно одежды и поведения в быту оказалось едва ли не половина столицы.
— Свобода! — слышалось на каждом углу. — Да здравствует свобода!
— Да здравствует император Александр! — слышалось гораздо реже.
Глупые и недалекие разумом люди сияли. Умные почесывали затылки: «А далее-то что»? Мудрые же спокойно наблюдали и не строили никаких догадок. Для них никогда ничего не менялось, ежели они того не хотели сами. Ибо все, что заключал в себе мир, находилось внутри них.
Коляска Анны Александровны свернула на Садовую, едва не сбив какого-то крестьянина. Он взирал на всеобщее ликование, но был далеко не весел. Крестьянин, вдруг задумавшийся о происходящем — как вам? Абсурд? Нонсенс? Фантазм? Впрочем, ведь это смерть, тем паче российского императора, — что ж тут веселого, господа?
Не было ничего веселого и даже обнадеживающего и в состоянии здоровья Нелидова. Конечно, два-три дня — срок, который отвел для жизни Бориса Андреевича консилиум медицинских светил — уже истекли, и именно ее несомненной заслугой стало то, что больной продолжал жить. Однако Анна Александровна не излечивала саму болезнь, а только блокировала ее развитие. И с каждым днем от нее требовалось все больше усилий. Рост опухоли в мозге удалось приостановить, но она не сделалась меньше, и даже не наметилась тенденция к ее убыванию. Это значило, что Турчанинова лишь затормозила процесс умирания Нелидова, и только. Как жаль, что со смертью адмирала де Риваса потерялись концы, ведущие к книге из тайника Бориса Андреевича. Ее возвращение, несомненно, положительно сказалось бы на его самочувствии и, возможно, привело бы к исцелению.
Вернувшись от Нелидова домой, Турчанинова весь вечер слагала стихи. Сочинительство стало для нее и отдохновением, и некоей подпиткой сил телесных, кои нужны были во множестве при пользовании Нелидова-старшего. Всякий раз, как ей удавалось вернуть ему на время движение членов и речь, он тотчас спрашивал про «Петицу».
— Ищут, — отвечала Анна и отводила глаза в сторону.
Вот и сегодня она сказала: «Ищут», — хотя Нелидов-младший поведал ей о смерти вчера адмирала де Риваса и утере нитей, хоть как-то ведущих к книге. Был он мрачен, с потухшим взглядом, и казалось, что еще немного, и ей придется пользовать уже обоих Нелидовых.
Ночь принесла ей настоящее отдохновение, и утром она проснулась бодрая и светлая духом.
— Ничего, мы еще с тобой поборемся, — неизвестно кому заявила она вслух и, проделав положенные по утрам процедуры, занялась туалетом. Сие заняло у нее ровно три минуты. Затем она велела принести кофей и свежую газету.
Объявление о кончине императора Павла в ночь с одиннадцатого на двенадцатое марта было крайне сдержанным. Далее шло известие о похоронах адмирала и кавалера И. М. де Риваса: где происходила прощальная литургия, кто и какие речи говорил, и где тело адмирала было предано земле. Анна Александровна пила кофей и думала о своем, рассеянно пробегая глазами строчки.
От Вологодского губернского правления объявляется, дабы желающие взять в услужение с аукционного торгу описных помещика Семена Полудурова Грязовецкой округи сельца Щепотьева, оцененных: Ермилу Дубинина, 70 лет в 10 рублей, жену его Макрину Дубинину 50 лет — в 5 рублей, Гервасия Херимонова 40 лет в 30 рублей, жену его Асклипиодоту Херимонову 30 лет в 20 рублей, — явились в правление в назначенные для продажи сроки…
Как помочь Нелидовым? И где искать эту злополучную книгу?
Продается подержанный чепрак, обшитый широким позументом и бахромою, походная кровать, кресла с выдвижною из оных кроватью и весьма удобная дорожная коляска. Спросить о них едучи к конной гвардии в смежном с Таврическим садом каменном доме у живущих над погребом…
Может, устроить осмотр библиотеки покойного адмирала де Риваса? А что, если попросить об этом подполковника? Он служит в Тайной экспедиции. Но как же он несносен, этот Татищев!
Анна Александровна перевернула страницу газеты и уперлась взглядом в раздел хроники происшествий.
Третьего дня в Охтинской части в доме мещанина Скубентова скоропостижно умер отставной вице-фейерверкер Агап Сивухин. Врачи констатировали смерть от непомерного количества выпитой померанцевой водки…
«Придется с ним поговорить. Конечно, разговор будет не из приятных, но что делать», — подумала она.
Вчера ночью из арестантской камеры при съезжем доме Выборгской части бежал содержащийся под арестом за кражу малоношеной пестрядинной рубахи и новых пестрядинных же портов кантонист Сосипатр Евпсихиев…
«Так и скажу этому сухарю-подполковнику: надо найти и вернуть книгу, иначе господин Нелидов умрет. Татищев хоть и очерствел на этой своей службе, но имеется же у него сердце?»
Как мы уже сообщали ранее, взятая полициею 3-й Адмиралтейской части Марта 10 числа сего года у дома Калмыкова близ Каменного моста молодая женщина, не могшая из-за невменяемости состояния ответить ни на один вопрос, была опознана как Евфросиния Степанова Жучкина, крестьянская дочь деревни Рясь волости Чудцовой Тихвинского уезда С.-Петербургской губернии. Помещенная для излечения в Дом призрения умалишенных Обуховской городской клиники, Жучкина, по словам пользующего ее доктора И. К. Штраубе, стала вдруг вести себя весьма странно: она свободно разговаривает на доселе незнакомых ей иноземных языках и пророчествует. Некоторые ее пророчества сбываются…
* * *
Замечали ли вы за собой, милостивые государи, следующую странность? Когда мы находимся в каком-либо сомнении или нам надобно что-то решить и предпринять, так ежели не сразу, то по прохождении времени не слишком большого нам словно кто-то начинает помогать и все складывается таким образом, случайным на первый взгляд, что искомое находится и решение приходит как бы само собой.
Каким образом в голову сэра Исаака Ньютона пришла мысль о силе всемирного тяготения? Ведь он раздумывал об этом не единожды, но сформулировать не мог.
И вот с ветки дерева падает яблоко. Почему оно падает именно в тот момент, когда под деревом сидит Ньютон? Почему он в данное время проживает в деревне, где, в отличие от Лондона, большая вероятность увидеть падающее яблоко?
Да потому, что страшная напасть — чума выгнала его из города. А открытие закона совершается им потому, что в последнее время, по его собственным словам, он «думал о математике и философии больше, чем когда-либо после». Вот и нашлось решение, пришедшее словно бы само собой. Но на поверку оказывается: не все так просто.
Или, к примеру, дело «Зверя из Жеводана».
Сия леденящая кровь история, когда какое-то неведомое науке животное, давно исчезнувшее с лица земли, но каким-то образом сохранившееся в диких горах юга Франции, терроризировало жителей Жеводана, произошла несколько десятилетий назад. В течение трех долгих лет на склонах холмов Маржерида и его окрестностей находили трупы девочек, девушек, женщин и мальчиков, изуродованных, расчлененных и изнасилованных. С жутким постоянством эти убийства происходили ежедневно, исключая ночные часы, когда, по-видимому, Зверь отдыхал.
Его видели многие. Почтенный господин де Энневаль, егерь, убивший за свою жизнь не одного волка и не двух; несколько драгун с их капитаном господином Дюамелем, погонщики мулов, кузнец, жестянщик и несколько мелких ремесленников и торговцев. И все они в один голос заявляли, что Зверь не похож на волка или гиену.
Господин де Энневаль, егерь, утверждал, что Зверь был огромного роста, мог ходить на двух лапах и являл собою некую помесь гиены и огромной ящерицы. Глаза у него, по заверениям егеря, были человеческие, а язык змеиный.
Местные власти ничего не могли поделать. Охотники, собравшиеся со всей Франции и даже Европы, проводили облавы и также видели Зверя, но тот всегда ускользал. Порою казалось, что он логически мыслит. Об этом во всеуслышание заявили «Газет де Франс» и «Курье д’Авиньон». Король объявил большую награду за убийство Зверя, но никому из охотников не удалось ее заполучить.
Король направил в Жеводан армейские подразделения. Но Зверь оказался хитрее. И продолжал убивать, насиловать и расчленять с маниакальным усердием и постоянством.
Тогда, дабы положить конец злодеяниям Зверя, в Жеводан высочайшим повелением был направлен Главный смотритель королевских охотничьих угодий со своими людьми и собаками. Но и ему не удалось убить Зверя. И дабы скрыть неудачу, но не потерять своих позиций при дворе короля, Главный смотритель убил крупного волка и выдал его за Зверя. Он совершил ряд манипуляций с убитым животным, чтобы он выглядел огромнее и ужаснее. И заставил жителей Жеводана признать, что убито именно то страшное существо, что наделало столько бед.
Хитрого царедвореца встретили при дворе с почестями и славой. Король во всеуслышание заявил, что Зверь побежден. Сам Главный смотритель королевских охотничьих угодий изготовил из него чучело, придав ему дикий устрашающий вид. Чучело было выставлено в Лувре, дабы любой посетитель королевского дворца мог восхищаться подвигом Главного смотрителя, который, естественно, являлся величайшим охотником в мире.
Поразительно, но все поверили, что пойман именно Зверь. Все, кроме репортера «Газет де Франс» Шарля Шателя. Он неоднократно бывал в предгорьях Маржерида, видел изуродованные и расчлененные трупы девушек и женщин, и именно его репортажи будоражили чувства и вселяли ужас в души читателей и подписчиков со страниц «Газет де Франс».
Взяв с собою ружье и тетрадь для записей, Шарль Шатель снова отправился на холмы Маржерида. И хоть бедствия жителей Жеводана на время прекратились, он сам решил выследить и убить Зверя.
Через неделю после его приезда у предгорий Маржерида была найдена изуродованная и изнасилованная анально девица пятнадцати лет по имени Абелия-Стефания. Ее живот был вспорот, а голова валялась в шагах трех от тела. Все указывало на то, что Зверь снова начал свое изуверское веселие. Шарль Шатель нашел следы Зверя. Они вели в сторону горы Рандон. Там, на одном из крутых восточных склонов, он и устроил секрет.
Неделю он находился безвылазно в секрете, терпеливо выслеживая Зверя, и видел его лишь один раз, да и то мельком. Зверь прошел от него в футах двадцати, опасливо приподняв плечи и все время глядя в его сторону, будто бы чуя его присутствие. Выстрелить Шарль не успел, потому что Зверь быстро скрылся в зарослях кустарника. Шел он вертикально и был похож на огромную обезьяну с вытянутой вперед мордой гиены и длинным чешуйчатым хвостом, волочащимся по земле.
Просидев безрезультатно еще несколько дней, Шарль переместил секрет ближе к тому месту, где прошел Зверь. Но тот, похоже, сменил тропу.
Тогда Шарль устроил засаду возле леса. Там тоже имелись следы Зверя. Однако тот будто чуял опасного для себя человека. Лишь единожды репортеру удалось увидеть спину Зверя. Когда тот тащил полуживого мальчика за ногу себе в логово.
Как-то, сооружая и маскируя новый секрет у подножия горы Рандон, недалеко от овечьего выпаса и ложбины, где Зверь напал на мальчика-пастушка и утащил его, Шарль вдруг оступился и упал, вымазавшись в овечьем дерьме. Вычиститься возможности не было, поэтому Шарль Шатель, кое-как смахнув с себя кусочки овечьего говна, залег в секрете и принялся ждать. На его удивление, ждать пришлось недолго. Зверь появился буквально через несколько часов. Он спускался с горы и насвистывал какую-то популярную мелодию. Репортер не сразу вспомнил, что это мелодия народной песни «La Pernette» в натуральном миноре. В ее четырнадцати куплетах говорилось о бедной девушке, которую повесили на площади с ее женихом, крепко провинившимся перед властями. А может, Зверь насвистывал и не «Пернетту». Ну откуда, скажите на милость, было ему знать эту мелодию в обработке великих мастеров Ренессанса Жоскена Депре и Гийома Дюфаи?
Так или иначе, но Зверь шел прямо на секрет. На сей раз он, похоже, не почуял опасности. Ведь репортер пах не человеком, а овечьим дерьмом. А какая опасность может исходить от овечьих какашек? Разумеется, никакой!
Когда Зверь подошел на расстояние десяти шагов, Шарль выстрелил. Потом еще раз, и еще. Первая пуля попала Зверю в морду. Он взревел, закрыв пораженное место лапой. Вторая пуля пронзила Зверю грудь, а третья поставила на его жизни точку, попав в сердце. Хороший стрелок был этот Шарль Шатель.
Случилось это в июне 1767 года. И жители Жеводана смогли наконец вздохнуть свободно.
У репортера «Газет де Франс» все получилось, потому что он споткнулся на ровном месте и упал. И вымазался в овечьем дерьме, отбив от себя тем самым запах человека, коий столь тонко чувствовал Зверь.
Вроде бы не столь уж и значительная деталь — упасть и испачкаться в говне. Но она повлекла за собой желаемый результат. Потому что была послана столь к месту и в столь подходящее время, что глупо думать, будто это просто случайность.
* * *
Кто вложил в руки Анны Александровны газету, читать которые по утрам за чашкою кофею не было в ее обыкновении совершенно? Объяснение лишь одно: в «Ведомостях», в хронике происшествий, содержалась необходимая информация. Воистину кто ищет — обрящет.
Она прочитала заметку про крестьянскую дочь Жучкину дважды. Вначале, как и прочие строчки, машинально. Второй раз — уже нарочно, холодея от предчувствия.
Во-первых, бросилось в глаза роковое число — 10 марта. Дата смерти адмирала де Риваса. Находилась сия невменяемая Жучкина возле его дома. Случайное совпадение?
Во-вторых, знание крестьянской дочерью иноземных языков, пророчествование, а иными словами — ясновидение могли появиться у нее только при пятой и шестой степенях магнетического влияния и никак иначе. Стало быть, на нее кто-то воздействовал. И этот кто-то — большой мастер магнетических практик.
Только вот зачем он произвел это с ней? Кто сей мастер? С какой целью он ввел ее в столь высшие степени магнетического воздействия? Чтобы стереть память? Выходит, она знала то, что ей не положено знать?
Судя по заметке, Жучкина находилась в магнетическом сне-яви уже несколько дней. Таковой случай столь длительного пребывания в сем состоянии Анне Александровне был известен только однажды. И он произошел в Москве почти два года назад.
Холодные мурашки пробежали по телу Турчаниновой.
Неужели Магнетизер объявился снова, теперь уже в Петербурге? Первый среди сильнейших, феноменальный мастер, виртуоз-убийца, почти не оставляющий следов!
Зачем он здесь? И что он делал у дома де Риваса?
* * *
Обуховская больница находилась на набережной Фонтанки недалеко от Обуховского прошпекта и одноименного моста. Турчанинова прошла мимо центрального мужского корпуса больницы и вошла в парадную небольшого дома, выкрашенного в желтый цвет. Окна были забраны решетками, что придавало дому вид тюремного острога. В ординаторской навстречу ей из-за стола поднялся небольшого роста весьма плотный господин.
— Анна Александровна Турчанинова, — представилась она, без приглашения садясь на стул возле стола под зеленым сукном.
— Очень приятно, — подался вперед плотный господин, изобразив на лице несказанное удовольствие. — Ординатор Желтого дома… простите, психиатрической клиники статский советник профессор Осташков Михаил Семенович. Я, кажется, немного слышал о вас. — Турчанинова заметила насмешливость в его глазах, с коей медики, знающие о ее пристрастии к магнетическим практикам, обычно смотрели на нее. — Вы ведь, насколько мне известно, пытаетесь лечить больных животным магнетизмом?
— Я владею некоторыми техниками излечения больных с помощью магнетических практик, однако, поскольку не имею медицинского образования, не считаю себя вправе вести регулярную врачебную практику. Так, иногда помогаю знакомым, когда они о том меня слишком настойчиво просят.
— Вот это похвально, — потеплел взглядом Осташков. — А то, знаете ли, в последнее время развелось столько шарлатанов, совершенно далеких от врачебной науки, однако утверждающих, в силу «несомненной своей исключительности и выдающихся способностей», что они могут излечить любого от любой болезни. Таковыми сейчас хоть пруд пруди.
— Совершенно с вами согласна, — произнесла Анна Александровна крайне серьезно. — Поверьте, я в число таковых входить совершенно не намерена.
— Ну, вот и хорошо, — окончательно успокоился Осташков. — Чем могу служить?
— У вас находится некая крестьянская дочь Жучкина. Мне кажется, я ее знаю, — соврала Анна.
— Знаете? — искренне удивился статский советник и слегка покраснел. — Но ведь она… как бы это мягче выразиться? Из тех девиц, что предоставляют плотские утехи мужчинам за деньги. Девица весьма легкого поведения.
— Знаю, — опять соврала Анна и твердо добавила: — К этому ее могли принудить несчастливо сложившиеся обстоятельства.
— Обстоятельства? Какие такие «обстоятельства» могут принудить девицу продавать свое тело, ежели, конечно, она девица порядочная и честная? Таких обстоятельств, сударыня, не существует в природе!
— Она голодала, — быстро произнесла Турчанинова первое, что пришло ей в голову.
— Ну и что! Ежели у нас все, которые недоедают, начнут заниматься развратом, чтобы быть сытыми, то Россия превратится в сплошной, простите меня, бордель!
— Вы преувеличиваете, господин статский советник.
— Возможно. Однако можно устроиться поденщицей в дома, мыть полы, посуду, стать прачкой, солдатской портомоей, наконец. Нет, эти девицы просто не хотят честно работать. — От возмущения доктор даже вышел из-за стола и стал расхаживать по ординаторской. — Никакие обстоятельства не могут принудить нормальную девицу заниматься продажной любовью, кроме распущенности и врожденной порочности. И многие научные труды, появившиеся в последнее время, прямо на то и указуют…
— Вы, возможно, правы. А кто сказал вам… о роде ее занятий?
— Ее товарки. Они обратились в полицейскую часть по поводу ее исчезновения. Там у них взяли описание примет и нашли ее уже здесь, в Желтом доме. Они опознали ее, а вот она…
— Их не узнала, — закончила Анна.
— Верно, — сказал доктор. — А откуда вы знаете?
— Я могу ее видеть? — Турчанинова вовсе не хотела рассказывать доктору о своих способностях. Помимо прочего, этим можно было испортить его впечатление о ней.
— Посещения больных у нас не запрещены, — не очень уверенно произнес Михаил Семенович. — Только хочу вас предупредить, что она совершенно не в себе. Она не помнит, как ее зовут, и вряд ли узнает вас.
— Узнает, — заявила доктору Анна Александровна весьма твердо. — Меня она узнает.
* * *
— Крайне странный случай, — сказал доктор Иван Карлович Штраубе Анне Александровне, когда профессор Осташков провел неожиданную посетительницу в его кабинет. — Мне еще никогда не приходилось сталкиваться с подобными симптомами умопомешательства. Эта блудница, как ни странно, более похожа на блаженную, нежели на обычную душевнобольную.
— А вы не можете мне сказать, в чем это выражается?
— Она каким-то образом угадывает, что было, что и с кем происходит в данный момент и даже что произойдет в будущем. Причем некоторые ее предсказания сбываются точно и в срок, — с нескрываемым удивлением ответил Иван Карлович.
— Например?
— Неловко признаться, однако что было, то было, да и сам факт этого ее угадывания крайне любопытен, — начал Штраубе. — Видите ли, при составлении моего формулярного списка по приезде сюда, в Россию, канцелярист сделал одну оплошность. Я родился в городе Герборне княжества Нассаусского. А канцелярист записал «Носсаусского». Заметил я это не сразу, а когда заметил, то жил уже не в Москве, а в Петербурге и собирался поступать сюда, в эту клинику, на службу. И я — каюсь — самостоятельно исправил в слове «Носсаусского» первое «о» на «а». При первом же осмотре больная, погрозив мне пальчиком, сказала, что исправлять официальные документы есть совершеннейший подлог и подсудное дело.
«О чем вы?» — спросил я, сделав вид, что не понимаю ее.
«О вашем формулярном списке, — ответила она, улыбаясь, — в нем вы в названии княжества, в коем родились, исправили „о“ на „а“. Нехорошо, право».
«Глупости вы какие-то говорите», — ответил ей я, хотя прекрасно понимал, что она права. Но как она могла это узнать, если кроме меня об этом не знал никто?
Турчанинова едва улыбнулась и спросила:
— Были еще какие-нибудь странности?
— Вчера, когда я производил вторичный осмотр больной, она сказала, что младший брат моей супруги Фридрих Эммануил три недели назад умер, подавившись вишневой косточкой. Она так и сказала: мол, Фридрих Эммануил скончался двадцать третьего апреля в три часа пополудни, подавившись вишневой косточкой за обедом. Я, хотя она и назвала брата жены по имени, конечно, не поверил, посчитав сие за бред умалишенной, однако сегодня утром получил я с оказией письмо от родных, в котором сообщалось: «Двадцать третьего апреля в три часа пополудни брат вашей жены скоропостижно скончался, подавившись за обедом вишневой косточкой». Представляете, — Штраубе как-то беспомощно взглянул на Анну Александровну, — она не только угадала, как зовут брата моей жены, но также верно назвала причину его смерти, ее точный день и час. Вчера же она сообщила, что завтра, сегодня то есть, ее придет навестить одна старая дева, которая…
— Старая дева, про которую говорила вчера ваша пациэнтка, это я, — не дала договорить Ивану Карловичу Анна.
— Вы?!
— Я, — повторила, кивнув для убедительности головой, Турчанинова. — Как видите, она не ошиблась и на сей раз.
— Выходит, что так, — раздумчиво произнес Штраубе.
— А вы что думаете об этом? — спросила Анна Александровна, пытливо посмотрев на доктора.
— Да уж не знаю, что и думать, — растерянно признался Иван Карлович. — Уверен я только в одном: эта Жучкина перенесла какое-то тяжелое для ее организма потрясение, что вызвало функциональные сдвиги в сознании, обострив ее память и фантазию.
— Память — да, вы правы. А вот фантазию — нет, — безапелляционно промолвила Турчанинова.
— У вас имеется особое мнение на сей счет? — не смог скрыть язвительнсти Штраубе.
— Имеется, — подтвердила Анна.
— И вы сможете изложить его мне? — с недоверием и известной долей насмешки, возможной при общении с дамами, спросил Иван Карлович.
— Извольте, — легко согласилась Турчанинова. — Вы ведь исправили название места, где родились?
— Да, исправил, — согласно кивнул Штраубе.
— А брат вашей жены действительно умер, подавившись за обедом вишневой косточкой?
— Да, к сожалению. Супруга очень переживает.
— И умер он в тот день и час, на которые указала вам Жучкина? — продолжала спрашивать Анна Александровна.
— Именно, — согласно кивнул доктор.
— И старая дева, то бишь я, пришла к вам, чтобы навестить ее?
— Ну… да.
— Тогда где же вы видите ее фантазию? — опять пытливо посмотрела в глаза Штраубе Турчанинова. — Налицо знание.
— Знание? — раздумчиво переспросил доктор.
— Именно. А что же еще? — скорее констатировала, нежели спросила Анна Александровна.
— Выходит, что все это не совпадения? Так вы полагаете?
— Разумеется, — твердо ответила Турчанинова. — Какие совпадения, уважаемый доктор? Она прекрасно знает, о чем говорит! В результате какого-то весьма сильного потрясения, тут вы правы, эта крестьянская дочь получила новые способности, которые и доставили ей знание того, что было, есть и будет. Знание, и ничто иное.
— Вы полагаете, что она стала…
— Ясновидящей? Это вы хотели сказать?
— Да, — кивнул головой Штраубе.
— И вы абсолютно правы, — заключила Анна Александровна тоном, не принимающим никаких возражений.
Штраубе, конечно, слышал про месмеризм, животный магнетизм и сомнамбул и даже кое-что читал про это, однако веры к сему учению не испытывал и в том, что тело человека есть магнит, а голова и ноги его полюса, крепко сомневался. Но посетительница говорила столь уверенно и убедительно, что он положительно был поколеблен в своем неверии. И когда мадемуазель Турчанинова предложила проводить ее к больной, Иван Карлович охотно согласился.
* * *
Палата у Жучкиной была светлой и чистенькой. Металлическая кровать, какую редко встретишь в мещанском доме, с хорошим матрацем и бельем, весьма приличная тумбочка для личных вещей, из коих у Жучкиной было обнаружено лишь крохотное зеркальце с трещиной поперек да тридцать пять копеек медью (верно, ее гонорар за неправедные услуги). Были также стул с изогнутой спинкой и небольшой кухонный столик — вот и все предметы, что составляли меблировку палаты. Правда, окно, выходящее во двор клиники, было забрано решеткой, кровать имела широкие кожаные ремни, коими при надобности, то есть агрессивном поведении, больную можно накрепко пристегнуть к кровати. Да еще все мебеля палаты были намертво привинчены к полу. Все напоминало нумер в гостинице с хорошей горничной. Постоялица же сего «нумера» оказалась молодой женщиной не без признаков природной красоты. Серо-голубые глаза смотрели ясно и спокойно, на полных губах играла легкая улыбка.
— Добрый день, — поздоровался Штраубе.
— Здравствуйте, — произнесла Анна.
— Здравствуйте, доктор, рада вас видеть у себя, госпожа Турчанинова, — благосклонно кивнула Жучкина. — Soyer le bienvenu![3]
Штраубе и Турчанинова переглянулись.
— Где вы так хорошо научились говорить по-французски? — спросил Иван Карлович.
— Нигде, — невозмутимо ответила Евфросиния. — Просто знаю, и все. Как и остальные языки. Когда-то ведь язык для всех живущих людей был един. Не считая, конечно, диалектов.
Доктор и Анна Александровна снова переглянулись.
— Was geht los?[4] — обиженно надула губки Евфросиния. — Вы мне не верите?
— Верим, — ответила Анна.
Блудница внимательно посмотрела на Турчанинову.
— Ну, раз это сказали вы, it’s more than enough.
— Это более чем достаточно? — перевела с английского ее фразу Анна Александровна.
Жучкина кивнула и мило улыбнулась. Как герцогиня, которая сознательно не делает различий между прислугой и ровней.
— Благодарю вас, — сказала Анна Александровна. — Вы меня знаете?
— Конечно, — улыбнулась Жучкина. — Вы Анна Александровна Турчанинова, магнетизерка и поэтка.
Она на мгновение задумалась и процитировала:
Погибели своей сама виновна я; Мне промысл указал к добру и злу дорогу: Одна стремится в ад, ведет другая к Богу; Из двух одну избрать властна душа моя…— Простите, это не мои стихи, — не очень уверенно произнесла Анна Александровна.
— Ваши, — усмехнулась Евфросиния. — Это строфа из ваших, еще не написанных стихов. Кстати, Бога нет. В общепринятом его понимании, разумеется.
— А что есть? — спросил доктор Штраубе.
— Что? — она немного задумалась, словно прислушиваясь к чему-то. — Есть, будем говорить так, игроки. Их двое, и им очень скушно. Потому что живут, если к ним можно применить это выражение, столь долго, что именно их считают теперь родоначальниками всего сущего.
— И эти игроки, как вы сказали, просто забавляются нами? — неожиданно спросила Анна.
— Забавляются? Что ж, можно выразиться и так. Забавляются и нами, и царями, и странами, словом, целым миром, даже не одним, а многими. Но это, — она приложила палец к губам, — страшная тайна, самая главная из всех тайн, и если вы узнаете даже часть ее, вам грозит гибель. Так что не советую вам стараться ее разгадать или даже приближаться к ее разгадке.
— Я учту ваш совет, — произнесла Анна Александровна. В том, что Евфросиния находится в состоянии шестой степени магнетического сна-яви, Турчанинова уже не сомневалась. Но какова сила Магнетизера! Она еще никогда не видела людей в таком просветленном состоянии, абсолютно разорвавшем покров внешнего сумрака, в котором мы все чьей-то невидимой волею пребываем. Сознание Евфросинии проницало с необыкновенной ясностью сокрытое в прошедшем, неизвестное и удаленное в настоящем и лишь зачатое в будущем.
Обладал ли некогда человек таковыми способностями? Вероятно. Ведь ничего, что не может быть в природе, в ней и не бывает. А ежели в человеке такие возможности были заложены изначально, то кто отнял их у него?
Турчанинова весьма пытливо смотрела в лицо провидицы, стараясь поймать ее взгляд. Когда это удавалось, Анна Александровна замечала, что глаза Евфросинии излучают тонкий и мягкий голубоватый свет, исходивший изнутри, словно там, за глазными яблоками, как за экраном-мираклем, горел какой-то мощный и яркий светильник.
После недолгого молчания Турчанинова тихо спросила:
— Можно, я вас осмотрю?
— Извольте, — чуть насмешливо ответила провидица.
Анна Александровна медленно приблизилась к ней и вдруг резко дунула ей в лицо. Не дав ей опомниться, Турчанинова распростерла над ней руки, тотчас почувствовав истекающее из кончиков пальцев тепло. Очевидно, это почувствовала и Евфросиния. Она удивленно вскинула брови и стала озираться, словно стараясь понять или вспомнить, где она находится. Анна Александровна, мало не касаясь тела провидицы, начала совершать ладонями округлые движения снизу вверх, будто окутывая Евфросинию клубами дыма или тумана с ног до головы. Доктор Штраубе, стоящий поодаль и неотрывно наблюдавший за пассами Турчаниновой, молчал и только часто моргал. Наконец Евфросиния размякла, ослабла и устало опустилась на стул.
— Как вы себя чувствуете? — ласково спросила Анна, дотронувшись до ее плеча.
— Хреново, — с хрипотцой и вульгарными интонациями вдруг ответила Жучкина. — А ты кто будешь, монашка?
— Нет, — так же ласково ответила Турчанинова.
— А пошто ты меня лапаешь? — подняв на Анну Александровну помутневшие глаза, спросила Жучкина.
— Ну…
— Хер гну, — отрезала блудница. — А может, ты из ентих дамочек, что не мужиков, а девок любят, а? — подмигнула Турчаниновой Жучкина. — Тогда ладно, можешь меня пощупать. Пятиалтынный токмо пожалуй и щупай сколь тебе угодно.
Она широко раздвинула ноги и призывно посмотрела на Анну Александровну.
— Вы что себе позволяете?! — не сдержался Штраубе. — Немедленно прекратите!
— А это что еще за хрен с горы? — кажется, только что заметила доктора Евфросиния. — Вы чо, — она снова посмотрела на Анну Александровну, — вместях притопали?
— Н-нет… да… — только и всего, что нашлась ответить Турчанинова.
— Стало быть, втроем любите кувыркаться, — резюмировала Жучкина. — Та еще парочка!
Она медленно оглядела обоих, прицениваясь, сколько можно запросить за свальный грех. Потом выдала:
— Семь гривен серебром с вас будет, господа хорошие. Денежку па-пра-шу вперед!
И прищелкнула языком.
Штраубе багровел медленно. Сначала воспылали его крупные мясистые уши, затем шея, а потом загорелось лицо.
— Прекратить! — наконец крикнул он. — Прекратить немедля! Здесь тебе не бордель, а государственная клиника!
И даже притопнул ногой.
— А ты на меня не ори, господин хороший, — удостоила его злым взглядом Евфросиния. — Орать и я умею. И ножками своими на меня не топочи. Не хошь еться, так и скажи.
Доктор задохнулся от возмущения. Верно, не приди ему на помощь Анна Александровна, он бы лопнул от ярости.
— Мы к вам пришли не за… этим, — с трудом промолвила она, продолжая в упор смотреть на Жучкину.
— А зачем?
— Задать несколько вопросов.
— Ха!
— Я вам заплачу, — пообещала Анна.
— Заплати, — хищно загорелась глазами Жучкина.
Турчанинова развязала висевший на запястье ридикюль и, пошарив в нем, достала рубль.
— Вот.
Евфросиния схватила бумажку и спрятала куда-то в юбки.
— Спрашивай.
— Вас нашли у дома Калмыкова возле Каменного моста десятого марта. Что вы там делали?
Блудница вспоминала довольно долго.
— Я была во флигеле.
— Вас нашли в невменяемом состоянии.
— Так я и не помню ни хрена. Вроде и выпили мы с энтим стариканом не так уж и много.
Она опять задумалась.
— Помню, вышла из ворот. Вечер стоял скверный, погода паршивая, да еще старикан жмотом оказался. Потом мужик какой-то появился из господ, в шляпе и черном плаще. Вроде хвостом я перед ним повиляла, а он… Нет, ничо не помню.
— Какой такой мужик? — резко подалась вперед Анна Александровна.
— Ну, тот, что из особняка вышел.
Жучкина вдруг обмякла и прикрыла глаза. Турчанинова схватила ее за плечо и потрясла. Никакой реакции, будто перед ней сидел не человек, а кукла. Затем по телу Жучкиной прошла дрожь, похожая на судороги, и она открыла глаза.
— Господа? — она обвела ясным и немного удивленным взглядом Турчанинову и Штраубе. — What’s happening?[5] Что вы здесь делаете?
— Мы пришли вас навестить, вы разве не помните? — ответила Анна. — А потом вы на минуточку потеряли сознание.
— Ах да, прошу прощения, — произнесла Евфросиния извиняющимся тоном.
— C`est ma fante[6], — сказала Анна.
— Да, ваша, — промолвила Евфросиния, задержав взгляд на Турчаниновой.
— Сударыня, — обращаясь к Анне Александровне, произнес доктор. — Мне кажется, нам пора.
— Конечно, — кивнула Турчанинова и обратилась к Евфросинии: — Благодарю вас.
— De rien[7], — мягко улыбнулась та.
— А можно вас еще навестить? — спросила Анна.
— Ну, отчего же нельзя, — разрешила Евфросиния. — Только они это вряд ли вам позволят.
— Кто они?
— Господин Штраубе и господин Осташков.
— Это так? — обернулась она к Ивану Карловичу.
Тот лишь молча пожал плечами.
— Так, так, — подтвердила ясновидящая. — Просто Иван Карлович сейчас погружен в собственные мысли. Одна из них обо мне, а другая о его милейшей супруге Софии Эммануиловне. Дело в том, что в последнее время Софи увлеклась неким гвардейским штаб-ротмистром Вронским. И в настоящее время направляется в его карете к нему на квартиру.
Евфросиния взглянула на теперь уже побелевшего доктора и добавила:
— Хотите знать, чем они будут заниматься там, скажем, через три четверти часа?
Она почему-то недолюбливала Ивана Карловича.
— Нет, не хочу, — ответила Анна и посмотрела на доктора. — Кажется, мне действительно пора уходить.
Штраубе кивнул и с убитым видом вышел из палаты.
— Прощайте, — сказала Анна.
— Прощайте, — ответила Евфросиния.
— Я увижу вас снова?
— Увидите, — с неожиданной печалью ответила молодая женщина. — Один раз.
Анна кивнула и направилась к выходу.
— Вы его найдете, — услышала она голос Евфросинии.
— Кого? — обернулась Анна Александровна.
— Того, кого ищете, — ответила ясновидящая.
Глава одиннадцатая
«Петица», «Звезница», «Земница» и Троянова чаша. — «Вы? Одна?» — Какой же он бурбон, или о чем поведала мадемуазель Турчанинова подполковнику Тайной экспедиции. — Сны, они почти всегда вещие. — Большой палец как орудие убийства. — Злые и сумасшедшие одинаково сильны.
— Нашли? — с надеждой спросил Борис Андреевич и сделал попытку приподняться.
— Ищут, — поспешила заверить его Анна. — Лежите, пожалуйста.
Нелидов откинулся на подушки.
— Нельзя, чтобы она пропала. Ведь «Петица» есть книга откровений, и вместе с «Звезницей», «Земницей» и Трояновой чашей они составляют…
Гримаса боли исказила его лицо. Тело Бориса Андреевича вытянулось и стало прогибаться назад. Анна, как могла, старалась своими раппортами уменьшить боль, но на сей раз это получилось у нее с большим трудом. Наконец по телу Нелидова прошли судороги, и оно потеряло способность двигаться.
— Есть новости о книге? — спросила она Андрея Борисовича.
— Все то же, — мрачно ответил Нелидов-младший. — Если отец умрет, я себе этого никогда не прощу.
— Мне надо поговорить с господином Татищевым.
— Я думаю, он зайдет вечером.
— Вы меня не поняли, — жестко посмотрела на Андрея Анна Александровна. — Мне надо поговорить с господином Татищевым срочно.
— Но время для визитов еще не…
— Вы знаете, где он живет? — оборвала Андрея Турчанинова.
— На набережной Невы, недалеко от Сената.
* * *
— Вы? Одна? Вас кто-нибудь видел? — спросил Татищев, когда они расположились у него в кабинете.
— А что такое? Вы боитесь за свою репутацию?
Опять сарказм в голосе. До чего же несносная женщина, тьфу ты, девица!
— Но приходить одной, к мужчине…
— Ах, так вы боитесь за мою репутацию? — слегка усмехнулась Анна Александровна. — Тогда не стоит беспокоиться.
— Хорошо, не буду, — с ехидцей произнес Татищев. — Итак…
— Я хочу помочь в поисках книги, — начала Анна. — Ее надо найти, иначе Борис Андреевич умрет.
Это было сказано столь прямолинейно и как-то буднично, что Павел Андреевич вздрогнул.
— А вы со своими методами, пассами и раппортами что же не лечите его?
— Я лишь удерживаю болезнь. Но чтобы успешно бороться с ней, надо вернуть ему книгу, — прямо-таки отчеканила Турчанинова.
— В вашей помощи нет необходимости. Вы взялись лечить Нелидова, вот и лечите себе. Прошу прощения, сударыня, у меня сегодня слишком много дел.
Анна с возмущением посмотрела на Татищева. Он вот так безапелляционно выпроваживает ее? Бурбон! Разве позволительно мужчинам так вести себя с женщи… с девицами?
— У адмирала де Риваса в день смерти был посетитель, — выпалила вдруг Турчанинова.
Однако Павел Андреевич лишь насмешливо произнес:
— Что вы говорите!
— Значит, вам это известно, — констатировала Анна, искусно скрыв разочарование. — А известно ли вам, во что он был одет?
— В испанский плащ и шляпу, — спокойно ответил подполковник.
— М-м, — уже не скрывая своего разочарования, произнесла гостья. — А вам известно, что есть один человек, который его видел?
— Двое, — коротко произнес Татищев.
— Прошу прощения? — не поняла Анна.
— Его видели двое, — насмешливо ответил Павел Андреевич. — Эта девица, о коей вы, верно, прочитали в газетах, и ваш покорный слуга.
— Вы его видели? — широко распахнула глаза Турчанинова.
— Видел, правда, только в спину. Что вы еще имеете мне сообщить?
— Что еще имею?
Анна сердито закусила губу. Какой насмешливый, даже пренебрежительный у него тон! Ничего, сейчас она ему покажет!
— Вы видели покойного адмирала?
— Конечно.
— Тогда вы, верно, заметили на его лбу небольшое красное пятно размером с серебряный гривенник?
Улыбка мигом слетела с лица Татищева. В его взгляде Анна с удовлетворением прочла удивление и растерянность.
— Вы были там? Откуда вам про это известно?
— Значит, пятно было?
— Положим, было, — нехотя ответил он. — Повторяю вопрос, сударыня: откуда вам про это известно?
— Вы только что об этом сказали.
— Но вы спросили меня о пятне, было ли оно!
— Я только предположила.
— Хорошо, почему вы это предположили?
— Долго рассказывать. К тому же, — не без язвительной нотки добавила Турчанинова, — у вас сегодня так много дел.
— Тогда не тратьте зря время!
— Я думаю, я полагаю…
Как часто ей снится этот сон. Нет, два сна. В первом она все время карабкается на какую-то гору. Она очень высокая, крутая, почти вертикальная, и вершина ее острая, как лезвие ножа. Ей трудно, но она упорно лезет вверх, потому, что ей обязательно нужно перебраться на другую сторону. И вот когда она добирается до острой вершины и остается только чуть-чуть, она вдруг срывается и летит вниз, скользя по крутому склону и тщетно пытаясь за что-нибудь ухватиться. Когда же до земли остается одно мгновение и гибель уже неминуема, она просыпается.
Второй сон ярче и красочней. Она выходит из классов. До обеда еще далеко, и она решает посидеть в саду. Гувернантка пошла к матушке с докладом о ее успехах, в саду она одна.
Потом она идет поросшей травой тропинкой меж яблоневых и грушевых деревьев и вдруг оказывается в длинном коридоре с множеством дверей. Все они заперты, кроме одной. На двери распятие, почему-то вниз головой. Она приоткрывает дверь, осторожно делает шаг, другой, и вот она уже в зале, похожей на университетскую аудиторию. Из-за высоких витражей на стенах аудитории пляшут цветные блики.
Сама аудитория представляет собой несколько рядов полукруглых скамей, расположенных ступенями. В центре кафедра, за которой стоит седобородый старец в просторном одеянии из китайской камки и с совершенно голым, как коленка, черепом. Что он говорит, ей не слышно. Когда глаза привыкают к полумраку, она замечает, что на скамьях сидит около дюжины человек в одинаковых пурпурных шапочках и с лентами через плечо. Ленты у них разных цветов: розовые, фиолетовые, зеленые, белые. При ее появлении старец перестает говорить. Вслед за ним поворачивают к ней головы и сидящие на скамьях люди. Но вместо лиц у них звериные морды. Самый ближний к ней — это какая-то помесь гиены и волка. Однако у него человеческие глаза, и она догадывается, что звериные морды — это личины, надетые на лица. Она на шаг отступает, и тут на плечо ложится чья-то рука. Вздрогнув от неожиданности, она слышит:
— Вы заблудились, мадемуазель?
— Да, — отвечает она.
И просыпается.
— Вы что, заснули? Говорите же! У меня действительно много дел!
— Что? Ах, да, — вздрогнула Анна. — Я уверена, что адмирала де Риваса убили.
— Что?!
— И я знаю, как это произошло.
Павел Андреевич не скрывал раздражения. Вроде, в своем уме и не похожа на блудную девицу из Желтого дома. Когда он пришел к Жучкиной с допросом, та понесла такую околесицу, что ему стало ясно: сумасшедшая. А потом блудница заговорила по-итальянски, и он ушел. Может, у Турчаниновой тоже помешательство? Она какая-то нервическая. Говорят, у невротиков по весне начинаются обострения.
— Вы говорите по-итальянски?
— Это вы к чему? Вы были у Евфросинии? — спросила Анна Александровна.
— У какой еще Евфросинии?
— У Жучкиной. Той самой, что видела человека, выходящего из дома адмирала?
— Был.
— Ну, и как она вам?
— Она сумасшедшая, — просто ответил Татищев.
— О нет, вы ошибаетесь, — усмехнулась Анна. — Она вовсе не сумасшедшая.
— Сумасшедшая, — отрезал Павел Андреевич.
— Нет, — стояла на своем Турчанинова. — Просто это… Магнетизер. Это он… ввел ее в такое состояние.
— Какой еще Магнетизер?
— Тот самый, который убил адмирала, — кротко ответила Анна Александровна. — Тот самый человек в плаще, что был у де Риваса и коего видели вы и Евфросиния.
В голове у Павла Татищева произошло некоторое кружение, каковое случается обычно после того, как за один присест взять да и выпить целый штоф малаги.
— На теле адмирала не было обнаружено ничего, что указывало бы на насильственную смерть. То же показало и вскрытие. Я читал врачебное заключение. Адмирал де Ривас умер внезапной естественной смертью и абсолютно здоровым.
— А зачем вы его читали?
— То есть?
— Зачем читать врачебное заключение, предварительно вытребовав его из полицейской управы, ежели нет никаких сомнений в естественной смерти адмирала? Значит, сомнения все же были?
— Что-то вы, сударыня, слишком осведомлены о действиях охранительных служб.
— Я имела возможность ознакомиться с ними, когда помогала расследовать одно дело в Москве, сударь.
— Вы помогали полиции расследовать дело?
— Да. В девяносто девятом году. Меня попросили помочь, — ответила Анна с явным вызовом.
— Вас попросили помочь полиции? — удивлению подполковника не было предела. — В чем же?
— Это секретная информация.
— Ах, ну да, конечно, — с большой долей иронии произнес Татищев, решив ознакомиться с досье девицы, каковое, несомненно, имеется в архиве Тайной экспедиции.
— Вы сказали, сударыня, что знаете, как Магнетизер убил адмирала, — сухо напомнил Павел Андреевич.
— А я уж подумала, что вы об этом не спросите, и даже усомнилась в вашей…
— Компетенции, — закончил Татищев. — Так как был убит адмирал?
Анна Александровна посмотрела в недоверчивые глаза подполковника, сжала ладонь в кулак и показала ему вытянутый большой палец.
— Вот так.
— Что сие значит? — изумился Павел Андреевич.
— Метод убиения, — ничего не пояснила этой фразой Анна Александровна.
— Не понимаю, — буркнул подполковник. — Извольте объяснить.
— Итак, при вскрытии де Риваса никаких насильственных причин для его смерти обнаружено не было. Как изволили выразиться вы, он «умер абсолютно здоровым и естественной смертью».
— Так гласило врачебное заключение.
— Но у покойного, — продолжила Анна Александровна, — имелось небольшое красное пятнышко на лбу чуть повыше переносицы, похожее на недавний ожог. Пятнышко размером с серебряный гривенник.
— Вы хотите сказать, что небольшой ожог, пусть даже на лбу, мог послужить причиной смерти здорового пятидесятилетнего мужчины? — усмехнулся Татищев. — Не смешите меня, мадемуазель.
— Сие пятно не есть ожог как таковой, — медленно произнесла Анна Александровна. — Это уникальный способ убиения, метод. А орудием убийства является сам убийца с его феноменальными магнетическими способностями лишать человека жизни одним прикосновением большого пальца ко лбу жертвы. Правда, в нужное место и незамедлительно после введения жертвы в магнетический сон-явь.
Павел Андреевич медленно сомкнул и разомкнул веки. Да она просто сумасшедшая!
— Простите, но у меня действительно много дел.
— Человек, что владеет техниками магнетического убийства, здесь, в Петербурге, — быстро произнесла Анна Александровна, заметив, что Татищев ни в малой степени не верит ей. — А два года назад он совершил серию убийств в Москве. Я помогала расследовать это дело, но его тогда не удалось поймать. И он очень опасен.
— Так он от вас сбежал? — с сарказмом спросил подполковник.
— Да, — резко ответила Анна, злясь на явное недоверие к ее информации.
— Вот гад!
— Вы не понимаете, как он опасен и на что способен! Не хотите понять. Вы, сударь…
— Ну, успоко-ойтесь, — протянул подполковник, поглядывая на собеседницу с некоторым даже оттенком участия, как смотрят на безнадежно больных людей. — Не стоит так волноваться.
— Вы совершенно недалекий человек! — задохнулась в негодовании Турчанинова. — Вам не в тайной полиции служить, а в какой-нибудь канцелярской конторе, где только и делают, что перекладывают с места на место не нужные никому бумажки!
— Вы что-то уж слишком разошлись, — холодно оборвал ее Татищев. — Кстати, а вы не владеете такими замечательными техниками убиения человеков одним пальцем?
— Нет, — не сразу ответила Анна побелевшими от злости губами. — Я умею только лечить.
— А что так? — мягко спросил Павел Андреевич и премило улыбнулся.
Турчанинова, пронзив бурбона испепеляющим взглядом, резко повернулась. Выходя, она хлопнула дверью так, что Татищев невольно вздрогнул, а возле косяка отвалился добрый кусок штукатурки, обнажив переплетенную крест-накрест дранку. И кто бы мог подумать, что у такой субтильной девицы окажется столько силы. Конечно, злость умножает силы. Как, впрочем, и душевная болезнь.
Глава двенадцатая
Чего боятся вольтерьянцы, педерасты и болтливые фрейлины. — Ангелы не отбрасывают теней. — Подноготная девицы Анны Турчаниновой. — Самоутопление канцеляриста Голохвастова и апоплексический удар коллежского асессора Вязникова. — «Достойный дар души бессмертной» и «Смерть, достойная любви». — Это вам не комар чихнул! — И все же нам придется встретиться…
Тайная экспедиция Сената выросла без малого сорок лет назад на обломках Канцелярии тайных и розыскных дел, ликвидированной манифестом недолго правившего императора Петра III. Сей новый орган политического сыска находился в ведении самого генерал-прокурора, и руководил им обер-секретарь, должность коего три десятка лет исполнял знаменитый гений сыска и ас дознания Степан Иванович Шешковский. Павел Андреевич Татищев, конечно, хорошо помнил его невысокую сухощавую фигуру и его серый поношенный сюртучок, застегнутый на все пуговицы.
Шешковского боялись все: фальшивомонетчики и бонмотисты, вольтерьянцы и шулера, ловеласы и педерасты, масоны и болтливые фрейлины. Вежливый голос Шешковского наводил ужас на всех, имеющих грехи, ибо о сих грешниках Степан Иванович знал решительно все. Сотни, тысячи дел заведены были им или его помощниками на подданных Российской империи. На тех, кто как-то на рауте или званом обеде сболтнул лишнее. Неуважительно отозвался об императорской особе или представителях высочайшего дома. Открыто или тайно прелюбодействовал, пописывал в журналы или издавал книги. Сектантствовал или богохульствовал, волхвовал, занимался ложным доносительством или распространял зловредные слухи. Либо состоял в тайных обществах или часто ездил за границу, — да мало ли за что можно было попасть на заметку Тайной экспедиции Сената. Сей огромный архив, включающий сведения о лицах не только ныне проживающих, но и давно умерших и хранящая дела государственной важности бессрочно, начиная с Приказа тайных дел государя Алексея Михайловича и даже ранее, частию находился в селе Преображенском под Москвою, частию в Петропавловской крепости. Сей последний адрес и назвал подполковник Татищев, взяв извозчика на бирже недалеко от Петровской площади.
Шпиль Петропавловского собора с венчающей его фигурой летящего ангела становился все ближе. Скоро показались арочные ворота крепости и полосатая будка караульного унтер-офицера. Татищев отпустил извозчика и вошел в крепость, серокаменную и угрюмую. Ангел, словно наколотый на острый шпиль собора, равнодушно смотрел на него с высоты шестидесяти саженей. Тени он не отбрасывал. Впрочем, от ангелов, верно, тени и не бывает.
Было безлюдно и тихо, так что до архива в северной части Васильевской куртины он дошел, повстречав лишь двух статских да группу работных из тех, верно, что строили новое здание Монетного двора.
Татищев открыл небольшую дверцу, более похожую на калитку, и, согнувшись, ступил под низкие арочные своды бывшего каземата. Спустившись на несколько ступеней, он прошел через крохотные сени и толкнул обитую войлоком дверь.
— Павел Андреевич пожаловали, — поднялся ему навстречу из-за стола в центре комнаты секретарь архивы. — Опять к нам?
— Опять, — ответил Татищев.
Они обменялись рукопожатием, после чего Павел Андреевич окинул взглядом мрачноватую комнату. Низкие своды, крохотные оконца и стены почти саженной толщины создавали довольно гнетущее впечатление, впрочем, обычное для тюремного каземата.
Когда-то в подобную храмину крепости были заключены опальный царевич Алексей, обвиненный в государственной измене, и знаменитая княжна Тараканова, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и претендовавшая на российский престол. Две толстенные папки, хранящиеся в одном из запертых отделений несгораемого шкафа в подвалах, где размещался собственно архив, и по сей день были опечатаны специальной гербовой печатию, не подлежащей вскрытию. Знал о сих папках единственно старый архивариус Семен Пантелеевич, к семидесяти годам пожалованный в чин надворного советника и теперь хлопотавший ради своих детей и внуков о получении потомственного дворянства.
Много любопытных папок хранилось в подвалах архива, и ежели бы даже часть их увидела свет, многие из исторических сочинений наших известных историографов пришлось бы переписывать наново. Или просто бросить в топку за ненадобностию.
К примеру, дело Емельки Пугачева, казачьего царя. Это Стенька Разин был казаком и разбойником. Пугачев был государственным преступником. Почему он стал выдавать себя за якобы спасшегося императора Петра Третьего? Почему так разнятся в возрасте, росте и цвете волос Емельян Иванович Пугачев до заключения в казанский каземат и Пугачев Емельян Иванович после побега из оного?
Что сопутствовало его успехам, ведь мятеж охватывал край от Яика до Волги, Камы, Вятки и Тобола? А как известно, из нескольких десятков самозванцев, бывших на Руси, успехов добивались только те, за кем кто-либо стоял. Кто стоял за Пугачевым?
Почему Екатерина Великая, пусть и с издевкой, называла Пугачева «маркизом»? Как объяснить череду скоропостижных и странных смертей Бибиков — Голицын — Михаил Потемкин — Павел Потемкин?
Чего «испугался» генерал Кар?
Что делали в войске Пугачева поляки, французы, германцы и пастор-протестант?
Что было в сундуках в доме «императрицы» Устиньи, супруги Пугачева?
Чем так привязала к себе Пугачева дворянская вдова Лизавета Харлова, муженька коей повесили по приказу Емельяна Ивановича?
Почему признанные невиновными обе жены Пугачева, его дети и теща были заключены в Кексгольмскую крепость пожизненно?
Вопросы, вопросы… Ответы на некоторые из них содержались в одной такой секретной папке. Но ее никто бы не дал Татищеву даже подержать в руках, будь он хоть генерал-полковником.
В комнате, куда вошел Татищев, стояло шесть столов со стопками чистой бумаги и чернильницей, и за пятью из них сидели канцеляристы, переписывавшие скрипящими по бумаге перьями пожелтелые листы.
— Тихо у вас, — сказал Татищев.
— Тихо, — согласился секретарь, усмехнувшись. — Впрочем, громко у нас никогда и не было.
— Это да, — подтвердил Павел Андреевич, присаживаясь за пустующий шестой стол.
— Чем можем служить? — спросил секретарь, тоже усаживаясь за свой стол.
— Мне надобно узнать об одной барышне, — тихо ответил Татищев. — Турчаниновой Анне Александровне. Мне почему-то кажется, что сведения о ней имеются в нашем архиве.
Секретарь глянул на Татищева, но ничего не сказал. Нет, он мог, конечно, спросить:
«Зачем вам сведения о ней? Она замешана в чем-либо?»
На что Павел Андреевич пожал бы плечами и в лучшем случае ответил:
«А кто его знает. Вот, разбираемся…»
Посему секретарь лишь кивнул и послал канцеляриста к Семену Пантелеевичу.
Прошло не менее четверти часа, как откуда-то из недр подвала послышались старческое покашливание и шаркающие шаги. Через несколько мгновений открылась боковая дверца и в комнату вошел старый архивариус Семен Пантелеевич. Поверх доисторического сюртука на нем была надета бабья душегрея, а под мышкой он держал папку с пожелтелыми тесемками.
— Вам, значит, понадобилась сия барышня? — кивнув Татищеву и щурясь подслеповатыми глазами, произнес архивариус, протягивая папку секретарю. — А я полагал, что Тайная экспедиция приказала долго жить.
— Вы не намного ошиблись, — ответил Татищев, имея в виду указ нового императора Александра о передаче экспедиции Тайных дел в ведение Пятого департамента Сената, что, конечно, умаляло ее значение и влияние. — Благодарю вас.
— Вы уж извиняйте, Пал Андреич, но с собой сию папочку мы выдать вам не можем, — виновато произнес старик, покашляв. — Сами видите…
— Вижу, — ответил Таищев, покосившись на гриф «СЕКРЕТНО». А затем развязал папку, на коей было написано:
ДЕЛО
Турчанинова Анна Александровна, потомственная дворянка
НАЧАТО: Месяца Июня 2 дня 1791 года ОКОНЧЕНО:…
— Я могу идти? — спросил архивариус.
— Да, ступайте, — ответил секретарь.
Семен Пантелеевич открыл боковую дверь и вышел. Какое-то время из-за двери слышались его шаркающие шаги, потом, словно со дна глубокого колодца, донесся его кашель, а затем все стихло. Павел Андреевич открыл папку и принялся читать.
Турчанинова Анна Александровна, девица, полковничья дочь.
Родители.
Отец: Александр Александрович Турчанинов. Сын базарного авгура, цыплячьего птицеволхвователя, прорицателя и предсказателя судеб, коий умер во время моровой язвы, случившейся после взятия Очакова в 1737 году генерал-фельдмаршалом Минихом. В возрасте около пяти лет вместе с иными пленными турками привезен ко двору государыни императрицы Анны Иоанновны. Понравившись императрице, сей турчонок был оставлен при дворе и крещен имянем Александр. Фамилию Турчанинов придумала ему сама императрица.
В 1740 году произведен в гоф-юнкеры Двора с чином XIV класса.
С воцарением на престоле Елизаветы Петровны оставлен при Дворе, а в 1742 году отдан в услужение наследнику престола Петру Федоровичу, став впоследствии его камердинером.
После известных событий 1762 года и воцарения государыни императрицы Екатерины Алексеевны был удален от Двора и вышел в отставку с чином полковника. Купив сельцо Еланово в Орловской губернии, поселился в нем безвыездно. В 1769 году женился на соседке по имению девице Марфе Сибилевой, взяв приданое в триста душ. В браке с ней рождено было девять детей обоева полу, четверо из коих умерли во младенчестве.
В 1797 году Турчанинов был призван в Санкт-Петербург для аудиенции с императором Павлом Петровичем, коим был обласкан и поощрен весьма значительным капиталом в размере суммы, равной его жалованию при императоре Петре Федоровиче, умноженному на все годы царствования императрицы Екатерины Алексеевны с наросшими процентами и рекамбиями. Кроме того, Турчанинову было положено содержание, каковое он получал, будучи камердинером при Петре Федоровиче.
В означенном же году Турчанинов, будучи с женой и детьми на богомолье в Киеве, купил в оной губернии не более как за 60 тысяч рублей село Степанцы с 1000 душ, бывшее поместьем брата последнего польского короля, князя Станислава Понятовского, не пожелавшего сделаться русским подданным и уехавшего в Австрию. Кроме протчего, Турчанинов заимел дома в Киеве на Андреевской улице и в Москве близ Пречистенских ворот. На момент составления сей записки проживает в Киеве.
Мать: Марфа Степановна Турчанинова, в девичестве Сибилева. Дворянка орловской губернии, дочь отставного секунд-майора. Ничем особым не примечательна, посему подробного жизнеописания не заслуживает. На момент составления сей записки проживает в Киеве с мужем.
Анна Александровна Турчанинова.
Рождена апреля 11 числа 1774 года в сельце Турчанинове (Еланово тож) Никольской волости Ливенского уезду Орловской губернии. Метрическая запись произведена в Никольской церкви села Турчанинова, тамо же и крещена имянем Анна.
Образования и воспитания домашнева. Пяти годов от роду научилась читать и писать, к семи знала арифметику и основы геометрии, физики, риторики, поэтики и философии. С двенадцати лет тесно сошлась с некоторыми иноками Братского монастыря, принимала у них уроки и к шестнадцати годам владела славянским, греческим и латинским языками. В это же время начала писать стихи, большей частию меланхолические и пронизанные ожиданием загробной жизни.
С семнадцати лет состояла в письменных сношениях с переводчиком и сочинителем од Ермилом Костровым, ныне покойным, а тако же с известной поэткой княжной Екатериной Урусовой и куратором Императорского Московского университета, масоном-мартинистом, поэтом и комедиографом, ныне действительным тайным советником его высокопревосходительством Михаилом Матвеевичем Херасковым, с коими на момент составления сей записки коротко знакома и встречается постоянно по вторникам в салоне Александры Петровны Хвостовой на набережной Фонтанки.
С марта месяца 1797 года по апрель 1798-го пребывала за границей для усовершенствования в науках. Будучи в Париже, посещала Школу Гармонического общества врачевателей-магнетизеров маркиза де Пюйзенгюра, о чем имеется в деле соответствующее донесение.
Когда впервые обнаружился у Турчаниновой магнетический дар, доподлинно не известно. Однако в возрасте 17 лет одними только прикосновениями рук и взглядами она излечила от заикания и хромоты дворянскую девицу Тутолмину 15 лет, о чем в деле сем приложена копия рапорта Орловского генерал-губернатора князя Мещерского исправляющему должность генерал-прокурора Правительствующего Сената графу Александру Николаевичу Самойлову.
Вернувшись из-за границы, стала практиковать врачевание с применением так называемого животного магнетизма по методу доктора Фридриха Антуана Месмера, а также печатать свои стихи в «Приятном и полезном препровождении времени» и «Чтениях в Беседе любителей русского слова». Наиболее показательные для познания направления ее характера и степени ее поэтического дарования вирши приводятся в сем деле на страницах 6, 7 и 8.
В 1799 году, будучи в Москве, оказала большую услугу московской полиции в расследовании весьма запутанного и таинственного «Дела о красных пятнах», не подлежащего рассекречиванию до 1899 года.
На момент составления сей записки проживает в Санкт-Петербурге, 1-й квартал Третьей Адмиралтейской части, улица Большая Садовая, дом Балабина.
Оная составлена по личному указанию Оберсекретаря Правительствующего Сената господина управляющего Тайной экспедиции Сената коллежского советника Макарова протоколистом X класса Юрьевым декабря 14 дня 1800 года для определения в архиву Тайной экспедиции.
Следующий лист дела содержал словесный портрет госпожи Турчаниновой.
Анна Александровна Турчанинова, девица.
Росту 2 аршина, 4 и 3/4 вершка. Стройная, телосложением худощавая. Лицо чистое, смуглое. Волосы на голове черные густые, на бровях черные же. Глаза черные блестящие, лоб большой, нос средний, подбородок обычный, рот средний, губы тонкие, говорит чисто. Предпочитает платья темных цветов, на голове часто носит берэт малинового или пунцового цвета.
Особые приметы.
На левом боку одно, на спине два, пониже пупка одно, всего четыре маленьких родимых пятна.
Когда улыбается, на левой щеке образуется ямочка.
Более никаких особых примет не имеется.
Татищев вздохнул и перевернул лист. Мысли проносились в голове кометами, цепляясь хвостами одна за другую.
«Девица… Тонкие губы, что есть несомненный признак ехидности и, возможно, злобного норова. Я уже имел возможность в этом удостовериться. Известно, какие у старых дев несносные характеры. Интересно, она совсем оставила меня в покое? Нет, совсем — это вряд ли. Что-то подсказывает мне, что я ее еще встречу. Кстати, кто видел родимые пятна на теле сей барышни, да еще пониже пупка?»
Четвертым листом дела, верно послужившим толчком к заведению сей папки, была копия рапорта орловского генерал-губернатора графу Самойлову. Сообщая состояние дел в губернии, князь Мещерский в самом конце рапорта писал генерал-прокурору:
…А еще произошел во вверенной мне Губернии один не поддающийся научному описанию и трезвому размышлению инцендентус. Семейство Турчаниновых, хорошо известное в городе Орле тем, что глава оного семейства Александр Александрович Турчанинов состоял камергером у государя императора Петра Федоровича, апреля 11 числа сего года давало по случаю семнадцатилетия дочери их Анны Александровны торжественный обед, на который был приглашен и Ваш, Ваше Превосходительство, покорный слуга.
В самом конце вечера, уже прощаясь с гостями, Анна Александровна, верно, жалея свою короткую знакомую девицу Тутолмину 15 лет, с самого рождения хромую ввиду разности длины ног и весьма сильно заикающуюся, приобняла ее и стала говорить ласковые слова. От совокупности сих, надо полагать, слов и действий Анны Турчаниновой Тутолмина вдруг на несколько мгновений впала в беспамятство, а когда пришла в себя, стала говорить безо всякого заикания и совершенно чисто. Она сказала, что чувствует, как некие мощные потоки целебной силы, исходящие от Анны Турчаниновой, излечили ее от заикания и теперь изменяют ее организм, расправляя ее дефектные ножные кости и вытягивая их до естественно положенных размеров. «Я вижу себя изнутри», — со смехом сказала Тутолмина и попросила Турчанинову, чтобы она простерла над ней руки ладонями вниз. Анна Александровна, не очень, на мой взгляд, удивившись, весьма охотно выполнила просьбу Тутолминой, после чего та впала в явно сомнамбулическое состояние и стала изъясняться с окружающими на латыни, коей, по уверению ее родителей, она до того положительно не знала.
Все это происходило на моих глазах и еще при некоторых приглашенных на обед гостях, числом более десяти человек. Затем Турчанинова произвела несколько пассов руками, после чего девица Тутолмина вернулась в обычное состояние бдения, совершенно не помня ни своего предыдущего состояния, ни того, что она говорила. Однако изъяснялась она по-прежнему чисто и совершенно перестала хромать. Позднее при врачебном освидетельствовании Тутолминой выяснилось, что ее правая нога, бывшая еще несколько дней назад короче левой на 1 и 3/8 вершка, выросла и в длине совершенно сравнялась с левой ногой. Городской врач господин Гейндбух несколько раз производил замеры длины ног девицы Тутолминой и не мог поверить своим глазам. В течение полутора недель доктор наведывался в дом Тутолминых, чтобы еще и еще раз снять размеры столь чудесно выросшей правой ноги их дочери. Скоро его перестали пускать, и однажды в одно из таких неудавшихся посещений господин Гейндбух, раздевшись донага, принялся распевать псалмы и приставать к прохожим обывателям с просьбой отрубить ему ради эксперимента ногу или руку, приговаривая при этом, что, мол, рука или нога все равно отрастут и беспокоиться, мол, не о чем. Конечно, несчастный доктор был вскорости отвезен в Скорбный дом и помещен в одиночную палату для буйно помешанных, так как все время порывался что-нибудь себе отрубить или отрезать. А к девице Турчаниновой теперь больные, хворые и калеки записываются на месяц вперед в надежде на чудесное излечение. Вот такой, Ваше Превосходительство, инцендентус.
За сим послание оное заканчиваю, оставаясь преданнейшим Вашим слугой, Орловский генерал-губернатор князь Мещерский.
Писано в г. Орле апреля 26 дня сего 1791 года.
Татищев перевернул еще одну страницу дела.
СЕКРЕТНО.
Обер-секретарю Тайной экспедиции господину коллежскому советнику Макарову.
Лично.
В собственные руки.
Ваше Высокоблагородие.
Во исполнение данного Вами поручения, довожу до Вашего сведения, что, приехав из Лондона в Париж в последних числах июня месяца сего 1797 года, госпожа А. А. Турчанинова поселилась в нумерах «Путешественников» на улице Монмартр и свела знакомство с доктором Деслоном, учеником и последователем основателя учения о животном магнетизме профессора Месмера. Тотчас после свидания с г. Деслоном, Турчанинова стала посещать Школу Гармонического общества врачевателей-магнетизеров маркиза де Пюйзенгюра, расположенную в Анси-ле-Фран. Школа сия пансионного типа, и ученики могут покидать ее только в выходные от учения дни и только с разрешения самого маркиза де Пюйзенгюра. Усадьба, где расположена сия Школа, похожа на замок или весьма укрепленную крепость с многочисленной охраной, так что узнать что-либо о Школе подробнее покуда не представилось возможным. Попытка моя проникнуть в усадьбу под видом садовника, ищущего работу, успехом не увенчалась. Надеюсь, новая попытка попасть на территорию Школы, которую я намерен предпринять в одну из ближайших ночей, будет удачной, и я смогу сообщить Вам в следующем донесении о сей Школе, столь Вас интересующей, более подробно.
Парижанин (1)
Париж, июля 12-е число 1797 года (2)
Примечания.
(1). Сим псевдонимом был означен секретный агент Тайной экспедиции Семен Адрианович Голохвастов, исправляющий при Канцелярии г-на Посланника в Париже должность канцелярского служителя XI класса.
(2). Июля 17 числа 1797 года мертвое тело Семена Голохвастова было выловлено в р. Сене. Насильственных признаков смерти на теле не обнаружено.
«Любопытно», — подумал Павел Андреевич, прочитав «Примечания». Следующая страница дела была не менее любопытной.
Обер-секретарю Тайной экспедиции господину коллежскому советнику Макарову.
(копия)
Дорогой друг!
Твое письмо с просьбою навести справки относительно имеющейся в Париже Школы Гармонического общества врачевателей-магнетизеров и ее держателя поначалу привело меня в некоторое смущение, однако вспомнив, где и кем ты ныне служишь, я вынужден был, как постараться исполнить твою просьбу.
Итак: Школа Гармонического общества врачевателей-магнетизеров располагается в одном из самых аристократических районов Парижа, а именно в Анси-ле-Фран. Она представляет собой усадьбу с несколькими строениями замкового типа, обнесенную подобием крепостной стены, за которую не так-то легко попасть. По крайней мере, просто любопытствующему или путешественнику, за коего я себя и выдал, войти на территорию Школы практически невозможно из-за многочисленной охраны, неусыпно бдящей весь периметр сей Школы, как какой-нибудь секретный объект. По крайней мере, мне внутрь нее попасть не удалось. Однако кое-что мне все же удалось выяснить из иных источников.
Школу содержит сказочно богатый и уже весьма немолодой человек маркиз Максим де Пюйзенгюр, потомственный аристократ, коего, в числе весьма немногих из высшей парижской знати, каким-то чудесным образом обошли и славное изобретение доктора Гильотена, и все прочие перипетии и волны французской революции и коему явно благоволит нынешнее правительство Директории. Фигура сего маркиза весьма любопытна. Бывший артиллерийский офицер, он лет сорок назад вышел в отставку, получил два университетских образования и увлекся идеями Теофрастуса Бомбастуса Гугенхеймского, более известного у нас под именем Парацельса. Масксим де Пюйзенгюр полностью принял теорию доктора Месмера о животном магнетизме и стал его ревностнейшим последователем и учеником, несмотря на то, что был старше Месмера более чем на двенадцать лет. Потом им был предпринят ряд опытов, которые позволяют сделать вывод, что учеником маркиз де Пюйзенгюр был весьма старательным и успешным. Одним из первых магнетических опытов маркиза было погружение своего садовника в сомнамбулическое состояние провидения, в котором тот предрек никому не известному на тот момент артиллерийскому лейтенанту Наполеону Буонапарте (ныне сей деятель является уже командующим национальной армией) императорскую корону.
Теперь о Тайном обществе Гармонии.
Его учредил семнадцать лет назад сам доктор Месмер. Прошедшим отбор и вступившим (не без платы — за 100 луидоров) в означенное общество посвященным он открывал методы магнетизма, беря при этом священный обет скрывать полученные знания вечно, под страхом неминуемой смерти за несоблюдение сего обета. По сути, это была Школа магнетизеров, и на ней ушлый доктор сделал себе состояние в 150 тысяч талеров. Теперь магнетическими навыками стали владеть не только врачи, но и просто богатые люди, среди которых нашлись и проходимцы. Так, мне стал известен случай, когда в одной из парижских конюшен была магнетизирована лошадь, дабы на скачках она пришла первой. Сие насторожило учеников и последователей доктора Месмера, и в 1784 году, сойдясь вместе, они учредили новое магнетическое общество под прежним названием Гармоническое, целью которого было провозглашено исследование гармонии природы и благотворительность людям как физическим, так и моральным образом. Отделения сего общества числом до тридцати составились в разных провинциях и городах Франции, а также на французских островах, в Турине и на Мальте. Управление и связь между ними были поручены доктору Месмеру. К настоящему времени сии общества подразделяются на три направления, или, если хочешь, секты.
Первая — это сам Месмер и некоторые его последователи, обосновавшиеся главным образом в Париже, являются сторонниками физического воздействия на больных, то есть лечения руками, металлическими или стеклянными кондукторами, магнетизированными деревьями и магнитными ваннами.
Вторая суть спиритуалисты, то есть сторонники воздействия на людей только взглядом, хотением и верою. Они обосновались в Лионе и Остенде и руководятся магнетизером кавалером Барбареном, известным тем, что может воздействовать на людей, находясь на расстоянии и совершенно не видя их.
Третья секта, отделения которой находятся в Париже и Страсбурге, руководится маркизом де Пюйзенгюром и называется Гармоническим обществом соединенных друзей. Это самое основательное и наиболее закрытое от посторонних глаз магнетическое направление, принявшее как физическое, так и спиритуалистическое воздействия на людей. Все, что мне удалось выяснить, так это то, что сия секта владеет погружением людей в состояние ясновидения, при котором они чувствуют высочайшее удовольствие и возвышение душевных сил. Сия секта имеет школы, где преподаются магнетическая наука и навыки введения больных и просто человеков в магнетический сон (который, собственно, и не сон, и не явь), в коем магнетизированный человек может видеть прошлое и будущее, как свое, так и иных людей. Более я тебе объяснить не в состоянии, ибо не обладаю специальными знаниями. Школа в Анси-ле-Фран, так тебя интересующая, и есть одна из таковых, принадлежных Гармоническому обществу соединенных друзей. И, говорят, самая лучшая.
Кстати, в сей школе уже без малого восемь месяцев обучается наша соотечественница госпожа Турчанинова, поэтка и дочь того самого Турчанинова, коего покойный император Петр III просто не успел произвести из камердинеров в камергеры и графы. Отпускают учеников за пределы школы весьма редко, так что я лишь единожды виделся с означенной барышней, хотя мы и договорились побеседовать с ней о магнетизме в половине февраля, когда она вновь будет отпущена за ее пределы. Так что, мой друг, жди от меня нового письма после сей встречи.
Что твоя супруга Марья Николаевна, здорова ли? Нижайший поклон ей от меня. Да не забудь, я тебя знаю.
Прощай, дела зовут.
Артемий Вязников Париж, февраля 9-го 1798 года (1)Примечания.
(1). Секретарь Канцелярии г-на Посланника в Париже коллежский асессор Артемий Иванович Вязников, 36 лет, был найден мертвым возле своей квартиры 14 февраля 1798 года. При предварительном осмотре тела г-на Вязникова французской полицией никаких признаков насильственной смерти найдено не было. При более тщательном осмотре на лбу у покойного в полувершке от переносицы было обнаружено размером с небольшую монету покраснение, будто от ожоги, и застарелый рубец на левой ноге, никак не могущие являться причинами смерти.
Татищев похолодел и перечитал последние строчки.
Черт побери! Такое же покраснение имелось на лбу покойного адмирала де Риваса! Неужели эта девица Турчанинова права! Не может быть…
Татищев стал читать дальше.
…Вскрытие трупа, произведенное в клинике доктора Маттэя в присутствии профессора Лаватера, констатировало смерть от апоплексического удара, что и было записано во врачебном заключении. По настоянию матери покойного тело г-на Вязникова было препровождено в Россию, где и было предано земле на погосте Кизического монастыря в г. Казани.
Павел Андреевич оторвался от строчек и задумчиво посмотрел на секретаря. Тот, почувствовав, что на него смотрят, тоже поднял от бумаг голову.
— Нашли что-то интересное? — спросил он Татищева.
— Еще не знаю, — неопределенно ответил подполковник. — Но сия барышня, — Павел Андреевич легонько похлопал по папке ладонью, — весьма и весьма занятная особа.
— Значит, нашли, — констатировал секретарь и снова углубился в свои бумаги.
Татищев промолчал и перевернул еще одну страницу дела. Далее шли стихи.
Достойный дар души бессмертный, Черта изящна Божества… Дух чистый, мудрый, бесконечный Всего источник существа… Сколь сердце то для нас любезно, Сияет в коем твой престол! Как Ангел мирно, тихо, нежно, И чуждо злобы адских зол. Коварства жало истребляет Бальзамом благости твоей, Не злобствует, не мстит, прощает И гнев тушит любви струей. Недугов лютости не знает, От коих чахнет злоба век, Во всех лишь язвах сострадает, Подвержен коим человек. Кто жертвует — небесно свойство — Тебе, чем может, в жизни сей, Тот чувствует все превосходство За гробом участи своей. («Человеколюбие»)Павел Андреевич вздохнул. Он не любил стихов. Особливо женских. Российские поэтки в большинстве своем были старыми девами, либо озлившимися на весь мир и разочарованными в его устройстве и собственной судьбе, либо пребывающими в сопливо-перманентном состоянии романтизма, коий, конечно, выветривается вместе с замужеством у нормальных барышень.
То ли дело ехидные эпиграммы да свежее, острое словцо! Например такое:
Уже зари багряный путь Открылся дремлющим зеницам, Зефир прохладный начал дуть Под юбки бабам и девицам…Или:
Скуластое лицо холопа Не стало рожа, стало жопа.И вообще:
Нельзя довольну в свете быть И не иметь желаньев вредных…А всем этим стихотворствующим кисейным барышням, плесневеющим в затянувшемся девичестве, бонмотист князь Гагарин дал не так давно хороший совет:
Уединенна муза Туманных берегов, Ищи с умом союза, А не пиши стихов.Следующее стихотворение фигурантки, озаглавленное «В моем садике», показалось Павлу Андреевичу чуть лучше первого.
Место, где мой дух спокойство И утехи обретал, Где он сладость удовольствий С чувствий живостью вкушал; Там природы глас священный Мне ту истину вещал: Что из смертных тот блаженный, Кто лишь сам себя познал. Что в сердечных внутрь пределах Сей источник лишь течет, Что обилен он в утехах: Бог коль в сердце сам живет. Будь мой вождь, о глас небесный! И наставник дел моих; Чувствую, что нет полезней Вдохновений сих твоих.Павел Андреевич вздохнул и перевернул еще один лист. Следующий был последним и содержал еще один стих. «Ода Смерти» — ни много ни мало!
Мать пороков, злу преграда, Добродетелей венец; Истины печать, награда, Бедствий жизни сей конец. Ты мученья прерываешь, Смерть, достойная любви, Прах — во мрачный гроб скрываешь, Дух — в обители свои. Бремя горестей, болезней Ты снимаешь навсегда; Кажешься всего любезней, Мыслю о тебе когда. Ты наш дух освобождаешь От тиранства злых страстей; Узы тяжки разрушаешь, Плод веселий жизни сей. Кто порфирою украшен Или рубищем покрыт, Чей вселенной скипетр страшен, Иль в оковах кто гремит; Ты, коль скоро где предстанешь, Пред тобой равно падут. Смертный! Ты тогда узнаешь, Что все титла тщетны суть. Ах, врагом тебя ли числить, Знавши цену жизни сей? Можно ли о том не мыслить Быть достойной мзды твоей?«М-да, — подумал подполковник Татищев и закрыл папку. — Хорошенькие дела. Смерть как награда и печать истины — это вам не комар чихнул! Чем же вас, госпожа Турчанинова, так не устраивает Жизнь? Кто вам, мадемуазель, так досадил? И с какой стати девице задаваться подобными вопросами?
Впрочем, сие дело ваше. А вот то, что нам, как я и предчувствовал, придется встретиться еще раз, — в этом нет никакого сомнения».
Глава тринадцатая
Об обостренном нюхе у старых вояк и молодых блудниц. — Как избежать неудовольствия генерал-прокурора. — Кто, черт побери, эта Катерина Дмитриевна? — Черное будущее империи. — Случайность есть не что иное, как реализованная возможность. — «Ну, ты даешь, барышня!» — Пальцы без ногтей. — Противостояние. — От блядства жен пухнет мозг. — Как тяжко, господа, быть магнетизером!
— Вас пускать не велено! — встал стеной больничный служка.
— Но мне нужно повидать одну больную! — без всякой надежды попыталась настоять Турчанинова.
— Не велено!
— Это кем же не велено? — услышала Анна Александровна за спиной знакомый голос. Она повернула голову и увидела того, кого меньше всего предполагала и желала увидеть.
— Так кем, говоришь, не велено? — грозно повторил Павел Андреевич. — Не слышу!
— Ординатором клиники их высокородием Михал Семенычем Осташковым, — невольно вытянувшись в струнку, отрапортовал служка. Именно отрапортовал, ибо тотчас определил в Татищеве человека не простого, а, скорее всего, из секретных служб. У старых вояк на таковых господ, простите, нюх.
— Позвать! — коротко скомандовал подполковник, сдвинув брови к переносице и сверкнув глазами. Конечно, он немного наигрывал, но когда для дела — можно.
— Слушаюсь.
Служка исчез и скоро вернулся в сопровождении плотного низкорослого господина.
— Профессор Осташков, — представился тот, глядя прямо в глаза Павла Андреевича. — С кем имею честь?
— При Правительствующем Сенате Пятого Департамента Тайной экспедиции подполковник Татищев, — четко произнес Павел Андреевич, подчеркнув интонацией слова «Тайная экспедиция». — Прошу пропустить нас с госпожой Турчаниновой к больной Евфросинии Жучкиной, находящейся на излечении в вашей клинике.
— Но мадемуазель Турчанинова… — начал Осташков, однако Татищев не дал ему закончить.
— Мадемуазель Турчанинова в настоящий момент помогает следствию особой государственной важности, — не терпящим возражений тоном произнес Павел Андреевич, вызвав удивление Анны Александровны. Но она тотчас вернула себе непринужденный вид, хотя и была поражена столь неожиданной метаморфозой, случившейся с подполковником. — И, стало быть, на время ведения следствия также является сотрудником Тайной экспедиции. Так что будьте так любезны, не чините нам препятствий, ежели не хотите заиметь в свой адрес неудовольствия его превосходительства генерал-прокурора.
Что случается после подобных слов? Правильно. Полное и решительнейшее содействие.
* * *
— Добрый день, госпожа Турчанинова, здравствуйте, господин подполковник, — тоном радушной хозяйки какого-нибудь литературного или светского салона приветствовала гостей Евфросиния Жучкина.
Она еще менее походила на распутную девку, нежели во время первого посещения Анны Александровны. Да и крестьянского в ней оставалось совсем чуть: разве что широкие ладони с крепкими сильными пальцами да лицо, слегка рябоватое и сохранившее выражение простоты и искренности.
— Рада, что вы наконец избавились от душевных мук по Катерине Дмитриевне, век бы вам ее не видать, — ласково и сочувственно глядя на Татищева, произнесла Евфросиния. — Я еще в первое ваше посещение хотела вам сказать об этом, но вы были немного не в себе, и я не решилась.
— Я? Не в себе? — мало не воскликнул Павел Андреевич. Вот дела! Умалишенная констатирует, что он был «не в себе». Впрочем, ничего удивительного. Ведь это же Желтый дом.
— Вы, господин подполковник, — улыбнулась Евфросинья. — Конечно, что вам слова какой-то ненормальной, как меня все здесь считают, в том числе и вы, однако поверьте, эта Катерина Дмитриевна та еще штучка и совершенно вас не стоит.
Сказав это, Евфросиния пытливо посмотрела на Татищева.
— Позвольте, но откуда вам известно…
— Знаю, — перебила ясновидящая. — Я знаю, вернее, могу знать все. Ну, или почти все.
— И даже то, что будет, скажем, через двести лет? — уже без особого ехидства спросил Павел Андреевич.
— Да, — просто ответила Евфросиния.
— И что же будет?
— Верхней Венте удастся разрушить империю, оболгать ее историю и государей и сделать всех жителей бывшей державы иванами, не помнящими родства. Народа русского не станет. Как понятия, конечно. Останется лишь население, вымирающее по миллиону в год. А потом новый правитель, кстати, офицер секретной службы, попытается наметить для России путь к возрождению. Но лишь попытается, не более. Дальше идти ему не дадут. А потом он и сам не захочет. Потому как осознает, кто ему противостоит. Затем маленький человек, почти карлик, с псевдототемной фамилией заведет страну в еще больший тупик, после чего в бывшей империи начнутся волнения, пожары, голод и холод. А потом появится Свет-Владимир. Но будет тяжко. Очень тяжко.
— В России всегда жилось нелегко, — не нашелся что сказать Павел Андреевич.
— Да, вы правы.
— А что такое Верхняя Вента? — спросила Анна.
— Это вы скоро узнаете сами, — задержала на Турчаниновой взгляд Евфросиния. — Очень скоро.
— И что, по улицам будут ездить самодвижущиеся экипажи, работу делать механизмы, а люди станут разговаривать на тарабарском языке, как пишут о том наши безмозглые романисты? — с улыбкой спросил Татищев, не поверивший в столь мрачные пророчества.
— Именно так, — подтвердила Евфросиния. — И если бы вы вдруг попали на их улицы, то с большим трудом поняли бы их речь. Так что романисты, о коих вы упомянули, не такие уж и безмозглые. К тому же самые талантливые из них — творцы, что предполагает связь с теми, кто знает все.
— А люди? Они изменятся? — спросила Анна Александровна.
— Ничуть, — с какой-то затаенной печалью, как показалось Турчаниновой, сказала ясновидящая. — С тех пор, как умерли старые боги, как вы их привыкли называть, и последний из племени титанов превратился в камень, люди ничуть не изменились. Правда, зла и безразличия к чужой боли в них стало много больше.
— Значит, титаны существовали? — спросила Турчанинова.
— Вне всякого сомнения, сударыня.
— А конец света наступит?
— Конечно. Он наступает для каждого из нас. С нашей смертью. Кстати, entre nous[8], — повернулась Евфросиния к Павлу Андреевичу, — когда вы вдруг встретитесь с госпожой Катериной Дмитриевной, случайно, на одном из раутов, куда вас пригласит обер-секретарь Макаров — а это случится довольно скоро, — будьте крайне осторожны, потому что встреча эта произойдет не вдруг и не случайно.
— Благодарю вас, — оторопело произнес Татищев.
— Случайностей вообще не бывает, ведь так? — спросила Анна.
— Именно. Так называемая случайность в действительности есть событие, заложенное в матрице возможностей, предопределенных каждому человеку еще до его очередного рождения. Если, скажем, в вашей матрице предопределенных возможностей нет рождения ребенка, то он у вас никогда и не родится, а если есть, — пристально посмотрела она на Анну, — то родится сын. Так что случайность — это не более чем реализованная возможность, заложенная в матрицу жизни.
— А кем заложенная? — осторожно спросила Анна Александровна. — И кто создает эти матрицы?
Глаза Евфросинии зажглись голубоватым светом.
— Сударыня, — произнесла она сухо и почти холодно, — во время прошлого вашего посещения я, кажется, дала вам совет: не приближаться к разгадке тайны, которую не может ни вместить, ни принять ваш непросветленный ум. И вы обещали учесть его. Однако, как я вижу, вы совершенно не держите своего слова.
Анна Александровна вдруг подошла к Евфросинии и, удерживая ее взгляд, быстро положила одну свою ладонь ей на голову, а другую прислонила к ее подгрудной ложечке.
— Что все это значит, сударыня? — только и успела произнести ясновидящая, как Турчанинова резко дунула ей в лицо. Евфросиния ойкнула и невольно отступила на шаг. Анна Александровна, как и в прежний раз, распростерла перед ней руки и стала совершать ими дугообразные движения от ног до головы и снаружи внутрь, словно окутывая ее теплом, исходящим из раскрытых ладоней. Глаза Евфросинии затуманились, она шумно вздохнула и опустилась на кровать. Какое-то время она сидела, опустив голову и словно задремав, затем медленно открыла глаза.
— Чо, обратно вы здеся? — произнесла Жучкина и огляделась. — Токмо уже с другим хахелем. Ну, ты даешь, барышня! Или покуда не дала? — она хрипло хохотнула и по-свойски подмигнула Турчаниновой. — А хорош твой кавалер, ничего не скажешь.
Евфросиния поднялась с кровати и подошла к Татищеву. Тот, пораженный столь разительной переменой, произошедшей с Евфросинией, кажется, был даже растерян, что случалось с ним крайне редко. Однако он быстро пришел в себя и ловко перехватил уже протянутую к низу его живота руку Жучкиной.
— Ну-ка! — Он сжал ее запястье так, что блудница скривилась от боли. — Сядь на место!
— Какой строгий дяденька, — с вызовом произнесла Евфросиния, однако вернулась и присела на кровать. Шутить с этим господином в серебряных эполетах, похоже, небезопасно. У Жучкиной на таковских нюх.
— Сейчас я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь на них отвечать. Уяснила?
— Уяснила, — буркнула Жучкина.
— Вечером десятого марта сего года, — начал Павел Андреевич, — ты вышла из флигеля усадьбы Калмыкова на Гороховой. Следом за тобой из дома вышел человек в черном плаще и шляпе. Так?
— Ну, так.
— Опиши, как он выглядел.
— Да не помню я!
— А ты вспомни.
Жучкина задумалась, и, по всему судя, сей процесс был для нее труден. Она сморщила лоб, закатила глаза и даже зашевелила пухлыми губами, будто припоминала, как школьница, какой-то урок. Наконец она победоносно глянула на Татищева:
— Вспомнила! Лица его я не видела, а вот руки…
Дикий крик боли не дал ей договорить. Тело неестественно выгнулось, ее забила дрожь, и пот градом покатился по лицу и шее.
Анна Александровна снова распростерла над Евфросинией ладони, а затем приблизила к ней лицо и быстро дунула сначала на правый висок, затем — на левый. По всему было видно, что это дается ей с невероятным трудом: она побледнела, на лбу и висках явственно обозначились голубые вены, на верхней губе выступила испарина. Блудница открыла глаза, но они через несколько мгновений вновь стали заволакиваться. Турчанинова вдруг остро почувствовала, что ей противостоит некая сила, не позволяющая завершить окончательное «возвращение» Евфросинии. Сила эта, много мощнее ее собственной, вновь стала погружать Жучкину в состояние магнетического сна-яви.
— Я не могу больше ему противостоять, — с трудом проговорила Анна, поняв, что происходит. — Спрашивайте ее быстрее!
— Что руки, что? — склонился над Евфросинией Татищев.
— У него на пальцах…
— Что, что на пальцах? Татуировки, язвы, что?! — буквально закричал на нее Павел Андреевич.
— У него на пальцах не было ногтей, — едва слышно промолвила она.
— Как ты смогла увидеть это в темноте? — быстро спросил подполковник, буравя блудницу взглядом.
— Он водил руками перед моим лицом, — уже прошептала она. — Потом ничего не помню…
Евфросиния вдруг захрипела и стала нещадно бить себя кулаками по чему попало со все возрастающей быстротой. Потом принялась щипать и царапать ногтями себе лицо. Татищев попытался удержать ее руки, но справиться с ней было невозможно:
Жучкина с невероятной и невесть откуда взявшейся силой отталкивала его. Усилия раппортов Турчаниновой тоже ни к чему не приводили. Теплота, исходящая из ладоней, исчезла, и Анна Александровна в бессилии опустила руки.
— Все, бесполезно. Мне не справиться с ним, — тяжело переведя дух, заявила она. — Он много меня сильнее.
Евфросиния наконец перестала себя истязать, тело ее обмякло, она глубоко вздохнула, и гримаса боли постепенно исчезла с ее порозовевшего лица.
— Кто «он»? — не понял Павел Андреевич.
— Тот, кто ввел ее в это состояние. Тот, кто до сих пор на нее воздействует и контролирует ее, — в полном бессилии проговорила Анна Александровна. — Тот, кто владеет практиками держать человека в своей власти, даже находясь от него на значительном отдалении. Это Магнетизер, — добавила Турчанинова и опустила голову. — Тот самый. Я сталкивалась с ним в Москве.
— Он может воздействовать на нее на расстоянии? Не может такого быть.
— Тем не менее это так. Надо изготовить магнитную батарею. Тогда, в Москве, когда я помогала тамошней полиции, с помощью этой батареи мне удалось однажды справиться с ним. Временно, конечно.
— На сей раз магнитная батарея вам не поможет, — вдруг произнесла Евфросиния, о коей как-то забыли Татищев с Турчаниновой. — К тому же, как я вам уже говорила, это последняя наша с вами встреча.
— Вы поранились? — глядя на исцарапанное лицо и шею ясновидящей, спросила Анна. — Может, позвать доктора?
— А его не надо звать, он стоит под дверью с того самого момента, как вы вошли сюда.
Павел Андреевич метнулся к двери, рывком открыл ее и увидел доктора Штраубе.
— Я отвечаю за здоровье пациэнтки, — мрачно произнес Штраубе. — А вы устраиваете над ней какие-то… эксперименты, — добавил Иван Карлович новое иноземное словечко. — И об этом я непременно доложу начальнику Врачебной управы.
— Да хоть Папе Римскому, — резко ответил Татищев. — А сейчас попрошу не мешать и оставить нас в покое.
В этот миг снова раздался душераздирающий крик. Он был до того наполнен болью, что у Павла Андреевича мурашки побежали по телу, а у доктора Штраубе широко открылся рот.
— Боже мой, — воскликнул Иван Карлович и, оттолкнув подполковника, бросился в палату.
— Krisis! — громко вскрикнул он, с ужасом глядя на Жучкину, которая в мучении содрогалась на кровати. — У нее наступил кризис! Прошу вас, сделайте что-нибудь, — почти взмолился он, уставившись на Анну.
— Отойдите! — выдохнула она, не сводя взгляда с Евфросинии. Та уже молчала, не в силах более кричать, и только с дикой быстротой вращала глазами. В уголках ее рта розово пузырилась пена.
Турчанинова, раскинув в стороны руки, сделала несколько шагов назад, отодвигая руками и спиной Штраубе и Татищева. Затем подошла вплотную к Евфросинии и вонзила в нее пристально-напряженный взгляд. Не отводя его, она положила одну руку на голову Жучкиной, а другую прислонила ладонью к ее подгрудной ложечке. Подержав их так некоторое время, она сильно и резко дунула Евфросинии в лицо. Та ойкнула и ухватилась за спинку железной кровати. Ее стало мелко трясти. В то же мгновение Анна, как в прошлый раз, распростерла над ней руки, отдавая все силы тому, чтобы подчинить Жучкину своей воле. Ей это удалось после неимоверных усилий, и, почувствовав теплоту, испускаемую подушечками пальцев, она стала производить ладонями дугообразные движения снаружи внутрь и от ног к голове Евфросинии, как бы окутывая ее горячими жизненными токами, исходящими от ее ладоней. Это длилось около десяти, как казалось, бесконечных минут. Скоро Евфросиния шумно выдохнула, ее тело обмякло и приняло нормальное положение. Глаза ее приобрели осмысленное выражение.
— Благодарю вас. Вы подарили мне еще несколько минут, — медленно произнесла ясновидящая и попыталась улыбнуться.
Не вышло. Тогда она заговорила снова:
— Я желаю вам удачи. Это есть не подарок свыше, а определенное состояние души. Когда неотступно идешь к намеченной цели. Это состояние победителя. Вы же, господин подполковник, помните о том, что я вам сказала.
— А что вы пожелаете мне? — вдруг спросил доктор Штраубе.
— Вам надлежит немедля подать прошение в Синод о разводе с вашей супругой, — еле слышно произнесла ясновидящая. — И избавиться от ее присутствия как можно скорее. Иначе небольшая опухоль в левом полушарии вашего мозга станет стремительно расти и для вас… наступит конец света.
Евфросиния еще раз обвела всех взглядом, явно прощаясь, затем вздохнула и…
Выдоха не последовало.
* * *
В полуверсте от Обуховской клиники, в одной из меблирашек известного петербургского домовладельца Фанинберга, некий господин повыше среднего росту с ничем не примечательной внешностью, худощавый, но жилистый, записанный в домовой книге как надворный советник Николай Иванович Селуянов, тоже вздохнул и опустил руки. Лицо его было серым, и по нему и голому по пояс телу крупными каплями катил пот.
Черт возьми! Призвали бы его раньше, и тогда не было бы всех этих сложностей. Он бы просто вошел в дом Хранителя и принудил бы его отдать «Петицу».
И что в ней такого, в этой книге, что Верхняя Вента придает ей такое значение, что приходится убирать всех, кто даже не читал, а просто держал ее в руках? Хотя он ведь был занят в Берлине! И то, что его призвали сюда, пусть и поздно, говорит о том, что он — первый в своем деле, и равных ему нет. А стало быть, у него имеются полные основания диктовать им свои условия. Золота у них немеряно… Конечно, диктовать исподволь, ибо с такими людьми ссориться — что самому копать себе могилу. Да и люди ли они — еще вопрос. Но основания истребовать увеличения гонорара за исполняемые им поручения — есть. Плюс непредвиденные обстоятельства, связанные с этой блудницей. Мука невыносимая… Впрочем, в этом виноват он сам.
Надворный советник сделал шаг, другой. Затем натужно закашлялся, и его стошнило прямо на ковер.
«Турчанинова Анна Александровна, Татищев Павел Андреевич», — прошептал он посиневшими губами и, вдруг замерев, рухнул на пол без чувств, раскинув на стороны руки.
Его судорожно скрюченные пальцы нервически подрагивали. Они были длинными и, как это ни странно, совершенно без ногтей.
Глава четырнадцатая
Вопросы подполковника Татищева. — Уже кое-что. — Если замагнетизировать ворону, то она выклюет вам глаз. — Как мадемуазель Турчанинова не хотела выходить из коляски, или баба с возу — кобыле легче? — «Золото, а не постоялец». — Точка Судьбы. — Размышления и деяния Павла Андреевича. — Большой перст действует паче…
— Я немного слышал о докторе Месмере, — сказал Татищев, когда они с Турчаниновой возвращались на извозчике из клиники. — Кажется, он открыл магнетизм?
— Не то чтобы открыл, — поправила его Анна Александровна. — Доктор Месмер обобщил познания в сей области и возвел их в научный оборот. А потом нашел своим знаниям практическое применение.
— Часть этого «практического применения» я видел, — сказал Павел Андреевич с некоторым сарказмом, уже скорее по инерции, нежели от недоверия. Потому как к увиденному и услышанному в Обуховской клинике человеку, находящемуся на службе в Тайной экспедиции, надлежало отнестись с самым серьезнейшим вниманием. Ежели он, конечно, настоящий профессионал, каковым Татищев несомненно являлся. К тому же, это напрямую касалось Магнетизера, ставшего в деле о скоропостижной кончине адмирала де Риваса, сиречь убийстве, в чем теперь Татищев нимало не сомневался, главным фигурантом.
Павел Андреевич немного помолчал, раздумывая, а затем спросил:
— А этими магнетическими практиками можно воздействовать, скажем, на животных?
— Весьма вероятно, — ответила Анна. — Можно замагнетизировать лошадь, и она понесет, можно собаку — и она бросится на вас и искусает, а ворона выклюет глаз.
— Да уж, — произнес подполковник, уставившись в спину возницы. — Серьезный господин этот Магнетизер.
— Магнетизирование требует огромных усилий и затрат всего организма и весьма скверно сказывается на общем здоровии магнетического оператора, особенно действующего на расстоянии. Посему смею предположить, что тот, кто убил несчастную Жучкину и адмирала де Риваса, человек скорее худой, нежели полный, жилистый, нежели мускулистый, и вид имеет вряд ли цветущий.
— Это уже кое-что. Значит, мне надлежит искать худого изможденного человека? — спросил он, обведя взглядом хрупкую фигурку Анны Турчаниновой.
— Скорее всего, так, — согласно кивнула та. — Но почему «вам», а не «нам»?
— Потому что ваша миссия выполнена.
— А как же книга?
— Теперь я имею полное право произвести досмотр квартиры покойного адмирала де Риваса, потому что с этого момента, считайте, начато производство уголовного дела по факту его убийства, — весомо ответил Павел Андреевич.
— А если этой книги у него уже нет?
— Буду искать, — спокойно ответил подполковник Тайной экспедиции. — Ваше дело лечить отца Андрея Борисовича, мадемуазель.
— Все-таки вы невыносимы, — заключила Турчанинова и обиженно отвернулась от Татищева.
— Да поймите вы, — с жаром произнес Павел Андреевич, и в тоне его послышались нотки оправдания, — как я могу взять вас в следствие по этому делу, когда оно подпадает под разряд секретных?
— Я умею молчать, — твердо произнесла Анна Александровна. — А потом, вы же сказали там, в клинике, что поскольку я помогаю следствию по делу особой государственной важности, то на время его ведения являюсь действующим сотрудником Тайной экспедиции.
— Вы являлись этим сотрудником, — поправил Турчанинову Павел Андреевич. — До настоящего момента. Теперь наше сотрудничество закончено.
Коляска остановилась. Татищев огляделся и с облегчением произнес:
— Вы, кажется, приехали.
— Я никуда не пойду, господин Татищев, — решительно заявила Анна и, демонстративно поерзав, устроилась в коляске поудобнее. — В конце концов, я же доказала, что адмирал де Ривас убит, а не умер собственной смертью, как вы думали.
— Когда мне стало известно, что у адмирала перед самой смертью был посетитель, версия, что смерть его, скажем так, не совсем естественна, была принята мной как рабочая совершенно без вашей помощи, — четко выговаривая каждое слово, произнес подполковник. — Теперь я хочу довести дело до конца. Это долг чести. И если мне будут мешать…
— А мне, стало быть, вы в чести отказываете? — с упреком спросила Анна Александровна.
— Господа хорошие, вы слазить-то будете али как? — обернулся к ним возница.
— Да, — ответил Татищев и приоткрыл дверцу экипажа, собираясь выйти и высадить Анну.
— Нет, — решительно произнесла Турчанинова.
— Ну, сударыня, это уже… не знаю, как и назвать…
— Без меня вы его не поймаете.
— Слазить-то будете али нет?
— Я задействую всех лучших агентов экспедиции. Поймаем!
— У вас ничего не выйдет. Вы не знаете всех его возможностей.
— Слазить-то…
— Замолчи, мерзавец! — гаркнул Татищев, и извозчик опасливо втянул голову в плечи.
Павел Андреевич в сердцах захлопнул дверцу и мрачно посмотрел на Турчанинову:
— Чего вы хотите?
— Помочь вам найти Магнетизера. И поймать. Со мною вам легче это будет сделать.
* * *
— Он ведь мог убить Жучкину. Почему он этого не сделал?
— Возможно, его вспугнул я. Однако, скорее всего, это просто не входило в его планы, — добавил Павел Андреевич, ставший вдруг похожим на охотничьего пса, учуявшего дичь.
— Вы так думаете? — Турчанинова поразилась выражению его лица.
— Уверен, — резко произнес подполковник.
— Отчего же?
— Оттого, что убиение этой, пардон, потаскушки было ему не на руку. Два трупа в один день и в одном месте — это слишком много и привлекло бы внимание полиции. А нашему Магнетизеру таковое внимание совершенно ни к чему. Выкладывайте все, что о нем знаете.
Этот разговор между Татищевым и Турчаниновой происходил в небольшом кабинетике подполковника на первом этаже дома Бестужева-Рюмина на набережной Невы, где располагался Пятый департамент Сената, через два дня после посещения ими Обуховской клиники. За это время Павел Андреевич получил «добро» на деликатное расследование загадочной смерти адмирала де Риваса, провел досмотр кабинета и библиотеки покойного адмирала, «Петицы» там не обнаружил и решил-таки не отказываться от помощи мадемуазель Турчаниновой. В конце концов, помощь гражданских лиц дознанию есть их первейшая обязанность, и полиции, в том числе и тайной, не след в этом отказывать. А как только надобность в Турчаниновой отпадет, ее всегда можно будет отстранить от сего дела по причине его секретности.
— Собственно, мне известно о нем не столь уж много. Например, в Москве он всегда снимал меблированные комнаты с имеющимся в них черным ходом. Записывался у домовладельцев статским служащим с чином коллежского секретаря либо надворного или титулярного советника, непременно платил вперед, утром уходил, поздно вечером возвращался, так что его, собственно, мало кто мог видеть и хорошо запомнить. Хозяева меблирашек сказывали, что постоялец никогда не показывал лицо полностью, а в холодное время и вовсе ходил обмотанный шарфом до самых глаз, да и те были сокрыты надвинутой на глаза треуголкой. Дам к себе не водил, ни с кем не приятельствовал, но, по всему вероятию, Москву знал довольно хорошо и никогда не спрашивал, как доехать или дойти до нужного ему места. Словом, золото, а не постоялец.
Сведений немного, но все же кое-что. Главным же являлось то, что Магнетизер владел методой введения своей жертвы в состояние магнетического сна-яви пятой и даже шестой степени несколькими раппортам и за весьма короткое время, после чего убивал их одним прикосновением большого пальца ко лбу, а именно к месту, зовущемуся физиогномистами Точкой судьбы. И, стало быть, был крайне опасен.
«Перстная манипуляция действует сильнее ладонной и есть самый действенный способ прикосновения, — вспомнила Анна лекцию маркиза де Пюйзенгюра. — Сия манипуляция усиливается приведением перстов в различное между ними соединение. Паче действует большой перст, по нем мизинец, потом указательный и четвертый палец. Средний же не оказывает никакого действия. Распростертые или когтеобразно загнутые пальцы действуют наислабее. Сильнейшее действие оказывается в пальцах, сжатых концами в щепоть. Но конец или подушечка расправленного большого перста, при сжатии всех других пальцев в кулак, действует наисильнее всего…»
— А есть что-либо такое, что может как-то воспрепятствовать его силе? — задумчиво спросил подполковник.
Турчанинова ответила не сразу. Ослабить действия магнетизера, конечно, можно, а вот противодействовать?
— Действия магнетизера, насколько мне известно, затрудняют металлические предметы: портсигар в вашем кармане, хронометр, горсть меди, орден на шее или груди. Из материй более всего препятствуют прохождению магнитных токов к телу шелк, гродетур и атлас. Так что шелковая сорочка или атласный жилет будут не лишними при общении с ним.
— Надо будет объявить это агентам.
— Что вы собираетесь предпринять? — деловито спросила Анна и серьезно посмотрела на Татищева. Точно так спросил его вчера обер-секретарь Макаров, когда Павел Андреевич докладывал ему свои соображения. И подполковник, вздохнув и нарочито приняв тон подчиненного, доложил ей четко и вразумительно:
— Предлагаю начать розыски неизвестного лица в плаще, предположительно худощавого и не пышущего здоровием, обладающего привычкой носить треугол, надвинув на самые глаза, и не имеющего ногтей на пальцах рук. Для сего надлежит весьма осторожно, не привлекая внимания, осмотреть домовые книги всех гостиниц и меблированных комнат на предмет поселения в них схожего вышеприведенному описанию человека, записавшегося в чинах от коллежского секретаря до титулярного советника и проживающего в Петербурге около двух-трех недель. У вас будут какие-либо дополнения или возражения, сударыня?
— Возражений не имею, — подыграла Анна. — Вот дополнение: надо предупредить каждого из агентов, чтобы они были крайне осторожны.
— Будет исполнено, ваше превосходительство.
— Ну и, конечно, обо всем происходящем докладывать мне лично.
— Слушаюсь, — серьезно сказал Павел Андреевич.
Глава пятнадцатая
Наказ Нелидова сыну. — Сила добра. — «Тайноликому слава»… — Странники из Китеж-граду, или Хранители Слова и Вед. — «И боги жили среди людей». — Тайные маги, или жрецы Черного Круга. — Восхождение Андрея. — Что есть сокровенная книга «Петица». — Баклажка с сурьей, или все есть внутри нас.
Нелидов умирал.
Анне Александровне Турчаниновой с каждым днем приходилось затрачивать все больше и больше усилий, чтобы сдерживать ход болезни, однако скоро она почувствовала, что ее сил недостает. Кровяная опухоль в мозге стала расти, и консилиум столичных светил, вновь собравшийся в доме Нелидовых, подтвердил это. Прозвучал страшный приговор: жить больному осталось несколько дней.
— Неужели ничего нельзя сделать?! — в отчаянии спрашивал Андрей. В ответ Анна лишь отводила глаза.
В первых числах апреля Борис Андреевич умер. Тихо, без судорог и конвульсий — Турчанинова в последний раз помогла ему. Перед смертью не без содействия Анны к нему вернулась речь, и он позвал сына. Андрей пришел, встал на колени возле постели умирающего отца и заплакал. Анне было неловко видеть, что богатырского роста и сложения мужчина рыдает, как малый ребенок. Хотя в несчастии отца в большей степени виноват был сам Андрей, не приведи Господь испытать то, что испытывал он сейчас.
— У меня мало времени, — сказал Борис Андреевич, глядя сыну в глаза. — Думал, успею сделать из тебя восприемника. Не успел вот. Теперь это сделают другие.
Говорить ему было трудно и больно, но он продолжил:
— Скоро придут люди из Круга. — Нелидов замолчал и перевел взгляд на Анну, потом все же решил говорить далее. — Хранители. И ты, сын мой, обретешь Стезю.
Он облизнул сухие губы.
— Ты должен вернуть «Петицу». В ней сила и память… — было заметно, что ему становится все труднее говорить, — и возможность обрести Утраченное, когда Русью овладеют навьи силы и наступит Кощный век. И ежели «Петица» будет утрачена или попадет во вражьи руки, то никогда уже более не подняться Руси и народ русский изведен будет до состояния ничтожного. И не исполнит он возложенной на него миссии, потому как не будет иметь силы добра, заключенной в «Петице» и иных вещих книгах. Найди ее, верни. Вот тебе мое последнее слово.
Язык его переставал слушаться. Говорил он неразборчиво, и все же Андрей услышал нечто, похожее на молитву:
…небесному, медведю лесному… пастырю вещему, гусляру истому да… отцу да попечителю живота всякого …волхвов, баянов да скоморохов великому погубителю к возрождению ведущему всегда близкому всегда не… старому да юному хладному да ярому навному да явному …тайноликому слава…Сказав это, Нелидов закатил глаза. Больше он ничего не сказал.
Анна опустила голову. Андрей по-ребячьи всхлипнул:
— Батюшка…
Турчанинова подошла к Нелидову, тронула за плечо:
— Пойдемте, Андрей Борисович. Все кончилось.
* * *
Отпевали Бориса Андреевича в церкви Успения Пресвятой Богородицы, что на Сенной площади. А похоронили на Лазаревском кладбище, возле могилы княжны девицы Давыдовой с надгробным памятником черного мрамора в виде огромной вазы, похожей на бутон едва распустившейся розы.
Прощальных речей не было. А когда пришло время бросить на гроб Бориса Андреевича горсть земли, появились невесть откуда два высоченных седобородых старца в длинных одинаковых одеждах, с посохами и котомочками через плечо. Лиц из-под наглавников не видно, только глаза двумя угольями горят да бороды седые топорщатся, рукава одеяний широченные да длинные, сокрывающие кисти рук, полы грязнущие до земли — ну, чисто волхвы с картинок из книжек с былинами русскими.
Незнакомцы стояли молча, зыркали огненно на Андрея из-под своих капишонных раструбов. По горсти земли все же бросили, обнажив белые кисти рук с тонкими запястьями. Не работные, прямо скажем, руки, не крестьянские. И у цеховых людей руки другие, темнее, да и в кости поширше. «Таковые руки только у поэтов, музыкантов да магиков, что в балаганах фокусы всякие показывают», — сделал вывод Татищев, пристально наблюдавший за странными старцами.
Расходились после похорон молча.
Анна Турчанинова, сухо кивнув, уехала первая, следом ушли двое известных в Петербурге собирателей старины, гуськом, друг за другом, уныло поплелась к выходу с кладбища немногочисленная нелидовская челядь. Старцы же подошли к Андрею и стали что-то ему говорить.
— Стезя… — донеслось до Татищева, — древний Завет…
— Прошу прощения, милейшие, — подошел к ним Павел Андреевич и сделал строгое лицо. — Вы, позвольте вас спросить, кто такие?
Андрей посмотрел на него мутными глазами, кивнул: все, дескать, в порядке.
— А ты-то сам кто таков? — совсем не вежливо спросил Татищева один из старцев. Голос его был чист и свеж, будто под чудными одеждами скрывался юноша.
— Военный чиновник Тайной экспедиции подполковник Татищев, — четко выговаривая каждое слово, произнес Павел Андреевич.
— Ну а мы — странные люди.
— Вижу, что странные, — строго посмотрел на говорившего Татищев. — А пашпорты или пропускные письма у вас имеются?
— Чего ему надобно? — спросил второй старец. Голос его был не так молод, как у первого, но также звонок и мелодичен. Такой голос мог быть присущ человеку в летах, скажем, годов под пятьдесят.
— Мне надобно посмотреть на бумаги, удостоверяющие ваши личности, — сказал Татищев, уязвленный тем, что для второго старца он явно был пустым местом. — Так что извольте предъявить.
— Он хочет посмотреть наши грамотки, — ответил второму старцу первый.
— Он вправе зрить их?
— Да.
— Покажь.
Первый старец сунул руку за пазуху и вынул две вчетверо сложенные плотные бумаги. Протянул Татищеву. К удивлению Павла Андреевича, это оказались пропускные разрешительные письма, оформленные честь по чести, как и положено.
— Откуда идете?
— Из Китеж-граду, — задиристо ответил первый старец. Второй продолжал открыто манкировать подполковника.
— Из Китежа? — усмехнулся Татищев. — Ну-ну…
Шуткари нашлись. «Из Китеж-граду». Впрочем, неуверенные в себе люди так не шутят.
— Я тебе нужен? — на всякий случай спросил Андрея Татищев.
— Нет, благодарствуй, — тихо ответил Нелидов.
Павел Андреевич кивнул и пошел прочь с погоста. Ну что могут сотворить с эдаким здоровяком два старца? Разве в пустынь уговорят уйти. Так это было бы не так уж и худо.
* * *
Больше всего поразило Семку в странных людях то, что оба были босы. Его мало смутили одежды старцев, когда они сняли свои балахоны и остались в одних рубахах, чистых, несмотря на их дальний переход, не удивили лица с глубокими морщинами. А что пришли они издалека, можно было судить по их говору и ногам. Говорили они мало и не по-городскому, ноги же их в узлах жил были похожи на придорожные корни вековых деревьев, кои не берут ни огонь, ни топор. А уж грязнущие-то!
Старый Ферапонт, напротив, удивился мало, зато проникся к божьим людям столь неизбывным почтением, что, велев горничным принесть теплой воды, сам вымыл старшему из них ноги. Младшему вымыла ноги Лизка. И хотя старцы блаженно щурились, а младший, как показалось Семке, поглядывал на Лизку с мужским интересом, сия процедура явно была им не в диковинку.
Вытерев их ноги холщовыми полотенцами, Ферапонт и Лизка, почтительно приобняв старцев, сделавшихся вдруг крайне усталыми, проводили их в кабинет барина, причем по дороге младший, с седой бородой, заткнутой за пояс, как бы нечаянно дважды коснулся налитых грудей горничной. Когда он уже намеревался произвести третье нечаянное касание, старший, зыркнув на него из-под седых кустистых бровей, коротко бросил:
— Не балуй.
Третьего касания не состоялось, зато старец мало не прилег на горничную, с трудом тащившую его до кабинета. Семка следом нес котомки, ревниво уставившись в широкую спину незнакомца.
«Ишь, спинища-то у этого, — подумалось ему невольно, — равно как у молотобойца какого. Верно, не худо подают божьим людям в их странствиях».
В кабинете старцев усадили в кресла.
— Проголодались, небось, с дороги-то? — умильно произнес Ферапонт и перевел взгляд на барина: — Велите кушания гостям приготовить?
— Да, Ферапонт, распорядись, — сказал Андрей, усаживаясь напротив старцев.
— Слушаюсь, барин.
— Трапезничать опосля будем, — веско изрек старший старец, теребя конец бороды, несколько раз обернутой вокруг ременного пояса. — Сперва дело.
Он выразительно посмотрел на Андрея, и тот, поняв его взгляд, жестом отослал из кабинета слуг.
— Мы — я и мой младший брат — волхвы, Хранители Слова и Вед, внуки Ермилы Велеславовича, первого вместе с Бояном Хранителя Слова, Веры и Знаний и волхва всех земель русских, — начал старший старец, вперив строгий взор в Андрея. — Ты тако же род свой ведешь от Ермилы Вещего, стало быть, мы сродственники тебе.
— Внуки Ермилы Велеславовича, — Андрей недоверчиво обвел глазами старцев, — это сколько же вам лет?
— Много, — легкая усмешка показалась на лице старца. — Но ты можешь называть нас дядьями.
— Древние жили долго, — наставительно произнес другой старец. — Скиф прожил семь сотен лет, его брат князь Словен пятьсот, Рус — триста двадцать, Кий — двести и еще сорок. А походный князь Коло и вовсе десять веков жил, и ежели б не отравленная стрела, жив был бы и посейчас, ибо зело осторожничал. Они бы, верно, все были бы живы по сего дни, ежели б не сгубили их вороги, маги Черного Круга. Кого мечом да ядом, кого забвением. Забвением, брат ты мой, даже Бога убить можно.
Андрей откинулся на спинку кресла, оторопело глядя на старцев.
— Но ведь…
— Ты покудова помолчи, отрок, — повелительно поднял руку старший из волхвов. — Сейчас мы Слово сказывать будем, а ты — слушай да внимай.
Он закатил глаза и начал монотонно и нараспев:
До рождения Света белого Тьмой кромешною был окутан мир. Был во тьме лишь Род — прародитель наш. Род — родник всего да отец богов. Был вначале Род заключен в яйце, был он семенем непророщенным, был он почкою нераскрывшейся. Но конец пришел заточению. Род родил Любовь — Ладу-матушку. Род разбил узилище Любви силою, и наполнился Мир любовию. Долго мучился, долго силился, и родил Род царство небесное, А под ним создал поднебесное. Пуповину ж разрезал радугой…Прошел час.
А на горушке Березани да — Вырос светлый дуб вверх кореньями, Вниз ветвями-лучами, и яблоня — С золотыми плодами волшебными. Кто отведает злато яблочко, Тот получит враз вечну молодость. Так Свaрогом был учрежден в горах Ирий-рай — обитель священная. И поют птицы сладко в Ирии, Там ручьи серебрятся хрустальные, Драгоценными камнями устланные. В том саду лужайки зеленые, На лугах трава мягко-шелковая, А цветы во лугах лазоревые. Не пройти сюда, не проехати, Здесь лишь боги да духи находят путь. Все дороги сюда не проезжие, Заколодели-замуравели, Горы путь заступают толкучие, Реки путь преграждают текучие…Прошел второй. Старец, будто заведенный, продолжал вещать-петь:
Род создал затем Макошь-матушку — Мать-богиню, судьбу неминучую. Она нити прядет, в клубок сматывает, Не простые то нити — волшебные. Из тех нитей сплетается наша жизнь — От завязки-рожденья и до конца, До последней развязки и смертушки. А богини Недоля и Долюшка На тех нитях, не глядя, завязывают Узелочки — на счастье, на горе ли — Только Макоши сие ведомо… Пращур-Род Свaрогу небесному Повелел населить поднебесную И создать людей, рыб, зверей и птиц, Насадить леса, травы и цветы…Когда первый старец закончил, начал второй:
И тогда бог Велес, излив Сурью, сказал: пусть же Сурью Бога Вышнего пьют Сварожичи небожители, а такоже наши сыны на Сырой Земле.
И пролил он Сурью небесную вниз на Землю из сада Ирия. И бросал он Ковш в небо синее, чтобы Ковш сиял среди частых звезд.
Но однажды обратил Чернобог Валу, брата Велеса, хранителя мудрости и входа в Навь, в огромный камень-валун и укрыл в нем небесные тучи-коровы, отчего прекратились дожди. Поэтому Индрик вместе с Богом Огня Семарглом и Бармою по велению Вышня ударили по валуну и раскрыли его. И тогда из камня вышли тучи-коровы, явился бог хмеля и мудрости Квасура и бог-полуконь Китавр. В камне разверзлась крыница, струившая волшебную сурью. Это был солнечный мед поэзии, и святая вода, и пламя, очищающее мир, и само ведическое знание. Барма спрятал мрак, он сделал солнце зримым, а после к колодцу с каменным устьем припали все, кто видит солнце. И получили народы наши Устой, и ведали они, как землю пахати, как мечи ковати, чтили богов своих, славили Правь, любили землю свою, как кровную мать, и знали вещие Слова. И боги жили среди людей.
Припали к сему ключу и некие таинственные древние племена, прознавшие про сурью, и черпали в сем источнике Ведическое Знание, ибо открыто оно тогда было для всех людей. И вошли они внутрь горы Валу по вехам, оставленным Бармою, и достигли самого отдаленного сокровища Пана, сына Гермеса и стража Пекла, сокрытого в тайнике. И прознали они про то, что было и будет, и похотели то будущее изменить в угоду себе, и чтобы они одни теми знаниями володели, и более никто о них даже и не ведал. И укрылись они в городе Фивы, и стали тайной кастой жрецов-магов, и обратили одно из племен хитростию мудрой в рабов своих вечных, ибо ведали, как содеять сие, и расселили то племя по всему свету, дабы везде иметь верных вассалов своих. И забыли те жрецы Черного Круга, что есть добро и что есть зло, как заставили забыть о том и рабов их вечных, ибо добром считали они володение людьми, золото и власть, а наибольшим добром — полную власть над миром.
И все-то у них получалось по их разумению, и многие племена и народы, а паче правители их по указке Тайных жить стали, а иные племена и вовсе в Лету канули безвестно. Многих народов изменили они миссию, кроме одного, народа князей Руса и Словена, дух коего понять до конца так и не смогли. А дух народный и есть суть его. И наша суть — Лад в мире людском. Во Всемирье. Ибо Лад есть Стезя и Цель наша. Внутреннее, отражённое во внешнем. То, в чём растворяется всякая распря и отчуждённость. Лад в сердце. Лад в природе. Лад меж сородичами. Лад меж Богами и людьми. Меж Явью и Навью. Меж токами сил души. Меж различными Ликами Единого. И просто: ЛАД всюду и во всем.
И решили Тайные извести веру нашу и наших богов и затруднить Стезю и миссию народа нашего на Лад, и наслали на землю много иных вер и богов, дабы разделить народ наш и посеять средь него вражду. Ибо суть гнусного учения их — разделяй и властвуй.
И запылали капища ведические со священными книгами, и топить стали волхвов в Непре реке, а иные пещерниками содеялись, дабы сохранить Традицию. Но и тех пещерников убивали лазутчики и наемники Тайных, как убили они Ермилу Вещего ножиком отравленным, а Буса Белояра и вовсе распяли на кресте. Как убили они изменою старого князя Коло и Олега Вещего, и князя Святослава Хороброго.
Все же не удалось жрецам Черного Круга извести всех волхвов-хранителей древней праведической веры и священных ведических книг, суть кои Веды славянские Звезница, Земница и Петица. И сии три книги да еще чаша Троянова сохранялись тайно в разных местах Хранителями Белого Круга, и много бы дали те Черные маги, дабы завладеть ими. И ежели б сие случилось, стали бы они единолично володеть Подлинным Знанием и поделили бы мир на рабов и господ, коими они б едино и являлись.
Но мешали остатние волхвы-хранители, мешал и сам народ, в коем оставался дух Прави и Лада.
И порешили Тайные маги извести тогда Русь целиком. И наслали полчища готов и гуннов, но выстояли Дажьбожьи сыны, внуки Свароговы, а берендеи сохранили Веды заповедные.
Наслали хазар — разбили и хазар. Двадесять раз попадала Русь под ярмо иноплеменное, и двадесять раз стряхивала его со своих могутных плеч.
Тогда хитрые маги навязали нам веру из Грецколани руками греков ушлых, дабы расколоть Русь изнутри. Пошатнулась вера Прави, сокрылась по пустыням да пещерам, но не исчезла.
Наслали на Русь слуг тартаровых — и снова запылали города и веси, и капища последние, и ушли уцелевшие волхвы-хранители в Китеж-град, город-храм. И от воев Батыевых сей град в озеро ушел, дабы не достали этот священный оплот ни явные, ни тайные вороги и дабы Веру Правую и Знания Подлинные будущим поколениям сохранить и во время нужное явиться в Яви…
Долго еще говорил старец. Закончил далеко за полночь. Андрей молчал. Наконец спросил тихо:
— Мой отец был волхвом?
— Нет, — услышал он. — Твой отец был Посвященным. Хранителем.
— А что было в этой книге, которую я… Которая по моей вине… Вы можете мне сказать?
— Можем, — глядя мимо Андрея, ответствовал старший старец. — Теперь ты тоже Посвященный, и обряд Восхожения вскорости будет завершен. «Петица» есть книга жизни, — тихо произнес он, глядя неотрывно на Андрея. — Сокровенная книга, одна из потаенных ведических книг. Кто ее прочел, у того Лад в душе, Память и Слово. А с ними — и Стезя жизненная явною делается и понятною. А вместе с ней и человек становится Человеком, праведным и честным, даже ежели до того он был бесчестным и кощным. У батюшки твоего хранился ее список. Перевод, сделанный с рунических свитков, находящихся в храме Велеса в граде Китеже. Много в книге «Петице» сакральных откровений, некогда знаемых, а ныне забытых и отрешенных от людей происками Темных и Тайных. Тако же и путь Руси и человека русского в ней предначертан. От прошлого, сокрытого в веках, до будущего, что за многими летами тако же сокрыты. И одним из ее главных откровений является тайна скорого рождения Предтечи от воина, потомка Словена, и девицы…
Напольные часы пробили три пополуночи. Старец замолчал.
— Какой девицы? Вы не сказали, отче, — тихо произнес Андрей.
— Ты все узнаешь после Восхождения, — ответил старец. — И будешь ведать, как тебе поступить, ибо тайну рождения Предтечи и Нового Бога знают теперь Хранители Черного Круга. До сей поры у них не было полного списка «Петицы».
Он отвернулся от поникшего головой Андрея и кивнул брату. Тот потянулся к котомке, стоящей у ног, развязал тесьму и достал небольшую баклажку.
— Сейчас ты выпьешь сурью, и в тебе откроется закрытый доселе канал родовой памяти. Ибо все есть внутри нас, и надо только вспомнить то, что уже знаешь и ведаешь. И откроется тебе Стезя, которую не мы выбираем, но она выбирает нас. И узнаешь ты, как следовать Пути Прави, и получишь Завет.
Когда младший старец открыл пробку баклажки, по комнате распространилось неведомое доселе Андрею благоухание, а из горлышка выбился сноп света, будто в баклажке старцы запрятали кусочек солнца. Достал старец из котомки и чашу, расписанную по краям руническими письменами. Когда наливал в нее сурью, она искрилась и слегка пенилась, и по стенам кабинета плясали солнечные зайчики.
— Пей, — сказал старец и протянул чашу Андрею. Нелидов сделал глоток, другой. Напиток был явно настоян на меде и травах и имел вкус сладкий, но не приторный. А еще он пах степью и волей, ежели, конечно, таковая имеет какой-либо запах. И еще солнцем.
Когда Андрей допил чашу до дна, старцы хором завелеречили-запели:
Гой есе, Велесе! Быку небесному, медведю лесному да змею родовому, пастырю Вещему, гусляру истому да воителю грозному, отцу да попечителю живота всякого, вдохновителю волхвов, боянов да скоморохов, великому погубителю к возрождению ведущему, всегда близкому всегда непостижимому, старому да юному, хладному да ярому, навному да явному, Велесу тайноликому слава! Слава! Слава!Андрей неожиданно понял, что подпевает им. Он откуда-то знал эту молитву, и знал, кажется, очень давно. Не молитву, конечно, а Слово Вещее, прости меня, Матерь Сва.
Утром, когда он проснулся, старцев уже не было.
Он не стал выяснять, куда они подевались, ибо это было неважно. Важно было то, что все сказанное ими было правдой. В этом Андрей не сомневался. И, как сказал старший старец, он уже ведал, как ему поступить.
Глава шестнадцатая
Не в каждой меблирашке для приезжих имеются теплый клозет и чугунная ванна. — Легенда Елизарьева. — «А хари у них — жуть»! — Опытному сыскарю достаточно и неосторожного взгляда. — Роковая встреча. — Без пяти минут покойник. — Последнее, что видел в своей жизни Калина Елизарьев.
Калина Елизарьев, одетый купцом средней руки, ступил на Малую Мещанскую уже без всякой надежды. Шутка ли — отыскать человека в Петербурге! Сие равно, что иголку в стоге сена найти. Да и то — иголку, предмет вполне конкретный и известный. А ты попробуй-ка сыскать человека с приметами предположительными! Предположительно высокий, предположительно худой… Возможно, одет в черный плащ и черную же шляпу-треугол. И, скорее всего, нету у него ногтей на пальцах рук. А как разглядишь эти пальцы, коли все господа ходют в перчатках? Ежели б не сам Павел Андреевич сие приказанье отдал — давно бы плюнул на это безнадежное дело. Однако их высокоблагородие подполковник Татищев личность в их конторе известная, попусту такие приказания отдавать не станет без крайней на то надобности.
Двухэтажный дом Фанинберга на углу Малой Мещанской и Столярного переулка отсвечивал небольшой вывеской между первым и вторым этажами:
МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ
Калина вздохнул, ступил на небольшое крылечко под ажурным навесом и толкнул входную дверь.
— Чем могу служить? — выкатился навстречу ему пухлый человечек с внимательными глазками и легким акцентом.
— Господин Фанинберг? — спросил Елизарьев, определив в подкатившемся человечке хозяина меблирашек.
— Он самый, — сладко улыбнулся тот. — Желаете снять нумер? У меня вполне приличные комнаты, всегда свежее белье-с и полное отсутствие клопов.
— Это хорошо, — кивнул Калина, оглядывая пустую прихожую и помышляя, как бы ловчее начать нужный разговор.
— Могу предложить вам нумер-люкс, он сейчас свободен, — продолжал сахарно улыбаться Фанинберг. — Семь комнат, теплый клозет, чугунная ванна, обед в нумер и все прочее.
— Благодарствуйте, я…
— В прошлом годе в этом нумере останавливались сам эрцгерцог Гессенский Эрик Велеречивый. Инкогнито, конечно. Остались весьма довольными.
— Мне не нужны комнаты, — вежливо прервал его Калина. — У меня к вам дело иного рода.
— Да что вы говорите? — нимало не опечалился Фанинберг и сделал лицо, изображающее, что он «весь внимание».
— Видите ли, — Елизарьев доверительно глянул на Фанинберга, — третьего дня я шибко загулял. Случилась одна весьма выгодная негоция, ну, вот на радостях и… Понимаете?
— О, да, — закивал головой Фанинберг. — Выгорело хорошее дельце, вот вы и решили его, так сказать, обмыть.
— Точно так. Очень крепко загулял, — повторил Калина и натурально вздохнул. — Потом занесло меня в один веселый дом на Охте…
— К девицам! — хохотнул Фанинберг и хлопнул себя ладонями по толстым ляжкам.
— К девкам, — хмуро поправил его Калина и сделал печальное лицо. — Так мало того, что я у них денег спустил сотни две, ежели не более, понесло меня, видите ли, от них домой на ночь глядя. Ну, вышел, значит. Ночь, темень, куда иду — не ведаю, извозчиков нету. И тут навстречу двое.
— Так-так, — заинтересованно произнес Фанинберг и потер ладошкой об ладошку.
— Поравнялись они со мной. Вижу: рожи гнусные, страшные, того и гляди, пырнут в живот ножиком. Я даже протрезвел малость.
Калина поежился, словно ему явственно припомнился вчерашний страх, судорожно сглотнул, замолчал.
— Дальше-то что?
— Дальше? — невесело ухмыльнулся Елизарьев. — А приставили они мне нож к горлу и говорят: сымай, дескать, с себя все, иначе, мол, тебе край. А у меня с собой денег тыщи четыре, да часы, да цепочка, да портсигар серебряный, да…
— Четыре тысячи? — ахнул Фанинберг.
— Ну да. Осмотрелся я: переулок глухой, кричи не кричи, никто не услышит. Да и ежели б закричал, они тотчас бы мне ножик в горло воткнули, потому как хари у них — жуть! Таким упырям человека прирезать, равно, что два пальца… обмочить.
— Да, времена-а… — протянул Фанинберг участливо.
— Да, — согласно кивнул ему Калина. — Ну, что делать? Раздеваться стал, а сам думаю, как бы портмоне с деньгами незаметно припрятать. И тут слышу — шаги. Напряглись они, и тот, что с ножиком, мне прям в самое ухо и шепчет: шевельнешься, дескать, али крикнешь — убью. И к стеночке меня прислоняет, в самую темь. А шаги все ближе. Ну, думаю, сейчас они и этого прохожего оприходуют. Вот показался он. Видно плохо, потому как темно, но все же различить можно, что человек не из простых: высокий, плащ на нем, треугол, сапоги. Верно, увидел, что неладное происходит, и спокойным таким голосом спрашивает: в чем, дескать, дело? Ну, тот, что был с ножиком, ответствует, что шел бы он своей дорогой и не в свои дела не встревал. «Ах, вот оно что», — вымолвил прохожий и содеял вид, что послушался их и собирается немедля уйти прочь. А потом вдруг набросился прямо на них — я и сообразить ничего не успел, глядь, а оне обои уже на мостовой оказались в разных лежащих позах.
— Экий молодец! — воодушевлено воскликнул Фанинберг.
— Да, — согласно поддержал его Калина. — «Одевайтесь, — говорит, — я вас отсюда выведу». Ну, оделся я кое-как, пошли мы. И ведь нет, чтобы мне про него по дороге разузнать, кто он таков да как зовут — соображал я еще тогда плохо, — так спросил я, как его зовут да за кого мне Бога благодарить, когда он меня на извозчика уже сажал. А он: «Сие не важно. Люди, — говорит, — завсегда друг другу должны помогать, а иначе, дескать, — это и не люди будут вовсе, а так, твари двуногие. А я, — говорит, — приезжий, все равно скоро из города вашего уеду». В себя я пришел, когда до фатеры своей доехал. «Эх! — думаю, — хоть бы денег предложил тому человеку, что спас меня от погибели верной». И ведь даже не поблагодарил по-людски, так, мямлил что-то невразумительное. Вот и порешил: найду его и прямо в лицо скажу: «Спаси тя Бог, мил человек, за мое вызволение». Ведь оне, громилы-то ночные, очень даже запросто и порешить меня могли…
Калина замолчал и выжидающе посмотрел на Фанинберга.
— Повезло вам, — подытожил рассказ купца хозяин меблирашек и раздумчиво потер мягкой ладошкой бритый подбородок. — И вы, стало быть, ходите теперь по гостиницам да постоялым дворам и ищете своего спасителя?
— Точно так. Токмо спаситель мой, верно, из благородных и на постоялом дворе он вряд ли остановился. Либо в гостинице, либо в меблированных комнатах. Гостиницы все я уже обошел, вот, по меблирашкам хожу.
— Ясно, — заключил Фанинберг. — Стало быть, вы ищете господина высокого, из благородных, что ходит в черном плаще и треуголке?
— Точно так, — кивнул ему Елизарьев и с надеждой спросил: — Не останавливался таковой у вас? У него еще это, — нерешительно добавил Калина, — на пальцах руки ногтей, кажись, не было. Точно, конечно, не могу сказать, пьян все же был, но когда он, прощаясь, руку мне подал и из вежливости перчатку перед этим снял, то мне привиделось, что…
— Нет, такового господина у меня среди постояльцев не имеется, — как показалось Калине, слишком поспешно ответил Фанинберг.
Елизарьев агентом был дюже опытным и тотчас приметил эту поспешность. Виду он, конечно, не подал, напротив, опечалился сильно и, попрощавшись с хозяином, уныло поплелся к выходу. Оглянувшись перед самой дверью, он приметил острый сверлящий взгляд, которым Фанинберг провожал его. «Нет, здесь точно что-то не так, — подумал Калина. — Надобно будет доложить об этом господину подполковнику».
Когда за ним закрылись входные двери, по красному, с проплешинами, лестничному ковру в прихожую спустился немного выше среднего росту человек в плаще и треуголе. Шляпа у него была надвинута на самые глаза, так что разглядеть лицо постояльца не было никоей возможности. Фанинберг незаметно кивнул, и человек в испанском плаще подошел к нему. Хозяин меблирашек что-то коротко сказал на языке, который не понял бы ни русский, ни немец, ни француз или даже чухонец, случись кто из них рядом. Они посмотрели на входные двери, несколько мгновений назад закрывшиеся за Елизарьевым, затем человек в плаще кивнул и почти бегом направился к выходу.
* * *
Калина раздумчиво брел к бирже извозчиков, что находилась на углу Малой Мещанской и Екатерининского канала. Две гостиницы и шесть меблирашек он обошел за сегодняшний день, и только в последней наметилась удача. Впрочем, не наметилась — забрезжила.
Почему этот Фанинберг столь поспешно ответил, что у него нет такого постояльца, и даже не заглянул в домовую книгу? Пошто имел такой взгляд, будто он, Калина Елизарьев, есть ему самый заклятый враг? Павел Андреевич велел докладывать даже о самых малейших и на первый взгляд незначительнейших подозрениях немедля. Стало быть, надобно ехать к нему.
На бирже стояла всего лишь одна коляска.
— Набережная Невы, дом Бестужева, — произнес Елизарьев, начиная садиться, как вдруг услышал:
— Позвольте, сударь, коляска уже занята.
— Кем это? — оглянулся Калина и опешил, встретившись с насмешливым взглядом серых глаз господина в плаще и треуголе.
— Мною, — вежливо улыбнулся Магнетизер.
— Но я был первым, — сказал Елизарьев ради того, чтобы хоть что-то сказать.
— Вот именно, были, — произнес Магнетизер и провел голой ладонью вдоль лица Калины. Ногтей на пальцах рук не было. С большим усилием Елизарьев поставил ногу на приступ коляски, подтянулся, помогая себе руками, и тяжело опустился на кожаное сиденье. Тело почти не слушалось. Несколько раз он пытался что-то произнести, наконец ему удалось справиться с непослушными, словно замерзшими и невероятно распухшими губами:
— Трогай.
— Погоди, голубчик, — бросил вознице Магнетизер и удивленно поднял брови. — У вас, верно, под шубой шелковый жилет? — обратился он к Елизарьеву. — А в карманах понасыпано меди? Что ж. Это было бы предусмотрительно с вашей стороны, милейший, года два назад, ну, пусть даже год. Теперь меня это не остановит.
Он обошел коляску, открыл дверцу и уселся рядом с Калиной.
— Ну, слышал, что сказал господин купец? — обратился он к вознице. — Набережная Невы, дом Бестужева-Рюмина. Пошел.
Кучер тронул поводья и произнес:
— Коли вы не вместе, стало быть, две цены.
— Мы не вместе, — подтвердил пассажир в испанском плаще.
Елизарьев скосил глаза — повернуться он уже не мог — и с ненавистью уставился на Магнетизера.
— Что, выследили меня? — ядовито улыбнулся тот Елизарьеву. — Вам так много обо мне известно! Но это не поможет, милейший. Слышите вы, новопреставленный?
Калина моргнул и разлепил губы:
— Господин Татищев все равно тебя возьмет.
— Вы так думаете?
— Именно так…
Улыбка сползла с губ Магнетизера. Ему было отлично известно, каких трудов стоило Елизарьеву произнести эти несколько слов.
— Ну что ж, — он пристально посмотрел в глаза Калине. — Подполковник Татищев, конечно, оппонент серьезный. Но, видите ли, он тоже без пяти минут покойник.
Вслед за этим Магнетизер снова несколько раз провел ладонью вдоль лица Елизарьева, будто пытаясь стереть его.
Калина побелел, но продолжал сверлить взглядом своего врага. Последнее, что он видел, это подушечку большого пальца, медленно приближающуюся к его лбу.
Глава семнадцатая
Страшный подарок подполковнику Татищеву. — Непростой разговор с обер-полицмейстером Овсовым. — Славный родственник. — Поносительные знаки для каторжных сидельцев. — Семеро по лавкам. — «Его здесь нет»… — Чему удивилась Анна Александровна Турчанинова.
— Это явный вызов! Он просто насмехается над нами! Мало того, что он убил лучшего моего агента, так еще прислал его труп мне на квартиру, замагнетизировав извозчика! — горячился подполковник Татищев, недовольный спокойствием обер-полицмейстера Овсова. — Представляете, в мой дом входит мужик с мертвым телом на спине и, гнусно ухмыляясь, говорит, что, мол, это подарок от известной мне личности, которую, дескать, вы разыскиваете, да хрен найдете. Он так и выразился — «хрен найдете». Конечно, извозчик ничего не помнит, как и лакеи в доме адмирала де Риваса. Преступник просто стирает у них память о себе. Как ластиком карандашные надписи на бумаге. Ну, и как все это расценивать, если не вызов?
— Уж не думаете ли вы, что между вами и этим — как его? — Магнетизером происходит дуэль? Мне почему-то кажется, что вы задеты и вам просто хочется свести с ним частные счеты, — строго посмотрел на Татищева Овсов. — Следствию не должны мешать эмоции и разнообразные чувства, например личная неприязнь.
— Да ни в коей мере! — продолжал горячиться Павел Андреевич. — Это ведь вызов не только мне, а всей… всему…
— Хорошо, хорошо. Что вы хотите?
— Закрыть город для всех выезжающих, — рубанул рукой воздух Татищев.
— Закрыть город?! — Овсов почти свирепо посмотрел на Татищева. — Да вы с ума сошли. Ведь не моровая язва и не холера, в конце концов, прости господи. Нет, это решительно невозможно!
— Возможно, ваше превосходительство, — продолжал настаивать Павел Андреевич. — Надлежит только на всех заставах расставить ваших людей с тем, чтобы они проверяли выезжающих из города мужчин на предмет отсутствия на их руках ногтей.
Овсов неприязненно посмотрел на Татищева.
— Всех?
— Всех, ваше превосходительство, — подтвердил Павел Андреевич.
— И членов монаршествующей фамилии прикажете проверять? — с большой долей сарказма произнес обер-полицмейстер.
— Полагаю, это ни к чему, — серьезным тоном ответил Татищев. — Ведь многих из них мы знаем в лицо.
Овсов немигающим взором уставился на подполковника. Смотрел долго, пристально, много раз намереваясь наговорить колкостей и едва сдерживая себя от этого.
Наконец промолвил не без язвы в голосе:
— Знаменитый генерал-полицмейстер Алексей Данилович Татищев, случаем, вам не родственник?
Павел Андреевич усмехнулся. Сей вопрос задавался ему не единожды, и покойный Шешковский был весьма доволен таким родством своего подчиненного.
— Родственник, — подтвердил Павел. — У нас общий предок. Князь Святослав Хоробрый. А родовую фамилию всем Татищевым дал князь Василий Юрьевич, новгородский наместник. В Новгороде Великом он переловил всех преступников, коих тогда, как вы знаете, именовали татями, и потому великий князь дал ему прозвище Тать-ищ, то есть татей ищущий, вот и стал Василий Юрьевич Татищем, а сыновья его — Татищевыми.
— Стало быть, это у вас фамильное — преступников разыскивать, — заключил обер-полицмейстер.
— Родовое, — поправил его Павел Андреевич.
* * *
Биографию генерал-полицмейстера Алексея Даниловича Татищева, почившего в чине генерал-аншефа — выше только генерал-фельдмаршал, а далее уже сам государь, — знали в столице многие.
Отец Алексея, Данила Татищев, был казанским помещиком средней руки. В богачестве не купался, но и лиха не ведал. Рос Алексей парнишкой смышленым и с ранних лет смекнул, что дома жить — чина не нажить. И подался Алешка Татищев в Москву служить российскому государю. Уж оченно хотелось быть значимым в собственных глазах. А паче — в глазах окружающих. Фамилии он был, слава богу, вполне «изячной», как-никак от самого Рюрика род сей велся и далее от князей смоленских, посему вскорости оказался он в денщиках самого царя Петра Алексеевича. И не просто в денщиках, а денщиках любимых. К смерти государя выслужил чинишко капитана, а после оставлен был при дворе нести «всякую» службу. Уж зело расторопен был капитан Татищев, и распоряжения, им получаемые, исполнялись как нельзя точно и в срок.
Пришелся Алексей Татищев и ко двору Анны Иоанновны, при коей получил он вполне заслуженно чин камергера.
При Лизавете Петровне отличился Алексей Данилович по сыскной части, за что пожалован был кавалером Александровского ордена. А в 1745 году, когда преставился прямо в Управе Благочиния старый генерал-полицмейстер Девиер, Татищев был назначен генерал-полицмейстером Санкт-Петербурга с производством в чин генерал-поручика.
Конечно, были и до него фигуры на сем посту. Чего только стоил Христофор Антонович Миних, коего за глаза звали «железным»!
А Федор Васильевич Наумов? Редчайший умница, большой ценитель шахматной игры и фортепианной музыки, любивший самолично производить дознание и наблюдать, как вгоняют злоумышленникам под ногти гвозди, допытываясь правды подноготной, и выбивают палками-длинниками правду подлинную.
Да и Антон Мануилович Девиер, впервые ставший генерал-полицмейстером еще при государе Петре Алексеевиче, тоже был сыскарем ушлым и битым, а иначе как бы ему удалось поймать несколько месяцев наводившего ужас на всю Адмиралтейскую сторону хитрейшего и безжалостного Черного Чухонца, мужеложца и насильника-убивца, никогда не оставляющего после себя свидетелей?
Но генерал-поручик Татищев сумел затмить всех своих предшественников. Именно он поставил должность генерал-полицмейстера на небывалую высоту. Он стал не только начальником столичной полиции, но и главой всех полицейских служб империи. Он не подчинялся ни Сенату, ни могущественнейшей тогда Канцелярии тайных и розыскных дел и был подотчетен лишь высочайшей власти.
В Петербурге он извел всех татей и лихих людей, как когда-то его предок в Новгороде, изничтожил веселые дома и притоны, и обыватели перестали бояться выходить темными вечерами из домов. Повывелись даже бездомные собаки, кои в неимоверных количествах расплодились во времена генерал-полицмейстера Девиера, и, казалось, даже улицы стали чище и как-то просторнее. А преступников, содеявших жестокие противузаконные дела и получивших за то внушительные сроки каторги, Алексей Данилович предложил клеймить специальными литерами: на лоб ставить букву «в», на правую щеку «р», на левую «ъ». Получалось «връ», то есть «вор».
— Так обывателю будет понятно, с кем он имеет дело, — пояснял он сенатским сановникам, коим показывал свой проект. — И сие весьма удобно для поимки бежавших с каторги и тюрем.
— Но ведь бывают случаи, что иногда невиновный получает тяжкое наказание и потом обнаруживается его невинность. Каким же образом вы освободите его от сих поносительных знаков? — спросил его один из сенаторов.
— Весьма удобным, — нимало не смутился генерал-полицмейстер. — Стоит только к слову «вор» добавить еще две литеры: «не».
В 1746 году проект Татищева был одобрен Сенатом и высочайше утвержден государыней императрицей Елизаветой Петровной. А Юстиц-коллегия изготовила клейма.
* * *
— А может, Магнетизер уехал? — спросил начавший сдаваться Овсов.
— Он в Санкт-Петербурге, ваше превосходительство, — твердо ответил обер-полицмейстеру Павел Андреевич.
— Вы уверены?
— Совершенно, — заверил Татищев. — Магнетизер беспрепятственно мог покинуть Санкт-Петербург сразу же после убиения господина адмирала де Риваса. Но он этого не сделал. Выходит, в столице его держит что-то еще. Не исключено, что он планирует новое убийство, от коего, с его способностями, не застрахован никто. Даже члены императорской фамилии. И на нашей с вами совести будет, ежели вдруг случится, что кто-либо из царствующего дома…
— Не надо продолжать, господин подполковник, — передернул плечами обер-полицмейстер. — Я понял. Значит, вы говорите, надлежит укрепить заставы на дорогах?
* * *
В течение недели в управу было доставлено семь человек, не имеющих на руках ногтей. Шесть мужчин и одна женщина. Женщина была задержана так, на всякий случай, от шибкого усердия, как бывает всегда, когда от большого начальника исходит прямой и ясный приказ. К тому же, имелась ведь у того же Черного Чухонца привычка переодеваться в женское платье перед тем, как изнасиловать приглянувшегося ему мужчину! Вот тут-то, после сих задержаний, Татищеву и понадобилась Анна Александровна с ее магнетическими способностями. За ней послали, и Турчанинова тотчас примчалась в полицейское управление, где ее поджидал Павел Андреевич.
— А зачем задержали женщину? — спросила она Татищева. — Магнетизер положительно мужчина.
— Приставы малость переусердствовали, — усмех нулся тот. — Однако в нашем деле, сударыня, всегда лучше перебдеть, чем недобдеть.
В арестантской комнате все семеро сидели по лавкам.
— Экий произвол вы творите, господин подполковник, — поднялся им навстречу высокий худой мужчина. — Задерживаете честных граждан без всякого объяснения причин. Я буду жаловаться в Сенат.
— Ну, ежели вы честный человек, то вам совершенно не о чем беспокоиться, — заверил его Татищев, оглядывая всех семерых. — А жаловаться есть ваше неотъемлемое право. Кстати, почему на ваших руках нет ногтей?
— Я таковым родился! — с возмущением ответил худой и вызывающе посмотрел на подполковника. — И иметь мне ногти на руках или не иметь, это мое частное дело. У меня и на пальцах ног нет ногтей, так что, это является основанием к арестованию?
Женщина в углу хихикнула.
— Не арестованию, а задержанию, — поправил его Павел Андреевич и выразительно посмотрел на Турчанинову. Та отрицательно мотнула головой. — Впрочем, вы свободны.
— Благодарю вас, — с сарказмом произнес худой и вышел из арестантской, гордо подняв голову. — Приготовьтесь к неприятностям, господин подполковник.
— Всегда готов! — бодро ответил Татищев и снова повернулся к Анне Александровне. Та стояла около задержанной женщины и пристально смотрела на нее.
— Вы же сказали, что Магнетизер положительно мужчина, — тихо произнес Павел Андреевич, подойдя к ней.
— Ее надо срочно в клинику, — так же тихо ответила она.
— А что такое?
— Сифилис.
Татищева от этого слова натурально передернуло.
— Вы, тоже свободны, сударыня. Господин пристав, велите проводить эту барышню… в клинику.
— Не пойду я ни в какую клинику! — поднялась с лавки женщина.
— Выполняйте, — гаркнул Павел Андреевич и отвернулся.
— Его здесь нет, правда? — тихо спросил Анну Александровну Татищев, когда двое полициантов увели упирающуюся сифиличку.
— Нет, — согласилась Турчанинова. — Если бы был, я бы сразу это почувствовала.
— Ну, что ж…
Он обернулся к задержанным и вежливо произнес:
— Господа, прошу прощения за причиненное вам беспокойство. Вы все свободны.
— Черт знает что такое! — с возмущением воскликнул господин в круглой шляпе, до того сидевший смирно и безучастно. Но встретившись взглядом с Татищевым, тут же осекся и быстренько вышел из арестантской.
— Вы тоже свободны, — обратился Павел Андреевич к Турчаниновой. — И… благодарю вас.
Она широко раскрыла глаза.
— Что? — не понял тот ее взгляда.
— Ничего. Просто я не ожидала от вас такой… учтивости.
— Вы можете идти, сударыня, — сказал с каменным лицом Татищев.
— Полагаю, если снова понадобится моя помощь…
— Всенепременно, сударыня, — с легким поклоном ответил подполковник и отвернулся.
«Бурбон», — подумала Анна и пошла из арестантской, удивившись, что на сей раз она подумала о Татищеве беззлобно и даже как-то… с симпатией.
Впрочем, к делу поимки Магнетизера это не имело никакого отношения.
Глава восемнадцатая
Есть просьбы, в коих начальству не отказывают. — Явление прекрасной дамы. — Почему покраснел Павел Андреевич. — Тревога мадемуазель Турчаниновой. — Мужики суть существа примитивные и недалекие. — Страсть, похожая на месть. — Примирение или прощание? — «Я все сделаю сама». — Шандал против стилета. — От чего впадают в неподдельный ужас поэтки-девицы. — Штуковина подполковника Татищева.
— …Конечно, понятно, что вас тревожит вероятность новых, не дай бог, неприятностей от руки этого Магнетизера, однако я просил бы вас производить ваши розыскные действия как-то деликатнее, что ли. Кроме того, господин обер-прокурор обеспокоен возможностию появления в столице вредных толков об этом господине с его магнетическими способностями и не желал бы, чтобы сие дело было предано даже малейшей огласке.
— Я вас понял, господин обер-секретарь.
— И еще одно, Павел Андреевич, — Макаров вышел из-за стола и дружески улыбнулся Татищеву. — Сегодня у Милитины Филипповны, супруги моей, именины, так что прошу вечером пожаловать к нам на раут. К шести часам пополудни. И без опозданий. Ссылки на занятость и болезненное состояние не принимаются.
— Благодарю вас.
— И потом, — продолжил Макаров, — в подобных просьбах начальству не отказывают, верно ведь, Павел Андреевич?
— Точно так, — улыбнулся Татищев. — Не отказывают.
Павел не очень-то жаловал всякого рода светские сборища с их пустыми разговорами и тяготился основополагающим требованием света non seulement etre, mais paroitre[9]. Татищев не умел надевать приличествующие случаю личины, принуждать себя улыбаться и доброжелательно смотреть в глаза человеку, коего не уважал и не мог терпеть. Однако Макаров, по его словам, за дело свое радел по-настоящему, а не для виду, спину чаще положенного не гнул и своих подчиненных в обиду не давал. Сразу же после гибели агента Елизарьева, служащего четырнадцатого класса, он лично стал хлопотать о пенсионе его вдове. Таким начальникам, и верно, не отказывают. Посему в половине шестого пополудни подполковник Татищев надел вицмундир, придирчиво осмотрел себя в зеркале и отправился на раут.
Гостей было немного. Их встречала именинница, высокая, статная дама с гордым и независимым взглядом больших черных глаз, чем-то похожих на глаза Турчаниновой. Она благосклонно, как короткому знакомому, протянула Татищеву руку для поцелуя, и он, учтиво склонившись, прикоснулся губами к костяшкам пальцев, затянутых белой лайкой. Руки у Милитины Филипповны были тонкими и нервическими. Именно такие ручки, верно, и положено иметь сочинительницам поэтических виршей с чуткой душевной организацией, а ножки — так кто ж их видел, дамские ножки-то?
— Весьма рада лицезреть вас, Павел Андреевич, — мило улыбнулась Макарова. — Вы нас совсем забыли.
— Дела, — развел тот руками, припоминая, когда он мог забыть сие семейство, ежели за все годы службы под началом Макарова он всего-то не более трех-четырех раз бывал у них, а с Милитиной Филипповной виделся лишь дважды.
В гостиной было весьма светло: огромная люстра, висевшая в центре потолка, освещала все имевшиеся в комнате ниши и уголки, и блики от ее граненых стеклышек в виде пирамид плясали на фамильных портретах предков Макарова и Милитины Филипповны.
Довольно просторная гостиная Макаровых была убрана в старинном вкусе. Основательные мебеля простого крепкого дерева, декорированные в голубой и кремовый тона с белыми каемками, круглые столики перед креслами, софа и стулья с цветочками на обивке гнутых спинок. На софе, невзирая на гостей, дрыхла на спине, раскинув в стороны крохотные кривые лапки, мерзкая моська. Окна были украшены белыми миткалевыми занавесями, меж коими, под зеркалами в тяжелых рамах, стояли белые мраморные столики на вызолоченных полусогнутых ножках. На одном из них стояла китайская ваза, на другом — два китайских болвана при мечах, грозно смотрящих друг на друга.
За клавикордами сидела мадам Хвостова — известная в обеих столицах поэтка и музыкантка и рьяная защитница женских прав — и играла что-то мелодичное и заунывное. Татищев подумал, что, наверное, это новый романс о неразделенной любви.
В креслах у окна расположилась древняя старушка в чепце, которая в полном уединении крутила рулетку. Когда она выигрывала, то хлопала в ладоши, подпрыгивала и победоносно смотрела на присутствующих. Кажется, она была немного не в себе. Картину дополняли несколько статских генералов в лентах и орденах и старый сенатор в огромных бакенбардах, довольно бесцеремонно рассматривающий вновь прибывших дам в двойной лорнет. Всякий раз при появлении в гостиной новой гостьи он нервически сглатывал слюну и долго провожал ее помутнелым от прожитых лет взглядом.
У изразчатого камина с фарфоровыми пастушками и пастушками в позе Фобласа стоял, подпирая стену, молодой человек в зеленом фраке. Он был томен и изможден, верно, пил слишком много уксуса, дабы иметь сей модный вид. Что ж: non seulement etre, mais paroitre в действии!
Павел Андреевич отошел в сторонку, к дальнему креслу, встал сбоку от него и услышал голос, слишком знакомый, чтобы его не узнать:
— Вы опять не слишком учтивы, господин подполковник. Вы вообще женщин не видите в упор или это касается только меня?
В кресле, вжавшись в спинку, сидела в своем обычном полумонашеском одеянии мадемуазель Турчанинова собственной персоной и смотрела на него блестящими черными глазами.
— Только не говорите сейчас, что вы рады меня видеть, — криво усмехнулась она.
Решительно, от этой девицы нигде не было спасу. Неужели провидению угодно, чтобы сия мадемуазель всегда оказывалась на его пути?
— Вы так полагаете? — спросила вдруг Турчанинова, продолжая пристально смотреть на него.
— Полагаю что? — как можно более сдержанно и невозмутимо спросил Павел Андреевич.
— Что от меня нет никакого спасу?
«Что это, у меня на лице все написано? — злясь на себя, подумал Татищев. — Или она и вправду умеет читать мысли?»
— С вашим лицом все в порядке, — констатировала Анна Александровна и не без ехидцы улыбнулась. — Я умею читать мысли, если очень того захочу.
Павел Андреевич повернулся к ней всем корпусом:
— А вы не могли бы проводить ваши… эксперименты с кем-то другим? — едва сдерживаясь, спросил он. — Ну вот, хотя бы…
Татищев обвел взглядом гостиную и осекся. Буквально в нескольких шагах, не обращая никакого внимания на обвешанного орденами генерала, рассыпающегося в любезностях, стояла и смотрела на него… Екатерина Дмитриевна, его не столь давняя роковая любовь. В ее колдовских темно-карих глазах явно читались радость и даже восторг, и взгляд ее был прежним, из тех времен, когда она, кажется, любила его.
Первым помыслом Павла Андреевича стало острое желание немедленно удалиться. Ведь уходят же, не прощаясь, в чопорной Англии, и никто не считает это нетактичным либо неделикатным по отношению к гостям или хозяину дома. Правда, Россия не Англия и уйти без объяснения причины, не попрощавшись, было бы крайне бестактным и даже оскорбительным, а Макаров и его супруга подобного обращения положительно не заслуживали. Посему Татищев опустил взор и двинулся к дальнему окну гостиной, где престарелая матушка обер-секретаря резалась сама с собой в рулетку. Его окликнули, но он не остановился. Затем позади себя он услышал шаги, и кто-то решительно взял его под руку:
— Павел Андреевич, куда же вы? Мне кажется, что после столь долгой разлуки нам обязательно следует поговорить.
— Зачем? — не поднимая глаз, резко спросил Татищев. — Между нами все уже давно обговорено.
— Я прошу вас…
Павел Андреевич остановился и поднял глаза. Екатерина Дмитриевна смотрела на него с мольбой и надеждой.
— Прошу тебя…
Это что же, опять все сначала?
* * *
Эта женщина, будь она неладна, была действительно хороша. Статная, среднего роста, с тонкими и правильными чертами лица, она притягивала к себе взгляды присутствующих. Всех: восхищенные мужчин и ревностно-завистливые женщин. Даже Турчанинову, мало обращавшую внимания на подобные вещи, где-то глубоко внутри кольнуло обидой. И тревогой.
Нет, это не была ревность. Вернее, не только ревность, хотя Анна с удивлением поняла, что не хочет, чтобы женщины так смотрели на Татищева, как смотрела эта дама. Однако во взгляде Екатерины Дмитриевны светилось также нечто, что вызывало тревогу. Но что именно?
Сия дама одета была в роскошное платье из темно-красного адрианополя с подкрахмаленными рукавами, подчеркивающее ее отменную стать. На голове красовалась самой последней моды шляпка из белого гроденапля с палевой выпушкой, безупречно шедшая к ней. Тонкая щиколотка, кокетливо обнажающаяся при ходьбе, обещала точеную ножку и прочие идеальные формы, на что столь падки мужчины. В ее живые выразительные глаза хотелось смотреть и смотреть, чтобы потом пасть на колени и, с трудом разлепляя губы, хрипло произнести:
— Приказывайте, богиня.
По крайней мере, судя по взглядам, коими собравшиеся в гостиной Макаровых мужчины провожали ее, они, представься им таковая возможность, поступили бы именно так. Включая зеленофрачного Фобласа, с коего внезапно слетела томность и прочая наносная шелуха.
* * *
— Я многое поняла за этот год.
— Да что вы говорите!
— Ты напрасно иронизируешь, Павел, — тихо произнесла она, и взгляд ее сделался печальным. — Поверь, я поняла, что совершила непростительную ошибку, оставив тебя. И теперь хочу просить тебя… нет, буду молить о прощении.
Ах, если бы она сказала ему это год назад! Он был бы счастливейшим из смертных!
«Что ты, Кити, что ты, — взял бы он ее руки в свои. — О каком прощении ты говоришь? Я счастлив уже от того, что ты рядом, что ты смотришь на меня, говоришь со мной…»
Сейчас Павел Андреевич молчал.
Нет, он верил в ее искренность, ведь достаточно было взглянуть в ее глаза, чтобы убедиться, что она говорит правду. Но вот нужна ли сейчас эта правда ему?
— Здесь у нас не получится поговорить серьезно, — чуть повела плечом Екатерина Дмитриевна. — Давай уйдем отсюда!
Татищев молчал.
— Уйдем сей же час. Вдвоем. К тебе. Ко мне… — Она говорила убедительно и страстно. — Лучше ко мне. Мой дом сегодня совершенно пуст. И мне так много нужно тебе сказать.
— Но это… как-то… неловко, — выговорил Татищев, хотя намеревался сказать совершенно иное: наши пути, мол, давно разошлись, и говорить нам совершенно не о чем.
— С каких пор для тебя это стало важным?
Боролся он с собой недолго:
— Хорошо. Едем.
Екатерина Дмитриевна кивнула в ответ, затем подошла к хозяйке дома, пошепталась о чем-то, выразительно глянула на Татищева и вышла из гостиной. Тот, покраснев как юноша, какое-то время оставался в гостиной, затем, глядя в пол, решительно направился к выходу, провожаемый не одной парой завистливых глаз.
Что ж, мужчины слабы, это факт.
Много слабее женщин.
* * *
Турчанинова, конечно, поняла, как, впрочем, и многие другие гости Макаровых, что бравый подполковник ушел не вслед за прекрасной дамой, а вместе с ней. В ее сердце стало пусто и гулко, как стало бы в гостиной, ежели бы из нее вынесли вдруг всю мебель. Она поднялась со своего кресла, прошлась до окна, постояла, повернула обратно. Пустота внутри нее ширилась и росла, а вместе с ней росло и невесть откуда взявшееся беспокойство. Наконец, не выдержав волнения и какого-то щемящего чувства тревоги, она подошла к Макаровой.
— Я могу тебя спросить, Мими?
— Конечно, — посмотрела на Анну Милитина Филипповна, слегка обеспокоенная растерянностью Турчаниновой.
— Кто была та дама, что произвела такой фурор у мужчин?
— Ты имеешь в виду мою кузину?
— Я имею в виду ту женщину, что ушла вместе с подполковником Татищевым, — Анна Александровна предельно четко выговорила каждое слово.
«Бедняжка, — пронеслось у Макаровой в голове. — Да ведь она, кажется, ревнует этого подполковника».
— Ты совершенно неправильно меня поняла, — заставила себя улыбнуться Анна.
— Да? — улыбнулась в ответ Мими.
— Да, — твердо ответила Турчанинова, но по чему-то опустила глаза.
— Это моя кузина, Екатерина Дмитриевна Белецкая, — не сразу произнесла Милитина Филипповна и добавила с нотками участия: — Она была когда-то сильно увлечена подполковником Татищевым. Как и он ей.
Когда они снова встретились взглядами, Макарова тотчас пожалела, что сказала последние фразы. Лицо Анны побелело, а из глаз вот-вот готовы были посыпаться искры.
— Но это увлечение давно прошло, — поспешила добавить Милитина Филипповна. — У обоих…
— Екатерина Дмитриевна?!
По телу Анны пробежала дрожь. Так бывало всегда, когда она слушала прекрасную музыку, читала великолепные строки. Или ощущала надвигавшуюся опасность.
Куда они поехали, к нему или к ней? Скорее всего, к ней.
— Где она живет?
— На набережной Мойки, — машинально ответила Макарова.
Турчанинова кивнула и скорым шагом направилась к дверям.
— Ты куда? — спросила Мими.
— Прости, — обернувшись, ответила Анна и вышла из гостиной.
Только тогда, когда она уже тряслась в коляске, несущейся по мостовым, она поняла причину своей тревоги.
— Быстрее, — тыкала она сжатым кулачком в спину кучера. — Быстрее, прошу вас!
Все вспомнилось, слово в слово. Евфросиния так и сказала Татищеву: «Когда вы вдруг встретитесь с госпожой Катериной Дмитриевной, случайно, на одном из раутов, куда вас пригласит обер-секретарь Макаров, будьте крайне осторожны, потому что встреча эта произойдет не вдруг и не случайно…»
Она просила его быть осторожным с этой дамой! А он, как собачонок, побежал за ней и, конечно, забыл о предостережении ясновидящей. Вот откуда тревога!
— Ну, быстрее же!
— Дыкть, куда ж быстрее-то…
— Гони, гони!
— Дыкть, гоню…
А о чем они тогда говорили с Евфросиньей?
Боже милостивый… О смерти!
* * *
Ах, до чего же примитивными существами являются мужчины! Примитивными, недалекими и доверчивыми, как домашние тапки, кои может надеть всякий, являющийся на данный момент их владельцем.
Как мало надобно пружин, нажатием на кои можно полностью прибрать представителей мужеского пола к рукам и манипулировать ими, как марионетками, двигающими ручками, ножками и прочими членами и открывающими рты по желанию хозяина. Вернее, хозяйки, под дудочку коей и пляшут мужчины, определенно сознавая это, но не имея ни желания, ни сил этому воспротивиться. Правда, они время от времени взбрыкивают и стараются показать свой норов, но сие есть лишь нечто сродни летней грозе, которая еще минуту назад властвовала и громыхала в небе, а сейчас ее уже простыл и след. И небо, как и прежде, ясное и безмятежное, как взгляд преданнейшего раба на милостивую хозяйку.
Слаб человек, а ежели человек — мужчина, то слаб вдвойне.
Стоит только женщине, даже не всегда милой и обаятельной, похвалить мужчину за что-либо, выделить из толпы да уважительно отнестись к его приобретенным привычкам, как тот растекается, словно мартовский снег на солнце.
Стоит только женщине быть нежной и выказать покорность, и мужчина может простить ей то, чего никогда не простил бы лучшему другу или даже родному брату.
Катерина была нежна, мила и трогательна.
— Прости меня.
Ее глаза лучились желанием и покорностью.
— Простишь?
Этот обещающий взгляд! В такие минуты он никогда не мог спокойно смотреть на нее, сидеть, разговаривать. Вот и сейчас неведомая сила бросила его к ней, сокрушая все оскорбления и обиды, нанесенные ею, и заставляя забыть их.
Он стал целовать ее — в щеки, губы, шею, — неистово и жадно, как путник, наконец припавший к прохладному ручью после многоверстного пути по жаркой пустыне. Руки его, столь же жадные, как и губы, заскользили по ее телу, заново знакомясь с ним, забытым и желанным.
— Погоди, — произнесла она сорвавшимся голосом.
Он чуть отстранился от нее и убрал руки.
Она начала раздеваться.
Когда с нее, уже не такой тонкой и хрупкой, каковой она смотрелась в одеждах, упали осенним листом кружевные панталоны и она грациозно вышагнула из них, у Татищева перехватило дыхание.
Боже, как она была хороша!
Ее тонкая великолепная фигура, и правда, была будто бы выточена мастером, не знавшим себе равных. Высокая грудь обнажилась, и соски ее торчали столь непосредственно и вызывающе, что не могущий более удерживать себя Павел Андреевич буквально кинулся на нее, страстно и нежно целуя. Его естество, давно проснувшееся, рвалось наружу, к действию, и Татищев, продолжая целовать Катерину, стал срывать с себя одежды. А она стояла, запрокинув голову и прикрыв глаза, и ее распустившиеся по плечам волосы ласкали лицо Павла своими нежными прикосновениями.
А и то, скажите, милостивые государи, положа руку на сердце: существует ли на свете хоть один нормальный мужчина, не обремененный семейными узами или известной немочью, коий не возгорится желанием и у которого не восстанет с железной твердостию плоть при виде раздетой женщины, прекрасной и давно желанной?
Верно, и нет таковых. Ну, разве что больной или старый, у коего напрочь исчезли здоровые инстинкты, да предпочтитель содомии, то бишь положительный мужеложец.
Раздевшись и дрожа все телом, Татищев вновь принялся целовать свою бывшую любовницу, а его твердости железного лома естество ткнулось в бархатистую кожу Катерины и испустило янтарную капельку сока ей на живот. Пол зашатался у него под ногами, когда, сжимая одной ладонью ее упругие ягодицы, он дотронулся пальцами до нежного бугорка над ее сакральной складочкой, а она обвила своими прохладными пальчиками его плоть и стала медленно поднимать и опускать кожицу на ее стволе. Было так сладко, что он не удержался от стона.
— Катюша, — страстно прошептал он. — Катенька моя…
Мир перестал существовать, когда он, подняв показавшееся невесомым тело Катерины, перенес ее на софу и вошел в нее одним мощным резким толчком, принявшись двигаться в ней со все возрастающей скоростью.
Это была месть, похожая на страсть, и страсть, похожая на месть. Месть всем женщинам мира.
Белецкая громко застонала от охватившего ее наслаждения и, выгнув спину, стала в такт его движениям подаваться ему навстречу. Через недолгое время тело ее еще более выгнулось и содрогнулось в сладких конвульсиях. Рот приоткрылся, и послышался долгий и громкий стон, полный неги и наслаждения. В следующее мгновение с глухим рыком излился в нее и Павел. Он вздрогнул раз, другой, третий и тихо прохрипел:
— Кити, о-ох, Кити-и-и…
Мысли вернулись, когда мир вновь собрался из битых осколков в одно целое. И они не были спокойными и благостными.
— У меня такое ощущение, что мы не миримся, а прощаемся, — первым нарушил молчание Татищев. — Или мне это показалось?
— Конечно, показалось, милый.
Катерина приподнялась на локте и с нежностью посмотрела ему в глаза.
— Ты что, не веришь мне?
— Ну…
— Верь мне. Прошу тебя.
Продолжая смотреть в глаза, она провела ладошкой по его крепкой груди, спустилась по животу и коснулась обмякшей плоти. Не отпуская его взгляда, она стала нежно перебирать и легонько сжимать вновь начавшее просыпаться мужское естество. Ее взор стал темнеть и наполняться страстью. Татищев попытался было прижать ее к себе, но она отстранила его руку:
— Не надо. Лежи. Я все сделаю сама.
Она нагнулась и поцеловала его. Потом, скользнув вниз по софе, Кити стала целовать его грудь, живот и, наконец, почти полностью восставшее естество, не спуская с него глаз. Затем губы ее сомкнулись на покрасневшей головке его плоти и стали медленно опускаться по ее стволу, погружая его все глубже и глубже во влажный рот. Татищев шумно выдохнул, не в силах отвести от нее взгляд. В ее потемневших до бездонной черноты очах читалось наслаждение его желанием и негой и какое-то настороженное ожидание. Потом, приподняв голову и проведя языком по ободку разбухшей головки плоти, она села, закинула ногу на Павла и, помогая себе рукой, направила принявший металлическую твердость член в свое лоно. Татищев громко застонал, погружаясь в горячечную волну наслаждения, и закрыл глаза.
И вдруг совсем рядом раздался какой-то посторонний звук. Павел открыл глаза и увидел, что Кити, с перекошенным злобой лицом, зажав в руке стилет, занесла его над Татищевым. Потом послышался женский вскрик, мелькнула перед глазами зеленоватая бронза тяжелого шандала, и стилет, сверкнув тонким лезвием, пролетел мимо него и упал в ковер, мало не задев плеча.
Катерина, по-змеиному зашипев, схватилась за руку и, вскочив с софы, метнулась за стилетом. Все это произошло так быстро, что в первое мгновение Павел Андреевич и не уразумел, что произошло. Но когда встретился взглядом с Турчаниновой, понял, что это она, невесть откуда взявшаяся, выбила шандалом смертельное оружие из рук Кити. Потом взор Анны Александровны упал на вздыбленное и блестящее влагой мужское достоинство Татищева, красное и столь изрядных размеров, что в ее глазах мелькнул неподдельный ужас. Впрочем, ужас появился бы в ее глазах и в случае, ежели бы плоть Татищева была размеров весьма обычных. Ведь она никогда не видела ничего подобного вблизи. Да и в отдалении тоже. Естество Павла Андреевича, подрагивая, быстро опадало, но и в расслабленном состоянии имело размеры довольно внушительные.
Однако было не до приличий: с диким криком Кити вновь набросилась на Татищева, выставив вперед острое лезвие стилета. На сей раз Павел оказался не столь беспомощным и был более готов к подобного рода кунштюкам. Он перехватил двумя руками вытянутую вперед руку Кити за запястье, резко дернул на себя и развернул внутрь. Сей прием он проделал бездумно и совершенно механически, в точном соответствии с тем, как его учили мастера рукопашного боя Тайной экспедиции, когда он был еще капитан-поручиком. И Белецкая, сделав по инерции всего шаг, наткнулась на стилет, насадив себя на его острие по самую рукоять.
* * *
В меблирашке Фанинберга худощавый господин повыше среднего росту, записавшийся как надворный советник Николай Иванович Селуянов, вскрикнул и схватился за живот. Тело его, голое по пояс, было совершенно мокрым от пота, глаза застилала пелена, и он вряд ли что-либо видел даже в полусажени от себя.
Нет, он тотчас, как придет в себя, снесется с петербургским эмиссаром Верхней Венты и попросит прибавки гонорара. Попросит просто и без всяческих экивоков. Потому, что это не работа, это…
Додумать ему не удалось. В районе живота ему будто кто-то начал резать внутренности остро заточенным ножиком.
— Больно, как больно, — прошептал он и боком упал на ковер. Тело его согнулось, ноги подтянулись к животу, и он замер. Со стороны могло показаться, что он заснул или умер, но не случилось ни того ни другого.
* * *
Кити охнула и упала на софу, схватившись обеими руками за рукоятку стилета. На ее губах выступила розовая пена, глаза закатились под лоб.
Татищев и Анна Александровна в молчании наблюдали, как из тела этой женщины уходят последние остатки жизни. Ноги подобрались к животу, мало не касаясь груди коленями. Так, верно, лежит эмбрион в утробе матери. Она теперь казалась маленькой и беззащитной, и будь на месте Татищева иной мужчина, только-только попавший в сию ситуацию, он бы, несомненно, проникся к ней состраданием и жалостью. Но Павел Андреевич смотрел на Белецкую и не испытывал подобных чувств. Более того, он почувствовал облегчение, когда тело Кити, несколько раз дернувшись, застыло в вечной и не имеющей возврата неподвижности. Он глубоко вздохнул, словно пловец, вынырнувший после долгого пребывания под водой, или как каторжанин, секунду назад вышедший за ворота острога, и, прикрывая ладонями место, не предназначенное для лицезрения посторонними женщинами, довольно спокойно произнес:
— Благодарю вас. И будьте так добры, отвернитесь, ради бога, покуда я буду одеваться.
Турчанинова надулась и повернулась к Татищеву спиной.
Мог бы быть и повежливее! Возможно, она спасла ему жизнь. И после этого — «отвернитесь»… Чего уж теперь-то, когда она… Ну, словом, когда она у него… все увидела. Вот ведь какой… несносный. Сухарь. Самый настоящий черствый сухарь. И ханжа. И это после того, чем и как они занимались с этой покойницей буквально у нее на глазах!
Анна Александровна передернула плечами.
Невероятно.
Просто невероятно, как это такая огромная… штуковина помещается в женском лоне?
Глава девятнадцатая
Что случилось с шестого по шестнадцатое апреля 1801 года. — Клятва ротмистра Нелидова. — Новейшая метода излечения русской болезни доктора Грацимуса. — Возможна ли смерть от мук совести? — Русская мадам Дюдефан — госпожа Александрин Хвостова. — Почему Гаврила Державин отказался жениться на княжне Урусовой. — От лифляндки Скавронской до Екатерины Великой. — Острота графа де Местра. — Ответственное поручение.
В последующие десять дней произошло следующее.
Государем Императором Александром Павловичем из друзей и сподвижников был образован новый государственный орган — Непременный Совет.
Снег в столице почти полностью стаял, и ежели и случалось увидеть на мостовых санный возок или карету с полозьями на колесах, то сие значило, что их владелец или седок прибыл из губерний, доселе заснеженных, и что сей приезжий столичных газет положительно не читает.
В квартире адмирала де Риваса подполковником Татищевым был произведен новый тщательнейший досмотр, равно как и первый, не давший никаких результатов. И вообще, дело о предположительной кончине адмирала по причинам насильственным зашло в тупик и грозило остаться тайным и, соответственно, нераскрытым.
На Марсовом поле неподалеку от Мойки был установлен мраморный постамент с бронзовым картушем и барельефом Гениев Славы под бронзовый монумент генералиссимусу Суворову, графу Рымникскому.
Некто Африкан Христофоров сын Лузгин, губернский секретарь, не имеющий ногтей на пальцах рук и считавший сие обстоятельство делом сугубо личным, по поводу задержания на заставе накатал-таки ябеду в Сенат. Следствием сей ябеды явилось то, что обер-полицмейстеру Овсову было настоятельно рекомендовано снять с застав караулы, досматривающие на предмет отсутствия ногтей всех отъезжающих из столицы, что тот немедля и произвел. Был Магнетизер еще в Петербурге или уже покинул город, теперь оставалось лишь гадать.
Ротмистр Нелидов подал прошение об отставке, сложил белый колет, белые же лосины, ботфорты и каску с Андреевской звездой в шкап и теперь, ожидая решения, часами просиживал в кабинете отца, читая его рукописи и дозревая до полного ста туса Хранителя Белого Круга. Он дал себе клятву вернуть «Петицу», стать настоящим Хранителем, могущим полностью заменить отца, и обрести Стезю.
После дачи свидетельских показаний по факту смерти мадам Белецкой Анна Турчанинова и подполковник Татищев в течение данных текущих дней ни разу не виделись. Анна Александровна поддалась на уговоры своей короткой знакомой княжны Кити Урусовой, товарки по несчастию сильно затянувшегося девичества, и убыла вместе с ней спасать ее племянника от пианства в Кронштадт, где тот, изгнанный со службы за излишнее пристрастие к водке, быстро скатывался по наклонной в пропасть, именуемую русской болезнью.
Седьмого апреля Турчанинова и Урусова прибыли в Кронштадт. Князя они нашли совершенно невменяемым, и для начала решили побеседовать с лекарями, что пользовали его на предмет излечения от пианства. Однако те лишь беспомощно разводили руками: ничего, дескать, поделать не можем. Все известные им методы, как-то: нюхание уксуса, кровопускание, поение ячменным взваром, крепкие промывания с уксусом и мылом и даже вдувание в задний проход табачного дыму посредством клистирной трубочки согласно новейшей методе доктора Грацимуса, никоих результатов не дали. Не помогали также щелоки, сделанные из печной золы, принятия внутрь льняного и орехового масла и знаменитые капли ипекакуаны. Словом, испробовано было все, что только можно и что было известно врачебной науке. Анна Александровна вздохнула и принялась за исцеление. Два дня понадобилось ей, чтобы вывести тридцатилетнего князя Урусова из запоя. И еще пять, чтобы навсегда отучить его от пагубного пристрастия к водке. Когда, прощаясь с князем, они отбывали восвояси, Урусов не мог уже без отвращения смотреть на водку и вино, и любое упоминание о горячительных напитках вызывало в нем тошноту.
Они воротились в Петербург пятнадцатого. В их отсутствие случилось еще одно, печальное, событие: двенадцатого апреля скоропостижно скончался генерал Талызин. Им обеим он был хорошо знаком.
* * *
— Совесть его замучила, вот что я вам скажу, — горячо промолвила княжна Урусова. — Даже его сердце не вынесло мук раскаяния. Все же человеческую душу загубил, не комара ладошкой прихлопнул. И не надо убеждать меня, что несчастный император был тиран или идиот. Никто на свете не заслуживает такой смерти — табакеркой в висок и удавку на шею.
— Ваша поэтическая натура, достопочтенная Екатерина Семеновна, в самых прозаических событиях жизни готова видеть высокую трагедию или романтическую драму, — чуть усмехнулся в ответ на это посланник сардинского короля граф Иосиф де Местр. От дальнейших комментариев он воздержался, потому что спорить с дамой, даже весьма неглупой, полагал — и совершенно справедливо — делом пустым и безнадежным.
* * *
Сия пикировка происходила в небогатой, но щегольски и со вкусом убранной гостиной дома Хвостовых, что находился на набережной Фонтанки. Почти каждый день собиралось здесь общество, объединенное неординарной личностью самой хозяйки — Александры Петровны Хвостовой, урожденной Херасковой, которая, благодаря родственным связям и собственным разнообразным талантам (одним из них был немалый поэтический дар), сумела сделать свой дом средоточием литературной, музыкальной и в некоей степени даже политической жизни Петербурга. По отцу своему была она валашка, а по матери — графине Девьер, внучатой племяннице незабвенного Александра Даниловича Меншикова — португалка. И Александра Петровна, как это случается довольно часто с нерусскими, желающими казаться русскими, была влюблена в Россию даже более многих исконно русских.
Собою Александра Петровна не то чтобы была нехороша, но красотою не блистала. Однако и дурнушкой ее назвать было нельзя: черты лица ее были весьма живы и от переменчивости бурлящих в ней чувств подвижны и выразительны. Кроме того, в ней наличествовал ум, что есть вещь весьма притягательная для умных же мужчин.
Она родилась и выросла в обществе аристократическом, а посему приняла все его формы и условности, но сумела отличиться от знатной толпы, став выше ее. Ну, или показывая, что это именно так.
Голос имела очаровательный и сильный, позволивший ей сделаться первою певицей и музыканткой столицы. По-французски писала не хуже знаменитой мадам Севинье и, что особо ее отличало от большинства светских дам — ибо кто из них не пренебрегал родным языком? — решилась сделать первый поэтический опыт, написав на русском языке несколько небольших виршей, в коих Карамзин служил ей образцом. Новые, живые идеи, легкость изложения, даже самые ошибки против грамматики составили их главную прелесть.
Доброе сердце, деликатные манеры и острый ум привлекали к ней, как магнитом, людские сердца. Она никем не гнушалась: с участием и вниманием входила в суждения с попом, деревенской барыней или со степенным помещиком так же, как и с первым государственным чиновником. И с одинаковым знанием предмета толковала о солении огурцов и грибов и о последних прениях в Сенате. Обо всем она умела судить, хотя и довольно поверхностно, но всегда умно и приятно.
Общество, собравшееся в ее гостиной шестнадцатого апреля восемьсот первого года, было весьма прелюбопытное и состояло по большей части из отборных иностранцев, малого числа дам, строгих к себе и снисходительных к другим, а также немногих русских, довольно образованных и воспитанных, чтобы знать настоящую цену приятностей этого дома. Здесь никто не гонялся за первенством, никто ни у кого не требовал признания собственной исключительности, посему беседы были непринужденными и, отчасти, рисковыми. Порывы веселости, случалось, останавливались на самой границе приличий и благопристойности. Еще чуть — и можно было скатиться в пошлость. Впрочем, этого никогда не случалось. Словом, во всем было нечто естественное, без подражания и погони за модой, домашнее и теплое. И эту приятность совершенно не портили скверное освещение и худой ужин. Ибо кормили в доме Хвостовой плохо, ежели не сказать паршиво. Однако данное обстоятельство не вызывало у гостей особого неудовольствия, потому что, во-первых, все они к сему привыкли, а во-вторых, как у самой Кити, так и у ее гостей жизненные приоритеты были совершенно иными, нежели хороший обед.
Нынешний разговор касался события, напрямую задевшего многих из присутствующих — скоропостижной кончины одного из завсегдатаев салона Александры Петровны, блестящего молодого генерала Петра Александровича Талызина. Эта внезапная смерть не то чтобы наделала много шуму, но вызвала в столице, да и не только в ней, целую волну всевозможных толков и предположений. Мистическая странность произошедшего заключалась в том, что случилась она ровно день в день через месяц после того, как почил в бозе от «апоплексического удара» император Павел I. О том, что сей неугомонный генерал самым непосредственным образом был причастен к этому «удару», шептался, почитай, весь Петербург. Официальная причина смерти генерала — отравление за ужином — выглядела в глазах общества до смешного тривиальной и неправдоподобной. Самой же популярной версией оказалась та, что с энтузиазмом взялась защищать ближайшая родственница хозяйки дома и тоже поэтка княжна Урусова.
Екатерина Семеновна была дама наружности весьма приятной. Зная это и гордясь, она ступала павой, говорила величественно и, на первый взгляд, холодно, словно делая одолжение. Хотя возраст ее, судя по всему, был весьма и весьма далек от молодости, свежесть и чистота кожи, прекрасные каштанового цвета волосы, почти не тронутые сединой, и статная фигура привлекали еще время от времени внимание ежели не молодых мужчин, то, по крайней мере, солидных. То есть тех, кои желали от жизни уже не бурных испепеляющих страстей, но приятного и покойного времяпрепровождения.
В бытность Катерины Семеновны молодой девицей тетушка ее княгиня Вяземская присмотрела для племянницы подходящую (на собственный, правда, взгляд) партию — поэта и чиновника с весьма неплохой перспективой. Звали сего господина Гавриил Романович Державин.
— Это молодой человек далеко-онько пойдет, — говаривала тетушка всем и каждому, когда заходила речь о Гаврииле Романовиче.
С ней соглашались. Потому что от господина Державина просто веяло талантами и успехом. Кроме того, люди пожилые завсегда имеют лучшую возможность разбираться в людях, а иногда и предвидеть их будущее.
Талантливый человек, как известно, талантлив во всем. По крайней мере, во многом. Несмотря на молодость лет, Гавриил Романович тоже умел кое-что предвидеть, чему, несомненно, способствовал поэтический дар. Поэтому он отклонил лестное предложение княгини Вяземской обратить внимание на Кити Урусову со словами:
— Она пишет, да и я мараю. Эдак мы оба увлечемся, а кто шти варить будет?
Эту фразу нет-нет, да и вспоминали тишком в бомонде, глядя на так и оставшуюся в девицах княжну. Но она не обижалась. Ибо тогда, а особенно теперь, чувствовала в словах первого пиита России сермяжную правду.
А все ж таки далеконько шагнули российские женщины в образованности и правах! Ведь токмо сто лет минуло с тех пор, как император Петр, выражаясь фигурально, выволок русских девок из-за запоров душных теремов, почти силком заставив их отцов образовывать дочек, обучать политесу, языкам и — слыханное ли дело! — вывозить в свет. И началось! Почти весь осьмнадцатый век, в смысле правления государством российским, оказался под бабьей пятой, начиная от лифляндки Марты Скавронской, известной более под именем императрицы Екатерины I, до другой Екатерины — Великой, просвещеннейшей монархини. Но то ладно, особы царствующие, а стало быть, богоизбранные. Дальше — больше. Как говорят в народе: куда люди, туда и Марья крива. И вскоре пришлось достопочтенному господину Макарову, нет, не сенатскому обер-секретарю, а человеку ученому в иных науках, составлять особую главу в словаре российских поэтов, дабы поместить в ней аж более полусотни имен представительниц прекрасного полу, претендующих на звание поэток. Вот они — плоды просвещения! Не дает покоя нашим барышням слава бессмертной смуглолицей вертушки Сафо Скамандронимовны. И это-то в нашем медвежьем углу! А коли так, милости просим на страницы журналов да альманахов, и даже академических словарей, но вот замуж… Никому не нужна супруга, всерьез возомнившая себя поэткой. Это, милостивые государи, и мука, и скука. И вообще — не приведи господь. Стихи, конечно, стихами, но щти-то щтями. И никакого компромисса меж этими воззрениями нетути.
* * *
— А вы предпочитаете, граф, закрыть глаза на очевидное и согласиться с нелепицей, что молодой, здоровый человек умер от несварения желудка? — Княжна Урусова не дала де Местру шанса уклониться от дискуссии. — Вы искренне так полагаете?
На породистом лице графа мелькнула тень досады.
— Я бы тоже хотела узнать ваше мнение, граф, — чуть дрогнувшим голосом поддержала родственницу Александра Петровна Хвостова. — До сих пор не могу поверить в… кончину Петра Александровича.
Отступать было некуда.
— Я бы не стал подвергать решительному сомнению официальную версию сего прискорбного события, — осторожно начал де Местр и на секунду умолк, пристально обведя глазами собравшихся.
В паузу, которую граф несколько театрально затянул, вдруг вклинился нетерпеливый женский голос.
— Судя по вашему тону, господин де Местр, далее должно последовать: «Но…»
Головы присутствующих оборотились в полутемный угол гостиной, где в большом кресле, почти сливаясь с темной обивкой, расположилась дама, так неучтиво перебившая сардинского посланника, с копной буйных черных волос, блестевших, как вороново крыло, и с огромными черными глазами, напоминавшими маслины — Анна Александровна Турчанинова.
— Вы, как всегда, весьма проницательны, — улыбнулся граф, — и нетерпеливы, сударыня. Но у меня действительно есть некоторое недоверие к производимому дознанию касательно скоропостижной смерти генерал-лейтенанта Талызина. Впрочем, что мы можем знать наверняка?
— Было ли это отравление или нечто иное, например, — отозвалась Анна Александровна.
— Иногда мы судим слишком поверхностно и поспешно и зачастую объясняем события так, как нам удобно, не удосуживаясь вникнуть в суть вещей и событий.
— Да что вы все вокруг да около бродите, граф, — возмутилась княжна Урусова. — Если что знаете — говорите.
— Мои предположения не так романтичны, как ваши, Екатерина Семеновна. «Муки совести», «разбитое сердце» — все это из области поэтической. «Перст Божий» — слишком туманно, а я не поклонник мистики или теологии. Посему предлагаю вам на выбор прозаические версии, о которых судачит весь Петербург уже две недели, — де Местр вновь сделал паузу, и присутствующие замерли. — Первая: самоубийство путем отравления.
— Какие глупости! — горячо перебила его мадам Хвостова. — Даже не пытайтесь навязать нам эту нелепицу. Мы все прекрасно знали Петра Александровича. Никогда, слышите, никогда не взял бы он такого греха на душу! И, кроме того, накануне… накануне… — Александра Петровна залилась горячим румянцем и беспомощно оглянулась вокруг.
— Я не далее как вчера вернулась в Петербург, а посему не присутствовала ни при последних днях господина Талызина, ни при его похоронах, — выручила подругу Турчанинова, — но и мне кажется малосостоятельным подобное предположение.
— А мне — так весьма состоятельным, — вполголоса проворчала княжна Урусова.
Гул голосов наполнил гостиную, каждый пытался высказать свое мнение по поводу того, мог или не мог генерал Талызин совершить самоубиение. Наконец Иосиф де Местр поднял руку и громко произнес:
— Дамы и господа! Прошу прощения. Я вовсе не хотел задеть ничьих чувств, но только изложить циркулирующие в обществе разные предположения.
Но графа уже никто не слушал — все спорили друг с другом. Тогда Анна поднялась с кресла и подошла к де Местру.
— Мне кажется, вам не дали договорить, граф, — заявила она. — А мне весьма любопытно услышать ваши рассуждения до конца.
Де Местр внимательно посмотрел на Турчанинову и снова улыбнулся.
— Мне вряд ли нужно произносить что-либо вслух, ведь вы и сами догадываетесь, что я хотел сказать.
— Убийство? — быстро взглянула на него Турчанинова.
— Иногда я вас просто боюсь, милейшая Анна Александровна, — усмехнулся де Местр, — и даже не столько ваших чудесных способностей, сколько прямолинейности характера.
— Как я понимаю, комплиментом здесь и не пахнет, — сморщила носик Турчанинова.
— Здесь пахнет уважением, — посерьезнел граф и очень по-деловому продолжил: — Многое в смерти генерала меня настораживает. Внезапность для всех, в том числе и для близких, отсутствие явных признаков отравления. Я, знаете ли, задал несколько вопросов прислуге. И ничего вразумительного не услышал. Боже милостивый, мне искренне жаль этого блестящего талантливого молодого человека, так много обещавшего в будущем.
— Мне тоже, — задумчиво отозвалась Турчанинова.
— Господа, полагаю, среди нас есть персона, которая обладает достаточными способностями, чтобы разрешить наши сомнения? — прервал их громкий голос княжны Урусовой.
Разговоры в гостиной смолкли, и глаза присутствующих второй раз за вечер сосредоточились на небольшой фигурке в черном платье монастырской послушницы.
— Вы, Катерина Семеновна, имеете в виду госпожу Турчанинову?
— Несомненно, граф. У кого же еще есть опыт в подобных делах? — охотно отозвалась княжна. — Всех нас потрясла столь неожиданная кончина Петра Александровича. Кто еще сможет разобраться в сем запутанном клубке, как не она? Что скажете, Анна Александровна?
— Смерть мистична и таинственна по самой своей сути. Тем более гибель молодого, полного сил человека.
Турчанинова умолкла, не договорив фразы, лицо ее приобрело сосредоточенное, казалось, даже страдальческое выражение.
— Дайте-ка я угадаю, Анна Александровна, — прервал молчание де Местр. — Далее должно последовать «но».
Турчанинова будто очнулась, губы ее дрогнули в попытке удержать улыбку.
— Туше, ваше сиятельство. Я действительно хотела возразить… Но, что я могу сделать при сложившихся обстоятельствах?
— Вы можете сохранить доброе имя генерала Талызина и прекратить эти глупые разговоры о его самоубийстве, — возразила хозяйка дома, метнув негодующий взгляд в сторону княжны Урусовой. — С вашим даром вы разберетесь в том, что случилось на самом деле.
— Я могу попытаться, Александрин, — смутилась Анна от прозвучавшей похвалы. — Только не надо ждать от меня чудес.
— Вот и славно, — подвела итог Александра Петровна и, взглянув на лакея, уже минут пять неподвижно стоявшего в открытых дверях гостиной, добавила: — А теперь прошу всех к столу, господа.
Глава двадцатая
Что есть хороший тон. — Интерес к чужим квартирам. — Удивительные способности девицы Турчаниновой. — И боги смертны. — Голоса. — Бюро с секретом. — Тридцать ударов в задние ворота. — Бурбон, он и есть бурбон. — Особенности масонского рукопожатия. — Размышления подполковника Татищева. — Влияние розог и лишения девичества на походку человеков. — Подполковников тайных служб следует слушаться всегда.
Хороший тон есть тонкое ощущение приличий.
К примеру, девице не можно выезжать в свет ранее достижения шестнадцати лет, и где бы она ни находилась, осанка ее должна быть благородной, самообладание постоянным, а желание нравиться — наиважнейшим основанием всех отношений в обществе. Также не следует забывать, что человек хорошего тона, будь то женщина или, наоборот, мужчина, не должен быть высокомерным или неприступным. Сие есть признак дурного тона. Человек светский должен казаться естественным, непритворным и пленительным без принужденности. Non seulement etre, mais paroitre — вот чего требовал свет.
Анна Александровна, как уже известно, и ранее не отличавшаяся соблюдением многих светских приличий, к теперешним своим двадцати семи годам приняла к исполнению лишь малую толику сих наставлений, а именно: быть естественной и непринужденной. И она не казалась, а была таковой природно.
Что же до высокомерия и неприступности, то таковыми качествами Турчанинова никогда не обладала, а желание пленять и нравиться пропало у нее еще в бытность девятнадцатилетней девицей. Именно тогда она поняла, что красотой и фигурой, увы, не блистает, и хотя многие мужчины находили весьма выразительными и даже прекрасными ее черные глаза — так ведь это глаза, и только.
Вот и в сей утренний час она, без всяких мамок, тетушек и компаньонок, даже без лакеев или коротких знакомых, коих у нее, по сути, было раз-два и обчелся, ехала на извозчике на Миллионную, где была квартира Талызина, и колеса экипажа уже выстукивали мерную дробь по мостовой огромной площади перед Зимним дворцом.
А вот и Лейб-кампанский корпус дворца. Сунув в протянутую ладонь извозчика два пятиалтынных, Турчанинова решительно направилась к парадной. Старый швейцар в ливрее с огромными золочеными пуговицами отступил в сторону и, придерживая рукой тяжелую булаву, почтительно растворил перед ней двери: ее здесь знали.
Анна Александровна миновала переднюю, даже не взглянув на себя в зеркало во всю стену, и деловито пошла к лестнице. Два лакея, о чем-то шептавшихся до ее появления, замолкли и удивленно уставились на нее.
— Вы к кому, сударыня? — спросил один из них, когда Турчанинова стала подниматься по лестнице.
— К Петру Александровичу, — невозмутимо ответила она.
Лакеи недоуменно переглянулись.
— К их превосходительству?
— Именно.
— Но оне же померли?..
— Я знаю, — сказала Анна Александровна, поднимаясь на очередную ступеньку лестницы.
— А тогда, — лакеи снова переглянулись, — к кому же вы?
— К Петру Александровичу, — последовал ответ, после коего у обоих служителей «подай-принеси» в голове расплылся легкий туман, а зрение на время потеряло фокус.
Анна Александровна уже миновала лестницу, когда, забежав вперед, перед ней выросли оба пришедших в себя лакея.
— Мне надобно пройти в квартиру Петра Александровича, — была принуждена остановиться Турчанинова, так как «подай-принеси» сомкнули плечи, загородив ей путь. — У меня остались перед покойным генералом некоторые обязательства, которые мне, чтя его память, необходимо исполнить. Вы что же, не узнаете меня?
— Узнавать-то мы вас, барышня, узнае-ем, — нерешительно протянул один из лакеев, что был постарше. — Да только пускать сюда никого не велено.
— Кем, почему? — быстро спросила Анна Александровна, изобразив на лице удивление.
— Дык ведь это, их высокоблагородие господин подполковник запретили, потому что дознание ведется.
— Какой подполковник, какое дознание? — уже по-настоящему удивилась Турчанинова.
— Подполковник Татищев, — встрял в разговор лакей, что был моложе. — Он ведет дознание по случаю ско-ро-пос-тиж-но-го, — лакей по слогам выговорил слишком сложное для него словечко, — преставления их превосходительства Петра Александровича, царствие ему небесное.
— Ах, вот как, — Анна наконец поняла, в чем дело. — Так значит, вы меня в квартиру не впустите?
— Не велено, барышня, — виновато ответил старший лакей и быстро переглянулся с младшим.
— Точно, — подтвердил тот.
— А если я вас очень попрошу? — блеснула глазами Турчанинова и сунула в ладони лакеев по серебряному рублевику.
— Ну, ежели недолго, — не без колебаний заключил лакей постарше и, громыхнув связкой ключей и найдя нужный, открыл дверь в квартиру Талызина. — Проходьте, барышня.
Надобно сказать, что казенные квартиры мало чем отличались, отличаются и, верно, будут отличаться друг от друга. Само слово «казенная» накладывает отпечаток и на убранство, и на дух, коим пропитаны сии людские вместилища. Конечно, одно дело квартира для караульного поручика, а другое для командира престижнейшего полка в чине генерал-лейтенанта. У последнего и комнат поболе, и мебеля богаче. Однако и те и другие суть пристанища временные, а посему домашнего тепла не содержащие.
Анна Александровна ступила в квартиру и медленно пошла анфиладой комнат. Когда она проходила большую залу, ей на миг почудился звон бокалов, множество мужских голосов, перебивавших друг друга, десятки горевших свечей и бледный лик мартовской луны, бесстрастно наблюдавшей за происходившим через неплотно зашторенные окна. Затем ей послышался негромкий голос: «Может, отделаться от всей этой семейки сразу?»
На что другой голос, очень знакомый, ответил: «На сие дозволения не было. Только Курносого».
Анна Александровна не удивилась. Подобное случалось с ней уже не единожды, когда она попадала в такое место, где сам воздух был насыщен либо злом, либо болью и человеческим страданием. Тогда звуки и слова, некогда прозвучавшие и произнесенные, и даже мысли, кем-то подуманные, обволакивали ее словно туманом, и она какое-то время могла слышать и видеть то, что когда-то действительно произошло в этом месте. Это было ее наказание — и ее дар. Сию странность она приметила за собой еще в детстве, когда однажды, приехав вместе с маменькой в орловское имение своей тетки, ни за что не хотела входить в детскую комнату. Она капризничала, хныкала и даже укусила руку няньки, вырвавшись от нее, когда та попыталась силой ввести ее в детскую. Об инцидентусе было доложено маменьке, и та, нахмурившись, спросила ее, почему она допускает столь неблаговидное поведение.
— Нянечка велела, чтоб я вошла в ту комнату, — стала оправдываться Аня. — А я не захотела.
— Отчего же? — строго спросила матушка.
— Там умер мальчик.
Анна Александровна прекрасно помнила, как у матушки брови поползли вверх.
— Кто тебе это сказал?
— Никто.
— Откуда же ты это знаешь?
— Я не знаю откуда, — ответила Аня и добавила: — Ему было очень больно, и он плакал.
— А ты знаешь имя этого мальчика? — спросила маменька, как-то странно глядя на Аню.
— Николенька, — после недолгого молчания ответила та и попросила: — Можно, я буду играть в другой комнате?
С того случая Анна не единожды ловила на себе задумчивые взгляды матери, а когда подросла, то узнала, что у тетки был сын, которого действительно звали Николенькой, и что он умер в возрасте пяти лет от антонова огня.
Впоследствии подобный дар проявлялся не раз, а однажды, уже Москве, сии способности позволили ей оказать услугу полицмейстеру Алексееву, совершенно запутавшемуся в одном странном деле. По Москве прокатилась серия смертей, связать которые между собой не представлялось возможным. Не было ни единого совпадения, кроме того, что у каждой из жертв посередь лба имелось небольшое красное пятнышко. Будто от ожога. Алексеев выдвинул версию, что это убийства. Но ни мотивов убиения совершенно разных и незнакомых между собой людей, ни улик, равно как и свидетелей, не находилось.
Дару же улавливать движение чужих мыслей, особенно если их думали много раз и множество людей, отчего мысли сии становились словно сгустком некоей магнитной жидкости в атмосфере, тонким эфиром, проводящим и сообщающим это движение, она научилась после обучения в Школе Гармонического общества соединенных друзей маркиза де Пюйзенгюра в Париже. Приняли ее туда на удивление легко и безо всякой оплаты.
Мысли, как уже не единожды пришлось ей убедиться, могут рождать, творить и убивать. Ведь даже боги живут до тех пор, покуда мы почитаем их и молимся им. Когда же мы перестаем о них думать, боги умирают. Вот только и по сию пору она не могла решить: то, что она умеет видеть и чувствовать — дар или наказание?
Турчанинова остановилась, прислушиваясь, но голоса и звон бокалов уже пропали. Миг провидения закончился, и Анна Александровна прошла далее, в кабинет. Он, очевидно, служил Талызину и библиотекой, поскольку в нем, помимо нескольких кресел и канапе со звериными лапами вместо ножек, письменного стола и лакового бюро черного дерева, над коим висела литография с изображением храма Сераписа в Египте, стояли несколько шкафов, заполненных книгами. Среди них Турчанинова заметила несколько сочинений Вольтера и Дидро, корешки сочинений Плутарха, Плавта, Парацельса и запрещенного Ван Гельмонта. Одна из книг его, «Opera omnia Francof», издания 1682 года, лежала раскрытой на диванном столике. Турчанинова подошла и, не решившись взять книгу в руки, наклонилась над ней. На этих страницах, которые, верно, были последними из прочитанных Павлом Александровичем в своей жизни, говорилось об умножении жизненных сил и иных чудесных последствиях вкушения чарующего корня напеллуса. Вообще, кабинет казался довольно обжитым. Вероятно, Петр Александрович проводил здесь много времени, когда был не занят по службе.
Для чего она сюда пришла? Убедиться, что Талызин покончил с собой? Или увериться, что его убили?
Ответы на эти вопросы, видимо, знает этот бесчувственный сухарь-дознаватель, подполковник Татищев. Но он ей об этом, конечно, ничего не скажет. Опыт общения с сыщиками, следственными приставами и прокурорскими, полученный ею в Москве, начисто отметал возможность добиться от них хоть какой-то информации. Даже московский полицмейстер полковник Алексеев, привлекая ее к тому загадочному делу о красных пятнах на лбах скоропостижных покойников, что взбудоражило всю Первопрестольную, рассказал ей не все, что знал. Значит, она должна добыть нечто такое, чего не знает Татищев и в обмен на что она сможет получить у него ответы на интересующие ее вопросы, а возможно, даже принять участие в расследовании столь неожиданной смерти генерала Талызина.
Но что она может найти в квартире Петра Александровича, где уже побывал дотошный подполковник Тайной экспедиции?
Взгляд Анны упал на бюро. Она его сразу узнала. С рабочей стороны оно, помимо столика для письма, имело складывающуюся наподобие ширмы дверцу и за ней внутри два потайных ящичка в боковых стенках. Изготовлено оно было по ее собственным чертежам мебельным умельцем Карлом Вебером. Однажды это бюро увидел Талызин и захотел иметь такое же. Вебер выполнил заказ, после чего вдруг решил сделаться каретником и в сем умении поклялся перещеголять собственного его величества каретного мастера Иоганна Фребелиуса. Так что более таких бюро ни у кого не было и, надо полагать, более уже не будет, так как Вебер уже год как принимал заказы только на изготовление карет и новомодных рессорных экипажей.
Осененная догадкой, она пошла к бюро, и, когда проходила округ кресла с мощными львиными лапами вместо ножек, на нее вдруг пахнуло таким холодом, будто она шла мимо ледника с настежь растворенной дверью. На миг она почувствовала озноб и боль в висках. И невольно убыстрила шаг. Когда она подошла к бюро, боль отступила. Она оглянулась на это странное кресло, затем решительно отодвинула дверцу и, просунув руку, нажала на левую кнопку. Потайной ящичек открылся, но оказался пуст. Она стала нащупывать секретную кнопку справа, как вдруг услышала звук быстро приближавшихся шагов. Выдернув руку из нутра бюро, Турчанинова повернулась, но, кажется, ее движение было замечено ворвавшимся в кабинет молодым лакеем.
— Барышня, барышня, — быстро заговорил он, еле переводя дыхание. — Их высокоблагородие господин подполковник приехали, так что пожалуйте на выход.
— Кто приехал? — как можно невозмутимее спросила Анна Александровна, просунув руку назад, за дверцу бюро, и шаря пальцами по боковой стенке.
— Татищев! — в страхе выкрикнул лакей и невольно оглянулся назад. — Через полминуты здесь будут.
— Ну, хорошо, ступай, я сейчас выйду, — произнесла Анна, нащупав наконец секретную кнопку и нажимая на нее. Пружинка где-то в глубине бюро разжалась и вытолкнула из стенки небольшой ящичек.
— Пойдемте же, барышня, ну ради бога, — взмолился лакей. — Ведь попадет нам за вас по первое число!
— Уже иду, — бодро ответила Турчанинова, вытаскивая из ящичка осьмушку листа, сложенную вчетверо. Уже не прячась от лакея, она сунула ее в рукав платья-блуз из сурового батиста без единого намека на garniture, поправила пунцовый берэт и скорым шагом пошла из кабинета. Лакей семенил за ней, словно подталкивая ее к выходу.
Они почти бегом прошли анфиладу комнат, вышли из квартиры. И нос к носу столкнулись с Татищевым! Лицо его мгновенно сделалось строгим. Сзади, из-за его плеча, делал страшные глаза старший лакей.
— Эт-то что такое?! — спросил Татищев и, бросив короткий взгляд на Анну, уставился тяжелым взором в лакея.
Тот молчал.
— Что это такое, я спрашиваю? — повысил голос Павел Алексеевич.
— Барышня, — еле слышно произнес лакей.
— Это я вижу! — рявкнул Татищев. — Я спрашиваю, что сия барышня делала в квартире покойного, когда я запретил пускать в нее кого бы то ни было?
— Оне бывшие знакомые… бывшего их превосходительства… — начал было лакей, но Татищев перебил его.
— Кто открыл барышне квартиру? — жестко спросил подполковник, не удостаивая больше взглядом Турчанинову.
— Я-я, — признался из-за спины Анна Александровны лакей, что был моложе.
— Поди сюда, — приказал ему Татищев.
Лакей, протиснувшись бочком меж дверным косяком и Турчаниновой, встал перед подполковником, обреченно опустив голову.
— Смотреть на меня! — снова рявкнул Татищев.
Лакей поднял голову и посмотрел в мечущие искры глаза подполковника.
— Знаешь, где полицейский участок?
— Знаю, ваше высоко…
— Сей же час пойдешь туда и скажешь тамошнему приставу, чтобы тебе выдали двадцать ударов розгами. Понял меня?
— Понял, господин подполковник, — срывающимся голосом произнес лакей.
— Все, пошел вон.
— Это я попросила открыть квартиру, — вдруг громко произнесла Турчанинова.
— Зачем? — обернулся к ней подполковник, наконец удостоив ее вниманием.
— Чтобы пройти в нее.
— Зачем? — повторил свой вопрос Татищев.
— Чтобы посмотреть, где провел свои последние часы Петр Александрович, — метнула Анна Александровна на Татищева взор, исполненный негодования. — Это что, допрос?
— Пока нет, — с ехидцей ответил Татищев. — Но таковая возможность не исключена. Что вы делали в квартире?
— Смотрела.
— Что смотрели? — продолжал наседать подполковник.
— Послушайте, господин Татищев, лакеи здесь ни при чем. Я не хочу, чтобы из-за меня пострадали другие люди.
Сия фраза, сказанная Анной Александровной в примирительном тоне, оказала совершенно иное воздействие на подполковника, нежели она ожидала.
— Ни при чем?! — яростно воскликнул Татищев. — Как бы не так! Все люди при чем-либо! Этим двоим, к примеру, было приказано никого не впускать в квартиру покойного генерала. Если бы они выполнили приказ, они были бы ни при чем. Но они ослушались, и посему должны быть наказаны. Должны! Иначе мы никогда не выберемся из этого борделя, в котором уже столько времени пребываем! Или вы предпочитаете, чтобы вам всыпали двадцать горячих?
— Простите, что вы сказали? — задохнулась от возмущения Турчанинова, задетая за живое обилием произнесенных им бестактностей.
— То и сказал, что ежели мы не будем наказывать виновных и поощрять радивых, в нашем многострадальном государстве никогда не будет не просто должного, а и вовсе никакого порядка, — нимало не смутился Татищев. — Это что для вас, новость?
— Значит, вы радеете за державу? — насмешливо спросила Анна Александровна.
— Именно. И не вижу в этом ничего смешного. Ты еще здесь? — обернулся Татищев к младшему лакею.
— Дык, это…
— Ступай в участок и скажи, — подполковник искоса глянул на Турчанинову, — чтобы тебе выдали не двадцать, а тридцать ударов розгами.
— Но, ваше…
— Повтори!
— Идти в участок и сказать, чтобы мне выдали тридцать ударов розгами.
— В задние ворота, — снова покосился в сторону барышни Татищев.
— В задние ворота, — повторил уныло лакей.
— Все, ступай. Придешь, доложишь.
— Вы, вы… — блеснула черными глазами на подполковника Анна, но Татищев не дал ей договорить.
— Вас я тоже более не задерживаю, — сухо произнес он и повернулся к старшему лакею. — Теперь что касается тебя, братец. Поскольку ты старший здесь…
— Зря я вас тогда спасла, — произнесла Анна, прожигая взглядом спину Татищева.
— Никто вас об этом не просил, — буркнул он не оборачиваясь.
— Бурбон, — выдохнула ему в затылок Анна и, фыркнув, стала быстро спускаться по лестнице. Однако, несмотря на то, что было высказано все, чего она желала сказать этому солдафону, последнее слово все же осталось за ним! О, как бы она хотела, чтобы он сказал ей вслед что-нибудь колкое. Тогда она остановилась бы и ответила ему тем же! Нет, многим больше! Она бы нашла, что сказать этому самонадеянному господину, так радеющему за благополучие империи. Такая порода радетелей на словах хорошо ей известна. И главное, как искренне он это сказал! Прямо артист. Да, она так ему и скажет: вы-де, господин подполковник, хороший, нет, великолепный артист, но не думайте, что вам удалось провести меня, используя ваш лицедейский талант. Да! Именно: настоящий артист!
Анна Александровна даже сбавила темп, в надежде, что ей вслед прозвучит насмешливый голос подполковника. Но она ошиблась. Татищев молчал и даже — она чувствовала это затылком — не смотрел в ее сторону. Турчанинова подобрала подол платья и быстро спустилась с лестницы в переднюю. В огромном зеркале мелькнул ее негодующий профиль с закушенной от обиды губой.
Ничего, ему еще придется прийти к ней на поклон, и еще не факт, что она воспримет это благосклонно!
* * *
— …То с тебя, Парфен, и спросу больше, — закончил Татищев свою фразу, когда за Турчаниновой захлопнулись двери.
— Так мы что, мы ничего, коли заслужили, то что уж… — смиренно произнес лакей.
— Она здесь часто бывала?
— Разика два-три заходила.
— О чем она разговаривала с генералом, не слышал?
— Нет.
— Они были на «ты»? — сам не зная почему, задал вопрос Татищев.
— Чево?
— Они были коротко знакомы? — поставил вопрос иначе Павел Андреевич.
— Да, коли «тыкали» друг другу.
— А что ж ты сразу-то, когда тебя спрашивают… Ну, да ладно. Сегодня она зачем приходила?
Старый лакей поскреб затылок.
— Сказала, что у нее остались перед покойным генералом какие-то обязательства, и ей, дескать, надобно их непременно исполнить.
— Какие такие обязательства? — вскинул голову Татищев.
— Не ведаю, ваше высокоблагородие, — честно посмотрел в глаза подполковнику лакей. — Она про них ничего не говорила.
— Хорошо, что было дальше?
— Ну, мы со Степаном ей: не велено, мол, никого впускать, потому как господином подполковником, вами то есть, ведется по случаю столь скорого преставления генерала следственное дознание. А она, дескать: пустите, я должна исполнить эти самые обязательства.
— Дальше!
— Мы, стало быть, ни в какую, а она…
— Достает денежку и вам в руку, так? — констатировал Татищев. — Пустите-де, я недолго.
Лакей вздохнул и опустил голову:
— Выходит, так.
— И сколько она вам презентовала?
Парфен полез в карман ливреи и достал серебряный рубль.
— Вот.
— Не худо, — заключил Павел Андреевич. — Выходит, важные у нее перед усопшим генерал-лейтенантом были обязательства.
— Бес попутал, — тихо промолвил лакей.
— Ну, конечно же, бес, — как бы согласно кивнул лакею Татищев. — Кому ж более, более некому!
— Виноват, ваше высокоблагородие, — сказал Парфен и протянул подполковнику рубль.
— Убери, — брезгливо поморщился Татищев. — А что Турчанинова делала в комнатах?
— Про то не ведаю, господин подполковник, — ответил Парфен, пряча рубль. — Степка, чай, видел чего.
— Ладно, — посмотрел мимо лакея Павел Андреевич. — Про господина в плаще и шляпе ты ничего не вспомнил?
— Вспомнил, — обрадовался Парфен. — Как же, вспомнил, ваше высокоблагородие.
— А что же молчал до сих пор? — недовольно спросил Татищев.
— Так вы же все время гневаться изволили, — оправдался лакей, теперь уже точно уверившись, что поротым ему сегодня не бывать, хотя поначалу, когда господин подполковник приговорили Степана к тридцати ударам розгами, ему светило, чай, не менее пятидесяти. — Вот я и забоялся.
— Говори, — нетерпеливо произнес Павел Андреевич.
— Оне с их превосходительством генералом Петром Александровичем поздоровались как-то не по обыкновению, — выпалил Парфен.
— То есть? — удивился Татищев.
— Я, ваше высокоблагородие, когда этого неприметного господина в плаще и шляпе к их превосходительству препроводил, видел, как они друг с другом за руку поздоровкались.
— И что в этом было такого «не по обыкновению»? — насторожился подполковник.
— Оне большие пальцы выпяченными от всей ладони держали, ну, это, стоймя…
— Так? — отставив от ладони большой палец вертикально, показал лакею Павел Андреевич.
— Во, точно так! — подтвердил лакей. — А ведь так-то здоровкаться оченно неудобственно.
— Это кому как, — помрачнев, раздумчиво произнес Татищев. — Больше ничего не вспомнил?
— Не, больше ничего.
Павел Андреевич кивнул и прошел в квартиру генерала.
Масонское рукопожатие. Ну и что с того? У нас из генералов, будь то военных или статских, каждый второй — масон. Это не считая каждого первого. Но они же не умирают от этого! Скорее наоборот, всячески поддерживают один другого, двигают по службе, замолвливают друг за друга словечко у сильных мира сего.
Получается, что устранение императора Павла суть масонский заговор, как о том трубят повсюду.
Правда, кто трубит?
Сами же масоны. Впрочем, зачинщики устранения Павла с престола — барон Беннигсен, педераст Яшвиль, отставной вице-канцлер граф Панин, да и сам генерал Талызин — самые что ни на есть масоны высших степеней. А дыма без огня не бывает.
Татищев медленно шел анфиладой комнат. Он уже был здесь и теперь медленно окидывал взглядом комнаты, в надежде увидеть какие-нибудь изменения, дабы понять, для чего сюда приходила госпожа Турчанинова. Однако все стояло на своих местах, никакие вещи не были тронуты, и даже пыль была той же и на тех самых местах. Что же надо было Турчаниновой?
Самое время порассуждать с самим собой, и не потому, что более не с кем, а затем, что умнее и опытнее никого, в общем, нет. Новый государь Тайную экспедицию прикрыл, люди достойные и опытные подались кто в армейские разведки, кто в полицианты, а кто и вовсе вышел в отставку. Те же, что перешли вместе с остатками экспедиции и ее канцелярией в Пятый Департамент Сената, были далеко не лучшими и просто не нашли более теплого места.
С кем же прикажете работать? Советоваться? На кого возлагать надежды? Только на себя. И стал Татищев рассуждать в одиночестве:
«Ты веришь, что Турчанинова приходила в квартиру ради того, чтобы посмотреть на место кончины своего знакомца?»
«Нет. У нее была иная, более конкретная цель».
«Какая?»
«Она сказала, что ей необходимо исполнить какие-то обязательства пред почившим генералом».
«Какие? И не есть ли эти слова просто предлог для того, чтобы пройти в квартиру?»
«Скорее всего, это именно так. Но зачем-то ей было нужно попасть в квартиру. Зачем?»
«Чтобы что-то найти».
«Что именно?»
«То, что не смог обнаружить ты».
«Но улики, которые бы позволили мне сделать заключение о насильственной смерти генерала Талызина, я искал как никогда тщательно. И ничего не нашел. Значит…»
«Значит, существует тайник».
«Тайник?»
«Именно. И Турчанинова знала о нем».
«Что ж, это возможно».
«Выходит, они с Талызиным как-то связаны?»
«Не обязательно. Они коротко знакомы, и генерал мог сам рассказать ей о своем тайнике».
«Вот только где он находится?»
«А где бы ты сам его установил?»
«Ну, в спальне, кабинете, библиотеке…»
«Вот и ответ».
Павел Андреевич вошел в кабинет. Он сразу почувствовал, что в нем что-то не так. Он внимательно огляделся и увидел, что дверца бюро приоткрыта. А во время его первого посещения она была плотно притворена. Значит, Турчанинова что-то искала именно здесь. Нашла?
Татищев подошел к бюро и сунул ладонь в открытую дверцу, тотчас нащупав два открытых потайных ящичка. Они были пусты.
«Ясно, — подумал Павел Андреевич и еще раз проверил внутренность пустого бюро. — Она взяла нечто, бывшее ценным для генерала, и, возможно, была права, когда говорила, что пришла сюда исполнить какое-то обязательство перед ним».
— Что же находилось в бюро? — спросил он вслух, и кто-то за его спиной ответил:
— Дык записка, ваше высокоблагородие.
Татищев резко обернулся и увидел Степана, переминавшегося с ноги на ногу.
— Так что, это, докладаю вам, ваше высокоблагородие, что тридцать горячих получены мною сполна.
— Что ты сказал?
— Выпороли меня, господин подполковник, за милую душу, — осторожно потрогав себя за задницу, доверительно поведал лакей. — За что мы вам премного благодарны и несказанно щасливы. Желаю заверить вас, что более уже никогда и не под каким видом ваше приказание не…
— Нет, что ты до этого сказал? Про записку?
— А что про записку?
— Ты сказал, что в бюро находилась записка, — начал понемногу вскипать Татищев.
— Сказал, — охотно согласился лакей. — Только теперь ее там нетути.
— Ее та барышня взяла, что вы впустили? — осторожно спросил подполковник.
— Ну да, — охотно ответил Степан. — Барышня из ентой бюры записочку достали да в рукав и сунули.
— Сам видел?
— Сам, — подтвердил лакей. — Так что, это: за науку вам, ваше высокоблагородие, агромаднейшая благодарность. Оно ведь как: коли провинился, то обязательно должон быть наказан. Это — закон. Нешто мы не понимаем, что не токмо в чем-то большом, но даже и в самом малом порядок должон быть. А то нашего брата распусти, так вскорости мы барам и на головы сядем…
Не говоря более ни слова, подполковник Татищев повернулся и пошел прочь. Он шел анфиладою комнат, четко печатая шаг, и звук его шагов гулко разносился по квартире покойного генерала. За ним, отстав сажени на полторы, шел на полусогнутых Степан. Он неестественно широко расставлял ноги, как ходят только что лишенные невинности девицы, статские, проскакавшие верхом с десяток верст, да еще выпоротые в полицейском участке лакеи. Степан шел и преданно смотрел в подполковничью спину. Взгляд его был благодарственным и теплым.
Глава двадцать первая
Как девица Турчанинова пыталась поразить подполковника Татищева своими способностями и что из этого вышло. — Все беды от баб, господа. — Пришел, увидел, победил. — На всякого мудреца довольно простоты. — Может статься, и жизни не хватит. — Означает ли кивок головы знак согласия?
«ФОТСТ ЦЪПЖО ШЕСИНАУЯ УНКЖЬ КФУЦОТСХУ РУСКБК ЛЕСШЦЕК ЕОНУЮ УУСРЧСПЖЧ УВУЙТЭ НЦИДЦ СЗЫВЫЬ»
Галиматья какая-то. Анна попробовала прочитать слова задом наперед.
«ТСТОФ ОЖПЪЦ ЯУАНИСЕШ…»
Не лучше. Может, это шифрованная записка, содержащая какой-то важный секрет? Но тогда ей самой, без посторонней помощи, никогда не прочитать, что в ней написано.
Интересно, подполковник Татищев знает про способы тайнописи и шифровки секретных посланий?
Стук в дверь прервал размышления Турчаниновой.
— Подполковник Татищев.
— Долго будет жить господин подполковник.
— Чево?
— Ничего, проси.
Анна Александровна вышла к Татищеву через четверть часа. Хотела, правда, подержать его в гостиной подольше, хотя бы с час, да не давал покоя вопрос: владеет подполковник секретами тайнописи или нет. Только вот как не вызвать у него подозрения? Ведь сию записку она взяла тайно, без спросу, все равно что похитила. А за воровство по головке не гладят.
Поздоровавшись и извинившись за ранний визит, что было проделано явно через силу, Татищев сразу перешел к делу.
— Я пришел к вам с тем, чтобы вы отдали мне записку, которую изъяли из тайника в бюро генерала Талызина, — безапелляционно заявил он. — «Изъяли» — еще слишком мягко сказано.
— Вы смеете обвинять меня в воровстве? — подняла пылающий взор Турчанинова.
— Я только прошу вас отдать мне записку, сударыня, — буркнул Татищев, не собираясь вступать с Турчаниновой в полемику. — Точнее, требую.
— Я не знаю, о чем вы говорите.
— Прекрасно знаете. Один из лакеев видел, как вы забирали ее из бюро. Так что, если вы не хотите неприятностей, немедленно верните записку.
— Вы меня пугаете? — возмутилась Анна Александровна.
— Вовсе нет. Просто в уложении о наказаниях есть статья о сознательном препятствии следствию. Ваш случай именно таков.
— А какому следствию, позвольте вас спросить?
— Следствию по делу о… — Павел Андреевич на мгновение запнулся, — скоропостижной кончине генерал-лейтенанта Талызина.
— А разве производятся следствия по поводу скоропостижных кончин? — недоверчиво спросила Анна.
— В отдельных случаях, — нехотя ответил Татищев.
— Значит, вы тоже думаете, что генерал Талызин умер не своей смертью?
— Я ничего не думаю, сударыня, — отрезал подполковник, — я только исполняю приказания.
— Выходит, тот, кто отдает вам приказания, полагает, что Талызина убили? — не собиралась отпускать вожжи Анна Александровна.
— Я не знаю, о чем думает мое начальство, — устало произнес Татищев и с каким-то странным любопытством посмотрел на Турчанинову. — Вы что, с луны свалились? Не знаете, что говорят о его смерти в столице? Вы ведь, кажется, были коротко знакомы с генералом?
— Была, — согласилась Анна.
— Ну, так что вы из себя дурочку-то строите?
— Что?! — вспылила Анна, меча огненные взоры на подполковника. — Да как вы смеете, сударь!
— А вы как смеете препятствовать дознанию, сударыня? — спокойно парировал выпад Павел Андреевич. — Немедленно отдавайте записку! Иначе…
— Что иначе? — в упор посмотрела Турчанинова. — Отправите меня в полицейский участок, чтобы меня выпороли? Или засадите в каталажку?
— Скорее, последнее, — вполне серьезно ответил Татищев.
— А у меня к вам другое предложение.
— И какое же? — не без сарказма спросил Павел Андреевич.
— Вы берете меня в расследование, а я показываю вам записку из бюро Талызина.
— Показываете? — едва справился с возмущением подполковник.
— Если вы позволите мне участвовать в расследовании гибели генерала Талызина и поделитесь со мной всем, что вы успели узнать, я, так и быть, отдам вам записку.
— Вы и так мне ее отдадите, — заверил Татищев.
— Что отдам? — сделала непонимающие глаза Турчанинова.
— Записку! — стал закипать подполковник.
— Какую записку? — быстро сморгнула Анна Александровна.
— Прекратите паясничать! — вскричал Татищев.
— Я положительно не понимаю, о какой записке идет речь, — честно посмотрела Анна Александровна в серые глаза подполковника.
Татищев шумно сглотнул и вперил бешеный взгляд в собеседницу.
— Речь идет о той самой записке, которую вы преступным путем вытащили из тайника бюро в кабинете генерала Талызина и спрятали в рукав своего платья, — почти по-змеиному прошипел он. — Это сможет подтвердить лакей Степан.
— Где подтвердить? — чуть улыбнулась Турчанинова.
— Да хоть на суде! — воскликнул Павел Андреевич.
— А я на том же суде скажу, что не брала никакой записки, — с нехорошей усмешкой сказала Анна Александровна. — Кому, как вы думаете, поверят? Мне или лакею, которого и к присяге-то привести нельзя?
— Вы… вы просто… — Татищев задохнулся и не смог докончить фразы. Не хватало слов, чтобы сказать хотя бы часть того, что он думал о сей беспринципной и цинической девице. Наконец он справился с собой и задал вопрос, ответ на который уже звучал в их беседе:
— Что вы хотите от меня?
И прозвучал повтор того, что уже было сказано.
— Позволить мне, господин подполковник, вместе с вами расследовать это дело. В конце концов, помощь частных лиц всегда приветствовалась службами правопорядка и благочиния. А вы, насколько мне известно, представляете именно такую службу.
— И вы отдадите записку?
— Отдам, — согласно кивнула Турчанинова. — Причем, записка о-очень интересная.
— Что вы хотите знать?
— Все, что знаете вы.
— Это невозможно. Существует тайна следствия, — отступил на заранее подготовленные позиции Татищев.
— Ну, какие же тайны могут быть между партнерами? — бесцеремонно, как показалось подполковнику, улыбнулась Турчанинова.
— А мы уже партнеры?
— Конечно. Вы ведь уже дали свое согласие на совместное расследование гибели генерала Талызина, не так ли? К тому же, я полагаю, мое участие в расследовании будет вам полезным.
— Чем? — вложив в свой тон максимум иронии и сарказма, спросил Павел Андреевич Татищев. — У меня ничего не болит, если вы имеете в виду ваши лекарские способности.
— Не болит? — Турчанинова вдруг сделала навстречу ему круговое движение раскрытой ладони. — Верно, не болит, — согласилась она. — Однако третьего дня у вас болели зубы… Передний левый клык.
Татищев потрогал языком зуб, действительно болевший третьего дня, и невозмутимо произнес:
— Ну и что с того?
— Ничего. Просто зуб у вас разболелся потому, что четыре дня назад вы промочили ноги, — она на мгновение задумалась, — провалившись в глубокую лужу, когда выходили из коляски возле дома мадам Крашенинниковой в Мошковом переулке. Человек вы здоровый, крепкий, простуде не поддались, вот она и вышла у вас зубной болью…
— Вы что, следили за мной? — нахмурился Павел Андреевич.
— Вот еще, — фыркнула Турчанинова.
— Откуда же вы…
— Просто знаю, — не дала ему договорить Анна Александровна. И спросила: — Петру Александровичу… Генералу Талызину делали вскрытие?
— Да.
— И вы читали врачебное заключение?
— Я начал с этого дознание, — ответил Павел Андреевич.
— И что?
— Ничего. Видимых причин для смерти обнаружено не было.
— А откуда взялось, что Талызин отравился за ужином?
Павел Андреевич пожал плечами:
— Это было придумано не мной.
— Понятно. Вы читали протокол осмотра места происшествия?
— Ну да.
— Что там было написано?
— Что в квартире генерала было обнаружено его мертвое тело, которое находилось…
— … в кресле возле бюро, — договорила за подполковника Анна Александровна.
— Верно! Но откуда, черт побери, вам это известно?! — во все глаза уставился на Турчанинову Татищев. — Тоже «просто знаете»?
— Нет. Я почувствовала, что он умер в этом кресле, когда проходила вчера мимо него. От этого кресла пахнуло таким холодом!
— М-да-а, — протянул Павел Андреевич. — С вами не соскучишься.
— Вот это я вам обещаю, — заверила его Анна Александровна. — Ну что, нести записку?
— Несите, — ответил подполковник.
Что ж, коли написано на роду страдать от бабы, значит, будешь страдать, а кто сия баба будет, жена или наоборот, женщина или девица — уже не столь важно. И как ты мучиться от сих страданий будешь, духовно или телесно или и так и эдак враз — тоже не важно суть. Главное: будешь страдать. А у него, похоже, таковые страдания прописаны на роду не единожды. Взять хотя бы Кити…
«Надо бы с Турчаниновой помягче, — встрял, как обычно некстати, тот, что сидел внутри него. — Все же она, как-никак, жизнь тебе спасла».
«Ну, это еще не факт», — попытался сопротивляться Татищев, понимая, что тот, второй, конечно прав. Просто очень не хотелось, чтобы в его дела вмешивалась баба. Тьфу ты, девица…
— Вот, возьмите, — вернулась в гостиную Анна Александровна.
Татищев принял из рук «компаньонки» сложенную пополам осьмушку бумаги, развернул.
«ФОТСТ ЦЪПЖО ШЕСИНАУЯ УНКЖЬ КФУЦОТСХУ РУСКБК ЛЕСШЦЕК ЕОНУЮ УУСРЧСПЖЧ УВУЙТЭ НЦИДЦ СЗЫВЫЬ»
— Что это?
— Та самая записка, — ответила Турчанинова. — Я ведь говорила, что она весьма интересная. Это шифр?
— Похоже, — ответил Павел Андреевич.
— Вам удастся ее прочитать?
— Не знаю, — задумчиво произнес Татищев.
Он повертел записку в руках, осмотрел на свет, снова положил перед собой.
— Это наверняка шифр замены.
— То есть? — уважительно посмотрела на Татищева Анна.
— Просто вместо одной буквы написана другая, — пояснил подполковник. — Простенько вроде, но сердито, ведь даже если здесь применена только простая перестановка без ключа, вовсе не просто расшифровать такой текст. Ну, а ежели имеется специально оговоренный сторонами шифровальный ключ, буквенный или, что много хуже, цифровой, то прочитать такой текст будет крайне сложно, а то и вовсе не можно. Да-а, — снова повертел записку в руках Татищев. — Это весьма и весьма старинный шифр. Таким пользовались древние шумеры и египтяне, а иудеи зашифровывали им свои священные тексты, чтобы их никто не мог прочитать, кроме посвященных. Вы ведь знаете латынь.
— Да, — ответила Анна, немного обескураженная этим утверждением.
— И, конечно, знаете, какое послание отправил Юлий Цезарь сенату, когда победил понтийского царя Фарнака в результате своей однодневной войны.
— Знаю, — подтвердила Анна Александровна. — Veni vidi vici[10].
— Верно. Но первоначально сие послание звучало так: Sbkf sfaf sfzf. На первый взгляд ничего не значащий набор букв. На самом деле — шифровка. Юлий Цезарь просто заменил нужную букву на четвертую по счету от нее в алфавите. И чтобы прочитать сию шифровку, надо читать четвертую букву вместо первой.
— Точно! — мало не воскликнула Анна после недолгого молчания, в течение коего, верно, проверяла свои знания латинского алфавита.
Татищев усмехнулся и продолжал:
— Даже в Библии имеются зашифрованные места именно с применением шифра замены. Вы читали Библию?
— Конечно, — ответила Турчанинова, судорожно стараясь припомнить непонятные места Священного писания.
— Не трудитесь, сударыня, — усмехнулся Татищев, выказывая, что и он не лыком шит и достаточно разбирается в человечьей натуре, — такие места в Библии вообще мало кто замечает, а уж вспомнить… Книга пророка Иеремии: «а царь Сессаха выпьет после них». Вспомнили?
— Н-нет, — покачала головой Анна.
— Ну, не важно, — произнес подполковник, довольный своей маленькой победой. — Важно, что такого царя или царства не было в природе. И сие не ошибка писца, а самый настоящий шифр. Так вот, ежели мы вместо последней буквы алфавита напишем первую, вместо предпоследней — вторую, и так далее (конечно, на языке оригинала), то получим взамен слова «Сессах» слово…
— Вавилон! — воскликнула Турчанинова. — Ну, конечно!
— Вы чрезвычайно сообразительная особа, — заметил немного задетый за живое Павел Андреевич. Сам он этого Сессаха, каковую задачку им, офицерам Тайной экспедиции, однажды задал старик Шешковский, расшифровал не так скоро, как сия острая умом особа. Правда, она знает разные языки. Да, она действительно может быть полезна в расследовании загадочной смерти генерала Талызина.
Татищев снова склонился над запиской.
— Сия записочка, несомненно, имеет шифр замены. Но он осложнен ключом, скорее всего цифровым. Даже если в ключе всего две цифры, то это уже сотня вариаций. А ежели три цифры или четыре? Это же тысячи, десятки тысяч вариаций! И чтобы перебрать их все, нам может не хватить и нескольких наших жизней.
— Что же делать? — уныло спросила Турчанинова.
— Будем думать, — произнес Павел Андреевич, пряча записку в нагрудный карман мундира.
— А я? — снова уныло спросила Анна Александровна, понимая, что, в общем-то, подполковник как-то незаметно обошел ее, и она взамен отданной записки не получила ничего, кроме его согласия взять ее в дело, да и то весьма расплывчатого.
— Вы? — он усмехнулся, как показалось ей, с ехидцей. — Я свяжусь с вами, когда в том назреет необходимость.
— А она назреет? — в упор посмотрела на Татищева Анна.
Подполковник кивнул. Однако являлся ли этот кивок согласием в ответ на ее вопрос или прощальным жестом, было совершенно непонятно.
Глава двадцать вторая
Как подполковник Татищев домой возвращался. — О пользе каббалистических и исторических знаний. — Получилось, черт побери!
Странным образом уходил от Анны Александровны подполковник Татищев.
Он не взял коляску, а двинулся пешим ходом, держа направление в сторону набережной Невы, незаметно оглядываясь и сворачивая в проходные дворы без всякой на то надобности. Возле галантерейного магазейна Бута он остановился и какое-то время смотрел в стеклянную витрину, следя за отражениями прохожих. Слежки за ним не было.
«Посмотрим, как вы, мадемуазель Турчанинова, ответите на мой вопрос, что я делал после того, как вышел от вас», — не без злорадства подумал Павел Андреевич. После этого, уже не проверяясь, он двинулся к себе на квартиру недалеко от дома Бестужева-Рюмина, где помещался Правительствующий Сенат со своими департаментами, — принадлежность к Тайной экспедиции обязывала жить в непосредственной близости от места службы.
Дома он первым делом прошел в кабинет и нашел на полках книжного шкапа несколько книг. То были «Полиграфия» немца аббата Иоганна Трисемуса, описывающая вариации тайнописи, «О тайной переписке» Джованни Порта и две книги италианского математика Джироламо Кардано по криптографии. Однако ничего полезного, могущего помочь в расшифровке записки генерала Талызина, Татищев в них не нашел. Не подходили к расшифровке записки ни шифры Леонардо да Винчи, ни потаенное «затейливое письмо» Приказа тайных дел при Федоре Иоанновиче, ни выкладки дешифровальной службы «Черного кабинета» при Петре Великом, ни криптография математика и астролога Леонарда Эйлера, обеспечивавшего и курировавшего тайную переписку Анны Иоанновны. Не возникло и «светлых» мыслей, которые — Павел Андреевич знал это по опыту — приходят тогда, когда ты находишься на правильном пути. Выходит, наступило время порассуждать.
Павел Андреевич раскрыл осьмушку листа и положил ее на стол.
«Это шифр замены букв с применением цифрового ключа».
«Верно».
«Шифр очень старинный, подобный ему применяли египтяне, древние иудеи и Гай Юлий Цезарь, а сие значит, что человек, написавший записку, знаком с древней историей».
«И с тайнописью».
«Стало быть, этот человек не только из высшего и образованного круга, но, возможно, из дипломатического корпуса, где шифровальные сообщения в большом ходу».
«Шпион!»
«Никогда не поверю, что генерал Талызин имел сношения со шпионами. Он был слишком привязан к цесаревичу Александру».
«Его могли использовать втемную».
«Могли, но кто? Английского посланника лорда Уитворда, явного шпиона и заводчика заговора против императора Павла, попросили из России еще в девяносто девятом».
«Зубовы?»
«У этих не хватило бы ума».
«Беннигсен?»
«Тоже нет. Они были достаточно знакомы, чтобы спокойно встречаться и разговаривать вживую, а не слать друг другу, словно тайные любовники, шифрованные записочки».
«И все же, записка, скорее всего, связана с заговором против Павла. Роль Талызина в сем предприятии слишком хорошо известна».
«Содержание записки тебе все равно не узнать, не прочитав ее, так что ищи ключ. Кто, к примеру, могли быть составителями этих шифров?»
«Математики, астрологи, магики».
«Верно. А это значит, что цифровой ключ представляет собой не просто случайный набор цифр, а некое каббалистическое число, то есть число со значением».
Число со значением!
Мурашки, пробежавшие по телу, говорили об одном: он на правильном пути. Пошарив в ящиках стола, он достал большую тетрадь, похожую на амбарную книгу, и стал судорожно листать.
Вот она, числовая азбука!
Павел Андреевич выбрал несколько цифр, которые, как он считал, наиболее подходили к ключу записки:
29 — злой умысел (убийство императора к доброму умыслу отнести трудно);
42 — путешествие (а почему нет, ведь и жизнь, и смерть суть наши путешествия в разных мирах);
48 — суд, приговор, наказание (самое подходящее для заговорщиков определение того, что они собирались сделать).
Теперь надобно применить ключ к записке. Например, 48.
Павел Андреевич размашисто написал на чистом листке бумаги:
ФОТСТ
Затем подписал под буквами:
Ф О Т С Т
4 8 4 8 4
Итак, четвертая буква по алфавиту вперед от Ф — Ш, восьмая от О — Ц, четвертая от Т — Ц, восьмая от С — Щ, четвертая от Т — Ц. Получается… ШЦЦЩЦ. Нет, не то.
Тогда так: четвертая буква по алфавиту назад от Ф — Р, восьмая от О — Ж, потом О, восьмая буква от С — И, четвертая от Т — О. Получается… РЖОИО. Опять не то.
Несусветная галиматья получилась у Татищева, когда он попробовал применить в качестве ключа и цифры 29 и 42. Правда, из сих попыток подполковник вынес и один положительный результат — ключ не мог состоять из двух цифр: только из трех или даже четырех.
Хорошо, пусть из трех.
Павел Андреевич выписал из тетради на листок несколько подходящих для ключа трехзначных цифр, отметая с двумя нулями:
315 — зло, вред;
318 — добродетель;
350 — справедливость (черт их знает, этих заговорщиков, может, устранение Павла они считали делом добрым и справедливым, а может, они просто веселые робяты);
365 — путешествие, усталость;
666 — убийство, зло, вражда.
Начал с последней.
Ф О Т С Т
6 6 6 6 6
Вперед по алфавиту получилось слово ЪФШЧШ, назад — ОЗМЛМ.
Татищев взял цифру 365: мимо.
Черт! Так можно возиться с этой запиской до морковкиного заговенья! Или до той поры, покуда рак на горе не свистнет.
Цифры 350, 318 и 315 тоже не являлись ключом к шифровке.
«Теперь попробуй четырехзначные», — сказал Татищеву его внутренний советчик.
«А ты знаешь, сколько там может быть вариаций?» — возмутился Павел Андреевич.
«Не так уж много, как кажется».
И правда, из числовой азбуки подполковник выбрал лишь с полтора десятка четырехзначных чисел, могущих быть ключами к шифру. Из них наиболее приемлемыми были 1095, 1260 и 1390. Последнее число отчего-то показалось ему знакомым, но на сей раз он решил начать с первого.
Мимо! Второе. Тоже мимо. Ну, если и число «опасность» не подойдет…
Погоди-ка, погоди-ка! Угличская драма! Дело о загадочной кончине царевича Димитрия в 1591 году. Официальная версия была тогда такая: царевич страдал падучей болезнью и, играя ножиком в тычку, в приступе сей напасти упал на нож и закололся. Однако когда в Углич прибыла следственная комиссия во главе с боярином Шуйским и из рва у крепостной стены извлекли вместе с другими труп дворцового дьяка Битяговского, по наущению коего, как говорили в городе, убили царевича, то в портах его была обнаружена грамотка с непонятными словами. Грамотку ту вместе со следственными материалами Шуйский привез в Москву, и оказалась она ни много ни мало как «затейливым письмом», то бишь литореей — настоящей шифровкой. Долго бились над ней умельцы-подьячие из Приказа тайных дел, покуда не расшифровали. А на грамотке сей было всего две строки:
Веление Верхней Венты: царевича Димитрия убить, да обставить так, будто сие случай не щастный.
Грамотка скоро пропала невесть куда, а дело это и по сию пору хранится в Преображенском архиве, да только без нескольких первых листов, на которые был разрезан столбец свитка. Пропали, утратились сии листочки. А на них-то и было содержание исчезнувшей грамотки. Лишь немногим известно ее содержание, да те помалкивали. А код, или ключ, коий умельцы из Приказа тайных дел все же подобрали к грамотке с тарабарщиной, был 1390! По каббалистической науке — опасность! Царевич Дмитрий и впрямь, подрастая, становился опасным; играючи, рубил сабелькою головы чучелам, приговаривая: «Вот так я поступлю с Мстиславскими, так с Годуновыми, а так с Феткой Романовым…». Словом, весь в грозного папеньку.
Татищев в возбуждении потер руки.
Опасность! Ну, конечно же! Император Павел тоже, верно, кому-то стал опасен, вот его и убрали. Как царевича Димитрия.
Татищев взял новый листок и вывел:
ФОТСТ ЦЪПЖО ШЕСИНАУЯ УНКЖЬ КФУЦОТСХУ РУСКБК
1 3 9 0 1 3 9 0 13 9 0 1 3 90 1 3 9 0 1 3 9 0 1 3 9 013 9 0 13 9 0 1 3
ЛЕСШЦЕК ЕОНУЮ УУСРЧСПЖЧ УВУЙТЭ НЦИДЦ СЗЫВЫЬ
90 1 3 9 0 1 3 9 0 1 3 9 0 1 3 9 0 1 3 9 0 1 3 9 0 1 3 9 0 1 3 9 0 13 9 0
Итак: ХСЪ…
Нет, надо считать назад:
УЛИСС УСПЕЛ ПЕРЕДАТЬ…
Получилось, черт побери! Вот оно, послание генералу Талызину:
УЛИСС УСПЕЛ ПЕРЕДАТЬ КНИГУ КУРНОСОМУ. ПРИКАЗ ВЕРХНЕЙ ВЕНТЫ: КУРНОСОГО УБРАТЬ, КНИГУ ИЗЪЯТЬ.
Глава двадцать третья
О важности дамских разговоров. — Условности на то и условности, чтобы ими пренебрегать. — Откровения Александрин Хвостовой. — Эффективность физических воздействий человеческих особей друг на друга. — Небольшое красное пятнышко меж бровей вразлет.
Дамская беседа для человека постороннего, паче для мужчины, вещь маловразумительная, легкомысленная, а посему начисто лишенная смысла и логики. Что, скажите мне, они так возбужденно, серьезно и бесконечно долго обсуждают? Как правило, пустяки да сущие безделки. О погоде поболтали — сегодня ведро, завтра ненастье, послезавтра опять солнышко, — от климатических причуд плавно перешли к только что приобретенным шляпкам да шалям, по пути сделав отступление на новые шелка для рукоделия и последние образцы новомодных кружев. Наговорившись о нарядах, подступили к их хозяйкам: где кого с кем видели, что та или иная сказала, как губы поджала да нос задрала. После сей обширной преамбулы приступают к самому интересному — приватной, семейственной жизни родни и знакомых. В этой части первенствуют похороны, болезни и свадьбы, щедро приправленные пикантными инцидентусами или скандалами. Как горный ручеек в капризном русле, журчат голоса собеседниц, то затихая почти до шепота, то всплескиваясь бурной волной удивления или возмущения, смешанного с восторгом. Ибо женщина — существо, отличное от мужчины, то есть тонкое и чувствительное. Для нее важны не точность и достоверность информации, но нюансы и оттенки бытия души, не духа, заметьте — души. А стало быть, важна не сама фраза, а то, что за ней сокрыто. Посему обмен рецептами соления огурцов или крыжовенного варенья воспринимается женщинами как акт внимания и доброго отношения собеседницы, а в любезной фразе по поводу новой шляпки женщина мгновенно уловит сокрытое пренебрежение или даже недоброжелательство. Несколько иной бывает беседа дружеская, и хотя мужчины узурпировали право на дружбу, полагая, что лишь они умеют дружить по-настоящему, а все же и среди женщин иногда тоже можно встретить сии близкие и теплые отношения, подпадающие под разряд дружеских. Хотя и редко.
Анна Турчанинова полагала Александрин Хвостову своей подругой, и не без причины.
Объединяло их многое.
Начать хотя бы с такой мелочи, как внешность. Черные непокорные кудри цвета вороньего крыла украшали голову и той и другой, природная и не модная смуглость и огнистые темные глаза довершали их сходство. Но самым главным в их отношениях была все же душевная близость, склонность к поэтическому восприятию бытия, одинаковость во многом взглядов, вкусов и некоторых привычек. Даже самые различия, например кокетливость Александрин и монашеская сдержанность Анны, а также некоторая поверхностность одной и глубокий аналитический ум другой, лишь добавляли остроты и интересу в их общение.
Посему Александрин нисколько не была удивлена, когда рано утром, в то время, что она обычно проводила перед зеркалом, совершая некие магические действия по превращению себя если не в красавицу, то хотя бы в чаровницу, ее лакей доложил, что госпожа Турчанинова ожидает ее, расположившись в кабинете хозяйки. Для визитов было рановато, но за Анной Александровной водилась привычка нарушать светские условности, ежели в том возникала необходимость. Причем проделывала она это с самым простодушным видом, будто никаких правил не существовало или она о них знать не знает и ведать не ведает. Но на сей раз Турчанинова удивила Александрин, начав с извинений.
— Прошу прощения, дорогая, за столь раннее вторжение, — несколько напряженным тоном начала она. — Хотела застать тебя одну.
— Я удивлена скорее твоими извинениями, чем ранним визитом, — улыбнулась Хвостова и, протянув руку к колокольчику, спросила: — Составишь мне компанию?
Анна кивнула. Пока горничная расставляла тарелки и наливала душистый цветочный чай в чашки тонкого мейсенского фарфору с пасторальными видами, она в очередной раз пыталась найти нужную фразу, с которой можно было бы начать интересующий ее разговор. Нельзя же, пусть даже и близкую подругу, спросить в лоб: «Александрин, расскажи о твоем последнем свиданье с Талызиным».
В том, что свидание было амурным, Турчанинова нимало не сомневалась. Вся Москва шепталась о том, что госпожа Хвостова наставляет рога, и весьма ветвистые, своему мужу, Анна же знала о сем факте из первых рук, то есть от самой Александрин. Хотя поведения подруги Турчанинова, как истинная христианка, одобрить не могла, но понимать ее вполне понимала.
В юном возрасте выдали Александрин Хераскову за Дмитрия Семеновича Хвостова, человека ограниченного и грубого, подверженного многочисленным порокам, в числе которых были невоздержанность в питии горячительных напитков и самое низкопробное сластолюбие. Двух лет семейной жизни вполне хватило, чтобы потерпели неудачу все ее попытки начать «обожать» супруга или хоть как-то смириться с его поведением. В силу живого и непосредственного характера, Александрин перенесла нерастраченную любовь на иные объекты. Увлечения ее, как правило, длились недолго, но выбирала она их более тщательно и придирчиво, чем в свое время родня выбрала ей мужа. Анна смотрела, как один амант Хвостовой сменяется другим, с интересом и любопытством естествоиспытателя, вникая в перипетии зарождения, разгара и угасания страсти, каждый раз думая: «Слава богу, что сие происходит не со мной». Мучительный опыт над собственным сердцем Анна один раз уже произвела и сомневалась, что сможет пережить это еще раз. В этом она значительно отличалась от своей легкокрылой подруги.
Вполне возможно, что Александрин была последней, видевшей Петра Александровича в здравии. Судя по ее оговорке, она провела у Талызина ночь и утро двенадцатого апреля, а в обед тело генерала было найдено бездыханным.
Может быть, она заметила что-то необычное в его поведении, какую-то деталь? Несносный Татищев три дня не дает о себе весточки. Выманил у нее записку — и молчок! Предпочел, верно, забыть об обещании.
Ничего не удумав, Анна спросила подругу именно так, как не хотела вначале. И правда, зачем ходить вокруг да около? Ведь подруги на то и существуют, чтобы спрашивать у них все интересующее без экивоков и обиняков.
— Александрин, — брякнула Турчанинова чашкой о блюдечко, — расскажи о твоем последнем свиданьи с Талызиным. Мне это крайне важно знать.
Хвостова от неожиданности поперхнулась и закашлялась. Она замахала руками, на глазах выступили слезы. Перепугавшись, Анна подскочила к Александрин и несколько раз пресильно припечатала своей маленькой ладошкой ей по спине.
— Довольно, о господи, довольно, — отстраняясь от нее, натужно просипела Хвостова. — Вон, оказывается, как ты страждущих руками-то излечиваешь. И откуда только силища такая у столь субтильного создания? Так ведь и убить недолго.
— В некоторых отдельных случаях, дорогуша, непосредственное физическое воздействие гораздо эффективнее магнетического, — профессорским тоном ответила Анна, вновь усаживаясь на место. — А самое сильное существо на земле — муравей. Он тяжести переносит в несколько раз больше своего собственного веса. Доказано.
— Благодарствуй за науку, — несколько придя в себя, слабо отозвалась Александрин.
Наступила неловкая пауза. Хвостова тщательно вытирала глаза невесть откуда появившимся платочком, а Турчанинова уставилась на пастушку в неглиже, изображенную на чашечке в фривольной позе в окружении стада кудлатых буколических баранов, и никак не могла рискнуть повторить свой вопрос.
— Я же не из праздного любопытства спрашиваю, — сообщила она легкомысленной пастушке. — И не требую интимных подробностей.
Пастушка ей явно не поверила.
— Впрочем, любая деталь может оказаться важной, — Анна наконец подняла глаза на подругу. — Сами же вы просили, и ты в том числе, разобраться со смертью генерала Талызина. Я понимаю, что тебе это будет непросто, но прошу, помоги мне.
— Не стоит меня уговаривать, ma chérie, — отозвалась Александрин и на секунду задумалась. Потом сказала: — Он был редким человеком и… странным. Блестящий генерал, умница и повеса, и при всем этом ему была свойственна какая-то детская вера в чудеса, в предопределение, масонские секреты, мистические ритуалы. Внешне пылкий, страстный, но внутри, я-то чувствовала, — холод. — Она помолчала совсем немного. — Не могу тебе объяснить точно. Ну вот, скажем, есть люди невозмутимые, даже как будто безразличные ко всему на свете, а внутри таких часто кипит адский пламень, бурлят страсти и мечется ураган. У Пьера же, наоборот, в глубине его сути был сокрыт ледяной холод.
— Ты в нем разочаровалась? — отклонилась от темы дознания Анна.
— Не то что бы разочаровалась, скорее поняла, что он не для меня, и все же не порвала с ним, — Александрин чуть зарделась. — В нем было что-то опасное, запретное, если ты меня, конечно, понимаешь.
— М-м-м, — неопределенно протянула Турчанинова. — А в ту ночь?
— В ту ночь… Он был рассеян, чем-то озабочен. Он как будто все время думал о чем-то чрезвычайно важном и… мучительном для него. Мне показалось, что я стала тогда для него досадной помехой. Знаешь, я сильно обиделась, ушла на час раньше и решила про себя, что это наше последнее свидание. Так оно и вышло.
— Вы повздорили? — осторожно поинтересовалась Анна.
— Фи, дорогая, это же дурной вкус! Поверь мне, как только мужчина и женщина принимаются за выяснение отношений, это может означать только одно — эти отношения пора разрывать.
— А о чем вы говорили?
— Мы? Говорили? — Александрин слегка передернула плечиками — эдакий парижский жест, вывезенный ею из недавнего путешествия по Европе. — Мы не то чтобы говорили… — Она осторожно посмотрела на подругу. — Ну, как бы тебе сказать. В некоторых отдельных случаях непосредственное физическое воздействие гораздо эффективнее… словесного.
Анна вздохнула.
Зеро. Ноль. Вернее, почти ноль. И слишком мало, чтобы утереть нос Татищеву.
— А физически… Он мне напоминал сокола, стремительного и опасного… — Александрин помолчала. — Все же, как ты полагаешь, — вдруг спросила она, — может, он действительно пал жертвой несчастного случая? Грибков покушал или рыбки?
— Покуда рано говорить что-либо определенное, — уклонилась от прямого ответа Анна.
— Но ведь может же быть. Когда его в церкви отпевали, я на лице у него пятна заметила. При отравлениях ведь проступают пятна на лице?
— Какие пятна? — насторожилась Турчанинова.
— Какие, какие… — проворчала Александрин. — Не знаю, как они там правильно называются… Трупные, что ли? Фу ты, гадость какая. Не хочу об этом говорить.
— Где они располагались?
— Одно пятно. Размером с серебряный гривенник. На лбу. — Хвостова невольно подняла руку ко лбу, потом быстро опустила. — Тьфу, тьфу, тьфу! На себе не показывают. Между бровей, будто небольшая ожога.
Она немного помолчала.
— У него красивые были брови, вразлет.
Анна похолодела и замерла. Не может быть! Пятнышко размером с гривенник, будто от ожоги! Такое же, как у адмирала де Риваса!
Значит, это все же убийство! Ну, теперь-то вы, господин Татищев, никуда не денетесь!
Глава двадцать четвертая
Чем занимается челядь, когда баре погружены в раздумья. — Ежели изливаться девице на живот, то никаких детей не бывает. — «Нет уж, дудки!» — О чем думал Андрей Нелидов. — Как заслужить Прощение? — Хороша карьера, или из лейб-гвардии кирасирских ротмистров во внештатные информаторы. — В жизни случается все.
Семка выгнулся, издал то ли рык, то ли стон, рывком вышел из охнувшей Лизаветы и излился ей на живот:
— Ы-ых…
— Сахарный ты мой, сладкий, — выдохнула она и открыла глаза. На большее недоставало сил. Истома, разлившаяся по всему телу, словно сковала члены.
Семка, блаженно улыбаясь, откинулся рядом на кушетке. В темноте каморы глаза его горели, как две сальные свечечки.
Лизавета приподнялась на локте, чтобы лучше видеть его лицо, а затем, в порыве неизбывной безграничной нежности, принялась целовать его в лоб, нос, щеки, глаза.
— Ну, будет, будет, — сыто проурчал Семка.
— Любый мой, — прошептала Катерина и, счастливая, уронила голову на подушку.
— Что-то наш молодой барин не таким каким-то стал, — произнес после недолгого молчания Семен. — Все думает о чем-то…
— Да, я тоже приметила, — отозвалась Лизка, улыбаясь в покатый потолок. — Это он таким после энтих древних старцев содеялся.
— Точно, — быстро согласился Семен. — И что они ему такого наговорили?
— Я чуток слышала, — сказала Лизка.
— Подслушивала?
— Нет, случайно.
Семка приподнялся на локте и внимательно посмотрел на Лизавету:
— И что они ему сказывали?
— Ну, что у всякого человека в жизни есть свой путь, едино ему предназначенный, и ежели найти его и по нему следовать, то, стало быть, жизнь твоя пройдет не напрасно. Только путь свой отыскать непросто, и мало кому удается.
— Резонно, — раздумчиво заметил Семен. — А еще чево оне говорили?
— Еще?
— Ну да.
Лизка задумалась. Потом, вспомнив, радостно сообщила:
— А еще то ли молились, то ли сказы какие сказывали. Про Сварога-бога, про Ирий-рай. А потом что-то про черных магов вещали, что им-де стала известна тайна рождения нового бога. А что, Семушка?
— Да ничо. Просто любопытно.
— А, — спохватилась Лизка, — они еще барину дали что-то выпить. И сказали, что опосля этого, дескать, ему должна будет открыться стезя, которая только ево, и он будет знать, как ей следовать. Ты чего, Семушка?
Семка молчал. Думал. Ежели барин собрался куда, то он пойдет с ним. Упросит. Он-то знает: барин Андрей Борисович, — оне только с виду такие грозные, а на самом-то деле мягкие внутри, как теля. К тому же, непривычные оне ко всяким неудобствам — куда уж тут без расторопного слуги, который может все устроить?
Упросит, непременно упросит он барина взять его с собой. А дома сидеть — добра не нажить. Да и то: нешто его, Семкина, стезя всю жизнь в лакеях проходить?
Нет уж, дудки!
* * *
Последнее время ротмистр Нелидов много думал. Из головы не выходили два старых волхва, что посвятили его в Хранители и указали Стезю.
«Все в нас есть, — вспоминались слова старшего волхва, — надобно лишь уметь вспомнить. И тогда Путь твой станет ясен, и обретешь ты Стезю, и скинешь личины чужеродные, что надел на себя, и поймешь, кто ты и зачем пришел в этот Мир…»
А он? Зачем он пришел в этот мир? Каково его предназначение, которое, по словам древних старцев, и есть Стезя? Как выполнить волю отца и вернуть «Петицу»? Как заслужить Прощение?
Решение пришло сразу: надо упросить Татищева, чтобы он взял его в розыскное дело. Ведь помогает же ему Турчанинова. Стало быть, будет помогать и он.
Татищев не должен отказать.
* * *
— Не могу, и не проси, — Татищев нервически ходил по своему кабинету, бросая яростные взгляды на Нелидова. — Мало мне одной красной девицы, навязавшейся на мою голову, так еще теперь и добрый молодец до кучи! Поймите же вы, наконец, что сие есть дело важности государственной, посему не терпит никоей огласки, а паче людей посторонних, не служащих в Тайной экспедиции. Вы что, хотите, чтобы меня упекли в Сибирь за разглашение государственной тайны?
— Я все равно и так в деле, — стоял на своем Нелидов. — Ведь именно от меня вы узнали о «Петице».
— Ты свидетель. Свидетели не могут быть одновременно дознавателями по закону.
— Хорошо. Тогда прими меня на службу в экспедицию.
— Кем?!
Нелидов немного подумал:
— Скажем, оплачиваемым агентом.
Он увидел, как сердито Татищев вскинул брови, и поправился:
— Можно неоплачиваемым.
— Тебя будут проверять год! И не факт, что примут.
— Хорошо, я готов быть простым осведомителем.
Татищев молча сморгнул. А Нелидов продолжил:
— Простым. Не штатным. Ты сделал из меня осведомителя, и я докладываю нужные тебе сведения. Поэтому и бываю время от времени с тобой.
— В нужное для тебя время?
— В этом случае никто не сможет обвинить тебя, что совершенно посторонний человек присутствует при исполнении твоих служебных обязанностей. Ведь я буду уже не совсем посторонним? К тому же, быть одновременно свидетелем и осведомителем по закону не возбраняется?
— Нет.
— Вот видишь?
Татищев перестал вышагивать по кабинету и с нескрываемым удивлением посмотрел на Андрея. А потом произнес, скорее для себя, нежели для собеседника:
— Из лейб-гвардии Кирасирских ротмистров в информаторы. Это же нонсенс!
— Нонсенс, — согласился Нелидов. — Но такое, как видишь, случается.
— Да, случается, — сказал Татищев. — В жизни, верно, много чего такого, что не должно быть, но случается.
Глава двадцать пятая
Кто и как начинает новый день. — Как госпожа Турчанинова встречала солнце снаружи и внутри. — Девице приходить одной к незамужнему мужчине есть полный моветон. — «С вами не соскучишься». — Капитуляция подполковника Татищева. — Кто такой Улисс? — По чьему приказу был убит царевич Димитрий. — Загадочная Вента. — Зачем им это надо? — Легко сказать… — Каково это, ощущать себя богом? — «Ясно, патрон».
Новый день всякий начинает по-своему.
Кто-то встает еще затемно, завтракает вчерашними штями с краюхой хлеба и идет кормить скотину и протчую живность, включая малых детей в лубяных люльках под закопченным потолком.
Кто-то, облачившись в иноческую рясу, истово творит утреннюю молитву, первую на дню, затем берет лопату или мотыжку и идет на монастырский огородишко ковыряться в грядках с редисом, морковью и капустой, ежели тому пришло время.
Кто-то, продрав глаза и наспех глотнув спитого чаю, отправляется в опостылевшие присутственные места марать листы, превозмогая себя и считая дни до окончания двадцатилетнего срока службы и получения пенсиона по выслуге лет, а кого-то будят на походном бивуаке резкая барабанная дробь и пронзительный хрип побудочной трубы.
Кто-то лениво потягивается и, подергав сонетку над изголовьем кровати, ожидает кофею или стопку водки прямо в постель, а есть и такие, кои только укладываются спать, вернувшись из клуба, с бала, дружеской пирушки или раута, а то и с затянувшегося званого обеда.
Мадемуазель Турчанинова начинала день с восходом солнца.
Когда она жила еще в имении отца, то по утрам, выйдя из дома, вставала лицом на восток и ждала, когда из-за неясной черты, за которой небо смыкалось с землею, выйдет солнце. И когда оно появлялось, разводила руки в стороны, закрывала глаза и стояла так, покуда не начинала чувствовать тепло, медленно поднимающееся вдоль всего тела от стоп к голове. А потом приходил восторг. Это значило, что солнце взошло и внутри нее. Таковой практике Встречи Солнца ее научил старый монах Братского монастыря Анастасий, когда она была еще девочкой. Сей монах, имея девяносто восемь лет от роду, верно, оттого и был бодр и светел, что каждодневно встречал солнце.
Живя в Москве, она встречала солнце в усадебном саду, а здесь, в Петербурге, она вставала в своей квартире лицом на восток и представляла восход солнца мысленно. И знаете, получалось.
* * *
— Опять вы?
— Опять я.
— Девица. К одинокому мужчине. Снова одна. С вами, и правда, не соскучишься.
— Это комплимент?
— Это констатация факта.
— А вы лжец, господин Татищев.
— Что вы сказали?!
— Правду. Вы не держите своего слова.
— Да будь вы мужчиной…
— Я не мужчина.
«И не женщина», — хотел съязвить Павел Андреевич, но промолчал. Анна, так и не дождавшись колкости, должной, по ее мнению, последовать за ее последней фразой, смягчилась:
— Ладно. Вас, я вижу, испортила ваша служба. И я пришла вовсе не для того, чтобы ругаться с вами.
Анна Александровна выдержала паузу и как можно непринужденнее добавила:
— Я знаю, что генерала Талызина убили. И знаю кто.
— Что вы говорите? — с нескрываемым сарказмом воскликнул Татищев, однако мысль, что это может быть правдой, все же промелькнула у него в голове.
— Не верите? По-моему, повода сомневаться в моих словах я вам не давала. В отличие от вас…
Наступила пауза, в течение которой оба смотрели друг на друга, соображая, как поступить дальше.
— Ну, нельзя сказать, чтобы я не догадывался, кто отправил генерала на тот свет. А что я делал после того, как вышел тогда от вас? — спросил вдруг Павел Андреевич, и в его серого цвета глазах запрыгали смешливые искорки.
Анна Александровна отступила на шаг и в упор посмотрела на Татищева. На мгновение показалось, что ее взгляд прожигает его насквозь, и он попробовал насмешливо улыбнуться. Губы не послушались. Турчанинова вдруг подняла руки ладонями ему навстречу и стала плавно водить ими от его головы к ногам. Подполковник почувствовал, что ноги становятся ватными и будто увеличиваются. Чувство места и времени потерялось, и Павел Андреевич уже не видел следующие пассы и раппорты, что совершала над ним Турчанинова, и только чувствовал, что рассыпается на крохотные невидимые частицы и словно растворяется в воздухе. Кажется, он что-то говорил, а может, говорил не он вовсе, а может, вовсе и не говорил. А потом, когда сознание вернулось к нему, он ничего не помнил и, как и минуту назад, стоял перед Турчаниновой.
— Я должна рассказать вам, что вы делали после того, как ушли от меня? — переспросила Анна Александровна.
— Именно.
— Извольте. Вы не взяли коляску, а пошли пешком. Петляли, как заяц, и шли проходными дворами, что попадались вам навстречу — проверяли, нет ли за вами слежки. Возле галантерейного магазина Бута вы остановились, какое-то время смотрели в стеклянную витрину, следя за отражениями прохожих. Когда вы убедились, что за вами никто не следит, вы пошли к себе на квартиру, где тотчас прошли в свой кабинет. Продолжать далее?
— Н-нет, довольно, — ответил Татищев, и смешливые искорки в его глазах потухли. — А откуда вам все это известно?
— Вы сами мне об этом рассказали, — как бы мимоходом ответила Турчанинова.
— Когда? — удивился подполковник.
— Да только что, — ласково произнесла она. — Так вы хотите знать, от чего умер Талызин?
Обескураженный Татищев не нашелся ничего сказать и молча кивнул.
— Может, предложите мне присесть? — в свою очередь насмешливо произнесла Анна, впрочем, нимало не удивляясь состоянию подполковника. Так всегда бывало с людьми, кои только что вышли из сомнабулического состояния и ничего не помнили о том, что говорили и делали, будучи погруженными в магнетический сон-явь.
— Да, прошу вас, — не сразу ответил Павел Андреевич.
Анна села в кресло и подождала, пока Татищев усядется напротив.
— Говорите, — скорее потребовал, чем попросил подполковник, наконец пришедший в себя.
— Скажу, — просто ответила Турчанинова и добавила: — Только после того, как вы мне ответите, удалось вам расшифровать записку Талызина или нет.
— Удалось, — коротко и крайне неохотно ответил Татищев.
— Что в ней?
— Это тайна следствия.
— Тайна? — кольнула его взглядом Анна Александровна. — Хорошо, тогда то, что я знаю, как и кто убил генерала Талызина, будет моей тайной.
— Вы обязаны содействовать следствию по закону, — заметил ей Татищев.
— Вам я ничего не должна, — отрезала Турчанинова, поднимаясь с кресел. — Прощайте.
— Погодите, — скрепя сердце произнес подполковник, когда Анна Александровна уже взялась за дверную ручку. — Что вы хотите знать?
— Я уже говорила вам: все, что знаете вы, — обернулась она, остановившись. — Все с самого начала.
«Вот ведь баба навязалась на мою голову! — подумал подполковник и тут же добавил про себя: — Ну, во-первых, не баба, а девица. Во-вторых, я действительно поступил не по-рыцарски, выманив у нее записку обещанием взять ее в дело и не взяв. К тому же она может быть полезна. Как бы она сама, без меня, не распутала это дело…»
— Хорошо, — сдался подполковник. — Задавайте свои вопросы.
Анна снова села в кресло. Татищев был хмур, но, похоже, выкручиваться и юлить не собирался. Что ж, это другое дело.
— Почему вам было поручено расследовать смерть Петра Александровича? — задала она свой первый вопрос.
— Столь скоропостижная кончина молодого генерала вызвала сомнение в ее естественности, — стал отвечать Павел Андреевич. — Кроме того, по столице поползли слухи, будто его отравили или он сам покончил с собой, не справившись с угрызениями совести.
— После апоплексии императора Павла? — осторожно спросила Турчанинова, дипломатично обойдя то, что было известно всем: генерал Талызин был одним из первейших зачинщиков тайного заговора против императора.
— Да, — коротко ответил Татищев. — Слухи надлежало либо развеять, либо подтвердить, вот мне и поручили расследовать причины его смерти. Аккуратно, не привлекая лишнего внимания и… лишних свидетелей, — посмотрел он выразительно на Анну Александровну.
— Понятно, — кивнула Турчанинова. — Дальше.
— Я ознакомился с врачебным заключением и протоколом осмотра квартиры и трупа генерала. Не нашел ничего, что бы указывало на хотя бы косвенные признаки насильственной смерти.
— То есть врачебное заключение такое же, как и на смерть адмирала де Риваса?
— Да, абсолютно такое же.
— Это навело вас на мысль осмотреть квартиру генерала и побеседовать с лакеями?
— Совершенно верно. Мне подумалось, уж не Магнетизер ли поработал.
— Правильно, — констатировала Анна.
— Благодарю вас, что вы оценили мою сообразительность, — не удержался, чтобы не съехидничать, Татищев.
— Не стоит благодарности, — нимало не смутилась Анна.
— Я осмотрел квартиру и провел дознание с лакеями, — продолжил Павел Андреевич. — И выяснил, что накануне у Талызина был некий посетитель в черном плаще и шляпе, надвинутой на самые глаза.
— Это Магнетизер. Выходит, он не уехал из города.
— Выходит, так. Он пришел почти сразу после того, как генерала покинула одна дама под вуалью, которую лакеи не знают.
— Мне знакома эта дама, — заверила его Анна Александровна. — К смерти Петра Александровича она никакого касательства не имеет.
— Вы это знаете наверное? — спросил подполковник.
— Абсолютно.
— Но вы все равно должны будете назвать мне ее имя.
— Позже. Продолжайте, пожалуйста.
— А это, собственно, все. Да, — оживился подполковник, — они, Магнетизер и генерал, несомненно, были знакомы и поздоровались особым рукопожатием, каковым здороваются масоны.
— Если бы масоны… — раздумчиво произнесла Турчанинова.
— Прошу прощения, что вы сказали? — не понял Павел Андреевич.
— Ничего, — не стала ничего объяснять Анна. — Что было в записке?
— В записке? Ах, да.
Павел Андреевич поднялся и вышел из гостиной. Через полминуты он вернулся, держа в руках лист бумаги.
— Вот.
УЛИСС УСПЕЛ ПЕРЕДАТЬ КНИГУ КУРНОСОМУ. ПРИКАЗ ВЕРХНЕЙ ВЕНТЫ: КУРНОСОГО УБРАТЬ, КНИГУ ИЗЪЯТЬ.
Прочитав это, Анна вопросительно взглянула на Татищева.
— Как вам это удалось?
— Я нашел ключ, — просто ответил Павел Андреевич, усаживаясь на место. — Как я и предполагал, это оказался набор цифр, не случайный, конечно.
— Какой именно?
— Одна тысяча триста девяносто.
— «Опасность».
— Совершенно верно.
— Курносый — это, конечно, Павел, — еще раз прочитала записку Анна. — Выходит, император для кого-то представлял опасность?
— Да. Надо полагать, в связи с книгой, которую он получил от Улисса. Очевидно, в ней содержалось нечто такое, знание чего и делало императора опасным. Вот его и…
— Убили, — закончила за Татищева Анна Александровна.
Она откинулась на спинку кресла.
— Значит, поначалу его не хотели убивать…
— Возможно, его только хотели заставить отречься от престола в пользу цесаревича Александра, — медленно произнес Татищев.
— Возможно, — согласилась Анна. — А кто такой Улисс?
— Ну, вам ли с вашим знанием языков этого не знать?
— Откуда вы так много про меня знаете?
Татищев уклончиво промолчал.
— Понятно, — медленно произнесла Анна. — Я забыла, где вы служите.
— Именно, — подтвердил Павел Андреевич.
— Улисс по латыни это Одиссей.
— Верно.
— А кого в записке называют Улиссом-Одиссеем?
— Не знаю, — просто ответил подполковник. — Но этого человека необходимо найти. С него и этой книги все началось. И если императора устранили из-за книги, может, и генерала Талызина убрали по той же причине?
— Выходит, Талызин организовал, как вы говорите, устранение Павла и изъял книгу, а потом его же за это и убили?
— Вы неплохо соображаете, сударыня, — произнес Татищев серьезно. — Однако генерала убрали вовсе не за то, что он был зачинщиком заговора против императора. Их было несколько, к тому же генерал Талызин лично не принимал участия в расправе над императором.
— А вам что, доподлинно известно, кто убивал императора? — удивилась Анна.
— Конечно.
— Почему же вы их не… накажете?
— Сударыня, теперь вы задаете глупый вопрос. Кто даст мне или еще кому бы то ни было сделать это? Официально государь почил от апоплексического удара.
— Так что, убийцы императора останутся жить-поживать, как ни в чем не бывало?
— Пока — да. Теперь все они ходят в героях, спасителях Отечества, — зло усмехнулся Татищев, — однако придет время, и им все это аукнется.
— От кого?
— От самого цесаревича, то есть от императора Александра Павловича, — подвел черту сим рассуждениям подполковник. — Не-ет, — вернулся к прежней теме Татищев, — генерала Талызина Магнетизер устранил вовсе не за участие в заговоре. Его убили за эту самую книжицу, что он изъял. Возможно, он ее даже не читал, а только держал в руках, но его все равно убрали.
— Только за то, что он держал какую-то книгу в руках? — недоверчиво спросила Анна.
— Только за это, — подтвердил подполковник.
— Что же это за книга такая, что даже подержать ее в руках равносильно смерти?
— Боюсь, мы с вами об этом никогда не узнаем, — ответил Татищев.
Он замолчал, уставившись на узор напольного ковра. Молчала какое-то время и Анна.
— А я думала, императора убили масоны.
Татищев вскинул голову и встретился с ее взглядом. Ее черные глаза с совершенно бездонной глубиной влажно поблескивали и излучали голубоватый свет.
«Какие прекрасные у нее глаза», — отметил Павел Андреевич.
— Масоны только исполнили приказ. Заговор составили не они, а некая организация, что зовется Верхней Вентой, — произнес подполковник, отводя от Турчаниновой взор.
— Так Верхняя Вента и есть, верно, их головная ложа, — сказала Анна.
— Может быть, — произнес раздумчиво Татищев. — А может и не быть. Мне вообще кажется, что все эти французские, шведские, английские согласия и ложи созданы просто для отвода глаз. Это прикрытие чего-то более масштабного. Масонство — просто прихожая чего-то несоизмеримо огромного, куда вход простым смертным заказан. А все эти ложи наводят тень на плетень и служат для исполнения неких задач, конечная цель коих известна лишь единицам. Но эти единицы из другого департамента. Совершенно из другого. Возможно, масонские ложи есть меньшие организации иной, более крупной Организации или Ордена, вершащего судьбы мира. Он, надо полагать, для этого и создан. И очень, очень давно. Хотите, я открою вам одну тайну? — произнес вдруг Павел Андреевич.
— Хочу, — просто ответила Анна.
— «Веление Верхней Венты: царевича Димитрия убить, да обставить так, будто сие случай не щастный», — процитировал подполковник. — Знаете, что это такое?
— Нет, — покачала головой Анна.
— Это содержание одной грамотки, записки от пятьсот девяносто первого года, когда был убит в Угличе сын Ивана Грозного Димитрий, — пояснил Татищев. — Сие послание, так похожее на записку Талызина, тоже было шифрованным. Оно было найдено у одного из убийц царевича. Как вы думаете, каким был ключ той шифровки?
— Тысяча триста девяносто! — быстро ответила Анна.
— Точно! — уважительно посмотрел на Турчанинову Павел Андреевич. — Но главное не в этом. Эта Верхняя Вента уже в те времена отдавала приказания! А может, и еще ранее.
— Уж не эта ли Вента устроила нам татарское иго? — раздумчиво спросила Анна Александровна. — После чего развитие Руси пошло совсем по иному руслу, кому-то весьма выгодному.
— Я бы сказал, нужному. — Татищев мельком глянул на задумавшуюся гостью. Что ж, в уме и сообразительности ей не откажешь. — Когда я прочитал записку из бюро Талызина, я примерно так и подумал, — раздумчиво произнес он. — Когда пришли татары, Русь пошла по иному пути развития, и это кому-то было надобно. Когда убили царевича Димитрия, пришел конец династии Рюриковичей, в чем тоже был кто-то заинтересован, и наступило смутное время, в каковое российский престол едва не отошел полякам. Первый и второй самозванцы Лжедимитрии, надо полагать, тоже дело рук сей Организации или Ордена, в руках коего Верхняя Вента была и есть вернейшее орудие исполнения. Или это сама Верхняя Вента есть тайный Орден. Очень могущественный и древний…
— И, похоже, члены этого Ордена никуда не торопятся, — заметила Турчанинова.
— Возможно, — нехотя кивнул Павел Андреевич. — Но иногда им приходится принимать решения на скорую руку. Как с де Ривасом и Талызиным.
— И императором Павлом, — добавила Анна Александровна.
— Согласен, — сказал Татищев.
— А зачем им все это нужно? — спросила Турчанинова.
Павел Андреевич вопросительно посмотрел на нее.
— Я хочу сказать, — поправилась Анна, — зачем все это нужно членам Ордена? Или Верхней Венте? Зачем насылать на Русь татар, убивать царевичей, устраивать смуты?
— План, — коротко ответил подполковник.
Теперь настала очередь удивляться Анне Александровне:
— Поясните.
Татищев кивнул и через мгновение произнес:
— Ответ напрашивается всего один: у них есть план. Долгосрочный план. Всеобъемлющий. Архимасштабный. Стратегически продуманный и тактически выверенный одновременно. Поэтому-то они и не торопятся. И последовательно исполняют его пункт за пунктом.
— И кто его составитель?
Татищев пожал плечами:
— Какой-нибудь Верховный жрец древней страны, Шумера или Египта, которому вдруг открылись судьбы мира, и он решил что-то в нем поменять на свой вкус… Прорицатель, могущий предвидеть будущее, сумасшедший или человеконенавистник — не знаю.
— Но зачем им все это?
— Власть, сударыня. Власть и деньги — самые могущественные движители чаяний и поступков человечьей натуры. Или вам сие неизвестно? — посмотрел на Турчанинову Павел Андреевич. — Ах, да, прошу прощения. Поэткам подобные страсти неведомы или кажутся мелкими и недостойными их внимания.
— Нет, я вполне могу понять, о чем вы говорите, — сказала Анна.
— Тогда вы должны понимать, что это одно из величайших наслаждений — ощущать себя вершителем истории и судеб. Или просто участвовать в этом. Являться почти богом по отношению к огромным массам людей, странам и самому времени.
— А их конечный план?
— Власть над миром, — сразу ответил Татищев. — Сей орден, очевидно, по их замыслу, должен стать мировым правительством. А все остальные — его рабами.
— И Россия им в этом мешает, — сказала Анна Александровна совершенно без вопросительной интонации.
— Мешает. Более, чем иные страны, — согласился Татищев. Похоже, этот вопрос занимал его не меньше, нежели Анну Александровну. — Что-то пошло не по их плану — и они наслали на Русь татар. Мешали государи Рюриковичи — извели. Так им было надо. И ежели что-либо начинает идти не по их плану, они этот план поправляют. Абсолютно ничем не гнушаясь. А мы… Мы для них неудобны. — Татищев посмотрел в глаза Анны и снова подумал, что они чудо как хороши. — Мы же непредсказуемы…
— А «Петица»? — спросила Анна. — Почему она так их напугала?
— Ответ может быть только один. И его я хочу услышать от вас.
Павел Андреевич с любопытством взглянул на собеседницу.
— Что ж, извольте. — Турчанинова серьезно посмотрела на подполковника секретной службы. — «Петица» опасна тем, что может нарушить их планы. Нет, не нарушить. — Она немного помолчала. — Разрушить!
Татищев улыбнулся: ответ был в самую точку.
— Именно так. Впрочем, мы отвлеклись. Давайте вернемся к записке. Итак, что мы имеем? Мы имеем некоего Улисса, коий успел передать какую-то книгу императору. Уж не эту ли «Петицу»? И что значит «успел»? Имел аудиенцию у государя в последние его дни? Весьма вероятно.
— Значит, вам, господин подполковник, надлежит узнать, кого принимал император за несколько дней до своей кончины, — резюмировала Анна Александровна.
— Легко сказать, — задумчиво произнес Татищев. — Что ж, попробую. А вам, госпожа Турчанинова, — он посмотрел на Анну Александровну долгим взором, — надлежит заняться этим человеком в черном плаще и шляпе. Его, конечно, разыскивают и мои люди, и полиция, однако вы единственная, кто может его почувствовать, встретив где-нибудь на улице. У него, конечно, есть логово, откуда он выходит лишь в случае крайней нобходимости. Но выходит, ведь ему надо есть, пить, дышать воздухом…
— Легко сказать, — выдержав взор подполковника, произнесла Турчанинова, повторив его фразу и выдержав его интонации.
— Итак, решено, — подвел черту разговору Павел Андреевич. — На квартиры друг другу более не ездим. Встречаемся через… два дня в Летнем саду в беседке, что на Овальном пруду. Пруд сей располагается слева от Главной аллеи. Вам ясно?
— Ясно, патрон, — поднявшись с кресла, вытянулась в струнку Анна Александровна. — Разрешите выполнять?
Татищев поднял бровь и приоткрыл рот, намереваясь что-то сказать.
Но промолчал.
Глава двадцать шестая
Плезиры бывают всякие, или Не надо мужеложествовать, и тогда офицеры Тайной экспедиции не будут хватать вас за руку. — Четыре кандидата в Улиссы. — Островок на Овальном озере. — Некоторые девицы предпочитают рискнуть. — Глаза, приводящие в восхищение. — Христенек — последний…
— Мне нужен список лиц, коих принял император перед своей кончиной, — безуспешно пытаясь поймать взгляд секретаря, раздельно и четко произнес Татищев. — Ведь это все где-то записывается?
— Записывается — согласился секретарь. — Но это невозможно, — добавил он и предпринял попытку уйти, которая была пресечена подполковником путем жесткого удержания того за руку. Секретарь ойкнул и пробормотал:
— Этого… нельзя.
— И желательно за последние два, нет, три дня, — безапелляционно продолжил Татищев, развернув секретаря к себе и наконец встретившись с ним взглядом. — Мне хотелось бы знать, в какой день сии лица виделись с императором и сколько времени. Вы поняли меня, Лабуньский?
— Но…
— Иначе о вашей склонности к плезиру с мужчинами и юношами немедленно станет известно господину генерал-прокурору, — заявил прямым текстом Павел Андреевич. — Надеюсь, вам известно о крайне неблагожелательном отношении к таковым забавам его высокопревосходительства?
Секретарь залился пунцовым румянцем.
— Придет время, когда подобные отношения перестанут быть вне закона! — пискнул он, часто моргая, с ненавистью и страхом глядя на Татищева. — И они станут… естественными, как и любые другие!
— Никогда такое время не придет, — заверил его подполковник, хотя в душе он не был столь уверен. — Выполняйте, что вам велено!
Лабуньский вернулся через три четверти часа. Он уже не был настроен к Татищеву так недоброжелательно, как ранее.
— Вот, — он протянул Павлу Андреевичу сложенный пополам листок с несколькими фамилиями. — Было очень непросто.
Татищев хмыкнул и взял список.
— Так значит, господин подполковник, я могу не беспокоиться? — заискивающе спросил секретарь, по чину статский советник, что было выше чина подполковника на один ранг.
Павел Андреевич снова хмыкнул и тяжело посмотрел на Лабуньского.
— Понял, понял, — раскрыл перед Татищевым ладони секретарь и попятился к двери. — Благодарю вас.
Татищев не стал спешить и развернул листок с фамилиями только тогда, когда, вернувшись к себе, прошел в кабинет и сел за стол.
Фамилий было шесть.
Две из них он отмел сразу: граф Пален имел право доступа к императору неограниченное, и ему не нужно было «успевать», дабы передать Павлу книгу. Сделать он это мог в любое время.
Отмел Павел Андреевич и фамилию Саблуков. Николая Александровича, конногвардейского полковника, он немного знал, к тому же одиннадцатого марта тот был дежурным офицером дворцового караула и мог не единожды увидеться с императором где-нибудь на лестницах или в покоях и преспокойно передать «Курносому» хоть целую связку книг. Саблукову тоже ни к чему было «успевать». К тому же прозвище Улисс к нему никак не вязалось, в отличие от Палена. Тот успел и попутешествовать, и поплавать на судах…
Оставались четыре человека, из коих каждый имел непродолжительную аудиенцию с императором.
Итак. Август фон Коцебу. Комедиограф и романист, высланный год назад в Тобольск, однако месяцев через пять освобожденный. Согласно записям Лабуньского, он увиделся с императором одиннадцатого марта около полудня на парадной лестнице Михайловского замка, после чего Павел пригласил его в свой кабинет и несколько минут с ним разговаривал.
О чем?
Впрочем, это не столь важно. Главное, у комедиографа было предостаточно времени, чтобы передать что-либо государю. И Улисс-Одиссей ему подходит: он предостаточно попутешествовал и сухопутьем, и водою, когда добирался в Тобольск и обратно.
Вольный штурман Адриан Аничков. Вот уж кому подходит прозвание Одиссей. Более, чем кому бы то ни было. Мореход, морской волк. Этому-то что понадобилось от императора?
Павел его принял около четырех часов пополудни девятого марта. Имел с ним беседу около четверти часа.
Шталмейстер Муханов. Пробыл у императора одиннадцатого числа более получаса. О чем государь разговаривал столь долго с начальником конюшен? О лошадиных хворях?
Имя последнего человека разрешило все сомнения.
Адмирал Иосиф де Ривас. Точнее, дон Хосе Мигеле Паскуаль Доминико де Ривас-и-Бойенс. Был на аудиенции императора десятого марта всего несколько минут в пятом часу пополудни.
Вот кто Одиссей. Вернее, Улисс. Черт возьми, ведь он и правда передал государю не что иное, как полученную от Христенека «Петицу»! Заповедную книгу откровений. Из-за нее весь сыр-бор! А они еще задавались вопросом: что это за книга такая, из-за которой были спроважены в мир иной генерал Талызин и сам государь-император! Это «Петица»!
Павел Андреевич вдруг поймал себя на мысли, что думает не в единственном числе, не категорией «я», как он привык это делать, а во множественном. «Мы задавались вопросом». То есть он и Турчанинова. К чему бы это?
* * *
Ежели вы желаете отдохнуть от трудов праведных или надобно вам подумать о чем-то сокровенном, а паче тайно увидеться и поговорить — ступайте на Овальное озеро, что находится на первой площадке меж аллеями Главной, Невской, Дворцовой и Косой в Летном саду. В центре пруда есть островок, а на нем — беседка с куполком и фонарем на маковке, потому как ежели в аллеях темно, так чтобы хоть огонек над беседкой виден был. Здесь, в тени многолетних деревьев, питаемых прохладною влагою, вы сможете и побеседовать тайно, без чужих глаз и ушей, и найдете отдохновение и покой, и мысли ваши потекут плавно и совершенно отлично от того, нежели бы вы находились где-либо в ином месте Северной столицы.
Особенно хорош пруд вечерами, когда закатное солнце золотит верхушки деревьев и в ореоле умирающих лучей плавающие в пруду утки, гуси и лебеди навевают некую священную благодать. Однако у молодого еще человека в мундире штаб-офицера с серебряными эполетами подполковника, зашедшего в сад со стороны Невы и торопливо вышагивавшего по бережку Овального пруда, мысли были отнюдь не благостные.
Пройдя мимо маленького челна, на котором шут Лакоста, согласно легенде, перевозил царя Петра на остров, когда тому было необходимо побыть одному, подполковник подошел к возчику и велел перевезти его на остров. Турчанинова была уже в беседке, и, ежели б не пунцовый берэт, ее, в неизменно темном просторном наряде, и впрямь можно было бы принять за монашку или послушницу.
Поздоровавшись и ни словом не обмолвившись о почти получасовом опоздании, Анна Александровна сразу спросила:
— Ну, как?
— Я, кажется, немного опоздал? — решил все же извиниться Татищев. — Прошу прощения.
— Это неважно, — отмахнулась Турчанинова. — Что вам удалось выяснить?
Павел Андреевич присел на скамеечку рядом с ней и тоном прокурорского служителя, присутствующего на судебном следствии, начал свой рапорт. В продолжение оного Анна Александровна не единожды вскакивала с места, переспрашивала и наконец уставилась в глубоком раздумье в мраморный пол беседки.
— Поэтому у меня нет никакого сомнения, что адмирала де Риваса убили из-за «Петицы». Ведь он успел прочесть ее.
— Вы так думаете? — прервала размышления Анна.
— Уверен, — твердо ответил Татищев. — Слуга Риваса сказал мне, что адмирал в последнее время сильно изменился. Стал тих, задумчив, как-то благостен и уважителен даже к слугам. Несомненно, это произошло вследствие прочтения этой загадочной «Петицы». Что-то там было такое, от чего сии изменения и произошли. И человек чести победил в нем фактора. Поэтому он и решил отдать книгу императору.
— «Пети-ица-а»… — протянула Анна. — Что же в ней было такого, что все, кто имеет к ней хоть какое-то касательство, умирают?
— Это мы вряд ли узнаем, — сказал Татищев и добавил: — Что позволит нам, кстати, оградить себя от риска так же скоропостижно усопнуть, как и все остальные.
— А я бы предпочла рискнуть, только бы узнать, что было в ней написано, — вдруг заявила Турчанинова.
— Я бы тоже, — неожиданно для себя сказал Павел Андреевич и посмотрел на Анну Александровну.
«Как восхитительны ее глаза!» — подумал он.
Какое-то время они неотрывно смотрели друг на друга. Потом Павел Андреевич вдруг побледнел и вскочил со скамеечки.
— Не все, — произнес он в крайнем волнении.
— Что? — мягко спросила Анна.
— Не все умирают…
— Да о чем вы?!
Павел Андреевич сейчас походил на человека, который только что прибежал, не спросив позволения, прямиком из Желтого дома — так лихорадочно загорелись его глаза.
— Не все, кто касался «Петицы», погибли, — выдохнул он.
Анна широко открыла глаза, и они в один голос произнесли:
— Христенек!
Глава двадцать седьмая
Коли пашпорт и подорожная в кармане, то беспокоиться совершенно не о чем. — Как должно было все произойти. — Секрет в доме антиквариуса Христенека. — Каменнолицый диктует условия. — Агатовая камея. — Всяк человек по-своему пахнет. — Опять Турчанинова и стилет. — Шелковые галстухи и пара гродетуровых панталон. — Вечерняя пробежка по Большой Морской. — Стреляйте, Татищев! — Как перемахивают через заборы подполковники секретных служб, бывшие кирасирские ротмистры и девицы-поэтки. — А вот берэта жаль. — Ровесница ярла Биргера. — Еще мгновение, и… — «У вас нет будущего». — Знакомые глаза. — Взгляд в бездну.
Магнетизер неторопливо оделся, поправил висевший на поясе в кожаном чехле небольшой стилет с трехгранным лезвием, застегнул шинель с пелериной до самого горла и надвинул на глаза треугол. Все, сюда он более не вернется — в нутряном кармане шинели лежали пашпорт и подорожная, выправленная и оплаченная еще третьего дня. Так что беспокоиться не о чем: он сделает последнее в Северной столице дельце и помашет ей ручкой, адью! И растворится в воздухе. Ищи потом его, господин Татищев, гоняйся за фантазмами и хватай за фалду вольный ветер. Все равно, когда ты сомкнешь руки, уверенный в удаче, в них останется одна пустота.
В участок за подорожной он ходил сам, одевшись по сему случаю в вицмундир, дабы не мозолить глаза полициантам плащом и шляпой, давно попавшими, надо полагать, в описания его примет. Правда, на улице за ним все же увязался один из татищевских топтунов, однако он сумел оторваться от хвоста без всяких пассов и раппортов.
Окидывать прощальным взглядом оставляемое жилище Магнетизер не стал — пусть этим занимаются в готических и семейных романах кисейные барышни и сентиментальные маркизы. Вышел, спокойно закрыл нумер и сдал ключ служке меблирашек.
С Фанинбергом попрощался кивком головы и взглядом, коротко брошенным из-под полей шляпы. Затем на ближайшей бирже взял извозчика и поехал на Большую Морскую. Подъехав к дому Гунаропуло, какое-то время сидел в коляске, глядя на окна квартиры Христенека и осматривая улицу. Погоды стояли сумрачные, как и положено началу мая в Северной Пальмире. К тому же опускался вечер, мало отличный от прочих весенних вечеров, холодных и колющихся мелким дождем. Прохожих в такие вечера было мало, а сегодняшний вечер ничем не отличался от иных.
Прошел мастеровой, подняв воротник, проехала крытая бричка, боком просеменил пес, уныло уставившийся в одну точку прямо перед собой, — вот, пожалуй, и все. Посидев еще с минуту и не заметив ничего подозрительного, он велел извозчику ждать и вышел.
Магазейн антикварных вещей находился на первом этаже. Христенек жил на втором.
План прост. Он входит в магазейн под видом покупателя, просит приказчика показать одну вещицу, другую, потом, недовольный, скажем, ценой на понравившуюся вещь, требует пригласить владельца магазейна, чтобы переговорить с ним лично. А далее все предельно просто.
* * *
— Кто-то подъехал, — сказала Анна Александровна, вглядываясь в щелочку между тяжелыми портьерами. Даже в неясном свете единственной свечи, стоявшей на диванном столике, было заметно, как она побледнела. — Кажется, это он. Я чувствую.
— Вы все поняли? — кивнув Турчаниновой, произнес Татищев, обращаясь к такому же бледному антиквариусу. Каменное лицо Павла Андреевича было строгим. Даже строже, чем тогда, когда они приходили сюда вместе с ротмистром Нелидовым отбирать у Христенека «Петицу». — Ведите его сюда под любым предлогом и старайтесь не смотреть ему в глаза. И не бойтесь, мы не позволим ему убить вас.
Христенека от сей прямолинейности каменнолицего подполковника судорожно передернуло.
— Да уж, будьте так любезны, — без всякого намека на иронию с трудом произнес он и перевел взор на Нелидова. Тот смотрел на него в упор, не отводя взгляда.
Оба, и Нелидов, и Турчанинова, находились здесь по их настоянию. Слишком упрямому и настойчивому, чтобы отказать. Будь его, подполковника Татищева, воля и иного рода обстоятельства, он, конечно же, предпочел бы, чтобы в секрет с ним пошел кто-либо из сотрудников экспедиции, проверенных в делах подобного толка. Но тут случай был необычный, да и злоумышленник, коего надлежало взять, был из ряда вон. Кроме того, Нелидов, как боевая единица, был не хуже иных, ежели не лучше, а Турчанинова, как ей казалось, убедившая его в своей необходимости, и впрямь могла пригодиться с ее магнетическими возможностями.
Звякнул колокольчик входной двери.
— Берем его сразу, как только он снимет перчатки. По местам, — приказал Татищев и спрятался за портьеру.
Нелидов прошел за двери, ведущие в спальню, оставив одну створку приоткрытой, а Анна зашла за торец большого книжного шкапа и принялась потирать ладони одна о другую. Затем, почувствовав в них тепло, она опустила левую ладонь вниз, а правую простерла над ней на некотором расстоянии, будто держала в руках что-то хрупкое. Потом она стала манипулировать ладонями так, словно лепила ими большой снежок или пыталась сжать тряпичный детский мячик. Почувствовав сопротивление этого невидимого мячика, она сжала ладони в кулачки и притихла.
Скоро послышались шаги. Двери, противоположные спальным, открылись, и в кабинет просунулась голова приказчика.
— Иван Моисеевич, вас спрашивают посетитель.
Христенек шумно сглотнул.
— Скажи, что сейчас буду.
Голова приказчика пропала.
— Ну что, я пошел? — робко спросил антиквариус, обращаясь к портьере.
— Ступайте, — глухо, голосом каменнолицего подполковника, ответила портьера и слегка колыхнулась.
* * *
— Добрый вечер, сударь. Чем могу служить?
Антиквариус Магнетизеру крайне не понравился. Похож на навозного жука: тостый, маленький, черный. Копошится, как жук. Глаза бегают.
— Мне приглянулась вот эта вещица, — указал Магнетизер на агатовую камею с вырезанным на ней барельефом в виде морской богини, сидящей боком на дельфине. Камею с готовностью держал в руках приказчик.
— У вас прекрасный вкус, сударь, — начал постепенно входить в роль дельца Христенек. Страх отступил, и теперь, вместо того чтобы прятать глаза от посетителя, архивариус тщетно пытался поймать его взгляд, дабы узнать, можно с ним сторговаться или нет.
— Вкус у меня, может, и прекрасный, но цена непомерная, господин антиквариус.
Делец в Христенеке проснулся полностью.
— Да где ж непомерная, сударь, — обиделся он. — Это антик. Настоящий, прошу заметить. Богиня моря, нереида Амфитрита доставляется ее будущему супругу Посейдону посланным на ее розыски дельфином. Уверяю вас, подобной камеи нет даже в кабинете древностей французской Национальной библиотеки.
— Что вы говорите! — почти естественно изумился Магнетизер.
— Именно-с. В Париже такие вещицы за много дороже идут.
— В Париже, может, и идут, да у нас не Париж.
— Хорошо, а какова ваша цена? — спросил Христенек.
— Мы не могли бы побеседовать где-нибудь, — посетитель бросил взгляд на входную дверь, — без посторонних?
— Да, конечно, прошу, — похолодел антиквариус. «Вот оно, началось, — пронеслось у него в голове. — А я-то поверил, что это настоящий клиэнт…»
Христенек повернулся и стал подниматься по лестнице, постоянно оглядываясь и вымученно улыбаясь. А ну как посетитель, коего поджидают у него в кабинете подполковник Тайной экспедиции, странная дамочка и этот ненормальный Нелидов, бросится на него и прирежет прямо в коридоре?
Струйка холодного пота змейкой скатилась по спине. Они вошли в полутемный кабинет.
— Присаживайтесь, сударь, — указал Христенек на глубокое кресло у диванного столика и уселся напротив, с большим трудом заставляя себя не смотреть на портьеры.
— Как тут мрачно, однако, — произнес посетитель.
Чутье его никогда не подводило. Вот и теперь, оглядывая кабинет, Магнетизер почувствовал, что в комнате находится кто-то еще.
Он потянул носом воздух и уловил два еле различимых запаха. Они не принадлежали Христенеку. Он пах деньгами и страхом. В кабинете же тонко и неуловимо пахло любопытством и решильностью. Ведь человек пахнет не только тогда, когда страдает метеоризмом или вчера перебрал горячительного. Мысли тоже имеют запах, надо только уметь его почувствовать. Для человека непосвященного это практически невозможно. Да и не каждому посвященному дано подобное умение. Чтобы чувствовать запах мысли, надо специально обучаться. Лучше всего в парижской школе маркиза де Пюйзенгюра, что в Анси-ле-Фран.
— Итак, сколько вы хотели бы предложить за камею? — спросил антиквариус.
— Знаете, — чуть улыбнулся ему Магнетизер, — я бы поставил вопрос иначе: не сколько, а что.
Затем, вскочив с кресла и одним неуловимым движением выхватив стилет, он приставил его к горлу антиквариуса.
— Вот что я хочу вам предложить, милейший, — произнес он. А потом громко сказал в середину кабинета: — Выходите, господа, иначе я проткну ему горло.
Портьера раздвинулась. Павел Андреевич вышел и, не сводя горящего взора с Магнетизера, сделал два шага к диванному столику.
— Господин подполковник, Павел Андреевич! Так я и думал.
Татищев сделал еще шаг.
— Не приближайтесь, — заметил ему Магнетизер.
Татищев шагнул еще.
— Стойте, вам сказано. Иначе… — И он ткнул стилетом в шею Христенека.
Струйка крови вылилась из неглубокой ранки.
— Ы-ыу, — булькнул горлом антиквариус и умоляюще скосил глаза на Татищева. Тот был принужден остановиться.
— Чего ты хочешь?
— Уйти, — просто ответил Магнетизер. — Где второй?
Из-за шкапа показалась фигурка Турчаниновой.
— А вы, надо полагать, мадемуазель Турчанинова? — произнес Магнетизер не без ноток любезности. — С вами мне особенно приятно познакомиться.
Анна Александровна разжала кулачки и вдруг сделала движение, будто оттолкнула от себя в сторону Магнетизера небольшой детский мячик. В тот же миг стилет выпал из его руки. Магнетизер с удивлением посмотрел на Турчанинову, затем пнул диванный столик под ноги Татищеву и молнией ринулся к двери.
— Нелидов! — рявкнул Татищев и бросился за Магнетизером. Андрей выбежал из-за дверей спальни и, делая огромные шаги, вылетел из кабинета. Следом за ним выбежала и Анна.
Через минуту редкие прохожие могли наблюдать картину, как по Большой Морской мимо генерал-губернаторского дома мчатся один за другим в сторону Невского проспекта несколько странных человеков. Первым бежал худощавый человек в шинели с пелериной. За ним — плотный, среднего роста мужчина, следом — плечистый, кровь с молоком, молодой человек гренадерского росту. Оба они, плотный и тот, что имел гренадерский рост, были одеты так, будто собрались на великосветский раут: шеи повязаны модными шелковыми галстухами, сюртуки сверкали атласными подкладами, сорочки под атласными жилетами были также шелковыми. Завершали же их наряд плотные, в обтяг, гродетуровые панталоны с лиловыми полосками персидского атласу, которые в иной ситуации ни Татищев, ни Нелидов не надели бы даже под дулом пистолета. Во всех имеющихся карманах у них бренчала медь, а на груди Павла Андреевича под сюртуком краснел эмалью крест святого Владимира. Таковое одеяние, медные деньги в карманах и орден Владимира третьей степени на груди Татищева в случае личного контакта с Магнетизером должны были затруднить воздействие последнего на них. Довершала картину бежавшая следом, подобрав юбки, маленькая женщина в странном наряде монастырской послушницы со сбившимся на затылок лиловым берэтом. Сей квартет бежал что было сил, причем первый из четверки явно бежал быстрее остальных.
— Уходит, Пал Андреич, уходит! — крикнул Татищеву Нелидов, поравнявшись с ним.
Подполковник Тайной экспедиции промолчал и прибавил ходу.
Добежав до перекрестка, Магнетизер свернул в Кирпичный переулок. Вся троица повернула следом.
— Он уйдет дворами, — крикнул Нелидов. — Стреляйте.
Павел Андреевич шумно сопел и молчал.
— Стреляйте, Татищев! — снова крикнул Нелидов.
Подполковник резко остановился, достал армейский «кухенрейтер», присел на колено и взвел курок. Затем выдохнул, задержал дыхание и нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал оглушительно громко. Худощавый человек впереди споткнулся, сделал по инерции еще несколько шагов и рухнул на мостовую. Затем поднялся и, не оглядываясь, побежал далее. Но как-то боком, как бегают не совсем здоровые собаки. Похоже, он был ранен. Откуда-то со строны Невского проспекта прозвучал далекий полицейский свисток. Затем другой, третий…
— Стреляйте еще! — закричал Нелидов.
В ответ на это Татищев лишь мотнул головой. Нет!
Как он и предполагал, со стороны Малой Морской появилась фигура полицианта. Затем еще одна. Магнетизер, заметив их, метнулся в сторону палисадника меж строящимися каменными домами, один из которых все более начинал походить на фрегат, перемахнул через невысокий забор и побежал по дорожке к деревянному флигелю, чудом сохранившемуся после пожара 1737 года. Следом за ним махнули через забор Татищев и Нелидов. Причем бывший кирасирский ротмистр просто перепрыгнул через него.
Затем, как это ни покажется странным, через забор палисадника сходу перевалилась и Анна Александровна. На мгновение в воздухе мелькнули ее башмачки с атласными лентами и тонкие щиколотки, и вот она уже благополучно семенила по дорожке, ведущей к флигелю. Берэта на ней не было — он был утерян еще по ту сторону забора, — и ее чернущие волосы, распушившись, придавали ей, в сочетании с раскрасневшимся от бега лицом, вид фурии, горящей местью и готовой вцепиться в физиономию каждому, кто лишь попытается ей помешать.
— Он забежал во флигель! — крикнул Павел Андреевич Нелидову. — Найди, где черный вход, и встань там.
Подбежали двое полициантов.
— Что здесь происходит, кто стрелял?
— Стрелял я, — ответил им Татищев. — Я подполковник Тайной экспедиции и произвожу задержание опасного преступника. Приказываю вам оцепить флигель и следить за окнами, дабы через них злоумышленник не смог покинуть флигель. Предупреждаю: он крайне опасен.
С этими словами Павел Андреевич постучал в дверь. Громко и нетерпеливо, как стучат единственно блюстители порядка и благочиния. Ну, и еще громилы, когда решают внаглую проникнуть в приглянувшийся дом. Кроме того, так стучат подполковники тайных служб, когда собираются проводить арестование магнетизеров-убийц.
— Именем закона, приказываю открыть! — гаркнул Павел Андреевич столь оглушительно, что, верно, разбудил бы секунд-майора Неждана Гавриловича Болото-Куликовского, ежели бы сей славный вояка был погребен не в ограде соборного храма Святого Сампсония Странноприимца на Выборгской стороне, а, скажем, близ церковки во имя Спаса Нерукотворенного на Большой Конюшенной.
Послышались шаркающие шаги. Татищев услышал скрип отворяемого засова. Подполковник сделал шаг в сторону и взвел курок «кухенрейтера».
Старушенция, что открыла дверь, помнила, верно, еще те времена, когда молодой царь Петр пировал новоселье в своем Домике, перестроенном из чухонской хижины.
— Ково? — спросила она и, подслеповато щурясь, уставилась на Татищева выцветшими от долгих лет глазами.
— Того человека, коего вы пустили минуту назад, — быстро ответил Павел Андреевич. — Где он?
— Ково? — переспросила старуха. Похоже, она помнила не только молодого Петра, но и ярла Биргера, которого ранил копьем князь Александр Ярославович, получивший спустя малое время прозвище Невский.
Разговаривать с ней было бесполезно и неколи, посему Татищев отодвинул старую плечом и вошел в прихожую. И в это время…
* * *
Магнетизер осторожно глянул в окно.
Сначала он увидел собственное отражение, а затем усатую физию полицианта со сплющенным носом. Блюститель правопорядка и благочиния смотрел прямо на него. Когда их взгляды встретились, полициант выпучил глаза и заорал так, что Магнетизер невольно вздрогнул.
— Сюды, сюды! Вот он, тута!
Магнетизер отпрянул от окна. Потом, сморщившись от боли, кою причиняло простреленное Татищевым плечо, поспешил к черному ходу. Он уже слышал вскрик подполковника и подумал, что хорошо было бы, если бы старуха, введенная им в состояние магнетического сна-яви всего одним раппортом, прирезала Татищева.
Свернув в небольшой коридор, Магнетизер, стараясь ступать неслышно, спустился по нескольким ступенькам и уперся в дверь черного хода. Затем медленно отодвинул задвижку, распахнул дверь и выглянул.
Кажется, никого.
Магнетизер отрожно сделал шаг, и чьи-то сильные руки схватили его в железные объятья.
— Попался! — выдохнул ему в затылок Нелидов.
Магнетизер обмяк, опустил голову, словно признавая свое поражение, и вдруг резко присел, произведя высвободившейся рукой резкий удар в пах ротмистру. Тот задохнулся, но продолжал одной рукой держать Магнетизера за одежду.
— Что же ты такой приставучий, а? — произнес Магнетизер и протянул вверх, к лицу Нелидова, руку ладонью наружу. Затем, поймав его взгляд, он стал совершать ладонью дугообразные движения, как бы размазывая что-то по серо-голубому холсту неба. Андрей открыл рот, чтобы крикнуть, но смог извлечь из себя лишь тихое мычание. Ни кричать, ни двигаться сил вдруг не достало. Застыв в полусогнутой позе, он только и мог, что вращать глазами и беззвучно открывать рот.
— Ну, вот и все, молодой человек, — выпрямился Магнетизер, неотрывно глядя в глаза Нелидова. — Я, конечно, мог бы вам дать возможность прочитать последнюю в своей жизни молитву, но, к сожалению, совершенно не имею на это времени. Так что не обессудьте, сударь.
С этими словами Магнетизер сжал кулак, оттопырив большой палец. Ногтя на нем не было. Палец начал медленно приближаться ко лбу Нелидова. Еще мгновение, и…
* * *
У старухи вспыхнули глаза. Можно было подумать, что внутри зажегся некий светильник.
Старуха вдруг выпрямилась и, качнувшись в сторону, резко подняла руку. В ладони ее сверкнуло лезвие ножа. Ежели бы Павел Андреевич был человеком статским и совершенно незнакомым с правилами ведения рукопашного боя — несомненно, через мгновение он бы валился на пол с торчащим из груди ножом, а метила старая прямо в сердце. Татищев невольно вскрикнул: в самый последний момент удалось увернуться, и лезвие лишь скользнуло по нему, вспоров матерчатый бок сюртука.
Старуха занесла руку для нового удара, но была сбита с ног сильным ударом кулака. Отлетев в угол прихожей, она несколько раз сморгнула, словно не понимая, что с ней произошло, и затихла.
Конечно, Павел Андреевич, несмотря на жесткий и непримиримый характер, был противником того, чтобы поднимать на женщин руку, и сих действий никогда себе не позволял. Однако, во-первых, старуха уже была не женщиной, а неким существом, потерявшим с возрастом пол. И это существо было опасным и агрессивным. А во-вторых, старуха, находящаяся в данный момент под властью Магнетизера, была противником и активно препятствовала поимке преступника. А с противниками у Татищева разговор был коротким.
Оставив старушку на попечении Турчаниновой, чтобы та привела своими пассами и раппортами ее в норму, Павел Андреевич скользнул внутрь. Прихожая и зала были пусты; в кухоньке было не спрятаться, и он прошел в спальню. Здесь пахло старческой немощью и обреченностью, через кои проходят все человеки, ежели жизнь их не оборвалась раньше срока — хотя до срока никто не помирает, просто сроки у всех разные.
Магнетизера в спальне не было.
Татищев, держа «кухенрейтер» со взведенным курком, вышел в коридор. В его конце он увидел приоткрытую дверь черного хода.
— Он там, — выдохнула ему в затылок Турчанинова.
— Вы! — обернулся Павел Андреевич и прошипел: — Я вам ш-ш-што сказал делать?!
— С женщиной все в порядке, — буркнула ему в плечо Анна Александровна. — А вам я могу понадобиться.
Татищев осторожно, по-звериному ступая, направился к двери. За ним неотступно, выглядывая из-за плеча, кралась Турчанинова.
Выйдя наружу, они тотчас увидели Магнетизера. Тот протягивал ко лбу Нелидова руку с вытянутым вперед большим пальцем.
— Стоять! — вдруг истошно закричала Анна, выскочив вперед Татищева.
* * *
Рука сделалась свинцовой и перестала двигаться. Потом обмякла и повисла плетью.
Магнетизер обернулся и встретился взглядом с Турчаниновой. Ее взгляд жег и не давал сосредоточиться.
Анна узнала эти глаза. Она видела их под личиной зверя. Тогда, когда открыла дверь с висевшим вниз головой распятием в Школе маркиза де Пюйзенгюра и вошла в залу.
— Тебе не остановить меня, — произнес Магнетизер и пошел на нее тяжело и медленно, как идут люди по грудь в воде.
Турчанинова вытянула вперед ладони и стала сводить и разводить их, словно пытаясь размазать Магнетизера в воздухе. Но пассы отъема силы и энергии действовали на него плохо. Он продолжал идти, потом вытянул левую руку и схватил Анну за горло. Хватка была железной.
Турчанинова почувствовала, как ее ноги оторвались от земли. Продолжая неотрывно смотреть Магнетизеру в глаза, она еще пыталась сопротивляться, но он был сильнее. Через мгновение в ее глазах стало темнеть, и выстрела, прозвучавшего буквально в сажени от нее, она не услышала.
* * *
Нескольких мгновений Павлу Андреевичу вполне хватило на то, чтобы резко подать в сторону, дабы Магнетизер открылся полностью, прицелиться ему в сердце и нажать на курок.
Выстрел громыхнул так, словно над головой разорвалось небо. Примерно так бухает первый раскат грома: резко и неожиданно. Потом будут еще раскаты, но уже другие, более глухие и далекие. Но первый громовой раскат — как выстрел.
Магнетизер вздрогнул, покачнулся и разжал руку. И Турчанинова рухнула на землю, неловко подогнув под себя ноги.
Павел Андреевич подбежал к ней.
Цела?
Она пошевелилась. Слава богу. Правда, за несколько мгновений удушение невозможно, но можно повредить позвонки, ведь Аня такая хрупкая…
«Аня… Хрупкая…» Эти слова Павел Андреевич едва не произнес вслух, но если бы произнес, то они прозвучали бы с участием и нежностью. А это уже лишнее.
— Вы как, Анна Александровна?
Турчанинова открыла глаза и уставилась на Татищева.
— Как вы? — повторил он свой вопрос.
— Все хо-ро-шо… — еле прохрипела она и попыталась подняться. Она бы снова рухнула на землю, не успей Павел Андреевич подхватить ее.
— Он у-пол-за-ет, — посмотрела она куда-то в сторону.
Павел Андреевич убедился, что Анна теперь может идти самостоятельно, и повернулся. Потому что Магнетизер был еще жив. И пытался ползти.
Когда подполковник Татищев подошел к Магнетизеру, тот уже преодолел от стоящего истуканом Нелидова больше половины сажени и, верно, собирался достигнуть ближайших кустов. Он продолжал отчаянно бороться и не собирался сдаваться. Шинель его на плече и чуть пониже левой лопатки была мокрая от крови. На правой руке не было перчатки, и пальцы, цеплявшиеся за землю, были совершенно без ногтей.
Павел Андреевич рывком перевернул его на спину.
— Вы куда это собрались, сударь? — доброжелательно спросил он. — На ночь-то глядя?
Магнетизер с ненавистью смотрел на Татищева, а затем, собравшись с силами, плюнул. Подполковник Тайной экспедиции вовремя отклонился, и сгусток крови пролетел мимо.
— Сударь, вы ведете себя крайне невежливо, — язвительно заметил он Магнетизеру.
Краем глаза он заметил, что Анна идет к нему.
— Со мной все в порядке, — произнесла она уже своим обычным голосом.
— Да?
— Да.
— Тогда займитесь новым клиэнтом, — сказал Павел Андреевич, указав на идолом замеревшего Нелидова. Только глаза выдавали, что он сработан не из дерева или камня.
— Ясно, — коротко ответила Анна и стала производить над Нелидовым свои пассы и раппорты. А Татищев снова обратился к Магнетизеру:
— Где «Петица»?
Распластанный на земле человек посмотрел на Павла Андреевича и выдавил из себя усмешку:
— «Петица» у нас.
— У кого «у нас»? — потребовал уточнить Татищев.
— Хранителей Черного Круга. И Троянова чаша со дня на день тоже будет наша. Понял ты, ищейка легавая?
Кровь тонкой струйкой потекла из уголка его губ, и Магнетизер натужно сглотнул.
— Скоро у вас не останется Памяти. И вы забудете свою Традицию, как забыли Веру. Потом вы забудете и Прошлое. А это значит, — умирающий тяжело закашлялся, залив кровью подбородок, — у вас также нет будущего…
— Это мы еще поглядим, — упрямо произнес подполковник.
— Ну-ну, — снова заставил себя ухмыльнуться Магнетизер. Эта улыбка получилась столь зловещей, что невольно придала убедительности прозвучавшим словам.
— Скажите, а к чему вам все это? — спросила вдруг Турчанинова, оторвавшись от Нелидова. — Вы же русский человек!
— Я не русский. Я…
Он захлебнулся кровью и замолчал. Тело его выгнулось в последнем сопротивлении смерти, а потом обмякло. Застывший взгляд не выражал ни единой мысли и был устремлен в бесконечность.
Глава двадцать восьмая
Птица на обложке. — Книжица длиной в сорок сажень. — В Китеж, к волхвам. — Священный город. — Дело государственной важности. — Отпуск в связи с особыми обстоятельствами. — Это холодное слово «конечно». — Весьма опасное предприятие. — Вперед, за будущим! — Одни во всем мире.
— …Я ее в руках-то всего лишь дважды держал. Первый раз в детстве, когда однажды отцов тайник открыл. Смотрю — книга в старинном кожаном переплете. На обложке дерево растет корнями вверх. А на дереве — птица с человечьим лицом. Я, помню, обложку открыл и первые строки прочел:
Восходила туча сильная, грозная, Выпадала книга Голубиная, Та, что Петицею зовомая, И не малая, не великая: Долины книга сороку сажень, Попречины двадесяти сажень, Толстины три сажени с четвертью…— Это все, что я запомнил. Жаль. — Нелидов виновато посмотрел на Анну и Павла Андреевича. И добавил: — Словом, я отправляюсь на розыски «Петицы».
— Куда именно? — не без сарказма спросил Татищев.
— Сначала в град Китеж, к волхвам, — без тени улыбки ответил Андрей. — Они наверняка знают, где становище Хранителей Черного Круга…
— Куда?!
— В Китеж, — спокойно повторил Нелидов. — Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, Люндовская волость.
— Но это же миф, фантазм! — вскочил с кресел Павел Андреевич.
— А два старых волхва, что приходили на похороны отца, тоже фантазм, по-твоему? Нет, Павел Андреевич, священный град Китеж существует. Он просто сокрыт до времени от глаз людских, и попасть в него может не каждый, а лишь люди, твердые духом и чистые помыслами.
— Я иду с вами, Андрей Борисович, — решительно произнесла Анна Александровна и посмотрела на Татищева. — А вы, господин подполковник?
Павел Андреевич растерянно сморгнул:
— Идти в город, который ежели и существовал когда-то, но вот уже пять с половиной столетий с лишком как опустился под воду, как древняя Атлантида? Не зна-аю…
— Не вы ли, сударь, утверждали не так давно, что радеете за державу? — не удержалась от иронии Турчанинова. — Или это были только пустые слова?
— Нет, это не были пустые слова, — вспыхнул Павел Андреевич.
— Так неужели вы можете остаться равнодушным, когда темные силы, явные враги этой самой державы, за которую вы радеете, пытаются отнять у нее прошлое и лишить будущего?
Наступило молчание, в течение коего Турчанинова и Нелидов неотрывно смотрели на подполковника.
— Ну, — нарушил наконец молчание Татищев, — ежели представить это как дело государственной важности…
— В этом нет ни малейшего сомнения! — воскликнула Анна. — Именно, именно государственной важности!
— И не одной нашей державы, — взволнованно произнес Нелидов. — От того, в чьих руках находятся сокровенные Знания, зависит судьба не только России, но всего мира. Поверьте мне, — добавил он.
— Ну, не зна-аю… — раздумчиво проговорил Татищев. — Впрочем…
* * *
— О всех деяниях Магнетизера и вашем участии в ликвидации сего особо опасного злоумышленника я написал рапорт на имя генерал-прокурора. Помимо прочего, я ходатайствую в нем о награждении вас орденом Святого Владимира второй степени. Однако командировать вас на поиски какой-то старинной книги, пусть и весьма ценной, я не могу. И не настаивайте, Павел Андреевич, — упредил обер-секретарь Макаров готовое сорваться с губ подполковника Татищева возражение. — Меня просто не поймет директор нашего департамента.
— Важно, чтоб поняли вы, потому как…
— И вы поймите меня, Павел Андреевич, — снова не дал договорить Татищеву Макаров. — Командировка на неопределенный срок. С какой целью? Поиски пропавшей книги? Этим ли должен заниматься штаб-офицер Тайной экспедиции? А потом, это дополнительные расходы казенных денег, за которые придется отчитываться мне.
— Я готов отправиться на собственные средства, — заявил Татищев.
— Похвально, — кивнул головой Макаров. — Однако дела государственной важности обязано оплачивать государство, а не должностное лицо, ими занимающееся.
— Что же делать?
— Рапорт.
— Что?
— Пишите рапорт о предоставлении вам отпуска.
— Я сомневаюсь, что четырех недель мне хватит, — решительно заявил Татищев.
— А кто говорит о четырех неделях? — сощурился в хитрой улыбке Макаров. — У вас особые обстоятельства, так?
— Точно так, — начал понимать Павел Андреевич.
— Ну вот, — продолжил Макаров. — А коли особые обстоятельства имеют место быть, то отпуск вам возможен до четырех месяцев. К тому же, вы два года как совершенно не отдыхали.
— Три, — поправил обер-секретаря Татищев.
— Тем паче.
— Благодарю вас, господин обер-секретарь.
— Не стоит, Павел Андреевич.
Макаров снова сощурился и уже без улыбки посмотрел на Татищева:
— А что, сия книжица и правда столь ценна, как о том у вас сложилось мнение?
Павел Андреевич кивнул.
— Один весьма компетентный в подобных вопросах человек сказал, что с утерей «Петицы» и подобных ей раритетов у нас, то есть у Державы, может не быть будущего.
— Даже так? — поднял брови Макаров.
— Именно. И я склонен этому верить.
— А я верю вам, Павел Андреевич. Что ж, удачи.
* * *
— Я рад, — просто сказал Нелидов, когда Татищев пришел к нему с вестью об отпуске.
— А вы? — обратился Павел Андреевич к Турчаниновой, которая, верно, проводила теперь в доме Нелидовых больше времени, чем в своем собственном. Впрочем, сборы в такую дорогу требовали постоянных размышлений и согласований.
— Конечно, рада.
— А ежели без этого холодного «конечно»? — спросил Татищев, пребывавший в превосходном настроении.
— Рада, — тихо повторила Анна и опустила голову.
— Ну вот, уже теплее. Когда мы едем?
Вопрос предназначался Нелидову.
— Скоро, — ответил он. — На днях должны прий ти бумаги о моей отставке. Так что, как только — так сразу.
— Я думаю, у нас все получится, — сказала Анна.
— Правильно, — посмотрел на нее Татищев. — Любое дело надо начинать в полной уверенности, что оно тебе по зубам. А чем больше сомневаешься в этом, тем меньше шансов победить.
— Это будет весьма опасное предприятие, — сказал Нелидов и, немного помолчав, добавил: — Поэтому я хотел бы еще раз напомнить вам, что вы совершенно не обязаны из-за меня…
— Полно вам, Андрей Борисович, — не дала ему договорить Анна Александровна. — Мы пойдем с вами, вы уж простите великодушно, вовсе не ради вас.
— А ради чего?
— Ради себя, — ответил Павел Андреевич и по признательному взгляду Турчаниновой понял, что сказал именно то, что от него ждали. — А потом, — он почему-то посмотрел на Анну Александровну, — я хочу, чтобы у моих детей и внуков было будущее.
За окном вдруг сверкнула молния, проткнув насквозь вечернюю мглу острием своей огненной дуги. Затем, будто с горки на горку, прокатились мощные раскаты грома: ху-ум-м, ху-ум-м, и в оконное стекло громко ударили крупные капли дождя.
Все трое разом повернули головы к окну.
— Первая гроза в этом году, — тихо произнесла Анна.
— Да, — еще тише сказал Татищев.
Дождь хлынул с внезапной силой, и стало казаться, что двое мужчин и девушка в тихом уютном кабинете остались одни в целом мире.
Примечания
1
Вот он! (фр.)
(обратно)2
В свете свет (лат.).
(обратно)3
Добро пожаловать! (фр.)
(обратно)4
В чем дело? (нем.)
(обратно)5
Что происходит? (англ.)
(обратно)6
Это моя вина.
(обратно)7
Не стоит.
(обратно)8
Между нами (фр.).
(обратно)9
Не только быть, но и казаться (фр.).
(обратно)10
Пришел, увидел, победил (лат.).
(обратно)

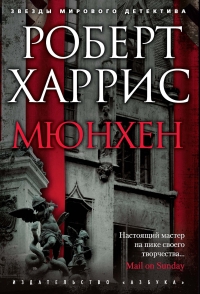


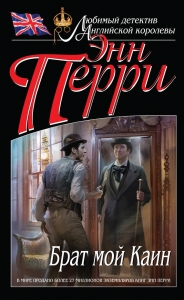
Комментарии к книге «Магнетизерка», Леонид Девятых
Всего 0 комментариев