Жозе Родригеш Душ Сантуш «Кодекс 632»
Флорбеле, Катарине и Инес, трем главным женщинам в моей жизни
Правда — дочь времени.
Сенека. О гневеПредуведомление
Все книги, рукописи и документы, упомянутые в этой книге, подлинны. Включая Кодекс 632.
ПРОЛОГ
Четыре. Старый ученый не знал, не мог знать, что ему осталось жить ровно четыре минуты. Двери лифта были открыты, и он нажал кнопку «12». Лифт поднимался, а его пассажир в это время изучал свое отражение в зеркале. Настоящая развалина; на макушке огромная лысина, над ушами и на затылке еще осталось немного волос. Редких, белых как снег, как жидкая бородка, обрамляющая худое морщинистое лицо. Оскалившись, он смотрел на кривые, желтые зубы курильщика, среди которых выделялись удивительной белизной два только что вставленных искусственных резца.
Три.
Приглушенный звон возвестил о том, что лифт достиг двенадцатого этажа, и человеку пора шагать дальше, навстречу собственной смерти, а машине — отправляться за другими пассажирами. Старик вышел в коридор, повернул налево, полез в карман за ключом; он не без труда отыскал пластиковую карточку с логотипом отеля на одной стороне и темной полосой на другой; магнитный ключ. Старик вставил ключ в электронный замок, дождался, пока зажжется зеленый огонек, повернул ручку и вошел в номер.
Две.
Кондиционер обдал его струями бодрящего холодного воздуха, необыкновенно приятного после уличной духоты. Старик открыл маленький дребезжащий холодильник, достал банку сока и подошел к широкому окну. Он с легкой грустью окинул взглядом старые кварталы Ипанемы; прямо напротив гостиницы располагалось белое пятиэтажное здание, жаркие лучи предзакатного солнца играли на бирюзовой глади бассейна, манящей и прохладной.
Чуть поодаль высилось другое здание с широкими балконами, заставленными шезлонгами и креслами; его массивные стены отделяли настоящие джунгли от бетонных, серое от зеленого. Спаситель парил над бездной, утопая ногами в облаках и широко раскинув руки, словно хотел обнять весь город с высоты Корковадо.
Одна.
Старый ученый поднес бутылку к губам, с наслаждением чувствуя, как сладкая ледяная влага освежает пересохшее горло. Манговый сок был его любимым напитком, сахар смягчал вязкую горечь тропического плода; это был чистый сок, без капли воды, выжатый всего час назад, концентрированный, густой, с терпким вкусом. Старик пил маленькими глотками, растягивая наслаждение. Сделав последний глоток, он открыл глаза, чтобы посмотреть на сверкающую голубизну бассейна. Это было последнее, что он видел в жизни.
Боль.
Все существо старика внезапно охватила страшная боль; он согнулся пополам, корчась в конвульсиях. Боль сделалась непереносимой, но все равно продолжала расти, усиливаться, терзать каждую клеточку его тела.
Пока не заполонила весь мир.
I
— Уверена? Будешь тосты с маслом?
— Угу.
— Опять?
Томаш вздохнул. Он молча смотрел на дочь, словно от возмущения потеряв дар речи. Но девчушка закивала головой, с олимпийским спокойствием игнорируя отцовское настроение.
— Угу.
Констанса неодобрительно поморщилась.
— Брось, Томаш, пусть ест, что хочет.
— Нельзя ведь все время питаться одним и тем же, — запротестовал он. — Тосты с маслом, тосты с маслом, тосты с маслом, и так каждый божий день! — Томаш сопроводил слово «каждый» выразительной гримасой. — Меня уже тошнит от их запаха.
— Ну да, она такая, что же тут поделать?
— Я понимаю, — поморщился Томаш. — Но ведь разок можно уступить хотя бы для разнообразия? — Он поднял указательный палец. — Хотя бы один раз в жизни. Один. Больше не надо. Всего один.
Воцарилась тишина.
— Хочу тосты с маслом, — повторила девочка.
Констанса достала из пакета два ломтя хлеба и положила в тостер.
— Сейчас, Маргарита. Будут тебе тосты, малышка.
Отец семейства с горестным вздохом отвернулся.
— Помимо всего прочего, она ест как поросенок. — Он тряхнул головой, стараясь справиться с раздражением. — Вылитая хрюшка, вечно вся измажется до самых бровей. И все вокруг измажет.
— Ну что же тут поделать!
— Но так быть не должно, — покачал головой Томаш. — Нельзя во всем ей потакать. Так мы ничего не добьемся.
Женщина подогрела в микроволновке молоко, добавила в него две ложки шоколадного порошка и две ложки сахара, перемешала и поставила на стол. Через пару минут тостер приветливо звякнул, сообщая, что хлеб готов. Констанса извлекла поджаренные тосты, щедро смазала маслом и протянула дочке, которая тут же принялась кусать бутерброд, по обыкновению, маслом вниз.
— М-м-м, вкусно, — сказала Маргарита, смакуя теплые тосты. Притянув к себе чашку, она отхлебнула изрядное количество какао; над губой немедленно появились коричневые усы. — О-о-очень здоово!
Через десять минут отец с дочерью вышли на улицу. Утро выдалось неприятным, промозглым, северный ветер заставлял ежиться от холода и поднимать повыше воротники пальто; на капоте автомобиля поблескивали дождевые капли, асфальт был усыпан мокрой листвой; похоже, ночью прошел ливень, и теперь на оконных стеклах поблескивали водяные дорожки, а улицы превратились в ручейки, стремительно сбегавшиеся к большим лужам.
Томаш держал в одной руке портфель, а другой сжимал ручку дочери. Маргарита, одетая в юбку цвета морской волны и темно-синий пиджачок, гордо несла на плечах ранец. Отец открыл дверь белого «Пежо», устроил девочку на заднем сиденьи, положил рядом ее ранец и свой портфель и уселся за руль. Надо было торопиться: дочка уже опаздывала в школу, а ему самому предстояло преодолеть не одну утреннюю пробку, чтобы попасть в университетскую аудиторию в самом центре Лиссабона.
На светофоре Томаш бросил взгляд в зеркало заднего вида. Маргарита жадно вглядывалась в утреннюю суету за окном матово-темными раскосыми глазищами. Томаш смотрел на дочь словно впервые: необычный разрез глаз и гладкие черные волосы, словно у китайской куклы. Другие скажут: ненормальная. Ну да, так оно и есть. Не он ли еще совсем недавно с легкостью бросал это слово, завидев такого ребенка где-нибудь на улице или в супермаркете? Ненормальные. Имбецилы. Умственно отсталые. До чего странной порой бывает ирония судьбы!
Память перенесла Томаша на девять лет назад, в то весеннее утро, когда, насмерть перепуганный и полный радостного возбуждения от мысли, что сделался отцом, он спешил в роддом. Ворвался в палату с букетом маргариток для жены и впервые увидел лежавшую в колыбельке новорожденную со смешным розовым личиком, безмятежным и мудрым, словно у спящего Будды.
Невероятное, неописуемое, неземное счастье длилось меньше часа. Через двадцать минут в палату заглянула врач и осторожно попросила Томаша зайти к ней в кабинет. Там она принялась деликатно расспрашивать, имелись ли среди их предков азиаты или люди с характерным разрезом глаз. Томаш, которому разговор не понравился, прямо и сухо спросил, какого черта она имеет в виду. Докторша так же прямо и безжалостно ответила, что в прежние времена монголоидами называли людей с синдромом Дауна, вызванным патологией двадцать первой хромосомы.
Больше всего это напоминало удар в живот. Земля качнулась под ногами, будущее заволокло непроницаемой мглой. Молодая мать онемела от отчаяния: чудовищный приговор ставил крест на всей дальнейшей жизни, сводил на нет планы и мечты, связанные с долгожданной дочуркой. Затем последовала неделя робкой надежды, пока в Институте Рикарду Жоржи делали кариотип, специальный генетический анализ, призванный разрешить все сомнения. В ожидании Томаш пытался убедить себя и жену, что врачи ошиблись, ведь она сама говорила, что ее двоюродная бабка по отцовской линии была китайских кровей, и вообще их девочка не может быть умственно отсталой, просто не может, и все тут. Наконец раздался телефонный звонок, и лаборантка из института будничным голосом сообщила страшную новость: «Анализ положительный».
Потрясение было поистине страшным. Ведь они успели распланировать жизнь своей малышки на много лет вперед; чтобы разрушить песчаный замок, хватило двух слов. Сначала было недоумение, неверие, разочарование, ощущение вселенской несправедливости. Злость на врачей, которые не предупредили, на больницы, в которых ничем не могли помочь, на политиков, готовых заниматься чем угодно, только не настоящими проблемами граждан своей страны. Потом пришло острое ощущение утраты, мучительная боль, помноженная на чувство вины. Почему я? Почему именно моя дочь? За что? Томаш вновь и вновь упрямо задавал себе бесполезный вопрос, на который не существовало ответа. Бессонными ночами, без толку ворочаясь с боку на бок, он перебирал возможности, строил предположения, искал причины. За этой второй фазой наступила третья, фаза изматывающей тревоги. Теперь Томаш вопрошал судьбу о будущем девочки. Какая жизнь ее ждет? Если с ними что-нибудь случится, кто будет защищать малышку и заботиться о ней? Выживет ли она без них?
Будет ли счастлива?
Они начали желать своему ребенку смерти. Гибель девочки представлялась им божьей милостью. Актом милосердия. Так будет лучше для всех, прежде всего для нее самой, к чему длить бессмысленные страдания. Едва ли в будущем малышку ждет что-то хорошее.
Но довольно было одной улыбки, одного пристального взгляда, одной невинной гримаски, чтобы все переменилось. Злые чары развеялись, и ненормальный ребенок превратился в их родное дитя. С тех пор забота о дочурке отнимала у них время и силы, а призрачная надежда на «исцеление» сделалась смыслом жизни. Теперь их дни протекали между институтами, больничными палатами и аптеками, визитами к кардиологам, офтальмологам и отоларингологам, проблемами с щитовидкой и координацией движений и бесконечными изнурительными обследованиями, анализами и тестами. То, что Томашу удалось защитить докторскую по истории, было настоящим чудом, ведь изучать криптографию эпохи Возрождения и биться над шифрами Альберти, Порты и Виженера приходилось в перерывах между беготней по врачам. Попутно он преподавал, жена читала лекции о визуальных искусствах, и денег с трудом, но хватало. Само собой, при таком цейтноте было не до интимной жизни; Томаш и Констанса даже целоваться почти перестали. На это попросту не оставалось времени.
— Па, будем петь?
Томаш встряхнулся, возвращаясь к действительности. Он с улыбкой обернулся к дочке.
— А я смотрю, ты притихла. И что же мы споем?
— Эту, «Маргарита, смотри на меня».
И отец затянул, стараясь, чтобы голос звучал мелодичнее, любимую песню любимой дочурки.
В половине девятого факультетская парковка была все еще полупустой. Томаш поднялся в лифте на шестой этаж, отпер кабинет, забрал у секретаря почту, потом спустился по лестнице на третий и оказался посреди шумной толпы веселых студентов. Появление симпатичного тридцатипятилетнего преподавателя с выразительными зелеными глазами сопровождалось возбужденным щебетанием женской части группы. Единственное, что получил правнук в наследство от прабабки-француженки, — это эффектную внешность. Томаш открыл аудиторию Т9, повернул несколько выключателей, чтобы зажечь сразу весь свет, и направился к столу.
Студенты наводняли аудиторию и, не прерывая беспечной болтовни, рассаживались по местам, держась небольшими сплоченными группками. Профессор сделал отметки в журнале и сел; он выдерживал паузу, ожидая, пока молодежь угомонится и подтянутся опоздавшие. Томаш вглядывался в лица ребят, которых знал всего два месяца, с тех пор как начал читать свой курс; в аудитории сидели в основном девушки, одни растрепанные и заспанные, другие нарядные и умело накрашенные, но в облике большинства сквозила демонстративная небрежность, словно они пытались подчеркнуть, что предпочитают проводить время за книгами, а не перед зеркалом. Томаш уже имел представление о распределении сил на своем курсе. Нечесаные интеллектуалки из хороших семей держались радикально левых взглядов; ухоженные скромницы были сплошь благонравные католички; ярко накрашенные красотки уже успели вкусить радостей жизни и ничего не желали слышать ни о политике, ни о религии: их идеология зиждилась на вере в удачный брак. Шум не стихал, многие студенты не слишком торопились, предпочитая появляться в последний момент. Наконец, решив, что пауза чересчур затянулась и пора начинать, Томаш встал и вышел из-за стола.
— Всем доброе утро!
— Доброе утро! — прокатилось по аудитории.
Профессор неторопливо прохаживался между рядами.
— На прошлых занятиях мы, если мне память не изменяет, говорили о возникновении письменности в Шумере, а точнее, в государствах Ур и Урук. Нам удалось изучить клинописную табличку из Урука и прочесть несколько фрагментов из древнейшего рукописного литературного произведения, «Сказания о Гильгамеше». — В аудиторию просочились последние опоздавшие. — Мы также рассмотрели обелиск царя Мардука и проанализировали аккадское письмо в сравнении с ассирийским и вавилонским. Затем мы обратились к египетским иероглифам, прочли отрывки из «Книги мертвых», сохранившиеся на папирусах и стенах Карнакского храма. — Томаш сделал паузу, словно подводя итог. — Сегодня, чтобы покончить с Египтом, давайте поговорим о том, как были расшифрованы его иероглифы. — Он окинул взглядом притихший зал. — У кого-нибудь есть идеи?
Студенты, успевшие привыкнуть к экстравагантной манере преподавателя, дружно заулыбались.
— Розетский камень, — проговорила одна девушка, стараясь оставаться серьезной.
О находке, позволившей расшифровать иероглифы, было известно всем.
— Верно. — Томаш, ко всеобщему удивлению, не проявил особого энтузиазма. — Розетский камень сыграл определенную роль, но назвать его единственным фактором нельзя. По большому счету, его даже нельзя назвать самым важным.
Студенты притихли. Напомнившая о Розетском камне студентка казалась обескураженной. Некоторые в нетерпении приподнялись на скамьях.
— Как же так, профессор? — подала голос очкастая толстушка, сидевшая слева, одна из самых прилежных учениц в группе. Томаш уверенно относил ее к католической фракции. — Разве не Розетский камень дал ключ к расшифровке иероглифов?
Томаш улыбнулся: он добился должного эффекта, слушатели окончательно проснулись.
— Да, но его значение преувеличено. Сильно преувеличено. — В аудиторию проникла еще одна опоздавшая, и обернувшись на нее, он утратил нить. — Как известно, на протяжении веков… — Томаш застыл, глядя на вновь прибывшую. — Э-э-э… На протяжении веков… Иероглифы… — Прежде он никогда этой девушки не видел. — Иероглифы оставались… э-э-э… оставались величайшей тайной. — Незнакомка села на последний ряд, в стороне от остальных и принялась с высоты изучать аудиторию. — Наиболее… э-э-э… древние иероглифы… — У нее были соломенные кудри, пышные и блестящие, и сильный, гибкий стан. — В общем… первые иеролиглифические тексты относятся к… э-э-э… третьему тысячелетию до нашей эры. — Томаш делал отчаянные усилия, чтобы сосредоточиться на лекции, но не мог отвести взгляд от девушки и продолжал запинаться. — Эти… э-э-э… иероглифы оставались единственным средством письменной коммуникации на протяжении трех тысяч лет, пока, в конце четвертого века нашей эры, не вышли из употребления. Их перестали использовать и очень быстро позабыли, что они означали. Знаете, почему?
Слушатели хранили молчание.
— Массовая потеря памяти? — с усмешкой предположил один из немногих юношей, разбавлявших преимущественно женское общество.
Девушки одобрительно захихикали.
— Все дело в христианстве, — объяснил профессор, криво улыбнувшись. — Христиане запретили египтянам пользоваться иероглификой. Они хотели разом покончить с языческим прошлым, с Осирисом, Исидой, Гором и прочими богами. И действовали столь радикально, что выкорчевали саму память о древнем письме. — Томаш энергично взмахнул рукой. — Раз — и нет. Во всем мире не осталось ни одного человека, способного прочесть иероглифы. Египетская письменность в один миг канула в Лету. — Томаш почти целую минуту не смотрел на новенькую. — Интерес к иероглифике пробудился в шестнадцатом веке, когда папа Сикст V под впечатлением от загадочного сочинения Франческо Колонны «Hypnerotomachia poliphili» приказал поставить египетские обелиски на римских перекрестках. — Томаш вновь обратил взор на свою богиню, совсем не похожую на Исиду. — Тогдашние интеллектуалы пытались расшифровать надписи на этих обелисках, наперебой предлагали разные варианты, да так и не преуспели. — В этой девушке скорее было что-то скандинавское. — В египетском походе Наполеона сопровождала целая научная экспедиция, призванная фиксировать, описывать и расшифровывать все, что попадется на пути. — Валькирия, разливающая мед на пирах Одина и Тора. — Эта экспедиция прибыла в Египет в тысяча семьсот девяносто восьмом году, а спустя год ее вызвали в форт Жюльен, где оказалось много интересных находок, в том числе Розетский камень. — Валькирия с бирюзовыми глазами и молочно-белой кожей, настоящая красавица, из тех, по которым сходят с ума мужчины и которых люто ненавидят женщины. — Солдаты обнаружили камень с тремя табличками, разбирая старую стену. — Томаш решил, что перед ним иностранка, в Португалии такие блондинки в диковинку. — Французы изучили надписи, выделили в них греческие, демотические и египетские фрагменты, поняли, что перед ними один и тот же текст на трех языках и приложили массу усилий к тому, чтобы его перевести. — Может, немка?.. Вообще-то она могла быть и француженкой, и итальянкой, но Томаш все же склонялся к Скандинавии. — К несчастью, вторгшиеся в Египет английские войска вытеснили Наполеона, и камень, который собирались отправить в Париж, оказался в Лондоне, в Британском музее. Греческий текст оказался хвалой фараону Птолемею, воздаваемой жрецами. — Голландка или англичанка, продолжал гадать Томаш, или все-таки немка, но не типичная дебелая корова, а высокая и красивая, как модель, настоящая девушка с обложки. — Британцы решили, что оба оставшихся текста полностью совпадают с греческим, а значит, получить ключ к расшифровке иероглифов не составит труда.
— Ага! — оживилась толстушка в очках. — Я же говорила, что Розетский камень дал ключ к разгадке.
— Терпение, — попросил Томаш, подняв руку. — Терпение.
Он выдержал театральную паузу.
— С Розетским камнем было три проблемы.
Томаш загнул большой палец.
— Во-первых, он был поврежден. Греческий фрагмент сохранился почти полностью, в демотическом были существенные пробелы, а больше всего пострадали иероглифы. Половина строк вовсе исчезла, а в четырнадцати из оставшихся отсутствовали куски.
Он загнул указательный палец.
— Вторая проблема состояла в том, что оба текста были написаны по-египетски, то есть на языке, который вот уже много веков был мертвым. Ученые могли лишь гадать, каким иероглифам соответствуют греческие слова.
Томаш присоединил к двум пальцам третий.
— А главное, среди тогдашних криптографов укоренилось мнение, что иероглиф — это семаграмма, обозначающая отдельное понятие, а не фонограмма, где каждый символ значит отдельную букву.
— Как же тогда удалось их прочесть?
— Первым к разгадке тайны приблизился Томас Янг, удивительный человек, который уже в четырнадцать лет в совершенстве владел греческим, латынью, итальянским, ивритом, халдейским, сирийским, персидским, арабским, эфиопским, турецким… и… Попробуйте угадать сами.
— Мандаринским диалектом китайского! — выкрикнул штатный остряк.
Все дружно засмеялись.
— Самаритянским, — покачал головой Томаш.
— Выходит, тот парень был настолько добр, что научил его своему языку, — продолжал герой дня, ободренный благосклонностью публики. — Ну, тот, который добрый самаритянин.
Последовал новый взрыв хохота.
— Давайте поспокойнее, — призвал профессор, полагая, что бурное веселье не способствует усвоению знаний. — Летом тысяча восемьсот четырнадцатого года Янг скопировал таблицы Розетского камня. Его внимание привлекла одна вещь. Часть иероглифов была обведена круглой рамкой, которую принято называть картушем. Янг решил, что в картуше заключено нечто очень важное. В греческом тексте в этом месте шла речь о фараоне Птолемее, и было логично предположить, что рамкой обвели имя фараона. Это был огромный шаг вперед, настоящий прорыв. Янг рискнул предположить, что надпись в картуше вовсе не идеограмма, а фонетическое письмо. — Томаш начертил на доске прямоугольник . — Если в картуше действительно написано имя императора Птолемея, значит, первый символ соответствует первой букве имени, букве «п». — Профессор нарисовал справа от прямоугольника полукруг, обрезанный снизу . — Стало быть, второй символ обозначает букву «т». — Томаш добавил к полукругу силуэт лежащего льва . — Этот лев не что иное, как буква «л». — Следующий символ состоял из двух параллельных линий, сходящихся углом . — А это «м». — Затем последовали два вертикальных значка, напоминавших лезвия . — Ну а это «и». — Ряд завершал значок, похожий на предыдущий, только недорисованный . — Последний символ означает «ос». — Томаш повернулся к студентам. — Видите? — Он прочел вслух, ведя вдоль ряда знаков указательным пальцем: — П, т, л, м, и, о, с. Птлмиос. Птолемей. — Студенты глядели на своего преподавателя с обожанием. — Сейчас нам известно, что Янг почти не ошибался. — Томаш спрыгнул с кафедры и вплотную приблизился к первому ряду. — Вот этим, друзья мои, и ограничивается роль Розетского камня. — Он подождал, пока информация уляжется у них в головах. — Это был только первый шаг, очень важный, спорить не буду, но впереди оставалось еще море работы. Томас Янг нуждался в подтверждении своей гипотезы. Он взялся за картуш из Карнакского храма с именем Береники, царицы из династии Птолемеев. К несчастью, Янг решил, что такая транскрипция годится лишь для имен иностранного происхождения, поскольку Птолемеи были греками, потомками Александра Македонского, и не стал заниматься другими надписями. Кодекс, который он начал составлять, не продвинулся дальше нескольких знаков.
— Я не поняла, — перебила толстушка, — почему Янг не стал продолжать? Решил, что фонемами можно записать только иностранные имена?
Профессор помедлил, формулируя ответ.
— Видите ли, это как с китайским, — проговорил он наконец. — Кто-нибудь знает китайский?
По рядам прошелестел смешок.
— Отлично, уж не знаю, почему, но китайским никто из нас не владеет. Ничего страшного. Всем известно, что у китайцев принято идеографическое письмо, когда каждый символ соответствует не звуку, а понятию. Главный недостаток такого типа письменности в том, что для каждого нового слова приходится придумывать новое обозначение. Нам достаточно собрать слово из ограниченного набора знаков, а в китайском языке таких знаков были тысячи и тысячи. Как, по-вашему, они решили эту проблему?
— Выучили все наизусть… — хмыкнул кто-то.
— Фонетизировали свое письмо, — поправил Томаш, игнорируя вновь вспыхнувшее веселье. — Вернее, для старых слов оставили идеографику, а для новых сделали фонемами уже существующие символы. Возьмем для примера слово «Мозамбик». В кантонском китайском цифра три произносится как «зам» и обозначается тремя горизонтальными штрихами. — Он изобразил под отслужившими свое иероглифами соответствующий значок. — Когда китайцам понадобилось написать слово «Мозамбик», они поставили тройку на место второго слога. Видите? — Томаш удовлетворенно кивнул. — Янг решил, что с египетским языком приключилась та же самая история. Что египтяне приспособили для иностранных понятий известные символы. Ученый не сомневался, что исконно египетские слова записаны семаграммами и не стал тратить время на то, чтобы их расшифровать.
— И никто больше не пытался? — спросила толстушка.
— Конечно, пытался, — ответил профессор. — Появился другой ученый, француз Жан-Франсуа Шампольон. Он был весьма одаренным лингвистом, знал множество языков…
— И самаритянский тоже?
Последовал очередной взрыв хохота.
— Нет, но Шампольон читал на санскрите, зендском, коптском и пехлеви, не говоря уж о менее экзотических языках, так что было совершенно понятно, что рано или поздно он примется за египетские иероглифы. — Томаш снова посмотрел на незнакомку, гадая, кто она и что здесь делает. Новая иностранная студентка? И если эта девушка и вправду иностранная студентка, понимает ли она, о чем он говорит? Блондинка слушала очень внимательно, жадно внимая каждому слову. Она точно не уйдет отсюда, пока не научится читать иероглифы, решил Томаш. — Итак, наш приятель Шампольон взялся расшифровать картуши, до которых не дошли руки у Янга, и обнаружил в них имена Птолемея и Клеопатры. Ему повезло обнаружить еще один картуш, с именем Александра. К несчастью, все эти слова были иностранными, а ученый, как и его предшественники, считал, что их транскрипция не применима к египетскому языку. Все изменилось в сентябре тысяча восемьсот двадцать второго года. — Томаш сделал паузу, чтобы придать своей речи драматизма. — Когда Шампольон оказался в храме Абу-Симбел и воочию увидел надписи, сделанные задолго до греко-римского периода, надписи, в которых никак не могло быть иностранных слов. — Студенты слушали, затаив дыхание, они чувствовали, что профессор вот-вот подберется к самому главному. — Эти находки существенно упростили стоявшую перед Шампольоном задачу. Сравнив греческие картуши с более древними надписями, он понял, что египетское письмо вовсе не семаграфическое, как полагали его предшественники, а фонетическое. До разгадки тайны иероглифов ему оставался один шаг. Однако догадка ученого только усложнила задачу: как прочесть надписи на чужом языке, не зная его фонетики? — Томаш сделал красноречивую паузу, подчеркивая, сколь сложная задача стояла перед французским лингвистом. — Однако наш гениальный коллега не сдался и упрямо продолжал искать совпадения. Потратив немало сил и времени на этот кропотливый и бесплодный труд, он решил сосредоточиться на одном картуше. — Томаш нарисовал на доске четыре иероглифа и обвел рамкой . Первые два иероглифа в этом картуше были незнакомыми, последние два встречались в словах «Птолемей» и «Александр». — Он указал на последний значок. — В картушах этот символ соответствовал букве «эс». Здесь Шампольону пригодился принцип, по которому были расшифрованы картуши Абу-Симбела. — Томаш подписал под каждым иероглифом аналог на латинице, поставив вопросительные знаки у первых двух символов. На белой поверхности доски это выглядело так: «?-? — с-с». Профессор многозначительно постучал кончиком пальца по вопросительным знакам и повернулся к студентам. — Двух первых иероглифов не хватало. Что бы это могло быть? Что они означали? — Томаш указал на первый из расшифрованных символов. — Круглый иероглиф с точкой посередине напомнил Шампольону солнце. Он попытался определить соответствующий звук, исходя из этой догадки. По-коптски «солнце» — ра. А что если первый иероглиф означает именно это? — Томаш заменил первый знак вопроса слогом «ра». — Что же теперь? Как разобраться со вторым неизвестным? Шампольон предложил самое простое решение. Он был готов поспорить, что в картуше начертано имя фараона. Имя какого фараона начинается на «ра» и оканчивается на «эс»? — Студенты молчали, выжидая. — И тут в голову ученому пришла идея, дерзкая, неожиданная блестящая. — Томаш сделал еще одну паузу, чтобы подогреть внимание аудитории. — А что если это «эм»? Томаш стер второй вопросительный знак и написал на его месте букву «эм». Теперь его студенты легко могли прочесть: «ра-м-с-с»; Профессор глядел на них с торжествующей улыбкой, сияющий и гордый, будто только что собственноручно разгадал тайну иероглифа.
— Рамсес.
Преподаватель объявил об окончании лекции, и аудитория наполнилась шумом. Студенты подхватывали сумки, собирали тетради и, оживленно болтая, направлялись к дверям. Несколько человек окружили профессора, чтобы задать вопросы.
— Профессор, — спросила худенькая девушка с каштановыми кудрями. — Где можно найти «Précis du systéme hiérogliphique»?[1]
Речь шла о книге Шампольона, опубликованной в 1824 году; в ней лингвист подробно описал работу над расшифровкой иероглифов. Он писал о том, что древние египтяне говорили по-коптски, и опровергал распространенную гипотезу о семаграфической природе иероглифов.
— Могу предложить две версии, — проговорил Томаш, собирая свои бумаги. — В интернете или в Национальной библиотеке.
— А купить нельзя? Здесь, в Португалии.
— Насколько мне известно, нет.
Вежливо поблагодарив преподавателя, девушка уступила место строгой барышне в сером костюме, похожей на помощницу нотариуса.
— Профессор, я работаю и, к сожалению, не могу посещать занятия. Меня допустят до зачета?
— Да, приходите на последнюю лекцию.
— А какой это будет день?
— Понятия не имею. Сверьтесь с календарем.
— А что будет на зачете?
Томаш удивленно вскинул брови.
— Что вы имеете в виду?
— Там будут вопросы о древних письменах?
— А, нет. Будут практические задания. — Томаш рассеянно перебирал вещи. — Вам предстоит анализировать и расшифровывать тексты.
— Иероглифы?
— И их тоже, но не только. Вам могут достаться шумерские таблички, греческие изречения, тексты на иврите и арамейском или что-нибудь попроще, скажем, средневековый манускрипт или рукопись шестнадцатого века.
Девица раскрыла рот.
— И мне придется все это расшифровать?! — воскликнула она.
— Ну что вы, — усмехнулся профессор. — Только небольшие фрагменты…
— Но я не знаю этих языков… — прошептала огорченная студентка.
Томаш удивленно вскинул брови.
— Так ведь наш курс для того и существует, — он выразительно посмотрел на девушку, — чтобы учиться, верно?
Краем глаза профессор заметил, что прекрасная незнакомка присоединилась к стайке ожидавших своей очереди студентов; у него появилось смутное ощущение, что они где-то уже встречались. Между тем, работающая студентка явно передумала закатывать истерику, но и уходить не спешила; вместо этого она протянула Томашу листок бумаги.
— Вы должны это подписать, — сказала девица не терпящим возражений тоном.
Томаш недоуменно уставился на листок.
— А что это?
— Справка о том, что я пропустила работу, поскольку была на лекции.
Томаш наспех подмахнул справку, и в аудитории остались только две студентки, курчавая брюнетка и белокурая незнакомка, которая скромно отошла в сторону, пропуская смуглянку вперед.
— Профессор, получается, расшифровывать иероглифы все равно что разгадывать ребусы?
Ребус — это головоломка, в которой длинные слова разделены на слоги и буквенные сочетания, каждому из которых соответствует определенный образ. Слово «фасоль», к примеру, легко разделить на фа и соль. Изобразим вместо первого слога ноту, вместо второго нарисуем солонку, и получится классический ребус.
— Все зависит от конкретного случая, — проговорил Томаш. — В вопросах письменности египтяне не придерживались раз и навсегда принятых правил. Иногда они использовали гласные, а иногда обходились без них. Порой ставили эстетическое чувство превыше значения слов. И довольно часто прибегали к ребусам, когда хотели придать словам двойной, а то и тройной смысл.
— Как в случае с Рамсесом?
— Да, — кивнул Томаш. — Шампольон подходил к расшифровке картуша из Абу-Симбела именно как к ребусу. Слово «Ра», за которое он зацепился, чтобы вытянуть все остальное, оказалось заодно и буквой. Разумеется, имя фараона, которого подданные почитали как божество, ассоциировалось с солнцем не случайно.
— Спасибо, профессор.
— Не за что. До следующей недели.
И Томаш остался наедине с незнакомкой. Теперь он мог разглядывать ее, не таясь, хотя яркая, вызывающая красота девушки отчего-то смущала его; Томаш улыбнулся, и она охотно ответила на его улыбку.
— Привет, — сказал Томаш.
— Добрый день, профессор, — ответила девушка на почти безупречном португальском с легким, чарующим акцентом. — Я ваша новая студентка.
Профессор усмехнулся.
— Это я уже понял. Как вас зовут?
— Лена Линдхольм.
— Лена? — Томаш изобразил восторженное изумление, словно его собеседница назвала какое-то неведомое, экзотическое имя. — У нас, португальцев, это уменьшительное от Элены.
— Да, но дело в том, что я шведка.
— Шведка?! — воскликнул он. — Надо же. — Профессор лихорадочно копался в памяти, выискивая нужные слова. — Постойте, как же это… м-м-м… hej, trevligt att träffas![2]
У Лены округлились глаза.
— Вы что… — Пришел ее черед удивляться. — Talar du svenska?[3]
Томаш покачал головой.
— Jag talar inte svenska,[4] — сказал он с улыбкой. — Собственно, это почти все, что я могу сказать по-шведски. — И виновато пожал плечами. — Förlat.[5]
Студентка глядела на него с искренней симпатией.
— Неплохо, совсем не плохо. Вы только слишком растягиваете слова, получается похоже на датский. А где вы учили шведский язык?
— Студентом путешествовал по программе «Интер-рейл» и провел четыре дня в Мальме. Я любопытный и легко схватываю все, что связано с языками, а набраться самых употребительных выражений труда не составило. Так что спросить «var är toaletten?[6]» я мог. — Девушка хихикнула. — Hur mycket kostar det?[7] — Она снова рассмеялась. — Äppelkaka med vaniljsås.[8]
Шведка застонала, не в силах больше смеяться.
— Ох, профессор, не напоминайте мне про Äppelkaka.
— Почему?
Она облизнула яркие полные губы стремительным движением язычка, которое показалось Томашу вызывающе сексуальным.
— Это такая вкуснятина! Мне их очень не хватает!
Профессор усмехнулся, пытаясь скрыть смущение: наедине со шведкой ему было не по себе.
— Но согласитесь, странно называть еду kaka.
— Называйте, как хотите, но это невообразимо вкусно, конечно, если готовить по всем правилам. — Красотка опустила длинные ресницы и снова облизала губы. — М-м-м… utmärkt![9] Обожаю!
Томаш представил, как она приближается к нему, впивается в его губы своим ярким ртом, ощутил, как ее тело трепещет в его объятиях. Стряхнув наваждение, сконфуженно закашлялся.
— Скажите… Элена…
— Лена…
— Ну да, Лена. — Томаш сомневался, что произнес имя девушки правильно. Впрочем, она его не поправила. — Скажите, Лена… А где вы так хорошо выучили португальский?
— В Анголе.
— В Анголе?
Шведка улыбнулась, продемонстрировав ровные, белоснежные зубы.
— Мой отец был там послом, я прожила в Анголе пять лет.
Томаш наконец сложил все бумаги в портфель и щелкнул застежками.
— Понятно. Вам там нравилось.
— Очень. У нас был дом в Мирамаре, а на выходные мы ездили в Муссуло. Это настоящий рай на земле.
— А где это, Муссуло?
Лена посмотрела на профессора с изумлением, словно впервые повстречала португальца, незнакомого с ангольской географией.
— Ну как же… В Луанде, конечно. Мирамар — это квартал, где мы жили, у моря, там еще старинный форт неподалеку. А Муссуло — райское местечко в восточном пригороде. Вы не бывали в Луанде?
— Нет, я вообще не был в Анголе.
— Жалко.
Профессор направился к выходу, жестом пригласив студентку следовать за собой. Оказалось, что Лена по крайней мере на три сантиметра выше Томаша; по его расчетам в ней было никак не меньше метра восьмидесяти. Плотный голубой свитер, очень шедший к синим глазам и золотистым, как у Николь Кидман, кудрям, изящно охватывал пышную грудь и тонкую талию. Томаш с немалым усилием заставил себя смотреть девушке в лицо, а не на бюст.
— Интересно, как вы попали на мою лекцию? — задумчиво проговорил профессор, пропуская девушку вперед.
— За это надо благодарить Эразма, — ответила шведка, выходя в коридор.
Томаш сгорал от стыда, но не мог оторвать взгляд от ее стройных, крепких бедер, обтянутых линялыми джинсами. Против воли он представлял ее обнаженной, любовался молочно-белой кожей, наверняка нежной и гладкой.
— Что? — переспросил он, проглотив слюну.
— Я участвую в проекте «Эразм», — пояснила Лена, обернувшись.
— А… В проекте «Эразм»?
— Ну да, «Эразм». А вы о нем не знаете?
Томаш покачал головой, тщетно пытаясь изгнать беса из своего ребра. Эта бесстыдная, откровенно чувственная красота несомненно была дьявольским искушением.
— Да, конечно… Проект… проект «Эразм». Ну, конечно… «Эразм». — Он наконец сообразил, о чем речь. — Точно, «Эразм»! Разумеется, я о нем слышал.
Шведка осторожно улыбнулась растяпе-профессору.
— Об этом я и говорю. Я здесь благодаря «Эразму».
Томаш наконец сообразил, каким образом в его аудиторию попала новая студентка. Проект «Эразм» был учрежден Евросоюзом в 1987 году для укрепления международных связей в сфере образования. Спустя четыре года, в 1995-м, он сделался частью более обширной образовательной программы «Сократ». Большинство иностранных студентов на факультете истории Нового лиссабонского университета были испанцы, что, вероятно, объяснялось близостью языков, хотя Томашу довелось принимать зачет у одного немца из Гейдельберга.
— Из какого вы университета?
— Из Стокгольмского.
— Историк?
— Да.
Они спустились на три этажа и оказались на шестом, в центральной рекреации. Налево начинались кабинеты преподавателей; Томаш направился на кафедру истории, на ходу доставая ключ, шведка шла за ним.
— А почему вы решили поехать в Португалию?
— По двум причинам, — ответила Лена. — Во-первых, из-за языка. Я неплохо знаю португальский и понимаю, о чем говорят преподаватели на лекциях. Вот с письмом дело обстоит хуже…
Профессор вставил ключ в замочную скважину.
— Если вам трудно писать по-португальски, пользуйтесь английским, никаких проблем. — Он повернул ключ. — Ну а вторая причина?
Шведка стояла у него за спиной.
— Я решила написать дипломную работу о географических открытиях. Сравнить маршруты викингов и португальских мореплавателей.
Томаш галантно распахнул перед девушкой дверь. В кабинете царил беспорядок, всюду валялись картонные папки, чьи-то заметки и фотокопии. Профессор и студентка уселись за стол, лицом к окну, откуда открывался довольно скучный вид на больницу Кабрал. Ее приземистые шестиэтажные корпуса виднелись сквозь голые мокрые ветки зимних деревьев. По чахлому парку бесцельно бродили пациенты в больничной одежде; врачи и медсестры в белых халатах сновали между корпусами; из только что подъехавшей «скорой» доставали носилки; молодой врач стоял под раскидистым дубом, то и дело поглядывая на часы.
— Географические открытия — понятие растяжимое, — проговорил Томаш, щурясь на скупое зимнее солнце, показавшееся из-за туч. — О чем конкретно вы собираетесь писать?
— Нет пескаря, который не мечтал бы стать китом.
— Простите?
— Это шведская пословица. Я хотела сказать, что амбиций и решимости мне не занимать.
— Не сомневаюсь, однако надо сразу очертить поле деятельности. Какой период вас интересует?
— Больше всего меня интересует путешествие Васко да Гамы.
— То есть тысяча четыреста девяносто восьмой год.
— Да, — с энтузиазмом подтвердила Лена. — Эпоха Эанес, Гонсалвес Балдайа, Нуну Триштан, Дьогу Кан, Николау Коэльо, Гонсалвес Зарко, Бартоломеу Диаш.
— Надо же! — восхитился Томаш. — Вам известно столько имен!
— Я целый год готовилась к этой поездке. — Она помолчала. — Как вы думаете, профессор, есть надежда раздобыть оригиналы хроник, которые повествуют об этих вещах?
— Зурары и компании?
— Ну да.
Томаш вздохнул.
— Это будет непросто.
— О! — произнесла Лена разочарованно.
— Видите ли, эти манускрипты — подлинные реликвии, они очень старые и хрупкие, библиотеки берегут их как зеницу ока. — Томаш на минуту задумался. — В лучшем случае вам выдадут факсимиле или копии, а это, согласитесь, не одно и то же.
— Но мне нужны именно оригиналы! — В синих глазах девушки была мольба. — Я так надеялась, что вы мне поможете! — Она скорчила трогательную гримаску. — Пожалуйста.
Томаш пожал плечами.
— Ну хорошо, я попробую…
— Tack! — торжествовала шведка. — Tack!
Профессор чувствовал, что им бесстыдно манипулируют, но отказать этому божественному созданию было выше его сил.
— Вы уверены, что справитесь с португальским шестнадцатого века?
— Вор отыщет ключи быстрее, чем ризничий.
— Вы о чем?
Лена беззаботно рассмеялась, наслаждаясь его замешательством.
— Еще одна шведская пословица. Когда тебе что-то действительно нужно, ты сумеешь преодолеть любые препятствия.
— Не сомневаюсь, но вы так и не ответили на мой вопрос, — повторил Томаш. — Вам уже доводилось читать старинные португальские рукописи, иметь дело с этой специфической каллиграфией?
— Нет.
— Тогда какой вам прок от оригиналов?
Лена ответила ему коварной улыбкой женщины, прекрасно сознающей силу своих чар.
— Я полагала, что вы не откажетесь позаниматься со мной дополнительно.
На вечер был назначен ученый совет факультета, на котором предстояло разбираться с бесконечной рутиной, вроде предстоящей аттестации, с перипетиями кафедральной жизни, драматическими последствиями политики прежнего руководства университета и назначением оппонентов для трех новых докторантов.
Когда он затемно вернулся домой, Констанса с Маргаритой поглощали на кухне гамбургеры и макароны с кетчупом, любимое блюдо девчушки. Томаш снял плащ, чмокнул обеих и уселся за стол.
— Опять спагетти и гамбургеры? — спросил он жалобно.
— А чего ты хотел? Она их обожает…
— Спаети хоошо, — заявила Маргарита, с шумом втягивая длинные макаронины. — Шлюп!
Томаш положил себе на тарелку порцию спагетти и гамбургер.
— Ну ладно, — он погладил дочку по жестким черным волосам. — Как дела? Что ты сегодня выучила?
— Пэ а — па, пэ е — пе.
— Опять? Ты ведь давно это знаешь.
— Пэ и — пи, Пэ о — по.
— Видишь? — Профессор повернулся к жене. — Она второй год не может освоить элементарные вещи.
— Девочка не виновата, Томаш. Ты сам решил отдать ее в обычную школу, а там нет специальной программы для таких детей.
— И теперь мы должны наблюдать, как сознание нашего ребенка распадается на части…
— Ты прав, — согласилась Констанса. — Я уже договорилась с директрисой о встрече.
— Пэ у — пу.
Детям с синдромом Дауна трудно запоминать новое, их жизнь протекает по раз и навсегда установленным правилам. Год назад Маргарита пошла в школу, в обычную школу для обычных ребят. Ей посчастливилось попасть в класс к замечательному учителю, имевшему большой опыт работы с больными детьми. Потом чиновники из Министерства образования отчего-то запретили таким педагогам работать в простых школах, одним росчерком пера лишив Маргариту и ее собратьев по несчастью квалифицированных наставников. В результате развитие девочки замедлилось; она забыла чуть ли не все, что выучила за год, почти разучилась читать и писать самые простые слова. Чтобы наверстать упущенное, требовался толковый и человечный учитель, привыкший иметь дело с такими детьми, но найти его было непросто.
Томаш надкусил гамбургер и пригубил «Алентежу». Маргарита расправлялась с десертом, очищенным и разрезанным на дольки яблоком; проглотив последний кусочек, она тотчас же принялась убирать со стола.
— Маргарита, давай позже, ладно?
— Нет, — твердо ответила девочка, с грохотом засовывая тарелки в посудомоечную машину. — Надо мыть, надо мыть!
— Потом помоем.
— Нет, она гьязная, сийно гьязная. Надо мыть.
— Эта малышка однажды откроет посудомоечную фирму, — усмехнулся отец, придерживая свою тарелку, чтобы дочка не забрала и ее.
Чистота была одним из главных пунктиков Маргариты. Стоило девчушке заметить где-нибудь пылинку или пятнышко, и она самоотверженно бросалась на борьбу с грязью. Родители не раз зарекались брать дочь в гости к друзьям; Маргарита наметанным глазом примечала в углу невесомую паутинку и тут же во всеуслышание заявляла, что здесь развели грязищу. Хозяевам, отважившимся пригласить семейство Норонья, приходилось в ожидании гостей устраивать генеральную уборку.
После ужина Маргарита отправилась спать. Отец помог ей почистить зубы и надеть пижаму, уложил в постель и прочел на ночь сказку, на этот раз про кота в сапогах. Когда девочка заснула, родители расположились на диване в гостиной, чтобы обсудить прошедший день.
— Скорее бы суббота, — жалобно проговорила Констанса, глядя в потолок. — Я просто никакая.
Маленькая гостиная была обставлена со вкусом. Стены украшали яркие абстрактные полотна, написанные Констансой еще в бытность студенткой; молочно-белые диваны, расшитые розовыми бутонами, отлично подходили к гардинам и ковру. Но главным украшением комнаты были большие напольные вазы светлого дерева с букетами пышных бело-розовых цветов, окруженных сочными зелеными листьями.
— Как они называются?
— Камелии.
Томаш потянулся к нежным, полупрозрачным лепесткам, предвкушая дивный аромат.
— Никакого запаха, — удивился он.
— Ну конечно, дурачок, — усмехнулась жена. — У камелий и не должно быть запаха.
Констанса обожала цветы. Как ни удивительно, именно это обстоятельство свело их в студенческие годы. Томаша влекли загадки и шарады, ребусы и шифры, символы и тайные знаки. В те времена он зачитывался книжками из «Мира приключений» и детективами из серии «Семь клинков». Чтобы завоевать сердце будущей жены, ему достаточно было посвятить ее в тайны причудливой растительной символики. От него Констанса узнала, что пленницы турецких гаремов тайком отправляли на волю весточки на языке цветов. В 1718 году леди Монтэгю решила возродить забытое искусство и подарила миру флориграфику — сложную знаковую систему, основанную на классической восточной традиции и дополненную образами из античных мифов и европейского фольклора. Мода на язык цветов пришла в девятнадцатом столетии. Тогда же он превратился из набора тайных знаков в изысканный атрибут любовного этикета. К примеру, кавалеру не полагалось говорить даме при первой встрече, что она тронула его сердце; вместо этого он мог подарить своей избраннице букет глициний, символ внезапно вспыхнувшей страсти. Флориграфия вдохновляла художников-прерафаэлитов и определяла фасоны дамских нарядов; в день коронации на королеве Изабелле II была мантия, расшитая ветвями оливы и пшеничными колосьями, символизировавшими мир и процветание. Констанса постигла тайны древней науки в совершенстве, превратившись в единственного в своем роде знатока языка цветов.
— Камелии привезли из Китая, там их очень ценят, — рассказывала она мужу. — В Европе они вошли в моду благодаря Дюма-сыну. «Дама с камелиями» основана на подлинных событиях, прототип главной героини Мадлен дю Плесси — знаменитая парижская куртизанка девятнадцатого века. Бедняжка страдала от аллергии, а у камелий, по счастью, нет запаха, — Констанса бросила на Томаша лукавый взгляд. — Полагаю, тебе известно, кто такие куртизанки.
— Я ведь историк, милая.
— В общем, мадемуазель дю Плесси каждый день прикалывала к платью букетик камелий, белых, если была расположена принимать мужчин, или алых, если природа предписывала ей уклоняться от плотских утех.
— О-о-о! — воскликнул Томаш, дурачась.
— Верди слегка переработал историю дамы с камелиями и написал «Травиату». В опере героине пришлось продать драгоценности и довольствоваться живыми цветами.
— Какой ужас! — закатил глаза Томаш. — Бедняжка. Однако, судя по тому, что ты купила алые камелии, мне сегодня рассчитывать не на что.
— Ты совершенно прав, — вздохнула Констанса. — У меня нет сил.
Томаш внимательно оглядел жену. Констанса сохранила утонченную меланхолическую красоту, пленившую его много лет назад, когда она училась на факультете искусствоведения. Судьбу Томаша, в ту пору изучавшего историю в Новом лиссабонском университете, решил заурядный треп с однокурсниками, один из которых принялся расхваливать цыпочек с искусствоведческого. «Девочки высший сорт, — разглагольствовал Аугусту, нежась на весеннем солнышке и с наслаждением затягиваясь сигаретой. — Такие формы, хоть сейчас на картину. Увидишь одну из этих крошек и больше ни о ком даже думать не можешь».
Друзья решили, не откладывая дела в долгий ящик, проверить гипотезу опытным путем. Так Томаш впервые оказался в кафетерии искусствоведов и смог самолично убедиться в правдивости ходивших по университету разговоров; ни на одном другом факультете не было столько красоток. Парни попытались с ходу познакомиться, однако надменные длинноногие девицы попросту игнорировали историков. Потолкавшись у прилавка, друзья решили занять удобную позицию в зале. Свободные места нашлись за большим столом, половину которого заняли три студентки. Среди них выделялась фигуристая брюнетка. «Природа щедра», — объявил Аугусту, подмигнув приятелям. Смуглянка бросала заинтересованные взгляды на Томаша, но ему больше понравилась одна из ее подруг, девушка с молочно-белой кожей, трогательными веснушками на носу и карими глазищами, то ли печальными, то ли просто задумчивыми. Ее красота была скорее нежной и сладкой, чем чувственной. Не мед, не торт, не леденец; шоколад, что оставляет терпкое, бархатное послевкусие. Сдержанные манеры и плавные, медлительные жесты пристали трепетной, утонченной, немного старомодной барышне, но первое впечатление обмануло: в душе красавицы полыхал огонь, а за медлительность легко было принять ленивую грацию дикой кошки. Заполучить номер ее телефона оказалось непросто. Спустя две недели Томаш пригласил Констансу на пляж в Каркавелуш, подарил ей букетик жимолости, символ беззаветной любви, и поцеловал на вокзале в Оэйрасе.
Неподвижное лицо Маргариты вернуло Томаша к действительности. Фотография дочери в скромной рамке стояла возле вазы с камелиями.
— Слушай, сейчас начало года, Маргарите не пора снова на консультации?
— Да, — кивнула Констанса. — На неделе нам к доктору Оливейре. Завтра зайду в больницу Святой Марты, договорюсь об анализах и чтобы ее посмотрели.
— Эти бесконечные походы к врачам на редкость утомительны, — пожалел жену Томаш.
— Прежде всего для нее, — сказала она. — Не забывай, девочке в любой момент может понадобиться операция. И потом, нравится тебе или нет, но без твоей помощи не обойтись.
— Но я же не отказываюсь!
— Я не могу тащить все на себе. С девочкой в одиночку мне не справиться. Ты же отец, в конце концов.
Томашу сделалось совестно. Он действительно переложил бремя забот о Маргарите на плечи жены, но Констанса всегда отлично справлялась и с легкостью улаживала дела, к которым он боялся даже подступиться.
— Хочешь, я пойду с тобой к доктору Оливейре?
Но Констанса, кажется, сменила гнев на милость. Потянувшись, она сладко зевнула.
— Ладно, пора спать.
— Уже?
— У меня глаза слипаются. — Она медленно поднялась с дивана. — Ты еще посидишь?
— Да, пожалуй. Почитаю немного.
Констанса наклонилась к мужу, легко коснулась губами его губ и вышла из комнаты, оставив едва уловимый аромат духов. Томаш задумчиво разглядывал книжную полку; в конце концов он остановил свой выбор на «Избранных новеллах» Эдгара Аллана По. Ему захотелось перечитать «Золотого жука», историю о таинственном скарабее из «Мира приключений», пробудившую в нем, семнадцатилетнем, интерес к криптографии.
На третьей странице чтение прервал звонок мобильного.
— Слушаю.
— Могу я поговорить с профессором Нороньей?
Такой акцент был характерным для иностранцев, изучавших бразильский вариант португальского; Томаш решил, что его собеседник американец.
— Я слушаю. Представьтесь, пожалуйста.
— Меня зовут Нельсон Молиарти, я управляющий Фондом американской истории. Я звоню из New York… Извините… Нью-Йорка.
— Как поживаете?
— Окей, спасибо. Прошу прощения за поздний звонок. Не помешал?
— Что вы, ни в малейшей степени.
— Oh, good! — воскликнул Молиарти. — Профессор, не знаю, доводилось ли вам слышать о нашем фонде…
По голосу незнакомца было ясно, что он уверен в отрицательном ответе.
— Нет, признаться, не приходилось.
— Ничего страшного. Наш фонд зарегистрирован в Соединенных Штатах как некоммерческая организация, которая спонсирует исследования по американской истории. Наша штаб-квартира находится в Нью-Йорке, оттуда мы отслеживаем интересные проекты по всему миру. Но недавно мы столкнулись с проблемой, поставившей под угрозу дальнейшую деятельность фонда, который уполномочил меня с этим разобраться в двухнедельный срок. У меня только что состоялся разговор… Вот, собственно, я вам и звоню.
Последовала пауза.
— Алло!
— Профессор Норонья!
— Да, я слушаю.
— Решение нашей проблемы зависит от вас. Скажите, когда вы могли бы вылететь в Нью-Йорк?
II
В холодном вечернем воздухе было отчетливо видно, как от асфальта поднимается пар, такой густой, словно под землей прячется действующий вулкан. Острое обоняние Томаша различало свежий аромат жареной картошки и более приглушенный запах китайских пельменей; впрочем, были проблемы поважнее голода: например, как защититься от пронизывающего дыхания Арктики; поднятый воротник почти не спасал, руки приходилось судорожно сжимать в карманах. Нью-Йорк встречал уроженца Средиземноморья неласково: в Лиссабоне начиналась весна, а на восточном побережье Соединенных Штатов царил зимний холод, и студеный северный ветер собирал над городом снежные тучи.
Самолет Томаша приземлился в аэропорту Кеннеди несколько часов назад. Устрашающего вида черный лимузин, предоставленный фондом, доставил его к подъезду «Волдорфа-Астории», шикарного отеля в стиле ар деко, который занимал целый квартал между Лексингтоном и Парк-авеню. Слишком утомленный, чтобы в полной мере оценить архитектурные изыски и экстравагантный интерьер, вновь прибывший гость Нью-Йорка бросил багаж в номере, попросил у портье карту города и отпустил лимузин, чтобы пройтись пешком. Это была ужасная ошибка. Нет ничего приятнее прогулки по Нью-Йорку в хорошую погоду. Однако холод превращает этот город в преисподнюю. Холод делает знакомое чужим, прекрасное уродливым, захватывающее вульгарным.
На каменные джунгли опускались сумерки; пока Томаш не успел как следует промерзнуть, шагать было легко. Он даже решился пройтись мимо небоскребов на Пятидесятой улице и свернуть на Лексингтон-авеню, чтобы посмотреть на штаб-квартиру «Дженерал электрик». Холод напомнил о себе на пересечении Американского бульвара и Седьмой авеню; нос болел, глаза слезились, тело сотрясала мелкая дрожь, но хуже всего пришлось ушам; они горели так, словно кто-то безжалостно натер их наждаком.
Но слева уже сияла огнями Таймс-сквер, и окрыленный Томаш прибавил шагу. Спустившись по Седьмой авеню, он оказался в сердце Театрального района. От иллюминации на пересечении Седьмой и Бродвея было светло как днем; яркий свет разливался по улице, проникал всюду, изгоняя тьму и обостряя чувства; уличное движение было судорожным, хаотическим; пешеходы сновали по тротуарам, точно муравьи, одни спешили по своим делам, другие надолго застывали на месте, завороженные удивительным зрелищем; неоновые вывески сверкали всеми цветами радуги, огромные буквы билбордов призывали покупать и смотреть телевизор, бесчисленные афиши заманивали на новые спектакли, вокруг творилась мистерия лиц и света.
В кармане внезапно ожил мобильник. Томаш достал телефон и поднес к уху.
— Алло.
— Профессор Норонья?
— Да?
— Это Нельсон Молиарти. Все в порядке? Долетели нормально?
— А, да. Все хорошо, спасибо.
— Вы довольны нашим водителем?
— На все сто.
— А как вам отель?
— Чудесный.
— «Волдорф-Астория» — одна из наших главных достопримечательностей. В нем останавливаются все американские президенты во время своих визитов в Нью-Йорк.
— Вот как? — восхитился Томаш. — Прямо все?
— Без исключения. С тысяча девятьсот тридцать первого года. «Волдорф-Астория» — весьма престижное место. Его давно облюбовали политики, кинозвезды и художники. Герцог и герцогиня Виндзорские, например, здесь жили. — Молиарти подчеркнул последнее слово. — Жили, представляете?
— Да, и вправду удивительно. Я как раз хотел поблагодарить вас за возможность остановиться в таком прекрасном отеле.
— Пустяки, не стоит благодарности. Главное, чтобы вам было удобно. Вы ужинали?
— Нет, не успел.
— Тогда могу порекомендовать два ресторана в отеле, «Булл энд Бэр Стейкхаус», если вы любитель мяса, или «Имагику», если предпочитаете японскую кухню. Если верить журналу «Гурме», еду лучше заказать прямо в номер.
— Большое спасибо, но сегодня я вряд ли воспользуюсь вашим советом. Перехвачу что-нибудь на Таймс-сквер.
— Вы на Таймс-сквер?
— Да.
— В этот самый момент?
— Ну да.
— Но ведь на улице такая холодрыга! Вы в машине?
— Нет, я отпустил шофера.
— А как же вы оказались на Таймс-сквер?
— Пришел пешком.
— Holly cow![10] Минус пять по Цельсию. А по телевизору сказали, если учитывать фактор ветра, то все минус пятнадцать. Надеюсь, вы тепло одеты.
— Ну… Более менее.
Молиарти сокрушенно поцокал языком.
— Вы должны себя беречь. Немедленно звоните водителю, чтобы он вас забрал. У вас есть его номер?
— Должен был остаться в памяти мобильного.
— Good! Звоните прямо сейчас.
— Не стоит. Я поймаю такси.
— Как хотите. Я, собственно, хотел сказать вам «Добро пожаловать в Нью-Йорк!» и сообщить, что мы ждем вас завтра в девять в нашем офисе. Шофер будет ждать вас в восемь тридцать у выхода на Парк-авеню. Офис недалеко от гостиницы, но по утрам на дорогах творится настоящий hell.
— Что ж, всего доброго. Увидимся завтра.
— Жду с нетерпением. До встречи.
Пряча телефон, Томаш обнаружил, что пальцы утратили чувствительность; рука так замерзла, что перестала подчиняться командам мозга; она будто превратилась в посторонний предмет, не имеющий к нему никакого отношения. Томаш засунул кулаки поглубже в карманы, но от стужи это не спасло. Готовый впасть в отчаяние, он озирался по сторонам в поисках убежища. Приметив немного впереди, по левую руку от себя вход в ресторан, Томаш бросился к нему; проникнув внутрь, он ощутил себя грешником, которого решили избавить от адских мук. Томаш принялся с ожесточением растирать побелевшие руки, чтобы восстановить циркуляцию крови, и вскоре почувствовал слабое покалывание в кончиках пальцев.
— Can I help you? — учтиво улыбаясь, спросил метр.
Томаш подтвердил, что будет ужинать один, и занял место у окна. Оттуда можно было наблюдать за нервным, хаотическим движением толпы на Таймс-сквер. Ресторан оказался мексиканским. Пробежав глазами список блюд, Томаш заказал энчилады с сыром, телятину и «Маргариту». Официант принес аперитив и начос с томатным соусом, а профессор развернулся к окну, чтобы лучше видеть улицу. Он не взял теплого пальто, а стало быть, в ближайшие дни предстояло изрядно померзнуть; и будет разумнее всего вернуться в отель на такси.
Пятичасовая разница с Лиссабоном дала себя знать. Томаш проснулся ровно в шесть утра и растерянно уставился в окно. Через несколько секунд он завернулся в одеяло и попытался снова заснуть, но вскоре осознал тщетность своих попыток. Томаш посмотрел на часы; в Лиссабоне было одиннадцать, неудивительно, что сон не шел.
Профессор впервые внимательно оглядел свой номер. Здесь царили бордовый и золотой: бордовые обои с золотым тиснением, бордовые кресла, бордовые гардины с пышными золотыми кистями. Пол был застелен пушистым темно-красным ковром. На прикроватной тумбочке стояла ваза с пышным букетом и бутылка «Каберне».
Томаш набрал номер Констансы.
— Привет, веснушка! — Он назвал жену полузабытым ласковым прозвищем из давно минувших счастливых дней. — У вас там все хорошо?
— Привет, Томаш. Как Нью-Йорк?
— Вымер от холода.
— А вообще как?
— Странный городишко, но в целом довольно забавный.
— Что ты мне привезешь?
— Ай-яй-яй! — Томаш укоризненно прищелкнул языком. — Кто бы мог подумать, что у меня жена такая меркантильная…
— Интересное дело! Муж сбежал в Америку и вовсю развлекается, а брошенная жена, оказывается, меркантильная!
— Ладно, ладно. Привезу тебе Эмпайр-стейт и Кин Конга в придачу.
— Не пойдет! — рассмеялась Констанса. — Предпочитаю МоМа.
— Что?
— МоМа. Музей современного искусства.
— А…
— Привези мне «Звездную ночь» Ван Гога.
— Какую? Ту, на которой такие круглые звезды? Она здесь?
— Да, в МоМа. Еще я хочу «Ирисы» Моне, «Авиньонских девушек» Пикассо, «Японский диван» Тулуз-Лотрека.
— А Кин Конга?
— Зачем мне Кин Конг, если есть ты?
— Подлиза! — фыркнул Томаш. — Скажи, а копии тебя не устроят?
— Нет, укради для меня оригиналы. — Констанса немного помолчала. — Я говорю о репродукциях, а ты что подумал?
— Ладно, как скажешь. Как там малышка?
— Хорошо. Все хорошо, — последовал ответ. — Хулиганка, как всегда.
— Хм, воображаю.
— Знаешь, у нас сегодня был серьезный разговор.
— Это как?
— За ужином она меня спрашивает: «Ма, почему ребята называют меня дебилкой?» Я отвечаю: «Что ты, дочка, тебе, наверное, послышалось, должно быть, они сказали „девочка“». «Нет, ма, — отвечает она. — Ребята много раз повторили, и я хорошо расслышала».
— Ну, ты ведь знаешь, какими бывают дети…
— Да, они жестоки к тем, кто на них не похож. Беда в том, что девочка все принимает за чистую монету. Когда я ее укладывала, Маргарита снова спросила, правда ли, что она дебилка.
— И что нам теперь делать?
— Я собираюсь пойти в школу и поговорить с учительницей.
— Представляю, к каким сногсшибательным результатам это приведет…
— Но ведь она педагог, ей проще найти подход к детям.
— Пожалуй.
— Я бы предпочла, чтобы ты пошел со мной.
— Как ты себе это представляешь? Я на другом полушарии.
— Ладно, на этот раз у тебя уважительная причина. — Повисла напряженная тишина. — Ну а твои американцы уже объяснили, зачем ты им понадобился?
— Пока нет. У нас встреча через несколько часов. Скоро все выяснится.
— Готова поспорить, тебе предложат расшифровать какой-нибудь манускрипт.
— Вполне возможно.
В трубке послышался далекий звон колокольчика.
— Первый звонок, — пояснила Констанса. — Мне пора на лекцию. К тому же на этом роуминге можно проговорить целое состояние. Целую, будь паинькой!
— Целую, веснушка.
— И вот что, мой жеребец, поосторожней с американками. Говорят, они само коварство.
— Ладно, учту.
— И пришли мне цветы.
Томаш повесил трубку и принялся щелкать кнопками пульта, перескакивая с канала на канал: NBC, CBS, ABC, CNN, CNN Headline News, SNBC, Nick'at'Nite, HBO, TNT, ESPN, и так далее. Какофония голосов и мельтешение картинок не вызывали ничего, кроме зевоты. На полу у входа валялся журнал; должно быть, посыльный подсунул его под дверь. Это был «Нью-Йорк таймс» с Биллом Клинтоном на обложке и мэром Джулиани на развороте; Томаш рассеянно его полистал, без особого интереса пробежал глазами пару заметок.
Отложив прессу, отправился в ванную, чтобы принять душ, побриться и одеться. Для предстоящей встречи как нельзя лучше подходил темно-синий костюм в тонкую белую полоску, будто расчерченный мелом, и бордовый галстук с золотой булавкой. Закончив утренний туалет, Томаш спустился позавтракать в «Американской кондитерской Оскара». Обычно по утрам профессор с трудом заставлял себя хоть что-то проглотить, однако в этот раз он с жадностью накинулся на еду. «Это потому, что я далеко от дома, — решил Томаш. — Организм чует неладное и стремится насытиться про запас, мало ли когда все придет в нормальное русло». Размышляя об этом, он проглотил оладьи с сиропом, яйца-бенедикт — блюдо, состоявшее из двух яиц всмятку, — английский кекс и канадский бекон под майонезом, а вместе с ними — дозу холестерина, которая привела бы в ужас их семейного врача. Кроме того, Томаш отдал должное сосискам с бобами и чудесным шоколадным вафлям с орехами, запил все это апельсиновым соком и лишь тогда окончательно почувствовал себя сытым и понял, что пришло время выбросить белый флаг.
Когда профессор покончил с завтраком, была уже почти половина девятого. Следуя инструкциям Молиарти, Томаш поспешил к подъезду, выходившему на Парк-авеню, и оказался в отделанном кремовым мрамором лобби с колоннами и лепниной на потолке; причудливой формы люстры ярко освещали роскошный зал; стены украшала затейливая мозаика на аллегорические сюжеты.
— Good morning, sir, — учтиво поприветствовал Томаша знакомый голос. — How are you today?
Обернувшись, профессор увидел вчерашнего водителя, темнокожего атлета в синей униформе, сиявшего добродушной улыбкой.
— Good morning.
— Shall we go? — предложил водитель, широким жестом приглашая Томаша следовать за собой.
Утро выдалось студеным и солнечным. «Жаль, нельзя пройтись пешком», — подумал Томаш, глядя на озаренные утренними лучами шпили небоскребов. В Нью-Йорке дома так высоки, что солнце не может осветить их целиком; на городских улицах лежит вечная тень. Томаш уселся в «кадиллак», тот же самый длинный черный лимузин, что ждал его в аэропорту накануне, шофер занял водительское место. Стеклянная перегородка с мягким жужжанием опустилась, и перед пассажиром предстали маленький телевизор, бутылка «Гленливета» и «Моэт и Шандон» в ведерке со льдом.
— Enjoy the ride, — вновь широко улыбнулся водитель.
Лимузин тронулся, и Томаш приник к окну; Нью-Йорк неспешно разворачивался перед ним во всей красе. Выехав на Лексингтон-авеню, автомобиль свернул влево, и взору потрясенного португальца предстал Рокет-клуб, похожий на ренессансное палаццо: меньше всего на свете Томаш ожидал увидеть здесь здание в таком стиле. Миновали Мэдисон, за ним началась длинная, на несколько кварталов, улица, забитая машинами; «кадиллак» встроился в плотный поток, проехал мимо штаб-квартиры «Сони» и остановился на углу.
— The office is here, — объявил водитель, притормозив у парадного входа в очередной небоскреб. — Mister Moliarty is waiting for you.
Томаш вылез из машины и поспешил к подъезду. Офис располагался в мрачноватой серой высотке. Порыв ледяного ветра заставил пешехода прибавить шагу, чтобы найти спасение за стеклянными дверьми.
— Профессор Норонья?
Томаш узнал португальско-американский акцент того, с кем говорил по телефону.
— Доброе утро.
— Доброе утро, профессор, рад приветствовать вас в штаб-квартире Фонда американской истории. Я Нельсон Молиарти. Очень рад нашему знакомству.
— Взаимно.
Они обменялись рукопожатиями. Нельсон Молиарти оказался худым и низкорослым, с копной курчавых седых волос. Маленькие глазки и тонкий крючковатый нос придавали ему сходство с хищной птицей.
— Добро пожаловать, — произнес директор фонда.
— Спасибо, — ответил Томаш и огляделся по сторонам. — Настоящий холодильник, не правда ли?
— Простите?
— Я хотел сказать, сегодня очень холодно.
— Да-да, действительно холодно, — с энтузиазмом закивал Молиарти. — Прошу вас, входите.
Пара шагов, и их поглотило мрачное здание. Томаш оказался в мраморном вестибюле, посреди которого возвышалась абстрактная скульптура: массивная гранитная глыба на стальном лафете; из-под нелепой конструкции бежал веселый ручеек. Молиарти перехватил взгляд португальца.
— Забавная вещь, согласитесь. Ее сделал один американский скульптор.
— Очень интересно.
— Идемте, наш офис на двадцать третьем этаже.
Лифт взмыл вверх с головокружительной скоростью; через несколько мгновений он остановился на этаже, который занимал фонд. В офис вели двери матового стекла в металлической раме, украшенные гербом организации. Орел с распростертыми крыльями держал в одной лапе оливковую ветвь, а в другой — ленту, по которой бежала латинская надпись: «Hos successus alit: possunt, quia possem videntur». Под ним красовались изящно переплетенные буквы ФАИ.
Томаш вполголоса прочел знакомое изречение.
— Вергилий, — заметил он.
— Прошу прощения?
— Эти слова, — португалец указал на ленту в когтях орла. — Цитата из «Энеиды» Вергилия. — Он прочел фразу вслух и перевел: — Они смогли, ибо верили, что смогут.
— Ну да. Это наш девиз, — улыбнулся Молиарти. — От успеха к успеху, и пусть ничто не встанет у нас на пути. — Он поглядел на гостя с уважением. — Вы читали поэму в оригинале…
— Разумеется, — кивнул Томаш. — Я читаю на латыни, греческом, коптском, хотя на нем похуже. — Он вздохнул. — Думаю освоить иврит и арамейский, пора расширять горизонты.
Американец промолчал, но было видно, что познания гостя его впечатлили. Миновав стол администратора, Молиарти повел Томаша по длинному коридору. В просторной современной приемной их ждала длинноногая девица стервозного вида.
— Вот наш гость, — объявил Молиарти.
Дамочка холодно кивнула.
— Hi.
— Тереза Ракка, секретарь дирекции фонда.
— Hello, — поздоровался португалец, пожав сухую ладонь.
— Джон на месте? — спросил Молиарти.
— Yes.
Молиарти постучал и, не дождавшись ответа, толкнул дверь. За большим столом красного дерева сидел тучный человек с большой лысиной. Увидев вошедших, он встал, радушно раскинув руки.
— Nel, come in.
Молиарти представил друг другу гостя и хозяина.
— Профессор Норонья из Лиссабона, — сказал он по-английски. — А это Джон Савильяно, исполнительный директор Фонда американской истории.
Савильяно с сердечной улыбкой шагнул вперед и крепко пожал обе руки португальца.
— Welcome! Welcome! Добро пожаловать в Нью-Йорк, профессор.
— Спасибо.
Томаш с энтузиазмом ответил на рукопожатие.
— Надеюсь, полет прошел нормально?
— Да, вполне.
— Отлично, отлично! — Савильяно указал на удобные кожаные кресла в углу кабинета. — Пожалуйста, садитесь.
Устроившись в кресле, Томаш принялся изучать кабинет. Все в нем дышало здоровым консерватизмом, от обитых дубом стен до мебели восемнадцатого века, по виду итальянской и французской. Из широкого окна открывался вид на каменные джунгли Манхэттена. Томаш определил, что окно выходит на юг с его небоскребами, сверкающей крышей величественного Крайслер-билдинг, пирамиду Эмпайр-стейт и в глубине, словно на заднем плане архитектурного макета, стеклянные стены башен-близнецов Всемирного торгового центра. Пол кабинета был выложен ореховым паркетом. По углам стояли кадки с пышными комнатными растениями, стену украшала абстрактная картина с багровыми зигзагами на оливково-зеленом фоне.
— Франц Марк, — сообщил Савильяно, заметив, что гость с интересом разглядывает полотно. — Слышали?
— Нет, — покачал головой Томаш.
— Он был другом Кандинского, они вместе создали группу «Der Blaue Reiter»[11] в тысяча девятьсот одиннадцатом году, — пояснил директор. — Я купил эту картину четыре года назад на аукционе в Мюнхене. — Савильяно присвистнул. — Целое состояние заплатил. Целое состояние.
— Джон не мыслит жизни без живописи, — подал голос Молиарти. — Только представьте, у него дома висят Мондриан и Поллок.
Савильяно улыбнулся Томашу:
— Хотите что-нибудь выпить? Не стесняйтесь. Может, кофе? Капучино у нас просто чудо.
— Ну… Капучино я, пожалуй, выпью.
Исполнительный директор повернулся к дверям.
— Тереза! — позвал он. — Принесите, пожалуйста, четыре капучино и печенье.
Савильяно, улыбаясь, потирал руки.
— Профессор Томаш Норонья, — произнес он торжественно, — могу ли я называть вас Том?
— Том? — рассмеялся Томаш. — Как Тома Хэнкса? Ради бога.
— Вы ведь не обиделись? Мы, американцы, порой бываем немного фамильярны, — Савильяно развел руками. — А вы можете звать меня Джон.
— А меня Нел, — вставил Молиарти.
— Похоже, мы друг друга поняли, — заключил Савильяно. Все трое не сговариваясь посмотрели в окно. — Вы первый раз в Нью-Йорке?
— Да, прежде я не покидал Европу.
— Вам здесь нравится?
— Я ведь только приехал, но то, что мне удалось увидеть, просто восхитительно. — Томаш на секунду задумался. — Чувствую себя так, словно попал в фильм Вуди Алена.
Американцы расхохотались.
— Отлично сказано! — воскликнул Савильяно. — В фильм Вуди Аллена!
— Это так по-европейски! — прокомментировал Молиарти, одобрительно качая головой.
Томаш вежливо улыбался и ничего не понимал.
— Вы со мной не согласны?
— Все зависит от точки зрения, — ответил Савильяно. — Возможно, тот, кто знает наш город по фильмам, видит именно так. Однако настоящий Нью-Йорк совсем не похож на киношный, и наоборот. — Он быстро взглянул на Томаша. — Capisce?[12]
В кабинет вошла миссис Ракка с подносом и принялась аккуратно расставлять на низком столике чашки с обжигающим кофе, сахарницу и вазочку шоколадного печенья. Капучино был великолепным. Сделав большой глоток, Савильяно откинулся на спинку кресла и деликатно прокашлялся.
— А теперь, Том, поговорим о деле. — Он искоса поглядел на Молиарти. — Полагаю, Нел успел рассказать вам о задачах и методах нашей организации…
— Да, в общих чертах.
— Отлично. Фонд американской истории существует на частные пожертвования. Он был основан здесь, в Нью-Йорке, в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году, чтобы материально поддерживать научные изыскания по истории континента. Мы учредили стипендию для одаренных студентов, — не только американских, — готовых искать новые методы для изучения нашей истории.
— Стипендия Колумба, — вставил Молиарти.
— Именно. Мы финансируем интересные исследования в области истории и археологии. Выпускаем журнал «Американа» и снабжаем им городские библиотеки.
— Какого рода исследования? — полюбопытствовал Томаш.
— Все, что касается американской истории, — ответил директор фонда. — Начиная с эпохи динозавров; коренные американцы, европейская колонизация, новейшие миграционные процессы.
— Коренные американцы?
— Ну да, — улыбнулся Савильяно. — Это политически корректный термин. Речь идет о тех бедолагах, что имели несчастье населять Америку до появления европейцев.
— Ясно.
Савильяно вздохнул.
— Что ж, давайте перейдем к нашей проблеме. — Он помолчал, раздумывая, с чего начать. — Вы, конечно, знаете, что в тысяча девятьсот девяносто втором году исполнилось пятьсот лет со дня открытия Америки. Скажу без ложной скромности: наш фонд сделал немало, чтобы это событие не прошло незамеченным. После завершения торжеств мы стали думать, какую дату стоит отметить в следующий раз. Полистали календарь и нашли ответ. — Он пытливо смотрел на Томаша. — Знаете, какой?
— Нет.
— Двадцать второе апреля двухтысячного. Через три месяца.
Томаш посчитал в уме.
— Открытие Бразилии.
— В точку! — вскричал Савильяно. — Пятьсот лет открытию Бразилии. — Он отхлебнул кофе. — Пришлось устраивать мозговой штурм. Нам срочно требовались толковые идеи. Ответственным за мероприятия назначили Нела: он читал лекции по истории в бразильских университетах и неплохо знает страну. И надо сказать, ему удалось придумать нечто действительно стоящее. — Директор повернулся к Молиарти. — Нел, думаю, будет лучше, если ты сам расскажешь.
— С удовольствием, — согласился Молиарти. — Как известно, краеугольный камень современной историографии: было ли открытие Педру Алвареша Кабрала случайным. Непонятно, догадывались ли португальцы о существовании Бразилии, а свидетельства самого Кабрала слишком скудны и туманны. В общем, мы попросили совет директоров выделить деньги на поиски ответа.
— Совет согласился, и все закрутилось, — добавил Савильяно. — Мы решили нанять лучших из лучших в этой области, самых преданных науке историков, самых сведущих экспертов, специалистов, способных выдавить крупицы истины из тех немногих документов, коими мы располагаем.
— Дело в том, — пояснил Молиарти, — что события той эпохи окутаны тайной.
— Португальские короли берегли свои секреты как зеницу ока, — согласился Томаш. — Это называлось политикой умолчания.
— Именно, — подхватил Молиарти. — Понимаете, мы рассчитывали, что со временем все эти грифы будут сняты, и нам откроется правда. На деле же оказалось, что в сохранившихся рукописях содержится больше вопросов, чем ответов, а многим из них и вовсе нет доверия. Вот зачем нам понадобились специалисты.
Томаш скептически поморщился.
— Так-то оно так, однако не стоит полагать, что приличный историк согласится выстроить гипотезу, игнорируя содержание документов. Он привык работать с источниками, воспринимая их как данность и не допуская собственных измышлений. Не стоит ждать от ученого свободного полета фантазии; он оперирует фактами, не так ли?
— Конечно, так.
— Разумеется, к любой рукописи можно и нужно подходить критически, — продолжал Томаш. — Мы должны понимать, с какой целью она создана и насколько достоверна. В этом и состоит критика источников. Но исследование базируется на документах, а не предположениях.
— Именно, — поспешно согласился Молиарти. — Именно. Поэтому мы и приглашаем серьезных историков. Людей, способных выстроить жизнеспособную концепцию вопреки нехватке источников и политике умолчания, как вы ее назвали. Нам нужны серьезные и в то же время храбрые ученые. — Он взял из вазочки печенье и надкусил. — Совет поручил нам найти таких и дать им несколько месяцев, чтобы подготовиться, прикинуть объем работы, проконсультироваться с коллегами. И я нашел подходящую кандидатуру: профессора Мартиньо Васконселуша Тошкану с филологического факультета Лиссабонского классического университета.
Томаш удивленно вскинул брови.
— Профессор Тошкану? Но ведь он…
— Верно, — со скорбным видом подтвердил Молиарти, — скончался две недели назад… У профессора Тошкану есть замечательное, по-настоящему новаторское исследование о Дуарте Пачеко Перейре и его загадочном сочинении «Сердцевина мира». Я прочел все книги профессора, и скажу прямо: меня весьма впечатлили его живой, парадоксальный ум и отсутствие почтения к стереотипам и штампам. В КУР, на историческом факультете, он пользовался всеобщим уважением.
— В КУР?
— В Католическом университете Рио-де-Жанейро, где он читал лекции, — пояснил Молиарти. — Я специально ездил в Лиссабон, чтобы уговорить профессора возглавить наш проект. — Он усмехнулся. — В надежде, что предложенный гонорар ускорит принятие решения.
— Фонд американской истории не экономит на своих сотрудниках, — похвастал Савильяно. — Мы жестко спрашиваем, но щедро платим.
— Профессор Тошкану казался нам идеальной кандидатурой, — продолжал Молиарти. — Я бы не назвал его стиль безупречным, но это беда почти всех португальских историков. К счастью, в нашем распоряжении есть несколько Хемингуэев, способных сделать из Тошкану хотя бы Джона Гришэма.
Американцы дружно расхохотались.
— А почему не Джеймса Джойса? — спросил Томаш. — Разве не он величайший английский писатель?
— Джойс?! — деланно изумился Савильяно. — Jesus Christ! Да он писал еще хуже, чем Тошкану!
— Ладно, посмеялись, и будет, — вздохнул Молиарти. — На чем мы остановились?.. Короче, узнав Тошкану ближе, я понял, что с ним будут проблемы. Профессора невозможно было заставить держаться в рамках определенного исследования. Это был на удивление недисциплинированный ум, который хватался распутывать каждый новый след, показавшийся ему интересным, даже если след заведомо вел в тупик, и у него уходило на это слишком много времени. Кроме того, Тошкану терпеть не мог отчитываться о своей работе. Я требовал регулярных отчетов, а он молчал или отделывался отписками. В один прекрасный день профессор сообщил мне, что обнаружил нечто такое, что произведет настоящую революцию в истории географических открытий. Я спросил, о чем речь, а он бесцеремонно посоветовал набраться терпения и ждать.
— И вы ждали?
— Ждали. А что нам еще оставалось?
— А потом?
— А потом он умер, — мрачно произнес Савильяно.
— Ясно, — сказал Томаш, откинувшись на спинку кресла. — Я начинаю понимать, в чем состоит ваша проблема.
Молиарти кашлянул.
— Одна из наших проблем, — он поднял указательный палец. — Но не единственная. И даже не самая главная.
— Вот как? — удивился португалец.
— Да, — признался Нельсон. — Главная проблема в том, что через три месяца от нас ждут результатов исследования, а нам решительно нечего предъявить. Профессор Тошкану был чересчур скрытным и категорически отказывался посвящать нас в ход своей работы. В результате у нас ничего нет. — Он соединил указательный палец с большим, изобразив нолик. — Ровным счетом ничего.
— Впервые за всю историю существования нашего фонда нам нечего предъявить общественности, — добавил Савильяно.
— Позор, — произнес Молиарти, склонив голову.
Американцы испытующе смотрели на гостя.
— Вот почему мы обратились к вам, — заключил Савильяно. — Мы надеемся, что вы сумеете завершить работу, начатую Тошкану.
— Я?
— А кто же еще? — подтвердил директор фонда. — Работы непочатый край, а времени мало. Монография должна быть готова через два месяца, не позже. Наше издательство способно подготовить книгу за месяц, но мы не в праве требовать от них чудес. Так что давайте условимся на середину марта.
Томаш был вне себя от изумления.
— Постойте, подождите, здесь какая-то ошибка! — Он даже подался вперед. — Я вовсе не специалист в великих географических открытиях. У меня другая специализация. Я, собственно, криптограф, изучаю древние языки, расшифровываю непонятные тексты, атрибутирую документы, оцениваю достоверность источников. Я неплохой ученый, но для ваших целей точно не гожусь. Вам нужен тот, кто серьезно занимается открытиями. На моем факультете, в Новом лиссабонском университете, найдутся блестящие знатоки той эпохи. По крайней мере, двое. Но это не я, джентльмены. — Томаш поднял глаза на американцев. — Понимаете?
Руководители фонда переглянулись.
— Мы все прекрасно понимаем, Том, — сказал Савильяно. — И никакой ошибки здесь нет.
Томаш несколько мгновений пристально глядел на собеседника.
— Наверное, я не очень ясно выразился, — произнес он наконец.
— Ну что вы, Том, вы сформулировали свою мысль совершенно ясно. Crystal clear. Скорее уж, это мы неточно выразились.
— Нам вовсе не нужен специалист по открытиям, — пустился в объяснения Савильяно. — Для этого у нас есть Нел. — Он кивнул в сторону Молиарти. — Нам нужен человек, способный разобраться с материалами, которые Тошкану обнаружил в Бразилии.
— Об этом я и говорю, — не сдавался Томаш. — Вам нужен историк, который сумеет правильно интерпретировать эти самые материалы и подготовить их к печати. Отлично! Так разве знаток великих географических открытий — не самая подходящая кандидатура? Я им не являюсь, ни в малейшей степени. Я лингвист, криптограф и ничем не смогу вам помочь. Понимаете?
— Нет, боюсь, вы не понимаете, — вздохнул Савильяно. — Он покосился на Молиарти, ища поддержки. — Нел, объясни ему, а то мы никогда отсюда не выйдем.
— Дело вот в чем, — начал Молиарти. — Как я уже говорил, профессор Тошкану был человеком весьма скрытным. Он не присылал отчетов, ничего нам не показывал и держал свои исследования в тайне. Я, конечно, пытался его расспрашивать, но прямых ответов не получал. Приходилось верить на слово. — Управляющий вздохнул. — Эта таинственность превратилась в настоящую манию. Профессор трясся над своими секретами, как настоящий параноик, он вбил себе в голову, что кто-то хочет похитить его открытие.
— Но зачем?!
— Говорю же вам, — простонал Молиарти, — он все от нас прятал. Абсолютно все. А то, что нам удалось добыть, зашифровано, да так лихо, что нам самим нипочем не разгадать. — Управляющий наклонился к Томашу. — Том, вы португалец, отличный криптограф и вдобавок знаете историю. Вам это под силу.
Томаш откинулся на спинку кресла, обескураженный и побежденный.
— Я… э-э-э… ну… на самом деле…
— Разумеется, вы всегда сможете на меня рассчитывать, — возобновил атаку Молиарти. — Я лично отправлюсь в Лиссабон и прослежу, чтобы вы ни в чем не нуждались. — Он помолчал. — Сразу скажу: мы станем требовать от вас регулярных отчетов.
— Стойте! — перебил Томаш. — У меня совершенно нет на это времени. Два курса в университете и семейные проблемы…
— Оплата должна вас устроить, — Савильяно легонько потянул португальца за рукав. — Две тысячи долларов в неделю, и все расходы мы берем на себя. А по окончании работы, если мы останемся ею довольны, вас ждет премия — полмиллиона долларов. — Последние слова директор произнес почти по буквам. — Слышите? Полмиллиона долларов!
Томаш лихорадочно подсчитывал в уме. Полмиллиона долларов — это миллион евро, плюс-минус цент.[13] Фантастическая сумма. Решение всех проблем. Можно будет отвести Маргариту к лучшим врачам, нанять ей учителя, купить новый дом, а с ним и лучшее будущее, отказаться от унизительной экономии, позволить себе кучу простых радостей, отправиться в Обидос, не ужасаясь цене на бензин, провести неделю в Париже, сводить Констансу в Лувр, а малышку в Диснейленд. Такими предложениями не разбрасываются.
Томаш наклонился вперед, чтобы поглядеть собеседнику прямо в глаза.
— Что я должен подписать? — спросил он.
Все трое обменялись рукопожатиями в знак заключения сделки.
— Tom, welcome aboard! — провозгласил Савильяно с довольной улыбкой. — Нас ждут великие дела!
— Надеюсь, что так, — согласился Томаш, стараясь высвободить руку из железной клешни американца. — Когда начинать?
— Немедленно. Профессор Тошкану умер две недели назад в Рио-де-Жанейро, в номере отеля, — проговорил Молиарти. — Пил сок, и тут случился инфаркт. Он прилетел в Рио, чтобы покопаться в собраниях тамошних библиотек, Национальной и Португальской. Вернее всего будет пойти по его следам.
Лицо Джона Савильяно приняло насмешливо-скорбное выражение.
— Том, мне не хотелось бы вас огорчать, но ваш самолет вылетает в Рио завтра утром.
III
Сквозь решетчатые металлические ворота открывался вид на дворец Сан-Клементе, белое трехэтажное здание, чьи изящные линии вызывали в памяти европейскую архитектуру восемнадцатого столетия; дворец гордо высился посреди пальм и манговых деревьев; густая зелень со всех сторон окружала здание, по бокам сливаясь с отрогами Ботафого; позади безмолвным гигантом громоздилась темная громада Санта-Марты.
Стояла невыносимая жара; выйдя из такси, Томаш вытер со лба пот, подошел к резным воротам и отыскал глазами пункт охраны слева от ворот.
— Прощу прощения, — позвал он.
Охранник мирно спал, растянувшись на скамье; услышав голос посетителя, он неохотно поднялся, протер глаза и приблизился к ограде.
— Что вам?
— У меня встреча с консулом.
— Вам назначено?
— Да.
— Как ваше имя?
— Томаш Норонья, из Нового лиссабонского университета.
— Подождите минуту, пожалуйста.
Охранник вернулся в свою каморку, связался с кем-то по интеркому, дождался ответа и наконец впустил гостя за ворота.
— Прошу вас, — сказал он, указывая на парадный подъезд дворца. — Вон в ту дверь.
Томаш направился к входу в здание консульства, стараясь держаться живописной аллеи и не углубляться в сад. Поднялся по ступенькам, миновал отделанный черным деревом подъезд и оказался в маленьком холле, украшенном изразцами восемнадцатого века с причудливыми цветами и человеческими фигурками в старинных платьях. За двойными дверьми в золоченых рамах скрывался просторный мраморный атриум, в центре которого стоял внушительных размеров стол с резными ножками, а над ним свисала огромная хрустальная люстра.
Навстречу гостю вышел молодой человек в темно-синем костюме, с гладко зачесанными волосами.
— Профессор Норонья?
— Да.
— Я Лоренсо де Меллу, — он протянул Томашу руку. — Атташе по культуре.
— Приятно познакомиться.
— Господин консул будет с минуты на минуту. — Меллу указал на дверь по левую руку от себя. — Если вы не возражаете, мы могли бы подождать его в зале приемов.
Зал оказался не слишком большим, но достаточно просторным и светлым. Стены были выкрашены в приглушенно-красный цвет, мебель выдержана в кремовых тонах, широкие окна, выходившие в сад, обрамляли пунцовые гардины с золотыми кистями; паркет из благородного бразильского дерева был так старательно натерт, что в нем смутно отражались очертания пузатых диванов и кресел в стиле Людовика XIV. На стене висел большой портрет Жуана VI, бежавшего в Рио от наполеоновских войск; в глубине зала располагалось пианино, черное и блестящее, по всей видимости «Эрар».
— Не желаете чего-нибудь выпить? — предложил атташе.
— Нет, спасибо, — поблагодарил Томаш, усаживаясь в кресло.
— Когда вы прилетели?
— Вчера вечером.
Лоренсо де Меллу удивился.
— Разве сюда из Лиссабона есть вечерний рейс?
— Нет, — улыбнулся Томаш. — Я прилетел из Нью-Йорка в Атланту, а из Атланты уже сюда.
— Значит, вы отправились в Бразилию через Штаты?
— Ну… Что-то вроде того. — Томаш поерзал в кресле. — Дело в том, что в Нью-Йорке я встречался с представителями Фонда американской истории. Не знаю, известно ли вам о нем…
— Немного.
— … и мы решили, что мне следует побывать здесь.
Атташе прикусил нижнюю губу.
— Да, я понимаю. — Он вздохнул. — Все это очень печально.
— Что именно?
— Смерть профессора Тошкану. Никогда не думал, что…
В зал пружинистой походкой вошел элегантный человек средних лет с благородной сединой.
— Здравствуйте, господа!
Лоренсо де Меллу вскочил, чтобы представить Томаша шефу.
— Господин посол, это профессор Норонья, — объявил он с почти подобострастной учтивостью. — Профессор, это консул Алваро Сампайо.
— Доброе утро.
— Нет-нет, не вставайте, — попросил консул. Все трое расселись. — Мой дорогой Лоренсо, ты, надеюсь, догадался предложить гостю кофе?
— Да, господин консул. Профессор отказался.
— Не хотите? — удивился консул и поглядел на Томаша с легкой укоризной. — Это настоящий бразильский кофе, друг мой. Не чета ангольскому.
— Я с удовольствием его попробую, господин консул, просто мне не хотелось бы делать это на голодный желудок.
Консул хлопнул себя по колену и легко поднялся на ноги.
— Как это я не сообразил! — И скомандовал атташе: — Лоренсо, распорядись насчет обеда, живо!
— Да, господин консул! — Атташе немедля кинулся выполнять распоряжение босса.
— Идемте, — пригласил консул Томаша. — Переместимся пока в столовую.
Большую часть роскошной столовой занимал огромный жакарандовый стол, по обеим сторонам которого были расставлены двадцать стульев с высокими спинками, обитых бордовым бархатом. С лепного потолка, в центре которого красовался герб Португалии, свисали две хрустальные люстры, массивные и на удивление изящные; на полу альпийского мрамора были разбросаны пушистые бейрицкие коврики; на стене висел старинный гобелен, изображавший английскую садовую сценку. В правом углу столовой виднелся проход в небольшой коридор, своды которого поддерживали четыре мраморные колонны, а из него — во внутренний дворик, к выложенному изразцами фонтану; в левом широкие стеклянные двери вели в чудесный тропический сад.
Покрытый белой скатертью стол был сервирован на три персоны: серебряные приборы и хрустальные бокалы.
— Чувствуйте себя как дома, — пригласил консул, занимая место во главе стола.
Атташе по культуре не заставил себя ждать.
— Обед подадут через минуту, — сообщил он.
— Отлично, — кивнул консул, разворачивая на коленях салфетку. И тут же повернулся к гостю: — Надеюсь, вы хорошо долетели.
— Я… Ну, более-менее. Мы несколько раз попадали в зону турбулентности.
Дипломат улыбнулся.
— Да, турбулентность вещь неприятная. — В его глазах промелькнула насмешка. — А я и не знал, что вы боитесь летать.
— Ну… — смутился Томаш. — «Боюсь» громко сказано. Скорее, немного опасаюсь.
Все рассмеялись.
— Знаете, это дело привычки, — заметил дипломат. — Чем больше летаешь, тем меньше боишься. Вы ведь не очень опытный путешественник?
— Нет, по правде сказать. Иногда выбираюсь на конференции в Испанию, Италию и Грецию, но основная работа у меня в Португалии, а на путешествия просто нет времени.
Официант в белоснежной куртке с золотыми пуговицами принес фарфоровую супницу. Томаш почувствовал аппетитный запах овощей.
— Стало быть, в Рио вы прежде не бывали, — уточнил консул.
— Нет, я здесь впервые.
Они приступили к еде.
— Ну и как вам у нас?
— Откровенно говоря, еще не успел оглядеться, — признался Томаш, попробовав суп. — Я прилетел только вчера вечером. Пока мне все очень нравится, напоминает Португалию, только в тропиках.
— Очень точное определение. Тропическая Португалия.
Томаш отложил ложку.
— Позвольте спросить, господин посол. Как вышло, что вы посол и в то же время консул? Разве это не две совершенно разные должности?
— Обычно так оно и есть. Но Рио-де-Жанейро особое место. — Чиновник слегка понизил голос. — Дело в том, что посольство в Бразилиа в подметки не годится консульству в Рио.
Гость, собравшийся было возобновить трапезу, вновь положил ложку.
— Понятно, — он был заинтригован. — А почему?
— Потому что Рио-де-Жанейро очень красивый город, а Бразилиа — нагромождение бетонных коробок посреди пустоши.
— Ясно, — кивнул Томаш. — Вам, должно быть, приходилось видеть разные посольства…
— О да. В Багдаде, Луанде, Бейруте. Вашему покорному слуге довелось выполнять долг перед родиной в таких забытых богом дырах, что вы и представить себе не можете.
С супом было покончено. На второе подали свиные отбивные в томатном соусе и жареную картошку; бокалы наполнили водой и красным «Алентежу».
— Господин посол, позвольте поблагодарить вас за то, что вы любезно согласились меня принять.
— Право, не за что. Для нас это не только большая честь, но и прямая обязанность. Я получил специальные инструкции из Лиссабона, сам министр просил меня оказать вам всяческое содействие. Дело в том, что годовщина открытия Бразилии имеет огромное значение для укрепления связей между нашими странами.
— И все же я вам очень благодарен. — Томаш помолчал. — Господин посол, вам удалось собрать информацию, о которой мы говорили по телефону?
— Хм, — хмыкнул посол, сосредоточенно отрезая кусочек мяса. — Профессор Тошкану почти закончил свои исследования, но его внезапная смерть спутала нам все карты. Если бы вы знали, чего нам стоило отправить тело в Португалию! — Он вздохнул. — Это был сущий кошмар. Кипы бумаг, нервотрепка с полицией, опознание, бюрократические проволочки. Потом еще проблемы с авиакомпанией… В общем, фильм ужасов. — Он кивнул в сторону атташе. — В те дни Лоренсо здорово досталось, не так ли, Лоренсо?
— Так и было, господин посол, вы совершенно правы.
— Мы действовали согласно инструкциям. Стали собирать бумаги профессора и выяснили, что он работал в Национальной библиотеке и время от времени в Португальском королевском читальном зале.
— Где это?
— В центре города. — Посол пригубил вино. — Божественно! — произнес он, поднимая бокал и любуясь на свет густой рубиновой жидкостью. И тут же перевел взгляд на Томаша. — Полагаю, работы у вас будет немного. Тошкану пробыл здесь всего три недели, прежде чем сыграл… Прошу прощения, прежде чем скончался.
— Тогда он едва ли успел найти все, что хотел.
— У бедняги просто не было времени.
— Вы сказали, господин посол, что записи профессора нашлись…
— Хм…
— И что их отправили в Лиссабон.
— Именно так.
Атташе робко кашлянул, не решаясь встрять в разговор.
— Не совсем так, — проговорил Лоренсо де Мелло едва слышно.
— Что не совсем так? — удивился консул.
— С дипломатической почтой случилась заминка, и бумаги профессора Тошкану все еще здесь. Их отправят завтра.
— Вот оно что! — вскинул брови Алваро Сампайо. — Вот видите, бумаги все еще здесь.
— И я могу их посмотреть?
— Бумаги? Разумеется. Лоренсо, будь добр, разыщи их и принеси нам, — распорядился консул.
Атташе, не говоря ни слова, поднялся и выскользнул за порог.
— Вам понравились отбивные? — вежливо поинтересовался гостеприимный консул.
— Объеденье, — заверил его Томаш. — Особенно в сочетании с картошкой.
— Вы так считаете?
В столовую вернулся Лоренсо де Меллу с большой папкой в руках.
— Я предлагаю нам всем перейти в библиотеку, там будет удобнее, — распорядился посол.
Библиотека была также меблирована старинной мебелью, но книжных шкафов там было совсем немного. Рассевшись, они аккуратно разместили папку на большом столе, после чего атташе раскрыл ее, достав ровную стопку бумаг.
— Здесь в основном копии и разные заметки, — пояснил он.
Томаш принялся изучать документы. Сверху лежали ксерокопии книг, по большей части шестнадцатого века, как он определил на глазок. Страницы итальянских и латинских фолиантов были щедро украшены миниатюрами и изящными виньетками. Прочесть заметки, написанные немыслимым летящим почерком, почти не представлялось возможным; Томаш сумел разобрать лишь несколько знакомых слов: вот «Кантино», чуть ниже «Пинсон», потом «Кабрал»; речь, несомненно, шла об открытии Бразилии.
Среди этих чудовищных каракулей попался плотный белый лист, посреди которого заглавными буквами, пугающе ровным, безупречным каллиграфическим почерком, словно тот, кто выводил их, выполнял неведомый магический ритуал, были написаны всего несколько слов. Неожиданно для самого себя, подчиняясь инстинкту историка, безошибочной интуиции, свойственной тем, кто проводит жизнь в библиотеках над древними манускриптами, Томаш наклонился и понюхал листок. От него исходил загадочный терпкий аромат. Запах тайны, мистического откровения, в котором открывается не истина — но все новые и новые загадки.
MOLOC
NINUNDIA OMASTOOS
— Странно, не правда ли? — задумчиво проговорил Лоренсо. — Мы нашли это в портфеле профессора. Ума не приложу, что это такое. Вы не знаете, что он хотел этим сказать?
Томаш хранил молчание, всматриваясь в таинственные строки.
— М-м-м, — пробормотал он, погруженный в размышления.
— Милостивый боже! — воскликнул посол. — Бессмыслица какая-то!
— Наверное, какой-нибудь древний язык… — высказал предположение Лоренсо.
Томаш продолжал изучать загадочные письмена.
— Возможно, — произнес он наконец, подняв глаза. — Но скорее всего, это зашифрованное послание.
Консул склонился над странным листком.
— Что же это за шифр? Ничего не понимаю.
— В Нью-Йорке меня предупредили, что у профессора Тошкану была привычка шифровать важные записи, — объяснил Томаш. — Судя по всему, он был помешан на секретах и ребусах. — Норонья вздохнул. — Как видите, это оказалось правдой.
— Дьявольская шарада, — покачал головой консул. — У вас есть какие-нибудь догадки?
— Да, кое-что есть, — проговорил Томаш. — Видите слово «молок»? Оно, по крайней мере, понятно. Правда, загадок от этого меньше не становится… Молок, как вы знаете, древнее божество. — Норонья почесал затылок. — В детстве я обожал книжки о Бернарде Принсе. Одна из них называлась «Суфле Молоха», там действие происходило на острове, которому угрожало извержение вулкана. Этот вулкан считался логовом злобного божества. Еще были комиксы о приключениях Алекса в древнем мире, там тоже фигурировал Молох. Кстати, так называется роман Генри Миллера.
— Но здесь написано молок, а не Молох.
— Молох, Молок или Мелех — не имеет значения. Правильнее всего Мелех, «царь» на семитских языках. У древних евреев он звался Молех, они соединили слова «мелех» и «бошех», «позор» на древнееврейском. Позже появился вариант «Молох» или более распространенный «Молок».
— Да-да, это кровавый царь богов, — скромно заметил атташе, боясь показаться излишне осведомленным. — Его почитали на Востоке, особенно в Моаве, Ханаане, Тире. В Карфагене родители приносили ему в жертву своих первенцев…
— Нет ли здесь Библии? — неожиданно спросил Томаш.
— Сейчас принесу, — вызвался Лоренсо, легко срываясь с места.
— Зачем вам Библия? — поинтересовался консул.
— Хочу найти упоминание о Молоке в Ветхом Завете, — ответил Томаш. — Между прочим, культ Молока долгое время связывали с мифом о Минотавре, чудовище, которое жило в лабиринте под дворцом критского царя Миноса и которому каждый год скармливали по семь юношей и семь дев. Еще его отождествляли с Кроносом, сожравшим собственных детей, финикийским Мелькартом и аммонитянским Милькомом. И это еще далеко не все. Интересно было бы выяснить, в каком контексте Молок упоминается в Писании.
— Этот Молок, оказывается, жуткий тип, — покачал головой посол. — Хотел бы я знать, почему профессор Тошкану ссылается на столь малоприятного господина.
— Я тоже.
Лоренсо положил на стол увесистый том. Томаш раскрыл Библию и углубился в чтение. Он то поспешно пролистывал страницы, то застывал, впившись глазами в мелкие строчки. Через несколько минут он торжествующе вскинул руку.
— Вот, нашел! — Он сделал паузу. — Слушайте. «Ибо нет больше храма Молока, и нет у него власти… Преступивший запрет да будет побит камнями». — Томаш поднял голову. — Видите?
— Но что же это означает?
— Все очень просто, — ответил Томаш. — Закон Моисеев запрещает приносить младенцев в жертву Молоку и карает ослушников смертью. Однако, если верить все тому же Ветхому Завету, этот закон частенько нарушали.
— Это как-то связано с посланием профессора Тошкану?
— Пока не знаю. Я лишь ухватился за знакомое слово. Чтобы прочесть зашифрованное послание, нужно найти конец нити, которая позволит размотать клубок, взломать шифр или код.
— А разве это не одно и то же?
— Что именно?
— Шифр и код.
Томаш покачал головой.
— Не совсем. Кодировка предполагает замену слов, а шифровка — замену букв. Код — шифр высшего пилотажа, в известном смысле аристократ среди шифров.
— А это? — спросил консул, бросив недоверчивый взгляд на записку Тошкану. — Код или шифр?
— Пока трудно сказать, — признался Томаш, слегка поморщившись. — Слово «молок» определенно указывает на кодировку, но остальное… — Он замолчал, вдруг усомнившись в своем наблюдении. И через мгновение решительно заявил: — Нет, остальное тоже код. — Томаш провел пальцем по двум оставшимся словам. — Вы обратили внимание на сплетение слогов, на звуковой рисунок? Нинундия. Омастоос. Это слова, господин посол, вне всякого сомнения. Шифр устроен по-другому, в нем почти никогда не бывает гласных, и выглядит все иначе, хаотически, неорганизованно, запутанно. Как произвольная последовательность согласных. Здесь же есть гласные, а стало быть, это слова. — Норонья вглядывался в таинственные письмена, лелея слабую надежду, что ему сразу удастся ухватить кончик нити, и клубок загадок размотается сам собой. Через минуту он досадливо тряхнул головой. — Нет, не понимаю. — Он прикрыл глаза и сосредоточенно потер виски. — Пожалуй, мне придется поработать над посланием в более подходящей обстановке.
— Значит, эти слова ничего вам не говорят?
Жара усиливалась, солнце нещадно терзало город, а до вечера, сулившего спасительную прохладу, было еще далеко. По какой бы дороге ни пошел Томаш в тот час, любая привела бы его на пляж; а стоило португальцу вернуться в отель, тот самый, в котором жил и умер профессор Тошкану, как зов моря сделался неодолимым. Томаш надел плавки, накинул халат, спустился в холл, попросил полотенце и вышел из отеля. Пересек улицу Мария-Китерия и свернул на знаменитый проспект Виейра-Сото. Дождался зеленого светофора, прошагал по широкой набережной, спустился по ступенькам и оказался на пляже.
Под ногами португальца шуршал мягкий золотистый песок; заглянув в пляжную лавку при отеле, он попросил шезлонг и выбрал солнечные очки. Двое служащих, оба безупречно сложенные и угольно-черные, оба в белых рубашках и одинаковых кепках, установили шезлонг почти у самой кромки воды и раскрыли над ним бело-голубой зонт с логотипом гостиницы. Томаш отблагодарил их чаевыми. Ипанему наводнили тысячи любителей понежиться на солнышке, так что яблоку было негде упасть. «Мороженое! Итальянское мороженое!» — летели над пляжем призывы торговцев.
Томаш расположился в шезлонге, старательно намазался солнцезащитным кремом, откинулся на спинку и попытался расслабиться.
Через несколько минут он приподнялся, чтобы оглядеться по сторонам. Справа от него веселилась компания загорелых юнцов; напротив расположилась пожилая дама в шляпке и темных очках; слева три подружки-мулатки демонстрировали свои безупречные тела; на вкус Томаша, даже чересчур безупречные: здесь определенно не обошлось без вмешательства пластической хирургии. «Мате с лимоном! Матия! Лимонад матия!» — надрывался кто-то за его спиной. Томаш хотел было обернуться, но передумал и снова спрятался от жестоких солнечных лучей в тени широкого зонта.
— Послушай, детка, успокойся! Не бери в голову, — раздался чей-то пронзительный голос. Томаш нехотя приоткрыл глаза и увидел лысого мужчину лет пятидесяти, который неосмотрительно торчал под палящим солнцем, прижимая к уху мобильник. — Ни один из твоих приятелей этого не стоит… — продолжал незнакомец в полный голос. Не слушать его было невозможно. — Именно, ни один. И позволь напомнить, дорогая, у тебя вообще-то есть муж.
Томаш смущенно отвел глаза от любящего бразильского папаши, на весь пляж наставлявшего дочку в интимных вопросах. Впрочем, отвлечься не составило труда. Пляж наводнили торговцы вразнос; не проходило и пяти секунд, чтобы кто-то из них не протопал в двух шагах от его головы, громогласно рекламируя свой товар. «Покупайте мате! Мате с лимоном!» Терпкий аромат щекотал ноздри, а лысый господин с мобильным телефоном продолжал рассказывать дочери, как сексуально удовлетворить ее несчастного мужа. «Горячие лепешки с сыром! Объедение! Только что из печки!» Густой запах сыра распространялся по пляжу, привлекая покупателей. «Апе-е-ель-си-и-ины! Покупайте апе-е-ельси-и-ины!» Владелец мобильника советовал дочери ублажить супруга орально: «Это то, что нужно мужчинам, дорогая!» — даже не думая хоть немного понизить голос. А тут стал подавать признаки жизни и телефон Томаша. «Минеральная вода и „кола-лайт“! Мате!» Томаш нащупал мобильный и ответил на звонок. «Мороженое! Итальянское мороженое! Джеллато и сорбет!»
— Слушаю.
— Профессор Норонья?
— Да!
— Это Лоренсо де Меллу, из консульства.
— А, здравствуйте еще раз!
— Добрый день. У меня для вас новости. У вас есть чем записать?
Томаш потянулся к портфелю и достал блокнот. Телефон пришлось поддерживать плечом.
— Я готов, говорите.
— Завтра вас ждут в Португальском королевском читальном зале.
— Ясно…
— В три часа у вас встреча с директором Национальной библиотеки. Он посвящен в детали вашей миссии и постарается помочь, чем сможет. Его зовут Паулу Феррейра да Лагоа.
— Угу…
— Записали? Паулу Феррейра да Лагоа.
— …да Лагоа. Завтра. В три. А где находятся библиотеки?
— Читальный зал на улице Луиса Камоэнса. Вы легко найдете. Это сразу за площадью Тирадентеша, в самом центре. Национальная библиотека недалеко оттуда, на площади, с которой начинается проспект Рио-Бранко. Любой таксист доставит вас туда в два счета.
— Понятно.
— Если возникнут проблемы, звоните.
— Хорошо. Я вам очень признателен.
Лысый господин как раз повесил трубку, а торговцы надрывались вовсю: «Апельсиновый сок! Апельсиновый сок! Только что выжатый! Покупайте!» Полгорода нежилось на солнце, развалившись в шезлонгах, на топчанах и прямо на песке; Ипанема напоминала гигантскую, до предела забитую Капарику. «Пирожки! Покупайте пирожки!» Молодежь играла в волейбол, перебрасываясь дерзкими остротами и разноцветными мячами. «Эй, земляки! Эй, туристы! Налетай на шуколе от Клаудиньо! Лучшее шуколе во всем Рио!» У самой кромки воды двое подростков со странным ожесточением перебрасывались тарелкой-фрисби; ленивые купальщики мерно покачивались на волнах. «Жа-а-ареный бата-а-ат!» Справа, над самым Леблоном, высились скалы-близнецы, прозванные Двумя Братьями, по их склонам взбирались, убегая от прилива, хлипкие лачуги фавелы Видигал. «Покупайте воду! Покупайте мате!» Крошечные островки архипелага Каррагас лежали изумрудным ожерельем на синем бархате моря. «Натуральные сэндвичи, пальчики оближешь!» Слева, у Скалы Гарпунера, два грузовых судна ползли друг за другом в бутылочное горлышко бухты Гуанабара. «Пирожки! Лангусты-кальмары-мясо-кокос-бананы-курица-цыпленок-курятина-рыба-сыр!» Торговцы, крепкие, темнокожие, в пестрых рубахах, с тяжелыми корзинами смотрелись весьма живописно. «Крем для загара! Дешевле, чем даром! Крем для загара!» Одни громко зазывали покупателей, другие совали отдыхающим еду и напитки, но большинство шествовали молча. «Тату?» Они зигзагами передвигались по пляжу, предлагая всем желающим солнечные очки, шлепанцы, браслеты, сандаловое масло, альбомы с эскизами татуировок, шляпы, кепки, майки, сумки и рюкзаки, купальники, сувениры, бинокли, матрасы, спасательные круги, мячи, предсказание будущего по руке и на картах. «Итальянские леденцы! Объедение! Из самой Италии!»
Томаш пытался размышлять над загадкой Тошкану, но жара и шум мешали сосредоточиться. Тогда он встал и, пробираясь среди жарившихся на солнце тел, двинулся к морю. Охватившая ступни и лодыжки вода оказалась прохладной, пожалуй, даже чересчур прохладной для тропического пляжа. Двухметровые волны безжалостно разбрасывали купальщиков, но находились храбрецы, готовые оседлать девятый вал на своих серфах. Жаркие лучи обжигали плечи, но вода освежала, помогала расслабиться и собраться с мыслями.
Перво-наперво предстояло понять, что означает «молок», единственное более-менее понятное слово в записке профессора Тошкану. Отчего пожилой ученый решил начать свою шараду с ханаанского божества, охочего до человеческих жертв? Заодно надо было выяснить, не смешал ли профессор в своем послании шифр с кодировкой. Упоминание Молока явно указывало на код, однако остальные слова вполне могли оказаться шифровкой, хотя логика и здравый смысл подсказывали, что это именно слова; и наконец, не мешало разобраться с таинственной нинундией. Взвесив все варианты, Томаш решил на время отбросить версию шифра и рассматривать послание с точки зрения кода. Что же в этом случае могло означать слово «нинундия»? Какую-нибудь неведомую страну? И при чем здесь божество по имени Молок? Возможно, установив между ними связь, он сумеет постичь смысл и последнего закодированного слова «омастоос», ведь разгадал же Шампольон тайну иероглифов, ухватившись за два «эс» и «ра».
Так и не придя ни к какому выводу, Томаш вылез из воды и снова устроился в шезлонге.
Внезапно совсем близко раздался отчаянный крик: «А-а-а-а-а!»
Перепуганный Томаш подскочил на месте и увидел, как человек с ножом набросился на пожилую даму в шляпке. Ограбление, решил он, холодея от ужаса. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что с ножа свисает ярко-желтая долька ананаса. Внешность мнимого грабителя оказалась весьма примечательной; он был низенький, смуглый, с толстыми негритянскими губами и поразительной фацией. Он держал на голове большую плетеную корзину и ничуть не походил на злоумышленника.
— Не желаете ананас? — спросил человек с корзиной.
Он оказался продавцом фруктов.
— Господи, как я испугалась! — простонала пожилая сеньора.
Физиономия торговца расплылась в добродушной улыбке.
— Я вовсе не страшный. Разве я виноват, что рожден мужчиной, и господь наделил меня таким голосом?
Пожилая дама со смехом потянулась за наколотой на нож ананасовой долькой. Торговец учтиво поблагодарил ее, еще раз улыбнулся, отрезал от спелого плода новую дольку и пошел дальше, гордо неся на голове свою корзину, издали похожую на мексиканское сомбреро. Приметив зазевавшуюся красотку, он подкрался к ней сзади с воплем:
— Ананасы! Покупайте ананасы!
Девчонка вскочила, беспомощно обхватив руками плечи.
— Матерь божья! Ты меня напугал!
Томаш не стал отказывать себе в удовольствии попробовать Ипанему на вкус. Здесь на каждом углу торговали манговым соком, сахарным тростником и горячими булочками с сыром. Под вечер, он, как советовал красочный буклет из отеля, он отправился в квартал Висконде-де-Пиража. На углу улицы Фарме-де-Амоэдо располагался «Синдикат Чопп», знаменитый ресторан с просторной верандой, широкими окнами и пространным меню. Томаш заказал пиканью с белым рисом и черными бобами с гарниром из овощей и зелени и отменный местный ром. Через улицу, у бара «Буфетада» толклись нетерпеливые посетители; оглядев завсегдатаев, Норонья решил, что они гомосексуалисты.
Разрезая нежное мясо, Томаш мысленно вернулся к загадке Тошкану. Таинственная «нинундия» не шла у него из головы. Если она и вправду означает какую-то неизвестную землю, слово «омастоос» непременно должно иметь отношение к этой земле. Но как, во имя всего святого! Один из древнейших памятников шумеро-аккадской письменности называется «Поучения Нинурте». А что если Нинундия это край Нинурты? Насколько Томаш помнил, Нинурта был родом из Ниппура, что в современном Ираке, но, возможно, он был неким непостижимым образом связан с Бразилией? Нет, едва ли. Несмотря на очевидное сходство этих слов, Нинурта здесь был совершенно ни при чем. Сколько Томаш ни пытался их сравнивать, набрасывая разные варианты на фирменных бумажных салфетках, ничего путного не выходило.
Раздосадованный неудачей, Норонья принялся рассуждать о другом: как содержание записки связано с работой профессора? Что общего у Молока и открытия Бразилии? Или Бразилия это и есть Нинундия? Интуиция подсказывала Томашу, что в зашифрованном послании идет речь о революции в истории Великих географических открытий, той самой удивительной находке, о которой Тошкану успел сообщить Молиарти. Но какое отношение Молок имеет к мореплаванию? Может, Тошкану выяснил, что Бразилию на самом деле открыли еще в древности? Это было бы забавно, но для революции в истории Португалии и Нового Света маловато. Нет, решил Томаш. Здесь что-то другое. Даже если ханаанцы и вправду достигли бразильского берега, на историю открытий этот факт не повлияет. Или повлияет? Томаш мучился над загадкой, перебирал возможные варианты, искал решение, пытался поставить себя на место профессора Тошкану, но все напрасно; покойный историк сумел надежно защитить свою тайну.
Запиликал телефон.
— Слушаю.
— Hej! Kan jag га tala med Tomas.[14]
— Простите?
В трубке послышался женский смешок.
— Jag heter Lena.[15]
— Прошу прощения? Не могли бы вы представиться?
— Это я, профессор. Лена.
— Лена.
— Ну да. Я просто проверяла уровень вашего шведского. — Девушка снова хихикнула. — Увы, господин профессор, вам явно нужны дополнительные уроки.
— А, Лена! — вспомнил Томаш. — Откуда у вас мой номер?
— Мне его дала секретарша на факультете. — Лена помолчала. — А что? Мне не следовало звонить?
— Нет-нет, — поспешил Томаш исправиться. — Все в порядке. Просто я немного удивился. Не ожидал вашего звонка.
— Значит, ничего страшного?
— Ну конечно. Как ваши дела?
— Простите, и вправду вышло невежливо. Добрый вечер, профессор.
— Здравствуйте, Лена. У вас все в порядке? Ничего не случилось?
— Все хорошо, спасибо, — заверила Лена и тут же сменила тон: — Профессор, я звоню, потому что мне нужна ваша помощь.
— Я вас слушаю.
— Видите ли, я поздно приехала в Лиссабон и пропустила первые лекции.
— Да?
— И теперь мне не хватает материала, который на них проходили.
— Тогда вам проще всего обратиться к однокурсникам.
— Я и сама об этом думала. Но чтобы как следует постичь ваш предмет, прочесть чужие лекции недостаточно, так ведь? Взять хотя бы клинопись, о которой вы говорили в начале курса. Насколько я поняла, шумеры часто образовывали новое слово соединением двух символов. И эти символы могли объединяться в произвольном порядке.
— Да, что-то в этом роде… Возьмем, к примеру… э-э-э… ну, скажем, «гемме» и «ку». «Гемме» означает «рабыня» в соединении со знаками «сал», то есть «женщина», и «кур», «чужая земля». А знаки «кур», «есть» и «нинда», «хлеб», помещались в символ «ка», означающий «рот».
— Вот это меня и смущает. В каком случае символы соединяются последовательно, а в каком один помещается внутри другого?
— Ну, это зависит от…
— Профессор, — перебила Лена. — Вы же не собираетесь читать мне лекцию по телефону?
Томаш замялся.
— Ну… вообще-то… нет.
— Вы могли бы проконсультировать меня при встрече. Завтра или прямо сегодня, если вам удобно.
— Сегодня? Не получится…
— Тогда завтра.
— Погодите. Ни завтра, ни сегодня. Дело в том, что я в Бразилии.
— В Бразилии? Вы серьезно, профессор?
— Да. В Рио-де-Жанейро.
— Круто! Вы уже были на пляже?
— А как же. Сегодня.
— Здорово? У вас там жарко?
— Тридцать градусов.
— А здесь жутко холодно, даже для уроженки Швеции. — Девушка издала притворно жалобный стон. — Б-р-р. Профессор, неужели вам меня совсем не жалко?
— Конечно жалко! — рассмеялся Томаш.
— Тогда вы просто обязаны мне помочь! — с энтузиазмом воскликнула Лена.
— Я готов. А что от меня требуется?
— Позанимайтесь со мной дополнительно.
— Что ж. Я точно не знаю, когда вернусь, это зависит от того, как пойдут дела; но в понедельник мне надо быть в университете, у меня лекция. Позвоните в понедельник, хорошо?
— Конечно. Большое спасибо, профессор.
— Не за что.
— Знаете, — проговорила шведка с непередаваемой лукавой интонацией. — Мне почему-то кажется, что эти занятия доставят нам обоим удовольствие.
Слово «удовольствие» прозвучало недвусмысленно призывно.
Машина едва тащилась по запруженной транспортом утренней улице, и у Томаша было предостаточно времени, чтобы полюбоваться домами и витринами магазинов, приветливо распахнувших двери покупателям. Ветхие, израненные стены старых зданий выглядели необычайно живописно: изъеденные временем перила, высокие окна, фасады самых невероятных цветов, желтые, розовые, голубые, кремовые. Томаш то и дело узнавал в очертаниях экзотического города влияние португальской архитектуры. Брусчатые тротуары на португальский манер украшал черный геометрический орнамент. Названия у окрестных улиц были упоительные: Пинсе-Неш-де-Оро, Паласио-де-Феррамента, Каза-Оливейра.
— Что это за улица?
— Прошу прощения, сеньор? — Таксист покосился на Томаша в зеркало заднего вида.
— Как называется эта улица?
— Руа-да-Кариока, сеньор. Одна из самых старинных в Рио, почти все дома девятнадцатого века. — Он указал налево. — Видите тот погребок?
Томаш послушно повернул голову; за широко распахнутой дверью можно было разглядеть длинные столы и заставленную бутылками стойку.
— Угу. Бар «У Луиса», стало быть. — Таксист притормозил у ресторана, энергично помахав рукой, чтобы другие машины подождали, пока пассажир полюбуется на памятник старины. — Самый старый погреб в Рио, сеньор. Его открыли в восемьсот восемьдесят седьмом году, и знаете, у него любопытная история. Раньше этот бар назывался «У Адольфа», и здесь подавали лучшую немецкую еду в городе, сосиски не хуже, чем в Германии. Главные интеллектуалы того времени приходили сюда поужинать и пропустить рюмку. — За ними уже наметилась пробка, и водителю пришлось тронуться с места. — Потом началась война, и знаете, что сделали хозяева?
— Ушли в подполье?
Таксист расхохотался.
— Поменяли название.
Машина пересекала проспект Парагвайской Республики. Водитель посоветовал пассажиру посмотреть налево, где возвышалась громоздкая конструкция из стекла и металла.
— Кинотеатр «Ирис», — сообщил он тоном заправского гида. — Когда-то считался самым модным в Рио.
Улица Кариока упиралась в вытянутую прямоугольную площадь. Ее центральную часть занимал окруженный резной оградой сквер; деревья, словно верные гвардейцы, окружали статую всадника, сжимавшего в правой руке какой-то свиток; постамент украшали вооруженные копьями индейцы, восседавшие на спинах крокодилов.
— Где это мы?
— На площади Тирадентеша.
— Так это Тирадентеш? — спросил Томаш, кивнув на венчавший площадь монумент.
Таксист опять рассмеялся.
— Нет, сеньор. Это император дон Педру I.
— Надо же! А почему площадь назвали в честь Тирадентеша?
— Это долгая история. Когда-то это место называлось Цыганским полем. Потом здесь стали наказывать рабов, а площадь стали звать площадью Позорного столба. А когда восстание Тирадентеша подавили, на ней возвели эшафот, где его и казнили.
— Кого казнили?
— Как кого? Тирадентеша.
— А, тогда понятно, — Томаш еще раз окинул взглядом памятник. — А что в руке у дона Педро I?
— Декларация независимости Бразилии, — хмыкнул таксист. — Памятник поставил его сын, дон Педро II. — Он усмехнулся. — Говорят, увидев памятник, он пришел в бешенство. Чувак на лошади получился совершенно непохожим на его папеньку.
Такси объехало площадь и свернуло в узкий переулок. Потом повернуло направо, проехало еще немного и остановилось напротив букинистической лавки. Водитель махнул рукой в сторону перекрестка.
— Вот улица Луиса Камоэнса, сеньор. Читальный зал прямо там.
Томаш расплатился и вышел из машины. Тесный пешеходный переулок вел на тихую улочку под названием Ларгу-де-Сан-Франсишку, главным украшением которой был восхитительный памятник в стиле неомануэлино, немного напоминавший изысканный вариант башни Белем; четыре стройных кариатиды не только поддерживали фасад, но и, казалось, придавали равновесие всему причудливому зданию. Сделав несколько шагов, Норонья застыл на месте, не в силах отвести взор от белоснежных стен. На белом фоне резко выделялись два алых португальских креста ордена Воинов Христовых, точно такие же, как на парусах каравелл шестнадцатого века; крупные буквы над подъездом гласили: «Португальский королевский читальный зал».
Вдоволь налюбовавшись роскошным фасадом, Томаш раскрыл тяжелую дверь и вошел в вестибюль знаменитого здания, подаренного Бразилии метрополией в девятнадцатом веке, хранилища самого большого собрания португальских книг в Новом Свете. Три длинных коридора, сменяя друг друга, вели в маленький атриум, откуда открывался проход в центральный зал; шагнув в него, Томаш оказался в самой удивительной библиотеке на земле, от пола до потолка воплощавшей красу и гордость знаменитого стиля. Заставленные книгами деревянные стеллажи спускались вдоль стен, словно заросли плюща; величественные колонны, поддерживающие свод, перекрещивались элегантными арками и перетекали в великолепные балюстрады; пол был выложен темно-красными гранитными плитами, украшенными черным геометрическим рисунком; роль потолка выполнял багряно-синий витраж, и проникавший сквозь него мягкий свет ровно струился по залу; по углам витража красовались портреты великих португальцев, среди которых Томаш без труда узнал Камоэнса и Педру Алвареша Кабрала; в центре была огромная литая люстра, украшенная гербами Португалии.
Потрясенный масштабами здания и красотой интерьера, Томаш медленно пересек зал и подошел к небольшой стойке, за которой уткнулась в экран компьютера миловидная женщина. Услышав шаги, она тут же подняла голову.
— Чем могу помочь? — поинтересовалась женщина.
— Добрый день, сеньора. Вы здесь работаете?
— Да, я библиотекарь. Чем могу служить?
— Меня зовут Томаш Норонья, я профессор Нового лиссабонского университета.
— А, понятно, — энергично закивала библиотекарша. — Доктор Ребелу предупредил меня. У вас рекомендации от консула, верно?
— Да, именно так.
— Мне велели оказывать вам всяческое содействие, — улыбнулась сеньора. — Скажите, что я могу для вас сделать.
— Мне хотелось бы посмотреть материалы, которые профессор Васконселуш Тошкану запрашивал у вас примерно три недели назад.
Пальцы библиотекарши пробежали по клавиатуре компьютера.
— Васконселуш Тошкану… Минутку… Сейчас найду.
Через несколько секунд на экране появился список. Библиотекарша вчитывалась в него, сосредоточенно хмуря брови.
— Я его помню. — Женщина усмехнулась. — На редкость въедливый и упрямый тип, повсюду совал свой нос. — Она испуганно посмотрела на Томаша, вдруг сообразив, что перед ней, возможно, близкий друг или родственник профессора. — Но манеры у него были просто безупречные. Ничего не могу сказать.
— Разумеется.
— А, вот еще что, — вспомнила она. — Он больше не приходил. Надеюсь, мы его ничем не расстроили?
— Нет. Он умер две недели назад.
Женщина побледнела.
— Господи! — воскликнула она потрясение — Умер? Какая все-таки жуткая штука жизнь! Ведь только что, буквально только что человек приходил сюда, а теперь… — Библиотекарша пылко перекрестилась. — Пресвятая Дева!..
Томаш вежливо вздохнул, изображая скорбь. На самом деле он сгорал от нетерпения увидеть заветный список.
— Профессор был вашим родственником?
— Моя миссия состоит в том, чтобы завершить начатые профессором Тошкану исследования. И опубликовать результаты. — Он с надеждой указал на экран компьютера. — Вы что-нибудь нашли?
Внимание библиотекарши переключилось на список.
— Да, — проговорила она. — Получается, этот пожилой сеньор… то есть, профессор Тошкану приходил к нам три раза и все время заказывал одну и ту же книгу. — Женщина всматривалась в мелкие буквы на экране. — «Историю португальской колонизации Бразилии», изданную в Порту. Больше его ничто не интересовало.
— Правда? — удивился Томаш. — А я могу заказать эту книгу?
— Конечно. Какой том?
— А какой том брал профессор?
Женщина сверилась с компьютером.
— Только первый.
— Принесите его, пожалуйста, — попросил Томаш.
Библиотекарша ушла. Томаш присел на деревянную скамью подле стойки выдачи литературы и принялся разглядывать зал. Он с наслаждением вдыхал запах старинной бумаги, дивный запах библиотек, которым невозможно пресытиться; этот запах заменял ему кислород; он приходил издалека, словно таинственный путник, чтобы принести вести из несуществующей страны и позвать в дорогу. Томаш знал: каждого влечет свой, особенный запах. Одни не могут жить без солоноватого морского бриза; другие не мыслят себя без свежего горного воздуха; третьи ищут спасения в пьянящих ароматах луга и леса; он же, Томаш, привык черпать жизненные силы в запахе ломких, пожелтевших страниц, запахе ветхих от времени манускриптов. Это был его дом, его родина. Туда уходила корнями его душа.
— Вот, прошу, — торжественно провозгласила библиотекарша, водрузив на стойку увесистый том.
Томаш прочел заглавие: «История португальской колонизации Бразилии», составленная Малейро Диашем и отпечатанная в издательстве «Литография насьонал» в городе Порту в тысяча девятьсот двадцать четвертом году. Перевернул страницу и погрузился в чтение; меньше чем через час, убедившись, что книга лишь суммирует общеизвестные факты, перешел от чтения к беглому просмотру раздела за разделом. Под конец, отчаявшись найти в «Истории колонизации…» хоть что-то новое или важное для своих изысканий, Норонья с разочарованным видом вернул книгу на стойку.
— Я закончил, — сообщил Норонья. — Профессор Тошкану точно больше ничего не заказывал?
— В компьютере зарегистрирован только этот том.
Томаш задумался.
— Хм, — пробормотал он. — Странно. Вы уверены?
Библиотекарша нахмурилась.
— Эту, я точно помню. Хотя, постойте, он еще спрашивал наши реликвии.
— Реликвии?
— Да. У нас хранятся «Лузиады» тысяча пятьсот семьдесят второго года и «Поучения дона Мануэля» тысяча пятьсот двадцать первого. А еще «Свод законов» тысяча пятьсот тридцать девятого и «Сообщения об истинных делах в новых землях, составленные и записанные отцом Франсишку Алварешем» тысяча пятьсот сорокового.
— Он со всем этим работал?
— Нет, — покачала головой женщина. — Едва просмотрел.
— А, — протянул Томаш. — Обычное любопытство историка.
— Именно, — улыбнулась библиотекарша. — Между прочим, в нашем собрании триста пятьдесят тысяч экземпляров, среди них есть очень редкие, например, «Гибельная страсть» Камилу Каштелу Бранку. Она пользуется большой популярностью. — Библиотекарша игриво вскинула бровь. — Не хотите взглянуть?
Португалец вздохнул и пожал плечами:
— Как-нибудь в другой раз. Уже поздно, и я, откровенно говоря, голоден. В районе Национальной библиотеки есть приличные рестораны?
— Конечно. Прямо напротив, на другой стороне площади.
— Что ж, спасибо. Туда можно дойти пешком?
— Пешком до Национальной библиотеки? Что вы! Конечно, нет! Такая прогулка займет не меньше часа. Если вы торопитесь, лучше всего вызвать такси.
Томаш съел стейк в ресторане «Синеладния», прославившем площадь Флориано и начинавшийся на ней проспект Рио-Бранку. Кромсая ножом мясо, он снова погрузился в размышления над шарадой профессора. В голове у него теснились догадки, гипотезы и сомнения относительно Молока, Нинундии и открытия Бразилии; и чем отчаяннее становились его попытки найти разгадку, тем дальше казался ответ. Ничего лучшего не придумав, Томаш вновь и вновь размышлял над идеей, осенившей его во дворце Сан-Клементе. Что если послание все же зашифровано? Да, буквенные сочетания выглядели слишком упорядоченными, чтобы оказаться шифром; присутствие гласных, выраженные слоги, звучание — все говорило о том, что послание закодировано. Но если все же зашифровано? Больше ухватиться было не за что, и Томаш, исключительно из научной добросовестности, вернулся к отброшенной было гипотезе, для начала решив разобраться с повторяемостью знаков. Перво-наперво следовало попытаться понять, на каком языке составлена записка. Тошкану родился на свет португальцем, и логичнее всего было предположить, что письмо он писал на родном языке.
Томаш достал из блокнота сложенную вдвое ксерокопию шарады и еще раз не спеша сосчитал знаки во второй строке. Буквы о, е, н повторялись трижды, а, с, и дважды, а, д, т, у, м — по одному разу. Буквы е, а — самые распространенные в европейских языках, а значит, ими можно заменить н, о, которых больше всего в ребусе. Затем следуют с, р, их можно поставить на место а, с, и. Томаш проделал это на ресторанной салфетке. Получилось вот что:
Что же это за первое слово, которому не хватает всего двух букв? Томаш мысленно подставил на место пробелов самые редкие буквы: сначала с, — erececrs; потом m, — erememrs; и наконец, d, — erededrs. Он досадливо тряхнул головой. Полная бессмыслица. Со вторым словом тоже ничего не выходило.
Acsicaai? Amsimaai? Adsidaai? Недовольно поморщившись, Томаш решил применить обратную подстановку и поменял местами а и е.
A R A? A? R S E? S I? E E I
Час от часу не легче. Ara?a?rs должно превратиться в Aramamrs? Или, может, Aratatrs? Набор букв. Отчаявшись, Томаш перевел взгляд на второе слово, но и оно не спешило расставаться со своими секретами. Emsimee? Etsitee? Не то. А что если переставить буквы, поменяв местами s, r и i? Но и эта нехитрая операция не прибавила записке смысла. Норонье пришлось признать поражение: он имел дело не с шифром. Значит, все-таки кодировка. И что же? В читальном зале не нашлось ответов ни на один вопрос, оставалась надежда на Национальную библиотеку, в которой, если верить Молиарти, профессор Тошкану провел куда больше времени.
Томаш вздохнул.
Норонья знал, что это необычная библиотека. В ее фондах хранились десять миллионов томов, самое большое собрание на португальском языке и восьмое по величине во всем мире; но ученые и простые читатели ценили не размеры, а уникальное устройство библиотеки, коренившееся в ее удивительной истории. Собрание в Рио-де-Жанейро наследовало Королевскому книгохранилищу, погибшему во время страшного лиссабонского землетрясения 1755 года; тогда его отстроили по приказу короля Иосифа. В начале девятнадцатого века, когда в Португалию вторглись войска Наполеона, монарх с семьей бежал в Бразилию, назначил Рио-де-Жанейро новой столицей империи и повелел построить в городе библиотеку; семьдесят тысяч книг, рукописей, гравюр и карт, в том числе две сотни бесценных инкунабул, пересекли Атлантику в специальных ящиках и были выгружены на берег в бухте Гуанабара, чтобы занять место в катакомбах монастыря кармелиток. Там, во тьме, ждали своего часа подлинные сокровища книжного мира: «Майнцская Библия» 1462 года, второй печатный экземпляр Писания после знаменитой Библии Гуттенберга, первое издание «Лузиад» Камоэнса, датированное 1572 годом, и главное, «Registrum huius operis libri cronicarum cu(m) figuris et imagibus ab inicio mu(n)di», также известный под именем «Нюренбергской хроники», прославленное сочинение Хартмана Шеделя, возвестившего миру о наступлении новой эпохи в 1493 году, драгоценный фолиант, иллюстрированный гравюрами Альбрехта Дюрера. После обретения независимости Португалия потребовала вернуть коллекцию, однако бразильцы наотрез отказались. Дело удалось решить миром: Бразилия заплатила Лиссабону восемьсот реалов отступных.
В три часа по полудни, полный радужных надежд, Томаш вышел из ресторана и направился к зданию Национальной библиотеки на другой стороне площади. Поднявшись по высокой лестнице и войдя в подъезд, он наткнулся на сурового охранника, безмолвно указавшего на стойку для приема посетителей. За стойкой трудились четверо симпатичных и расторопных девушек.
— Добрый день, — поздоровался Томаш. Ему пришлось свериться с блокнотом, чтобы припомнить названное консулом имя. — Мне бы хотелось поговорить с Паулу Феррейрой де Лагоа.
— Вам назначено? — спросила одна из девушек, смуглянка с ясными зелеными глазами.
— Да, меня ждут.
— Ваше имя?
Португалец назвал себя, и секретарша сняла телефонную трубку. Через пару минут она вручила Томашу пропуск и велела подниматься на четвертый этаж. Посетитель послушно направился к лифтам. Там его вновь остановила охрана, на этот раз в лице крупной женщины в униформе, которая проверила пропуск и уже хотела отпустить посетителя с миром, но вдруг заметила у него в кармане блокнот.
— В читальном зале можно писать только карандашом, — сообщила женщина.
— Но у меня нет с собой карандаша…
— Ничего страшного. Карандаш можно попросить у библиотекаря в зале или купить в кафетерии, они там всегда есть.
Лифта долго не было; прошло несколько минут, прежде чем металлические двери раскрылись, и Томаш сумел втиснуться в забитую людьми кабину. Четвертый этаж оказался последним. Выйдя из лифта, Томаш оказался в просторном атриуме; вверх вели широкие мраморные ступени с надежными бронзовыми перилами, потемневшими от времени и прохладными на ощупь; за ними начинался сводчатый коридор. Оглядевшись, Норонья нашел дверь с табличкой «Дирекция» и решительно направился к ней; едва Томаш переступил порог, его охватил поток прохладного сухого воздуха от мощного кондиционера; за прохладой пришло бесконечное изумление. Томаш рассчитывал увидеть обычный кабинет, а оказался в большом зале. Вдоль стен по периметру помещения тянулся широкий балкон, на котором размещались шкафы и столы сотрудников; украшенный витражами стеклянный потолок свободно пропускал дневной свет.
— Добрый день, — обратился к Томашу молодой человек, сидевший за ближайшим столом. — Я могу вам помочь?
— Мне бы хотелось поговорить с директором.
Услужливый сотрудник направил Томаша к менеджеру по работе с читателями, стройной черноглазой мулатке, говорившей по телефону. Увидев посетителя, она тотчас прекратила разговор и положила трубку.
— Извините, сеньор, вы профессор Норонья?
— Так и есть.
— Я позову доктора Паулу, уверена, он будет рад вас видеть.
Мулатка направилась к длинному столу для совещаний, за которым сидели несколько человек, и вскоре вернулась в сопровождении высокого господина лет сорока пяти, с волнистыми светло-каштановыми волосами, изрядно поредевшими на макушке.
— Профессор Норонья, рад познакомиться, — прогудел он с улыбкой, протягивая руку. — Я Паулу Феррейра де Лагоа. Консул рассказал мне о вашей миссии. Я приказал поднять все заказы, которые делал профессор Тошкану. — Он кивнул ассистентке. — Селия, досье готово?
— Конечно, доктор, — ответила девушка, протягивая ему бежевую папку.
Директор библиотеки раскрыл папку, пробежал глазами содержимое и передал гостю.
— Прошу, профессор.
В папке были копии библиотечных формуляров, заполненных Тошкану несколько недель назад. Список книг вышел весьма примечательным: «Cosmographiae introductio cum quibusdam geometriae ac astronomiae priricipiis as earn rem necessariis, Insuper quatuor Americi Vespucii navigations»,[16] напечатанная Мартином Вальдзеемюллером в 1507 году, «Narratio regionum indicarum per Hispanos quosdam devastatarum verissima»,[17] изданное в 1598 году Бартоломе де Лас Касасом, «Epistola de Insulis nuper inventis»,[18] которую в 1493 году представил королям Испании сам Христофор Колумб, «Об океанах и Новом Свете, в трех декадах» Петра Ангиерского; предпоследним в списке шел «Psalterium» Бернардо Джустиниани, изданный в 1516 году, одновременно с книгой Ангиерского, и «Новый Свет» Монтальбоддо 1507 года.
— То, что нужно?
— Да, — ответил Томаш задумчиво.
Сомнения португальца не укрылись от директора Национальной библиотеки.
— М-м-м… Да… Правда, кое-что кажется мне немного странным.
— Вот как?
Томаш передал Лагоа сложенные веером формуляры.
— Скажите, доктор, хоть одна из этих книг имеет отношение к Педро Алварешу Кабралу и открытию Бразилии?
Бразилец вчитался в указанные на бланках названия.
— Ну вот, — проговорил он. — В «Космографии» Вальдзеемюллера приводится одна из первых карт нового континента. — Он взял следующий формуляр. — О «Новом Свете» Монтальбоддо — первая книга, которая подробно повествует об открытии Америки. В 1507 году, когда ни один португалец еще не успел откликнуться на это событие. О «Новом Свете» — бесценный источник.
— Угу… — хмыкнул Томаш, довольный оборотом, который приняло дело. — А другие книги тоже связаны с Бразилией?
— Насколько мне известно, нет…
— Странно…
Повисло молчание.
— Не хотите посмотреть какие-то из этих книг?
— Да, — решил Томаш. — О «Новом Свете».
— Я попрошу, чтобы вас проводили в зал микрофильмов.
— Профессор Тошкану брал микрофильм?
Лагоа сверился с формуляром.
— Нет, оригинал.
— Тогда, если это возможно, я тоже предпочел бы оригинал. Для меня очень важно увидеть именно те документы, что побывали в его руках. Здесь все имеет значение, и пометки на полях, и даже сорт бумаги.
Я хочу попытаться взглянуть на эти книги глазами профессора и ничего не упустить. Бразилец кивнул своей помощнице.
— Селия, вели отыскать оригинал. — Он бросил взгляд на формуляр. — Сейф 1,3. Потом проводи господина профессора в секцию редких книг и проследи, чтобы все прошло, как полагается. — На прощание доктор сердечно пожал Томашу руку. — Господин профессор, я очень рад с вами познакомиться. Если вам понадобится что-нибудь еще, не стесняйтесь, обратитесь к Селии.
Лагоа вернулся к столу для совещаний, а мулатка, торопливо переговорив с кем-то по телефону, позвала Томаша за собой. Покинув атриум, они спустились по мраморной лестнице на один этаж; секция редких книг находилось в том же зале, что и дирекция, только не на балконе, а под ним. Слева от входа стоял огромный шкаф со множеством маленьких ящичков. К металлической ручке каждого ящика крепилась табличка с буквами: документы располагались в строгом алфавитном порядке. Мулатка провела Томаша к столу у противоположной стены, за стойкой персонала. На обтянутой бордовым бархатом столешнице лежали тисненный золотом коричневый томик и пара тонких белых перчаток. Селия подозвала библиотекаршу, круглую низенькую сеньору средних лет.
— Это она? — спросил Томаш с благоговением взирая на старинную книгу, безмятежно покоившуюся на темно-красном бархате.
— Да, — заверила библиотекарша. — «О Новом Свете». Вам придется надеть перчатки. Книга очень старая, и отпечатки пальцев…
— Я все понимаю, — кивнул Томаш. — Не волнуйтесь, я читатель опытный.
— Можно пользоваться только карандашом.
— А вот его у меня нет, — признался португалец, похлопав себя по карманам.
— Возьмите этот, — милостиво разрешила библиотекарша, отыскав на своем столе короткий простой карандаш.
Томаш натянул перчатки, уселся за стол и не без внутренней дрожи раскрыл маленький коричневый том в переплете из мягкой кожи. На первой странице значились имя автора и название, место публикации, город Виченца, и дата, 1507; карандашная пометка на современном португальском гласила, что в книге содержится первое описание открытия Бразилии Педру Алварешем Кабралом. Норонья бережно переворачивал страницы. От желтой с разводами бумаги исходил теплый, сладковатый запах; Томашу хотелось ощутить ее текстуру кончиками пальцев; эти перчатки были все равно что анестезия. Страницы покрывал крупный итальянский текст, по двадцать пять строк на каждой, главы открывали маленькие виньетки.
Норонья просидел над «Землями…» два часа, время от времени делая в блокноте пометки. Закончив, он закрыл книгу и отнес библиотекарше, разбиравшей груду заполненных требований.
— Прошу прощения, — деликатно кашлянул Томаш. — Я все.
— Ах, да, — встрепенулась сеньора. — Будете брать еще что-нибудь?
— Нет, пожалуй, на сегодня хватит. Если не возражаете, вернусь завтра, чтобы поработать с Вальдзеемюллером.
Селия проводила гостя до лифта. Вдвоем они спустились на первый этаж и прошли по мраморной лестнице в центральный атриум, чтобы вернуть пропуск и формуляры. Заместитель директора дремал за столом, положив голову на руки. Услышав шаги, он встрепенулся и мигом принял подобающую позу.
— Знаете, профессор, я вспомнил одну вещь, — сообщил он. — Мы предоставляем читателям сейфы, и профессор Тошкану арендовал у нас ячейку. Если вам угодно, мы могли бы ее открыть.
Томаш проследовал за Селией в помещение службы безопасности. Пройдя сквозь рамку металлоискателя, точно такую, как в аэропортах, они оказались в довольно тесной комнатушке, почти все пространство которой занимали два здоровенных черных шкафа со множеством ячеек. Отыскав ячейку номер шестьдесят семь, Селия достала из кармана мастер-ключ и отперла дверцу; Томаш с любопытством наблюдал за происходящим. Внутри лежала тонкая стопка бумаг.
— Вот бумаги профессора Тошкану. Если хотите, можете их забрать.
Большая часть бумаг оказалась копиями микрофильмов с пометками на полях. И только последний лист отличался от других; на нем каллиграфическим почерком были выведены два столбика букв, а под ними — первые буквы алфавита, соединенные змейкой.
ANA
ASSA
ARARA
SONOS
МАТАМ
OTTO
Томаш закрыл глаза и сосредоточился, пытаясь уловить в последовательности букв хотя бы тень смысла. Около минуты он думал, сопоставлял варианты, изобретал и отметал версии и наконец с торжествующим видом повернулся к Селии.
— Что вы об этом скажете?
Девушка, наморщив лоб, изучала таинственный листок.
— Какая-то бессмыслица, набор букв… — Склонив голову набок, она прочла вслух: — Ана асса арара сонос матам отто.
Томаш приподнял бровь.
— Вы не видите здесь ничего странного?
— Нет, — сдалась она. — А что я должна увидеть?
Португалец указал на верхние столбики.
— Вы не обратили внимания, что слова в них симметричны? Если прочесть слева направо и справа налево, получится то же самое. Смотрите. Первое слово ANA. Второе ASSA. Третье ARARA. Везде одно и то же.
— Но к чему все это?
— Профессор любил ребусы; это надежный способ спрятать что-то у всех на виду… — Внезапно Томаш замолчал; его глаза в буквальном смысле полезли на лоб. — Он хотел, чтобы их сопоставили… сопоставили, — бормотал Норонья себе под нос, ловя губами воздух, словно выброшенная на берег рыба. В крайнем возбуждении он принялся шарить по карманам и, не найдя того, что искал, принялся лихорадочно трясти свой блокнот, пока из него не выпал сложенный вдвое лист. — Слава богу! Вот оно!
Удивленная Селия подняла упавший листок.
MOLOC
NINUNDIA OMASTOOS
Томаш словно впервые читал слова, которые помнил наизусть, по привычке шевеля губами. И наконец издал торжествующий вопль, совершенно немыслимый в стенах библиотеки. Высокие своды атриума откликнулись гулким эхом.
Селия глядела на него с неподдельным интересом.
— Что вы нашли, профессор?
— Все оказалось на удивление просто. — Он постучал себя по лбу указательным пальцем. — Я ломал голову над этой задачкой, а надо было всего лишь прочесть первую строку наоборот. — Норонья снова развернул сложенный лист. — Давайте посмотрим.
Вооружившись авторучкой, он записал полученный результат в нижней части листа. На белой бумаге возникло слово
COLOM
Чтобы расшифровать остальные слова, Томаш воспользовался предложенной Тошкану алфавитной змейкой:
NINUNDIA
OMASTOOS
Прочитав полученную фразу, он подписал в самом низу:
NOMINA SUNT ODIOSA
— А это что? — спросила Селия.
— М-м-м, — Томаш покопался в памяти и без труда определил: — Овидий.
— Овидий? Но что все это значит?
— Это значит, моя дорогая, что мне придется начать все сначала, — ответил Томаш, решительно направляясь к лифту. — Мы на пороге величайшего открытия.
IV
Облака неспешно ползли с линии горизонта, чтобы укутать солнце толстым серым одеялом; они походили на могучие крылья, ровные и темные по краям, курчавые и блестящие ближе к центру. Зимнее солнце лило свой чистый, холодный, прозрачный свет на серебристую ленту Тежу и разноцветные крыши Лиссабона, волнами поднимавшиеся по крутому, женственному бедру холма Лапа.
Томаш кружил по запутанным, полупустым улочкам, поворачивая то вправо, то влево и не зная, какого направления держаться в городском лабиринте, пока случайно не оказался на тихой Руа-ду-Пау-да-Бандейра. Скатившись по сбегающей по склону улочке, Норонья притормозил у элегантного густо-розового здания и припарковал свой маленький «пежо» между двумя новенькими черными «мерседесами». Откуда ни возьмись, появился осанистый швейцар в светло-серой форменной куртке поверх темно-серого жилета и при галстуке с узлом, изяществу которого позавидовал бы любой денди; Томаш опустил стекло.
— «Отель-да-Лапа» здесь?
— Здесь, сеньор.
— Нельзя ли оставить машину на вашей парковке? Дело в том, что на улице…
— Не беспокойтесь. Давайте ваши ключи.
Томаш вошел в лобби отеля, сжимая в руках портфель. Светло-бежевый мраморный пол, такой гладкий, что в него можно было смотреться, словно в зеркало, украшал геометрический орнамент; в центре композиции, на круглом стеклянном столе стояла ваза с алыми мальвами, чьи тугие бутоны напоминали раструбы фонографов; Томаш сразу узнал эти цветы, их часто находили в захоронениях первобытных людей и гробницах фараонов. «Констанса могла бы объяснить, что они означают», — подумал он. Обстановка в лобби была выше всяких похвал: Людовик XV или искусная стилизация под него, кремовые диваны и кресла, обитые белой кожей.
Слева мелькнуло знакомое лицо; Томаш сразу узнал эти маленькие глазки и крючковатый нос; коротышка закрыл журнал с яркой обложкой, вскочил с дивана и бросился ему навстречу.
— Поздравляю, Том, вы на редкость пунктуальны! — вскричал Нельсон на своем диковинном американо-бразильском португальском.
Томаш пожал протянутую руку.
— Здравствуйте, Нельсон. Как у вас дела?
— Просто превосходно, — он улыбнулся и развел руками. — До чего же хорошо в Лиссабоне! Я здесь всего три дня, а уже все ноги исходил.
— Вот как? И где же вы успели побывать?
— Да везде понемногу, — Молиарти увлек Томаша направо, к двери с надписью «Бар Рио-Тежу». — Как насчет того, чтобы перекусить? Вы не голодны?
У входа в бар, словно одинокий часовой, застыло пианино, длинный черный «Кавай», дожидавшийся, когда беглое прикосновение оживит его онемевшие клавиши. Справа помещалась стойка из лакированного орехового дерева, за которой управлялся с бокалами и бутылками ловкий бармен, слева располагались столы и стулья, все в стиле Людовика XV и очень тонкой работы; широкие окна с темно-красными шторами выходили в сад, мелодия вальса Чайковского кружилась по залу, наполняя его атмосферой покоя и легкости. Молиарти выбрал стол у окна и жестом пригласил Томаша садиться.
— Что закажем?
— Разве что чай.
— Waiter, — позвал американец, махнул рукой бармену, который немедленно покинул стойку и подошел к посетителям. — Чай для меня и моего друга.
Бармен открыл блокнот.
— Какой чай желаете?
— У вас есть зеленый? — спросил Томаш.
— Разумеется. Какого сорта?
— А что бы вы посоветовали?
— Если сеньор позволит, я рекомендовал бы японский цветочный, он свежий, терпкий, благородный, с фруктовыми нотами.
— Замечательно, — улыбнулся Томаш.
— А что к чаю?
— Ну, какие-нибудь сласти. У вас есть шоколад?
— У нас отличное печенье, гости очень хвалят.
— Тогда принесите их тоже.
— Будет сделано, — кивнул официант, торопливо черкая в блокноте. — А вам, сеньор? — обратился он к Молиарти.
— А мне ту же закуску, которую я брал вчера.
— Фуагра с арманьяком в соусе из зеленых помидоров и бриоши с орехами и финиками?
— That's right. И шампанского.
— Реймское, «Луи Редерер»?
— Ну да. Только охладите как следует.
Едва бармен отошел, Молиарти дружески хлопнул Томаша по плечу.
— Ну что, Том? Как вам Рио?
— Удивительный город, — ответил португалец, улыбаясь своим воспоминаниям. — И все время разный.
Бармен принес печенье и аккуратно откупорил шампанское; наполнив бокал Молиарти нежно-золотистым вином с легкими пузырьками, отправился за остальным.
— Так что же вам удалось раскопать? — спросил американец, внезапно сделавшись серьезным.
Открыв лежавший на коленях портфель, Томаш достал блокнот и стопку слегка помятых листов.
— Кое-что, как видите, удалось, — сообщил он, разложив содержимое портфеля на столе и подняв глаза на собеседника. — Я прочел все книги, которые профессор Тошкану заказывал в обоих книгохранилищах, скопировал его записи, причем не только найденные в гостинице в Ипанеме, но и те, что он оставил в камере хранения Национальной библиотеки. Сегодня утром я побывал в Португальской публичной библиотеке, здесь, в Лиссабоне, чтобы уточнить кое-какие детали. В общем, можно сказать, что до ответов на все вопросы еще далеко, но мне удалось существенно продвинуться. Другими словами, в моих руках оказались материалы, связанные с открытием Бразилии, которые профессор Тошкану собрал по заданию вашего фонда. Насколько мне известно, на устроенном вами брифинге Тошкану дал понять, что его изыскания связаны с распространенным в среде историков мнением о том, что Педру Алвареш Кабрал лишь объявил миру о том, что другие мореплаватели держали в секрете.
— That's right.
— Пойдем по порядку. Первый вопрос, с которым предстоит разобраться, заключается в том, существовала ли в Португалии времен Великих географических открытий политика умолчания. Ответ поможет нам пролить свет на истинную историческую роль Кабрала. То, что португальцы держали свое открытие в тайне, можно объяснить лишь наличием подобной политики.
— Вы совершенно правы.
— Этот вопрос вызывает в научном сообществе горячие споры, однако большинство ученых склонно считать политику умолчания историческим мифом.
— Ну а вы?
— Это не миф. Политика умолчания существовала. Так думаю я, так думал профессор Тошкану и многие другие историки. Нельзя не признать, что исследователи слишком часто ссылаются на нее, чтобы объяснить нехватку источников и собственные неудачи, но правда и то, что с португальскими мореплавателями той эпохи связано немало загадок. В хрониках, например, нет ни слова о том, что Бартоломеу Диаш сумел обогнуть мыс Доброй Надежды и выйти в Атлантику, как и о том, что в момент его возвращения в Лиссабоне по странному совпадению находился не кто иной, как Христофор Колумб. Почему он оказался в Португалии, неизвестно. Если бы умолчания возобладали, мы никогда бы не узнали имени Диаша и до сих пор полагали, что мыс первым обогнул Васко да Гама.
— Понятно, — кивнул Молиарти. — Вы хотите сказать, что открытия Диаша и других португальских моряков сознательно замалчивались и что к этому может быть причастен Колумб.
— Именно. У такой политики были весьма веские причины. Португалия того времени — крошечная страна с весьма ограниченными ресурсами, неспособная конкурировать с другими европейскими державами. Но что если у нас в руках оказалось бы некое тайное знание, недоступное другим и способное в корне изменить будущее всего человечества? Разумнее всего было бы до поры до времени скрыть это знание. А в урочный час заявить о себе как о новой великой империи.
К столу подошел официант, ловко держа на растопыренных пальцах поднос с дымящимся чайником, чашкой и сахарницей. Томаш узнал дорогой фарфор «Vista Alegre» с характерной росписью в стиле «фамий верт», прелестными сценками, имитирующими китайское искусство времен Кан-си. Бармен наполнил чашку и слегка поклонился.
— Японский цветочный, — объявил он, перед тем как удалиться.
Томаш задумчиво разглядывал содержимое чашки; от прозрачного зеленоватого чая исходил пленительный аромат. Норонья опустил в чай два кусочка сахара, тщательно перемешал, мелодично позвякивая ложечкой о фарфоровые стенки, и сделал глоток. У чая оказался нежный фруктовый вкус.
— М-м-м, просто чудо, — пробормотал он, отставив чашку. — Интересно, что туда добавляют? Так вот. Как я уже говорил, эта политика носила избирательный характер: об одних открытиях радостно сообщали всему миру, другие держали в тайне, исходя из интересов государства. Последние так и канули в Лету. Мы не знаем, что это были за открытия, кто их совершил и когда. Но есть основания полагать, что это касается и открытия Бразилии. Официальные хроники датируют его двадцать вторым апреля 1500 года, когда команда Педро Алвареша Кабрала, унесенная штормом далеко от берегов Индии, увидела перед собой круглую скалу, позже нареченную Монти-Паскуал. Это и был бразильский берег. Моряки назвали новую землю Терра-да-Санта-Крус, провели там десять дней и сумели наладить контакт с аборигенами. Второго мая армада продолжила путь в Индию, а две шхуны направились в Лиссабон. Помощник Кабрала Гашпар де Лемуш привез королю Мануэлу двадцать писем с отчетом о происшедшем. Среди них было свидетельство Перу Ваша де Каминьи. — Томаш потер подбородок. — Это свидетельство можно рассматривать как одно из доказательств нашей теории, ведь автор хроники не выказывает никакого удивления по поводу открытия новой земли.
— Это довольно субъективно, — возразил Молиарти. — Настроение хрониста не может быть доказательством. В конце концов, в те времена новые земли открывали одну за другой.
— Вы правы. Спокойный тон Каминьи ровным счетом ни о чем не говорит, но существуют и другие доказательства. Прежде всего сами шхуны из армады Кабрала. Слишком легкие для путешествия из Индии в Лиссабон. Любой, кто хоть немного понимает в мореплавании, скажет, что это форменное безумие, а о том, чтобы обогнуть на таких посудинах мыс Доброй Надежды, который моряки предпочитают называть мысом Бурь, нечего и думать. В ту эпоху португальцы считались лучшими мореходами. Как же они допустили подобную беспечность? — Томаш перевел дух. — Этому может быть только одно объяснение: Кабрал с самого начала знал, что шхуны пройдут не весь маршрут. Он взял их специально, чтобы с полдороги отправить обратно с вестью об открытии. Другими словами, о том, что на той параллели есть земля, было известно заранее.
— Все это, конечно, звучит очень любопытно, но неубедительно.
— Согласен. Вот вам еще аргумент: моряки с тех шхун молчали об открытии до самого возвращения Кабрала. Как в рот воды набрали. Этому можно найти объяснение лишь в том случае, если предположить, что им велели молчать.
— Хмм… Интересно. По-прежнему неубедительно, а впрочем, продолжайте.
— Хорошо. Мы подходим к третьему доказательству. Я говорю о двух картах. Первая, особенно важная для нас, это планисфера, начертанная неизвестным картографом из мастерской Альберто Кантино по заказу Эркулеса д'Эсте, герцога Феррарского, на пергаменте длиною в метр и шириной в два. Поскольку имя португальского картографа осталось неизвестным, карта вошла в историю под именем Планисфера Кантино, сейчас она хранится в библиотеке города Модены в Италии. В письме, датированном девятнадцатым ноября 1502 года, Кантино указывает, что карту тайно скопировали с португальского оригинала. И что главная ценность этой карты состоит в том, что на ней отображены приблизительные очертания бразильского берега. А теперь давайте посчитаем. — Томаш достал ручку и открыл чистую страницу блокнота. — Письмо Кантино написано в ноябре 1502-го, то есть оригинал карты попал в Италию самое позднее через два года после возвращения Кабрала. — Он написал с левой стороны страницы «Кабрал, апрель 1500-го», с правой — «Кантино, ноябрь 1502-го» и соединил пометки горизонтальной линией. — Но дело в том, что первое описание бразильского берега составил вовсе не Карбал. — Томаш поднял два пальца. — Вторым бразильского побережья достиг Жуан де Нова в апреле 1501 года, за год до того, как герцог Феррарский получил Планисферу Кантино. Между прочим, Нова направлялся вовсе не в Бразилию. Как и Кабрал, он плыл в Индию, а в Лиссабон вернулся в середине 1502-го, и у него не было времени составить подробное описание береговой линии. — Томаш поднял третий палец. — Планисфера Кантино могла появиться лишь после третьего путешествия, когда король впервые отправил свой флот к берегам Бразилии. Я говорю об экспедиции Гонсалу Коэльо, начавшейся в мае 1501 года. В команде Коэльо был флорентинец Америго Веспуччи, именем которого по нелепой случайности назван американский континент. Экспедиция достигла Бразилии в середине августа, больше года исследовала побережье, открыла большую бухту, названную Рио-де-Жанейро, добралась до самой Кананейи и пустилась в обратный путь. Три каравеллы Коэльо вошли в лиссабонскую гавань двадцать второго июля 1502 года. — Норонья написал на листке «Гонсалу Коэльо, июль 1502-го» и провел горизонтальную линию к имени Кантино. — Тут-то и скрывается главная странность, — заметил он, обводя ручкой две даты. — Возможно ли, чтобы за четыре месяца королевские картографы успели составить подробную карту, а итальянцы подсмотрели ее, скопировали и начертили собственную? — Томаш еще раз провел ручкой по тонкой линии, протянувшейся между именами Коэльо и Кантино и обозначавшей время, поморщился и покачал головой. — Едва ли. Все это нереально проделать меньше чем за четыре месяца. И тогда перед нами встает главный вопрос. Как, черт возьми, Альберто Кантино удалось заполучить португальскую планисферу с изображением земли, которую еще не успели описать? И откуда он узнал про эту землю? — Томаш поднял указательный палец, призывая собеседника обратиться в слух. — Планисфера Кантино срисована не с официальных карт, которые появились после экспедиции Кабрала, а с тех, что были составлены гораздо раньше и до срока были спрятаны от мира.
— Хм, — Молиарти пребывал в глубокой задумчивости. — Интересно. И что из этого следует?
Томаш опустил голову.
— Составить детальное описание только что открытой земли за четыре месяца очень трудно. Раздобыть тайные сведения и на их основе сделать карту и того труднее. — Португалец поднял глаза на Молиарти. — И все-таки это возможно.
Американец выглядел немного разочарованным.
— Постойте, — промолвил он. — Вы сказали, что была еще одна карта.
— Не совсем карта. Точнее, не карта, а упоминание о ней.
— Какое упоминание?
— Вот что писал местре Жуан в письме, которое Гашпар де Лемуш вручил королю Мануэлу первого мая 1500 года: «Чтобы узнать, где расположена новая земля, вашему величеству довольно будет взглянуть на карту мира Перу Ваша Бизагуду. К несчастью, по ней невозможно судить, обитаема ли эта земля. Это очень старинная карта». — Томаш отложил блокнот и перевел взгляд на собеседника. — Откуда на очень старинной карте взялась едва открытая земля?
Официант принес Молиарти закуски. Томаш воспользовался передышкой, чтобы глотнуть зеленого чая.
— Вы приводите веские аргументы, — признал американец, надкусив бриошь. Не хватает только… м-м-м… как это по-вашему?… smoking gun?
— Исчерпывающего доказательства?
— Да.
— Не торопитесь, у меня еще не все. — Норонья вернулся к своему блокноту. — Француз Жан де Лери пробыл в Бразилии с 1556-го по 1558 год. Согласно его запискам, она была открыта около восьмидесяти лет назад. Давайте посчитаем… Получается, это было… Ну да, в 1478 году. Даже если считать, что около восьмидесяти это семьдесят семь или семьдесят пять, все равно мы говорим о событиях, произошедших задолго до 1500 года.
— Хм.
— Сохранилось письмо португальского лазутчика Эстевана Фруа, схваченного испанцами на территории Венесуэлы. В письме от 1514 года, адресованном королю Мануэлу, есть и такие строки: «В землях вашего величества, открытых Жуаном Коэльо двадцать лет назад». — Томаш подсчитал в уме. — Тысяча пятьсот четырнадцать минус двадцать получается… Три, девять, один, четыре… получается 1493-й. — Норонья улыбнулся американцу. — Как видите, снова до 1500-го.
— Письма сохранились?
— Разумеется.
— А вы уверены, что эти ваши источники заслуживают доверия? Какой-то непонятный француз, португальский лазутчик… В конце концов…
— Существуют свидетельства по крайней мере четырех великих мореплавателей о том, что Бразилию открыл не Кабрал. Испанец Алонсо де Охеду, который вместе с Америго Веспуччи достиг берегов Южной Америки в июне 1499-го, где-то в районе Гайаны. Чуть позже, в январе 1500-го, другой испанец Висенте Пинсон добрался до Бразилии, на три месяца раньше Кабрала. А еще Дуарте Пачеко Перейра, один из величайших мореходов эпохи Открытий, имя которого, увы, широкой публике неизвестно.
— Тот самый Пачеко Перейра, о котором Тошкану писал диссертацию.
— Перейра был не только моряком и воином, но и крупным ученым, он почти точно определил диаметр Земли, не располагая современными приборами, усовершенствовал часовой механизм. И написал одно из самых загадочных сочинений того времени: «Сердцевину мира». — Томаш вновь обратился к своим записям. — Пачеко закончил свой труд как раз тогда, когда король Мануэл «повелел отыскать большую землю на Западе», или, как он сам пишет: «В год от Рождества Христова тысяча четыреста девяносто восьмой подданные короля достигли большой суши, окруженной бесчисленными островами». — Томаш отложил блокнот и посмотрел на Молиарти. — Получается, что в 1498 году португальский мореход открыл некую землю к западу от Европы.
Молиарти откусил внушительный кусок бриоши и запил шампанским.
— И кто же четвертый великий мореплаватель?
— Колумб.
Молиарти перестал жевать.
— Колумб? Какой Колумб?
— Как какой?
— Христофор Колумб?
— Он самый.
— А он здесь каким боком?
— На обратном пути после своего первого судьбоносного путешествия Колумб, только что открывший Америку, провел несколько дней в Лиссабоне и получил аудиенцию у короля Жуана II. Во время беседы король мельком упомянул, что к югу от того места, где побывал Колумб, лежит другая обширная земля. Достаточно взглянуть на карту, и мы увидим, что к югу от Карибских островов расположена Южная Америка. Аудиенция состоялась в 1493 году.
— Где же об этом говорится?
— Об аудиенции у короля пишет испанский историк, который хорошо знал Колумба. — Томаш страницу за страницей просматривал свои заметки. — Бартоломео де лас Касас. Вот что говорится в его сочинении о третьей экспедиции Колумба: «Адмирал устремился дальше на юг, ибо ему не давали покоя слова короля дона Жуана о великой земле, лежащей в тех широтах».
Молиарти покончил с едой и небрежно откинулся на спинку стула, смакуя шампанское. Тяжелые ветки смоковниц заглядывали в окна, опуская на пустынный зал прохладную, умиротворяющую тень.
— Как хотите, Том, но одну вещь я совершенно не могу понять, — заявил американец. — Если португальцы и вправду открыли Южную Америку, почему они так долго об этом молчали? И почему нарушили молчание именно в 1505 году?
— Перестраховка, — ответил Томаш. — Политика умолчания помогала королевству выживать и даже вести собственную игру. Наши предки знали о мире куда больше, чем могли вообразить их современники и будущие поколения. Но власти слишком хорошо понимали, как опасно такое знание. Португальцы видели, как алчны их соседи. Прознай остальные европейцы о южных землях раньше времени, корона ни за что не удержала бы своих владений. Пока сохранялась тайна, у нас были развязаны руки, и мы могли спокойно исследовать обретенные территории, не опасаясь конкуренции.
— Это понятно, Том, — перебил Молиарти. — Но если политика умолчания приносила такие обильные плоды, зачем португальцам понадобилось громогласно сообщать об открытии в 1500-м?
— Полагаю, тут не обошлось без испанцев. Политика умолчания была эффективной, пока о новых территориях больше никто не знал. Но после того, как Охеда в 1499-м и Пинсон в январе 1500-го сунули нос в Южную Америку, она сделалась бессмысленной. Пришло время заявить о своих правах на Бразилию.
— Ну конечно, это так понятно.
— Между прочим, мы забыли о последнем доказательстве, самом важном и неопровержимом, о Тордесильясском трактате, в котором Испания и Португалия поделили мир между собой.
— Да мы о нем никогда не забывали, — возразил американец. — Этот документ можно считать точкой отсчета глобализации.
— Пожалуй, — усмехнулся Томаш. Американцы обладали несносной манерой рассуждать о великих исторических событиях, как о сюжетах из вчерашних теленовостей. — По этому договору, освященному Ватиканом, половина Старого и Нового Света отходила португальцам, а вторая половина — испанцам.
— Какова самонадеянность!
— Мы-то с вами знаем, что в те времена это были две сильнейших державы. Кому было решать судьбы мира, как не им. — Томаш допил чай. — К моменту подписания договора у каждой из сторон были неоспоримые политические преимущества. Португалия обладала самым сильным флотом, приспособленным для долгих экспедиций к новым землям. Зато испанцы оказались сильнее в военном отношении и могли с легкостью контролировать огромные территории. Кроме того, тогдашний папа был родом из Испании. Если перевести это на язык футбола, у нас были лучшие игроки, лучший тренер, лучшая экипировка, зато противник заручился поддержкой арбитра. Первое время все так и складывалось. Португальцы плавали, где хотели, а испанцы едва сумели закрепиться на Канарах. Договор в Алькасовасе от 1479 года подтвердил статус-кво: португальцы получали во владение атлантическое побережье Африки и взамен признавали права Кастилии на Канарские острова. Через год в Толедо обе державы окончательно поделили между собой Атлантику. Такое положение сохранялось до первой экспедиции Христофора Колумба. Однако новая реальность потребовала нового договора, и его не замедлили заключить. Это и был Тордесильясский трактат. Первоначально, как вы помните, Лиссабон предлагал поделить море и сушу по параллели, проходящей через Канарские острова, чтобы испанцам достались земли к северу, а кастильцам — все остальное. Но папа Александр VI, испанец по происхождению, издал буллу, согласно которой граница должна была пролегать по меридиану в ста лигах к западу от Азорских островов и островов Зеленого Мыса. В общем, Ватикан подыграл Кастилии. Португальцы попросили передвинуть линию на триста семьдесят лиг к западу от островов Зеленого Мыса, однако кастильцы при поддержке папы настояли на своем. Но с этим договором все было не так просто. — Томаш набросал в блокноте планисферу, грубоватыми штрихами наметил очертания Европы и Африки, подробно изобразил американский континент. Провел вертикальную линию по поверхности Атлантики между Африкой и Южной Америкой и поставил внизу 100. — Вот на чем настаивали испанцы и папа: граница в ста лигах от африканского берега. — Он провел еще одну линию, на этот раз левее, ближе к южной Америке, и под ней написал 370. — А вот что предлагали португальцы: триста семьдесят лиг к западу от островов Зеленого Мыса. — Томаш бросил взгляд на Молиарти. — Скажите-ка, Нел, в чем разница между двумя этими линиями?
Американец склонился над блокнотом.
— Первая линия проходит по морю, вторая захватывает Бразилию.
Томаш кивнул.
— Бразилия. А теперь скажите, почему португальцы хотели передвинуть границу?
— Чтобы утвердить свои права на Бразилию.
— Но тут возникает следующий вопрос: зачем, скажите на милость, в 1494 году утверждать права на еще не открытую страну? — Томаш с заговорщическим видом наклонился к собеседнику: — Или уже открытую?
Молиарти откинулся на спинку стула и вдохнул в легкие побольше воздуха.
— I see your point. — Он взял бутылку «Луи Редера», наполнил фужер, отпил немного и аккуратно поставил фужер на стол, потом вдруг резко подался вперед и впился в Томаша глазами. — Здесь, конечно, есть о чем подумать, — произнес он медленно, — но скажите честно, Том, во всем этом есть хоть что-нибудь новое?
Томаш выдержал взгляд американца, не отводя глаз.
— Ничего, — ответил он.
— Абсолютно ничего?
— Абсолютно. Тошкану лишь систематизировал разрозненные сведения, которые можно почерпнуть у других ученых.
Молиарти скрючился на стуле, опустив плечи и глядя в пространство. Сначала помощник директора фонда казался растерянным, потом растерянность сменила апатия, на смену ей пришла ярость.
— Motherfucker, son of a bitch! — пробормотал он, жутко кривя рот. Опустив веки, он бесцельно водил рукой по столу, будто искал и не находил, во что вцепиться. — 1 knew it! Shit!
Португалец хранил молчание. Молиарти еще долго шептал что-то себе под нос, то багровея, то белея от ярости. Наконец он глубоко вздохнул и глухо произнес:
— Том, профессор Тошкану нас обманул.
— В каком смысле?
Американец потер веки.
— Как мы с Джоном говорили в Нью-Йорке, нам хотелось приурочить к пятисотлетию экспедиции Кабрала какое-нибудь по-настоящему значительное исследование. Для этого мы еще семь лет назад наняли профессора Тошкану. Все это время старый негодяй тратил наши деньги, морочил нам голову и рассказывал байки о великом открытии, на пороге которого он якобы находится. И вот теперь, когда наш уважаемый профессор сыграл в ящик, выясняется, что он, оказывается, всего лишь систематизировал то, что всем и так давно известно. Другими словами, нам остается…
— Вы слишком торопитесь, — перебил Томаш.
Прерванный на полуслове Молиарти замер с обескураженным видом.
— Что?
— Вы слишком торопитесь, утверждая, что профессор Тошкану не обнаружил ничего нового.
— Прошу прощения, но вы сами так сказали.
— Профессор находился в начале пути. Он не успел довести до конца свои исследования.
— Что ж вы сразу не сказали, что есть что-то еще! — воскликнул Молиарти, вновь обретая надежду.
— Разумеется, есть, — осторожно подтвердил Томаш. — Правда, я не уверен, что речь идет именно об открытии Бразилии.
— А о чем же?
Португалец виновато опустил глаза.
— Мне пока нечего вам сказать. Ничего конкретного, хотя есть кое-какие нити, и я пробую их распутать.
— Ради бога, Том, не мучайте меня! Скажите толком, что за нити!
— Мне удалось обнаружить некий шифр.
На губах Молиарти мелькнула странная улыбка, как у человека, которому не терпится рассказать нечто важное.
— Ага! Я всегда знал, здесь что-то есть. Всегда знал. Том, вы ведь скажете мне, что это за шифр?
— Вам приходилось слышать об Овидии?
— Разумеется, — неуверенно ответил американец, гадая, при чем здесь Овидий и как он связан с профессором Тошкану. — Это ведь какой-то римлянин, верно?
— Овидий жил во времена Иисуса Христа и был поэтом. Он писал стихи, полные чувственности и тонкой иронии, и оказал огромное влияние на итальянское Возрождение. Среди его произведений есть поэма под названием «Героиды». А в этой поэме есть одна знаменитая строка.
Томаш сделал паузу и потянулся за печеньем.
— Что за строка? — спросил Молиарти нетерпеливо.
— Nomina sunt odiosa.
— Как?
— Nomina sunt odiosa.
— И как это понимать?
— Не стоит называть имен.
Молиарти беспомощно развел руками.
— So what? При чем тут…
— Nomina sunt odiosa — это ключ, который оставил нам профессор Тошкану. Я не знаю, что это за ключ, — спокойно сказал Томаш, надкусив печенье, — но постараюсь узнать, и обязательно вам расскажу.
V
Желтые диваны и коричневый пол разбавляли стерильную белизну приемного покоя. В комнате витал резкий запах дезинфектора, неприятный, смутно тревожный, сопутствующий всем больницам на свете. Окна выходили на парк аттракционов; ажурные дуги пустых в этот час американских горок грустно синели на фоне гнущихся под ветром деревьев и волнистых холмов, со всех сторон обступивших безлюдный парк.
Томаш притулился на неудобном диване, рассеянно листая журналы, где с ярких фотографий одинаково улыбались хорошо одетые люди, демонстрируя то натужное семейное счастье, то бесстыдный разгул богемных вечеринок; глянцевые журналы, где все мужчины как на подбор респектабельны и в дорогих рубашках, а женщины молоды, красивы и очень сильно накрашены. Пришельцы из другого мира, герои вечной войны с собственным возрастом, в неравных битвах стремящиеся отвоевать год-другой у подступающей старости.
Томашу надоело любоваться ярмаркой тщеславия, и он вернул журналы на место. Маргарита, сидя у окна, прижалась носом к стеклу и мечтательно глядела на заброшенные американские горки, словно фантазируя о стремительных подъемах и головокружительных спусках. Констанса неловко пристроилась на диване подле мужа, беспокойная, нервная, и в немой тревоге смотрела на дочь.
— Думаешь, придется делать операцию? — спросил Томаш тихонько, чтобы Маргарита не слышала.
Констанса вздохнула.
— Не исключено. — Она прикрыла глаза. — Понимаешь, с одной стороны, я вроде бы хочу, чтобы ее прооперировали, и она больше не мучилась. Но когда я представляю, что в такое маленькое сердечко кто-то полезет скальпелем, мне становится страшно до тошноты.
У Маргариты были проблемы с сердцем, обусловленные ее основным заболеванием. Вскоре после того как у малышки диагностировали синдром Дауна, педиатр из института Рикарду Жоржи позвал их на консультацию. Не столько для того, чтобы обследовать девочку, сколько затем, чтобы объяснить напуганным родителям, что их ждет. Слова врача подтверждали то, что они сами успели прочесть в медицинских журналах: болезнь Маргариты означала наличие лишних пар хромосом в каждой клетке организма, в том числе и в сердце. В человеческих клетках по сорок шесть хромосом, разделенных на пары; причина всему — пара номер двадцать один; у Маргариты и ей подобных было не две двадцать первых хромосомы, а три; это явление назвали трисомией 21. Она-то и вызывает синдром Дауна.
Педиатр говорил о «генетической катастрофе», которую невозможно предвидеть, убеждал родителей заглушить муки совести и не винить друг друга; но и Томаш, и Констанса знали: если виноватого нет, значит, виноваты оба, оба допустили то, что произошло, оба пошли открывать, когда в дверь стучалась беда. Отныне оба сгибались под тяжестью неизбывной вины перед маленькой дочуркой, перед своей плотью и кровью, и втайне надеясь заслужить прощение, как могли, старались порадовать ее, облегчить ей жизнь, возместить то, чего она была лишена от рождения.
Проклятая трисомия 21 превратила организм Маргариты в клубок болезней. У девочки была предрасположенность к ангинам и отитам, гастрит, сильное плоскостопие и самое страшное — проблемы с сердцем. Как только малышка появилась на свет, акушерка послушала ее сердечко и тотчас бросилась за кардиологом; после долгих обследований у Маргариты обнаружили порок клапана, отделяющего артериальное кровообращение от венозного, по счастью, операбельный. Статья в медицинском журнале, за который обезумевшие родители хватались, как за соломинку, изобиловала пугающими терминами, вроде дефекта аурикуловентрикулярного клапана с частичным нарушением интераурикулярной коммуникации типа sinus venosus, но, по большому счету, повторяла на непонятном медицинском языке то, что врач объяснил им по-человечески.
После очередной серии консультаций и анализов раздавленные страшными новостями Томаш и Констанса узнали, что операцию следует делать в первые три месяца жизни, а любое промедление приведет к тому, что она может оказаться малоэффективной и чересчур рискованной. То было очень тяжелое время. Почти каждый день приносил новые дурные вести, и они всякий раз оказывались хуже предыдущих. Маргариту поместили в больницу Святой Марты и уже назначили день операции, но тут хирург и кардиолог еще раз посмотрели результаты компьютерной томографии и начали колебаться; порок оказался небольшим, и можно было с большой долей уверенности сказать, что с годами он пройдет сам собой. То была первая хорошая новость со дня ее рождения. В конце концов кардиолог под свою ответственность отдал крошку обессиленным родителям. Девять лет прошли относительно спокойно, но тут выяснилось, что проблемы с сердцем только усугубились, так что вопрос об операции вновь стал актуальным.
— Маргарита Норонья, — позвала с порога толстушка в белом халате.
— Это мы, — вскочила Констанса.
— Пойдемте.
Семья в полном составе последовала за медсестрой; пройдя по коридору, та распахнула самую дальнюю дверь. В кабинете запах дезинфекции сделался еще резче. Справа стояла кушетка, слегка помятая, словно с нее только что кто-то встал; часть помещения была отгорожена занавеской, за ней переодевались пациенты; в глубине, у небольшого окна, глядевшего в стену соседнего здания, сидел врач и что-то писал. Услышав шаги, он отложил ручку и поднялся навстречу пациентам.
— Здравствуйте.
— Добрый день, доктор Оливейра.
Пожав руку Томашу, кардиолог взъерошил волосы Маргариты.
— Привет. Как дела?
— Хоошо, доктоу.
— Ты была хорошей девочкой?
Маргарита покосилась на родителей и решила отвечать по-честному.
— Так себе.
— Так себе? Это как же?
— Мама угается, когда я убиаю.
— Что-что?
— Убиаю.
— Убирает, — перевела Констанса. — Маргарита повсюду наводит порядок и обожает мыть тарелки.
— А, — врач посмотрел на девочку. — Ясно, компульсивное расстройство, мания чистоты.
— Не юбйю гьязь. Гьязь пйохо.
— Все правильно, детка. Я и сам терпеть не могу беспорядок. — Кардиолог вспомнил наконец о родителях пациентки и указал на стулья подле своего стола. — Присаживайтесь.
Маргарита пристроилась на папином колене. Оливейра раскрыл блокнот, Констанса нервно сжимала ручки своей сумочки, а Томаш не мог отвести глаз от пластмассовой модели сердца, стоявшей у доктора на столе.
— Вот результаты обследований, доктор. — Констанса протянула врачу два бежевых конверта.
Оливейра бросил взгляд на логотип клиники.
— Вы делали кардиограмму и рентген в детской кардиологии клиники Святой Марты.
— Да, доктор.
— У доктора Консейсан?
— Да, она сама нас приняла.
— Надеюсь, она обошлась с вами хорошо?
— Просто замечательно.
— Рад слышать. А то на нее иногда жалуются, она не всегда внимательна к пациентам.
— У нас причин для жалоб точно нет.
Оливейра распечатал конверты; в первом лежала черная пластина с рентгеновским снимком грудной клетки Маргариты.
— Хм-хм, — пробормотал врач, разглядывая снимок.
Кардиолог изучал результаты обследования очень внимательно, молча, не издавая никаких звуков, кроме дежурного «хм-хм», и по его виду было решительно невозможно понять, что сулит черная пластина.
— Ну что, доктор? — решился Томаш.
— Дайте я сначала посмотрю.
Врач вставил снимок в допотопный проектор; на стене возникло неясное изображение грудной клетки. Оливейра подкрутил окуляры, и слайд проявился более четко. Внимательно изучив снимок, врач достал его из проектора и положил на стол. Потом не торопясь открыл второй конверт, в котором лежали результаты электрокардиограммы.
— Все в порядке, доктор?
На этот раз голос осмелилась подать измученная ожиданием Констанса.
Оливейра помедлил с ответом, поглощенный изучением данных кардиограммы.
— Надо сделать еще одну, — заявил он наконец, снимая очки и убирая их в карман халата. Доктор встал из-за стола, приоткрыл дверь кабинета и позвал: — Кристина!
На пороге в то же мгновение возникла худенькая девушка с короткими черными волосами.
— Да, доктор?
— Будьте добры, сделайте Маргарите электрокардиограмму.
Медсестра отвела девочку на кушетку. Маргарита с сосредоточенным видом сняла ботинки и разделась. Кристина смазала голый торс пациентки гелем и прикрепила к запястьям и лодыжкам электроды, соединенные проводами с кардиоаппаратом в голове кушетки.
— А теперь полежи тихонечко, хорошо? — попросила Кристина. — Сама не заметишь, как заснешь.
— И сон будет?
— Обязательно.
— Пъекъасный?
— Конечно, — ответила медсестра с едва различимым раздражением. — Ну все, отдыхай.
Маргарита закрыла глаза, и Кристина включила аппарат; машина слегка вибрировала, издавая негромкое гудение. Оливейра, наблюдавший за процедурой из-за стола, убедился, что девочка заснула, и приступил к допросу родителей.
— У нее не бывает одышки, утомления, отеков конечностей?
— Нет, доктор.
Отвечать на вопросы взялась Констанса.
— Судорог, обмороков?
— Нет.
— Температуры?
— Очень редко.
Кардиолог нахмурился.
— Сколько?
— Тридцать восемь, не больше.
— Как долго?
— Простите?
— Я спросил, как долго держится температура.
— С неделю.
— То есть одну неделю?
— Да, одну, не больше.
— И когда это было в последний раз?
— Около месяца.
— Я тогда как раз был в командировке, — вмешался Томаш, до сих пор хранивший молчание.
— А перемен в поведении вы не замечали?
— Нет, — задумалась Констанса. — Хотя иногда она бывает слишком тихой.
— Тихой?
— Ну да, не шалит, не играет…
Врач казался слегка растерянным.
— Хм, — проговорил он. — Хорошо.
Электрокардиограмма была готова; пока Маргарита одевалась, Кристина достала из аппарата распечатку и передала доктору. Оливейра надел очки и принялся изучать показания прибора, время от времени поглядывая на родителей.
— Что ж, результаты идентичны предыдущим, — заявил он наконец. — Аномалия сохраняется, но ухудшений нет.
Констансу такой ответ не устроил.
— Что это значит, доктор? Нужна операция или нет?
Оливейра старательно протер стекла очков и в очередной раз сунул их в карман.
— Посмотрим, — сказал он со вздохом. — Нам некуда торопиться.
Пара закончилась десять минут назад, и Томаш, вопреки обыкновению, не стал задерживаться в аудитории, чтобы поговорить со студентами, а отправился в свой кабинет на шестом этаже. Во время лекции он, против собственной воли, то и дело смотрел на Лену; шведка сидела на том же месте, что и неделю назад, прилежно конспектировала, глядела на профессора ясными синими глазами, внимательно слушала, приоткрыв ротик, словно надеялась испить знаний, как воды; пурпурный пуловер соблазнительно охватывал ее бюст и эффектно контрастировал с длинной кремовой юбкой. Воочию она казалась в сто раз привлекательней, чем помнилось Томашу. Всю пару Норонья боролся с искушением, но лишь оставшись наедине с собой, сумел вернуться к действительности: он преподаватель, Лена студентка, она юная и свободная, ему тридцать пять и у него семья; его дело знать свое место и не терять благоразумия. Томаш тряхнул головой, прогоняя наваждение, и решительно придвинул к себе журнал.
В дверь постучали. На пороге, приветливо улыбаясь, стояла Лена.
— Можно, профессор?
— А! Входите-входите, — пригласил Томаш. — Как успехи?
Шведка кошачьей походкой пересекла кабинет; она казалась уверенной в себе взрослой женщиной, отлично осведомленной о своей власти над мужчинами. Обойдя стол, девушка уселась напротив профессора и приняла довольно раскованную позу.
— Сегодня была очень интересная лекция, — промурлыкала Лена.
— Правда? Что ж, спасибо.
— Хотя я не совсем поняла насчет перехода от идеографики к буквам…
Речь шла о материале последней лекции, посвященной появлению алфавита.
— Это был естественный процесс упрощения письменности, — начал Томаш, довольный тем, что разговор принимает вполне невинный академический оборот. — Дело в том, что в клинописи и иероглифике, неважно, египетской или китайской, слишком много позиций. Приходится запоминать сотни знаков. А это, как вы понимаете, большое препятствие на пути изучения языка. Алфавит был призван решить эту проблему: вместо того чтобы заучивать тысячу иероглифов, как в китайском, или семьсот, как было у египтян, достаточно запомнить самое большее тридцать символов. — Он улыбнулся. — Понимаете? Поэтому я всегда говорю, что алфавит — шаг на пути ко всеобщей грамотности.
— И первыми до такого додумались финикийцы…
— Ну, если совсем по-честному, то первый алфавит появился в Сирии.
— Но, профессор, на лекции вы говорили о финикийцах.
— Финикийский алфавит самый древний из тех, что без всяких сомнений можно считать таковым. Это письмо было огромным шагом вперед по сравнению с клинописью и древнеегипетским демотическим письмом. Финикийцы были мореплавателями и купцами, так что их алфавит, состоявший, кстати, из одних согласных, очень скоро распространился по всему Средиземноморью. До нас он дошел от греков. Но был ли это в действительности самый первый алфавит? — Профессор выдержал паузу, словно говорил перед большой аудиторией. — В Сирии, неподалеку от местечка под названием Угарит, обнаружили клинописные таблички, изготовленные в четырнадцатом веке до нашей эры, задолго до финикийцев. В них насчитали всего двадцать два знака. Это было настоящее открытие. Письмо, в котором так мало символов, не могло быть идеографическим, а стало быть, ученые нашли самый первый алфавит. К сожалению, люди, которые его придумали, были домоседами и, в отличие от финикийцев, не смогли познакомить мир со своим изобретением.
— Кажется, начинаю понимать, — заметила Лена. — А Библия тоже написана по-финикийски?
Томаш засмеялся, но тут же оборвал смех, испугавшись, что девушка может обидеться.
— Нет, Библия написана на древнееврейском и арамейском, — объяснил он, взяв себя в руки. — Хотя ваш вопрос вполне обоснован, без финикийцев и здесь не обошлось. В Сирии, на территории древнего государства Аран, обнаружили арамейский алфавит, очень похожий на финикийский. Многие ученые склоняются к тому, что финикийская письменность повлияла на арамейскую, еврейскую и даже арабскую, хотя о путях этого влияния до сих пор неизвестно.
— А наш алфавит тоже наследует финикийскому?
— Не по прямой линии. Греки дополнили финикийский алфавит гласными, ориентируясь на древне-еврейский и арамейский. Первые буквы еврейского алфавита алеф, бет, гуймель и далет соответствуют греческим альфе, бете, гаме и дельте. Такое сходство нельзя объяснить простым совпадением, оно свидетельствует о родстве. С другой стороны, буквы альфа и бета образуют само слово «алфавит». Греческая письменность легла в основу латинской. Альфа превратилась в a, бета в b, гама в a, а дельта в d. Мы, португальцы, пользуемся латиницей, поскольку наш язык романский.
— А шведский нет.
— Шведский — скандинавский язык, он относится к германской группе. Но и вы используете латинский алфавит, не правда ли?
— А русские?
— Русские пишут кириллицей, которая происходит от греческой письменности.
— Но, профессор, на лекции вы об этом не говорили.
— Терпение, — улыбнулся Томаш, многозначительно подняв указательный палец. — Наш курс еще не окончен. Греки будут в следующий раз. Мы с вами немного забежали вперед…
Лена вздохнула.
— Ах, профессор, — пожаловалась она. — Мне, уж если на то пошло, следует не забегать вперед, а наверстывать упущенное.
— Вполне разумно. А что именно вы упустили?
— Как я уже говорила вам по телефону, из-за проволочек с «Эразмом» я опоздала к началу курса и не была на первых лекциях. Я, конечно, попросила у ребят конспекты, но, откровенно говоря, про шумерскую клинопись не поняла ни слова. Боюсь, мне нужна ваша помощь.
— Хорошо. Так что же вызвало у вас затруднения?
Шведка наклонилась над столом, придвинувшись к Томашу почти вплотную. Он различал терпкий запах ее духов, видел очертания пышного бюста, словно с трудом умещавшегося в обтягивающем пуловере. Норонье пришлось сделать над собой поистине героическое усилие, чтобы разогнать неуместные фантазии, в сотый раз напомнив себе, что она студентка, а он преподаватель, ей двадцать, а ему тридцать пять, она свободна, а у него семья.
— Профессор, вы когда-нибудь пробовали скандинавскую еду? — внезапно спросила Лена.
— Скандинавскую еду? Ой… Да, в Мальме, я там был по Интер-Рейл.
— Вам понравилось?
— Очень. Все блюда пальчики оближешь, только страшно дорого. Интересно, почему.
Девушка улыбнулась.
— Знаете, профессор, у меня так много вопросов, что за час нам точно не управиться. Вот я и решила пригласить вам к себе домой, пообедать и заодно не спеша все обсудить.
— К себе домой?!
Приглашение застало Томаша врасплох. Принять его было рискованно, последствия совместного обеда в домашней обстановке могли оказаться непредсказуемыми. О Лене он, по большому счету, ничего не знал, а ее поведение явно не отличалось скромностью.
— Я приготовлю настоящее шведское блюдо, готова поспорить, вы никогда не пробовали ничего вкуснее.
Томаш колебался. Принимать приглашение не следовало. Обедать со студенткой, особенно с такой студенткой, было небезопасно, а приключений он вовсе не жаждал. Но с другой стороны, что если он преувеличивает? Чересчур сгущает краски? В конце концов, речь идет всего лишь о совместном обеде и консультации. Что здесь такого, собственно говоря? Почему профессор не может потратить пару часов на то, чтобы объяснить своей ученице пропущенный материал? Дополнительных занятий еще никто не запрещал. Правда, предполагается, что они должны проходить в аудитории. Ну и что с того? В чем проблема? Помогать студентам — долг любого преподавателя. К тому же это неплохой повод соединить приятное с полезным. Кто откажется провести время в обществе хорошенькой девушки? Ему давно пора развеяться. А заодно попробовать разнообразить свой гастрономический опыт, тем более что, насколько Томаш помнил, скандинавская кухня в свое время пришлась ему по вкусу.
— Согласен, — заявил он наконец. — Приглашайте.
Лена подарила профессору очаровательную улыбку.
— Договорились! — вскричала она. — Будет повод продемонстрировать кулинарные способности. Давайте завтра?
Назавтра Томашу предстояло сопровождать Констансу в школу, где училась Маргарита. Директриса назначила им встречу, чтобы обсудить возможность найти для девочки педагога-дефектолога.
— Не получится, — покачал он головой. — Завтра я иду… ну… В общем, у меня дела.
— А послезавтра?
— Послезавтра? В пятницу? Хм… Почему бы и нет?
— В час?
— Давайте в час. А где вы живете?
Лена продиктовала адрес и упорхнула, на прощание чмокнув профессора в щеку. Растворилась в воздухе, словно пришелица из волшебной страны, окутав Томаша невесомой пеленой своих духов, оставив его грезить, терзаться, не находить себе места. И сходить с ума от желания.
Супруги Норонья явились в школу Сан-Жулиан-да-Барра поздним утром. Урок еще не закончился, и они смогли лишь одним глазком полюбоваться на дочку сквозь приоткрытую дверь: та сидела на своем месте у окна и с очень серьезным видом слушала учителя. Родители знали, что одноклассники считают Маргариту хорошим товарищем: на переменах она с энтузиазмом включалась в любую игру и всегда была готова прийти на помощь; приветливый нрав сослужил девочке добрую службу: в школе ее почти не дразнили. Томаш и Констанса долго глядели на свою малышку, такую славную и невинную, похожую на ангелочка; наконец они спохватились, что опоздают на встречу, и поспешили в кабинет директора; ждать в приемной не пришлось, через пару минут их пригласили войти.
Директриса оказалась крашеной блондинкой лет сорока, высокой и привлекательной, в круглых очках; посетителей она встретила радушно, но сразу предупредила, что может уделить им совсем немного времени.
— В час у меня обед, — объяснила она, — а в три педсовет.
Томаш посмотрел на часы: десять минут первого, значит, в их распоряжении целых пятьдесят минут. Едва ли их беседа могла продлиться так долго.
— Это очень хорошо, что у вас сегодня педсовет, — пошла в наступление Констанса. — Мы как раз хотели поговорить о вашем педагогическом коллективе.
— Понимаю, — ответила директриса с едва ощутимым раздражением, которое могут позволить себе воспитанные люди, когда наперед знают, о чем пойдет речь. — Вы о дефектологе для вашей девочки.
— Вы совершенно правы.
— Господи, но это же сущий пустяк!
— Для нас это не пустяк, — в голосе Констансы зазвучали гневные нотки. — Можете мне поверить, для нас и нашей дочери это настоящая трагедия. — Она возвысила голос, постепенно закипая. — Вы хоть представляете себе, как отсутствие специального педагога сказывается на Маргарите?
— Но, сеньора, мы делаем все, что можем.
— Ничего вы не делаете.
— Это неправда!
— Правда! — выпалила Констанса. — И вы это прекрасно знаете.
— А почему бы не пригласить снова профессора Коррейю? — поспешил Томаш вмешаться в разговор, грозивший обернуться вульгарной бабьей склокой. — Ему удалось добиться блестящих результатов.
В начале года им объявили, что Коррейя, замечательный педагог, под присмотром которого Маргарита впервые стала делать успехи, больше не будет работать в школе.
— Мы были бы счастливы пригласить профессора Коррейю, — ответила директриса, — но, как мы уже говорили вам в прошлый раз, министерство урезало финансирование, и нанимать почасовиков у школы нет возможности.
— Чушь, — выдохнула Констанса. — У вас есть деньги на всякие глупости, а на дефектолога не хватает!
— Вы не правы. У нас действительно очень скромный бюджет.
— А вы знаете, что за этот год Маргарита фактически разучилась читать и писать? — спросил Томаш.
— Вот как… Я не знала.
— В прошлом году с моей дочерью занималась профессор Коррейя, в этом — обычный учитель, — Томаш обернулся на дверь, словно Маргарита была здесь и могла подтвердить его слова. — Результат налицо, как говорится.
— Обычный учитель ни к черту не годится, когда речь идет об особенных детях, — проворчала Констанса.
Директриса возмущенно всплеснула руками.
— Похоже, вы не слушаете, — заявила она. — Если бы это зависело от меня, я бы завтра же вернула Коррейю. Но все упирается в деньги. Нам урезали финансирование.
Констанса подалась вперед.
— Сеньора директор, — произнесла она, стараясь сохранять спокойствие. — Наличие в школах педагогов для детей с особенностями в развитии определено законодательством. Заметьте, это не наш каприз, и ничего сверхъестественного мы не требуем. Существует закон. Мой муж и я всего-навсего просим вас его соблюдать. Нам не нужны одолжения. Соблюдайте закон.
Директриса вздохнула и опустила голову.
— Закон суров, а жизнь еще суровей. В нашей стране вообще прекрасные законы, вот только условия для их соблюдения подкачали. Что толку требовать от меня держать в школе дефектолога, если мне не выделяют денег, чтобы ему платить? Господа депутаты могут принять закон, ну, например, о том, что каждый… обязан жить вечно. Превосходный закон, вот только невыполнимый, ведь люди вечно не живут. Надо быть реалистами. Так же и в нашем случае. Просто кому-то позарез надо было принять самый справедливый, самый прекрасный, самый гуманный закон, достойный развитого современного общества. Но никто не подумал, как воплотить его в жизнь.
— Но что же нам делать, сеньора? — спросил Томаш. — Оставить все как есть?
— Да, — поддержала мужа Констанса. — Как нам быть?
Директриса сняла очки и протерла стекла оранжевой фланелевой тряпочкой.
— На самом деле у меня есть к вам предложение.
— Какое?
— Как я уже сказала, мы не сможем вернуть Коррейю. Но я могла бы попросить профессора Аделаиду позаниматься с Маргаритой.
— А у нее есть специальная подготовка?
— Дело мастера боится, сеньора.
— Я спрошу по-другому. Ей когда-нибудь приходилось работать с такими детьми?
Директриса поднялась из-за стола.
— Давайте пригласим ее сюда, — сказала она так, словно давно все решила наперед. И крикнула, распахнув дверь: — Марилия, позови, пожалуйста, профессора Аделаиду.
Отдав распоряжение, директриса вернулась за стол и водрузила очки на переносицу. Томаш и Констанса с опаской переглянулись. Они пришли в школу с намерением отстаивать права своей девочки на хорошего учителя до последнего и не были готовы к компромиссам. Маргарите было вполне по силам догнать своих ровесников, если бы нашелся толковый учитель, способный ей помочь.
— Можно?
В кабинет вошла профессор Аделаида, большая, мягкая, источавшая материнское тепло. Она походила на деревенскую матрону, сдержанную, надежную и добродушную. Поздоровавшись с родителями, женщина заняла место у стола.
— Аделаида, — начала директриса, — вы знаете, что нам пришлось расторгнуть контракт с профессором Коррейей, который помогал нашей Маргарите. Могу ли я просить вас позаниматься с девочкой в этом году?
Аделаида кивнула.
— Да-да. Я как раз хотела поговорить с вами о Маргарите и Уго. — Уго учился в параллельном классе и тоже страдал триссомией 21. — Жаль, что профессор Коррейя больше у нас не работает, но я готова заниматься с ребятами, сколько нужно.
— Одну минутку, профессор Аделаида, — перебила Констанса. — У вас есть специальное образование?
— Нет.
— А вам уже приходилось работать с такими детьми?
— Нет. Но больше некому.
— И вы считаете, что с вами Маргарита сумеет продвинуться?
— Думаю, да. Я сделаю все, что от меня зависит.
— Спасибо за участие, — вступил Томаш, — но мне хотелось бы, чтобы вы поняли одну очень важную вещь. Маргарите не нужны занятия ради занятий. Ей нужен прогресс. Каждый урок должен приносить моей дочери пользу. Иначе какой в них смысл?
— Думаю, мы с Маргаритой добьемся прогресса.
— Насколько я понимаю, вам никогда не приходилось учить ребенка с триссомией 21. Между прочим, педагог-дефектолог — это даже не учитель в привычном понимании. Он преподаватель и одновременно психотерапевт, который корректирует поведение ребенка и помогает ему развиваться. При всем уважении к вам, сеньора, боюсь, вы не годитесь на эту роль.
— Возможно, мне и вправду не хватает специальных знаний и навыков, но…
— Послушайте, — вмешалась директриса, явно недовольная оборотом, который принял разговор. — Давайте исходить из реального положения вещей. Профессор Коррейя не вернется. Но у нас есть Аделаида. Всем нам известно, что у нее нет специальной подготовки. Но выбора у нас тоже нет. Надо пользоваться любой возможностью, чтобы решить проблему. Это не самый лучший выход, но для нас он, к сожалению, единственный.
Констанса и Томаш обменялись напряженными взглядами.
— Госпожа директор, — проговорил Норонья. — То, что вы нам предлагаете, не решит проблему Маргариты. Зато решит вашу проблему. — Он сделал ударение на слове «вашу». — Вы не пытаетесь помочь, вы от нас отмахиваетесь. Это же очевидно. Нашей дочери нужен педагог-дефектолог. Повторяю: дефектолог, — Томаш произнес это слово почти по буквам. — Ей нужен результат, а не занятия ради галочки. С профессором Аделаидой мы результатов не добьемся. Профессор Аделаида — не выход.
— Ничего другого я вам предложить не могу, — заявила директриса, отметая возражения энергичным взмахом руки. — С вашей девочкой будет заниматься профессор Аделаида.
— Простите, но мы не согласны. Мы требуем педагога-дефектолога, как положено по закону.
— Да забудьте вы о законе! Вы что, не слышали? У школы нет на это средств. — Директриса смерила супругов открыто неприязненным взглядом. Потом глубоко вздохнула, словно приняв против собственной воли тяжелое решение: — Раз вы отказываетесь от дополнительных занятий с вашей дочерью, я прошу вас подписать соответствующую бумагу.
— Мы не станем этого подписывать, потому что мы хотим, чтобы с Маргаритой занимались дополнительно. Но это должен быть специально подготовленный педагог. А ваша учительница, при всем к ней уважении, просто не справится.
Директриса простилась с родителями сухо, а они покинули школу злыми и подавленными. Ждать милостей от государственной школы не приходилось; по-хорошему, Маргарите давно надо было нанять частного учителя. А этот вопрос, как и все на свете, упирался в деньги, которых семейству Норонья вечно не хватало.
Томаш заглянул в блокнот, чтобы уточнить адрес. Лена жила на улице Латино-Коэльо, в старинном доме, который явно требовал ремонта. Входная дверь была приоткрыта. Толкнув ее, Томаш оказался в холле, выложенном потемневшими, потрескавшимися от времени, кое-где отлетевшими изразцами; свет, проникавший с улицы, освещал лишь центральную часть подъезда, тем гуще казалась притаившаяся по углам тьма. Томаш ощупью добрался до деревянной лестницы, каждая ступенька которой пронзительно скрипела, словно возмущаясь бесцеремонностью пришельца, потревожившего ее сладкий сон. От стен пахло плесенью и сыростью, как во всех без исключения старых домах Лиссабона. Томаш поднялся на второй этаж; покрутившись на лестничной площадке, довольно быстро нашел нужную дверь. Норонья надавил на черную кнопку звонка, и квартира отозвалась мелодичным «динь-дон». Послышались шаги, клацнул замок, и дверь отворилась.
— Hej! — поздоровалась Лена. — Valkommen.[19]
После сумрачного подъезда глаза Томаша не сразу привыкли к яркому свету. На этот раз шведка была одета в светло-голубую шелковую блузку, очень тонкую, почти летнюю. Низкий вырез открывал не стесненные бюстгальтером пышные груди с глубокой ложбинкой. Едва прикрытые шелком соски вызывающе топорщились, словно две большие кнопки. Белая мини-юбка с желтым кушаком выставляла напоказ безупречно гладкие длинные ноги, элегантные туфельки на высоком каблуке подчеркивали стройность и волнующую чувственность фигуры.
— Здравствуйте, — выдавил Томаш. — Вы сегодня… очень красивы.
— Правда? — Лена посторонилась, пропуская гостя. — Спасибо, вы очень любезны. Знаете, по сравнению со шведской зимой португальская больше напоминает лето. Ничего, что я открыла окна? Не люблю жару, мне привычнее, когда прохладно.
Томаш наконец вошел.
— Ничего страшного, — пробормотал он, чувствуя, что краснеет, как рак. — Все отлично. Просто замечательно.
По контрасту с зимним холодом на улице в квартире было немыслимо жарко. Лакированный паркет потемнел от времени, стены украшали аляповатые пейзажи. Запах плесени остался за дверью; в квартире витал дивный аромат еды.
— Вы не хотите снять плащ? — деликатно спросила Лена.
Опомнившись, профессор стянул плащ и передал девушке, которая пристроила его на вешалке. Кухня располагалась в глубине квартиры, к ней вел длинный коридор с двумя дверьми по левую руку. Рядом с кухней была еще одна дверь, за ней скрывалась гостиная с небольшим столом, накрытым на две персоны.
— Как вы заполучили эту квартиру? — поинтересовался Томаш, входя в комнату.
Гостиная была обставлена простой грубоватой мебелью из ореха и дуба. Два потертых коричневых диванчика; старенький телевизор на тумбочке; этажерка, заставленная фарфоровыми безделушками. Из окон, выходивших на задний двор, лился ясный и холодный свет зимнего дня.
— Сняла.
— Я понимаю, но как вы ее нашли?
— Спасибо ОИМС.
— ОИМС?
— Отдел информации и международных связей нашего факультета. За логистику отвечают они. Я обратилась к ним, как только приехала, и мне подобрали эту квартиру. Она живописная, правда?
— Еще какая, — признал Томаш. — А кто хозяин?
— Старушка с первого этажа. Это квартира ее брата, который умер в прошлом году. Сеньора предпочитает иметь дело с иностранцами, поскольку эти жильцы рано или поздно точно съедут.
— Что ж, очень мудро.
Лена зашла на кухню, сняла крышку с большой кастрюли, помешала в ней деревянной ложкой, с наслаждением вдохнула аппетитный запах и улыбнулась.
— Превосходно, — заявила она, провожая Томаша обратно в гостиную. — Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Обед почти готов.
Томаш уселся на диван, Лена пристроилась рядом, поджав под себя ноги. Профессор нервно сглотнул и, чтобы не затягивать двусмысленную паузу, достал из портфеля бумаги.
— У меня с собой материалы по шумеро-аккадской клинописи, — сообщил он. — Предлагаю сосредоточиться на детерминативах.
— Детерминативах?
— Да. Их еще называют семантическими указателями. — Томаш разыскал на плотно исписанных листках соответствующие знаки. — Видите этот символ? Перед нами блестящий пример семантического указателя. Он называется «гис», то есть дерево, и обозначает как деревья в лесу, так и любой деревянный предмет. Семантический указатель используют, чтобы не путаться в значении символов. В данном случае детерминатив «гис»…
— Ах, профессор, — взмолилась Лена. — Давайте продолжим после обеда!
— Как скажете… — смутился Томаш. — Я думал, вы хотите наверстать программу.
— Только не на голодный желудок, — улыбнулась шведка. — Покорми свою корову как следует, и она даст больше молока.
— Что?
— Шведская пословица. В нашем случае это означает, что на сытый желудок голова лучше соображает.
— Понял, — кивнул профессор. — Вы, как я вижу, любите пословицы.
— Обожаю. Пословица — это способ простыми словами выразить истинную мудрость. Вам не кажется?
— Иногда.
— Практически всегда, — безапелляционно заявила девушка. — У португальцев много пословиц?
— Довольно много.
— Вы меня научите?
Томаш рассмеялся.
— Так чему вы в результате хотите научиться? Клинописи или португальским пословицам?
— А можно и тому, и другому?
— Если бы у нас было побольше времени…
— А у нас его достаточно. Впереди целый вечер, разве нет?
— У вас на все найдется ответ.
— Главное женское оружие — язык, — торжественно произнесла Лена. — Это, кстати, еще одна шведская пословица. — И добавила игриво: — В моем случае она имеет двойное значение.
Томаш развел руками, не находясь с ответом.
— Сдаюсь.
— То-то же, — обрадовалась Лена, поудобнее устраиваясь на диване. — Скажите, профессор, вы лиссабонец?
— Нет, я родился в Каштелу Бранку.
— А когда вы перебрались в Лиссабон?
— После школы. Я поступил на исторический факультет.
— Какого университета?
— Нашего.
— А, — кивнула девушка. В ее синих глазах, устремленных на Томаша, вдруг вспыхнул живой интерес. — Вы не женаты?
Томаш ответил не сразу. Некоторое время он взвешивал, что хуже: заведомая ложь, разоблачить которую проще простого, или правда, которая едва ли понравится его собеседнице; наконец он признался, пряча глаза:
— Женат.
Норонья с тревогой ждал реакции. Однако Лена, судя по всему, отнюдь не была разочарована.
— Разумеется! — воскликнула девушка. — Такой красивый мужчина…
Томаш зарделся.
— Что вы… Право же…
— Вы ее любите?
— Кого?
— Свою жену, естественно. Любите?
У Томаша появился шанс немного скорректировать впечатление.
— Когда мы поженились, конечно, любил, еще как! И нам долго удавалось сохранять свои чувства. Теперь мы друзья, мы привыкли друг к другу, и, в конце концов, кто знает, что такое любовь?
Норонья наблюдал за девушкой, стараясь прочесть ее мысли, и испытал немалое облегчение, когда убедился, что Лена осталась довольна его ответом.
— В Швеции говорят: жизнь без любви все равно, что год без лета, — заметила она. — Вы согласны?
— Конечно согласен.
Лена вдруг встрепенулась и прижала ладонь к губам. Глаза ее потемнели от ужаса.
— Ой! — вскрикнула шведка. — Совсем забыла! Еда!
С этими словами она бросилась на кухню. Вскоре до Томаша донесся грохот посуды и цветистые шведские проклятия.
— Все в порядке? — крикнул он в открытую дверь.
— В полном, — отозвалась шведка. — Я сейчас. А вы пока пересаживайтесь к столу.
Томаш не послушал. Вместо этого он пробрался в коридор и заглянул на кухню. Лена хлопотала у плиты, переливая суп из кастрюли в большую фарфоровую супницу. Две глубоких тарелки из того же сервиза ждали на подносе.
— Вам помочь?
— Нет, я справлюсь. Идите к столу.
Профессор еще немного помедлил в дверях, однако суровый и решительный вид шведки говорил о том, что лучше подчиниться. Он вернулся в комнату и уселся за стол. Через минуту в гостиную торжественно вступила Лена с дымящейся супницей на подносе. Поставив тяжелый поднос на стол, она вздохнула с облегчением.
— Уф! А вот и обещанный суп. Давайте есть.
Сначала девушка наполнила тарелку гостя, затем свою. Профессор недоверчиво рассматривал незнакомое блюдо. Суп был белый, душистый, в нем плавали крупные куски мяса.
— Это рыбный суп, — сказала Лена. — Попробуйте, это вкусно.
— У нас рыбный суп выглядит иначе. Это шведское блюдо?
— Если честно, нет. Норвежское.
Томаш зачерпнул немного густого варева, пахнущего морем.
— М-м-м, вкусно, — протянул он, распробовав крепкий бульон, и вежливо кивнул хозяйке.
— Спасибо.
— Из какой рыбы он приготовлен?
— Из разных. Я не знаю португальских названий.
— Основное блюдо тоже будет из рыбы?
— Это и есть основное блюдо. Норвежский рыбный суп очень питательный. После него вы больше ни крошки не сможете проглотить.
Томаш подцепил ложкой кусок рыбы в беловатом бульоне.
— А почему суп белый? — поинтересовался он. — Его готовят…
— На воде пополам с молоком. — В глазах Лены мелькнул знакомый дьявольский огонек. — Знаете, какая у меня главная кулинарная мечта?
— Какая?
— Когда я выйду замуж и у меня родится ребенок, я приготовлю рыбный суп на своем молоке.
Томаш поперхнулся.
— На молоке из своей груди, — спокойно повторила девушка, словно речь шла о самой естественной вещи на свете. Обхватив левую грудь, она надавила на выступавший под тонкой тканью сосок. — А вам не хотелось бы попробовать?
Томаша охватило неодолимое, болезненное возбуждение. Он хотел что-то сказать, но слова застревали в пересохшем горле. Лена потянула вниз край голубой блузки, освобождая левую грудь, белую, как молоко, с большим нежно-розовым соском. Шведка обошла стол и медленно приблизилась к профессору. Она стояла над ним, и ее сосок был как раз на уровне его губ.
Томаш не стал противиться.
Он обнял девушку за талию и приник губами к ее соску, горячему и твердому, как камень. Обхватив ладонями упругие, тяжелые груди, лаская гладкую кожу, уткнулся в них лицом, вдохнул запах. Лена, не торопясь, расстегнула пуговицу на его брюках; расстегнула молнию и одним ловким движением сдернула брюки. Высвободилась, скользнула вниз, дразня, провела руками по бедрам, завладела его членом и припала к нему губами. Томаш застонал, проваливаясь в сладостное забытье.
VI
Массивные дубовые двери южного портала монастыря Святого Иеронима были заперты. Белокаменный фасад XVI века украшали причудливые барельефы, в которых барочные мотивы сочетались с готическими, а религиозные картины с бытовыми сценками; в атриуме стоял памятник инфанту Энрике, окруженный стройными колоннами.
Томаш прошел мимо южного портала, белые камни которого кое-где потемнели от времени, миновал колокольню с византийским куполом-луковкой и свернул за угол, к главному входу. Западный портал монастыря, выдержанный в ренессансном стиле, величавый и сумрачный, совсем не походил на южный. Норонья пересек двор и ступил под своды величественной церкви Святой Марии с высокими резными сводами и восьмигранными пилонами, чьи верхушки раскрывались под куполом, словно кроны гигантских пальм.
С утра церковь была почти пустой, и Томаш без труда нашел Нельсона Молиарти. Американец любовался витражами; заметив профессора, он с радушной улыбкой поспешил навстречу.
— Привет, Том. Как дела?
Томаш пожал протянутую руку.
— Здравствуйте, Нельсон.
— Здесь удивительно красиво, правда? — проговорил Молиарти, широким жестом обводя неф. — Я всегда прихожу сюда, когда бываю в Лиссабоне. Едва ли можно придумать лучший памятник Открытиям и началу глобализации. — Он указал на затейливую резьбу, покрывавшую пилон. — Видите? Морской узел. Ваши предки украсили церковь морским узлом. Еще, если приглядеться, можно найти изображения рыб, раковин, тропических растений и чайных листьев.
Томаша тронул энтузиазм американца.
— Нельсон, я хорошо знаю монастырь Святого Иеронима. Морские мотивы характерны для стиля мануэлино, но в мировой архитектуре это и вправду уникальное явление.
— Не важно, — заявил Молиарти. — Главное, что уникальное.
— А вы знаете, как собирали средства на строительство? Брали налоги с каждого драгоценного камня, каждого золотого слитка и каждой щепотки пряностей, которые каравеллы привозили со всего света. Этот налог прозвали перечным.
— Кто бы мог подумать, — покачал головой Молиарти. — А кто его ввел? Генрих Мореплаватель?
— Нет, монастырь Святого Иеронима построен позже. Он относится к Золотому веку португальского мореплавания.
— А разве этот самый Золотой век не приходится на правление Генриха?
— Разумеется, нет, Нельсон. Правление Генриха положило начало Великим географическим открытиям. Но главные открытия были сделаны позже, когда правили Жуан II и Мануэл. Король Мануэл приказал построить этот монастырь в самом конце XV столетия. — Томаш протянул руку. — Церковь, в которой мы с вами сейчас находимся, когда-то принадлежала ордену Воинства Христова, его еще называли орденом Иеронима. Васко да Гама молился в ней перед тем, как отправиться в Индию в 1497 году. Мануэл грезил о великом португальском королевстве размером с весь Пиренейский полуостров и лез из кожи вон, чтобы заполучить права на арагонский и кастильский трон. Он придумал хитроумный план, чтобы обвести вокруг пальца Католических королей. Мануэл дважды женился на кастильских инфантах, изгнал евреев из Португалии и построил монастырь для Христова Воинства, духовников королевы Изабеллы. Король почти добился своего, в 1498 году его официально признали наследником кастильского престола. Однако судьба распорядилась иначе.
Томаш с американцем прошли по церковному нефу к могиле Васко да Гамы. Саркофаг покорителя морей покрывал орнамент из морских узлов, земных сфер и парусов каравелл, у ног статуи розоватого мрамора лежал крест Воинства Христова. Напротив путешественника спал вечным сном Луис Камоэнс. Увенчанная лаврами голова певца Открытий покоилась на каменном ложе.
— Они действительно здесь? — спросил Молиарти, с подозрением глядя на могилу да Гамы.
— Кто?
— Васко да Гама и Камоэнс.
Томаш ухмыльнулся.
— Так мы говорим туристам.
— А на самом деле?
— На самом деле это почти правда, — ответил Томаш, коснувшись ладонью надгробия. — Мы почти на сто процентов уверены, что в этом саркофаге покоятся останки Васко да Гамы. — Он указал на могилу поэта. — Что же до останков Камоэнса, то мы почти на сто процентов уверены, что они покоятся в другом месте. Но гиды имеют обыкновение скрывать эту информацию от туристов. Так лучше расходятся сувенирные издания «Лузиад».
Молиарти поморщился.
— По-моему, это нечестно.
— Ох, Нельсон, давайте смотреть на вещи трезво. Как можно быть хоть в чем-нибудь уверенными, когда речь идет об останках человека, умершего пятьсот лет назад? В XVI веке не было тестов ДНК, так что никаких гарантий вам никто не даст.
— И все же…
— Вам не приходилось бывать на могиле Колумба в Севилье?
Американец кивнул.
— А вы уверены, что в ней действительно похоронен Колумб?
— Так все говорят.
— А если я вам скажу, что это полная чушь, что в Севилье погребены останки какого-то совершенно неизвестного бедолаги, а вовсе не Колумба?
— Это правда?
Томаш опустил глаза и покачал головой.
— Многие так думают.
— Who cares?
— Вот именно. В чем проблема? Людям нужен символ. Какая разница, Колумб ли лежит под могильным камнем, если этот камень положен в память об эпохе Колумба. В могиле Неизвестного солдата может лежать и дезертир, и предатель, но его надгробие — памятник всем солдатам.
Внезапно церковь наполнилась шумом шагов, смешками и возбужденными возгласами; у монастыря остановился автобус с испанскими туристами, и теперь они, словно изголодавшиеся муравьи, наводняли собор, щелкая затворами фотоаппаратов и поедая на ходу булочки с кремом. Испанское вторжение, беспардонное и хаотическое, нарушило благопристойную тишину храма.
— Пошли отсюда, — решительно сказал Молиарти. — Скроемся за стеной.
Сбежав от туристов, Томаш и Нельсон свернули направо, купили билеты, прошли по длинному коридору и оказались в Королевском клуатре. Их взорам открылся прелестный французский парк с яркими клумбами и фигурно подстриженными кустами; посередине сверкала гладь большого пруда, на его берегах раскинулись балюстрады и арки монастырских галерей, по четырем сторонам света высились четыре башенки, увенчанные куполами. Они укрылись от яркого солнца в тени нижнего яруса одной из галерей. Каменные своды были сплошь покрыты резьбой, и оставалось только дивиться неистощимой фантазии безымянного художника; преобладали религиозные символы, кресты Христова Воинства, морские мотивы, узлы, связки колосьев, фантастические звери и птицы, ящерицы, драконы; венки из цветов и листьев обвивали два медальона в римском стиле, на одном был изображен Васко да Гама, на другом Педру Алвареш Кабрал.
— Удивительное место, — заметил Молиарти.
— Дивное, — согласился Томаш. — Один из самых красивых монастырей в мире.
Они поднялись на верхний ярус и побрели по нему без всякой цели. Ряд кривых, облупившихся от времени колонн делил галерею надвое; внешние пилястры украшал скромный цветочный орнамент, зато на внутренней стороне стиль мануэлино представал во всей красе. Наконец американец утратил интерес к резьбе по камню и переключился на Томаша.
— Так что же, Том? У вас есть ответы?
Португалец пожал плечами.
— Вопросов по-прежнему больше.
— Но время не ждет. Прошли две недели с нашего разговора в Нью-Йорке и еще одна с тех пор, как вы вернулись в Лиссабон. Мне очень скоро понадобятся исчерпывающие ответы.
Томаш направился к фонтану. Вода лилась в маленький бассейн из пасти льва, геральдического животного Святого Иеронима. Томаш подставил под струю сложенные ковшиком ладони и принялся жадно пить чистую ледяную воду; сам фонтан Норонью нисколько не заинтересовал, его мысли были заняты другим.
— Видите ли, Нельсон, ответов на все вопросы у меня пока нет, но ребус профессора Тошкану мне разгадать, кажется, удалось.
— Вы расшифровали послание?
Томаш уселся на каменную скамью под монастырской аркой, напротив мраморного надгробия, под которым покоился прах Фернанду Пессоа.
— Да, — ответил он, доставая бумаги и раскладывая их в определенном порядке. Разыскав нужный листок, он протянул его Молиарти: — Вам это знакомо?
— Moloc, — прочел американец первую строку, написанную заглавными буквами. Потом прочел вторую: — Ninundia omastoos.
— Это копия зашифрованного письма Тошкану, — пояснил Томаш. — Я очень долго бился над этой загадкой и никак не мог решить, не мог понять даже, код это или шифр. Потом до меня дошло, что это шифр с переставленными знаками. Анаграмма. — Он посмотрел на Молиарти. — Вы знаете, что такое анаграмма?
Американец скривился.
— Нет.
— Анаграмма — это слово, составленное из букв, входящих в другое слово или предложение. Например, santos анаграмма слова tansos. Буквы одни и те же, а смысл, если их переставить, получается противоположный. Понимаете?
— А, — кивнул Молиарти. — А в английском анаграммы тоже есть?
— Они есть в любом языке, в котором используется алфавит, — заверил Томаш. — Принцип везде один и тот же. Примеры вам наверняка известны. Elvis анаграмма слова lives.[20] Из слова funeral получается анаграмма real fun.[21]
— Забавно, — Молиарти осторожно улыбнулся. — А при чем тут профессор Тошкану?
— В первой строке мы видим простейшую зеркальную анаграмму: последняя буква становится первой, предпоследняя второй, и так далее. — Томаш подвинул к себе послание. — Видите? Было Moloc, стало Colom. Во второй строке анаграмма более сложная, перекрестная. Получается: nomina sunt odiosa.
— Латинское изречение.
— Ну да, из Овидия. «Не стоит называть имен».
— А Колом?
— Это имя.
— То, которое не стоит называть?
— Да.
— И кто имеется в виду?
— Христофор Колумб.
Молиарти смерил Томаша долгим взглядом.
— Объясните мне так, чтобы я понял, — проговорил американец очень серьезно. — Что профессор Тошкану хотел сказать своим зашифрованным посланием?
— Что имени Колом не стоит называть.
— Но какой смысл у этой фразы?
— Это, пожалуй, самый трудный вопрос, тем более что смысл у изречения двойственный, — сказал Томаш. — Я специально заглянул в «Героиды», чтобы узнать, в каком контексте возникает эта фраза. Согласно Овидию, имен не стоит называть, когда их владельцы оказались замешанными в чем-то постыдном, бесчестном или странном.
Молиарти выхватил у португальца листок.
— Вы хотите сказать, что Колумб был замешан в чем-то постыдном и странном?
— Колумб никоим образом. А вот Колом да.
— Gee, man,[22] — воскликнул американец, тряхнув головой. — Я совсем запутался. Разве Колом и Колумб не одно и то же лицо?
— Да, но Тошкану счел нужным назвать его Коломом. Если бы профессор захотел, ему ничего не стоило бы зашифровать фамилию Колумб. Но он написал «Колом», и никак иначе. Значит, это было для него действительно важно.
— Почему?
— Потому что это имя, которое не стоит произносить.
— Том, объясните же, наконец, почему его не стоит произносить. Я ни черта не понимаю. Вы-то, надеюсь, нашли ответ.
— Я нашел один ответ и много новых вопросов, — Томаш полистал свои записи. — Прежде всего, я попытался выяснить происхождение имени Христофор Колумб. Как известно, первооткрыватель Америки провел несколько лет в Португалии, где учился морскому делу и навигации. Он жил на Мадейре и женился на Филипе Мониш Перештрелу, дочери капитана Бартоломеу Перештрелу, которому был дарован остров Порту-Санто. В те времена португальцам не было равных во всем, что касалось морских путешествий, картографии, навигации и кораблестроения. Еще Генрих Мореплаватель мечтал найти альтернативный путь в Индию, чтобы разрушить монополию Венеции на сношения с Востоком. Венеция была связана договором с Оттоманской империей и блюла союзнические обязательства, в то время как другие итальянские города, например, Генуя и Флоренция, поддерживали португальцев. В 1483 году генуэзец Колумб предположил, что, раз земля круглая, в Индию можно попасть, огибая Африку с запада. Португальский король Жуан II не хуже Колумба знал, что земля круглая, но испугался, что обходной путь окажется слишком длинным. Как мы теперь знаем, король оказался прав, а Колумб нет. Вскоре жена генуэзца умерла, и он перебрался в Испанию, где предложил свои услуги Католическим королям.
— Том, — перебил Молиарти. — Зачем вы мне все это рассказываете? Я отлично знаю биографию Колумба…
— Наберитесь терпения, — попросил Томаш. — Эту историю нужно рассказывать с самого начала. С именем Колумба и вправду связана загадка, которая не давала покоя профессору Тошкану. — Томаш помолчал, стараясь отыскать потерянную нить повествования. — Как я уже сказал, Колумб отправился в Испанию. В ту пору там правили так называемые Католические короли, Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский, заключившие династический брак, чтобы объединить свои владения. Испанцы вели кровопролитную войну, чтобы вытеснить арабов с Пиренейского полуострова, но королева Изабелла нашла время выслушать предложение чужеземца и заинтересовалась им. Проект Колумба обсуждала специальная комиссия из Доминиканского колледжа. Надо сказать, что, по сравнению с португальцами, испанцы были настоящими невеждами; комиссия заседала четыре года и в конце концов постановила, что морского пути в Индию мимо западного побережья Африки не существует, поскольку земля, как всем известно, плоская. В 1488 году Колумб вернулся в Португалию и вновь добился аудиенции у просвещенного монарха Жуана II. Как раз в это время в Лиссабон возвратился Бартоломеу Диаш с вестью о том, что из Атлантического океана можно попасть в Индийский. Оказалось, что добраться до Индии куда быстрее и проще, чем думал Колумб. Горько разочарованный, он предпочел поселиться в Испании, где через некоторое время женился на Беатрис де Аране. В 1492 году арабы окончательно потерпели поражение, и весь полуостров стал христианским. На волне ликования по поводу этой победы Изабелла Кастильская согласилась еще раз рассмотреть проект Колумба и на этот раз милостиво его одобрила. Так началась великая экспедиция, завершившаяся открытием Америки.
— Том, сегодня я узнал от вас много нового! — ухмыльнулся американец.
— Я пересказываю вам это лишь для того, чтобы показать, какую роль в жизни Колумба сыграли оба иберийских королевства, Португалия и Кастилия. Его судьба оказалась прочно связана с обоими.
— Это как раз понятно.
Томаш отложил бумаги и смерил Молиарти взглядом.
— Ну, если вам все понятно, вы наверняка объясните мне, почему ни в Португалии, ни в Кастилии, чья история так затейливо переплелась с судьбой Христофора Колумба, его никогда не называли Колумбом.
— Что?
— До самого конца пятнадцатого века ни португальцы, ни кастильцы ни разу не назвали великого мореплавателя Колумбом.
— Что вы хотите этим сказать?
— Не существует ни одного документа, португальского или кастильского, в котором упоминался бы Колумб. В «Хронике правления дона Жуана Второго» Руя де Пины, написанной в начале XVI века, он назван Колонбо, через эн. С тех пор в португальских текстах имя Колумб отсутствует.
— Как же его называли?
— Колон или Колом.
Молиарти долго молчал, собираясь с мыслями.
— Почему?
— Слушайте дальше, — ответил Томаш, бегло просматривая записи. — Сам мореплаватель называл себя Христофором Коломом или Колоном. В Испании его стали звать Кристобалем Колоном, и в конце жизни он и сам уже подписывался этим именем. Никакого Колумба. Ни разу. — Норонья отыскал нужный документ. — Вот, глядите. Это копия письма герцога Мединасели кардиналу Мендосе от девятнадцатого марта 1493 года, хранящегося в архиве Симанскаса под номером четырнадцать. — Смотрите, что здесь написано. — Он ткнул пальцем в подчеркнутую строку. — По пути из Португалии ко двору французского короля меня посетил Кристобаль Коломо. — Томаш поднял голову. — Видите? Тут его называют Коломо. Но удивительнее всего то, что в конце письма появляется совсем другое имя. — Томаш перешел к следующему подчеркнутому фрагменту. — Вот здесь. Кристобаль Герра. — Он выразительно посмотрел на Молиарти. — Герра! Так кто же наш герой: Колумб, Колом, Колон, Коломо или Герра?
— А что если Герра совсем другой человек, которого тоже звали Кристобаль?
— Нет, из письма следует, что речь идет именно о Колумбе. Смотрите. — Томаш поднес страницу к глазам, чтобы лучше разглядеть мелкие буквы. — Герцог пишет: «В ту пору Кристобаль Герра и Педро Алонсо Ниньо были в экспедиции с Охедой и Хуаном де ла Косой». — Он перевел взгляд на Молиарти. — Единственным Кристобалем, ходившим в плавание вместе с Ниньо, Охедой и де ла Косой, был, как вам известно, Колумб.
— Должно быть, это какая-то путаница или обман.
— Путаница, безусловно, но никак не обман. Знаете, почему? — Томаш вытащил из стопки еще два листа и передал их американцу. — Здесь отрывок из «Legatio Babylonica»[23] Петра Ангиерского, опубликованного в 1515 году. Петр называет Колумба Colonus vero Guiarra. Vero означает на самом деле. Другими словами, хронист доводит до нашего сведения, что Колумб, он же Коломо, он же Колом, он же Колон, он же Герра в действительности не кто иной, как Гьярра. — Томаш протянул Молиарти следующий лист. — Вот отрывок из второго издания, которое вышло в 1530-м под названием «Psalterium». Тексты идентичны за исключением одной крошечной поправки. Во втором издании сказано Colonus vero Guerra. — Норонья полез за третьим листом. — А вот документ под номером тридцать шесть из архива Симанкаса от двадцать восьмого июля 1500 года. Донесение некоего Альфонсо Альвареса, которого «ваши величества отправили вместе с Христофором Геррой в только что открытые земли». — Он опять повернулся к Молиарти. — Видите, снова Герра.
— Значит, его называют Геррой по меньшей мере трижды, — отметил американец.
— Четырежды, — поправил Томаш, не прекращая рыться в бумагах. — После смерти Колумба его сын от португалки Дьогу Колом затеял судебную тяжбу с правителями Кастилии за признание прав своего отца. Это разбирательство вошло в историю как «Процесс против короны». Слушания начались в Санто-Доминго в 1512 году и завершились три года спустя в Севилье. Всех моряков и капитанов, принимавших участие в открытии Америки, вызывали в суд и приводили к присяге. — Томаш выудил из стопки очередную страницу. — Вот показания помощника капитана Николаса Переса. Он поклялся на Библии, что настоящая фамилия Колумба была Герра.
— Получается, в то время Колумба все знали под именем Герра.
— Нет, я совсем не это хотел сказать. Просто у этого человека было много имен, и Колумб — всего лишь одно из них. — Томаш беспечно махнул рукой. — В португальских документах он чаще всего фигурирует как Колом или Колон. В Испанию он прибыл в 1484 году под именем Коломо. А спустя восемь лет новые соотечественники стали называть его Колоном.
— Да. Первый испанский источник, в котором появляется имя Колон, причем, с ударением на первый слог, это «Провисьон» от тридцатого апреля 1492 года. И только после смерти мореплавателя испанцы стали произносить его фамилию с ударением на второй слог, как мы привыкли.
— Кристобаль Колон.
— Именно так. С именем Колумба тоже не все гладко. В португальской традиции существует имя Кристофон или Кристован, в итальянской Христофоро. Петр Ангиерский во всех своих сочинениях называет его Кристофон Колонус. Папа Александр VI выпустил две буллы по поводу Тордесильясского трактата, и в обеих использовал испанизированную версию имени. В первой булле от третьего мая 1492 года он зовется Христофоном Колоном, во второй, датированной двадцать восьмым июня, Христофором. Христофон это почти португальское Кристофон. В общем, Христофор — латинский антропоним, Кристофон — португальский, а Кристобаль — испанский.
— А откуда взялась фамилия Герра?
— Терпение. Мы выяснили, что Колумба знали под именем Кристофон или Кристован. И под фамилией Колон, Колом или в некоторых случаях Колон с двумя «л». С 1492 года для испанцев он сделался Кристобалем Колоном, хотя некоторые из них упорно продолжали писать Колом. Например, в латинском издании писем об открытии Нового Света от 1493 года. — В руках Томаша оказался еще один ксерокс. — Или вот прошение на имя адмирала, написанное в Санто-Доминго в 1498-м. Здесь его тоже называют Коломом. — Норонья отложил две страницы. — И не будем забывать об источниках, согласно которым настоящее имя мореплавателя было вовсе не Колом, а Герра. Получается длинный список: Гьярра, Герра, Колонус, Колом, Коломо, Колон с ударением на первом и на последнем слоге.
— Откуда столько имен?
Томаш раскрыл блокнот.
— Здесь есть какая-то тайна, — заметил он. — Сын Адмирала Эрнандо, родившийся в Кастилии, оставил об этом весьма загадочное упоминание. — Он нашел нужную страницу. — В своей книге Эрнандо пишет: «Фамилия Колон, к которой он опять вернулся». И дальше, я попробую перевести: «Мы носили много имен, имея существенные причины не останавливаться ни на одном из них, как того требовали обстоятельства». — Томаш поднял глаза на американца. — Вы обратили внимание? «Опять вернулся», следовательно, Колумб в свое время успел отказаться от этого имени, а потом прибегнул к нему вновь. И так было не раз. А как понимать эту странную фразу о многих именах и существенных причинах? Много имен. Существенные причины. Еще одна тайна. Почему имен много и что это за причины? О каких обстоятельствах идет речь? Возможно, отец Эрнандо менял имена в зависимости от перемен в собственной судьбе. Но как его, черт возьми, звали на самом деле?
— Погодите, — пробормотал Молиарти. — А откуда взялось имя Колумб?
Томаш бросил взгляд в свои заметки.
— Фамилия Колумб впервые упоминается в 1494 году. В письме самого адмирала, которое он отправил из Лиссабона, чтобы сообщить об открытии. Его письмо вошло в разные собрания. Один итальянский епископ написал латинскую эпиграмму о «merito referenda Columbo gratias[24]». Венецианец Маркантонио Коччио, известный нам под именем Сабеллико, использовал новую версию фамилии в «Sabellici Eneades» в тысяча четыреста девяносто восьмом году. Он называет нашего героя «Christophorus cognomento Columbus[25]». Сабеллико явно ориентируется на ту самую эпиграмму. Сохранилось письмо венецианца Анджело Тревизано Доменико Малипьеро, отправленное в августе 1501 года, в котором он упоминает своего «доброго друга Христофора Колумба, генуэзца». Петр Ангиерский цитирует это послание в «Декадах» за 1500 год. Правда, сам Петр с Колумбом знаком не был. В своих сочинениях он называет его Кристовам Колон. В 1504 году Тревизано выпустил книгу «Libretto di tutta la Navigatione dee Re di Spagna».[26] Эта книга, к сожалению, не сохранилась, если не считать крошечных отрывков, которые цитирует в своей переписке королевский викарий. Однако современник Тревизано Франческо да Монтальбоддо утверждает, что тот называл Колома Христофором Колумбом из Генуи. Самый старый источник, в котором адмирал зовется Колумбом — это издание самого Монтальбоддо «Об океанах и Новом Свете» 1507 года, я посмотрел его в Национальной библиотеке в Рио. В те времена это было весьма популярное произведение, как сейчас сказали бы, бестселлер. Его автор считает, что Бразилию открыл Педру Алвареш Кабрал, а первооткрывателем Америки он называет и вовсе Америго Веспуччи. Вот вам второй исторический подлог.
— Второй? А первый какой?
— Разве не ясно? То, что Колома переименовали в Колумба.
— Как это можно доказать?
— Благодаря источникам и здравому смыслу. При жизни адмирала называли исключительно Коломом или Колоном, а никак не Колумбом, даже Петр Ангиерский в «Декадах» зовет его именно так, а не иначе. Тексты, в которых упоминается фамилия Колумб, либо не дошли до нас, либо не вызывают доверия. Так с какой стати все стали называть Колумбом человека, на самом деле носившего имя Колом?
— Как же это вышло?
— Кто знает? Сам первооткрыватель Америки никогда не называл себя ни Колумбом, ни Коломбо, ни Колумбусом, по латыни. Ни разу. Если верить документам, в Генуе никогда не было моряка с таким именем. Ни одного. Первый из дошедших до нас документов за собственноручной подписью Колумба датирован 1493 годом. Это письмо об открытии нового континента, которое Рафаэль Санчес передал Католическим королям. Подпись под этим посланием гласит «Христофоро Колом». С «эм» на конце. Позже, давая показания на своем процессе, мореплаватель заявил, что происходит из рода Колонов. Колонов, но никак не Колумбов. — Томаш улыбнулся. — Теперь видите, чего стоят все наши стереотипы?
— И все же человек, открывший Новый Свет, вошел в историю под именем Колумб.
— А Новый Свет вошел в историю под именем Америка, хотя Америго Веспуччи его не открывал. Все дело в растиражированной ошибке. Смотрите. Сам Колумб называл себя исключительно Коломом или Колоном. Для современников он был Коломом, Колоном, Гьяррой или Геррой. Потом один итальянский епископ перевел его фамилию на латынь, а Сабеллико, лично с Колумбом незнакомый, сделал обратный перевод, причем неправильный. Чуть позже венецианец Тревизано сделал то же самое. Другой итальянец, Монтальбоддо, незнакомый с Коломом, разумеется, доверился Тревизано и указал неправильную фамилию в книге, вышедшей в свет в 1507 году, после смерти адмирала. Книга Монтальбоддо приобрела немыслимую популярность, и Колом превратился в Колумба. А португалец Руй де Пина в «Хрониках короля дона Жуана II» окончательно утвердил это переименование.
— А откуда известно, что итальянский епископ ошибся?
— В издании Басилейи фамилия Колумб встречается всего один раз, а Колом постоянно. Между прочим, colom по-каталонски «голубка». — Томаш заговорщически подмигнул американцу. — Знаете, как будет голубка по-итальянски?
— Colombo.
— А по латыни?
— Columbus.
— Вот видите, епископ знал каталонский, потому и решил, что Колом значит голубка. А потом автоматически перевел это слово на латынь.
— Похоже на правду, — признал Молиарти. — Вероятно, Колом — это искаженная фамилия Коломбо. Оба слова означают голубку на разных языках.
— В действительности имя Колом никак не связано с голубкой. — Томаш перевернул страницу блокнота. — Здесь нам снова придется призвать на помощь Эрнандо, сына адмирала. Тот пишет: «Он счел имя Колон подходящим, ибо по-гречески оно означает „прямой“».
— Не понимаю.
— Нельсон, как по-гречески будет «прямой»?
— Э-э-э…
— Колон.
— Точно?
— Да, колон. Латинскими буквами пишется через к. Так что голубка здесь ни при чем. Дальше Эрнандо сообщает: «По латыни отец звался Христофорус Колонус». Заметьте, не Колумбус, не голубка, а именно Колонус. Колумб — не настоящее имя.
— Настоящее — Колонус?
Португалец пожал плечами.
— Возможно. Но скорее всего, Колонус — это очередной псевдоним. Эрнандо пишет об именах, подходящих к случаю. Это можно понять и так, что мореплаватель предпочитал прозвания со смыслом.
— Какой же смысл в прозвании Колонус?
— Далее Эрнандо пишет: «Призвал Господа нашего Иисуса Христа укрепить дух правителей, а индейцев усмирить и наставить, дабы они покорились Короне и Святой Церкви». Колонус — покоритель. Адмирал мог принять это имя во славу открытия необъятных новых земель, бесчисленные народы которых вскоре должны были покориться вере Христовой.
— Да… — Молиарти выглядел обескураженным. — По-вашему, профессору Тошкану удалось раскопать именно это?
— В своем послании Тошкану говорит, что имя Колом не стоит называть. Что, упоминая его, мы совершаем ошибку.
— И что с того?
— Полагаю, наше расследование еще не закончено. Овидий считал, что не стоит упоминать имена тех, кто оказался замешан в постыдных, трагических или слишком странных событиях. Очевидно, профессор Тошкану хотел подчеркнуть связь имени Колом и некоего события общемирового значения.
— Открытие Америки.
— Об этом событии все и так знают. Тошкану намекал на нечто другое, никому не известное.
Американец с удрученным видом ковырял ногтем каменную спинку скамьи.
— Вот что я вам скажу, Томаш, — произнес он после долгой паузы. — Все, что вы мне тут поведали, никак не связано с открытием Бразилии.
— Нет, конечно.
— Так какого дьявола Тошкану терял время с этим Колумбом?
— Коломом.
— Whatever. На что он потратил наши деньги?
— Не знаю. — Томаш по привычке поднял указательный палец. — Я наверняка знаю лишь одно: профессор полагал, что изыскания имеют к открытию Бразилии самое непосредственное отношение. И в связи с этим перед нами встает вопрос: стоит ли продолжить эти изыскания? Из того, что Тошкану удалось обнаружить, едва ли получится соорудить статью к пятисотлетию экспедиции Педру Алвареша Кабрала. — Португалец смотрел Молиарти прямо в глаза. — Вы хотите разобраться во всем до конца?
Американец не колебался ни минуты.
— Естественно, — заявил он. — Руководство фонда имеет право знать, на что ушли его деньги.
— В таком случае перед нами встает еще одна проблема чисто прагматического характера. Дело в том, что исследовать больше нечего.
— Как это нечего? Разве у вас нет записей Тошкану и доступа к источникам, с которыми он работал?
— Какие источники? Я изучил все, что получил в Бразилии.
— Тогда придется попытать счастья в Европе.
— Вот это другой разговор. Куда мне обратиться?
— В Национальную библиотеку и в Торре-ду-Томбу. Это здесь, в Лиссабоне. Потом можно будет поискать в Испании и Италии.
— Ладно, — проговорил он. — А где находятся остальные бумаги Тошкану?
— Наверное, дома, у жены.
— И вы их до сих пор не забрали? Зная, как они важны для нашего расследования?
Молиарти покаянно склонил голову.
— Нет.
— Нет? — изумленно повторил Томаш. — Но почему?
Американец нервно скривился.
— Вы знаете, мы с Тошкану постоянно конфликтовали. Я хотел регулярных отчетов, он артачился. Боюсь, его жена не очень любит нашу организацию.
Томаш хмыкнул.
— Проще говоря, она не пускает вас на порог.
Молиарти виновато вздохнул.
— Точнее не скажешь.
— Что же нам делать?
— Наверное, вам придется навестить ее самому.
— Мне?
— А кому же еще? Вы не знакомы. Она даже не заподозрит, что вы работаете на нас.
— Простите, но это исключено. Я не стану обманывать вдову.
— А что вы предлагаете?
— Все очень просто. Пойдите к ней, извинитесь и объясните ситуацию.
— Это, к сожалению, совсем не просто, наша размолвка чрезвычайно затянулась. Идти придется вам.
— Нет, я не могу. Не представляю, как можно обманывать пожилого человека, только что…
Молиарти преобразился внезапно и жутко. Вместо славного и чуточку бестолкового парня, бескорыстного любителя истории перед Томашем предстал хладнокровный и расчетливый делец.
— Том, вам платят две тысячи долларов в неделю и обещали премию в один миллион, если вы разберетесь с делом Тошкану. Вы хотите получить эти деньги?
Потрясенный резкой переменой в настроении американца Томаш едва смог выговорить:
— Хочу… Конечно, хочу.
— В таком случае ступайте к fucking вдове fucking профессора и выцарапайте у нее fucking бумаги! — злобно пролаял Молиарти. — Вам все ясно?
На несколько мгновений Томаш онемел, с ужасом глядя на своего только что такого учтивого собеседника, но растерянность тут же сменилась гневом. Норонья чувствовал, как ярость поднимается из самых глубин его нутра, клокочет в горле, жаждет вырваться наружу. Лицо Томаша пылало, на щеках выступили багровые пятна. Больше всего ему хотелось немедленно вскочить и поскорее уйти. Беспомощно оглядываясь по сторонам, португалец словно впервые заметил в двух шагах от скамейки надгробие Фернанду Пессоа; чтобы дать себе передышку, он поднялся и приблизился к могиле. На сером камне были высечены строки Рикарду Рейса.
В какой-то момент, вдохновленный примером великого соотечественника Томаш собирался высказать мерзкому янки все слова, что жгли его гортань, и навсегда уйти. Однако первый порыв миновал, и он заставил себя рассуждать спокойно, холодно, здраво. Истинное величие — удел немногих счастливцев; у них нет больных дочерей, которым нужна операция на сердце и частные уроки; их брак не омрачен вечным страхом за судьбу потомства, они смотрят в будущее без дрожи. Две тысячи долларов в неделю — это приличные деньги, что уж говорить о премии в миллион. Чтобы ее получить, нужно всего-навсего распутать загадку проклятого Тошкану. Томаш знал, как ему поступить.
Он взял себя в руки. Вернулся к скамье, смирный, побежденный, и объявил американцу:
— Я согласен.
VII
Крошечные капельки воды бежали по гладкой зеленой поверхности листа, собираясь в одну большую каплю. Капля все росла, разбухала и в конце концов переливалась через край листа, падала на жирную мокрую землю. За ней уже спешила другая, следом третья, и еще, и еще; сумрачное небо роняло хрустальные слезы, плача по солнцу в глухую зимнюю пору.
Томаш наблюдал печальную картину, сидя за столом над остатками завтрака; рассеянно глядя на улицу, он пытался разрешить внезапно возникшую дилемму, от которой зависело дальнейшее течение его жизни. Констанса ушла десять минут назад, сегодня была ее очередь отвозить Маргариту в школу. Томаш думал о них обеих и еще о Лене. Он понимал, что ступил на опасный путь, и можно лишь догадываться, куда эта кривая дорожка его заведет. Норонья нарушил супружескую верность впервые в жизни, и теперь его снедали противоречивые чувства. Его терзало невыносимо острое чувство вины перед больной дочкой, перед женой, которая так нуждалась в его поддержке, перед своей студенткой, девчонкой на пятнадцать лет его моложе; и все же в глубине души он понимал, что никакая она не девчонка, а взрослая, красивая, раскованная женщина, знающая цену своей красоте и силу своих чар. А что ему оставалось делать? Он ведь мужчина, а какой мужчина устоит перед соблазном? Томаш горько вздохнул. Верно, сказал он себе, ты мужчина; тем тяжелее груз ответственности, который на тебе лежит. Как он мог отказаться от собственной воли, превратиться в жалкую марионетку в руках женщины, пусть даже самой прекрасной и соблазнительной в мире? Как мог пойти на поводу у своего тела, подчиниться капризу плоти, поступить так беспечно, так нелепо?
Томаш закрыл глаза и потер кончиками пальцев виски, будто надеясь вернуть мыслям привычное ровное течение, разогнать внезапно охватившее его душевное смятение. Ему вдруг открылась правда, во всей своей неприглядной ясности. Совесть терзала и мучила, услужливо подсказывала все новые сомнения, страхи и дилеммы, рисовала в памяти картины недавнего падения, заставляла чувствовать себя грязным развратником, предателем самых близких и дорогих ему людей. Что же в действительности произошло? Неужели все дело в сладости запретного плода? Или это прощальный подарок уходящей молодости? Или секс, просто секс и ничего больше? Томаш вновь и вновь истязал себя вопросами без ответа, пытался проникнуть в самые глубокие, темные, недосягаемые закоулки собственной души.
Нет.
Не так. Это был не просто секс. Как ни тяжко это признавать. Будь это просто секс, все закончилось бы в первый же день, когда в разгар дружеского обеда они набросились друг на друга, словно изголодавшиеся хищники, и все не могли насытиться; будь это просто секс, они, пристыженные и растерянные, поспешили бы разомкнуть объятия и поскорее расстаться; на смену утоленной похоти пришли бы опустошение и горечь. Томаш больше никогда не вернулся бы в квартиру шведки, не ждал бы с нетерпением конца рабочего дня, чтобы увидеться с ней, и их свидания не вошли бы в привычку, не превратились в сладостную рутину.
С Леной он мог воплотить в жизнь самые дерзкие из своих фантазий. Томаш где-то слышал, что пышногрудые женщины холодны и неумелы в постели; что ж, если это и было правдой, Лена оказалась прекрасным исключением. В минуты близости она была страстной, ловкой, изобретательной, умела ублажить партнера, не забывая о себе. При этом шведка оставалась неприхотливой и нетребовательной; она проявляла живой интерес к тому, как продвигается дело Тошкану, но не расспрашивала Томаша о семье и не пыталась удержать, когда по вечерам он собирался домой. Ежедневные встречи с Леной давали профессору головокружительное ощущение свободы, помогали на краткий миг убежать от проблем, дарили радость плоти.
Прихлебывая из чашки холодное молоко, Томаш с удовольствием повторил про себя только что найденную формулу. Радость плоти. Вот что это было. Лена превращала его будни в праздники; она сама была праздником, длившимся ровно два часа, во время которых не существовало ни больной дочери, ни непомерных обязательств перед женой. Эта девушка обладала способностью впитывать скучные дневные заботы, как губка впитывает воду. Она дарила благодарному любовнику бесценную возможность отрешиться от тревог. Благодаря Лене, Томаш по-новому взглянул на собственную жизнь; она пробудила в нем новые чувства, помогла испытать новые ощущения, убежать от страхов, разрешить противоречия, отдалиться, чтобы лучше понять. Пока Лена была рядом, Томаш мог отдохнуть от своей вечной спутницы, грызущей тревоги; их отношения стали чем-то вроде убежища, волшебной страны, где всегда светило солнце и не было ни забот, ни печалей.
Как ни странно, сойдясь со шведкой, Норонья сделался внимательнее к дочери и ласковее с женой, словно одни отношения дополняли другие. Он и сам не знал, как разрешить этот парадокс, но в глубине души признавал, что так оно и есть. Встречи с Леной не только дарили счастливое забвение. Они делали его другим, более гибким, жизнерадостным, открытым. Правда, странная правда заключалась в том, что, повстречавшись с новой подругой, он стал сильнее ценить семью, больше дорожить Констансой и Маргаритой.
Томаш залпом допил остававшееся в чашке молоко. На часах была половина десятого, пора выходить. Норонья встал из-за стола, надел куртку. Сегодня ему предстояло свидание с одной дамой.
Нацарапанный в блокноте адрес привел Томаша на тихую узкую улочку, насквозь пронизанную провинциальным духом, так что было почти невозможно поверить, что находишься в самом центре города, сразу за Маркеш-ду-Помбал и всего в одном квартале от Аморейрас. Старинные дома стояли здесь вперемешку с более современными. В их двориках скрывалась от придирчивых взглядов настоящая Португалия: тихая, сонная, деревенская, с грядками латука, кабачков и картошки, со степенными курами, притулившимся у стены свинарником и стройной яблоней, верной спутницей и надежным поставщиком яблок для десерта.
Томаш проверил номер дома. Все верно. Норонья помедлил у ограды, охваченный сомнениями. Если бы он сам не выпросил адрес в канцелярии Классического университета, то нипочем бы не поверил, что профессор Тошкану и вправду мог жить в таком месте. Наконец Томаш нерешительно толкнул калитку и направился к подъезду. По пути он непрестанно оглядывался, ожидая, что из-за угла выскочит какой-нибудь злобный пес. Дома, подобные этому, вполне могли охранять стаи зубастых церберов; однако вокруг раздавалось лишь мирное кудахтанье кур. Томаш воспрял духом: на лужайке не дремал огромный ротвейлер, крыльцо не стерегла немецкая овчарка.
Входная дверь была приоткрыта. Войдя в подъезд, Томаш оказался в полумраке. Чертыхаясь, он отыскал на стене выключатель, но свет так и не зажегся. Норонья пробовал снова и снова, но тьма не отступала.
— Здорово, — зло процедил он сквозь зубы.
Сквозь приоткрытую дверь в подъезд проникал тусклый рассеянный свет пасмурного утра. Постепенно глаза Томаша стали различать очертания окружающих предметов. Справа была старая, кое-где прогнившая дощатая стена; слева лестница и допотопный лифт за решеткой, напоминавшей птичью клетку. Судя по всему, он не работал уже много лет. Подъезд был пропитан тошнотворным запахом плесени, запахом ветхого, давно заброшенного жилья. В подъезде у Лены пахло почти так же; однако дом, в котором обосновалась шведка, хоть и был построен гораздо раньше, казался вполне обжитым. Здесь же были руины, которые давно покинула жизнь, место обитания призраков.
Чтобы свериться с записанным в блокноте адресом, Томашу пришлось вернуться к входной двери. Там было посветлее. Неужели профессор Тошкану действительно жил в этом гиблом месте? Пройдя по коридору, Норонья обнаружил две двери. Он ощупал стену в поисках звонка, но так ничего и не нашел. Таблички с номерами отсутствовали. Томаш выбрал дверь наугад, прижался ухом к холодному дереву и прислушался: никаких признаков жизни. За второй дверью послышался какой-то шум. Томаш постучал. В квартире раздались шаги. Заскрипел замок, и дверь приоткрылась; растрепанная седая женщина в голубом халате поверх бежевой пижамы недоверчиво уставилась на непрошенного гостя.
— Что вам?
Голос у нее был слабым, сухим, безжизненным.
— Доброе утро. Вы сеньора Тошкану?
— Она самая. А вы кто такой?
— Я… э-э-э… из университета… Из Нового университета.
Томаш помолчал, гадая, довольно ли таких рекомендаций. Судя по колючему взгляду, которым черные глаза старухи буравили посетителя, пароль был выбран неправильно.
— И что же?
— Я пришел поговорить об исследованиях, которыми занимался ваш муж.
— Мой муж умер.
— Я знаю, сеньора. Примите мои соболезнования. — Томаш судорожно искал правильные слова. — Я… Дело в том… В общем, я собираюсь завершить исследования вашего супруга.
Взгляд женщины сделался ледяным.
— Кто вы такой?
— Профессор Томаш Норонья с исторического факультета Нового лиссабонского университета. Меня уполномочили продолжить работу профессора Тошкану. Его коллеги дали мне ваш адрес.
— А зачем нужно продолжать его исследования?
— Потому что они очень важны. Ведь это последняя работа вашего мужа. — Томаш чувствовал, что требуется другой аргумент, более веский и убедительный. — Жизнь ученого в его трудах. Теперь, когда ваш супруг скончался, оборвалась цепь его научных построений. Было бы очень жаль, если бы результаты столь грандиозного труда канули в Лету, не правда ли?
Сеньора удивленно вскинула брови.
— А как вы собираетесь восстановить эту цепь?
— Завершив и опубликовав работу. Это будет лучшим памятником профессору. Но для этого необходимо восстановить весь ход его рассуждений, понимаете?
Старуха задумалась.
— А вы случайно не из того фонда?
Томаш почувствовал, как по лбу побежали струйки холодного пота.
— Какого фонда? — спросил он с притворным удивлением.
— Американского.
— Я из Нового лиссабонского университета, сеньора, — повторил Норонья, уклоняясь от прямого ответа. — И я португалец, как вы могли заметить.
Как ни странно, женщину такое объяснение успокоило. Она без колебаний сняла цепочку и распахнула дверь, приглашая гостя войти.
— Хотите чаю? — спросила она, провожая Томаша в гостиную.
— Нет, спасибо, я позавтракал.
Гостиная выглядела обветшалой и чудовищно старомодной. На заплесневелых стенах — бумажные обои в цветочек. По углам картины, изображавшие мрачных и романтических юношей, сцены из деревенской жизни и старинные парусники. Перед маленьким телевизором — потертые, засаленные диванчики. У противоположной стены — сосновый комод с бронзовыми ручками, на нем, в рамочках, черно-белые фотографии супружеской пары в окружении смеющихся детишек. В комнату просочился запах гнили. Оконные стекла покрывали дождевые капли, сверкавшие, словно крошечные бриллианты; из-за них гостиная казалась чуть менее угрюмой.
Томаш сел на диван, хозяйка устроилась напротив.
— Вы уж извините меня за беспорядок.
— Что вы, сеньора. — Норонья огляделся. Комната и вправду выглядела довольно запушенной; занавески давно не меняли, на комоде и телевизоре лежал густой слой пыли. — Все в порядке, в полном порядке. Не беспокойтесь.
— С тех как не стало Мартиньо, у меня нет сил заниматься домом. И желания.
— Такова жизнь, сеньора. Что же тут поделаешь?
— Это верно, — устало отозвалась старуха. Она производила впечатление интеллигентной женщины, сломленной жизнью. — Но если бы вы только знали, как это больно. Господи, как же больно!
— Наши дни коротки. Живешь себе, живешь, и вдруг… все!
— Вы правы. Мне ли не знать. — Старуха обвела комнату изящным широким жестом. — Этот дом построил прадед моего мужа в начале прошлого века, представляете? Это было одно из самых красивых зданий в Лиссабоне. В то время не было этих уродцев, которые теперь называют человеческим жильем. Все было таким изысканным, значительным. Гулять по Ротунде было одно удовольствие: столько красивых домов!
— Могу себе представить.
— Время ничего не щадит. Оглянитесь вокруг. Все гниет и разрушается. Скоро этот дом рухнет, помяните мои слова.
— Рано или поздно рухнет любой дом.
Старуха вздохнула, запахнула поплотнее халат и заправила за ухо седую прядь.
— Поговорим о деле. Так зачем вы пришли?
— Мне хотелось бы посмотреть записи вашего мужа за последние шесть-семь лет.
— То, что он делал для американцев?
— Я… право же… не знаю. Мне хотелось увидеть материалы, над которыми он работал.
— Это и есть для американцев, — старуха закашлялась. — Видите ли, Мартиньо заключил контракт с каким-то фондом, в штатах. Они платили целое состояние. Муж целыми днями просиживал в библиотеках и в Торре-ду-Томбу, читал рукописи. Когда он возвращался домой, его ладони были покрыты пылью от старой бумаги. Иногда ее удавалось отмыть только щелоком. А однажды он вернулся возбужденный, счастливый как ребенок. «Мадалена, я на пороге великого открытия!»
— Что же это было? — нетерпеливо спросил Томаш, придвинувшись к собеседнице почти вплотную.
— Он не сказал. Знаете, Мартиньо был необычным человеком, обожал всяческие загадки и ребусы, все время разгадывал кроссворды. И никогда ни о чем не рассказывал. Говорил: «Мадалена, пока это тайна, но ты сойдешь с ума от удивления, когда все узнаешь». Я не спорила, ведь он был таким счастливым, понимаете? Много путешествовал, все время ездил то в Испанию, то в Италию и там тоже что-то искал. — Она снова закашлялась. — А потом американцы стали на него давить, требовать, чтобы он рассказал им об открытии, и все в таком духе. Мартиньо не сдавался, он говорил: «Наберитесь терпения, придет время, и вы все узнаете». Но они уперлись, и все это кончилось очень плохо. Американцы взбесились и начали угрожать Мартиньо. — Она закрыла лицо руками. — Мы думали, они перестанут платить. Но деньги продолжали поступать.
— А вам это не показалось странным?
— Что именно?
— Что, хотя работодатели были так недовольны профессором, они продолжали ему платить?
— Действительно странно. Мартиньо думал, они боятся.
— Боятся?
— Да, разоблачения.
— Какого разоблачения?
— Мартиньо мне так и не объяснил. Я в его дела никогда не лезла. Знаю только, что американцы боялись и потому угрожали. Но они плохо знали моего мужа. Чтобы Мартиньо стал болтать о своей работе, пока она не закончена! Никогда в жизни.
— Но теперь, когда ваш супруг скончался, почему бы вам не отдать американцам его архив? Им ничего не стоит устроить публикацию.
— Ни за что, Мартиньо такого бы не одобрил. — Женщина вдруг улыбнулась и произнесла совсем другим тоном, как будто открыла скобки: — Знаете, мой муж был настоящий университетский профессор и крепких выражений себе почти не позволял. Ее голос сделался тверже: — А тут сорвался. «Мадалена, этим янки вынь да положь отчеты. А вот хрен им. Ничего они не получат, а если заявятся сюда, гони их в три шеи, поняла? В три шеи». Я хорошо знала Мартиньо и представляла, как нужно его разозлить, чтобы он так заговорил. Американцы и вправду из кожи вон лезли, чтобы заполучить его бумаги. Одного я видела, коротышку, который говорил по-португальски на бразильский манер, он все выжидал у наших дверей, словно стервятник. Говорил, что не уйдет, пока я его не приму. Это было вскоре после того, как Мартиньо уехал в Бразилию. Клянусь, этот человек простоял в подъезде несколько часов, будто корни у нас пустил. Я решила позвонить в полицию, а что еще было делать? Они приехали и выдворили его.
Томаш усмехнулся, вообразив, как Молиарти запихивают в патрульную машину, чтобы высадить подальше от квартала.
— Он больше не возвращался?
— После смерти Мартиньо этот тип занял позицию под нашими окнами, чистый пойнтер в стойке. Потом он куда-то пропал, но я все равно чувствую, что за домом наблюдают.
Томаш нервно пригладил волосы, готовясь перейти к главной части разговора.
— Сеньора, меня и вправду интересуют изыскания, которыми занимался ваш супруг, — начал он. — Скажите, где хранятся его заметки?
— Здесь, в его кабинете. Хотите взглянуть?
— Да, если можно.
Старуха повела гостя за собой, метя паркет подолом халата. Потрескавшиеся доски скрипели и стонали. Миновав сумрачный коридор, Томаш вслед за хозяйкой вошел в кабинет. Там царил поистине космический беспорядок; повсюду, даже на полу валялись книги, невозможно было и шагу ступить, чтобы не наткнуться на книжные залежи.
— Не обращайте внимания, — попросила сеньора, лавируя среди завалов. — С тех пор как Мартиньо не стало, у меня все нет времени заняться его кабинетом, и сил тоже нет.
Мадалена Тошкану выдвинула ящик письменного стола, покопалась в нем и разочарованно покачала головой; в другом ящике тоже ничего не оказалось. Тогда она распахнула дверцы большого шкафа и почти тут же обнаружила то, что искала. Мадалена достала из глубины шкафа светло-коричневую коробку с логотипом известной японской фирмы, производящей электроприборы. На крышке было крупными буквами написано «Колом».
— Вот она, — возвестила старуха, протягивая коробку Томашу. — Сюда Мартиньо складывал все, что касалось его работы.
Томаш взял коробку с благоговением, словно бесценное сокровище. Она оказалась тяжелой. Отыскав в кабинете свободный от книг угол, он уселся прямо на полу, скрестив ноги, и бережно снял крышку.
— Нельзя ли включить свет? — попросил Норонья.
Мадалена повернула выключатель, и комната наполнилась тусклым желтоватым светом, на стенах заплясали изломанные тени. Томаш аккуратно раскладывал перед собой документы один за другим, не слушая комментариев хозяйки; он полностью погрузился в особенный мир, мир профессора Тошкану. Норонья разбирал заметки и ксерокопии, откладывая вправо те, что могли пригодиться, а влево остальные, на первый взгляд, не представлявшие особый интерес. В коробке нашлись отрывки из «Истории Католических королей» Бернальдеса, «Природы и истории Индий» Овьедо, «Псалтериума» Джустиниани, «Жизни адмирала» Эрнандо Колона; сочинений Муратори, копии бумаг по «Делу о наследстве» и документа Асеретто. Под ними лежали ксерокопии карты Тосканелли и писем самого Колумба. Не хватало только «Нового Света» Франческо да Монтальбоддо, которого Томаш видел в Рио-де-Жанейро.
Томаш очнулся лишь тогда, когда город уже укутали сумерки. Внезапно он понял, что пропустил обед и весь день просидел на полу, согнувшись в три погибели. Норонья сложил бумаги в коробку и поднялся на ноги. Долгие часы неподвижности давали себя знать; конечности затекли, суставы ныли. Томаш проковылял через коридор и заглянул в гостиную. Мадалена заснула на диване с книгой об искусстве эпохи Возрождения на коленях. Томаш деликатно кашлянул, чтобы ее разбудить.
— Сеньора, — позвал он. — Сеньора.
Старуха открыла глаза и дернула головой, прогоняя сон.
— Простите, — пробормотала она смущенно. — Я задремала.
— Ничего страшного.
— Вы нашли, что искали?
— Да.
— Бедняга, представляю, как вы устали. Я хотела предложить вам поесть, но вы были точно под гипнозом и даже головы не повернули в мою сторону.
— Ох, извините, я и вправду не слышал. Знаете, когда я чем-то увлечен, весь мир перестает для меня существовать. В таком состоянии я вполне могу пропустить всемирный потоп.
— Мой муж был точно такой же. Уходил в свою работу и терял связь с реальностью. — Мадалена кивнула в сторону кухни. — Между прочим, мясо получилось — пальчики оближешь.
— Спасибо. Вам не стоило так себя утруждать.
— Ну что вы, какие пустяки! Хотите поесть? Оно еще горячее…
— Нет-нет, благодарю. На самом деле я хотел попросить вас о другом одолжении.
— Я вас слушаю.
— Можно, я возьму коробку, чтобы отксерить документы? Я завтра же все верну.
— Коробку? — растерянно повторила Мадалена. — Я, право, не знаю.
— Пожалуйста, не волнуйтесь, я принесу ее завтра утром. Обещаю. — Томаш достал из кармана бумажник и протянул старухе документы. — Вот мое удостоверение личности и кредитка. Пусть побудут у вас как залог.
Мадалена схватила документы и долго, придирчиво изучала. Потом опустила веки, принимая решение.
— Ладно, — заявила она наконец, пряча карточку и удостоверение в кармане халата. — Но чтобы завтра они были здесь.
— Не беспокойтесь, — заключил Томаш, направляясь обратно в кабинет.
Когда он вышел в коридор, старуха вдруг окликнула его слабым, но ясным голосом:
— Хотите заодно то, что в сейфе?
Томаш застыл на месте.
— Что?
— Хотите заодно взять то, что в сейфе?
Томаш вернулся в гостиную и остановился на пороге.
— Прошу прощения?
— Мартиньо хранил часть бумаг в сейфе. Хотите посмотреть?
— Бумаги касаются его последней работы?
— Да.
— Конечно хочу! — выпалил Томаш, сходя с ума от нетерпения. — А что там?
Мадалена уже прошла в спальню. Там тоже царил беспорядок: растерзанная постель, ворох одежды на полу, кислый запах пота.
— Не знаю, — ответила старуха. — Мартиньо говорил, это исчерпывающее доказательство.
— Доказательство? Но чего?
— Этого я не знаю. Скорее всего, гипотезы, которую он выдвинул. А чего же еще?
С нарастающим возбуждением Томаш следил, как хозяйка дома открывает платяной шкаф и выдвигает на свет объемный железный ящик.
— Ваш супруг хранил свои конспекты в сейфе?
— Только самые важные. Он говорил: «Мадалена, это последнее доказательство, решающее. Ты глазам своим не поверишь, когда его увидишь». Мартиньо так трясся над этими бумагами, что закрыл сейф на кодовый замок.
— Вы сохранили код? — спросил Томаш, не в силах скрыть волнение.
Мадалена взяла с прикроватной тумбочки сложенный вдвое листок бумаги и протянула ему:
— Вот он.
На белом листе формата А4 не было ничего, кроме двух аккуратных столбиков букв и цифр.
— Это и есть код? — удивился Томаш. — Но ведь здесь не только цифры, но и буквы.
— Да, — согласилась Мадалена. — Каждой букве соответствует цифра. А это 1, Б — 2, и так далее. Понимаете?
— Теперь понимаю. — Томаш указал на второй столбик. — А этим цифрам соответствуют какие-то буквы?
Женщина, прищурившись, разглядывала листок.
— Не знаю. И мужа больше не спросишь.
Томаш переписал код в свой блокнот. Потом, подчиняясь предложенному Мадаленой алгоритму, заменил буквы цифрами, а цифры оставил нетронутыми. Получились шесть столбиков:
Набрать в замке такое количество цифр было делом небыстрым. Закончив, Томаш подождал несколько мгновений. Дверца оставалась закрытой. И неудивительно: любитель хитроумных шифров не ограничился простой заменой букв цифрами. Томаш повернулся к Мадалене и пожал плечами.
— Судя по всему, это сложнее, чем кажется. Значит, я возьму коробку, скопирую бумаги и верну вам завтра. — Он аккуратно сложил листок с кодом. — А над этой шарадой я еще подумаю. Вдруг мне удастся ее разгадать?
Покинув дом профессора, Томаш направился прямиком в расположенную неподалеку от университета мастерскую «Аполлон-70», где были копировальные аппараты. Там его заверили, что копии будут к утру готовы.
Вечером Томаш был особенно ласков и внимателен к жене и дочке. Он то и дело обнимал и целовал их, клялся в любви, предупреждал их малейшие желания и капризы. Норонья и сам не знал, чем объяснить подобные приступы нежности. Вероятно, все дело было в чувстве вины из-за Лены, в желании хоть как-то сгладить последствия своей измены. Похоже, связь на стороне и вправду сделала его хорошим мужем и отцом.
Констанса расставила по всей квартире новые букеты, на этот раз белые гиацинты в стеклянных вазах, нежные и чистые, словно крылья ангелов, с острыми, плотными, полупрозрачными лепестками. После ужина Томаш расположился в гостиной с бумагами профессора Тошкану. Констанса уложила Маргариту и присоединилась к нему. Томаш погладил жену по усеянной веснушками щеке и улыбнулся.
— Спит?
— Как сурок.
— Как прошел день?
— Нормально. Я забрала Маргариту после уроков и мы немножко погуляли.
— Куда ходили?
— В парк Поэтов рядом с торговым центром. Я решила научить Маргариту кататься на велосипеде.
— И как успехи?
Констанса рассмеялась.
— Просто ужасно! Она и метра не могла проехать, все время падала. А потом заявила: «Пйохая машина!» и пересела на трехколесный велосипед для малышей.
— И не постеснялась ездить на велике для малышни?
— Ты же ее знаешь, она вообще никогда ничего не стесняется.
Томаш разразился смехом. Его дочь и вправду была не из застенчивых. Если кто-то говорил ей обидные вещи, она делала вид, что не слышит. Другие детишки ее возраста умирали со стыда, когда их заставляли плавать с кругом, Маргарите же он не доставлял никакого неудобства. Она была человеком, полностью свободным от комплексов.
Томаш привлек жену к себе и нежно поцеловал.
— Ну ладно, мне надо работать.
И склонился над разложенным на диване листком бумаги, стараясь разгадать придуманную Тошкану шараду.
— Что это? — спросила Констанса, с интересом глядя на ровные столбики цифр.
— Зашифрованное послание, — отозвался Томаш, не поднимая головы. — Которое заставляет меня сомневаться в своем интеллекте.
— Это для твоих американцев?
— Да.
И он погрузился в мир шифров и чисел, полностью отрешившись от окружающей действительности. Прежде чем пробовать разные комбинации, нужно было понять, с каким типом шифровки имеешь дело. А это было совсем не так легко, как могло показаться на первый взгляд. Томаш успел проверить и отмести несколько вариантов, когда чья-то рука легла на страницу блокнота, прервав его лихорадочные размышления.
— Томаш, — позвал знакомый голос. — Томаш.
Это была Констанса.
— Да? — Томаш с трудом вернулся к реальности. — Ты что?
— Прости, что отрываю, я знаю, ты не любишь, когда тебя отвлекают от работы. Но, понимаешь, мне очень нужно кое-что тебе рассказать.
— Что рассказать, милая? Что случилось?
— Ничего страшного, просто, когда мы с Маргаритой гуляли, кое-что произошло. В парке Поэтов. Я учила Маргариту кататься на велосипеде. Знаешь, я все время бежала за ней, чтобы поймать, если она упадет.
— Ага.
— Потом мы поменяли двухколесный велосипед на трехколесный, и я отпустила Маргариту покататься с двумя девчушками, а сама села на скамейку передохнуть. И знаешь, что было потом?
— Что?
— Знаешь, она сразу обогнала других детей, а те ее отпихнули, не захотели играть с нашей Маргаритой.
Томаш с состраданием глядел на жену. У Констансы предательски блестели глаза, видно было, что она с трудом сдерживает слезы. Норонья обнял ее за плечи и прижал к себе.
— Господи! Постарайся забыть об этом, просто забыть…
— Они обращались с нашей девочкой так, будто она заразная…
— Ты же знаешь, какими бывают люди. Не думай об этом, родная.
Томаш поцеловал жену в губы, вытер слезы, серебристыми змейками бежавшие по щекам. Помог встать и отвел в спальню. Уложил в кровать, накрыл одеялом и пообещал, что скоро придет. Потом тихонько пробрался в детскую и, не включая свет, прислушался к дыханию спящей дочки, разглядел в полумраке ее безмятежное личико, обрамленное разметавшимися по подушке волосами; вернувшись в спальню, он разделся, надел пижаму, погасил ночник и улегся подле Констансы, которая мирно спала, свернувшись клубочком.
Все утро Томаш просидел в библиотеке, уточняя сведения, почерпнутые из записей Тошкану; дожидаясь, когда принесут книги, он без особого успеха пробовал разобраться с секретом сейфа. В полдень Норонья забрал из мастерской копии, погрузил их в машину вместе с оригиналами и отправился к Мадалене. Когда, вернув старухе коробку и получив взамен свои документы, он вышел на улицу, оказалось, что уже час, и нетерпеливая Лена давно названивает ему на мобильный.
Томаш сам не помнил, как добрался до Латино-Коэльо, как взбежал по лестнице, яростно надавил звонок и очутился в объятиях шведки, как они миновали прихожую и коридор и очутились в гостиной, где рухнули прямо на пол, дрожащие, потные, безумные, охваченные страстью; сорвав одежду, они катались по полу, цеплялись друг за друга, сплетались телами, стонали от мучительного вожделения; и наконец, истерзанные и счастливые, одновременно достигли высшей точки наслаждения, и крики, сорвавшиеся с их губ, слились в единый торжествующий вопль.
Потом они неторопливо, церемонно обедали, смакуя каждый кусочек, наслаждаясь едой, как совсем недавно любовью. Томаш не был большим поклонником лосося, но Лена приготовила его по-скандинавски, с особым соусом и приправами, смягчившими ядреный рыбный дух.
— Как называется это блюдо? — поинтересовался он, прожевав очередной кусок.
— Gravad lax, — ответила шведка.
— Интересно, как получается такая вкуснятина.
— Это старинный шведский рецепт, — улыбнулась девушка. — Лосося два дня маринуют с сахаром, солью и… еще какой-то штукой, я не знаю, как это будет по-португальски.
— А гарнир?
— Это gubbrora.
— Gub… что?
— Gubbrora. Салат из анчоусов, свеклы, лука, каперсов и яичного желтка. А соус для лосося сделан из горчицы и сальсы. Тебе нравится?
— Да, — честно признался Томаш. — Очень вкусно.
За столом воцарилась тишина. Оба сосредоточенно работали вилками. Постепенно молчание становилось все более тягостным, словно секс полностью лишил их сил, исчерпал интерес друг к другу, и им больше не о чем было говорить.
— Ты любишь меня? — спросила шведка, сверкнув глазами из-под пышных золотистых кудряшек.
— Конечно, моя валькирия. Я очень тебя люблю.
Томаш сам не знал, солгал он или сказал правду. Но его подруга хотела услышать именно такой ответ. У слов есть особое свойство: чем чаще их повторяешь, тем убедительней они звучат. И тем легче в них верить. И все же в душе у Томаша было слишком много сомнений. Он совершенно точно знал, что любит Констансу и никогда ее не покинет. Иногда, чисто гипотетически, Норонья пытался вообразить, как изменится его жизнь, если он бросит жену и навсегда уйдет к Лене. От этих фантазий Томашу делалось так неуютно, что он спешил поскорее прогнать морок и силой возвращал себя к действительности. И все же их с Леной близость зиждилась не только на влечении плоти. Норонья обожал жену и дочь, но порой смертельно от них уставал. Заключив в объятия шведку, он ненадолго переносился в мир, в котором не существовало триссомии 21. Возможно, само небо послало ему Лену, чтобы спасти его брак.
— Как продвигается твое расследование? — спросила шведка, отрезая кусочек рыбы. — Удалось еще что-нибудь нарыть?
Лена питала к делу Тошкану искренний и бескорыстный интерес. Поначалу Томаш не уставал удивляться: кто бы мог подумать, что девчонку могут увлечь такие вещи. Однако вскоре обсуждение расследования превратилось у любовников в своеобразный ритуал, способ стать друг другу ближе и неисчерпаемый источник для разговоров.
— Представляешь, вдова Тошкану разрешила мне скопировать архив своего мужа.
— Bra![27] — восхитилась шведка. — Там, наверное, куча полезного материала.
— Еще бы. — Томаш потянулся за портфелем и достал блокнот. — Но самое интересное хранится в сейфе. — Он продемонстрировал девушке шифр. — Только, чтобы его открыть, нужно разобраться в этой абракадабре.
Девушка изучала шифр, склонив голову набок.
— Ничего не понимаю. И как ты только их разгадываешь?
— Что поделать! — Томаш достал книгу в синем переплете. — На этот раз у меня есть надежный помощник. Таблица вероятностей.
Книга была на английском языке; название на обложке гласило «Криптоанализ», под ним была изображена сеть из квадратиков, чем-то напоминающая кроссворд.
— Это и есть таблица вероятностей? — спросила Лена.
— Книга состоит из таблиц, — Томаш открыл нужную страницу. — Видишь? Здесь таблицы на английском, немецком, французском, итальянском, испанском и португальском.
— С их помощью можно прочесть любой шифр?
Томаш рассмеялся.
— Нет, красавица! Только шифры замены.
— Они какие-то особенные?
— Существует три вида шифров. Замещающий, подстановочный и скрытый. Скрытый шифр маскируется под обычное, незашифрованное сообщение. Эта система пришла из древности, когда послание прятали на голове у гонца или раба. Автор сообщения записывал его у вестника под волосами. Гонцу удавалось легко миновать вражеские посты. Кто станет копаться в голове у раба? А когда он прибывал к адресату, его брили наголо и читали послание.
— Какой кошмар! — поежилась Лена, непроизвольно коснувшись своей роскошной белокурой гривы. — А другие типы?
— Подстановочный шифр основан на перестановке знаков. По сути это анаграмма, вроде той, что я расшифровал в Рио. Молок или Колом, смотря с какой стороны прочесть. Это простейшая анаграмма. Этот способ рискованно применять к коротким сообщениям: слишком мало вариантов, и правильный легко подобрать методом исключения. Чем больше знаков, тем больше возможных комбинаций. Например, фраза из тридцати шести букв дает триллионы вариантов. — Томаш вывел в блокноте число с огромным количеством нулей: 50 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. — Видишь? Всего из тридцати шести букв. — Он приписал внизу число 36 и провел к нему стрелочку. — Разумеется, такая масса возможностей делает шифр практически нечитаемым ни для кого, в том числе и для адресата. Мне, как ты помнишь, пришлось расшифровывать фразу «Moloc, ninundia omastoos». Она состоит из двадцати букв, а это означает миллионы возможных комбинаций. К первой строке я решил применить симметричную перестановку, когда последний знак становится первым, предпоследний вторым, и так далее. Получилось слово Colom. Во второй фразе симметрия была нарушена, к ней применили перекрестную перестановку.
— Ты гений, — проговорила Лена с невыразимой нежностью. — А этот шифр? Он тоже подстановочный?
— Вряд ли. Скорее, замещающий.
— Почему ты так решил?
— По внешнему виду послания. Посмотри внимательнее на первую колонку. Она состоит из знаков, сгруппированных по трое в произвольном порядке. Видишь? Quo, lae, doc. Складывается впечатление, что настоящие знаки подменены другими.
Лена закусила губу.
— В каком смысле подменены?
— Понимаешь, это когда одни буквы или цифры заменяются другими бессистемно, чтобы посторонний человек не догадался, какую систему использовал шифровальщик. Возьмем, к примеру, слово pai. Если поменять р на t, а на х, a i на r, получится шифровка txr. Чтобы ее прочесть, нужно знать, что р это t, а это х, a i — r. Тот, кто не знаком с принципами подмены, никогда не расшифрует наше послание.
За разговорами они доели рыбу, и Лена отправилась на кухню за десертом. На сладкое было яблочное пюре.
— Ты на днях смеялся над названием äppelkaka, вот я и решила приготовить это блюдо, — объяснила шведка, поставив миску на стол. Ловко поделив пюре на две порции, она подвинула Томашу тарелку. — Попробуй.
Томаш зачерпнул ложку ароматного пюре, а Лена, отставив в сторону тарелку, потянулась за книгой.
— А этот замещающий шифр часто используется?
— Очень. Впервые его описал Юлий Цезарь в «Записках о галльской войне». Там каждую букву алфавита заменяли третьей от нее. А превращалась в d, b в е, и дальше по тому же принципу. Эта методика вошла в историю как «шифр Цезаря». В IV веке до нашей эры брахман Ватсьяйана, автор «Камасутры», советовал женщинам шифровать письма к любовникам. Предложенная им техника основана как раз на замещении. В наши дни ею пользуются, чтобы передавать особо важные и секретные сообщения, над их расшифровкой трудятся мощнейшие компьютеры, способные обрабатывать за секунду миллионы комбинаций… М-м-м… — промычал он, щурясь от удовольствия. — Очень даже неплохо.
Лена пропустила похвалу мимо ушей, ее вниманием завладела шарада Тошкану.
— Если это и вправду замещающий шифр, как же ты его прочтешь? Ведь ключ тебе неизвестен?
— Нет.
— Как же быть?
Томаш взял в руки книгу в синем переплете.
— Прибегнуть к помощи частотных таблиц.
— В них можно отыскать ключ?
— Нет, — покачал головой Томаш. — Но они помогут сузить поиск. — Он собрал с тарелки остатки яблочного пюре и с блаженным видом отправил в рот последнюю ложку. — Эти таблицы появились благодаря арабским книжникам, которые взялись подсчитать, сколько раз в Коране упоминается Мухаммед. А заодно установить частоту использования остальных слов и букв. Оказалось, что некоторые буквы появляются на страницах священной книги чаще остальных. Самые распространенные буквы арабского алфавита — а и I, образующие артикль al; они встречаются в десять раз чаще чем, например, буква j. Средневековые ученые были настолько поражены собственным открытием, что решили составить первую в мире частотную таблицу для арабского языка. Их труд вдохновил другого арабского мыслителя, Абу Аль-Кинди, который жил в девятнадцатом веке; он написал трактат по криптографии, в котором утверждал, что самый распространенный знак в зашифрованном сообщении оказывается самым распространенным и в системе, которую использовали для шифровки.
— Не понимаю.
— Предположим, сообщение, которое надо зашифровать, изначально написано по-арабски. Самые популярные буквы арабского алфавита — а и l, следовательно, в зашифрованном послании они тоже будут встречаться чаще всего. Чтобы приступить к дешифровке, нам придется заменить наиболее распространенные знаки шифра, скажем, t и d, на а и l. Вот тут-то нам и пригодятся частотные таблицы. По ним можно с большой долей вероятности определить, какие буквы в действительности скрываются за знаками шифровки.
— Теперь начинаю понимать. Оказывается, все очень просто.
— Не спеши. Таблицы — не панацея. Они лишь указывают с какой частотой в определенном языке используется та или иная буква. Для слишком коротких сообщений таблицы вообще не годятся. Возьмем скороговорку: «На дворе трава, на траве дрова». Как ты, наверное, догадываешься, если буквы р и в встречаются в ней чаще всего, это еще не означает, что они самые распространенные. Прибегать к частотным таблицам имеет смысл, когда нужно прочесть сообщение в сто знаков и больше. Иначе существует вероятность контекстных повторов, как в нашей скороговорке. К несчастью, наш ребус — как раз такой случай.
— Сколько же в нем букв?
— В ребусе? Я как раз вчера вечером сосчитал. Едва набирается тридцать. Если быть точным, двадцать семь букв и три цифры. Слишком мало.
Шведка принялась убирать со стола.
— Хочешь кофе?
— Не отказался бы.
Томаш помог девушке отнести на кухню посуду и заправить посудомоечную машину. Потом Лена достала кофеварку. Кофеварка у нее была старая, стеклянный «Мелиор», доставшийся в наследство от прежнего хозяина квартиры, однако кофе в нем получалось отменным. Перейдя в гостиную, Томаш устроился на диване, Лена присоединилась к нему.
— Что же теперь? — спросила она. — Что ты собираешься делать?
— Поменять угол атаки.
— Получается, частотные таблицы себя не оправдали?
— Я просидел над ними весь вечер и все утро в Национальной библиотеке, — вздохнул Норонья. — Бесполезное дело.
— Так уж и бесполезное? Дай-ка взглянуть.
Норонья протянул девушке раскрытую книгу.
— Видишь? Здесь много разных таблиц. — Он открыл блокнот и нашел страницу, куда накануне переписал столбики загадочных букв. — Прежде всего необходимо понять, с каким языком мы имеем дело.
— А разве не с португальским?
— Скорее всего, — задумчиво произнес Томаш. — Но это может запросто оказаться и латынь. Цитировал же Тошкану Овидия. Профессор был полиглотом, от него можно ждать чего угодно.
— А у тебя есть латинская таблица?
— В этой книге нет. Но при желании ее можно найти. — Томаш полистал книгу. — С португальской таблицей я уже поработал.
— Что-нибудь получилось?
— У португальского языка есть одна забавная особенность. В английском, французском, немецком, испанском и итальянском самая распространенная буква е, а в португальском — а. Во всех перечисленных мной языках буква e составляет тринадцать с половиной процентов от всех употребляемых, а в португальском не дотягивает и до тринадцати. Вообще для романских языков характерен неустойчивый баланс между двумя буквами с незначительным перевесом е. В языках германской группы e лидирует с большим отрывом. В английском частота ее употребления составляет тринадцать процентов, а довольствуется восемью, перед ней стоит t со своими девятью процентами. В немецком разрыв еще больше. На e приходятся восемнадцать с половиной процентов, на а только пять, ее опережают n, i, r, и s.
— Значит, найти текст, в котором не встречается буква е, невозможно?
— Очень трудно. Но в принципе возможно. В тысяча девятьсот шестьдесят девятом году французский писатель Жорж Перес написал двухсотстраничный роман под названием «La disparition»,[28] чтобы доказать, что можно обойтись без е.
— Надо же!
— Этот роман вышел на английском языке под названием «Avoid»,[29] и переводчик сохранил главную особенность оригинала.
Писк кофеварки возвестил о том, что кофе готов. Лена удалилась на кухню и вскоре вернулась с кофейником и видавшими виды фарфоровыми чашками. Разместив поднос на журнальном столике, она наполнила чашки, бросила в каждую по два кусочка сахара и тщательно размешала, мелодично позванивая ложечкой о фарфор. Томаш пригубил свою порцию; кофе получился крепким, терпким и вкусным, его густой, глубокий аромат приятно щекотал ноздри.
— Ничего? — спросила девушка.
— Превосходно. Как ты считаешь, не сделать ли нам шериньо?
— Что?
— Шериньо. Ты не знаешь, что это такое?
— Нет.
— У тебя найдется водка?
Лена достала из серванта бутылку матового стекла с этикеткой, изображавшей зимнюю аллею, и надписью «Скане Аквавит». Томаш взял из рук девушки тяжелую бутыль.
— Пойдет?
— А что это?
— Шведская водка.
— Обычно я беру португальскую или итальянскую граппу, но, думаю, шведская будет в самый раз.
— Ты хочешь подлить водки в кофе?
— Совсем чуть-чуть, — Томаш добавил в чашку пару капель из бутылки. — Итальянцы называют это caffe corretto. Попробуй.
Лена поднесла чашку к губам. Сначала водка обожгла ей горло, потом внутри разлилось терпкое кофейное тепло. Лицо девушки осветила довольная улыбка.
— И вправду неплохо.
— Ничего плохого я бы тебе не предложил, — улыбнулся Норонья.
Шведка принялась с задумчивым видом перелистывать блокнот с вариантами решения.
— А когда ты собираешься применить таблицу к своему шифру?
Томаш поставил чашку на столик и печально развел руками.
— Уже применил.
— И как?
— В нем чаще всего встречается буква е, всего пять раз. За ней идут а, о, u, каждая по три раза. Я попробовал заменить букву е на a, самую распространенную в португальском, о, соответственно, на r, u на s. Но ничего не вышло.
— Ну хорошо, если у нас ничего не вышло, но мы точно знаем, что самая распространенный в этом шифре знак — е, почему бы не допустить, что сообщение написано не на португальском, а на каком-то другом языке?
— Потому что это означало бы, что мы имеем дело не с замещающим шифром, а с…
И он замолчал, потрясенный собственной догадкой.
— С чем? — спросила Лена, призывая профессора завершить начатую фразу.
Томаш застыл на месте, зажав рот ладонью. В его глазах отражалась лихорадочная работа мысли.
— С чем? — нетерпеливо повторила девушка.
Норонья смерил ее рассеянным взглядом.
— Как ни странно, именно с этим.
— С чем этим?
Но внимание Томаша уже переключилось на заветный блокнот.
— Как ни странно, это действительно не замещающий шифр.
— Отлично. Так что же это, в конце концов?
Но Томаш, не отвечая, лихорадочно считал знаки.
— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь… — бормотал он вполголоса, водя пальцем по столбикам, и наконец объявил: — Четырнадцать. — Отметив в блокноте полученное число, Томаш стал считать заново. — Раз, два, три, четыре, пять… Тринадцать, — объявил он, не забыв подписать новое число под предыдущим. Затем Норонья снова открыл книгу и углубился в изучение частотной таблицы. — Вот оно! — воскликнул он внезапно, торжествующе вскинув руки.
— Что оно? — растерянно спросила Лена.
Томаш ткнул пальцем в правый нижний угол таблицы.
— Видишь?
— Да, — ответила девушка. — Сорок восемь процентов. И что все это значит?
Томаш улыбнулся.
— Это доля гласных в текстах на португальском языке.
— Как это?
— Количество гласных букв в любом португальском тексте составляет сорок восемь процентов, — Томаш пребывал в счастливом возбуждении. — Понимаешь? Столько же только в итальянском. У испанцев сорок семь процентов, у французов сорок пять, у англичан и немцев по сорок.
— Но при чем тут шифр профессора Тошкану?
— Знаешь, сколько в нем гласных?
— Сколько?
— Четырнадцать. А согласных тринадцать. Гласных больше половины. — Его глаза радостно блестели. — Ты понимаешь, что это означает?
— Что сообщение написано по-португальски?
— Возможно, — кивнул Томаш. — Но дело в другом. Когда в зашифрованном послании, написанном на европейском языке, например, португальском, преобладают гласные, это означает, что мы имеем дело не с замещающим шифром, а с подстановочным. Другими словами, с очередной анаграммой.
— Извини, но я что-то никак не ухвачу ход твоих мыслей.
— Все очень просто. В замещающей шифровке большая часть гласных заменяется согласными. Скажем, е превращается в х. В этом случае в нашем ребусе зашкаливало бы количество иксов. Но ничего подобного. Наоборот, гласных больше, чем согласных. Следовательно, их ничем не подменяли, а скорее всего, меняли местами. Шифровальщик использовал принцип анаграммы.
— Как с Молоком?
— Приблизительно. Хотя на этот раз решить задачу куда сложнее. Профессор позаботился даже о том, чтобы замаскировать анаграмму под замещающий шифр.
Лена отпила кофе.
— Частотная таблица может помочь?
— Нет, для таких шифровок она не годится. Но мы, по крайней мере, выяснили, с чем имеем дело.
— И что теперь?
— Сначала я постараюсь понять, есть ли в сочетании гласных и согласных хоть какой-то смысл. Так мы сможем узнать, каким методом перестановки пользовался Тошкану. В случае с Молоком она была симметричной, зеркальной. Здесь никакой симметрии не наблюдается. Смотри. — Томаш прочел первую линию первого столбика справа налево. Ouq. Полная бессмыслица. — Пожав плечами, он обратился к первой строфе второй колонки. — Ele. Ну вот, уже ближе. Правда, в третьем столбике получается aft, опять какая-то абракадабра.
— А если попробовать снизу вверх?
— Принцип может быть любым. Слева направо, сверху вниз, снизу вверх, змейкой, зигзагами, по диагонали…
— Qldut, — прошептала Лена, скользя глазами по первой колонке снизу вверх. Затем попробовала в противоположном направлении: — Tudlq.
Норонья еще раз внимательно изучил шифровку, кивнул собственным мыслям, словно приняв важное решение, и взялся за карандаш.
— Попробуем объединить два столбика.
Томаш переписал колонки ребуса на чистую страницу пятью строками по шесть знаков. Вышло нечто весьма туманное:
Q U O Е L E
L A E F T A
D O C O Р 5
U A C U Е 4
Т N Е D N 5
— Quoele, — прочла Лена первую строку справа налево, недовольно поморщилась и попыталась зайти с другой стороны: — Eleouq.
— Все не то, — Томаш с досадой тряхнул головой.
— Laefta, — не сдавалась шведка. — Atfeal.
Пока Лена пробовала разные комбинации, Норове шил попытать счастья с диаграммами и триграммами. В португальском языке, как известно, есть пять общеупотребительных диаграмм: es, os, de, as и ro. Оставалось выяснить, встречаются ли такие пары в зашифрованном послании. При ближайшем рассмотрении ни es, ни os, ни as, ни ro отыскать не удалось; de тоже не оказалось, если не считать ed в предпоследней строке по горизонтали. Справа налево получалось 5ndent, очередная бессмыслица. Оставалась еще хрупкая надежда на триграммы. Томаш отлично помнил, какие тройственные сочетания букв встречаются в португальском чаще всего: que, ent, nte, des и est. Из них в послании встречалась только ent, все в той же предпоследней строке, если читать справа налево. 5ndent.
— Ага, — отметил Томаш почти автоматически. — Снова эта строчка.
Такое совпадение едва ли было случайным. Одна из самых распространенных португальских диаграмм оказалась в одной строке с самой употребительной триграммой. Томаш стал перебирать португальские слова с суффиксом dent. Их было немало. Independente.[30] Correspondente.[31] Intendente.[32]
— Dut, — упрямо повторяла Лена, перейдя от горизонтали к вертикали. — Tud.
Было решительно непонятно, куда девать лишнюю букву n и пятерку. 5ndent. Впрочем, если пятерка была здесь совсем уж не к месту, для n еще можно было найти хоть какое-то применение. Суффиксы dent и ndent встречались во многих европейских языках. Да и в соединении диаграммы с триграммой определенно был смысл. Но остальные строки оставались произвольным набором знаков. В предпоследней строке справа налево получалось eucau, в третьей — pocod. Ровным счетом ничего.
Лена бесцеремонно прервала рассуждения профессора, положив руку ему на колено.
— Вот это место меня возбуждает, — заметила она игриво.
— Какое?
— Вот здесь, — шведка указала на три последних буквы в пятом вертикальном столбце. — Pen. — Ее губы изогнулись в распутной улыбке. — Что если это начало слова penis?
Томаш усмехнулся.
— Чертовка.
Он машинально пробежал взглядом по тексту ребуса, чтобы проверить, не притаился ли где-нибудь слог is, который можно было бы присоединить к pen.
Томаш прочел каждую строку сверху вниз, потом справа налево. Да так и застыл, разинув рот, не смея поверить глазам. Pendent. Слоги реп и ndent легко соединились в одно слово. Получилось pendent. Норонья поискал окончание е, которое можно было бы добавить к полученной основе, и обнаружил его в конце первой строки. Оставалось только подчеркнуть расшифрованное слово:
— Вот оно! — Томаш почти кричал, охваченный радостным волнением. — Наконец-то!
— Что? Покажи!
— Шифр. Я нашел ключ к шифру! Видишь подчеркнутые буквы? Pendente. Здесь написано pendente.
Лена заглянула ему через плечо.
— Да, действительно. Здесь и вправду написано pendente. — Она недоуменно вскинула бровь. — Только буквы почему-то идут не по порядку.
— Это заданное направление, — с готовностью пояснил Томаш. — Двигаться надо по вертикали сверху вниз и по горизонтали справа налево до середины строки, потом слева направо. — Он опять схватил карандаш. — Так-так, посмотрим. Если пойти вниз от слова pendente, получится а545. Вместе это будет pendente а 545. Пойдем дальше. А дальше идет efoucault. Хмм. — Он задумчиво потер переносицу. — Попробуем прочесть все вместе: е foucault pendente а 545.
Томаш вернулся к началу послания и еще раз прошел его до конца, двигаясь по заданному маршруту. Сверху вниз, справа налево, а потом слева направо. Полученный результат он аккуратно записал в блокнот:
QUALOECODEFOUCAULTPENDENTEA545
Потом он переписал его еще раз, разделив сплошную строку на слова. Завершив работу, Томаш несколько мгновений сосредоточенно глядел на линованную страничку; вскоре недоумение сменилось торжеством.
— Voila! — произнес он с видом иллюзиониста, которому только что удался трудный и чрезвычайно эффектный фокус.
Завеса тайны пала, и то, что всего минуту назад казалось набором букв, бредом, бессмыслицей, превратилось в простую, понятную фразу.
QUAL О ECO DE FOUCAULT PENDENTE А 545?[33]
VIII
Чайки с гортанными криками кружили над прибоем, почти касаясь крыльями воды, волны ритмично накатывали на берег, оставляя на песке тонкую полоску пены. Холодный зимний ветер погасил солнце над Каркавелушем, выстудил его, разогнал отдыхающих. Лишь отчаянные серферы упрямо поднимали паруса над неспокойным серым морем, парочка влюбленных зябко жалась друг к другу, да какой-то чудак брел куда глаза глядят по бесконечному пляжу. Там, где летом яркими красками искрилась жизнь, теперь главенствовал унылый монохромный пейзаж.
Официант удалился, оставив на столе чашку дымящегося кофе. Томаш сидел в уличном кафе уже десять минут. Была четверть четвертого, человек, которому он назначил встречу, опаздывал. Они договаривались на половину. Норонья покорно вздохнул. В конце концов, это ему понадобилась консультация коллеги. Томаш ждал профессора Алберту Сарайву с философского факультета; Сарайва жил в Каркавелуше, в двух шагах от Оэйраса, так что место встречи определилось само собой; несмотря на зиму, на пляже было куда уютнее, чем в тесных и прокуренных факультетских аудиториях.
— Mon cher, прошу прощения за опоздание, — прогремел за спиной раскатистый бас.
Томаш поднялся на ноги и крепко пожал протянутую руку. Пятидесятилетний Сарайва был очень похож на Жана Поля Сартра: седеющая грива, тонкие губы, легкая косинка в глазах; его манеры отличались известной экстравагантностью, порой граничившей с безумием, этакой neglige charmant,[34] которую специалист по французским деконструктивистам сознательно культивировал еще со времен аспирантуры в Сорбонне.
— Привет, профессор, — обрадовался Томаш. — Присаживайся. Возьмешь что-нибудь?
Сарайва развалился на стуле, сунул нос в стоявшую на столе чашку.
— Я, пожалуй, тоже кофейку выпью.
Томаш взмахнул рукой, подзывая официанта.
— Еще кофе, будьте добры.
Сарайва глубоко вдохнул, с наслаждением заполняя легкие свежим морским воздухом.
— Зимой тут хорошо. — Он говорил нараспев, будто читал стихи, придавая самым обычным словам особый возвышенный смысл. — Этот безмятежный покой вдохновляет меня, придает сил, расширяет горизонты моей души.
— Ты часто здесь бываешь?
— Только осенью и зимой. Летом тут не протолкнешься от туристов. — Профессора даже передернуло от мысли об этих презренных существах. Его подвижные черты исказила гримаса отвращения. Несколько секунд пластичные лицевые мышцы Сарайвы ходили ходуном, но постепенно приняли прежнее выражение, умиротворенное и чуть-чуть blase.[35] — Мне по душе здешняя тишина, вечная борьба равнодушной земли и неистового моря, нескончаемый спор чаек и волн, битва солнца и туч. Все это так вдохновляет.
— Что-нибудь еще? — предложил официант.
— Нет, спасибо, — отказался Томаш.
— Здесь так хорошо думается о Жаке Лакане, Жаке Деррида, Жане Бодрийяре, Жиле Делезе, Жане-Франсуа Лиотаре, Морисе Мерло-Понти, Мишеле Фуко, Поле…
Томаш осторожно кашлянул.
— Вот именно, профессор, — прервал он вдохновенную речь собеседника. — Как раз о Фуко я и хотел с тобой поговорить.
Сарайва вскинул брови с печальным недоумением, словно Норонья допустил страшное богохульство, помянув всуе Бога-Отца и Бога-Сына.
— О Мишеле Фуко?
Профессор сделал ударение на имени французского философа, будто подчеркивая, что его надлежит указывать вместе с фамилией, noblesse oblige.[36]
— Да, о Мишеле Фуко, — дипломатично ответил Томаш, спеша признать свою оплошность. — Я как раз занимаюсь одним исследованием в области истории, и по ходу дела всплыло это имя. А я о нем, признаться, почти ничего не знаю. Может, ты восполнишь пробел в моем образовании?
Профессор философии лениво махнул рукой: мол, даже и не знаю, с чего начать, чтобы дилетанту вроде тебя было понятнее.
— О, Мишель Фуко! — Сарайва устремил мечтательный взор к горизонту, словно надеясь разглядеть за кромкой моря старую добрую Сорбонну своей юности, и горько вздохнул. — Мишель Фуко был величайшим философом после Иммануила Канта. Ты, разумеется, читал «Критику чистого разума»?
— Вообще-то… нет.
Сарайва испустил очередной тяжкий вздох: что с вас, невежд, возьмешь.
— Это величайший из когда-либо написанных философских текстов, mon cher, — заявил он, сурово глядя на Томаша. — В «Критике чистого разума» Кант доказывает, что мы имеем дело не с реальностью как таковой, а с собственным образом этой реальности. Ни один предмет не явлен нам таким, какой он есть, наше восприятие все искажает. Человек, к примеру, видит мир совсем не так, как летучая мышь. Для людей важнее зрение, а для летучих мышей слух. Люди различают цвета, а летучие мыши только темные и светлые пятна. Люди воспринимают зрительные образы, а летучие мыши чувствуют температуру. Ни ту, ни другую картину мира нельзя назвать истинной. Реальности нет, есть бесчисленные ее интерпретации. Если развить знаменитую метафору Платона, все мы находимся в пещере, бездонной, как наше сознание. Вокруг одни тени, ничего настоящего нет. — Профессор повернулся к Томашу: — Это понятно?
Норонья завороженно разглядывал белые гребешки пены, венчавшие беспокойные волны, размышляя о вечной борьбе земли и моря.
— Да.
Сарайва внимательно посмотрел на собственные ногти, словно ища там подсказку.
— Французские деконструктивисты не признавали никакой реальности, кроме реальности текста. Если действительности вне нашего восприятия не существует, значит, мы сами творим образ действительности. Этот образ дан нам не сам по себе, а через призму когнитивных механизмов.
— Это идея Фуко?
— Эта теория оказала на Мишеля Фуко огромное влияние, — ответил профессор, деликатно, но непреклонно призывая собеседника называть философа полным именем, освященным традицией. — Он полагал, что существует не одна истина, а множество.
Томаш пожал плечами.
— А это не слишком? Всем известно, что истина одна.
— Mon cher, с такой логикой расправился еще Кант. Нам недоступна реальность, не просеянная сквозь наши когнитивные механизмы, следовательно реальность недоступна нам вовсе. Понимаешь? Реальность это и есть истина. Мы не знаем реальности, а потому не знаем истины. — Сарайва сделал неуловимо изящный жест. — Логично.
— Значит, истины нет. — Томаш постучал костяшками пальцев по столешнице. — И то, что стол сделан из дерева, не истина. — Он махнул рукой в сторону океана. — И то, что море синее, тоже не истина.
Сарайва улыбнулся, седлая любимого конька.
— В «Критике чистого разума» на это ответа нет, здесь мы попадаем в епархию феноменологической школы. Прежде всего, требуется установить, что есть истина. Эдмунд Гуссерль, отец феноменологии, считал, что объективной истины вовсе нет, есть только субъективная. Он разделял суждения о вещах, номены, и суждения об истинах, феномены. Другими словами, истины не существует, существуют лишь наши суждения о ней. Мартин Хайдеггер развил эту идею, он утверждал, что познать истину можно, увязав знание о вещи с самой вещью, вернув суждению его суть.
— Звучит немного странно, — осторожно заметил Томаш. — По-моему, все это не более, чем набор слов.
— Вовсе нет, — энергично возразил Сарайва. — Вот тебе пример из твоей любимой истории. Мы знаем о походе лузитанского вождя Вириата на Рим из исторических источников. Но можно ли с полной уверенностью утверждать, что Вириат существовал? О нем можно прочесть в разных текстах. А что если все эти тексты сплошной вымысел? Ты лучше меня знаешь, что ни один источник не является полностью достоверным. Мы предполагаем, но ничего не знаем наверняка. По словам Карла Поппера, все факты делятся на лживые и более-менее достоверные.
— Все это давно известно, — согласился Томаш. — Исторический дискурс нельзя считать абсолютной истиной. Об этом писали и Марру, и Вейн, и Коллинвуд, и Галли; ни одному историческому повествованию нельзя вполне доверять, выводы историков основаны на документах, за достоверность которых никто не поручится. Но ты так и не ответил на мой вопрос. — Он протянул руку к горизонту. — Я вижу, что море синее. Кто станет утверждать, что это не абсолютная истина? — Томаш прикусил губу и добавил уже не так уверенно: — Море синее, и опровергнуть это невозможно.
— А вот и нет, — Сарайва тряхнул головой. — Цветовые различия не более чем оптическая иллюзия. Море кажется синим из-за освещения. Все зависит от преломления солнечных лучей. Если его угол поменяется, поменяется и цвет. Следовательно, море синее только в нашем восприятии. Вот в чем проблема. Чувства обманывают нас, логика приводит к неправильным выводам, память подменяет действительность выдумкой, а значит, не существует абсолютной истины, да и относительной тоже. Для тебя море синее, а для дальтоника желтое. Ни один из вас не прав. Объективная реальность нам недоступна. — Профессор вскинул ладони, будто прося прощения за горькую правду, которую ему приходится говорить. — Субъективная по большей части тоже.
Томаш потер веки.
— Ясно. А что об этом думал Фуко?
— Мишель Фуко пошел еще дальше, — ответил Сарайва, снова указав собеседнику на его непростительную оплошность. — Он предположил, что восприятие действительности зависит от эпохи. Занимаясь историческими исследованиями, он пришел к выводу, что власть и знание связаны столь прочно, что можно говорить о феномене знания/власти, двух сторонах одной медали. Этому посвящены самые важные его работы. — Профессор с подозрением покосился на Томаша. — Ты ведь читал Мишеля Фуко?
— Ну… — Томаш замялся, боясь расстроить коллегу. — Нет…
Сарайва принял вид благородного отца, опечаленного выходками непутевого отпрыска.
— Обязательно прочти.
— Лучше расскажи мне о нем.
— Что же тебе рассказать, mon cher? Мишель Фуко родился в 1926 году и был гомосексуалистом. Сначала он открыл для себя Хайдеггера, потом увлекся идеями Фридриха Ницше, особенно его воззрениями на природу власти. Эти идеи повлияли на него чрезвычайно сильно. Мишель Фуко понял, что власть лежит в основе любых человеческих взаимоотношений, а ее альянс со знанием определяет характер общественного устройства. Пресловутое знание/власть.
— Где об этом написано?
— В разных книгах. В «Словах и вещах», к примеру, рассматривается эволюция мировосприятия в разные эпохи.
Сарайва произнес название по-французски, с неподражаемым парижским шиком. Томаш усердно делал пометки.
— Постой, — взмолился он, едва поспевая за вдохновенным лектором. — Как ты сказал? «Слова и вещи»?
— Это, пожалуй, самая кантианская книга Мишеля Фуко, манифест отказа от поисков истины. В известном смысле в ней окончательно уничтожается само это понятие. Наши знания о мире зависят не только от индивидуального восприятия каждого из нас, но и от воззрений и предрассудков, присущих нашей эпохе. Истина релятивна, она определяется слишком многими вещами.
— О том же говорил Кант.
— Верно. Мишеля Фуко часто называли новым Иммануилом Кантом.
— А тебе не кажется, что чересчур? Скорее, он был последователем Канта, развивавшим его идеи…
— Мишель Фуко поместил эти идеи в совершенно иной контекст, — поспешно заявил Сарайва, словно испугавшись, что его кумира могут заподозрить в банальном плагиате. — Я расскажу тебе одну забавную историю, mon cher. Когда он пришел читать лекции в Коллеж-де-Франс, его спросили, как называется его дисциплина. Знаешь, что ответил философ?
Томаш пожал плечами.
— Нет.
— История систем мышления. — Сарайва расхохотался. — Представляю лица всех этих маменькиных сынков, когда они услышали такое. — Звонкий хохот сменился прочувствованным вздохом. — Но как это верно! Мишель Фуко действительно писал историю систем мышления. Это стало очевидно, когда вышла его следующая книга, «Археология знания». В ней Мишель Фуко определяет истину как сложную конструкцию, продукт своего времени, и распространяет подобное видение на другие концепты. Например, концепт автора литературного произведения. Для философа автор не человек, написавший книгу, а конструкция из целого ряда элементов, таких, как язык, литературные течения эпохи и другие исторические и социальные факторы.
Томаш по-прежнему источал скептицизм.
— Позволь, но ведь это же банально, — заметил он. — Все мы продукты обстоятельств, это давно известно. В чем новизна?
— В контексте, mon sher. Чтобы раскрыть сущность концепта, философ подвергает его деконструкции.
— А! — воскликнул Томаш, изображая энтузиазм. Не то чтобы слова Сарайвы убедили Норонью, просто ему не хотелось обижать старого приятеля. — Так что же дальше?
То глядя на собеседника, то устремляя взор в морскую даль, профессор философии пустился в пространные рассуждения о творчестве Мишеля Фуко, особо остановившись на «Истории безумия в классическую эпоху», «Рождении клиники», «Надзирать и наказывать» и на трехтомной «Истории сексуальности». Историк слушал его вдохновенную речь внимательно и недоверчиво, внимательно, потому что боялся пропустить нечто важное, что могло иметь касательство к разгадке ребуса, и недоверчиво, поскольку подозревал, что деконструктивисты преувеличивают значение своего идейного вдохновителя.
— Ну вот, собственно, и все, — завершил Сарайва свою длинную лекцию. Через три недели после того как третий том «Истории сексуальности» был отдан в печать, Мишель Фуко внезапно потерял сознание и был госпитализирован. У него нашли СПИД. Философ скончался летом 1984 года.
Томаш пролистал блокнот от начала до конца и обратно.
— Хм, — хмыкнул он, задумчиво всматриваясь в записи. — Ни единой подсказки.
— Какой подсказки?
— Для загадки, которую я пытаюсь разгадать.
— Загадки о Мишеле Фуко?
Томаш рассеянно провел рукой по лицу.
— Да, — обронил он.
В двух шагах от них простирался бескрайний океан; неутомимые волны катились к берегу, сверкая и переливаясь миллионами бриллиантов. В последний предвечерний час тучи рассеялись; солнце сбросило траурный покров, чтобы опуститься за линию горизонта в сияющих праздничных одеждах.
— В чем суть твоей загадки?
Томаш колебался. А что если показать Сарайве ребус? В конце концов, что он теряет? У профессора философии наверняка найдется какая-нибудь яркая идея. Полистав блокнот, Норонья отыскал заветную фразу и показал ее Сарайве.
— Видишь?
Сарайва бросил взгляд в блокнот и глубоко задумался, уставившись на море. Линованная страница по-прежнему вопрошала:
QUAL О ECO DE FOUCAULT PENDENTE А 545?
— Что за чушь?! — опомнился Сарайва. — Какое еще эхо Фуко? — Он повернулся к Томашу. — Ты можешь мне объяснить, что это за эхо такое?
— Не знаю. Я думал, ты мне скажешь.
Профессор философии придвинул блокнот поближе.
— Mon cher, я даже не представляю. Кто-то, ставший эхом Мишеля Фуко?
— Интересная идея, — задумчиво отозвался Томаш. И тут же опомнился: — Ты знаешь, кто это может быть?
— Иммануил Кант, больше некому. Хотя, если по-честному, то это Мишель Фуко эхо Канта, а не наоборот.
— А у самого Фуко были последователи?
— У Мишеля Фуко было множество последователей, mon cher.
— Кто-нибудь из них висит на 545?
— Я не могу ответить на этот вопрос, поскольку вообще не понимаю, о чем речь. Как можно висеть на 545? И почему именно 545?
Томаш не спускал глаз со своего собеседника.
— У тебя не возникает никаких ассоциаций?
Сарайва закусил губу.
— Нет, mon cher, — сказал он, покачав головой. — Совершенно никаких.
Томаш со вздохом захлопнул блокнот.
— Черт! — выругался он сквозь зубы. — Я так надеялся что-нибудь обнаружить. — Он махнул рукой официанту, скучавшему неподалеку: — Счет, будьте добры!
Сарайва переписал загадочную фразу в свой ежедневник и убрал его в карман куртки.
— Я полистаю книги, — пообещал он. — Вдруг что-нибудь найду.
— Спасибо.
Официант принес счет, и Томаш расплатился. Историк и философ поднялись из-за стола; пришло время расходиться.
— Что ты намерен делать? — поинтересовался Сарайва.
— Поеду домой.
— Нет. Я о твоей загадке.
— Ах, да. Пойду в магазин и скуплю все книги Фуко и о Фуко, которые сумею найти. Ключ может оказаться в одной из них.
Они вышли из ресторана и вместе дошли до парковки.
— Мишель Фуко был необычным человеком, — заметил Сарайва перед тем как распрощаться.
— Правда?
— Великий философ и блестящий историк. Мыслитель, доказавший, что объективной реальности не существует, что едва ли существует объективная, что истина релятивна и зависит от нашей точки зрения. Знаешь, что он сказал на закате дней о деле всей своей жизни? «Все это время я только и делал, что сочинял небылицы».
IX
Любовный недуг проходил, а с ним утихало и чувство вины. Лихорадка, поразившая Лену и Томаша в первые дни романа, сошла на нет, страсть обернулась рутиной. Вспыхнувшее до небес чувство немного угасло, кровь больше не кипела в жилах, земля перестала уходить из-под ног, и сердца стали биться ровнее. Буря улеглась; то, что прежде было наваждением и безумием, превратилось в счастливые, но покойные будни.
Теперь, поднимаясь по пропахшей сыростью лестнице дома на улице Латино-Коэльо, Томаш не испытывал мучительного и радостного томления, что охватило его, когда он впервые оказался на пороге дома своей возлюбленной. Лена принимала его с неизменной теплотой, но без прежнего пыла, вечерние визиты профессора сделались для нее приятной привычкой, неотъемлемой частью лиссабонской жизни. Первое время их свидания были скоротечными прелюдиями к слиянию тел. Едва они успевали утолить неодолимое желание, терзавшее плоть, как в крови снова разгоралось всепожирающее пламя. Вскоре Томаш начал уставать, после таких бешеных соитий он чувствовал себя опустошенным, выжатым до капли и уже стал опасаться, что вот-вот пресытится великолепным телом шведки. Им пришлось научиться охлаждать свою страсть, длить любовную игру, до последнего держать похоть в узде, находя немыслимую сладость не только в ее утолении, но и в воздержании.
На этот раз Лена встретила его в полупрозрачном белом пеньюаре; сквозь тонкий шелк четко проступали очертания ее высокой груди и тугих сосков, словно молоком, налитых желанием. Томаш бросился на шведку, словно дикий зверь, полный решимости в тот же миг сорвать диковинный спелый плод, но девушка ловко отстранилась, одарив незадачливого любовника игривой улыбкой.
— Жди, еще не пора, — распорядилась Лена. — Попозже я найду, чем тебя порадовать, если будешь хорошо себя вести. — Она легонько щелкнула его по носу и повторила: — Я сказала, если будешь хорошо себя вести.
— Позволь хоть прикоснуться…
— Нет. — Девушка развернулась и двинулась прочь по коридору, призывно покачивая бедрами. Обернувшись, она послала Томашу улыбку, исполненную коварства. — Нельзя получить все сразу. У нас в Швеции говорят: один обещанный поцелуй стоит двух полученных.
Влюбленные устроились на диване, поблизости от обогревателя; Лена принесла липовый чай и шведские булочки с корицей. Томаш сделал большой глоток и надкусил румяную булочку.
— Вкусно, — похвалил он, наслаждаясь великолепной сдобой с густым коричным ароматом.
Лена кивнула на пластиковый пакет у его ног.
— Нашел книгу Фуко?
— Ага, — подтвердил Томаш. — Только не «Слова и вещи». — Он достал увесистый том, озаглавленный «Надзирать и наказывать». — Так бразильцы перевели «Surveiller et punir». Представляешь, в Португалии эту книгу вообще ни разу не издавали.
— Но это ведь не важно?
— Пожалуй.
— А другая? Уже прочитал?
— Да.
— Ну и как?
Томаш пожал плечами, признавая поражение.
— Никак, — он отложил булочку и раскрыл книгу. — Посмотрим, что даст нам эта.
Они отлично друг друга понимали. И не только в отношении секса. В деле Тошкану шведка оказалась верной и деятельной союзницей. Она интересовалась ходом расследования, задавала толковые вопросы, терзала товарищей, изучавших философию, старалась побольше разузнать о Фуко и его сочинениях в надежде, что впереди вот-вот забрезжит свет истины. Это Лена посоветовала Томашу «Кембриджские чтения Фуко» Гаттинга, «Читая Фуко» Рабиноу и «Жизнь Мишеля Фуко» Мейси. Она была столь любезна, что вызвалась проштудировать «Историю безумия в классическую эпоху» в поисках числа 545 или любого другого ключа к разгадке шарады.
— Все безумцы братья, — проговорила девушка, открывая книгу.
— Что? — резко переспросил Томаш, отрываясь от чтения.
— Еще одна шведская поговорка, — объяснила Лена. Она коснулась кончиком пальца названия на обложке и повторила: — Все безумцы братья.
Томаш не слушал подругу; он замер глядя в одну точку, не замечая, что карандаш вот-вот выпадет из дрожащей руки. Норонья сделался белым, как книжная страница, его внутренности скрутил приступ тошноты. Ему никогда в жизни не приходилось слышать о столь чудовищной, столь постыдной и бессмысленной жестокости.
— Ты что? — встревожилась Лена, заметив, как он изменился в лице.
— Это ужасно, — прошептал Томаш, зажмурившись.
— Что ужасно?
— История в начале книги.
— Какая история? — Девушка обняла профессора и через его плечо заглянула в книгу — Расскажи.
Томаш улыбнулся и покачал головой.
— Вряд ли ты захочешь ее слушать…
— Захочу, — упрямо заявила шведка. — Рассказывай.
— Тебе не понравится.
— А уж это позволь мне самой решать. Рассказывай.
Томаш принялся искать страницу, стараясь не встречаться с подругой глазами.
— Ладно, я тебя предупредил, так что потом не жалуйся. — Жуткая история открывала первую главу. — Здесь описана публичная казнь Робера Дамьена, фанатика, который покушался на Людовика XV в Версале в 1757 году. Для исполнения приговора отобрали лучших парижских палачей во главе со знаменитым Самсоном. Преступнику отрезали гениталии, оторвали соски, отсекли ступни и левую кисть. Правую руку сожгли на жаровне. В довершение всего бедолагу надлежало разорвать лошадьми на четыре части. Но тут вмешался полицейский комиссар Бутон. Ты уверена, что хочешь дослушать до конца?
— Нет, — Лена забрала у него книгу.
— Постой. Ты же сама говорила…
— После расскажешь.
Девушка включила проигрыватель. Послышались первые аккорды «Joshua Tree», комнату наполнил звучный, чувственный голос Боно. Взгляды делались все более откровенными, улыбки соблазнительными, прикосновения дерзкими. Когда с чаем и булочками было покончено, Лена решительно отставила поднос и распахнула халат, торжественно возвестив о том, что десерт подан. Белый шелк скользнул по молочной коже, и она предстала перед Томашем нагая, соблазнительная, дрожащая от вожделения. Профессор потянулся к ученице, уронив на пол том Мишеля Фуко, под обложкой которого, возможно, таился ключ к загадке Тошкану. Соитие было быстрым, сумбурным, яростным, со стонами и вскриками и единым выдохом облегчения в конце. Расцепив объятия, они повалились на диван, потные, измученные, опустошенные, удовлетворенные, пьяные от наслаждения. Лениво потянувшись, шведка приподнялась на локте, мимолетно коснувшись губ Томаша упругим соском.
— Ты ведь не занимаешься любовью с женой, правда?
Томаш, погруженный в сладостную летаргию, не сразу понял, о чем она спрашивает.
— Нет, — проговорил он через силу, отводя глаза. Вопрос застал его врасплох. — Конечно, нет.
Обезоруженная его ответом, Лена перевернулась на спину, ее светлая грива разметалась по подушке, синие глаза смотрели в потолок.
— Придется поверить тебе на слово.
Пышные букеты в глиняных вазах источали сладкий волнующий аромат. Тугие бутоны напоминали звезды, легкие, как перышки, лепестки светились всеми оттенками розового. Цветы были прекрасны, нежны, полны жизни.
— Это розы? — поинтересовался Томаш, смакуя виски.
— Они действительно похожи на розы, — ответила Констанса, — но на самом деле это пионы.
Супруги только что поужинали и решили посидеть в гостиной, пользуясь моментом, пока Маргарита надевала пижаму.
— Никогда бы не подумал, — удивился Томаш. — Что это за цветы?
— Пионий был лекарем олимпийских богов. Согласно легенде, он исцелил Аида при помощи лепестков диковинных цветов. В честь Пиония их назвали пионами. Плиний Старший утверждал, что они лечат от двадцати недугов, но это так и не было доказано. В XVIII веке считалось, что пион защищает младенцев от лихорадки и эпилепсии.
Томаш разглядывал букет.
— Готов поклясться, что это розы.
— Розы, в известной степени. Только без шипов. Из-за этого их посвящали Деве Марии. Ее милосердие — что роза без шипов.
— А что они означают?
— Скромность. Китайские поэты сравнивали цвет пиона с румянцем на щеках невинных девушек.
Из детской донесся жалобный голосок Маргариты:
— Ма, почитай каску!
Констанса посмотрела на мужа с мольбой.
— Почитай ей, ладно? Я до смерти устала.
Маргарита любовалась своим отражением в зеркале. Томаш подхватил ее на руки, уложил в кровать, подоткнул одеяло, расцеловал розовые щечки, погладил по голове. И отца, и дочурку переполняла нежность.
— Какую сказку будем читать?
— П'а Зоушку.
— Опять? Может, какую-нибудь другую?
— Хачу п'а Зоушку.
Томаш погасил верхний свет, оставив только ночник; от лампы исходило желтоватое свечение, теплое и умиротворяющее. Он открыл сборник сказок и приглушенным, убаюкивающим голосом стал читать историю о бедной сиротке, которую угнетали злобная мачеха и ее избалованные дочери. Маргарита дослушала до самого бала, но когда Золушке пришло время терять туфельку, девочка закрыла глаза, утонула в подушке и стала дышать ровно-ровно, погрузившись в глубокий безмятежный сон. Томаш поцеловал ее и выключил ночник. Потом на цыпочках вышел из детской, осторожно прикрыл дверь и вернулся в гостиную.
Констанса прикорнула на диване, склонив голову на плечо, по телевизору показывали какую-то викторину, которую в их семье никогда не смотрели. Норонья бережно поднял жену и отнес в спальню, снял с нее халат и тапочки, уложил и укрыл одеялом. Констанса что-то пробормотала во сне, уткнувшись в подушку; нежная кожа и веснушки делали ее похожей на маленькую девочку. Томаш выключил торшер и хотел вернуться в гостиную, но передумал. Добравшись в потемках до двери, он развернулся на пороге и снова посмотрел на жену: та крепко спала. Поколебавшись, Томаш, стараясь не шуметь, пробрался обратно к кровати и уселся в изголовье; Констанса дышала глубоко и ровно, ее грудь легко вздымалась с каждым вздохом.
В голове Томаша эхом звучали слова Лены. «Ты ведь не занимаешься любовью с женой, правда?» — спросила она, не скрывая острой тревоги. Он и вправду не притрагивался к Констансе уже давно. С тех пор как начал ей изменять. Но может ли он поручиться, что этого никогда не произойдет? Может ли он обещать такое? Вопрос Лены застал его врасплох, вырвал из любовной неги, подействовав, словно ушат ледяной воды. Словно кто-то внезапно включил яркий свет. Или выключил, как посмотреть. Как же ему с этим справиться? Ведь заниматься любовью с обеими женщинами означает обманывать обеих. Что же будет с ним, с его женой, дочерью, любовницей? Хватит ли ему тепла на всех? Сумеет ли он остаться хозяином своей судьбы? Сможет ли прожить без правды? Но что такое правда? А что если Сарайва прав, и объективной истины не существует? Возможно. Но взамен человеку дана другая истина, субъективная. Нравственная.
Правда совести.
На самом деле он давно уже не живет ни по правде, ни по совести; он существует в мире иллюзий, фальши, лжи. Обманывает жену и скоро начнет обманывать любовницу. Чем обернется эта ложь для трех женщин, чьи судьбы переплелись с его судьбой? Вопрос Лены был не случайным и не праздным, он шел из самой глубины души, впитав все страхи и надежды, дремавшие в ней, и теперь, вглядываясь в них словно в зеркало, Томаш с трепетом узнавал очертания собственной души.
Что за странная история с ним приключилась? Куда он позволил себя завести? Не в те ли непроходимые дебри, где таились его собственные страхи, ждали своего часа его собственные тревоги? Чем была для него связь с Леной? Просто сексом? Поиском новых ощущений? Минутным помрачением? Головокружительной авантюрой с риском вместо афродизиака? Нет, здесь речь шла о совсем иных вещах. О забвении, убежище, надежде на спасение.
О бегстве.
Томаш кивал собственным мыслям, понимая, что нашел название недуга и поставил себе единственно верный диагноз. Бегство, вот что это было. Наверное, от Лены исходила не только чувственность, но и мощные флюиды надежды, надежды на спасение от вечно усталой жены, проблем с Маргаритой, безденежья и безысходности. Лена протянула ему спасительную соломинку. Ключ в мир мечты. Мечты, которая гасла с каждым днем, химеры, которая делалась все бледнее, фантазии, постепенно терявшей свое очарование. Что же останется, когда все пройдет?
Шведка была способом убежать от всех проблем сразу. И этот способ оказался действенным, но до поры до времени. Проблемы никуда не делись, они отступили и притаились, поджидая, когда чувство к Лене начнет меркнуть. Томаш чувствовал себя кроликом, который замер посреди шоссе в ярком свете фар. Зверек не может двинуться с места, зачарованный дивным светом, рассекающим ночную тьму, и не подозревает, что из мрака на него неумолимо движется огромный железный зверь, который размажет глупую животину по асфальту и помчится дальше. Норонья понимал, что с ним творится нечто похожее. Сумеет ли он спастись? Прогонит ли наваждение? Или останется покорно ждать своей судьбы, не в силах победить чары дивного света?
Томаш смотрел на Констансу. Спящая, с разметавшимися по подушке волосами, она казалась невинной и беззащитной. Он вздохнул. Дело было не в Лене, а в нем самом; в жизни, которую он вел, страхах, которые его одолевали, надеждах, которыми он вдохновлялся, проблемах, которым не было конца. Констанса была воплощением тревоги; связь с Леной стала прочной раковиной для напуганного моллюска, билетом на волшебный корабль, способный пронести пассажира через бурное море к берегу свободы и покоя. И только теперь Томаш начал подозревать, что поднялся на борт не того корабля; кто знает, сколько бурь придется пережить, прежде чем вдали забрезжит обетованный берег, кто поручится, что этот берег существует?
Норонья легонько погладил Констансу по волосам. Во сне жена вздыхала и хмурилась, словно дневные заботы не оставляли ее и ночью. Томаш ласково провел кончиком пальца по гладкой и теплой щеке жены и вдруг понял, что билетов на самом деле два, туда и обратно, и что ему предстоит сделать выбор. Он огляделся по сторонам, словно ища поддержки у тонувших в сумраке стен родного дома, вдохнул едва ощутимый аромат любимых духов Констансы. Томаш еще долго сидел у изголовья, храня сон жены, вглядываясь в родные черты. Он принял решение.
На подъезде к Чиадо как всегда образовалась пробка. Покрутившись по Руа-ду-Алекрим в поисках парковки, Томаш оставил машину на площади Луиса Камоэнса и присоединился к толпе пешеходов, направлявшихся в Верхний город. Навстречу им, из Верхнего города в Нижний двигалась такая же толпа, и каждый в ней переживал из-за нехватки денег, скучал по подружке, ненавидел босса, жил своей неповторимой маленькой жизнью.
Преодолев сопротивление толпы Томаш добрался наконец до истока Руа-Гарретт. На некогда широкой улице было не протолкнуться из-за столиков бесчисленных летних кафе, занятых голодными клиентами, среди которых нашлось место для самого Фернандо Пессоа, восседавшего на скамье нога на ногу, всего из бронзы, от шляпы до ботинок. Томаш поискал глазами белокурую гриву Лены, но девушки нигде не было. Тогда он свернул налево, к величественному подъезду кафе «Бразилейра», которое путеводители в один голос именовали осколком старого богемного Лиссабона.
Переступив порог кафе, посетители переносились в двадцатые годы XX века. Изнутри «Бразилейра» была оформлена в стиле «ар нуво», ее лакированные деревянные стены украшали завитки, розетки и рога изобилия, отчаянно модные в ту эпоху. Пол был выложен черно-белыми плитами в шахматном порядке, с потолка свешивались огромные люстры со множеством затейливых подвесок. Левая стена была зеркальной; в ней, создавая иллюзию бесконечного пространства, отражался зал со всеми его столами, стульями и публикой. Правую сторону занимала огромная барная стойка, отделенная от основного помещения коваными решетками в стиле модерн. Вина и водки, виски и джина, бренди и ликеров в баре имелось предостаточно и на самый взыскательный вкус. Стрелки старинных часов с римскими цифрами на циферблате вечно показывали одиннадцать.
Свободных столиков не было, и Томашу пришлось подсесть к одному из посетителей. Устроившись за столиком боком к зеркальной стене, так, чтобы не упускать из виду вход, Норонья заказал жасминовый чай и пирожное со взбитыми сливками. Его сосед читал журнал. На развороте было напечатано длинное интервью с хитроумным тренером «Бенфики», разглагольствовавшим о новой системе подготовки и фантастических контрактах, призванных сформировать «новый становой хребет» команды. Томаш краем глаза рассматривал незнакомца: это был седеющий субъект с огромной лысиной, должно быть предприниматель или финансист. Официант не успевал всех вовремя обслужить, нервничал и то и дело спотыкался; впрочем, он оказался настоящим профессионалом и сумел разместить на крохотном участке стола чайник, чашку, сахарницу и блюдо с пирожным, хоть и не с первого раза. Томаш заплатил по счету, и официант с легким поклоном удалился.
Чтобы скоротать время, Норонья достал телефон и набрал номер Нельсона Молиарти. Американец ответил сонным голосом: судя по всему, телефонный звонок послужил для него будильником. После дежурного обмена вежливостями Томаш сообщил, что в интересах расследования, которое вот-вот войдет в решающую фазу, ему придется отправиться в командировку. Нельсон, разумеется, пожелал знать детали, однако Норонья ушел от ответа, заверив Молиарти, что был бы рад сообщить что-то определенное, но вопросов по-прежнему остается больше, чем ответов. Поворчав, американец согласился оплатить поездку из средств фонда: жалеть деньги для дела было не в его правилах. Получив карт-бланш, Томаш позвонил в туристическое агентство, чтобы заказать билеты и забронировать отель.
Томаш догадался, что Лена вошла в кафе, по тому, как сидевшие в зале мужчины, как по команде, повернули головы к дверям. В тот день на девушке было короткое облегающее платье, перехваченное в талии широким желтым поясом, прозрачные нейлоновые чулки, подчеркивающие стройность ее ножек, и лаковые туфельки на высоченных каблуках. Бросив под стол фирменные пакеты из модных магазинов, она небрежно поцеловала Томаша.
— Hej! Прости, что опоздала, ходила за покупками.
— Ничего страшного.
Старинный квартал Чиадо со всеми его бутиками давно сделался местом паломничества представительниц прекрасного пола.
— Уф! — выдохнула Лена, встряхнув светлыми кудряшками. — Я жутко устала, и день начался просто отвратительно.
— Купила что-нибудь?
Шведка достала из-под стола пакет.
— Так, кое-что, — проворковала она, демонстрируя Томашу алый шелковый лоскуток. — Нравится?
— А что это?
— Лифчик, глупый! — надула губки Лена. — Для тебя, между прочим.
Фанат «Бенфики» позабыл о статье и во все глаза уставился на девушку. Та ответила ему прямым дерзким взглядом, и он, мгновенно стушевавшись, вначале уткнулся в журнал, а потом и вовсе удалился. Томаш проводил его рассеянным взглядом.
— Ты, стало быть, посвятила утро покупкам.
— Да. А еще старинному подъемнику на Руа-ду-Оро.
— Подъемнику Святой Жусты?
— Ага. Ты там бывал?
— Ни разу.
— Не удивительно, — усмехнулась Лена. — Хочешь узнать дорогу, спроси чужеземца. Приезжие всегда отправляются туда, куда местным и в голову не придет пойти.
— Это очень верно, — согласился Томаш.
У столика вырос официант, готовый принять заказ.
— Ты что-нибудь будешь? — спросил Томаш.
— Нет, я поела.
Профессор покачал головой, и официант испарился. Посетители все прибывали, считать ворон было некогда. Томаш отхлебнул чаю.
— Превосходно, давно такого не пил.
Лена внимательно разглядывала возлюбленного, опершись локтем о стол.
— Что с тобой? — Ее синие глаза были полны тревоги. — Ты уже который день ходишь сам не свой. Случилось что-нибудь?
— Нет.
— Это из-за того несчастного ребуса?
— Нет!
— Так в чем же дело?
Томаш машинально пригладил волосы и нервно огляделся по сторонам. Посетители кафе не обращали на парочку внимания, поглощенные своими разговорами. Набравшись храбрости, Норонья заставил себя посмотреть подруге в глаза.
— Послушай, я должен быть с тобой честным.
Лена недоуменно вскинула бровь.
— Вот как? Ладно, попробуй.
— В прошлый раз ты спросила, сплю ли я со своей женой…
— А ты спишь?
— Нет, с тех пор как встретил тебя. Но, говоря по правде, я едва ли смогу гарантировать, что этого никогда не произойдет.
Глаза Лены потемнели.
— Ясно.
— Понимаешь? Мы живем под одной крышей, мы женаты, и рано или поздно это может случиться.
— Ну и что?
— Но ведь тогда получится, что я обманываю вас обеих.
Шведка вдруг заинтересовалась одной из украшавших стены кафе картин. Насладившись живописью, она принялась любоваться барной стойкой и только потом снова поглядела на Томаша.
— Это неважно.
— Как это неважно?
— Просто неважно, и все. Обманывай нас обеих сколько влезет, мне совершенно все равно.
— Но… — Томаш растерялся. — Разве тебя не задевает, что я стану заниматься любовью и с тобой, и с ней, одновременно?
— Нет, — повторила шведка, решительно мотнув головой в подтверждение своих слов. — Нисколько не задевает.
Норонья не знал, что и думать. Все это было неожиданно и странно, даже неприлично; ему никогда не приходилось слышать, чтобы женщина, по крайней мере женщина такого сорта, с легкостью согласилась делить своего мужчину с другой, фактически сделаться младшей женой, как в гареме.
— Но послушай… Моей жене это вряд ли понравится…
— Твоей жене?
— Ну да, моей жене.
Шведка пожала плечами.
— Надеюсь, ты не собираешься рассказать ей о нас?
Профессор нервно взъерошил себе волосы.
— Видишь ли… В том-то и дело. Я не могу оставить все как есть…
— Не можешь оставить все как есть? Ты несколько месяцев жил с двумя женщинами, и тебя это устраивало. Так какая муха укусила тебя сегодня?
— Я стал сомневаться, что поступаю правильно.
Настала очередь Лены недоумевать.
— Сомневаться? Да какие тут могут быть сомнения? Или ты спятил? У тебя есть дом и семья, которая ни о чем не подозревает. Любовница, о которой, без ложной скромности, мечтал бы любой мужчина, и которая, между прочим, ничего от тебя не требует. Это ли не подарок судьбы? Чего тебе еще?
— Беда в том, Лена, что я не просил судьбу о таком подарке.
В широко распахнутых глазах девушки застыли изумление и ужас.
— Ты сам не понимаешь… — Она осторожно погладила Норонью по плечу, словно хотела его успокоить. — Томаш, скажи честно, что случилось?
— Дальше так продолжаться не может.
— Так чего ты хочешь?
— Расстаться.
Лена осела на стуле, втянула голову в плечи; губы ее дрожали, взгляд сделался растерянным и недоверчивым; она смотрела на Томаша, как смотрят на человека, который еще пару минут назад был нормальным и вдруг, ни с того ни с сего, обезумел.
— Ты правда хочешь расстаться? — спросила шведка, с трудом выговаривая слова.
Профессор опустил голову.
— Да. Прости.
— Нет, ты точно псих! Тебе же сказали, все в порядке, меня все устраивает, а ты… Но почему?
— Потому что мне плохо.
— Но почему?
— Я живу во лжи.
— Черт! — воскликнула Лена. — Разве ты не знаешь, что кафтан добродетели соткан из нитей лжи?
— Ради бога, Лена, не надо больше пословиц!
Девушка потянулась к Томашу через стол, крепко сжала его руки.
— Скажи, что мне сделать, чтобы тебе стало лучше? Может, ты хочешь как-нибудь по-другому? В другом месте? Только скажи.
Поведение шведки тронуло Томаша. Когда он представлял себе ее реакцию, ему казалось, она вылетит из кафе, словно разъяренная фурия, и на этом все закончится. Такой реакции он не ожидал.
— Видишь ли, милая, я действительно не могу быть сразу с двумя женщинами. Адюльтеры не по мне. Я привык к открытым, честным, доверительным отношениям. И сейчас чувствую себя чудовищем. Ты мне очень нравишься, ты замечательная девушка, но я люблю свою семью, жену и дочку, и знаю, как сильно они во мне нуждаются. Когда ты спросила меня, занимаюсь ли я любовью с женой, во мне что-то сдвинулось, сам не знаю что. Прежде я наслаждался близостью с тобой и ни о чем не жалел, но твой вопрос пробудил меня. Как если бы я пробирался в потемках, и вдруг кто-то включил свет. Этот свет вернул меня к действительности, заставил посмотреть на себя со стороны. И тогда я стал задавать себе другие вопросы, по-настоящему важные.
— Какие?
— Разные. — Томаш огляделся по сторонам, будто надеясь отыскать ответ прямо здесь, в кафе. — Я спросил себя, зачем подвергаю опасности свою семейную жизнь. Во имя чего? Что я получу взамен? И стоит ли оно того? Невзгодам нужно противостоять, а не бежать от них. Мне пора разобраться со своей жизнью. Спасти свой брак, поддержать жену и дочь. Возможно, у нас все будет хорошо. А возможно, и нет, пока об этом говорить рано. Но обманывать вас обеих было бы нечестно, недостойно.
— А как же я? Что будет со мной?
— Ты напрасно драматизируешь. У меня есть семья, о которой я должен заботиться. А ты молодая, красивая, свободная девушка. Тебе стоит поманить пальцем, и толпы мужчин пойдут за тобой на край света. Давай не будем усложнять. Станем жить каждый своей жизнью и постараемся остаться друзьями.
Лена уронила голову на руки.
— Я не думала, что ты способен поступить со мной так!
Томаш решил, что пора уходить. Что сказано, то сказано, и своего решения он не изменит. В порыве жалости и нежности он протянул руку через стол и погладил девушку по плечу. Шведка равнодушно поглядела на его руку и не ответила на ласку. Томаш поднялся на ноги и пошел к выходу.
— Увидимся на лекции, — сказал он на прощанье.
— Цыплят по осени считают, — прошипела Лена сквозь зубы. — Еще посмотрим, чья возьмет!
Но Томаш уже покинул «Бразилейру» и шагал вверх по Руа-Гарретт, направляясь к проспекту Луиса Камоэнса.
X
Безмятежная гладь Средиземного моря переливалась в лучах утреннего солнца. В синих водах, словно в зеркале, отражался обрамленный пушистыми белыми облаками маяк Порто-Антико. Лантерна вот уже который век высилась над бухтой, освещая кораблям выход в Лигурийское море. Горы ощетинились острыми хребтами, защищая мирный город.
Миновав порт, такси въехало в Геную и запетляло по узким кривым улочкам старинного города.
— La Piazza Aquaverde,[37] — провозгласил словоохотливый водитель, когда машина вырвалась из лабиринта на широкую площадь, посреди которой торчала огромная статуя. — Questo é Cristoforo Colombo.[38]
Такси остановилось на светофоре, и Томаш прильнул к окну, чтобы разглядеть памятник. Колумб был одет в короткий испанский колет; его длинные волосы и широкий плащ развевались по ветру. Одной рукой адмирал опирался на якорь, другую положил на плечо коленопреклоненного индейца. Композицию дополняли четыре скульптуры поменьше, на невысоких пьедесталах, окружавшие статую Колумба с четырех сторон. Подножие монумента украшала витиеватая надпись в венке из каменных цветов: «А Cristoforo Colombo, la Patria».[39]
Зажегся зеленый, и такси рвануло вперед, спеша влиться в поток машин. Водитель, неунывающий уроженец Калабрии по имени Маттео, успел поведать пассажиру историю своей полной событий жизни. Из бешеной итальянской скороговорки, сопровождаемой отчаянной жестикуляцией и уморительной мимикой, Томаш узнал о том, что таксист divorziato,[40] что у него due bambini,[41] что в данный момент он занят поисками il lette matrimoniale,[42] поскольку предпочитает avere la colazione in camera.[43] Выложив разом всю эту информацию, калабриец поинтересовался, что его клиент предпочел бы съесть на[44] la cena. Для него самого не было ничего милее zuppa di lenticchie[45] и, само собой, spaghetti alla putanesca,[46] блюда с игривым названием, пробуждавшим у непосвященных любопытство и аппетит.
— II Palazzo Ducale,[47] — возвестил Маттео, прервав лекцию о терапевтических свойствах vino rosso, чтобы указать на величественное здание с ионическими колоннами и большими окнами, фасад которого выходил на площадь Маттеотти. — Le piace?[48]
— Si, — равнодушно кивнул Томаш, едва взглянув на дворец лишь для того, чтобы не обидеть гида-добровольца.
Таксист принялся восхвалять чудеса, которые творит vino bianco secco, и восторгаться menu fisso[49] в траттории на Пьяцца-Кампетто, не забывая жестоко высмеивать глупцов, предпочитающих piatti vegetariani.[50] Когда проспект Поллайоло остался позади, и машина повернула налево, к Вико-Треремаджи, Маттео вдруг помрачнел и признался, что он sono allergico alle noci.[51] Пока маленький «фиат» скользил по Виа-Равекка, водитель начал рассказывать об ужасных последствиях от поедания орехов, включая пятна по всему телу, которые можно вывести лишь при помощи carta ingienica aqua calda,[52] но тут, к невероятному облегчению Томаша, впереди показалась площадь Данте.
— Eccotti qua![53] — торжественно воскликнул Маттео и остановил машину на зеленый сигнал светофора.
Пока разгневанные автомобилисты жали на клаксоны, Томаш поспешно расплатился и вышел из такси, несмотря на протесты водителя, готового возить клиента и дальше, чтобы провести для него экскурсию по полной программе. Чтобы отвязаться, португалец соврал, что хочет пройтись пешком, дабы не лишать себя возможности насладиться прогулкой по самому красивому из городов. Томашу всегда нравились сангвиники-итальянцы, но темперамент Маттео даже ему показался слишком буйным.
На подступах к площади пешехода встречали две полукруглые готические башни, соединенные мостом. Это были Порта-Сопрана, ворота, ведущие в восточную часть старого города. На башнях развевались флаги Генуи с крестом Святого Георгия на белом поле. Insignia cruxata communis Janue[54] напоминала о славных временах, когда морская республика безраздельно властвовала в Средиземном море; тогда одного вида белого флага хватало, чтобы повергнуть в бегство любого врага, и даже гордые англичане не гнушались ходить под генуэзским флагом, чтобы защитить свои суда. В Средние века Порта-Сопрана были частью окружавшей Геную крепостной стены. Потом в одной из башен устроили тюрьму, самым знаменитым узником которой был Марко Поло, попавший в плен во время битвы при Коркуле; в годы французской революции на площади установили гильотину.
Овальная арка под соединяющим башни мостом вела в парк, главной достопримечательностью которого считались остатки клуатра монастыря Сант-Андреа, но внимание Томаша привлекли совсем другие руины.
Чуть в стороне от Порта-Сопрана, в густых зарослях, скрывались плачевного вида развалины, изъеденные временем камни, увитые плющом. Человек, наделенный богатым воображением, разглядел бы в них очертания убогого деревенского жилища, сложенного из грубых плит, с широким дверным проемом и двумя маленькими окошками у самой земли. Томаш подошел ближе. Руины были закрыты для публики. Медная табличка гласила:
Nessuna casa há nome più degno di questa.
Qui nell' abitazione paterna,
Cristoforo Colombo trascorse l'infanzia e la prima
giovinezza.[55]
Это был дом 37 по старинной улице Вико-Диритто-ди-Понтичелло, в котором, согласно церковной книге, хранящейся в Апостольской библиотеке Ватикана, с 1455-го по 1470 год проживал Доминикус Колумбус со своим семейством, включавшим троих сыновей: Варфоломея, Якова и Христофора.
У ворот остановился автобус, из него высыпали японские туристы. Все как один вскинули фотоаппараты и принялись снимать руины. Низенький японец, судя по всему, гид, ловко дирижировал своими подопечными, на ходу продолжая снабжать их бесполезной информацией.
— Non mi piace questo,[56] — произнес итальянец справа от Томаша, с явным неудовольствием взиравший на толпу чужеземцев, расталкивавших друг друга, чтобы заполучить удачный кадр.
— Mi scusi,[57] — извинился Томаш. — Non parlo italiano. Parla lei inglese?[58]
— Прошу прощения, — итальянец перешел на английский. — Вы американец?
— Нет, португалец.
Прохожий был удивлен.
— Португалец?
— Да. Так о чем вы говорили?
— Я?.. Да так, пустяки.
— И все же.
Итальянец замялся.
— Дело в том… Мне кажется… Нечестно вот так обманывать людей.
— Обманывать? Что вы имеете в виду?
Генуэзец с заговорщическим видом огляделся по сторонам.
— Знаете, здесь очень красиво, по-настоящему впечатляюще. Но Колумб здесь, похоже, никогда не жил. Аттракцион для туристов, не более того. Дом той эпохи, спору нет, но никто не поручится, что в церковной книге упомянут именно он. Известно, что Доменико Коломбо, отец Христофора, арендовал у монахов дом неподалеку от Порта-Сопрана. Однако в те времена здесь был целый квартал, и нам остается только гадать, где они жили на самом деле. Выбрали этот дом, но им мог оказаться любой другой.
— Не такая уж страшная ложь, если на то пошло.
Итальянец скривился и безнадежно махнул рукой.
— Мы всего лишь выдали желаемое за действительное. Чтобы привлечь туристов и почтить память нашего Колумба. — Он вскинул указательный палец, будто грозя невидимым недругам. — По крайней мере это правда. Христофор Колумб родился в Генуе, это доказано, и двух мнений тут быть не может!
Томаш улыбнулся. Было бы странно, если бы генуэзец взялся утверждать обратное.
— Конечно, — поспешил он согласиться. — Но как быть с домом?
— А вот это недоказуемо. Даже если Колумб и вправду здесь жил, мы никогда не узнаем наверняка.
Движение на улице было слишком интенсивным, чтобы рассчитывать сразу поймать такси. Томаш решил направиться пешком в сторону площади Маттеотти, в надежде остановить машину по дороге, чтобы добраться до архивов. Не пройдя и двадцати метров по улице Порта-Сопрана, он понял, что зверски голоден; к счастью, по пути ему подвернулся ресторан с подходящим к случаю названием «У Колумба». Командировочные расходы оплачивал фонд, и Норонья ни в чем себе не отказывал. На закуску он взял pappardelle al ragu di coniglio alla ligure, оказавшиеся обыкновенной пастой с заячьим паштетом. На второе Томаш выбрал filetto all'aceto balsamico di Modena, состоявшее из жаренного на гриле куска говядины и большой порции заправленного уксусом салата, а на десерт шедевр под названием degustazioni di cioccolatini Domori e bicchiere di Rum. Роскошный обед дополняли бутылка чудесного Лигурийского вина Rossese di Dolceacqua 1999 Giuncheo и misto formaggi con confetture, тарелка благородных сыров с мармеладом.
После обеда Томаш отправился в читальный зал имени Колумба Государственного архива Генуи, расположенного в живописном Палацетто-Криминале на оживленной улице Томмазо Реджо. Там хранились бумаги Архива банка Сан-Джорджо и Нотариального архива. Томаш до вечера терпеливо просматривал микрофильмы и перелистывал двести восемьдесят восемь страниц документов из Генуи и Савоны с 1429-го по 1494 год, не забывая конспектировать. В половине шестого служащие архива объявили, что читальный зал закрывается, и ему пришлось прервать работу.
Вечером Томаш пешком дошел до Пьяцца-делле-Эрбе, заглянул в лавку, где продавали старинные рукописи, и выпил пива в баре «Берто». Потом он совершил экскурсию по забегаловкам Порто-Антико, пробуя блюда со всех сторон света, от тайского риса со специями до греческого узо и марокканского кускуса. Перед сном Норонья позвонил жене из номера «Бристоль-паласа». Констанса была как обычно напряжена, и Томаш понятия не имел, чем ее утешить. Потом выхватила трубку Маргарита и потребовала, чтобы папа привез ей в подарок «баашую куклу».
Наутро Томаш снова отправился в читальный зал. На этот раз он решил сконцентрироваться на двух огромных томах, вышедших в 1932 году и озаглавленных просто «Колумб». Увесистые фолианты, содержавшие факсимиле итальянских документов и их перевод на английский и немецкий, считались венцом деятельности «генуэзской школы», итогом колоссального труда, начатого Джероламо Бордони еще в 1614 году и завершенного в 1904-м. Томаш прилежно конспектировал и даже скопировал самые важные бумаги. Потом для очистки совести пробежал глазами сборник «Новое о Колумбе» и, поскольку на часах было уже четыре пополудни, решил, что на сегодня хватит. Впереди были другие архивы в другой стране.
Величественная мавританская башня белела на фоне ярко-синего неба, отбрасывая милосердную тень на пешеходов и запряженных в прогулочные экипажи лошадей на площади Вирхен-де-ло-Рейес. Остановившись под апельсиновым деревом на улице Матеоса Гаго, Томаш запрокинул голову, чтобы разглядеть венчавший Хиральду бронзовый флюгер. Район, расположенный на левом берегу Гвадалкивира, назывался Ареналем. Здесь располагался старинный еврейский квартал Баррио-де-Санта-Крус. То была самая живописная часть города с узкими улочками и нарядными двориками, ажурными решетками и тенистыми садами, где цвели розы и камелии, жасмин и бугенвиллии, прелестными особняками и памятниками давно ушедшей эпохи, когда богатства Нового Света ненадолго сделали Испанию величайшей империей.
Томаш добрался до Севильи всего час назад и успел проголодаться. Ближайший ресторан назывался «Бар Хиральда». Внутри царила атмосфера арабского сука; своды, арки, дверные проемы — все было выдержано в мавританском стиле.
Томаш сел за стол и попросил меню.
— Прежде здесь были мавританские бани, сеньор, — смуглый худощавый официант с густыми черными усами и аккуратной бородкой старательно выговаривал слова. — Que quiere comer usted?[59]
Норонья глянул в меню. Названия блюд были не слишком вдохновляющими.
— Что вы мне посоветуете?
— Le gusta tapas?[60]
— Я даже не знаю. Принесите, пожалуй.
— Bueno. Con xerez?[61]
— Херес? Не лучше ли красное вино?
— Xerez es mejor con las tapas, senor.[62]
— Хорошо, вам виднее.
Через десять минут официант принес маленькие блюдца и бокал хереса амонтильядо, сухого белого вина, прозрачного, с легким золотистым блеском. Оказалось, что происхождение традиционной андалусской закуски прямо связано с этим вином и блюдечками. Раньше бокал было принято накрывать блюдцем, а «накрывать» по-испански, как известно, tapar. Потом на блюдце стали класть сыр или маслины, а со временем и другую еду. Современные «тапас» отличались таким разнообразием цветов и вкусов, что португальскому гостю в пору было растеряться.
Томаш принялся пробовать закуски и через полчаса опустошил все блюдца до единого. Отдавая должное андалусской кухне, он думал о том, как же здорово путешествовать, особенно за чужой счет. Бежать от рутины, делать открытия, пробовать самую вкусную стряпню во всех уголках земли. Забыть обо всем на свете, устроиться с комфортом в «Баре Хиральда» и поглощать mejillones a la marinera, мидии с луком, чесноком и петрушкой под соусом из белого вина, лимонного сока и оливкового масла, salpicon de mariscos, дивную смесь лобстера, крабов и креветок, приправленную красным перцем, banderillas, сборную солянку из рыбы, маринованных овощей, яиц, креветок и маслин; а еще jamon serrano, albondigas, patatas bravas, ensalada de pimientos rojos efritura de pescado и на закуску тосты с местным сыром manchego. Напоследок Норонья закусил поджаристыми пончиками, щедро посыпанными сахаром, выпил крепкого колумбийского кофе и решил, что пора остановиться.
После плотного обеда полагалась долгая прогулка. Томаш вышел на широкую площадь Вирхен-де-ло-Рейес. Жизнь в Севилье текла неторопливо и размеренно, никто никуда не спешил. Норонья дошел до монастыря Энкарнасьон, полюбовался резиденцией архиепископа на другой стороне площади, обогнул собор, пересек Триумфальную площадь с барочной колонной, увенчанной статуей Девы Марии в память о чудесном спасении Севильи в страшном землетрясении 1755 года, до основания разрушившем Лиссабон. На углу помещалось компактное здание Главного архива Вест-Индии, выстроенное из красно-коричневого кирпича, материала, обожаемого испанцами и безмерно раздражавшего Томаша. От одного взгляда на бурые стены, наводившие на мысль о фабриках и скотобойнях, португальца пробирала дрожь.
Томаш вошел в самый большой готический собор Европы через выложенный камнем южный портал. Вступив под давящие своды, португалец невольно поежился: это было все равно, что оказаться в темной и мрачной пещере. Алтарь святого Кристобаля располагался в самом величественном и зловещем месте собора, на пересечении правого трансепта с нефом.
В центре патио, на возвышении, четыре бронзовые фигуры с алебастровыми лицами, одетые вельможами XVI века, держали на плечах саркофаг. На крышке укрытого погребальным покровом и украшенного металлическими пластинами гроба лежал щит. Томаш узнал герб Колумба. На пьедестале, под геральдической символикой Испании были выбиты готические буквы. Норонье пришлось наклониться, чтобы прочесть:
Aqui jacen los restos de Cristobal Colon desde 1796
los guardo la Habana у este sepulcro por R. D. о
de 26 defebrero de 1891.[63]
Здесь покоился Колумб.
По крайней мере так было принято считать. В истории с последним пристанищем мореплавателя тайн хватило бы на несколько детективов. Четырежды побывав в Новом Свете, Колумб решил поселиться в Севилье. Однако после смерти своей покровительницы королевы Изабеллы в 1504 году он впал в немилость. Рассчитывая вернуть благосклонность короля Фердинанда, адмирал, успевший превратиться в больного старика, перебрался в Вальядолид, поближе ко двору. В этом городе он и скончался двадцатого мая 1506 года, так и не дождавшись монаршей милости. После недолгого пребывания во францисканской обители Вальядолида тело, преодолев по пути немало препятствий, перевезли в севильский монастырь Санта-Мария-де-лас-Куэвас. Спустя тридцать лет тела самого Колумба и его старшего сына, к тому времени тоже давно покойного, решили перезахоронить в кафедральном соборе Санто-Доминго. А еще через двести лет, в 1795 году, по Басилейскому трактату испанская часть острова отошла к Франции, и останки первооткрывателя Америки с большой помпой перевезли в Гавану. В 1898 году, когда Куба получила независимость, тело адмирала вернулось в Севилью. Однако никто не мог поручиться, что во время одного из многочисленных переездов не произошло роковой ошибки, и что в соборе был действительно погребен Колумб, а не его сын или еще какой-нибудь родственник.
Все эти исторические загадки Томаша нисколько не волновали. Если в бронзовом гробу упокоился сын великого путешественника, его соотечественник Дього Колом, значит, так тому и быть. Постояв еще немного у надгробия, португалец направился в неф. Неторопливо пройдя через весь собор и ненадолго задержавшись под сводами главной часовни, он вышел в патио через западный портал, именуемый порталом Вознесения. На полпути ему попалось другое захоронение, куда более скромное; в нем спал вечным сном Эрнандо Колон, испанский сын Христофора, автор лучших воспоминаний о своем великом отце. Томаш миновал надгробие, не задерживаясь. После сумрачного собора даже слабое зимнее солнце показалось ему ослепительно ярким. Портал вел в Патио-де-лос-Наранхос, прямоугольный внутренний двор, обсаженный апельсиновыми деревьями. Посередине бил маленький фонтан, вокруг нависали галереи монастырского клуатра. Как и знаменитая башня Хиральда, бывшая в прошлой жизни минаретом, патио был устроен на месте маленькой сарацинской мечети, поглощенной величественной христианской святыней.
Истинная цель Томаша располагалась на галереях. В Библиотеке Колумба. Охранники у входа потребовали у португальца документы, внесли его имя в список посетителей и лишь тогда впустили в читальный зал. Библиотека была основана в XVI веке Эрнандо Колоном, прах которого покоился у портала Вознесения. Сын-испанец приумножил принадлежавшее отцу собрание книг и рукописей, добавив к нему двенадцать тысяч экземпляров. Перед смертью Эрнандо завещал бесценную коллекцию доминиканцам из монастыря Сан-Пабло, а те поместили его на левой галерее собора, над Патио-де-лос-Наранхос.
Под библиотеку было отдано несколько просторных залов, полностью заставленных стеллажами. В главном зале, на витринах из пуленепробиваемого стекла, будто сокровища короны, хранились книги и документы, принадлежавшие самому Колумбу. Обычно их не выдавали посетителям, но рекомендательные письма из Нового лиссабонского университета и официальный запрос из Фонда американской истории сделали свое дело, и Томашу позволили прикоснуться к сокровищам.
Весь вечер историк перелистывал те самые книги, что за более чем пятьсот лет до него держал в руках адмирал. Начал он с «Книги пророков», неоднократно упоминавшейся в дневнике и письмах Колумба; сам мореплаватель явно отдавал предпочтение пророку Исайе. Среди прочих экземпляров выделялись «Образ мира» кардинала Петрюса Д'Элли и «Естественная история» Плиния, поля которых были сверху донизу исписаны бисерным почерком владельца. Того самого Плиния, которого Констанса упоминала в связи с пионами. Томаш внимательно прочел все до одной пометки, сделанные по большей части на испанском с вкраплениями португальского и итальянского. Подивился странным замечаниям на полях «Historia rerum ubique gestarum»[64] папы Пия II. Изучил «De consultidinibus et conditionibus orientalem regionum»[65] Марко Поло, том Плутарха, несколько сочинений Сенеки и книгу португальского еврея Авраама Цакуты, влиятельного советника Жуана II.
Томаш вышел из библиотеки, когда стемнело, с чувством выполненного долга. Оказавшись за монастырской стеной, он повернул налево, прошагал по проспекту Конституции до самой Пуэрта-де-Херес и оказался на берегу реки. Норонья решил не прибегать к услугам таксистов. Он пешком перешел Гвадалкивир по мосту Сан-Тельмо, пересек площадь Кубы и свернул на живописную улицу Бетис, на которой стоял его отель. Из окна номера открывался вид на прелестный средневековый квартал; справа возвышалась Золотая башня, слева белела арена для боя быков, а вдалеке виднелись очертания Хиральды. Полюбовавшись видом, Томаш сел на кровать и достал мобильник. Телефон Констансы был выключен. Норонья оставил сообщение на автоответчике и вышел из номера.
Сидя на перилах спиной к веселой улице Бетис, Томаш лениво потягивал пиво и провожал глазами огоньки барж, скользивших по темной глади Гвадалкивира. На том берегу, на набережной Христофора Колумба тоже царило веселье. На этой колоритной набережной португалец провел остаток вечера, пробуя тапас и запевая их мансанильей, на деньги фонда, разумеется. Поначалу он засел в номере и честно пытался вчитаться в очередную главу «Надзирать и наказывать», которая, вполне возможно, таила разгадку ребуса Тошкану, но на реке горели огни, в окна долетал городской шум, и он, махнув на все рукой, погрузился в ночную жизнь Севильи.
Андалусская столица плясала под звездным шатром в зажигательном ритме севильян. Разве мог город Кармен и Дон Жуана, танцовщиц и тореро, поэтов и бандитов спать в такую ночь? Все спешили в Триану, где их ждали угощение под открытым небом, танцы и драки.
Томаш долго бродил по набережной, потом свернул на улицу Пуреса, привлеченный ее нарядными фасадами. Купил в сувенирной лавке для туристов куклу в пышном красном платье, достойный подарок для Маргариты; жене он собирался привезти альбом с репродукциями Эль Греко. Сложив подарки в полиэтиленовый пакет вместе с книжкой Фуко, Норонья поспешил обратно: в Триане начиналось невиданное празднество. Настоящее таблао: гитарные аккорды, нервный ритм фламенко, стук каблуков, щелканье кастаньет, гортанный голос, тонкие руки, горделивые позы, страстный возглас «Оле!», вспыхивающий над толпой. Добравшись до отеля, Томаш рухнул на кровать, да так и заснул одетым, уронив на пол пакет с куклой, альбомом и Мишелем Фуко.
Утром он оправился в квартал Санта-Крус, в Главный архив Вест-Индии. Зданию из темно-красного кирпича была почти тысяча лет; в стародавние времена в нем располагалась первая в стране биржа. Документы, связанные с колонизацией Америки, хранились здесь с XVIII века. Огромное собрание насчитывало восемьдесят миллионов рукописных страниц, не считая восьми тысяч карт и рисунков. Среди них попадались экземпляры, написанные рукой Кортеса, Сервантеса, Филиппа II и других выдающихся людей. Среди этих самых «других людей» был и тот, кто интересовал Томаша.
Португалец пришел за письмами Христофора Колумба. Некоторые из них были столь ветхими, что им мог повредить даже слишком яркий свет. Томашу вновь пришлось прибегать к авторитету университета и фонда, чтобы убедить сотрудников архива позволить ему прикоснуться к оригиналам; увы, все было напрасно: разрешения пришлось бы ждать несколько дней. Историку пришлось удовлетвориться микрофильмами и факсимиле некоторых писем, с которых ему любезно разрешили сделать копии. Но самой ценной севильской находкой, ради которой стоило отправиться в путешествие, были материалы одного весьма любопытного судебного процесса, так называемого «Дела о наследстве».
Томаш завершал свои изыскания в страшной спешке; в три часа у него был самолет, а еще нужно было успеть перехватить что-нибудь по дороге. Норонья заскочил в ресторан на улице Ромеро-Мурубе, чтобы насладиться напоследок наваристым рыбным супом качореньяс, приправленным апельсиновым соком, и бобами по-малагски с бокалом «Монтильи», поймал такси и понесся в отель собирать вещи, а оттуда — в аэропорт. Посреди этой сумасшедшей беготни он не забывал набирать номер Констансы, но всякий раз слышал металлический голос автоответчика.
Норонья добрался до дома только к десяти вечера. Он валился с ног от усталости и думал только о том, чтобы поскорее принять ванну, поесть и завалиться спать. Замок поддался не сразу, но Томаш все же сумел повернуть ключ, распахнул дверь и перетащил через порог тяжелый чемодан.
— Девочки, я приехал! — позвал он, держа в одном руке куклу в красном платьице, а в другой — альбом Эль Греко.
Квартира тонула во мраке. Включив свет, Томаш обнаружил, что всюду царит идеальный, безжизненный порядок.
— Девочки! — позвал он снова, немного встревоженный. — Вы где?
Томаш посмотрел на часы и решил, что жена с дочкой легли спать; утомились за день и не стали его дожидаться. Он на цыпочках, стараясь не шуметь, обошел маленькую квартиру, заглянул в детскую, потом направился в спальню. Обе комнаты были пусты. Норонья в полном недоумении положил чемодан на супружескую кровать. Куда они запропастились? Его беспокойство становилось все сильнее. А вдруг что-нибудь случилось? Профессору не сразу удалось взять себя в руки. Опомнившись, он достал телефон и снова, как час назад в аэропорту, набрал номер жены. Ответа по-прежнему не было. Какого дьявола?!..
Томаш решил перебраться на кухню; на голодный желудок думалось плохо, а самолетной еды, завернутой в фольгу, он не признавал. Возможно, все вот-вот разрешится. Возможно, надо просто немного подождать, и они вернутся. Направляясь на кухню, Томаш вдруг увидел на тумбочке в прихожей букет цветов, на этот раз очень ярких, канареечно-желтых. Тугие бутоны-раструбы гроздьями свешивались с длинных, изогнутых стеблей в окружении мелких, таких же ярко-желтых роз. Томаш застыл на месте; букет был совсем свежим. Профессора царапнула неприятная мысль. Чем дольше он раздумывал, тем сильнее делалось подозрение. Томаш решил сменить направление; вместо кухни он прошел в гостиную.
В напольных вазах стояли те же самые цветы, а на столе белел листок бумаги. Томаш схватил его, но это оказался всего лишь счет из цветочного магазина. Норонья долго перечитывал его, шевеля губами в полной задумчивости. Потом, не выпуская листка из рук, подошел к книжному шкафу и без труда отыскал на корешке нужное название. «Язык цветов», любимая книга Констансы. Томаш открыл справочник на последних страницах и нашел в глоссарии слово на «д», «дигиталис». Согласно книге, этот цветок символизировал эгоизм и лицемерие. Изумлению профессора не было предела. Неужели это послание адресовано ему? Отдавшись внезапно накатившей панике, он лихорадочно пролистал справочник до буквы «р». Надо было срочно выяснить, что означают желтые розы. В статье «розы» и вправду был раздел «розы желтые». Томаш сразу выхватил взглядом нужное слово.
Измена.
XI
Телефон проснулся и настойчиво, требовательно запищал. Томаш с трудом оторвал голову от подушки, растерянно огляделся и увидел, что в окно льется солнечный свет. Он сел на кровати и бросил взгляд на часы. Пять минут десятого. Телефон надрывался у него над ухом, на прикроватной тумбочке. Мобильник пищал, жужжал и вибрировал, а на дисплее светился знакомый номер.
— Констанса, где вы, во имя всего святого?! — прокричал Томаш в трубку, едва успев нажать зеленую кнопку.
— У моих родителей, — ответила жена ледяным тоном, давая понять, что не намерена пускаться в долгие объяснения.
— У вас все хорошо?
— Просто замечательно.
— И что ты собираешься делать?
— А как ты думаешь? — отрезала Констанса. — Постараюсь устроить свою жизнь.
— Как это устроить свою жизнь?! — воскликнул Томаш в притворном изумлении. Втайне он лелеял слабую надежду, что букеты в вазах на самом деле ничего не значат, и все еще можно исправить. — Насколько мне известно, твоя жизнь здесь, со мной!
— Правда? А твоя где?
— Моя? — Он продолжал притворяться. — Тоже здесь, где ей еще быть!
— Вот как? А ты разве не видел цветы?
— Какие цветы?
Она затихла, обескураженная. Томаш решил, что раунд остался за ним, и немного осмелел.
— Не заговаривай мне зубы! — вдруг закричала Констанса. Она догадалась, что муж ломает комедию. — Ты видел дигиталис и желтые розы и прекрасно знаешь, что они означают.
Томаш понимал, что его тактика не возымела действия, но чтобы не выдать себя, продолжал притворяться.
— Нет, представь себе, не видел. А что они означают?
— Тебе что-нибудь говорит имя Лена?
От ледяного спокойствия, с которым были произнесены эти слова, Норонью пробрала дрожь. Все стало ясно, и запираться дальше не было никакого резона.
— Это моя студентка.
— Отличница, наверное! — саркастически заметила Констанса. — Интересно, какой предмет ты ей преподаешь.
Томаш не нашелся, что ответить. Откуда, во имя всего святого, она узнала? Подумав, он решил, что разумнее признать хотя бы часть своей вины в расчете на смягчение наказания. Другого выхода не было.
— У меня действительно был эпизод с этой девушкой, — проговорил он едва слышно. — Это продолжалось недолго и уже кончилось, так что…
— Эпизод? — Голос Констансы звенел от гнева. — Эпизод? Ты называешь шашни со студенткой эпизодом?
Томаш отпрянул от телефона: такой прямой атаки он не ожидал.
— Ну… понимаешь…
— Я вкалываю, как рабыня, ломаю голову, как помочь нашему ребенку, ищу для него преподавателя, забрасываю жалобами Министерство образования, учу Маргариту читать и писать, вожу ее по врачам, выматываюсь до смерти, и все для того, чтобы ты мог наслаждаться «эпизодами» со шведской подстилкой! Да как ты осмелился являться домой как ни в чем не бывало прямо из постели этой девки?! Как ты осмелился смотреть мне в глаза?! Как…
В трубке послышались отчаянные всхлипы. Констанса рыдала в голос.
— Не надо, милая! Прошу тебя.
— Негодяй! — простонала женщина. — Уродец!
— Прости меня. Если бы ты знала, как я раскаиваюсь!
— Как ты мог…
— Констанса, послушай. Я правда раскаиваюсь. Изменить прошлое я не в силах, но поверь, такого больше никогда не повторится.
Рыдания стихли, Констанса взяла себя в руки.
— Пошел в задницу! Слышал?! В задницу, урод!
Томаш пал духом; дело на глазах принимало слишком серьезный оборот, и он решительно не знал, что делать.
— Послушай, родная. Я поступил как последний подонок и никогда себе этого не прощу.
— Это я никогда тебе не прощу, сукин ты сын!
— Давай попробуем успокоиться.
— Я спокойна! — выкрикнула Констанса, снова впадая в бешенство. — Я совершенно спокойна!
— Хорошо, хорошо.
— Я звоню, чтобы сказать: в следующую субботу, в три, можешь заехать к моим родителям за Маргаритой. Но чтобы в воскресенье, в пять, она была дома. Понял? Я сама буду решать, когда тебе с ней видеться и сколько. Ты все понял, муженек?
— Но, милая…
В трубке послышались злые короткие гудки. Томаш тупо глядел на погасший дисплей. Все сомнения, тревоги и страхи, скрывавшиеся в темных уголках его души, разом вырвались наружу. Но несмотря на творившийся в мыслях хаос, несмотря на горечь и отчаяние, Норонья никак не мог выбросить из головы один совершенно бесполезный вопрос.
Откуда, во имя Господа, она узнала?
На протяжении следующей недели Томаш тщетно звонил жене, но Констанса не брала трубку. Он с трудом дождался субботы и примчался в Сан-Жуан-де-Эшторил без десяти три. Дона Тереза, мать Констансы, держалась с зятем очень холодно, но по всему чувствовалось, что ей не по себе; в дом Норонью не пустили, и ему пришлось дожидаться на пороге. Маргарита при виде отца расцвела, а от куклы в красном платье с оборками и вовсе пришла в восторг.
Папа с дочкой пообедали в пиццерии, а потом пошли в кино. Маргарита изъявила желание посмотреть «Историю игрушек 2», и Томашу пришлось, сжав волю в кулак, два часа наблюдать за похождениями Вуди и Базза. Вечером, когда оба растянулись на диване в гостиной с книжкой про Аниту, отец решил, что пришло время для серьезного разговора с дочерью.
— Мама на тебя седится, папочка, — подтвердила Маргарита. — Очень-очень седится, говоит, что ты убъюдок. — Она наморщила лоб. — Папа, а что такое убъюдок?
— Тот, кто плохо себя ведет.
— А ты п'охо себя вей?
Томаш горько вздохнул.
— Да, дочка.
— А что ты сдеай?
— Кашу не доел.
— А, — произнесла девочка, потрясенная масштабом отцовского преступления. — Ты наказан, да? Бедненький. В съедующий аз съешь все.
— Придется. А что еще мама говорила?
— Что ты удод.
— Удод?
— Да, удод.
— А, урод.
— Моайный удод. А еще она будет говоить со знакомым авокадом.
Томаш приподнялся на диване; последние слова дочери ни на шутку его испугали.
— С адвокатом?
— Говоит, он очень хооший и сдеает из тебя котъету.
— Вот как?
— Да. А как это котъету?
— Это просто такое выражение, дочка. А что мама еще говорит?
— Говоит, я подумаю.
Больше из Маргариты ничего вытянуть не удалось. Следующим вечером Томаш, как и было условлено, привез ее обратно к бабушке и дедушке. На прощание девочка торопливо чмокнула отца в щеку и тут же скрылась за дверью. Констанса по-прежнему не брала трубку.
Зато Лена как ни в чем не бывало явилась на лекцию. Занятие было посвящено трудам средневековых переписчиков и разным видам каллиграфии. Подробно рассмотрев каролингское письмо и унциал, профессор перешел к эволюции готического шрифта, остановившись на каждом из его типов: фрактуре, текстуре, ротонде и батарде. Шведка по обыкновению заняла место в самом центре аудитории, красивая и соблазнительная как никогда. Землянично-красное платье ловко охватывало ее дивные формы, глубокое декольте открывало безупречной формы груди. И Томашу снова пришлось сражаться с собой, чтобы не задерживаться взглядом на центральном ряду. Он уже грешным делом подумывал, не возобновить ли тот последний разговор в Чиадо, оборвавшийся так нелепо; в конце концов, с тех пор многое изменилось; он теперь жил один, и шведка, по-прежнему желанная, была в его распоряжении. Впрочем, то была минутная слабость: профессор заставил себя прогнать греховные мысли и твердо решил оставить все как есть.
Томаш проводил одинокие вечера за чтением Мишеля Фуко, все еще лелея ускользающую надежду разгадать шараду Тошкану. Однако мысли его витали далеко от «Надзирать и наказывать», то и дело возвращаясь к жене и дочери. У добровольного отшельника было достаточно времени, чтобы переосмыслить и отношения с Констансой, и отчаянную авантюру с любовницей. Причиной того безумного адюльтера было не столько сексуальное влечение к другой, сколько горькое разочарование в жизни с законной женой, долгие годы надежно скрытое даже от самого себя и наконец прорвавшееся наружу. Он был не первый, кто не узнал в настоящем собственное будущее, что прежде представлялось таким прекрасным и захватывающим, не первый, кто решился на молчаливый и безнадежный бунт против тоски и рутины.
Валяясь в постели или растянувшись на диване, напрасно ожидая звонка Констансы, Томаш шаг за шагом восстанавливал события, что привели его к столь печальному положению. Теперь сама измена казалась ему зашифрованным посланием. Сбежав от семьи, он отправился в плавание по морю своей души, открывая по пути неизведанные доселе континенты, заглядывая в головокружительные омуты подсознания, различая в вое ветра и шуме волн никому не слышный зов о помощи, свой собственный. Кого призывал этот крик, отдававшийся эхом в самых дальних уголках сознания? О чем он мог бы поведать, если бы решился поведать миру о своих переживаниях?
В смятении от таких мыслей Томаш порой вскакивал с постели и начинал бродить по квартире, в пижаме, небритый, громко разговаривая с самим собой. Почему он изменил жене? Единственно правильный ответ скрывался слишком глубоко, чтобы обнаружить его сразу: их брак надломило рождение Маргариты. Как любой отец, он рассчитывал, что его ребенок добьется того, что не удалось ему самому, а что может быть больнее, чем навсегда расставаться со своими мечтами. Констанса приняла удар мужественно, встретила беду лицом к лицу. А он не справился. Терпел девять лет и все равно сбежал. Лена дала ему убежище, защиту от проблем, иллюзию рая. Пускаясь в бегство, Томаш неосознанно надеялся, что все его беды сгинут сами собой, но они никуда не делись, только сделались еще страшнее, непоправимее. Короче говоря, он стремился не к Лене, не к ее восхитительной, ненасытной плоти, а к свободе, прочь от тяжких забот, мрачных перспектив и тошнотворного страха. Забрел на путь греха в поисках тихой гавани.
На самом деле он боялся посмотреть в лицо своей судьбе. То было не обычное беспокойство, от которого легко укрыться, уйдя в себя, а страх перед жизнью, перед чувствами, перед самим собой. Томаш испугался боли взросления, ответственности, трудностей и тревог, что преследовали его семью. Лена была самым простым и очевидным способом избавления от всех страхов разом; мощным наркотиком, волшебным зельем, сулящим забвение. Он укрылся от мира в новом романе, как моллюск укрывается в раковине.
В ванной Томаш рассуждал о причинах крушения своей семьи, обращаясь к отражению в зеркале. Шведка была вершиной айсберга, о который разбился их с Констансой брак. Истинные мотивы скрывались под толщей темных, зловещих, как Атлантика, вод. Он слишком долго игнорировал их, загонял внутрь, предпочитал делать вид, будто все в порядке. А когда отрицать очевидное сделалось невозможно, предпочел опасному путешествию по закоулкам собственного подсознания обманчивый уют чужой спальни. А теперь невидимое чудовище утащило его судно на дно, а он сам, капитан с разбитого корабля, хватается за обломки прежней жизни, отданный на произвол стихии.
Зигмунд Фрейд заметил когда-то, что любовь — это возвращение домой. С ее помощью мы пытаемся вернуться в эпоху невинности и безмятежного счастья, когда мы были детьми и жили в ладу с окружающим миром. Вот чего жаждал Томаш, когда впервые увидел Констансу с нежной кожей и веснушками, когда решился подойти к ней на факультете искусствоведения, когда гулял с ней по пляжу в Каркавелуше. Сделав ей предложение, он втайне надеялся вновь обрести потерянный рай, воспоминания о котором теплились в душе. Это не Констансу Томаш полюбил, а идеал, химеру, мечту, образ ушедших светлых дней, спрятанный в подсознании. Рождение Маргариты уничтожило эту мечту. Оставшись наедине с собой, Норонья впервые сформулировал суть происходившей с ним драмы и осознал ее глубину.
Томаш с каждым днем понемногу продвигался в поисках ответов на свои вопросы и постепенно начинал понимать, что с ним приключилось. Он подменил реальный мир воображаемым, жил не с настоящими Констансой и Маргаритой, а с придуманными. Не удивительно, что разрушение царства фантазий стало для него столь тяжким ударом; вместо того чтобы постараться принять семью такой, какая она есть, Томаш предпочел спрятаться за очередной иллюзией, выпустив на волю чудовищ своего подсознания. Признаваться себе в таких вещах было нелегко, но другого способа исправить положение уже не существовало. Путь к спасению лежал через познание себя, и пройти по нему надо было без страха.
Мы не сумели сохранить нашу близость, решил Норонья. Когда они с Констансой поженились, надежды на будущее делали их всесильными, а мечты озаряли скучный быт божественным светом. Первые годы брака напоминали Томашу миф, пересказанный Аристофаном и потом изложенный в Платоновом «Симпозиуме». Согласно этому мифу, в древние времена человек был совершенным существом с двумя парами рук и ног; к несчастью, бывшим любимцам богов случилось навлечь на себя их гнев; в наказание за дерзость Зевс разделил человечество на две половины, мужскую и женскую, и обрек каждого на вечные поиски своей половинки. С тех пор люди влюбляются и женятся, мечтая возвратить утраченную гармонию. Так было и у них с Констансой: первое время их близость была бесконечной, словно они и вправду превратились в единое существо.
Рождение Маргариты положило конец единству, реальность возобладала над мечтой. Теперь у них появилась новая цель: сделать так, чтобы дочка сумела прожить более-менее нормальную жизнь. Не сказочную, а самую обычную, как у большинства здоровых людей. Внезапный сокрушительный удар судьбы не оставил супругам сил для борьбы за уничтоженную Зевсом первородную гармонию. Оба несли свой крест с молчаливой покорностью, не решаясь заговорить о том, что мучило обоих, будто опасаясь, что слова разорвут тонкую нить, до сих пор связывавшую их души. Констанса и Томаш быстро привыкли скрывать свои чувства и, как хорошие актеры, научились улыбаться, изнемогая от боли. Посвятив себя дочери, у которой, несмотря на заботу, не было ни единого шанса стать такой же, как обычные дети, муж и жена окончательно отдалились друг от друга.
Упорно копаясь в своих воспоминаниях, придирчиво анализируя мысли и чувства, Норонья понял на удивление простую вещь: чтобы спасти брак, им с Констансой предстояло вернуть утраченную близость.
Томаш целую неделю не выпускал из рук телефон, но Констанса все не звонила. Вот и теперь его ждало разочарование.
— Hi, Tom, — поздоровался Молиарти.
— Здравствуйте, Нельсон, — хмуро ответил Норонья, не особенно стараясь скрыть досаду.
— Что-то от вас давно нет никаких вестей, старина. Как дела с нашим расследованием?
Португалец виновато прищелкнул языком.
— Все не так просто, — признался он. — Профессор Тошкану весьма надежно зашифровал номер своего сейфа.
— Смею напомнить, что фонд оплатил вам поездку в Геную и Севилью. Надеюсь, вы прокатились не зря.
— Нет, разумеется, нет, — заторопился Томаш. Американец имел полное право требовать отчета, и Норонья должен был во что то ни стало убедить его, что все идет по плану. — Я ознакомился с очень интересными документами и скопировал самые важные из них. Главная задача на сегодняшний день — получить доступ к сейфу профессора Тошкану. А для этого мне предстоит разгадать невероятно сложный шифр.
— А почему бы не… как это по-вашему?.. Почему бы просто не… break in?
— Взломать замок? — усмехнулся Томаш. Все же американская манера вести дела была чересчур прямолинейной. — Вдова ни за что на это не согласится.
— Fuck her! — выругался Молиарти. — Так взломайте тайком.
— Знаете, Нельсон, это уж чересчур. Я университетский преподаватель, а не взломщик. Если хотите взломать сейф, ступайте на Кайш-ду-Содре и наймите какого-нибудь громилу. А меня увольте.
Молиарти на том конце линии обреченно вздохнул.
— Okey, okey. Оставим это. Меня куда больше интересует наш очередной briefing.
— Конечно, — Томаш сверился с лежавшим на столе ежедневником. — Встретимся завтра?
— Давайте.
— Где? У вас в отеле?
— Нет, только не в отеле. Я собирался пообедать в ресторане «Касса-да-Агия». Вы знаете, где это?
— «Касса-да-Агия»? Это рядом с Каштелу-де-Сан-Жоржи?
— Точно. Давайте в час. Okey?
Из-за всего, что свалилось на него в последнюю неделю, Томаш совсем забросил Мишеля Фуко. Звонок Молиарти напомнил ему о том, что ребус Тошкану до сих пор не разгадан и что пора бы разделаться с «Надзирать и наказывать». В книге оставалось всего несколько страниц, и Норонья без труда прикончил ее за несколько часов. Читая, он не позволял себе увлекаться оригинальными суждениями автора, стараясь сосредоточиться на поисках ключа к шифру. Отложив книгу, Томаш надел куртку и вышел на улицу: расследование пора было форсировать. Оставались еще другие тома и другие дела.
Добравшись до торгового центра, Норонья зашел в книжный магазин. В отделе философии ему кстати подвернулись «Слова и вещи», очередное сочинение Мишеля Фуко, в котором могла скрываться разгадка тайны. Томаш взял с полки книгу и уже хотел было расплатиться, но внезапно решил побродить еще немного по магазину. Обыкновенно это занятие помогало ему успокоиться и выбросить из головы неприятные мысли, а неделя бесконечных мытарств явно требовала нервной разрядки. Перебравшись в историческую секцию, профессор долго листал классический труд Сэмюэла Ноа Кремера «История начинается в Шумере», впервые прочитанный еще в студенческие годы, потом обнаружил на полках новые издания Гульбенкяна и Дугласа Мак-Мертри, а рядом с ними разрозненные тома обожаемой им «Истории повседневной жизни».
В секции художественной литературы дипломированного историка привлекли, само собой, исторические романы. В этом отделе продавались сразу две книги Амина Малуфа: «Скала Таньиос» и «Самарканд». У этого автора Томашу доводилось читать «Сады света», жизнеописание человека из Месопотамии по имени Мани, основавшего манихейство. Норонья решил купить оба романа великолепного ливанца, но потом подумал, что в ближайшее время у него едва ли найдутся время и силы на беллетристику. И все же покидать магазин он не спешил. Ему нравилось просто бесцельно передвигаться между стеллажами, касаться кончиком пальца корешков, читать названия. Вот «Креольская нация» Хосе Эдуардо Агуалусы, рядом «Капитан Панталеон и рота добрых услуг» Марио Варгаса Льосы. Компанию перуанцу составляла чилийка: следующей за Льосой стояла «Дочь фортуны» Исабель Альенде. Томаш усмехнулся, наткнувшись на загадочную книгу в роскошной обложке, «Бога маленьких вещиц» Арундати Роя, и тепло улыбнулся «Имени Розы» Умберто Эко. Отличная книжка, подумал Норонья. Сложная, но очень интересная. Ни одному писателю еще не удавалось так глубоко проникнуть в мировосприятие средневекового человека.
На той же полке стоял еще один роман живого классика, «Маятник Фуко». Томаш застыл на месте, впившись взглядом в знакомую фамилию. Совпадение в духе Эко, отметил про себя Норонья. Впрочем, в романе речь шла о другом Фуко, не Мишеле, а Леоне, физике, куда более известном. Этот Леон прославился тем, что еще в XIX веке воссоздал принцип вращения земли при помощи маятника, который с тех пор хранился в главной обсерватории Парижа. Три знакомых слова сложились в привычную цепочку. Эко, маятник, Фуко. Томаш замер, боясь спугнуть внезапную догадку; обложка романа стояла у него перед глазами, словно выкрикивая три заветных слова.
Эко, маятник, Фуко.
Дрожащими, непослушными от волнения руками Норонья расстегнул куртку, полез во внутренний карман, нащупал среди мелких купюр сложенный вдвое потертый листок из блокнота. Достал на свет божий ребус профессора Тошкану, который уже начал казаться неразрешимым.
QUAL О ECO DE FOUCAULT PENDENTE A 545?
Взгляд Томаша метался от листка с проклятой шарадой к тому на полке. Эко, Фуко, маятник. Эко, маятник, Фуко. Умберто Эко написал роман «Маятник Фуко». Профессор Тошкану спросил:
QUAL О ECO DE FOUCAULT PENDENTE А 545?
И тут в голове у Томаша будто сверкнула ослепительная молния.
Fiat lux![66]
Разгадка шарады скрывалась не в книгах Мишеля Фуко, а в романе Умберто Эко. Надо же было уродиться таким бестолковым, обругал себя Томаш. Ответ все время был у него под носом, элементарный, очевидный, логичный, а он потратил столько времени на этот абсурд с французскими книжками. Кто угодно сразу бы догадался, что речь идет о маятнике. Но только не он, образованный человек с докторской степенью, любитель философии. Идиот.
Теперь не оставалось никаких сомнений, в том, что означают три цифры, завершающие ребус.
545.
Томаш набросился на книгу, словно голодный на пиршественный стол и принялся судорожно перелистывать страницы, пока не нашел нужную, пятьсот сорок пятую.
XII
Квартал Алфама предстал перед ним во всем своем блеске, с облупившимися фасадами, цветами в кадках, протянутыми над узкими улочками веревками, на которых сушились чьи-то рубашки, майки и простыни. Жизнь вокруг била ключом, но Томаш карабкался на вершину холма вдоль старой крепостной стены, упрямо глядя себе под ноги, на брусчатку мостовой, и крепко зажав под мышкой портфель с документами. Он шел, не замечая ни шумной толпы, ни переполненных таверн, ни оживленных базарчиков, ни тихих антикварных магазинов и нарядных сувенирных лавок, петлял по лабиринту тесных переулков, пока, испытав огромное облегчение, не добрался до улицы Чао-да-Фейра и не миновал ворота Сан-Жоржи, ведущие к замку.
Запыхавшись от долгой дороги наверх профессор остановился передохнуть под пиньями площади Армаш, у мрачноватого памятника Алфонсу Энрикешу, подхватил поудобнее портфель и задумчиво оглядел выставленные на защиту замка пушки XVII века. После того как Алфонсу Энрикес в 1147 году изгнал из Лиссабона мавров, замок Сан-Жоржи сделался резиденцией португальских королей. В нем жили Жуан II и Мануэл I, великие правители великой эпохи Открытий. Томаш пересек площадь и поднялся на крепостную стену; теперь город лежал у его ног: безбрежное море крыш, перерезанное серебристой лентой Тежу с переброшенной через нее кирпично-красной дугой, мостом Двадцать пятого апреля. Полюбовавшись панорамой Лиссабона, Норонья прошел по эспланаде в патио, под сень величественной Дворцовой башни. Морды охранявших патио маленьких каменных львов смотрели на расставленные у стены круглые столы. За одним из этих столов, между оливой с кривым стволом и старинной пушкой, сидел Нельсон Молиарти. Они условились встретиться в патио, хотя, по мнению португальца, сырая и холодная погода вовсе не располагала к трапезе на свежем воздухе.
Американец и португалец обменялись приветствиями и любезностями. Покончив с формальностями, Томаш приступил к отчету.
— Я изучил копии документов, которые раздобыл у вдовы, посидел в архивах в Лиссабоне, Генуе и Севилье и теперь могу точно сказать, что профессора интересовало происхождение Колумба, — сообщил Норонья. — Особое внимание он уделял именно генуэзским архивам. Теперь мне предстоит разобраться со всем, что удалось накопать, и понять, к каким выводам он пришел.
— Ответьте мне прямо, — попросил Молиарти. — То, чем занимался Тошкану, имело хоть какое-то отношение к открытию Бразилии?
— Поначалу имело. Но потом профессор узнал нечто такое, что увело его совсем в другую сторону.
— Что же он мог узнать?
— Этого я пока не знаю.
Молиарти опустил голову.
— Son of a bitch! — простонал он сквозь зубы. — Столько времени водил нас за нос.
За столом воцарилась тишина. Томаш выжидал, пока американец немного успокоится. Официант, безошибочно уловив момент, принес закуски: соте из фуагра с грушевым пюре и цикорием для Молиарти и террин из козьего сыра с сушеными помидорами черри и яблоком в карамели для Нороньи. Вид изысканно сервированных блюд приободрил Нельсона.
— Мне продолжать? — спросил Томаш, когда официант удалился.
— Да. Go on, — Молиарти зачерпнул ложкой соте. — Приятного аппетита.
— Спасибо, — кивнул португалец, пробуя сыр. — Давайте перейдем к документам из генуэзских архивов. — Он достал из портфеля папку, раскрыл ее и достал ксерокопию. — Экземпляр номер сто тридцать, письмо архиепископа Гранады миланца Петра Ангиерского графу Джованни Борромео от четырнадцатого мая 1493 года. — Томаш протянул листок американцу. — Взгляните.
Молиарти взял письмо и с несчастным видом вернул Норонье.
— Извините, Том, я не знаю латыни.
— Ох, простите! — Португалец отыскал в письме нужную фразу и ткнул в нее пальцем. — «Redita ab Antipodibus ocidinis Christophorus Colonus, quidam vir ligur».
— И что это значит?
— «Христофор Колон, генуэзец, первым достиг дальних западных земель». — Томаш достал из портфеля следующий лист. — А вот послание итальянскому кардиналу Асканио, экземпляр сто сорок два; в нем Колумба называют «Colonus ille novi orbis repertor», то есть Колон, первооткрыватель Нового Света. Заметьте, Ангиерский всюду пишет «Колон», а не «Колумб».
— Откуда взялись эти письма?
— Немец Якоб Корумбергер опубликовал их в 1511 году под заглавием «Legatio Babilonica», а миланец Арнальди Гильельми использовал в 1516-м в своей книге «De orbe novo decades». Это история Испании, в которой, кстати, полно ошибок.
— Вы видели оригиналы писем?
— Нет, они не сохранились.
— Но при переизданиях имя могли написать неправильно.
Томаш печально кивнул и отщипнул еще сыра.
— Это вечная проблема со старинными текстами. Практически со всеми, где упоминается Колумб. Нельзя с уверенностью сказать, не ошибся ли переписчик, не подделал ли кто-нибудь факты биографии адмирала. Иногда довольно одной закорючки, чтобы полностью изменить смысл написанного. Оригиналов писем Ангиерского не существует, есть только перепечатки одиннадцатого и шестнадцатого годов, а в них имя могли написать по-своему. И тем не менее для нас эти послания бесценны, ведь там речь идет о происхождении Колумба. Ангиерский утверждает, что человек, открывший Америку, был родом из Лигурии, но мог ли он знать наверняка?
— А этот Ангиерский был знаком с Колумбом?
— Некоторые историки полагают, что да, но в письме архиепископ называет его «некто Колумб». А так не пишут о человеке, которого знают лично, не правда ли?
— Пожалуй, — согласился Молиарти, ненадолго оторвавшись от соте. — Но, насколько я понял, Ангиерскому нельзя полностью доверять. Есть ведь другие источники, по которым выходит, что Колумб был из Генуи?
— Конечно есть, — улыбнулся Томаш. — В 1501 году еще один итальянец, точнее, венецианец, Анджело Тревизано подготовил собственный итальянский перевод первой редакции «De orbe novo decades» Ангиерского; в приложенном к переводу письме он прямо указал, что архиепископ «свел дружбу с генуэзцем Христофором Колумбом», подтверждая тем самым, что адмирал был родом из Генуи. Но профессор Тошкану ставил эту версию под сомнение. В его заметках полно ссылок на работы Байерри Бертомеу. Этот Бертомеу первым предположил, что Ангиерский фальсифицировал историю в угоду своим компатриотам. «De orbe novo decades» — скандальное, провокационное сочинение, созданное в пику Америго Веспуччи. Для его автора куда важнее потрафить читателям, чем рассказать правду. А читателям приятно было узнать, что la grande scoperta[67] Америки совершил итальянец.
— Хм, — хмыкнул Молиарти, потирая кадык. — Похоже, все это притянуто за уши.
— Разумеется, — обрадовался Томаш. — А что не притянуто за уши в истории с Колумбом? Идем дальше. В 1504 году Тревизано опубликовал свою собственную книгу «Мореплаватели Испанского королевства», и в ней снова упоминается «генуэзец Христофор Колумб».
Молиарти покосился на портфель историка.
— У вас есть копия?
— Нет, — признался Томаш, покачав головой. — Ни одного экземпляра «Мореплавателей» не сохранилось.
— А откуда известно, что там было написано?
— Эту книгу цитирует Франческо де Монтальбоддо в своем «Новом Свете», опубликованном в 1507 году.
— Опять цитаты!
— Да, мы снова имеем дело с источниками второго ряда. В нашей истории оригиналы документов попадаются куда реже, чем копии из вторых рук. Тревизано не был знаком с Колумбом, он ссылался на Ангиерского. Иными словами, Монтальбоддо цитирует Тревизано, который цитирует Ангиерского. — Томаш заглянул в блокнот. — Между прочим, Монтальбоддо пишет, что «после римлян моря бороздили лишь итальянцы». Странное утверждение, если не сказать абсурдное. Получается, что новые земли открывали исключительно сыны Италии. — Он взглянул на собеседника. — Вам не кажется, что это небольшое преувеличение?
— Ладно, оставим пока Тревизано. Есть еще какие-нибудь источники?
— А как же. — Норонья достал из портфеля аккуратную стопку ксерокопий. — В 1516 году, через десять лет после смерти Колумба, генуэзский епископ по имени Агостино Джустиниани выпустил в свет внушительный труд, озаглавленный «Psalterium hebraeum, graecum, arabicum et chaldeum, etc.»[68] и в нем обрушил на читателей буквально лавину новой информации. В частности, поведал миру, что мореплаватель, открывший Америку, некий Христофор Колумб, был «patria Genuensis»,[69] родился в семье «Vilibus ortus parentibus», то бишь бедняков, и что его отец был «carminatore», или по-нашему чесальщик шерсти, наемный работник. Джустиниани утверждал, что в юности Христофор тоже был чесальщиком и не получил никакого образования, даже читать почти не умел. Перед смертью он назначил своими душеприказчиками клерков из банка Сан-Джорджо в Генуе. Во второй своей книге «Castigatissimi Annali», опубликованной в 1537 году, после смерти автора, епископ снова поднял вопрос о семейном ремесле Колумбов. На этот раз они оказались уже не чесальщиками шерсти, а ткачами.
— И это все, что нам известно о происхождении Колумба.
— Именно так, — подтвердил Томаш. — Кстати, Тошкану нашел у Джустиниани множество пробелов и несостыковок. Начнем с того, что Колумб никак не мог назначить душеприказчиков, поскольку умер в нищете. Никакого имущества, кроме души, у него просто не было. — Томаш слегка улыбнулся. — Прошу прощения за каламбур. Идем дальше: если верить Джустиниани, Колумб был подмастерьем ткача, этаким неотесанным мужланом. Но будь он и вправду таким, откуда у него взялись блестящие познания в географии и навигации? Кто доверил бы невежде командовать армадой? Как он сумел стать адмиралом? Как жалкий плебей добился руки доны Филипы Мониш Перештрелу, знатной португалки из легендарного рода Мониш, близкой родственницы самого Нуну Алвареша Перейры, и это в эпоху, когда сословные предрассудки цвели пышном цветом и простолюдины даже мечтать не смели о женщинах благородного происхождения. И главное, как его допустили ко двору Жуана II, одного из самых просвещенных монархов своего времени? Кто-то, вероятно, и принял бы всю эту бессмыслицу за чистую монету, но только не Тошкану. Ко всему прочему, Джустиниани с Колумбом никогда не встречался, он лишь пересказывал чужие свидетельства. Родной сын адмирала Эрнандо Колон прямо обвинял Джустиниани во лжи; правда, сам он о происхождении своего отца высказывался туманно и неохотно, прибавляя таинственную фразу: «en este caso que es oculto».[70]
— I see, — осторожно заметил Молиарти. — Есть еще что-нибудь?
— Что касается итальянских источников XVI века, это, пожалуй, все.
Официант принес горячее: форель на углях для Нельсона и запеченные в томате креветки с анчоусами и каперсами на подушке из кукурузы и белой фасоли для Томаша. Вино американец выбрал местное, ледяное «Касал Гарсиа».
— Рыба — лучшее, что есть в Португалии, — заявил Молиарти, выдавливая лимонный сок на подрумянившуюся форель. — Рыба на углях и холодное зеленое вино.
— С вами трудно не согласиться, — улыбнулся Томаш, поддевая креветку.
— Вкуснотища! — вдохновенно воскликнул американец, прочертив в воздухе зигзаг нанизанным на вилку куском форели. — Что там у вас дальше? Вы припасли еще каких-нибудь хронистов, писавших о Колумбе?
— Остались иберийские авторы. — Томаш отпил вина. — Начнем с португальцев. Руй де Пина в начале XVI века упомянул «Христофора Коломбо, итальянца». Гарсиа да Решенде сделал то же самое в 1533 году, а Антонио Галван в 1550-м. Дамиан де Гойс в 1536-м, а позже, в 1555-м Жуан де Варрос и Гашпар Фрутуосу настаивали на генуэзском происхождении адмирала. И все они называли его Колом.
— Столько народу говорит одно и то же…
— Фактически. Но Руй де Пина заслуживает особого внимания, ведь он был современником Колумба, и, судя по всему, знал его лично. Остальные португальские хронисты ссылались на него или знаменитых итальянцев. Каждый из них называл Колумба генуэзцем вслед за Пиной, Тревизано, Монтальбоддо или Джустиниани.
— Пина считается надежным источником?
— Абсолютно.
— Ага, — удовлетворенно кивнул Молиарти. — Очень хорошо.
— Но должен вам сказать, у профессора Тошкану относительно этого источника возникли какие-то сомнения, — сказал Томаш, в нерешительности покусывая губу. — Я не совсем понял, о чем речь. Профессор брал в Торре-ду-Томбу копию «Хроники короля дона Жуана II» и сделал на полях довольно странные пометки. Видите? «Ловко, ничего не скажешь». И вот тут дальше: «Хитер парень».
Лицо и поза Молиарти выражали крайнюю степень напряжения.
— Какого дьявола это означает?
— Не знаю, Нельсон. Постараюсь выяснить.
Американец опустил голову, признавая поражение.
— Что там еще с иберийскими авторами?
— С португальцами все, переходим к испанцам. В 1518 году отец Андрес Бернальдес опубликовал «Историю католических королей». Этот замечательный человек утверждает, что Колумб родился сразу в двух городах, Милане и Генуе.
— Как это в двух городах? Родиться можно либо здесь, либо там.
— Не всегда, если верить Бернальдесу. В гранадском издании 1556 года местом рождения Колумба назван Милан, а в мадридском 1570-го сказано, что он из Генуи.
— Вы же сказали, что книга опубликована в восемнадцатом?
— Так-то оно так. Но от первого издания не сохранилось ни одного экземпляра. Самые старые из дошедших до наших дней — гранадское и мадридское, в обоих эта история с двумя городами.
Американец поднял глаза к потолку, демонстрируя нетерпение.
— Наш следующий клиент тоже испанец. — Томаш достал новую стопку ксерокопий. — Его звали Гонсало Фернандес де Овьедо, и в 1535 году он начал издавать труд под названием «Природа и история Индий». Овьедо подробно описывает спор итальянцев о происхождении Колумба. Одни говорят, что адмирал родом из Савоны, другие — из Нерви, третьи — из Чугурео. Овьедо не знал Колумба, он ссылается на других авторов и постоянно добавляет: «как мне доводилось слышать». — Норонья убрал бумаги в портфель. — В общем, это очередной источник второго ряда.
Американец недовольно поморщился.
— What else?
— Остальные документы относятся к более поздним эпохам, из XVI века осталось три свидетельства, но они самые важные.
Томаш сделал многозначительную паузу, чтобы подразнить Молиарти.
— Кого вы имеете в виду?
— Испанского хрониста фрая Бартоломе де Лас Касаса, Эрнандо Колона и самого Колумба.
— Великолепно.
— Начнем с Бартоломе де Лас Касаса, они вместе с Эрнандо Колоном были единственными современниками адмирала, оставившими его подробную биографию. Лас Касас писал свою «Историю Индий» с 1525-го по 1559 год. Он познакомился с Колумбом еще в те времена, когда тот впервые прибыл в Испанию, и имел доступ к его архиву в севильском монастыре Богоматери-в-пещерах. Лас Касас считал адмирала генуэзцем.
— Вот! — воскликнул Молиарти, в порыве энтузиазма едва не смахнув со стола тарелку с остатками форели. — Наконец-то надежный источник.
— Не стану спорить, — ответил Томаш, придерживая свою тарелку. — Но и здесь все, к сожалению, не так просто. Во-первых, «Историю Индий» издали только в 1876 году, через триста лет после написания. Представляете, через сколько рук она прошла? Тошкану пытался отделить оригинал от позднейших наслоений. Во-вторых, под вопросом подлинность самого сочинения Лас Касаса. Историк Менендес Пидаль уличил хрониста во множестве неточностей и передергиваний, начиная с того, что он едва ли мог познакомиться с Колумбом вскоре после его приезда в Испанию.
— Не мог?
— Давайте посчитаем, — предложил Томаш, доставая карандаш. — Христофор Колумб прибыл в Испанию из Португалии в 1484 году. — Он написал на полях ксерокопии «1484». — Лас Касас родился в 1474-м. — Норонья подписал под первым числом «1474» и поставил между датами минус. — Получается, что хронист повстречал адмирала, когда того еще никто не знал, а ему самому было всего десять лет. — Томаш приписал на полях: 1484–1474=10 Вы можете представить, чтобы мальчишке десяти лет от роду запала в память встреча с ничем не примечательным и никому не известным человеком? Такое бывает?
Молиарти громко вздохнул.
— Вряд ли…
— Перейдем к следующему свидетелю, важнейшему, если не считать самого Колумба, — Томаш вытащил из портфеля испанскую книжку, приобретенную в Севилье. — Эрнандо Колон, младший сын мореплавателя от испанки Беатрис де Араны, автор «Истории адмирала». Этот автор, вне всякого сомнения, кладезь бесценной информации. Эрнандо Колон — родной сын адмирала, так что никому не придет в голову утверждать, будто они не были знакомы. Один этот факт заставляет отнестись к его словам с должным уважением. Между прочим, наш Эрнандито всегда утверждал, что засел за свой труд лишь для того, чтобы опровергнуть ложь о своем отце, звучавшую отовсюду. В числе прочих лжецов он называл Агостино Джустиниани, поведавшего миру о том, что адмирал родился в Генуе.
— Разве сам Эрнандо так не думал?
— В том-то и дело. Сын Колумба нигде прямо не говорит, что его отец был генуэзцем. Наоборот. Эрнандо бывал в Италии трижды, в 1516-м, 1529-м и 1530-м, в надежде узнать хоть что-нибудь о своей семье. Искал родственников, расспрашивал людей по фамилии Колумб, копался в метриках. Безрезультатно. Трижды посетив Геную, он не обнаружил никаких следов своих предков. В конце концов Эрнандо решил, что его отец был родом из города Пьяченца: на тамошнем кладбище нашлись надгробия Колумбов. Эрнандо утверждал, что адмирал происходил из благородной, но разорившейся и дошедшей до крайней степени бедности семьи и вовсе не был неотесанным подмастерьем, а получил неплохое образование, которого хватило, чтобы рисовать точные карты и командовать армадами судов. В «Истории адмирала» описан и приезд Колумба в Португалию. Эрнандо обнаружил в португальской хронике упоминание о «человеке, называющем себя Колумбом», и понял, что речь идет о его отце. Христофор поступил на судно своего родственника Молодого Колумба; во время морского сражения между Лиссабоном и мысом Сан-Висенте, неподалеку от Алгарве, он упал за борт и добрался до берега вплавь, держась за весло. Потом он отправился в Лиссабон, где, по словам Эрнандо, «было немало его соотечественников-генуэзцев».
— Вот оно! — торжествовал Молиарти. — Неопровержимое доказательство, слова родного сына!
— Я бы с вами согласился, — не замедлил Томаш охладить пыл американца, — если бы мы точно знали, что книга действительно написана Эрнандо Колоном.
— А кем же еще?
Историк призвал на помощь заметки Тошкану.
— Здесь у профессора снова возникли сомнения относительно подлинности текста. Слишком много странностей, — объяснил Томаш. — Начнем с рукописи. Эрнандо написал книгу, но не стал публиковать. Он умер, не оставив потомства, и рукопись досталась племяннику, Луису де Колону, старшему сыну его португальского брата Дьогу Колома. В 1569 году Луис де Колон познакомился с неким генуэзцем по имени Балиано Форнари, который предложил ему издать книгу на трех языках: испанском, португальском и латыни. Луис согласился передать рукопись генуэзцу. Тот вернулся в Италию, перевел книгу и в 1576 году подготовил первое издание, указав в предисловии, что делает это «во славу города Генуи, подарившего миру величайшего из мореплавателей». Публикации на других языках так и не состоялись, а рукопись вообще исчезла. — Томаш постучал кончиками пальцев по обложке «Истории адмирала». — Так что мы имеем дело не с оригиналом, а с обратным переводом на испанский с итальянского перевода, причем сделанного большим патриотом Генуи, стремившимся во что бы то ни стало возвеличить родной город. — Он отложил книгу. — В общем, сами понимаете, перед нами еще один источник второго ряда.
Молиарти закатил глаза.
— Еще какие-нибудь странности?
— Взять хотя бы надгробия в Пьяченце. Тошкану был на том кладбище и обнаружил, что там покоятся вовсе не Колумбы, а Колонна. — Томаш усмехнулся. — Профессор предположил, что это была невинная уловка переводчика-генуэзца — превратить Колонна в Колумбов. Впрочем, он сам себя выдал: оставил в латинской версии «Колонус» вместо «Колумбус».
— Постойте, Эрнандо ведь писал, что его отец пошел в моряки из-за своего родича, Колумба-младшего, кажется.
Томаш, не сдержавшись, хихикнул.
— Молодого, Нельсон, Молодого. — Он перелистал «Историю адмирала». — В книге действительно так написано. И вот вам очередная странность. Молодой Колумб был корсаром и не только не состоял в родстве с Христофором, но никогда с ним не встречался. К тому же Колумб в его случае — это не имя, а что-то вроде титула. Его настоящее имя было Жорж Биссипа, а зваться Молодым Колумбом среди пиратов было очень лестно. Был еще Старый Колумб, прославленный французский корсар Гийом де Казенев Кулон. «Coup long» по-французски «смертельный удар», но итальянцы переделали Кулона в Колумба.
— Какая чушь!
— Как мог пират приходиться родней отцу Эрнандо, если Колумб для него не имя, а прозвище? Этому есть только одно правдоподобное объяснение: Молодой Колумб появился в книге по вине все того же переводчика, который motu propio наградил адмирала чужим родичем.
Молиарти с рассеянным видом откинулся на спинку стула. Он как раз прикончил форель и отодвинул тарелку.
— Ладно, Колонна или Колумб, Пьяченца или Генуя — бог с ними; но в том, что его отец был итальянцем, Эрнандо точно не сомневался.
— Зато сомневался профессор Тошкану, — возразил Томаш, не поднимая глаз от своих записей. — Он считал, что из Пьяченцы происходили предки не самого Колумба, а Филипы Перештрелу, португальской жены адмирала и матери его сына Дьогу Колома. По мнению Тошкану, Эрнандо хотел сказать именно это, но наш ловкий итальянец снова его подправил. На полях итальянского издания есть пометка рукой профессора: «traduttori traditori», то есть «переводчики — обманщики».
— Не больно правдоподобная версия.
— Возможно. Но обилие тайн, ошибок и разночтений вокруг имени человека, открывшего Америку, само по себе заставляет задуматься. Тошкану нашел в тексте книги множество свидетельств в пользу того, что ее автор не Эрнандо Колон. Эрнандо, к примеру, утверждает, что, спасшись после кораблекрушения, его отец отправился в Лиссабон, «где обитало немало его соотечественников-генуэзцев».
— Все правильно.
— Разве, Нельсон? Подумайте хорошенько. Разве не Эрнандо всего несколько страниц назад писал, что побывал в Генуе и не встретил там своей родни? Разве не Эрнандо самолично выдвинул версию, что его отец был родом из Пьяченцы? И после всего этого он продолжает настаивать, что адмирал генуэзец? Противоречит сам себе? Или просто запутался? — Томаш отобрал нужную ксерокопию. — У профессора Тошкану были более чем веские причины называть переводчиков обманщиками. По правде говоря, в «Истории адмирала» столько противоречий, что отец Алехандро де ла Торре-и-Невис, настоятель Саламанкского собора и по совместительству исследователь наследия Эрнандо Колона, называл ее «подлогом, созданным чужой рукой».
— Значит, книга — фальшивка?
— Нет. В том, что «История адмирала» написана Эрнандо Колоном, сомнений быть не может. Но такому количеству несоответствий в ее тексте могут быть только два объяснения. Или Эрнандо был слабоумным, а это совершенно точно не так, либо перед публикацией в Италии над его рукописью кто-то серьезно потрудился.
— Кто?
— Ну, здесь-то никакой тайны нет. Готов поспорить, что это сделал наш старый приятель Балиано Форнари, подбивший Эрнандо на публикацию в Италии, чтобы во всеуслышание объявить Геную «родиной человека, который открыл Америку».
Молиарти нетерпеливо махнул рукой.
— Дальше.
— Ладно, идем дальше, — покорно проговорил Томаш. — У нас остался еще один свидетель, самый главный.
— Колумб.
— Да. Христофор Колумб, адмирал собственной персоной.
Официант убрал пустые тарелки и принес сыр с мармеладом. Томаш и Нельсон ненадолго прервали беседу, чтобы насладиться отменными спелыми сырами, источавшими дивный аромат, и пластинками великолепного твердого мармелада.
— И что же говорит сам Колумб? — поинтересовался Молиарти, прожевав.
Португалец со вздохом полез в свой портфель за новой порцией копий.
— Колумб всю жизнь скрывал правду о себе — вот и все, что мы знаем. Мы привыкли называть его Колумбом, хотя это имя упоминается лишь в одном источнике. Всего в одном. В большинстве документов он Колом или Колон. Это камень преткновения для защитников генуэзской теории. Если ткач из Генуи и моряк, первым достигший Нового Света, одно лицо, почему моряк никогда не подписывался именем ткача? Чтобы это объяснить, «генуэзцы» придумывают совершенно фантастические версии, хотя сами обвиняют «анти-генуэзцев» в спекуляциях. Наверняка известно лишь то, что человек, вошедший в историю под именем Христофора Колумба, не называл себя этим именем и что его происхождение окутано тайной.
— Значит, он скрывал, где родился?
— Можно сказать и так. Колумб всегда соблюдал осторожность во всем, что касалось тайны его рождения, и проговорился всего один раз. — Томаш расправил смятый лист. — В случае с Майорасго.
— С майо… С чем?
— С Майорасго, с правом старшинства. Двадцать второго февраля 1498 года, перед третьим путешествием в Америку, Колумб написал петицию в защиту прав своего первенца Дьогу. — Он отыскал нужную строчку. — Он обратился к Католическим королям и наследнику престола принцу Хуану, чтобы напомнить о своих заслугах, и просил защитить его права «как адмирала Моря-Океана, простирающегося до линии горизонта, на сто лиг вокруг Азорских островов и на столько же вокруг островов Зеленого Мыса». Колумб собирался передать эти права своему старшему сыну Дьогу, «продолжателю рода Колонов». Если бы Дьогу умер, не оставив наследника, права перешли бы к Эрнандо, после — к старшему брату Колумба Бартоломео, потом к другому брату, и так со всеми родственниками мужского пола. — Томаш перевел дух и внимательно посмотрел на Молиарти. — Обратите внимание. Он написал «продолжателю рода Колонов», а не Колумбов.
— Я заметил, — ответил Нельсон мрачно. — Что еще с происхождением?
— Кое-что есть, — ответил историк, жестом призывая собеседника набраться терпения. — В «Майорасго» Колумб объявляет клерков банка Сан-Джорджо своими душеприказчиками и дает родственникам подробные инструкции о том, как подписывать бумаги. Адмирал настаивал, чтобы они использовали его фамилию вместе с титулом и множеством всяких инициалов и званий. — Томаш положил перед собой следующий лист. — А вот это должно вас заинтересовать, Нельсон. По крайней мере, нашего профессора заинтересовало. В этой петиции Колумб делает беспрецедентную вещь. Он напоминает их величествам о том, что верой и правдой служил Кастилии, «хоть и был рожден в Генуе».
— Ага! — вскричал Молиарти, подскочив на месте. — Наконец-то!
— Подождите! Не торопитесь! — взмолился Томаш, про себя посмеиваясь над пылом американца. — В другой части «Майорасго» адмирал велит наследникам не терять связей с родичами в Генуе, «ибо там я родился и оттуда вышел в мире».
— Видите? Чего же вам еще? Какие могут быть сомнения?
— Все просто замечательно, — с ядовитой улыбкой подтвердил Томаш. — Если только он не солгал.
От энтузиазма Молиарти не осталось и следа.
— Как это? — пробормотал он и тут же взорвался: — Fuck you! Вы битый час заговаривали мне зубы, а теперь выясняется, что все это чушь собачья? Да это просто издевательство! Я вам не шут и не желаю, чтобы со мной так обращались!
— Успокойтесь, Нельсон, прошу вас! — Томаш осторожно коснулся рукава американца. Такого взрыва эмоций он не ожидал. — Вы меня неправильно поняли. Я вовсе не хочу сказать, что Колумб лгал. Я всего лишь изучал источники, с которыми работал Тошкану, и старался восстановить ход его мыслей. Разве не для этого вы меня нанимали, в конце концов? Так вот, я выяснил, что официальная биография Христофора Колумба не вызывала у профессора доверия. Я пошел по этому следу, и оказалось, что в этой истории действительно полно несуразностей. Если критически подойти к общеизвестным фактам, получается полная бессмыслица. Выходит, что он появился на свет сразу в двух местах, что у него две даты рождения и два имени. Наша задача состоит в том, чтобы отделить правдивые источники от фальшивых. Для этого необходимо найти и тщательно проанализировать все противоречия. И уж потом делать выводы. Если вы верите, что Колумб родился в Генуе, отлично: постановите раз и навсегда, что те, кто это отрицает, лгут. И наоборот. Но лично я не знаю, где родился адмирал. Хотелось бы знать, конечно! Тогда я смог бы наконец нормально выспаться. — Он помолчал, подбирая слова. — Вы наняли меня, чтобы я выяснил, над чем работал профессор Тошкану, что я и делаю. Это все.
— Вы правы, — сказал Молиарти ровным голосом. — Извините, я не сдержался. Продолжайте, пожалуйста.
— Хорошо, — принял извинения Томаш. — Я говорил о том, что в «Майорасго» Колумб дважды называет Геную своим родным городом. На самом деле не два, а четыре. В одном месте он говорит: «Процветание и мощь нашей Генуи зависят не только от моря». А еще через несколько страниц призывает потомков «не уронить чести родного города и приложить все силы к тому, чтобы приумножить славу нашей республики».
— Получается, что сам Колумб четырежды называет Геную родным городом.
— Правильно, — согласился Томаш. — А значит, все упирается в вопрос подлинности документа. Копия «Майорасго» с высочайшей резолюцией, датированная 1501 годом, была обнаружена в 1925 году и хранится в архиве Симанскаса. У меня есть ксерокопия заверенной нотариусом копии из Главного архива Вест-Индии в Севилье. — Он разложил на столе бумаги, добытые в Испании. — Считается, что оригинал исчез в XVI веке, но доподлинно ничего не известно. Правда, в архиве гарантируют, что у них хранится первая копия. Думаю, это она фигурировала в «Деле о наследстве», знаменитом судебном процессе, открытом в 1578 году, чтобы определить прямого наследника адмирала после смерти дона Диего, внука Дьогу Колома и правнука Христофора. В «Майорасго» черным по белому сказано, что наследные права имеют потомки мужского пола, носящие имя Колон, но беда в том, что часть имущества и привилегий принадлежали мореплавателю именно как Христофору Колумбу. Под этим именем он стал владельцем доли всех найденных в Вест-Индии сокровищ, о чем Католические короли издали указ еще в 1492 году. Таким образом, любой итальянец по фамилии Колумб теоретически мог претендовать на родство с адмиралом, а стало быть, и на его наследство. Фамилия в тех краях весьма распространенная, однако родственниками Христофора в Италии официально считались трое: братья Бартоломео и Джакобо и отец Доменико. На наследство претендовали трое кандидатов. Потом остался всего один. Бальдассаре Колумб из Куккаро-Монтферрато, крошечного селения в Пьемонте. Этот Бальдассаре решил всерьез бороться за свои права, нанял адвоката-испанца, некоего Верастеги, и представил в суд копию утраченной петиции, заверенную принцем Хуаном двадцать второго февраля 1498 года.
— Кто такой принц Хуан?
— Старший сын Католических королей.
— Выходит, вы держали в руках копию петиции, заверенную наследником престола, и все равно продолжаете сомневаться?
— Нельсон, — тихо произнес Томаш. — Принц Хуан умер четвертого октября 1497 года.
— И что же?
— Ну, посчитайте сами. Если принц скончался в 1497 году, как он мог завизировать копию петиции в 1498-м?
Молиарти несколько мгновений молча смотрел в одну точку, пытаясь понять, в чем подвох.
— А… да… — буркнул он наконец.
— И здесь, мой дорогой Нельсон, возникает весьма серьезная проблема технического характера. В документе есть одна крошечная неточность. И эта неточность окончательно подрывает веру в его подлинность.
— Очередная неточность?
— Именно. Посмотрите, что пишет Колумб. — Томаш с выражением прочел: — «Смиренно прошу Их Величества, государя и государыню, и Его Высочество принца дона Хуана…» — Томаш поднял голову. — Колумб обращается к принцу Хуану, который оставил сей мир, не дожив до девятнадцати лет, и уже год как был в могиле. В те времена после смерти особы королевской крови вся страна погружалась в глубокий траур на сорок дней, присутственные места закрывались, а на городских стенах вывешивали окаймленные черным знамена. Вы можете поверить, что человек, приближенный ко двору, мог пропустить такое событие, как кончина наследника? — Томаш улыбнулся и покачал головой. — Идем дальше. «Вышеупомянутый дон Диего…» Диего это Дьогу по-испански, — пояснил Томаш, — «или любой другой наследник получит все привилегии, положенные мне как адмиралу Моря-Океана и пожалованные Вашим Величеством воды на десять лиг от Азорских островов и на столько же лиг от островов Зеленого Мыса по меридиану». — Томаш прервал чтение. — Этот коротенький отрывок просто-напросто абсурден. Прежде всего, возможно ли, чтобы великий Христофор Колумб полагал, будто Азоры и острова Зеленого Мыса лежат на одном меридиане? Кто-нибудь способен всерьез поверить, что человек, который открыл Америку и не раз высаживался на обоих архипелагах, действительно сморозил такую чушь? Кроме того, Колумб ссылается на папскую буллу от 1493 года, выпушенную в поддержку Толедского договора. Однако, когда адмирал подавал петицию, Испания с Португалией уже успели заново поделить мир в Тордесильясе. Так для чего цитировать ватиканское послание, фактически утратившее силу? Если ты, конечно, не спятил. Ну и наконец, Колумб пишет: «пожалованных Вашим Величеством». Королева Изабелла умерла в 1504 году, спустя шесть лет. Отчего же адмирал обращается к монаршей чете в единственном числе? Тогда в официальных документах было принято обращение «Ваши Величества». Только во множественном числе. Или автор петиции решил оскорбить одного из правителей? Или кто-то решил подделать петиции, но не учел того факта, что в 1498 году Испанией правили двое?
— I see, — вымолвил уже без всяких эмоций Молиарти. — Это все?
— Нет, не все. Как я уже говорил, в «Майорасго» Колумб четыре раза упоминает Геную. — Томаш растопырил пальцы. — Четыре. — Он убрал два пальца. — И дважды называет ее своей родиной. — Историк оперся локтями о стол. — Смотрите. Христофор Колумб всю жизнь скрывал свое происхождение. Для него это было чем-то вроде навязчивой идеи. Чезаре Ломброзо, знаменитый криминалист XIX века, заинтересовался случаем адмирала и однозначно объявил его параноиком. Родной сын Колумба Эрнандо заметил, что после открытия Америки в 1492 году его скрытность окончательно приняла вид помешательства. В «Истории адмирала» он так и пишет, — Томаш открыл книгу и прочел: — «Чем сильнее гремела слава об отце и чем быстрее летела она по городам и весям, тем тверже делался он в своей решимости сохранить в тайне правду о предках и отечестве». Только подумайте: человек тратит все силы на то, чтобы скрыть свое происхождение, ревностно охраняет свой секрет, прибегает к немыслимым уловкам, и вдруг во всеуслышание заявляет, что родился в Генуе, да еще дважды. Как это понимать?
Молиарти вздохнул.
— Все ясно, Том. Наше свидетельство фальшивка, да?
— К такому выводу, Нельсон, пришел испанский суд. Наследство в результате перешло к Нуно Португальцу, второму внуку Дьогу Колома.
— А как же королевская резолюция из архива Симанкаса? Она тоже поддельная?
— Да.
— Ничего не понимаю. Как можно подделать королевскую печать?
— В архиве Симанкаса хранится специальная книга, в которой регистрировались все королевские резолюции, в том числе и за сентябрь 1501 года. Но интересующая нас запись — явный анахронизм, по ней выходит, что принц Хуан все еще жив. — Томаш поднял указательный палец. — Обратите внимание. Королевские чиновники ни за что не зарегистрировали бы документ, в котором умерший наследник престола назван живым, это немыслимо. — Он перевел дух. — А теперь, Нельсон, слушайте внимательно. Настоящая петиция исчезла. Некоторые ученые, например, испанский историк Сальвадор Мадарьяга, считают, что документ выкрали и на его основе сделали фальшивку. — Норонья заглянул в свои записи. — Мадарьяга пишет: «Не все доказательства равноценны, но некоторые из них неопровержимы». Например, странная подпись, инициалы, выстроенные пирамидкой. Другой историк, Луис Ульоа, полагает, что петицию подделал адвокат Верастеги при помощи некоей особы по имени Луиса де Карвахаль, муж которой Луис Бусон был известным мастером фальшивок.
— А что думал профессор Тошкану?
— Профессор Тошкану был склонен согласиться с Мадарьягой и Ульоа. Он не видел другого объяснения противоречиям, которые встречаются в тексте. Где большое богатство, там и мошенники. Можно предположить, что какой-то ловкий проходимец, например, Луис Бусон, искусно подделал документ вплоть до последней буквы и королевской печати. Однако этот проходимец не учел, что в 1501 году королева была жива, не разбирался в географии и понятия не имел о том, что Толедский трактат устарел. — Томаш резко вскинул руку, словно едва не забыл еще один немаловажный нюанс. — Колумб умер в 1506 году. Было бы логично, если бы петиция всплыла сразу после его смерти, не правда ли? Тем не менее о «Майорасго» заговорили только в 1578-м, спустя более семидесяти лет, когда никого из окружения адмирала уже не было в живых. Оказалось, что документ полон анахронизмов и ошибок, которых настоящий Колумб ни за что не допустил бы. Так можно ли доверять такому источнику? — Он пожал плечами. — Разумеется, нет.
Американец поник.
— Ладно, бог с ним, с «Майорасго». Есть еще какие-нибудь документы?
— Нет, прямо из XVI века до нас больше ничего не дошло.
— Если я правильно понял, доверия заслуживает только Пина, да и то с оговорками.
— Пожалуй, хотя, если судить по заметкам Тошкану, там тоже не все гладко.
Официант принес кофе.
— Получается, письменных свидетельств у нас больше нет, — отметил Молиарти, размешивая в чашке сахар.
— Некоторые документы обнаружили позже, в основном в XIX веке.
— Есть что-нибудь интересное?
— Постараюсь рассказать вкратце. — Томаш потянулся за новыми бумагами. — В 1733 году священник из Модены Лудовико Антонио Муратори опубликовал книгу под названием «Rerum Italicarum scriptores»,[71] в которую вошли два прежде неизданных текста. Один из них, «De Navigatione Columbi…»,[72] был написан председателем банка Сан-Джорджо Антонио Галло приблизительно в 1499 году; сочинение Галло явно повлияло на автора второго текста Бартоломео Сенарегу, хотя тот Колумба не жаловал и именовал не иначе как «scarzadore». Для нас интереснее произведение Галло. Председатель банка утверждает, что Христофор был старшим из трех братьев, Бартоломео средним, а Джакобо младшим. Когда братья подросли, — «et pubere deinde facti», как пишет Галло, — Бартоломео отправился в Лиссабон, а Христофор последовал его примеру. Немного позже, в 1799 году, вышли «Annali della Republica di Genova»[73] генуэзца Филиппо Касони, в которых приведено генеалогическое древо ткача Христофора Колумба. Касони рассек путаницу с Колонами, Колумбами и Коломами, словно гордиев узел. Он заявил, что адмирал ошибся, склоняя собственную фамилию. На самом деле он хотел написать «из семейства Коломов». Появление «Анналов» произвело эффект разорвавшейся бомбы и вызвало целую лавину необнаруженных и неизданных прежде документов. Новые источники находились по всей Лигурии, чаще всего в Савоне, Коголето и Нерви. Всюду появлялись свидетельства о семье Колумбов. В 1823 году часть бумаг объединили в «Кодекс Колумба и Америки», в 1892-м было издано «Собрание документов и исследований», в которое вошли остальные. В 1904 году в научном журнале «Джорнале сторико и леттерарио делла Лигурия» сообщили о последнем важном открытии: полковник Уго Асеретто нашел нотариальный акт, датированный двадцать вторым августа 1979 года, в котором сообщалось, что Христофор Колумб «die crestino demane pro Ulisbonna», то есть отбывает в Лиссабон на следующий день. Из Документа Асеретто, как его стали называть, следует, что Колумб был «etatis annorum viginiti vel cerca». Это означает, что в том году ему сравнялось двадцать семь лет, а стало быть, он родился в 1451-м.
— Только не говорите, что эти бумаги тоже фальшивка, — взмолился Нельсон.
— Нельсон, — улыбнулся Томаш. — Вы и вправду думаете, что я способен на такую жестокость? Ведь не думаете?
— Думаю.
— Вы ошибаетесь. Я никогда бы такого не сделал.
Черты американца просветлели.
— Good.
— Но… чтобы убедиться в подлинности источника, на него необходимо взглянуть критически и выявить все несоответствия.
— Скажите же, что в этих свидетельствах никаких несоответствий нет…
— Увы, мой друг. Начнем с того, что они всплыли подозрительно поздно. Профессор Тошкану написал на полях по-французски: «lе temps qui passe c'est l'evidence qu'efface». Co временем доказательств становится все меньше. Но справедливо и обратное утверждение. Со временем доказательств становится все больше. Вот что не так с заметками Антонио Галло. Если оно было написано в 1499 году, почему его напечатали только в XVIII веке? Тошкану и здесь заподозрил фальшивку, тем более что Галло опирается на свидетельства Джустиниани, которого Эрнандо Колон, сын первооткрывателя Америки, открыто называл лжецом.
— Это очень спорно.
— Пожалуй. И тем не менее история Галло почти дословно совпадает с историей Джустиниани, а ему, по мнению Эрнандо, верить нельзя. Из этого следуют две гипотезы. Согласно первой, Эрнандо лжет, а Джустиниани говорит правду. Галло, соответственно, тоже. Согласно другой, Эрнандо Колон знал историю своего отца лучше, чем какие-то итальянцы, и рассказал ее правдиво, а Джустиниани и Галло ошиблись или солгали. Обе гипотезы спорны, но одна из них, очевидно, правдива. В любом случае полагаться на слова итальянцев не стоит.
— А нотариальные акты? Это же официальные документы…
— Да, но что из них следует? В Генуе жил ткач по имени Христофор Колумб, у него были братья Бартоломео и Джакобо. Их отца звали Доменико Колумб, и он был чесальщиком шерсти. С этим никто не спорит. Но из этого не следует, что генуэзский ткач и человек, открывший Америку, одно лицо. Между ними есть только один прочный мостик. Документ Асеретто. Были еще источники из Савоны, в 1601 году Салинерий поместил их в свои «Adnotationes… ad Cornelium Tacitum»,[74] но все они слишком ненадежны. А Документ Асеретто надежно связывает генуэзского Колумба с иберийским; по крайней мере, из него следует, что сын ткача в один прекрасный день отправился в Португалию.
— Попробую угадать, — саркастически заметил Молиарти. — Тошкану сомневался в подлинности этого документа.
— Вы совершенно правы, — откликнулся Томаш, игнорируя насмешку. — Давайте рассуждать логически. Свидетельства генуэзского происхождения Колумба стали в огромном количестве появляться в XIX веке. Раньше ничего подобного не было, если не считать нескольких туманных и ненадежных источников. В Генуе адмирала никто не знал. Посланцы республики Франческо Маркези и Джованни Гримальди прибыли в Барселону в 1492 году, как раз накануне возвращения Колумба из первой экспедиции, но в их донесении об открытии Нового Света говорится мельком, как о незначительном событии, и ни слова о том, что триумфатор — их земляк. Никто в Генуе не придал произошедшему особого значения. Правда, странно? Но это не все. Эрнандо Колон трижды был в Генуе и не нашел там родственников отца. Ни одного. С другой стороны, согласно метрикам, ткач Христофор Колумб в 1492 году был жив. Однако в целом городе у него не нашлось ни одного родича, друга или знакомого. Согласно тем же метрикам, Доменико Колумб умер в 1499 году в полной нищете, оставив после себя кучу долгов. Едва ли человек, открывший Европе доступ к несметным богатствам нового континента, бросил своего старого отца прозябать в бедности. Да и кредиторы Доменико не упустили бы возможности стребовать долги с его прославленного сына. Генуэзские историки и хронисты проявляют удивительное равнодушие и к самому факту открытия Америки и к тому, кто его совершил. В сочинении Уберто Фольетты под названием «Di Uberto Foglietta, della Republica de Genova» перечислены все горожане, снискавшие известность на том или ином поприще. Но ни в первом варианте этой книги, выпущенном в Риме в 1559 году, ни в миланском издании 1575 года нет ни слова ни о Христофоре Колумбе, ни о Кристоваме Коломе, ни о Кристобале Колумбе. А ведь в них нашлось место для Бьяджо Д'Асеретто, Лазаро Дориа, Симоне Виньозо, Лудовико Рипароло и других мореплавателей. Историки Федерико Федеричи и Джанбатиста Рикери обходят открытие Америки молчанием. В 1724 году Рикери напечатал труд под названием «Foliatum Notariorum Genuensium»,[75] его оригинал хранится в Публичной библиотеке Генуи. В нем названы все Колумбы, жившие в городе с 1299-го по 1502 год, но среди них нет ни Христофора, ни Доменико. А ведь из метрик следует, что оба существовали. Вероятно, историки не усмотрели в этих людях ничего примечательного. В списках учеников тамошних школ Христофора Колумба тоже не нашлось, так что непонятно, где он выучился латыни, математике и географии и познакомился с трудами мыслителей древности. Если не в Генуе, то где? И наконец, как я уже говорил, во время «Дела о наследстве» в Испанию стали стекаться многочисленные кандидаты в родственники адмирала, с основном из Лигурии. — Томаш лукаво взглянул на Молиарти. — Знаете, сколько было среди них генуэзцев?
Американец покачал головой.
— Нет.
Томаш изобразил кольцо из указательного и большого пальцев.
— Ноль, Нельсон. — Короткая фраза прозвучала в тишине, словно звонкий удар гонга. — Ни одного. Ни единого человека из большого города Генуи. — Норонья выдержал драматическую паузу. — Но вот настало XIX столетие, и на нас отовсюду посыпались доказательства. Научные интересы пересеклись с политическими. В то время началось движение за объединение Италии, которое возглавил Джузеппе Гарибальди. Объявить Колумба итальянцем было на руку государству. В Италии жилось трудно, страна тонула в войне и нищете, тысячи людей эмигрировали в Штаты, Бразилию, Аргентину. Чтобы поднять национальный дух, требовались герои. Так обнаруженные в городских архивах Христофор, Доменико, Бартоломео и Джакобо превратились в семью первооткрывателя Америки. Правда, еще предстояло объяснить, как неграмотный ткач стал искусным моряком и культурным человеком. Требовалось найти кратчайшую дорогу из Италии через Пиренеи. Тут весьма кстати подвернулся Документ Асеретто. Поистине, если бы этого свидетельства не существовало, его стоило подделать. Не зря же итальянское правительство сделало полковника Асеретто генералом и осыпало всевозможными милостями.
— Знаете, Том, возможно, все так и было, но звучит все равно неубедительно. Документ Асеретто тоже вызывает у вас подозрения?
— Вызывает.
Собеседники обменялись выразительными взглядами.
— Почему? — глухо спросил Молиарти.
— Все дело в дате рождения Колумба, с ней целых две проблемы. Первая прямо связана с хронологией Документа. В 1900 году на международном конгрессе американистов было установлено, что Колумб родился в 1451 году. Это приблизительная дата, взятая из очередного нотариального акта, в котором, помимо прочего, сказано, что… — Томаш сверился с добытой в Генуе копией, — «Cristoforo Colombo, figlio di Domenico, maggiori di diciannove anni».[76] — Историк принялся строчить в блокноте. — 1470 минус девятнадцать будет 1451. Участники конгресса установили дату рождения человека, который открыл Америку, основываясь на одном-единственном документе и предположении, что Христофор Колумб и Кристован Колом одно лицо. Вот что об этом пишет португальский ученый Армандо Кортесан. — Норонья достал из портфеля толстую книгу с надписью на обложке «Португальские картографы XV–XVI веков», нашел нужную страницу и прочел вслух абзац, подчеркнутый карандашом. — «Поистине удивительно, что столь важный документ, позволивший безошибочно определить год рождения Колумба, несколько веков хранился в генуэзском архиве, не востребованный никем, и был обнаружен вскоре после конгресса. Впечатляющее совпадение! В 1900 году Конгресс американистов объявляет, что Колумб родился в 1451 году, а спустя четыре года находится бумага, где черным по белому сказано, что в 1479-м ему было двадцать семь, а к этому свидетельству легко подгоняются другие факты, прежде не вызывавшие доверия, вроде отъезда в Португалию в 1478 году». Совпадение показалось португальскому историку весьма странным, однако, «зная о существовании целой индустрии мастерских подделок старинных документов, удивляться не приходится ничему». — Томаш развел руками. — В том, что касается хронологии, Нельсон, Документу Асеретто веры нет. — Он убрал книгу Кортесана в портфель. — Теперь что касается самой даты. Этот документ — железное, неопровержимое доказательство гипотезы, выдвинутой на конгрессе четырьмя годами ранее. Версия, согласно которой Колумб родился в 1451-м, нуждалась как раз в таком подтверждении. — Томаш бросил на Молиарти быстрый дерзкий взгляд. — Знаете, кто может его опровергнуть?
— Даже не представляю.
— Сам Христофор Колумб. Как известно, адмирал тщательно скрывал правду о себе, в том числе и о своем возрасте. Эрнандо лишь вскользь упоминает, что его отец впервые поступил на корабль в четырнадцать лет. Однако сам Колумб дважды проговорился. Вот запись в судовом журнале первой экспедиции от двадцать второго декабря 1492 года: «К тому времени я бороздил моря уже двадцать три года». Придется нам снова прибегнуть к арифметике. — Норонья достал карандаш и нашел в блокноте чистую страницу. — Стал моряком в четырнадцать, плюс двадцать три к тому времени, то есть к переезду в Кастилию, плюс еще восемь на службе у испанских королей получается сорок пять. — Он небрежно записал действие на листке: 23+8+14=45. — Значит, в год открытия Америки адмиралу было сорок пять. Если отнять сорок пять от тысячи четырехсот девяноста двух, получится тысяча четыреста сорок семь. — Томаш записал: 1492–45=1447. — Это и есть год рождения великого мореплавателя. — Норонья положил блокнот на стол. — Эрнандо цитирует письмо отца от 1501 года, в котором тот напоминает Католическим королям: «Я прослужил этому делу ровно сорок лет». «Этому делу» — значит, морскому. Сорок плюс четырнадцать будет пятьдесят четыре. — Он снова взялся за карандаш. — Стало быть, в тот год Колумбу исполнилось пятьдесят четыре. Тысяча пятьсот один минус пятьдесят четыре равно тысяча четыреста сорок семь. — Томаш педантично записал: 1501–54=1447. — Из этого следует, что Христофор Колумб родился на четыре года раньше указанной в Документе Асеретто даты. — Историк провел кончиком пальца по странице от одного примера к другому. — Как видите, Нельсон, самое точное и неопровержимое свидетельство на поверку не стоит выеденного яйца. Кроме того, в этом хваленом нотариальном акте нет подписей нотариуса и клиента на каждой странице и не упоминается отец Христофора, что очень странно для того времени.
Молиарти с тяжелым вздохом принялся изучать открывавшийся с эспланады вид на площадь Фигейра с коренастым памятником посередине и расстеленное до горизонта одеяло крыш с зеленой заплатой Монсанто. Проходивший мимо официант спугнул стайку воробьев, что подбирали хлебные крошки под соседним столиком. Птицы взмыли в небо и расселись на ветвях оливы, вплетя в монотонное завывание ветра свой беспокойный гомон.
— Скажите, Томаш, — произнес американец, нарушив воцарившееся за столом глухое молчание. — Вы тоже не думаете, что Колумб был из Генуи?
Историк взял зубочистку и принялся так и этак крутить ее между пальцами, словно крошечного акробата.
— Профессор Тошкану был убежден, что Колумб родился не в Генуе.
— Это я понял, — сказал Молиарти неожиданно резко и ткнул в собеседника пальцем. — Меня интересует ваше мнение.
Португалец усмехнулся.
— Мое мнение? — переспросил он. — Что ж, по моему мнению, у нас два пути. Мы можем признать правоту защитников генуэзской гипотезы, и тогда Колумб генуэзец. Или не признавать, и в этом случае он не генуэзец. — Норонья поднял еще один палец. — Впрочем, есть и третий путь, компромиссный и оттого самый простой, он позволяет примирить две противоречащие друг другу теории. Надо лишь признать, что обе они верны, хоть и не безупречны.
— Вот это мне нравится.
— Конечно, ведь я еще не назвал главного условия, при котором третья гипотеза становится верной, — с усмешкой заметил Томаш.
— Что за условие?
— Очень простое, Нельсон. — Томаш убрал один палец. — Согласно третьей гипотезе, Колумбов было двое. — Он помолчал, давая американцу время вникнуть в сказанное. — Двое. — Норонья загнул палец. — Христофор Колумб, генуэзец, неграмотный ткач, предположительно 1451 года рождения. — Он загнул второй палец. — И Кристован Колом или Кристобаль Колон, человек неизвестного происхождения, образованный, знавший латынь, отличный моряк, адмирал, первооткрыватель Американского континента, появившийся на свет в 1447 году.
С Молиарти, казалось, вот-вот случится удар.
— Не может быть!
— И все же, дорогой Нельсон, это самая правдоподобная версия. Конечно, и она не лишена изъянов, тем более что многие свидетели уверяют, будто адмирал и генуэзец одно лицо. Чтобы третья гипотеза стала состоятельной, нужно признать, что все они заблуждаются или лгут. Но в таком нагромождении информации не могло не затесаться немного лжи, не так ли? Столько противоречивых источников не могут быть одинаково правдивы.
— Вы уверены в том, что говорите?
— Теория двух Колумбов, по крайней мере, позволяет свести концы с концами. Главная слабость анти-генуэзской гипотезы — отсутствие достоверных сведений о происхождении адмирала. Несмотря на все противоречия и неясности, у сторонников генуэзской теории под ногами более твердая почва. Пока не доказано обратное, она имеет права на существование, какой бы абсурдной ни казалась.
— Лично я не сомневаюсь, что она правильная, — заявил Молиарти.
— Вы человек веры, — заметил Томаш с легкой улыбкой. — Впрочем, как раз на вере генуэзская теория и держится, логики в ней немного.
— Возможно, — отозвался американец. — Мне не дает покоя одна мысль. Не странно ли, что профессор Тошкану яростно отвергает генуэзскую гипотезу, не предлагая никаких новых фактов?
— Странно, пожалуй.
— Вы же сами сказали, что он перестал заниматься открытием Бразилии, поскольку напал на новый след.
— Очень может быть.
Молиарти впился в португальца взглядом, словно хотел во что бы то ни стало понять, будет ли тот откровенен, отвечая на следующий вопрос.
— Вы уверены, что проследили весь путь, проделанный Тошкану?
Томаш отвел глаза.
— Понимаете, Нельсон… — пробормотал он. — Если честно… Я до сих пор не разгадал его ребус.
Губы Молиарти растянулись в улыбке.
— Мне следовало догадаться. И в чем загвоздка?
— Не могу ответить на один вопрос.
Томаш достал из кармана сложенный вчетверо листок и аккуратно развернул.
QUAL О ECO DE FOUCAULT PENDENTE А 545?
Молиарти нацепил на нос очки и склонился над столом.
— Что за эхо у Фуко, подвешенного на 545? Ничего не понимаю! — Он жалобно взглянул на Томаша. — Что это значит?
Португалец достал из портфеля «Маятник Фуко» и протянул американцу.
— Я думаю, Тошкану имел в виду роман Умберто Эко.
Молиарти долго изучал обложку, потом вернулся к ребусу.
— Слушайте! — воскликнул он. — Это же проще простого. Ответ находится на странице пятьсот сорок пять.
Томаш хмыкнул.
— Вы думаете, я не догадался?
— Действительно. И что же?
Историк забрал книгу, открыл на пятьсот сорок пятой странице и вернул американцу.
— Это сцена на кладбище. Описаны похороны убитых немцами партизан во время Второй мировой войны. Я читаю и перечитываю эту чертову страницу вдоль и поперек, но хоть убейте, не могу найти ничего, что хоть отдаленно напоминало бы ответ. Решительно ничего.
— Дайте посмотреть, — попросил Молиарти, протягивая руку. Поправив очки, он углубился в чтение. Прошло две минуты. Томаш рассеянно любовался городским пейзажем. — Да, ваша правда… ребус… — обескуражено пробормотал американец.
— Я уже голову сломал с этой проклятой страницей, и никакого результата.
— Угу, — Молиарти рассматривал обложку. Потом он пролистал первые страницы и наткнулся на изображение Древа Жизни с десятью еврейскими сефирот. Нельсон прочел первый эпиграф и, подумав полминуты, осторожно тронул Томаша за локоть. — Том, вы обратили внимание на эту цитату?
— Какую?
— Вот эту. Здесь. — Он прочел вслух: «Единственно ради вас, сыновья учености и познанья, создавался этот труд. Глядя в книгу, находите намеренья, которые заложены нами в ней; что затемнено семо, то проявлено овамо, да охватится вашей мудростью». Здесь написано, что это из «Оккультной философии» Генриха Неттесгеймского. — Это же подсказка, видите?
— Возможно, — португалец отобрал у Молиарти книгу и принялся изучать эпиграф. — Действительно, похоже на подсказку. Ну-ка, посмотрим. — Норонья стал медленно перелистывать роман, боясь пропустить что-нибудь важное. За эпиграфами следовала пустая страница с цифрой 1 и словом «Кетер».
— Кетер, — прочел Томаш.
— Простите?
— Это первая сефира. В единственном числе «сефира», во множественном «сефирот». Это структурные элементы иудейской Кабалы. — Томаш перевернул страницу. Начало главы предварял эпиграф и еще одна единица, на этот раз крошечная, в верхнем правом углу. Норонья вполголоса прочел первое предложение. — «И тут я увидел Маятник». — Через семь страниц начиналась новая глава с другим эпиграфом, на этот раз из Фрэнсиса Бэкона, и двойкой в углу. Томаш пролистал еще девять страниц и наткнулся на пустую страницу с цифрой 2 посередине и словом «Хокма», обозначающим вторую сефиру. Тогда он открыл книгу с конца, на оглавлении. Десять частей, по числу десяти сефирот, были поделены на главы, причем количество глав в каждой части разнилось. Больше всего их оказалось в пятой части, «Гебуре», и шестой, «Тиферет». Нумерация была сплошной, в пятую часть входили главы с тридцать четвертой по шестьдесят третью. В глубокой задумчивости Томаш перевел взгляд от книги к белому листку из блокнота, беспокойно вопрошавшему:
QUAL О ECO DE FOUCAULT PENDENTE А 545?
Норонья еще раз пробежал глазами список глав в пятой части. Озарение было внезапным и нестерпимо ярким, будто луч света, пронзивший непроглядный мрак.
— Господи! — воскликнул историк, вскакивая на ноги.
— Что с вами?
— Господи! Господи!
— Ради бога, Том! Что происходит?
Томаш сунул Молиарти книгу.
— Вы это видите? — и ткнул пальцем в цифру 5, номер части «Гебура».
— Это пятерка. Ну и что?
— В числе пятьсот сорок пять?
— Да, дружище, — Томаш сгорал от нетерпения. — Назовите же цифры.
— Ладно, четыре и пять.
— Вот видите! Четыре и пять. В пятой части есть сорок пятая глава?
Молиарти покосился на оглавление.
— Есть.
— Итак, в пятой части, которая называется «Гебура», есть глава номер сорок пять, правильно?
— Правильно.
— Число в загадке не 545, а 5:45, часть 5, глава 45, понимаете? Посмотрите, — попросил Томаш, — как начинается сорок пятая глава.
Американец прочел:
— Из этого вытекает невероятный вопрос…
— Видите? — обрадовался Норонья. — «Из этого вытекает невероятный вопрос». Интересно, какой? «Кто подвесил эхо Фуко на 545»? — Томаш приподнял правую бровь. — По-моему, этот вопрос подпадает под определение «невероятный».
— Господи! — воскликнул Молиарти. — Мы ее разгадали! — Он потянулся за книгой. — На какой странице пятая глава?
— На двести тридцать шестой.
Американец с довольным видом потирал руки.
— Знаете, что сказано в эпиграфе? — поинтересовался он. — То, что спрятано в одном месте, найдется в другом. — От волнения у Нельсона дергалось веко. — То, что спрятано на пятьсот сорок пятой странице, найдется на двести тридцать шестой.
Томаш дрожащими руками листал книгу. Охваченный радостным возбуждением, он позабыл о Молиарти и вообще обо всем на свете. Начало главы предваряли крошечные цифры 45 в левом верхнем углу, затем шел эпиграф из «Земли без времени» Петера Колозимо.
— «Из этого вытекает невероятный вопрос, — прочел Норонья. — Египтянам было известно электричество?»
— А это здесь при чем?
— Не знаю.
Томаш вчитывался в заумный мистический текст, стараясь не упустить ни слова. В диалоге персонажей фигурировали древние мифы и затерянные континенты, Атлантида и земля My, легендарный остров Авалон и храмы Чичен-Ица, кельты, нибелунги, погибшие цивилизации Инда и Кавказа. Норонья не скоро добрался до последнего абзаца, а когда добрался, не поверил своим глазам.
— Милостивый боже! — прошептал он, прижимая ладонь к губам.
— Что? Где?
Томаш едва не выронил книгу, протягивая ее Молиарти.
— Смотрите, что пишет Умберто Эко, — вот и все, что он смог выговорить.
Американец снова надел очки и прочел:
— «Только рукопись о Христофоре Колумбе. Произведя анализ колумбовой подписи, в ней находят, представьте себе, указание на пирамиды. Целью жизни Колумба было восстановить Храм Соломона в Иерусалиме, поскольку сам он был гроссмейстером тамплиеров в изгнании. А так как отлично известно, что по происхождению Колумб португальский еврей и следовательно, изощренный каббалист, он прибегал… м-м-м… к талисманическим заклинаниям… — так там сказано! — чтобы успокаивать бури и излечивать цингу». Fuck! — от души выругался Молиарти.
XIII
В дверь стучал посторонний. Мадалена Тошкану узнала бы переходящий в отрывистые нетерпеливые удары ритмичный стук старшего сына, сорокалетнего оболтуса, которому все не удавалось защитить диссертацию по психологии; и нервную дробь младшего, любителя искусства, подвизавшегося кинокритиком в одном еженедельнике; и деликатное постукивание сеньора Феррейры из магазина на углу, регулярно заполнявшего продуктами ее маленький старый холодильник; нет, этот стук был чужой, быстрый и решительный. И хотя он прозвучал всего один раз и больше не повторялся, словно человек за дверью решил набраться терпения и спокойно дождаться, когда ему откроют, в самом звуке, сухом и резком, явственно слышалась тревога.
— Кто там? — скрипучим голосом спросила пожилая сеньора, наклонившись к замочной скважине и одной рукой придерживая на груди халат. — Вы ко мне?
— Это я, — ответили из-за двери. — Профессор Томаш Норонья.
— Кто? — недоверчиво переспросила старушка. — Какой профессор?
— Я продолжаю исследования, которыми занимался ваш муж, сеньора. Помните, я уже приходил?
Мадалена приоткрыла дверь, не забыв накинуть цепочку. Лиссабон больше не был большой деревней, жители которой не имели привычки запираться друг от друга; времена изменились, преступность все росла, и в теленовостях постоянно рассказывали ужасные вещи. Скованная внезапным приступом страха, старушка вглядывалась в полумрак, стараясь рассмотреть непрошенного гостя. Впрочем, в его внешности не было ничего угрожающего; симпатичный молодой человек, немного сутулый, с темно-каштановыми волосами и ясными зелеными глазами.
— А, это вы, — обрадовалась сеньора. Она сняла цепочку и распахнула дверь. — Проходите, пожалуйста.
Томаш вошел в знакомую квартиру. На этот раз она показалась ему еще более старой, обшарпанной и мрачной; тусклые лампочки едва справлялись с подступающей из углов темнотой. Он достал из портфеля белый сверток, перевязанный шелковой ленточкой, и протянул хозяйке.
— Это вам.
Мадалена Тошкану нерешительно потянулась к подарку.
— Что это?
— Конфеты из кондитерской. Я их для вас купил.
— Этого еще не хватало! Зачем же было себя утруждать?
— Ну что вы. Для меня это удовольствие.
Старушка развязала ленточку и развернула сверток. Содержимое небольшой картонной коробки привело бы в восторг самого заядлого сладкоежку: каштаны в шоколаде, дюшес с шантильи, глазированный изюм.
— Какая прелесть! — воскликнула Мадалена, доставая из серванта конфетницу. — Вы непременно тоже должны попробовать.
— Это вам.
— Для меня одной этого слишком много. Врачи запрещают мне сладкое, у меня проблемы с уровнем сахара и холестерином. Уважьте меня, возьмите хотя бы одну.
Томаш выбрал дюшес, аппетитный и свежий, и в отличие от других конфет, не приторный. Мадалена взяла изюм в глазури.
— Я не большой знаток шоколада, но, похоже, не ошибся с выбором. Как вам кажется? — спросил Норонья, проглотив восхитительно вкусную конфету.
— О, да. Объеденье. Не хотите ли чаю?
— Нет, спасибо.
— Но у меня как раз вскипел чайник, — заверила старушка.
— Что ж, если уже вскипел…
Хозяйка принесла из кухни дымящийся чайник, две старые фарфоровые чашки и металлическую сахарницу. Чай оказался слишком крепким и терпким, по крайней мере, на вкус Нороньи, привыкшего к ароматным травяным сборам, но он не подал виду и мужественно отпил большой глоток.
— Знаете, а я на днях о вас думала, — сообщила Мадалена, потянувшись за очередной конфетой.
— Правда?
— Ну конечно. Я так и сказала своему старшему: «Манел, скоро главный труд твоего отца выйдет в свет. Ко мне приходил симпатичный молодой человек из университета и обещал обо всем позаботиться».
— Между прочим, у меня есть новости.
— Очень хорошо. У вас получилось?
— Все почти готово. Не хватает только бумаг из сейфа.
— Ах, да, сейф. На нем кодовый замок.
— А вы не знаете, это цифровой код?
— Да.
— Скажите, сеньора, вам никогда не приходилось слышать о шифрах, в которых цифры заменяют буквами?
— Мой муж всегда так делал.
— Когда a это единица, b — двойка, c — тройка и так далее.
— Именно так.
— Ваш муж пользовался португальским алфавитом?
— Как это?
— Без k, y и w.
— Поняла. Мой Мартиньо всегда использовал только наш алфавит без иностранных букв, как в нынешних журналах.
Томаш улыбнулся.
— Тогда у меня, по всей видимости, есть ключ к шифру.
— Правда? — удивилась Мадалена. — Как же вы его узнали?
— Помните, вы показывали мне ребус?
— Такой листок с буквами и цифрами?
— Он самый.
— Конечно, помню. Я его сохранила.
— А я его разгадал.
— Правда? Ну надо же!
— Давайте проверим.
Сеньора Тошкану проводила гостя в спальню. Здесь по-прежнему царил беспорядок: незастеленная кровать с мятыми простынями, разбросанная по полу одежда, гора книг и бумаг на столе; характерный кислый запах стал менее резким, но куда более неприятным. Когда сейф общими усилиями установили на столе, Томаш достал из портфеля верный блокнот. Накануне он расписал на чистой странице ключевую последовательность букв и цифр.
Профессор набрал в окошке сейфа цифры из первого ряда. Никакого результата. Хозяйка дома приуныла, но Томаш не собирался сдаваться. Он попытал счастья со вторым рядом, но дверца оставалась запертой.
— Вы уверены, что нашли ключ? — спросила Мадалена.
— Разве можно быть уверенным хоть в чем-то? Хотя мне, конечно, казалось, что да.
— А как вы нашли ключ?
— Ответил на вопрос.
— Всего лишь? А на какой вопрос?
— Вопрос был зашифрован в ребусе: «Кто подвесил эхо Фуко на 545?» Я долго с ним промучился и наконец узнал ответ: португальский еврей. — Томаш досадливо дернул плечом. — Как теперь выяснилось, я ошибся.
— А если подобрать синоним? Мартиньо обожал синонимы.
— Синоним? — задумчиво переспросил Томаш. — В XVI веке крещеных евреев называли новыми христианами.
Он достал из кармана карандаш и записал словосочетание печатными буквами. Потом, считая в уме, подписал под каждой буквой соответствующую цифру:
Томаш, затаив дыхание, набрал в окошке сейфа новый ключ. Упрямая дверца по-прежнему не поддавалась. Профессор печально вздохнул: идеи кончились.
— Нет, — проговорил он, опустив голову. — Снова не то.
В Синтре было, как всегда, туманно, и очертания замка на горе неясно проступали сквозь дымчатое марево. На фасаде королевского дворца расселись каменные сфинксы, горгульи и звери неизвестных пород, да и сам дворец чем-то напоминал притаившееся в засаде чудовище. Странное детище зодчих XVI века, великолепный образец безумного стиля мануэлино парил над городом хищной птицей. Он походил на дом с привидениями, навеки затерявшийся во времени, а свинцовые лучи, пробивавшиеся сквозь зловещий туман, добавляли пейзажу необъяснимой жути.
Всякий раз, оказываясь в Синтре, Томаш принимался размышлять над тайной этого удивительного здания. В ясные дни Кинта-Регатейра казалась светлым и радостным местом; но стоило солнцу спрятаться в тучах, как она превращалась в мрачный, зловещий лабиринт. Норонья поежился и посмотрел на часы. Было пять минут четвертого, Молиарти опаздывал. Королевский парк был пуст: будний день в начале марта не лучшее время для экскурсий и прогулок. Про себя Томаш заклинал американца поторопиться: ему не хотелось задерживаться в этом неприятном месте.
Норонья уселся на садовую скамейку напротив центральной лоджии, лицом к статуе Гермеса, посланца олимпийских богов, проводника душ умерших в преисподнюю, покровителя лицедеев, торговцев и плутов, любителя тайн, давшего имя герметизму. Томаш подумал, что это божество как нельзя лучше подходит Кинте, месту, в котором каждый камень хранит свой секрет.
— Hi, Tom, — внезапно высунулся Нельсон из-за живой изгороди. — Извините, я тут немного заплутал.
Обрадованный Томаш вскочил на ноги.
— Ничего страшного. У меня было время полюбоваться пейзажем и подышать горным воздухом.
Американец огляделся.
— Странное место, правда? У меня от него… creeps. Как это по-португальски?
— Мурашки.
— Точно. У меня от него мурашки.
— Это Кинта-Регалейра, самое таинственное место в Португалии.
— Really? — изумился Молиарти, словно заново взглянув на дворцовый фасад. — А почему?
— На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, еще при короле, эту землю купил человек по имени Карвалью Монтейру. Все звали его Монтейру-Миллионщик, потому что участие в бразильских концессиях позволило ему скопить огромное состояние и сделаться одним из самых богатых людей в стране. Карвалью Монтейру был блестяще образован, интересовался тайным знанием и решил превратить это место в центр алхимии, эзотерики и прочей мистики. Он поддался модным в ту эпоху националистическим настроениям и всерьез мечтал о возрождении Португалии, расцвете Пятой империи, который должен был произойти при помощи мистического духа Открытий. — Томаш обвел рукой очертания дворца, четко, величественно, почти угрожающе проступавшие сквозь туман. — Обратите внимание на архитектуру. Она вам ничего не напоминает?
Молиарти, прищурившись, разглядывал белоснежный фасад.
— Хмм, — пробормотал он. — Может, Торре-де-Белем?
— Именно. Неомануэлино. Знаете, тогда над Европой витал дух возвращения к корням. Повсюду строили неоготику. Мануэлино — наша португальская готика. А вместо неоготики у нас неомануэлино. Здесь все дышит памятью об открытиях. Повсюду изображения на морские темы и кресты ордена Воинства Христова, португальских тамплиеров. А еще алхимические знаки, христианская символика вперемешку с античной и египетской. Видите те статуи? — Американец послушно повернулся к ряду молчаливых фигур из белого камня, окаймлявшему геометрически расчерченный французский парк. — Это Гермес, в его честь стиль назвали герметизмом, — рассказывал Томаш, медленно ведя указательным пальцем от одной скульптуры к другой. — Это Вулкан, хромоногий сын Юпитера и Юноны, следом Дионис, а еще Пан, сладострастный сатир, которого обычно изображали с рожками и копытами, вылитый дьявол, но куда добрее. Дальше идут Деметра, Персефона, Венера или Афродита, Орфей и — самая последняя — Фортуна. Все это божественные хранители места, стоящие на страже тайн Кинты. Давайте пройдемся.
Они двинулись вдоль шеренги статуй вглубь парка, по направлению к лоджии.
— Как там у старушки, с сейфом разобрались?
Томаш поник головой.
— Я не смог его открыть.
— Значит, ключ не подошел?
— Выходит что так.
— Странно.
— И все же я уверен, что мы не ошиблись: ребус отсылает к тому самому отрывку из «Маятника Фуко».
— Уверены, говорите?
— Абсолютно. Как вы помните, профессор Тошкану сомневался в генуэзском происхождении Колумба, а в отрывке говорится, что Колумб был португальским евреем. Все сходится, не так ли? — Томаш взъерошил себе волосы. — Возможно, мы что-то напутали с ключевым словом.
Собеседники поравнялись с Орфеем и Фортуной и, не доходя до лоджии, повернули направо и стали подниматься вверх по склону. Французский парк сменился английским, геометрическая четкость уступила место выверенному хаосу скал, валунов и зарослей. Здесь росли магнолии, камелии, пальмы, секвойи, экзотические растения со всех концов земли. Здесь же было странное озеро, все поросшее ряской: сквозь изумрудно-зеленую мантию проглядывала маслянистая черная вода.
— Озеро Желаний, — сообщил Томаш и добавил, указав на большое полукруглое отверстие, напоминающее вход в подземную пещеру. — А это грот Катаров, из него в озеро поступает вода.
— Жутковато, — прокомментировал Молиарти.
К озеру вела тропинка, вдоль которой валялись поросшие мхом валуны, а над ним был перекинут горбатый мостик. Прямо у воды, в тени гигантской магнолии, спряталась изящная беседка. В центре беседки лежала огромная раковина, из которой вытекала вода.
— Египетский фонтан, — объявил Томаш, приложив ладонь к стенке, напоминавшей перевернутую амфору раковины. — Видите этот рисунок? — По кварцевым колоннам и потолку гордо вышагивали длинноногие птицы. — Ибисы. В древнеегипетской мифологии ибис — воплощение Тота, бога мудрости и сакрального знания, давшего людям иероглифы. Знаете, кто был аналогом Тота у греков?
Молиарти покачал головой.
— Гермес. Черты Гермеса и Тота соединились в загадочном божестве Гермесе Трисмегисте из старинных алхимических трактатов. — Томаш разыскал на одной из колонн ибиса, державшего в клюве змею. — Вот символ гносса, то есть знания. Здесь нет ничего случайного, каждый рисунок, каждый камень, каждое дерево несет в себе тайный смысл, намек на скрытую истину.
— Но ибис не имеет отношения к Открытиям.
— Здесь все имеет к ним отношение. Ибис, как я уже сказал, символизирует тайное знание. О нем так сказано в книге Иова: «Кто даровал ибису мудрость?»… С чем еще связаны тайны и предсказания рубежа пятнадцатого и шестнадцатого веков? — Томаш смотрел на окутанные туманом стены дворца. — В Открытиях не последнюю роль сыграли тамплиеры, которые перебрались сюда из Франции, спасаясь от преследований. Своими морскими успехами Португалия во многом обязана именно им. Вокруг Открытий возник особый культурный пласт, замешанный на мистике, идее Золотого века и Возрождении. — Он поднял руку с четырьмя растопыренными пальцами. В этом месте всюду встречаются напоминания о четырех великих произведениях: «Энеиде» Вергилия; «Лузиадах» Камоэнса, португальского Вергилия; «Божественной комедии» Данте Алигъери и знаменитом эзотерическом тексте эпохи Ренессанса — «Hypnerotomachia Poliphili» Франческо Колонны. Их образы запечатлены в камнях Кинты. — Португалец приметил неподалеку от фонтана скамейку. — Присядем?
Над скамьей склонилась мраморная женская фигура с факелом в руках, ее охраняли два мраморных пса.
— Это пятьсот пятнадцатая скамейка, — объяснил Томаш. — Знаете, что означает число пятьсот пятнадцать?
— Нет.
— Это из «Божественной комедии» Данте. В пятьсот пятнадцатой терцине говорится о наступлении эры Святого Духа, когда на земле воцарятся мир и гармония. — Он процитировал наизусть:
Когда Пятьсот Пятнадцать, вестник бога, Воровку и гиганта истребит За то, что оба согрешали много.— «Чистилище», вторая часть поэмы. — Норонья провел ладонью по мраморной спинке. — Блистательная аллегория, как и все в Кинте.
Молиарти опасливо разглядывал псов и женщину с факелом.
— Кто это?
— Беатриче, она сопровождала Данте в раю.
— Надо же! Здесь каждая скамейка — история!
Томаш достал из портфеля заветный блокнот.
— Это еще что, — буркнул он. — У меня для вас есть история не хуже. — И уселся поудобнее на жесткой скамье. — Я решил проверить версию Умберто Эко о том, что Колумб был португальским евреем. В документах, которыми я располагаю, об этом почти ничего нет, но кое-что интересное все же найти удалось. — Томаш бросил взгляд в записи. — Говорить о национальности Колумба трудно еще и потому, что тогдашняя карта Европы заметно отличалась от современной. Испанией назывался весь Пиренейский полуостров. Португальцы считали себя испанцами и возмущались, что и кастильцы называются так же. Португальские моряки могли состоять на службе и у португальского короля, и у королевы Кастилии. Фернандо Магеллан, например, по рождению был португальцем, но вокруг света обошел под кастильским флагом. А значит, он скорее кастильский мореплаватель.
— Это как фон Браун?
— Простите?
— Фон Браун был немцем, но стал отцом американской лунной программы.
— Что-то вроде того, — нехотя признал Томаш. — Споры о происхождении Колумба с новой силой вспыхнули в 1892 году, когда четырехсотлетие открытия Америки совпало с националистической лихорадкой по всей Европе. Испанские историки принялись выявлять слабые стороны генуэзской гипотезы и доказывать, что адмирал был то ли галисийцем, то ли каталонцем. Итальянцы, чей патриотический пыл оказался не слабее испанского, яростно защищали традиционную версию. Наступила эпоха чудесным образом обретенных документов.
— Ну, итальянцы-то были заинтересованы в установлении истины.
— Вы так думаете? — Томаш достал книгу в мягкой обложке под названием «Sails of Норе». — Знаете, кто ее написал? Симон Визенталь, прославленный охотник за нацистами. В один прекрасный день он вдруг заинтересовался происхождением Колумба. И начал расспрашивать историков, в основном итальянских. Вот что сказал Визенталю один из них: «Не так уж важно, где родился Колумб. Лишь бы не в Испании». Национальная гордость для итальянского историка оказалась важнее правды, главное — любой ценой доказать, что адмирал был итальянцем.
— Погодите! — замахал руками Молиарти. — Разве вы делаете не то же самое, только наоборот?
— Вы ошибаетесь, Нельсон. Я всего лишь иду по следам, оставленным профессором Тошкану, для чего вы меня, собственно, и наняли. Если хотите прекратить расследование, так и скажите.
— Хм, — смутился Молиарти. — Давайте не будем драматизировать. — Он снова и снова приглаживал волосы, будто надеялся, что это поможет навести порядок в мыслях. — Но скажите, Том, по-вашему, Колумб все-таки был испанцем?
— Вряд ли. В послании Католическим Королям папа Александр VI действительно называет его «верным сыном Испании», но, как я уже говорил, тогда Испанией считались не только Кастилия и Арагон, а весь полуостров включая Португалию. С другой стороны, чтобы стать верным сыном какой-нибудь страны, совсем не обязательно в ней рождаться. У Испании могли быть и приемные дети.
— Фон Браун тоже был приемным сыном Америки.
— И что?
— Ну… Мне показалось, что ситуация схожая…
— Что ж, все зависит от точки зрения, — поддразнил Томаш. — Ладно, предлагаю оставить эту тему. У нас есть кое-что поинтереснее, например, убедительные доказательства, что Колумб был рожден не в Кастилии и не в Арагоне. Самый первый испанский документ, в котором он упоминается, это расписка от пятого мая 1487 года о выдаче жалования «Кристобалю Коломо, чужеземцу». Есть протоколы судебного процесса, на котором Дьогу Колом добивался соблюдения контракта, предложенного его отцу Католическими королями в 1492 году. Многие свидетели на этом процессе утверждали, что адмирал говорил по-кастильски с акцентом. Суд постановил, что иностранец, не проживший в стране восемнадцати лет, не может обладать теми же правами и привилегиями, что и подданный испанской короны. Протокол заседания хранится в библиотеке Эскориала, я выписал решение: «Означенный дон Кристобаль был чужеземец, рожденный за пределами королевства». Итак, адмирал не испанец.
— Значит, генуэзец, — вставил Молиарти.
— Кто знает, — усмехнулся Томаш. — Однако Умберто Эко и профессор Тошкану склонялись к португальской версии. — Он ненадолго прервался, чтобы найти нужную страницу в блокноте. — Их главный свидетель — флорентийский космограф и географ пятнадцатого века Паоло Тосканелли. Этот великий ученый состоял в переписке со своим португальским коллегой Фернаном Мартиншем и Колумбом. В 1474 году он отправил в Лиссабон любопытное письмо. Обращаясь к мореплавателю, Тосканелли пишет: «Я получил твои послания», из чего следует, что Колумб не раз писал флорентинцу, чтобы поделиться своими планами относительно нового пути в Индию. В ответном письме Тосканелли подробно рассматривает идеи Колумба и находит их вполне здравыми. Вот что он пишет. — Томаш откашлялся: — «Меня нисколько не удивляет, что ты, человек благородной души, принадлежащий к великой португальской нации, давшей миру столько героев, готов, отринув всякий страх, предпринять столь опасное путешествие».
— И что из того? — высокомерно спросил Молиарти.
— Что из того? — рассмеялся Томаш. — А то, что письмо Тосканелли просто находка. Из него можно сделать по крайней мере четыре вывода. Во-первых, Христофор Колумб состоял в переписке с одним из величайших ученых своего времени.
— Хоть убей, не понимаю, почему это важно…
— Ну как же, Нельсон? Не вы ли главный сторонник гипотезы, согласно которой адмирал был сыном генуэзского ткача, едва способным написать собственное имя? Стал бы Тосканелли обмениваться посланиями с таким персонажем? — Норонья сделал паузу, словно и вправду ожидал ответа. — А во-вторых, — он снова обратился к своему блокноту, — по мнению флорентийского ученого, Колумб принадлежал к «великой португальской нации». Получается, итальянец Тосканелли не знал, что мореплаватель его соотечественник? — Томаш склонил голову на бок. — Или ему было известно, что это не так? — Он улыбнулся. — В-третьих, как я уже сказал, письмо датировано 1474 годом.
— И что же?
— А вы не помните? — удивился Томаш. — Согласно нотариальным документам, которым вы так верите, сын ткача отправился в Португалию в 1476-м. Что, Тосканелли писал письма в будущее?
— А подтасовка невозможна?
— У нас есть еще один источник, в надежности которого можно не сомневаться. Бартоломе де Лас Касас, историк, описывая встречу Колумба с королем Фердинандом в Сеговии в мае 1501 года, упомянул, что к тому времени адмирал жил в Кастилии уже четырнадцать лет. Колумб покинул Португалию в тысяча четыреста восемьдесят четвертом, если отнять четырнадцать, получится… — Он набрасывал стремительные каракули на краю блокнотного листка. — Получится тысяча четыреста семьдесят. — Томаш посмотрел на американца. — Таким образом, если Лас Касас не ошибся в расчетах, в семидесятом году Колумб был в Лиссабоне. Спустя четыре года, в семьдесят четвертом, он получил письмо от Тосканелли. Итак, можно ли верить источникам, в которых говорится, что будущий адмирал прибыл в Португалию в 1476-м?
— Ну знаете… Все эти мелкие детали…
— Мелкие детали, Нельсон, порождают большие проблемы. Историки спорят с конца девятнадцатого века, но никак не решат, в каком году Колумб перебрался в Португалию. А все потому, что Колумбов, похоже, было двое. Один оставался в Генуе и продолжал ткать, другой жил в Лиссабоне, убеждал португальского короля снарядить экспедицию в Индию, переписывался с Тосканелли и считался португальцем.
Молиарти откинулся на спинку скамьи.
— Ладно… Давайте дальше. Что у нас в-четвертых?
— Письмо Тосканелли написано на латыни.
— Ну и что?
— Нельсон, — теперь Томас говорил с американцем, словно с несмышленым ребенком. — Тосканелли был итальянцем и Колумб, по вашему мнению, тоже. Зачем же двум итальянцам переписываться на мертвом языке?
— А почему бы и нет? В те времена итальянцы часто писали на латыни, это был язык интеллектуалов.
— Значит, Колумб был интеллектуалом? — усмехнулся Норонья. — Неотесанный сын ткача…
— Ну… Не знаю… — замялся Молиарти. — Он мог где-нибудь выучиться.
— Мог, Нельсон, конечно мог. Но не стоит забывать, что у людей из низших слоев общества почти не было возможности получить образование. Это и сейчас нелегко, а уж в пятнадцатом веке…
— У него мог найтись покровитель, какой-нибудь богач, который заплатил за обучение.
— А как быть с тем, что в списках учеников тогдашних школ нет Христофора Колумба?
— Могли быть и другие школы… Частные уроки…
— Возможно. Но это не объясняет, почему они с Тосканелли переписывались на латыни. Между прочим, Колумб за всю свою жизнь не написал ни одного письма по-итальянски.
— Что вы хотите этим сказать?
— Только то, что Колумб, которого принято считать итальянцем, не писал писем на итальянском языке. Он писал только на кастильском или латыни.
— Ну и что… Это вполне естественно. Его адресаты не знали итальянского языка, Разумеется, Католическим королям он писал по-кастильски.
— Нельсон, — произнес Томас очень медленно, старательно выговаривая каждое слово. — Итальянец Христофор Колумб не написал ни одного письма по-итальянски, даже адресуясь к итальянцам.
Американец недоверчиво поднял брови.
— Не может быть.
— Еще как может! — Ксерокопии писем были у португальца под рукой. — Хотите посмотреть? — Он наугад достал одну из копий. — Вот письмо Колумба к Николо Одериго, генуэзскому посланнику в Испании, датированное двадцать первым марта 1502 года. Хранится в архиве генуэзского муниципалитета. Письмо одного генуэзца другому. Написано по-испански. Вот еще одно, к тому же Одериго, тоже по-испански; Колумб просит посланника перевести содержание письма другому генуэзцу, некоему Джованни Луиджи. — Томаш наслаждался замешательством Молиарти. — Странно, не так ли? Адмирал пишет генуэзцу по-кастильски и просит, чтобы тот перевел его послание на итальянский, точнее, на генуэзский диалект, другому генуэзцу, который не знает испанского. Вот еще одно письмо в Геную, на этот раз банкирам из Сан-Джорджо. Тоже по-испански. — Томаш улыбнулся. — Человек, который родился в Генуе и прожил в ней по крайней мере двадцать четыре года своей жизни, избегает писать соотечественникам на генуэзском диалекте и вообще на каком бы то ни было диалекте итальянского языка. — Оставалась последняя копия. — Вот послание Гаспару Горриччио, тоже итальянцу, написано по-испански. Ну и наконец письма к Тосканелли. Они не сохранились, но из ответов флорентинца понятно, что Колумб писал ему на латыни или португальском. Что же получается: пять писем к итальянцам и ни одного по-итальянски. Вот незадача, правда?
— Я не понимаю, Том. Вы же сами говорили, что Колумб, скорее всего, не испанец…
— Я и сейчас готов это повторить.
— Но вы же утверждаете, что он писал только по-латыни или на кастильском.
— Совершенно верно.
— А почему на кастильском, если он не был испанцем? Ведь в Португалии тогда на нем не говорили…
— Разумеется нет.
— Так как это все понимать?
— Вообще-то я еще не закончил.
— Что ж, продолжайте.
— Давайте вернемся назад, — предложил Томаш. — Писем, написанных рукой Колумба, увы, не сохранилось. После смерти Дьогу Колома его жена Мария и сын Луиш перебрались на Антильские острова и забрали переписку адмирала с собой. А когда не стало и их, письма возвратились в Испанию, где хранились в монастыре Лас-Куэвас. Потом началась печально известная тяжба между Муньо Колоном и семейством герцога Альбы. Часть документов попала в руки к потомку Колумба второму герцогу де Верагуа. Там было всего несколько писем адмирала к Дьогу. — Томаш поднял левую руку. — Хорошенько запомните то, что я сейчас скажу, это очень важно. При каждом переходе из рук в руки документов становилось все меньше и в конце концов почти не осталось. Не сохранился даже дневник Колумба, хотя в девятнадцатом веке всплыла его копия, предположительно сделанная Бартоломе де Лас Касасом. — Норонья сделал ударение на слове «предположительно». — В общем, фальсификаторам было где порезвиться. Иногда, чтобы превратить документ в железное доказательство той или иной теории, довольно подправить какую-нибудь несущественную, на первый взгляд, деталь. Но порой появлялись и стопроцентные фальшивки. Одни прибегали к обману, чтобы убедить мир в своей правоте. Вопрос о происхождении Колумба яркий тому пример. Другие старались ради денег. Специалисты утверждают, что автограф адмирала стоил бы не меньше полумиллиона долларов. Иногда я спрашиваю себя, во сколько бы эти эксперты оценили автограф Иисуса Христа. Так или иначе, за одну подделку можно, если повезет, получить астрономическую сумму.
— Вас послушать, так кругом одни подделки.
— Многие документы, связанные с Колумбом, фальсифицированы, частично или полностью.
— И письма к генуэзцам тоже?
— Да.
Молиарти повеселел.
— Тогда все очень просто, не правда ли? Если письма поддельные, не важно, на каком языке они написаны. Какой спрос с фальшивки?
— Что вы, Нельсон, эти письма никак нельзя сбрасывать со счетов! Во-первых, важно, что автор подделки не решился написать их по-итальянски, поскольку знал, что тем самым себя выдаст. Во-вторых, оригиналы писем, если они существовали, были написаны по-испански. В-третьих, существовал заговор с целью объявить человека, открывшего Америку, генуэзцем.
— Чушь.
— Нет, Нельсон, не чушь. Большинство подделок свидетельствует в пользу генуэзской версии.
— По-вашему, метрики Генуи и Савоны тоже подделка?
— Нет, они как раз настоящие. Ткач по имени Христофор Колумб существовал, в этом я не сомневаюсь. Фальшивки появляются тогда, когда кому-то нужно доказать, что этот ткач и великий мореплаватель Кристобаль Колон одно лицо. Документ Асеретто и письма к генуэзцам из этого числа. Поймите, Нельсон, все, что мы знаем об адмирале, написано испанцами и итальянцами, а они стороны заинтересованные.
— Черт возьми! — заорал Молиарти, тыча пальцем в блокнот Томаса. — Скажите наконец, сохранилась хотя бы одна, всего одна строчка, действительно написанная Колумбом?
— Конечно, сохранилась. Во-первых, письма к его португальскому сыну, Дьогу. Они хранились в надежном месте, недоступном для похитителей и фальсификаторов.
— Это о них вы только что говорили?
— Да. Еще — пометки на полях книг. После смерти Колумба книги достались Эрнандо, с них началась севильская библиотека адмирала. Не исключено, что некоторые пометки сделал брат Христофора Бартоломео. Но большинство из них точно начертано рукой Колумба.
— А на каком языке сделаны эти пометки?
— В основном на испанском. Правда, попадаются итальянские и латинские, так что писать по-итальянски адмиралу все же приходилось.
— Вот видите! Итальянский, испанский и латынь. И ни слова на португальском, верно? Если Колумб не был испанцем и не писал по-португальски, он вполне может оказаться итальянцем. Разве я не прав?
Томас укоризненно поглядел на Молиарти, его губы тронула осторожная улыбка.
— Нельсон.
— Нет, вы мне скажите…
— Заметки Колумба, на каком бы языке они ни были написаны, полны португализмов.
— Чего-чего?
— Португализмов. Адмирал писал не на кастильском, а на смеси кастильского с португальским, как пишут португальцы, неплохо владеющие испанским.
Молиарти неподвижно сидел на скамье, вперив застывший взгляд в ровную гладь озера Желаний.
— Не может быть! — воскликнул он вдруг и жалобно уставился на Томаша. — А какие португализмы использовал Колумб?
Томаш с видимым усилием подавил смех.
— Нельсон. Проще сказать, каких португализмов он не использовал. — Норонья подмигнул американцу. — Кое-где их больше, чем испанских слов.
Молиарти и не думал улыбаться.
— И все же не могли бы вы привести примеры?
Профессор уткнулся в свои записи.
— На полях «Естественной истории» Плиния двадцать три пометки. Двадцать на португализированном кастильском, две по латыни и одна итальянская. Насчет последней есть большие сомнения: что ее сделан кто-то другой, возможно, брат Христофора Бартоломео. Испанский исследователь Альтолагирре-и-Дюваль утверждал: «Колумб пишет на своеобразном диалекте на основе португальского», а известный историк и филолог Менендес Пидаль, хоть и отрицал, что адмирал был португальцем, признавал, что «его речь изобиловала португальскими словами» и что «Колумб до самой смерти так и не сумел преодолеть пристрастия к португализмам».
— Это ничего не доказывает.
— Вы так считаете?
— Колумб мог не писать по-итальянски по многим причинам. Насколько я знаю, в те времена представители образованного сословия, жившие за границей, пользовались так называемой тосканской латынью.
— Так почему же адмирал не писал итальянцам на этом диалекте?
— Может, не знал…
— В архиве меня заверили, что его знали все итальянцы…
— Но могли быть исключения. Колумб мог говорить на генуэзском диалекте. А он, как известно, бесписьменный.
— Ваше объяснение логично, но, увы, исходит из ложных предпосылок. Генуэзский диалект не был бесписьменным. Я разговаривал с тамошним лингвистом, и он заверил меня, что в Средние века существовала даже поэзия на этом наречии, стихи и длинные поэмы, вдохновленные «Божественной комедией». — От волнения Томаш отчаянно жестикулировал. — Перед нами стоят два вопроса. Если Колумб не говорил по-тоскански, поскольку был плохо образован, откуда он знал латынь? Если у генуэзского диалекта была письменность, почему адмирал не писал на нем генуэзцам? Почему для записей на полях книг он пользовался испанским? — Норонья потер переносицу. — Все не так просто, дружище.
— Есть еще одна вещь, которую вы не принимаете в расчет, — проговорил Молиарти.
— Какая?
— Сходство португальского языка и генуэзского наречия. Многие слова, которые кажутся нам португальскими, на самом деле могут оказаться генуэзскими.
— Вы полагаете?
— Я почти уверен.
— Вы ошибаетесь, — произнес Томаш с ядовито-вкрадчивой улыбкой. — Я знал, что защитники генуэзской версии часто приводят этот аргумент, и специально проконсультировался с лингвистами. Попросил их перевести написанный Колумбом португальский текст на генуэзский диалект и сравнить с оригиналом. — Он перевернул листок в блокноте. — Вот что получилось. Algun quarche, arriscada é reiszegösa, boa e bon são bönn-a e bön, crime fica corpa, despois dá doppö e dizer é dî. Как видите, за исключением слова bön, действительно похожего на португальское, никаких совпадений не наблюдается. — Томаш поднял указательный палец, подчеркивая особое значение слов, которые он собирался произнести. — Мой опыт криптоаналитика подсказывает, что в выборе между простым и сложным решениями нужно отдавать предпочтение простому, поскольку именно оно, как правило, оказывается верным. Если Колумб не писал своим адресатам ни на одном из итальянских наречий, значит, он их, скорее всего, не знал. А раз он их не знал, то, вероятнее всего, не был итальянцем.
— Ну, конечно, он был итальянцем, здесь не может быть никаких сомнений. Адмирал был генуэзцем. А тому, что он не писал по-итальянски, можно придумать тысячу объяснений. Знать тосканское наречие он и вовсе не был обязан.
— До чего же вы упрямы! Тому, что итальянец не знал общего для своих соотечественников за границей диалекта, никаких объяснений быть не может.
— Адмирал мог попросту его забыть, ведь он уехал из родного города совсем молодым.
— Забыть?! — Португалец прикусил губу. — Нельсон, ради бога! Не говорите ерунды. — Помните, что писал Менендес Пидаль? «Колумб до самой смерти так и не сумел преодолеть пристрастия к португализмам». Колумб родился в Италии, прожил в ней двадцать четыре года и в один прекрасный день — раз! — и забыл все итальянские наречия — и тосканское, и родное генуэзское. И тот же самый Колумб, прожив в Португалии около десяти лет, до конца своих дней сохранил пристрастие к португальскому. Но это же невероятно. Нужно обладать поистине феноменальной памятью, чтобы забыть родной язык и при этом отлично помнить чужой. Не так ли?
— Пожалуй…
— Послушайте, Нельсон, если верить генуэзским нотариусам, Колумб уехал из родного города в двадцать четыре года. В то время двадцатичетырехлетний человек не считался таким уж молодым. Тогдашние двадцать четыре — это приблизительно наши тридцать пять. Как бы то ни было, забыть родной язык в таком возрасте нельзя. В Португалии Колумб жил у своего брата Бартоломео и мог сколько угодно практиковаться в генуэзском наречии. Не стоит упускать из поля зрения и тот факт, что когда адмиралу не хватало испанских слов, он заменял их не итальянскими, а португальскими. И это еще не все. Свидетели на двух знаменитых судебных процессах, связанных с именем Колумба, — я говорю о «Процессе против Короны» и «Деле о старшинстве» — в один голос утверждали, что кастильский язык не был для адмирала родным. Это подтверждают два всеми уважаемых исследователя, израильтянин Симон Визенталь и испанец Сальвадор де Мадарьяга. Они вторят друг другу: «Почти все свидетели заявили, что произношение у Колумба было португальским».
— Holly shit! — вскричал американец в бессильной ярости. — Это точно?
— Когда речь идет о Колумбе, — Томаш поднялся на ноги и потянулся, разминая мускулы, — ничего нельзя знать наверняка. Но знаете, с кем он перво-наперво свел знакомство, перебравшись в 1484 году в Испанию?
Молиарти тоже встал, охая и потирая затекшие бока. Сто пятнадцатая скамья была настоящим произведением искусства, но сидеть на ней оказалось неудобно.
— Не знаю, Том.
— Со священником по имени Марчена. Угадайте, кем он был по национальности?
— Португальцем?
— Именно. — Томаш устало улыбнулся. — За границей мы стараемся держаться соотечественников. В Севилье хватало генуэзцев и людей из других итальянских городов, но Колумб предпочел общество Марчены.
— Это не доказательство!
— В этой истории много вопросов без ответов, — Томаш двинулся вглубь парка, Молиарти последовал за ним. — Зачем генуэзцу Колумбу понадобилось скрывать свое происхождение? У Кастилии с Генуей были отличные отношения. Республика переживала расцвет, властвовала в Средиземноморье, даже английские моряки не считали зазорным ходить под ее флагом. Алый крест на белом поле был чем-то вроде охранной грамоты, гарантировал безопасность и уважение. Потом он, кстати, сделался английским флагом. А вот с Португалией у кастильцев было не все гладко, и португальцам на испанской службе приходилось туго. Вспомните, какие испытания ожидали Фернандо Магеллана, прежде чем он отправился в кругосветное плавание во главе кастильской армады. Будь Колумб генуэзцем, он вряд ли стал бы держать это в тайне.
— Притянуто за уши.
— Очень может быть. Но объяснить, почему Колумб скрывал место своего рождения, мы не можем. Нет у нас ответов и на другие вопросы. Почему он не писал по-итальянски? Почему говорил с португальским акцентом? Где освоил латынь и географию? Отчего произошла путаница с датами? Как Тосканелли мог отправить письмо в город, в который его адресат должен был перебраться только через два года? Вокруг сплошные вопросы, и если искать ответы на все сразу, что-то неизбежно окажется притянутым за уши.
Молиарти не отвечал; он шел, глядя под ноги и погрузившись в свои мысли. Томаш шагал рядом, размышляя о неприступном сейфе профессора Тошкану. Двое мужчин в полном молчании поднимались вверх по склону. Тропинка петляла среди буков и пальм, дубов и сосен; в густой зелени мелькали яркие пятна магнолий; нежность роз и тюльпанов контрастировала с дерзкой экзотической красотой орхидей. День кружился в медленном вальсе, неуклонно приближаясь к вечеру; прохладный ветерок, налетавший с укутанных бурыми облаками горных вершин, шелестел в кронах деревьев; из зарослей доносилось веселое пение щеглов, которое вскоре должны были сменить соловьиные трели.
Узкая тропинка вела к веранде с полукруглой стеной и фонтаном, над которым возвышалась каменная арка.
— Фонтан Изобилия, — сообщил Томаш тоном заправского гида. — Несмотря на столь оптимистическое название, композиция у него весьма драматичная. Что скажете?
Американец внимательно разглядывал развернутое в глубину парка сооружение. Один из столбов поддерживал сатир, другой подпирал баран.
— Это демоны?
— Нет. Сатир, вторгшийся на остров Любви, означает хаос. Баран, знак весеннего равноденствия, символизирует порядок. Вместе они составляют ordo ab chao, движение от хаоса к гармонии.
Перед аркой располагался широкий каменный стол. С другой стороны из земли поднимался раструб большого фонтана, на его выпуклом боку были изображены весы с уравновешенными чашами.
— А это символ чего?
— Суда, Нельсон.
— Суда?
— Вот трон судьи, — объяснял Томаш, водя пальцем по вырезанному в камне рисунку. — Тамплиеры, а за ними и масоны связывали весну и солнечный свет с понятиями равенства и справедливости, которые, в свою очередь, отождествляли с фигурой судьи, великого магистра. Его трон пока пустует. — Норонья перешел от фонтана к покрытой рисунками стене. — Здесь скопированы изображения из Соломонова храма в Иерусалиме. Вам приходилось слышать о суде Соломона? — Он разыскал на стене два устремленных ввысь пирамидальных обелиска. — Это колонны иерусалимского храма, столбы справедливости, связывающие небо и землю.
Чуть дальше, за деревьями, таилось еще одно озеро с фонтаном, еще больше и краше, чем фонтан Изобилия. То был портал Хранителей, который стерегли два тритона. От озера тропинка зигзагами спускалась по склону холма к дольмену из огромных покрытых мхом камней.
Профессор и Молиарти вошли в круг таинственного Стоунхенджа. Норонья прикоснулся ладонью к одному из камней. К изумлению Молиарти, валун повернулся вокруг своей оси, открывая вход в пещеру. Узкая винтовая лестница вела в темноту.
— Что это? — спросил Нельсон.
— Колодец Инициации, — голос Томаша звенел и вибрировал, отражаясь от стен пещеры. — Мы в дольмене, древнем захоронении. Спускаясь сюда, человек переживает что-то вроде духовной смерти. И выходит на поверхность переродившимся, обновленным. В этот колодец спускаются в поисках собственной души. — Он сделал широкий жест, приглашая американца следовать за собой. — Идемте, не бойтесь.
Лестница тугой спиралью закручивалась вниз по часовой стрелке. Гулкие и звонкие шаги оглашали темные своды, будто трели фантастических подземных птиц. Ступени и стены были влажными и кое-где покрылись плесенью. Колодец постепенно сужался, словно воронка или перевернутая пирамида. Томашу пришло в голову сравнение с Пизанской башней, которую поместили под землю и поставили с ног на голову.
— Сколько уровней у колодца?
— Девять, — ответил португалец. — И это не случайно. Девять магическое число, во многих языках оно созвучно со словом «новый». По-португальски novo и nove. По-испански nueve и nuevo. По-французски neuf и neuf. По-итальянски nove и nuovo. По-немецки neun и neu. Девятка означает обновление. Орден тамплиеров, которому наследует португальское Воинство Христово, основали девять рыцарей. Соломон отдал в подчинение Хираму Абиффу, зодчему, построившему храм, девять десятников. Деметра на девять дней спускалась в подземный мир за своей дочерью Персефоной. После девяти ночей любви у Зевса родились девять муз. От зачатия человека до появления на свет проходит девять месяцев. Девятка — исключительное число, оно означает и старое, и новое, начало и конец, стремление в небо и вечный бег по кругу.
Наконец они достигли дна колодца Инициации. На влажном каменном полу был выложен круг из белого, красного и желтого мрамора. Центр круга украшала восьмиконечная звезда, в которую был вписан восьмиконечный крест. То был символ тамплиеров, напоминавший о восьмигранной форме всех христианских храмов Запада. На острие одного из лучей звезды зияло темное отверстие.
— Роза ветров, — пояснил Томаш. — Указывает на восток. На востоке восходит солнце, на востоке располагаются алтари церквей. У пророка Иезикииля сказано: «Благодать Господня исходит с востока». Идем дальше.
Норонья решительно шагнул под своды вырубленного в стене грота, и Молиарти после недолгого колебания последовал за ним. Путники двигались по мрачному туннелю осторожно, почти на ощупь, касаясь руками стен. Ряд тусклых желтых фонарей, закрепленных прямо в полу, слабо освещал путь. Томаш и Молиарти шагали по длинному гранитному коридору твердо и уверенно. Справа открылся вход в новую пещеру. Заглянув туда, Томаш решил проигнорировать запасной путь и продолжал идти прямо, рассчитывая, что главная дорога быстрее выведет их на свет. Впереди сверкала гладь подземного озера, в которое с ласковым журчанием сбегал ручей. Миновав озеро, Молиарти и Томаш оказались на развилке.
— Влево или вправо? — спросил Норонья, мысленно прикидывая расстояние.
— Влево, — наугад сказал Молиарти.
— Вправо, — возразил португалец. — В конце этого туннеля, Нельсон, воссоздан эпизод из «Энеиды» Вергилия. Спустившись в преисподнюю в поисках отца, Эней оказался перед точно такой же развилкой. Слева полыхал вечный огонь, в котором плавились души грешников. Эней повернул направо, переправился через Лету и достиг Елисейских полей, в которых обретался дух его отца. Пойдем направо и мы.
С каждым шагом туннель становился все ниже, уже и темнее. Казалось, стены и потолок надвигаются на путников, грозя стереть в порошок. Но когда они уже начали сомневаться в правильности избранного пути, сверху на них хлынул поток нестерпимо яркого света. Молиарти и португалец поспешили на свет и через несколько мгновений оказались в царстве зелени, наполненном многоголосым птичьим пением.
— Что за странное место, — проговорил Молиарти, с трудом возвращаясь к реальности. — Величественное.
— Видите ли, Нельсон, это ведь не совсем парк, это текст.
— Текст? Как парк может быть текстом?
Не говоря в ответ ни слова, португалец жестом показал, что им следует идти дальше. Проходя мимо портала Хранителей, Томаш показал своему спутнику узкую зубчатую башенку в средневековом стиле.
— Когда в Европе орудовала инквизиция и церковь безжалостно искореняла инакомыслие, многие идеи и способы их выражения оказались под запретом. Художники и мыслители томились в тисках мракобесия, лишенные возможности донести до мира свои мысли и чаяния. Тогда-то и появились послания в камне, подобные Кинте. Книгу можно сжечь, картину изрезать, но уничтожить дворец и парк не так-то легко. Кинта — эзотерический лабиринт, в коридорах которого нас поджидают то загадочный Франческо Колонна, то морские тайны Португалии, то герои античных мифов. Гуляя по парку, мы движемся от «Энеиды» к «Божественной комедии», от «Лузиад» к рыцарям Воинства Христова.
Дойдя до башни, путники свернули на прямую и широкую тропу, ведущую мимо грота Леды к часовне. Теперь они шли молча, слушая тишину и с наслаждением вдыхая лесной воздух.
— Что теперь? — спросил Молиарти.
— Зайдем в часовню.
— Я не об этом. Что вы собираетесь делать с нашим расследованием?
— А, — кивнул Томаш. — Я собираюсь еще раз внимательно изучить отрывок из Умберто Эко и отыскать ключ к загадке профессора Тошкану.
Томаш остановился под раскидистым деревом в двух шагах от часовни, открыл портфель и вытащил аккуратно сложенный лист бумаги.
— Вот еще одна тайна Колумба, — проговорил он, протягивая листок Молиарти. — Копия письма из архива Верагуа.
Американец неуверенно взял письмо и повертел его в руках.
— О чем это? Я ничего не понял.
— Я переведу, — предложил Томаш. — Это письмо нашли в бумагах адмирала после его смерти. Автор его не кто иной, как Жуан II Совершенный, король Португалии, заключивший Тордесильясский договор, тот самый, что однажды рассудил, что добраться до Индии, обогнув Африку, будет проще…
— Я знаю, кто такой Жуан II, — нетерпеливо перебил Молиарти. — Он самолично написал Колумбу?
— Да. — Норонья показал американцу горизонтальные и вертикальные полосы на полях листа. — Видите линии? Это адрес. Если правильно сложить лист, можно прочесть, от кого письмо и кому оно адресовано. Здесь сказано: «Нашему севильскому другу Христофору Колону». — Томаш перевернул листок и стал читать: «Христофору Колону. Его величество Жуан II, король Португалии и Алгарве, владыка моря и Африки, властитель Гвинеи. Мы прочли Ваше письмо и благодарим Вас за усердие и смирение. Что же до Вашего возвращения, оно Нами желанно. Никто здесь не станет чинить Вам препятствий. Сим письмом Мы гарантируем Вам полную неприкосновенность для стражи, суда и любого преследования. Со своей стороны, Мы с нетерпением ждем случая подобающим образом вознаградить Вас за преданность. Писано двадцатого марта 1488 года. Рукой короля».
— Странное письмо, — пробормотал Молиарти.
— Вынужден с вами согласиться.
— Получается, что король в тысяча четыреста восемьдесят восьмом году зовет Колумба вернуться в Португалию?
— Не совсем так. На самом деле прежде Колумб написал Жуану II и попросился обратно к нему на службу. В этом же письме адмирал высказал опасения, что его могут привлечь к суду.
— Но из-за чего?
— Из-за того, что произошло в Португалии. За четыре года до этого обмена корреспонденцией Колумб с сыном Дьогу внезапно покинул страну и перебрался в Испанию. У столь поспешного бегства должна быть причина. О португальских годах адмирала почти ничего не известно. Тогда произошло нечто важное, но что именно, мы не знаем. Если бы нашлось письмо Колумба к королю, многое бы прояснилось.
— Письмо утеряно?
— Ни в одном португальском архиве его нет.
— Жаль.
— Кстати, тут есть и другие любопытные детали.
— Какие, например?
— Король Жуан называет мореплавателя своим севильским другом. Странное панибратство между великим правителем и генуэзским ткачом.
Молиарти изобразил смертельную обиду.
— По-моему, происхождение Колумба здесь ни при чем.
Томаш улыбнулся.
— Возможно, вы правы, спорить не стану. Но если верить письму, адмирал был близок к королю и часто бывал при дворе, что можно считать вторым доказательством его благородного происхождения. Первое — брак с донной Филиппой Монис, партия, немыслимая для плебея. Девушку из такой семьи могли выдать только за равного.
— А почему, собственно, плебей не мог жениться на дворянке?
— Исключено. Я говорил со специалистом по эпохе Открытий, он не слышал ни об одном случае такого мезальянса в пятнадцатом веке. Должно было пройти сто лет, чтобы благородных девиц изредка стали выдавать за богатых простолюдинов. Но во времена Колумба это было невозможно.
— Да… — помрачнел американец. — Есть еще какие-нибудь доказательства того, что адмирал был из благородных?
Историк снова полез в портфель.
— Об этом документе у нас речь пока не заходила. Это указ королевы Изабеллы от двадцатого мая тысяча четыреста девяносто третьего года о присвоении Колону фамильного герба. — Норонья развернул листок и прочел вслух: — «Y en outro cuadro bajo a la mano izquierda las armas vuestrasque sabiades tener», «На втором поле вы вольны поместить свой собственный герб, которым вы, как известно, располагаете». — Он посмотрел на Молиарти, приглашая американца задуматься над значением этих слов. — Это значит, что герб у Колумба уже был. Как по-вашему, в Генуе всем ткачам полагались гербы? Или только неграмотным? — Томаш достал еще один лист с изображением двух геральдических знаков. — Герб Колумба слева. Он, как видите, состоит из четырех полей. Сверху замок и лев, символы Кастилии и Леона. Внизу слева острова, в память об открытиях, совершенных адмиралом. — Томаш ткнул пальцем в правый нижний угол картинки. — А вот тот самый символ, которым, по словам Изабеллы, он уже располагал. Что же это такое? — Норонья сделал паузу, прежде чем ответить на собственный вопрос. — Пять якорей на голубом поле, расположенные перевернутым крестом. А теперь взгляните сюда.
Как видите, пять якорей на гербе Колумба расположены точно так же, как пять золотых монет на португальском гербе. Кстати, он остается таким и по сию пору. Другими словами, в гербе адмирала объединены геральдические символы Кастилии, Леона и Португалии. В точности, как описывал Хуан Лоросано, испанский законник, современник Колумба. Он писал: «Адмирала многие считали португальцем».
— Многие считали… — передразнил Молиарти. — Выходит, этот ваш Лоросано ничего не знал наверняка.
— Неужели вы вправду думаете, что Лоросано единственный, кто называет Колумба португальцем? Два свидетеля на «Процессе о старшинстве», Эрнан Камачо и Алонсо Белас, объявили адмирала «португальцем по крови и рождению». И это еще не все. В разгар испано-итальянской полемики о происхождении Колумба президент Испанского королевского географического общества Рикардо Бельтран-и-Роспиде написал в одной из своих статей загадочную фразу: «el descobridor de América no nació en Génova y fué oriundo de algún lugar de la tierra hispana situado en la banda occidental dela Península entre os los cabos Ortegal у San Vicente», «Человек, открывший Америку, родился не в Генуе, а на западе Пиренейского полуострова, между мысами Ортегаль и Сан-Висенте». — Он перевел взгляд на Молиарти. — Очень странное утверждение, особенно в устах ярого испанского националиста.
— Отчего же, — не сдавался Молиарти. — Лично мне оно вовсе не кажется таким уж нелогичным.
— Нельсон, мыс Ортегаль расположен в Галисии.
— Да, а Галисия тогда была испанской, значит, ваш географ утверждает, что Колумб родился в Испании.
— Но мыс Сан-Висенте находится на южной оконечности Португалии. Вы верно заметили, что испанский историк-националист мог объявить Колумба галисийцем. Но упоминание португальского мыса не позволяет рассматривать его слова в таком ключе. Вероятно, Роспиде знал нечто такое, чего не знаем мы. У Роспиде был друг-португалец по имени Афонсу де Дорнелаш, который, в свою очередь, близко знал историка Арманду Кортесана. На смертном одре испанец признался другу, что в Португалии существует особый архив, где хранятся уцелевшие письма Колумба. Дорнелаш, разумеется, спросил, где этот архив находится. Роспиде не стал отвечать, сославшись на то, что проблема происхождения Колумба слишком важна для его соотечественников, и правда может обернуться для них слишком большим потрясением. Вскоре испанский историк умер и унес тайну с собой в могилу.
Собеседники сами не заметили, как дошли до часовни, величественного собора в миниатюре, еще одной страницы каменной книги Кинты.
Субботним утром Томаш появился на пороге дома в Сан-Жуан-ду-Эшторил с надеждой в сердце и букетом циний в руках. Скромные цветы раскрывали навстречу солнцу алые и желтые бутоны, обнажая белую сердцевину. В книге Констансы было сказано, что цинии означают: «Я в глубокой печали по поводу Вашего отсутствия», или, попросту говоря, «Я по тебе скучаю». К настроению Томаша это подходило как нельзя лучше. Но дверь ему открыла теща. Смерив зятя презрительным взглядом, та холодно сообщила, что Констансы нет дома.
— О! — только и сумел выговорить Норонья. — А когда ее можно будет застать?
— Я же сказала, ее нет дома, — повторила теща так, будто разговаривала с бестолковым соседским ребенком.
— А Маргарита?
— Маргарита здесь. Я ее позову.
Прежде чем дона Тереза исчезла в глубине дома, Томаш успел сунуть ей букет.
— Не могли бы вы хотя бы передать ей цветы?
Было видно, что теща колеблется, но желание лишний раз оскорбить зятя взяло верх.
— От вас ей цветов не нужно.
Маргарита уже успела пообедать, так что отец с дочкой, не теряя времени, отправились туда, куда давно собирались, в зоопарк. Там было полно народа, повсюду торговали сладкой ватой, леденцами и хлопушками. Змей Маргарита испугалась, и отцу пришлось взять ее на руки, зато дельфины привели девочку в восторг. Пока, хлопая в ладоши, она смотрела, как рыбки делают сальто над водой, Томаш думал о том, как не похож веселый и шумный зверинец на обжитый тайнами парк Кинта-Регалейра. Было почти невозможно поверить, что лиссабонский зоопарк и каменная книга в Синтре появились благодаря усилиям одного человека, мрачного гения Карвалью Монтейру.
День промелькнул незаметно, и солнце стало клониться к горизонту, окрашивая небо в нежно-золотистый цвет. На улице сделалось прохладно, и папа с дочкой покинули зоопарк, чтобы отогреться в машине. По дороге домой они заехали в торговый центр в Оэйрасе и набили багажник припасами. Маргарита потребовала новый мультик и набрала целую тележку конфет. «Это дъя дъюзей», — заявила она, решительно отметая любые возражения. Томаш давно перестал бороться с немыслимой щедростью дочери, порой принимавшей угрожающие масштабы. Из супермаркета они отправились в павильон с фаст-фудом за гамбургерами и картошкой-фри.
— Как тебя зовут? — спросила Маргарита у паренька за кассой.
— А? — вздрогнул тот и перегнулся через прилавок, чтобы разглядеть малышку.
— Как тебя зовут?
— Педру, — ответил он и вновь принялся подсчитывать деньги.
— Ты женат?
Парень, не ожидавший от девчушки такого взрослого вопроса, засмеялся.
— Я? Нет…
— Есть подъужка?
— Эээ… Да.
— Къасивая?
— Маргарита, — вмешался Томаш, заметив, что дочь вогнала мальчишку в краску. — Оставь сеньора в покое, ему нужно работать.
На мгновение девочка замолчала. Ровно на одно мгновение.
— Поцеуй ее в губы, хоошо?
— Маргарита!
Дома они поужинали перед телевизором, с наслаждением слизывая с пальцев жир и кетчуп.
В одиннадцать Норонья с трудом уговорил ее лечь в постель. Маргарита потребовала читать ей про Золушку, но, вопреки обыкновению, не заснула на первой же странице.
— Чем ты занималась на этой неделе? — спросил отец, оставив Золушку и принца на свадебном пиру.
— Ходийя к доктоу Оивейе.
— И что же он сказал?
— Что надо деать анаизы.
— Какие?
— Къови.
— Это что-то новенькое. Зачем?
— Я бйедная.
Томаш поглядел на дочку. Она действительно была бледнее обычного и казалась немного утомленной.
— Хм, — пробормотал Норонья. — А что еще он говорил?
— Нужна диета.
— Но ты совсем не толстая.
Маргарита пожала плечами.
— Он так сказай.
Томаш погасил ночник и получше укрыл девочку одеялом.
— А как мама? — спросил он осторожно. — Как у нее дела?
— Хоошо.
— Она грустит?
— Нет.
— Не грустит?
— Нет.
Томаша охватило разочарование.
— Думаешь, она по мне скучает? — осмелился он спросить после минутной паузы.
— Нет.
— Точно не скучает?
— Нет.
— Почему тебе так кажется?
— У нее новый дъуг.
Томас подскочил на кровати.
— Что?!
— У мамы новый дъуг.
— Друг? Какой еще друг?
— Его зовут Каос, и дед говоит, что он состоятейный. Он бойее подходящая пайтия.
XIV
Легкие.
Легкие, как шаги балерины, как лепет младенца, прикорнувшего на груди у матери, листья кружились в причудливом танце, подчиняясь прихоти теплого ветра. Налетевший невесть откуда бриз вторгся на оживленные улицы, взбаламутил бурую пыль и закрутил Старый город в золотом вихре. Уклоняясь от порывов ветра и стараясь избегать толпы, Томаш пешком пересекал Кикер-Шаар-Шкем. Тысячелетние камни словно недоверчиво наблюдали за ним, ревностно оберегая свои тайны, не спеша делиться воспоминаниями, сотканными из крови, страданий, слез и надежд. Камни, твердые, как металл, и легкие, как слоновая кость.
Легкие.
День выдался сухим и прохладным. Солнце нещадно пекло голову, но ветер пробирал до костей. Люди стекались к Дамасским воротам отовсюду, словно муравьи к улью; просачиваясь сквозь ворота, толпа растекалась на площади тягучей каплей меда. Горожане торопились кто на рынок, кто молиться в мечеть Аль-Акса, уличные торговцы тащили свои корзины, всюду слышались арабские ругательства, галдеж и смех, пахло зеленью и горячим хлебом. У северной стены Старого города прохаживались солдаты Цахала в оливково-зеленой форме с винтовками М16 наперевес. Показное равнодушие и нарочито расслабленные позы никого не обманывали: солдаты цепко вглядывались в толпу, готовые в любой момент потребовать документы или пустить в ход оружие.
Толпа вынесла Томаша на кривые улочки мусульманского квартала; португалец чувствовал себя песчинкой, подхваченной людским морем и затянутой в беспощадный городской водоворот; глядя по сторонам, он видел сувенирные лавки и лотки торговцев фруктами, заваленные горами апельсинов и связками бананов, заставленные корзинами жареных орехов и мисками оливок.
Протиснувшись сквозь игольное ушко Дамасских ворот, толпа делилась на три потока. Томаш читал названия улиц; слева начиналась Сук-Хан-Эль-Зейт с бесконечными лавчонками, аптеками и кондитерскими; справа был Индийский госпиталь и Цветочные ворота. Заглянув в карту, Норонья выбрал направление; его путь лежал прямо на юг. Но пройдя в арку и спустившись вниз по узкой улочке, он вновь оказался на развилке.
Согласно карте, длинная кривая улица шла через весь Старый город. Томаш вступил на виа Долороза в Эль-Вад и, пройдя немного, свернул на Йешиват-Торат-Хайм, оставив позади улицу, по которой Христос сделал последние в своей жизни шаги. Тесный переулок Бар-Кук, ведущий к мечети Аль-Акса и запретному для неверных храмовому комплексу Хаарам-Эль-Шариф, перекрывал армейский блокпост; очевидно, в мечети проходила служба. Улица Эль-Вад была такой узкой, что балконы и крыши нависали над ней, закрывая солнце; неласковый ветер заставлял Томаша ускорять шаги, обгоняя собственную тень, стремительно продвигаться вперед, не глядя по сторонам, не замечая ни пестрых лавок, ни резных дверей с фигурными медными и бронзовыми ручками. Миновав Хаммам-Эль-Айн, он повернул на Речов-Хашальшелет, прошел насквозь армянский квартал и оказался у медресе Таштамурийя, на границе мусульманского и еврейского города. Гвалт и теснота арабских улочек остались позади; вокруг царила пасторальная тишина, только птицы щебетали, и ветер гудел в кронах деревьев. Добравшись до Шоней-Халахот, португалец разыскал нужный дом. На двери красовалась блестящая металлическая табличка с надписью на иврите и чуть ниже, маленькими буквами по-английски: «The Cabbalah Jewish Cuarter Center».[77] Норонья надавил черную кнопку звонка; послышались шаги, дверь приоткрылась. Молодой человек с жидкой бородкой и в круглых очках вопросительно уставился на пришельца.
— Boker tov,[78] — учтиво поздоровался юноша. — Ма uchal laasot lemaancha?[79]
— Shalom,[80] — ответил на приветствие Томаш, торопливо листая разговорник. — Эээ… eineni yode'a ivrit.[81] — Он поглядел на молодого израильтянина, гадая, понял тот хоть что-нибудь или нет. — Do you speak English?
— Ani lo mevin anglit,[82] — ответил юноша, виновато покачав головой. Португалец в раздумье огляделся по сторонам.
— Гм… Соломон?.. — догадался он назвать имя человека, которого разыскивал. — Ребе Соломон Бен-Порат?
— Ah, ken,[83] — обрадовался юноша и широко распахнул дверь. — Be'vakasha![84]
Молодой человек провел Томаша в небольшую, богато обставленную гостиную, вежливо произнес «slach li»[85] и с коротким поклоном удалился. Томаш присел на край дивана и огляделся. Мебель была темного дерева, картины на стенах изображали сцены из Ветхого Завета; в воздухе витал характерный запах старых книг, теплого воска и камфары. В комнате играли пробивавшиеся сквозь маленькое окошко золотые лучи.
Через несколько минут в коридоре послышались голоса, и на пороге появился крепкий, коренастый семидесятилетний старик. На плечах старого талмудиста лежал белоснежный талит с ярко-синими полосами по краям, молитвенное одеяние правоверного иудея, лысую голову покрывала черная бархатная ермолка, окладистая серебряная борода придавала ему сходство не то с Санта-Клаусом, не то с одним из волхвов.
— Шолом алейхем, — тепло приветствовал он гостя. — Я раввин Соломон Бен-Порат, — английская речь давалась старику не без труда. — С кем имею удовольствие говорить?
— Я профессор Томаш Норонья из Лиссабона.
— А, профессор Норонья! — радостно воскликнул Соломон, энергично пожимая португальцу руку. Его ладонь была сухой и морщинистой, но твердой. — Na'im le'hakir otcha!
— Прошу прощения.
— Очень рад познакомиться, — повторил раввин по-английски. — Как долетели?
— Хорошо, благодарю вас.
Старик знаком пригласил гостя следовать за собой и повел его по длинному коридору, на ходу рассуждая о том, какая все-таки удивительная штука самолеты, огромные, тяжеленные, а летают быстрее Ноевой голубки. Сам он двигался медленно: мешали одышка и тучность. В конце коридора располагалась библиотека с массивными книжными шкафами и большим дубовым столом; раввин усадил Томаша на стул и устроился напротив.
— Это наш зал приемов, — объяснил он на своем гортанном английском. — Хотите что-нибудь выпить?
— Нет, спасибо.
— Даже воды?
— Что ж… От воды не откажусь.
— Хаим! — позвал старик, повернувшись к дверям. — Ma'im.[86]
В библиотеку вошел молодой человек с маленьким подносом, на котором стояли графин и два стакана. Он был лет тридцати, худощавый, чернобородый, в вязаной ермолке.
— Это Хаим Насси, — представил вошедшего раввин и со смешком добавил: — Царь иудейский.
Томаш и Хаим обменялись рукопожатиями.
— Вы и есть профессор из Лиссабона? — спросил Хаим по-английски.
— Да.
— О! — воскликнул молодой еврей с неожиданным воодушевлением. — Это просто замечательно.
— Хаим португальского происхождения, — пояснил старик. — Верно, Хаим?
— Да, — нехотя признался Хаим, смущенно отводя глаза.
— Правда? — удивился Томаш. — Вы португальский еврей?
— Да, — признался Хаим. — Моя семья из сефаради.
— Вы знаете, кто такие сефаради? — спросил Соломон. — Пиренейские евреи. Их изгнали с Пиренейского полуострова приблизительно в пять тысяч двести пятидесятом году. По еврейскому календарю, разумеется.
— Понятно. По христианскому календарю это было в пятнадцатом веке.
— Возможно, но мы считаем по-своему, — Соломон отпил воды. — Если я не ошибаюсь, в изгнании оказалось больше миллиона сефардов. Они бежали в Северную Африку, Османскую империю, в Новый свет, Италию и Голландию.
— Именно, — перебил Томас. — Спиноза жил в Голландии, но происходил из Португалии.
— Да, — подтвердил раввин. — Сефарды — самая благородная ветвь еврейского народа, у них всегда ценилось образование. Это они первыми стали перебираться в Америку.
— Португальцы совершили чудовищную глупость, изгнав евреев! — воскликнул Томаш с неподдельной горечью. — И дело не только в человеколюбии. С тех пор начался упадок страны.
Соломон Бен-Порат явно заинтересовался.
— Правда? Вы действительно так думаете?
Томаш пристально смотрел на собеседника.
— Это же само собой разумеется. Как, по-вашему, что делает богатым человека или государство?
— Странный вопрос… Деньги, конечно. У кого много денег, тот и богат.
— Логично, — согласился португалец. — Но пару лет назад мне довелось прочесть книгу одного гарвардского профессора «Богатство и бедность государства», в которой изложен принципиально иной взгляд на проблему. Саудовская Аравия богатая страна? Денег у нее много. Но что делают саудиты, когда им требуется построить мост? Приглашают немецких инженеров. Куда они обращаются, чтобы закупить партию автомобилей? В Детройт. А мобильные телефоны приобретают в Финляндии. И так со всем. — Он кивнул раввину, приглашая его присоединиться к дискуссии. — А теперь скажите мне, что они станут делать, когда закончится нефть?
— Когда закончится нефть?
— Да. Что станет с Саудовской Аравией, когда она больше не сможет торговать нефтью?
— Тоже мне, вопрос, — усмехнулся старик. — Она снова станет бедной страной.
— Точно. Снова станет бедной. — Томаш развел руками, соглашаясь с очевидным. — Не деньги делают страну богатой. Знания. И деньги, заработанные благодаря им. Торговать нефтью мало, нужно самим строить мосты, делать машины и мобильные телефоны, сохранять и приумножать капитал. Вот от чего зависит благосостояние и человека, и государства. В эпоху Великих географических открытий Португалия открылась для знания. Принц Энрике брал на службу лучшие умы со всего света, поощрял изобретение новых навигационных приборов, строительство новых типов судов, создание нового оружия, развитие картографии. Наступил век интеллектуального расцвета. Его обеспечили сыны Португалии и чужеземцы, среди которых были не только христиане. Вклад евреев в Открытия трудно переоценить. Они приносили в страну знания, открывали новые горизонты, налаживали связи, находили средства. В Кастилии евреев преследовали, в Португалии привечали. Так продолжалось до конца XV века. Католические короли изгнали евреев из Кастилии в 1492 году, и португальский король Жуан II предоставил беженцам убежище. Но его наследник Мануэл I, мечтавший о королевстве размером с весь полуостров, начал заигрывать с кастильцами. Он посватался к их принцессе, в надежде расширить свои владения при помощи династического брака, а та, будучи фанатичной католичкой, согласилась на брак лишь при одном условии: изгнания евреев из Португалии. В нормальной ситуации король пришел бы в ярость и разорвал помолвку. Но Мануэл мечтал о Португалии размером со всю Испанию и потому решил пойти на хитрость. Вместо того чтобы изгнать иудеев, он повелел их крестить. Так в 1497 году все португальские евреи против воли приняли веру Христову. Их стали называть «новыми христианами». Излишне говорить, что большинство из них тайком сохраняли приверженность старой вере. В 1506 году в Лиссабоне впервые произошел погром, были убиты двадцать тысяч человек. В Испании такие ужасы давно никого не удивляли, но для Португалии это была катастрофа. Евреи бежали из страны, унося с собой свое главное богатство: знание, пытливый ум и деловую хватку. В довершение всего в государстве появилась инквизиция. Это случилось в 1540 году, когда мечта короля Мануэла наконец осуществилась, и Португалия объединилась с Испанией, только под эгидой Испании. Мракобесие победило. Страна закрылась от мира. Научные книги оказались под запретом, образование попало под тотальный церковный контроль, и Португалия погрузилась в пучину фанатизма и невежества. С тех пор начался упадок, который не суждено было преодолеть.
— Между прочим, наш Хаим происходит из очень знатного рода португальских сефардов. — Старик обратился к ученику: — Не так ли, Хаим?
— Так, учитель, — потупился молодой человек.
— Как звали ваших предков? — спросил Томаш.
— По-португальски или по-еврейски?
— Ну… И так, и так.
— В Португалии они приняли фамилию Мендеш, но их настоящее имя было Насси. Мои предки бежали из Лиссабона в Голландию, а оттуда в Турцию. Глава семьи Грасия Насси сумела наладить прочные торговые связи с оставшимися в Португалии евреями и добилась расположения самого султана. Даже убедила его объявить эмбарго на торговлю со странами, где преследовали иудеев.
— Наш народ и по сию пору чтит госпожу Грасию Насси, — добавил Соломон. — Эту женщину называли Еврейским Сердцем, а поэт Самуил Уске посвятил ей поэму «Утешение Израиля».
— У Грасии был племянник Иосиф, — продолжал рассказ Хаим. — Он сделался богатым и влиятельным банкиром, кредитором доброй половины европейских монархов и советником султана, за что тот пожаловал ему ханский титул. Иосиф и Грасия выкупили у турок Тибериады, чтобы евреи могли вернуться в землю обетованную.
Томаш улыбнулся.
— Так это ваша семья развязала ближневосточный конфликт?
— Интересный вопрос, — сказал молодой еврей, почесав бороду. — Мне больше нравится считать, что мои предки послужили орудиями Господа.
— Лучше не скажешь, — поддержал раввин. — Иосиф Насси был сказочно богат, так богат, как сам царь иудейский. Кстати, Насси на иврите означает «царь». — Он потрепал ученика по голове. — Вот почему мы зовем «царем иудейским» нашего Хаима.
— Какая потеря для моей страны! — сокрушенно произнес Томаш. — Представляете, какую пользу могла бы принести семья Насси Португалии?
Соломон посмотрел на большие настенные часы.
— Но вы, я полагаю, пришли сюда не для того, чтобы говорить о прошлом.
Томаш, спохватившись, полез в свой старый портфель и достал стопку ксерокопий.
— Я вот зачем пришел, — проговорил он торопливо. — Как я уже говорил по телефону, мне нужна ваша помощь с этими документами. — Норонья протянул раввину всю стопку и еще один лист отдельно. — Особенно вот с этим.
Нацепив маленькие круглые очки, Соломон принялся изучать покрывавшие лист каракули.
— Что это? — спросил он наконец.
— Подпись Христофора Колумба.
Старик задумчиво погладил серебряную бороду, опустил очки на кончик носа и поглядел поверх стекол на Томаша.
— Судя по всему, это много больше, чем просто подпись.
Португалец кивнул.
— Я так и думал, — признался он. — Это как-то связано с кабалой?
Соломон сдвинул очки на переносицу.
— Может быть, очень может быть, — бормотал он вполголоса, так и сяк переворачивая лист и касаясь букв чуткими худыми пальцами. — Боюсь, мне понадобится время, чтобы заглянуть в книги и посоветоваться с друзьями. — Старик вздохнул и снова поглядел на часы. — Сейчас одиннадцать… Так… дайте подумать… А что если вам вернуться сюда к пяти?
— Конечно.
Томаш встал, Хаим, повинуясь молчаливому приказу учителя, последовал его примеру.
— Пусть Хаим идет с вами. Он отличный гид и прекрасно знает Старый город. — Раввин махнул рукой. — Lehitra'ot.[87]
Португалец и его провожатый отправились в город, а старый каббалист склонился над столом, поглощенный загадкой подписи Христофора Колумба.
Солнце над еврейским кварталом стояло высоко, но воздух по-прежнему оставался сухим и свежим. Томаш едва поспевал за Хаимом, на ходу застегивая куртку.
— Что вы хотели посмотреть? — спросил израильтянин.
— То же, что и все. Гроб Господень и Стену Плача.
— С чего начнем?
— А что ближе?
— Западная стена, — ответил Хаим, указывая направо. — Отсюда пять минут.
И они направились к священной для любого иудея стене. Миновав Йешиват-Эц-Хайм, Томаш и Хаим вышли на площадь Хурва. Это было единственное просторное место во всем Старом городе. На широкой площади, среди кофеен, летних веранд, сувенирных лавок и деревьев доминировали четыре сефардийских синагоги, построенных выходцами из Испании и Португалии, руины синагоги Хурва и стройный минарет мечети Сидна-Омар. Израильтянин с португальцем повернули на восток, прошли под сводами знаменитой Тиферет-Исраэль и снова углубились в лабиринт узких кривых улочек.
— Как вы думаете, раввин сумеет разобраться с подписью? — спросил Томаш, глядя себе под ноги.
— Ребе Соломон Бен-Порат один из лучших каббалистов в мире. Желающие познать секреты Торы съезжаются к нему отовсюду. Он не какой-нибудь там Chelmer chochem.
— Не какой-нибудь кто?
— Chelmer chochem.
— Что это такое?
— Chelmer chochem значит мудрец из Хельма. Это у нас шутка такая, — засмеялся израильтянин. — Хельм — город в Польше, где всегда жило много евреев. Знаете, англичане рассказывают анекдоты про ирландцев, французы про бельгийцев, а мы про раввинов из Хельма. Когда кто-нибудь несет чушь, его называют хельмским мудрецом.
— Мы в Португалии называем такое мудростью дураков, — прокомментировал Томаш.
— Мы, евреи, больше всего любим анекдоты о самих себе. Евреи обожают подшучивать над евреями, над нашим особым складом ума. — Хаим поднял руку в предостерегающем жесте. — Но учтите, мы не выносим, когда это делают другие.
— Прямо как мы, португальцы! — обрадовался Томаш. — Когда португалец ругает соотечественника, это нормально. Но не дай бог иностранцу начать ругать португальца.
— Есть одна вещь, над которой мы смеемся особенно часто. Еврейская chutspah.
— Как вы сказали?
— Chutspah. Это можно перевести как наглость, дерзкий до бесстыдства вызов окружающим и обстоятельствам. Как у того еврея, которого судили за убийство родителей: обвиняемый просил суд о снисхождении на том основании, что он круглый сирота.
За синагогой Йешива открывался вид на широкую площадь, обрамленную стеной из огромных известняковых глыб. Люди разных возрастов, все с покрытыми головами, подходили к стене, надолго застывали перед ней, беззвучно шевеля губами и касаясь ладонями шершавых древних камней. Место для молитвы было отгорожено от площади кованой решеткой, в орнаменте которой проглядывали очертания миноры.
— Kotel Hamaaravi, — торжественно произнес Хаим. — Западная стена.
Лицезреть воочию сцену, сотни раз виденную на фотографиях и по телевизору, было немного странно.
— Почему это место стало главной иудейской святыней? — спросил португалец.
Хаим указал на сверкающий в солнечных лучах купол, поднимавшийся над стеной.
— Все началось здесь. Под этим куполом покоится камень, на котором Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака. Он уже занес нож, но в последний момент ангел отвел его руку. Мы называем этот камень even hashetiah, камнем творения, с которого начался мир. Здесь, на горе Мория, или Храмовой горе, царь Соломон воздвиг первый храм. После его смерти начались усобицы, потом пришли ассирийцы, за ними вавилоняне, которые храм разрушили. Но вавилонян сокрушили персы, и евреи снова стали хозяевами на своей земле. Тогда был построен второй храм. Прошло время, началась эпоха Александра Македонского, Ближний Восток оказался под властью греков, которых сменили римляне. Те предпочитали, чтобы иудеями правили иудейские цари. Незадолго до рождения Христа царь Ирод расширил храм и обнес его стеной, от которой осталось только западное крыло. В 66 году евреи восстали против римского владычества. Началась Иудейская война. В 68-м римляне заняли Иерусалим и почти до основания разрушили храм. В истории нашего народа это был самый черный год. Вот почему Западная стена называется стеной Плача. Здесь иудеи оплакивают свой храм.
Они подошли ближе. Поверхность стены была грубой, неровной. Древние камни кое-где поросли мхом и травой. В расщелинах между ними гнездились воробьи и ласточки, их веселое щебетание звонко разносилось над площадью.
— Но почему этот храм был так важен? — спросил Томаш, медленно шагая вдоль стены.
— Храм — наша святыня. Это центр вселенной, место, из которого на землю исходит благодать. Место почитания Господа и дарованной им Торы. Здесь Авраам готовился принести в жертву Исаака, здесь Иаков узрел лестницу в небо. Когда римляне разрушали храм, ангелы укрыли Западную стену своими крыльями. Пророки говорят, она простоит вечно. И благодать никогда не покинет место, где стоял храм. — Хаим приложил ладонь к нагретому солнцем камню. — Видите эти глыбы? Самая большая из них весит четыреста тон. Самый тяжелый камень в истории архитектуры. Ничего подобного не было ни в Древней Греции, ни в Египте с его пирамидами, ни в Нью-Йорке и Чикаго на строительстве небоскребов. Ни один современный кран не в состоянии поднять такой груз. — Израильтянин перевел дыхание. — В Талмуде сказано, что, когда храм был разрушен, Господь закрыл все врата в небо. Все, кроме одних, Слезных врат. Отныне евреи приходят к Западной стене, чтобы молиться и плакать. Молитва, прошедшая сквозь Слезные врата, поднимается прямо к Богу. Мидраш учит нас, что Господь никогда не отворачивается от этого места. В Песни Песней сказано: «Он здесь, за нашей стеной».
— Но если храм так важен для вас, почему бы его не отстроить заново?
— Возрождение храма начнется с приходом мессии. Третий храм должен вырасти ровно на том месте, где стоял первый. Мидраш учит, что он уже есть на небесах, и в свое время появится на земле. А время это близко. Все говорит об этом. Главная примета — возвращение евреев в землю обетованную. С пришествием мессии начнется великое строительство на горе Мория, на Храмовой горе.
— А как вы узнаете мессию, как отличите его от самозванца?
— Настоящий мессия обязательно возродит храм.
— А как же мечеть Аль-Акса и Купол Скалы? — спросил Томаш, переведя взгляд на мусульманские святыни за стеной. — Чтобы построить третий храм, придется уничтожить главные реликвии ислама и все вокруг них. Все мусульмане почитают Хаарам-Эль-Шариф. Что они скажут, если он будет разрушен?
— Господь и его посланник мессия позаботятся об этом.
Португалец скептически поморщился.
— Хотел бы я на это посмотреть, — пробормотал он. Хаим промолчал, и Томаш заговорил о другом. — Послушайте, вокруг так много гор, как вышло, что именно эта стала святыней и для христиан, и для мусульман, и для иудеев?
— Ответ на ваш вопрос коренится в истории этой земли. Римляне преследовали не только иудеев, но и христиан. Так продолжалось до IV века, когда император Константин принял крещение. Его мать императрица Елена приказала построить по всему Иерусалиму церкви в местах, связанных с Христом. Иерусалим обрел былое величие. В 614 году в Палестину вторглись персы и вместе с евреями устроили резню христиан. Римляне, точнее, уже византийцы вернулись в 628 году. В это же время пророк Магомет прибыл в Мекку, чтобы провозгласить появление новой религии. Спустя десять лет после смерти Магомета его последователь халиф Омар изгнал византийцев. Мусульмане почитают Ветхий завет и признают Авраама пророком, так что для них Иерусалим тоже священный город. Они верят, что Магомет вознесся на небо с камня, на котором Авраам готовил сына в жертву. Прогнав римлян, арабы построили на горе Мория две святыни, мечеть Аль-Аксу в 691 году и Купол Скалы в 705-м. Вместе они составляют Хаарам-Эль-Шариф. — Рука Хаима описала в воздухе дугу справа налево над стеной Плача и увенчанным солнечной короной Старым городом. — Иудеям и христианам было запрещено приближаться к горе Мория, но они по-прежнему могли жить в городе. Некоторое время все жили мирно, пока в XI веке политика мусульман не поменялась. Тогда-то все и началось. Они стали преследовать иноверцев. Христианская Европа ответила на притеснения крестовыми походами. Крестоносцы покорили Иерусалим и основали орден в честь храма, их еще называют тамплиерами. Захватив Хаарам-Эль-Шариф, христиане устроили в нем раскопки. Так нашли Ковчег Завета и чашу, из которой Иисус пил на тайной вечере и в которую собрали его кровь, когда он был распят.
— Святой Грааль.
— Именно. Есть версия, что там же находилась плащаница, которой обернули тело Христа. С тех пор гора Мория сделалась священной и для христиан.
Собеседники подошли к месту для молитвы. Перед ним размещался фонтанчик, в котором следовало омыть руки, дабы не осквернить святыню нечистым прикосновением. Мужчины и женщины молились порознь, разделенные мехицей. Все как один раскачивались из стороны в сторону, подчиняясь изматывающему монотонному ритму, и бормотали себе под нос, время от времени заглядывая в маленькие книжечки.
Израильтянин и португалец обошли площадь с севера, миновали Хашальшелет и Библиотеку Халиди, мрачноватое здание, в котором нашел последний приют жестокий эмир-татарин Барка-хан, и оказались на улице Давида. Было уже два пополудни, и они проголодались. Хаим повел гостя в уютный ресторанчик в тихом Еврейском квартале. Там они отведали хуммус из теста и мясного фарша, приправленный оливковым маслом с лимоном, и табуле, смесь из пшеничной каши, овощей, томатной пасты, лука и специй. На горячее заказали кебабы в пите; Хаим настойчиво рекомендовал «Кибуц Цора», но Томаш счел его слишком крепким и предпочел израильское пиво «Маккаби». Когда пришло время десерта, португалец смог отведать настоящей бахлавы с орешками в меду, Хаим отдал должное тягучей сладкой халве из зернышек сезама. Под занавес официант принес кацар, крепкий кофе в жестяных кружках.
После обеда Томаш и Хаим неторопливо прошлись по улице Давида, отделявшей армянский квартал от христианского; узкую улочку заполонили разномастные лавчонки, в которых торговали одеждой, коврами, деревянными статуэтками на религиозные темы и сувенирами: всем, что могло бы привлечь туристов и удовлетворить взыскательных и набожных паломников. Не дойдя совсем немного до монументальных врат Яффы и Цитадели, путники свернули на облюбованную ювелирами улицу Муристан и очутились в христианском квартале; дальше их путь лежал мимо неоготической церкви Спасителя, через шумный Сук-Эль-Даббага. Наконец впереди возникли очертания храма Гроба Господня. Какой-то араб предложил свои услуги в качестве гида, но Томаш, наслышанный о местной манере ведения дел, наотрез отказался.
Хаим и Норонья вошли под тяжелые своды, навалившиеся на мраморные колонны. Храм был выстроен на Лысой горе, там, где римляне распяли Христа. Форма горы определила его архитектуру. Латинская часовня стоит ровно на том месте, где палачи поднимали Иисуса на крест. Ниша в стене обозначает Stabat Mater, место, где, онемев от горя, застыла Богородица. Православная часовня располагается у подножия креста; в ее узкие стрельчатые окна виден голый, пологий склон.
Томаш подробно знал историю этого места, знал, что нет никаких данных, свидетельствующих о том, что Иисус Христос умер именно здесь, но тем не менее испытал сильное волнение. Он совсем не слушал рассказ своего вежливого гида о том, как в 325 году Константин созвал вселенский собор, чтобы обсудить природу Святой Троицы, как на соборе присутствовал патриарх Иерусалима епископ Макариос, который убедил мать императора Елену разыскать в Святой земле места, связанные с земной жизнью Христа. О том, как посланники императрицы якобы разыскали Вифлеемскую пещеру, где родился Иисус, и дом на Масличной горе в Иерусалиме, где он прощался с апостолами. И о том, как тогда же было решено, что Распятие имело место на северо-западе Старого города, на вершине Голгофы, иными словами Лысой горы. И как во времена Адриана там было воздвигнуто два языческих храма, которые Елена приказала снести. Она сама, наугад, выбрала место, где воздвигли крест. Гора Голгофа почти идеально подходит под описание из Евангелия: там говорится, что распятие произошло за древними городскими стенами, на голой горе с множеством пещер. Позднейшие археологические находки говорят в пользу этой версии.
Храм Гроба Господня представлял собой типичную романскую церковь, выстроенную прямо над пещерой, в которой после снятия с креста погребли Спасителя. Стены украшали барельефы на тему тайной вечери. Хаим как правоверный иудей не стал заходить в христианское святилище и предпочел остаться снаружи, чтобы полюбоваться Католиконом, покрывавшим центральный неф куполом, который православные считают центром мироздания. Томаш безропотно отстоял очередь и склонил голову, вступая под низкие своды. При виде простого надгробия его охватил трепет, в горле запершило, на глаза навернулись слезы, но сзади уже напирали другие паломники, и португалец вышел на свет, не пробыв в храме и минуты; израильтянин поджидал снаружи, поглядывая на часы.
— Уже половина пятого, — сообщил он. — Нам пора идти.
На этот раз Соломон Бен-Порат был не один, напротив него за столом сидел худощавый близорукий человек средних лет с длинной черной бородой клином, одетый в бекешу, традиционное хасидское облачение.
Заметив вновь прибывших, раввин с радушной улыбкой приподнялся из-за стола.
— Наконец-то! — воскликнул он. — Ma shlomcha?[88]
— Tov,[89] — отозвался Хаим.
— Проходите, проходите, — пригласил старик по-английски, приветливо махнув рукой. — Профессор Норонья, — он произнес это раскатисто, налегая на «р», так что получилось «Прррофессоррр Норррронья», — позвольте представить вам моего друга, раввина Авраама Гуревица.
Худощавый человек встал, чтобы поприветствовать Томаша и Хаима.
— Yom tov,[90] — сказал он, сложив ладони.
— Ребе Гуревиц любезно согласился нам помочь, — объяснил Соломон, поглаживая бороду. — Как я вам сказал, мне понадобилось проконсультироваться со специалистами. А ребе Гуревиц в свое время изучал рукописи Христофора Колумба, прежде всего дневник и пометки на полях Книги пророков, он знает ответы на вопросы, которые у меня вызвали затруднение.
— Большое спасибо, — поблагодарил Томаш Авраама Гуревица.
— Прежде чем мы начнем нашу беседу, позвольте задать вам один вопрос. — Соломон глядел на португальца с веселым любопытством. — Я прошу прощения, но известно ли вам что-нибудь о кабале?
— Если честно, совсем немного, — смущенно пробормотал Норонья. — Боюсь, у меня лишь самые общие представления. С кабалой как предметом исследования я прежде не сталкивался.
— Right, — кивнул старик. На его рокочущем английском это слово звучало как rrrrright. — Кабала, профессор Норонья, это мистическое учение, помогающее постичь тайны божьего мира. Это слово происходит от глагола lecabel, «понимать». Это инструмент познания вселенной, ключ к пониманию замысла Того, Чье Имя Нельзя Называть. — Соломон Бен-Порат говорил внушительно и вдохновенно, словно Моисей, проповедующий своему народу десять заповедей. — Одни говорят, что первым каббалистом был праотец Адам. Другие называют Авраама или Моисея, предполагаемого автора Torat Mosheh, или Пятикнижия. Однако на самом деле как единое учение кабала сложилась куда позже. Чтобы не запутать окончательно нашего гостя, я стану пользоваться христианской хронологией. — Раввин понизил голос, словно опасаясь, что бог может его услышать. — Первые попытки его создания относятся к первому веку до нашей эры, а всего история кабалы насчитывает семь этапов. Первый продолжался до десятого века. Тогдашние последователи учения старались познать божественную сущность и божественный замысел при помощи медитации. Следующий период продолжался приблизительно с тысяча сто пятидесятого по тысяча двести пятидесятый год. То была эпоха славы немецких каббалистов, проповедовавших крайний аскетизм и праведную жизнь. Четырнадцатый век стал столетием герметической кабалы, связанной с именем Авраама Абулафилы. Он предложил новые методы толкования сакральных текстов и попытался исчислить имена Господа из еврейского алфавита. Четвертый этап длился все четырнадцатое столетие и был ознаменован появлением книги «Зогар», которую приписывают Моисею де Леону. Книга «Зогар» — это тайное знание о творении, вселенной и боге. — Соломон негромко прокашлялся и продолжал рассказ. — Пятый этап тоже начался на Пиренейском полуострове, после того как изгнанные из Испании евреи перебрались в Португалию. Среди беженцев был великий каббалист и мистик Ицхак Лурия, создавший теорию изгнания, в которой учение соединяется с мессианской идеей, верой в коллективное покаяние и спасение. За этим периодом логично последовал шестой, который принято называть псевдомессианством. Он захватывает семнадцатый и отчасти восемнадцатый века. Движение хасидизма, возглавленное Исраэлем Бааль-Шем-Товом, во многом стало реакцией на мессианство. Хасиды сделали кабалу менее элитарным и герметичным учением, приблизили многие ее концепции к массовому восприятию.
— А как же исчисление букв и Древо Жизни? — встрял Томаш, украдкой заглянув в блокнот.
— Профессор Норонья, вы смешиваете совершенно разные вещи, — терпеливо улыбнулся Соломон. — То, что вы назвали исчислением букв, на самом деле гематрия. Эта техника основана на отождествлении букв еврейского алфавита с определенными цифрами. Согласно гематрии, первые девять букв соответствуют единицам, следующие девять десяткам, последние — сотням. — Старик раскинул руки, словно хотел обнять весь мир. — Все, что существует во вселенной, взаимосвязано, все имеет начало и конец, причины и следствия, все существует само по себе и все взаимосвязано. Чтобы объяснить эту связь, математики придумали теорию хаоса, а физики, наблюдая за странным поведением квантовых частиц, вывели принцип неустойчивости. Мы, каббалисты, предпочитаем гематрию. Во втором-четвертом веке христианской эры, появилось коротенькое сочинение под названием «Сефер Йецира», или «Книга творения», в котором описывалось, как Бог создал мир при помощи слов и чисел. Подобно современным математикам и физикам, автор «Сефер Йецира» пытался проникнуть в замысел Создателя посредством нумерологии. Так родилась гематрия. Эта методика связывает каждое число с той или иной буквой еврейского алфавита, ведь именно иврит был языком Творения. И алфавит, и числа имеют божественную природу. Гематрия позволяет превращать буквы в цифры и делать весьма интересные выводы на основе этих превращений. — Соломон произнес «verrry intrrresting discoverrries», что само по себе прозвучало довольно загадочно. — Например, слово shanah, «год», равно тремстам пятидесяти пяти, а это число дней в лунном календаре. Слово heraryon, «беременность», равно двумстам семидесяти одному: ровно столько дней длится беременность.
— Напоминает анаграмму.
— Это и есть анаграмма, из букв и цифр. Хотите еще примеры? Число слова av — «отец» — три, а слова em — «мать» — сорок три. Если их сложить получится сорок четыре, а это число равно слову ieled, «ребенок». Сумма отца и матери равна ребенку. Число одного из имен божьих, Elohim, восемьдесят шесть, совпадает с числом слова «природа», hateva. То есть Бог и природа одно. Другое имя господа — Yhvh elohei Israel — равно шестистам тринадцати. Словосочетание «Mosheh rabeinu», то есть «учитель Моисей», тоже равно шестистам тринадцати. В Торе шестьсот тринадцать разделов. Господь заповедал Моисею шестьсот тринадцать законов Писания. — Израильтянин нарисовал в воздухе круг. — Тора как единый организм, в ней все взаимосвязано и у всего есть потайной смысл. Вот еще пример. В Книге Бытия сказано, что Авраам привел на поле боя триста восемнадцать рабов. Имя одного из этих рабов, Элиезера, составляет как раз триста восемнадцать. Получается, что Авраам привел с собой всего одного раба.
— Иными словами, Библия полна зашифрованных сообщений?
— Можно сказать и так, — подтвердил Соломон с мягкой полуулыбкой. — Вам известно, с какого слова начинается Писание?
— Нет.
— Bereshith. В начале. Это слово можно разделить на два. Веге, «творить», и shith, что означает «шесть». Господь создал мир за шесть дней, а на седьмой отдыхал. Весь смысл Творения сосредоточен в первом слове Библии. Bereshith. В начале. Веге и shith. Творить и шесть. Шесть — число гексаграммы, двойного треугольника. Такой формы был щит Давида. Теперь эту фигуру принято называть звездой Давида, она стала нашим гербом. — Соломон указал на флаг Израиля, висевший у него за спиной, синюю шестиконечную звезду на белом фоне. — Но на этом анаграммы Писания не заканчиваются. В Книге Исхода Господь говорит: посылаю тебе Моего ангела. «Мой ангел» на иврите melakhi, а это анаграмма имени Михаил, так звали ангела-хранителя евреев. Получается, что Господь послал архангела Михаила.
— Древо жизни имеет отношение к этой методике?
— Древо жизни — совсем другая статья, — покачал головой каббалист. — Человека с давних пор волнует проблема отношений с Богом. Если Бог создал мир, что есть мир за вычетом Бога? Если Бог создал мир, отчего он так несовершенен? Ответы на эти вопросы даны в «Сефер Йецира», мистическом тексте, который описывает творение при помощи чисел и слов. Эту книгу приписывают Аврааму, но в действительности ее автор ребе Акива. «Сефер Йецира» настаивает на божественной природе чисел и повествует о тридцати двух путях мудрости, которыми шел Господь, творя вселенную. Тридцать два пути взялись из суммы десяти простых чисел, именуемых Сефирот, и двадцати двух букв еврейского алфавита. У каждой буквы и каждой сефиры есть тайный смысл. Первая сефира обозначает живое божество, воплощенное в голосе, дыхании и жесте. Вторая символизирует святой дух, третья небесные эманации, нисходящие на землю, и так далее. Десять сефирот воплощают божественный замысел творения. Они представлены в виде Древа Жизни, структуры, лежащей в основе всей вселенной и любого из ее элементов. В книге «Зогар» сефирот представлены как десять атрибутов божества. Первая сефира keter воплощает величие. Вторая, chochmah, мудрость. Третья, binah, прозорливость. Четвертая, chesed, бесстрашие. Пятая, guevurah, доблесть. Шестая, tiferet, красоту. Седьмая, netzach, вечность. Восьмая, hod, красоту. Девятая, iesod, благодать. Десятая сефира, malchut, символ власти.
— Пожалуйста, помедленнее, — взмолился Томаш, с чудовищной скоростью строчивший в блокноте. — Если можно.
Португалец заблудился в чужом алфавите и сильно отстал от своего проводника в мире кабалы. Соломон дождался, пока историк изобразит на листке древо Сефирот и подпишет название каждой из его ветвей, и продолжил рассказ.
— В книге «Зогар» рассматриваются разные толкования Древа Жизни. Его можно читать по вертикали, по горизонтали, с начала и с конца. Движение от первой сефиры к последней воспроизводит Творение. Двигаясь в обратном направлении, мы возвращаемся к его истоку, подбираясь к тайне божественной сущности. Десяти сефирам соответствуют десять имен Господа. Keter означает «Яхве», malchut — «Адонай». У каждой сефиры свой архангел. Keter, к примеру, связана с архангелом Метатроном. При помощи сефирот можно исчислить все что угодно: звезды, землю, человеческое тело.
Едва старик отошел от герметической кабалистики и вернулся на грешную землю, Томаш вновь ухватил нить повествования.
— Даже человеческое тело?
— Да, кабала рассматривает организм как микрокосм, вселенную в миниатюре. Keter это голова, chochmah, chesed и netzach правая сторона тела, binah, guevurah и hod — левую, tiferet — сердце, iesod — гениталии, malchut — ноги. — Соломон перевел дыхание и широко развел руками. — О кабале можно говорить бесконечно. Я изучаю ее всю жизнь, но вопросов у меня по-прежнему больше, чем ответов. Так что давайте на этом остановимся. Теперь вы знаете достаточно, чтобы поговорить о подписи, попавшей к вам в руки.
Томаш закрыл блокнот и подался вперед.
— Вы нашли в ней что-то кабалистическое?
Соломон улыбнулся.
— Терпение, профессор Норонья, доблесть мудрецов. Прежде чем мы обратимся к подписи, давайте проясним, известно ли вам что-нибудь о Колумбе.
— Кое-что определенно известно, — хмыкнул Томаш.
— Возможно, — согласился старый каббалист. — И все же вы наверняка согласитесь послушать, что скажет о нем ребе Авраам Гуревиц.
Бен-Порат обернулся к Аврааму Гуревицу, который обвел пытливым взглядом присутствующих, откашлялся и наконец заговорил.
— Господин профессор Норонья, — начал он негромким журчащим голосом, непохожим на орлиный клекот Соломона. — Я не сомневаюсь, что о господине Христофоре Колумбе вам известно достаточно. Так что позвольте спросить: когда именно началось его первое путешествие в Америку?
— Первое путешествие? Вы имеете в виду открытие Нового Света?
— Да, господин профессор. Какого числа господин Колумб отправился в свое путешествие?
— Постойте-ка… — замялся португалец. — Насколько я помню, он покинул порт Палос в Кадисе третьего августа 1492 года.
— А не скажете ли вы, господин профессор, когда из Испании изгнали евреев?
— Это было… в том же году.
— А точной даты исхода вы не помните?
— Нет.
Раввин выдержал театральную паузу. Все это время он пристально смотрел на португальца, наслаждаясь производимым эффектом.
— А что если я скажу, что это случилось третьего августа?
Томаш растерянно моргнул.
— Как третьего августа? В день отплытия Колумба?
— В тот же самый день.
Томаш тряхнул головой.
— Какое странное совпадение!
Тонкие губы ребе Гуревица растянулись в холодной улыбке.
— Совпадение? — переспросил он насмешливо. — Ребе Шимон Бар-Йохай говорил, что все сокровищницы Царя Небесного открываются одним ключом. А это значит, господин профессор, что совпадений не бывает. Разве совпадение, что числа господа и Моисея совпадают с числом Торы? Разве совпадение, что путешествие Колумба началось в один день с исходом евреев из Испании? Что ж, господин Норонья, если это и вправду совпадение, то действительно весьма странное. — Он взял со стола тоненькую книжку с заглавием на иврите. — Это дневник экспедиции Колумба, написанный им самим. Обратите внимание на первую страницу. — Гуревиц прочел вполголоса, с ходу переводя на английский: — «В январе их величества решили изгнать иудеев из своих владений, а мне повелели снарядить экспедицию в Индию». — Он поднял глаза и поймал взгляд Томаша. — О чем свидетельствует этот отрывок?
Португалец досадливо прикусил губу.
— Я читал дневник, но на эти слова, если честно, не обратил внимания.
— На самом деле, господин профессор, отрывок свидетельствует о двух вещах. Во-первых, решение снарядить экспедицию в Индию было принято в январе девяносто второго года. Во-вторых, королевский указ от третьего марта того же года, предписывавший всем сефардам покинуть испанские земли до третьего августа, был задуман тогда же. — Израильтянин воинственно выставил подбородок. — Еще одно совпадение?
— Сказать по правде, — удрученно проговорил Томаш, бесцельно перелистывая блокнот, — я просто не знаю, почему эти события произошли одновременно.
— Ребе Шимон Бар-Йохай учит: если хочешь понять поступок человека, задумайся о его намерениях. Что заставило Колумба упомянуть в начале дневника изгнание евреев? Неосознанный порыв? Желание обсудить актуальную тему? — Он презрительно вскинул брови, отметая столь нелепые предположения. — Или за этим стоит нечто большее? — Каббалист соединил кончики указательных пальцев. — И между двумя событиями есть какая-то связь?.. Вы слышали, господин профессор, что за день до отплытия Колумб приказал всей команде быть на борту за час до полуночи?
— Что же в этом странного?
— Такой приказ противоречит обычаям той эпохи. Но приказ есть приказ: за час до полуночи, и ни минутой позже. Знаете, что началось в полночь?
— Нет.
— Оставшихся евреев стали выгонять из домов. — Гуревиц усмехнулся. — А вы говорите, случайное совпадение. В команде было полно евреев.
— Включая самого Колумба, вы хотите сказать?
— Именно это я и хочу сказать. — Каббалист вновь обратился к дневнику. — Вот запись от двадцать третьего сентября, когда поднялся сильный ветер, и появилась угроза шторма: «Мы идем верным путем, словно евреи, которых Моисей вывел из Египта». — Он посмотрел на Томаша. — Вам не кажется странным, что католик цитирует Пятикнижие, да еще и Исход, не больно популярный у христиан, зато почитаемый иудеями? Да и сама привычка иллюстрировать любое происшествие библейской цитатой выдает иудея. Мы поступаем так по сто раз на дню, христианам же это не свойственно. — Гуревиц отложил книгу и взял со стола пухлую тетрадь, исписанную ровными рядами аккуратных букв на иврите. — Исследуя жизнь господина Колумба, я обнаружил немало любопытных деталей. Накануне отплытия ему прислали из Лиссабона астрономические таблицы, составленные ребе Авраамом Цакутой. Для португальского короля Жуана II. Эти таблицы — их еще называют путевым календарем — хранятся в Музее еврейского народа в Нью-Йорке. Я был в Нью-Йорке и заходил в музей. И знаете, что выяснил? Таблицы составлены на иврите. — На этот раз улыбка Гуревица была торжествующей. — Понимаете? На иврите. И тут возникает очередной вопрос: откуда господин Колумб знал иврит?
— Очень хороший вопрос, — вполголоса проговорил Томаш, изображая театральную реплику «в сторону». — Особенно если учесть, что речь идет о скромном ткаче.
— Прошу прощения?
— Не обращайте внимания, это я своим мыслям, — успокоил собеседника португалец, откладывая блокнот. — На самом деле у меня есть вопрос поинтереснее. Кто прислал адмиралу прибор, принадлежавший королю Жуану II? Для экспедиции, успех которой был не в интересах Португалии?
— На этот вопрос, господин профессор, у меня нет ответа, — сдался каббалист.
— Ничего страшного, господин раввин. Ничего страшного. Просто еще одна маленькая тайна в дополнение к вашей коллекции.
Ребе Гуревиц спрятал глаза в тетради.
— Есть еще кое-что, — сообщил он, полистав свои записи. — В том самом 1492 году королева Изабелла получила от своего духовника Эрнандо де Талаверы очень любопытное письмо. Господин Талавера встревожен тем, что возглавлять экспедицию доверили господину Колумбу. В письме прямо сказано: «Не приходится ли опасаться того, что богохульник Колон замыслил дать иудеям Святую землю?» Замыслил дать евреям Святую землю, — повторил Гуревиц задумчиво. — Зачем господину Колумбу это делать? Кстати, он любил перечитывать Книгу Пророков, делал пометки на полях. В дневнике упоминаются Исайя, Иезикииль, Иеремия. Все это характерно скорее для еврея, чем для христианина. Родной сын, Эрнандо Колон, писал, что предки его отца были «благородных иерусалимских кровей». — Он холодно усмехнулся и взглянул на португальца. — Пожалуй, трудно выразиться яснее.
Ребе Гуревиц захлопнул тетрадь и откинулся на стуле, давая понять, что у него все. Соломон Бен-Порат отыскал на столе оставленные Томашем бумаги, кашлянул и взял слово.
— Профессор Норонья, — его энергичный раскатистый английский совсем не походил на вкрадчивые интонации Гуревица. — Я посмотрел то, что вы мне принесли, и нашел немало любопытного, я бы даже сказал, вдохновляющего. — Выхватив из стопки нужный лист, он протянул его Томашу. — Что это?
Португалец протянул руку над столом, чтобы взять ксерокопию.
— Это… Это страница из «Historia rerum ubique gestarum» папы Пия II, книги, которая принадлежала Христофору Колумбу, а теперь хранится в Севилье, в библиотеке его имени.
Соломон ткнул пальцем в примечание на полях.
— Чья это рука?
— Колумба.
— Чудесно! — воскликнул раввин. — А вы обратили внимание, что вместо 1481 года по христианскому календарю здесь стоит 5241-й? — Соломон кивнул своим мыслям и продолжал: — Скажите-ка, профессор Норонья, у христиан есть обычай пользоваться иудейским календарем?
— Нет.
— А многие из католиков смогли бы перевести одно летоисчисление в другое?
Томаш засмеялся.
— Никто, я полагаю. Тем более дети ткачей.
— Что вы сказали?
— Ничего, — поспешно ответил Томаш. — Извините.
Старый каббалист перешел к другой пометке на той же странице.
— Обратите внимание. Говоря о разрушении второго Соломонова храма, Колумб называет его «вторым Домом» и утверждает, что это скорбное событие произошло в шестьдесят восьмом году до рождества Христова.
Раввин выразительно поглядел на Томаша, но тот лишь недоуменно пожал плечами.
— Что же в этом необычного?
— Необычного очень много, — наставительно произнес Соломон. — Во-первых, кто называет храм домом?
— Иудеи?
— И никто другой.
— Христиан в те времена волновало только разрушение Иерусалима, а Храм, тем более дом, их не заботил. В датах тоже есть несоответствие. Иудеи считают, что Храм был разрушен в шестьдесят восьмом году, а христиане говорят, что в семидесятом, округляют. — Раввин изогнул бровь. — А теперь скажите: если человек называет Храм Соломона Домом, живет по еврейскому календарю и придерживается еврейской хронологии, кто он? — Не дожидаясь ответа старик взял следующий лист. — У этой копии тоже есть пометки на полях.
Португалец бросил взгляд на листок.
— Это тоже писал Колумб, — сообщил он. — А здесь вас что привлекло?
— Гаг Магог. Точнее Гог и Магог.
— Извините, но я не понимаю.
Хаим и Гуревиц рассматривали листок с благоговением, словно священную реликвию. Потом Соломон кивнул Хаиму, и тот заговорил:
— Вы же помните, профессор, что пишет о Гоге из земли Магог пророк Иезекииль: одной из примет скорого прихода Мессии будет великая война Гога и Магога против Израиля, которая приведет к страшным бедствиям. Когда евреев изгнали из Испании, многие решили, что пророчество сбывается. А Гог и Магог — это Католические короли.
Соломон помахал в воздухе листочком.
— Зачем, как вы думаете, католик Христофор Колумб пишет на полях своей книги про Гога и Магога?
Томаш сделал очередную пометку в блокноте, потом взглянул на раввина.
— Что-нибудь еще?
— Письмо Колумба к старшему сыну Дьогу.
Старик указал на первую строку.
— Muy caro fijo,[91] — улыбнулся Томаш. — Это португализм. По-испански сын — «hijo», а по-португальски — «filho». Такой сленг принято называть португальским испанским.
— Профессор Норонья, — нетерпеливо перебил Соломон. — Мне это ни о чем не говорит. Мое внимание привлек надстрочный знак. Вот здесь. — Старик ткнул в закорючку над словами muy caro.
— Что же это, по-вашему?
— Иудейская монограмма. Здесь ее трудно узнать, но это переплетение еврейских букв hei и beth. Точнее, beth и hei, у нас ведь принято читать справа налево. Здесь зашифровано традиционное иудейское благословение Baruch haschem, «Да славится Господь». Набожные иудеи часто ставили такую монограмму в начале письма. А для сефардов, насильно обращенных в христианство, это было чем-то вроде способа сказать: мы помним о том, кто мы. Интересно, что Колумб использует монограмму лишь в письмах к старшему сыну. Отец словно хочет сказать первенцу: не забывай о своих корнях. — Соломон склонил голову. — Нетрудно догадаться, что это были за корни.
Томаш снова черкнул в блокноте.
— А дальше? — спросил он, на мгновение подняв голову.
— Что ж, пришло время поговорить о том, за чем вы ко мне пришли, — объявил Соломон. — О подписи Колумба.
— И что вы о ней думаете?
— Прежде всего должен признать, что она действительно кабалистическая.
— Я так и знал! — просиял Томаш.
— Однако тут важно знать, что кабала — система, которую можно интерпретировать как угодно. Обыкновенные коды и шифры скрывают конкретный смысл, кабала же позволяет отыскать множество смыслов.
Старый раввин положил перед собой листок с подписью Колумба и развернул его так, чтобы было видно всем.
— Как и положено в добром кабалистическом шифре, здесь скрыто множество смыслов, — вновь заговорил Соломон. — Судя по всему, мы имеем дело со смешением еврейской традиции и позднейших новшеств, введенных христианами-храмовниками. Христианские мистики, маги и философы часто обращались к кабале. Тамплиеры приобщились к ней здесь, в Иерусалиме, и разработали собственные методики, признанные традиционной иудейской школой. Колумб, судя по всему, был в курсе этих новаций. Видите буквы s на самом верху? Тамплиеры оставались христианами и пользовались латынью. S, заключенные в треугольник, означают святую троицу. Sanctus. Sanctus. Sanctus. Буква а, то есть Altissimus, появляется во второй строке, которая призвана символически связывать материю и дух. Соответственно, третью строку следует читать вместе с двумя первыми. Сначала x, потом s, что над ним, затем a, самая верхняя s, y и наконец s, которая справа. XS это Xristus, MAS — Messias, a YS — Yesus. Если читать по латыни, как сделали бы тамплиеры, получится: Sanctus. Sanctus Altissimus Sanctus. Xristus Messias Yesus. Так что перед нами, несомненно, подпись христианина.
— Христианина? — встрепенулся португалец. — Не вы ли убеждали меня, что Колумб был евреем?
— До этого мы еще дойдем, — Соломон покачал головой, мягко упрекая гостя за нетерпение. — Помните, я говорил, что кабала многозначна, она позволяет раскрыть множество тайных смыслов Священного писания? С подписью Колумба то же самое. Ребе Элазар, один из величайших каббалистов, полагал, что существуют два мира, видимый и скрытый, они противостоят друг другу и во всем друг друга дополняют. В своем единстве они составляют нашу действительность. Что касается подписи, то явный ее смысл христианский, а скрытый — иудейский. Кабалистический анализ предполагает, что каждой латинской букве соответствует еврейская. Допустим, а это alef, первая буква в слове Adonai, s — shin, как в слове Shaday. И то и другое — имена Господа. Что же получается? Shaday. Shaday Adonai Shaday. В переводе: Господь. Господь Бог Господь. А если прочесть последнюю строку справа налево, как на иврите? YMX. Y — Yehovah, m — maleh, х — xessed. «Велико милосердие Божие». За христианской молитвой скрывается иудейская. Два мира, видимый и скрытый, в неразрывном единстве.
— Поразительно!
— Не торопитесь, профессор Норонья, — призвал старик. — Это далеко не все. XMY можно прочесть на иврите, но слева направо. Давайте предположим, что y это еврейская буква ain. Тогда получится shema — «слушай» — первое слово шестого стиха Дварим: «Слушай, Израиль, Господь бог наш, бог един». Шма — главная иудейская молитва, ее обязательно произносят во время шахарит и аврит, отходя ко сну и перед лицом смерти. Это манифест монотеизма, утверждение о существовании единого божества. По легенде, этот стих был начертан на знамени в битве десяти потерянных колен. Повторяя его, всякий иудей присягает Царю небесному и заповедям. Вот какое слово Колумб избрал для своей подписи. — Каббалист погрозил кому-то пальцем. — Однако и здесь можно найти другой, глубинный смысл. Если y соответствует еврейской yud, XMY следует читать как xmi или shmi — «имя мое». То есть имя владельца подписи, Колумба. — Старик подался вперед, словно собирался возвестить о великом открытии. — Слушайте внимательно, профессор Норонья, то, что я сейчас скажу, очень важно. Осталось прочесть буквы XMY справа налево, как предписано евреям. Получится YMX. Если мы по-прежнему считаем, что у это yud, у нас выйдет новое слово. Ymx. Ymach. Если соединить два слова, будет ymach shmo. Знаете, как это переводится?
— Не знаю.
— «Имя мое скрыто».
— Боже мой! — воскликнул португалец. Недостающий кусочек паззла встал на свое место. — Colom, nomina sunt odiosa.
— Что вы хотите сказать?
— Nomina sunt odiosa. Имена неуместны. Это из Овидия. В нашем случае неуместно имя того, кто открыл Америку. Если принимать во внимание кабалистические толкования подписи, получается, это не современники считали имя Колумба неуместным, а сам Колумб. — Норонья задумался. — Потому что Колумб — вымышленное имя… Это как маска. Настоящее имя скрыто. Nomina sunt odiosa. Имен лучше не называть.
— Ymach shmo, имя мое скрыто… Но это еще не все, — продолжил раввин. — Судя по всему, Колумб поменял не только фамилию, имя тоже вымышленное. — Соломон Бен-Порат ткнул указательным пальцем в s на вершине треугольника. — Видите эти точки? Они здесь не случайно. В иврите надстрочные знаки могут означать озвончение звука, а также то, что буква является инициалом. Мы такое уже видели. Shin вместо Shaday и alef вместо Adonai. В некоторых древних языках точки могли указывать начало предложения и направление чтения, например, сверху вниз. Учение кабалы основано на вере в мистическую связь всего сущего. Наша вселенная — неразрывное единство двух миров, тайного и явного, высокого и низкого. Ребе Шимон Бар-Йохай, а он был великим каббалистом, говорил: нижний мир есть не отражение высшего, но прообраз его. А ребе Йоссеф, каббалист не менее великий, замечал: чтобы достичь вершины, нужно начинать с самого низа. В книге Тайн сказано: мир, в котором мы обитаем, неотделим от того, в который вознесутся наши души. В Изумрудных скрижалях записано: верх есть низ, и низ есть верх. Зеркало, отражение, смешение верха и низа — все это мотивы, для кабалистики весьма характерные. Прочитав подпись как подобает, сверху вниз, я решил попробовать двигаться снизу вверх и зеркально. Не скрою, результат меня поразил.
Португалец в недоумении разглядывал рисунок.
— Что это? — спросил он.
— Древо Жизни без вершины.
— Это Древо Жизни?
— Именно. Взгляните сюда. — Соломон протянул Норонье раскрытую книгу. — Вот Древо Жизни.
— Тут десять кругов, — заметил Томаш.
— Десять кругов, десять сефирот. Как положено в традиционном Древе Жизни. Но из них самые важные семь. Семь сефирот составляют Древо Жизни без вершины, его еще называют Сидящим Человеком.
Старик закрыл три верхние сефирот, keter, chochma и binah. Полученная фигура ничем не отличалась от зеркального изображения подписи Колумба.
— Видите, подпись Колумба имеет формы Древа Жизни без вершины, каждой букве соответствует сефира. Семь букв, семь сефирот.
— Но без трех символов Древо не закончено?
— Встречается Древо из пяти и даже четырех сефирот. Древо без вершины — второе по значению после полного Древа. Семь — важнейшее кабалистическое число, эта цифра означает первозданный, не тронутый искажением мир. Бог создал мир в шесть дней, а на седьмой отдыхал от трудов. — Старик подвинул к себе ксерокопию. — Зеркальное отображение подписи прямо свидетельствует о том, что Колумб намекал на свое происхождение. Верхнюю строку, как видите, составляют буквы XW. X соответствует chet или chessed, сефире, которая обозначает правую руку и символизирует добро. λ это guimel, первая буква сефиры guevura, она означает левую руку и доблесть. W это tete, tiferet, или красота, слияние доблести и добра. Колумб отсек у Древа вершину и перевернул его
с ног на голову. Кабалистический смысл всего этого прозрачен. — Палец Соломона вернулся на первую строку. — Смотрите внимательно, профессор Норонья.
Если прочесть справа налево, получится λWX, Yeshu. — Каббалист нахмурился. — Это ужасно, профессор.
— Почему? — удивился Томаш.
— Сначала позвольте задать вам один вопрос, это очень важно. Вам известно, что думают евреи об Иисусе Христе?
— Честно говоря, я никогда этим не интересовался, — признался Норонья.
— Для евреев Иисус совсем не то же самое, что для христиан. — Он резко всплеснул руками, подчеркивая особое значение своих слов. — Далеко не то же самое. Набожные иудеи считают Иисуса мамзером, полукровкой, родившимся от постыдной связи еврейки и римского легионера. Христос не поладил с раввинами и решил отречься от истинной веры и поклоняться идолам. Он изучал в Египте магию, потом вернулся и пытался проповедовать, но был схвачен и казнен. Его обвинили в колдовстве и вероотступничестве. Для иудеев имя Иисуса — страшное ругательство.
— Вы действительно так относитесь к Христу?
— Да, так гласит предание. Я рассказал вам это для того, чтобы вы поняли, что для еврея означает имя Христа, — примирительно произнес каббалист. — И чтобы прояснить смысл первой строки в перевернутой подписи Колумба. На иврите «Иисус» произносится как «Иешуа». Однако иудеям это имя настолько неприятно, что они сокращают его, отсекая последнюю alef, и получается «Иешу». Именно это и написано в третьей строке. Yeshu. Кстати, Иешу тоже далеко не безобидное слово, это уничижительное сокращение имени Иешуа, презрительная кличка. А еще знакомая носителям иврита аббревиатура. Ymach shmo vezichro. Что значит: да сгинет его имя и память о нем. Как вы думаете, возможно ли, чтобы добрый католик Христофор Колумб использовал в своей подписи имя Иешу, да еще и желал ему сгинуть в безвестности?
— Но… почему? — прошептал португалец после долгого молчания. — Откуда у Колумба такое ожесточение?
— Быть евреем в те времена на Пиренейском полуострове означало терпеть лишения. У любого иудея отыскалась бы сотня причин, чтобы ненавидеть всех христиан вместе взятых и Иисуса в отдельности. Колумб не был исключением. Вдумайтесь, какое христианское имя он для себя избрал. Христоференс. Вы понимаете, что оно означает?
— Христоференс? «Христо» по-гречески «Христос», а «феро» латинский корень, он значит «нести». Кристоференс — тот, кто несет в себе Христа. Так же переводятся имена Кристобаль и Христофор.
— Но для иудеев такие имена немыслимы, — заметил раввин. — Ни один еврей не назовет своего сына Христом. Как же вышло, что Колумб стал Христофором, Христоференсом? — Он по обыкновению поднял указательный палец. — Это возможно лишь в одном случае: если иудей был крещен против воли. Формально принял христианство, в душе храня верность религии предков. Такой еврей мог взять имя Христа, чтобы убедить власти в своей лояльности, а потом проклясть его при помощи кабалы. Иешу. Я хочу сказать, профессор Норонья, что слова ymach shmo относятся и к имени Христофор, и к фамилии Колумб. Человек, открывший Америку, вошел в историю как Христофор Колумб. — Старик повернулся к Хаиму, сидевшему на другом конце стола. — Родичи нашего Хаима звались Мендеш, но всегда помнили, что на самом деле они Насси. Так и у Колумба было настоящее имя, которое ему приходилось держать в тайне. — Соломон постучал костяшками пальцев по столу. — Итак, Христофор Колумб сефард, иудей, который принял христианство, но не сделался христианином. Он был мараном.
Соломон Бен-Порат, лучший каббалист Иерусалима, застыл, опершись локтями о дубовую столешницу, и погрузился в молчание. В комнате повисла густая тишина, даже карандаш Нороньи перестал скрипеть по бумаге. Томаш с немыслимой скоростью заполнял страницы блокнота своими каракулями, едва поспевая за ходом мысли старого раввина, и вдруг остановился, споткнувшись о последнее слово.
Маран.
Это слово царапнуло его слух. В нем было нечто неуловимо знакомое, отталкивающее и в то же время притягательное, нечто, заставившее португальца прервать свои лихорадочные заметки и отложить карандаш. Несколько мгновений он задумчиво смотрел на странное слово, крупными буквами выведенное на странице. Потом поднял голову и обратился к Соломону.
— Что это значит? То, что вы сейчас сказали?
— Маран? — удивился старик. — Я думал, вы знаете. Разве это не португальское слово?
— Это устаревшее название свиньи.
— Именно. Маранами в Испании и Португалии называли новых христиан, тайком продолжавших исповедовать иудаизм. Мараны не ели свинины, ведь свинья — животное нечистое, некошерное. Вот откуда взялось это прозвище.
— Хмм, — промычал Томаш, погруженный в свои мысли. — Значит, маран это иудей, который притворяется христианином.
— Да.
— И Колумб был мараном?
— Вне всякого сомнения.
— А мог он быть, скажем, генуэзским раввином?
Соломон улыбнулся.
— Само понятие «маран» относится только к пиренейским иудеям. Так или иначе, еврей Колумб не мог оказаться генуэзцем: людям нашего племени с XII века было запрещено задерживаться в Генуе более чем на два дня. В эпоху Колумба этот запрет еще действовал. Нельзя было оказаться иудеем и генуэзцем одновременно. Одно из двух: либо генуэзец, либо иудей. Кстати, забавная деталь: в XV–XVI веках слово «генуэзец» служило эвфемизмом для понятия «иудей». В те времена слова «он иудей» означали «он еврей». Иудеями называли не последователей иудаизма, а евреев как нацию. А если учесть, сколько антисемитских предрассудков было у тогдашних христиан, не приходится удивляться, что многие иудеи предпочитали тогда называться генуэзцами. Потом их начали так звать и другие, иногда иронически, а иногда и серьезно. Понимаете?
— У вас есть доказательства?
— Никаких документов не сохранилось, приходится верить устной истории, народной памяти. Хотя есть письмо, написанное в 1512 году великим инквизитором Кастилии отцом Антонио де Аспой из ордена Святого Иеронима. Аспа пишет, что во время первой экспедиции в Новый Свет Колумб взял на борт «сорок генуэзцев». Сейчас принято считать, что большинство членов команды были кастильцами, но среди них затесались несколько десятков евреев, предположительно маранов. Иными словами, отец Аспа информирует инквизицию о том, что в походе участвовали иудеи. Но как часто бывало в то время, не говорит об этом прямо.
— Хм, — неопределенно хмыкнул Томаш, думая о своем.
В его памяти вдруг всплыл полузабытый вопрос, так и оставшийся без ответа. Он вскочил на ноги и вышел из-за стола, не в силах оставаться на месте. Теперь он знал ключевое слово: маран.
XV
Пальцы медленно поворачивали колесики кодового замка; металлическое нутро сейфа отзывалось на каждый поворот мерным мелодичным позвякиванием исправного часового механизма. Мадалена Тошкану в томительном ожидании наблюдала за операцией из-за плеча Томаша.
— Послушайте, — выдохнула старушка. — Вы уверены, что это и есть ключевое слово?
Профессор подвинул к себе листок с подсказкой.
— Сейчас увидим, — пробормотал он, не отрываясь от работы.
Цифры одна за другой возникали на экранчике сейфа. Двенадцать, один, семнадцать, еще раз семнадцать. Тик-так, тик-так. Кроме дыхания Томаша и вдовы, тишину в комнате нарушал только этот звон, едва слышный, нежный и такой тревожный. Машина неохотно расставалась со своей тайной; она придирчиво изучала чужаков, неторопливо размышляя, стоит ли делиться с ними секретом; так цветок не спешит раскрыться, плотнее сжимает тугие лепестки, опасаясь выпустить на волю чудесный аромат. Бездушный механизм, верный страж бесценного сокровища, и человек, жаждущий во что бы то ни стало его заполучить, сошлись в неспешном, молчаливом, ожесточенном поединке. Томаш на мгновение прервался, отгоняя внезапный страх, — а что если все-таки ошибка? — и твердой рукой набрал последние цифры. Один, тринадцать, четырнадцать. Тик-так, тик-так. Кто кого? Человек или машина?
В ответ в металлических внутренностях что-то щелкнуло.
Заветное слово отворило железную дверцу, словно волшебный сезам вход в пещеру сорока разбойников.
— Ура! — юношески восторженно закричал Томас. — Получилось!
— Слава богу!
Профессор и сеньора Тошкану одновременно потянулись к сейфу, спеша поскорее завладеть его содержимым; внутри царила густая, непроницаемая тьма. Отчаявшись защитить свое сокровище, побежденный механизм попытался скрыть его от мира во мраке, укутать мглой, погрузить в забвение. Так умирающий из последних сил борется за жизнь, хватаясь за призрачную надежду. Но глаза чужаков уже привыкли к темноте; в глубине что-то белело.
Профессор опасливо сунул руку в железный рот, чувствуя себя конкистадором в джунглях неведомой страны; ощупав гладкие холодные стенки сейфа, он вытащил на свет его содержимое, благоговейно, словно древнюю тайну или священную реликвию, бережно, как нежный цветок или хрупкую амфору, уцелевшую в круговороте времени и много веков пролежавшую в земле.
В сейфе лежали три листка бумаги.
Первые два оказались ксерокопиями старинной рукописи, которую Томаш на глаз датировал XVI веком. На беглый взгляд, рукопись казалась совершенно неразборчивой. Припомнив навыки палеографа, Норонья изучил виньетку в левом верхнем углу первой страницы и попытался прочесть идущий за ней текст.
«В год, следующий за… — даты Томаш не разобрал, — в год чумы, что опустошала главные области Кромарки, Рибу, Риштелу, Король, который ныне упокоился со святыми, в Лиссабоне… Христофора Колона, талианца, открывшего остров Сипанго для кастильской короны…»
— Что это? — спросила Мадалена.
Профессор с обескураженным видом перебирал страницы.
— Если я не ошибаюсь… — пробормотал он, — это «Хроника короля Жуана Второго» Руя де Пины. — Норонья на мгновение усомнился, но тут же окончательно утвердился в своей догадке. — Отрывок, посвященный встрече Колумба с королем Жуаном после возвращения из первой экспедиции.
— Разве это не важно?
— Ну отчего же… Важно, конечно. — Томаш рассеянно поглядел на вдову. — С одной стороны, этот текст широко известен, и никакой тайны в нем нет; с другой — ваш супруг, насколько я понимаю, был противником Пины. Видите, вот здесь, в третьей и четвертой строках? «Кристоф Колон, талианец». Профессор Тошкану как раз доказывал, что Колумб итальянцем не был.
— Но Мартиньо всегда говорил, что в сейфе спрятано главное доказательство.
— Главное доказательство? Но чего? Того, что Колумб все же был итальянцем? — Норонья раздраженно тряхнул головой. — Ничего не понимаю!
Мадалена Тошкану отобрала у Томаша бумаги и тут же принялась их изучать.
— А это что? — Внимание пожилой сеньоры привлекла карандашная пометка на обороте первого листа.
Норонья мельком глянул на страницу.
— Странное дело. — Томаш недоуменно пожал плечами. — Кодекс 632, — произнес он задумчиво. — Похоже на библиотечный номер.
— Номер?
— У каждого экземпляра в библиотеке есть свой номер. Его присваивают архивисты. Так проще понять, где хранится документ, сколько…
— Я знаю, что такое библиотечный номер, — перебила Мадалена.
Томаш смутился. Он давно понял, что Мадалена Тошкану вовсе не так проста, и под маской тихой старушки скрывается образованная женщина, любящая книги и отнюдь не чуждая серьезной науке. Годы, бедность и недавняя утрата подкосили сеньору Тошкану, но не сломили и уж точно не превратили в клушу.
— Извините, — проговорил Норонья, потупившись. — Наверное, ваш муж брал в библиотеке какой-то документ и записал его номер.
Мадалена Тошкану внимательно разглядывала пометку.
— Но почему «кодекс»?
— Это латинское слово, — охотно пояснил Томаш. — Так называют отдельные страницы рукописи, папирусы или пергаментные свитки, сложенные вместе в определенном порядке, как книга.
— И бумаги тоже?
— Пожалуй, — кивнул профессор. — Применительно к шестнадцатому веку речь, скорее, идет о пергаменте, но бывают, вероятно, и бумажные кодексы.
Мадалена достала третью страницу. На листе формата А4 не было ничего, кроме написанных от руки имени и ряда цифр.
— Граф Жуан Нуно Виларигеш, — прочел Томаш, нахмурив брови.
— Вы его знаете?
— Первый раз слышу. Похоже на номер телефона.
Вдова поднесла листок поближе к глазам.
— Дайте подумать, — она размышляла с полминуты. — Знаете, код определенно знакомый. В последнее время Мартиньо постоянно кому-то названивал.
— По этому номеру?
— Не знаю, наверное. Но код точно этот.
— Он не местный?
Мадалена, ни слова не говоря, вышла из комнаты и вернулась с толстым потрепанным телефонным справочником. Отыскав страницу с кодами разных городов, она принялась водить пальцем по длинным столбцам цифр, пока не уткнулась в нужный номер.
— Вот он! — провозгласила сеньора. — Томар.
Площадь Республики оккупировали голуби. Толстые, сытые птицы с мелодичным воркованием расхаживали по мостовой, сидели на крышах, козырьках подъездов и даже на плечах бронзового Гуалдина Пайши, огромная статуя которого возвышалась посреди площади.
Небольшая стайка облюбовала скамейку, на которую присел Томаш. Голуби клевали какие-то крошки, не обращая на человека ни малейшего внимания. Они передвигались по черно-белым плитам площади, словно крошечные пешки по гигантскому шахматному полю. Норонья сидел напротив элегантного фасада городского совета Томара, но смотреть предпочитал вправо, на церковь Иоанна Крестителя, увенчанную восьмигранным шпилем; облупившийся белый фасад покрывала затейливая лепнина в стиле мануэлино; на высокой желтоватой колокольне, под самой звонницей, красовалась характерная символическая троица: королевский герб, небесная сфера и крест Воинства Христова.
К скамейке подошел незнакомец в темно-серой тройке и галстуке, заколотом серебряной булавкой.
— Профессор Норонья? — поинтересовался он, вопросительно глядя на Томаша.
Историк улыбнулся.
— Он самый. Сеньор граф?
Человек в сером вытянулся в струнку, по-армейски щелкнул каблуками и церемонно поклонился.
— Жуан Нуно Виларигеш к вашим услугам.
Граф оказался стройным, немного загадочным красавцем среднего роста. Высокий лоб обрамляла курчавая седая грива. Но самым примечательным в его облике была не седина, не тонкие усики, не бородка клином, а взгляд, глубокий, пронзительный, почти гипнотический; этот человек казался путешественником во времени, пришельцем из эпохи Возрождения, самим Франческо Колонной, оставившим Флоренцию эпохи Медичи ради Португалии конца двадцатого столетия.
— Я вам очень признателен за то, что вы согласились встретиться, — поблагодарил Томаш. — Должен признаться, я даже не представлял, о чем пойдет речь.
— Насколько я понял из нашего разговора по телефону, вы нашли мой номер в бумагах покойного профессора Тошкану, среди документов, связанных с Христофором Колумбом.
— Верно.
Граф оценивающе оглядел Норонью, словно взвешивая все pro и contra и прикидывая, стоит ли ему доверять.
— Вам известно, чему была посвящена последняя работа Тошкану? — осторожно, словно прощупывая почву, спросил Виларигеш.
— Разумеется, — подтвердил историк. Граф хранил молчание, и Томаш поспешил убедить его, что неплохо разбирается в предмете. — Профессор Тошкану хотел доказать, что Колумб был не генуэзцем, а португальским евреем, мараном.
— А почему, собственно, вы заинтересовались исследованиями профессора?
Эти расспросы неспроста, решил Томаш. Одного неосторожного слова хватит, чтобы все испортить.
— Я профессор истории из Нового лиссабонского университета. Вдова Тошкану любезно согласилась передать мне бумаги, над которыми он работал перед смертью. Она полагает, что ее муж был на пороге великого открытия.
Граф выдержал недоверчивую паузу и спросил, сверля Норонью взглядом:
— Вы работаете на американский фонд?
От этого вопроса, заданного с самым невинным видом, Томаш покрылся испариной. От его ответа явно зависело, состоится ли дальнейший разговор. Вспомнив, с каким отвращением отзывалась о Молиарти сеньора Тошкану, Норонья почел за благо не афишировать связей с американцами. По крайней мере до поры до времени.
— Какой фонд? — ответил он вопросом на вопрос.
Граф смотрел Томашу прямо в глаза; Норонья выдержал его взгляд, стараясь оставаться спокойным.
— Не важно. — Виларигеш, кажется, был вполне удовлетворен. Он сделался задумчив, на его губах мелькнула легкая улыбка. — Вам приходилось бывать в нашем замке и монастыре?
Сквозь густую зелень на склонах окружавшей город горной гряды виднелись полуразрушенные стены.
— Бывал, конечно бывал, только очень давно.
— Так почему бы нам их не посетить? — предложил граф, взмахом руки приглашая гостя следовать за собой.
Виларигеш и Норонья пересекли площадь и свернули в один из примыкавших к ней переулков с неровной брусчаткой и разноцветными цветочными горшками на балконах. Здесь, у выбеленной стены старинной синагоги стоял огромный черный «мерседес». Граф сел за руль, Томаш устроился рядом, и автомобиль покатил по тихим улицам Томара.
— Вы слышали об ордене Воинов Христовых? — спросил Виларигеш, искоса поглядывая на своего спутника.
— Об ордене Воинства Христова?
— Нет, Воинов Христовых.
— По правде говоря, никогда.
— Я магистр ордена Воинов Христовых, который наследует ордену Воинства Христова.
Услышать такое Томаш не ожидал.
— Но ведь ордена Воинства Христова давно не существует…
— Потому мы и считаем себя его наследниками. Когда Воинство Христово было распущено, несколько рыцарей, несогласных с таким решением, основали тайный орден с собственным уставом. С тех пор кучка верных, потомков тех рыцарей, периодически собирается в Томаре под моим началом, чтобы исполнить обряды и принести клятвы. Мы — последние хранители тайн Воинства Христова.
— Я, право, не представлял…
— Вам известна история ордена?
— Боюсь, не слишком хорошо. Понимаете, моя специализация — криптоанализ и восточные языки, Средневековье и эпоха Географических открытий не входят в сферу моих интересов. Я стал заниматься этим вопросом только… из уважения к профессору Тошкану.
Автомобиль выехал на перекресток с маленькой статуей принца Энрике, повернул направо и, оставив позади городские улицы, запетлял по серпантину Мата-Де-Сейш-Монтеш, среди густых аллей, поднимавшихся по склону к стенам монастыря.
— В таком случае, если не возражаете, начну с самого начала, — предложил Виларигеш. — Когда мусульмане изгнали христиан из священного Иерусалима, по всей Европе поднялась волна гнева, выплеснувшаяся в крестовых походах. В 1099 году христиане отвоевали Святую Землю. В Иерусалим вновь потянулись паломники, но на дорогах было неспокойно, и мирных пилигримов некому было защитить. Тогда стали появляться новые рыцарские ордена. Госпитальеры помогали больным и раненым. Первоначально в орден входили всего девять рыцарей. Вскоре, впрочем, братство окрепло и расширилось, и в его силах оказалось сделать пути паломников безопасными. В награду рыцари получили в вечное владение мечеть Аль-Акса на горе Мория в Иерусалиме, на месте которой прежде стоял храм, построенный Соломоном. Так возник орден Рыцарей Храма Соломонова. — Граф выдержал паузу. — Так появились тамплиеры.
— Эта история давно всем известна.
— Разумеется. Эта удивительная история в свое время потрясла Европу. Согласно легенде, тамплиеры нашли в окрестностях мечети бесценные реликвии, много веков пролежавшие в земле. Возможно, среди них был Святой Грааль. Правда это или выдумки, но могущество ордена росло год от года, и вскоре он распространился по всему Старому свету. Формально братство было основано в 1119 году и уже через несколько лет проникло сюда. Город Томар был отвоеван у мавров в 1147-м, а в 1159-м первый король Португалии Алфонс Энрикеш даровал его тамплиерам. На следующий год Гуалдин Пайш начал строительство замка.
Преодолев последний поворот, «мерседес» въехал на маленькую парковку; за деревьями виднелась горделивая Торре-де-Менажем и зубчатые стены замка тамплиеров. Путь в сердце крепости, знаменитым Вратам Солнца лежал через сосновую аллею; оказавшись под ее сводами, Томаш почувствовал себя путешественником во времени, перенесшимся на много веков назад, в те времена, когда на месте этих руин кипела жизнь. Слева густые заросли рассекала стена, сложенная из больших неотесанных камней; листья растущих на склоне горы деревьев приветливо шелестели, радуясь гостям, в свежей зелени тут и там виднелись яркие пятна цветов, в небе щебетали ласточки, пчелы вторили им деловитым жужжанием, а откуда-то из зарослей доносились первые трели невидимого соловья. Справа не было ничего, кроме разбросанных в траве молчаливых камней, над которыми феодалом среди вассалов возвышалась полуразрушенная башня.
— Рыцари получили от португальской короны немало земель за верную службу, особенно за изгнание мавров из Сантарема и Лиссабона, но главной резиденцией ордена всегда оставался Томар. В 1307 году во Франции начались гонения на тамплиеров, а в 1312-м, после издания папской буллы «Vox in excelso» братство перестало существовать. Папа предписал всем европейским монархам заключить тамплиеров под стражу, но португальский король Дионисий не подчинился его приказу. Собственность ордена должна была перейти к госпитальерам, но Дионисий вновь отказался подчиниться. Король нашел довольно сомнительную юридическую лазейку, позволявшую считать, что португальские земли тамплиеров даны им во временное владение, а следовательно, их надлежит вернуть короне. Узнав об этом, многие французские рыцари бежали в Португалию в надежде обрести убежище. Дионисий между тем решил основать новый рыцарский орден с резиденцией в Алгарве, чтобы защитить страну от мусульман. В 1319 году Ватикан утвердил устав ордена Воинства Христова. Дионисий передал ему все имущество тамплиеров, включая десять городов. Костяк нового ордена почти полностью состоял из тамплиеров. По сути, Воинство Христово было тем же орденом Храма, только под другим названием. Но по-настоящему братство возродилось в 1357 году, когда его резиденция переехала в Томар, священный град португальских тамплиеров.
За блистательными Вратами Солнца открывалась Пласа-де-Армаш, ровное широкое плато, превращенное в чудесный регулярный парк с шарообразными кустами, стройными кипарисами, могучими платанами и живописными клумбами.
— Для чего вы мне об этом рассказываете? — спросил Томаш.
Граф Виларигеш с задумчивой улыбкой глядел на развалины замка: крепостные стены, примкнувшие к склону горы, тяжкие своды романской постройки, цилиндрические формы великолепной Шаролы, контрфорсы и крыши пристроек XVI века, устремленную ввысь колокольню. От монастыря сохранилась внешняя стена главного клуатра и спрятанные в тени раскидистого платана руины Капитула.
— С тем чтобы вы могли проникнуться духом этого удивительного места. Здесь, за этими средневековыми стенами хранится наш Грааль, таинственная, неуловимая, мистическая сила, что собрала воедино Португалию и вдохновила нас на Открытия. — Он прикрыл глаза. — Это важная часть невероятной истории, которую вам предстоит узнать, истории Христофора Колумба, мореплавателя, который открыл Америку для кастильских королей.
Собеседники зашли в парк и уселись на украшенную изразцами скамью под цветущим апельсиновым деревцем.
— История превращения тамплиеров в Воинство Христово — это лишь пролог. — Граф смотрел вверх, на башню Доны Каталины и Врата Крови. — Скажите, вы помните, как выглядели кресты на парусах каравелл эпохи Открытий?
— На парусах? Они были красные, если не ошибаюсь.
— Алые кресты на белых полотнищах. У португальских тамплиеров были алые кресты на белом поле. У Воинства Христова были алые кресты на белом поле. И на белых флагах португальских каравелл тоже были алые кресты. Кресты рыцарей, что отправились на поиски Святого Грааля. — Граф не отрываясь смотрел на Томаша, словно хотел проникнуть взглядом в его душу. — Вам, сеньор историк, наверняка известно, что такое Святой Грааль?
— Грааль?.. Разумеется… Это чаша Христа. Иисус пил из нее на тайной вечере, в нее же Иосиф Аримафейский собрал кровь Сына Божьего, умиравшего на кресте.
— Все это предрассудки, Святой Грааль — не чаша в прямом смысле слова. — Виларигеш перевел взгляд на черепичные крыши Томара, едва различимые сквозь море зелени. — Если вам приходилось бывать в нашей церкви Иоанна Крестителя, вы наверняка обратили внимание на триптих с изображением Святого Иоанна с чашей в руке. На дне чаши сидит дракон в путах, мифологическое существо из легенд о рыцарях Круглого Стола. В одной из легенд Мерлин рассказывает о поединке двух драконов, скованного и свободного; один из них воплощает силы добра, другой зла, один служит тьме, другой свету. Барельеф с битвой драконов размещен на капители главного собора Томара, церкви Иоанна Крестителя.
— Зачем вы мне все это рассказываете?
— Отвечаю на вопрос, который минуту назад поставил вас в тупик. Дракон — древний символ мудрости, как египетский Тот или греческий Гермес. От его имени, как вам, должно быть, известно, произошло слово «герметизм». Дракон в чаше, как на триптихе в нашем соборе, означает тайную мудрость. А еще Грааль… — Граф помолчал, переводя дух. — При чем здесь Грааль? Грааль — это знание. А знание равно власти. Тамплиеры это понимали. Спасаясь от преследований, они принесли в Португалию чашу дракона, Грааль, научные знания и эзотерическую мудрость, накопленную за несколько веков пытливых изысканий в Святой Земле. Точные карты, дерзкие изобретения, дух открытий и древние тайны. Португалия была их целью и в то же время отправной точкой для познания и преобразования всего мира. Не зря же в имени нашей страны — Portugalem — отчетливо слышится слово «чаша». Португалия. Porto Graal. Врата Грааля. И порт, из которого каравеллы отбывали на поиски новой реликвии. Святого Грааля мудрости. Нового мира.
— Вы намекаете на то, что Открытия — дело рук тамплиеров, мечтавших о новом Граале?
— Отчасти. Тамплиеров и евреев. У одних был мистицизм, у других Кабала, одни мечтали обрести Святой Грааль, другие втайне надеялись отыскать Землю Обетованную. И те, и другие тосковали по разрушенному Храму Соломона. Прибавьте к этому прозорливость и волю одного из величайших государственных мужей в истории человечества, принца Энрике, чей гений предвосхитил самое удивительное из явлений нашей эпохи, которое мы называем глобализацией. Третий сын короля Жуана Первого в тысяча четыреста двадцатом году стал во главе Воинства Христова, а позже получил заслуженное прозвание Мореплаватель. Этот человек собрал лучших людей своего времени, португальцев, тамплиеров и евреев, и посвятил их в дерзновенный план обретения святыни. — Вытянув руку, Виларигеш принялся читать нараспев: — «Пришло время Португалии обрести саму себя, — писал поэт Фернандо Пессоа. — Доверьтесь собственным душам. Станьте рыцарями, ступайте вслед за апостолами неизведанными тропами тайного христианства за новым Граалем». — Граф передохнул и заговорил обычным голосом: — У Энрике Мореплавателя были поистине грандиозные планы: исследовать два океана, открыть новые земли и сделать Португалию владычицей мира. Так рыцари стали моряками, а Открытия новыми крестовыми походами.
— А Португалия стала портом, в котором они начинались.
— Так и было. В Португалию устремились самые искусные моряки, самые храбрые исследователи, самые верные паладины Грааля. Жил Занес, Гонсалвеш Балдайя, Нуно Тристан, Антан Гонсалвеш, Диниш Диаш, Алваро Фернандеш, Дьогу Гомеш, Педру де Синтра, Дьогу Кан, Пачеко Перейра, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Фернандо Магеллан, Педру Алвареш Кабрал… Этот список можно продолжать до бесконечности. У страны не было нехватки в новых крестоносцах. Одни из них снискали вечную славу. Другим приходилось молчать о своих открытиях, они по сию пору пребывают в тени истории.
— Колумб был одним из них?
— До Колумба еще дойдем. А пока оставим на время разговор о мистической подоплеке Открытий и обратимся к интригам при португальском дворе. Когда Энрике Мореплаватель, а за ним и Альфонс V умерли, судьба морской кампании оказалась в руках сына Альфонса Жуана II Совершенного. Вскоре после его коронации произошло событие, определившее дальнейшую судьбу Христофора Колумба.
— Бартоломеу Диаш открыл мыс Доброй Надежды.
Граф рассмеялся.
— Нет, друг мой, это случилось позже.
Норонья и Виларигеш поднялись с украшенной изразцами скамьи и направились через Праса-де-Армаш, вдоль ряда нежных апельсиновых деревьев, к бывшей королевской резиденции, от которой остались лишь изъеденные временем стены. Виларигеш бережно, почти ласково коснулся стены ладонью.
— Здесь жил принц Энрике, человек, задумавший все, что воплотил король Жуан, в правление которого началась история Колумба. И еще один монарх, при котором она закончилась. Я говорю о короле Мануэле I, наследнике Жуана.
— А какое событие вы имели в виду?
Граф склонил голову набок и как-то странно поглядел на Томаша.
— Заговор против короля.
Норонья растерянно моргнул.
— Я вам напомню, как это было. — Виларигеш сложил руки, словно моля собеседника о внимании и терпении. — В 1482 году королевский совет с Жуаном II во главе постановил, что сборщики налогов могут беспрепятственно входить в любой дом, невзирая на права и привилегии хозяина. Это решение оказалось болезненным ударом для знати. Один из самых влиятельных аристократов того времени, Фернандо II герцог Браганса решил защитить дарованные его предкам привилегии в суде. Герцог приказал своему казначею Жуану Афонсу собрать все грамоты, подтверждавшие его права, и доставить ко двору. Но казначей отправил вместо себя сына, совсем молодого и неопытного. Молодой Афонсу притащил на совет ворох бумаг, нужных и ненужных. Разбирать их взялся королевский чиновник по имени Лопо де Фигейреду. Он-то и обнаружил в документах Брагансы весьма примечательную переписку с Католическими королями. Чиновник попросил об аудиенции у короля и предъявил ему подозрительные письма. Речь в них шла о заговоре против короны. Герцог Браганса вступил в тайный сговор с кастильцами, чтобы помочь им захватить Португалию. Среди заговорщиков оказались брат королевы герцог Визеу вместе с матерью. Жуан приказал Лопо де Фигейреду спрятать письма и никому о них не рассказывать. Прошел год. Король занимался государственными делами, снаряжал новые экспедиции, а сам собирал факты, делал выводы и выжидал. И вот в мае 1483 года герцог Браганса был взят под стражу и обезглавлен. Оставался еще герцог Визеу, второй среди заговорщиков. Но король Жуан решил и эту проблему. В один прекрасный день он пригласил к себе шурина и в разгар дружеской беседы собственноручно его заколол. Остальные заговорщики были казнены, отравлены или бежали в Кастилию. И тут произошло нечто необъяснимое. Король призвал ко двору брата герцога Визеу дона Мануэла. Тот прибыл ни жив, ни мертв от страха. Король же осыпал его милостями и даже сделал наследником престола после своего сына Альфонса, на случай, если тот умрет, не оставив потомства. Что, как известно, и произошло.
— Удивительная история, — проговорил терпеливо слушавший известную ему во всех подробностях историю Томаш. — Только что она нам дает?
Граф Виларигеш, сложив руки на груди, взирал на собеседника со сдержанным, но нескрываемым превосходством.
— Друг мой, — произнес он снисходительно. — Вы ведь изучали биографию Колумба и должны знать, что происходило в его жизни в год великой расправы со знатью, в 1484-м.
— В том году Колумб перебрался из Португалии в Кастилию! — сказал пораженный Томаш.
— В точку! — сверкнул глазами граф. — Скажите, вам не казалось странным, что до наших дней дошли десятки свидетельств о пребывании Колумба в Испании, а о его португальской жизни почти ничего? Кое-что упоминает Лас Касас, кое-что Эрнандо Колон и сам Христофор Колумб. И все. — Виларигеш пожал плечами. — Человек ездил по всей стране, водил корабли, женился на знатной португалке, бывал при дворе, несколько раз встречался с королем и не оставил ни единого следа. Как такое может быть?
— Можно предположить, что все документы были уничтожены.
— Не исключено. Но мне кажется, все гораздо проще. У Колумба тогда было другое имя. Мы изо всех сил стараемся найти упоминания о Христофоре Колумбе, а искать нужно совсем другого человека. Nomina sunt odiosa.
— Не стоит называть имен, — машинально перевел Томаш. — Овидий.
— Браво! — похвалил граф. — Отличная реакция.
— Цитата из «Героид» была первым ключом к разгадке тайны профессора Тошкану.
— Точно, — кивнул Виларигеш. — Это была моя идея, вы не знали? Значит, Тошкану она понравилась. Впрочем, это не важно. Как бы то ни было, настоящее имя Колумба неизвестно. Nomina sunt odiosa. Довольно знать, что он действительно носил другое имя. Древнее и славное. Колумб женился на доне Филипе Монис Перештрелу, дочери первого губернатора Порто-Санто, потомка Эгаша Мониса и родственницы Нуно Алвареша Перейры, разбившего кастильцев у Алжубарроты. В те времена девушку из такой семьи никогда, ни при каких обстоятельствах не выдали бы за плебея, да еще и чужеземца. Женщины благородного происхождения выходили замуж только за ровню.
— Я тоже об этом думал, — подхватил Томаш. — Дона Филиппа Монис ни за что не стала бы женой ткача. Это исключено.
— Вы видели письмо короля Жуана к Колумбу от 1488 года?
Томаш открыл блокнот.
— Погодите, сейчас найду, — пробормотал он, перелистывая страницы. — Король пишет: «Что же до Вашего возвращения, оно Нами желанно. Никто здесь не станет чинить Вам препятствий. Сим письмом Мы гарантируем Вам полную неприкосновенность для стражи, суда и любого преследования».
— Что же из этого следует? Что такого произошло, что Колумбу пришлось бежать из страны вместе со старшим сыном? Заговор Брагансы. Многие знатные семейства тогда бежали в Кастилию. Алваро де Атаиде, например. Фернандо да Силвейра. Не говоря уж о Лопо де Албукерке и влиятельном еврее Исааке Абрабанеле. Все они были так или иначе замешаны в заговоре. Колумб оказался одним из многих.
Нечто подобное Томаш где-то уже слышал. Он полез в свой неизменный портфель и достал испанскую книжку под названием «Жизнь адмирала».
— Погодите минутку, — повторял Норонья, боясь упустить мысль. — Испанский сын Колумба Эрнандо, если мне память не изменяет, пишет об отъезде отца в Кастилию. Сейчас… Сейчас… Ага, нашел! — Томаш раскрыл книгу на нужной странице. — «На исходе 1484 года он вместе с сыном Дьогу поспешно покинул Португалию, опасаясь, что король велит взять его под стражу».
— Вот видите! Какие еще нужны доказательства?
— Вас не удивляет, что король так быстро простил заговорщика?
— Это зависит от обстоятельств, но в данном случае такая отходчивость представляется вполне понятной. Колумб не возглавлял заговор, не играл в нем существенной роли, он явно был фигурой второго плана. Кроме того, прощение последовало спустя четыре года, когда королю и трону ничто не угрожало. Не забывайте, что Жуан II сделал своим наследником брата одного из главных заговорщиков. Куда проще было проявить милость к второстепенному персонажу вроде Колумба, тем более что тот мог оказаться полезен… Кстати, вы обратили внимание, как Жуан обращается к своему адресату?
Историк заглянул в свои записи.
— «Нашему севильскому другу Христофору Колумбу».
— Не много ли чести для ткача-чужестранца? — усмехнулся Виларигеш. — Сами видите, это письмо монарха к своему приближенному. И, что немаловажно, король предлагает мир.
— Кем же был Колумб на самом деле?
Граф прибавил шагу, направляясь к галерее в дальнем углу Праса-де-Армаш.
— Я ведь уже говорил, Христофор Колумб был знатным португальцем, вероятно, еврейского происхождения, близким родственником герцогов Визеу, которые втянули его в заговор против Жуана II. Когда он был раскрыт, первыми упорхнули важные птицы, за ними пташки помельче. Колумб относился ко вторым. Взяв новое имя, он поселился в Севилье. Испанцы называли Колумба Кристобалем Колоном, а сам он предпочитал не афишировать свое прошлое, особенно в условиях набиравшей обороты антиеврейской кампании. После открытия Америки итальянцы вздумали объявить его уроженцем Генуи. Колумб охотно поддерживал эту версию в надежде сбить со следа тех, кто станет интересоваться его истинным происхождением. Вам не кажется странным, что сын Колумба ничего не знал о своем отце?
— Эрнандо?
— Да. Эрнандо Колон специально ездил в Италию, чтобы разыскать свои генуэзские корни. — Граф развел руками, демонстрируя крайнюю степень изумления. — Ну не странно ли? Родной сын не знает, кем был его отец! Представляете, сколь ревностно адмирал хранил свою тайну, если любимому отпрыску пришлось предпринимать столько усилий, чтобы хоть немного узнать о своих родичах. Разумеется, в Генуе Эрнандо ничего не нашел, но утешился гипотезой о том, что Колумб был родом из Пьяченцы, откуда, кстати, происходили и предки Филипы Монис.
— А Католические короли знали правду?
— Католические короли, конечно, знали, по крайней мере, если верить грамотам 1492 года, из которых следует, что мореплаватель был аристократом. Будь Колумб и вправду ткачом, как настаивают неутомимые генуэзцы, его и на милю не подпустили бы ко двору. Хотя правда в данном случае была немногим лучше вымысла. Вообразите: в эпоху острого противостояния Португалии и Кастилии адмиралом испанского флота становится португалец, к тому же еврей. Неслыханно. Так что у Колумба были причины хранить свою тайну. И он оберегал ее столь трепетно, что даже в грамоте об обретении кастильского подданства его брата Диего не указано место рождения. В те времена подобные грамоты хранились у смотрителя королевской печати из архива Симанкаса, и в них обязательно указывали, откуда прибыл чужеземец. Но для Диего Колумба сделали исключение. Получается, что тайна адмирала была государственным делом. Будь Колумб генуэзцем, не было бы необходимости сохранять секретность. А вот португальцу с еврейскими корнями следовало проявлять осторожность. Католическим королям было выгодно поддерживать итальянскую версию. Прошлое адмирала оставалась покрытым мраком, не в последнюю очередь благодаря его собственным усилиям и помощи его покровителей.
Собеседники прошли между гигантским платаном и раскидистой смоковницей, молчаливыми свидетелями удивительной жизни, век за веком протекавшей в стенах этого странного монастыря, и начали подниматься по широкой лестнице, ведущей на церковную галерею.
— Но если Колумб был заговорщиком, зачем королю Жуану понадобилось звать его назад?
Виларигеш пригладил острую бородку.
— Интересы государства, друг мой. Колумб предлагал проект поисков западного пути в Индию. Католические короли поначалу отнеслись к нему скептически. Но Жуан II знал, что этот фантастический план можно воплотить в жизнь. Ведь он точно знал: там, куда собирался плыть Колумб, действительно есть земля… Азиатские племена добрались до западного континента тысячи лет назад и постепенно его колонизировали. Первыми европейцами, достигшими Америки, были викинги из команды Эрика Рыжего, а первым после викингов увидел американский берег португалец Корте-Реал. Правда, некоторые историки называют другое имя, Жоакин Бенсауде. На «Процессе о старшинстве» помощник Колумба капитан Пинсон заявил, что Колумб заново открыл давно открытую землю, и нашлись свидетели, подтвердившие его слова. Алонсо Гальего писал, что «адмирал знал о существовании выше названной Индии от короля Португалии». Один из первых биографов Колумба Бартоломе де Лас Касас упомянул, что его герой узнал от одного португальского мореплавателя о существовании земли к западу от Азорских островов. По словам того же Лас Касаса, кубинские индейцы утверждали, что до кастильцев к ним уже являлись белые люди с густыми бородами. — Граф широко развел руками. — Вам приходилось видеть Планисферу Кантино?
— Разумеется.
— Тогда вы наверняка помните, что на ней изображена Флорида.
— Да.
— Еще одна загадка. Планисфера Кантино создана неизвестным португальским картографом не позднее 1502 года, а Флорида была открыта в 1513-м… А зачем Колумб взял с собой в путешествие португальские монеты? Почему именно португальские, не кастильские? Не потому ли, что тамошним аборигенам уже приходилось видеть португальские деньги?
Западное крыло, богато украшенное в стиле мануэлино, было закрыто. Граф и Норонья обогнули Шаролу справа, оставили позади главный вход и колокольню, согнувшись в три погибели, протиснулись в маленькую дверь ризницы и ступили в прохладную мглу собора. Заплатив за два билета, они прошли через Погребальный клуатр, пересекли засаженный апельсиновыми деревцами дворик и оказались в сердце монастыря. В Шароле.
Внутри стоял резковатый запах сухой штукатурки, знакомый запах старины, неизменно вызывавший у Нороньи мысли о музеях. Шарола построена в форме шестнадцатигранного цилиндра с восьмиугольником посередине; стены круглого нефа, покрытого куполом-луковкой, украшают фрески, у колонн стоят позолоченные статуи. Святыня португальских тамплиеров повторяет очертания храма Гроба Господня в Иерусалиме. Шарола, жемчужина монастыря, своей внушительной, мрачноватой, немного тяжеловесной архитектурой напоминает великие соборы Святой Земли. Витые колонны западного крыла здесь в точности такие, как в Соломоновом Храме, согласно описанию, приводимому в Библии.
— Я думал об этом, — проговорил Норонья, рассеянно оглядываясь по сторонам, — и так ни к чему не пришел: если португальцы знали об Америке, почему они не пытались ее захватить?
— Но там решительно нечего было захватывать, — спокойно ответил граф. — Португальцы всегда стремились на Восток. Там, если верить автору «Парцифаля» Вольфраму фон Эшенбаху, почитаемому немецкими тамплиерами, лежала таинственная земля пресвитера Иоанна, где хранился Грааль. Если же говорить об экономической подоплеке, португальские короли мечтали потеснить в Индии османов с венецианцами и найти доступ к тамошним полезным ископаемым. Рискну предположить, что они интересовали Энрике Мореплавателя не меньше, чем Грааль. А в Америке были только джунгли, в чем португальцы и убедились, впервые ступив на ее землю. — Виларигеш поднял указательный палец, словно почтенный профессор, взывающий к вниманию аудитории. — Именно поэтому Жуан II в конце концов проявил интерес к идеям Колумба.
— Интерес? — удивился Томаш. — Вы же сами сказали, что в Америке не было ничего, кроме джунглей…
Виларигеш уселся на деревянную скамью лицом к мраморной кафедре в глубине нефа. Томаш пристроился рядом.
— Попробую восстановить ход своих мыслей, — провозгласил граф, явно довольный столь покладистым слушателем. — Христофор Колумб знал, что к западу от Азор есть земля. Об этом ему сообщил некий португалец, имевший связи и при дворе, и среди моряков. Колумб, я полагаю, думал, что речь идет о той самой Азии, до которой добрался Марко Поло, и даже не представлял, что это совсем другая земля. Он поведал о своих планах королю, но Жуан II отлично знал, что никакая это не Азия, настоящая Азия куда дальше, и не стал слушать молодого выскочку. В 1484 году, оказавшись в Кастилии, Колумб поделился своей теорией с Католическими королями, известными невеждами и мракобесами. Те вообще полагали, что земля плоская. Впрочем, Жуана такой расклад устраивал. Португальский король понимал, что на пути его страны к господству на полуострове рано или поздно встанет Кастилия. Испанцы, возможно, были невеждами, но глупцами их никто бы не назвал. Узнав об амбициях соседей, они непременно бы вмешались. А тогда не миновать войны. Чтобы отвратить ее угрозу, король задумал отвлекающий маневр: подсунуть соперникам нечто совершенно бесполезное под видом невероятно ценного.
— Америку! — догадался Томаш.
— Наконец-то вы поняли, к чему я веду! — Граф подмигнул Норонье. — Америка как нельзя лучше годилась для такой ловушки, она была отличной приманкой. Пока кастильцы будут думать, что нищая земля на западе и есть Азия, никто не помешает португальцам осуществлять свои грандиозные планы в настоящей Азии. Так что Колумб со своими проектами подоспел вовремя. Правда, Католические короли были слишком невежественны и слишком заняты войной с маврами, которых никак не могли прогнать с полуострова, и не придали значения бредням знатного чужеземца. Разочарованный Колумб хотел вернуться на родину, но опасался королевского гнева. В 1488 году он написал Жуану II письмо, в котором поклялся в своей невиновности и униженно молил августейшего адресата о прощении. Король поспешил заверить беглого аристократа, что тот прощен и может не бояться преследований. Окрыленный Колумб помчался в Португалию, где с удивлением узнал, что Жуан по-прежнему не желает слышать ни о каком походе на запад. Бедному мореплавателю оставалось только вернуться в Испанию, чтобы вновь предложить свои услуги Католическим королям. Жуан на прощание даже пообещал тайком содействовать ему в этом деле. Пока Колумб был Лиссабоне, в Португалию вернулся Бартоломеу Диаш, только что открывший путь в Индийский океан, и король лишний раз убедился в своей правоте. И в дальнейшем приложил немало усилий, чтобы помочь Колумбу склонить Фердинанда и Изабеллу на его сторону.
— Возвращение Бартоломеу Диаша очень важный момент, — перебил Томаш. — До этого Колумб еще мог рассчитывать на успех, но после открытия мыса Доброй Надежды стало ясно, что добраться до Индии можно куда проще и быстрее.
— Чушь! — не на шутку рассердился Виларигеш. — Король Жуан все продумал заранее! Он знал о земле к западу от Азор. И знал, что это не Азия. — Граф запальчиво толкнул Норонью локтем. — Подумайте хорошенько, дружище. Если Жуан и вправду полагал, что так можно добраться до Индии, стал бы он выписывать из Севильи никому не известного генуэзского — если придерживаться официальной версии — моряка? В его распоряжении были прославленные мореплаватели, каждый из которых с блеском выполнил бы и более сложную миссию: Васко да Гама, Бартоломеу Диаш, Пачеко Перейра, Дьогу Кан и многие другие. Зачем ему мог понадобиться Колумб? Неужели король стал бы вызывать его в Лиссабон, чтобы доверить такое дело? — Он выразительно постучал кончиком пальца по лбу. — Для этого были другие люди, проверенные и надежные. — Виларигеш тряхнул головой. — Нет, друг мой, Жуан II не собирался посылать Колумба в экспедицию на запад. Он и так знал, что там расположен новый континент. Америка интересовала короля исключительно как ловушка для кастильцев. — Он провел рукой по волосам. — Давайте поразмыслим вот над чем. Бартоломеу Диаш открыл морской путь в Индию в 1488 году, а Васко да Гама отправился по этому пути только через десять лет. — Граф изобразил недоумение. — К чему такое промедление? Отчего понадобилось так долго ждать?
— На подготовку экспедиции нужно время…
— Десять лет?! Да бог с вами! Португальцы были отличными моряками. Такие экспедиции для них давно стали рутиной, так что ваше объяснение неправдоподобно. — Граф наклонился к историку. — Представьте, вы долго, систематически ищете что-нибудь, тратите на поиски кучу времени и сил, а когда наконец находите, откладываете на десять лет. Эти десять лет, разделяющие путешествия Диаша и да Гамы, не поддаются объяснению. Отчего никто не спешил воспользоваться плодами столь вожделенного открытия? Это одна из главных тайн эпохи Открытий, предмет нескончаемых научных спекуляций. Между прочим, вы почти угадали. Португальцы действительно кое-что готовили. Но не экспедицию да Гамы. Они готовили испанцев. Король понимал: чтобы утвердиться в Индии, надо нейтрализовать испанцев. Если бы в Кастилии прознали, что португальцы оставили их не у дел, испанцы моментально развязали бы войну. По Толедскому трактату, подписанному в 1480 году вслед за Алькасовасским договором, Португалии отходил африканский берег, «включая Индию», но Жуан II знал, сколь мало его соперники ценят договоры. Разве Толедский трактат не был одной из причин, по которой Фердинанд и Изабелла поддержали португальских придворных, задумавших убить своего короля? У Жуана не было оснований доверять соседям. И недоверие в сто раз усилилось, когда стало ясно, что испанцы и сами не прочь отыскать путь в Индию, на которую у них не было никаких прав. А если бы дело дошло до войны, что смогла бы крошечная Португалия против могущественных Кастилии и Арагона? В общем, испанскую проблему надо было решать во что бы то ни стало. Тут-то и пригодился Колумб. Ему предстояло сделать так, чтобы кастильцы приняли Америку за Азию и загорелись идеей прибрать ее к рукам. Вот на что португальцы потратили десять лет. Они дожидались, когда путешествие адмирала изменит геополитический расклад. И вот в 1492 году, при финансовой поддержке короля Жуана, состоялась экспедиция. Королева Изабелла выделила на нее миллион мараведи, а Колумбу требовалось еще четверть миллиона. Скажите, где бедный дворянин мог взять такие деньги? Сторонники генуэзской версии выдумали каких-то таинственных итальянских банкиров, но ни один банкир не стал бы вкладываться в опасное и сомнительное предприятие, не будучи уверен, что получит прибыль. А задуманная Колумбом экспедиция как раз относилась к числу опасных и сомнительных. Нет, тот, кто дал на нее денег, не искал финансовой выгоды. — Довольный произведенным эффектом, Виларигеш стал загибать пальцы. — Мало того, Жуан снабжал своего протеже новейшими навигационными инструментами: накануне отплытия Колумбу прислали из Лиссабона астрономические таблицы на иврите, позволявшие ориентироваться по звездам без астролябии. Кто еще, по-вашему, мог их прислать? — Граф победоносно улыбнулся.
— Наверное, вы правы, но Васко да Гама отправился в плавание только в 1498 году. Зачем понадобилось ждать еще шесть лет?
— В мире укрепился новый порядок; испанцы, заручившись поддержкой Ватикана, подготовили договор на подходящих для Лиссабона условиях. В 1494 году был подписан Тордесильясский трактат, по которому два пиренейских королевства фактически поделили между собой мир. Кастильцы не сомневались, что им достался самый лакомый кусок — только что открытая Колумбом Индия. — Граф поднял ладонь. — Заметьте, Жуан II безропотно подписал договор, по которому Индия отходила к Кастилии. Хотя по Толедскому трактату эта земля была признана португальской. С какой стати он сделал своим недругам столь щедрый подарок? А с такой, что открытая Колумбом земля вовсе не была Индией. Едва испанцы заполучили свою американскую «Индию», португальцы принялись спокойно осваивать Индию настоящую. Угрозу войны удалось отодвинуть, и для Васко да Гамы настало время собираться в путь.
— Однако до отплытия Васко да Гамы прошло еще три года…
— Да, — согласился граф. — Совершенный умер в 1495 году, в разгар подготовки экспедиции, так что армада покинула порт уже при короле Мануэле.
— Но почему вы так уверены в том, что Колумб был орудием Жуана II в игре против Кастилии?
— Достаточно посмотреть на результаты его экспедиции. Колумб убедил Католических королей, что достиг Азии и фактически вынудил их подписать договор, благодаря которому настоящая Азия досталась португальцам.
— Насчет результатов экспедиции сомнений быть не может. Но вам не кажется притянутым за уши то, что у Колумба и короля Жуана были тайные договоренности?
— Нет, дружище, это не притянуто за уши, — твердо сказал граф. — У Воинов Христовых есть надежные источники и неопровержимые доказательства того, что эти договоренности существовали.
— Какие же?
— Не торопитесь, — покачал головой Виларигеш. — Сначала разберемся с источниками. Вы, конечно, знакомы с документами, подтверждающими генуэзскую теорию?
— Разумеется.
— По-вашему, они заслуживают доверия?
— Нет, это фальшивки. Слишком много несовпадений и противоречий.
— Вы готовы признать, что Колумб был португальцем?
— На этот счет существуют более весомые доказательства. Но мне не хватает главного, окончательного.
— Видеозаписи, на которой адмирал поет национальный гимн?
— Несмотря на все несообразности, генуэзская версия отличается стройностью. Есть семья, есть дом, есть необходимые документы. Все ясно. С португальской теорией все наоборот. Ничего неизвестно, невозможно расставить точки над i.
— Будут вам доказательства, — заверил Виларигеш, раздосадованный нетерпением собеседника. — Давайте для начала рассмотрим факты. То, что вы уже знаете, кажется убедительным?
— Пожалуй… С некоторыми допущениями.
— Тогда идем дальше.
— А разве есть что-то еще?
— Да, — граф снова улыбнулся. — Давайте сосредоточимся на обстоятельствах судьбоносной экспедиции 1492 года. Как известно, Колумб высадился на Антильских островах и вступил в контакт с местными индейцами, которых по понятным причинам называл индийцами. Свою команду он заставил поклясться, что земля, которой они достигли, действительно Индия. Потом стали твориться странные вещи. Вместо того чтобы возвращаться тем же путем, двигаясь на восток в сторону Канарских островов, как и поступил капитан «Пинты», адмирал направил «Нинью» куда севернее, почти в Арктику. Теперь мы знаем, что он выбрал оптимальный путь, особенно для того времени года, когда дуют попутные ветры. Однако, если верить официальной версии, в то время об этом никто не знал. Так почему же Колумб решился? Скорее всего, о северном пути он узнал от своего «лиссабонского друга». А тот — от португальских мореплавателей, не раз бывавших в тех краях. Колумб две недели двигался на север и северо-восток, потом повернул на восток, к Азорам. Лас Касас утверждает, что адмирал пытался скорректировать маршрут, чтобы обойти острова, принадлежавшие португальцам. Однако буря заставила его бросить якорь у острова Санта-Мария. Странности продолжались. Португальцы приняли кастильскую каравеллу довольно мирно и даже отправили им шлюпку с продовольствием. Губернатор острова Жуан Каштаньейра хорошо знал Колумба. Адмирал отправил часть своей команды на берег помолиться в часовне, но моряки долго не возвращались. Стало ясно, что их захватили португальцы. Вместо них с Санта-Марии прибыли стражники, чтобы доставить на остров самого Колумба: у губернатора было секретное предписание короля задержать его. Колумб не подчинился и отплыл в сторону острова Сан-Мигел, но очередная буря заставила его вернуться на Санта-Марию. На следующий день португальцы отпустили моряков. Вернувшись на борт «Ниньи», моряки рассказали, что Каштаньейра намерен выполнить королевский приказ и задержать Колумба, а остальные кастильцы нисколько его не интересуют. Не сумев заполучить адмирала, он решил освободить команду. — Граф скептически скривился. — Весьма загадочная история, если разобраться. Почему Колумб вместо того, чтобы спешить в Кастилию, отправился к Азорским островам? Откуда Жуан Каштаньейра его знал? И почему адмирал так странно отреагировал на известие о том, что его хотят задержать? Вместо того чтобы бежать от врагов, он поворачивает к острову Сан-Мигел, где хозяйничают те же самые португальцы? Как бы вы объяснили такое поведение?
— Действительно, — подхватил Томаш. — Как это объяснить?
— Никакого секретного распоряжения не было. Каштаньейра понятия не имел, что дворянин, которого он знал как заговорщика, помилован королем, и собирался арестовать его как предателя. Вероятно, приказ об аресте относился к тому времени, когда заговор только раскрыли. Губернатор забытого богом острова не мог знать о переменах в столице. У Колумба, в свою очередь, не было с собой охранной грамоты, пожалованной королем в 1488 году. То, что случилось потом, еще проще объяснить. Адмирал бросил якорь у острова Сан-Мигель несмотря на то, что за его голову была назначена плата. Почему?.. — Виларигеш энергично рассек ладонью воздух, словно хотел порешить все тайны разом. — А знаете, куда направился Колумб, после того как азорское недоразумение разрешилось?
— В Кастилию?
— Куда еще плыть, как не в Кастилию, чтобы броситься в объятия Католических королей и рапортовать о победе? — Голос графа был полон едкой иронии. — А вот и не угадали! — Он театрально спрятал лицо в ладонях, изображая скорбь. — О, злая судьба! Очередная буря унесла его корабль — куда бы вы думали? — к Лиссабону! — Виларигеш в отчаянии обхватил голову руками. — О нет, только не это! Безжалостные ветры подхватили каравеллу и понесли прямо в логово ужасного врага! — Он поднял глаза, лукаво подмигнул Томашу и широко улыбнулся. — Короче говоря, четвертого марта 1493 года наш общий друг бросил якорь в Рештелу, бок о бок с роскошной шхуной, принадлежавшей королю. Ее капитан поднялся на борт «Ниньи» и спросил у Колумба, что тот собирается делать в Лиссабоне. Адмирал ответил, что хочет увидеться со «старым другом», королем Жуаном. Девятого марта Колумб прибыл в королевский замок в Азамбуже, где в это время находился Жуан II. Король тепло приветствовал мореплавателя и допустил к своей руке, а потом велел всем удалиться и беседовал с ним наедине. После Жуан провел Колумба в зал, где собрались его приближенные. В том, что произошло дальше, хронисты расходятся. Эрнандо Колон пишет со слов отца, что монарх с интересом выслушал рассказ об открытии новых земель, которым, согласно Алькасовасскому трактату, надлежит стать его владениями. Руй де Пина, который, по всей вероятности, присутствовал на аудиенции, утверждает, что Колумб вел себя невозможно дерзко и горько упрекал короля за то, что тот в свое время не прислушался к его словам. Столь яростные упреки возмутили придворных, кое-кто даже предлагал убить наглеца, чтобы о великом открытии не узнали в Кастилии. Однако Жуан II не допустил кровопролития, а с заносчивым моряком держался весьма благосклонно. На следующий день король вновь принял Колумба, обращался с ним ласково и позволил сидеть в своем присутствии. По его приказу трюмы «Ниньи» наполнили провизией, а на другой день мореплавателя с почестями проводили на корабль. — Граф поглядел на историка. — Что скажете?
— Удивительная история…
— Не правда ли? Взять хотя бы эти бури. Стоило каравеллам приблизиться к португальским владениям, как в море, словно по заказу, поднимался шторм! Сначала на подходе к архипелагу, потом между островами Санта-Мария и Сан-Мигел, и наконец у самого португальского берега. — Граф растянул губы в ядовитой улыбке. — Весьма своевременные шторма, не находите? Причем третья буря была всего-навсего сильным дождем, но Колумб счел ее достаточным основанием, чтобы бросить якорь у Лиссабона. Свидетели на «Процессе против Короны», кастильские моряки, принимавшие участие в походе, сохранили яркие воспоминания об азорских штормах, но о лиссабонской буре все как один запамятовали. Между прочим, во все путешествие погода была великолепной, а в португальских владениях вдруг испортилась. Нет, Колумб остановился в Лиссабоне не из-за бури, а потому что сам этого хотел. Капитану королевской шхуны в устье Тежу он прямо сказал, что должен видеть короля. — Виларигеш вскинул брови. — Как это понимать? Узнав на Санта-Марии, что король хочет его арестовать, адмирал отправился прямиком в Лиссабон и стал добиваться аудиенции у Жуана II. Любой нормальный человек в таком случае постарался бы держаться от Лиссабона подальше. Почему Колумб не поспешил в Кастилию чинить пострадавшие в буре каравеллы? В конце концов, если у португальского берега его действительно застиг шторм, что мешало бросить якорь подальше от столицы? Что заставляло адмирала упрямо лезть в волчье логово?
— А почему, — спросил Томаш, — королевской аудиенции пришлось ждать четыре дня?
— В Лиссабоне свирепствовала чума. Двор переехал в Азамбужу, чтобы переждать заразу, и Колумб отправился туда. А эта встреча наедине! Они явно готовили для всех маленький спектакль. Лас Касас описывает Колумба мягким и сдержанным человеком, неспособным на грубость. Самым страшным проклятием в его устах было: «Ступай с богом!». Стал бы такой человек повышать голос на короля в присутствии подданных? Оскорблять коронованную особу, да так, чтобы придворные захотели его убить? И как должен был отреагировать великий и ужасный Жуан II? Король, отправивший на эшафот и отравивший цвет португальской нации, в том числе своих родственников. Король, собственной рукой заколовший брата жены, герцога Визеу. Этот король спокойно сносит поношения какого-то ткача. В его руках оказался человек, продавший Кастилии Индию, мечту всей его жизни. Позволив своим приближенным с ним расправиться, Жуан убил бы двух зайцев: покарал наглеца и не дал испанцам воспользоваться плодами его открытия. Как же на самом деле поступил этот безжалостный и расчетливый монарх? — Граф сделал паузу. — Он запретил своим дворянам трогать Колумба, осыпал его милостями и позволил сидеть в своем присутствии, что для того времени было делом почти немыслимым. А еще снабдил «Нинью» припасами, чтобы экспедиция могла спокойно добраться до Кастилии, передав наилучшие пожелания Католическим королям! — Голос Виларигеша гремел, как у фанатичного пастора во время религиозного диспута. — Разве так поступают могущественные правители, обманутые в своих ожиданиях? Нет, друг мой, так поступают хитрые политики, задумавшие обвести противников вокруг пальца. Португальскому королю было выгодно, чтобы испанцы заполучили Америку. Ее открытие развязало ему руки и сделало возможным главное событие эпохи — путешествие Васко да Гамы в Индию.
— Логично, — со вздохом признал Томаш.
— Еще бы! — подхватил граф Виларигеш. — Особенно если учесть, что странности на этом не прекратились. Знаете, что сделал Колумб после аудиенции у Жуана II?
— Поплыл в Кастилию?
— Нет, дружище. Не угадали.
— А что же тогда?
— Отправился в путешествие по Португалии. Простившись с королем в Азамбуже, адмирал сел на коня и поскакал в Вила-Франка-де-Шира: он хотел повидать королеву, которая находилась там в монастыре. Лас Касас пишет, что ее величество приняла гостя в присутствии герцога и маркиза и допустила к руке. Вас это не удивляет?
— Еще как! И о чем же они говорили?
— О семейных делах, надо полагать. Вы удивлены?.. Кажется, пришло время раскрыть тайну происхождения адмирала. Португальский аристократ бежит в Кастилию после разоблачения заговора знати. Кто был ключевыми фигурами заговора? Мать королевы и ее брат герцог Визеу. Получается, что Колумб был каким-то образом связан с семьей королевы. А следовательно, и с самой королевой. Скорее всего, кровными узами. Колумб, надо полагать, был близким родственником королевы, кузеном, племянником или кем-то в этом роде. — Граф погрозил собеседнику пальцем, как делал всякий раз, когда хотел подчеркнуть сказанное. — Внимание, друг мой. Адмирал и королева беседовали целую ночь, словно очень близкие люди. Как расценивать их взаимный интерес? Будь Колумб безвестным чужеземным ткачом, решился бы он искать встречи с королевой? И согласилась бы она его принять? И разве у них нашлось бы достаточно тем, чтобы проболтать всю ночь напролет? И стал бы герцог Визеу, младший брат королевы и будущий король Мануэл участвовать в их беседе? — Виларигеш махнул рукой, отметая столь абсурдные мысли. — Нет, все совершенно очевидно: это была семейная встреча. — Он строго поглядел на Томаша. — Или у вас есть какое-то другое объяснение?
Томаш покачал головой.
— Нет. Другого объяснения у меня нет.
— Ночь на одиннадцатое марта Колумб провел в Аландре, — как ни в чем не бывало продолжал граф. — Наутро к адмиралу явился королевский посланник сообщить, что король готов предоставить охрану и припасы на случай, если тот решит отправиться в Кастилию верхом. — Виларигеш снова подмигнул. — Очень мило со стороны короля, не правда ли? Сделать все, чтобы Колумб поскорее добрался до Испании и порадовал тамошних правителей вестью об открытии Индии. Приблизить собственное фиаско. — Он поник головой, словно сокрушаясь недальновидности монарха. — Впрочем, Колумб предпочел вернуться на борт «Ниньи». Как вы думаете, куда он направился?
— В Кастилию, куда же еще!
— Это было бы слишком просто! — засмеялся граф.
Томаш наморщил брови.
— Не хотите же вы сказать, что он остался в Португалии…
— Вот-вот. Путь нашего друга лежал в Фару.
Теперь смеялись оба. История о возвращении Колумба превращалась в театр абсурда.
— В Фару? — спросил Томаш между приступами смеха. — А зачем ему понадобилось в Фару?
— Кто знает, — отозвался граф, вытирая слезы. — В те времена еще не было ни пляжей Виламоры, ни гостиничных комплексов на Кинта-ду-Лагу. Ни дискотек, ни теннисных кортов! — Смех гулким эхом отскакивал от стен Шаролы. — Колумб прибыл в Фару четырнадцатого марта и пробыл там весь день, дотемна. Что он там делал, неизвестно. Скорее всего, встречался с друзьями или родственниками. Вот вам очередное доказательство португальского происхождения адмирала! — Виларигеш пригладил усы. — Заметьте. Команда, состоявшая почти сплошь из кастильцев, рвется домой. Католические короли ждут отчета об открытии Индии. А генуэзский ткач болтается по Португалии, от Азор до Алгарве, от Лиссабона до Вила-Франка-де-Шира, от Азамбужи до Аландры, не торопясь беседует с королем и королевой, наносит визиты и вообще ведет себя так, будто он на увеселительной прогулке. Разве так флотоводец на службе у испанской короны должен вести себя в стане врагов? — Виларигеш поджал губы. — Вряд ли. Это поведение не иностранца на негостеприимной земле, а португальца, который вернулся домой. Христофор Колумб несомненно был португальцем, и он оказал своему королю неоценимую услугу, открыв для испанцев дорогу в Индию.
Историк ожесточенно потер виски.
— Возможно, — произнес он. — Но я вот чего не понимаю. Неужели кастильские матросы ничего не заподозрили?
— Заподозрили, конечно, — граф потянулся к портфелю Нороньи. — У вас ведь с собой копии переписки Колумба?
— Копии… — задумался Томаш, расстегивая замки портфеля. — Ну да, с собой.
— Есть среди них письмо донье Хуане де ла Торре, отправленное из заточения в 1500 году?
Перебрав листки, Томаш отыскал документ и передал его графу.
Виларигеш пробежал глазами факсимиле письма.
— Обратите внимание на эту фразу, — предложил он. — «Yo creo que se acordará vuestra merced, cuando la tormenta sin velas me echó en Lisbona, que fui acusado falsamente que avia yo ido allá al Rey para darle las Indias»: «Вам, должно быть, приходилось слышать, что когда буря вынудила меня бросить якорь у Лиссабона, я был несправедливо обвинен в желании передать Индию в руки португальского короля». — Виларигеш поднял глаза на Томаша. — Как видите, поведение Колумба показалось его команде весьма подозрительным. Моряки предположили самое очевидное: адмирал решил передать только что открытые земли в руки португальцев. На самом деле, как мы знаем, все было куда сложнее. В 1488 году Колумб стал тайным агентом Жуана Совершенного, а в 1493-м они встретились в Лиссабоне, чтобы подвести итоги и выработать стратегию, которой предстояло лечь в основу Тордесильясского трактата.
— Что ж, — осторожно начал Томаш. — Некоторые факты вызывают сомнения, но в целом ваша история кажется убедительной. И в биографии Колумба все становится на свои места. Но все же должно существовать последнее доказательство, документ, который все подтверждает…
— Вы хотели бы, чтобы сохранился документ, в котором написано, что Христофор Колумб был тайным агентом португальской короны?
— Я имею в виду доказательство того, что адмирал был португальцем.
Виларигеш погладил остроконечную бородку.
— Председатель Испанского географического общества Бельтран-и-Роспиде полагал, что главное доказательство хранится в секретном португальском архиве…
— Да, — перебил историк. — Об этом писал Армандо Кортесан. Но никаких документов так и не нашли, а Роспиде унес тайну архива с собой в могилу. Исчерпывающее доказательство кануло в Лету.
Виларигеш глубоко вздохнул. Окинул взглядом своды Шаролы, восьмигранный неф, белый мраморный алтарь; поднял голову к потолку, к величественному готическому куполу, где в перекрестье балок красовались гербы короля Мануэла и Воинства Христова. Потом повернулся к Томашу.
— Вам доводилось слышать о Кодексе 632?
— О Кодексе?
— Да. Вам приходилось о нем слышать?
Томаш провел ладонью по лицу.
— Странно, что вы о нем заговорили, — произнес он. — Я нашел упоминание о нем на обратной стороне одного документа из сейфа профессора Тошкану. Там же был записан ваш телефон.
— Вот как? А вы случайно не захватили с собой документ?
Историк потянулся за портфелем. В толстой стопке бумаг ксерокопия отыскалась не сразу.
— Вот она, — сообщил Томаш, протягивая листок графу.
Виларигеш едва удостоил документ взглядом.
— Вы знаете, что это такое?
— «Хроника короля Жуана II» Руя де Пины. В этом отрывке идет речь о встрече Колумба с королем.
Граф снова вздохнул.
— Значит, вы так и не поняли, что у вас перед глазами? Это и есть фрагмент Кодекса 632.
Норонья вырвал у графа страницу.
— «Хроника короля Жуана II» и есть Кодекс 632?
— Нет, «Хроника короля Жуана Второго» не является Кодексом 632. Зато Кодекс 632 является «Хроникой Жуана II».
Томаш тряхнул головой.
— Я вас не понимаю.
— Все очень просто, — улыбнулся Виларигеш. — В начале XVI века король Мануэл приказал Рую де Пине написать хронику царствования Жуана II. Пина дружил с покойным королем и был хорошо осведомлен обо всех обстоятельствах его жизни. Хронист трудился не за страх, а за совесть и вскоре создал пространную биографию монарха. Рукопись раздали переписчикам, которые многократно скопировали ее на бумагу и пергамент. Оригинал до наших дней не дошел, сохранились только три ранние копии. Самая четкая стала одним из главных сокровищ Торре-ду-Томбу, это подлинная библиографическая редкость. Так называемый Пергамент 9, с готическим шрифтом и цветными миниатюрами. Остальные хранятся в Национальной библиотеке. В том числе Алкобасский Кодекс, названный так потому, что его обнаружили в монастыре Алкобасы, он же Кодекс 632. Все три копии повествуют об одном и том же, только написаны разным почерком. Их содержание было бы совершенно идентичным, если бы не одно маленькое отличие. — Граф забрал у Томаша листки. — Это отличие, характерное для Кодекса 632, находится как раз в том отрывке, который повествует о встрече Колумба с Жуаном. Взгляните. Вам ничего не бросается в глаза?
Норонья соединил нижнюю часть первого листа с верхом второго и некоторое время внимательно их рассматривал.
— Нет, не бросается, — признался он наконец. — Здесь говорится о том, как Колумб по дороге из Америки посетил Лиссабон. Ничего необычного.
Граф приподнял левую бровь, словно учитель, удивленный неправильным ответом отличника.
— Вы внимательно посмотрели?
— Ну… да… Хоть убейте, не вижу здесь ничего странного.
— Обратите внимание на промежутки между словами. Они почти одинаковые. И только в двух местах переписчик отступил от заданного расстояния. Теперь видите?
Томаш снова принялся изучать копии, сначала целиком, потом каждую строчку в отдельности.
— Пожалуй, здесь и вправду есть нечто странное… После слова «Capitulo[92]» в середине первой страницы оставлено много места…
— Скорее всего, переписчик не знал, какой номер поставить. А еще?
— Большие промежутки до и после слова «y taliano». Значительно больше, чем между другими словами.
— Совершенно верно. И что это означает?
— Трудно сказать… Отступление…
— Но для чего оно сделано? Ну же, предложите свою версию!
— На первый взгляд… Создается такое впечатление… такое впечатление, что переписчик оставил свободное место, чтобы вписать национальность Колумба. Он не знал, что писать, и попросту пропустил слово. Вероятно, ждал указаний свыше…
— Точно! — обрадовался граф. — И они последовали…
— Разумеется. Указания вписать «итальянец».
— Как и все хронисты, Руй де Пина писал то, что ему говорили, или, по крайней мере, то, что от него ожидали. Очень многие события остались в забвении. Пина, к примеру, повествуя об эпохе Жуана II, умудряется ни разу не упомянуть Бартоломеу Диаша. А между тем без его открытия не состоялась бы экспедиция Васко да Гамы.
— Вы правы, — признал Томаш. — Хронисты всегда обслуживали интересы короны.
Граф Виларигеш сосредоточился на третьей и четвертой строках со второй страницы.
— Кстати, вы заметили, что слово «colo nbo» поделено на две части? «Colo» осталось на третьей строчке, a «nbo» перебралось на четвертую. Похоже, переписчик не только вставил национальность адмирала, но и прибавил к его имени лишний слог. В пустое пространство можно было вписать все что угодно. — В темных глазах графа полыхнул огонь. — Все, кроме правды. — Он выдохнул еле слышно: — Все, кроме разгадки.
Томаш напряженно вглядывался в таинственную строку.
— Черт возьми, действительно! Слова «nbo у taliano» вписаны a posteriori.
Граф потянулся, устраиваясь поудобнее на жесткой скамье.
— И все же торопиться не стоит, — заметил он. — Я встречался с профессором Тошкану в Бразилии незадолго до его смерти, и говорили мы как раз о Кодексе 632. Мне всегда казалось, что эти слова были задним числом вписаны в заранее оставленное место. Но у профессора была другая теория. Он утверждал, что в четвертой строке видны следы лезвия. Другими словами, в оригинале Пины все же была сказана правда о происхождении Колумба. Чтобы скрыть ее, переписчику пришлось стереть написанное и вписать злосчастное «nbo у taliano» поверх. Тошкану собирался это проверить, но, по всей видимости, не успел. — Виларигеш пожал плечами. — Дальше догадки дело не пошло.
— Ясно, — проговорил Томаш. — Копии сняты с оригинала?
— Что вы имеете в виду?
— Тошкану скопировал оригинал хроники или факсимиле?
— Ни то ни другое. Это микрофильм из Национальной библиотеки. Оригинал хранится в специальном сейфе, его на руки не выдают.
Томаш встал и принялся разминать затекшие суставы.
— Вот, собственно, и все, что я хотел узнать.
Виларигеш поднялся вслед за ним.
— И что вы теперь намерены делать?
— То, что мне давно надо было сделать, — ответил Норонья, застегивая куртку.
— И что же?
Томаш уже направлялся к выходу. Прежде чем покинуть Шаролу через маленькую дверь в углу и выйти в главный клуатр, он обернулся и посмотрел на графа, чье лицо скрывал полумрак собора.
— Пойти в Национальную библиотеку и посмотреть оригинал Кодекса 632.
XVI
Двери лифта раскрылись с характерным мелодичным звоном. На третьем этаже Национальной библиотеки было пусто, тихо, неуютно; пышные кроны деревьев не пускали в окна солнечный свет, и по углам длинных коридоров таилась мгла. Прошагав по мраморному полу, гулким эхом повторявшему человеческие шаги, Норонья толкнул стеклянную дверь с алюминиевой ручкой и вошел в читальный зал.
Разделенный перегородками зал был куда меньше, чем на первом этаже. В огромных, от пола до потолка, окнах бушевала зелень. Вдоль стен стояли каталожные ящики, на широких стеллажах поблескивали золотым тиснением корешки старинных фолиантов. Немногочисленные читатели сидели за длинными столами, будто студенты на лекции; каждый из них на время получил доступ к какой-нибудь библиографической редкости: потертому пергаменту или толстому тому с изящными миниатюрами. Оглядевшись, Томаш обнаружил знакомые лица; заведующий кафедрой из Классического университета, желчный старик с острой бородкой уткнулся в средневековый кодекс; амбициозный молодой профессор из Коимбры, румянощекий, с пышными усами склонился над старинной псалтирью; худенькая нервная студентка в потертых джинсах и с растрепанными волосами прилежно строчила в блокноте, то и дело сверяясь с пожелтевшим от времени каталогом.
— Добрый день, сеньор профессор, — поздоровалась с Томашем дама средних лет в круглых черепашьих очках, хранительница библиотечных сокровищ.
— Здравствуйте, Одети, — отозвался Норонья. — Как дела?
— Превосходно. Пойду принесу ваш заказ.
Накануне Томаш звонил в отдел редких и ценных документов, чтобы запросить оригинал хроники. Заняв место у окна, он принялся ждать, не имея ни малейшего понятия о том, что в итоге собирается отыскать. Чтобы убить время, историк открыл блокнот и погрузился в изучение скудных сведений о Руе де Пине, которые ему удалось собрать. Пина был приближенным и другом короля Жуана. Он часто бывал в Кастилии с дипломатическими миссиями, а в 1493 году ездил в Барселону, чтобы обсудить с Фердинандом и Изабеллой положение, сложившееся после того, как Колумб открыл новый путь в «Азию». А позже участвовал в подготовке Тордесильясского трактата, по которому Испания с Португалией поделили мир. После смерти Совершенного главный свидетель его царствования сделался придворным летописцем и уже при Мануэле написал «Хронику короля Жуана II».
Звук шагов за спиной вывел профессора из задумчивости. Одети тащила тяжеленный том. Водрузив его на стол перед Нороньей, она облегченно вздохнула.
— Вот он! — торжественно провозгласила библиотекарша. — Только умоляю, осторожнее.
— Пожалуйста не беспокойтесь, — улыбнулся Томаш, не спуская глаз с фолианта.
Огромный том был переплетен в коричневую кожу. Сзади виднелась гравировка: «Кодекс 632». Приподняв обложку, Томаш ощутил знакомый запах старины, волнующий и пьянящий. Робко, почти подобострастно касаясь кончиками пальцев бесценной реликвии, он принялся переворачивать потемневшие, испещренные временем листы с густо-желтыми виньетками, которые казались черными на копиях из сейфа Тошкану. На первой странице красовалось «Хроника времен короля Жуана Второго». Норонья то не спеша, страница за страницей, строка за строкой, просматривал кодекс, то пропускал целые параграфы, продираясь сквозь дебри португальской орфографии XVI века, чтобы поскорее добраться до вожделенного отрывка.
Наконец он дошел до семьдесят шестой страницы. Витиеватая буква N открывала новую главу: «no ano seguinte de m… е triiy estando elRei no lugar de Vail de parayso…». Томаш скользил глазами no строчкам, останавливаясь на каждом пробеле. Сердце его трепетало, во рту пересохло, взгляд затуманился. Слева, в начале четвертой строки, прямо перед словами «nbo у taliano» бумага была значительно белее и тоньше. Норонья узнал след от лезвия.
От лезвия.
Томашу сделалось трудно дышать; он чувствовал себя утопающим, который отчаянно пытается удержаться на плаву, тщетно ожидая спасения. Ему хотелось закричать в голос, возвестить миру о великом открытии, о том, что головоломка наконец решена, но в полусонном зале редких книг подобное проявление эмоций было совершенно немыслимым.
Норонья зажмурил и снова открыл глаза, чтобы проверить, не стал ли он жертвой игры света и собственного воображения. Но нет, оставленное лезвием белое пятно никуда не делось. Тогда историк откинулся на спинку стула и заставил себя рассуждать. Кто-то взял на себя смелость поправить хрониста; отрывок, в котором говорилось о национальности Колумба, безжалостно стерли; неизвестная рука вписала вместо него «nbo у taliano». Но кто это сделал? Зачем? И какие слова стерли? Этот вопрос стучал в висках Нороньи неотвязно, мучительно и тревожно. Какую тайну скрыло острое лезвие? Кем в конце концов был Колумб? Томаш отодвинул кодекс и принялся глядеть в окно в надежде, что мысли придут в порядок, и ответ найдется сам собой. Но пятно в углу страницы по-прежнему хранило свой секрет, оставаясь все таким же белым и безмолвным.
Непроницаемым.
Без толку просидев над манускриптом десять минут, Норонья решил сменить тактику. Узнать, какие слова стерли, можно было при помощи электронного анализа. Томаш закрыл книгу и встал из-за стола; пройдя через зал, он аккуратно положил фолиант на деревянную кафедру.
— Уже все? — спросила библиотекарша, подняв глаза от романа в мягкой обложке.
— Да, Одети. Я ухожу.
Женщина забрала книгу.
— Эта рукопись пользуется большой популярностью, — сообщила она, укладывая тяжелый фолиант на полку.
Томаш, уже направлявшийся к выходу, вздрогнул и обернулся.
— Прошу прощения?
— «Кодекс 632» пользуется большой популярностью, — повторила Одети.
— Правда? У кого?
— С ним много работал покойный профессор Тошкану.
— А, — успокоился Норонья. — Да, профессор Тошкану действительно интересовался этим манускриптом, поскольку…
— Бедный профессор. Умереть в Бразилии, вдали от родных.
Томаш вздохнул и закатил глаза, демонстрируя умеренную, благопристойную печаль.
— Такова жизнь, что поделаешь.
— Да, конечно, — закивала Одети. — А мне как раз пришел ответ на его запрос. Я теперь не знаю, что с ним делать.
— Какой запрос?
Библиотекарша наконец поставила рукопись на место.
— Как раз по поводу кодекса, — сообщила она. — Профессор заказал радиологический анализ в нашей лаборатории. Ответ пришел через две недели, когда было уже поздно, и я ума не приложу, что с ним делать.
— Профессор Тошкану заказал радиологический анализ рукописи? — переспросил пораженный Томаш.
— Нет, только одной страницы. Одной-единственной.
Это могла быть только та заветная страница.
— Результаты у вас?
— Они здесь, — библиотекарша показала на маленький ящичек под кафедрой. — В моей тумбочке.
Томашу казалось, что сердце вот-вот выскочит из грудной клетки.
— Одети, сделайте одолжение. Позвольте мне их посмотреть.
Женщина наконец поставила книгу на полку и вернулась за кафедру. Отперев тумбочку, она достала огромный белый конверт с логотипом Национальной библиотеки.
— Вот. Смотрите.
Томаш дрожащими руками открыл конверт. Внутри лежали черные фотографические пластины, как две капли воды похожие на снимки человеческого скелета. Но, присмотревшись, Норонья убедился, что рентген запечатлел не сломанные кости, а старинную рукопись. Он облегченно вздохнул: это и вправду была та самая страница Кодекса 632. Сам не свой от волнения, историк отыскал глазами четвертую строку. Вот знакомые буквы «nbo у taliano», вот четкие следы от лезвия. Под ними, едва различимые, проступали другие линии. Томаш жадно вглядывался, надеясь, что эти черточки сразу сложатся в буквы, а буквы в слова, и рукопись наконец раскроет свои секреты.
И вдруг что-то случилось. Это было как озарение, как мановение ангельского крыла. Квадратик паззла встал на место. Теперь Норонья точно знал, что написал в своей хронике Руй де Пина.
Белые стены сверкали в жарких полуденных лучах и отражались в холодной зелени вод; средневековый замок застыл над рекой напоминанием о давно ушедших временах; похожая на огромный каменный корабль крепость уже который век стояла в устье Тежу, защищая Лиссабон от надвигавшегося из-за горизонта Адамастора.
Томаш задержался на мосту, чтобы издали полюбоваться воздушными белыми стенами. Башня Белен врезалась в воду, будто нос старинной каравеллы, связанный с ней тугим переплетением каменных узлов мост был широким и ровным, как палуба; купола над угловыми башенками наводили на мысль о мавританских мечетях; легкие перила балконов покрывало тончайшее каменное кружево; каждую из четырех стен украшал крест Воинства Христова, знак португальских тамплиеров, обращенный к четырем сторонам света; купол каждой башенки венчала небесная сфера.
Историк лишний раз поразился способности американца выбирать для встреч места, пронизанные духом Открытий. Нельсон Молиарти поджидал Норонью на смотровой площадке. Облокотившись на перила, он меланхолично жевал бабл-гам.
— У меня хорошие новости, — сообщил Томаш, сияя от радости. — Я завершил расследование!
— Да это же просто замечательно! Рассказывайте скорей.
Норонья поведал американцу о путешествии в Иерусалим и удивительной встрече в Томаре. Он говорил так горячо и страстно, что, казалось, его возбуждение передалось и природе. Чайки кружили над башней с пронзительными криками; с моря дул свежий соленый ветерок; волны с раскатистым вздохом припадали к белому основанию башни. Впрочем, сам Томаш словно не замечал окружавшей его красоты, не слышал чаек и не чувствовал бодрящего запаха моря. Все его существо было поглощено великой тайной и ее разгадкой. Молиарти слушал сначала недоверчиво, потом с любопытством, потом завороженно, а когда Норонья дошел до находки в библиотеке — с нетерпением.
— Вы принесли снимки? — взволнованно спросил американец.
— Они здесь, — ответил Томаш, приподняв портфель.
— Так давайте их сюда.
Уложив портфель на перила, португалец щелкнул замком и достал конверт с логотипом Национальной библиотеки. Осторожно вытащил черные пластины и передал Молиарти.
Нельсон посмотрел снимки на свет, бережно держа кончиками пальцев, и в недоумении уставился на Томаша.
— Ничего не понимаю. Вы можете объяснить, что это такое?
Историк отыскал на снимке четвертую строку.
— Можете прочесть, что здесь написано?
— Да… пожалуй… Нет, не могу.
— Это вполне естественно, — сжалился Томаш. — Произошло наложение двух текстов. Новый более темный и четкий. «Nbo у taliano». Старый куда светлее, его сложно рассмотреть. Видите?
Молиарти поднес снимок к глазам почти вплотную, точно страдал близорукостью.
— Действительно, — проговорил он. — Кое-что, кажется, вижу.
— Можете прочесть?
— Постойте… Это… Nado en cuba. Рожденный в Кубе…
— Ну да. Слово «colo», как показывает рентген, осталось от стертого текста. Правда, первоначально оно было на две буквы длиннее: Colona. — Историк выдержал долгую паузу, а потом продолжил: — В начале XVI века Руй де Пина написал «Хронику времен короля Жуана II». Дойдя по встречи Жуана и Колумба, он решил, что за давностью лет хранить тайну не имеет смысла, и спокойно выдал секретную информацию. Текст отдали переписчику, и тот снял копию, известную нам под названием Кодекс 632. Когда она попала на глаза королю Мануэлу, тот пришел в ужас и приказал исправить хронику. В третьей строке стерли последний слог, и вместо colona осталось na. Из четвертой строки убрали nado en cuba и вписали ytaliano. Последнее слово оказалось немного короче, и переписчику пришлось написать раздельно: у taliano, чтобы заполнить пустоту. Оригинал был уничтожен, а остальные копии, включая Алкобасскую и Пергамент 9, снимали с Кодекса 632. Вот как вышло, что вместо «а Ribou i Restelo em lixboa Xpova colona nado en cuba», в хронике значилось «a Ribou i Restelo em lixboa Xpova colo nbo у taliano».
— Но я не понимаю, что за бред! Когда Колумб родился, Кубу еще не открыли!
Томаш рассмеялся.
— Нельсон, речь идет о городе Куба на юге Португалии. Адмирал родился в городе Куба. Кстати, этот факт косвенно подтверждают и другие обстоятельства его жизни. Помните, в 1484 году Колумб бежал в Кастилию, потому что был заподозрен в участии в заговоре против Жуана II, который возглавлял герцог Визеу, королевский шурин, убитый в том же году. Герцог Визеу, помимо прочих, носил титул герцога Бежа. А Бежа — крупный город на юге Португалии, рядом с Кубой. У герцога Визеу-и-Бежа было немало родных и друзей в тех краях. И уроженец Кубы Колумб оказался одним из них.
Американец потер виски.
— А нет ли какой-нибудь связи… между той Кубой и островом…
— Разумеется есть. Остров в Карибском море назван в честь родного города Колумба. Сначала его окрестили Хуаной. Но через некоторое время переименовали в Кубу. Много лет считалось, что это искаженное индейское слово Кольба, так остров называли аборигены. Но и у первого из открытых во время экспедиции островов тоже было индейское название, однако это не помешало адмиралу назвать его Испаньолой. Так было и с остальными островами. И только для Хуаны сделали исключение. — Норонья развел руками. — Почему? Мы можем предположить, что адмирал услышал, как индейцы называют свой остров Кольбой, и это слово показалось ему созвучным с названием маленького португальского городка, где он родился. Так Кольба превратилась в Кубу.
— Хорошо, а что тогда означает colona?
— Это настоящая фамилия Христофора Колумба. Колона. Я видел генеалогические таблицы той эпохи. Фамилия Колона действительно существовала. Иногда ее писали с одной n, чаще с двумя. Полное имя семейства было Шьярра Колона или Колонна. Шьярра похоже на Гьярра. Или Герра. Вот и разгадка тайны. Вы, конечно, помните, что адмирала в разных источниках называют по-разному: Колон, Колом, Коломо, Колонус, Гьярра или Гера. Настоящее имя мореплавателя было вовсе не Колумб, а Шьярра Колонна. Эрнандо Колон, как известно, искал в Италии следы своих предков. И выяснил, что род Колонна происходит из Пьяченцы, так же, как и семья его первой жены, которая по-итальянски звалась Парестреллос, а по-португальски Перештрелу.
— Значит, Колумб был португальцем итальянского происхождения?
— Христофор Колонна был португальским аристократом итальянского и, вполне вероятно, иудейского происхождения. Шьярра Колонна из Пьяченцы породнились с португальской знатью, что для той эпохи было совершенно естественно. Нас не должно удивлять, что Эрнандо называет отца по латыни Кростофорус Колонус. Колонус, от Колонны, а не Колумбус от Колумба. Однако первое имя мореплавателя Шьярра, поэтому многие источники, например, Петр Ангиерский и свидетели на процессе по «Делу о наследстве», утверждали, что адмирал звался Гьяррой или Геррой. Христофор Шьярра Колонна. Христофор Гьярра Колон. Христофор Герра Колом.
— А как быть с еврейскими корнями?
— В те времена в Португалии было много евреев. Они ссужали знать деньгами и пользовались ее защитой. Иудеям и христианам случалось и породниться. У большинства современных португальцев есть капля еврейской крови.
Нельсон Молиарти, не двигаясь, смотрел на ровное зеркало воды в том месте, где река встречалась с морем. Свежий морской воздух, пахнущий свободой и простором, наполнял его легкие.
— Поздравляю, Том, — произнес он наконец без всякого выражения. — Вы раскрыли тайну.
— Похоже, да.
— И заслужили награду. — Американец оторвал взгляд от белой крепости, отражавшейся в спокойных водах, и повернулся к Норонье. — Полмиллиона долларов. — На его губах дрогнула странная, безрадостная улыбка. — Куча денег, не правда ли?
— Да… — нехотя проговорил португалец.
Увлеченный расследованием, Томаш чуть не забыл о причитавшемся вознаграждении. Полмиллиона долларов действительно гигантская сумма. Ее хватило бы, чтобы вновь завоевать Констансу, а главное, — помочь Маргарите. И вправду много денег, ужасно много.
— Окей, Том! — провозгласил Молиарти, отечески хлопнув Норонью по плечу. — Я возвращаюсь в Нью-Йорк, чтобы подготовить отчет. В ближайшее время мы уладим все формальности и вышлем чек. Пойдет?
— Да, конечно!
Американец аккуратно сложил снимки, засунул их в конверт, но отдавать Томашу не спешил.
— Это единственная копия, right?
— Да.
— Другой нет?
— Нет.
— Тогда я ее возьму.
Молиарти развернулся, прошел вдоль крепостной стены, шагнул под арку с изящными колоннами, открывавшую вход в южное крыло башни Белен, и исчез во мраке.
Нельсон Молиарти не давал о себе знать целых четыре дня. На пятый день, вечером, он позвонил по телефону, чтобы договориться о встрече. Звонок застал Томаша в гостиной: он рассеянно смотрел по телевизору какую-то викторину и чувствовал себя совершенно разбитым. Теперь, когда он проводил вечера дома, одиночество становилось все мучительнее и безысходнее; поговорив с американцем, Норонья вдруг ощутил необъяснимое волнение. Подчиняясь внезапному импульсу, он вскочил, схватил куртку и бросился на улицу.
Выехав на набережную, Томаш опустил стекла, чтобы впустить морской воздух, и принялся бродить по лабиринту своей запутанной жизни в поисках выхода или на худой конец надежного убежища, чтобы передохнуть и набраться сил для новых поисков. Норонья отчаянно пытался заполнить одинокие вечера работой, готовился к лекциям, проверял тесты, читал все свежие исследования по палеографии, которые попадали ему в руки. Констанса по-прежнему даже не выходила поздороваться, когда воскресный отец заезжал за дочкой; впрочем, в последнее время Маргариту перестали отпускать на выходные: девочке нездоровилось. От отчаяния Томаш решил было возобновить отношения с Леной, но шведка не появлялась на лекциях, а ее мобильный был постоянно отключен. Скорее всего, уехала на родину, не дослушав курса.
Норонья развернулся, не доезжая Каркавелуша, проехал по сонному Английскому подворью и остановился у трамвайного депо. Неподалеку был торговый центр. Обитель светлых воспоминаний, здесь он вечно пропадал студентом с друзьями, а потом и с Констансой. В ту пору торговый центр в Каркавелуше был весьма модным местом, здесь не только делали покупки, но пили кофе в маленьких кафетериях и даже назначали свидания. Все здесь напоминало о Констансе, повсюду витал аромат ушедшей юности. Каждый угол, каждый поворот, каждый закуток хранил память о тех днях, когда они бродили здесь в обнимку, двое простодушных мечтателей, фантазировали, делились планами на будущее, о котором еще ничего не знали, и были счастливы в своем неведении; теперь он в одиночестве вдыхал едва различимый запах угасших чувств и утраченных надежд. Прошлое скрылось во тьме, они с Констансой стали другими, и пути назад нет. Но в старом торговом центре все еще обитали призраки двадцатилетних влюбленных, способных глядеть в грядущее без страха. Тщетно ища взглядом милые тени, Томаш чувствовал, как его накрывает волна ностальгии, а сердце тисками сжимает боль безвозвратной потери.
Норонья заказал в кафетерии сэндвич. Устроившись за столиком, стал осматриваться в поисках примет нового времени; обстановку переменили, но дух места остался прежним; вон у того окна, выходящего на тихую улицу, они с Констансой сидели во время одного из первых свиданий. Томаш до ничтожных мелочей помнил, о чем они говорили тем субботним вечером: о семьях, о несносном брате Констансы, о том, что будут делать после университета, о том, что в один прекрасный день она станет великой художницей, и ее картины выставят в галерее Тейт. Безумные мечты, но тогда у них не возникало ни малейшего сомнения, что рано или поздно все так и будет.
Покончив с бутербродом, Томаш хотел зайти в кондитерскую, но передумал и отправился в кино. В тот вечер показывали два фильма: «Бойцовский клуб» с Эдвардом Нортоном и Брэдом Питтом и «Аферу Томаса Крауна» с Пирсом Броснаном и Рене Руссо. В другой день Норонья выбрал бы второй фильм, но приличная доза кинематографического насилия могла оказаться действенным средством от хандры и ностальгии. До начала сеанса оставалось пятнадцать минут, и Томаш заглянул в бар купить попкорн. В прежние времена никакого бара при кинотеатре не было; бар, так же, как гастроном на первом этаже, стал порождением новой эпохи, еще одним знаком перемен. В очереди у барной стойки к нему ненадолго вернулось щемящее предвкушение чуда, совсем как тогда, когда он держал Констансу за руку, а люстры гасли одна за другой; но через мгновение волшебство рассеялось, и Норонья, получив картонное ведерке с попкорном и стопку салфеток, направился к входу в зал.
И столкнулся с ней в дверях. Констанса казалась посвежевшей, оживленной, счастливой, красивой, как в двадцать лет, только взрослее; на ней было белое платье с алыми и желтыми цветами и пышной юбкой, по моде пятидесятых. Сердце Томаша на секунду перестало биться. Увидев его, она замешкалась в дверях; оба застыли на месте, словно дети, застигнутые за очередной проказой.
— Привет, — сказал Томаш, очнувшись.
— Привет, Томаш. — Она легко справилась с собой. — Позволь представить тебе моего друга Карлуша.
Норонья чувствовал себя как человек, которого грубо растолкали посреди чудесного сна; последняя надежда уносилась прочь, словно подхваченный ветром лепесток. Будто в замедленной съемке, он видел, как к его жене подходит худой бородатый субъект в дорогом костюме. Незнакомец оглядел соперника с любопытством, быстро сменившимся неприязнью, и нехотя протянул руку.
— Очень рад, — сказал он кисло. — Карлуш Роза.
Томаш пожал протянутую руку.
— Как дела? — послышался голос Констансы. — У тебя все хорошо?
Откуда-то из самой глубины его души стремительно поднималась волна боли и ярости.
— Да, все хорошо, просто замечательно. А ты?
— Чудесно.
Последовала неловкая пауза. Томашу хотелось сбежать, исчезнуть, сгинуть из этого мира.
— Мне… пора идти, — выдавил Норонья, слабо махнув рукой.
— Приятного просмотра. — Ясный взгляд Констансы был совершенно непроницаем, и невозможно было понять, грустит она или радуется, задела ее внезапная встреча или оставила равнодушной.
Сбежав из бара, в зал Томаш не пошел. Подавленный, оскорбленный, разбитый, он выбрался из торгового центра в надежде, что сырой вечерний воздух облегчит прощание с любовью, потерянной для него навсегда.
Человеческий муравейник на бульваре Россио пребывал в хаотическом движении. Одни торопились куда-то, глядя под ноги, другие неспешно прогуливались, размышляя о вечном, третьи нервно оглядывались, нетерпеливо всматривались в толпу в поисках припозднившихся знакомых. Среди последних был и Томаш Норонья, сидевший за столиком на летней веранде кафе «Никола» с чашкой дымящегося кофе.
Внезапно из толпы вынырнул Нельсон Молиарти. Американец был в костюме, при галстуке и, против обыкновения, опоздал на сорок минут.
— Sorry, — извинился Молиарти. — Терпеть не могу опаздывать, но Джон Савильяно позвонил из Нью-Йорка, вот я и задержался.
— Ничего страшного, — Томаш через силу улыбнулся. — Сегодня для разнообразия ждать пришлось мне. Это справедливо. Будете что-нибудь?
— Чай с жасмином и сливочное пирожное, как всегда.
Томаш подозвал официанта, тот принял заказ и скрылся за дверью кафе.
— Как поживает Савильяно?
— Превосходно, — ответил Нельсон, избегая глядеть в глаза собеседнику. — У Джона все просто замечательно.
— У вас все в порядке?
— Да-да, — рассеянно ответил американец. — Только… нам с вами нужно уладить кое-какие дела, не так ли? — Молиарти оперся локтями о стол и впервые посмотрел на Томаша. — Том, согласно нашему договору, вам причитается три тысячи долларов еженедельного жалования и пятьсот тысяч в качестве премии. — Он облизнул губы. — Когда вы хотели бы их получить?
— Да хоть сейчас, если вы не против…
Нельсон достал чековую книжку и ручку, но выписывать чек не спешил.
— Том, у нас появилось дополнительное условие.
— Какое?
— Полная конфиденциальность.
— Конфиденциальность? — удивился Томаш. — Боюсь, я не совсем понимаю…
— Результаты вашего расследования следует сохранять в тайне. Вы меня поняли? Никому ни слова о том, что вам удалось узнать.
— Это коммерческая стратегия? Но в чем ее смысл? Не допустить преждевременной огласки, чтобы усилить эффект от публикации?
Молиарти отвернулся от португальца и принялся сосредоточенно наблюдать за толпой.
— Том, — сказал он, понизив голос, — никакой публикации не будет.
Томаш подскочил на месте.
— Как?
— Результаты расследования никогда не будут обнародованы.
— Но… ведь… — пробормотал Томаш. — Это… это… бессмысленно… Но почему? Мои выводы сочли неубедительными?
— Дело не в этом.
— Доказательства неопровержимые, Нельсон. Да, научный истеблишмент не любит гипотез, идущих вразрез с официальной позицией, считает их фантазиями, бреднями, спекуляцией… В историческом сообществе поднимется истерика, нас будут топтать все кому не лень. Но это не важно, поскольку мои доказательства неопровержимы. И я отвечаю за каждое из них.
— Том, дело не в этом. Публикации не будет. И покончим с этим.
Томаш наклонился над столом, приблизив свое лицо к лицу Молиарти.
— Нельсон, мы совершили великое открытие. Раскрыли загадку пятисотлетней давности. Вырвали у времени тайну, не дававшую покоя нескольким поколениям ученых. Открыли новую страницу исторической науки. Результаты этого расследования заставят всех по-новому посмотреть на открытие Америки и эпоху Открытий вообще…
Молиарти вздохнул.
— Поверьте, Том, мне неприятно это говорить. Но таково решение фонда. Джон высказался предельно прямо. Об этом открытии не должен узнать никто.
— Простите, Нельсон, но кому могут навредить наши выводы?
Молиарти помолчал, собираясь с мыслями. Он снова вздохнул, огляделся по сторонам, словно полагая, что разговор могут подслушать, и придвинулся ближе к собеседнику.
— Том, — прошептал он едва слышно. — Вы знаете, что являет собой Фонд американской истории?
— Ну… это такой фонд… для поддержки исследований по американистике, — забормотал Норонья. — Вам должно быть виднее, вы же там работаете.
— Вот именно, я всего лишь наемный работник, — горячо произнес Молиарти, прижимая ладони к груди. — Не босс и не владелец. Главный — Джон Савильяно, президент совета директоров. Вы знаете, кто входит в совет директоров?
— Нет.
— Вице-президент Джек Морденти. Еще Пол Морелли и Марио Гиротто. Эти имена вам что-нибудь говорят?
— Нет.
— Подумайте, Том. — Нельсон сопровождал каждую фамилию энергичным взмахом руки. — Савильяно, Морденти, Морелли, Гиротто. А еще секретарша Джона миссис Ракка, эта каракатица, которую вы видели в Нью-Йорке. Что это за имена?
— Итальянские?..
— Как по-вашему, откуда они происходят? — Томаш пожал плечами. — Из Генуи, Том. Это генуэзские фамилии. Фонд американской истории финансируется генуэзцами и американцами генуэзского происхождения. Настоящее имя Савильяно Джованни, он стал Джоном в двенадцать лет, когда приехал в Америку. Морденти родился в Бруклине, крещен Джозефом, для друзей он Джек, но домашние зовут его Джузеппе. Пол Морелли на самом деле Паоло, он родом из Нерви, городка неподалеку от Генуи. Марио Гиротто живет в Генуе по сию пору, у него роскошная квартира на Пьяцца-Кампетто. — Нельсон скрипнул зубами. — Для генуэзцев, друг мой, история открытия Америки важнее истории Христа. Неужели вы думаете, что кто-то из них согласится признать, что Колумб на самом деле был португальцем? — Он постучал указательным пальцем по лбу. — Никогда! Ни за что на свете!
Томаш не мигая смотрел на американца, придавленный тяжестью услышанного.
— Вы… все генуэзцы?
— Они генуэзцы, — отрезал Нельсон, подчеркнув слово «они». И добавил с вымученной улыбкой: — Я нет. Я родился в Бостоне, а происхожу из рода Бриндизи, с юга Италии.
— Ради бога, Нельсон, при чем тут происхождение? Итальянцы честные люди. Разве Умберто Эко не признает, что Колумб был португальцем?
— Умберто Эко не генуэзец, — возразил Молиарти.
— Но он итальянец.
Нельсон в который раз вздохнул.
— Не будьте таким наивным, Том, — сказал он примирительно. — Итальянцы из других областей, возможно, потупили бы по-другому. Христофор Колумб — предмет особой гордости каждого генуэзца, и отнимать его нельзя.
— Но правда есть правда.
— Том, — проникновенно сказал Молиарти, коснувшись локтя Нороньи. — Пятьсот тысяч долларов будут ваши лишь в том случае, если вы подпишете договор о неразглашении.
— А если не подпишу? В Нью-Йорке мы договаривались о другом. Мне обещали вознаграждение, если я выясню, чем занимался профессор Тошкану. Я выполнил свою часть договора и жду от вас того же.
— Том, для того чтобы получить премию, вам придется поставить подпись под этим документом.
— Вы решили, что я продаюсь? Что мне можно заткнуть рот вашей премией?
— Фонд все равно не допустит публикации. Он вас нанял, а значит, ваше открытие принадлежит ему.
— Открытие принадлежит профессору Тошкану. Я шел по его следу, только и всего.
— Профессор Тошкану тоже работал на средства фонда, следовательно, фонд имеет право…
— Теперь я понимаю, почему вдова профессора не захотела иметь с вами дело…
— Результаты вашего расследования принадлежат фонду в той же степени, что и открытие Тошкану.
— Они принадлежат человечеству.
— Человечество не оплачивает счетов. Мы с предельной ясностью объяснили это профессору Тошкану.
— А он что же?
Молиарти на миг запнулся.
— У него… была другая точка зрения.
— Он послал вас ко всем чертям и был совершенно прав. Если бы профессор не умер, публикация уже состоялась бы, будьте уверены.
Американец вдруг сделался белым как полотно. Воровато озираясь, словно за соседним столиком мог оказаться соглядатай, он произнес так тихо, что Норонья едва смог расслышать:
— А с чего вы взяли, что профессор умер своей смертью?
Томаш вздрогнул.
— На что вы намекаете? По-вашему, его убили?
Молиарти пожал плечами.
— Не знаю, — прошептал он. — Ничего я не знаю и знать не хочу. Но в смерти Тошкану немало странностей. Он умер буквально через пару недель после весьма бурного обсуждения на совете директоров, из-за которого весь фонд стоял на ушах. Тошкану заявил, что опубликует все, что сочтет нужным, нравится это нам или нет. Не прошло и двух недель, и что же? Профессор умирает в Рио-де-Жанейро, подавившись манговым соком. Очень вовремя, не находите? Так что вам стоит подумать о себе. Лучше быть живым историком с полумиллионом баксов, чем мертвым историком с безутешной семьей и незапятнанной совестью. Мне не известно, убили Тошкану или нет. Но для фонда его смерть была спасением.
— Тогда зачем вы наняли меня? Профессор унес тайну с собой в могилу…
— Нам не хватало доказательства. Мы знали, что профессор Тошкану нашел исчерпывающее доказательство того, что Колумб не был генуэзцем, но понятия не имели, что это за доказательство. Нам предстояло найти его, пока этого не сделал кто-то другой. Вы идеально подходили для наших целей.
Томаш сокрушенно покачал головой.
— Выходит, фонд нанял меня для того, чтобы я доказал то, что ни в коем случае нельзя доказывать. Даже если я буду молчать, кто угодно может прийти в библиотеку, взять Кодекс, наткнуться на нужную страницу, найти пробелы в третьей и четвертой строках, заказать радиологическое исследование и узнать правду. Не так ли?
Молиарти усмехнулся.
— Ничего не выйдет.
— Почему? Вы надеетесь, что никто не заметит? Или снимок не получится?
— Том, я ведь опоздал на нашу встречу, — сказал американец как ни в чем не бывало.
— Да, — растерянно ответил Норонья, — но что с того?
— И как вы думаете, почему я опоздал?
— Вы же сами сказали, что говорили по телефону с Савильяно.
— На самом деле я смотрел телевизор и слушал радио. Вы не в курсе сегодняшних новостей, Том?
— А что случилось?
— Ограбление, дружище. Прошлой ночью ограбили Национальную библиотеку.
Взгромоздившись на стол, рабочий прилаживал к оконной раме новое стекло. Уборщица выметала осколки стекла, из глубины зала доносился стук молотка.
— Мы закрыты, сеньор профессор, — раздался чей-то голос.
Заплаканная, осунувшаяся Одети, вышла из-за кафедры, нервно ломая пальцы.
— Что случилось? — спросил Томаш.
— Нас обокрали.
— Это я уже знаю. Но что конкретно произошло?
— Утром я пришла на работу, а стекло разбито, и дверь в хранилище взломана. — Одети помахала перед лицом рукой, словно веером. — Господи, какой кошмар! — Она шумно вздохнула. — Я до сих пор вся дрожу.
— Что-нибудь пропало?
— Пока неизвестно. Мы пытаемся понять. — Одети тяжело дышала и сопела, будто закипающий чайник. — Полицейские говорят, это могли быть наркоманы. Отбросы общества. Они продают краденые компьютеры, чтобы купить наркотики. Они все продают…
— Можно мне посмотреть Кодекс 632? — попросил не на шутку встревоженный Томаш.
— Простите?
— Принесите Кодекс 632. Мне очень нужно на него взглянуть.
— Но мы закрыты. Нам…
— Принесите Кодекс 632, — жестко повторил Норонья, давая понять, что спорить бессмысленно. — Немедленно.
Напуганная пуще прежнего, Одети неуверенно двинулась в сторону хранилища старинных рукописей, а Томаш уселся за стол в первом ряду и стал ждать, нервно барабаня по столешнице кончиками пальцев.
Библиотекарша вернулась через несколько минут, Томаш узнал в ее руках кожаный переплет и облегченно вздохнул. Как же Молиарти его напугал!
— Вот урод! — пробормотал он про себя.
Одети положила рукопись на стол, и профессора вновь охватила тревога, хотя на первый взгляд Кодекс казался целым и невредимым. Норонья, затаив дыхание, переворачивал пожелтевшие от времени страницы, пока не дошел до семьдесят шестой. Третья и четвертая строфы были на месте. «Nbo у taliano». Промежутки между ними были точно такими, как прежде. Томаш коснулся бумаги кончиком пальца, ожидая ощутить неровный след. Поверхность была идеально гладкой. След исчез.
Не веря себе, Томаш поднес страницу к глазам. Никаких затертостей. Ровным счетом ничего. В ушах Нороньи гулко отдавались удары его собственного сердца. Он тщательно исследовал страницу, пытаясь разыскать отпечаток пальца или пятнышко клея. Но так ничего и не нашел. Желтоватая бумага оставалась ровной, нетронутой, безупречной. Только след от лезвия исчез. Отличная работа, подумал Томаш почти с восхищением. Оставалось только признать горькую правду: здесь действовали профессионалы. Они ловко замели следы, изъяв страницу и заменив ее мастерской подделкой. Профессионалы.
«Сукины дети».
XVII
Телефонный звонок застал Томаша на пороге. Он собирался в Торре-ду-Томбу искать следы семейства Колона. Кодекс 632 вышел из игры, но оставались и другие источники. Теперь, когда тайна подлинного имени Колумба была раскрыта, найти упоминание о нем во множестве метрик, счетов и нотариальных книг XVI века не составило бы труда.
— Томаш! Это ты?
Звонила Констанса.
— Это я, привет, — сдержанно поздоровался Норонья. Услышав голос жены, он удивился, обрадовался и отчего-то встревожился. — Все в порядке?
— Не знаю, — неуверенно произнесла Констанса. — Доктор Оливейра просил нас приехать сегодня.
— Но я сегодня не могу…
— Он сказал, это срочно. Нам нужно быть в больнице Святой Марты в одиннадцать.
Норонья машинально посмотрел на часы. Половина десятого.
— С чего такая спешка?
— Не знаю. Вчера я приводила Маргариту на анализы, и он ничего не сказал.
Констанса и Томаш приехали в больницу за полчаса до назначенного срока. Клиника помещалась в старинном монастыре, под кардиологическое отделение был отдан один из клуатров. Супруги Норонья поднялись на галерею и вошли в украшенный изразцами подъезд.
По дороге Констанса рассказала, что накануне они с дочкой приехали в больницу сделать кое-какие тесты. Доктору не понравилось, что Маргарита такая бледная, и ее часто лихорадит. Хотя с сердцем у малышки все вроде нормально, он назначил дополнительные анализы крови и мочи, результаты которых должны прийти наутро.
Томаш и Констанса поднялись на лифте на третий этаж, в отделение детской кардиологии. Доктор Оливейра был занят и попросил их подождать в просторном, залитом солнечными лучами кабинете.
— Я получил анализы Маргариты, — сообщил он с порога.
— Что-то не так?
Доктор замялся, нервно сжимая большой белый конверт.
— У меня плохие новости, — наконец сказал он. — Результаты плохие… Налицо ярко выраженная картина… лейкемии.
— Лейкемии?! — поразился Томаш.
Оливейра печально кивнул.
— Да. — Оливейра достал из конверта лабораторные бланки с результатами анализов. — Посмотрите сами. Тесты показали наличие более чем двухсот пятидесяти тысяч белых кровяных телец на кубический миллиметр.
— А должно быть?
— Десять тысяч. — Врач ткнул в другой столбец. — Теперь гемоглобин. Семь граммов на литр при норме в двенадцать. Сильнейшая анемия.
— Это… это очень опасно, да? — дрогнувшим голосом спросила Констанса.
— Очень. Тем более что в нашем случае речь идет об острой лейкемии; это большая редкость, но у детишек с синдромом Дауна она случается чаще, чем у здоровых.
— Но ведь есть какое-то лечение! — пролепетал охваченный паникой Томаш.
— Конечно есть.
— Что же нам делать?
— Я, к сожалению, не специалист. Лейкемией занимаются в Институте гематологии, там отличные специалисты и самые эффективные методы. Получив анализы вашей девочки, я взял на себя смелость проконсультироваться с коллегой из этого института, чтобы решить, как действовать дальше. — Он перевел взгляд на Констансу. — Где сейчас Маргарита?
— В школе, где же еще.
— Очень хорошо. Поезжайте за ней и сразу отправляйтесь в институт; ее положат сегодня же. — Томаш и Констанса растерянно переглянулись. — Как я уже говорил, это не моя специализация, но, насколько мне известно, лечение есть, и довольно действенное. — Доктор тщательно подбирал слова. — Как бы то ни было, и диагноз, и терапия теперь в руках доктора Тулипы, к ней вам и следует обратиться.
Мир перевернулся. По дороге в школу Констанса тихо плакала, уткнувшись в край кружевного шарфа. Томаш молчал, придавленный новой бедой. Оба понимали, что стоят в самом начале невыносимо тяжкого, полного страданий пути, и не знали, сумеют ли пройти его до конца. Восемь лет назад, когда их долгожданной крошке вынесли приговор, Томаш и Констанса твердо знали: это самый страшный день в их жизни, и ничего страшнее уже не случится. И вот теперь оказалось, что они ошиблись.
На пороге школы Томаш взял с Констансы слово, что Маргарита не увидит ни одной ее слезинки, но когда пришло время сообщить девочке, что ей придется лечь в больницу, у него самого запершило в горле.
— Зачем в бойницу? — перепугалась девочка. — Опять анаизы?
Дорога в Институт онкологии обернулась форменной пыткой; Маргарита истерически плакала и кричала, что не хочет к доктору; впрочем, под конец она устала и только жалобно всхлипывала, прижавшись к матери. Рука Констансы обвивала девочку, защищая от всех несчастий и несправедливостей. Мама и дочка крепко обнялись и притихли, погрузившись в свой маленький мирок.
В клинике Маргариту пришлось препоручить заботам доктора Тулипы, маленькой седой женщины в очках с толстыми стеклами, энергичной и решительной. К ужасу родителей, врач повела маленькую пациентку в операционную.
— Не беспокойтесь, мы никого не собираемся оперировать, — успокоила их доктор Тулипа. — Я хочу еще раз взять анализы, чтобы сравнить результаты. К тому же надо сделать миелограмму. Мы возьмем клетки костного мозга при помощи шприца, чтобы понять, что на самом деле происходит с вашей девочкой.
Миелограмму делали под местным наркозом. Родителей пустили в операционную, чтобы малышке было не так страшно. Когда процедура закончилась, врач принялась расспрашивать Томаша и Констансу о самочувствии Маргариты в последнее время, о бледности, усталости, лихорадке и носовых кровотечениях, но делать прогноз отказалась, предложив изнывавшим от страха родителям дождаться результатов обследования.
Через несколько часов доктор Тулипа пригласила супругов в свой кабинет.
— Мы получили результаты. У Маргариты острая миелобластическая лейкемия, то есть аномальное скопление полиморфизированных миелобластов в районе костного мозга.
Томаш и Констанса в немом ужасе уставились на врача.
— Постойте, доктор! — не выдержала Констанса. — Извините, конечно, но я не понимаю этих терминов. Не могли бы вы перейти на обычный язык?
Доктор Тулипа вздохнула.
— Проблема коренится в костном мозге, который отвечает за формирование клеток крови. В крови девочки стали появляться больные клетки. Их атака на красные кровяные тельца приводит к анемии. Оттого Маргарита такая бледная. В свою очередь, белые кровяные тельца ответственны за снижение иммунитета. Организм перестает сопротивляться. Отсюда и высокая температура, и кровь из носа. Красные кровяные тельца снабжают клетки кислородом и выводят углекислый газ, когда их становится меньше, чем нужно, углекислый газ слишком долго задерживается в клетках, а это очень опасно.
— Вы сказали, что у Маргариты острая лейкемия, — напомнил Томаш.
— Острая миелобластическая лейкемия, — поправила врач. — Лейкемия бывает разных типов. Хроническая, которая развивается постепенно, в течение долгого времени, и острая, мгновенно поражающая только что образовавшиеся клетки. У вашей дочери острая лейкемия. Она, в свою очередь, тоже бывает двух типов: лимфоидная и миелоидная. У детей чаще случается лимфоидная, а взрослые больше подвержены миелоидной. Миелоидная лейкемия делится на промиелоцитарную, миеломоноцитарную, моноцитарную, эритроцитарную, мегакариоцитарную и миелобластическую. У Маргариты миелобластическая лейкемия, она довольно часто бывает у детей с триссомией 21. В крови становится слишком много миелобластов, больных клеток, из которых образуются белые кровяные тельца. — Доктор Тулипа взяла со стола бланки с результатами анализов. — В крови Маргариты на один кубический миллиметр приходится двести пятьдесят тысяч миелобластов, а должно быть не больше десяти тысяч.
— Это очень опасно?
— Да. Эта болезнь может закончиться смертью.
— И как быстро?
— Через несколько дней.
Родители смотрели на врача, отказываясь верить ее словам.
— Несколько дней?
— Да.
Констанса прижала руку к губам, из глаз у нее хлынули слезы.
— Но что-то ведь еще можно сделать? — взмолился Томаш.
— Конечно. Мы немедленно начнем химиотерапию и постараемся стабилизировать ситуацию.
— Значит… она может выздороветь?
— Если повезет…
— Что вы хотите этим сказать?
— Вы имеете право знать, что в действительности происходит с вашей дочерью. Мой долг поставить вас в известность о статистике летальных исходов среди заболевших.
Томаш и Констанса инстинктивно жались друг к другу; впереди маячило что-то черное, непроницаемое, неумолимое. Они знали, что их дочь тяжело больна, видели, какая она хрупкая и слабенькая, помнили о пороке сердца и в глубине души ожидали чего-то подобного. Но то, что происходило теперь, было слишком жутким и несправедливым; жестокая игра случая, необъяснимый каприз судьбы. Смерть приблизилась к ним вплотную, абсурдно реальная, осязаемая, кошмарная.
— И какова же статистика? — чуть слышно спросил Норонья, боясь ответа и заранее не желая его принимать.
— Она составляет шестьдесят девять и три десятых процента. — Доктор Тулипа вздохнула: роль гонца, приносящего дурные вести, была ей не по душе. — Вы должны быть сильными и готовиться к худшему. Из двух заболевших лейкемией выживает один, и то не всегда.
Томаш и Констанса никак не могли осознать услышанного. При дочке оба заставляли себя улыбаться: малышке предстояло тяжелое лечение, и ее нельзя было сейчас расстраивать.
Врачи незамедлительно начали усиленный курс химиотерапии, сочетая антибиотики и средства для укрепления иммунитета. Пришлось взять пункцию из позвоночника на цитологию и ввести лекарство прямо в костный мозг. Принцип лечения состоял в том, чтобы уничтожить раковые клетки и заставить организм вырабатывать клетки настоящие. Девочке поставили внутривенный катетер, чтобы избежать новых мучительных пункций и чтобы проще было вводить лекарство.
Через некоторое время Маргарита совершенно облысела. Терапия начала действовать. Анализы показывали стремительное снижение количества миелобластов. Убедившись, что состояние девочки стабилизируется, доктор Тулипа вновь позвала к себе Томаша и Констансу.
— Судя по всему, на следующей неделе у Маргариты начнется ремиссия. Количество миелобластов стремится к норме. Однако, насколько я могу судить, это временное улучшение. Спасти вашу дочь может только пересадка костного мозга.
— Ее можно сделать здесь, в Португалии?
— Да.
Супруги с робкой надеждой переглянулись и снова уставились на доктора.
— Так за чем же дело стало? Давайте сделаем операцию.
Тулипа сняла очки и устало потерла веки.
— Есть одна проблема.
В кабинете стало тихо.
— Какая, доктор? — спросил наконец Томаш.
— В наших клиниках огромные очереди. Прооперировать Маргариту получится не раньше, чем через месяц. Я не уверена, что она столько продержится.
— Вы хотите сказать, что Маргарита не протянет месяц?
— Протянуть-то может и протянет. Но это слишком рискованно. — Врач надела очки и в упор посмотрела на Томаша. — Вы ведь не хотите рисковать жизнью своей дочери?
— Нет, что вы! Ни в коем случае!
— Тогда остается только один выход. Девочку нужно отправить за границу.
— Мы согласны, доктор.
— Это очень дорого.
— Я слышал, что государство должно оплачивать такие операции.
— Да, но не в нашем случае. Бесплатно делают только срочные операции и только в Португалии, а лечение за границей государство не оплачивает.
— Разве Маргарите не нужна срочная операция?
— Я считаю, что нужна. Но другие врачи со мной не согласны. К сожалению, их мнение более весомо.
— Я попробую с ними поговорить.
— Только время зря потеряете. Пока вы будете вести переговоры, состояние девочки может ухудшиться. Дорога каждая минута.
— Тогда мы заплатим сами.
— Это дорого.
— Сколько?
— Я связалась с одной лондонской клиникой, в которой Маргариту могли бы прооперировать на следующей неделе. Я отправила им ее генетические анализы, чтобы они подобрали подходящего донора. Ремиссия, которая вот-вот должна наступить, позволила бы нам спокойно перевезти девочку в Англию. Операция, пребывание в больнице, отель для родителей… все потянет на пятьдесят тысяч долларов.
Томаш поник головой.
— У нас нет таких денег.
— Тогда нам остается только молиться, — заключила доктор Тулипа, — чтобы господь вразумил моих коллег и дал девочке еще немного времени.
Нежно-бирюзовая поверхность окруженного зеленью бассейна в парке отеля Лапа поблескивала в солнечных лучах. Все вокруг было пронизано глубоким и ровным золотистым сиянием, как бывает только весной; день выдался таким чудесным, что Нельсон Молиарти предпочел встретиться с Томашем у воды. Одетый в новые кремовые брюки и желтую рубашку-поло, он поджидал историка под белым тентом у самого бассейна, лениво потягивая апельсиновый сок.
— Вы плохо выглядите, — со всей откровенностью заявил Молиарти, увидев бледного, с черными кругами под глазами Томаша. — Что-нибудь случилось?
— С дочкой беда, — признался Норонья. Он уселся рядом с американцем и стал смотреть на воду. — Она заболела.
— Вот как, — произнес Молиарти, опустив глаза. — Мне очень жаль. Это серьезно?
— Очень серьезно.
Подошел официант с маленьким блокнотиком в руках.
— Вы чего-нибудь желаете?
— У вас есть зеленый чай?
— Разумеется.
— Принесите, пожалуйста. Любой.
— Могу порекомендовать китайский Тингу Тачань. Он легкий и очень ароматный.
— Пойдет.
Томаш и Молиарти переместились за столик под белым зонтиком. Их разговор ненадолго прервало появление длинноногой красавицы с волнистыми волосами и золотистой кожей, в крошечном бикини и огромных солнечных очках. С надменным видом продефилировав мимо мужчин, гостья из страны, в которой нет печалей и забот, сбросила с плеча полотенце, сняла очки, уселась в шезлонг и безмятежно подставила лицо солнечным лучам.
— Мне нужны деньги, — прервал молчание Томаш.
Молиарти отпил сока.
— Сколько?
— Много.
— Когда?
— Как можно скорее. Моя дочь очень больна. Ей срочно требуется операция. Очень дорогая операция.
Молиарти вздохнул.
— Пятьсот тысяч по-прежнему вас ждут. При одном условии.
— Я знаю.
— Вы готовы подписать договор о неразглашении?
— Да, готов.
Молиарти наклонился за небольшой аккуратной папкой, положил ее на стол и раскрыл.
— Как только вы позвонили, я понял, что вы готовы подписать его, — сказал американец. — Вот он, наш контракт.
— Сначала прочтите.
Договор был составлен по-английски. Молиарти прочел его вслух пункт за пунктом. Согласно условиям контракта, Фонд американской истории готов был выплатить Томашу Норонье пятьсот тысяч долларов при условии, что тот берет на себя обязательства хранить в тайне результаты проведенных по заказу фонда научных исследований. Запрет налагался на любые формы публикации: статьи, монографии, интервью, выступления на конференциях. Кроме того, историк не имел права предавать огласке имена нанявших его сотрудников фонда и условия, на которых он был нанят. Нарушение договора влекло за собой выплату штрафа в двойном размере. Другими словами, нарушитель был обязан вернуть организации гонорар и заплатить такую же сумму в качестве штрафа. В общей сложности миллион долларов.
— Где я должен поставить подпись?
— Тут, — Молиарти указал свободное пространство под текстом договора.
Американец вручил Томашу ручку, и тот молча подписал оба экземпляра. Один вернул Молиарти, второй забрал себе.
— А теперь давайте чек.
Молиарти достал чековую книжку и начал выводить в ней число с большим количеством нулей.
— Надо же, полмиллиона баксов. Вы теперь богач, — он заговорщически улыбнулся. — Хватит и дочку вылечить, и жену вернуть…
Томаш бросил на американца быстрый вопросительный взгляд.
— При чем тут моя жена?
— Я хотел сказать, что теперь вам будет проще с ней помириться. При таких-то деньжищах…
— С чего вы взяли, что мы с женой расстались?
Молиарти замер, держа ручку на весу.
— Откуда… Да вы же сами мне и сказали.
— Я вам ничего не говорил, — в голосе Томаша появились резкие нотки. — Откуда вы узнали?
— Мне кто-то сказал…
— Кто? Кто мог вам это сказать?
— Я… я не помню. Ради бога, Том, не стоит из-за этого сейчас…
— Не юлите, Нельсон. Откуда вам известно, что я расстался с женой?
— Где-то слышал…
— Не врите, Нельсон. Я не уйду, пока не узнаю правду. Откуда вы узнали о моем разрыве с женой?
— Понятия не имею. Разве это так уж важно?
— Нельсон, вы за мной шпионили?
— Да будет вам, Том. «Шпионили» слишком громкое слово. Скажем, мы старались быть в курсе.
— Каким образом?!
На них уже оглядывались. Молиарти поспешил успокоить португальца.
— Не надо так нервничать.
— Я не нервничаю, мать вашу! Я хочу знать.
Американец вздохнул. Норонью надо было нейтрализовать, пока не разгорелся настоящий скандал.
— Окей, я все расскажу, если вы мне кое-что пообещаете.
— Что я должен пообещать?
— Что не станете сходить с ума.
— Это зависит от того, что вы скажете.
— Не пойдет. Я все расскажу лишь затем, чтобы вы успокоились. Сорветесь — слова из меня не вытянете. Ясно?
— Говорите.
Молиарти сделал глоток сока и набрал в легкие воздуха. Как раз в этот момент подошел официант с зеленым чаем. Он поставил на столик фарфоровый чайник, над которым витал ароматный дымок.
— Чай Тингу Тачань, — объявил он прежде чем исчезнуть.
Томаш пригубил напиток. У чая оказался на удивление приятный вкус, терпкий и чуть сладковатый.
— Операция имела для Фонда первостепенное значение. Было ясно, что, пойдя по следу профессора, вы сами все поймете, а рисковать было нельзя. Тогда Джону пришла в голову блестящая мысль. Он попросил своих друзей из американской нефтяной компании, что работает в Анголе, подыскать дорогую проститутку, хорошо говорящую по-португальски. Они быстро нашли подходящую девушку, и Джон заключил с ней контракт.
Томаш задохнулся от гнева. Он ожидал услышать что угодно, но только не это.
— Лена…
— На самом деле ее зовут Эмма.
— Сукины дети!
— Вы обещали не злиться! — Молиарти строго посмотрел на своего пылающего яростью собеседника.
Томаш справился с приступом бешенства. Он стал дышать ровнее и постарался взять себя в руки.
— Нет. Продолжайте.
— Мы не могли пустить дело на самотек. Кто мог гарантировать, что все пойдет как надо? Она несколько лет жила в Анголе, вращалась среди иностранных big shots в Луанде и Кабинде. Эмма hooker, ну, то есть проститутка высочайшего класса, тонкая штучка, она сама выбирает себе клиентов. Она работала под псевдонимом Ребекка и выдавала себя за американку, хотя на самом деле родилась в Швеции. Мы показали ей вашу фотографию, вы ей понравились, и она согласилась. Эта девица настоящая нимфоманка и занимается этим по призванию, не из-за денег. Неделя подготовки, и в Лиссабоне объявилась новая иностранная студентка. Ей предстояло следить за ходом вашего расследования и давать нам еженедельные отчеты.
— Но я с ней порвал.
— И здорово осложнили нам жизнь, — Молиарти покачал головой. — Чтоб меня черти взяли! Надо иметь по-настоящему big balls, стальные яйца, чтобы дать отставку кошечке вроде этой. Сколько парней облизывается на такую bombshell, секс-бомбу, а вы ушли и даже не обернулись. — Он повертел пальцем у виска. — Рехнуться можно! — И широко развел руками. — Это все, конечно, здорово, но мы остались без важного источника информации. Тогда Джон решил все рассказать вашей жене. Подумал, что, если она вас выгонит, вы вернетесь к Эмме. Кстати, крошка поначалу была против, но кто ее спрашивал! Джон как следует вправил нашей шведке мозги, и она наконец согласилась. Супруга ваша, как мы и предполагали, от вас ушла, но к Эмме вы отчего-то не вернулись, и ее отправили восвояси.
Томаш был слишком злым и усталым, чтобы бурно реагировать на услышанное.
— Отличная комбинация, ничего не скажешь. И весьма подлая.
Молиарти вернулся к чековой книжке.
— Да, — согласился он. — Эта история характеризует нас не лучшим образом. Но что делать? Такова жизнь.
Он протянул Томашу заполненный чек. Сумма, старательно выведенная синей ручкой, была с пятью нулями. Пятьсот тысяч долларов.
Они разошлись не прощаясь.
XVIII
Слева проплывал неоклассический фасад нарядного, осанистого, самого имперского из всех музеев — Британского. Громадное черное такси наконец миновало узкую, забитую машинами Грейт-Рассел-стрит и свернуло на угол Монтегю. Маргарита прижалась носом к окну, оставляя на стекле влажные следы. На девочке был смешной синий берет, чтобы скрыть лысую голову, но ее это не смущало; она была поглощена грандиозным спектаклем, разыгравшимся прямо на улицах. Пришельцам с юга этот странный, выдержанный в серо-белых тонах город казался экзотическим. В его ровных автострадах, элегантных зданиях, аккуратно подстриженных деревьях и прохожих в одинаковых плащах, под унылыми зонтами было что-то от больничного порядка.
С неба сыпалась мелкая дождевая крупа. Томаш вышел из такси и поднял голову, чтобы рассмотреть выросшее перед ним здание. Детская онкологическая клиника на Рассел-сквер оказалась комплексом из семи многоподъездных четырехэтажных зданий. Маргарита самостоятельно выбралась из машины, Констанса держала дочку за руку, пока муж расплачивался с таксистом и доставал из багажника чемоданы. Девушка за стойкой регистратуры нашла в компьютере бронь для пациентки из Лиссабона и принялась под диктовку Констансы заполнять медицинскую карту. Томашу дали подписать формуляр «Undertaking рау», «Предоплата», чек на сумму в сорок пять тысяч долларов.
— Если этой суммы окажется недостаточно, вам придется доплатить разницу, — с профессиональным бесстрастием сообщила сотрудница страховой службы. — Ясно?
— Да.
— Через три дня после выписки вам придет счет для окончательной оплаты. Его необходимо будет погасить в течение двадцати восьми дней.
Покончив с формальностями, регистратор тоном сотрудницы дорогого отеля объяснила гостям, как разыскать отделение и палату, в которую должны были поместить Маргариту. Семья поднялась на второй этаж; из маленького атриума расходились в разные стороны три коридора; тот, что вел в новое отделение, назывался Грэйл-Уорд. Томаш не смог сдержать грустной улыбки: и здесь Грааль, чаша, в которую собрали священную кровь Христову, залог спасения человечества; подходящее название для отделения гематологии, обнадеживающее, подумал Норонья. В коридоре было безлюдно и тихо, здесь размещались палаты для больных. Дежурная медсестра проводила в отведенную девочке комнату. В ней было две кровати: одна для ребенка, другая для матери, между ними помещался столик, на котором в большой вазе красовался букет нежно-лиловых цветов с покрытыми капельками росы лепестками.
— Что это, мама? — спросила Маргарита, с любопытством разглядывая цветы.
— Фиалки.
— Лекажи истоию, — потребовала малышка, с ногами забираясь на кровать и готовясь слушать.
Томаш поставил чемоданы в угол и сел подле дочки.
— Жила-была прекрасная девушка по имени Ио. Она была так хороша, что Зевс, царь греческих богов, влюбился в нее. Жене Зевса Гере это не понравилось, она стала ревновать, и прямо спросила у мужа, кто такая эта Ио. Зевс сказал, что не знает девушки с таким именем и, чтобы скрыть правду, превратил красавицу в поле удивительно красивых лиловых фиалок. Но Гера не успокоилась и послала быков вытоптать поле. Ио в отчаянии бросилась в море, которое в ее честь назвали Ионическим. Гера взяла с красавицы слово, что она больше не станет видеться с Зевсом, и вернула ей человеческий облик.
— А, — протянула Маргарита. — А то знатят цветы?
— Слово «фиалка» происходит от имени Ио. А цветы означают невинность.
— Потему?
— Потому что Ио была невинна. В том, что бедняжка приглянулась Зевсу, ее вины не было, понимаешь?
— Хум-хум, — хмыкнула Маргарита, старательно кивая головой.
В палату зашла медсестра с опросным листом. Это была женщина средних лет с гладко зачесанными волосами, в светло-голубом медицинском комбинезоне. Ее имя было Маргарет, но она представилась как Мэгги. Усевшись на стул у кровати Маргариты, медсестра расспросила родителей о самочувствии девочки, ее привычках и гастрономических предпочтениях; потом Маргариту взвесили, измерили ей температуру и давление, взяли на анализ мочу, слюну и сопли.
Родители принялись разбирать чемоданы. У Маргариты вещей было совсем немного: пара блузок, свитер, брюки, юбка, две пижамки и несколько смен нижнего белья. Туалетные принадлежности разместили в ванной, на полочке под зеркалом. В шкафу нашлось место и для вещей Констансы: ей предстояло провести в палате две ночи перед операцией.
В дверь заглянул человек в белом халате и, спросив разрешения, вошел.
— Hello! — поздоровался он, пожимая супругам руки. — Меня зовут доктор Стивен Пенроуз, я буду оперировать вашу девочку.
Маргарите предстояли новые обследования. Доктор Пенроуз велел медсестре сделать повторную миелограмму, чтобы сравнить ее результаты с показателями, полученными из Лиссабона. Мэгги взяла девочку за руку, Констанса хотела пойти с ними, но доктор удержал ее, мягко тронув за локоть.
— Сейчас самое подходящее время, чтобы поговорить о том, что нам предстоит, — сказал он. — Мы собираемся удалить пораженные клетки и заменить их здоровыми. Костный мозг будет забран у генетически подходящего донора, одного парня, который решил подзаработать. — Пенроуз усмехнулся. — Скажу откровенно, мне не приходилось сидеть с ним в пабе. Я видел только его медицинскую карту.
— А вы уверены, что его костный мозг на сто процентов подойдет?
— Да. Мы заменим разрушенный костный мозг вашей дочери здоровым. Этот процесс напоминает переливание крови. Новый мозг начнет вырабатывать клетки, которые мы называем прогениторами, и кровообращение постепенно восстановится.
— Неужели все так просто?
— Операция в принципе очень проста, зато сам процесс чрезвычайно сложен и опасен. Новый мозг должен прижиться в течение приблизительно двух недель, и этот период критический. — Врач слегка повысил голос, чтобы подчеркнуть важность сказанного. — В это время ни белые, ни красные кровяные тельца не будут вырабатываться в крови Маргариты в должном количестве. Это означает, что она станет как никогда уязвимой для бактерий и вирусов. Ее организм не сможет защититься от заражения, а потому мы поместим девочку в стерильный бокс. Это все, что можно сделать.
— А если она все-таки подхватит инфекцию?
— Ее организм не сможет ей противостоять.
— Что это значит?
— Это значит, что она может погибнуть.
Томаш и Констанса почувствовали, как на их плечи вновь опускается невыносимо тяжелая ноша. В Лиссабоне родителям рассказали о предстоящей операции, но никто не предупредил их, что лечение может оказаться опаснее самой болезни.
— Есть и хорошие новости, — поспешил успокоить врач, заметив, что родители совсем пали духом. — Как только минует критический период, костный мозг Маргариты начнет производить кровяные тельца в положенном объеме и победит лейкемию. Правда, соблюдать осторожность придется еще долго.
Томаш и Констанса чувствовали себя, словно на американских горках: только что их вагончик с чудовищной скоростью рухнул в бездну, и вот его стремительно несла вверх новая надежда, — возможно, лишь для того, чтобы у самой вершины вновь сбросить в пропасть.
На третий день, ровно в семь утра Мэгги зашла в палату с успокоительным для Маргариты. Отец и мать всю ночь не сомкнули глаз; так и сидели на кровати плечом к плечу, глядя на спящую дочурку. Кто так безмятежно спит, не может умереть, думали оба.
Появление медсестры вернуло их к реальности; увидев ее, Констанса испытала такое чувство, какое, должно быть, испытывает приговоренный в день казни, когда за ним приходят. Но она тут же прогнала эту мысль, напомнив себе, что люди в белых халатах хотят не убить ее ребенка, а напротив, спасти. Спасти, повторила про себя Констанса, стараясь поверить в эту нехитрую истину.
Спасти.
Маргариту уводили по коридору прочь из Грэйл-Уорд. Девчушка выглядела сонной, но шагала бодро.
— Будет сон, мама? — пробормотала она, зевая.
— Обязательно, милая. Прекрасный сон.
— Пъекъасный, — повторила малышка нараспев.
Доктор Пенроуз ждал у дверей операционной. Его трудно было узнать из-за хирургической маски и белого колпака.
— Не беспокойтесь, — под маской голос Пенроуза звучал глухо. — Все будет хорошо.
Маргарита скрылась в операционной в сопровождении доктора, а Томаш и Констанса пошли в палату забрать вещи: они знали, что дочка туда уже не вернется. Сначала оба действительно что-то делали, но вскоре обнаружили, что сидят рядышком на кровати, прислушиваясь к шагам в коридоре и пытаясь себе представить, что происходит в операционной.
Пытка длилась несколько часов. Рот Пенроуза по-прежнему скрывала маска, но глаза его улыбались.
— Все прошло хорошо, — объявил он. — Трансплантат удалось ввести, и, по моим расчетам, осложнений быть не должно.
Дыхание у обоих перехватило, но к облегчению и радости примешивалась тревога.
— Где наша девочка? — нетерпеливо спросила Констанса.
— Мы поместили ее в изоляционный бокс в другом крыле.
— Ее можно увидеть?
Пенроуз виновато развел руками.
— Девочка спит, и пока ее лучше не беспокоить.
— Но на этой неделе мы сможем ее повидать?
Врач рассмеялся.
— Вы сможете повидать ее сегодня вечером, а сейчас вам лучше отдохнуть. Погуляйте, поешьте и возвращайтесь к трем. К тому времени Маргарита проснется, и вы ее увидите.
Констанса и Томаш вышли из больницы окрыленные надеждой, живительной и свежей, как апрельский ветер. Все прошло хорошо, сказал доктор. Какие добрые, чудесные, вдохновляющие слова! Прежде они никогда бы не подумали, что три простых слова могут вернуть к жизни, сделать счастливыми. Все прошло хорошо.
Они шагали по улицам, чуть не срываясь на бег, обнимались, то и дело принимались хохотать без всякой причины; краски стали ярче, лица милее, и чужой город уже не казался таким мрачным. Томаш и Констанса прошли по Саутгемптон-роуд до самого Холборна и свернули на Нью-Окфорд-стрит. На огромном перекрестке они выбрали поворот на Оксфорд-стрит, где можно было вдоволь поглазеть на пеструю лондонскую толпу. На подходе к Уордур-стрит они вдруг поняли, что умирают от голода, и нырнули в Сохо, чтобы съесть цыпленка терияки в японском ресторанчике с приемлемыми ценами. После обеда они прошли весь Сохо по направлению к Лейчестер-стрит, повернули к Ковент-Гарден, потом к Кингсвей, и вернулись на пересечение Саутгемптон-роуд и Рассел-сквер как раз к трем.
Медсестра Мэгги отвела Констансу и Томаша в палату Маргариты. Томаш выразил опасение, что они могут занести в бокс опасные бактерии, но Мэгги на это только засмеялась. Она выдала родителям белые халаты, бахилы и маски и велела как следует умыться.
— Вы все-таки особенно близко к девочке не подходите, — предупредила медсестра. — А вообще-то Маргарита лежит в стерильном боксе, атмосферное давление в нем выше, чем в обычных помещениях, так что все микробы сразу погибнут.
— А как она ест?
— Как все.
— Но… с помощью посуды ведь тоже можно занести инфекцию?
— Посуда тоже стерильна.
Проведя супругов в послеоперационное крыло отделения гематологии, Мэгги толкнула одну из одинаковых стеклянных дверей.
— Она здесь, — объявила медсестра.
В палате было прохладно и пахло антисептиком. Лежа ничком на кровати, Маргарита вертела в руках свою любимую куклу. Услышав шаги, она повернулась к дверям и обрадовалась, увидев родителей.
Мэгги велела Констансе и Томашу остановиться в ногах кровати.
— Как ты, родная? Все хорошо? — спросила Констанса.
— Нет.
— Что случилось? У тебя что-нибудь болит?
— Нет.
— Так в чем же дело?
— Я гоодная.
Они с облегчением засмеялись.
— Голодная? Тебя не покормили?
— Покоймийи.
— И ты все равно хочешь есть?
— Хотю. Мне дайи спагетти с сыом.
— Вкусно было?
— Нет.
— И ты не стала доедать?
— Стаа. А тепей хотю есе.
— Папа попросит доктора, чтобы тебе дали что-нибудь еще, — пообещал Томаш. — А ты у нас, оказывается, обжора. Спорим, если привезти сюда грузовик с едой, ты в один присест его слопаешь.
Малышка положила куклу на подушку и потянулась к родителям.
— Один къепкий поцеуй.
— Нельзя, маленькая, доктор не велит, — возразила мать.
— Потему?
— Потому что на мне живут микробы, и от поцелуя они могут перескочить на тебя.
— Да? — удивилась Маргарита. — На тебе микобы?
— Да, милая.
— Ух! — воскликнула девочка, потешно нахмурив брови. — Похо.
Констанса и Томаш пробыли в палате совсем недолго. Вскоре за ними вернулась Мэгги. Родители договорились с медсестрой о часах посещения и с порога послали дочке миллион воздушных поцелуев.
Томаш каждый день отправлялся в больницу с неспокойным сердцем. Он приходил за полчаса до начала посещения и нервно ждал на диване в холле, поглядывая на часы и пытаясь справиться с волнением. Тревога смешивалась в нем с необъяснимой горечью и немного утихала лишь тогда, когда в холле, за десять минут до условленного часа, появлялась Констанса. В тот момент переживания за дочку ненадолго сменялись новым щемящим чувством, мучительным и немыслимо сладостным, и встреча с женой превращалась в кульминацию дня. В остальном время протекало в заботах о шедшей на поправку дочке. И хотя ее все еще мучили приступы лихорадки, доктор Пенроуз не видел в этом ничего страшного.
Первое время после короткого приветствия и сдержанных объятий свидания с женой протекали в неловком молчании. На третий день, принимая утренний душ, Томаш составил что-то вроде сценария, старательно отбирая темы для разговоров. Недавнего прошлого супруги не касались; они говорили о фильмах, книжных лавках на Чаринг-кросс, выставке в галерее Тейт, цветочных магазинах Ковент-Гардена, о положении в Португалии, о стихах, общих знакомых, воспоминаниях юности. О чем угодно, лишь бы не молчать.
На шестой день Томаш набрался храбрости, чтобы задать вопрос, ответа на который втайне боялся.
— Как поживает твой приятель? — спросил он так небрежно, как только мог.
Констанса задумчиво улыбнулась. Она давно ждала этого вопроса и теперь с интересом наблюдала за Томашем. Он волнуется? Злится? Ревнует? Сохраняя безразличный вид, она попыталась угадать настроение мужа и с тайной радостью поняла: он мучается, хоть и делает вид, будто ему все равно. История с Карлушем явно задела его за живое.
— Кто? Карлуш?
— Да, этот тип, — отозвался Томаш, внимательно разглядывая противоположную стену. — У вас с ним все хорошо?
Он сходит с ума от ревности, отметила про себя Констанса, стараясь не улыбаться.
— Карлуш замечательный человек. Мама от него в восторге. Считает, что мы прекрасная пара.
— Что ж, прекрасно, — проговорил Томаш сквозь зубы. — Просто великолепно.
— А почему ты спросил? Тебе правда интересно?
— Да нет. Просто так, поддержать разговор.
Воцарилось молчание, напряженное, выжидательное. Оба избегали смотреть друг на друга, играя в старую как мир любовную игру: у кого не выдержат нервы, кто сделает первый шаг, переступит через себя, забудет обиды, обуздает гордость, начнет собирать воедино осколки разбитой жизни.
Пришло время идти к дочке, но они не двигались с места, выжидая, когда один из них сдастся. Наконец обоим стало ясно, что игру пора заканчивать: в другом конце коридора их ждала Маргарита.
— Мнение моей матери не обязательно совпадает с моим, — произнесла Констанса, поднимаясь на ноги.
На следующий день решено было отправиться по магазинам. В душе Нороньи зрела уверенность, что все постепенно устроится. Маргариту еще немного лихорадило, но она явно шла на поправку; Констанса продолжала держать мужа на расстоянии, однако Томаш чувствовал, что она готова к примирению, и, если соблюдать правила и играть с открытыми картами, победа останется за ним.
Чтобы немного развеяться, Норонья отправился на живописную Чаринг-кросс с намерением обойти все книжные, уделяя особое внимание историческим отделам; он начал с Фойл'с, потом перебрался в «Вотерстоунс», а завершил экспедицию в антикварных лавках, где рассчитывал найти древние рукописи с Ближнего Востока: Томаш твердо решил расширить свой научный кругозор, выучив иврит и арамейский.
Перед тем как вернуться в Ковент-Гарден, он попробовал устриц в индийском ресторанчике в конце Лейчестер-сквер. Потом зашел в цветочный магазин и купил зеленую веточку шалфея; Констанса говорила, что шалфей означает спасение. Как знать, быть может, шалфей спасет и Маргариту, и его самого. Томаш уже соскучился по жене и дочке. Проходя мимо Британского музея, он взглянул на часы и, убедившись, что до начала посещения еще больше часа, решил зайти.
К главному подъезду, выходящему на Грейт-Рассел-сквер, вела широкая лестница. Правое крыло музея, расположенного в здании старинной библиотеки, поражало геометрической четкостью залов и коридоров, однако Норонья повернул налево. Сразу за залом ассирийской скульптуры размещалась жемчужина экспозиции, египетский отдел. Большинство посетителей привлекала огромная коллекция отлично сохранившихся мумий, но Томашу было интересно совсем другое. В глубине зала, едва различимая за причудливыми скульптурами Исиды и Амона, лежала черная плита, безупречно гладкую поверхность которой покрывали таинственные письмена, загадочные послания из давно исчезнувшего мира, отголоски древней цивилизации, которой давно уже не существовало на земле. То был Розетский камень.
Наконец, слегка запыхавшись от ходьбы, с веткой шалфея в руках, Томаш предстал перед дежурной медсестрой гематологического отделения и спросил, можно ли видеть Маргариту. Медсестра была новенькая, совсем молодая девушка, пухленькая, с пушистыми волосами; приколотый на груди бейджик гласил, что ее имя Кэндэйс Темпл. Сверившись с компьютером, англичанка поднялась из-за стола.
— Следуйте за мной, пожалуйста, — сказала она смущенно. — Доктор Пенроуз хочет с вами поговорить.
Томаш отправился за англичанкой. Дойдя до кабинета врача, Кэндэйс остановилась у двери и постучала.
— Doctor, mister Thomas Norona is here.
Очередная интерпретация его имени заставила Томаша улыбнуться.
— Come in, — послышалось из-за двери.
Кэндэйс удалилась, а Томаш вошел в кабинет, все еще слегка улыбаясь при воспоминании о том, как забавно произнесла медсестра его имя. Пенроуз грузно поднимался ему навстречу. Вид у врача был усталый, глаза печальные.
— Вы хотели поговорить со мной, доктор?
Врач указал Томашу на диван в углу кабинета и сам уселся рядом. Он тяжело дышал, словно пробежал кросс, а не перебрался из-за стола на диван.
— У меня плохие новости.
Врач замолчал, но выражение его лица говорило само за себя. От ужаса у Томаша на мгновение перестало биться сердце.
— Моя девочка… — прошептал он.
— К сожалению, все пошло по худшему сценарию, — объявил Пенроуз. — В организм вашей дочери попала какая-то бактерия, и сейчас она в критическом состоянии.
Красная, заплаканная Констанса застыла у стеклянной двери в палату и тихонько всхлипывала, прижав руку к губам. Томаш обнял ее за плечи. За стеклом — лысая голова на подушке — лежала их малышка, погруженная в забытье, находясь между жизнью и смертью.
Вокруг суетились медсестры, доктор Пенроуз отдавал им какие-то распоряжения. Осмотрев Маргариту и в очередной раз проинструктировав сестер, он вышел к перепуганным родителям.
— Она выживет, доктор? — спросила Констанса хриплым от страха голосом.
— Мы делаем все, что можем, — мрачно ответил Пенроуз.
— Но она выживет, доктор?
Врач вздохнул.
— Мы делаем все, что можем, — повторил он. — Но ситуация очень тяжелая. Костный мозг еще не начал работать в полную силу, и девочка практически беззащитна. Боюсь, вам следует готовиться к худшему.
Констанса и Томаш ни на шаг не отходили от палаты. Уж если их дочурке суждено умереть, папа с мамой будут рядом, не бросят ее одну перед лицом смерти. Наступил вечер, за ним пришла ночь; медсестра принесла стулья, и они сидели плечом к плечу, наблюдая за агонией собственной дочери.
В четыре утра задремавшие было супруги одновременно вскочили: в палате что-то происходило. Девочка, до этого метавшаяся по подушке, теперь лежала тихо, и лицо у нее стало совсем безмятежным. Медсестра кинулась за врачом. Приникнув к стеклу, Томаш и Констанса будто смотрели немой фильм, только это был фильм ужасов, самый жуткий в их жизни.
Врач прибежал через полминуты, растрепанный и заспанный, на ходу застегивая халат. Он склонился над пациенткой, потрогал ей лоб, пощупал пульс, приподнял веко, проверил показания приборов и о чем-то вполголоса переговорил с медсестрами. Одна из сестер указала на стеклянную дверь, за которой ждали родители, и врач с явной неохотой направился к ним.
— Здравствуйте, я доктор Хэкетт, — сказал он глухо.
Томаш крепко прижал к себе жену, готовясь услышать страшную весть.
— Мне очень жаль…
Норонья хотел что-то сказать, но только судорожно глотнул воздух. Ужас парализовал его, сердце остановилось, колени подгибались, подернутый пеленой взгляд никак не мог сфокусироваться на лице врача. Томаш не мог осознать, что самое страшное действительно случилось, что кошмар последних недель стал реальностью, что жизнь, казавшаяся вечной, обернулась одним вздохом, мгновенным всполохом зарницы в темном небе, что из мира навсегда ушли доброта и нежность, что славной, наивной мордашки своей Маргариты он не увидит больше никогда. Но потрясение, острая боль, обида на судьбу уже сменялись беспредельной нежностью к умершей дочери, пронзительной печалью отца, который знает, что на свете нет и не будет никого милее его девочки, что самый дивный цветок на лугу увял навсегда и никогда уже не расцветет.
«Прекрасных снов, дитя мое».
XIX
После смерти Маргариты Констанса и Томаш на многие месяцы потеряли интерес к жизни. Закрывшись от мира, они погрузились в общие воспоминания и цеплялись друг за друга, пытаясь выбраться из пучины. На фоне пережитого измена Томаша превратилась в нелепое и незначительное событие из далекого прошлого. Супруги, не сговариваясь, стали снова жить вместе.
В тесной прежней квартирке им было невыносимо тяжело. В каждом углу скрывалась история, каждая безделушка таила воспоминания, любой предмет был с чем-то связан. В первое время осиротевшие родители не решались войти в комнату дочери; их останавливало странное, противоречивое чувство: безумная надежда, что, открыв дверь, они вновь увидят свою девочку, и страх, что этого никогда не произойдет. Порог детской стал чем-то вроде магической черты, переступить которую было невозможно. Взглянуть в глаза реальности было слишком страшно, и пустая комната превратилась в храм Маргариты.
Когда Констанса и Томаш наконец решились войти в детскую и увидели рядком сидевших на кровати кукол, книжки на полке и аккуратно развешанные в шкафу платьица, они словно перенеслись в недавнее прошлое: таким щемяще реальным показалось им присутствие Маргариты. Сломленные горем, они бежали прочь и больше туда не возвращались. Оставаться в доме, пронизанном памятью о дочери, не было сил. Покинуть его было еще тяжелее.
Им стало ясно: больше так продолжаться не может. Они сбились с пути, позволили жизни утратить краски и смысл. Пришло время что-то изменить, очнуться, отойти от края пропасти. Как-то вечером, сидя бок о бок, молчаливые, подавленные, обессиленные, они наконец приняли решение. Пора порвать с прошлым. Выбраться на новую дорогу, отыскать путеводную звезду, вернуться к жизни.
Им нужен новый ребенок и новый дом.
Оставшихся от премии денег хватило на маленький домик в Санто-Амару-де-Оэйрас, на берегу моря. В этом доме они попытались зачать нового ребенка. Хотя, сказать по правде, мечтая о ребенке, оба думали о Маргарите.
Работа Нороньи пошла кувырком. В свое время он прельстился деньгами, чтобы спасти жизнь дочери, и та история казалась ему знамением судьбы, испытанием, которое он не сумел пройти. Томаш вновь и вновь возвращался мыслями к своему расследованию. И чем чаше об этом думал, тем сильнее захватывала его одна дерзкая идея. Норонья тысячу раз перечел договор с фондом, изучил его чуть ли не с лупой, стараясь выявить слабые места противника. Даже консультировался с братом Констансы Даниэлом, сотрудником юридической фирмы.
Правда, которую пришлось утаить, стала частью его существа, вросла в кости, текла по жилам вместо крови. Надо было найти способ выпустить ее наружу, выплеснуть в мир вместе со своей болью.
Норонья чувствовал себя неудачником. Жалким, бесчестным ничтожеством. И знал: только правда поможет ему вновь стать собой. Пятьсот лет назад столь же мучительные раздумья одолевали короля Жуана. Прогуливаясь среди олив замка Сан-Жоржи и глядя на лежащий у ног Лиссабон, Совершенный бился над неразрешимой дилеммой. Запад или Восток? Он хотел и то и другое, но обстоятельства заставляли выбирать. Что же предпочесть? Чем пожертвовать? Король знал: как ни тяжело решение, его придется принять. И он решил. Пусть кастильцы забирают Новый Свет, зато ему достанется Азия. Колумб дал слово молчать, и Азия стала его Маргаритой. Король Жуан должен был принять решение и принял его, хорошее или плохое, не так уж важно. То же самое сделал Томаш. Принял решение.
Только он ошибся.
Жуан II предпочел ложь правде, чтобы заполучить вожделенную Азию. После смерти короля его лучший друг Руй де Пина решил, что правда уже не повредит родной Португалии, и написал свой Кодекс 632, приведший в ужас нового короля Мануэла. Но у Томаша не было Руя де Пины, не было никого, на чью помощь стоило рассчитывать, никого, чье перо запечатлело бы на бумаге истину, которую не вырубить топором и не стереть острым лезвием. Подлый договор связал его по рукам и ногам, обрекая лгать всю оставшуюся жизнь.
Оглядываясь на пережитое, Норонья все чаще вспоминал первую совершенную им низость, первую сделку с совестью, на которую его подбил Молиарти. Во время встречи в Королевском клуатре монастыря Жеронимуш американец предложил ему отправиться к вдове профессора Тошкану и обманом выудить у бедной старухи необходимые сведения. Кто из нас не лгал по необходимости, давая себе слово, что нечестный поступок навсегда останется исключением? Но исключение сделалось правилом; обманщик превратился в предателя.
В тот день в Королевском клуатре Норонью охватила бешеная ярость. Она уже готова была вырваться наружу, но что-то смирило его гнев, что-то промелькнуло в его сознании, словно проблеск молнии в кромешной тьме.
Это были стихи.
Стихи Фернандо Пессоа. Эпитафия самому себе, начертанная на могиле певца. Буквы сложились в слова, слова сделались светом, свет озарил душу.
Чтоб стать великим, нужно быть единым: Не расплескать ни капельки себя. Быть цельным в каждом жесте, каждом слове И без остатка душу не делить. Одна луна нам освещает путь, Сто раз в озерной глади отражаясь.Норонья вполголоса повторил эти строки. В его душе разгоралось пламя, робкий, едва тлеющий огонек делался все смелее, выше, жарче, пока не вспыхнул заревом до небес.
Ему хотелось кричать.
«Нужно быть единым». Да. Это так, но я постараюсь. Постараюсь.
Томаш сел за компьютер и долго смотрел в пустой экран. Мне нужен кто-то, к кому прислушаются. Мой собственный Руй де Пина. Но кто бы это мог быть? Нужен кто-то со стороны. Но кто? Там видно будет. Сначала надо выбрать форму изложения. По условиям договора, мне запрещено писать статьи и монографии, выступать на конференциях и давать интервью. А как насчет беллетристики? Не такая уж плохая идея. Об этом в договоре нет ни слова. Художественный вымысел — надежная защита.
Итак, это будет роман. Кто его напишет? Не я, кто-то другой. Мой Руй де Пина. Писатель. Но если на то пошло, почему бы не журналист? Писатели выдумывают, журналисты докапываются до правды. Хмм… В идеале, это должен быть писатель-журналист, человек, который сочиняет историю, чтобы сказать правду. Впрочем, потом разберемся. Пока нужно сконцентрироваться на повествовании. Имена героев придется изменить, а в остальном мне предстоит просто пересказать то, что я видел своими глазами, то, в чем довелось участвовать самому. Но все началось со смерти профессора Тошкану, а при этом я не присутствовал. Что мне известно? Что профессор умер в одном из отелей Рио-де-Жанейро, когда пил манговый сок. Вот с этого мы и начнем. Тошкану отпил глоток и упал замертво… Нет, не годится. Начать стоит немного раньше. Надо описать последние пять минут его жизни, чтобы подготовить читателя. Читателя нужно предупредить… Да, именно. Герой не подозревает, что вот-вот умрет, а читатель уже об этом знает. Блестящая идея. С этого и начнем.
Томаш Норонья еще долго смотрел на экран компьютера, стараясь уловить ритм будущего повествования. Потом его пальцы забегали по клавиатуре, словно руки музыканта по клавишам фортепиано, а на экране монитора появились слова:
Четыре. Старый ученый не знал, не мог знать, что ему осталось жить ровно четыре минуты…
Примечания
1
«Краткий очерк иероглифической системы» (фр.).
(обратно)2
Привет, добро пожаловать! (шведск.).
(обратно)3
Вы говорите по-шведски? (шведск.).
(обратно)4
Я не говорю по-шведски (шведск.).
(обратно)5
Извините (шведск.).
(обратно)6
Где туалет? (шведск.)
(обратно)7
Сколько это стоит? (шведск.).
(обратно)8
Яблочный пирог с ванилью (шведск.).
(обратно)9
Вкуснота! (шведск.).
(обратно)10
Черт! (англ.)
(обратно)11
«Голубой всадник» (нем.).
(обратно)12
Усекли? (Ит. сленг.).
(обратно)13
Дело происходит в 2000 году.
(обратно)14
Здравствуйте. Могу я поговорить с Томашем? (шведск.).
(обратно)15
Это Лена (шведск.).
(обратно)16
«Космография, астрономия и основы геометрии, исправленные и дополненные сообразно новым знаниям о мире, полученным после путешествия Америго Веспуччи» (лат.).
(обратно)17
«Описание испанских владении» (лат.).
(обратно)18
«Сообщение о только что открытых островах» (лат.).
(обратно)19
Проходите (шведск).
(обратно)20
Жив (англ.).
(обратно)21
Веселье (англ.).
(обратно)22
Надо же! (англ.).
(обратно)23
«Вавилонское послание» (лат.).
(обратно)24
«Колумбе, прославившемся своими добродетелями» (лат.).
(обратно)25
«Христофором известным под именем Колумба» (лат.).
(обратно)26
«Сочинение об испанских мореплавателях» (ит.).
(обратно)27
Да ну! (шведск.).
(обратно)28
«Исчезновение» (фр.).
(обратно)29
«Пустота» (англ.).
(обратно)30
Независимый (порт.).
(обратно)31
Корреспондент (порт.).
(обратно)32
Менеджер (порт.).
(обратно)33
Кого подвесило эхо Фуко на 545? (порт.).
(обратно)34
Очаровательным бесстыдством (фр.).
(обратно)35
Пресыщенное (фр.).
(обратно)36
Положение обязывает (фр.).
(обратно)37
Площадь Акваверде (ит.).
(обратно)38
Это Христофор Колумб (ит.).
(обратно)39
«Христофору Колумбу — Родина» (ит.).
(обратно)40
Разведен (ит.).
(обратно)41
Двое детишек (ит.).
(обратно)42
Подходящей партии (ит.).
(обратно)43
Здесь: домашнюю пищу (ит.).
(обратно)44
Ужин (ит.).
(обратно)45
Чечевичная похлебка (ит.).
(обратно)46
Спагетти с анчоусами (ит.) Дословно: спагетти от куртизанки.
(обратно)47
Дворец герцога (ит.).
(обратно)48
Вам нравится? (ит.).
(обратно)49
Ассортиментом (ит.).
(обратно)50
Вегетарианские блюда (ит.).
(обратно)51
У него аллергия на моллюсков (ит.).
(обратно)52
Примочек (ит.).
(обратно)53
Приехали! (ит.)
(обратно)54
Крест Генуэзской Республики (лат.).
(обратно)55
В этом доме Христофор Колумб провел детство и юность.
(обратно)56
Не нравится мне это (ит.).
(обратно)57
Прошу прощения (ит.).
(обратно)58
Я не говорю по-итальянски. Вы говорите по-английски? (ит.).
(обратно)59
Чего желаете отведать? (исп.).
(обратно)60
Вы любите тапас? (исп.).
(обратно)61
Отлично. С хересом? (исп.).
(обратно)62
К тапас больше подходит херес, сеньор (исп.).
(обратно)63
В этой усыпальнице 26 февраля 1891 года упокоился прах Кристобаля Колона, с 1796 года пребывавший в Гаване (исп.).
(обратно)64
«Историю правления и деяний» (лат.).
(обратно)65
«Об учреждениях и нравах Востока» (лат.).
(обратно)66
Да будет свет! (лат.).
(обратно)67
Великое открытие (ит.).
(обратно)68
«Псалтыри еврейские, греческие, арабские, халдейские, и так далее» (лат.).
(обратно)69
«родом генуэзец» (ит.).
(обратно)70
«Время говорить об этом еще не пришло» (исп.).
(обратно)71
«Итальянские хроники» (лат.).
(обратно)72
«О плавании Колумба…» (лат.).
(обратно)73
«Анналы Итальянского государства» (ит.).
(обратно)74
«Дополнения к Корнелию Тациту» (лат.).
(обратно)75
«Собрание нотариальных актов Генуи» (лат.).
(обратно)76
«Христофор Колумб, старший сын Доменико, девятнадцати лет от роду» (ит.).
(обратно)77
Еврейский каббалистический центр (англ.).
(обратно)78
Слушаю вас (иврит).
(обратно)79
Что вам нужно? (иврит).
(обратно)80
Здравствуйте (иврит).
(обратно)81
Я не говорю на иврите (иврит).
(обратно)82
А я не говорю по-английски (иврит).
(обратно)83
Ах, да (иврит).
(обратно)84
Добро пожаловать! (иврит).
(обратно)85
Минутку (иврит).
(обратно)86
Зайди-ка (иврит).
(обратно)87
До встречи (иврит).
(обратно)88
Все в порядке? (иврит).
(обратно)89
Да (иврит).
(обратно)90
Здравствуйте (иврит).
(обратно)91
Мой любезный сын (иск. исп.).
(обратно)92
Глава (порт.).
(обратно)



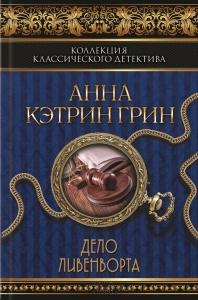
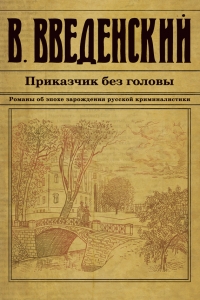
Комментарии к книге «Кодекс 632», Жозе Родригеш Душ Сантуш
Всего 0 комментариев