Кейт Саммерскейл «Подозрения мистера Уичера, или Убийство на Роуд-Хилл»
Ну как, сэр? Вы ощущаете неприятное жжение в желудке и беспокойный шум в висках? Что? Еще нет? Ничего, скоро вы все это почувствуете… Я называю это детективной лихорадкой; сам как-то подхватил ее в обществе сержанта Каффа…
Уилки Коллинз. Лунный каменьВВЕДЕНИЕ
Убийство, история которого приводится ниже, было совершено в 1860 году в обычном, в сущности, английском загородном доме. Необычайным является то, что случившееся представляет собой, возможно, самое загадочное убийство того времени. Оказалась под угрозой карьера одного из лучших детективов, поиски убийцы вызвали «детективную лихорадку» в стране и определили направления развития детективной литературы. Семью жертвы это убийство повергло в ужас — ведь его мог совершить любой из находившихся в доме. Для страны в целом и для последующих поколений убийство на Роуд-Хилл стало чем-то вроде мифа — мрачной легендой о семье Викторианской эпохи и опасностях работы детектива.
Кстати, сам этот род деятельности и соответствующее понятие стали известны совсем недавно. Первый в мире сыщик — литературный герой детективов Огюст Дюпен, возник на страницах новеллы Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг» в 1841 году, а первые настоящие детективы в англоязычном мире появились год спустя, когда в штатное расписание лондонской полиции была включена эта должность. Убийство на Роуд-Хилл расследовал инспектор Скотленд-Ярда Джонатан Уичер — один из новообразованного подразделения.
Происшедшее в доме на Роуд-Хилл превратило в детективов всех и каждого. На редакции газет, министерство внутренних дел и Скотленд-Ярд со всех сторон сыпались разнообразные версии. Эта же история, несомненно, определила развитие литературы не только 60-х годов XIX века, но и последующих периодов, что наиболее выражено в творчестве Уилки Коллинза. Его «Лунный камень» Томас Стернс Элиот назвал первым и лучшим английским детективным романом. Уичер стал литературным предшественником загадочного сержанта Каффа. Черты его, в свою очередь, угадываются в героях едва ли не любого детектива, появившегося в последующие годы. Эхо событий на Роуд-Хилл различимо на страницах последнего, незаконченного романа Чарлза Диккенса «Тайна Эдвина Друда». И хотя исполненная ужасов повесть Генри Джеймса «Поворот винта» прямо ими и не навеяна — писатель утверждал, что в основе ее лежит история, пересказанная ему епископом Кентерберийским, — в ней тоже ощущаются жуткие подозрения и загадки, ассоциирующиеся с убийством на Роуд-Хилл: гувернантка, воплощающая то ли силы добра, то ли зла, странные дети, находящиеся на ее попечении, загородный дом, весь окутанный тайной.
В викторианские времена детектив был светским подобием пророка или священнослужителя. В обстановке неопределенности он выступал носителем особого рода знаний, олицетворял собою убежденность, свидетельствовал о том, что хаос поддается обузданию. Жестокие преступления — напоминание о рудиментах звериного начала в человеке — он превращал в ребус, подлежащий разгадке. Но после расследования убийства на Роуд-Хилл образ детектива померк. Многим казалось, что действия Уичера привели к уничтожению среды обитания семьи, принадлежавшей к среднему классу, стали вторжением в частную жизнь, то есть преступлением, сопоставимым по тяжести с расследуемым им. Уичер сделал публичным достоянием семейную жизнь с ее супружескими изменами, бесчувственностью, жуликоватыми слугами, капризными детьми, безумием, ревностью, одиночеством и взаимной ненавистью. Сцена, над которой он поднял занавес, внушала страх, мысль о том, что же может скрываться за дверями других почтенных домов, будоражила воображение. Его суждения и умозаключения способствовали зарождению эры соглядатайства и подозрительности. Детектив при этом выступает некой таинственной фигурой: демоном, полубогом — в общем, существом не от мира сего.
Все, что нам известно о доме на Роуд-Хилл, определяется фактом совершенного в нем 30 июня 1860 года убийства. Полиция и судебные следователи пересмотрели сотни личных вещей и предметов домашнего обихода — дверные ручки, щеколды, ночные сорочки, ковры, кухонные плиты, — проанализировали оставленные следы, изучили гардероб обитателей дома. Публика была ознакомлена в ходе судебно-медицинской экспертизы даже со вскрытым телом жертвы, причем представленным с такой невозмутимой беспристрастностью, показавшейся бы в наше время совершенно шокирующей.
Поскольку дошедшая до нас информация сформировалась из ответов на вопросы следствия, то подследственными можно считать буквально всех. Мы знаем тех, кто был в доме 29 июня, а также то, что один из визитеров мог оказаться убийцей. Мы обратили внимание и на время установления фонаря над входом, потому что он мог осветить дорогу, ведущую к месту убийства. Мы считаем нужным отметить то, что лужайка была выкошена, поскольку коса могла послужить орудием убийства. И хотя воссозданная таким образом картина жизни в доме на Роуд-Хилл поражает своей детализацией, она все же неполная: возникает ощущение, что расследование проводил человек, беспорядочно размахивающий фонарем, луч которого выхватывал то какой-то уголок дома, то лестничную клетку. Каждый раз события, происходившие в доме, представлялись в ином свете. Заурядное наполнялось зловещим смыслом. Обстоятельства убийства складывались из многочисленных показаний свидетелей, упоминавших твердые и мягкие предметы вроде ножей и салфеток.
Все то время, что продолжалось расследование, обитатели дома на Роуд-Хилл представали то подозреваемыми, то заговорщиками, то жертвами. Что же касается загадки, над которой бился Уичер, то полностью разгадать ее удалось лишь через много лет, после того как все действующие лица сошли со сцены.
Данная книга построена как расследование убийства в загородном доме. Форма эта органично соответствует событиям, происшедшим на Роуд-Хилл. И хотя в повествовании используются некоторые приемы, характерные для детективного жанра, автор стремился к чуть ли не протокольной достоверности. Основными источниками для этой истории послужили официальные документы из Национального архива в городке Кью, что расположен к северо-западу от Лондона, а также книги, брошюры, журнальные и газетные публикации 60-х годов XIX века из фондов Британской библиотеки, в которых упоминается данное событие. В качестве дополнительных материалов использовались карты, железнодорожные справочники, медицинская литература, исторические очерки и воспоминания офицеров полиции. Кое-какие описания зданий и пейзажей основаны на личных наблюдениях автора. Указания на погодные условия взяты из газет, а диалоги построены на основе данных в суде показаний.
По мере приближения к развязке персонажи разъезжаются в разные стороны — по преимуществу в Лондон, этот город детективов, и в Австралию, страну изгнанников. При этом местом действия остается по большей части английская глубинка, а продолжительность его ограничена одним летним месяцем 1860 года.
Действующие лица
(Данный перечень включает лишь основных участников расследования убийства, совершенного в особняке на Роуд-Хилл в 1860 году)
Обитатели дома
Сэмюел Кент, помощник инспектора фабричных предприятий, 59 лет
Мэри Кент, в девичестве Пратт, вторая жена Сэмюела Кента, 40 лет
Мэри-Энн Кент, дочь Сэмюела Кента от первого брака, 29 лет
Элизабет Кент, дочь Сэмюела Кента от первого брака, 28 лет
Констанс Кент, дочь Сэмюела Кента от первого брака, 16 лет
Уильям Кент, сын Сэмюела Кента от первого брака, 14 лет
Мэри-Амалия Кент, дочь Сэмюела Кента от второго брака, 5 лет
Сэвил Кент, сын Сэмюела Кента от второго брака, 3 года
Эвелин Кент, дочь Сэмюела Кента от второго брака, 1 год
Элизабет Гаф, няня, 22 года
Сара Кокс, горничная, 22 года
Сара Керслейк, кухарка, 23 года
Приходящие слуги
Джеймс Холком, садовник, конюх и кучер, 49 лет
Джон Эллоувей, разнорабочий, 18 лет
Дэниел Оливер, помощник садовника, 49 лет
Эмили Доул, помощница няни, 14 лет
Мэри Холком, поденщица
Анна Силкокс, бывшая приходящая няня, 76 лет
Жители деревни
Преподобный Эдвард Пикок, пожизненный викарий церкви Иисуса Христа, 39 лет
Эстер Олли, прачка, 55 лет
Марта Олли, дочь Эстер, 17 лет
Уильям Натт, сапожник, 36 лет
Томас Бенгер, фермер, 46 лет
Стивен Миллет, мясник, 55 лет
Джо Мун, плиточник, 39 лет
Джеймс Фрикер, водопроводчик и стекольщик, 40 лет
Офицеры полиции
Суперинтендант Джон Фоли, 64 года, Троубридж
Констебль Уильям Дэлимор, 40 лет, Троубридж
Элиза Дэлимор, «надзирательница», 47 лет, Троубридж
Констебль Альфред Урч, 33 года, Роуд
Констебль Генри Херитидж, Саутуик
Сержант Джеймс Уоттс, Фрум
Капитан Мередит, главный констебль графства Уилтшир, 63 года
Суперинтендант Фрэнсис Вулф, 48 лет, Девайзес
Детективы
Детектив-инспектор Джонатан Уичер, 45 лет
Детектив-сержант Фредерик Адольфус Уильямсон, 29 лет
Детектив-сержант Ричард Тэннер, 29 лет
Игнатиус Поллэки, частный сыскной агент, 31 год
Жители близлежащих городков
Джордж Сильвестр, врач и коронер графства, 71 год, Троубридж
Джошуа Парсонс, врач, 45 лет, Бекингтон
Джозеф Степлтон, врач, 45 лет, Троубридж
Бенджамен Мэллем, врач, Фрум
Роуленд Родуэй, присяжный поверенный, 46 лет, Троубридж
Уильям Данн, поверенный, 30 лет, Фрум
Генри Гейсфорт Гиббс Ладлоу, землевладелец, мировой судья графства Уилтшир и заместитель председателя совета графства Сомерсетшир, 50 лет, Уэстбери
Уильям Стэнком, владелец шерстопрядильной фабрики, мировой судья и заместитель префекта графства Уилтшир, 48 лет, Троубридж
Джон Стэнком, владелец шерстяной фабрики и мировой судья графства Уилтшир, Троубридж
Питер Эдлин, барристер, 40 лет, Бристоль
Эмма Моуди, дочь рабочего шерстопрядильной фабрики, 15 лет, Уорминстер
Луиза Хэзерхилл, дочь фермера, 15 лет, Олдберри, Глостершир
Уильям Слэк, поверенный, Бат
Томас Сондерс, мировой судья и бывший поверенный, Брэдфорд-на-Эвоне
Пояснение к денежным единицам
В 1860 году один фунт стерлингов соответствовал по своей покупательной способности нынешним шестидесяти пяти фунтам, или ста тридцати долларам. Шиллинг — двадцатая часть фунта, равен примерно трем фунтам двадцати пяти шиллингам (шести с половиной долларам) по сегодняшнему курсу. Пенни — двенадцатая часть шиллинга, то есть около двадцати пяти пенсов (пятьдесят центов) на сегодня. Такие единицы — основанные на индексе розничных цен — наиболее удобны для исчисления относительного уровня повседневных расходов вроде стоимости железнодорожных билетов, продуктов питания, напитков.
Если же речь идет о жалованье, то целесообразно пользоваться другими соотношениями, имея в виду, что в 1860 году доход в сто фунтов равен сегодняшним шестидесяти тысячам фунтов (сто двадцать тысяч долларов).
Соотношения эти основываются на расчетах, произведенных американскими экономистами, профессорами Лоренсом X. Оффисером и Сэмюелом X. Уильямсоном; подробности смотрите на их сайте measuringworth.com.
ПРОЛОГ
Вокзал Паддингтон,
15 июля 1860
В воскресенье, 15 июля 1860 года, детектив-инспектор Скотленд-Ярда Джонатан Уичер взял кеб на набережной Миллбанк, чуть западнее Вестминстера, и, заплатив два шиллинга, велел ехать на вокзал. Там он купил два билета: один, за семь шиллингов десять пенсов, до Чиппенема, графство Уилтшир, в девяносто четырех милях от Лондона, другой, за фунт шесть пенсов, от Чиппенема до Троубриджа, то есть еще на двадцать миль дальше.[1] День выдался теплый: впервые этим летом температура в Лондоне подскочила до семидесяти с лишним градусов по Фаренгейту.
Внутри построенного за шесть лет до описываемых событий (по проекту Айзамбара Кингдома Брунеля) вокзала, увенчанного блестящим куполом из металла и стекла, всегда было жарко и душно от солнца и табачного дыма. Джек Уичер хорошо знал это место — новые вокзалы, через которые проходят тысячные толпы людей всех званий, сословий, сразу же облюбовало лондонское ворье. Именно здесь была представлена жизнь города со всеми ее противоречиями и проблемами. Этим и было обусловлено то особое внимание, которое новообразованная служба детективов проявляла к данному объекту. Картина Уильяма Фритта «Вокзал» изображает на фоне Паддингтона 1860 года двух полицейских в штатском (в темных костюмах и котелках) — невозмутимые мужчины в бакенбардах, несомненно, способные навести порядок в мегаполисе, задерживают воришку.
Именно здесь Уичер арестовал в 1856 году слишком уж броско разодетого Джорджа Уидмса, стащившего у леди Глэмис кошелек с пятью фунтами. В суде детектив заявил, что подсудимый уже несколько лет подвизается, и далеко не на последних ролях, в некой весьма примечательной своими «подвигами» компании. На этом же вокзале он как-то арестовал грузную, с красными пятнами на лице, женщину лет сорока. Она сидела, ожидая отбытия поезда, в вагоне второго класса. Вовремя подоспевший Уичер взял ее со словами: «Если не ошибаюсь, ваше имя — Муто». Луиза Муто была известной мошенницей. Под именем Констанс Браун она наняла двухместный экипаж, слугу, а главное — арендовала полностью обставленный дом рядом с Гайд-парком. Туда она и вызвала продавца ювелирного магазина, принадлежащего Ханту и Роскеллу, с образцами браслетов и ожерелий на предмет их осмотра некой леди Кэмпбелл. Продавец передал ей браслет с бриллиантами стоимостью триста двадцать пять фунтов. Муто вышла из комнаты. Четверть часа спустя продавец подошел к двери и обнаружил, что его заперли. Полиция гонялась за Муто не одну неделю. Взяв ее на вокзале Паддингтон, Уичер заметил, что она прячет руки под плащом. В руках у нее оказался украденный браслет. Помимо того, детектив обнаружил мужской парик, накладные усы и бакенбарды. Муто представляла собой новейший тип городской преступницы, гораздой на самые хитроумные выдумки, блестяще раскрываемые, однако же, Уичером.
Джек Уичер был одним из первых восьми сотрудников Скотленд-Ярда. За восемнадцать лет, что прошли со времени основания службы детективов, они превратились в людей, окутанных тайной и романтическим ореолом, в некие невидимые и всевидящие божества, охраняющие мирную жизнь Лондона. В глазах Чарлза Диккенса детективы были символом современности, таким же как иные чудеса и достижения науки сороковых — пятидесятых годов XIX века. Подобно телеграфу и паровозу, детектив, казалось, обладал даром преодоления пространства и времени и, подобно фотокамере, умел «останавливать мгновения». Диккенс писал, что детективу хватает «одного взгляда, чтобы составить опись мебели» в доме и «набросать точные портреты его обитателей». Расследование, проводимое детективами, продолжает романист, подобно «игре в шахматы с живыми фигурами» — игре, о которой «мало что известно».[2]
В свои сорок пять Уичер был старейшиной лондонской полиции — «королем детективов», по выражению одного из его коллег. Плотный, бывалого вида мужчина, обладавший на удивление мягкими манерами. Будучи, по словам Диккенса, «ниже ростом и грузнее» своих коллег, Уичер обычно хранил на лице, испещренном отметинами от оспы, «отрешенное и задумчивое выражение, словно производил в уме какие-то сложные математические расчеты». В 1850 году Уильям Генри Уиллз, заместитель Диккенса по журналу «Домашнее чтение», имел возможность наблюдать Уичера в деле. Его отчет об увиденном лег в основу первого опубликованного рассказа об этом человеке, да и вообще стал прототипом английского детектива.
Уиллз стоял на ступеньках отеля в Оксфорде, обмениваясь любезностями с каким-то французом. Взгляд журналиста привлекли «его до блеска отполированные ботинки и какие-то неправдоподобно белые перчатки». И тут внизу, в холле, появился незнакомец. «На ковровой дорожке у лестницы стоял мужчина. Обычный, прямодушный на вид человек с заурядной внешностью — во всяком случае, ничего рокового в нем не было». Тем не менее этот «призрак» произвел на француза сильнейшее впечатление. Он «приподнялся на цыпочках и пошатнулся, словно в него попала пуля. Лицо его побледнело, губы задрожали… Он понимал, что отворачиваться поздно (хотя явно попытался), ибо незнакомец не сводил с него глаз».
Этот человек с убийственным взглядом поднялся по лестнице и велел французу вместе со всей его «командой» убираться из Оксфорда семичасовым поездом. Затем он направился в ресторан при отеле. Там он подошел к столику, за которым, непринужденно болтая, трапезничали трое мужчин. Опершись руками о стол и слегка наклонившись, он обвел взглядом всех троих. «Словно по мановению ока» те замерли и погрузились в молчание. Затем этот наделенный сверхъестественной силой человек велел им побыстрее расплатиться — ибо лондонский поезд отходит в семь. На вокзал они отправились вместе, а Уиллз следом за ними.
Когда они добрались до места, любопытство пересилило в журналисте чувство страха перед «столь очевидным проявлением могущества» этого человека, и он спросил его, что все это означает.
— Видите ли, — ответил незнакомец, — я сержант Уитчем, из Скотленд-Ярда.[3]
По словам Уиллза, Уичер был «человек-тайна», воплощение загадочного, непроницаемого сыщика. Он возник из ниоткуда и, даже снимая маску, тут же ее вновь надевал, называя вымышленное имя. Да и само его звучание в трактовке Уиллза ассоциировалось одновременно с чем-то от сыска и от ведомства.[4] Казалось, он был способен превратить человека в камень или лишить дара речи. Целый ряд особенностей, подмеченных Уиллзом в Уичере, воплотились в герое его детективного романа: он тоже вполне зауряден на вид, у него острый глаз, он умен и невозмутим. Судя по всему, портретов Уичера не сохранилось — причиной тому его осмотрительность и род занятий. О том, как он выглядел, можно судить лишь по описаниям Диккенса и Уиллза, а также по сведениям, содержащимся в полицейских досье: рост — пять футов восемь дюймов, волосы каштановые, кожа бледная, глаза голубые.
В книжных киосках на вокзалах продавались дешевые, в обложке, «записки следователей» (или, попросту говоря, сборники рассказов), а также журналы, публиковавшие «страшилки», выходившие из-под пера Диккенса, Эдгара Аллана По и Уилки Коллинза. В очередном номере нового журнала Диккенса «Круглый год» был помещен тридцать третий отрывок из «Женщины в белом» Коллинза, этого первого романа «чувств и ощущений», определившего литературную моду в 60-х годах XIX века. В предыдущем отрывке описание событий прервалось на том, как злодей — сэр Персиваль Глайд силой поместил двух женщин в психиатрическую лечебницу, дабы удержать в тайне один темный эпизод семейной истории. В главах же, напечатанных в номере, купленном Уичером в тот день на вокзале, изображалась страшная смерть в церковной ризнице мерзавца Глайда, задумавшего уничтожить документальные свидетельства того давнего события. Повествователь воссоздает картину пылающей церкви: «Все, что я слышал, так это дробное потрескивание деревянных перекрытий, пожираемых языками пламени, и громкий хруст стекла где-то наверху… Мы ищем тело. Огонь обжигает наши лица и гонит назад: мы ничего не видим — ни внизу, ни наверху, вообще ничего, кроме пелены огня».
Преступление, для расследования которого Уичер покидал Лондон, представляло собой жестокое и, казалось, совершенно беспричинное убийство. Совершено оно было в загородном доме, неподалеку от Троубриджа, что в графстве Уилтшир. И местная полиция, и газеты по всей стране терялись в догадках. Поговаривали, что семье жертвы, при всей внешней респектабельности, было что скрывать. В этой связи упоминались прежде всего измены и безумие.
В Уилтшир вызвало Джека Уичера руководство Большой Западной железнодорожной компании, и ехал он туда поездом, принадлежавшим ей же. В два часа дня огромный шестиколес-ный паровоз отошел от Паддингтона и повлек за собой по семифутовой колее вереницу вагонов шоколадно-кремового цвета. Большая Западная могла похвастать самой надежной, самой удобной и самой скоростной сетью железных дорог в стране. Даже поезд эконом-класса, которым ехал Уичер, не громыхал по рельсам, а словно летел по равнине, едва касаясь поверхности, парил над широкими арками железнодорожного моста в Мэйденхеде. На картине Тернера «Дождь, пар и скорость — Большая Западная» локомотив влетает на этот мост с востока — черным болидом, рассыпающим вокруг себя снопы серебряных, голубых и золотистых искр.
Уичер добрался до Чиппенема в 17.37 пополудни, а восемь минут спустя пересел на другой поезд. Меньше чем через час он будет в Троубридже. История, которой ему предстоит заняться — а о ней можно пока судить лишь по информации, собранной полицией Уилтшира, судебными органами и газетными репортерами, — началась две недели назад, 29 июня.
Часть I СМЕРТЬ
Тайна может получить широкую огласку и стать сенсацией, взорваться и лопнуть.
Чарлз Диккенс. Холодный домГлава 1 ВСЕ СВИДЕТЕЛИ — КТО ЖЕ УБИЙЦА?
29–30 июня
Содержание первых трех глав основывается преимущественно на газетных отчетах о свидетельских показаниях, прозвучавших в уилтширском мировом суде в период с июля и по декабрь 1860 года, данных под присягой в Королевском суде в ноябре 1860 года, а также на материалах первой книги, посвященной убийству (Дж. У. Степлтон. Знаменитое преступление 1860 года: свод фактов, относящихся к убийству, совершенному в доме на Роуд-Хилл, критический обзор его социальных и научных аспектов, достоверный рассказ о семье с приложением, содержащим запись показаний, данных в ходе целого ряда расследований. Май, 1861). Использовались статьи и репортажи, напечатанные в следующих газетах: «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», «Троубридж энд Норт-Уилтс эдвертайзер», «Бристоль дейли пост», «Бат кроникл», «Бат экспресс», «Вестерн дейли пресс», «Фрум таймс», «Бристоль меркьюри», «Таймс», «Морнинг пост», «Ллойд уикли пейпер», «Дейли телеграф». Описание некоторых предметов домашней обстановки воспроизведено с использованием отчетов об аукционе по распродаже имущества Кентов в апреле 1861 года.
Ранним утром в пятницу, 29 июня 1860 года, Сэмюел и Мэри Кент все еще спали на первом этаже своего трехэтажного георгианского дома, уединенно стоящего в пяти милях от Троубриджа, прямо над деревушкой Роуд. Супруги почивали на кровати из испанского красного дерева, под пологом, покоящимся на высоких опорах, в спальне с обитой алой камчатной тканью стенами. Ему было пятьдесят девять лет, ей сорок, и она была на восьмом месяце беременности. С родителями спала их старшая дочь, пятилетняя Мэри-Амалия. Дверь из спальни вела в детскую, находящуюся рядом, всего в нескольких футах; здесь стояла разукрашенная французская кровать, на которой спала няня, двадцатидвухлетняя Элизабет Гаф; рядом находились две плетеные детские кроватки для ее подопечных — трехлетнего Сэвила и годовалой Эвелин.
Остальная домашняя прислуга — двадцатидвухлетняя горничная Сара Кокс и двадцатитрехлетняя кухарка Сара Керслейк — располагалась на втором этаже. Здесь же обитали четверо детей Сэмюела от первого брака: Мэри-Энн (двадцать девять лет), Элизабет (двадцать восемь лет), Констанс (шестнадцать лет) и Уильям (четырнадцать лет). Горничная и кухарка занимали одну комнату, Мэри-Энн с Элизабет — тоже. Констанс и Уильям жили по отдельности.
В то утро няня Элизабет Гаф встала в половине шестого, чтобы впустить с черного хода трубочиста из Троубриджа. Орудуя своим «инструментарием» из переплетенных прутьев и веток, тот вычистил дымоходы, ведущие из кухни и детской, а также кухонную плиту. В 7.30 он закончил работу, няня заплатила ему четыре шиллинга шесть пенсов и проводила к выходу. Дочь пекаря Элизабет была воспитанной, миловидной и грациозной женщиной с матовой кожей, темными глазами и чуть длинноватым носом. У нее не хватало одного переднего зуба. Когда трубочист ушел, она принялась сметать осевшую на пол детской сажу. Кухарка занялась уборкой кухни. В ту пятницу в дом заходил еще один посторонний — точильщик. Дверь ему открыла горничная.
Садовник и по совместительству кучер и конюх Джеймс Холком косил траву на лужайке у дома. Он делал это, несмотря на то что у Кентов была сенокосилка; ведь известно, что влажная трава лучше поддается косе. А как раз тот июнь выдался самым дождливым и самым прохладным за весь период метеорологических наблюдений, проводившихся в Англии. Вот и всю минувшую ночь лил дождь. Покончив с работой, Джеймс повесил косу на дерево просушиться.
В тот день сорокадевятилетнему Холкому, прихрамывавшему на одну ногу, помогали двое: восемнадцатилетний Джон Эллоувей, охарактеризованный одной местной газетой как «дурковатый на вид малый», и Дэниел Оливер — ровесник садовника. Оба они жили в соседней деревне Бекингтон. Неделей ранее описываемых событий Сэмюел Кент отказал Эллоувею в прибавке к жалованью, и тот заявил, что уходит. В этот день — предпоследний на службе у Кентов — кухарка послала его в деревню к водопроводчику и стекольщику Джеймсу Фрику справиться, вставил ли он новое стекло в большой фонарь с фитилем, отданный ему в починку мистером Кентом. На этой неделе Эллоувей был у него уже четыре раза, и все без толку. Но на сей раз повезло: фонарь был готов, Джон принес его и поставил на кухонный стол. В доме также находилась Эмили Доул, четырнадцатилетняя девушка, тоже из местных. Ежедневно, с семи утра до семи вечера, она помогала няне ухаживать за детьми.
Сэмюел Кент сидел в библиотеке, готовя отчет по итогам накануне закончившейся двухдневной поездки по местным шерстопрядильным фабрикам. Последние двадцать пять лет он состоял помощником фабричного инспектора. Недавно он обратился с просьбой о повышении. Его поддержали своими подписями двести видных жителей графства — парламентарии, судьи, священнослужители. Хмурый, с кустистыми бровями мужчина, Кент не пользовался симпатией в деревне, особенно среди обитателей хибар — кучно расположившихся убогих строений прямо напротив лужайки дома на Роуд-Хилл. Он запретил местным ловить рыбу в речушке, протекающей рядом с его домом, а на одного из жителей подал в суд за то, что тот рвал яблоки в его саду.
Сэвил, трехлетний сын Сэмюела, зашел в библиотеку поиграть с отцом, пока няня убирала детскую. Он накорябал на официальной бумаге букву С, вдобавок поставил кляксу, за что отец добродушно обозвал его скверным мальчишкой. В ответ Сэвил взобрался к нему на колени, «повозиться». Это был крепкий, хорошо развитый для своего возраста парнишка со светлыми локонами.
В тот день Сэвил играл также со своей сводной сестрой Констанс. Вместе с другим братом, Уильямом, она около двух недель назад приехала домой из интерната. Констанс пошла в отца — полного, но мускулистого мужчину с прищуренными глазами и широкими скулами, — в то время как Уильям со своими живыми глазами и хрупким телосложением больше напоминал мать, первую миссис Кент, умершую восемь лет назад. В молодом человеке отмечали робость, в девушке — мрачность и необузданность нрава.
В тот день Констанс ходила в Бекингтон, за полторы мили от дома, чтобы оплатить какой-то счет. Там она встретилась с Уильямом, и домой они вернулись вместе.
Ранним вечером Эстер Олли, прачка, жившая в районе хибар, зашла, чтобы возвратить одежду и столовые принадлежности после стирки, производимой ею ежедневно с тех самых пор, как Кенты перебрались сюда пять лет назад. Старшие девочки — Мэри-Энн и Элизабет, — достав одежду и скатерти с салфетками из корзины, рассортировали их, чтобы отнести затем в спальни и буфет.
В семь вечера трое садовников и Эмили Доул, помощница няни, разошлись по домам. Выходя, Джеймс Холком запер снаружи ворота в сад и направился в свой домишко — напротив лужайки. Дождавшись, когда удалятся все четверо, Сэмюел Кент запер двери изнутри. Таким образом, на ночь в доме осталось двенадцать человек.
Через полчаса после того, как все разошлись, Элизабет Гаф отнесла Эвелин в детскую и уложила в кровать рядом с собой и прямо напротив двери. Обе детские кроватки на колесиках были сплетены из толстых, обтянутых тканью прутьев. Затем няня спустилась вниз и под присмотром миссис Кент дала Сэвилу слабительное. Мальчик шел на поправку после легкого недомогания. Ранее семейный врач Джошуа Парсонс отправил с посыльным в дом на Роуд-Хилл лекарство, латинское название которого переводилось как «открыть» или «освободить». Действие его начиналось через шесть — десять часов после приема, и лекарство, по словам Джошуа, собственноручно приготовившего его, состоит из «одной голубой таблетки и трех стебельков ревеня».
По словам няни, Сэвил в тот вечер был здоров и весел. В восемь вечера она его уложила в кроватку, стоявшую в правом углу детской. Пятилетнюю Мэри-Амалию уложили в комнате родителей, напротив. Двери в обе спальни оставались приоткрытыми, так чтобы няня могла услышать старшую девочку, если та проснется, а мать — видеть спящих младенцев.
После того как дети уснули, няня приступила к уборке в детской: поставила стульчик на место, под кровать, отнесла посторонние предметы в гардеробную. Потом зажгла там же свечу и присела поужинать — в тот вечер одним лишь хлебом с маслом и водой. После чего спустилась вниз, где собрались все домашние, чтобы под руководством Сэмюела Кента провести вечернюю молитву. Перед сном она вместе с Сарой Керслейк выпила на кухне чаю. «Обычно я не пью чай, — пояснила впоследствии Элизабет, — но в тот вечер выпила чашку из общего семейного чайника».
По ее словам, поднявшись в детскую, она увидела, что Сэвил спит «как обычно — повернувшись лицом к стене и подложив ладошку под голову». На нем была пижама и «легкая фланелевая сорочка». Сэвил, и так-то соня, «пропустил в тот день дневной сон, а потому крепко заснул вечером». Дело в том, что в полдень, когда он обычно спит, она как раз убирала детскую. По описанию Элизабет Гаф, вся обстановка в этой комнате была мягкой, все звуки приглушались. «Повсюду сплошь расстелены ковры. Двери открываются совершенно бесшумно, косяки специально обиты материей, чтобы, не дай Бог, дети не проснулись». Миссис Кент подтвердила, что так оно и есть, надо только толкать или тянуть на себя дверь осторожно. Правда, ручка при повороте немного поскрипывает. А те, кто оказался в доме позже, отмечали, что металлическое кольцо на двери дребезжит, да и скрипит не только ручка, но и щеколда.
Миссис Кент зашла в детскую пожелать Сэвилу и Эвелин спокойной ночи, а затем поднялась наверх понаблюдать за кометой, как раз в ту неделю пролетавшей над Англией. В «Таймс», газете, регулярно покупаемой ее мужем, ежедневно отмечалось ее передвижение по небу. Миссис Кент попросила Элизабет составить ей компанию. Когда же та появилась, она обратила ее внимание на то, как сладко спит Сэвил. Мать и няня встали у окна и принялись вглядываться в небо.
В десять вечера мистер Кент вышел во двор и спустил с цепи черного ньюфаундленда, большого, мирного нрава сторожевого пса, охранявшего дом уже более двух лет.
Около половины одиннадцатого Уильям и Констанс, освещая себе дорогу свечами, разошлись по своим комнатам. Еще через полчаса их примеру последовали Мэри-Энн и Элизабет. Перед тем как лечь спать, Элизабет вышла из комнаты убедиться, что Констанс и Уильям погасили свет. Увидев, что все в порядке, в их комнатах темно, она подошла к окну посмотреть на комету. Дождавшись ее возвращения, сестра заперла спальню изнутри.
Двумя этажами ниже горничная — это было без четверти одиннадцать — закрыла окна в столовой, холле, гостиной и библиотеке, заперла на замок и засов парадную дверь, а также двери в библиотеку и гостиную. На ставнях в гостиной, пояснила она, «имеются железные решетки и, кроме того, по два медных засова на каждой; все было надежно закрыто». Дверь в гостиную также снабжена засовом и замком, и «я все задвинула и заперла на ключ». Кухарка же заперла кухню, прачечную и черный ход. Затем они поднялись к себе в спальню по винтовой лестнице, расположенной в глубине дома и предназначенной главным образом для слуг.
В одиннадцать Элизабет Гаф подоткнула одеяло, укрывавшее Сэвила, зажгла ночник, закрыла на засов ставни в детской и поднялась к себе. В ту ночь, устав от уборки после визита трубочиста, спала она, по ее же словам, крепко.
Чуть позже, оставив мужа внизу, в столовой, направилась в спальню и миссис Кент. По дороге она осторожно прикрыла дверь в детскую.
Сэмюел Кент вышел во двор покормить собаку. Согласно его показаниям, в половине двенадцатого он, как обычно, проверил, надежно ли закрыты все двери и окна, и, тоже как обычно, оставил ключ в двери гостиной.
В полночь все в доме уже спали: новая семья на первом этаже, приемные дети и слуги — на втором.
Около часу ночи в субботу, 30 июня, плиточник по имени Джо Мун, живший одиноко на Роуд-Кэммон, развешивал для просушки сети на поляне невдалеке от дома на Роуд-Хилл — скорее всего он перед этим рыбачил, полагая, что ночью не попадется на глаза Сэмюелу Кенту, — как вдруг раздался собачий лай. Констебль Альфред Урч, возвращавшийся в то же самое время домой после дежурства, также услышал, как невдалеке шесть раз провыла собака. Особого внимания он на это не обратил, ведь всем известно, сказал он себе, что пес Кентов заливается по всякой ерунде. Джеймс Холком в ту ночь не слышал ничего, хотя раньше бывали случаи, когда ньюфаундленд будил его («шум страшный поднимал») и приходилось идти во двор утихомиривать собаку. Миссис Кент, бывшую на сносях, в ту ночь тоже собачий лай не беспокоил, хотя спит она, по ее же словам, чутко и часто просыпается. Ничего необычного в ту ночь она не слышала, разве что рано утром, вскоре после рассвета, из гостиной донесся «звук открывающихся ставеней» — миссис Кент решила, что это слуги начинают внизу свой рабочий день.
В ту субботу солнце встало около четырех. Через час во двор вышел Холком — «как обычно, дверь в дом была прочно заперта». Он посадил ньюфаундленда на цепь и пошел в конюшню.
Тогда же проснулась и Элизабет Гаф и, заметив, что у Эвелин, кроватка которой была вплотную придвинута к ее кровати, сползло одеяло, опустилась на колени и поправила его. И тут няня заметила, что Сэвила нет на месте — «казалось, ребенка кто-то незаметно вывел из комнаты. Постель была аккуратно убрана, как если бы он ушел вместе с матерью или со мной». Из этого няня заключила, что миссис Кент услышала, что ребенок плачет, и взяла его к себе в спальню.
По словам Сары Керслейк, она тоже проснулась на секунду в пять утра, снова заснула, встала примерно час спустя и разбудила горничную. Обе поспешно оделись и принялись за работу — одна Сара подметала парадную лестницу, другая — черный ход. Подойдя к гостиной и потянувшись было к ключу, Сара Кокс с удивлением обнаружила, что дверь уже отперта. «Я увидела, что дверь слегка приоткрыта, ставни распахнуты. Это было среднее из трех „французских“ окон в эркере, выходящем во двор с тыльной стороны дома. Нижняя рама была приподнята дюймов на шесть. Я подумала, что кто-то решил проветрить комнату, и опустила раму».
Джон Эллоувей ушел из дома около шести и через несколько минут оказался в конюшне дома на Роуд-Хилл, где обнаружил Холкома ухаживавшим за гнедым Кентов. Четверть часа спустя там же появился Дэниел Оливер. Холком послал Эллоу-вея полить растения в теплице. Потом тот принес из кухни, где занималась своими делами Сара Керслейк, корзину с грязными ножами — два из них предназначались для разделки мяса — и пару нечищеных ботинок из прихожей. Отнес то и другое в сарай, именуемый домашними то «сапожной мастерской», то «ножовочной», выложил ножи на лавку и принялся чистить башмаки — одна пара принадлежала Сэмюелу, другая — Уильяму. «Ничего необычного в обуви я в то утро не заметил», — рассказывал он. Обычно Эллоувей чистил и ножи, но сегодня Холком взял это на себя, так чтобы подручный управился поскорее. «Ты мне нужен в саду, — пояснил он, — навоз под удобрения надо собрать. Так что займись ботинками, а с ножами я сам управлюсь». В сарае садовник держал станок для чистки ножей. По его словам, все они были на месте и ни на одном не было видно пятен крови. Потом, в половине седьмого, Джеймс Холком почистил на кухне столовые приборы, после чего занялся вместе Эллоувеем удобрениями.
По показаниям Элизабет Гаф, встала она в начале седьмого, оделась, прочитала главу из Библии и помолилась. Свеча, как обычно, за ночь выгорела. Кроватка Сэвила была по-прежнему пуста. Без четверти семь — Элизабет Гаф машинально отметила время, бросив взгляд на часы, стоявшие в детской на камине, — «постучала дважды в спальню мистера и миссис Кент, но никто не откликнулся»; больше стучать не стала — не хотелось будить миссис Кент, которая из-за беременности и так плохо спала. Няня вернулась в детскую одеть Эвелину. Тут, около семи, появилась Эмили Доул с ванночкой в руках и проследовала прямо в соседнюю комнату — гардеробную. Вернувшись с ведрами горячей и холодной воды для ванночки, она увидела, что Элизабет застилает свою постель. При этом ни та ни другая не сказали друг другу ни слова.
Няня снова постучала в хозяйскую спальню. На сей раз дверь открылась. Мэри Кент встала с постели, надела халат и бросила беглый взгляд на часы мужа — они показывали четверть восьмого. Женщины заговорили одновременно — каждая считала, что Сэвил с другой.
— Дети проснулись? — спросила Элизабет хозяйку, явно полагая, что Сэвил в родительской спальне.
— Как это понимать — «дети»? Здесь только один ребенок. — Миссис Кент говорила о пятилетней Мэри-Амалии, спавшей в одной комнате с родителями.
— Я о господине Сэвиле, — пояснила няня. — Разве он не с вами?
— Со мной?! — воскликнула миссис Кент. — Разумеется, нет.
— Его нет в детской, мэм.
Миссис Кент бросилась в спальню, чтобы убедиться в этом собственными глазами, и спросила Элизабет, не оставляла ли она рядом с его кроваткой стула, с которого ребенок мог перебраться на пол. Няня лишь покачала головой. Миссис Кент спросила, когда она в первый раз заметила, что его нет на месте. Няня ответила — в пять утра. Миссис Кент осведомилась, отчего ее сразу не разбудили.
— Я подумала, мэм, — пояснила Элизабет, — что мальчик ночью заплакал, вы услышали и взяли его к себе.
— Что за чушь! — вспылила мать. — Ты же прекрасно знаешь, что это невозможно. — Действительно, не далее как вчера она сказала няне, что на восьмом месяце ей уже не под силу поднимать на руки такого рослого, почти четырехлетнего, мальчугана, как Сэвил.
Миссис Кент велела няне подняться наверх и спросить приемных детей, не видели ли они Сэвила, затем сообщила мужу, что мальчик исчез.
— Ну так поищи его, — откликнулся мистер Кент, разбуженный, как он утверждал, стуком в дверь. Миссис Кент вышла, а когда вернулась со словами, что его нигде нет, муж встал, оделся и поспешил вниз.
Около двадцати минут восьмого Элизабет Гаф постучала в комнату Мэри-Энн и Элизабет Кент и спросила, не у них ли Сэвил. Нет, в один голос ответили те, и спросили, знает ли об исчезновении мальчика миссис Кент. Услышав голоса, из соседней комнаты вышла Констанс. По словам няни, она «никак не прореагировала» на известие о том, что сводный брат исчез. Впоследствии Констанс утверждала, что проснулась за сорок пять минут до переполоха. «Я одевалась и, услышав стук в дверь, вышла из комнаты узнать, что случилось». Уильям, заявивший, что проснулся в семь, был в ванной, в дальнем конце коридора, и просто не мог ничего слышать.
Няня спустилась в кухню и спросила горничную и кухарку, не видели ли они мальчика. Сара Керслейк ответила отрицательно, ставя на плиту молоко к завтраку. Саре Кокс он тоже нигде не попадался, но она сказала, что окно в гостиной было открыто. Няня передала это хозяйке. К тому времени Кенты уже обшарили весь дом в поисках сына. «Куда я только не заглядывала, — говорила впоследствии миссис Кент. — Мы все голову потеряли, шаря по дому — вверх-вниз, из комнаты в комнату».
Сэмюел перенес поиски за пределы дома. По словам Холкома, около половины восьмого хозяин сказал садовникам, что «молодой мистер Сэвил исчез, его выкрали, увели»; больше он ничего не добавил и сразу бросился в сад… Все последовали за ним и принялись искать мальчика.
«Я хотел, чтобы садовники обшарили окрестности, — надеялся, что найдется хоть какой-нибудь след ребенка, — говорил мистер Кент. — То есть или ребенка, или еще кого, кто мог быть около дома». Няня тоже участвовала в поисках, развернувшихся в саду и кустарниках.
Сэмюел спросил у садовников, нет ли поблизости кого из полицейских.
«Есть один, — откликнулся Эллоувей. — Урч». Констебль Альфред Урч перебрался сюда с женой и дочерью совсем недавно. За месяц до того он получил изрядный нагоняй за то, что во время смены зашел в кабачок «У Джорджа» выпить кружку пива. Именно Урч накануне ночью слышал, как в доме на Роуд-Хилл лает собака. Сэмюел послал за ним Эллоувея, а Уильяму велел привести Джеймса Моргана — пекаря и по совместительству окружного констебля, жившего на Аппер-стрит. Урч состоял констеблем образованного в 1856 году полицейского участка графства Сомерсетшир, в то время как Морган принадлежал к иной, более старой и все еще сохранявшейся полицейской структуре окружных констеблей, несших службу на общественных началах, не долее одного года. Жили они по соседству.
— Шевелись, — бросил Морган.
— Иду, иду.
И они двинулись к дому на Роуд-Хилл.
Уильям передал Холкому поручение отца приготовить экипаж — Сэмюел решил съездить в Троубридж за Джоном Фоли, знакомым суперинтендантом полиции. Провожая его, жена сообщила примечательную подробность — с постели Сэвила исчезло одеяло; заметила это няня, добавила она. «Она вроде была рада тому, — говорил мистер Кент, — что мальчика унесли завернутым в одеяло, так ему теплее».
Сэмюел накинул темный плащ и сел в свой фаэтон — небольшой подвижный четырехколесный экипаж, запряженный гнедой кобылой. «Отбыл он в очень большой спешке», — рассказывал Холком. Урч и Морган, поднимаясь к дому, встретили Кента около восьми утра на повороте в Троубридж. Морган сообщил при этом Сэмюелу, что тому достаточно доехать до Саутуика, находящегося на расстоянии не более мили, а оттуда уж местная полиция пошлет сообщение в город. Но Кент только покачал головой, заверив, что он сам проделает все пять миль до Троубриджа. А Урча и Моргана он попросил заняться вместе с другими поисками сына.
У городской заставы на въезде в Саутуик Сэмюел остановил экипаж и, оплачивая пошлину (четыре пенни), спросил у привратницы — ее звали Энн Холл, — как проехать в местный полицейский участок.
— У меня похитили сына, в одеяло завернули и унесли, — пояснил он.
— И когда же это произошло? — осведомилась миссис Холл.
— Сегодня утром.
Она объяснила ему, как проехать на Саутуик-стрит, где Сэмюел дал полпенни какому-то парнишке, чтобы тот проводил его к дому констебля Генри Херитиджа. Дверь открыла Энн Херитидж. Муж еще в постели, сообщила она посетителю.
— Его необходимо немедленно разбудить, — бросил Сэмюел, не выходя из экипажа. — Сегодня ночью у меня похитили сына… это маленький мальчик… Ему всего три года и десять месяцев… завернули в одеяло… Я еду в Троубридж, к Фоли.
Миссис Херитидж спросила его имя и адрес.
— Кент. Дом на Роуд-Хилл.
Дойдя до дома на Роуд-Хилл, констебль Урч и окружной констебль Морган увидели на кухне Сару Кокс и спросили ее, каким образом ребенка могли вынести из дома. Она провела их в гостиную и указала на открытое окно. Элизабет Гаф, в свою очередь, пригласила их в детскую. Когда она встряхнула белье на кроватке Сэвила, Морган заметил «отпечатавшиеся на простыне и подушке очертания». Няня рассказала констеблям, что когда она восемь месяцев назад поступила на эту работу, ее предшественница поведала ей о том, что мать мальчика иногда забирает его к себе на ночь. «А кроме ребенка, из детской что-нибудь пропало?» — осведомился Морган. По его словам, няня, немного поколебавшись, ответила, что не хватает одеяла.
Урч и Морган попросили провести их к погребу, но он оказался заперт. Ключ был у одной из старших дочерей мистера Кента, но полицейским не хотелось привлекать членов семьи к своим розыскам. Они вернулись в гостиную, намереваясь поискать «следы ног» — Урч называл их «отпечатками»: криминалистика как наука только зарождалась, и терминология еще не сформировалась. Вскоре Элизабет Гаф обнаружила на белом половике из грубой шерсти, лежащем у окна на ковре, отпечатки двух больших, подбитых гвоздями подошв. Однако быстро выяснилось, что их оставил констебль Урч.
Миссис Кент послала свою падчерицу Констанс к преподобному отцу Пикоку с просьбой прибыть на Роуд-Хилл. Вместе с женой, двумя дочерьми, двумя сыновьями и пятью слугами Эдвард Пикок проживал неподалеку от церкви Иисуса Христа — в трехэтажном приходском доме готического стиля. С Сэмюелом они дружили, а жилище священника к тому же располагалось всего в нескольких минутах ходьбы от дома Кентов. Викарий согласился принять участие в поисках.
Сапожник Уильям Натт, живший со своими шестью детьми в одной из развалюх рядом с хозяйским домом, работал у себя в мастерской, когда до него долетели слова хозяина постоялого двора Джозефа Гринхилла: тот рассказывал кому-то об исчезновении Сэвила. Натт поспешил в дом. «Я сам отец, — говорил он, — и просто должен был узнать побольше о том, что случилось». По определению репортера газеты «Вестерн дейли пресс», у Натта была «странная внешность»: «тощий, костлявый мужчина с лицом землистого цвета и повязкой на глазу; таких называют „недотепами“; к тому же у него есть привычка скрещивать на груди свои исхудалые руки; при этом кисти их бессильно свисали вниз». Прямо у ворот Натт столкнулся с местным фермером Томасом Бенгером, гнавшим коров. Бенгер предложил Натту объединить усилия, но Натту не хотелось заходить без разрешения на чужую территорию, о чем он и сказал Бенгеру, добавив, что ему не по душе самовольничать на хозяйской земле. Бенгер, наслышанный о том, что Сэмюел Кент обещал Урчу и Моргану десять фунтов, если те отыщут мальчика, уверил, что никто не будет особенно возражать, если они примут участие в поисках.
Продираясь сквозь густой кустарник, примыкающий к подъездной дороге, ведущей к парадному входу в дом, Натт заметил, обращаясь к Бенгеру, что, если ребенок не нашелся живым, они могут обнаружить труп. Как раз в этот момент он шагнул вправо и наткнулся на дворовый туалет для слуг. Бенгер следовал за ним. Они заглянули внутрь: на полу застыла лужица спекшейся крови.
— Ну вот, Уильям, — сказал Бенгер, — вот что нам суждено было увидеть.
— О Господи, — откликнулся Натт. — Как раз то, о чем я только что говорил.
— А ну-ка, Уильям, принеси чем посветить.
Натт направился к черному ходу дома и коридором прошел на судомойню. Тут была Мэри Холком, мать садовника. Два раза в неделю она занималась у Кентов всякой черной работой. Натт попросил дать ему свечу.
— О Господи, Уильям, что случилось? — испуганно посмотрела на него Мэри.
— Успокойся, — сказал он. — Мне просто ненадолго нужна свеча, получше разглядеть кое-что требуется.
После ухода Натта Бенгер приподнял крышку сиденья с отхожего места и принялся всматриваться, надеясь, что глаза его, привыкнув к темноте, что-нибудь увидят. «Не отрывая взгляда от одного и того же места, я понял, что постепенно вижу лучше, вот и заметил внизу что-то похожее на одежду. Я опустил руку и вытащил одеяло». Оно было пропитано кровью. А в двух футах под сиденьем, на щитке, частично закрывавшем сливную яму, было видно тело мальчика. Сэвил лежал на боку со слегка подвернутой ногой и откинутой в сторону рукой.
— Иди сюда, — окликнул он Натта. — Боже мой, это же он.
Глава 2 РАСТЕРЯННОСТЬ И УЖАС
30 июня — 1 июля
У мальчика, которого Томас Бенгер поднял из ямы, голова запрокинулась и на шее обнаружился свежий разрез.
«Головка у малыша еле держалась», — объяснил Уильям Натт на судебном заседании, рассказывая о событиях того дня.
«Его горло было перерезано», — подтвердил Бенгер, — и все лицо забрызгано кровью… у рта и под глазами залегли легкие тени, но вообще-то он выглядел вполне умиротворенным. Глазки были закрыты. «Выглядел умиротворенным» в данном случае означает «выглядел успокоенным».
Натт расстелил одеяло на полу «скворечника», и Бенгер положил на него ребенка. Они завернули труп, и Бенгер, который был сильнее, взял его на руки и понес в дом. Урч и Морган видели, как он пересекает двор. Фермер прошел на кухню.
Тело Сэвила, уже застывшее, положили на стол у окна; наверху, в детской, простыня и подушка на кроватке мальчика еще сохраняли очертания его фигуры и головы. Появились старшие сестры — Мэри-Энн и Элизабет; на руках у последней была малышка Эвелин.
«Слов не найти, чтобы описать их ужас и изумление, — говорил Натт. — Мне показалось, что их ноги не держат; я поддержал обеих и вывел в коридор».
Няня тоже была на кухне. «Я сказал ей, — продолжал Натт, — что она, должно быть, спала как мертвая, если не слышала, как мальчика уносят из комнаты. Она ответила — вернее, огрызнулась, — что я, дескать, ничего не смыслю в таких делах». Элизабет Гаф призналась, что только сейчас, увидев тело Сэвила, завернутое в одеяло, осознала, что именно им она укрывала его, укладывая спать накануне. В то же время констебли Урч и Джеймс Морган, а также миссис Кент утверждали, что няня упоминала об исчезновении одеяла еще до того, как тело было обнаружено. Ее противоречивые показания в том, что касается одеяла, в дальнейшем заставят следствие включить ее в круг подозреваемых.
Слуг и все увеличивающееся скопление деревенского люда во дворе направили на поиски следов убийцы и орудия преступления. Дэниел Оливер обратил внимание Урча на отпечатки ног на лужайке под окном гостиной: «Кто-то здесь явно был». Но Эллоувей сказал, что это его следы: накануне вечером он провозил здесь тачку.
У двери в туалет Эллоувей обнаружил клочок газеты со следами крови: пяти-шестидюймовый прямоугольник был сложен и еще не просох. Могло показаться, что им вытирали лезвие ножа или бритву. В отличие от названия газеты дату выпуска — 9 июня — можно было разглядеть. «Не выбрасывай эту штуковину, — посоветовал Эллоувею фермер Эдвард Уэст, — она может помочь разобраться в деле». Эллоувей отдал бумажку мяснику и по совместительству окружному констеблю Эдварду Миллету, осматривавшему клозет. По его подсчетам выходило, что крови на полу наберется на две столовые ложки, и еще около литра впиталось в одеяло. Уэст утверждал, что пятно засохшей крови на полу было «величиной примерно с мужскую ладонь».
Наверху Элизабет Гаф причесывала миссис Кент. Раньше она была камеристкой и на новом месте совмещала уход за детьми с прежними обязанностями. Сэмюел распорядился, чтобы с женой не заговаривали о мальчике, и няня ни слова не сказала хозяйке о том, что ребенка нашли мертвым, но когда миссис Кент спросила, где же все-таки ее сын, она ответила: «О, мэм, это месть».
Едва в доме появился преподобный Пикок, как ему сообщили, что Сэвила нашли, и показали тело. Он тут же запряг лошадь и отправился следом за Сэмюелом. У заставы на въезде в Саутуик он остановился.
— Слышали, преподобный, что случилось на Роуд-Хилл? — спросила Энн Холл.
— Мальчик нашелся.
— Где же? — полюбопытствовала привратница.
— В саду.
О том, что нашелся он мертвым, Пикок умолчал.
Вскоре он догнал Кента.
«Боюсь, у меня дурные новости, — заговорил он. — Мальчика нашли убитым».
Сэмюел Кент развернул экипаж в обратный путь.
«Дорога много времени не заняла, — рассказывал он. — Ехали так быстро, как только могли».
На заставе Энн Холл спросила:
— Так что, сэр, мальчик нашелся?
— Да — убитым, — на ходу бросил Кент.
Отец уехал, и за домашним доктором Джошуа Парсонсом пришлось идти Уильяму Кенту. Подросток стремительно зашагал по узкой тропинке, ведущей в деревню. Доктор был у себя дома на Гус-стрит. Уильям сообщил ему, что Сэвила нашли в туалете с перерезанным горлом. Парсонс немедленно направился на Роуд-Хилл, взяв с собой в экипаж Уильяма.
«Когда мы приехали, — вспоминал доктор, — молодой мистер Уильям провел меня через черный ход — ведь он не знал, известно ли о случившемся матери. Так я оказался в библиотеке».
Сэмюел уже вернулся. Он поздоровался с Парсонсом и протянул ему ключ от прачечной, расположенной напротив кухни, — туда перенесли тело мальчика.
«Вошел я один, — вспоминал доктор. — Труп уже полностью окоченел, из чего следовало, что мальчика убили по меньшей мере пять часов назад, то есть до трех утра. Одеяло и ночная сорочка были покрыты пятнами крови и грязью». Под «грязью» доктор Парсонс подразумевал экскременты. «Горло перерезано слева направо до шейного отдела позвоночника каким-то острым инструментом; рассечены все сухожилия, кровеносные сосуды, нервы, дыхательные пути». Парсонс также отметил, что, по-видимому, тем же предметом был нанесен удар и по телу: он рассек одежду и задел ребро, но крови пролилось немного.
«Губы у ребенка почернели, язык прикушен, — продолжал доктор Парсонс. — Но, на мой взгляд, чернота эта — результат удара, нанесенного мальчику еще при жизни».
Миссис Кент сидела внизу за завтраком, когда вошел муж и объявил, что их ребенок мертв.
— Это дело рук кого-то из домашних, — сказала она.
Эти слова услышала Сара Кокс.
— Это не я, — воскликнула она, — я не делала этого!
В девять часов Сара Керслейк, как обычно, погасила кухонную плиту.
Суперинтендант Фоли прибыл из Троубриджа на Роуд-Хилл где-то между девятью и десятью утра. Его проводили в библиотеку, затем на кухню. Сара Кокс показала ему окно в гостиной, Элизабет Гаф — пустую кроватку в детской. По словам полицейского, она утверждала, будто отсутствие одеяла заметила, только когда принесли завернутое в него тело Сэвила. Далее он спросил Сэмюела Кента, известно ли ему было о пропаже одеяла до отъезда в Троубридж. «Разумеется, нет», — ответил тот. Таким образом, либо Фоли подводит память («Со мной такое случается», — признался он), либо Сэмюел лжет. В лучшем случае он что-то сильно путает — ведь и его жена, и Энн Холл, и жена констебля Херитиджа в один голос уверяют, что, напротив, о пропаже одеяла он знал еще до отъезда в Троубридж; впрочем, он и сам этого не отрицает, отвечая на вопросы других людей.
В сопровождении Парсонса, закончившего предварительный осмотр трупа, Фоли обошел дом. Они обследовали гардероб всех обитателей дома, включая ночной халат, оставленный на кровати Констанс. По свидетельству Парсонса, «на нем не было никаких пятен. Все чисто». Кроватка Сэвила была, по его же словам, «застлана чрезвычайно аккуратно — похоже, опытной рукой». В кухне доктор осмотрел через микроскоп ножи и не обнаружил на них никаких следов крови. Впрочем, в любом случае, по его мнению, ни одним из них нельзя причинить зафиксированных увечий.
Джон Фоли прошел в прачечную, чтобы осмотреть тело мальчика. Сопровождал его только что прибывший Генри Херитидж, тот самый констебль, которого Кент поднял с кровати в Саутуике. Затем они осмотрели туалет, где было найдено тело Сэвила. Заглянув в яму, Фоли, как ему показалось, разглядел на дне «что-то похожее на кусок материи». Он велел принести какой-нибудь крюк, прикрепил его к палке и извлек фланелевую тряпицу размером примерно двенадцать квадратных дюймов, с краями аккуратно скрепленными узкой лентой. Поначалу Фоли показалось, что это часть приталенного мужского пальто, но потом стало ясно, что это женская «фланелька», то есть мягкая прокладка, прикрепляемая изнутри к корсету, чтобы защитить грудь. Штрипки вроде были отрезаны, а сама фланелька пропитана густеющей кровью. «На ней были пятна крови, судя по всему, недавние, — пояснил Фоли. — Она еще даже не до конца засохла… Кровь пропитала всю поверхность, но, похоже, капли падали так медленно, что свертывались налету».
Чуть позже из Троубриджа подъехали с предложением своих услуг два специалиста — друзья Сэмюела Кента: врач Джозеф Степлтон и присяжный поверенный Роуленд Родуэй. Степлтон, проживавший в самом центре Троубриджа с женой и братом, обслуживал рабочих фабрик, инспектируемых Кентом. Он определял, позволяет ли состояние здоровья тех или иных работников, особенно детей, трудиться на производстве, и вел учет производственным травмам (через год Степлтон опубликовал первую книгу, посвященную убийству в доме на Роуд-Хилл, ставшую основным источником множества публикаций на эту тему). Что касается Родуэя, то это был вдовец, живший с сыном двадцати одного года. Он говорил, что застал Сэмюела «в состоянии горя и ужаса… подавленности и одновременно возбужденности»; по его словам, он предложил сразу же, «пока не исчезли или не были стерты следы преступления», телеграфировать в Лондон с просьбой прислать детектива. Но суперинтендант Фоли был против — по его словам, это могло породить лишь проблемы; вместо этого он послал в Троубридж за женщиной, которой надлежало провести обыск прислуги женского пола. Как отмечает Родуэй, «ему, кажется, было неловко вмешиваться в домашние дела, не говоря уж о мерах, которые приходится принимать в связи с расследованием дела». Сэмюел просил Родуэя передать Фоли, чтобы тот «делал свое дело и не чувствовал ни малейшего стеснения».
Фоли надел очки, опустился на колени, уперся руками в пол и, по собственному же описанию, «тщательнейшим образом обследовал каждый участок» пространства между парадным и черным ходом. «Я осмотрел все столбы и подпорки, лестницы, коридоры, подъездную дорогу, ступеньки, каждую травинку, каждую ворсинку на ковре в холле обнюхал — ничего».
В полдень Фоли в присутствии Степлтона и Родуэя допросил в столовой Элизабет Гаф. По словам Степлтона, она выглядела усталой, но ответы ее были ясными и последовательными. И вообще она производила впечатление «весьма разумной женщины». Родуэю тоже показалось, что на вопросы она отвечала «откровенно и обстоятельно, без малейшего смущения». На вопрос Фоли, кто, с ее точки зрения, мог убить Сэвила, она заявила, что понятия не имеет.
Сэмюел Кент спросил Родуэя, согласится ли тот представлять его интересы на дознании и следствии. Адвокат ответил, что это не самая удачная идея, ибо может возникнуть впечатление, будто Сэмюел сам является подозреваемым. Впоследствии Сэмюел утверждал, что обратиться к Родуэю его заставили не столько собственные интересы, сколько желание выгородить Уильяма: «Мало ли что могло обнаружиться — вдруг возникло бы подозрение, что это Уильям убил Сэвила».
Призвав на помощь еще двух-трех деревенских жителей, Бенгер очистил десятифутовую выгребную яму. Когда вода в ней опустилась до уровня шести — восьми дюймов, они тщательно ощупали дно, но ничего не нашли. Фрикер сказал, что надо бы проверить трубы, и пошел на кухню за свечой. Там он встретил Элизабет Гаф, спросившую, зачем ему свеча.
— Проверить бак, — пояснил водопроводчик.
— Да ничего там нет, — бросила она.
Позднее в доме появились другие полицейские, и среди них Элиза Дэлимор, в служебные обязанности которой входило проведение личного досмотра подозреваемых (женщин). Она была замужем за Уильямом — одним из констеблей, уже работающих по данному делу. Элиза Дэлимор отвела Элизабет Гаф в детскую.
— Что вам от меня нужно? — спросила няня.
— Вам следует раздеться.
— И не подумаю.
Миссис Дэлимор заявила, что ей придется это сделать, и провела Элизабет в гардеробную по соседству.
— Ну что, милочка, — осведомилась миссис Дэлимор, пока Элизабет раздевалась, — страшная история, а?
— Да уж куда страшнее.
— И что вы по этому поводу думаете?
Няня еще раз рассказала, как, проснувшись в пять утра, увидела, что Сэвила нет на месте. «Я решила, что он у матери, обычно он перебирается к ней по утрам». И, по словам миссис Дэлимор, добавила: «Это все из-за ревности. Малыш идет к маме и все ей рассказывает».
— Да кто же за это будет убивать ребенка? — заметила миссис Дэлимор. Тем не менее отзыв няни о Сэвиле как о доносчике стал для многих ключом к раскрытию преступления.
Элиза Дэлимор и Элизабет Гаф спустились на кухню.
— Это страшное несчастье, — заключила Элиза, — и, по-моему, несут за него ответственность все домашние.
Увидев Фрикера входящего в кухню с кем-то из подручных, няня спросила:
— Ну что, отыскали что-нибудь?
— Нет.
— А что я говорила?
Этот обмен репликами с водопроводчиком до и после осмотра трубы был впоследствии воспринят как указание на то, что об убийстве ей известно больше, чем она говорит.
Миссис Дэлимор провела личный досмотр всех служанок в доме, но членов семьи, следуя указаниям Фоли, оставила в покое. А вот гардероб их не оставила без внимания. И, обнаружив на ночной сорочке старшей из дочерей, Мэри-Энн, пятна крови, отправила находку в полицию. Там ее показали Парсонсу, объяснившему происхождение пятен «естественными причинами». Степлтон подтвердил, что кровь менструальная. Тем не менее сорочка была передана на сохранение миссис Дэлимор.
Около четырех пополудни Урч попросил двух деревенских женщин — Мэри Холком и Анну Силкокс — обмыть тело мальчика и подготовить к погребению. Мэри как раз мыла пол на кухне, когда Натт и Бенгер обнаружили труп. Анна была вдовой, некогда исполнявшей обязанности «приходящей няни»: ухаживала за матерью и младенцем в первые недели после родов. Анна жила с внуком — плотником — совсем рядом с домом на Роуд-Хилл. «Сделайте для этого бедняги все как полагается», — наказал женщинам Парсонс.
Около пяти, когда Парсонс и Сэмюел Кент беседовали в библиотеке, прибыл посыльный. Из доставленного предписания следовало, что полиция настаивает на вскрытии тела. Коронер, получив сообщение об убийстве ребенка, назначил эту процедуру на понедельник. Получив согласие Сэмюела, Парсонс попросил Степлтона принять в ней участие.
Увидев тело, Степлтон обратил внимание на «умиротворенное выражение» лица мальчика: «В предсмертной судороге его верхняя губа немного втянулась и затвердела над верхними зубами». При исследовании желудка обнаружили остатки ужина, в том числе рис. Дабы убедиться, что Сэвил не был отравлен, Парсонс постарался определить, не пахнет ли тинктурой опия или каким-либо иным ядом, но не обнаружил ничего подозрительного. Удар в грудь, оставивший рану шириной чуть более дюйма, повредил диафрагму и задел верхнюю часть желудка. «Для того чтобы нанести такой удар, тем более через одежду, требуется немалая сила», — отметил доктор Парсонс, добавив при этом, что мальчик был «превосходно развит» для своего возраста. Принимая во внимание характер ранения и наличие рваной дыры на одежде, Парсонс пришел к выводу, что орудие убийства имело форму кинжала. «Бритвой такой удар нанести невозможно, — заявил он. — Полагаю, это скорее всего был длинный и острый нож с широким лезвием из закаленной стали». Раньше он считал, что смерть наступила из-за того, что мальчику перерезали горло.
В результате вскрытия обнаружилось два необычных обстоятельства. Во-первых, удивление вызвали «темные полосы вокруг рта». Парсонс сразу же отметил, что, «как правило, на трупах ничего подобного не бывает; впечатление такое, будто к лицу крепко прижимали некий предмет». Он предположил, что это было одеяло либо просто ладонь, посредством которых пытались заглушить плач ребенка.
Во-вторых, загадкой являлось отсутствие крови. «Если горло жертвы было перерезано в туалете, — писал в своем отчете Парсонс, — крови должно было быть гораздо больше, она с пульсирующим напором выбрасывалась бы из артериальных сосудов, забрызгивая все стены». В то же время крови не осталось и в организме — во внутренностях и следа ее не было.
Вернувшись в библиотеку, врачи застали Сэмюела Кента в слезах. Степлтон пытался его успокоить, повторяя, что Сэвил умер сразу, не мучился. «Ребенок страдал гораздо меньше, чем предстоит выстрадать вам», — подтвердил Парсонс.
Суперинтендант Фоли осмотрел тело в прачечной. Ближе к вечеру, свидетельствовал он, туда зашла Элизабет Гаф и поцеловала руку своего несчастного воспитанника. Перед тем как отправиться домой, суперинтендант попросил чего-нибудь поесть и выпить: «У меня с утра во рту и крошки не было, и губы пересохли». Сэмюел налил ему портвейна, разбавленного водой.
Жизнь в доме продолжалась. Холком принялся подстригать траву на лужайке, на сей раз с помощью газонокосилки. Горничная и кухарка приготовили постели. Сара Кокс, как обычно по субботам, взяла в комнате Констанс ночную рубашку, чтобы просушить ее перед кухонной плитой. По ее словам, белье Констанс «из очень грубой ткани» легко можно было отличить от вещей ее сестер. На ее ночной рубахе была обычная оборка, в то время как у Мэри-Энн — кружево, а у Элизабет — вышивка.
В субботу старшие дочери ночевали порознь: Элизабет легла с мачехой — отец «оставался на ногах до утра», — а Констанс — «за компанию» — с Мэри-Энн. Элизабет Гаф, уложив миссис Кент и Мэри-Амалию, поднялась наверх, в комнату горничной и кухарки, где и заночевала. Эвелин скорее всего перевезли в коляске из опустевшей детской в родительскую спальню. И только Уильям ночевал один.
Весь следующий день Фоли находился при теле мальчика. Зашли попрощаться все сестры Кент, за ними — Элизабет Гаф. Потом она рассказывала миссис Кент, что поцеловала «бедное дитя». Согласно одному из показаний, миссис Кент говорила, что Элизабет «выглядела очень расстроенной и плакала»; согласно же другому — о слезах речи не было, хотя, верно, по словам миссис Кент, та «часто говорила о мальчике с состраданием и любовью». Поцелуи и слезы подозреваемых женщин вызвали особо пристальный интерес со стороны следствия — их можно было истолковать как признак невиновности.
В воскресенье Констанс ночевала одна. Уильям заперся изнутри — «из страха».
Глава 3 БОГ ВСЕ ВИДИТ
2–14 июля
В понедельник, 2 июля 1860 года, после долгого периода ветров и дождей погода переменилась. «Хоть какая-то надежда на лето появилась», — писала «Бристоль дейли пост». В десять утра коронер графства Уилтшир Джордж Сильвестр, проживавший в Троубридже, открыл судебное следствие по делу об убийстве Сэвила Кента. Как обычно в таких случаях, оно началось в самом большом в селении трактире — «Красный лев». Это длинное приземистое каменное здание с широкими входными дверями располагалось на откосе, в самом центре селения, при пересечении Аппер-стрит и Лоуер-стрит. Тесно застроенные старыми домами, обе тянулись наверх, в сторону Роуд-Хилл, вершина которого находилась в полумиле от трактира.
В состав присяжных входили хозяин трактира, мясник, два фермера, сапожник, каменщик, мельник и местный регистратор рождений и смертей. Большинство из них проживали на Аппер-стрит или Лоуер-стрит. Старшиной присяжных был избран преподобный Пикок. Несмотря на все свои опасения, Роуленд Родуэй согласился-таки представлять на слушаниях интересы Сэмюела Кента.
Ведомые коронером присяжные проследовали в дом на Роуд-Хилл, чтобы осмотреть тело мальчика, все еще остававшееся в прачечной. Дверь им открыл суперинтендант Фоли. «Рваные зияющие раны, — писала „Бат кроникл“, — придавали трупу прелестного мальчугана устрашающий вид, но лицо его сохраняло безмятежное, невинное выражение». Осмотрели присяжные и гостиную, детскую, хозяйскую спальню, туалет во дворе и прилегающую к дому территорию. Провожая их полтора часа спустя к месту заседания, Фоли спросил у коронера, кто из домашних потребуется в качестве свидетелей. Оказалось, что нужна только горничная, запиравшая окна, и еще няня, которая была в комнате с мальчиком, когда его похитили.
Сара Кокс и Элизабет Гаф направились в «Красный лев» вместе. Горничная разложила недельную стирку по двум большим корзинам, оставив их в чулане для прачки — Эстер Олли. Около полудня миссис Олли и ее дочь Марта зашли за корзинами и отнесли к себе в дом. Взяли они и составленный Мэри-Энн список белья, предназначенного для стирки (испачканная ночная рубаха Мэри-Энн, которую забрала жена полицейского Элиза Дэлимор, была ей возвращена в то же утро).
Сразу по возвращении домой — каких-то пять минут спустя — миссис Олли и все три ее дочери (одна из них была замужем за Уильямом Наттом) принялись разбирать корзины. «Обычно сразу мы этого не делаем», — говорила впоследствии миссис Олли. Объяснение же того, почему на сей раз она отступила от заведенного порядка, звучало странновато: «До нас донеслись слухи, что куда-то пропала ночная рубашка». Действительно выяснилось, что ни в одной из корзин ее нет, хотя в списке она значилась.
В трактире набилось столько зевак, что коронер решил перенести слушания в Темперенс-Холл, что в пяти минутах ходьбы по Лоуер-стрит в сторону Роуд-Хилл. Но и в нем «было не продохнуть», писала «Троубридж энд Норт-Уилтс эдвертайзер». Фоли передал присяжным ночную рубашку Сэвила и его одеяло.
Первыми давали показания Сара Кокс и Элизабет Гаф. Горничная рассказала, как она заперла дом в пятницу вечером, а наутро обнаружила, что окно в гостиной открыто. Няня, в свою очередь, во всех подробностях поведала, как вечером она укладывала Сэвила спать, а утром обнаружила, что в детской его нет. Она охарактеризовала его как веселого, жизнерадостного и спокойного мальчика.
Следующими коронер вызвал Томаса Бенгера, первым обнаружившего тело, и мясника Стивена Миллета, представившего найденный им на месте преступления обрывок газеты с пятнами крови. Наличие крови в туалете он прокомментировал следующим образом: «Я мясник и знаю, сколько крови выливается из животных, когда их закалывают». По его подсчетам, крови на полу набралось не многим более полулитра.
«По-моему, — продолжал Миллет, — мальчику подняли ноги, опустили голову и в таком положении перерезали горло». Зал дружно охнул.
От какой именно газеты оторвали окровавленный клочок бумаги, никто так установить и не смог. Один журналист неуверенно предположил, что это «Морнинг стар». Сара Кокс и Элизабет Гаф засвидетельствовали, что такой газеты в доме не было: мистер Кент подписывался на «Таймс», «Фрум таймс» и «Сивилл сервис газетт». Из этого могло следовать лишь то, что на месте преступления находился посторонний.
Следующим свидетелем выступал Джошуа Парсонс. Он изложил обстоятельства своего вызова в дом на Роуд-Хилл, а также выводы и результаты вскрытия тела: Сэвил был убит не позднее трех часов утра; горло его было перерезано, нанесен удар в грудь; имеются также признаки удушения. Теоретически кровь должна была «течь ручьем» и вылилось бы примерно полтора литра; обнаружено было гораздо меньше.
После допроса Парсонса коронер намеревался было закрыть заседание, однако преподобный Пикок, как старшина присяжных, заявил, что его коллеги хотели бы выслушать Констанс и Уильяма Кент. Лично он против, так как, с его точки зрения, членов семьи следует оставить в покое, но другие занимают иную позицию, и его обязанность озвучить их желание. Некоторые присяжные настаивали на тотальном допросе: «Пусть все дадут показания; никому никаких поблажек; нам нужна полная картина». Местные жители, по словам Степлтона, заподозрили коронера в подыгрывании семейству Кент — «для богатых один закон, для бедных — другой». Коронер неохотно согласился допросить Констанс и Уильяма, но только при условии, что допрос состоится у них дома, так чтобы «не было задето достоинство детей». Он был возмущен тем, что о них «во всеуслышание говорят как о гнусных убийцах». Присяжные вновь направились в дом на Роуд-Хилл.
Допросы, проводившиеся на кухне, были непродолжительны — по три-четыре минуты каждый.
— О том, что он умер, я узнала только после того, как было найдено тело, — показала Констанс. — Об убийстве мне сказать нечего… К мальчику все были очень добры.
Отвечая на вопрос, что она думает об Элизабет Гаф, Констанс сказала:
— Заботливая уравновешенная няня, обязанности свои выполняет наилучшим образом.
Как писала «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», показания свои Констанс давала «негромким, но внятным голосом, не обнаруживая каких-либо особых чувств и не поднимая головы».
Уильям, по существу, сказал то же самое, только более эмоционально:
— О случившемся я узнал только утром. К сожалению. Сэвила все у нас обожали. Няня всегда мне казалась очень доброй и спокойной женщиной. О самом убийстве мне сказать нечего.
Уильям давал свои показании охотнее, чем сестра, изъяснялся «четко и решительно, не сводя глаз с коронера». По сравнению с ним Констанс казалась замкнутой и немногословной.
По возвращении в Темперенс-Холл коронер разъяснил присяжным, что их дело не искать убийцу, но выяснить, как именно Сэвил встретил смерть. Все они с видимой неохотой поставили подписи под документом, возлагающим вину за убийство «на неизвестного или неизвестных». «Неизвестный-то неизвестный, — промолвил один из присяжных, — да есть у меня одно сильное подозрение, от которого никак не отделаться». «У меня тоже», — подхватил другой. «И у меня», — присоединился к ним третий. Сапожник встал и заявил, что большинство его коллег считают, что убийство совершил кто-то из обитателей дома на Роуд-Хилл. И обвинил Парсонса, преподобного Пикока и коронера в стремлении замять дело.
Коронер пропустил упрек мимо ушей, успокоив присяжных тем, что «хотя происшедшего не видел никто из людей, Высший судия все видел и все знает». В три тридцать он закрыл слушания: «Могу лишь сказать, джентльмены, что с более загадочным и поразительным убийством мне лично сталкиваться не приходилось».
По завершении слушаний Фоли, все время остававшийся в доме, передал ключ от прачечной миссис Силкокс. Она должна была заняться подготовкой тела к погребению. Затем Элизабет Гаф и Сара Кокс, завернув его в «кокон» — саван, отнесли наверх, как велела миссис Кент няне.
Потом мать Сэвила спрашивали, наклонилась ли няня поцеловать покойника, перед тем как закрыть гроб.
«К этому времени Сэвил сделался мало похож на себя живого; не думаю, что она могла заставить себя поцеловать его».
В понедельник вечером Констанс попросила няню переночевать с нею.
На следующее утро, около одиннадцати, Эстер Олли вернула Саре Кокс список белья и получила жалованье — семь или восемь шиллингов. О том, что не хватает ночной рубахи, она не упомянула.
«О пропаже я ничего не сказала, — призналась впоследствии Эстер. — И это, конечно, неправильно. Правда, я куда-то торопилась, но все равно надо было сказать».
В полдень у нее дома появились окружной констебль Джеймс Морган и еще четверо полицейских, желавших задать вопросы относительно нагрудной фланельки. Им надо было знать, видела ли ее Эстер среди белья семейства Кент. «Нет», — ответила она, а когда визитеры поинтересовались, все ли из белья было на месте, утвердительно кивнула: «все по списку».
И вот тут-то, сразу как Морган со спутниками ушли, Эстер послала Марту на Роуд-Хилл сказать Кентам, что одной ночной рубашки не хватает и что от полиции она это утаила. Миссис Кент пригласила в библиотеку Сару Кокс и Мэри-Энн Кент. Те уверяли, что рубашек было три, но Марта Олли клялась, что в корзине оказалось только две.
Марта все рассказала матери, и та около шести вечера сама пошла в дом на Роуд-Хилл.
«Там я увидела миссис Кент, ее падчериц, няню и кухарку; на пороге своей комнаты появился мистер Кент и в неподобающей джентльмену манере заявил, что, если я в течение сорока восьми часов не найду и не принесу рубаху, он получит особый ордер и меня уведут… Он говорил со мной очень грубо».
В пятницу, 6 июля, останки Сэвила были преданы земле. По сообщению «Вестерн дейли пресс», на пути к месту последнего упокоения «едва процессия миновала „тот самый“ туалет, но не дошла еще и до ворот, веревки, на которых несли гроб, с треском порвались, и он упал на землю, и лежал так, пока из дома не принесли новые веревки». Собравшиеся в большом количестве местные жители наблюдали, как катафалк увозит гроб и двух безутешных родственников — Сэмюела и Уильяма (женщины, как правило, на похороны не ходили, хотя траур в этот день надевали).
Похоронная процессия проследовала через Троубридж около половины десятого утра и часа через полтора достигла деревни Ист-Кулстон. Тело мальчика было погребено в семейном склепе, рядом с первой женой Сэмюела. Надпись на могильной плите завершалась такими словами: «Бог все видит, Ему ведомы все тайны сердца». В одной из газет говорилось об «истинном страдании», написанном на лицах отца и сына; другая отмечала, что выказывал его только Сэмюел. Кому-то из друзей пришлось поддерживать его по дороге с кладбища к экипажу.
На похоронах были четверо друзей семьи — три врача и адвокат: Бенджамен Мэллем, крестный Сэмюела, практиковавший во Фруме; Джошуа Парсонс; Джозеф Степлтон и Роуленд Родуэй. Возвращались они в одном экипаже, дорогой говорили об убийстве. Парсонс сообщил остальным, что миссис Кент попросила его удостоверить факт нервного расстройства Констанс.
Ведущую роль в расследовании продолжал играть суперинтендант Фоли, хотя на прошедшей неделе дом на Роуд-Хилл посещали еще несколько старших чинов местной полиции. Они обыскали незанятые помещения, а также несколько нежилых построек на краю лужайки. Полицейские попытались было обследовать дно Фрума, в том месте, где река протекает рядом с домом, но из этого ничего не получилось, так как уровень воды поднялся слишком высоко вследствие половодья, продолжавшегося несколько недель. Однако все эти меры ни на шаг не приблизили следствие к разгадке таинственного убийства, и еще до конца недели судейские из Уилтшира обратились в министерство внутренних дел с просьбой прислать им в помощь детектива из Скотленд-Ярда. Просьба была отклонена. «Теперь, когда полицейские управления сформированы в каждом графстве, — отмечал постоянный заместитель министра Горацио Уоддингтон, — помощь Лондона требуется лишь в исключительных случаях». Тогда местные судебно-административные органы объявили о начале собственного расследования в ближайшие дни.
Поскольку загадка исчезнувшей ночной рубашки так и не разрешилась, миссис Олли отказалась принимать в стирку очередную порцию белья с Роуд-Хилл. Это было 9 июля, в понедельник. В то утро Фоли послал Элизу Дэлимор в дом Кентов с нагрудной фланелькой, найденной им в туалете. «Миссис Дэлимор, — наставлял ее Фоли, — попытайтесь примерить ее обеим девушкам и няне». Пятна на фланельке отмыли, но она насквозь пропахла кровью и грязью.
Дэлимор отвела горничную и кухарку в их комнату, велела раздеться и примерить фланельку. Выяснилось, что она слишком узка для обеих. Следующей на очереди была Элизабет Гаф — она проходила эту процедуру в детской. «Какой в этом смысл? — ворчала она. — Даже если фланелька мне подойдет, отсюда никак не следует, что убийство моих рук дело». Она расстегнула корсет и примерила фланельку. Та подошла.
«Вы правы, — согласилась миссис Дэлимор, — мало ли кому она может прийтись в пору. Мне, например. Но в доме вы одна, кому она подходит».
Трех падчериц миссис Кент было указано не беспокоить.
В тот день, через неделю после начала расследования, пять судебных заседаний графства Уилтшир открыли «исключительно секретное», по определению газеты «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», слушание в Темперенс-Холле. На него были вызваны некоторые обитатели дома на Роуд-Хилл. Миссис Кент заявила им, что, по их мнению, убийство совершил один из своих, тот, кто знает дом и все, что к нему прилегает. «Няню подозревать у меня нет оснований, — добавила она. — Единственное, в чем я могу упрекнуть ее, так это в том, что она не сразу сообщила мне об исчезновении ребенка».
Тем не менее Элизабет Гаф попала под подозрение полицейских, работавших над данным делом. Они исходили из того, что похитить ребенка из детской незаметно для няни практически невозможно. По их мнению, события развивались следующим образом. Сэвил проснулся и увидел в постели Элизабет Гаф мужчину. Чтобы ребенок не закричал, любовники заткнули ему рот и — случайно или намеренно — задушили. Няня ведь сама называла малыша болтунишкой: «Идет к матери и все ей выкладывает». Далее, согласно рассуждениям полицейских, парочка, дабы скрыть истинные причины смерти, нанесла мальчику телесные повреждения. Если любовником был Сэмюел Кент, он вполне мог избавиться от вещественных доказательств по пути в Троубридж. Действовать приходилось в суете и спешке, да еще и смотреть за тем, чтобы никто не заметил, как они сговариваются, — отсюда и нестыковки, и противоречия в показаниях: главным образом в части, касающейся пропажи одеяла. Следовало также принимать в расчет крайне неубедительное объяснение няни, почему она не сразу сообщила хозяйке об исчезновении мальчика.
Во вторник, 10 июля, в восемь вечера судебные инстанции распорядились задержать Элизабет Гаф.
«На момент получения этого сообщения, — информировала „Бат кроникл“, — девушка находилась дома, где остановились и свидетели по делу, причем пребывала в наилучшем расположении духа, непринужденно толкуя о том, как славно она провела бы время на сенокосе, если бы не это „дело“. Она утверждала, что ни в чем не виновата и бояться ей нечего, пусть хоть сотня судей допрашивает».
Но очень скоро ее бравада прошла. «Услышав, что она подлежит временному аресту, девушка без чувств упала на землю». По описанию «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», это был «настоящий припадок», продолжавшийся несколько минут. Когда Элизабет пришла в себя, Фоли посадил ее в полицейскую двуколку и отвез на Столлард-стрит, где помещался полицейский участок Троубриджа. Суперинтендант жил тут же с женой, сыном (помощником адвоката) и служанкой. В другой части здания размещался Уильям с Элизой и тремя детьми; на констебля и «надзирательницу» была возложена обязанность осуществлять наблюдение за арестованной. Элиза и мисс Гаф даже спали в одной кровати.
Во время пребывания в полицейском участке Элизабет Гаф как-то сказала Фоли, что убеждена в невиновности Констанс.
— Так кто же убил мальчика, вы? — спросил Фоли.
— Нет.
В разговоре с другим полицейским няня заметила, что отныне «никогда уж не полюбит детей». Тот спросил почему. Элизабет ответила, что «уже во второй раз с доверяемым ей ребенком что-то случается. На прежнем месте работы, два года назад, ребенок, которого я очень любила, умер».
Распространилась молва, будто она дала признательные показания, назвав Сэмюела убийцей, а себя соучастницей преступления. На неделе циркулировали и другие слухи, причем все они были связаны с Сэмюелом. Так, говорили, что жизнь Сэвила была застрахована, тело первой жены мистера Кента подверглось эксгумации, а самого его видели невдалеке от собственного дома в три часа утра, когда было совершено убийство.
В пятницу Элизабет Гаф снова отвезли на допрос. Судей, отправившихся в дом на Роуд-Хилл, она ожидала у шорника Чарлза Стокса, жившего по соседству с Темперенс-Холлом. Через какое-то время сестра шорника Энн, занимавшаяся пошивкой платьев и корсетов, заметила, что неспроста, наверное, судьи задерживаются: «не иначе нашли что-нибудь». По ее словам, мисс Гаф нервно мерила шагами комнату, проявляла явную тревогу.
— Что-то я скверно себя чувствую, так же как во вторник, — пожаловалась она, явно намекая на случившийся с ней припадок. — Надеюсь, сегодня меня на допрос не вызовут.
— Обхватив себя руками, — продолжала Энн Стоукс, — она поведала, что испытывает какое-то странное ощущение, будто кровь отхлынула с одной стороны на другую. Она также сказала, что давно хотела уйти, и не ушла только из-за миссис Кент. Та непременно хотела, чтобы она осталась еще хоть ненадолго. Элизабет, сделала это ради нее.
Потом, по утверждению Энн, няня заметила, что после убийства у нее появилось несколько седых волос. Она вырвала их, чего раньше никогда не делала, пожаловалась, что никто не знает, каково ей приходится, и если, не дай Бог, случится что-нибудь еще, ей не жить.
Тем временем судьи беседовали в доме на Роуд-Хилл с миссис Кент и Мэри-Энн Кент. В Темперенс-Холл сами они прийти не могли — одна из-за беременности, другая — потому, что, «стоило ей услышать, что на слушаниях ее присутствие необходимо, как у нее сразу начинался сильнейший припадок».
Вернувшись в Темперенс-Холл, судьи вызвали мисс Гаф. У входа вертелись восемь газетных репортеров, но внутрь их не пустили, сославшись на то, что заседание носит закрытый характер. У входа оставили полицейского, поручив ему следить за тем, чтобы никто не приближался в дверям и не пытался подслушивать.
Около семи вечера судьи объявили перерыв в заседании, сказав Элизабет Гаф, что если она гарантирует свое появление в Темперенс-Холле в понедельник, то может провести последние дни недели с отцом и кузеном, приехавшим в тот день из Айлворта — городка неподалеку от Лондона. Элизабет, однако же, возразила, что предпочитает оставаться в полицейском участке Троубриджа. По всей видимости, выпуская ее из-под стражи, судьи заверили Элизабет, что все будет в порядке, ибо, по свидетельству «Бат кроникл», по приезде в городок она выглядела весьма оживленной и «выскочила из двуколки весьма резво».
Во вторник, 10 июля, влиятельная столичная газета «Мор-нинг пост» весьма едко высмеивала в своей редакционной статье жалкие попытки уилтширской полиции установить личность убийцы Сэвила. Действия коронера, проводившего дознание, газета характеризовала как поспешные и односторонние и настаивала на том, чтобы следствие по делу об убийстве ребенка было поручено «лучшему из детективов». Далее в статье говорилось, что от раскрытия тайны дома на Роуд-Хилл зависит безопасность чуть ли не всех домов в Англии. Да, признавала газета, такого рода следствие будет означать нарушение священной неприкосновенности жилища.
Все англичане привыкли особо гордиться тем, что они считают священной неприкосновенность английского дома. Ни солдат, ни полицейский, ни правительственный чиновник — никто не смеет ее нарушать… Если только речь не идет об иностранном подданном, любой обитатель английского дома, будь то особняк или халупа, наделен бесспорным правом зашиты против всяких попыток вторжения извне. Ему никто не указ, за исключением министра внутренних дел, но даже и тот может нарушить традиционную неприкосновенность частного жилища лишь при экстраординарных обстоятельствах, да и то с риском возбуждения по данному поводу парламентского расследования. Именно это врожденное чувство неприкосновенности жилища внушает англичанину уверенность в незыблемости устоев. А это, в свою очередь, превращает хижину на краю болотистой пустоши в замок. Моральный авторитет английского дома в XIX веке выполняет те же функции, что и крепостной ров, башня и подъемный мост выполняли в XIV веке. Уверенные в неколебимости этого уклада, мы ночами ложимся спать, а утром уходим из дома, зная, что вся округа, да нет, вся страна, поднимется, если будет предпринята хоть малейшая попытка посягнуть на то, что столь многочисленные традиции и столь укоренившийся обычай полагают быть священным.
Такого рода чувствами была глубоко пронизана жизнь викторианской Англии. В одно из посещений этой страны доктор Карус, придворный врач короля Саксонии, отмечал, что английский дом воплощает «издавна лелеемый принцип частной жизни, служащий базисом национального характера… Именно он наполняет англичанина горделивым чувством личной независимости, находящим свое выражение в широко известном девизе: „Мой дом — моя крепость“. Американский поэт Ралф Уолдо Эмерсон писал, что из домовитости и произрастает уверенность, позволяющая англичанам удерживать свои позиции в мире. Вся суть их повседневной жизни и державной мощи состоит в том, чтобы защищать независимость и неприкосновенность английского дома».
Далее в статье «Морнинг пост» от 10 июля 1860 года в этой связи говорилось следующее: «При всех этих постоянно провозглашаемых священных правах недавно совершенное преступление по своей таинственности, и крайней жестокости, и количеству версий не имеет аналогов в криминальной хронике страны… безопасность людей и принцип неприкосновенности английского жилища требуют, чтобы это дело не было закрыто до тех пора, пока при свете бесспорной истины не исчезнут последние тени сомнения». Ужас происшедшего заключается в том, что тля проникла в глубь «святилища — домашнего очага», что все замки, засовы, ставни, щеколды оказались совершенно бесполезны. «Тайна лежит внутри дома… Весь домашний круг должен нести коллективную ответственность за это таинственное и ужасное событие. Никому из обитателей дома не следует покидать его, пока тайна не будет раскрыта… Один из членов семьи — или более — наверняка не без вины». На следующий день статья из «Морнинг пост» была перепечатана в «Таймс», а до конца недели — в газетах всей страны. «Пусть будут задействованы лучшие детективы страны», — взывала газета «Сомерсет энд Уилтс джорнэл».
В четверг уилтширский суд вновь обратился к министру внутренних дел с просьбой направить на Роуд-Хилл детектива, и на сей раз она была удовлетворена. В субботу, 14 июля, сэр Джордж Корнуолл Льюис, министр внутренних дел в правительстве лорда Пальмерстона, дал указание комиссару лондонской полиции сэру Ричарду Мейну немедленно направить в Уилтшир «толкового сотрудника». «Послать инспектора Уичера», — вывел Мейн на обороте министерского приказа.
В тот же день детектив-инспектор Джонатан Уичер получил приказ направиться в Уилтшир.
Часть II ДЕТЕКТИВ
Я начал мостить путь к раскрытию тайны — путь темный и извилистый.
Уилки Коллинз. Женщина в беломГлава 4 ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА
1 октября 1814 — 15 июля 1860
В то июльское воскресенье 1860 года было еще светло, когда поезд, везший Уичера, пересек западную границу графства Уилтшир. Обычно к этому времени года поля уже перемежаются желтыми пятнами — светло-охристыми колосьями пшеницы или золотистой кукурузой, — но в этом году лето пришло так поздно, что до сих пор они были зелены, как молодая трава.
В двадцать минут седьмого поезд остановился в Троубридже, среди леса фабричных труб и дымоходов. Уичер вышел на узкую платформу железнодорожной станции.[5] Пройдя кассовый зал и покинув вокзал, он остановился у полицейского участка Джона Фоли на Столлард-стрит, представлявшего собой двухэтажное здание, построенное в 1854 году, когда была учреждена местная полицейская служба. Именно здесь по собственной воле пребывала Элизабет Гаф в ожидании завтрашнего возобновления допроса.
Столетиями в Троубридже занимались производством одежды. В 1848 году сюда пришла железная дорога, что еще более способствовало преуспеянию Троубриджа. Этот город с его одиннадцатью тысячами жителей сделался крупнейшим фабричным центром на юге Англии. По обе стороны от вокзала теснились примерно двадцать ткацких фабрик и красилен. Более тридцати паровых машин обеспечивали их энергией. Именно эти фабрики и инспектировал Сэмюел Кент. Воскресным вечером они пребывали в покое, но утром машины вновь застучат, загрохочут, и в воздух попадет дым, сажа, смрад (моча, собираемая из пивных в резервуары, использовалась для очистки шерсти), а отходы краски снова спустят в реку Бисс.
Уичер взял носильщика и велел нести багаж в гостиницу «Вулпэк» находящуюся на Маркет-плейс, то есть примерно в полумиле от станции. Они пересекли мост через Бисс — небольшой приток Эйвона — и направились к центру города, минуя тесно прилегающие друг к другу дома, выстроенные богатыми торговцами тканями георгианских времен, и переулки с покосившимися лачугами, в которых обитали ткачи. В этом году дела шли неважно. Суровая зима привела к большому падежу овец, шерсти настригли меньше, чем обычно, а конкуренты — владельцы ткацких фабрик на севере Англии — продавали свои муслиновые изделия по низким ценам.
Добравшись до гостиницы, находившейся на углу Ред-Хот-лейн, Уичер заплатил носильщику шесть пенсов и вошел внутрь. Это было небольшое уютное здание. Номера здесь стоили шиллинг шесть пенсов в сутки. В баре был широкий выбор напитков — вино, сидр, домашний эль ну и кое-что покрепче. Весьма вероятно, Уичер что-нибудь заказал: в разговоре с Диккенсом он как-то обмолвился, что накануне серьезного дела «ничто так не взбадривает, как глоток бренди с водой».
Джонатан Уичер родился 1 октября 1814 года в Камбервелле, что в трех милях к югу от Лондона. Отец его был деревенским садовником, выращивавшим на продажу вишню, салат и розы. Помимо того, он, вполне возможно, ухаживал за газонами и клумбами на участках местных богачей — в Камбервелле было немало роскошных вилл и коттеджей, где в тиши и уюте негоцианты находили отдохновение от городской суматохи и духоты.
В день крестин Джонатана — 23 октября — викарий церкви прихода Сент-Джайлз крестил также детей сапожника, столяра, кучера, разнорабочего и еще одного садовника. По одной из многочисленных версий истории его жизни, Джонатан является сыном Ричарда и Ребекки Уичер. В детстве его называли Джеком. У него была старшая сестра, Элиза, и по меньшей мере один старший брат — Джеймс. Еще одна сестра, Сара, родилась в августе 1819 года, когда ему было почти пять лет. То лето запомнилось обилием камбервелльских красавиц — крупных, с бордовыми бархатистыми крыльями бабочек, впервые замеченных в этих краях в 1748 году.
В середине тридцатых годов XIX века Джек Уичер все еще проживал в Камбервелле, скорее всего в Провиденс-роу, небольшом бедняцком квартале. Домишки стояли на Уиндэм-роуд, неподалеку от фабрики, дворами примыкая к садовым участкам, но район был и впрямь нищенским, известным, как говорилось в отчете, подготовленном местной школой, «в равной степени своей неприглядностью и царящим в нем невежеством». Здесь постоянно шныряли всякие сомнительные типы — лоточники, торговцы овощами, трубочисты, а то и просто самый настоящий сброд.[6]
Когда в конце лета 1837 года Джек Уичер подал заявление о приеме на службу в городскую полицию Лондона, ему было почти двадцать три года и роста в нем было как раз пять футов восемь дюймов — предельно юный возраст и предельно низкий рост для соискателей. Испытания на грамотность и физическую подготовку он прошел, а за его добропорядочность поручились два «уважаемых квартиросъемщика» из их прихода. Как и большинство новобранцев до поступления в полицию, он занимался всякого рода поденным трудом.
18 сентября Уичеру был присвоен чин констебля. Его недельное жалованье — один фунт — лишь немногим превышало прежний заработок, но будущее теперь выглядело несколько более надежным.
Лондонской городской полиции, первой подобного рода службе в стране, было к тому времени восемь лет. Лондон чрезвычайно разросся, а жизнь в нем была настолько стремительна и загадочна, что это просто не поддавалось осмыслению. И вот в 1829 году столичные жители, пусть и неохотно, признали необходимость создания некоего подразделения, способного обеспечивать порядок на улицах. Состояло это подразделение изначально из трех с половиной тысяч полицейских,[7] и называли их по-разному — «бобби», «пилеры» (по имени основателя полиции сэра Роберта Пила), «копперы»[8] (ловили бандитов), «душители» (душили свободу), «свиньи» (начиная с XIV века это слово приобретает характер ругательства).[9]
Уичеру были выданы брюки и длиннополая шинель синего цвета; на ярко начищенных металлических пуговицах красовались корона и слово «ПОЛИЦИЯ». Код его подразделения и личный номер — Е47 («Е» означало, что он приписан к участку Холборн) — были оттиснуты на жестком воротничке; чуть ниже шею охватывал кожаный галстук шириной четыре дюйма — защита от «гаротьеров» (душителей). У шинели имелись глубокие карманы для дубинки и деревянной трещотки. Обмундирование дополнял высокий шлем с отшлифованной тульей и ремешками по бокам. Один сослуживец Уичера так описывал одеяние новобранцев: «Пришлось облачиться в мундир с фалдами, как ласточкин хвост, и в своего рода цилиндр из кроличьей кожи, весом 18 унций (0,45 кг); к этому прилагалась пара кожаных веллингтоновских башмаков и пояс шириной четыре дюйма с огромной медной пряжкой… Никогда в жизни я не ощущал большего дискомфорта». Полицейскому предписывалось носить форму даже во внеслужебное время, чтобы нельзя было обвинить его в том, что он скрывает свою профессию. Лента на запястье означала, что он на дежурстве. Бороду и усы носить запрещалось. Многие отращивали бакенбарды.
В те времена, когда любая одежда в той или иной степени представляла собой униформу, полицейский комплект обладал своими преимуществами. Журналистка Харриет Мартино отмечала, что в таком наряде молодой тщеславный пролетарий «мог расхаживать по улицам более горделиво и привлекая к себе большее внимание», чем «ремесленник в своем фартуке и бумажной треуголке или разнорабочий в бумазее».
Безупречного полицейского отличали невозмутимость, незаметность, отсутствие всяческих эмоций. «Бурный темперамент исключается, — продолжает Мартино. — Не следует также быть тщеславным, иначе можно уступить всякого рода заигрываниям; чрезмерное простодушие вместе с добродушием не поощряется, равно как и неуверенность в поведении и настроении; неприемлемы слабость к спиртному и недостаток ума». Врач и писатель Эндрю Уинтер, в свою очередь, изображает идеального констебля «жестким, хладнокровным, неумолимым человеком, скорее даже не человеком, а государственным органом. Его личность растворяется в нашем представлении в наглухо застегнутой шинели… это машина, передвигающаяся, думающая и говорящая только в рамках заданных ей инструкций… Выглядит полицейский так, будто у него нет… ни надежд, ни страхов».
Уичер проживал еще с шестнадцатью новобранцами в одной из комнат полицейского участка на Хантер-стрит, к югу от вокзала Кингз-Кросс.[10] От входной двери этого массивного кирпичного здания, недавно предоставленного для нужд полиции, вел длинный темный коридор; здесь имелось четыре камеры, библиотека, буфетная, столовая и комната отдыха. Все полицейские должны были жить в помещении участка и возвращаться не позднее полуночи. При работе в утреннюю смену Уичер вставал еще до шести. При наличии собственного таза и ширмы можно было умываться прямо в общежитии. Завтрак состоял из отбивной котлеты с картофелем и чашки кофе. В шесть утра проходило построение во дворе. При этом один из четырех инспекторов отделения извлекал из кармана свернутый лист бумаги, разворачивал его и зачитывал поступившие из главного управления полиции распоряжения: кому из полицейских выговор, кому поощрение, кому временное отстранение от службы. Инспектор также сообщал о преступлениях, совершенных в самое последнее время, приметы подозреваемых, сведения о пропавших людях и украденных вещах. Проверив, по форме ли все одеты, он подавал команду: «По местам!» Несколько констеблей возвращались в помещение участка — это был резерв, остальных же сержанты разводили по их постам.
За дневную смену констебль покрывал семь с половиной миль со скоростью две с половиной мили в час — в два приема, каждый по четыре часа: например, с шести до десяти утра и с двух до шести дня. Он знакомился с каждым домом на своем участке и прилагал максимум усилий к тому, чтобы очистить улицы от нищих, бродяг, лоточников, пьяниц и проституток. В любой момент его мог проверить сержант или инспектор, а правила были строги: во время дежурства никаких вольностей — ни присесть, ни прислониться к стене; употреблять ругательства запрещается, заигрывать с девушками — тоже. Полицейским предписывалось выказывать людям максимальное уважение — скажем, при обращении к кебменам нельзя употреблять слово «кебби» и уж тем более всячески избегать применения силы. Те же требования следовало соблюдать и во внеслужебное время. Если констебля — не важно, на дежурстве или нет — видели пьяным, то на первый раз ему выносилось предупреждение, если же это повторялось, следовало увольнение со службы. В начале тридцатых годов XIX века из общего состава (трех тысяч полицейских) было уволено пятеро, из них четверо — за пьянство.
Около восьми вечера Уичер ужинал у себя в общежитии — трапеза состояла из бараньей отбивной с картошкой и капустой, а также яблока, запеченного в тесте. В ночную смену он выходил на дежурство примерно в девять с фонарем «бычий глаз», ну и, само собой, с дубинкой и трещоткой. Во время этого обхода он проверял запоры на окнах и дверях, смотрел, не горит ли где, разводил по ночлежкам бездомных, следил, чтобы общественные места закрывались на ночь вовремя. Ночью приходилось покрывать значительно меньшее расстояние, нежели днем, — две мили, и по правилам Уичер должен был регулярно появляться на том или ином объекте каждый час. Если требовалась помощь, он доставал трещотку: ближайший констебль должен был находиться в пределах слышимости. Дежурить ночами зимой — удовольствие небольшое, но имелись и преимущества: чаевые за раннюю побудку рыночных торговцев и разнорабочих, а порой глоток пива или бренди от хозяев всех баров, расположенных на участке.
Уичер патрулировал Холборн в годы, когда этот район ассоциировался с занимавшим восемь акров кварталом трущоб — Сент-Джайлзом, представлявшим собой лабиринт темных улиц, переулков и малозаметных проходов через дворы, чердаки и подвалы. Оттуда уходили «на дело» бродяги и карманники. Вокруг Сент-Джайлза располагались суды, университет, Британский музей, квартал Блумсбери с его блеском и роскошью, наконец, шикарные магазины Хай-Холборн. Стоило появиться полиции, как вся сомнительная публика расползалась по своим норам.
Холборн кишел всевозможными мошенниками, и полицейским управления Е следовало быть настоящими мастерами своего дела, чтобы выявлять их. Возникла даже новая терминология, позволяющая классифицировать этот сброд согласно тому или иному роду занятий. Так, полиция ловила «наперсточников» (то есть шулеров), дурачивших народ при содействии «шляп» (сообщников, вводящих в заблуждение легковерных зевак мнимым обыгрыванием «наперсточников»). «Писец» (составитель документов) продавал «фальшак», «заговаривая зубы» какому-нибудь недотепе, — в 1837 году пятьдесят лондонцев было арестовано за изготовление подобного рода бумаг, и еще восемьдесят шесть — за их предъявление. «Обуть мальца» означало выманить у подростка деньги или одежду; «выдавить слезу» — вызвать сочувствие своим оборванным видом; «взять на крючок» — попрошайничать, переодевшись матросом, пережившим кораблекрушение. В ноябре 1837 года один судья отмечал, что в районе Холборна орудуют воришки, прикидываясь пьяными, чтобы отвлечь внимание полиции от коллег-домушников.[11]
Случалось сотрудникам управления Е действовать за пределами своего района. Так, в июне 1838 года, когда короновалась будущая королева Виктория, вся городская полиция участвовала в охране пути от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Полиции уже приходилось сталкиваться с маньяками, помешанными на новой королеве. Так, один обитатель работного дома в Сент-Джайлзе предстал перед судом за утверждения, будто Виктория была без ума от него. Он заявлял, что они «перемигивались» в Кенсингтонском парке. Суд вынес постановление о направлении его в психиатрическую лечебницу.
Первое свое документально зафиксированное задержание Джек Уичер провел в декабре 1840 года. В борделе неподалеку от Кингз-Кросс он заметил сильно подвыпившую семнадцатилетнюю девушку, слишком уж броско одетую. Уичер обратил внимание на то, что на шее у нее болталось боа с перьями. Нечто подобное значилось в перечне вещей, украденных две недели назад из одного дома в Блумсбери, откуда в ночь грабежа бежала служанка. Он подошел к девушке и объявил, что она арестована по обвинению в воровстве. В конце того же месяца суд признал Луизу Уилер виновной в ограблении Сары Тейлор, проживающей на Глостер-стрит. Эта история как в капле воды отражает лучшие качества Уичера-детектива: отменная память, внимательность и решительность.
Сразу после этого его имя на два года исчезло с газетных полос. Объясняется это скорее всего тем, что два комиссара лондонской полиции — бывший армейский офицер, полковник Чарлз Рауэн, и адвокат, сэр Ричард Мейн, — включили его в секретное подразделение «оперативных сотрудников» в штатском. Сыск и слежка внушали англичанам ужас. Так, в начале тридцатых годов разразился скандал, когда выяснилось, что полицейский в штатском проник на какое-то политическое сборище.[12] В такой атмосфере приходилось действовать очень скромно.
Из судебных архивов следует, что в апреле 1842 года, действуя под прикрытием, Уичер заметил на Риджент-стрит трех подозрительных типов. Следуя за ними, он увидел, как один из них преградил дорогу англо-ирландскому баронету сэру Роджеру Палмеру, другой аккуратно приподнял полы его пальто, а третий незаметно вытащил из кармана кошелек. Так профессиональные карманники обычно и работают — втроем или вчетвером, прикрывая и страхуя друг друга. Многие из них, овладевая искусством «ныряния», или «погружения» (в чужие карманы), с детства, достигли в своем деле настоящего мастерства. Одному из этой троицы удалось ускользнуть, однако же две недели спустя Уичер обнаружил его в другом конце города и приволок в полицию, заявив, что этот малый еще более усугубил свою вину, попытавшись подкупить офицера полиции.
Те же архивы свидетельствуют, что тогда же, в апреле, Уичер, вновь работая инкогнито, принял участие в поисках Дэниела Гуда — кучера из лондонского пригорода Патни, убившего, а затем расчленившего тело своей любовницы. Уичер и его напарник из Холборна, сержант Стефен Торнтон, установили наблюдение за домом в Спиталфилдсе, на востоке Лондона, где жила приятельница Гуда. Впоследствии Диккенс описал Торнтона, бывшего одиннадцатью годами старше Уичера, следующим образом: «Это был краснощекий мужчина с высоким загорелым лбом… он сделался известен своими индуктивными способностями, позволявшими ему, путем исследования деталей и последовательного продвижения шаг за шагом, в конце концов положить руку на плечо подозреваемого».[13] Дэниела Гуда взяли в Кенте, хотя это была скорее удача, нежели результат умелых действий полиции.
В июне 1842 года руководство полиции обратилось в министерство внутренних дел с докладной запиской, содержащей предложение о формировании небольшого подразделения детективов. Мотивировалось это необходимостью иметь в своем распоряжении элитное соединение, специализирующееся на поимке убийц вроде Гуда и расследовании иных серьезных преступлений, совершаемых в самых разных районах города. Если этим полицейским будет разрешено ходить в штатском, эффективность их деятельности только повысится. Министерство одобрило эту идею, и вот уже в августе того же года Уичер, Торнтон и еще шестеро полицейских, зачисленных в отряд, официально оставили свои участки вместе с форменной одеждой и сделались столь же невидимы и вездесущи, как разыскиваемые ими преступники. Джек Уичер и Чарлз Гофф из управления Л (округ Ламберт) были самыми младшими, но уже через несколько месяцев получили сержантские звания. При этом Уичеру не хватало месяца до пятилетнего стажа работы констеблем, то есть минимального срока, необходимого для повышения. Таким образом, сержантов-детективов стало шестеро, и работали они под началом двух инспекторов. Жалованье Уичера было увеличено вдвое — теперь он получал семьдесят три фунта в год, что на десять фунтов превышало обычный сержантский оклад. Как и прежде, к его заработку добавлялись разного рода бонусы.
«Недавно среди полицейских был произведен отбор наиболее компетентных работников для формирования подразделения, ставшего известным как „служба полицейских детективов“, — сообщал в 1843 году „Чеймберс Эдинбург джорнэл“. — Иногда полицейские-детективы облачаются в штатское». В публике сохранялась настороженность — в передовой статье одного из номеров «Таймс» за 1845 год говорилось об опасностях, коими чревато создание службы детективов, ведь «в самой идее шпионажа есть и всегда будет что-то отталкивающее».
Штаб-квартира детективов располагалась там же, в Большом Скотленд-Ярде, рядом с Трафальгарской площадью. Формально детективы входили в состав подразделения А (Уайтхолл), и на служебном жетоне Уичера значилось «А27». Работа его теперь заключалась в том, чтобы растворяться в толпе, не привлекая к себе внимания, проникать в «малины» (бары, где собирался преступный мир) и выслеживать воров. Действия детективов ничто не ограничивало. В то время как обычный полицейский кружил по своему участку как стрелка компаса, каждый час появляясь на одном и том же месте, детектив передвигался в любом направлении по своему усмотрению. Преступный мир Лондона дал Уичеру кличку Джек, что лишний раз подчеркивало его безликость.[14]
Первое английское литературное произведение в жанре детектива вышло из-под пера журналиста Уильяма Рассела, работавшего под псевдонимом Уотерс, и было опубликовано в июле 1849 года на страницах все того же «Чеймберс Эдинбург джорнэл», а уже в следующем году ему вознес хвалу сам Чарлз Диккенс, написавший по этому поводу целый цикл журнальных статей.[15]«Все они, — говорилось в одной из них, — чрезвычайно респектабельные на вид, отменно воспитанные люди, отличающиеся к тому же незаурядными способностями; в манерах их не наблюдается ни малейшей расслабленности; они отличаются острым взглядом и быстрой реакцией, а судя по их лицам, можно достаточно уверенно заключить, что они постоянно сосредоточены на решении той или иной проблемы. Эти люди чрезвычайно наблюдательны, всегда прямо глядят на того, с кем разговаривают». Собрат Диккенса по журналистике Джордж Огастес Сала находил подобный энтузиазм преувеличенным. У него вызывала неприятие «странная, нездоровая, можно сказать, склонность [Диккенса] к дружескому общению с полицейскими… Впечатление такое, что он пребывает едва ли не в кругу своих и всегда готов беседовать с ними.» Что ж, детективы, подобно Диккенсу, вышли из рабочих низов, поднялись по социальной лестнице и теперь испытывали необыкновенное возбуждение от причастности к ритму городской жизни. Джек Беннет отмечает в своей пародии на мемуары «Том Фокс, или Откровения детектива» (1860), что детектив имеет более высокий статус, чем обыкновенный «коп», так как он лучше образован и «гораздо более интеллектуально развит». Детектив погружался в тайны и высшего общества, и городского дна и, имея столь широкий опыт общения, вырабатывал методы работы прямо на ходу, применительно к обстоятельствам.
Иногда эти методы вызывали неудовольствие. В 1851 году Уичер, поймавший на Молле двух грабителей банков, не избежал обвинений в «шпионстве» и провокациях. Дело в том, что, пересекая в мае того года Трафальгарскую площадь, Уичер заметил «старого знакомца», некогда осужденного на каторжные работы в Австралии, а теперь, видимо, вернувшегося благодаря досрочному освобождению в Лондон. Вместе с другим уголовником он сидел на скамейке прямо напротив Вестминстерского банка. На протяжении последующих нескольких недель Уичер совместно с напарником наблюдали, как эта парочка обхаживает банк. Это продолжалось до 28 июня, когда полицейские схватили преступников на месте преступления, прямо с добычей. «Таймс» осуждала детективов за то, что они дали преступлению свершиться, вместо того чтобы пресечь его в зародыше. «Всеобщее восхищение мастерством и хитроумием детективов, по-видимому, и объясняет то, что они не столько предотвращают преступления, сколько распутывают их», — сетовал один журналист, намекая на то, что репутацию детективам создали люди уровня Чарлза Диккенса.[16]
Диккенс запечатлел своих новых героев в образе инспектора Баккета из романа «Холодный дом» (1853) — бесспорного в то время лидера среди литературных персонажей подобного типа. Мистер Баккет — «весьма примечательный незнакомец, окутанный атмосферой таинственного величия». Первый детектив, появившийся в английском романе, Баккет сделался мифологической фигурой своей эпохи. Он возникал то здесь, то там и перемещался с места на место подобно призраку или облаку: «Фактора времени или места для мистера Баккета не существует», он наделен способностью «приспосабливаться ко всему». В какой-то степени герой Диккенса напоминает детектива-любителя, фокусника-интеллектуала Огюста Дюпена, созданного воображением Эдгара Аллана По двенадцатью годами ранее.
Прототипом Баккета был, вполне вероятно, Чарли Филд, приятель и начальник Уичера. С литературным двойником его объединяли толстый указательный палец, простецкий юмор, умение ценить «красоту» своей работы и счастливая уверенность в собственных силах. Впрочем, отчасти Баккет напоминает и самого Уичера. Подобно Уичеру, каким тот возник в вестибюле самой лучшей гостиницы Оксфорда, Баккет «на первый взгляд не отличался чем-то особенным», кроме, пожалуй, своей способности появляться словно из ниоткуда, «на манер привидения»… Это был «крепко сложенный, немолодой, степенный на вид мужчина с пронзительным взглядом, одетый в черный костюм», внимательно приглядывающийся и прислушивающийся к тому, что происходит вокруг, и сохраняющий при этом выражение лица «столь же неизменное, как траурный перстень у него на мизинце».[17]
На протяжении сороковых — пятидесятых годов Уичер работал, целиком полагаясь на ловкость рук и живость ума. Он имел дело с преступниками, постоянно менявшими обличье и умевшими чудесным образом растворяться во тьме улиц и переулков. Он шел по следу мужчин и женщин, подделывавших банкноты, подписи на чеках, платежные поручения, менявших имена с такой же легкостью, как змея сбрасывает кожу. Он специализировался на аферистах — жуликах и карманниках, одевавшихся на манер благородных господ. В таком обличье они ловко и незаметно надрезали ножом карманы или действовали с помощью булавки от галстука, завернутой в надушенный платок. Они шныряли по театрам, торговым центрам, развлекательным учреждениям вроде Музея восковых фигур мадам Тюссо или Лондонского зоопарка. Самый большой урожай они собирали во время массовых мероприятий — скачек, сельскохозяйственных выставок, политических митингов, — прибывая на них вагонами первого класса и сливаясь с теми, кого намеревались обчистить.
В 1850 году Чарли Филд рассказал Диккенсу следующую историю, происшедшую во время Эпсомского дерби. Как-то Филд, Уичер и один их общий приятель по имени Татт сидели в баре. И вот, когда они пили уже по третьему или четвертому бокалу шерри, туда ворвались и накинулись на них четверо аферистов с криками «Ну держитесь, сейчас мы зададим вам жару». Однако, встретив достойный отпор, эти молодчики бросились к выходу. Но Уичер перехватил их у двери. Все четверо были препровождены в местный полицейский участок. Тут мистер Татт обнаружил, что во время потасовки пропала его бриллиантовая булавка от воротника рубашки, но ни у кого из аферистов ее не обнаружили. Филд был чрезвычайно расстроен этим, но тут Уичер раскрыл ладонь, и все увидели булавку. «О Господи! — воскликнул Филд. — Как тебе это удалось?» «Объясню, — ответил Уичер. — Я видел, кто ее взял, и когда все мы катались по полу, слегка прикоснулся к его руке, как это у них принято. Он решил, что это его сообщник, и отдал булавку!»
«Быть может, то был один из самых красивых фокусов, — закончил Филд. — Красота. Кра-со-та. Блестящая идея!» Артистизм преступника — дело знакомое; наиболее ярко об этом пишет в своем ироническом эссе «О преступлении как виде искусства» (1827) Томас де Квинси. Но артистизм слуг закона — это нечто новое. В начале XIX века героем криминального повествования был смелый, лихой проходимец, и вот его потеснил детектив-аналитик.
К 1856 году Уичер, считавшийся любимчиком комиссара Мейна, уже был инспектором с окладом, превышающим сто фунтов. Чарли Филд ушел с государственной службы, сменив ее на частный сыск, и во главе управления теперь стояли Уичер и Торнтон. В 1858 году Уичер поймал одного из слуг графа Саффолка, укравшего «Деву с младенцем» Леонардо да Винчи. В том же году он принял участие в поимке итальянских заговорщиков, покушавшихся на жизнь Наполеона III, — дело происходило в Париже, но разработкой замысла и изготовлением бомбы преступники занимались в Лондоне. Уичер также возглавил возобновленное расследование по делу об убийстве констебля на кукурузном поле в Эссексе. В 1859 году Уичер выяснял, действительно ли преподобный Джеймс Бонуэлл, настоятель одной из церквей восточного Лондона, и его любовница, дочь священника, убили своего незаконнорожденного сына. Бонуэлл заплатил гробовщику восемнадцать шиллингов, чтобы тот тайно похоронил младенца в чужом гробу. Обвинение в убийстве суд снял, но вынес паре порицание, а в июле 1860 года епископ Лондонский вновь возбудил против Бонуэлла дело, на сей раз по обвинению в недостойном поведении.[18]
За пару месяцев до командировки в дом на Роуд-Хилл Уичер настиг в Париже, невдалеке от Пале-Рояль, похитителей драгоценностей на сумму в двенадцать тысяч фунтов стерлингов. Эмили Лоренс и Джеймс Пирс под видом светской пары орудовали в ювелирных лавках: Лоренс «смахивала» с прилавка медальоны и браслеты в муфту (у воровок всегда было куда сложить свою добычу — шали, меховые шарфы, муфты, огромные карманы в кринолинах). В апреле, сопровождаемый своими лучшими напарниками, сержантами Уильямсоном (Долли) и Тэннером (Дикома), Уичер вошел в дом в Стоу-Ньюингтоне, на северной окраине Лондона, где проживали грабители. Предъявляя Эмили Лоренс обвинение, он заметил, что та прячет что-то в ладонях, и спросил, что это. Началась потасовка, в ходе которой ее приятель пригрозил размозжить Уичеру голову кочергой. У Лоренс меж тем выпали на пол три бриллиантовых кольца.
Из кратких описаний, встречающихся в мемуарах, а также в газетных и журнальных публикациях, следует, что Джек Уичер был добродушным, немногословным, с юмором относящимся к своей профессии человеком. «Отличный офицер, — отзывался о нем детектив-сослуживец, — спокойный, проницательный, деловитый, никогда и никуда не торопился; как правило, удачливый и всегда был готов взяться за любое дело».[19] Отличала его своеобразная манера выражаться. Если Уичер был в чем-нибудь уверен, то «не менее, чем в том, [что он] жив». «Этого довольно», — говорил он, находя ключ к загадке. Он был благосклонен к противникам — мог выпить с вором по рюмке перед тем, как предъявить обвинение и надеть наручники: «Я готов обращаться с тобой как с человеком, если и ты ко мне отнесешься как к человеку».[20] Не прочь был и разыграть приятеля. Однажды в Эскоте — дело происходило в конце пятидесятых годов — вместе с несколькими полицейскими он пробрался ночью к знакомому инспектору, чрезвычайно гордившемуся своими бакенбардами, и отрезал с левой щеки изрядный клок густых черных волос.
При этом Уичер был человеком замкнутым, не любящим распространяться о своем прошлом. А в нем была по крайней мере одна печальная история. 15 апреля 1838 года женщина, называвшая себя Элизабет Уичер, ранее Элизабет Грин, а в девичестве Элизабет Хардинг, родила в Ламбете мальчика, при крещении названного Джонатаном Уичером. В свидетельстве о рождении она указала имя отца — Джонатан Уичер, профессию — полицейский, чин — констебль, домашний адрес: Про-виденс-роу, 4. Элизабет была на четвертой неделе беременности, когда Джек Уичер подал заявление о зачислении на службу в полицию, — не исключено, подтолкнула его к этому именно перспектива отцовства.
Три года спустя Уичер поселился в Холборне, на Хантер-плейс, как холостяк. Ни сын его, ни мать ребенка не фигурируют ни в актах о смерти, ни в переписях населения, проводившихся между 1838 и 1851 годами. И если бы не свидетельство о рождении, нет никаких оснований считать, что у Джека Уичера были дети.
Содержание глав 5–14 базируется на следующих основных источниках: Архив лондонской полиции, 3-61 (отчеты Уичера по расследованию убийства, отчеты Уичера и Уильямсона по командировочным расходам, письма граждан, резолюции комиссара лондонской полиции), а также: Дж. У. Степлтон, «Знаменитое преступление 1860 года» (1861) и публикации газет «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», «Бат кроникл», «Бат экспресс», «Бристол дейли пост», «Фрум таймс», «Троубридж энд Норт-Уилтс эдвертайзер», «Дейли телеграф», «Таймс».
Глава 5 ВСЕ НИТИ КАЖУТСЯ ПОРВАННЫМИ
16 июля
Утром 16 июля, в понедельник, суперинтендант Фоли повез Уичера на Роуд-Хилл той же дорогой, какой возвращался в деревню Сэмюел Кент, узнав, что его сын мертв. Было сухо, так как после убийства Сэвила не выпало еще ни одного дождливого дня. По мере того как полицейские удалялись от покрытого сажей города, ровная поверхность постепенно уступала место холмам, лесам и пастбищам. На полях паслись козы, с деревьев доносился гомон галок, сорок, дроздов и ворон. Птицы поменьше гнездились в траве и утеснике — пеночки оливковой окраски, коростели с каштановыми крыльями. Ну а ласточки и стрижи парили высоко в небе.[21]
Деревня стояла прямо на границе двух графств: дом Кентов и церковь находились в Уилтшире, а местные жители обитали в основном ниже, в Сомерсетшире. В этой части Англии люди обращались друг к другу на ты, и речь их отличалась резкими гортанными звуками — не «фермер», а «вермер», не «сын», а «зын», не «тыква», а «дыква». Да и словарь был вполне своеобразен: о человеке, лицо которого, как у Уичера, было покрыто оспинами, говорили «меченый»; «позолотить» значило вывалять в грязи.[22]
Деревня имела весьма живописный вид, дома были построены из известняка или из плоских плит песчаника, с квадратными окнами посредине. Имелись тут по меньшей мере четыре паба («Красный лев», «У Джорджа», «Скрещенные ключи», «Колокол»), пивоварня, две англиканские церкви, баптистская часовня, школы, почта; жили в деревне пекари, кондитеры, мясники, кузнецы, портные, сапожники, шорники… В пяти милях на северо-восток находился Троубридж, на том же расстоянии, только на юго-западе, — Фрум с его шерстопрядильными фабриками. Некоторые в деревне держали в домах ручные ткацкие станки, но большинство работало либо на полях, либо на близлежащих фабриках. Фабрика «Шофорд» с ее водяными колесами, приводившимися в движение рекой Фрум, специализировалась на покраске шерсти: для темно-зеленого цвета использовалась бирючина, для коричневого — тис, для индиго — вайда. Невдалеке от моста стояла фабрика, на которой шерсть отбивали, до тех пор пока отдельные нити не сольются в плотную, тугую материю.[23]
В деревне горячо обсуждали гибель Сэвила. Его убийство, писал Джозеф Степлтон в своей книге, посвященной этому делу, возбудило настроения, которые было трудно проконтролировать или подавить. Характерен в этом отношении комментарий газеты «Бат кроникл»:
В деревне возникло сильнейшее предубеждение против семьи мистера Кента, а равно против него самого — фактически никто из них не мог пройти по улице, не подвергаясь оскорблениям. О невинном же ребенке, несчастной жертве жестокого преступления, говорили с большой теплотой и любовью. В этих пересудах неизменно вставал образ здорового симпатичного мальчугана с веселым лицом и кудрявыми, соломенного цвета, волосами. Женщины со слезами на глазах вспоминали его маленькие причуды и невинный детский лепет.
В общем, деревня создала из Сэвила маленького херувима, а из его родичей — извергов.
Впрочем, Сэмюела Кента в деревне и без того недолюбливали. Отчасти это было обусловлено тем, что он работал инспектором, то есть должен был следить за исполнением Фабричного акта 1833 года, принятого главным образом для защиты детей от производственных травм и чрезмерных нагрузок. У владельцев фабрик, да и у рабочих, этот акт не вызывал ни малейшего энтузиазма. Фабричные ревизоры, подобно полицейским инспекторам, выглядели в глазах людей шпионами. «Фрум таймс» сообщает, что, когда Сэмюел переехал в дом на Роуд-Хилл, местные ворчали: «Нам он здесь не нужен; нам нужен тот, кто будет кормить, а не отнимать хлеб». Совсем недавно Кент добился того, чтобы с одной из фабрик в Троубридже удалили двадцать мальчиков и девочек до тринадцати лет, лишив таким образом их семьи заработка, составлявшего три-четыре шиллинга в неделю.[24]
Сэмюел не предпринимал ничего со своей стороны для улучшения отношений с соседями. По словам Степлтона, он воздвиг «непроницаемую стену» между собой и обитателями домишек, лепившихся по обе стороны дороги, ведущей к его дому. Он затеял тяжбу против одного из членов семейства Натта за то, что тот срывал яблоки в его саду, расставил вдоль протекавшей по его владениям реки, где местные привыкли ловить форель, знаки «Частные владения». Деревенские мстили слугам Сэмюела и членам его семьи. «Стоило его детям выйти прогуляться или отправиться в церковь, — пишет Степлтон, — как сверстники из деревни начинали всячески обзывать их». После смерти сына Сэмюел не раз высказывал подозрение, что к убийству причастен кто-то из местных.
В одиннадцать утра Уичер и Фоли присоединились к закрытым слушаниям в Темперенс-Холле.[25] Уичер внимательно наблюдал, как судьи в очередной раз допрашивают Сэмюела Кента, преподобного Пикока и, наконец, главную, в глазах шефа местной полиции, подозреваемую — Элизабет Гаф. В час заседание закончилось. Газетчики, толпившиеся снаружи, видели, как она покидает здание. «Судя по виду, за время пребывания под стражей она много перенесла, — писал репортер „Бат кроникл“. — Лицо ее, прежде открытое и неизменно оживленное, теперь несло следы отрешенности и подавленности; всех нас поразило, как сильно она переменилась за столь краткое, по существу, пребывание в заключении». Няня заявила репортерам, что возвращается в дом, чтобы оказать помощь миссис Кент, — до родов оставалось всего несколько недель.
Затем газетчиков пригласили в зал, где к ним обратился один из судей. Он объявил, что отныне расследование передается в руки детектива-инспектора Джонатана Уичера, а также что тому, кто предоставит информацию, способствующую поимке убийцы Сэвила, будет выплачена премия в размере двухсот фунтов стерлингов: сто — от правительства, сто — от Сэмюела Кента. Если убийцу выдаст сообщник — или сообщница, — он (она) будет освобожден от уголовной ответственности. Слушания возобновятся в пятницу.
Таким образом, Уичер приступал к делу через две недели после совершения убийства. Тело жертвы было захоронено, показания очевидцев даны, и не единожды, свидетельства собраны либо уничтожены. Ему предстояло вскрывать затянувшиеся раны, поднимать опущенный занавес. Суперинтенданты Фоли и Вулф из уилтширского управления полиции проводили его на Роуд-Хилл.
Дом нависал сверху над деревней глыбой кремового бат-ского известняка, отделенный от дороги деревьями и стенами. Выстроил его примерно в 1800 году торговец одеждой, некто Томас Ледьярд, владевший в ту пору водяной мельницей. Это был один из самых красивых домов в округе. Под вязами и тисом вилась подъездная дорога, упирающаяся в узкое крыльцо. Оно выступало наружу, как часовая будка, перед ровным фронтоном здания. Скрытый в кустарнике, справа от лужайки перед домом, находился дворовый туалет, в котором было обнаружено тело Сэвила.
Пройдя от парадного входа в дом, через просторный холл попадаешь к подножию главной лестницы. Справа от холла находится столовая, элегантная прямоугольная комната, тянущаяся вдоль стены дома, слева — уютный квадрат библиотеки, высокие сводчатые окна которой выходят на лужайку. В глубине, примыкая к библиотеке, располагается гостиная, ограниченная полумесяцем эркерных окон, выходящих в сад за домом. Одно из них и обнаружила открытым Сара Кокс 30 июня.
Ступени, покрытые толстым ковром, ведут на первый и второй этажи. Между ними — лестничные площадки с видом на владения, находящиеся за домами. А это — клумба, огород, фруктовый сад, теплица; далее коровник, овчарня; наконец, ряд деревьев по берегу реки Фрум.
На первом этаже, позади хозяйской спальни и детской, — три гостевые комнаты и ватерклозет; на верхнем, наряду с заселенными комнатами, еще два гостевых помещения и лестница, ведущая на чердак. Пол здесь темнее, чем внизу, потолки — ниже, окна меньше. Окна большинства спален в доме выходят на юг, на подъездную дорогу и лужайку, за которой начинается деревня; лишь комната Уильяма смотрит окнами на восток, где теснятся скромные постройки — жилища слуг, и возвышается пара готических башенок и шпили церкви Иисуса Христа.
Сразу за комнатой Уильяма круто идет вниз на второй и первый этажи черная лестница. Она упирается в длинный коридор, по обе стороны которого находятся судомойня, кухня, прачечная и кладовка. Оканчивается коридор ступеньками, ведущими в погреб. Там же была дверь, открывающаяся на замощенный двор, окруженный конюшней, каретным сараем и надворными постройками. Туалет оставался справа — туда можно пройти через точильню. По правой стороне, там, где теснились домики для слуг, проходила стена высотой десять футов с воротами, через которые осуществлялось снабжение.
Степлтон оставил весьма красочное описание этих домишек, служивших жилищем для Наттов, Олли и Холкомов: «В глаза сразу бросается пивная, сбоку к ней лепится халупа, развалиться которой не дают лишь довольно сомнительные на вид деревянные подпорки, врытые в землю. Рамы либо повылетали, либо поддерживаются покосившимися стенами; все это когда-то служило жильем, но потом пришло в запустение. Рядом теснятся еще несколько хижин, иные из них выходят окнами на владения мистера Кента. Настоящая „голубятня“ — сколок с городского района Сент-Джайлз, перенесенный в сельскую местность. Его вполне можно принять за прибежище бездомных либо воровской притон».
После убийства дом превратился в ребус, в загадку в трех измерениях, эзотерическим кодом к которой служили поэтажный план и обстановка. Уичеру как раз и предстояло расшифровать этот дом, ставший местом преступления, используя его план как путеводитель по лабиринту семейных тайн.
Стены и ограда, которыми Сэмюел окружил свои владения, свидетельствовали о его склонности к уединению. При этом в доме самым причудливым образом смешивались взрослые и дети, хозяева и слуги. Вообще-то преуспевающие англичане средневикторианской эпохи держали определенную дистанцию между слугами и семьей, а детей размещали отдельно от взрослых, но здесь няня жила в пяти футах от хозяйской спальни, а пятилетний ребенок жил с родителями. Другие слуги и приемные дети теснились на втором этаже, как мебель на чердаке. Правда, это свидетельствовало скорее о пренебрежительном отношении к детям мистера Кента от первого брака.[26]
В своих отчетах для Скотленд-Ярда Уичер отмечал, что единственными членами семейства, жившими в отдельных комнатах, были Констанс и Уильям.[27] Это не указывало на особое положение, просто ни у той, ни у другого не было родственника того же пола и возраста, с кем они могли бы делить жилье. Фактически с точки зрения следствия это означало то, что и Констанс, и Уильям могли выскользнуть из дому ночью незамеченными.
В детской Уичеру показали, как с кровати Сэвила в ночь убийства могло быть стянуто одеяло. Простыня и покрывало были аккуратно уложены в изножье кровати — по словам детектива, «трудно предположить, что это было сделано мужской рукой». Далее, при содействии Фоли и Вулфа он провел эксперимент, пытаясь установить, возможно ли взять из кровати трехлетнего ребенка и при этом не разбудить никого в комнате. В газетах ничего не говорится о том, участвовал ли в эксперименте трехлетний ребенок, а если участвовал, то как его удалось заставить заснуть, да не однажды, ибо, по утверждению тех же газет, опыт проводился три раза.
Окно в гостиной, как убедился Уичер, можно открыть только изнутри. «Это окно высотою около десяти футов, — докладывал он сэру Ричарду Мейну, — отделено от пола всего несколькими дюймами. Оно выходит на лужайку и открывается посредством подъема нижней рамы. Ставни запираются изнутри при помощи перекладины, так что снаружи их открыть невозможно». Но даже если бы кто-то и проник в комнату через окно, продолжает Уичер, дальше пройти невозможно, ибо дверь в гостиную была заперта снаружи. «Следовательно, — подводил он итог, — представляется бесспорным, что через окно в комнату никто не входил». Уичер также уверен, что никто через него и не выходил наружу, ибо Сара Кокс определенно утверждает, что ставни в ту ночь были закрыты, хотя и не до конца. Это укрепило детектива в убеждении, что мальчика убил кто-то из домашних.
Единственным указанием на то, что это все же мог быть кто-то посторонний, является клочок газеты с засохшей кровью, обнаруженный рядом с туалетом. При этом Уичеру удалось установить, что оторван он был не от «Морнинг стар», как считали местные сыщики, а от «Таймс» — газеты, ежедневно доставляемой Сэмюелу Кенту.
В своих донесениях Уичер отмечал, что, с его точки зрения, убийца вынес мальчика не через окно гостиной, а избрал совершенно иной путь: спустился по черной лестнице, миновал кухню, вышел во двор и далее, через калитку, проследовал к туалету в кустах. Но если это было действительно так, то убийце пришлось отпереть замок, откинуть цепочку и снять засов с кухонной двери, проделать ту же операцию с калиткой, затем вновь запереть обе двери на замок, для чего следовало вернуться в дом. Вполне возможно, что это стоило затраченных усилий. Кухонная дверь, указывает Уичер, находится всего в двадцати шагах, то есть в двадцати ярдах, от туалета, в то время как от окна в гостиную он отделен семьюдесятью пятью шагами. К тому же путь из гостиной в туалет идет мимо фронтона дома, непосредственно под окнами спален других членов семьи и слуг. Любой из живущих в доме не может не знать, что идти через кухню и ближе, и безопаснее. По словам Уичера, это «кратчайший и самый незаметный путь». Правда, путь лежит мимо собачьей конуры, но ведь пес на своего не залает. Да и вообще, пишет Уичер, «собака абсолютно мирная». Даже когда к ней при полном свете дня подошел детектив — абсолютно незнакомый человек, — она не только не попыталась его укусить, но даже не тявкнула.[28]
«Это окончательно убеждает меня в том, — подводит итог Уичер, — что оконные ставни были специально открыты одним из обитателей дома, чтобы натолкнуть следствие на мысль, будто ребенка похитили».
Такого рода уловки, когда полицию пытались пустить по ложному следу, были Уичеру не внове. Еще в 1850 году он рассказывал одному журналисту о методах «Танцевальной школы» лондонских домушников. Они выбирали какой-нибудь дом, наблюдали за ним целыми днями, устанавливали время, когда его обитатели садятся за обед. Это идеальное время для грабежа, поскольку за столом собираются хозяева, а слуги заняты подачей блюд. В намеченный час один из участников шайки бесшумно (как танцор) поднимался на чердак, проникал оттуда в дом и очищал верхние этажи от драгоценностей. Перед тем как выбраться на крышу, он «выставлял на продажу» (подставлял) какую-нибудь из служанок, спрятав в ее кровати колечко или серьги. Подобно окну в доме на Роуд-Хилл, это был ложный след, призванный сбить следствие с толку.
Вполне возможно, развивал свои рассуждения Уичер, убийца пытался запутать полицию не только по поводу того как, но и куда Сэвила унесли из дому. Открытое окно выходило в сад и на поля за домом. Убийца мог рассчитывать на то, что полиция не обнаружит тело в туалете, находящемся в противоположной части владений. Уичер склонялся к версии «изначально убийца намеревался выбросить тело в туалет, предполагая, что его засосет в зловонную жижу. Выгребная яма, — продолжал он свой отчет, — большая, около десяти футов в глубину и семь в ширину, и в то время вода и нечистоты поднялись в ней на несколько футов». По мнению Уичера, убийца собирался задушить и утопить ребенка в экскрементах, где тело исчезнет навсегда. И если бы этот план сработал, не осталось бы никаких следов крови, позволяющих определить место убийства и навести на след преступника. Но скошенный щиток, установленный недавно в туалете по указанию Сэмюела Кента, сократил расстояние между стульчаком и стеной всего до нескольких дюймов и не позволил телу провалиться вниз. Таким образом, заключил Уичер, «первоначальный план убийцы расстроился, и ему пришлось взяться за нож», прихваченный на кухне. Убийца перерезал ребенку горло и на всякий случай нанес еще и удар в грудь. Для этой цели, заявил Уичер корреспонденту «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», подошли бы по меньшей мере три из имевшихся на кухне ножей.
В тот день Уичер занимался спальней Констанс. В одном из ящиков комода ему попался список одежды, принесенной девушкой из школы. Там значились три ночные рубашки. О том, что одна из них исчезла, ему уже было известно. Он послал за Констанс.
— Тебе знаком этот список?
— Да.
— Чей это почерк?
— Мой.
— Здесь помечены три рубашки, — ткнул он пальцем в лист бумаги. — Где они?
— Сейчас у меня только две, третья потерялась в стирке через неделю после убийства.
Эти две она Уичеру показала — обыкновенные, из довольно грубой ткани. Уичер заметил, что на кровати лежит еще одна ночная рубашка и ночной колпак.
— А это чье?
— Моей сестры.
Поскольку миссис Олли все еще отказывалась принимать в стирку вещи из дома Кентов — а две ночные рубашки Констанс явно в ней нуждались, — ей пришлось одолжить на субботу у Мэри-Энн или Элизабет чистую. Уичер заявил Констанс, что ему придется взять список и оставшуюся ночную одежду. Пропавшая рубашка была первой ниточкой.
Слово «нить» раньше писалось немного иначе и означало клубок или пряжу. Его фигуральное значение — «то, что указывает путь» — связано с греческим мифом о Тезее, следующем за нитью Ариадны в поисках выхода из лабиринта Минотавра. Писатели середины XIX века, используя это слово, все еще держали в памяти древнюю легенду. «В раскрытии тайны всегда находишь удовольствие, всегда приятно ухватиться за паутинно-тонкую нить, способную привести к точному ответу», — писала в 1848 году Элизабет Гаскелл. «Казалось, я ухватился за конец нужной нити», — говорит герой-повествователь романа Эндрю Форрестера «Женщина-детектив» (1854). Уильям Уиллз, заместитель Диккенса в одном из редактировавшихся им журналов, отдавая должное блестящему уму Уичера, замечает, что тому удается добиться своего, даже когда «все нити кажутся порванными». «По-моему, я ухватился за нить, — говорит герой-повествователь „Женщины в белом“. — Как, выходит, мало знал я об ответвлениях лабиринта, которые все еще могут увести меня бог знает куда!» Сюжет — узел, а разрешается повествование «denouement» — развязкой, развязыванием узла.
В ту пору, как, впрочем, и сейчас, нить была буквально соткана из материи, преступников идентифицировали по элементам ткани. Один такой случай произошел совсем недалеко от дома Джека Уичера.
В 1837 году на Уиндем-роуд, той самой улице в Камбервелле, на которой жил Уичер, выследили одного печально знаменитого убийцу. За год до этого, в декабре 1836 года, у себя в квартире краснодеревщик Джеймс Гринэкр, владелец восьми домов на этой улице, убил и расчленил тело своей невесты Ханны Браун. Голову он положил в мешок и отправился в омнибусе в Степни, на восток Лондона. Добравшись туда, он швырнул свою страшную ношу в канал. Тело он выбросил на Эджвер-роуд, в северо-западной части города, а ноги — в канаву, в Камбервелле. В то время чемпионом сыска в столичной полиции считался констебль Пеглер из управления С (Хемпстед) — он и нашел тело Ханны Браун, а затем выявил преступника по обрывку ткани, из которой был сшит мешок; профессию же его определил таким же образом — по куску хлопчатобумажной ткани, совпадавшей с заплатой на платьице дочери его приятельницы. Раскрытие этого убийства живо обсуждалось в прессе. Гринэкр был повешен в мае 1837 года.[29] Уичер поступил на службу в полицию четыре месяца спустя.
В 1849 году лондонские детективы, в том числе Уичер, Торнтон и Филд, выследили некую Марию Мэннинг по окровавленному платью, засунутому ею в ячейку вокзальной камеры хранения. На пару с мужем Мэннинг убила своего прежнего любовника и закопала труп под полом в кухне. Детективы шли по следам убийц, изучая телеграфные сообщения, расписания поездов и пароходов.[30] Уичер прошелся по гостиницам и железнодорожным вокзалам в Париже, затем обыскал суда, отходящие из Саутхемптона и Плимута. Собирая улики против убийц, он использовал, в частности, свой опыт выявления путей прохождения похищенных банкнот. В конце концов Мэннинг арестовали в Эдинбурге, а ее мужа на острове Джерси. Каждый из них обвинял друг друга, но к смертной казни приговорили обоих. Сама казнь привлекла десятки тысяч зевак, а «обличительные» четверостишия разошлись тиражом в два с половиной миллиона экземпляров. Тогда же была отпечатана целая серия гравюр на дереве, изображавших героические подвиги сыщиков, а комиссар полиции премировал их за «выдающиеся заслуги, мастерство и целеустремленность», проявленные в расследовании этого дела. Уичер и Торнтон получили по десять фунтов, а Филд, как инспектор, — пятнадцать.
На следующий год Уичер поведал Уильяму Уиллзу более заурядную историю о том, как обнаруженное платье вывело следствие на преступника. Некоего сержанта-детектива (скорее всего это был сам Уичер) вызвали в дорогую лондонскую гостиницу, где накануне вечером обокрали одного из постояльцев. На ковре в номере, где стоял обчищенный дорожный сундук гостя, Уичер заметил пуговицу. Целый день он провел в гостинице, внимательно вглядываясь в одежду постояльцев и служащих, рискуя, как он выразился, «прослыть за придирчивого знатока одежды». В конце концов он заметил мужчину, у которого на рубашке болталась нитка и отсутствовала одна пуговица, а те, что были, соответствовали найденной Уичером.
В деле об убийстве в доме на Роуд-Хилл тоже фигурировали ткани. Преступление было совершено в районе, где шьют одежду и где много овец и ткацких фабрик. С самого начала в центре расследования оказалось грязное белье обитателей дома, их прачка стала главным свидетелем, а три «нити»: фланелька, одеяло и пропавшая ночная рубашка — наиболее существенными деталями дела. Уичер вцепился в последнюю — примерно так же, как герой-повествователь новеллы Уильяма Уилки Коллинза «Дневник Анны Родуэй» (1856) вцепился в порванный галстук: «Меня охватило что-то вроде лихорадки: неудержимое желание двигаться от этого первого открытия дальше, узнавать больше — с каким бы риском это ни было связано. Галстук и впрямь сделался… нитью, которую я твердо решил тянуть».
Нить, что вела Тезея из лабиринта, в точности соответствовала и еще одному принципу Уичера: прогресс в работе детектива означает возвращение к тому, что было. Чтобы избежать опасностей и многочисленных ловушек, Тезею то и дело приходилось повторять пройденный путь, возвращаться к началу. Ну а раскрытие преступления — это одновременно и начало, и конец истории.
Разговоры с Кентами и их знакомыми позволили Уичеру проследить историю семьи. Оставалось много пробелов, противоречий, намеков на очередные загадки, и все же ему удалось составить цельную картину, позволяющую, по его мнению, найти объяснение убийству. Много о нем написано в книге Джозефа Степлтона, опубликованной в 1861 году. При всей откровенной пристрастности врача к Сэмюелу Кенту, жесткий рассказ отличается подробностями, бросающими свет на многочисленные кризисные моменты в семейной хронике.
В 1829 году двадцативосьмилетний Сэмюел Кент, сын ковровщика, проживавшего на северо-восточной окраине Лондона, в Клэптоне, женился на двадцатиоднолетней Мэри-Энн Уиндус, дочери преуспевающего каретника из соседнего Стэнфорд-Хилла. Миниатюра, написанная за год до замужества, изображает молодую женщину с вьющимися каштановыми волосами, темными глазами, тонкими поджатыми губами на бледном лице и настороженным взглядом. Ее отец был действительным членом Королевского общества антикваров и специалистом по портлендскому фарфору; его дом был буквально набит картинами и предметами старины.
Молодожены переехали в дом неподалеку от Финсбери-сквер, в самый центр Лондона. Их первый ребенок, Томас, умер в младенчестве от конвульсий, но в том же, 1831 году родилась дочь, Мэри-Энн, а еще через год — Элизабет. Сэмюел был совладельцем фирмы, торговавшей консервированным мясом и овощами, но в 1833 году оставил ее из-за какого-то, так и не выясненного, заболевания. «Здоровье мистера Кента, — пишет Степлтон, — настолько пошатнулось, что он вынужден был отказаться от своей доли в бизнесе». Он отвез семью в Сидмут, что в Девоншире, на морском побережье, занял должность помощника инспектора фабрик на всем западе Англии, где сосредоточились производство и торговля шерстью.
Если верить Сэмюелу, первые признаки нервного расстройства миссис Кент обнаружились в 1836 году, вскоре после рождения сына Эдварда. Она испытывала «слабость и расстройство ума»; помимо того, ее посещали «разнообразные, хотя и не опасные, галлюцинации». Впоследствии Сэмюел приводил и примеры такого рода психических отклонений: однажды его жена потерялась, гуляя с детьми недалеко от дома; в другой раз, это было в воскресенье, когда Сэмюел ушел в церковь, она вырвала из книги несколько страниц и сожгла их; наконец, у нее под кроватью был обнаружен нож. Сэмюел проконсультировался с психиатрами, и некий доктор Блэквелл из Эксетера подтвердил, что миссис Кент страдает слабоумием. Ее физическое состояние тоже оставляло желать лучшего.
Супружеская жизнь тем не менее продолжалась, но дети умирали в младенчестве: Генри Сэвил — в пятнадцать месяцев, Эллен — в три, Джон Сэвил — в пять, Джулия — тоже в пять (Сэвил — иногда с одним «л», иногда с двумя — было девичье имя матери Сэмюела, вышедшей из преуспевающей семьи в Эссексе). Причина смерти всякий раз была одна — атрофия. Все дети были похоронены на местном кладбище.
Констанс Эмили родилась 6 февраля 1844 года. Заботу о новом ребенке Сэмюел возложил на Мэри Дрю Пратт, двадцатитрехлетнюю дочь фермера, год ранее ставшую гувернанткой старших девочек. Это была невысокая, симпатичная, уверенная в себе молодая женщина. Раньше она работала приходящей гувернанткой в семье адвоката, затем у священнослужителя; рекомендовал ее Сэмюелу один местный врач. Мисс Пратт взяла в свои руки воспитание девочки и отдалась заботам о ней с совершенным самозабвением. Под ее присмотром слабая девчушка превратилась в крепкого ухоженного ребенка. За последние десять примерно лет она стала первым ребенком Кентов, родившимся в этот период и выжившим.
Через год, десятого июля 1845 года, у Мэри-Энн Кент родился последний ребенок — Уильям Сэвил. По словам Сэмюела, во время двух последних беременностей ее нервное расстройство стало еще более выраженным. Ведение дома было целиком передано в руки мисс Пратт.
В 1848 году непосредственный начальник Сэмюела, один из четырех главных фабричных инспекторов, настоял на том, чтобы тот сменил место жительства, дабы положить конец распространившимся пересудам о государственном служащем, живущим со слабоумной женой и молодой гувернанткой (такого же рода треугольник возникает в опубликованном годом ранее романе Шарлотты Бронте «Джен Эйр»). Так Кенты переехали из своего пристроившегося к утесу коттеджа с тростниковой крышей и зарешеченными окнами в Уолтон-ин-Гор-дано, небольшую деревушку в Сомерсетшире, где поселились в доме с пышным названием Уолтон-Мэнор. В 1852 году, избегая любопытствующих взглядов соседей, они вновь перебрались, на сей раз в Ист-Кулстон, графство Уилтшир. Тут-то, пятого мая того же года, когда мисс Пратт гостила у своих родителей в Девоншире, Мэри-Энн Кент умерла в возрасте сорока четырех лет от запора кишечника.[31] Похоронили ее на близлежащем кладбище.
В августе 1853 года Сэмюел Кент женился на гувернантке. Церемония бракосочетания прошла в Льюисхэме, на южной границе Лондона. Подружками невесты были три дочери Сэмюела — Мэри-Энн, Элизабет и Констанс. Эдвард Кент, превратившийся ныне в самостоятельного восемнадцатилетнего юношу, служил на торговом флоте и находился в это время в плавании. Узнав по возвращении о женитьбе отца, он был совершенно потрясен и обрушился на него с горькими упреками. Несколько месяцев спустя — шел 1854 год, когда Констанс исполнилось десять, а Уильяму девять лет, — транспортное судно, на котором служил Эдвард, затонуло, направляясь в Балаклаву, и вся команда считалась погибшей. Но по дороге в Бат, куда Кенты поехали, чтобы купить траурные одежды, их нагнал почтальон с письмом от Эдварда: оказывается, он не погиб в кораблекрушении. «Шатаясь, едва не падая в обморок, отец вернулся домой, — пишет Степлтон. — Над сценой, последовавшей за этим, мы опускаем занавес, оставляя читателю возможность самому представить себе бурю чувств, охвативших отца, чье сердце чуть не остановилось от счастья».
В июне того же года страшный шок пережила и вторая жена Сэмюела — в результате преждевременных родов на свет появился мертвый ребенок.
Говорят, новоиспеченная миссис Кент была женщиной своенравной — во всяком случае, порядки в доме она установила строгие. Констанс, в свою очередь, часто капризничала, иногда дерзила, и тогда бывшая гувернантка давала ей затрещину или выставляла в коридор.
В 1855 году главный фабричный инспектор, начальник Сэмюела, в очередной раз настоял на том, чтобы тот сменил место жительства. Дело в том, что хотя теперь, со смертью первой жены, слухов можно не бояться и таиться не от кого, но Бэйнтон-Хаус — слишком удаленное место, а Кенту следует находиться поближе к инспектируемым им фабрикам и к железным дорогам, используемым в поездках по инспектируемым объектам, а они разбросаны на сотни миль, от Ридинга до Лэнс-Энда. Да и в интересах семьи — а в особенности ради Мэри-Энн и Элизабет, которым уже за двадцать, а женихов даже не видно, — следовало жить поближе к людям его положения.
Дом на Роуд-Хилл был немного скромнее последнего жилища, что позволяло также решить некоторые финансовые проблемы: Степлтон отмечает, что государственному чиновнику, обремененному семьей из четырех человек, непросто было жить в Бэйнтоне, где дом был обставлен в соответствии с запросами и привычками сельского джентльмена, обладающего значительным и постоянным доходом.[32]
В июне 1855 года миссис Кент вторая родила дочь — Мэри-Амалию Сэвил, а в августе следующего года своего первого сына, Фрэнсиса Сэвила, которого все звали просто Сэвилом. Вторая ее дочь, Эвелин, родилась в октябре 1858 года. Мистер и миссис Кент были без ума от своих малышей. В том же, 1858 году Эдвард, которому исполнилось уже двадцать два года, отплыл на торговом судне в Вест-Индию, а в июле внезапно скончался в Гаване от желтой лихорадки.
По слухам, приводимым в книге Степлтона, он-то и был настоящим отцом Сэвила, своего якобы единокровного брата. Если это действительно так, то возмущение вторым браком отца объясняется отнюдь не моральными причинами, но обычной ревностью. Однако же Степлтон утверждает, что новая жена отца и ее пасынок любовниками не были; в качестве аргумента — несколько странного, надо признать, — он упоминает рождение мертвого ребенка. Это якобы подтверждает то, что по меньшей мере один раз бывшая мисс Пратт забеременела от Сэмюела (когда ребенок был зачат, Эдвард находился в плавании). Положим, так, но это никоим образом не указывает на его возможное отцовство следующих двух детей, Сэвила и Эвелин.[33]
Результаты исследования семейной хроники, скрупулезно восстановленной Уичером, намекают на то, что смерть Сэвила была частью запутанной истории; прямой обман в ней переплетался с умышленным сокрытием фактов. Детективная литература во многом испытала влияние этой истории, и это уже заметно в «Лунном камне». В классическом детективе все убийцы хранят ту или другую тайну и, чтобы она не вышла наружу, всячески ловчат, лгут, уходят от ответа на вопросы следователя. И тогда подозрение падает на всех, ибо всем есть что скрывать. Правда, у большинства эти тайны не имеют ничего общего с убийством. В этом и заключается движущая пружина детективного повествования.
Но коль скоро речь идет об убийстве, случившемся в действительности, опасность заключается в том, что детектив может потерпеть поражение и не раскрыть расследуемое преступление. Он может запутаться в лабиринтах прошлого, оказаться погребенным под горой им же добытых фактов, свидетельств или доказательств.
Глава 6 ВТОРИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПНИКА
17 июля
Во вторник, 17 июля, Джек Уичер приступил к расследованиям за стенами дома. Решив начать с загадки исчезнувшей ночной рубашки, он отправился в бекингтонскую школу, где училась Констанс. Засунув в карман фланельку, обнаруженную в выгребной яме, Уичер прошагал полторы мили вниз по узкой дороге, пробивающейся сквозь заросли ежевики, камыша и крапивы с вкраплениями белой амброзии. Погода была прекрасная, трава почти вся скошена.
Сын садовника, Уичер чувствовал себя в поле, в окружении цветов, как у себя дома. Он послужил прототипом сержанта Кафа из «Лунного камня».
— У меня просто нет времени любить что-то, — говорит Кафф. — Но если все же выдается момент выразить к чему-то любовь, то в большинстве случаев… это розы. Я вырос среди них в отцовской оранжерее, и среди них же, если получится, кончу жизнь. Однажды, если будет угодно Богу, я перестану ловить воров и займусь выращиванием роз.
— Довольно странное желание для человека вашей профессии, — замечает его спутник.
— Если вы оглянетесь вокруг себя (что мало кто делает), то, — парирует сержант Кафф, — убедитесь, что в большинстве случаев пристрастия человека совсем не сочетаются с тем, чем он профессионально занимается. Покажите мне пример большей несовместимости, нежели роза и грабитель, и тогда я скорректирую свои вкусовые предпочтения.
Кафф поглаживает распутавшиеся белые лепестки мускусной розы и говорит с ней нежно, как с ребенком: «Красавица ты моя». Он не любит собирать цветы: «Мне больно рвать их».
Добравшись до деревни, Уичер направился в Мэнор-Хаус — школу, вот уже девять месяцев посещаемую Констанс, причем Последние шесть — как пансионерка. Каждый семестр на попечении директрисы Мэри Уильямс и ее помощницы мисс Скотт находились тридцать пять учениц. В пансионате работали также еще двое учителей и четверо слуг. В учреждениях, подобных этому, девочек обучали тому, что может пригодиться будущей даме: пению, игре на пианино, шитью, танцам, хорошим манерам, немного французскому и итальянскому. Девочки из хороших семей обычно поступали сюда в тринадцать-четырнадцать лет, предварительно получив кое-какие знания от своих гувернанток. Мисс Уильямс и мисс Скотт заявили, что учится и ведет себя Констанс отменно. В прошлом семестре она даже заняла второе место за хорошее поведение. Уичер показал им фланельку с отрезанными штрипками, найденную Фоли в туалете, и спросил, знакома ли им эта вещица. «Нет, не знакома» — был ответ. Уичер поинтересовался именами и адресами ближайших приятельниц Констанс, так как намеревался поговорить с ними в ближайшие дни.
Будучи в Бекингтоне, Уичер зашел также к Джошуа Парсонсу, семейному врачу Кентов, жившему вместе с женой, семью детьми и тремя слугами в доме с фронтонами XVII века. Принадлежа к новому среднему классу профессионалов, Парсонс стоял с Кентом примерно на одной ступени социальной лестницы. Один из его сыновей, Сэмюел, был всего несколькими месяцами старше Сэвила.
Джошуа Парсонс родился 30 декабря 1814 года в семье баптистов в Лэвертоне, городке, расположенном в двух милях к северо-западу от Бекингтона. Это был черноволосый, с полными губами, носом картошкой и большими карими глазами мужчина. В Лондоне, где он обучался общей терапии, Джошуа близко сошелся с Марком Лемоном, впоследствии редактором «Панча» и другом Диккенса, и Джоном Сноу, эпидемиологом и анестезиологом, открывшим вирус холеры. Недолгое время Парсонс и Уичер жили в одном районе Лондона: Уичер поступил в полицию и перебрался в Холборн за месяц до того, как Парсонс съехал с квартиры в Сохо и вернулся в Сомерсетшир. В 1845 году вместе со своей, ныне тридцатишестилетней, женой Летицией поселился в Бекингтоне.[34] Он был страстным цветоводом и с особой нежностью относился к альпийским и вечнозеленым растениям.
Парсонс поделился с Уичером заключениями, сделанными им после вскрытия тела. Так, он пришел к убеждению, что Сэвила задушили или по крайней мере придушили, перед тем как перерезать горло. Это объясняет затемнения вокруг рта и отсутствие крови на стенах туалета: сердце мальчика остановилось еще до того, как в его горло вонзился нож. Поэтому-то кровь не брызнула во все стороны, а медленно стекла в яму. Таким образом, с точки зрения Парсонса, орудием убийства послужил не нож, а кусок материи. Джозеф Степлтон, тоже участвовавший во вскрытии, придерживался иной точки зрения и был уверен, что смерть наступила в результате того, что мальчику перерезали горло, а темные пятна появились вследствие того, что его голову опустили в нечистоты. Кровь же, как он полагает, почти полностью впиталась в одеяло.
Разногласия врачей позволяли выдвигать различные версии. Если Сэвила задушили, а раны нанесли лишь затем, чтобы скрыть подлинную причину смерти, то мальчика могли убить под воздействием импульса, из-за опасения, что он проговорится. В таком случае убийцами могли быть няня и отец, увиденные им в одной постели. И, напротив, трудно представить, чтобы в такой ситуации Сэвил погиб от сильного удара ножом.
Парсонсу такие рассуждения представлялись совершенно неубедительными. Он не сомневался, что убийство совершила Констанс. Осмотрев в ту роковую субботу лежавшую на кровати ночную рубашку, он заметил, что она не просто чиста, но «исключительно чиста». Похоже, это свежая рубашка, в ней явно не могли спать шесть ночей. Он обратил на это внимание Фоли, но тот отмахнулся. Парсонс сказал Уичеру, что Констанс отличается неуравновешенным и злобным характером. Он, Парсонс, уверен в том, что девушка «одержима манией убийства», и, с его точки зрения, все дело тут в наследственности.
Дело в том, что врачи XIX века, специализировавшиеся на душевных болезнях (их тогда называли просто «психушниками»), считали, что в большинстве случаев нервные расстройства передаются по наследству, чаще всего от матери к дочери.[35] По слухам, первый приступ безумия случился с миссис Кент, когда она была беременной Констанс. Поэтому вполне допустимо предположить, что ребенок, появившийся на свет в таких обстоятельствах, особенно предрасположен к душевным заболеваниям: в 1881 году Джордж Генри Сэвидж писал, что в приюте Белтхем ему показали детей, «пропитавшихся безумием еще в утробе матери… с самого рождения эти младенцы представляли собою настоящих дьяволят». Другая теория — скорее психологическая, нежели физиологическая — базировалась на предположении, что постоянные размышления о дурной душевной наследственности уже сами по себе способствуют развитию болезни (на этой идее построен сюжет новеллы Уилки Коллинза «Безумный Монктон», опубликованной в 1852 году). Но эффект в обоих случаях тот же. Парсонс как-то сказал Уичеру, что «он не стал бы ложиться спать в доме, где мисс Констанс не заперта надежно в своей комнате».
Однако могло случиться так, что версия Парсонса относительно Констанс рикошетом ударила бы по нему самому. В конце 50-х годов XIX века была раскрыта группа медиков, отправлявших в психиатрические лечебницы совершенно здоровых женщин; легкость, с какой они подтверждали наличие душевного заболевания, шокировала всю страну. В 1858-м подобным делом занималась специальная парламентская комиссия, а еще два года спустя этот сюжет нашел отражение в «Женщине в белом». Таким образом, нельзя было исключить того, что врач может без каких-либо оснований объявить человека душевнобольным.
Вернувшись в Темперенс-Холл, Уичер положил фланельку на видное место и пригласил деревенских опознать ее. Эта тряпица, пропитанная хлороформом, писал репортер «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», могла быть использована для того, чтобы усыпить Сэвила или заглушить его крики; единственным иным объяснением, отчего она оказалась в туалете, говорилось далее в статье, может бьть то, что «она случайно упала на пол, когда убийца наклонился, чтобы завершить свое кровавое дело, но в таком случае получается, что женщина, убившая мальчика, была полураздета». Так аналитические рассуждения о вроде бы малозначащей вещи позволили журналисту создать зловещую картину: полураздетая женщина затаскивает ребенка в туалет и там закалывает. Сверх всякой меры увлекшись этой версией, он совершенно упустил из виду еще один вариант: фланелька вообще могла не иметь никакого отношения к убийству.
Как было указано в отчете Уичера, туалет использовался всеми слугами в доме, а также заезжими торговцами. Найдена фланелька была не рядом с телом, а под ним, в выгребной яме. «Вполне возможно, — продолжал детектив, — что она оказалась там еще до совершения убийства, и в таком случае владелица, увидев ее, могла отказаться от принадлежащей ей вещи просто из страха оказаться в числе подозреваемых».[36] Надо было обладать холодным рассудочным умом, чтобы увидеть в обыкновенном предмете действительно всего лишь обыкновенный предмет и признать, что люди, случается, лгут не потому, что виновны, а потому, что напуганы. Уичер допускал и еще одну возможность: не исключено, что убийца бросил фланельку в туалет, чтобы сбить с толку полицию. «Возможно, — писал он, — эта вещь была просто подброшена с целью навести подозрение на невиновного».
В общем, нагрудная фланелька была одной из нескольких ниточек, уцепившись за которую все участники расследования — полиция, газетные репортеры и читатели, — пытались размотать весь клубок. Пока убийца не найден, все может оказаться важным, все может таить в себе разгадку. Заинтересованная публика, подобно параноикам, все вокруг наделяла необыкновенной значимостью. Было ясно, что все станет на свои места и обретет обыденный смысл, лишь когда убийца будет пойман.[37]
Поскольку Уичер был убежден, что мальчика убил кто-то из обитателей дома, все подозреваемые находились в поле его зрения. Это было поистине таинственное, необычное убийство,[38] хотя и совершенное в ничем не примечательном загородном доме, — ведь предстояло не просто выявить преступника, но разгадать потаенное «я» этой личности. Это был в чистом виде вызов, поединок ума и выдержки: у кого окажется больше того и другого — у детектива или у убийцы?
Для того чтобы проникнуть в глубь внутреннего мира обитателей дома на Роуд-Хилл, требовалась не столько логика, сколько инстинкт, то, что Шарлотта Бронте называет «восприимчивостью — тем особенным свойством, которым наделены детективы». В то время уже формировался словарь, соответствующий тонким, не поддающимся определению методам работы детектива. В 1849 году слово «hunch» (предчувствие, подозрение) было впервые употреблено в смысле чего-то такого, что способствует раскрытию преступления. А слово «lead» (руководство, пример, указание) приобрело в этом контексте значение «нить» или «след».
Уичер внимательно наблюдал за обитателями дома, их реакцией, выражением лиц, непроизвольными телодвижениями, вслушивался в звучание речи и по поведению пытался воссоздать характер; как утверждал сам Уичер, «вычислял их».[39] Пожелавший остаться неизвестным детектив как-то попробовал раскрыть суть этого процесса в разговоре с журналистом Эндрю Уинтером. Он поведал, как ему удалось поймать одного афериста. Это произошло в 1856 году, во время церемонии закладки Веллингтонского колледжа, неподалеку от Кроуторна, в которой приняла участие королева. «Если бы вы спросили меня, почему, едва увидев этого типа, я сразу решил, что он вор, мне было бы затруднительно ответить, — поражался детектив. Он действительно не знал, в чем тут дело. — Что-то в том было такое, что-то свойственное всем аферистам, что сразу привлекало внимание и заставляло следить за ним. Вроде бы он не заметил, что за ним наблюдают, и втерся в толпу, но затем обернулся и посмотрел в мою сторону. Для меня этого было достаточно, хотя никогда раньше я его не видел и, насколько можно было судить, ни в чей карман он еще не залез. Я сразу же направился к нему и, положив руку на плечо, спросил: „Что вам здесь надо?“ „Если бы знать, что здесь окажется кто-нибудь из ваших, ни за что бы меня тут не было“, — мгновенно ответил он приглушенным голосом. Затем я спросил, работает он в одиночку или их целая банда, на что он ответил: „Один, честное слово, один“. Тем не менее я отвел его в комнату, специально предназначенную для задержанных». Решительность, проявленная детективом, инстинктивное ощущение какого-то «непорядка», опыт общения с аферистами, работающими в высшем свете, а также четкий стиль повествования — все это заставляет предположить, что собеседником Уинтера был Уичер. На это, между прочим, указывают и разговорные обороты: точно такую же фразу — «для меня этого было достаточно» — он употребил в беседе с Диккенсом.
Трудно облечь в слова те неуловимые движения, на анализе которых детектив строит свои догадки, — случайная гримаса, беглый жест. Хорошо написал об этом в своих мемуарах, опубликованных в 1861 году, детектив из Эдинбурга Джеймс Маклеви. Наблюдая за стоящей у окна служанкой, он «уловил даже ее взгляд, нервный и настороженный, заметил также и попытку податься назад при виде появившегося мужчины; от его внимания не ускользнуло и то, что девушка вновь выглянула в окно, убедившись в том, что он занят своим делом». В одном из своих детективных рассказов, публиковавшихся под псевдонимом Уотерс в середине XIX века, журналист Уильям Рассел попытался передать характерные особенности самого процесса наблюдения: «Ее взгляд, таков уж этот взгляд, не отрывался от меня — и в то же время он словно проникал в глубины ее собственного мозга, — этот изучающий и оценивающий взгляд был направлен не только на мое лицо, но также и на себя». В этом описании схвачена самая суть работы детектива: он пристально вглядывается в окружающий мир, но в то же время и не менее пристально — внутрь самого себя, проникая в глубины памяти. Глаза же других — это книга, подлежащая прочтению, а нажитый опыт — словарь, используемый при этом.
Уичер утверждал, что умеет читать мысли людей по их глазам. «На глаз, — говорил он Уильяму Уиллзу, — можно определить очень многое. По выражению глаз затесавшегося в толпу афериста всегда можно угадать его намерения».[40] Благодаря своему опыту Уичер, пишет Уиллз, «мог выходить на след, остававшийся совершенно незаметным для других». На лицах, развивая эту концепцию, продолжает Маклеви, «всегда можно найти нечто поддающееся прочтению… Если уж я взгляну на кого, то редко ничего не нахожу».
Уичер умел читать не только по лицам, но и по осанке и телодвижениям. Так, повороты, ерзанье, шевеление ладоней под плащом, кивок в сторону сообщника, бросок в сторону — все выдавало преступника в его глазах. Однажды он арестовал двух хорошо одетых мужчин, слонявшихся у театров «Адельфи» и «Лицей» просто потому, что «заподозрил что-то не то в их походке» (при обыске обнаружилось, что у них нет денег даже на самый дешевый билет на галерке, и это лишь подтвердило его догадку об истинных намерениях этой парочки — обчистить чужие карманы). Умение уловить подозрительные телодвижения позволило Уичеру отыскать бриллианты, украденные Эмили Лоренс и Луизой Муто.
Некая таинственная аура, окружавшая детективов в начальную пору их деятельности, воплотилась в диккенсовском инспекторе Баккете, «этой машине для наблюдения» с «бесчисленным количеством глаз», человеке, «забирающемся в собственном сознании на высокую башню, откуда далеко видно во все стороны». «Стремительность и уверенность», с которыми мистер Баккет приходит к своим выводам, остается «на грани чуда». Мысль о том, что человеческие лица и тела поддаются «прочтению», а внутренняя жизнь отпечатывается в выражении лиц и даже в нервном постукивании костяшками пальцев, производила ошеломляющее впечатление на людей Викторианской эпохи. Возможно, это чувство объяснялось ревнивым отношением к частной жизни: трудно и страшно было привыкнуть к мысли, что тебя просвечивают насквозь и то, чем ты так дорожишь и что так тщательно оберегаешь, внезапно становится достоянием «города и мира». Тело человека может выдать его так же, как сердцебиение выдает убийцу в новелле Эдгара По «Сердце-обличитель» (1843) — именно оно словно бы свидетельствует о его виновности. Несколько позднее непроизвольные телодвижения и случайные обмолвки послужили доктору Фрейду лишним доказательством в пользу верности его теории.[41]
Хрестоматийным трудом, посвященным умению читать по лицам, стали «Физиогномические очерки» Каспара Лаватера (1855). У «физиогномиста», пишет он, «должен быть зоркий глаз — ясный, острый, стремительный и цепкий. В точности наблюдения заключается душа физиогномики. Физиогномист должен быть одарен исключительно тонким, исключительно развитым, безошибочным чутьем. При этом следует быть очень разборчивым». Подобно детективу, внимательный человек умеет отделять важное от второстепенного. «Главное — знать, что следует избрать в качестве предмета наблюдения», — говорит Огюст Дюпен. У детективов и физиогномистов в равной степени развито зрение, отражающее (а возможно, бросающее вызов) «Небесному оку», заглядывающему в наши души.
«Ничто так точно не отражает душу человека, как его лицо в сочетании с манерой держать себя», — говорит герой-повествователь в новелле Диккенса «Пойман с поличным» (1859). Далее он поясняет, как сформировал свое мнение о человеке по имени Слинктон: «Я мысленно разобрал его лицо на составные части, словно это были часы, и принялся подробно изучать их. Я не мог сказать, что мне не нравятся черты его лица, каждая в отдельности; еще меньше я мог сказать это, когда соединил их вместе. В таком случае разве не чудовищно, спросил я себя, что я мог заподозрить и даже возненавидеть человека только потому, что он причесывается на прямой пробор?»
Но тут же повествователь опровергает себя — оказывается, это очень даже возможно: «Наблюдая незнакомого человека и поймав себя на том, что какая-нибудь пустяковая черточка в нем кажется отталкивающей, следует принять это к сведению. Ведь она может послужить ключом к раскрытию всех его тайн. Несколько волосков могут указать, где спрятался лев. Очень маленьким ключиком можно отпереть очень большую дверь».
Лица и тела таят в себе путеводные нити и такие ключики; крохотные детали позволяют ответить на самые сложные вопросы.
В своей книге об убийстве в доме на Роуд-Хилл Степлтон утверждает, что все тайны семейства Кент написаны на их лицах: «Быть может, ничто не раскрывает семейные секреты так полно, как внешний вид детей и выражение их лиц. По ним, по их поведению и нраву, по проступкам и даже просто по жестам и словам можно прочитать историю дома, в котором они выросли; точно так же познаем мы природу молодых растений по почве, в которую были брошены семена, по буре, побившей их нежные лепестки, по тому, какой уход был за ними… С помощью детской физиогномики можно наиболее точно составить представление об обстановке в семье».
В своих положениях Степлтон, несомненно, руководствуется идеями, сформировавшимися в ранневикторианскую эпоху. Полное выражение они нашли в труде Дарвина «Происхождение видов», опубликованном годом раньше книги Степлтона. Наступит время, писал Дарвин, «когда в каждом явлении природы мы будем видеть его историю; когда любую сложную структуру будем рассматривать как итог целого ряда взаимодействий, каждое из которых имеет значение для своего носителя».
Человек — порождение своего прошлого.
Все те, кто оказывался в доме Кентов в первые после убийства недели, изо всех сил вглядывались в его обитателей в поисках ключа к разгадке преступления. Медики, исследовавшие труп, стремились почти в буквальном смысле «считать с него все, что только можно». Другие изучали лица и повадки хозяев дома. Роуленд Родуэй так отзывался об Элизабет Гаф: «Я заметил на ее лице следы тревоги и усталости». Альберт Гросер, молодой газетный репортер, пробравшийся в дом в день убийства, обратил внимание на «нервное, неуравновешенное» поведение няни. Но если эти подозрения питались написанным на лице беспокойством или порывистыми движениями, то Уичер искал свои следы в том, чего не видно, — в молчании.
Уичер сообщал в отчете на имя сэра Ричарда Мейна о том, что ему удалось заметить в доме на Роуд-Хилл. Мистер и миссис Кент «души не чают» в своих младших детях. Уильям выглядит «очень подавленным». Констанс и Уильяма связывает «взаимная привязанность» и «тесная близость» («близость» в середине XIX века подразумевала наличие неких общих секретов). Уичер докладывал также о том, как реагировала семья на смерть мальчика. Когда Элизабет Гаф, писал он, пришла к двум старшим дочерям сообщить об исчезновении Сэвила, «мисс Констанс открыла ей дверь одетой, выслушала няню и ничего не сказала». С одной стороны, хладнокровие Констанс, демонстрируемое ею и в дальнейшем, могло свидетельствовать о чистой совести и душевном покое, но вместе с тем не исключались и иные, далеко не столь идиллические толкования. За внешним спокойствием могла скрываться хорошая подготовка к преступлению.[42]
Загадка убийства, совершенного в доме на Роуд-Хилл, кроется в характере убийцы, сочетающем бурный темперамент и хладнокровие, расчетливость и горячность. Кто бы ни убил и ни надругался над телом Сэвила Кента, человек этот был явно не в себе, его обуревали исключительно сильные чувства; но он же, судя по тому, что его до сих пор не нашли, проявляет редкостное самообладание. Уичер счел холодное спокойствие Констанс признаком того, что это она убила своего брата.
Жесткий разговор Уичера с Констанс относительно ночной рубашки можно расценить как испытание ее нервов. И если так, то невозмутимость девушки лишь усилила его подозрения. И бесстрастная манера общения, и пропавшая рубашка указывали на то, что нить надо искать в зазорах, в намеках на то, что скрывается. То, что Уичер видел в Констанс, было так же умозрительно, как и то, что мистер Баккет уловил в облике убийцы, мадемуазель Ортанз, — «она сидела, спокойно скрестив руки на груди, но… на ее румяной щечке что-то пульсировало и тикало как часы». Уичер был так же уверен в виновности своей подозреваемой, как и Баккет — своей: «Видит Бог, меня словно озарило… это ее рук дело». Или, говоря словами сержанта Кафа, скалькированного Уилки Коллинзом с Уичера, «Я не подозреваю. Я знаю».
Еще до приезда Уичера дело об убийстве в доме Кентов породило множество сыщиков-любителей из круга читателей английских газет. Они принялись бомбардировать полицию письмами. «Мне приснилось кое-что, сильно меня обеспокоившее, — сообщал один человек из Сток-он-Трент. — Трое мужчин замышляли что-то, собравшись в доме рядом с каким-то большим строением, примерно в полумиле от места убийства… Я могу дать точное описание этих приснившихся мне людей». Разносчица газет из Ридинга, графство Беркшир, заподозрила одного мужчину на том основании, что он «вкрадчиво» спросил у нее, не было ли чего об убийстве во вчерашнем номере «Дейли телеграф».
В тот день, когда Уичер приехал в деревню, там же оказался другой незнакомец, представившийся профессором френологии. Он предложил свои услуги в исследовании черепов подозреваемых: по их строению, утверждал он, можно определить преступную натуру. Например, шишка за ухом указывает на склонность к агрессии. Не исключено, что то был тот же самый френолог из находившегося в пяти милях отсюда Ворминстера, который еще неделю назад обратился в полицию с предложением помочь расследованию. «Я занимаюсь, — утверждал он, — объективными научными изысканиями, уже прошедшими проверку опытом. По моему убеждению, установить убийцу по черепу так же просто, как отличить тигра от овцы». Полиция отклонила предложение — в 1860 году френология считалась шарлатанством. Но в каком-то смысле она была сродни работе детектива; это, скажем так, кузены. Самое захватывающее в расследовании — это новизна каждого дела, тайна и научная аура, то есть все то, что некогда было свойственно френологии. Вот что писал о своих детективных новеллах Эдгар Аллан По: «Логические новеллы по преимуществу обязаны своей популярностью новизне подхода. Я вовсе не утверждаю, что они ее лишены, но люди считают их более оригинальными, чем они на самом деле есть, и причиной тому — методология, ассоциируемая с ними».
Не исключено, что приемы и подходы Уичера были обоснованы ничуть не лучше, чем рассуждения других участников расследования. Ведь детективы, подобно френологам, могут выступать искусными мистификаторами — растворять здравый смысл в сложных построениях и выдавать догадки за науку.
Глава 7 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
18 июля
В среду установилась хорошая погода, хотя с запада набегали облака, не позволявшие наблюдать частичное затмение солнца. Местная полиция отпечатала несколько сот объявлений, сулящих премию в двести фунтов стерлингов за предоставление любой информации, способствующей поимке убийцы Сэвила.
Уичер расширял круг поисков. Он сел на поезд, следующий из Троубриджа в Бристоль, и сошел в Бате, где два часа разъезжал по городу в кебе. Помимо всего прочего, у него состоялись беседы с полицией и с владельцем гостиницы «Грейхаунд». Дело в том, что он интересовался странным эпизодом, случившимся тут четырьмя годами ранее, в июле 1856-го.
К тому времени Кенты уже почти год жили на Роуд-Хилл. Миссис Кент была на восьмом месяце беременности Сэвилом. Констанс и Уильям, которым было соответственно двенадцать и одиннадцать лет, приехали из пансиона домой, на каникулы. У девочки было явно что-то не в порядке с голеностопом, и врач порекомендовал ей носить кружевные чулки и избегать ходьбы. Когда вся семья отправилась в Бат на выставку цветов, ее возили в кресле-каталке.
Однажды, это было 17 июля, Констанс и Уильям убежали из дома. Девочка спрятала в дворовом туалете старую одежду брата, предварительно перешив ее. Затем срезала волосы и вместе с собственным платьем и нижней юбкой сбросила их в выгребную яму. Переодевшись юнгами, они с Уильямом собирались пробраться на корабль, направлявшийся в Бристоль, чтобы следом за старшим братом Эдвардом удрать из Англии. Прошагав десять миль, они к вечеру добрались до Бата, но при попытке снять номер в гостинице «Грейхаунд» хозяин заподозрил в них беглецов — уж слишком хорошо они были одеты, да и манерами на корабельную обслугу не походили, — и учинил им допрос. Констанс, повествует Степлтон, «сохраняла полную выдержку, вела себя и говорила даже с некоторым апломбом», но «Уильям быстро раскололся и залился слезами». Его, продолжает автор, оставили на ночь в гостинице, а Констанс передали полиции. Она провела ту же ночь в участке, «упорно храня молчание».
В местных газетах о том же эпизоде говорится несколько иначе — не исключено, что Степлтон несколько преувеличил чувствительность мальчика, чтобы усилить контраст с твердым характером Констанс; в рассказе своем он скорее всего опирался на сведения, полученные от Сэмюела Кента. В одной газете, где случай этот описывается как «выражение исключительной целеустремленности и отваги», Уильям вовсе не заливается слезами, а Констанс ведет себя вполне пристойно. В разговоре с хозяином гостиницы они были «исключительно вежливы», лишь упрямо твердили, что направляются на корабль. В полицейский участок их отвели вместе, и оба не признавались ни в чем до самого утра, когда из дома приехал один из слуг и опознал брата с сестрой, посетовав при этом, что загнал трех лошадей, разыскивая их.
Уильям признался полиции, что убежал из дому, взяв всю ответственность за эту авантюру исключительно на себя: хотел, мол, говорится в той же газете, уйти в море, и в спутницы взял младшую сестру, посоветовав ей переодеться в его платье и срезать волосы. После чего они отправились в Бристоль в надежде, что какой-нибудь добрый капитан возьмет их юнгами. В карманах у них было всего восемнадцать пенсов, но ни отсутствие денег, ни расстояние не ослабляли решимости мальчика и энтузиазма его сестры. В другой газете Констанс представляли лишь спутницей Уильяма: «Мальчику приспичило уйти в море, и он поделился своей тайной с сестрой… порывистый характер которой побудил ее очертя голову броситься за братом». Сестра «позволила обрезать волосы и причесать ее на мальчишечий манер».[43]
В оценке необычайной решимости девочки Степлтон и батские газетчики не расходятся, лишь различно оценивают ее. В одной газете говорилось, что «девочка, насколько мы наслышаны, вела себя как маленькая героиня, играя, ко всеобщему восхищению, роль мальчика. От инспектора Норриса нам стало известно, что… юная мисс Кент продемонстрировала незаурядный ум и решимость. Платье брата было ей мало, в руках — тросточка, которой она помахивала так, будто давно к ней привыкла. Инспектор не сразу заподозрил, что перед ним девочка, лишь через некоторое время его смутило то, как она сидит».
Слуга отвез детей домой. Сэмюел был в командировке, инспектируя фабрики в Девоншире, но вернулся в тот же день. По словам Степлтона, Уильям сразу же «выразил свое искреннее сожаление по поводу случившегося, покаялся и горько разрыдался». А Констанс и не подумала извиняться перед отцом и мачехой, повторяя лишь, что ей «хотелось независимости».
«Чрезвычайно странное происшествие, — комментировала „Бат экспресс“, — в благородном семействе».
Покончив с делами в Бате, Уичер в тот же день направился поездом в Уорминстер — в городок в пяти милях к востоку от деревни, чтобы поговорить с одноклассницами Констанс.
Пятнадцатилетняя Эмма Моуди жила с братом, сестрой и овдовевшей матерью — все работали на шерстопрядильной фабрике — в Гор-Лейне.[44] Уичер показал ей фланельку, Эмма покачала головой: мол, в первый раз вижу. Он спросил, не заговаривала ли Констанс о Сэвиле.
— Да, — ответила Эмма, — вроде говорила, что недолюбливает его, щиплет иногда, но так, в шутку. Во всяком случае, когда рассказывала, смеялась.
Уичер спросил, что заставляло Констанс дразнить младших учениц.
— По-моему, тут все дело в ревности, — сказала Эмма, — и еще в том, что дома ее постоянно третировали. Как-то мы вышли погулять, заговорили о каникулах, и я сказала: «Вот здорово, скоро домой поедем», — а она ответила: «Может, для тебя и здорово, но для меня — нет». Она сказала, что мачеха и отец к своим детям относятся куда лучше, чем к ним с Уильямом. Часто повторяла это. Как-то мы заговорили про платья, и она пожаловалась, что мама, мол, не разрешит надеть то, что ей хочется. Захочет, допустим, бежевое, а она заставить надеть черное. И наоборот.[45]
В общем, Констанс казалось, что мачеха ее не любит, даже выбора между черным и бежевым у нее нет. Грубая ночная рубашка, некрасивое платье — Констанс выглядела типичной падчерицей, Золушкой, которой нет места в кругу сверстниц.
Судя по отчетам Уичера, регулярно посылаемым начальству, Эмма утверждала, что часто слышала, как Констанс с раздражением говорила о Сэвиле; вызвано это было как раз тем, что мистер и миссис Кент выделяли его среди других детей. Однажды Эмма, по ее же словам, с упреком заметила подруге, что «нельзя питать неприязнь к ребенку за то, в чем он не виноват».
— Может, это и верно, — ответила Констанс. — Но как бы ты чувствовал себя на моем месте?
Работа Уичера состояла не только в сборе информации, но и в ее систематизации. Главное для детектива — точно восстановить общую картину. Уичер считал, что мотивы Констанс ему теперь ясны: она убила Сэвила из-за «ревности или злобы», испытываемых по отношению к детям мачехи и усугубляемых ее «неадекватным душевным состоянием». Особо благосклонное отношение к миссис Кент-первой, наблюдаемое ею, могло возбудить мстительные чувства. Миссис Кент-вторая, воспитывавшая Констанс как дочь, с рождением собственных детей отдалилась от нее, и это могло настроить девочку против мачехи.
Бегство детей в Бат навело Уичера на мысль, что дома им жилось не сладко и они были готовы взять судьбу в свои руки. А коли так, то у них могли возникнуть тайные замыслы и для их осуществления необходимо было прибегнуть к хитрости и обману. В качестве такового инструмента и был использован туалет в кустарнике, потаенное место, где Констанс раньше приняла новый облик, а теперь вот избавилась от вещественных доказательств. В одном из своих отчетов Уичер специально подчеркивал, что «тело было обнаружено там же, где перед бегством из дому она выбросила свою одежду и пряди волос… переоделась мальчиком, предварительно изготовив часть мужского облачения и спрятав его в кустах до дня бегства». Самый этот день можно воспринимать как первый шаг к убийству Сэвила.
Всю эту неделю Уичер работал в одиночку. Как писала «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», он «энергично и усердно вел расследование, никого в него не посвящая, за исключением, пожалуй, мистера Фоли. Он сам отыскивал, посещал и расспрашивал всех, кто хоть как-то был связан со случившимся, и ухватывался, разматывая ее до конца, за любую ниточку, способную привести к цели». Другая газета, «Вестерн дейли пресс», также характеризовала действия детектива как «энергичные» и «умелые».
Уичер не раскрывал содержание своих визитов, разве что в интервью с местными дуалистами обмолвился, что «у него в руках нить, которая в не столь отдаленном будущем приведет к раскрытию преступления». Эти слова были в точности приведены в «Бат кроникл». Конечно, это было преувеличение — пока у Уичера была только версия, — но он рассчитывал обескуражить преступника и заставить его во всем сознаться. «Бристоль дейли пост» высказывала сомнения в том, что Уичер добьется успеха: «Можно скорее надеяться, нежели ожидать, что свойственная ему проницательность позволит разгадать эту тайну».
«Проницательность» — это слово часто мелькало в газетах и книгах применительно к детективам. Вот и «Таймс» отмечала «присущую Уичеру проницательность». Диккенс чрезвычайно высоко ставил «поразительную остроту взгляда… знания и проницательность» Чарли Филда. «Лисьим чутьем» наделил Уотерс героя одной из своих детективных новелл. Понятие это подразумевает скорее развитую интуицию, нежели мудрость. В XVII–XVIII веках «чуткий» зверь наделялся острым обонянием: по аналогии самых первых детективов, за их стремительность и ловкость, сравнивали с волками и собаками.
Шарлотта Бронте, в свою очередь, уподобляла детектива ищейке, берущей след дичи по запаху.[46] Герой рассказов Уотерса, опубликованных в пятидесятых годах, представлял собой нечто среднее между охотником и охотничьим псом, настигающим добычу: «охота за ним шла вовсю», «я загнал его в ловушку», «я напал на правильный след».
«Если и есть в наши дни профессия, сохраняющая дух приключений, — писал знаменитый эдинбургский детектив Джеймс Макливи, — то это, безусловно, профессия детектива. Ему свойственна страсть охотника. Но если цель последнего заключается лишь в том, чтобы загнать и уничтожить часто совершенно невинное животное, то детектив руководствуется высоким стремлением облагодетельствовать общество, избавив его от скверны». Детективы, работающие в городе, преследуют свою добычу, рыская по улицам, определяют грабителей и мошенников по характерным приметам и следам, невольно оставляемым ими на месте преступления. «Лондон — гигантский лес или чаща, — писал столетием ранее Генри Филдинг, — и в нем вор может укрыться так же надежно, как дикий зверь в пустынях Африки или Аравии. Ибо, перебираясь из одной части города в другую, постоянно меняя место жительства, он может избежать угрозы быть обнаруженным». Подобно тому как исследователи Викторианской эпохи без устали перемещались по пространствам империи, расширяя ее границы путем присоединения новых земель, детективы проникали в самые глубины городской жизни, в районы, казавшиеся людям среднего класса такими же экзотическими, как аравийские пустыни. Детективы научились распознавать различные виды проституции, карманных краж, домашних ограблений и затравливать мошенников в их же логове.
Специальностью Уичера были городские «артисты». Подобно героине романа Эндрю Форрестера «Женщина-детектив», он «в основном имел дело с людьми, носившими маски». Так, в 1847 году Уичером был арестован Ричард Мартин, он же Обри, он же Бофор Купер, он же капитан Конингем, который, приодевшись под джентльмена, принимал доставленные по заказу модные сорочки. На следующий год Уичер поймал Фредерика Херберта — молодого человека «благородного вида», обманом выманившего у одного лондонского седельника ящик с ружьями, у художника — две цветные эмали, а у орнитолога — чучела восемнадцати колибри. Литературным двойником Уичера был Джек Хокшоу, детектив из пьесы Тома Тейлора «За примерное поведение» (1863). Само имя его звучало почти так же, как название хищной птицы.[47]«У Хокшоу, — говорится в пьесе, — самое острое зрение во всем отделе». Он преследует изощренного преступника, имеющего «столько же обличий, сколько и имен». «Сегодня вы можете принять его за уголовника, а завтра раскланяться как с пастором, — говорит Хокшоу. — И все равно я отыщу его, под каким бы обличьем он ни скрывался».[48]
Некоторые местные газеты приветствовали появление Уичера в Уилтшире. «Мастерство лондонского детектива, хорошо знакомого с преступным миром города, удачно дополнит опыт наших местных полицейских, — писала в номере от 18 июля 1860 года „Бат кроникл“, — и можно надеяться на то, что следствие идет в верном направлении». Как бы то ни было, однако, расследуя преступление, совершенное в этом живописном селении, Уичер оказался на почве куда более зыбкой, нежели в городе. Ибо здесь он имел дело не с вымышленными фамилиями и адресами, но с потаенными фантазиями, подавленными желаниями, тайниками души.
Глава 8 ЧТО ТАМ ТВОРИТСЯ, В НАГЛУХО ЗАКРЫТОМ ДОМЕ?
19 июля
В четверг, 19 июля, по распоряжению Уичера было проведено снижение уровня воды во Фруме — чтобы легче было исследовать дно. Река протекала меж высоких крутых берегов под сводом хвойных деревьев, обозначая границу владений Кента. После почти трех недель сухой погоды вода немного спала, но тем не менее половодье не проходило, да и течение оставалось довольно быстрым. Чтобы понизить уровень воды, рабочим пришлось перекрыть реку выше плотины. Потом, вооружившись граблями и крюками, они на лодках двинулись вверх по течению в надежде зацепить выброшенный нож или кусок материи.
Полиция тем временем прочесывала клумбы и сады в пределах поместья, потом занялась полями, начинавшимися сразу за газонами. Вот как описывает местность, примыкающую к его владениям, сам Кент: «Позади дома — большой сад, за ним — поле с высокой травой; занимает оно около семи акров… Место открытое и легкодоступное». Такое описание усадьбы, будто бы открытой и продуваемой всеми ветрами, свидетельствует о том, что ее хозяина после смерти сына охватило чувство беззащитности. Частной жизни семейства пришел конец, его тайны вышли наружу, и обитатели дома на Роуд-Хилл во всей своей неприглядности предстали перед публикой.
Поначалу Сэмюел изо всех сил старался держать полицию подальше от помещений, занимаемых членами семьи и слугами. Подобно Элизабет Гаф, он упорно твердил, что Сэвила убил посторонний — вероятно, какой-нибудь обезумевший фермер, решивший отомстить семье за допущенную по отношению к нему несправедливость. Сэмюел еще до приезда Уичера показывал суперинтенданту Вулфу места, где мог бы укрыться человек, тайно проникший в дом. «Вот комната, которая почти всегда пустует», — говорил он, показывая меблированную комнату для гостей. «Да, но откуда незнакомцу-то известно, что сюда редко кто заходит?» — возражал Вулф. Потом Кент повел его в кладовую, где были свалены детские игрушки. «Ну, здесь-то уж точно никто не стал бы прятаться, — заметил Вулф, — просто из боязни, что кто-нибудь может зайти за игрушкой». Что же до «голубятни», небольшого помещения прямо под крышей, заявил он, то «тут полно пыли, и если бы кто-нибудь сюда заходил, я бы сразу заметил следы».[49]
Версия об убийце со стороны обсуждалась и на страницах газет. «Тщательное, от подвала до чердака, обследование дома на Роуд-Хилл убеждает в том, что не то что один, но и полдюжины непрошеных гостей вполне могли бы найти в нем той ночью укромное местечко без риска быть обнаруженными», — писала «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», представляя далее детальное описание интерьера:
Ни в одном из известных нам домов, имеющих девятнадцать комнат, не встречалось столько возможностей для укрытия, как здесь. В погреб, разделенный на шесть больших и поменьше отделений, ведут две двери; кроме того, надо спуститься по нескольким ступеням. Посредине лестницы в глубине дома громоздится просторный пустой буфет. В незанятой спальне над гостиной имеется незастеленная кровать с балдахином, туалетный столик с покрывалом до самого пола и два высоких платяных шкафа почти без одежды; оба запираются как снаружи, так и изнутри. На этом же этаже, прямо напротив друг друга, две комнатки — в них сложено немного дров. Этажом выше имеется еше одна свободная спальня, также с кроватью, покрытой балдахином, со столом, ширмой и платяными шкафами, такими же, как внизу… далее — две комнатки, одна почти пустая, в другой сложены дорожные саквояжи миссис Кент; большой комод, способный укрыть дюжину человек; еще небольшое помещение без окон, с двумя ванными и лестницей, ведущей на чердак и, далее, на крышу…
Собственно, продолжает автор статьи, кто угодно мог бы «ознакомиться» с любым закоулком в этом доме: «Два года, что предшествовали появлению мистера Кента и его семьи, дом пустовал, и местные излазили его вдоль и поперек… следы этих посещений настолько бросались в глаза, что, когда дом готовили к приему новых владельцев, лестницы пришлось перекрашивать шесть раз, настолько загадила их деревенская детвора». Здание «фактически превратилось в общее достояние, — писала „Фрум таймс“, — все, кому заблагорассудится, могли совершенно беспрепятственно бродить по нему».
На протяжении первой недели пребывания Уичера в селении Кенты почти не выходили из дома, лишь дважды или трижды Холком возил Мэри-Энн и Элизабет во Фрум. Там в отличие от селения или Троубриджа члены семейства могли провести день, не рискуя вызвать пересуды и не ловя на себе косые взгляды.
В нашем распоряжении нет описаний внешности Элизабет и Мэри-Энн, и они словно бы сливаются, представляя собой некий образ. Лишь в мимолетных эпизодах — Элизабет в одиночестве взирает на звездное небо или прижимает к груди крошку Эвелин, когда в кухню приносят тело Сэвила, — появляется на мгновение возможность разделить этих двух исключительно замкнутых, никого до себя не допускающих молодых женщин. Мэри-Энн, представ перед судом, буквально впала в истерику. Элизабет не позволяла слугам прикасаться к своей одежде как до, так и после стирки. «Мисс Элизабет всегда сама складывает свое белье, я до него никогда не дотрагиваюсь», — показала Сара. Обеим было уже почти по тридцать, и перспектива замужества становилась все более сомнительной. Подобно Констанс и Уильяму, старшие сестры представляли собой союз двоих, и внутренняя близость освобождала их от потребности общения с кем-либо еще.
В конце недели Сэмюел впервые поставил полицию в известность о душевном расстройстве Констанс. Отрицая ранее даже малейшую вероятность виновности дочери, он теперь как будто развернулся на сто восемьдесят градусов. «Мистер Кент, — писала „Девайзес энд Уилтс газетт“ в номере от 19 июля, — без всяких колебаний и в самых недвусмысленных выражениях заявил, что убийство совершила его собственная дочь! В качестве возможной причины он выдвинул ее анормальное поведение в детстве». Бросая тень на дочь, защищал ли он самого себя? Или прикрывал кого-то из членов семьи? Или пытался спасти Констанс от смертного приговора, подчеркивая ее душевное нездоровье? Ходили смутные слухи, будто бы на пару с Мэри Пратт Сэмюел отравил свою первую жену, а четыре младенца умерли в Девоншире не своей смертью, но убиты отцом… И может быть, миссис Кент-первая была вовсе не буйнопомешанной вроде жены героя, запертой на чердаке в доме мистера Рочестера («Джейн Эйр»), а невинной жертвой, опять-таки наподобие литературной героини («Женщина в белом»), изолированной во флигеле собственного дома.
На публике Сэмюел все еще избегал прямо говорить о душевном состоянии своей первой жены. «Теперь что касается психических отклонений в семьях по обеим линиям, — писала „Бат кроникл“. — На эту тему мистера Кента расспрашивали особенно обстоятельно, но он утверждал, что никогда не обращался к врачам по этому поводу». Это противоречит тому, что он рассказывал Степлтону о враче из Эксетера, диагностировавшем у его покойной жены шизофрению, но не снимает сомнений в ее психической полноценности. Парсонс и Степлтон — друзья Сэмюела — в один голос говорили о чрезмерной возбудимости Констанс. «Два врача, допрошенных по одиночке, — говорилось в той же статье, — твердо высказались в том смысле, что душевное состояние Констанс не отличается стабильностью и она подвержена нервным срывам». Уичеру же Сэмюел заявил, что в семье его первой жены были случаи сумасшествия. «Отец семейства, — писал в очередном отчете детектив, — сообщил мне, что мать и бабушка мисс Констанс страдали нервными расстройствами, а дядя (также по материнской линии) дважды лечился в психиатрической больнице».
Уичер поведал также об одном странном случае, происшедшем в доме Кентов весной 1859 года, когда Сэвилу было два года. Тогдашняя няня мальчика Эмма Спаркс уложила его вечером спать, как обычно, в вязаных носках. Наутро она обнаружила, что «с мальчика снято все, а носки и вовсе исчезли». Впоследствии они были обнаружены: один — в детской, другой — в спальне матери. Уичер заподозрил, что это дело рук Констанс, ибо «в тот вечер она была единственной, не считая миссис Кент, из взрослых членов семьи в доме, — мистер Кент уехал в служебную командировку, а старшие сестры гостили у кого-то». О местонахождении Уильяма он не упомянул — возможно, тот был в пансионе. Это происшествие — в общем-то всего лишь глупая шутка — могло задним числом рассматриваться как репетиция к реализации более страшных намерений. В нем отражается двойственная природа убийства Сэвила, аккуратность и скрытность: спящего мальчика осторожно извлекают из постели, держа его на руках спускаются вниз, выносят из дома и убивают. В точности неизвестно, кто именно рассказал Уичеру об этом случае: Эмма Спаркс или чета Кент, — он допрашивал всех троих. Но в любом случае никакой доказательной ценности этот эпизод не имел. «Не вижу, что можно отсюда извлечь», — заметил Уичер. Тем не менее он принял его к сведению — как психологический казус. В романе Уотерса «Приключения настоящего детектива» (1862) инспектор «Ф» поясняет: «Мне удалось выяснить кое-какие факты, пусть и ломаного гроша не стоящие как доказательство в суде, однако весьма важные в психологическом отношении».
В 1906 году Зигмунд Фрейд сопоставлял полицейское расследование с психоанализом:
В обоих случаях мы имеем дело с тайной, с чем-то скрытым… Преступник знает тайну и скрывает ее; больной — не знает, она скрыта даже от него самого… Следовательно, в этом отношении различие между преступлением и душевной болезнью имеет фундаментальный характер. Однако же задача психотерапевта, по сути, сходна с задачей следователя. Мы, врачи, должны обнаружить скрытый психический феномен, и, чтобы достичь этого, приходится применять различные детективные приемы.[50]
Вот и Уичер не только собирал факты, имеющие отношение к преступлению, но и выискивал нити, ведущие к внутренней жизни Констанс, к ее скрытой психической сути. Преступление было обставлено с использованием настолько запутанной символики, что просто не поддавалось какой бы то ни было разумной интерпретации. Ребенка швыряют в туалет для слуг, словно какую-то падаль. Преступник совершает то ли ритуальное убийство, то ли охвачен безумием — во всяком случае, он словно бы не раз, а четыре раза убивает мальчика: душит, перерезает горло, бьет ножом в грудь и топит в фекалиях.
Сэмюел пересказал Уичеру и еще одну любопытную с точки зрения психологии историю. Дело в том, что летом 1857 года его дочь была совершенно захвачена неким судебным процессом по делу об убийстве.
Мадлен Смит, двадцати одного года от роду, дочери архитектора из Глазго, было предъявлено обвинение в убийстве своего любовника, какого-то французского клерка. Утверждалось, что она подсыпала мышьяк в его чашку с горячим шоколадом. Якобы ей нужно было разделаться с ним, чтобы выйти замуж за более солидного претендента. После скандального судебного расследования, широко освещавшегося в печати, жюри присяжных признало выдвинутые против подсудимой обвинения «недоказанными» — вердикт, возможный только при ведении процесса в «шотландской» системе судопроизводства. Большинство считали Мадлен Смит виновной, но тот факт, что ей удалось обвести правосудие вокруг пальца, да еще с таким потрясающим хладнокровием, лишь добавил этой женщине популярности. Среди ее поклонников оказался, в частности, Генри Джеймс, назвавший совершенное ею преступление «выдающимся произведением искусства». Он буквально жаждал увидеть ее: «Много бы я дал за возможность взглянуть на ее лицо в кругу семьи».
Сэмюел рассказывал Уичеру, что его нынешняя жена всячески пыталась спрятать от Констанс выпуски «Таймс», где освещался процесс, — это свидетельствует о том, что за тринадцатилетней девочкой замечался нездоровый интерес к жестоким преступлениям. «Необычные обстоятельства этого дела, — докладывал начальству Уичер, — заставляли родителей тщательно прятать от мисс Констанс номера газет с описанием процесса; когда же все кончилось, миссис Кент заперла их у себя в секретере». Однако через несколько дней газет она там не обнаружила. «Подозрение пало на мисс Констанс. От вопросов та отмахивалась, мол, ничего не знаю, но в ее спальне учинили обыск, и газеты обнаружились между матрасом и сеткой кровати».
Быть может, чтение отчетов о суде над Мадлен Смит и ее оправдание дало Констанс представление о том, чтб есть убийство, — точно так же, как, допустим, Джону Томпсону, заявившему, что именно это дело натолкнуло его на мысль подлить синильной кислоты женщине, отвергшей его притязания. Пусть Сэвил умер не от отравления ядом, но его убийство было тщательно продумано и совершено бесшумно, под домашней крышей: одеяло является не менее удобным орудием убийства, нежели чашка с шоколадом. Мадлен Смит на своем примере продемонстрировала, что хитроумие и бесстрастность способны превратить представительницу среднего класса, совершившую преступление, в весьма гламурную особу, окутанную тайной, едва ли не в героиню (именно это слово употребил Томас Карлайл применительно к другой убийце — Марии Мэннинг). И если бы Мадлен имела достаточно хладнокровия, ее, может, вообще бы так и не поймали.
Могло сложиться впечатление, что сформировалось чуть ли ни какое-то новое племя — женщин-преступниц, чьи потаенные страсти находили себе выход в насилии. Обычно страсти эти возникали на сексуальной почве. С виду Мария Мэннинг и Мадлен Смит были вполне почтенными юными дамами. Их первое грехопадение — тайная связь, второе — убийство любовника, ставшего нечто вроде мощного разрушительного выброса сексуальной энергии. Мадам Фоско из «Женщины в белом» на преступление толкает страсть к властолюбивому графу, а ее «нынешнее приниженное состояние вполне могло скрывать опасные стороны натуры, находившие ранее, в ее прежней беспечальной жизни, вполне невинное выражение». Мадам Ортенз — убийца из «Холодного дома», «списанная» с Марии Мэннинг, «давно привыкла подавлять чувства и мириться с действительностью». Она «готовилась к достижению собственных целей, обучаясь в своего рода школе разрушения, где естественные порывы души загоняются внутрь и застывают, как мухи в янтаре».
Стремительное увеличение количества ежедневных изданий в середине XIX века породило опасения, что хлынувшие на их страницы секс и насилие могут и впрямь испортить нравы публики, а кого-то толкнуть на преступный путь. Журналисты нового поколения во многом походили на детективов: в них видели то борцов за правду, то бессовестных соглядатаев. В 1855 году в Британии насчитывалось семьсот газет, через пять лет уже — тысяча.[51] Если говорить об изданиях, редакции которых располагались неподалеку от Роуд-Хилл, то это были «Троубридж энд Норт-Уилтс эдвертайзер» (основана в 1855 году) и «Фрум таймс» (1859), и подписчиком последней являлся мистер Кент. Криминальная хроника занимала в газетах все большее место, и поскольку благодаря телеграфу новости теперь быстро разносились по всей стране, читателей еженедельно заваливали отчетами о насильственной смерти. Вновь вспомним Диккенса, на сей раз «Большие надежды» (1861): читая новости, мистер Вупсел ощущает, как «весь, до самых бровей, покрывается кровью».
За месяц до гибели Сэвила Кента все английские газеты сообщали о по меньшей мере трех убийствах, совершенных на бытовой почве. В Шордиче, восточном районе Лондона, некий трубоукладчик перерезал горло своей сожительнице, да так, что, если верить газете «Эннуэл реджистер», «голова почти отделилась от тела. Судя по всему, смерть наступила почти мгновенно — женщина не сопротивлялась и не кричала». В Сандауе, графство Айл-оф-Уайт, сержант Королевской артиллерии Уильям Уитворт зарезал жену и шестерых детей, «вонзив бритву так глубоко, что стал виден позвоночник». Наконец, один портной-француз, снимавший квартиру над кондитерской на Оксфорд-стрит, в Лондоне, отпилил жене голову, а затем пошел в Гайд-парк и застрелился. «Его брат, — писали газеты, — заявил, что он часто захаживал в Музей доктора Канна, где изучал строение шеи и горла, проявляя особый интерес к положению яремной вены». Если к убийству подготовил себя портной, то с таким же успехом это мог сделать любой подписчик газеты.
В середине недели Уичер вместе с судьями по делу об убийстве Сэвила в очередной раз допрашивал Констанс. Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с домашними, девушка сказала: «Сэвил мне очень нравился… Было время, он меня сторонился, но в эти каникулы вроде бы приблизился. А не нравилась я ему потому, что дразнила его. Но ни разу не ударила и не ущипнула… Среди братьев и сестер самый любимый у меня — Уильям. Когда я живу в пансионе, мы переписываемся… Собака не бросилась бы на меня, если б узнала, а если бы не узнала, то укусила… У меня есть кошка, но она мне безразлична… Из слуг мне больше всех нравится кухарка. Но и к няне я очень хорошо отношусь».
О самой себе Констанс отозвалась следующим образом: «Робкой себя не считаю… Не люблю оставаться в темноте… Легко могла бы пронести убитого от дальней стены этой комнаты до двери. В школе меня считают сильной». Констанс отрицала, что говорила школьным подругам о своем нежелании ехать домой на каникулы. В ответ на вопрос о суде над Мадлен Смит она признала, что могла по рассеянности взять газету с отчетом о нем. «До меня доносились слухи, что приятель Мадлен Смит был отравлен. Папа как-то говорил об этом». Бегство в Бат четырехлетней давности выглядело в ее изложении так: «Как-то я остригла волосы и бросила их туда, где было найдено тело малыша. То есть часть волос я остригла сама, а потом помог брат. И это я придумала, куда их бросить. Мы с Уильямом отправились в Бат кружным путем… Я сбежала из дому, потому что меня наказывали. И уговорила брата присоединиться».[52]
К концу недели в округе заговорили о полной беспомощности полиции графства, а также о препятствиях, чинимых следствию Сэмюелом Кентом. Особенно много рассуждали о том, что случилось после обнаружения тела мальчика, а именно следующей ночью.[53]
Вечером в субботу, 30 июня, суперинтендант Фоли отдал распоряжение констеблям Херитиджу (полиция Уилтшира) и Урчу (полиция Сомерсетшира) остаться на ночь в доме на Роуд-Хилл. «Мистер Кент скажет вам, что делать, — заметил Фоли. — Только не высовывайтесь, мистер Кент не хочет, чтобы слуги знали, что вы здесь». О том, что в доме находятся полицейские, было, помимо Фоли и самого Сэмюела, известно одной только миссис Кент. К тому времени стало уже более или менее ясно, что убийство совершено кем-то из домашних, и тем удивительнее, что Фоли доверил Сэмюелу Кенту проведение ночной полицейской операции.
Около одиннадцати часов, когда все, кроме хозяина, легли спать, Херитидж и Урч постучали в окно библиотеки. Сэмюел впустил их в дом и провел на кухню, где и велел остаться, поручив выследить того, кто попытается сжечь на плите вещественные доказательства. Кент оставил полицейским хлеба, сыра и пива и запер дверь в кухню на засов. До тех пор пока Херитиджу — дело было около двух ночи — не понадобилось выйти, они и понятия не имели, что их заперли. Обнаружив это, Херитидж окликнул мистера Кента и, не поучив ответа, заколотил в дверь палкой.
— Так ты весь дом перебудишь, — проворчал Урч.
— Да, но мне надо выйти, а тут заперто.
Когда примерно через двадцать минут Сэмюел наконец появился и отпер дверь, констебль осведомился, зачем, собственно, понадобилось их запирать, к тому же без предупреждения. «Я вышел пройтись», — ответил Сэмюел, проигнорировав вопрос. Урч остался на кухне до утра. Дверь была по-прежнему заперта. Сэмюел заглядывал еще дважды или трижды, пока наконец констебль в пять утра не ушел из дома. «Часть ночи я провел в библиотеке, — пояснял впоследствии Сэмюел, — но раз или два выходил из дома, посмотреть, как там со светом. Несколько раз я подходил к одному и тому же месту». По его словам, он обошел дом, проверяя, не догорели ли свечи и не нужно ли подровнять фитили.[54]
До этого времени полицейские скрывали тот факт, что в ночь после убийства их продержали взаперти на кухне. Это «беспрецедентная», по определению «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», ситуация в принципе позволяла любому обитателю дома уничтожить вещественные доказательства. Действия Сэмюела отдавали неуважением к полиции, да и стремлением оградить свой дом от ее внимания. А с другой стороны, его поведение можно было счесть образцовым: защита семьи — первый долг отца.
Многократные просьбы полиции представить поэтажный план дома вызывали у Сэмюела такую реакцию, как если бы кто-то попросил его помочь сорвать крышу. Он неизменно отвечал резким отказом, не позволяя также производить замеры комнат. Как отмечал Роуленд Родуэй, «мистеру Кенту просто претило присутствие в доме незваных гостей».
К началу второй половины XIX века английская семья сильно изменилась. Дом, служивший некогда и жильем, и рабочим местом, превратился в самодостаточное, замкнутое, исключительно семейное пространство. В XVIII веке слово «семья» означало «родовой клан» — союз людей, связанных кровным родством; теперь это по преимуществу обитатели дома, не считая слуг, — то есть семья как некая тесно сплоченная общность совместно проживающих родственников. Хотя пятидесятые годы были отмечены появлением огромного стеклянного здания — Хрустального дворца Всемирной выставки 1851 года, — английский дом на протяжении этого десятилетия «плотно затворил свои ставни и двери» и культ домашнего очага стал одновременно и культом уединенности. «В глазах любого англичанина дом — это место, где он живет с любимой женщиной и детьми, — писал, посетив в 1858 году Англию, Ипполит Тэн. — Это его собственная маленькая вселенная, и в нее нет доступа посторонним». Приватность и уединенность стали фундаментом викторианской семьи, принадлежащей к среднему классу, буржуазия же пристрастилась к «скрытности» (само это слово — secretive — было впервые зафиксировано в 1853 году). Англичане отгородились стенами домов от окружающего мира, сделав свое жилище почти невидимым для чужих глаз. Створки этой раковины размыкались лишь для избранных, приглашаемых на ужин или на чай как на своего рода церемонии, присущие семейной жизни.[55]
В то же время век домовитости был и веком информации, веком вездесущей и жадной до сенсации прессы. В дом на Роуд-Хилл 7 июля пробрался под видом детектива репортер из «Бат кроникл» и поспешно набросал в блокноте его план, не вполне, правда, точно соответствующий действительности; он был обнародован на страницах газеты пять дней спустя. Нравилось это Сэмюелу Кенту или нет, но после публикации схемы его дом оказался словно грубо препарированным и выставленным на обозрение всем. Публика жадно накинулась на этот любительский набросок. Домашний пейзаж приобрел эмоциональные оттенки: запертый погреб, пыльный чердак, чуланы с кроватями без матрасов и платяными шкафами, винтовая лестница в глубине дома. «Взглядам публики предстало во всей своей неприкрытости нутро этого дома», — писала «Бат экспресс».
Жуткое убийство помогло увидеть то, что еще только обретало форму в наглухо закрытом буржуазном доме.[56] И возникло стойкое ощущение того, что замкнутая семья, столь почитаемая викторианским обществом, может быть средоточием подавленных, гибельных, тлетворных чувств, гнездом, источающим миазмы секса. А что, если приватность — это источник греха, нечто такое, что обрекает на гниение счастливую семейную жизнь в самой ее сердцевине? Чем более закрыт дом, тем ядовитее может быть атмосфера внутри его.
Какая-то скверна поразила дом на Роуд-Хилл — скверна, столь характерная для Викторианской эпохи. За неделю до убийства Сэвила Кента «Девайзес энд Уилтшир газетт» сообщала о выходе нового издания книги Флоренс Найтингейл «Заметки сестры милосердия», впервые опубликованной в 1859 году. Там же цитировался фрагмент из книги, рассказывающий о том, как в респектабельных, наглухо закрытых домах могут гнездиться болезни и пороки. Автор упоминает несколько случаев пиемии (тяжелого заболевания крови), зарегистрированных в «роскошных частных домах»; причиной этого был «гнилой дух… пустующие комнаты никогда не проветриваются и не убираются, в них не бывает солнца; буфеты превращаются в резервуары спертого воздуха; окна плотно закрыты в любое время суток… так часто приходит в упадок род, а еще чаще — семья».
В четверг, 19 июля, «Бат кроникл» опубликовала редакционную статью, посвященную убийству в доме на Роуд-Хилл:
На нашей памяти нет преступления, которое вызвало бы столь же острую и столь же болезненную реакцию в стране. И подогревается этот невероятный и, конечно, болезненный интерес не только тайной, окутывающей это событие… Его необычный характер и беспомощность невинной жертвы — вот что волнует воображение и сердца людей… Английские матери, глядя на малюток, мирно спяших в своих колыбелях, содрогаются при мысли о ребенке, таком же невинном и таком же беззащитном, как их собственные дети, которого тихим, безмятежным утром грубо выхватили из кроватки и предали жестокой смерти. И поэтому именно английские матери с особенной проникновенностью, особенной страстью обращаются к редакторам газет и чуть ли не кричат о необходимости самого тщательного и энергично проводимого расследования. Во многих домах, где искренняя любовь к близким омрачена страхом, сон самого важного члена семьи — матери — теперь не безмятежен, а покой надолго нарушен мыслями о страшной истории, случившейся в доме на Роуд-Хилл. Тяжелые сомнения, смутные подозрения мелькают в ее сознании… Событие, заставившее содрогнуться всю Англию, каждый дом, приобретает общественную значимость, побуждает обратить на него самое пристальное внимание.
Обычно нераскрытое дело об убийстве порождает в публике страх, что преступник может нанести повторный удар. Но в данном случае люди боялись другого — того, что такой убийца может появиться в любом доме. Это подорвало саму идею, саму уверенность в надежности домашней крепости. И до тех пор пока преступление не будет раскрыто, ни у одной английской матери не будет спокойного сна, ей будет мерещиться, что в доме притаился детоубийца и им может оказаться муж, няня, дочь.
При том что одно только предположение, будто хозяин дома, защитник семьи поднял руку на собственного сына с целью скрыть свой грех, означало покушение на все идеалы среднего класса, пресса и широкая публика на удивление быстро уверовали в виновность Сэмюела Кента. Не менее страшной — и тоже явно принятой на веру — стала версия, что сообщницей Кента в убийстве была няня — человек, в чьи обязанности входила забота о ребенке. Могло быть, правда, еще одно допущение, возвращающее к библейским временам и сюжетам, а именно — к убийству Каином брата своего Авеля. В статье, опубликованной в «Девайзис газетт» от 19 июля, содержался намек на то, что за убийством мальчика стоит кто-то из его братьев или сестер: «Голос крови существа такого же невинного, как Авель, возопит из глубин, указывая на убийцу».[57]
В тот же день «Бристоль дейли пост» напечатала письмо читателя, утверждавшего, что исследование сетчатки глаз покойного поможет составить портрет убийцы. Предположение основывалось на данных эксперимента, осуществленного в США в 1857 году (правда, до конца он так и не был доведен). «На сетчатке, — пояснял автор письма, — остается отражение последнего увиденного в жизни предмета, и оно не стирается после смерти». Согласно этой гипотезе глаз представляет собой нечто вроде пластины дагеротипа, запечатлевающей картинки, проявляемые, как фотографии в темной комнате. Таким образом, современные технологии позволяют раскрывать даже те тайны, что похоронены в глазах покойного. Так было доведено до крайности представление, превращающее глаз в основной инструмент расследования: «великий детектор», носитель информации становится в то же самое время беспристрастным роковым свидетелем, предающим своего хозяина. Письмо перепечатали едва ли не все английские газеты, и редко у кого оно вызывало скепсис. Правда, «Бат кроникл» отмечала, что в данном случае из этого открытия вряд ли можно извлечь какую-либо пользу, ибо в момент нападения Сэвил спал, так что облик убийцы просто не мог запечатлеться на сетчатке.
Обрушившийся 19 июля на Сомерсетшир и Уилтшир ливень положил конец недолгому лету 1860 года. Стога сена еще не успели высохнуть и по большей части сгнили. Кукурузе и пшенице не хватило солнца, чтобы созреть, и поля оставались зелеными.
Глава 9 Я ВАС ЗНАЮ
20–22 июля
В одиннадцать утра пятницы, 20 июля, Уичер доложил судьям, собравшимся в Темперенс-Холле, о предварительных результатах проведенного расследования и объявил, что подозревает в убийстве Констанс Кент.
Посовещавшись, судьи предложили Уичеру арестовать Констанс, но у того возникли сомнения. «Я обратил их внимание, — сообщает он Мейну, — что такой шаг поставит меня в двусмысленное положение относительно полиции графства, особенно имея в виду то, что у местных другая версия случившегося. Но они (судьи) отмели эти возражения, заявив, что передают расследование исключительно в мои руки». Председателем суда был Генри Гейсфорт Гиббс Ладлоу, он же старший офицер 13-го стрелкового корпуса, заместитель председателя совета графства Сомерсетшир и богатый землевладелец. Он жил с женой и одиннадцатью слугами в Хейвуд-Хаусе, Уэстбери, в пяти милях от деревни. Из других судей наиболее влиятельными были владельцы фабрик братья Уильям и Джон Стом, построившие себе виллы на противоположных сторонах Хилпертон-роуд, в новом, весьма фешенебельном районе Троубриджа. Именно Уильям наиболее решительно убеждал министра внутренних дел поручить расследование дела лондонскому детективу.
Около трех пополудни Уичер вошел в дом на Роуд-Хилл и велел пригласить Констанс в гостиную, где та вскоре и появилась.
— Я офицер полиции, — представился Уичер. — У меня на руках ордер на ваш арест по обвинению в убийстве вашего брата Фрэнсиса Сэвила Кента. Позвольте зачитать.
Уичер зачитал постановление. Констанс разрыдалась.
— Я ни в чем не виновата, — повторяла она. — Ни в чем не виновата.
Затем девушка попросила разрешения взять из своей комнаты траурный капор и накидку. Уичер проследовал за ней. Дав Констанс одеться, он посадил ее в повозку, и они направились в Темперенс-Холл. Дорога прошла в молчании. «Она и словом со мной не обмолвилась», — отмечал впоследствии Уичер.[58]
Еще раньше перед входом в здание, прослышав о том, что в доме Кентов кого-то арестовали, собралась толпа сельских жителей. Большинство думало, что перед судьями предстанет сам Сэмюел Кент, но сначала вместо него появились Элизабет Гаф и Уильям Натт. Был полдень, они были вызваны для дачи показаний, а двадцать минут четвертого к Темперенс-Холлу подъехала повозка, толпа недоумевала: «Смотрите-ка, да это мисс Констанс!»
Рыдая, с опущенной головой она проследовала в здание в сопровождении Уичера. Одета была Констанс в черное, лицо плотно прикрыто вуалью. «Шла твердым шагом, но была вся в слезах», — сообщала «Таймс». Толпа придвинулась почти вплотную.
Констанс села напротив судейского стола. По обе стороны от нее разместились Уичер и суперинтендант Вулф.
— Ваше имя Констанс Кент? — спросил председатель Ладлоу.
— Да, — прошептала она.
Несмотря на прикрывавшую лицо плотную вуаль и носовой платок, прикладываемый ею то и дело к глазам, репортеры смогли составить подробнейший портрет и описать поведение девушки, как если бы внимание к внешней стороне дела могло приоткрыть завесу над ее внутренним «я».
«На вид ей лет восемнадцать, — пишет обозреватель „Бат экспресс“, — хотя все утверждают, что ей только шестнадцать. Это довольно рослая, коренастая девушка с округлым, красным от слез лицом и наморщенным лбом. У нее странные глаза — узкие и глубоко посаженные, что оставляет несколько неприятное впечатление. Во всем остальном во внешности ее нет ничего необычного. В то же время страшное преступление, вменяемое ей в вину, несомненно, отразилось в какой-то степени на ее виде, обычно, по отзывам людей знающих, довольно угрюмом. На юной даме было черное шелковое платье и креповая накидка такого же цвета; на протяжении всего судебного заседания она плотно прижимала к лицу вуаль. Заплаканные глаза были опущены вниз, за все время заседания она ни разу не подняла головы. В общем, судя по поведению, она очень тяжело переживала свое положение, хотя с начала до самого конца заседания ни разу не выказала своих чувств». Креп на одежде, которую Констанс носила в эти первые дни траура, представлял собой темную кисею, сшитую из туго переплетенных, на клею, нитей.
Констанс, по впечатлению корреспондента «Вестерн дейли пресс», отличалась «крепким телосложением, лицо у нее круглое, полноватое, не выражающее, по первому впечатлению, ни какой-то особой решительности, ни живого ума. Она сдержанна в манерах и сохраняет на протяжении всех слушаний одно и то же замкнутое выражение лица».
Репортер «Фрум таймс» со своей стороны, кажется, уловил в ее облике одну настораживающую особенность: подавленную сексуальность либо склонность к вспышкам ярости. Выглядит девушка, пишет он, «несколько необычно, лицо почти детское, но формы развиты не по годам; черты лица, разгоревшегося от волнения, довольно правильные, однако в глазах застыло тяжелое, угрюмое выражение, свойственное, по-видимому, всем членам семьи».[59]
Уичер зачитал судьям следующее заявление:
— «Начиная с последнего воскресенья я расследовал обстоятельства, связанные с убийством Фрэнсиса Сэвила Кента, совершенного в ночь на пятницу, 29 июня текущего года, в доме его отца, расположенного на Роуд-Хилл, графство Уилтшир. Вместе с капитаном Мередитом, суперинтендантом Фоли и другими офицерами полиции я изучил место преступления и пришел к выводу, что оно было совершено кем-то из живущих в доме. На основании собственных наблюдений и информации, полученной от других лиц, я послал в минувший понедельник за Констанс Кент, предварительно ознакомившись с содержимым ящиков ее стола, где обнаружил список белья — данный список предлагается вашему вниманию, — включающий наряду с иными предметами три ночные рубашки».
Зачитав ответы Констанс на заданные им вопросы, Уичер закончил:
— Прошу суд возвратить вышеназванную Констанс Кент под стражу и обеспечить мне возможность собрать свидетельства, указывающие на то, что подозреваемая испытывала к покойному чувство враждебности, а также принять меры к отысканию пропавшей ночной рубашки, каковая — в случае если она не уничтожена — может быть найдена.
Далее судьи выслушали показания Элизабет Гаф (она давала их сквозь слезы) и Уильяма Натта, после чего осведомились, сколько Уичеру понадобится времени, чтобы собрать свидетельства, уличающие Констанс. Он заявил о необходимости содержания ее под стражей до следующей среды или четверга.
— И этого времени вам хватит? — спросил преподобный Кроли.
— При отсутствии чрезвычайных обстоятельств, — ответил Уичер, — срок предварительного задержания ограничивается неделей.
Судьи утвердили запрашиваемый срок: Констанс Кент будет содержаться в заключении до одиннадцати утра пятницы.
— Вы не обязаны делать каких-либо заявлений, — повернулся Ладлоу к Констанс, — но если вам есть что сказать, прошу.
Констанс промолчала.
Уичер и Вулф вывели ее из зала и посадили в длинный, с откидным верхом экипаж, который и повез ее в девайзесскую тюрьму, что в пятнадцати милях от Темперенс-Холла. Они ехали под унылым небом, и «на протяжении всей дороги, — отмечал Уичер, — девушка сохраняла угрюмое молчание и не выказывала ни малейших чувств».
«В подобных обстоятельствах, — писала „Бристоль дейли пост“, — так ведут себя либо ни в чем не повинные люди, либо (при должном самообладании) закоренелые преступники».
Собравшиеся, по свидетельству «Вестерн дейли пресс», сохраняли в этот драматический момент полное спокойствие, более того, как пишет «Троубридж энд Норт-Уилтс эдвертайзер», Констанс провожали «сочувственными возгласами». Большинство деревенских, говорится далее в той же газете, считали ее невиновной. На взгляд местных, она отличалась «эксцентрическим характером», и подлинный убийца просто украл ночную рубашку, чтобы навлечь на нее подозрение.
Сразу после отъезда Констанс и Уичера судьи послали во Фрум за крестным Сэвила — доктором Мэллемом, и «женщиной, ранее жившей в доме у Кентов». Наверное, это была прежняя няня мальчика, Эмма Спаркс. Скорее всего Уичер зачитывал их показания судьям, но тем самим захотелось выслушать свидетелей.
Суд распорядился еще раз осмотреть дом на Роуд-Хилл на предмет обнаружения ночной рубашки. Сэмюел Кент впустил полицейских, и всю вторую половину дня они обшаривали здание фут за футом. Как писала «Фрум таймс», «все в доме перевернули и перетряхнули, от подпола до чердака».
По всей вероятности, Уичер рассчитывал на то, что потрясенная арестом Констанс во всем признается. Это был один из его любимых приемов: чем меньше доказательств, тем увереннее должно звучать обвинение. Эта тактика сработала в ходе первого из проведенных им (и официально зарегистрированных) арестов — горничной в Холборнском борделе, — а также при задержании конокрада в захудалом сельском пабе (об этом случае он рассказывал Диккенсу).
«Запираться нет смысла, — заявил Уичер незнакомому мужчине, попавшему под его подозрение. — Я вас знаю. Я полицейский из Лондона. Вы арестованы за кражу». А двух собутыльников этого проходимца Уичер попросту выпроводил из паба, сделав вид, что тут проводится настоящая полицейская операция: «Думайте что хотите, но я тут не один. Так что идите-ка отсюда подобру-поздорову и подумайте о себе. Право, так будет лучше, ибо и вас обоих я хорошо знаю». Конокрад и его приятели заговорили. Констанс — нет. Теперь в распоряжении Уичера была неделя, чтобы отыскать доказательства, позволившие бы передать дело в суд.
Из Троубриджа Уичер послал за пять шиллингов телеграмму по адресу круглосуточно работающего телеграфа на Стрэнде, неподалеку от Скотленд-Ярда. В ней он просил сэра Ричарда Мейна прислать помощника. «Сегодня, получив ордер на арест, я задержал Констанс Кент, — говорилось в телеграмме. — Неделю она будет находиться в камере предварительного заключения. Судьи передали дело целиком в мои руки. Надо искать доказательства. Это дело нелегкое, нужна помощь. Прошу прислать сержанта Уильямсона или Тэннера». Оба были самыми надежными напарниками Уичера. Получив в тот же день телеграмму, Мейн поставил на обороте свою резолюцию: «Немедленно командировать Уильямсона или Тэннера».
Детектив-сержант Уильямсон был срочно вызван по домашнему адресу Мейна, на Честер-сквер, Белгрейвия. Комиссар велел ему сразу же отправляться в путь. Уильямсон взял кеб и сказал, чтобы его отвезли на Стрэнд, откуда направил в Троубридж телеграмму, уведомляя Уичера, что выезжает.
Фредерик Адольфус Уильямсон — Долли — был протеже Уичера. Они часто работали на пару; в последний раз — при поимке Эмили Лоренс и Джеймса Пирса — знаменитых грабителей, специализировавшихся на драгоценностях. Умный и энергичный Долли изучал в свободное от работы время французский язык. На округлом, с мягкими чертами лице выделялись добрые глаза. Отец сержанта, служивший суперинтендантом полиции, основал первую на полицейском участке библиотеку.[60] Вместе с еще шестнадцатью холостыми полицейскими Долли жил в здании Большого Скотленд-Ярда на Пэлас-плейс, 1.[61] Один из его сослуживцев и соседей, Тим Кавано, впоследствии рассказывал, как Долли привязался к прижившемуся в доме коту. У этого кота, по кличке Томас, была, по словам рассказчика, привычка «задирать и поедать других котов в округе», так что люди, жившие в соседних домах, взбунтовались и потребовали избавить их от этой напасти. «К великому сожалению, нам пришлось привязать к шее бедняги камень и бросить в реку. Для Долли это был настоящий удар. Он очень привязался к Томми и — теперь уж можно раскрыть эту тайну — сам готовил „бойца“ к ночным подвигам. Не раз и не два Томми приносил в зубах отличный кусок оленины, зайца или крольчатину».[62] В этом повествовании Уильямсон предстает как человек одновременно безжалостный и сентиментальный, способный натаскивать кота на убийство, а затем оплакивать его гибель. Со временем Уильямсон встал во главе службы детективов.
Уичер мог только гадать, поверит ли публика, что девушка-подросток способна на такое ужасное и хорошо продуманное убийство, что было совершено в доме на Роуд-Хилл. Но по собственному опыту общения с обитателями лондонских трущоб и притонов он знал, что дети, бывает, не останавливаются перед самыми темными делишками. Так, 10 октября 1837 года, когда Уичер только начинал службу в полиции, неподалеку от одного из таких притонов, в Холборне, задержали восьмилетнюю девочку. Горько рыдая, она стояла посреди улицы и говорила прохожим, что потеряла два пенса и теперь боится возвращаться домой. Набив карманы полупенсовиками, она двинулась дальше, чтобы повторить тот же трюк в других кварталах. Констебль участка Е трижды наблюдал за ее проделками, перед тем как наконец арестовать. В суде девочка снова повторяла, что боится родителей. Трудно сказать, была ли это правда или просто уловка. «Девочка, плача, твердила, — пишет „Таймс“, — что отец с матерью посылают ее продавать расчески и, если она к вечеру не принесет домой два-три пенса, жестоко избивают, приговаривая, что, если торговля не идет, она должна добывать деньги другим способом».
На следующий день, 11 октября, другой девочке, десяти лет, было предъявлено обвинение в том, что она разбила окно в магазине часовщика. В суд за ней последовала толпа сверстников. «Одеты они были как блатные, — пишет „Таймс“, — а вид и манера выражаться выдавали воров и проституток, хотя всем им не было еще и пятнадцати». Один из мальчишек заявил, что пришел заплатить штраф за подружку — три с половиной шиллинга, стоимость разбитого стекла, — и он с презрением бросил монеты на землю.
Это были по преимуществу дети из неблагополучных семей. Уичер в первые же недели службы в Холборне не раз наблюдал примеры небрежного или попросту жестокого обращения родителей с детьми. Его коллега Стивен Торнтон как-то схватил пьяную дворничиху Мэри Болдуин (она же Брайант), обслуживавшую одно пользующееся исключительно дурной славой в районе Сент-Джайлз семейство. Известна была Мэри, в частности, тем, что однажды попыталась убить свою трехлетнюю дочь. Она засунула ребенка в мешок и поволокла по тротуару. Когда какой-то прохожий, услышав крики ребенка, остановил преступную мать, та выбежала на мостовую с явным намерением бросить мешок под колеса приближающегося омнибуса. Ребенка спас кто-то из пассажиров.
С годами стало ясно, что и отпрыски семей из среднего класса тоже могут быть испорчены или развращены; иногда было почти невозможно отделить жертву от насильника. В 1859 году одиннадцатилетняя девочка по имени Евгения Пламмер обвинила преподобного Хэтча, своего частного учителя и капеллана Уондсвортской тюрьмы, в сексуальных домогательствах, жертвой коих уже стала ее младшая сестра, когда обе жили в его доме в качестве пансионерок. Восьмилетняя Стефани подтвердила эту историю. Процесс привлек широкое внимание; примечательно, что Хэтчу (как ответчику) было отказано в праве слова[63] и он был приговорен к четырем годам каторжных работ. Но уже на следующий год, за несколько недель до убийства в доме на Роуд-Хилл, Хэтч подал апелляцию, обвинив Евгению в лжесвидетельстве. На этот раз ответчицей была она и, стало быть, показаний давать не могла. Присяжные пришли к заключению, что действительно вся история была выдумана. Они согласились с доводами адвоката священника, утверждавшего, что обвинения со стороны девочки — это «чистая фантазия, порождение больного и развращенного воображения».
В нашедшей широкий отклик редакционной статье, посвященной убийству в доме на Роуд-Хилл, «Морнинг пост» ссылалась именно на этот случай: «В то, что преступление совершил ребенок, поверить было бы невозможно, если бы дело Евгении Пламмер не напоминало нам о том, что раннее повзросление может иногда принимать у детей самые порочные формы». В случае с Евгенией речь идет о преждевременном половом созревании, но ведь оно имело и, так сказать, побочные эффекты: хладнокровная ложь, выдержка, сдержанность, склонность трансформировать потаенные комплексы в самую откровенную ложь. Так что, если в 1859 году читатели газет были шокированы известием о том, что в сексуальных домогательствах был обвинен священнослужитель, то год спустя они, должно быть, были еще больше потрясены, обнаружив, что ситуация повернулась на сто восемьдесят градусов и носителем зла, существом, поломавшим человеческую жизнь под воздействием своего нездорового воображения, стал ребенок.[64] Впрочем, и в этом уверенности не было. Как отмечал в 1861 году еженедельник «Блэквудс Эдинбург мэгэзин», единственным бесспорным фактом является то, что «либо один состав присяжных, либо другой осудили невиновного».
В субботу утром Уичер направился в Бристоль, за двадцать пять миль к северо-западу от Троубриджа, где нанес визит главному суперинтенданту Джону Хэндкоку, жившему в городе с женой, четырьмя сыновьями и двумя слугами. Хэндкок был когда-то сослуживцем Уичера, они вместе патрулировали улицы Холборна еще двадцать лет назад, будучи молодыми констеблями. В течение двух часов колесил Уичер по Бристолю, наводя всяческие справки, а затем сел в поезд и поехал на север, в Чарбери, графство Глостершир. Оставшиеся до местечка Олдбери-он-Хилл, где жила пятнадцатилетняя Луиза Хэзерхилл, еще одна школьная приятельница Констанс, восемнадцать миль он проделал в экипаже.
«Она часто заговаривала со мной о младших детях в доме, — рассказывала Луиза. — Жаловалась, что к ним у родителей особое отношение. Еще говорила, что ее брата Уильяма заставляют возить детскую коляску, а ему это не нравится. Она слышала, как отец сравнивал младшего сына со старшим, повторяя, что тот вырастет куда более достойным человеком… Нет, о погибшем ребенке она ничего такого особенного не говорила».[65] Со слов Луизы можно было заключить, что Констанс было прежде всего обидно за Уильяма.
Вслед за Эммой Моуди Луиза подтвердила, что Констанс — девушка крепкая и сильная. Уичер писал в отчете, что это «хорошо сложенная, физически развитая девушка; ее школьные подруги утверждают, что она охотно мерялась с ними силой, любила демонстрировать свое превосходство и порой хвастала, что готова бросить вызов любому, хоть Хинэну и Сэйерсу, вместе взятым». В апреле того года вся страна бредила поединком между тяжеловесами — американцем Джоном Хинэном и англичанином Томом Сэйерсом, — последним в истории бокса боем, проведенным по старым варварским правилам, без перчаток. Хинэн был на шесть дюймов выше Сэйерса и на сорок шесть фунтов тяжелее. В кровавом двухчасовом состязании, закончившемся ничьей, Сэйерс, отражая один из ударов, сломал себе правую руку, Хинэн — левую и к тому же едва не лишился зрения: мощные удары противника часто попадали ему в глаз. Девочки говорили Уичеру, что Констанс постоянно хвастала своей силой и «все ее боялись».
Субботняя публикация в «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», газете, наиболее близкой Уичеру своей позицией, туманно намекала, что Уильям тоже как-то причастен к преступлению. Со ссылкой на Элизабет Гаф, там, в частности, говорилось, что «из-за своих тяжелых башмаков (мальчик) часто пользовался черной лестницей». Таким образом, с одной стороны, усиливалось ощущение, что мистер и миссис Кент держали Уильяма на расстоянии, а с другой — у него словно бы не оставалось варианта, кроме как лестница для слуг, а именно ею, как считал Уичер, воспользовался убийца, чтобы вынести Сэвила из дома. Автор газетной статьи выдвигал версию, что «если в убийстве были действительно замешаны двое, то удар Сэвилу мог нанести сообщник и, таким образом, вина в равной степени ложится на обоих». В то время как Констанс находилась в камере предварительного заключения, разнесся слух, будто Уильям также взят под стражу.
В Бристоле, а затем и Троубридже Уичер провел брифинги с журналистами, в ходе которых он особо подчеркнул недовольство Констанс домашними порядками и дурную наследственность по материнской линии. «Вероятная душевная болезнь — вот проблема, тесно связанная с расследованием мистера Уичера», — говорится в статье, опубликованной в «Троубридж энд Норт-Уилтс эдвертайзер». Объясняется это, по сведениям, полученным репортером газеты, тем, что «хроника преступлений, жертвой которых являются малолетние дети, знает мало таких случаев — если они вообще имеют место, — когда убийца находился бы в здравом рассудке». Что же касается мотива, то «как говорят, ребенок был любимцем в семье, мать в нем души не чаяла». Репортеру также удалось выяснить, что со слугами и детьми мистера Кента от первого брака обращаются весьма сурово, а нынешняя жена хозяина «ведет, по слухам, дом железной рукой, все находятся у нее под каблуком».
Детектив-сержант Уильямсон приехал в Троубридж в полдень 21 июля. В тот же день вышел очередной номер журнала «Круглый год», в котором была опубликована рецензия Уилки Коллинза на недавно вышедшую биографию французского детектива Эжена Видока. Коллинз с похвалой отзывается о «дерзких, простых и решительных» приемах сыщика, его «уме, выдержке и настойчивости, с которой [он] выслеживает и ловит в свои силки человеческую дичь». Француз — герой преступного мира, ставший шефом полиции, — был примером, на который равнялись его английские коллеги.
В воскресенье, 22 июля, в гостиничном номере Уичер писал второй отчет на имя сэра Ричарда Мейна. В конце концов получился пятистраничный документ, в котором автор обосновывает свою уверенность в виновности Констанс Кент.[66] Главными аргументами в пользу этой версии, по мнению Уичера, являются пропавшая ночная рубашка и показания однокашниц Констанс. Отмечает он также и другие подозрительные обстоятельства: убийство было совершено вскоре после возвращения Констанс и Уильяма домой из пансиона; они — единственные в доме, у кого были отдельные комнаты; оба ранее использовали уборную во дворе как тайное убежище. У Констанс, заверял Уичер своего шефа, достаточно сил, и физических, и душевных, чтобы совершить убийство, — «судя по всему, она наделена твердым характером». Уичер далее благодарит Мейна за подмогу в лице сержанта Уильямсона и напоминает о сложностях в работе с местной полицией. «Во взаимодействии с полицией графства я испытываю определенную неловкость, что объясняется естественной ревностью с ее стороны, тем более что здесь склонны подозревать мистера Кента и няню, и если в конце концов выяснится, что прав я, на местную полицию посыплются шишки; тем не менее я прилагаю все усилия, чтобы действовать совместно на основе взаимопонимания». В общем, Уичер всячески печется о том, чтобы уберечь себя от упреков в небрежении коллегами.[67]
Далее Уичер объясняет суть своих расхождений с полицией Уилтшира, а в частности, он оправдывает поведение Сэмюела Кента непосредственно после убийства. У многих вызвал подозрение его стремительный отъезд из дома: если Кент действительно был как-то связан с убийством, то поспешная поездка в Троубридж позволила бы ему избавиться от возможных улик, а также оказаться вдалеке в момент, когда было обнаружено тело. Но на самом деле такому поведению есть вполне разумное объяснение: охваченный сильнейшим беспокойством отец просто стремится всех поднять на ноги. «Что до подозрений, вызванных поведением мистера Кента, сразу же отправившегося за четыре мили в Троубридж, чтобы сообщить местной полиции о похищении ребенка, то, с моей точки зрения, в сложившихся обстоятельствах он действовал как раз самым естественным образом — напротив, было бы подозрительно, если бы он остался дома. К моменту его отъезда частичный осмотр местности был уже осуществлен и продолжался в его отсутствие».
Правда, имелись большие расхождения по поводу времени, которое заняла у Сэмюела поездка в Троубридж, и когда именно Пикок догнал его — до или после того, как он добрался до Фоли. По версии «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», изложенной в номере от 7 июля, Пикок перехватил Кента еще до того, как тот доехал до Троубриджа, после чего тот немедленно повернул назад, а в город за Фоли и его людьми отправился священник. Кент находился в пути час, Троубридж расположен всего в четырех-пяти милях от дома — таким образом, возникает явное несоответствие во времени. Не воспользовался ли Кент удобным случаем, чтобы избавиться от орудия убийства и иных вещественных доказательств? Месяц спустя газета внесла коррективы в первоначальную версию, выглядевшую теперь следующим образом: Пикок встретился с Кентом, когда тот уже возвращался домой, успев сообщить мистеру Фоли об исчезновении ребенка. В таком изложении — кстати, совпадающим с тем, что было обнародовано 5 июля в «Бат кроникл», представившей самый первый отчет о событиях, — хронология последних событий выглядела куда убедительнее.
Многие из местных отзывались о Кенте как о человеке заносчивом и несдержанном, донимавшем приставаниями служанок и грубо обращавшемся со слугами, каковых через дом после водворения в нем нового хозяина прошло более сотни. Но Уичеру он показался человеком мягким, более того — сентиментальным. «Относительно его характера, — докладывал Уичер шефу, — не могу сказать ничего дурного. От нынешних и прежних слуг я слышал, что жили они в доме мистера и миссис Кент в полном довольстве, а одна из служанок (приходящая няня) говорила, что по отношению к ней он всегда был исключительно приветлив и даже непростительно снисходителен, а уж в погибшем мальчике души не чаял, что, боюсь, и привело того к безвременной кончине».
Еще одним подозреваемым был Уильям Натт, тот самый, что, похоже, предрек, будто ему суждено обнаружить тело Сэвила. На Сэмюела он затаил злость, ибо тот засудил одного из его родичей за кражу яблок в хозяйском саду. Кое-кто поговаривал, что Натт был любовником Элизабет Гаф. «Но я лично не вижу никаких оснований подозревать в чем-либо свидетеля Натта, обнаружившего тело, — пишет Уичер. — Сказанная им фраза — „я ищу мертвого ребенка, как и живого“ — представляется мне вполне естественной, ибо они с Бенгером уже осмотрели другие места и теперь собирались приступить к осмотру туалета». Что же до слухов «о его тайной связи с няней, то для такого рода подозрений нет ни малейшей почвы, ибо, во-первых, она была с ним не знакома, а во-вторых, не думаю, что вообще снизошла бы даже до разговора, разве что как с воздыхателем, ибо и по положению, и по внешности стоит куда выше этого самого Натта — грязнули и неряхи, человека хилого, страдающего астмой и к тому же хромого».
Уичер уверенно настаивает на невиновности Гаф. Он пишет, что не усматривает в ее поведении ничего такого, что могло бы бросить на нее хоть тень подозрения. Таким образом, сыщик как будто игнорирует странные противоречия в показаниях няни. Так, поначалу она утверждала, что обнаружила пропажу одеяла до того, как было найдено тело мальчика, потом — наоборот. Но если это не просто недоразумение, а сознательна ный обман, то какой в нем смысл? Элизабет нет нужды скрывать то, что ей известно о пропаже одеяла, — естественно ведь, что она самым тщательным образом проверяет белье на кровати своего подопечного. Но в таком случае, меняя показания, она лишь навлекает на себя подозрения. Точно такие же сомнения вызывало объяснение того, почему она не сразу подняла тревогу, обнаружив в пять утра, что Сэвила нет на месте: странно, что ей понадобилось для этого так много времени. Но опять-таки если вина на ней, то она вообще не стала бы заговаривать на эту тему. Иным казалось подозрительным, что Элизабет ни слова не сказала об исчезновении мальчика своей помощнице Эмили Доул, вставшей около семи утра. Но Уичер считал, что это молчание «скорее свидетельствует в ее пользу», ибо подтверждает, что она на самом деле была уверена: мальчика взяла мать и для тревоги нет никакого повода. Уичер отмечает также, что невиновность няни подтверждается словами, обращенными к миссис Кент, когда она разбудила ту в четверть восьмого: «Дети проснулись?»
Полиции Айлворта, родного городка Элизабет Гаф, было дано поручение порасспрашивать земляков о ее поведении и характере. Представленный 19 июля отчет совпадает с выводами Уичера: все считают ее женщиной «добропорядочной, уравновешенной, энергичной и очень любящей детей». Что до таинственного любовника, то детектив не обнаружил никаких свидетельств ее «близости с кем-либо из мужчин как в самом доме и его окрестностях, так и во всей округе».[68]
Кое-кто высказывал предположение, что ночную рубашку Констанс уничтожила миссис Олли, чтобы навести подозрения на девушку и одновременно оградить от них Уильяма Натта, женатого на одной из ее дочерей. В полном своем виде эта версия указывала на пятерых участников преступления: Натта, Олли, Бенгера (которого Сэмюел Кент прилюдно уличил в том, что тот обманывает его при продаже угля), Эмму Спаркс (уволенную в прошлом году няню) и некоего безымянного мужчину, на которого Сэмюел подал в суд за ловлю рыбы в реке на территории усадьбы. Доказательств против них не было практически никаких, разве что немного подозрительным мог показаться тот факт, что миссис Олли, по ее словам, еще до понедельника, 2 июля, будто бы слышала о том, что пропала какая-то ночная рубашка. Но у Уичера и для этого нашлось объяснение: «Должно быть, это слух… и относится он к нуждающейся в стирке ночной рубашке Мэри-Энн; полиция, кстати, сначала ее конфисковала, но, исследовав, вернула хозяйке».
В воскресенье Сэмюелу Кенту было разрешено свидание с дочерью. В Девайзес, еще один городок, где было развито шерстопрядильное производство, его сопровождал Уильям Данн, вдовец-стряпчий, уроженец Лондона, ныне проживающий во Фруме (Роуленд Родуэй отказался далее представлять интересы Сэмюела в суде, ибо считал Констанс виновной; позднее он взялся оказывать адвокатские услуги миссис Кент, в этом случае разделявшей его точку зрения). Вообще-то это дело было совершенно не похоже на те, которыми обычно занимался мистер Данн.[69]
Добравшись до тюрьмы, имевшей кольцевую структуру, где в центре находился кабинет начальника, а от него радиально расходились ряды камер (коих всего была сотня), Сэмюел почувствовал, что не в силах видеться с дочерью, и послал Данна одного. Мотивация его действий не поддается объяснению. «Его захлестнули отцовские чувства, для разговора с дочерью не было никаких сил», — писала «Таймс», не поясняя, однако, на кого эти чувства были направлены — на Констанс или Сэвила: он в равной степени мог быть подавлен гибелью ребенка и страхом перед собственной дочерью. Та же неопределенность чувствуется и в публикации «Бат кроникл»: «Встреча с дочерью оказалась для него невыносимым испытанием, и он остался в соседней комнате, предоставив разговаривать с ней своему поверенному». Можно понять так, что Сэмюела Кента угнетало любое упоминание о смерти сына. За несколько недель, что прошли с того дня, он неизменно следовал одному и тому же стилю поведения — молчал. «Мистер Кент ни разу не заговаривал со мной об убийстве, — вспоминала впоследствии Элизабет Гаф. — Младшие дочери — да, и мисс Констанс тоже, но мистер Кент — никогда. Мистер Уильям часто плакал, когда упоминали имя брата».
При свидании с Данном Констанс только и повторяла, что ни в чем не виновата. Чтобы хоть как-то облегчить ей пребывание в камере, стряпчий послал в местную гостиницу за матрасом помягче и договорился о специальном рационе питания для девушки.
С журналистами, дежурившими снаружи, беседовал один из тюремных надзирателей. «Из источников, заслуживающих доверия, нам стало известно, — писала „Вестерн морнинг ньюс“, — что ведет себя мисс Кент в тюрьме со спокойным достоинством человека, убежденного в своей невиновности. Нынешнее положение ее унижает».
«Насколько нам известно, — говорилось в статье, опубликованной в „Бат кроникл“, — в ходе беседы с адвокатом мисс Кент сохраняла полное хладнокровие и выдержку, как, впрочем, и на протяжении всего пребывания в тюрьме, хотя, конечно, тяжесть нынешнего положения оставила отпечаток на ее внешности. И все же в целом ее поведение производит на администрацию тюрьмы такое впечатление, что ее представители с уверенностью заявляют: сам вид мисс Кент свидетельствует о ее уверенности в своей правоте и непричастности к страшному деянию, вменяемому ей».
Глава 10 БРОСЬТЕ НА ЗВЕЗДУ БЫСТРЫЙ ВЗГЛЯД
23–26 июля
В понедельник, 23 июля, Уичер ввел Уильямсона в курс дела. Он свозил его в Бат, Бекингтон и селение. Во вторник Уичер прикрепил на двери в Темперенс-Холле следующее объявление: «Пять фунтов стерлингов в награду. Из дома мистера Кента пропала женская ночная рубашка, предположительно ее выбросили в реку, сожгли или продали где-то поблизости. Означенная сумма будет выплачена тому, кто ее обнаружит и доставит в полицейский участок Троубриджа». В тот же день Уичер привел в порядок собранные им доказательства вины Констанс. Сведенные воедино и перенесенные на бумагу (секретарем суда Генри Кларком) они заняли четыре страницы большого формата. В среду он отправился в Уорминстер, чтобы вручить повестку о явке в суд главному свидетелю, Эмме Моуди, а Уильямсона послал в Лонгхоуп, Глостершир, где находился пансион Уильяма, с поручением разузнать что-нибудь о мальчике.
Затем, дождавшись, когда кончится дождь, оба детектива принялись за поиски злополучной ночной рубашки, тщательно прочесывая прилегающую к дому территорию.
До получения задания расследовать убийство в доме на Роуд-Хилл Уичер уже дважды вел дела, связанные с таинственной гибелью несовершеннолетних. Слушание одного из них — в нем были замешаны преподобный Бонуэлл и его незаконнорожденный сын — все еще продолжалось в главном церковном суде Лондона. Другое относилось к временам десятилетней давности, когда в декабре 1849 года в Скотленд-Ярде появился некий суперинтендант полиции из Ноттингемшира и попросил содействия лондонских детективов в раскрытии убийства ребенка. В помощь ему был откомандирован Уичер.
Дело обстояло так. Один из жителей городка Норт-Левертон в графстве Ноттингемшир заявил в полиции, что получил по почте ящик с трупом мальчика. На ребенке была легкая рубашка, соломенная шляпка, носки и ботинки, труп завернут в передник с меткой. «С. Дрейк». Заявитель сообщил, что у его жены есть сестра по имени Сара Дрейк, которая работает кухаркой и экономкой в Лондоне.
Уичер и суперинтендант из Ноттингемшира сразу же направились в дом, где работала Сара Дрейк — Аппер-Харли-стрит, 33, — и предъявили ей обвинение в убийстве.
— Что за бред? — возопила она.
Полицейские предъявили ей передник с меткой. Женщина опустилась на стул и разрыдалась.
В ту же ночь доставленная в полицию Сара Дрейк призналась сотруднице, проводившей личный досмотр, в убийстве мальчика, которого звали Луи. Это был ее незаконнорожденный сын, и на протяжении первых двух лет его жизни за ним присматривала няня, что позволяло Саре сохранять работу в Лондоне. Но однажды она просрочила с очередным платежом, и няня решительно отказалась от малыша. Страшась потерять место, приносившее ей около пятидесяти фунтов ежегодно, Сара задушила ребенка шейным платком, положила труп в ящик и послала почтовой бандеролью сестре и зятю в надежде, что они похоронят ребенка.
Уичер принялся собирать доказательства, подтверждающие признание Сары Дрейк. Работа оказалась совсем простой. В комнате женщины он обнаружил три передника, сходных с тем, что был в ящике, и подходивший к нему ключ. Далее Уичер допросил миссис Джонсон, ту самую, что за пять шиллингов в неделю ухаживала за младенцем с трехмесячного возраста. Та заявила, что 27 ноября поехала в Лондон и вернула его матери, отказавшись — несмотря на просьбы Сары — подержать его у себя еще неделю. По ее словам, мальчика она любила, но мать слишком часто запаздывала с уплатой жалованья, а в последний раз и вовсе задолжала ей за несколько месяцев. Перед возвращением миссис Джонсон попыталась уговорить Сару Дрейк самой заняться ребенком.
«Я сказала ей, что мальчик растет здоровым и жизнерадостным. Потом добавила, что надо бы раздеть его, снять шляпку и меховое пальтишко, а то простудится, когда окажется на улице. Так она и сделала. Вокруг шеи у него был обмотан платок, и она сказала: „Это ваш, не забудьте взять“. „Да, — говорю, — мой. Но оставьте себе и повязывайте, как будете выходить гулять, а то на улице холодно“. Еще я сказала, что скоро надо кормить мальчика, на что она ответила: „Ну да, конечно, а он будет есть?“ „Будет“, — говорю, и ушла».
Уже у порога Сара Дрейк окликнула миссис Джонсон и спросила, сколько в точности она ей задолжала. Девять фунтов десять шиллингов, откликнулась та. Дрейк промолчала.
Помимо этого, мисс Джонсон сообщила Уичеру, что когда в следующую пятницу она пришла на Аппер-Харли-стрит навестить малыша, Сара Дрейк сказала, что он где-то в гостях. «Что ж, — говорю, — поцелуйте его от меня». «Непременно, — говорит, — непременно».
Далее Уичер опросил слуг. Кухарка вспомнила, что вечером 27 ноября Сара попросила ее принести из своей комнаты в привратницкую ящик. «Тяжелый, я еле подняла». Привратник показал, что Сара попросила его написать адрес и организовать на следующее утро доставку ящика на вокзал Юстон-сквер. Лакей подтвердил, что выполнил это поручение, заплатил восемь шиллингов за вес (тридцать восемь фунтов) и доставку в Ноттингемшир.
Полиция пригласила миссис Джонсон в Норт-Левертон опознать тело. Та подтвердила, что это действительно Луи. «На нем был и мой шейный платок, и шляпка, и меховое пальтишко». Врач, проводивший вскрытие, заявил, что, с его точки зрения, платок затянут недостаточно туго, чтобы задушить мальчика; на его теле остались следы побоев, скорее всего и вызвавшие смерть.
На суде Сара Дрейк не отрывала глаз от пола и раскачивалась взад-вперед, то и дело содрогаясь в конвульсиях. На лице ее была явно написана мука. Судья напутствовал присяжных в том смысле, что хотя обвиняемая и не находится на учете в психоневрологическом учреждении, они могут допустить, что страх, охвативший женщину, когда она осталась с младенцем на руках, мог помутить ее рассудок. Впрочем, добавил он, «вам следует основательно взвесить такую возможность, ибо присяжным никоим образом не следует допускать ее просто на основании тяжести совершенного преступления». Присяжные признали Сару Дрейк невиновной, решив, что она действовала в состоянии временного умопомрачения. Выслушав вердикт, женщина потеряла сознание.
В викторианской Англии убийство незаконнорожденных детей несчастными, впавшими в беспросветную нищету женщинами было распространенным явлением: в 1860 году газеты чуть ли не ежедневно сообщали об очередном детоубийстве. Как правило, жертвами становились новорожденные. В 1860 году преступление Сары Дрейк повторила Сара Гаф, тоже экономка и кухарка, работавшая в доме на Аппер-Симур-стрит, примерно в миле от Аппер-Харли-стрит: она убила своего незаконнорожденного ребенка, завернула тело и отправила его поездом с Паддингтонского вокзала в женский монастырь рядом с Виндзором. Найти женщину было совсем нетрудно: в свертке оказался клочок бумаги с именем ее нанимателя.
Сталкиваясь с подобными случаями, присяжные обычно выказывали снисхождение к преступницам, усматривая в их поведении признаки не растленности, но расстройства психики. В этом смысле они, помимо всего прочего, опирались на новые законы и медицинские веяния. В частности, начиная с 1843 года суды получили возможность использовать в качестве оправдательного аргумента так называемое «правило Макнагтена», или «временное умопомрачение» (в январе того года некто Дэниел Макнагтен, токарь по дереву, смертельно ранил секретаря Роберта Пила, перепутав его с самим премьер-министром). Психиатры в подробностях описали проявления безумия, в которое могут впадать на вид психически вполне здоровые и в обычных обстоятельствах одинаково ведущие себя люди. Так, женщины могут страдать от предродовой или послеродовой горячки или впадать в истерику; любая рискует стать жертвой мономании, то есть той формы безумия, при которой не утрачивается ясное осознание происходящего: человек впадает в экстатическое состояние, сохраняя при этом спокойный и сосредоточенный вид. В одном из своих номеров за 1853 год «Таймс» довольно четко сформулировала существующую дилемму:
Ничто так не ускользает от определения, как граница между здравомыслием и безумием… Предложите слишком узкое определение, и оно окажется бессмысленным; слишком широкое — и в его сетях запутается все человечество. Строго говоря, все мы безумны, ибо всем свойственно уступать страстям, предрассудкам, пороку, тщеславию. Но если помещать все жертвы страстей, предрассудков и тщеславия в психушку, то кому доверить ключи от нее?
Предположение, будто Констанс Кент или Элизабет Гаф действовали в состоянии умопомрачения, не раз высказывалось в прессе. Возникла даже версия, что в припадке послеродовой горячки ребенка убила миссис Кент.[70] Пока Констанс находилась в тюрьме, некто мистер Дж. — Дж. Бирд опубликовал в «Морнинг стар» статью, в которой развивал мысль о том, что Сэвила убил некто пребывавший в сомнамбулическом состоянии. «Большинство из нас знают, с какой четкостью и аккуратностью действуют лунатики, — писал он. — На какое-то время следует установить ночное наблюдение за подозреваемыми». В качестве примера автор приводит случай, когда какой-то лунатик, с открытыми глазами и остановившимся взглядом, трижды нанес удар ножом по пустой кровати. Если лунатики, развивает он свою мысль, способны на неосознанную жестокость, то нельзя исключить, что убийца Сэвила просто не отдавал себе отчета в том, что совершает преступление. Может, у него было раздвоенное сознание. Мысль, будто безумие может проявляться и в такой форме, а в одном теле помещаться несколько душ, весьма занимала и психиатров, и просто читателей газет того времени. Статью Бирда, опубликованную в виде письма в редакцию, сразу же перепечатали несколько провинциальных изданий.
В воскресном выпуске «Женщины в белом» — тридцать четвертом по счету — герой раскрывает тайну, которую так упорно пытался скрыть сэр Персиваль Глайд; нечто такое, что бросает тень на прошлое всей семьи. Но этого оказывается мало для поимки виновного, надо еще найти доказательства вины. Уичер оказался в сходном положении. От Сары Дрейк он добился признания, предъявив ей передник. Отыщи он ночную сорочку Констанс, и проблема решилась бы таким же образом — он получил бы и вещественное доказательство, и признание.
Уичер искал необходимые доказательства в деталях. «Опыт, — замечает Эдгар По устами своего Огюста Дюпена, — убеждает, а грамотная теория подтверждает, что нечто действительно достоверное рождается преимущественно в недрах чего-то, казалось бы, не имеющего никакого отношения к делу». Какая-нибудь явно банальная деталь вроде случайного жеста может стать ключом к раскрытию тайны; ничем не примечательные события таят в себе весьма примечательные истории, надо только уметь правильно их читать. «На прошлой неделе я провел одно частное расследование, — рассказывает сержант Кафф в „Лунном камне“. — С одной стороны — убийство, с другой — чернильное пятно на скатерти, появление которого никто не может объяснить. Весь мой опыт соприкосновения с самыми грязными вещами в этом маленьком грязном мире убеждает, что такого понятия, как „пустяк“, просто не существует».[71]
Уичер попросил Сару Кокс вспомнить, когда она отдала в стирку исчезнувшую ночную рубашку. «В понедельник после убийства, — ответила она, — непосредственно перед началом дознания». Около десяти утра, 2 июля она прошла по дому, собирая грязное белье. «Мисс Констанс обычно оставляла свои вещи либо в комнате на полу, либо на лестничной площадке; часть я забирала в воскресенье, часть — в понедельник». «Грязная сорочка, — вспомнила Кокс, — валялась на площадке». Никаких пятен, по словам горничной, на ней не было, просто запачкалась немного — как обычно. «Ничего удивительного, ведь мисс Констанс целую неделю в ней спала». Кокс отнесла одежду на первый этаж, в чулан, чтобы рассортировать ее там. Покончив с этим, она попросила Мэри-Энн и Элизабет сделать соответствующие записи в книге учета, затем разложила белье по корзинам, за которыми должна была прийти миссис Олли. Ночных рубашек, вспомнила она, было три: одна принадлежала миссис Кент, другая — Мэри-Энн, третья — Констанс. Все три Мэри-Энн отметила в книге (Элизабет связывала свою одежду в отдельные узлы и вела собственную книгу учета).
При более детальном допросе Сара Кокс вспомнила, что в какой-то момент в чулан зашла Констанс. К тому времени белье уже было рассортировано. «Я уже все разложила, кроме тряпок для вытирания пыли, а Мэри-Энн и Элизабет ушли по своим делам. Констанс же зашла в чулан и попросила меня проверить карманы блузки — кажется, она забыла там кошелек. Я пошарила в корзине, где были сложены крупные вещи, нашла блузку, вытащила ее и сунула руку в карман. Там ничего не было. Так я ей и сказала. Тогда она попросила меня спуститься вниз и принести ей стакан воды. Ну я и пошла. Она проводила меня до площадки черной лестницы. Вернувшись со стаканом воды, я обнаружила ее на том же месте. Не похоже на то, что она куда-то уходила, даже ненадолго. Констанс выпила воды, поставила стакан и поднялась к себе в комнату». Горничная накрыла одну корзину скатертью, а другую — одним из платьев миссис Кент.
В одиннадцать Сара Кокс и Элизабет Гаф отправились, как велел коронер, в «Красный лев» давать показания. Сара сказала Уичеру, что дверь в чулан оставила незапертой, так как через час за бельем должна была прийти миссис Олли.
Уичер еще раз мысленно прошелся по ответам Сары Кокс. «Оказавшись в тупике, — говорит герой „Дневника детектива в отставке“, — я обычно укладываюсь в кровать и лежу до тех пор, пока не разрешу все сомнения и ребусы. Лежу с закрытыми глазами, но бодрствую, ничто меня не отвлекает, и постепенно наступает ясность». С самого начала детектив представлялся людям в образе мыслителя-отшельника, удаляющегося из мира чувственных ощущений в свободный, фантастический мир своих догадок. Примеряя друг к другу обрывки полученных им сведений, Уичер выстроил достаточно четкую схему.
Он решил, что Констанс попросила горничную поискать кошелек, чтобы заставить ее порыться в корзине и лишний раз убедиться в том, что ночная рубашка на месте. Затем, отправив ее вниз за водой и проводив до двери, она метнулась назад, выхватила рубашку из корзины и спрятала — возможно, под своими юбками (в шестидесятые годы XIX века мода на длинные пышные юбки была в полном разгаре[72]). Важно отметить, что это была не рубашка с пятнами крови, которую, как считал Уичер, Констанс уже успела уничтожить, но другая, свежая, надевавшаяся ею в субботу. Тут со стороны девушки был чисто математический расчет: если будет сочтено, что рубашку без пятен крови потеряла прачка, то, стала быть, той, окровавленной, в которой она, Констанс, совершила убийство, никто не хватится.
Уичер сообщал в Лондон:
Я придерживаюсь того мнения, что хотя ночную рубашку, бывшую на ней в момент совершения убийства, она впоследствии сожгла или куда-нибудь спрятала, все равно следовало считаться с возможностью, что полиция начнет расспрашивать, сколько у нее всего было рубашек после возвращения домой из школы; чтобы приготовиться к такого рода вопросам, она, полагаю, придумала весьма хитроумную тактику поведения, пытаясь заставить всех поверить, что одну рубашку потеряла прачка, через неделю после убийства. Видимо, план выглядел следующим образом.
Предназначенное для стирки белье собрали, как обычно, в понедельник (через два дня после убийства). Там была и ночная рубашка, принадлежащая мисс Констанс, бывшая на ней, как я считаю, в момент убийства. Затем белье отнесли в чулан на первом этаже, где его рассортировала экономка, а ее старшая сестра сделала запись в книге учета. Экономка разложила белье по двум корзинам и собиралась уже выйти, но тут в чулане появилась мисс Констанс и попросила ее найти блузку — якобы она забыла в кармане кошелек. Очевидно, это была часть общего плана: Констанс должна была убедиться, в какой именно из двух корзин находится ее белье. Затем она послала экономку вниз, за водой. При этом она проводила ее до двери и оставалась в чулане до ее возвращения, а за время отсутствия, как мне кажется, извлекла уже отмеченную в книге учета рубаху, посчитав, что, когда в конце недели выстиранное белье возвратят в дом и обнаружится, что одной вещи не хватает, в потере ее обвинят прачку; так что ей будет что ответить, когда эта тема всплывет на допросе.
Дабы никто не догадался, что это она уничтожила вещественные доказательства, Констанс придумала схему, из коей следует, что злосчастная рубашка просто потеряна, да и то кем-то другим. Сестра Констанс и экономка будут клясться, что она лежала в бельевой корзине и никаких пятен крови на ней не было. Таким образом, Констанс отвлекала внимание от самой рубашки да и вообще от дома. Сметливая девушка одним махом и уводила следствие в сторону, и скрывала свою причастность к убийству.
Пораженный хитроумием убийцы, мистер Баккет из «Холодного дома» говорит: «Красивое дело — право, красивое». Правда, тут же, сообразив, что собеседница его благородная юная дама, оговаривается: «Видите ли, мисс, говоря „красивое“, я имею в виду, что оно красиво с моей точки зрения».[73]
Профессия детектива заключается в том, чтобы по мельчайшим деталям, подробностям, незаметным следам восстановить ход событий. Всякими могут быть эти следы, ведущие к вполне реальному событию в прошлом, в данном случае к убийству, — заросшие тропинки, клочок материи, прочие пустяки. Подобно натуралистам и археологам XIX века, Уичер пытался собрать воедино разрозненные фрагменты и таким образом создать цельное представление об этой истории. Ночная рубашка — «недостающее звено», некий воображаемый предмет, придающий смысл иным, уже обнаруженным предметам, и в этом смысле он сходен со скелетом, который нужен был Чарлзу Дарвину, чтобы доказать происхождение человека от обезьяны.
Диккенс сравнивал детективов с астрономами Леверье и Адамсом, открывшими одновременно, в 1846 году, и независимо друг друга, путем наблюдений за отклонениями в орбите Урана, новую планету — Нептун. Эти ученые, отмечал писатель, обнаружили существование новой планеты столь же таинственно, сколь детективы раскрывают новые виды преступлений. Степлтон в своей книге об убийстве в доме на Роуд-Хилл тоже уподобляет астрономов детективам. «Инстинкт сыщика, помноженный на его острый ум, — пишет он, — безошибочно фиксирует орбиту невидимой планеты, обнаруживающей свое существование лишь в расчетах астрономов». Леверье и Адамс собирали свои «улики», наблюдая за звездным небом, но открытие сделали дедуктивным способом, предположив наличие одной планеты по воздействию, оказываемому ею на уже известную планету. В результате совместных усилий логики и воображения появилась дарвиновская теория эволюции, а также гипотеза Уичера относительно ночной рубашки Констанс.[74]
«Бросьте на звезду быстрый взгляд, посмотрите на нее краешком глаза, — рассуждает Огюст Дюпен в новелле „Убийство на улице Морг“, — и вы увидите светило во всей ясности».
Тем временем уилтширская полиция всячески пыталась дискредитировать Уичера. Его версия убийства не совпадала с местной, и к тому же он, кажется, не скрывал, что, с его точки зрения, здешние полицейские немало «наломали дров» за те две недели, что прошли до его приезда из Лондона. Манера поведения Уичера, в лучшем случае холодного и самоуверенного, в худшем — высокомерного, тоже, наверное, изрядно злила их. А появление Уильямсона — молодого и способного напарника Уичера — только усилило напряжение.
В среду, 25 июля, суперинтендант Вулф и капитан Мередит поехали в Бекингтон и допросили, вслед за Уичером, мисс Уильямс и мисс Скотт. При этом они сразу же поделились своими впечатлениями с корреспондентом газеты «Бат кроникл». Обе учительницы «весьма высоко отзываются о Констанс, считая ее во всех отношениях хорошей ученицей… большое прилежание позволило ей чрезвычайно успешно выдержать экзамены за полугодие и занять второе место… Уже это одно, — в один голос заявили они, — не позволяет, с нашей точки зрения, заподозрить ее даже в намерении совершить столь ужасный поступок, как кое-кто намекал перед отъездом Констанс домой на каникулы».
Вулф заявил корреспондентам «Бат кроникл» и «Троубридж энд Норт-Уилтс эдвертайзер», что проследил биографию Констанс начиная с раннего детства и не обнаружил в ней ни малейших признаков нервного расстройства — «в младенчестве у нее было с этим делом все в порядке».
«Распространяемые кое-кем слухи, будто несчастный ребенок испытывал к мисс Констанс острую антипатию, столь необоснованны, сколь и отвратительны», — писала «Кроникл».
«Фрум таймс» всячески принижала значение побега Уильяма и Констанс в Бат; не склонна она была придавать особое значение и утверждениям о душевном расстройстве по материнской линии. Ее больше интересовали «полученные от близкого друга семьи» сведения о добрых отношениях между Констанс и Сэвилом, что подтверждается, в частности, тем фактом, что буквально накануне своей ужасной гибели мальчик подарил сестре бусы, сделанные им специально для нее.
«Бристоль пост» в очередной раз высказала предположение, что настоящий убийца просто подставляет «славную шалунью» Констанс.
Некоторые другие газеты тоже выказывали скепсис относительно ее виновности. «Развитие событий во всей этой истории мало в чем убеждает, — утверждалось в „Бат кроникл“, — и мы менее всего склонны считать, что расследование продвинулось хоть на шаг вперед. Нет ни крупицы новых доказательств». Такие же сомнения высказывает и «Манчестер экзэминер»: «Возникает ощущение, что этот шаг (речь вновь идет об аресте Констанс) означает лишь то, что лондонскому детективу надо было обвинить хоть кого-нибудь, дабы успокоить общественное мнение».
В среду в Скотленд-Ярде появился некто мистер Найт Уотсон с Виктория-стрит, новой городской магистрали, проходящей через Пимлико, и заявил, что ему нужно поговорить с кем-нибудь из детективов. Дело в том, что он знаком с некой дамой по имени Хэрриет, раньше работавшей у Кентов, — быть может, у нее есть небесполезные для Уичера сведения о семье. Поговорить с этой дамой — ныне горничной в доме, расположенном недалеко от Паддингтонского вокзала, вызвался детектив-сержант Ричард Тэннер. После зачисления в 1857 году на службу в Скотленд-Ярд он регулярно работал с Уичером. Комиссар Мейн дал свое согласие на эту встречу.
На следующий день Тэннер отправил Уичеру отчет о своей беседе с Хэрриет Голлоп. Действительно, писал он, эта женщина в 1850 году на протяжении четырех месяцев работала у Кентов горничной, когда те жили в Уолтон-ин-Гордано, Сомерсетшир.
Тогда еше первая жена хозяина была жива, но все то время, что эта женшина (Хэрриет Голлоп) прислуживала в доме, миссис и мистер Кент спали раздельно. У нее была своя спальня. Вид у нее всегда был несчастный и подавленный. В то время гувернанткой в семье работала некая мисс Пратт, ее спальня была расположена рядом со спальней мистера Кента, и все слуги считали, что ее с хозяином связывает предосудительная близость. И это было известно его жене. Мисс Пратт, о которой идет речь, это нынешняя миссис Кент, мать убитого ребенка.
Голлоп утверждает, что мисс Пратт «осуществляла полный контроль над детьми, а мистер Кент велел всем слугам обращаться с ней как с хозяйкой». Бывшей горничной это приходилось явно не по душе. Хэрриет Голлоп заявляет, что первая жена мистера Кента была настоящей дамой и никаких психических отклонений у нее не наблюдалось.
Уичер получил и прочитал письмо из Лондона в пятницу утром. Показания Хэрриет Голлоп подтверждали слухи об интимной близости Сэмюела Кента и Мэри Пратт, возникшей еще при жизни его первой жены, и это бросало мрачную тень на семейный очаг Кентов. Но никакой практической пользы Уичер из этих сведений извлечь не мог. Напротив, они ослабляли его позиции в отношении Констанс. Ведь если первая жена Кента была психически здорова, то и дочь ее тоже скорее всего не страдала никакими душевными расстройствами, а с другой стороны, полученные сведения укрепляли подозрения против Кента: старый прелюбодей вполне мог убить собственного сына, заставшего его в постели с няней.
В домах средневикторианской эпохи на слуг часто смотрели с опаской, подозревая в них соглядатаев, соблазнительниц или жуликов. В таком случае дом Кентов, с его частой сменой прислуги, постоянно находился в опасности. Начать хоть с Эммы Спаркс и Хэрриет Голлоп, они поступают как самые настоящие сплетницы, выдающие тайны домашних измен и всяческие грешки, водящиеся за тем или другим членом семейства. Далее, еще двое — те, в ком Сэмюел Кент подозревал соучастников в убийстве сына. Это кухарка, некогда отправленная им за решетку, и прежняя няня, изгнанная даже без отступного за то, что у нее была привычка щипать детей. Но обе, как выяснилось, находились в ночь убийства по меньшей мере в двадцати милях от дома.
Сэмюел утверждал, что одна служанка, уволенная в самом начале 1860 года, грозилась отомстить миссис Кент и ее «ублюдкам», особенно Сэвилу. Скорее всего мальчик наябедничал на нее: может, она тоже любила щипаться, а может, это была другая няня, которой Кент запретил встречаться с ее парнем в доме рядом с Роуд-Хилл. «Она уходила, так и кипя от ярости, — говорил Кент, — вела себя в высшей степени нагло». Итак, если углубиться в историю семьи, окажется, что в ней фигурирует служанка, сумевшая стать хозяйкой дома, гувернантка, совратившая хозяина, принудившая его, в сущности, предать жену и способствовавшая отчуждению детей от первого брака.
Известны случаи, когда служанки и горничные оказывали дурное влияние не только на детей, но и на их родителей. В очередном выпуске справочника «Жизнь гувернантки: испытания, обязанности, уроки» (1849) Мэри Морис отмечает, что ей приходилось сталкиваться с шокирующими примерами того, как «особа, коей доверена забота о детях, вместо того чтобы растить их в чистоте и невинности, развращает их, становится первой, кто вовлекает их в грех, научает плести интриги и в конце концов разрушает мир и покой в семье». Авторитетный психиатр Форбс Бинайнус Уинслоу усматривал в таких женщинах «источник моральной заразы и душевной деградации, от которых даже самые бдительные родители не всегда могут уберечь своих детей».
Согласно наиболее распространенной версии убийства Сэвила, змеей, затаившейся в доме, тоже была прислуга. Выглядело все это так: Элизабет Гаф склоняет отца к предательству, логическим завершением неизбежно должно было стать убийство сына. В газетных статьях эта особа, несмотря на явную нехватку зубов, предстает объектом сексуальных вожделений. Корреспондент «Вестерн дейли пресс» находит ее внешность «безусловно привлекательной и явно не соответствующей социальному положению». «На редкость симпатичная женщина», — подхватывает «Шербурн джорнэл», — спящая «на постели без балдахина прямо рядом с дверью». Она находится в опасной близости к семье, всего в шаге от покоев хозяина дома.
Как еще один представитель рабочего класса, детектив, со своим воспаленным воображением, тоже способен очернить жизнь приличной буржуазной семьи.[75] Обычно, как это было при расследовании убийства сына Сары Дрейк, детектив ограничивается помещениями, отведенными для слуг. Но случается — как в доме Кентов, — он дерзает подняться и выше. В статье, опубликованной в диккенсовском журнале «Домашнее чтение» в 1859 году, недостатки в работе полиции объясняются социальным происхождением самих полицейских: «Нельзя признать разумной и безопасной практику, при которой властью и правом принимать какие им заблагорассудится решения наделяются выходцы из низшего сословия».
Вторая неделя проводимого Уичером расследования не принесла никаких новых данных — новым было лишь то, что теперь все внимание сосредоточилось на ночной рубашке.
Глава 11 СУДЕБНЫЕ ИГРЫ
27–30 июля
В пятницу, 27 июля, в одиннадцать утра, в Темперенс-Холле началось очередное судебное заседание. Предстояло допросить Констанс Кент и вынести решение о передаче дела в суд высшей инстанции. У входа в Темперенс-Холл толпились двадцать четыре журналиста. Еще до начала заседания Уичер переговорил с Сэмюелом Кентом и заверил, что считает его невиновным и готов сделать соответствующее заявление. Кент отклонил это предложение, по словам его адвоката, «из осторожности». Действительно, взаимоотношения между отцом, дочерью и детективом характеризовались весьма тонкими нюансами, и, демонстрируя особые отношения с обвинителем Констанс, Сэмюел мог оказаться в неловком положении.
Уичер сомневался в том, что ему удастся убедить суд в виновности Констанс. В то утро он нанял группу рабочих, чтобы те разобрали туалет, в котором было обнаружено тело Сэвила, и очистили выгребную яму. Это была последняя попытка найти пропавшую ночную рубашку или нож. Закончилась она неудачей. Уичер заплатил рабочим шесть с половиной шиллингов и еще по шиллингу каждому на кружку пива.
Констанс, сопровождаемая начальником девайзесской тюрьмы, появилась в половине двенадцатого. Заседание открылось не сразу, и, ожидая его, ей пришлось провести некоторое время в доме шорника Чарлза Стокса, откуда Констанс и препроводили в холл. «Как и прежде, на ней были траурные одежды, — сообщает „Таймс“, — но теперь появилась еще и плотная вуаль, скрывающая лицо девушки от любопытных, толпящихся перед входом в зал». Вуаль воспринимается как символ скромности и благовоспитанности. Если женщина скрывает свое лицо и тайны семейной жизни, то это говорит не против нее, а как раз за. Впрочем, вуаль еще и загадка. В своем романе «Скелет в каждом шкафу» (1860) Уотерс пишет о «мрачных тайнах, угадываемых за шепотом и шорохом за тонкой кисеей».
«Едва войдя в зал, — продолжает корреспондент „Таймс“, — мисс Констанс Кент бросилась к отцу и поцеловала его. Затем она заняла специально приготовленное для нее место и разрыдалась». В другой газете, «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», возникает сходная картина: «В зал она вошла на подгибающихся ногах и, бросившись к отцу, порывисто поцеловала его».
В противоположность этой слабости публика являла собой образ силы и сосредоточенности. «Зал заседаний заполнился мгновенно», — свидетельствует «Таймс». Зрители «лавиной хлынули внутрь, заняв каждый свободный дюйм площади», подтверждает «Джорнэл». Но места хватило только половине, остальные остались снаружи в ожидании новостей. Три ряда были выделены для прессы. Полный стенографический отчет о слушаниях уже на следующий день опубликовали все крупнейшие английские газеты.
Члены городского магистрата сели на возвышение вместе с Уичером и Уильямсоном, капитаном Мередитом, суперинтендантом Фоли и судебным секретарем Генри Кларком. Именно ему от имени суда предстояло допрашивать Констанс.
За столом напротив разместились Сэмюел Кент и его поверенный, рядом с ними, тоже за отдельным столом, — Питер Эдлин из Бристоля, адвокат, нанятый защищать интересы Констанс. «У него был острый взгляд, четкая дикция и какое-то мертвенно-бледное лицо», — описывает этого человека «Сомерсет энд Уилтс джорнэл».
Констанс опустила голову и в таком положении просидела весь день — молча и не шевелясь. «События минувшего месяца явно оставили на ней тяжелый отпечаток, — пишет „Сомерсет энд Уилтс джорнэл“. — По этому бледному, исхудавшему лицу трудно узнать здоровую, румяную девушку, какой она была пять недель назад. Да и весь вид ее выдает глубокую подавленность».
Сэмюел уперся подбородком в ладони и устремил взгляд куда-то вперед. Он тоже, как пишет «Бат экспресс», выглядел «чрезвычайно подавленным, наружность его явно выдает неподдельное горе… Если не считать самой обвиняемой, именно он и в равной степени мистер Уичер являлись основными объектами внимания публики». Формально никто из этих троих не должен был принимать непосредственного участия в предстоящих слушаниях — они присутствовали здесь всего лишь в качестве наблюдателей и наблюдаемых. Что касается Констанс, то по закону она как обвиняемая не имела права давать показания.
Итак, суд возобновил прерванные в прошлую пятницу слушания. Первой вызвали Элизабет Гаф. «Вид у нее был довольно измученный», — свидетельствует «Сомерсет энд Уилтс джорнэл».
Кларк задал вопрос насчет одеяла.
— Я не хватилась одеяла с кроватки мальчика, пока его не принесли вместе с телом.
Эдлин, в свою очередь, поинтересовался взаимоотношениями своей подзащитной и ее сводного брата.
— Никогда не слышала, чтобы Констанс поднимала на него голос, — заявила Элизабет Гаф. — Всегда была с ним добра и ласкова.
Однако подтвердить, что в день смерти Сэвил подарил Констанс самодельное колечко или что Констанс дала ему какую-то картинку, она не могла.
Следующим был вызван Уильям Натт. Эдлин спросил его о «предсказании», что Сэвила найдут мертвым, и Натт повторил, что эти слова, сказанные на дознании, означают лишь то, что он опасался худшего.
Очередной свидетельницей стала школьная приятельница Констанс — Эмма Моуди.
— Приходилось ли вам когда-либо слышать от обвиняемой неприязненные отзывы о покойном? — спросил Генри Кларк.
— Да, она ревновала его, и вообще он ей не нравился.
— Это не ответ на заданный вопрос, — вмешался Эдлин. — Что конкретно говорила обвиняемая?
Эмма повторила многое из того, что говорила Уичеру: что Констанс, по ее собственному признанию, дразнила и щипала Сэвила и Эвелин, что ей не хочется возвращаться домой на каникулы, что родители, как ей кажется, выделяют младших детей.
Кларк попросил девушку вспомнить, не говорила ли чего-нибудь ее подруга о Сэвиле. И хотя в разговоре с Уичером Эмма как-то упомянула, что был такой случай, когда она упрекнула Констанс за то, что та вслух заявила о своей ненависти к сводному брату, сейчас об этом умолчала.
— Да нет, ничего такого особенного не говорила, просто называла имя.
— И все? Может, все-таки припомните? — настаивал Кларк.
— Протестую, — прервал его Эдлин. — Допрос свидетеля ведется с грубыми нарушениями… На мой взгляд, применяется совершенно неправомерная и беспрецедентная методика допроса.
— Я всего лишь стараюсь выяснить факты, — возразил Кларк.
— Не сомневаюсь в вашем искреннем желании выполнить свой долг, — вновь заговорил Эдлин, — но в данном случае вы явно, хоть и невольно, превысили свои полномочия.
— В чем же именно? — встал на защиту секретаря Генри Ладлоу. — Вы употребили весьма сильное выражение.
— С вашего разрешения, сэр. Дело в том, что мистер Кларк действительно превысил свои полномочия, или, может, точнее сказать, неверно их понял. Перед ним — одноклассница обвиняемой, и вместо того чтобы ограничиться вопросами и удовлетвориться полученными ответами, мистер Кларк ведет допрос так, словно это перекрестный допрос. Тем самым он нарушает принятый порядок, что особенно печально, имея в виду серьезность рассматриваемого дела.
В зале раздались аплодисменты, но Ладлоу их тут же пресек.
— Если что-нибудь подобное повторится, вы должны будете покинуть помещение. — Он повернулся к Эдлину. — Соблаговолите более четко сформулировать свои возражения, мистер Эдлин, и не читайте нам лекций.
— Если свидетель не понимает вопроса, — добавил Кларк, — то, чтобы добиться от него каких-то показаний, вам не остается ничего другого, кроме как повторить его.
— Да, но, получив ответ, — возразил Эдлин, — не следует повторять вопрос, как это делается на перекрестном допросе.
— Я ставлю вопросы так, как это предписано правилами, и если не получаю ответов, вынужден повторять их.
— Но нельзя же это делать до бесконечности.
— Можете ли вы вспомнить, что говорила обвиняемая о своем покойном брате? — вновь обратился Кларк к Эмме.
— Вы все время повторяете один и тот же вопрос, — вмешался Эдлин, — и вам уже на него ответили: «нет». Так что довольно. — Адвокат фактически делал то же самое, в чем обвинял Кларка: использовал повтор для устрашения оппонента.
— Суд хочет, чтобы вы засвидетельствовали, что именно имело место, — перехватил у Кларка инициативу допроса Ладлоу. — Нас интересует любой разговор между вами и обвиняемой, реальный разговор, а не слухи. Мы действуем исключительно в рамках закона и права. Вероятно, вам не приходилось ранее бывать в суде, тем более по такому печальному поводу. Итак, мой вопрос: имели ли место какие-либо разговоры между вами и обвиняемой, касающиеся чувств, испытываемых ею к покойному?
— Насколько я помню, нет.
В ходе перекрестного допроса Эдлин всячески допытывался о визитах Уичера в Уорминстер.
— Один раз он заходил к нам в дом, другой — к мистеру Бейли, они с женой живут напротив. Заметив меня в саду, миссис Бейли помахала рукой — заходи, мол. Ну я пошла и увидела мистера Уичера. Это меня не удивило — миссис Бейли давно интересовалась этим делом, расспрашивала меня.
Эмма добавила, что Уичер показывал ей кусок нагрудной фланельки.
Эдлин построил допрос так, чтобы представить Уичера назойливым интриганом: дабы выудить у Эммы Моуди нужные ему показания, он якобы всячески ее преследовал, ставил ловушки, заманивал к соседям, показывал чью-то женскую одежду, заставлял копаться в памяти, выуживая подробности, бросающие тень на ее школьную подругу.
— Но ведь я не раз говорил вам, что меня интересует правда, и только правда, не так ли? — прервал его в какой-то момент Уичер, обращаясь непосредственно к Эмме. Таким образом он рассчитывал услышать от нее то, что нужно было ему.
— Ну, это само собой разумеется, — отмахнулся Эдлин.
— Я бы предпочел услышать это от обвиняемой (Эмма была не обвиняемой, а свидетельницей; оговорка Уичера лишний раз свидетельствует, насколько его выбили из колеи показания девушки).
Эмма признала, что Уичер велел ей говорить только правду.
Ладлоу в очередной раз спросил, не припоминает ли она каких-либо разговоров о Сэвиле, которые вела с ней Констанс. Ответ был прежним — «нет».
— Опять один и тот же вопрос, — заметил Эдлин.
— А сами-то вы не заговаривали об этом с обвиняемой? — спросил Ладлоу.
— Да, сэр. — Наконец-то Эмма сделала шаг, столь долгожданный для Уичера.
Но со стороны Эдлина последовал немедленный протест. Суд не должен задавать таких вопросов, заявил он, и вообще из соображений гуманности девушку следует отпустить.
Переговорив приватным образом с адвокатом, суд решил прекратить допрос Эммы Моуди.
Отвечая на вопросы, связанные со вскрытием тела покойного, Джошуа Парсонс, по сути, повторил то, что уже говорил на дознании. «Я хорошо знал несчастного мальчика», — добавил он. Доктор подтвердил, что в утро убийства собственными глазами видел на кровати Констанс вполне чистую ночную рубашку. Отвечая на вопрос Эдлина, он признал, что «возможно, ее носили неделю или около того» и что удар в грудь был нанесен Сэвилу с «очень большой силой». Относительно душевного здоровья Констанс вопросов не последовало.
Отвечая на вопросы Генри Кларка, другая одноклассница — Луиза Хэзерхилл, заявила, что, по словам Констанс, к детям от второго брака отца в семье относились с особой любовью, а Уильяма всячески третировали.
Сара Кокс говорила о пропавшей ночной рубашке: она вспомнила, как Констанс пришла к ней, когда она в понедельник, после убийства, раскладывала по корзинам белье в стирку; рассказала про переполох в доме, когда обнаружилось, что не хватает ночной рубашки. Однако же Кларку так и не удалось подтвердить версию Уичера, будто Констанс сама вытащила из корзины злосчастную рубашку, чтобы скрыть факт уничтожения другой, той, что была на ней в момент убийства.
Сама горничная ни в чем не подозревала Констанс и никакой неприязни к ней не испытывала.
— Разумеется, она была убита горем, как все, а так ничего особенного в поведении обвиняемой после гибели мальчика я не заметила, — заявила она. — И никогда не видела и не слышала от нее по адресу покойного ничего дурного, неродственного.
Последней для дачи показаний была вызвана миссис Олли. Ее тоже спрашивали о пропавшей ночной рубашке. За пять лет, что она стирает белье в доме Кентов, показала свидетельница, пропали только две вещи: «старая тряпка для вытирания пыли и старое полотенце».
Эдлин начал свое заключительное слово с призыва к суду немедленно освободить Констанс Кент.
— Против этой юной дамы нет ни малейшей улики… Было совершено гнусное убийство, но, боюсь, за ним может последовать убийство едва ли ни столь же гнусное — юридическое.
Поистине от Эдлина потребовалась немалая твердость, чтобы уподобить расследование убийства самому убийству.
— Никогда, — продолжал он, — никогда не будет предан забвению тот факт, что эту юную даму, словно какую-то преступницу, какую-то бродягу, вытащили из дома и бросили в тюрьму. Я утверждаю, что такой шаг был бы оправдан лишь по результатам серьезнейшего изучения всех обстоятельств дела и лишь при наличии бесспорных улик, а не просто какой-то несчастной ночной рубашки, бог весть куда задевавшейся, хотя инспектору Уичеру было известно, что она находится в доме, а суперинтендант Фоли и врач исследовали ее наряду с содержимым комода Констанс на следующий день после убийства.
Таким образом, Эдлин подчеркивал тот факт, что в нижнем белье девушки рылись посторонние. Намеренно или нет, но он искажал версию Уичера относительно того, как подменили ночную рубашку. Если на ней не было никаких следов, спрашивал он, какой смысл ее укрывать? С его точки зрения, «тем, кто узнал о ее пропаже в первый же день, все было ясно, и нет никаких сомнений в том, что эта вещица просто отцепилась от бельевой веревки и куда-то девалась».
Я утверждаю, что уже самого того факта, что эту юную даму грубо вытащили из ее собственного дома, да еще в тот момент, когда сердце ее и без того разрывалось от боли и сострадания к дорогому брату, самого этого факта достаточно для того, чтобы вызвать к ней сочувствие со стороны любого жителя этого графства и, более того, всех тех непредвзято мыслящих граждан этой страны, кто слышал — а слышали практически все — об этом страшном преступлении.
При этих словах Сэмюел и Констанс Кент разрыдались. Эдлин же продолжал:
То, что было сделано, действительно грозит ей гибелью — вы не оставляете этой девушке никакой надежды… А где улики? Единственное основание для ее ареста — мне, как гражданину страны, где торжествуют принципы свободы и справедливости, стыдно говорить об этом — подозрения мистера Уичера, человека, сосредоточившегося исключительно на поисках убийцы и рассчитывающего получить за его поимку награду… Я не хочу бросать на него тень, но, по-моему, в данном случае профессиональное рвение подтолкнуло его в поисках мотива преступления на совершенно беспрецедентный в юриспруденции путь. Я вынужден говорить о бессердечии и душевной черствости: я говорю о компрометации; хотя я мог бы сказать «позор», но не хотел бы употреблять слишком сильных слов. Во всяком случае, вызвав для дачи свидетельских показаний двух запуганных им школьниц, мистер Уичер самым откровенным образом скомпрометировал себя. Так пусть же ответственность за такие деяния ляжет на тех, кто привел сюда этих, по сути, детей, пусть им будет стыдно!.. Мне представляется, что мистер Уичер позволил завлечь себя на путь, уведший его далеко от существа дела. Растерянный и раздраженный тем, что не удалось найти никаких нитей, ведущих к раскрытию преступления, он ухватился за нечто вовсе не являющееся такой нитью.
Если говорить об обвинении, выдвигаемом сейчас против мисс Констанс Кент, заключил адвокат, об обвинении, грозящем сломать всю жизнь этой девушки, то, учитывая открывшиеся в ходе настоящего заседания факты, вынужден заявить, что с большей предвзятостью и несправедливостью я не только не сталкивался, но даже не слышал ни о чем подобном.
Речь Эдлина не раз прерывалась аплодисментами публики. Завершил он ее около семи вечера. Суд удалился на совещание, и, вернувшись в зал заседаний, Ладлоу объявил, что Констанс освобождается из-под стражи под залог в двести фунтов как гарантию того, что в случае необходимости она вновь предстанет перед судом.
Констанс в сопровождении Уильяма Данна покинула Темперенс-Холл. Толпа расступилась, освобождая ей путь.
Дома, как сообщает «Вестерн дейли пресс», Констанс «попала в объятия своих сестер и родителей. Они плакали, целовали, обнимали ее, и продолжалось это довольно долгое время. Но в конце концов чувства улеглись, и с тех пор юная дама бродит по дому как тень, погруженная в печальную задумчивость». Она вновь замкнулась в молчании.
С любой точки зрения позиции у детектива Уичера были слабые. Его неудача была предопределена рядом вполне конкретных обстоятельств. Он слишком поздно оказался на месте преступления; ему чинили всяческие препятствия местные сыщики — люди малокомпетентные и предвзятые; его торопили с арестом подозреваемой, и у него был слабый союзник в суде. Уичер в одном из отчетов Мейну подчеркивал, что «тут не нашлось ни одного настоящего профессионала, способного представить позицию обвинения». В обычных обстоятельствах такого специалиста должен был бы найти сам Сэмюел Кент — ведь речь шла об убийстве его сына, — но коль скоро обвиняется его же родная дочь, трудно предположить, что он будет способствовать ее осуждению. Уичер считал, что опытный юрист сумел бы более убедительно изложить версию, основывающуюся на пропавшей ночной рубашке, да и убедить Эмму Моуди повторить то, что она говорила Уичеру об отношении Констанс к младшему брату. Это были два ключевых момента. Судьям даже не пришлось бы выносить вердикт о виновности Констанс, если бы они подтвердили то, что имеющихся доказательств достаточно для ее привлечения к суду.
Но окончательно подорвала позиции Уичера речь Эдлина, представившего детектива вульгарным хищником и безжалостным монстром, готовым погубить юное создание. В этой речи содержался, между прочим, и тонкий намек сексуального свойства: будто бы полицейский всего лишь неотесанный мужлан, покушающийся на девичью невинность. Эдлину явно удалось завоевать симпатии публики. И хотя местный люд был готов признать, что лишили жизни мальчика неприкаянные и по-своему потерянные несчастные подростки — старшие дети Кента, — большинство англичан отвергали это подозрение как полный бред. Ну как представить себе то, что у девочки из почтенной семьи достанет эмоциональных сил, чтобы совершить убийство, и хладнокровия — чтобы скрыть его. Скорее уж общество было готово поверить в низость полицейского.
Расследование, проведенное Джеком Уичером, явилось лучом света, проникшим в наглухо замкнутый дом; через распахнувшиеся окна внутрь проник воздух. Но одновременно оно сделало семью предметом хищного и нездорового любопытства толпы. Полицейское расследование включает в себя малоприятные процедуры: измерение объема груди, осмотр нижнего белья на предмет обнаружения пятен пота или крови, неделикатные вопросы, касающиеся жизни добропорядочных юных девиц. В «Холодном доме» Диккенс передает ощущения, возникающие у сэра Лестера Дедлока при обыске его жилища: «благородный дом, портреты его предков, к ним прикасаются посторонние, полицейские грубо перебирают семейные ценности, на него указывают тысячи пальцев, тысячи лиц, ухмыляясь, смотрят на него». Если в тридцатые — сороковые годы XIX века детективным чтивом пробавлялась в основном лондонская чернь, то десятилетие спустя оно стало проникать в дома среднего класса, в которых нередко и происходили описываемые события. «Удивительные вещи случаются в семьях, — говорит мистер Баккет. — Даже в очень благопристойных семьях, в высшем обществе… вы даже не представляете себе… что только там не происходит».
В то самое время, когда Уичер проводил свои изыскания, «Фрум таймс» заявила «возмущенный протест против действий некоторых представителей прессы. Из заслуживающего доверия источника нам стало известно, что некто проник в дом, переодевшись полицейским, в то время как еще один репортер имел наглость предстать перед мистером Кентом и начать выспрашивать у него подробности убийства сына. С нашей точки зрения, такое поведение и такая бесчувственность ничем не лучше действий бандита, совершившего жестокое убийство». Таким образом, газета утверждала, что нарушение неприкосновенности жилища сродни убийству. Подобная позиция — ее занял и Эдлин — подкрепляется викторианской чувствительностью к «выставлению напоказ», публичному скандалу и нарушению святости частной жизни. Если в дом, где живет семья, принадлежащая к среднему классу, проникает журналист, а уж тем более полицейский, то это рассматривается как вторжение. «Выставление напоказ, как убеждает совершенное убийство, может иметь фатальные последствия — когда легкие, дыхательные пути, артерии, сердце внезапно обнажаются и становятся доступны свежему воздуху, они гибнут».
Степлтон описывает смерть Сэвила в таких выражениях: «обитатель этого живого дома грубо вышвыривается из него в результате насильственного вторжения».
Слово «детектив» происходит от латинского «detegere» — «раскрывать, обнаруживать», и первым в мире детективом был хромой бес Асмодей, приподнимавший крыши с домов, чтобы заглянуть внутрь. «Асмодей — бес соглядатайства», — писал французский романист Жюль Жанен. В своей книге, посвященной убийству в доме на Роуд-Хилл, Степлтон использует фигуру Асмодея, «подглядывающего через замочную скважину» в дом, где живут Кенты, как символ общественного интереса к этому делу.
«Если бы на каждую комнату этого дома нашлось по тайному наблюдателю, — заметил в 1861 году детектив из Шотландии Макливи, — то взгляду нашему открылась бы картина даже более увлекательная, нежели передвижная выставка». Полицейский офицер в штатском как раз и является таким тайным наблюдателем, у него есть официальный мандат на подглядывание. Герой детектива может в любой момент обернуться своим ухмыляющимся двойником-соглядатаем.
«То ангел, то дьявол, по очереди, а?» — замечает мистер Баккет.
После того как Констанс выпустили из тюрьмы под залог, Уичер заявил Ладлоу, что смысла в его дальнейшем пребывании в Уилтшире нет. «У меня не было оснований надеяться на обнаружение новых улик, — писал он впоследствии в своем отчете. — Таковой могла бы оказаться только ночная рубашка, но я считал, что она уничтожена». Ладлоу не стал возражать, заверив при этом Уичера, что лично он убежден в виновности Констанс и доведет свое мнение до министра внутренних дел Джорджа Корнуолла Льюиса и комиссара Мейна. Генри Кларк тут же набросал проект письма. «От имени судей, — говорилось в нем, — выражаю признательность за содействие, оказанное нам господами Уичером и Уильямсоном. Хотя достаточного количества улик, подтверждающих виновность задержанной, добыть пока не удалось, судьи совершенно убеждены в том, что преступление совершила Констанс Кент, и выражают надежду на то, что таковые еще будут обнаружены и справедливость восторжествует. Мы полностью удовлетворены деятельностью вышеупомянутых офицеров полиции».
Уже на следующий день Уичер и Уильямсон вернулись в Лондон. В качестве сувениров Уичер взял с собой предметы, напоминающие о проведенном расследовании, — две ночные рубашки Констанс, составленный ею перечень вещей, отданных в стирку, клочок газеты с засохшими пятнами крови. В очередном номере «Круглого года» герой публикуемой там «Женщины в белом» также завершает свое расследование в провинции. Глава кончается такими словами: «Через полчаса я уже сидел в поезде, направляющемся в Лондон».
В субботу и воскресенье в окрестностях дома Кентов гремели сильные грозы. Над полями полыхали молнии, вода во Фруме поднялась почти на три фута, кукурузу прибил град.
Во время слушаний в Темперенс-Холле у миссис Кент начались родовые схватки. «Волнение и напряженное ожидание результатов судебного заседания оказались для нее слишком сильным испытанием, — писала „Бат кроникл“, — и в результате схватки начались преждевременно». Пронесся даже слух, будто ребенок появился на свет мертвым, но это оказалось не так. В понедельник, 30 июля, через месяц после гибели первого сына, миссис Кент родила мальчика, которого назвали Эклендом Сэвилом Кентом.[76]
Глава 12 ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИХОРАДКА
Лондон,
июль — август 1860
Уичер сошел с поезда на Паддингтонском вокзале в середине субботнего дня, 28 июля, и кеб доставил его вместе с багажом до Пимлико, скорее всего в дом номер 31 по Холивелл-стрит, рядом с Миллбанк-роу. В этом доме снимала комнату его тридцатилетняя незамужняя племянница Сара Уичер, и именно этот адрес он три года спустя зарегистрировал как свое местожительство.[77] В 50-е годы его друг и сослуживец Чарли Филд жил, вместе с женой и тещей, в доме номер 27, а рядом, в доме номер 40, работала прислугой в семье обойщика еще одна племянница Уичера, Мэри-Энн.
Квартал менялся на глазах. На западной его границе достраивался вокзал Виктория, а на северной — Вестминстерский дворец с его готическими шпилями; колокол Биг-Бен был доставлен на башню еще год назад, но на циферблате по-прежнему отсутствовала одна стрелка и боя курантов все еще никто не слышал. Этим летом на новом Вестминстерском мосту установили 13 мощных фонарей: их великолепное свечение порождалось миниатюрными взрывами кислорода и водорода, от которых известковые сердечки раскалялись добела. Однажды теплым январским днем 1861 года в Миллбанке оказался Диккенс и прогулочным шагом направился на запад, вдоль реки. «Я отшагал три мили, — адресовался он к одному из своих корреспондентов, — по великолепной широкой эспланаде; то и дело передо мной возникали огромные фабрики, железнодорожные станции и еще всевозможные сооружения. Я проходил мимо совершенно незнакомых мне, блистающих роскошью улиц, доходящих до самой реки. В далекие времена, когда я катался на лодке по Темзе, на этом берегу были одни лишь пустыри да овраги; то там, то здесь виднелись трактир, ветхая мельница, фабричная труба. С тех пор я ни разу здесь не был и не видел, как менялся облик этих мест, хотя всегда считал, что знаю этот довольно большой город не хуже любого лондонца».
Уичер жил в индустриальной части Миллбанка, где постоянно раздавался шум фабричных машин, а вдоль реки теснились убогие, выкрашенные в желтое дома. Господствовал над местностью огромный шестилистник Миллбанкской тюрьмы. Романисту Энтони Троллопу этот район показался «на редкость угрюмым, можно даже сказать — уродливым». Холивелл-стрит отделялась от тюремной стены только газометрами, лесопильным заводом и мастерскими, где обрабатывали мрамор. На них-то и выходил своей тыльной частью дом 31, фасадом обращенный на большую пивоварню и кладбище. В квартале к северу располагалась фабрика по производству музыкальных инструментов, а на таком же расстоянии к югу — винокуренный завод. Сразу за ним покачивались на приколе баржи с углем, а на противоположном берегу реки располагались огромные гончарные мастерские и распространяющие по всей округе гнилостный запах костедробильни Ламбета. По реке сновали колесные пароходики, доставлявшие лондонцев на работу, а потом — по домам. Лопасти взбивали сливаемые в реку отходы — воздух был спертым, пропахшим нечистотами.
В понедельник, 30 июля, Джек Уичер отправился на работу. Скотленд-Ярд находился недалеко — всего в миле к северу от Холивелл-стрит, и путь туда лежал вдоль Темзы, мимо обшарпанных халуп «Чертовой десятины», затем Вестминстера и Уайтхолла. Вход в полицейское управление для посетителей находился в Большом Скотленд-Ярде, хотя официальный адрес значился как Уайтхолл-плейс, 4. На стене здания красовались большие часы, их циферблат был обращен во двор, на крыше вертелся флюгер. В управлении находились пятьдесят кабинетов. Начиная с 1829 года в них работали сотрудники городской полиции, а с момента своего формирования в 1842 году — в трех небольших помещениях — располагалась служба детективов. Общежитие, в котором квартировал вместе с другими полицейскими-холостяками Фредерик Уильямсон, примыкало к одному из углов Большого Скотленд-Ярда, позади рыбного магазина Гроувза. У другого угла была пивная — перед ней подвыпившая старуха продавала по вечерам в субботу свиные ножки. К северу от Скотленд-Ярда лежала Трафальгарская площадь, южнее протекала Темза.[78]
Сэр Ричард Мейн, чей кабинет также находился в Скотленд-Ярде, ставил Уичера выше других своих сотрудников. По воспоминаниям Тима Кавано, во второй половине 50-х годов «все сложные случаи сэр Ричард поручал Уичеру». Там же, в книге мемуаров, Кавано набрасывает портрет комиссара: «шестидесятилетний мужчина, ростом примерно пять футов восемь дюймов, худощавый, хорошо сложенный, с худым лицом, очень плотно сжатыми губами, седыми волосами и бакенбардами, ястребиным взглядом и небольшой хромотой, что объясняется, вероятно, ревматическим болями в бедренном суставе. На службе его и уважают, и боятся». По возвращении Уичера и Уильямсона в Лондон комиссар, как положено, распорядился оплатить их счета, включая надбавку за работу вне города (одиннадцать шиллингов в день инспектору, шесть — сержанту), и передал Уичеру пачку писем, содержащих предложения по расследованию убийства в доме на Роуд-Хилл. Такие письма на имя Мейна или министра внутренних дел потоком шли на протяжении всего минувшего месяца.
«Хотелось бы поделиться с вами своими соображениями; они, как мне кажется, могут оказаться полезными при разгадке этой тайны, — писал некто мистер Фаррер. — Обращаюсь к вам сугубо конфиденциально и рассчитываю на то, что мое имя не будет предано огласке… Так вот: эта самая Эли Гаф, нянька, возможно, спала в ту ночь с Уильямом Наттом. Ребенок (Кент-младший) проснулся, и они в страхе, что он перебудит весь дом, задушили его, и пока Натт относил тело в туалет, Эли перестелила постель». В постскриптуме говорилось: «Поскольку через жену Уилл Натт связан с семьей прачки, он мог куда-нибудь запрятать ночную рубашку, чтобы навлечь подозрение на других».
Версия о виновности Натта и мисс Гаф была наиболее распространенной. Один из корреспондентов, считающий, что Констанс «самым жестоким образом оболгали и повесили на нее всех собак», обращает внимание на то, что в медицинском заключении говорится о ноже «с загнутым концом», — «очень похоже, что речь идет о сапожном ноже, постоянно находящемся в деле». Натт — сапожник. «Горло перерезано от уха до уха, нож проник в тело до самого позвоночника» — это свидетельствует о решительности и силе удара, вряд ли доступной неуравновешенной шестнадцатилетней девушке; к тому же «у сапожников часто бывает не один нож, а два, и один из них как раз и мог оказаться в туалете».
Той же позиции придерживались безымянный корреспондент из Майл-Энда, капеллан из Бата, фабричный рабочий из Оксбриджа, графство Сомерсетшир, мистер Майнор из Саусворка и некий мистер Дэлтон, отправивший свое письмо из какой-то манчестерской гостиницы. А портной из Чешира требовал взять Элизабет Гаф «под строжайшее наблюдение».
Но наиболее подробное обоснование этой версии дал викарий из Ланкашира, судья городского магистрата:
Хотя подозрения, которыми я хочу поделиться с вами, возникли уже давно, с самого начала расследования, и мы часто говорили о них в домашнем кругу, но до тех пор пока в прессе не прозвучали конкретные имена — я говорю, разумеется, об убийстве в доме Сэмюела Кента, — мне казалось неуместным делать их достоянием общественности.
Разве нельзя предположить, что у няни была интрижка, и она либо проводила любовника к себе, либо он сам достаточно знаком с домом и прилегающими к нему участками, чтобы найти дорогу даже ночью… Изо всех, о ком идет речь, подозрение сразу же падает на одного человека. Это Натт… Если он действительно находится в связи с этой женщиной, разве так уж трудно путем медицинской экспертизы установить, принимала она его ночами или нет? У него в распоряжении имелся весь подручный материал — хотя бы нож — и целая ночь в запасе. Он приходится зятем прачке, и если она знала о том, что происходит между этими двумя, то у нее не могло не возникнуть определенных подозрений — особенно когда он так легко обнаружил тело. Именно прачка могла спрятать ночную рубашку, сразу же изменив тем самым направление поисков в сторону этой взбалмошной девушки — мисс Кент, некоторое время назад убегавшей из дома в мужской одежде. Разумеется, все это одни только подозрения, но в обстоятельствах, когда следствие топчется на месте, невольно приходишь к мысли, что люди, ведущие его, находятся во власти априорных представлений и с порога отвергают или по крайней мере не хотят принимать во внимание все то, что противоречит их взгляду… Некоторый, пусть и небольшой, опыт работы в суде нашего удаленного района позволяет мне рассуждать о вероятных мотивах, какими руководствуются люди в своих деяниях…
В первых числах августа министр внутренних дел сэр Джордж Корнуолл Льюис получил два письма, в которых Элизабет Гаф и ее любовник прямо называются убийцами Сэвила Кента. Автором одного из них был адвокат из Гилдфорда. О деятельности Уичера он отзывается весьма пренебрежительно: «Полицейский может быть хорош в поисках и поимке преступника; но для того, чтобы понять само преступление и раскрыть тайну, необходим интеллект, помноженный на наблюдательность». Другое письмо пришло из Бата, от сэра Джона Эрдли Уилмота, баронета и тоже стряпчего, правда, бывшего. Он обнаружил столь неуемный интерес к делу, что ему даже удалось уговорить мистера Кента позволить ему приехать в дом на Роуд-Хилл и переговорить кое с кем из его обитателей. Горацио Уоддингтон, постоянный заместитель министра внутренних дел — гроза всего министерства, — переслал эти письма Мейну. «Эта версия приобрела популярность, — писал он своим четким почерком на одном из конвертов, — и мне хотелось бы услышать по этому поводу комментарии инспектора Уичера; ведь если у девушки был любовник, кто-то да должен был это знать или хотя бы подозревать». Уичер немедленно представил свои контраргументы («Боюсь, сэр Джон недостаточно изучил факты…»), и Уоддингтон наложил на его докладную следующую резолюцию: «Я склонен согласиться с мнением представителя полиции».
Получив от Эрдли Уилмота очередное послание — на сей раз на роль кандидата в любовники Элизабет Гаф был выдвинут некий солдат, — Уоддингтон написал на конверте: «Впервые слышу об этом солдате. Где он его откопал?» Но это было еще не все. Баронет принялся систематически бомбардировать письмами министерство. «Странное увлечение», — вывел на одном из них постоянный заместитель министра. «Просто мания какая-то» — комментарий к другому. И наконец: «Он что, хочет, чтобы мы взяли его на работу детективом?»
Возникали в письмах и другие подозреваемые. Джордж Лар-кин из Уоппинга спешил поделиться своей версией:
Сэр, три недели подряд у меня не выходило из головы убийство во Фруме. Засыпаю и просыпаюсь с мыслями о нем. И вот меня озарило — ведь настоящий убийца — мистер Кент. Предложенная же им премия — просто уловка. Мне кажется, что мистер Кент прошел в комнату к няне с определенной целью; ребенок проснулся и узнал отца; тот же, опасаясь разоблачения и домашнего скандала, задушил его, после того как няня заснула, а потом он отнес в уборную и перерезал горло.
Житель Блэнфорда по имени Дорсет писал: «Я убежден, что мальчика убила миссис Кент».
Сара Каннигэм, жительница западного Лондона, утверждала, что «постепенно пришла к заключению, что убийцей является брат Уильяма Натта и зять прачки, миссис Олли».
Другой лондонец, подполковник Моэм, проживающий на Гановер-сквер, поделился следующими соображениями:
Позвольте мне со всем почтением… призвать следствие выяснить, не хранился ли в доме, где был убит мальчик, хлороформ… если нет, то не покупали ли его в последнее время в ближайших окрестностях или в деревнях, в городах, где дети мистера Кента учились в школе… Думаю также, что стоило бы выяснить, не приобреталось ли (а может, было у кого-нибудь позаимствовано) оружие в непосредственной близости от тех же школ.
В докладной записке Мейну Уичер отметил, что Джошуа Парсонс не обнаружил в крови Сэвила никаких следов хлороформа. «Что же касается предположения, будто оружие могло быть приобретено в окрестностях или принесено мисс Кент из школы, то все необходимые следственные действия в этом направлении уже проведены».
На большинстве из подобного рода писем сохранились пометки Уичера: «Ничего ценного для расследования не содержится». Порой, впрочем, он едва не выходил из себя: «Со всем этим я уже сам справился». Или: «Со всеми, кто здесь упоминается, я встречался на месте и убедился, что никакого отношения к убийству они не имеют».
Единственное письмо, содержащее реальную информацию, а не домыслы, пришло от Уильяма Ги из Бата.
Что касается самого мистера Кента, то от приятельницы, вдовы директора школы, мне стало известно, что четыре года назад он оказался в таком затруднительном положении, что даже не смог вовремя внести полугодовую плату за обучение сына, то ли 15, то ли 20 фунтов. Не понимаю, каким образом можно жить в столь роскошном доме (не много равных ему найдется в тех краях) и в то же время не… (неразборчиво) бедному учителю.
Этот эпизод подтверждает, что Сэмюелу и впрямь, как на то намекает в своей книге Джозеф Степлтон, не хватало наличных; свидетельствует он и о явном недостатке внимания отца к сыну.
Письма, хлынувшие в Скотленд-Ярд, явились проявлением нового вида национального спорта — мании расследования. Люди особенно увлекались, если убийство совершалось в доме и его окружала тайна; в не меньшей степени их интересовал и процесс расследования. «Дух захватывает, когда убивают, а убийцу найти не могут, — признается героиня романа Эмили Иден „Полутемный дом“ (1859) миссис Хопкинсон. — То есть, разумеется, это ужасно, но я люблю слушать такие истории». Случай, происшедший в доме на Роуд-Хилл, лишь подогрел общий интерес к загадочным преступлениям. В «Лунном камне» Уилки Коллинза эта мания поименована «детективной лихорадкой».
Всячески понося Уичера за его «скабрезные, ничем не подкрепленные домыслы», пресса и публика с охотой упражнялись в них сами. Первый в англоязычной литературе герой-сыщик был, подобно им, прикован к своему креслу: Огюст Дюпен распутывал преступления, отыскивая следы не там, где оно было совершено, но на газетных полосах. Время профессиональных детективов только начиналось; эпоха же любителей уже достигла полного расцвета.
В дешевенькой шестнадцатистраничной брошюрке, вышедшей в Манчестере и озаглавленной «Кто совершил убийство в доме на Роуд-Хилл, или По кровавому следу», анонимный «ученик Эдгара По» негодующе обрушивается на Уичера с упреками: «До настоящего времени все усилия „блестящего детектива“ сводились к тому, чтобы найти хоть какую-то связь между ночной рубашкой и мисс Констанс Кент; доказать, что в ней-то и воплощена вина девушки! Стало быть, непременно надо ее отыскать. Все не так! Я считаю, что как раз наоборот: потеря рубашки — знак ее безгрешности и та же потеря — свидетельство вины кого-то другого. Вор, вернее, воровка стащила рубашку, чтобы не привлекать внимания к себе и бросить тень подозрения на свою товарку». Таким образом, автор брошюры уже прибег к одному из приемов детективной прозы: решение загадки должно быть сложным, запутанным — парадоксальным. Потеря ночной рубашки должна означать нечто прямо противоположное тому, что лежит на поверхности: «потеря — знак безгрешности».
Автор задается вопросами: с должным ли тщанием искали окровавленную одежду; осмотрели ли дымоход на предмет обнаружения в нем остатков сгоревшей ткани, что могло бы послужить вещественным доказательством; проверили ли бухгалтерские книги местных скобяных лавок. Нагнетая страсти, автор реконструирует картину убийства, уверяя, что, поскольку шея мальчика перерезана слева направо, убийца был скорее всего левшой: «Проведите воображаемую линию через все тело упитанного ребенка… Если убийца — обычный человек, правша, то он упрется левой ладонью в грудь мальчика, а удар нанесет и далее сделает надрез правой».
Газеты тоже выстраивали свои версии. «Глоб» обвиняла Уильяма Натта, «Фрум таймс» указывала на Элизабет Гаф, «Бат экспресс» — на Уильяма Кента. В «Бат кроникл», в статье, за публикацию которой на газету подали иск по обвинению в клевете, злодеем назван Сэмюел Кент.
Если версия о том, что молодая женшина вступила в предосудительную связь и что ее партнер предпочел разоблачению убийство, найдет достаточное обоснование, придется, как это ни печально, искать того, для кого подобное разоблачение могло означать крах или по крайней мере нанесение такого урона, что, пережив мгновенный приступ ужаса, он прибег к самому крайнему средству, лишь бы его избежать. Кто же этот гипотетический «он»?.. Как он ведет себя в этот предрассветный час с его мутным, колеблющимся светом, когда мысль работает в полную силу, порождая болезненно-яркие образы происходящего, но еше недостает хладнокровия и мудрой решимости, приходящей с подъемом, когда мы встаем и готовимся к дневным трудам… Слабый, порочный, напуганный, пребывающий в отчаянии человек видит, как между ним и пропастью встает ребенок, — и в приступе безумия наносит роковой удар.
Пока еще личность этого «пребывающего в отчаянии» человека сохраняет некоторое инкогнито, но в заключительных строках статьи автор только что не называет Сэмюела Кента по имени.
Исчезает ребенок, причем исчезает не из общей комнаты, а из собственной спальни, находящейся где-то в глубине дома, в то время суток, когда никто посторонний появиться в ней просто не может, — и что же? Человеку, коему мальчик должен быть самым дорогим существом на свете, следовало бы принять самое энергичное и действенное участие в его поисках. Он же выдвигает фантастическую, явно из книг почерпнутую идею, будто ребенка украли цыгане. Право, если бы он заявил, что ребенка унесли на крыльях ангелы, это едва ли вызвало бы большее изумление.
С тем, что преступление имело несомненный сексуальный подтекст, не спорил никто; точнее говоря, мальчика убили потому, что он стал невольным свидетелем любовной сцены. С точки зрения Уичера, Констанс отомстила за любовную связь отца и своей бывшей гувернантки, уничтожив плод этой связи. Общественное же мнение склонялось к тому, что Сэвила убили потому, что он увидел то, чего видеть ему не следовало. Преобладающим тоном газетных публикаций была растерянность. И хотя собрано было уже много различных данных, ясности это не прибавило; репортеры напускали еще больше таинственности. «Вот и все, что нам известно, дальше — сплошной туман, — говорилось в редакционной статье „Дейли телеграф“. — Здесь мы в растерянности останавливаемся, начинаем топтаться на пороге неведомого, и те необъятные дали, где и случилось преступление, остаются неведомыми». Цепь событий, приведших к убийству, имеет исключительное значение, но от взгляда скрыта. Пусть дом обыскали вдоль и поперек, но двери его, фигурально выражаясь, остались закрытыми наглухо.
Неразгаданная тайна гибели Сэвила порождала фантастические домыслы, давала полную волю самому необузданному воображению. Никто не знал, какие именно таинственные фигуры могут возникнуть в «предрассветный час с его мутным колеблющимся светом». Герои спектакля двоились: Констанс и Элизабет Гаф попеременно выступали то в роли ангелов-хранителей домашнего очага, то в образе ведьм; Сэмюел представал в облике то любящего отца, убитого горем, то безжалостного тирана и к тому же сексуального маньяка; Уичер — либо прозорливец, либо невежда.
По редакционной статье в «Морнинг пост» можно легко убедиться, что под подозрением находятся едва ли не все обитатели дома, да и кое-кто за его пределами. Убийство, говорится в ней, мог совершить Уильям или Сэмюел, но не исключено также, что с сыном расправилась миссис Кент — «в горячке, жертвой которой порою становятся женщины в ее положении (то есть беременные)». Сэвила мог убить «кто-нибудь из несовершеннолетних обитателей дома — в порыве ярости или ревности, — или тот, кто хотел нанести удар родителям в самое больное место». Автор статьи задается вопросами о предках Сары Керслейк, ножах Уильяма Натта, обманах Эстер Олли. Воображение увлекает его в самые недоступные тайники дома и его окрестностей: «Простукивались ли стены, были ли обследованы дно пруда, овраги, дымоходы, стволы деревьев, перекапывали ли землю в саду?»
«Какой бы завесой тайны ни была покрыта вся эта история, — заключает он, — наше внимание поочередно переключается с ночной рубашки на нож».
Через несколько дней после возвращения в Лондон Джек Уичер и Долли Уильямсон уже расследовали другое убийство — еще один домашний кошмар, в котором также фигурируют ночная рубашка и нож. «Не успели мы пережить одно жестокосердное убийство, — писала газета „Глобал ньюс“, — как нам пришлось с горечью убедиться в том, что безнаказанность приводит к обычному результату: убийства происходят то тут, то там, повсеместно, так, словно страну внезапно охватила эпидемия». Нераскрытое убийство подобно заразе. Не сумев поймать одного убийцу, детектив спускает с поводка целую свору.
Во вторник, 31 июля, в один из домов Уолворта, района в южной части Лондона, расположенного между Кембервеллом и Темзой, был вызван наряд полиции. Дело в том, что вскоре после рассвета хозяин и один из жильцов услышали крики и глухой звук удара. Прибыв на место, полицейские обнаружили невысокого мертвенно-бледного юношу в ночной рубашке, склонившегося над трупами матери, двух братьев (одиннадцати и шести лет) и двадцатисемилетней женщины. На всех была ночная одежда. «Это все мать, — сказал юноша. — Она подкралась к кровати, на которой спали мы с братом, заколола его ножом и замахнулась, чтобы ударить меня. Защищаясь, я вырвал нож и убил ее. То есть если она действительно мертва». Единственного выжившего в этой бойне звали Уильям Янгмен. Услышав, что его арестуют по подозрению в убийстве, он вымолвил лишь: «Отлично».
Уичер и Уильямсон были выделены в помощь инспектору Данну с лэмбетского участка. В отличие от Фоли Данн хороший полицейский, а потому его назначили руководить расследованием. Следствие быстро установило, что Янгмен был помолвлен с молодой женщиной по имени Мэри Стритер и за шесть дней до ее смерти снял сто фунтов с ее полиса страхования жизни. Уичер обнаружил, что объявление об их бракосочетании уже было отпечатано и вывешено в приходской церкви. Выяснилось также, что за две недели до убийства Янгмен приобрел нож, которым оно и было совершено, — по его утверждению, для резки хлеба и сыра.
Между убийствами в доме на Роуд-Хилл и в Уолворте было кое-что общее: хладнокровие главных подозреваемых, исключительная жестокость по отношению к членам собственной семьи, намек на нервное расстройство. Но, по мнению «Таймс», еще больше было различий. Лондонское убийство отличается «отталкивающей однозначностью и ясностью», говорилось в газете, склонной усматривать в деньгах исключительный мотив, побудивший Янгмена столь жестоко расправиться со своими родными. «Общественное мнение, — продолжает „Таймс“, — не бродит в потемках и не терзается неопределенностью». Все ясно, никаких загадок нет, и единственное, что остается, — содрогнуться в ужасе перед содеянным. Ну а убийство в Уилтшире, напротив, дразнит тайной, и в его раскрытии усматривают интерес, личную заинтересованность множество английских семей, принадлежащих к среднему классу.
В том же духе высказалась и «Глобал ньюс»: в убийстве, совершенном в доме Кентов, имеется нечто такое, что «делает его совершенно исключительным по самой своей сути». В то же время газета указала на некую устрашающую общность между несколькими убийствами, совершенными в 1860 году, — все они практически не мотивированы: «Что сразу бросается в глаза, так это, с одной стороны, зверский характер преступления, а с другой — ничтожность мотива». Действительно, если говорить об убийствах на Роуд-Хилл и в Уолворте, то оба преступника кажутся несколько, хотя и не вполне, невменяемыми: их свирепость слабо согласуется с конечным результатом, каким бы он ни был. Но в то же время оба тщательно подготовлены, а следы столь же тщательно стерты. «Таким образом, либо это убийство в Уолворте вызвано вспышкой умопомешательства, либо остается признать, что по каннибальской жестокости ему нет равных в криминальной хронике человечества».
Всего через две недели после начала следствия Янгмен предстал перед судом в Олд-Бейли. «Выглядел он совершенно невозмутимым, — сообщает „Таймс“, — демонстрировал исключительное хладнокровие и выдержку… не выказывал ни малейшего волнения». Услышав вердикт присяжных — «виновен», — он заявил: «Я ни в чем не виноват», — отвернулся и решительно поднялся со скамьи подсудимых. Ссылки на невменяемость были отвергнуты, и Янгмена приговорили к смертной казни. Едва вернувшись в камеру, он потребовал принести ему ужин и поел с большим аппетитом. Пока он ожидал исполнения приговора, некая дама прислала ему в тюрьму религиозный трактат, выделив в нем места, относящиеся, по ее мнению, к данному делу. «Лучше бы она мне прислала чего-нибудь поесть, — заметил Янгмен. — Я бы не отказался от какой-нибудь дичи или куска маринованного мяса».
Участие Уичера в уолвортском деле осталось практически не замеченным прессой, продолжавшей негодовать по поводу его действий в Уилтшире. Огрызаться он мог только репликами в адрес корреспондентов, продолжавших заваливать письмами в Скотленд-Ярд; на публике же предпочитал хранить молчание.
За день до начала суда, 15 августа, над Янгменом, Уичер стал объектом резкой критики в парламенте. Сэр Джордж Бауэр, католик, один из ведущих парламентариев в палате общин, сетовал на низкий уровень работы английской полиции, избрав в качестве козла отпущения Уичера. «Недавнее следствие по делу об убийстве в доме на Роуд-Хилл, — заявил он, — стало ярким примером несостоятельности некоторых наших полицейских. Оно было поручено инспектору по имени Уичер. Основываясь на ничтожных уликах — собственно, на одном только факте исчезновения ночной рубашки, — он арестовал юную даму, живущую в доме, где было совершено преступление, и заверял судей, что для представления доказательств ее вины ему будет достаточно нескольких дней». Далее Бауэр обвинил Уичера в «совершенно непозволительной манере ведения следствия», напомнил, что «после всех его хвастливых заявлений о том, что-де, улики будут предъявлены, суд освободил обвиняемую из-под стражи». Министр внутренних дел предпринял вялую попытку защитить детектива, заявив, что «действия его были оправданны».
Общественное мнение, однако, было на стороне Бауэра.
«Мы считаем, что общее настроение может быть сформулировано следующим образом, — заявила „Фрум таймс“. — Офицер полиции, способный бездумно выдвигать столь тяжкое обвинение — обвинение в предумышленном убийстве, — а также давать обещание сделать то, чего он заведомо сделать не может, неизбежно вызывает недоверие».
«Версия Уичера не смогла пролить хоть какой-то свет на эту леденящую кровь тайну», — говорилось в газете «Ньюкасл дейли кроникл».
«Следует искать новые нити, дабы правосудие оказалось способным выбраться из этого лабиринта» — так прозвучал вердикт газеты «Морнинг стар», одновременно весьма скептически высказавшейся о «легкомысленных, в духе сплетен, совершенно бессодержательных показаниях школьницы», на которых Уичер строил всю свою версию.
«Бат кроникл» критически отозвалась о «сомнительных, на живую нитку сметанных рассуждениях, представленных в виде доказательства… Проделанный эксперимент отличается непозволительной жестокостью».
В статье, опубликованной в «Корнхилл мэгэзин», известный юрист сэр Джеймс Фитцджеймс утверждает, что цена действий, направленных на раскрытие убийства — вторжение полиции, нанесшее ущерб частной жизни людей, сделавшейся достоянием гласности, — бывает порою слишком высока: «Обстоятельства убийства, совершенного в доме Кентов, достойны пристального внимания, ибо могут служить прекрасной иллюстрацией того, насколько высока эта цена». Так как среди тех, кого можно было бы обвинить в неудаче следствия по делу об убийстве в доме на Роуд-Хилл, не нашлось более подходящей кандидатуры, чем Уичер, все упреки и достались ему. Каламбуря и играя на зловещих звуковых ассоциациях, связанных с именем детектива, «ученик Эдгара Аллана По» пишет в своей брошюре: «Констанс Кент признана невиновной, несмотря на все козни лондонских ведунов».[79]
Одним из наиболее сокрушительных обвинений, выдвинутых в адрес Джека Уичера, был упрек в корыстолюбии. Детективы первого призыва нередко представали в образе эдаких не лишенных своеобразного обаяния авантюристов, не далеко ушедших от тех, за кем они гоняются. Эжен Видок, сам некогда преступник, а затем сыщик, чьи сильно сдобренные вымыслом мемуары переведены на английский в 1828 году, а еще тридцать лет спустя инсценированы и поставлены в одном из лондонских театров, не моргнув глазом сменил род деятельности, как только до него дошло, что это более соответствует его материальным интересам.
Традиция премирования детективов восходит к XVIII веку, когда тем, кому удалось поймать вора либо проявить себя в качестве информатора, выплачивались так называемые «деньги на крови». В августе 1860 года «Вестерн дейли пресс» брезгливо писала о «рвении (Уичера), подогретом обещанными воздаяниями». «Девайзес энд Уилтс газетт» опубликовала письмо некоего «судьи», уподобляющего Уичера Джеку Кэчу, печально знаменитому палачу XVII века, причинявшему своим жертвам неисчислимые страдания. «Снедаемый жаждой получить свои 200 фунтов, — пишет „судья“, — Уичер не вполне, видимо, отдавал отчет в своих действиях, когда заставил пятнадцатилетнюю девушку провести неделю в тюрьме для взрослых». Подобно многим, «судья» выражает явную неприязнь к выдвиженцу из пролетариев, вмешавшемуся в жизнь людей среднего класса. Детективы корыстны и некомпетентны, ибо они не джентльмены. Быть может, Уичер потому именно и вызвал общее негодование, что фактически занимался тем же самым, чем легионы читателей газет занимаются в своем воображении: подглядывал в замочную скважину, таращился по сторонам, вынюхивал, рылся в чужом белье, — словом, занимался чужими грехами и переживаниями. Люди Викторианской эпохи видели в детективе собственное отражение и, охваченные коллективным чувством отвращения к самим себе, ставили его вне общества, делали изгоем.
Порой, впрочем, звучали и голоса в защиту Уичера. Неизменно лояльная по отношению к нему «Сомерсет энд Уилтс джорнэл» писала, что просто некоему «хитроумному мошеннику» удалось посредством «ловких комбинаций» свести на нет ситуацию с пропавшей ночной рубашкой. В том же духе высказалась и «Дейли телеграф»: «Мы не можем вполне согласиться с мистером Эдлином, заявляющим, что жестоко было сажать на нары юную даму… Если верить адвокату Констанс, явно выдающему желаемое за действительное, то чрезвычайно важный вопрос, касающийся одной из принадлежностей ее гардероба, нашел удовлетворительный ответ. Но это не так. Где ночная рубашка?.. Вся ситуация выглядела бы совершенно иначе, если бы запачканную кровью одежду удалось отыскать. Иные из наших читателей, возможно, вспомнят историю жизни Беатриче Ченчи, точнее, окровавленный кусок ткани, как раз и оказавшийся недостающим звеном в цепи доказательств, самым трагическим образом обусловившим трагический финал».
Беатриче Ченчи — юная патрицианка XVI века, казненная за убийство отца; три столетия спустя она превратилась в нечто вроде прекрасной романтической героини, мстящей жестокому кровосмесителю. Доказательством же ее вины стала окровавленная простыня. В своей поэтической драме «Ченчи» (1819) Шелли вывел заглавную героиню в романтическом образе восставшей против устоев общества. А один из персонажей романа Натаниела Хоторна «Мраморный фавн» (1860) видит в ней «падшего ангела, падшего, но при том безгрешного».
Генри Ладлоу, председатель уилтширского городского суда, продолжал поддерживать Уичера. В своем письме к Мейну он писал: «Поведение инспектора Уичера в ходе расследования убийства на Роуд-Хилл действительно вызвало много нареканий. Я же со своей стороны с удовлетворением хочу отметить проявленные им в этом деле усилия и подтвердить согласие с его заключениями. Я полностью согласен с мнением Уичера по поводу личности убийцы. Все его действия при ведении следствия совершенно оправданны». Возможно, таким образом Ладлоу хотел несколько загладить свою, вероятно, все-таки ощущаемую вину по отношению к Уичеру, которого он всячески побуждал к аресту Констанс Кент и который принял на себя всю вину за провал этой версии.
«В связи с убийством Фрэнсиса Сэвила Кента, совершенным на Роуд-Хилл в ночь на 29 июня, — писал Уичер в понедельник, 30 июля, — имею честь далее довести до сведения сэра Р. Мейна, что повторный допрос Констанс Кент состоялся в прошлую пятницу в помещении Темперенс-Холла…»
И далее на шестнадцати страницах Уичер в своей прямолинейной манере обосновывал занятую им позицию. Он с раздражением отводил многообразные версии, выдвинутые репортерами и любителями строчить письма в газеты. Он выражал также крайнее недовольство действиями местной полиции: улики, свидетельствующие против Констанс, писал Уичер, «были бы куда убедительнее, если бы полицейские немедленно по прибытии на место происшествия установили, сколько всего у нее должно быть ночных рубашек. И если бы Фоли не пропустил мимо ушей слова Парсонса относительно того, что ночная рубашка на постели Констанс выглядела вполне свежей, и тут же, на месте, допросил ее и выяснил, сколько всего у нее таких рубах, уверен, что той, запачканной кровью, хватились бы сразу и, возможно, нашли. Адвокат Констанс, — продолжает Уичер, — заявил, что загадка, касающаяся пропавшей ночной рубашки, разрешена, но это не соответствует действительности, ибо одна из трех рубах, что она привезла с собой домой из школы, неизвестно куда исчезла и до сих пор не обнаружена, а две другие находятся в настоящий момент у меня». Уичер выражает предположение, что ждать признания осталось недолго, «но, несомненно, оно будет сделано кому-нибудь из членов семьи и дальше этого скорее всего не пойдет».
Уичер отчет подписал, но адресату не отправил. Через некоторое время он зачеркнул свою подпись и добавил еще две страницы, находя новые аргументы в подкрепление своей позиции. А еще через девять дней, упорно отказываясь считать дело закрытым, он резюмирует: «Имею честь добавить следующие замечания и соображения…» Отчет на двадцати трех страницах, представленный им Мейну 8 августа, пестрит подчеркиваниями, исправлениями, вставками, сносками, звездочками, двойными звездочками и вымарываниями.
Глава 13 ВСЕ НЕВПОПАД
Август — октябрь 1860
В первых числах августа, с разрешения министра внутренних дел, уилтширская полиция произвела эксгумацию тела Сэвила Кента. Они утверждали, что рассчитывают обнаружить в гробу ночную рубашку сестры мальчика. Судя по всему, это был жест отчаяния — в полиции не придумали ничего лучше, чем вернуться назад, к исходному пункту. В откопанном и вскрытом гробу оказалось лишь тело Сэвила в похоронных одеждах. Тлетворный запах был настолько силен, что суперинтенданту Вулфу сделалось плохо и он несколько дней пролежал в кровати.
Констебли обыскали дом с чердака до подвала. Еще раз заглянули в канализационную трубу, идущую из дома к реке. Полицейское начальство информировало прессу о продолжающейся неустанной работе. «Утверждение, будто местная полиция не оказывала мистеру Уичеру необходимой помощи в раскрытии этого таинственного преступления, абсолютно ни на чем не основано, — излагала заявление полиции на пресс-конференции „Бат кроникл“. — Мы предоставили в его распоряжение всю имевшуюся на тот момент информацию и при малейшей необходимости всегда были рядом. Нет никаких сомнений в том, что поспешные шаги, предпринятые инспектором Уичером в самое последнее время, ничуть не уменьшили, если не усугубили, трудности, вставшие перед полицией графства в проведении собственного расследования».
Полиция продолжала получать письма со всей страны. Некто из Квинстауна (Ирландия) утверждал, что убийство совершила Констанс Кент; если ему оплатят дорожные расходы, он привезет с собой злополучную ночную рубашку. Предложение было отвергнуто.
На вулвертонском вокзале (графство Букингемшир) в пятницу, 10 августа — в тот самый день, когда Сэвилу Кенту должно было исполниться четыре года, — к сержанту Роперу из Северо-Восточной железнодорожной полиции подошел невысокий мужчина с округлым красным лицом и признался в совершенном убийстве: «Моих рук дело». Он представился кровельщиком из Лондона, которому посулили один соверен (около фунта стерлингов) за убийство мальчика. Имя заказчика — как и собственное имя — он назвать отказался, заявив, что не хочет, чтобы мать узнала, где он сейчас находится. Признаться же в содеянном, по собственным словам, его заставляет то, что повсюду и всегда его преследует образ убитого мальчика. Он уже готов был броситься под поезд, но потом передумал и решил сдаться полиции.
На следующее утро полиция доставила его поездом в Троубридж. Известие об аресте было передано по телеграфу, и на всем пути из Вулвертона, через Оксфорд и Чиппенем, поезд штурмовали сотни людей. На одной остановке в окно вагона просунулся какой-то мужчина и потребовал показать ему преступника. Кровельщик потряс закованными в наручники кулаками и сказал сидящему рядом полисмену: «Так бы и врезал этому типу». Суд распорядился содержать доставленного в полицейский участок Троубриджа кровельщика под стражей до понедельника. «У него красное, с прожилками, лицо, — сообщала „Сомерсет энд Уилтс джорнэл“, — и крупный череп, необычно уплощенный на затылке. Он жалуется на сильную головную боль и отказывается от еды».
К понедельнику кровельщик передумал и заявил о своей непричастности к преступлению. На время убийства у него было алиби — ту ночь он провел в гостинице Портсмута, прикладывая к чирьям на спине марлю с подслащенной водой. Теперь он сообщил судьям свое имя — Джон Эдмунд Гэг. В ответ на вопрос, что заставило его признаться в преступлении, которого он не совершал, Джон сказал: «У меня совсем не осталось денег, и я решил, что пусть меня лучше повесят. Я болен и устал от жизни». Его то и дело донимали фурункулы, часто случались припадки — «кровь ударяет в голову», — но никаких признаков умопомешательства не замечалось. Загадка нераскрытого преступления может определенным образом воздействовать на слабого человека, особенно если он оказался в отчаянном положении. Подобно многим, Гэг был охвачен детективной лихорадкой, тайна убийства преследовала его постоянно. Его решение сделать признание — это триумф детектива-любителя: он разгадал загадку убийства, сделав убийцей самого себя.
Судьи связались с Уичером и попросили его отыскать в Лондоне жену Гэга. «Это весьма почтенная дама, — сообщал в ответном письме Уичер, — живущая собственным трудом с матерью и детьми». Алиби Гэга полностью подтвердилось, и в среду, 23 августа, он был освобожден из-под стражи. Местный суд оплатил его проезд до Лондона.
На той же неделе Элизабет Гафт объявила Кентам, что хочет уволиться. Судя по сообщениям «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», «она стала в доме настоящим изгоем». Позднее журналист из Фрума Алберт Гросер сообщал в письме, опубликованном в «Таймс», что после убийства Сэвила Кенты не разрешали своим малолетним дочерям Мэри-Амалии и Элизабет спать в детской вместе с няней. В понедельник, 27 августа, она уехала с отцом из дома Кентов и поселилась в Айлворте, графство Суррей, где ее родители, две младшие сестры и два младших брата содержали булочную.
29 августа разрешилось дело преподобного Бонуэлла, расследовавшееся Уичером еще в предыдущем году, — англиканская церковь лишила Бонуэлла сана за скандальную связь и попытку скрыть рождение и смерть ребенка. Еще через неделю, 5 сентября, более двадцати тысяч лондонцев стали свидетелями казни уолвортского убийцы Уильяма Янгмена, состоявшейся перед тюрьмой Хорсмонгер-Лейн. Столько народу на публичную казнь не собиралось с 1849 года, когда на том же самом месте были повешены Фредерик и Мария Мэннинг. В день казни Янгмен позавтракал чашкой какао и хлебом с маслом. Снаружи мальчишки играли перед виселицей в чехарду, а в пабе напротив шумно веселились. Когда, как сообщает «Глобал ньюс», тело повешенного, «дергаясь и извиваясь», провалилось в люк, «кое-кто в толпе, как мужчины, так и женщины, все утро накачивавшиеся пивом, громко и искренне зарыдали». После четвертого убийства, жертвой которого стали мать, братья и возлюбленная Янгмена, прошло немногим более месяца. В последнем фрагменте «Женщины в белом», опубликованном 25 августа, граф Фоско говорит об Англии как о «стране домашнего уюта», и звучит в этих словах нескрываемая ирония.
Последние колосья пшеницы и кукурузы на полях, расстилающихся вокруг дома Кентов, были скошены в сентябре. В начале того же месяца министр внутренних дел получил две петиции — одну организовала «Бат экспресс», а другую «Сомерсет энд Уилтс джорнэл» — с просьбой назначить специальную комиссию для расследования убийства в доме на Роуд-Хилл. Оба эти прошения сэр Джордж Корнуолл Льюис отверг, но, по предложению судебной палаты Уилтшира, без особой огласки уполномочил одного из батских адвокатов, И. Ф. Слэка, заняться этим делом. Поначалу полномочия Слэка были не вполне ясны, и Уильям Данн заявил от имени Кентов, что семья не склонна сотрудничать с этим господином, «ибо кто знает, не выполняет ли он предписания того самого детектива, чьи действия вызвали единодушное осуждение всей страны». В конце концов Слэку пришлось признаться, что он действует от имени государства. «Бат экспресс» наряду с другими изданиями весьма язвительно отзывалась о манере, в какой правительство либералов во главе с лордом Пальмерстоном осуществляет расследование; в частности, Корнуолла Льюиса газета называла робким, боящимся критики и до абсурдности скрытным чиновником.
Слэк переговорил со всеми, кто так или иначе был связан с этим делом. Конфиденциальные встречи проходили в течение трех недель — в его служебном кабинете, в одном из беннингтонских пабов или в гостиной дома Кентов. От кого-то ему стало известно, что небольшой участок земли, прилегающий к дому, зовется «садом мисс Констанс», и он распорядился заняться раскопками. Ничего сколько-нибудь значимого они не дали. Слэк попытался было поговорить с пятилетней Мэри-Амалией Кент, но этому решительно воспротивился Данн, заявивший, что дочь его клиента слишком мала, чтобы отвечать на вопросы следователя. Позднее Данн рассказывал, что Слэку самому пришлось убедиться в том, что на роль свидетельницы девочка не годится: на вопрос, сколько ей лет, Мэри-Амалия ответила — четыре; она утверждала, что семья ходит в церковь каждый день, хотя этого просто не могло быть потому, что церковь Иисуса Христа открыта не каждый день; наконец, она не смогла написать имени своего покойного брата: «извините, сэр, но меня этому не учили».
В понедельник, 24 сентября, Слэк закончил следствие, заявив, что, с его точки зрения, Констанс Кент не имеет никакого отношения к убийству. Ее кошелек, заметил он, был обнаружен за комодом, и это подтверждает слова Констанс, что она действительно искала его и, стало быть, не просто так попросила Сару Кокс порыться в бельевых корзинах в день, когда проводилось дознание.
По указанию Слэка суперинтендант Вулф отправился в Айлворт и арестовал Элизабет Гаф.
В понедельник, 1 октября, она предстала перед судом в помещении троубриджской полиции. Туда же на пролетке прибыли Кенты. «К счастью, — пишет „Бристоль дейли пост“, — появление семьи осталось незамеченным, иначе собравшаяся вокруг публика наверняка встретила бы ее далеко не самым приветливым образом».
Элизабет Гаф сидела в зале заседаний, сложив ладони словно в молитве или в попытке защитить себя. Выглядела она, как свидетельствует та же газета, «даже еще более исхудавшей, бледной и измученной, чем прежде», и на протяжении всех четырех дней наблюдала за происходящим «с лихорадочным беспокойством».
Обвинитель утверждал, что кто-то один похитить и убить Сэвила не мог, и если преступников было двое, то один из них, бесспорно, няня мальчика. Для начала он подверг сомнению прежние ее показания. С чего это она решила, будто сына взяла в ту ночь мать, — ведь та на сносях, как ей поднять четырехлетнего ребенка? Почему она изменила свои показания относительно того, когда ей бросилось в глаза исчезновение одеяла? Как она могла видеть, что Сэвил на месте, не вставая с постели?
Вызванному для дачи показаний Сэмюелу Кенту были заданы следующие вопросы: почему он с такой неохотой встречал просьбы составить план дома? Почему, узнав об исчезновении сына, тут же, утром, отправился в Троубридж? Наконец, что заставило его запереть в кухне двух полицейских? Кент ответил, что в тот день он никак не мог взять себя в руки: «В голове все смешалось, и даже сейчас мне трудно восстановить цепь событий; полицейских же я запер, чтобы все выглядело как обычно и никто бы не подумал, что в доме полицейские». Тот же инцидент обвинитель попросил прокомментировать суперинтенданта Фоли. «Я вовсе не хотел, чтобы их запирали, — сказал он, — и был весьма удивлен, узнав об этом». Он попытался сгладить впечатление от собственных неуклюжих действий шуткой, не особенно смешной, но явно со значением: «Насколько я понимаю, им надлежало взять под контроль весь дом, а они ограничились одной только кухней». Рассказывая о том, как Пикок сообщил ему о смерти сына, Сэмюел не мог сдержать слез.
Допрос остальных членов семейства велся максимально тактичным образом. Мэри Кент, давая показания, неохотно приподняла плотную черную траурную вуаль, прикрывавшую лицо; ее было едва слышно, так что то и дело приходилось просить говорить громче. «Насколько я могу судить, эта девушка, — Мэри обернулась в сторону Элизабет Гаф, — была исключительно добра к мальчику, всегда выказывала ему самую искреннюю любовь, и он тоже был к ней привязан; нет, затрудняюсь сказать, была ли она сильно опечаленав то утро: я была слишком поглощена собственными переживаниями и переживаниями мужа… Сэвил был славным, уравновешенным, разговорчивым мальчуганом, всеобщим любимцем; мне трудно даже представить себе, кто бы мог питать мстительные чувства по отношению к моей семье, а тем более к ребенку».
«Этот бедный малыш был моим братом» — вот практически и все, что сказала Мэри-Энн Кент.
«Я… сестра бедного малыша, которого лишили жизни», — эхом откликнулась Элизабет.
Они не смогли сказать суду ничего, кроме того, когда они легли спать и в какой час проснулись утром, в день смерти брата.
Констанс, не поднимая накинутой на лицо вуали, подтвердила, что Сэвил был веселым уравновешенным мальчиком, большим любителем поиграть в разные игры. «Мы часто играли вместе, и тот день не был исключением. Мне кажется, он меня любил, и я его любила».
Вызванный из пансиона, расположенного неподалеку от Глостера, Уильям отвечал на задаваемые вопросы односложно: «Да, сэр», «Нет, сэр». Элизабет привела в суд пятилетнюю Мэри-Амалию, но возникли сомнения, может ли она выступать в роли свидетельницы: известна ли ей процедура допроса и понимает ли она смысл присяги, которую должна принести? В конце концов девочку отпустили с миром.
Слуги предпринимали настойчивые и трогательные попытки выгородить Элизабет Гаф, утверждая, что Сэвила мог похитить кто-то из посторонних. Во вторник, давая показания, Сара Керслейк заявила, что в то самое утро они вместе с Сарой Кокс возились в гостиной с окном, пытаясь выяснить, мог ли кто-то снаружи потянуть раму вниз так, чтобы она не доставала до земли шести дюймов, — именно в таком положении она находилась в день смерти Сэвила. «Все говорили, что это невозможно, вот мы с Сарой и решили проверить. И оказалось, что как раз вполне возможно, даже совсем не трудно». На что старшина судей возразил: «Даже если это и так, то все равно снаружи окно не открывается, и именно это имеет значение».
На следующий день показания давала Сара Кокс. Она рассказала суду, что тоже в порядке эксперимента пыталась закрыть ставни окна в гостиной снаружи, но это ей не удалось из-за слишком сильного ветра. Суперинтендант Вулф возразил ей, что все это видел собственными глазами и ветер тут совершенно ни при чем. Он добавил, что в то же самое утро провел собственный эксперимент и убедился, что няня не могла бы заметить отсутствия ребенка, находись она действительно в обстоятельствах, на которые ссылается. Опыт, проведенный Вулфом, выглядел следующим образом: миссис Кент взяла Эвелин (на тот момент ей было почти два года) в детскую, где Элизабет Кент положила ее на кроватку Сэвила. После чего Элиза Дэлимор, жена констебля, женщина примерно того же сложения, что и Элизабет Гаф, опустилась на колени у кровати последней, чтобы проверить, видно ли отсюда ребенка. Оказывается, нет, заметен только край подушки.
Любительские детективные упражнения Элизы Дэлимор вызвали сильнейшее неудовольствие суда. Заняв место свидетеля, она детальнейшим образом воспроизвела разговоры, которые у нее были с Элизабет Гаф, когда ту в первых числах июля поместили в камеру.
Как-то, вспомнила Элиза Дэлимор, Гаф спросила ее:
— Миссис Дэлимор, а вам известно что-нибудь о пропавшей ночной рубашке?
— Нет, а чья эта рубашка?
— Мисс Констанс Кент. Имейте в виду: эта рубашка поможет в конце концов отыскать убийцу.
В другой раз миссис Дэлимор спросила няню, может ли, с ее точки зрения, убийцей оказаться Констанс.
— Не думаю, что мисс Констанс Кент способна на такое.
В ответ же на вопрос, не мог ли Уильям оказаться сообщником сестры-преступницы, Элизабет воскликнула:
— Да ну что вы, мистер Уильям больше на девочку походит, чем на мальчика.
— А мистер Кент? Может, это его рук дело?
— Нет, это совершенно исключено. Он слишком любит своих детей.
Однажды вечером Элиза Дэлимор вновь принялась расспрашивать ее:
— И все же: могла мисс Констанс совершить убийство или нет?
— На это мне нечего ответить, — сказала няня, — но я видела ночную рубашку в бельевой корзине.
В этот момент в камеру вошел констебль Дэлимор и, уловив обрывок последней фразы, спросил:
— Так-так. Выходит, вы, как Сара Кокс, видели эту самую рубашку в корзине?
— Нет-нет, — встрепенулась Элизабет. — На этот счет мне нечего сказать. И вообще мне своих забот хватает. — С этими словами, по утверждению Элизы Дэлимор, няня отправилась спать.
Миссис Дэлимор привела и иные реплики Элизабет Гаф, звучавшие довольно подозрительно, — например, утверждение, что водопроводчик ничего не найдет в туалете, а также что Сэвил — большой выдумщик.
Мистер Рибтон, адвокат Элизабет Гаф, попытался поставить под сомнение достоверность показаний миссис Дэлимор саркастическими замечаниями насчет ее «удивительной памяти», а также другими высказываниями в том же духе. Скажем, миссис Дэлимор заметила, что фланельки носят не только молодые женщины, но и пожилые, и не отличающиеся особым здоровьем. «Я и сама ношу такую». Это вызвало взрыв смеха в зале, усилившегося при словах Рибтона: «Ну, о вашем возрасте, мэм, я спрашивать не решаюсь».
Подобное легкомыслие в зале суда показалось миссис Дэлимор совершенно неуместным.
— Я нахожу, что такое серьезное дело не следует превращать в повод для насмешек, — сказала она. — Меня это прямо в ужас приводит.
— А вы, смотрю, человек чувствительный, — заметил Рибтон.
— Это верно, сэр. Полагаю, что и вы тоже.
— Ладно, не надо нас стращать всякими ужасами. Так как насчет нагрудной фланельки? Она вам подходит?
— Да, сэр.
— Хорошо подходит?
— Да, сэр.
— Так вы что, все время носите ее? — Этот вопрос вызвал очередной взрыв смеха в зале.
— Послушайте, сэр, мы ведь о серьезных вещах говорим. Об убийстве.
Миссис Дэлимор являла собой живое воплощение образов героинь литературы XIX века: детектив-любитель, каких изображали У. С. Хэйворд в романе «Послужной список сыщицы» (1861) и Эндрю Форрестер в романе «Женщина-детектив» (1864). Ее расследования, напоминающие интеллектуальные опыты миссис Баккет в «Холодном доме», выдают тот же энтузиазм и склонность к расследованиям, как и деятельность ее мужа полицейского и его коллег. Только инспектор Баккет отзывается о своей жене с чрезвычайным почтением («дама, одаренная природным гением детектива»), а миссис Дэлимор все считают сплетницей и дурой. В принципе детективный талант воспринимался как специфически женское достоинство — женщины наделены «врожденным даром наблюдательности», пишет Форрестер, а также способностью к дешифровке увиденного. Но на практике женщину, любящую заниматься расследованиями, воспринимали как близкую родственницу миссис Снегсби из того же «Холодного дома», чья ревнивая любознательность побуждает «обшаривать по ночам карманы мистера Снегсби, тайно читать его письма, подсматривать в окна, подслушивать за дверьми, а затем связывать одно наблюдение с другим, только не теми концами, какими следует».
Выступая в четверг с заключительным словом, Рибтон заявил, что «не часто в своей юридической практике сталкивался со столь постыдным поведением со стороны свидетеля, какое продемонстрировала миссис Дэлимор, явно стремившаяся, помимо всего прочего, поселить во всех присутствующих ужас, заставить их опасаться за свою жизнь, свободу, достоинство». По сути дела, миссис Дэлимор заменила Уичера в качестве соглядатая. Что касается противоречий в показаниях Элизабет Гаф, связанных с одеялом, то Рибтон объяснил их тем, что, заметив его отсутствие еще рано утром, она затем в суматохе и треволнениях дня совершенно об этом забыла. От фланельки же он вовсе отмахнулся, заметив, что, подходит ли она Элизабет или нет, к преступлению эта вещица вообще может не иметь никакого отношения.
Под бурные аплодисменты публики суд освободил няню при условии, что ее родные внесут сто фунтов стерлингов залога, на тот случай если она понадобится для дальнейших показаний. Эта сумма была внесена ее дядей, который затем отвез племянницу домой. Они успели на поезд, отходящий из Троубриджа и прибывающий на вокзал Паддингтон Лондона. По пути на каждой остановке собирались люди и с любопытством заглядывали в окно вагона.
«Если бы покойный Эдгар Аллан По решил сочинить очередную детективную новеллу, — писала через два дня после освобождения Элизабет Гаф лондонская „Таймс“, — то вряд ли нашел бы материал более странный и запутанный… Сегодня обстоятельства дела не более ясны, чем в самом начале. Стоит встретиться трем или четырем людям, и будет выдвинуто столько же версий преступления… Все охвачены волнением… Всем не терпится проникнуть в тайну детоубийства».
На следующий день такого рода волнения охватили дом Кентов… В воскресенье, 7 октября, вблизи него появились шестеро всадников. Щегольски одетые, они смеялись, курили и перебрасывались шутками. Увидев в окне девушку, они дружно воскликнули: «А вот и Констанс!» При виде Сэмюела Кента все шестеро соскочили на землю.
В тот же день, немного позднее, мистера и миссис Кент, направлявшихся в церковь Иисуса Христа, атаковала вопросами толпа, собравшаяся вдоль дороги: «Кто убил мальчика? Кто убил ребенка?» Миссис Кент едва не упала в обморок. После того как с дома было снято наружное наблюдение, «любопытствующие соседи благородного звания», свидетельствует «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», стали появляться поблизости чуть ли не каждый день. Другая газета, «Вестерн дейли пресс», отмечает, что по воскресеньям Сэмюела сопровождали в церковь двое полицейских. «Манчестер икзэминер», выделяя еще один тип любителей острых ощущений, утверждает, что Констанс Кент получила несколько предложений руки и сердца. Правда, «Сомерсет энд Уилтс джорнэл» вносит поправку: «Она получила бесчисленное количество приглашений от незнакомых людей, в том числе и от аристократов, навестить их». Не отрицая возможной виновности Констанс, эта газета тем не менее упорно утверждала, что, выдвинув против девушки столь серьезное обвинение, Уичер, возможно, совершил преступление даже более тяжкое, нежели само убийство: «Если мистер Уичер ошибается, то, вне всяких сомнений, мы имеем дело с преступлением, превосходящим своей тяжестью убийство Фрэнсиса Сэвила Кента, преступлением, последствия которого будут отравлять жизнь этой бедной девушке, Констанс, до конца ее дней».
Меж тем местная полиция не оставляла в покое Элизабет Гаф. В конце октября суперинтендант Вулф довел до сведения Скотленд-Ярда слух, будто в свое время она была уволена со службы в Найтсбридже за то, что «привечала солдат». В ответ Уичер односложно заметил, что эта информация «не соответствует действительности» — никаких свидетельств, что Элизабет Гаф нанималась на работу в этом районе Лондона, не обнаружено. Несколько недель спустя выяснилось, что служанка по имени Элизабет Гаф, приметная тем, что у нее не хватало переднего зуба, действительно была уволена «за неподобающее поведение» из одного дома в Итоне, графство Беркшир. Хозяин дома, продолжает Уичер, поехал в Айлворт и, встретившись с Элизабет в семейной булочной, заявил, что у него работала совсем другая девушка.
Обвинения, выдвинутые против мисс Гаф в уилтширском суде, косвенно были направлены и против Сэмюела Кента. «Пусть формально он и не предстал перед судом, — пишет Джозеф Степлтон, — за спиной Элизабет невидимо маячила его фигура, и свою долю бесславия он получил». Джошуа Парсонс и миссис Кент, чувствуя, что после освобождения няни над головой Сэмюела все больше сгущаются тучи, поспешили выступить перед прессой в его защиту. Миссис Кент заявила, что в ночь убийства муж все время оставался рядом с ней, она это может утверждать вполне определенно, ибо из-за беременности спала очень чутко. Парсонс, в свою очередь, отметил, что Сэмюел «находился в таком подавленном состоянии, что никаким его утверждениям не следует придавать слишком большого значения; его душевное состояние внушает тревогу». В этом же ключе высказывается и Степлтон: смерть сына «потрясла его, и сознание несколько помутилось, мысли самым хаотическим образом начали разбегаться в разные стороны».
Диккенс считает убийцами Элизабет Гаф и ее хозяина. Романист утратил веру в способности сыщиков к дедукции. В письме Уилки Коллинзу от 24 октября он вкратце изложил свое видение ситуации: «Мистер Кент развлекается с няней, бедное дитя просыпается в своей кроватке, садится и начинает раздумывать, что же все это может значить. Няня душит его. Сбивая следствие со следа, мистер Кент наносит уже мертвому мальчику удар ножом и избавляется от тела».
Пресса разочарована методами, применяемыми при расследовании. В одном из своих сентябрьских выпусков «Сатердей ревью» весьма скептически высказывается даже о новеллах Эдгара По, усматривая в них лишь «видимость интеллекта, игру в шахматы с самим собой». Что же до реальных детективов, то «это вполне заурядные люди, мало чего стоящие вне сферы своей профессиональной деятельности». Если верить «Вестерн дейли пресс», то общественное мнение сходилось в одном: «Конец неопределенности положит лишь признание того или иного обвиняемого, а до признания далеко. В общем, как говорят в округе, этому делу конца не видно».
Народ все больше склонялся к тому, что Англия стала жертвой вспышек беспричинной ярости. Иные винили во всем погоду. «Отчего ежедневные газеты именно сейчас не устают нас пичкать рассказами о всяких ужасах?» — вопрошал журнал «Ванс-а-вик». По его подсчетам, от шестнадцати до двадцати колонок печатного текста в день посвящены сообщениям об убийствах: «Приходится слышать, что длительная непогода, не прекращающийся двенадцать месяцев дождь, угнетает людей, побуждая наших соотечественников ко всяческим зверствам».
Под самый конец минувшего года в Уилтшире разразилась страшная буря. 30 декабря на Калн, что двадцати милях к северо-востоку от Роуд-Хилл, обрушился ураган. За какие-то пять минут все деревья в округе шести миль были вырваны с корнем и разбросаны вокруг как спички, крыши с домов сорваны, тяжелая повозка поднята с земли и переброшена через забор. С неба сыпались огромные градины, до крови разрывая кожу на ладонях тех, кто старался их поймать. По словам одной женщины из местных, куски льда приобретали форму крестов, шипов, шпор, а один был даже похож на тело маленького ребенка. В январе к этому месту потянулись туристы, как и почти год назад, когда был умерщвлен Сэвил Кент.
Глава 14 ЖЕНЩИНЫ, ПОПРИДЕРЖИТЕ ЯЗЫК!
Ноябрь — декабрь 1860
В первые холодные дни ноября в Темперенс-Холле открылись чрезвычайно странные слушания. Томас Сондерс, адвокат и член окружного суда Бредфорда-на-Эйвоне, Уилтшир, почему-то решил, что жители деревни располагают важной информацией, относящейся к убийству, и вознамерился выявить ее.
Начиная с 3 ноября он поочередно вызывал к себе десятки людей, требуя поделиться с ним своими соображениями и наблюдениями. Некоторые из них действительно поведали кое-что о жизни деревни и о доме Кентов, но все это не имело практически никакого отношения к преступлению. Собственно, весь этот материал Уичер уже проработал за время своего двухнедельного пребывания в здешних краях — огромное количество слухов, сплетен и второстепенных деталей, коими всегда обрастает полицейское расследование, при том что достоянием общественности они становятся весьма редко. Сондерс подхватывал эти обрывки и собирал воедино, следуя при этом какой-то непонятной системе. «Свидетельства, если только это можно назвать свидетельствами, представали в редкостном, неповторимом виде, — констатировала „Бристоль дейли пресс“. — Неоднократно присутствующие разражались смехом, на что, впрочем, вся процедура и была рассчитана; многим казалось, что слушания вообще затеяны не для того, чтобы бросить свет на загадочное и ужасное преступление, а просто чтобы развлечь их».
Последующие две недели напоминали комическую интерлюдию в трагедии, с Сондерсом в роли паяца, выходящего на сцену для того лишь, чтобы высмеять все, что предшествовало его появлению. Он открывал и закрывал заседания когда вздумается, путал имена свидетелей, надувая щеки, говорил о каких-то таинственных фактах, хранящихся у него в груди. При этом он постоянно выходил из зала и возвращался с бутылкой какой-то жидкости, по наблюдению репортера «Бристоль дейли пост», «весьма походившей на бренди». Сондерс, впрочем, утверждал, что это всего лишь лекарство для лечения простуды, подхваченной им на сквозняке в одном из деревенских домов (коменданта здания Чарлза Стоукса он отчитал за плохое проветривание зала). Сондерс то и дело прикладывался к своему зелью, заедая его бисквитами. Он часто прерывал свидетелей, требуя, чтобы из зала удалили хнычущих детей, то и дело прикрикивал на женщин: «Эй, вы там, придержите язык!»
В качестве типичной свидетельницы можно привести миссис Квенс, пожилую женщину — обитательницу одной из халуп невдалеке от дома Кентов. Во вторник Сондерс расспрашивал ее по поводу слуха, согласно которому она будто говорила, что ее муж, рабочий фабрики в Теллисфорде, видел мистера Кента в поле 30 июня в пять часов утра. Ничего подобного, отмахнулась миссис Квенс, добавив, что полиция уже расспрашивала ее об этом.
«И вообще все это слишком хитро придумано, чтобы разгадать», — сказала она, — «разве что кто-то настучит».
«Что слишком хитро придумано?» — вскинулся Сондерс. — «Убийство ребенка». Тут миссис Квенс резко поднялась с места, зашаркала туфлями и со словами: «О Боже, да что же это я, бежать надо, бак выкипит», — направилась к двери и под одобрительные возгласы публики вышла из зала.
Джеймс Фрикер, водопроводчик и стекольщик по совместительству, вспомнил, что на протяжении всей последней недели июня его донимали просьбами починить фонарь на доме Сэмюела Кента. «Вначале мне не казалось, что в этой спешке с заменой лампы летом есть что-то особенное, но потом я задумался».
Еще до начала собственного расследования Сондерс на протяжении нескольких дней шатался по деревне, что-то высматривая, и теперь делился с судом наблюдениями. Однажды вечером он вместе с полицейским бродил по деревне, им на глаза попалась направлявшаяся в сторону дома Кентов молодая женщина в черном платье, из-под которого виднелась белая нижняя юбка. Она остановилась у ворот на мгновение, а затем вошла внутрь. Несколько минут спустя Сондерс увидел молодую женщину — возможно, ту же самую. Она расчесывала волосы, стоя у окна, на верхнем этаже. Его рассказ о столь незначительном эпизоде вызвал нарекания со стороны Кентов, и впоследствии Сондерсу пришлось извиняться: вероятно, пояснил он, «некоторая нервозность» в поведении женщины объяснялась тем, что «за ней наблюдали двое незнакомых мужчин». Кто-то из публики высказал предположение, что это была Мэри-Энн.
Последним свидетелем Сондерса был рабочий Чарлз Лэнсдаун. «Суть его показаний, — писала „Фрум таймс“, — сводилась к тому, что он ничего не видел, ничего не слышал и ничего не знает о том, что произошло в доме на Роуд-Хилл в ночь на 29 июня».
Газетчики, освещавшие процесс начиная с июля, были буквально потрясены расследованием, проведенным Сондерсом. Корреспондент «Морнинг стар», комментируя «нелепое шоу, устроенное этим полоумным проходимцем», писал, что его раздирает между «изумлением перед отвагой Сондерса и презрением к его тупости». По определению «Бристоль меркьюри», Сондерс просто «маньяк». А вернее — сатирический персонаж, карикатурное изображение детектива-любителя, усматривающего скрытый смысл в любой случайной детали, в любой ерунде, уверенного, что только он один способен распутать загадку, оказавшуюся не по силам профессионалам. Практиковать соглядатайство он полагает своим правом, делать умозаключения — долгом. Он придает, отмечает «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», «чрезвычайно большое значение нематериальным свидетельствам» и необыкновенно высоко ставит письма, приходящие от обыкновенных граждан: «в каждом содержатся элементы, исключительные по своей важности». Некоторые из таких писем Сондерс зачитывал в суде, в том числе и письмо от приятеля-юриста, характеризующего его, между прочим, следующим образом: «Ты старый свихнувшийся тщеславный дурак, любящий совать свой нос в чужие дела».
И тем не менее один существенный факт в ходе этого странного расследования вскрылся. Письмо сержанта полиции Джеймса Уоттса из Фрума натолкнуло Сондерса на мысль допросить нескольких полицейских по поводу находки, обнаруженной в доме в день убийства, а впоследствии скрытой. В четверг, 8 ноября, он вызвал в Темперенс-Холл для дачи показаний по этому поводу констебля Альфреда Урча, а в пятницу — сержанта Джеймса Уоттса и суперинтенданта Фоли.
Присутствующим стало известно, что 30 июня около пяти часов в духовке кухонной плиты Уоттс обнаружил завернутую в газету женскую сорочку. Видели ее также констебли Урч и Дэлимор. «Она была сухой, сэр, — в ответ на вопрос Сондерса показал Урч, — сухой, но очень грязной, так, словно ее бог знает сколько времени не стирали… И кровь на ней запеклась… Я лично к ней не прикасался. Сержант Уоттс развернул сорочку, осмотрел и отнес в каретный сарай». Сондерс осведомился, из какой ткани она была сшита — грубой или тонкой.
«Думаю, сэр, сорочка принадлежала кому-нибудь из служанок… Да, еще мы обратили внимание на маленький размер вещицы», — ответил Урч.
Такие сорочки, сшитые из холста, обычно носят как нижнее белье днем либо надевают на ночь. Они могут достигать колена, голени или щиколотки, рукава, как правило, короткие, сделаны просто, без затей. Ночная же сорочка — одеяние более длинное, до пят, с рукавами до запястий, с вышитым или кружевным воротничком, с манжетами или каймой внизу. Между сорочкой и обыкновенной ночной рубашкой есть некоторое, не всегда уловимое, различие. В общем, не исключено, что в духовке была обнаружена как раз эта злополучная исчезнувшая ночная рубашка.
— А это была ночная или дневная сорочка? — спросил Сондерс Урча под дружный смех аудитории.
— Ну как сказать, сэр… просто сорочка.
— А вы хорошо разбираетесь в сорочках? — Новый взрыв хохота. — Тишина! — вскричал Сондерс. — Я требую тишины!
Уоттс в отличие от Урча рассмотрел сорочку.
— На ней было много крови, — пояснил он. — К тому времени она уже засохла, но не думаю, что кровь появилась давно… Пятна имелись и спереди, и сзади. Я сложил сорочку и, выходя из сарая, увидел у ворот конюшни мистера Кента. Он спросил меня, что я нашел, и сказал, что он должен видеть это, и мистер Парсонс тоже. Но я не стал показывать сорочку мистеру Кенту, а отдал ее мистеру Фоли.
Фоли же сразу решил эту находку скрыть. «Одна мысль, — говорил он на суде, — что человек, обнаруживший сорочку, мог оказаться таким болваном, чтобы проболтаться об этом, приводила меня в содрогание». Фоли был убежден, что пятна ни на кого никакой тени не бросают, а спрятала сорочку какая-то из служанок, потому что ей было совестно. Медик — это был Степлтон — подтвердил, что, с его точки зрения, пятна имеют «естественное происхождение».
— Он (Степлтон) что, под микроскопом ее рассматривал? — осведомился Сондерс.
— Да нет, вряд ли, — ответил Фоли.
Завладев сорочкой, суперинтендант отдал ее затем констеблю Дэлимору, а тот отнес в полицейский участок на Столлард-стрит.
В сентябре Уоттс столкнулся с Дэлимором на мясо-молочной ярмарке близ Роуд-Хилл и спросил его, что стало с сорочкой. Дэлимор ответил, что вернул ее на кухню в понедельник, когда проводилось дознание. Сначала он собирался положить сорочку назад в люк бойлера, но тут неожиданно вошла кухарка, и пришлось поспешно спрятать ее. Сразу после этого няня, только что вернувшаяся с прогулки вместе с двумя младшими дочерями Кентов, предложила ему осмотреть крышу над кухней, что он и сделал, — для это пришлось вылезти через окно, увитое плющом. Вернувшись на кухню через четверть часа, Дэлимор обнаружил, что сорочка исчезла. Он подумал, что, должно быть, ее взяла хозяйка.
Подобно тому как полицейского вполне могло привести в замешательство тонкое различие между видами сорочек, легко могли сбить его с толку и пятна крови. Определение менструальной крови, а равно элементов нижнего женского белья — дело сложное и неоднозначное, особенно если объект исследования исчезает столь стремительно. Все это и породило многочисленные недоразумения и ничем не подтвержденные догадки.
В тот же самый день, когда стала известна история в бойлерной, по странному совпадению на слушаниях, проводившихся Сондерсом, появился частный сыщик по имени Игнатиус Поллэки. Этот человек, венгр по происхождению, служил суперинтендантом частного сыскного агентства Чарли Филда, друга Диккенса и Джека Уичера, вышедшего в 1852 году в отставку со службы в городской полиции. Частные сыщики представляли собой новое явление, иные из них, подобно Филду, прежде работали полицейскими детективами (какое-то, впрочем, недолгое время Филд получал государственную пенсию, которой его лишили в середине 50-х годов за незаконное использование в частной практике своего прежнего титула — детектив-инспектор). Главной сферой деятельности частных сыщиков были малопрестижные дела, связанные с бракоразводными процессами. В 1858 году разводы были узаконены, но если инициатором выступал муж, то от него требовалось представить доказательства измены жены; жена же в аналогичных случаях должна была доказать факт жестокого обращения со стороны мужа.
Поначалу «загадочный мистер Поллэки», как назвала его «Таймс», отказывался даже говорить с Сондерсом или с представителями полиции. В субботу и воскресенье его видели в Бате и Брэдфорде. На следующей неделе он съездил во Фрум, Уэстбери и Уорминстер, затем в Лондон (возможно, для того, чтобы доложить о результатах своих изысканий и получить новые инструкции), после чего вернулся в Уилтшир. «Есть все основания полагать, — писала „Бристольдейли пост“, — что непосредственной его целью отнюдь не является поимка убийцы». Скорее, по мнению репортера этой газеты, приехал он, чтобы понаблюдать за Сондерсом. Другие газеты держались того же мнения: агент прибыл, вероятно, для устрашения, а не для расследования. Возможно, Филд направил Поллэки, просто чтобы поддержать Уичера, подвергавшегося нападкам со стороны Сондерса. Поллэки тщательно записывал особенно экстравагантные высказывания Сондерса и явно преуспел в том, чтобы вывести его из себя. «Фрум таймс» сообщала, что «располагает информацией о встрече мистера Сондерса с этим господином… в ходе ее судья городского магистрата прямо спросил его, не послан ли он сюда за тем, чтобы собрать доказательства его психического расстройства. Насколько можно судить, мистер Поллэки ушел от ответа». Теперь даже местные сыщики, занимающиеся расследованием убийства, опасались подозрений в умопомешательстве. 15 ноября деятельность Сондерса была приостановлена.
Сам того явно не желая, Сондерс продвигался тем же путем, что и Уичер. Прочитав в «Таймс» сообщение о сорочке с пятнами засохшей крови, Уичер направил сэру Ричарду Мейну записку с указанием на эту публикацию. «Прочитано», — пометил уже на следующий день на оборотной стороне записки Мейн.
Возникла реальная угроза, что чем дальше, тем больше расследование убийства отдаляется от решения связанных с ним загадок. «Многочисленные действия, совершенные за последнее время, — писала „Таймс“, — вряд ли усугубили муки совести у тех, кто, возможно, причастен к тайне, точно так же как вряд ли уменьшили они их изобретательность. Всякая неудача следствия есть победа преступника; она указывает ему на то, какие щели нужно заделать и каких противоречий постараться избежать». Автор статьи выражает обеспокоенность отсутствием системы в работе сыщиков — они слишком полагаются на воображение, интуицию, догадку — и призывает к более объективным методам действия: «Хорошо известно, что детективы начинают с поисков подозреваемого, а наметив его, пытаются выяснить, насколько их версия соответствует реальной картине. Все это прекрасно, однако же в любом случае остается место для более обоснованного, научного подхода. Благодаря ему может обнаружиться, что факты, если подойти к ним спокойно и непредвзято, все скажут сами за себя». Та же мысль прозвучала и на страницах «Сатердей ревью», призывавшей к «более строгому, в духе Бэкона, стилю расследования, с опорой на факты; начинать следует не с теоретизирования, а с аккуратной, беспристрастной и объективной фиксации явлений». Таким образом, безупречный детектив начинает напоминать скорее машину, нежели ученого.
Стойкая неприязнь к Сэмюелу Кенту, собственно, и лежавшая в основе расследования, затеянного Сондерсом, явно проявилась и на страницах дешевой брошюрки, выпущенной за подписью анонима — «Барристер». Автор представляется одним из «детективов-любителей, неуемных читателей газет, соглядатаев местного масштаба, проницательных бездельников» и формулирует пятнадцать вопросов, касающихся поведения мистера Сэмюела Кента в день убийства. Один из них, например, звучит следующим образом: «Почему он велел приготовить экипаж и направился к полицейскому куда-то на сторону, хотя были и свои, гораздо ближе?» Девять вопросов были адресованы Элизабет Гаф (в частности: «Могла ли она с того места, где находится, видеть кроватку ребенка?») и всего один вопрос был задан Констанс — «Каким образом пропала ночная рубашка?»
Адвокат из Троубриджа Роуленд Родуэй встал на защиту Сэмюела, направив в «Морнинг пост» возмущенное письмо. В нем говорилось, что «за редкими исключениями пресса только что не указывает пальцем на мистера Кента как на убийцу собственного ребенка и подогревает к нему всеобщую ненависть, что не только подрывает положение его семьи в обществе, но и ставит под угрозу его личную безопасность». В сложившейся ситуации у Сэмюела не осталось ни единого шанса получить должность ревизора, которой он так давно домогался.
Более того, даже его нынешние обязанности вынуждены были исполнять коллеги. «В настоящее время, — писал один из них, — мистеру Кенту никоим образом не следует посещать троубриджские фабрики — настолько сильно настроены против него низшие слои населения… Однажды мистер Степлтон взял с собой на фабрику Брауна и Палмера одного джентльмена, которого рабочие прядильного цеха ошибочно приняли за Кента и встретили разъяренными возгласами, не прекращавшимися до тех пор, пока им не указали на ошибку». Этот же ревизор подчеркивает, что подобное отношение к Сэмюелу Кенту прежде всего сложилось именно в рабочей среде: «Не думаю, что хорошо информированные и почтенные граждане Троубриджа считают его виновным». Другой ревизор писал министру внутренних дел, что предубеждение против «неправедно обвиняемого Сэмюела Кента» настолько велико «не только в районе, где он живет, но буквально повсюду», что даже переезд ничего не изменит. Более того, «в ближайшее время мистеру Кенту вообще не следовало бы выходить из дому даже ненадолго».
Из этих слов становится ясно, каково приходилось семейству Кент в ту зиму: атмосфера постоянной тревоги — быть может, даже страха — сгустилась настолько, что отец семейства опасался оставить ближних одних на ночь. Резолюция Корнуолла Льюиса на конверте гласила: «Я лично не думаю, что Кент виновен, но независимо от этого он вызывает в обществе столь сильные подозрения, что вряд ли может выполнять свои обязанности. Нельзя ли его на время отстранить?» Две недели спустя, 24 ноября, Сэмюелу был предоставлен шестимесячный отпуск. В самом конце ноября Джек Уичер направил своему старому сослуживцу по бристольской полиции Джону Хэндкоку письмо, еще раз изложив в нем свои аргументы, связанные с пропавшей ночной рубашкой:
После всего того, что было сказано по поводу случившегося, после того, как прозвучали различные версии, я остаюсь при своем прежнем скромном мнении и уверен, что, если бы, подобно мне, ты лично занимался расследованием, то пришел бы к тому же выводу. Но в сложившейся обстановке вполне допускаю, что вместе с другими ты полностью доверился тому, о чем везде говорят и пишут, особенно в отношении виновности мистера Кента, подозреваемого (вместе с няней мальчика) в убийстве на том лишь шатком основании, что он мог оказаться в ту ночь в ее комнате. Ну а я-то как раз считаю, что если и есть во всей этой истории человек, более других заслуживающий сострадания и более других опороченный, то это как раз несчастный мистер Кент. Ужасно уже то, что жертвой убийства стало его любимое дитя, но еще страшнее, что как убийцу заклеймили отца. И, судя по нынешним настроениям в обществе, ему придется жить с этим клеймом до самого конца, если только в убийстве не признается лицо, действительно его совершившее. Абсолютно не сомневаюсь, что такое признание и воспоследовало бы, если бы мисс Констанс продержали за решеткой еще неделю. С моей точки зрения, главной причиной убийства стало то, что в доме живут фактически две семьи; мотив — ревность к детям от второго брака. Убитый был любимым ребенком, и, на мой взгляд, Констанс Кент была движима злобой по отношению к родителям, и особенно к матери ребенка… Мисс Констанс наделена незаурядным умом.
Возмущение Уичера публичными выпадами против Сэмюела, возможно, подогревалось тем обстоятельством, что и на нем из-за этого дела лежало клеймо. Ведь, по сути, оба они были ревизорами, сами сделавшимися объектами строжайшей ревизии.
В своем письме Хэндкоку Уичер отмечает, между прочим, что один из уилтширских судей говорил с ним о сорочке, утерянной этими «неумехами» из местной полиции. Уичер высказывает предположение, что полиция вернула ее в бойлерный котел как приманку, чтобы заманить владелицу и взять ее с поличным, — не исключено, что именно этим объясняется присутствие констеблей на кухне в ночь на 30 июня. «Но Фоли, — продолжает Уичер, — так мне ничего толком и не объяснил… а мистер Кент в своих показаниях заявил, что, по словам суперинтенданта, полицейских направили на тот случай, если некто вознамерится вынести что-нибудь из дома». А после того как рубашка исчезла, заключает Уичер, местная полиция словно «засекретила все свои действия».
После завершения расследования, предпринятого Сондерсом, уилтширские судьи сами занялись выяснением обстоятельств, связанных с тем, как сорочка попала в топку бойлера. 1 декабря состоялись публичные слушания, в ходе которых ни Сара Кокс, ни Сара Керслейк не признали сорочку своей. Уоттс сообщил подробности: «Сорочку запихали в самую глубь, словно для того, чтобы сжечь». Из этого следует, что спрятали ее там уже после девяти утра, когда Керслейк начинает заниматься своими делами на кухне. Уоттс добавил, что сорочка была очень тонкой, со штрипками спереди и сзади, сильно поношенная — под мышками до дыр протерта. Кровь покрывала почти всю нижнюю половину, почти до пояса, выше пятен не было. Судя по всему, кровь принадлежала владелице рубашки. Элиза Дэлимор заявила, что, по ее мнению, эта сорочка Сары Керслейк, потому что она «очень грязная и очень короткая — мне до колен не достанет». А кухарка, мол, говорила ей, что «исподнее у нее очень грязное» из-за обилия черной работы. Кроме того, в субботу, в день гибели Сэвила, ни на кухарке, ни на горничной белье не было чистым — миссис Дэлимор в этом удостоверилась, когда проверяла обеих на предмет принадлежности фланельки.
Энтузиазм, с каким миссис Дэлимор описывала во всех подробностях нижнее белье служанок, явно контрастировал с отвращением Фоли к тому же предмету. Он прямо заявил, что не хотел обсуждать эти детали с судьями просто потому, что ему «было неловко».
«Я лично ни секунды не держал в руках эту злополучную сорочку. Даже прикасаться не хотел, просто попросил убрать куда-нибудь эту грязную тряпку… Я счел, что выставлять ее напоказ было бы неуместно и неприлично. Мало ли заляпанного грязью и кровью белья мне приходилось видеть, вряд ли кто видел больше. Одним воскресным утром мне пришлось перевернуть в Бате белье на пятидесяти двух кроватях, и вы легко можете себе представить, чего и сколько я там насмотрелся… И все равно грязнее, чем это, белья я не видел».
Судьи пожурили суперинтенданта, однако же отпустили с миром, единодушно решив, что этот «серьезный умный» офицер совершил свой проступок вследствие того, что действовал, подчиняясь соображениям приличия и деликатности.
По указанию Генри Ладлоу секретарь суда зачитал письмо от Уичера. В нем говорилось, что «на протяжении двух недель он оказывал содействие местной полиции в расследовании убийства, ежедневно встречаясь с суперинтендантом Фоли и его помощниками. За все это время о сорочке никто даже не упомянул… Таким образом, если суд выражает неудовольствие тем, что от него утаили факт пропажи, спешу заверить, что я к этому никакого отношения не имею… Пусть все знают, что моей вины в том нет».
В книге Джозефа Степлтона приводится еще одно письмо Уичера. Из него следует, что сорочка и пропавшая ночная рубашка — это один и тот же предмет. «Когда стало известно о сокрытии ранее хранившегося „в страшной тайне“ из соображений приличия запачканного кровью белья, — пишет он, — я испытал большое удовлетворение, ибо сразу понял, что это и есть та самая одежда, которая была на убийце в момент совершения преступления… У меня нет ни малейших сомнений в том, что она была временно спрятана в бойлере, а полиция по какой-то необъяснимой небрежности не придала своей находке должного значения и позволила ей выскользнуть из рук. Ну а после того как необходимость в тайне отпала, все стало известно». Это дважды повторенное выражение весьма показательно. Ощущение такое, будто Уичер буквально нутром чует кровь и что решающая улика была у него почти в руках, однако ускользнула сквозь пальцы.
Часть III ВСЕ ПРОЯСНЯЕТСЯ
Кажется, я плыл не в сторону света, но, напротив, погружался в еще более непроглядную тьму, и через какое-то мгновение в глубинах моего сострадания зародилась страшная мысль: быть может, он ни в чем не виновен. Мгновение это было бездонным и оглушительным, ибо если он невиновен, то кто же тогда я? Парализованный самой возможностью такого вопроса, я позволил ему немного отойти на второй план…
Генри Джеймс. Поворот винта (1898)Глава 15 РАССЛЕДОВАНИЕ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА
1861–1864
Дело об убийстве в доме на Роуд-Хилл постепенно сошло на нет. В начале 1861 года лорд — главный судья отверг предложение о новом расследовании обстоятельств убийства Сэвила Кента, мотивировавшееся тем, что коронер якобы не должным образом выполнил свою работу. В распоряжении полиции Бата оказалось несколько новых фактов, или, скорее, слухов, коим было уделено должное внимание в январских номерах газет. Речь шла о следах от резиновых калош, обнаруженных перед черной лестницей вскоре после убийства, и о паре пропавших чулок. Джозеф Степлтон утверждал, что в комоде под нижним пролетом черной лестницы нашлась пара влажных грязных носков. «Фрум таймс», в свою очередь, обнародовала чье-то показание, будто много лет назад Констанс Кент, в ту пору ученица школы мисс Даккер в Бате, «в отместку за нанесенную якобы обиду выбросила в уборную что-то принадлежавшее ее гувернантке». В той же школе, говорилось в другом издании, она пыталась устроить взрыв газа.
В письме, направленном 1 февраля одному из своих друзей в Швейцарии, Чарлз Диккенс развивает свою версию преступления: «Наверное, даже в Лозанне толкуют об убийстве в доме на Роуд-Хилл? Ни одна полиция в мире не убедит меня в ложности картины, постепенно сформировавшейся в моем сознании. Отец спит с няней. Они видят, как ребенок стоит у себя в кроватке и глазеет на них, явно собираясь „все рассказать маме“. Няня моментально выскакивает из постели и на глазах отца душит мальчика. Отец, чтобы не дать возникнуть подозрениям (каковых избежать так и не удалось), перерезает ему горло и выносит из дома, выбрасывает тело туда, где оно было впоследствии найдено. Либо по пути в полицейский участок, либо тогда, когда полицейские сидели запертыми в доме, он избавляется от ножа и всего остального. Представляется весьма вероятным, что истина так никогда и не будет установлена».
Быть может, как раз такую ситуацию описал в «Человеке толпы» (1850) Эдгар По: «Есть секреты, не подлежащие огласке… есть тайны, не поддающиеся раскрытию. Увы, порою совесть человеческая возлагает на себя бремя столь ужасное и тяжкое, что отделаться от него можно, лишь сбросив его в могилу».
Джозеф Степлтон собирал материал для своей книги в надежде реабилитировать Сэмюела. В феврале он направил письмо главному суперинтенданту батской полиции Уильяму Хьюзу с просьбой официально опровергнуть слухи, будто бы мистер Кент «донимает сексуальными домогательствами» своих служанок. В своем ответе от 4 марта Хьюз сообщает, что переговорил с более чем двадцатью местными жителями, «единодушно утверждающими, что для подобных слухов нет ни малейших оснований». На основании всего того, что ему удалось узнать по данному поводу, Хьюз с уверенностью заявляет, что отношение Сэмюела к служанкам как раз лишено малейшего оттенка фамильярности — напротив, «он третирует их с неподобающим высокомерием и отчужденностью».
Примерно в то же время Сэмюел направил министру внутренних дел прошение об отставке — на тот момент прошло более половины его отпуска. Он претендовал на пенсию, равную зарплате, — триста пятьдесят фунтов стерлингов. «В июне 1860 года, — писал Кент, — я пережил страшное несчастье — убили моего сына. Это несчастье не только омрачило и будет омрачать остаток моей жизни, но и благодаря извращенному представлению событий в прессе сделало меня объектом всеобщих нападок и клеветы… У меня большая семья и весьма скромные доходы, так что на официально полагающуюся мне пенсию прожить будет чрезвычайно трудно». Корнуолл Льюис заметил, что впервые сталкивается со столь удивительным обращением, и распорядился ответить адресату, что «его просьба не может быть удовлетворена». В газетах муссировался слух, будто в разговоре с кем-то из родственников Констанс призналась в убийстве Сэвила, но детективы, занимающиеся этим делом, сочли «нецелесообразным» начинать новое расследование.
В четверг, 18 апреля 1861 года, Кенты оставили дом на Роуд-Хилл. Констанс отправили доучиваться в Динан, средневековый, обнесенный крепостным валом городок на севере Франции, а Уильям вернулся в Лонгхоуп, где вместе примерно с двадцатью пятью подростками в возрасте от семи до шестнадцати лет поселился в пансионе при школе. Оставшаяся часть семьи направилась в Вестон-Супер-Мар, курортный городок на северном побережье графства Сомерсетшир. Миссис Кент вновь ждала ребенка.
Сэмюел распорядился продать имущество с молотка, и уже через два дня после отъезда семьи аукционист открыл дом для публичного осмотра. К тому времени у него накопилось столько заявок, что пришлось пойти на беспрецедентный шаг — продажу каталогов, по шиллингу за экземпляр и по одному в руки. Всего было отпечатано и куплено семьсот экземпляров. В одиннадцать утра в субботу двери открылись, и в дом буквально хлынула толпа. В гостиной посетители один за другим поднимали раму среднего окна, прикидывая, какая сила требуется для этого, а в детской пытались на собственном опыте оценить, могла ли Элизабет Гаф видеть со своего места кроватку ребенка (все, в общем, сошлись на том, что могла). Самому тщательному осмотру подверглись двери и лестницы. Суперинтенданта Фоли, назначенного следить за порядком, юные дамы штурмовали просьбами показать им туалет, где на полу все еще можно было различить пятна крови. Мебелью, выставленной на продажу, посетители интересовались меньше. Обращаясь к ним, аукционист признал, что имущество дома Кентов не отличается «чрезмерной красотой», но уверял, что предметы, выставленные на продажу, сделаны добротно и к тому же, следует подчеркнуть, «обладают, помимо всего прочего, исторической ценностью. Они были немыми свидетелями преступления, потрясшего и приведшего в содрогание весь цивилизованный мир».
Суммы, вырученные за картины, разочаровывали. Так, портрет королевы Шотландии Марии работы Федерико Зукарри, стоивший, по словам Кента, сто фунтов, ушел за четырнадцать. Зато впечатляющий успех имела супружеская кровать с пологом на четырех стойках — она была продана за семь фунтов пятнадцать шиллингов. Чуть меньше — семь фунтов ровно — принесли умывальник и кое-какие аксессуары из спальни. Удалось продать и столовое серебро общим весом двести пятьдесят унций, более пятисот книг, несколько ящиков вина, включая золотистое и светлое шерри, светоскоп (при газовом освещении он мог проецировать увеличенные картинки на стену), два телескопа, несколько железных садовых скамеек и стульев, прекрасного жеребенка-одногодка. Исключительно терпкий, с отличным ароматом портвейн урожая 1820 года ушел по одиннадцать шиллингов за бутылку, кобыла — за одиннадцать фунтов пятнадцать шиллингов, экипаж — за шесть фунтов, а чистопородная олдернейская корова коричнево-желтоватого цвета, дающая жирное молоко, — за девятнадцать. Домашний орган Кентов приобрела методистская часовня в Бекингтоне. Некий мистер Пирмэн из Фрума купил кровати Констанс и Элизабет Гаф, а также колыбель Эвелин, в которой младенцем спал Сэвил, — по фунту за каждую. Таким образом, в целом набралось около тысячи фунтов. Кроватка, из которой был похищен Сэвил, на торги не выставлялась — на тот случай если она попадет в «комнату ужасов» Музея восковых фигур мадам Тюссо.
Во время торгов у одной женщины украли кошелек с четырьмя фунтами, и хотя люди Фоли заперли все двери в доме, устроили тотальный обыск и даже арестовали подозреваемого, найти воришку так и не удалось.
Последний ребенок Сэмюела и Мэри Кент, Флоренс Сэвил Кент, родилась уже в новом доме 19 июля 1861 года. На протяжении всего лета фабричное начальство раздумывало, куда бы пристроить Сэмюела. Вакансии имелись в Йоркшире и Ирландии, но было опасение, что ни там, ни там работать он не сможет — уж слишком сильно была настроена против него местная общественность. Но в октябре освободилось место заместителя фабричного ревизора на севере Уэльса, и Кенты переехали в Лланголлен, в долину Ди.
Одна англичанка, проживавшая в 1861 году в Динане, писала впоследствии в «Девайзес газетт»: «Я лично никогда Констанс Кент не видела, но все мои знакомые описывают ее как некрасивую девочку с невыразительным лицом и рыжеватыми волосами, ни глупую, ни умную, ни жизнерадостную, ни угрюмую, отмечая в ней лишь одну особенность, а именно: она была исключительно нежна и добра к маленьким детям… Она была самой незаметной из всех учениц школы». Собственно, именно к этому Констанс изо всех сил и стремилась, ее даже называли другим именем — Эмили, хотя все знали, кто она и откуда. Констанс сразу же сделалась жертвой сплетен и издевательств со стороны соучениц, и уже к концу года Сэмюел передал ее под опеку монахинь женского монастыря, расположенного в окрестностях этого городка.
На какое-то время Уичер исчез из поля зрения широкой аудитории, занимаясь исключительно делами, вряд ли способными привлечь общественное внимание. Лишь одно из них попало в поле зрения прессы — осуществленная им поимка священнослужителя, подделавшего завещание дяди и получившего таким образом шесть тысяч фунтов. Младший коллега Уичера, Тимоти Кавано, в ту пору скромный секретарь в аппарате комиссара полиции, утверждает, что убийство в доме Кентов просто доконало «лучшего работника, когда-либо служившего в отделе расследований лондонской полиции». Это дело «только что не разбило сердце бедного Уичера — он вернулся в Лондон совершенно подавленным. Это был для него настоящий удар — впервые комиссар, да и не только он, усомнился в его способностях». Если верить Кавано, то участие в расследовании убийства сильно изменило и Долли Уильямсона. Он вернулся из Уилтшира другим человеком — куда только делась его веселость, склонность к розыгрышам и опасным забавам. Он стал подавленным и замкнутым.
Летом 1861 года Уичеру было поручено первое после событий в доме на Роуд-Хилл расследование убийства. На первый взгляд дело было простым. 10 июня в Кингсвуде, неподалеку от Райгита, графство Суррей, была обнаружена мертвой пятидесятипятилетняя Мэри Холлидей, служившая экономкой в доме местного приходского священника. Судя по всему, она стала жертвой грабежа — ей засунули в горло чулок, чтобы не могла позвать на помощь, и она задохнулась. Налетчик или налетчики оставили в доме следы: деревянную дубинку, несколько мотков пеньковой веревки, обмотанной вокруг кистей и щиколоток убитой, пачку бумаг. В ней, оказались, между прочим, два письма — одно от знаменитой немецкой оперной певицы, к другому — с извинениями, — подписанному неким Адольфом Кроном, прилагались документы на имя Иоганна Карла Франца из Саксонии.
В распоряжении полиции имелось описание двух иностранцев, одного невысокого и темноволосого, другого повыше и посветлее: их видели в пивной, затем на поле рядом с домом священника, наконец, в лавке, где они покупали точно такую же веревку, какая была обнаружена на месте убийства. Описание высокого полностью совпадало с приметами, отмеченными в документах. За поимку подозреваемых, скорее всего упомянутых Крона и Франца, была объявлена премия в двести фунтов стерлингов.
Уичер отправил сержанта-детектива Робинсона к Терезе Титьен, той самой прославленной оперной певице, чье письмо было найдено в доме священника. Она жила в собственном доме, недалеко от Паддингтонского вокзала. Хозяйка показала, что около недели назад на пороге ее дома появился молодой высокий немец со светло-каштановыми волосами и, ссылаясь на безденежье, попросил помочь ему добраться до Гамбурга. Она обещала покрыть его дорожные расходы и выдала гарантийное письмо. Уичер велел Уильямсону проверить расписание пассажирских судов, отплывающих в Гамбург, и навести справки в австрийском, прусском и ганзейском посольствах и консульствах.
Еще несколько констеблей были направлены в Уайтчепел, один из беднейших районов лондонского Ист-Энда, известный своими сахароварнями. Здесь находили ночлег множество бродяг из Германии. Некоторые из них были подвергнуты допросу, но всех пришлось отпустить. Об одном из такого рода подозреваемых, взятом 18 июня, Уичер писал в отчете: «Хотя кое-какие приметы и совпадают с описанием одного из тех двоих, что замешаны в убийстве миссис Холлидей, не думаю, что он имеет какое-либо отношение к этому делу».
Но уже на следующей неделе Уичер докладывал Мейну, что он все-таки обнаружил Иоганна Франца в Уайтчепеле: им оказался двадцатичетырехлетний немец-бродяга, выдававший себя за какого-то Августа Зальцмана. Впрочем, сначала Уичеру никак не удавалось найти свидетелей, способных подтвердить, что это действительно один из двух немцев, виденных ими в Кингсвуде. Напротив, как Уичер докладывал Мейну 25 июня, «этого господина показали трем жителям Райгита и Кингсвуда, ранее видевших в этой местности двух иностранцев, и ни один из них не смог его опознать. Далее он был представлен для опознания констеблю Пеку, также обратившему внимание в Саттоне на двух незнакомцев в утро убийства. Так вот он также заявил, что этот человек ему незнаком. Тем не менее у меня нет сомнений, что мы имеем дело с „Иоганном Карлом Францем“, тем самым, что обронил свои документы в доме приходского священника, и поскольку двух иностранцев видели в округе и другие жители, я прошу дать указание сержанту Робинсону доставить их в Лондон на предмет опознания задержанного». Уверенность Уичера, хотя ее можно, если угодно, назвать и навязчивой идеей, оправдалась. 26 июня свидетели из Райгита подтвердили, что подозреваемый и есть один из тех двух иностранцев, виденных ими в пивной и в москательной лавке. После чего Уичер объявил, что «вполне готов» предъявить обвинение.
Он сделал копии с найденных документов и разослал их в различные учреждения Саксонии. Там подтвердили их подлинность и добавили, что тот, кому они принадлежат, уже подвергался судебным преследованиям. Уичеру также удалось установить, что через два дня после убийства подозреваемый отдал хозяину дома, в котором снимал жилье, голубую клетчатую рубашку, попросив подержать ее у себя. По описанию, эта рубашка в точности соответствовала той, что была на одном из двух иностранцев, виденных в Кингсвуде, а на руке болтался моток веревки, очень похожей на ту, которой была связана жертва. Детективы разыскали мануфактурщика, подтвердившего, что это он сплел веревку, найденную как на рукаве рубашки, так и на щиколотках миссис Холлидей: «Они из одного мотка, я в этом совершенно уверен». Нашлись и другие свидетели, заявившие, что видели подозреваемого в Суррее. Даже констебль Пек изменил свои первоначальные показания: теперь и ему стало казаться, что задержанный — один из тех, кого он видел в Саттоне. Таким образом, Уичер создал солидную доказательную базу, состоявшую, правда, из косвенных доказательств. 8 июля задержанный признался, что его зовут Франц, и дело было передано в суд.
История, изложенная немцем в свое оправдание, выглядела совершенно фантастической. По его словам, сойдя с парохода в Гулле, он скооперировался с двумя другими, такими же как он, оборванцами из Германии, Вильгельмом Герстенбергом и Адольфом Кроном. Герстенберг, напоминавший фигурой и чертами лица Франца, всячески уговаривал его поделиться какими-нибудь из документов, удостоверяющих личность. Франц отказывался. Однажды ночью — дело происходило в мае в районе Лидса, — когда Франц спал, зарывшись в стог сена, спутники обокрали его, прихватив не только документы, но и узел с запасной сменой белья, сшитого из той же ткани, что и одежда на нем. Это и объясняет сходство между его рубахой и той, что видели в Кингсвуде, точно так же как внешнее сходство с Герстенбергом объясняет то, что некоторые из свидетелей утверждают, что в Суррее видели именно его, Франца. Несчастный и обобранный до нитки, он продолжил свой путь в Лондон в одиночестве. Добравшись до города, он узнал, что какой-то немец, некто Франц, разыскивается по подозрению в убийстве, что и заставило его немедленно придумать себе другое имя. Что же касается найденной в его комнате веревки, то он сказал, что подобрал ее перед табачной лавкой, рядом со своим жильем. Таким образом, защита его строилась на трех китах: во-первых, у него украл одежду и документы какой-то очень похожий на него соотечественник; во-вторых, он изменил имя из страха быть принятым за убийцу; наконец, в-третьих, он наткнулся на одной из лондонских улиц на обрывок веревки, по чистой случайности оказавшейся абсолютно схожей с той, что обнаружили на месте убийства.
Все это походило на жалкие потуги самооправдания со стороны человека, виновного в преступлении и загнанного в угол. Но по мере приближения суда начали выясняться обстоятельства, как будто подтверждающие версию Франца. Какой-то тип из Нортгемптоншира принес в полицию якобы найденные в копне соломы у придорожной лачуги разрозненные бумаги вместе с пакетом, в котором Франц признал тот самый, что был у него украден. Таким образом, по крайней мере часть его документов, как он на том и настаивал, действительно была утрачена. Задержанного предъявили для опознания мадемуазель Титьен, и она под присягой показала, что это вовсе не тот блондин, что в начале июня просил у нее денег на проезд. Стало быть, возникло подозрение, что, возможно, и впрямь существует некий иной немец-блондин, каким-то образом связанный с темноволосым Кроном. К тому же выяснилось, что лондонский поставщик пеньки, продаваемой в Райгите и использованной при связывании Мэри Холлидей, живет в Уайтчепеле, всего в двух шагах от того места, где Франц, по его словам, подобрал на тротуаре обрывок веревки, чтобы подпоясаться ею.
У Уичера заколебалась почва под ногами. Он изо всех сил пытался отыскать Крона, так как был убежден, что поимка его поможет доказать виновность Франца. Он настолько был поглощен этой задачей, что то и дело выражал уверенность, что вот-вот поймает этого запропастившегося бог весть куда немца. «У меня практически нет сомнений в том, что человек, прозываемый Адольфом Кроном, на самом деле молодой польский еврей по имени Марк Коэн», — писал он Мейну. Но выяснилось, что это не так. Тогда Уичер убедил себя в том, что Крон — это некто третий. И опять ошибся. В общем, Уичер так и не нашел его.
На судебном заседании по делу об убийстве Мэри Холлидей, открывшемся 8 августа, адвокат Франца в своей эмоциональной четырехчасовой речи утверждал, что косвенные доказательства, имей они действительную ценность, должны были бы не только свидетельствовать о виновности подсудимого, но и опровергать утверждения о его невиновности. Ходили слухи, что, удаляясь в совещательную комнату, десять из двенадцати присяжных были убеждены, что убийца — Франц, но оглашенное старшиной решение звучало иначе — не виновен. Его дорогу домой оплатило посольство Саксонии.
На следующий день «Таймс», явно убежденная в том, что убил миссис Холлидей не кто иной, как Франц, отмечала, что теоретически косвенные свидетельства всегда работают на версию невиновности, ибо они ничего не доказывают: «Ведь это всего лишь гипотеза, основанная на цепи фактов, хотя в то же время она, по самой природе вещей, не может в определенных случаях не быть признанной верной».
Расследование убийства в Кингсвуде разворачивалось как дурной фарс, как насмешка над хваленым искусством детективов. Оно свидетельствует о том, что успех зависит в равной мере от остроты ума и обыкновенной удачи. «Не будучи, возможно, самым умным из детективов (в чем действительно есть сильные сомнения), я, бесспорно, являюсь самым удачливым, — утверждает инспектор „Ф“, герой-повествователь романа Уотерса „Приключения настоящего детектива“ (1862). — Я всего лишь держал рот широко открытым, и жирные куски падали туда сами собой». Ну а от Уичера удача, кажется, отвернулась. Вполне вероятно, он был прав насчет кингсвудского убийцы, но коль скоро Карл Франц был признан невиновным, уверенность в собственной правоте представлялась чем-то иным — скажем, высокомерием, самообманом или одержимостью.
Это было последнее убийство, расследовавшееся им.
В XIX веке постепенно укоренялась мысль, будто свидетельства, признания или показания очевидца слишком субъективны, чтобы заслуживать доверия. Скажем, Иеремия Бентам в своем «Трактате о свидетельстве» (1825) утверждает, что показания в суде должны опираться на материальную основу. Лишь вещественные доказательства имеют значение: пуговица, горжетка, ночная сорочка, нож. «Я полагаю, — рассуждает инспектор „Ф“, — наиболее надежным свидетельским показанием, достаточным для вынесения приговора, является цепь косвенных доказательств, не противоречащих ни по единому пункту вещественным доказательствам, ведь их нельзя подделать или подкупить». Такая же позиция различима в прозе Эдгара Аллана По: «Он, — отмечают братья Эдмон и Жюль Гонкуры, — опирается на научную литературу, а в ней предметы играют более значительную роль, нежели люди». Предметы же, ввиду того что они всегда молчат и не поддаются подкупу, являются немыми свидетелями истории, остатками — подобно дарвиновским ископаемым, — способными вмерзнуть в прошлое.
Тем не менее случай в Кингсвуде, как и случай в доме на Роуд-Хилл, обнаруживает зыбкость материального, ясно показывает, что, подобно воспоминаниям, они доступны самым разнообразным истолкованиям. Дарвину приходилось расшифровывать свои ископаемые. Уичеру приходилось вдумываться в обстоятельства преступления. Разница состоит в том, что цепь доказательств выстраивается, а не извлекается из-под земли. Героиня романов Форрестера формулирует это просто: «Достоинство детектива заключается не столько в раскрытии фактов, сколько в сопоставлении и выяснении их смысла». Изуродованный труп, обнаруженный в доме, можно толковать равно как свидетельство того, что убийца действительно был в бешенстве, так и как театральную маску того же самого бешенства. Открытое окно может указывать на путь бегства, но может также свидетельствовать о хитроумии убийцы, укрывшегося где-то в доме. В Кингсвуде Уичер обнаружил весьма четкий след — бумаги с именем и описанием внешности. Но даже это, как выяснилось, могло указывать на нечто прямо противоположное тому, чем представлялось на первый взгляд, — не на саму личность, но на факт ее похищения.
Англию охватывали новые настроения. Если пятидесятые годы отличались живостью и энергией, то в следующее десятилетие они сменились обеспокоенностью и сомнениями. В марте 1861 года умерла мать королевы Виктории, в декабре того же года ушел ее обожаемый муж, принц Алберт. Королева погрузилась в траур и до конца жизни проходила в черном.
В начале 60-х годов всеобщее возбуждение, вызванное убийством в доме на Роуд-Хилл, пошло на убыль, проявляясь в скрытой и более напряженной форме уже не на страницах газет, но в художественной литературе. 6 июля 1861 года, почти ровно через год после убийства, в журнале «Робин Гудфеллоу» был напечатан первый отрывок из романа Мэри-Элизабет Брэддон «Тайна леди Одли». Сюжет книги, ставшей год спустя после публикации в полном виде общенациональным бестселлером, строится вокруг таинственного жестокого убийства, совершенного в красивом сельском доме. Тело брошено в колодец; персонажи захвачены слухами о безумии и расследованием, все они боятся огласки. В романе Брэддон отразились возбуждение и тревога, порожденные убийством Сэвила Кента. Черты Констанс Кент романистка раздарила всем женским персонажам книги: леди Одли — убийце с симпатичной мордашкой и, возможно, поврежденными мозгами; всеобщей любимице, девчонке-сорванцу Алисии Одли; флегматичной горничной Фебе Маркс («молчаливая и замкнутая, она, казалось, была полностью погружена в себя, не обращая ни малейшего внимания на то, что происходит вокруг… такие женщины умеют хранить секреты»); наконец, одинокой порывистой Кларе Толбойс, сестре убитого. «Я выросла, — исповедуется она, — в душной атмосфере… Мне приходилось подавлять естественные порывы души, так что в конце концов они приобрели болезненный характер; мне не разрешалось иметь друзей и возлюбленных; мать умерла, когда я была совсем еще девочкой… у меня не осталось никого, кроме брата».
Джек Уичер стал прототипом Роберта Одли — преследуемого мучительными сомнениями детектива-любителя, проводящего «расследование задним числом» — посредством «путешествия» в прошлое подозреваемого. Если инспектор Бакетт из «Холодного дома» — это славный господин с острым взглядом, говорящим о тайном знании, то Роберта Одли преследует страх душевного недуга. «Так кто же из нас маньяк, — раздумывает он, — женщина ли с кукольным личиком, кажущаяся ему невменяемой. Или убеждая себя в ее в помешательстве, он просто доказывает, что сам является жертвой навязчивой идеи?»
«Что это — расследование или мономания? Вдруг я все-таки ошибаюсь? Что, если цепь доказательств, выстроенных мною звено за звеном, является на самом деле лишь чистой фантазией? Что, если вся эта конструкция, основанная на страхе и подозрениях, есть всего лишь набор догадок — плод больного воображения холостяка ипохондрика?.. О Господи, если бы действительно все дело было во мне».
Свидетельства, собранные Уичером в доме Кентов и его окрестностях — а равно и в Кингсвуде, — могли свидетельствовать как о виновности подозреваемых, так и о его собственных заблуждениях. Неопределенность — чистая мука. «Неужели я так и не приближусь к истине? — вопрошает Роберт Одли. — Неужели мне всю жизнь суждено мучиться смутными сомнениями и невыносимыми подозрениями, способными в конце концов превратить меня в маньяка?» С другой стороны, в случае успеха, если загадка будет разрешена, то это, не исключено, будет только еще страшнее — «зачем пытаться распутать этот клубок, решать этот жуткий ребус, подгонять друг к другу разрозненные фрагменты, ведь целое выглядит так ужасно?»
«Тайна леди Одли» стал одним из самых первых и самых удачных образцов «романов ощущения», «романов загадок», господствовавших в литературе 60-х годов XIX века, — запутанные истории домашних драм, обманов, безумия, интриг. Сюжет их строится вокруг того, что Генри Джеймс называет «самыми таинственными из существующих тайн, тайнами нашего собственного дома… Это страхи, что укрываются в углах веселых сельских домов или строгих лондонских квартир». Сами эти тайны довольно экзотичны, хотя время и место действия — здесь и сейчас: наши дни, Англия, страна, где ходят поезда, рассылаются телеграммы, полицейские патрулируют улицы. Персонажи этих романов находятся во власти своих чувств, самопроизвольно материализующихся в их облике и поведении: их заставляют бледнеть от ужаса, внезапно вспыхивать от негодования, мрачнеть, дрожать, срываться с места, биться в судорогах. Глаза их то зажигаются яростным огнем, то мутнеют. Критики высказывали опасения, что и на читателей эти сочинения действуют соответствующим образом.
В 1863 году философ Генри Мэнсел охарактеризовал такие романы как «своего рода следствие и в то же время причина массовой испорченности. Они порождаются нездоровыми потребностями публики и одновременно усугубляют болезнь, вызывая жажду, которую сами же стремятся утолить». Сказано, быть может, с необычной экспрессией, но вообще-то подобные взгляды были распространены. Многие опасались, что «романы ощущений» сделались «заразой», способной усугубить болезни, ими же вызываемые, так как стимулируют эмоции — и сексуальные, и те, что толкают на насилие, — причем вспышки их наблюдаются во всех слоях общества. Эти книги — первые образцы психологических триллеров — воспринимались как признак глубинных социальных процессов, что проявляется даже в характере потребления этой продукции: их читают как хозяева, так и работники, в судомойне и в гостиной. Дабы усилить ощущение подлинности, авторы таких романов строили повествование, основываясь на реальных событиях, таких как убийство в доме на Роуд-Хилл. «Есть что-то невыразимо отталкивающее в этом нездоровом влечении к отбросам, — пишет Мэнсел, — в этом духе алчности, исходящем от той порчи, что охватила ныне все общество, и заставляющем с жадностью поедать эти вонючие сладости еще до того, как испарится их гнилостный запах». «Романы ощущений» пробуждают в читателях самые низменные чувства, животные аппетиты; они, подобно дарвинизму, угрожают основам веры и общественному порядку. Мэнсел отмечает, что типичная иллюстрация на обложке такого романа представляет собой изображение «бледнолицей юной дамы в белом платье и с ножом в руках» — точь-в-точь сцена убийства в доме Кентов, какой она виделась Уичеру.
Книга Джозефа Степлтона «Большое преступление 1860 года» была опубликована, с согласия Роуленда Родуэя, в мае 1861 года. Степлтон был исключительно хорошо информирован: лично знал подозреваемых, до него доносились местные слухи и сплетни. От Генри Кларка ему были известны все запросы со стороны членов суда, а равно и подробности полицейских расследований; Сэмюел Кент посвятил его в детали семейной истории. Степлтон явно намекает на то, что виновница преступления — Констанс. В то же время сама интонация его книги нередко становится нервной и срывающейся: он не только мрачно указывает на личность убийцы, но и говорит о распаде и гниении английского общества, о национальной катастрофе.
В стиле, напоминающем своей экспрессией «романы ощущений», Степлтон призывает читателей задуматься «о человеческих сердцах, бьющихся в домах людей, принадлежащих к новому среднему классу, о разыгрывающихся в них человеческих драмах… о семейных тайнах, семейных конфликтах, семейном позоре, прикрытых лишь тонкой вуалью приличия и то и дело готовых прорваться наружу и полыхнуть огнем, с которым не совладаешь». Он уподобляет такие семьи вулканам: «выясняется, что во множестве английских домов за добропорядочностью повседневной жизни скрывается жесткая и горькая сердцевина. В тех глубоких впадинах-кратерах, где скапливается энергия огня… собирается буря и в какой-то момент разражается во всю силу, сбивая с ног и затягивая в гибельную воронку родителей, детей, слуг».
Убийство в доме на Роуд-Хилл, утверждает Степлтон, нанесло обществу большой моральный ущерб. «По мере того как тайна убийства, ничуть не приближаясь к своему разрешению, становилась все глубже, подозрительность начала превращаться в манию». Автор живо изображает любопытствующих зрителей, пришедших на слушание дела об убийстве Сэвила Кента, и сравнивает их с женщинами на корриде в Испании: «Женщины столпились в комнате, чтобы послушать рассказ о том, как мальчику перерезали горло. Они, с детьми на руках, внимательно рассматривали окровавленный кусок материи». Впечатление складывалось такое, что ангел-хранитель из викторианских сказок мгновенно уступил место кровожадному вампиру.[80]«Сочувствие к жертве словно бы затухает до тех пор, пока бодрствует инстинкт; и лишь когда любопытство и любовь к страшному удовлетворены, англичанка стряхивает с себя наваждение и вновь предстает перед нами во всем блеске своих лучших проявлений». С точки зрения Степлтона, наблюдатели полицейского расследования, онемев на мгновение перед картиной насилия, сами пережили внутреннюю перемену. Хоть автор склонен усматривать нездоровый интерес к крови именно в среде деревенских женщин-работниц, которых он часто уподобляет иностранцам, жадное любопытство к совершившемуся убийству охватило все слои английского общества, причем отнюдь не только женщин, но в равной степени и мужчин. Степлтон сам, как явствует из книги, был в этом смысле далеко не исключением.
Он считает, что убийство стало свидетельством «национального декаданса». «Пресловутое вырождение расы, в котором все упрекают друг друга, проявляется хотя бы в том, что мы видим его последствия и приметы в передающейся из поколения в поколение склонности к низким наслаждениям, недостойным занятиям и разлагающим душу и тело грехам». В данном случае Степлтон выступает сторонником теории расовой деградации: если, по Дарвину, человеческие существа способны к развитию, то, несомненно, способны и к упадку. Дурная наследственность родителей сказывается на детях, влача назад всю расу. Мэнсел также усматривает в убийстве в доме на Роуд-Хилл свидетельство распада общества, равно как и признаки распространения алкоголизма, вещизма, всеобщей истерии, упадка нравов, разгула проституции и разврата. Защищая всячески Сэмюела от любых наветов, Степлтон в то же время намекает на то, что дурные наклонности и притязания его прежних коллег нанесли большой ущерб семье. На потомство человека может оказать сильное воздействие алкоголизм, точно так же как и иные отклонения от нормы — например, жадность или сексуальная невоздержанность.
Неразгаданная тайна убийства в доме Кентов дала толчок развитию жанра «романов ощущений» в Англии. Речь не о содержании, нет — то был просто разряд, подобный электрическому. Он явно отозвался, например, в романе Шарлотты Йонг «Процесс» (1863), повествующем о подростке из буржуазной среды, обвиненном в убийстве; напоминает он также о себе и в книге безымянного автора «Такова жизнь» (1862), в которой действуют несколько образованных молодых женщин с устрашающим криминальным прошлым. «Некогда… на английских девушек, — говорится в книге, — смотрели и за границей, и дома как на воплощение чистоты и невинности, но теперь все иначе». Отзвуки все того же убийства различимы и в книгах, изображающих грубого полицейского, нарушающего покой мирного дома: в качестве примера можно привести героя романа Элизабет Брэддон «Аврора Флойд» (1863) Гримстоуна из Скотленд-Ярда с его «засаленной записной книжкой и карандашиком».
Писательница Маргарет Олифант корень всех бед видела в детективах. Она утверждала, «Романы ощущений» являются «литературной легализацией умонастроений представителей нового поколения полицейских». «Литературный детектив, — писала она в 1862 году, — это вовсе не collaborateur (соавтор), какого мы были бы всегда готовы с радостью приветствовать в мире слов. Сам его вид оскорбляет и вкус, и нравы». Год спустя она сетовала на «детективизм» — «судебно-полицейскую разновидность современной прозы».
По словам Роберта Одли, после убийства в доме на Роуд-Хилл детективы «стали ассоциироваться с чем-то непотребным, превратились в людей, не принимаемых в благородном обществе». Одли была ненавистна сама маска детектива, теперь им носимая: «Его широкая натура восставала против компании, в которую он оказался втянут, шпиков и собирателей мерзких фактов, ведущих к ужасным умозаключениям… все дальше, по грязной дороге — в закоулки подглядывания и подозрений».
В нервическом характере Роберта Одли, вынужденного заниматься поисками того, чего он так страшится, «ощущения» и «детективизм» слились воедино. Самого детектива стало модно воспринимать как своего рода наркомана, дрожащего от возбуждения при соприкосновении с преступлением как таковым. Эдинбургский детектив Джеймс Макливи, двухтомник мемуаров которого стал в 1861 году бестселлером, признается, что работа заводит его так, что он не может успокоиться. Он описывает свое стремление вернуть владельцу похищенное как проявление животного инстинкта или, во всяком случае, как чего-то сходного со стремлением вора украсть: «Вряд ли возможно передать словами чувство, охватывающее детектива, когда он извлекает на свет именно то, что ему нужно. Даже грабитель, когда его пальцы, стискивающие бриллиантовое ожерелье, дрожат от возбуждения, не испытывает такого восторга, как мы, выдергивая его из этих же самых пальцев». Макливи говорит, что его тянет к опасности, к загадке, «к месту, где свершилось нечто таинственное». Он испытывает почти физическое томление по «разыскиваемому»: «от любого его взгляда… мышцы на руках, казалось, напрягаются, а в пальцах, стискивающих запястье, возникает нечто подобное пароксизму желания». При этом, уподобляя поимку преступника любовному объятию, Макливи делает весьма характерную оговорку: «О, что за чудесное ощущение я испытал, схватив его за руку… Никогда бы я не променял это на прикосновение к женской ладони, не сравнил бы и с тем, что чувствуешь, надевая на палец невесты обручальное кольцо… Увидев, как Томпсон — тот самый человек, по которому я столь часто тайком вздыхал, — пытается вырваться из рук полицейского… я почувствовал, что с трудом справляюсь с желанием обнять бесстрашного вожака банды». Макливи изображает самого себя одиноким героем, чья жизненная энергия и чувства целиком подчинены расследуемым делам и поиску преступников. Подобно Джеку Уичеру, как и большинству детективов — персонажей романов, Макливи — холостяк. Одиночество — плата за мастерство.
Пресса продолжала нападать на Уичера и его коллег. «Детектив в наши дни чаще всего неудачник», — писала газета «Дублин ревью». Случай в доме на Роуд-Хилл «закономерно подорвал» общественное доверие к его «проницательности и уму… Служба детективов в нашей стране поставлена на редкость бездарно». В 1862 году было впервые употреблено словечко «бесследно» (в смысле отсутствия ключа к загадке). Журнал «Рейнолдс» уподобил лондонскую полицию «трусливому и неуклюжему гиганту, направляющему всю низость и зло своей натуры на борьбу со слабыми и беззащитными существами, попадающимися на его пути». В этих словах эхом отдается «низость», проявленная Уичером при аресте беззащитной Констанс Кент. В пародии, опубликованной в одном из номеров «Панч» за 1863 год, фигурируют «инспектор Уотчер» и «дефективная полиция». Выступая на страницах «Сатердей ревью», Джеймс Фитцджеймс Стивен обрушился на романтический образ полицейского в современной прозе («преклонение перед детективами»), утверждая, что на самом деле от них нет никакого толку при раскрытии преступлений, совершаемых в мелкобуржуазной среде.
Летом 1863 года Сэмюел и Уильям Кенты навестили Констанс в Динане, а 10 августа она вернулась в Англию, поступив в платный пансион Святой Марии в Брайтоне. Это учреждение, основанное в 1855 году преподобным Артуром Дугласом Вагнером, было самым близким подобием женского монастыря, которое могла предложить своим прихожанам англиканская церковь. Группа новообращенных во главе со старшей послушницей и при содействии примерно тридцати кающихся грешниц работала в родильном доме для незамужних матерей. Вагнер был учеником Эдмунда Пьюзи, лидера возникшего в XIX веке Трактарианского, или Оксфордского, движения, выступавшего за возвращение англиканской церкви к ризам, кадилу, свечам и таинству исповеди. Вступая в сообщество, основанное Вагнером, Констанс тем самым вступала в новую, религиозную семью, освобождая себя от уз кровного родства. Приняв французское написание своего второго имени, она стала теперь Эмили (с ударением на последнем слоге) Кент.
Ну а лондонская жизнь Джека Уичера утратила всякое содержание. В газетах о бывшем «короле детективов» почти не упоминали. Его друг, детектив-инспектор Стивен Торнтон, умер в пятидесятивосьмилетнем возрасте от апоплексического удара в сентябре 1861 года у себя дома в Ламбете, освободив тем самым вакансию для Долли-Фредерика Уильямсона, получившего в октябре и новую должность, и новое звание. Теперь инспектор Уильямсон возглавлял отдел.[81]
После Кингсвуда имя Уичера лишь однажды появляется в архивах лондонской полиции в связи со сколько-нибудь значительным делом. Так, в сентябре 1862 года[82] он, вместе с суперинтендантом Уолкером,[83] был командирован в Варшаву по просьбе российской администрации города для содействия в организации службы детективов. Русские были не на шутку обеспокоены деятельностью польских националистов, покушавшихся на жизнь членов царской семьи. «Все как будто спокойно, — докладывали 8 сентября английские офицеры из своей резиденции в гостинице „Европа“. — Никаких новых попыток покушения предпринято за это время не было, но… власти, судя по всему, сохраняют постоянную бдительность. Наша миссия держится в строгом секрете… ибо иначе, в случае какого-либо недоразумения относительно истинных целей визита, под угрозой может оказаться наша личная безопасность». Впоследствии русские весьма тепло отзывались о своих гостях: «Его высочество в высшей степени удовлетворен разумными и проницательными соображениями, высказанными английскими офицерами». Однако же советам их никто не последовал, и когда в марте 1863 года русские солдаты силой оружия подавили варшавское восстание, в палате общин прозвучали вопросы относительно этической стороны секретной миссии английских детективов.
18 марта 1864 года Джек Уичер, будучи в возрасте сорока девяти лет, ушел со службы в лондонской полиции с пенсией сто тридцать фунтов шесть шиллингов восемь пенсов в год. Он вновь поселился в своей старой квартире на Холивелл-стрит в Пимлико. В анкете, заполненной им перед отставкой, в графе «семейное положение» значится «холост», а ближайшим родственником назван Уильям Уорт, владелец почтовой кареты из Уилтшира, женившийся в 1860 году на Мэри-Энн, одной из племянниц детектива. В той же анкете содержится объяснение причин столь ранней отставки Уичера — гиперемия мозга. Такой диагноз может указывать на заболевания самого разного характера — например склонность к эпилепсии, патологическое состояние тревоги, поражение сосудов головного мозга. В одной статье, увидевшей свет в 1866 году, перечисляются симптомы гиперемии: сильные головные боли, покраснение и одутловатость лица, налитые кровью глаза. Там же говорится, что причиной болезни может быть «продолжительное умственное напряжение». Из этого объяснения можно заключить, что Уичер был слишком поглощен загадкой убийства в доме на Роуд-Хилл и его мозг «перегрелся» — так же как и мозг Роберта Одли. Не исключено, гиперемия мозга — это как раз то, что происходит, когда чутье детектива никем не востребовано, жажда разгадки остается неутоленной, а правду никак не удается отделить от ее видимости.
«Ничто в мире не сохраняется в тайне навсегда, — пишет в романе „Без имени“ (1862) Уилки Коллинз. — Предатель — песок, на котором можно видеть оставленные кем-то следы; доносчица — вода, выдающая чье-то утопленное тело… Через дверной проем глаз вырывается наружу скрытая в темнице мысли ненависть… Куда ни глянь, закон неизбежного раскрытия тайны является одним из законов природы: продолжительное сохранение тайны — это чудо, которого мир пока не видел».
Глава 16 УЖ ЛУЧШЕ БЫ ОНА БЫЛА СУМАСШЕДШЕЙ
Изложенный в этой и последующей главах рассказ о событиях 1865 года базируется в основном на публикациях «Дейли телеграф», «Таймс», «Солсбери энд Уилтшир джорнэл», «Обсервер», «Вестерн дейли пресс», «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», «Пенни иллюстрейтед пейпер», «Глобал ньюс», «Бат кроникл», архивах лондонской полиции (3-61) и министерства внутренних дел (144-20-49113). Другие источники указаны в тексте.
Апрель — июнь 1865
Во вторник, 25 апреля 1865 года, Констанс Кент села в Брайтоне на поезд. Добравшись под палящим солнцем до вокзала Виктория, взяла кеб и направилась в здание мирового суда на Бау-стрит.[84] Ее сопровождали преподобный Вагнер в своем облачении викария и Кэтрин Грим, старшая послушница пансиона Святой Марии, также в полном облачении (длинное черное платье с высоким белым воротником). На Констанс была свободная накидка. Выглядела девушка, по описанию автора статьи в «Дейли телеграф», «бледной и печальной, но совершенно спокойной». Войдя около четырех пополудни в здание, она заявила находившимся внутри судейским, что хочет сделать признание в убийстве.
Суд на Бау-стрит — первый и самый известный из мировых судов в Лондоне — занимал два строения с террасами со стороны фасада в пользующемся дурной репутацией районе неподалеку от «Ковент-Гардена» и оперного театра. Снаружи, под газовым фонарем и барельефом с королевским гербом, дежурил полицейский. Констанс и ее спутников провели узким коридором в зал судебных заседаний, находящийся за главным зданием. Он был разделен на секции железными перилами, за ними находились деревянные скамейки, столы, трибуны. Сквозь застекленный потолок ярко светило солнце, на некрашеных стенах висели часы и несколько картин.[85] За судейским столом сидел главный судья, сэр Томас Генри. Констанс протянула ему заранее заготовленное письмо и села неподалеку. В этот не по-апрельски жаркий день в зале было душно, дышалось тяжело.
Сэр Генри прочитал письмо, написанное на шелковой бумаге четким красивым почерком:
В ночь на 29 июня 1860 года я, Констанс Эмили Кент, в одиночку, без чьего бы то ни было содействия, убила некоего Фрэнсиса Сэвила Кента. Ни с кем своими намерениями я не делилась, а равно никому не признавалась впоследствии в своей вине. Никто не помогал мне ни совершить это преступление, ни скрыть его.
Судья посмотрел на Констанс.
— Следует ли понимать дело таким образом, мисс Кент, — проговорил он, — что вы делаете это признание по доброй воле, без чьего бы то ни было давления?
— Да, сэр. — Голос Констанс, как сказано в «Таймс», звучал «твердо, хотя и грустно».
— Все, что вы собираетесь здесь сказать, будет запротоколировано и может быть использовано против вас в суде. Ясно?
— Да, сэр.
— Написан ли лежащий передо мной документ вами собственноручно и по доброй воле?
— Да, сэр.
— В таком случае пусть формула обвинения будет написана с ее собственных слов.
Клерк переписал формулу на официальном голубом бланке, осведомившись лишь у Констанс, как пишется ее второе имя — «Emily» или «Emilie».
— Не важно, — ответила она, — иногда я пишу так, иногда иначе.
— Но я вижу, что в признательном письме, написанном, как вы утверждаете, собственноручно, значится Emilie.
— Да, сэр.
Сэр Генри предложил ей подписать бланк.
— Должен предупредить вас, — добавил он, — что речь идет об исключительно тяжком преступлении и что признание в нем будет использовано против вас в суде. Я распорядился, чтобы в выдвинутом против вас официальном обвинении были использованы ваши собственные выражения, но если не желаете, можете не подписывать этот документ.
— Если это необходимо, я готова, — сказала Констанс.
— Крайней необходимости нет, это зависит от вашего желания, — повторил сэр Генри. — Я приобщу ваше заявление к материалам дела, но перед тем должен еще раз спросить вас, делаете ли вы признание по собственной воле, без всякого давления со стороны, откуда бы оно ни исходило.
— Да, сэр, это мой собственный выбор.
Сэр Генри повернулся к преподобному Вагнеру и попросил его представиться. Вагнер был человек известный; выпускник Итона и Оксфорда, он потратил часть доставшихся ему по наследству денег на строительство пяти церквей в Брайтоне. Окна и алтари в них декорировали по его заказу такие видные художники, как Эдвард Берн-Джонс, Огюст Пужен и Уильям Моррис. Он основал морской курорт, превратив его в нечто вроде англиканского центра. Многие же считали его папистом, представляющим опасность для английской церкви.
— Я слуга Божий, пожизненный викарий церкви Святой Марии в Брайтоне. — У викария были привлекательное округлое лицо и узкие внимательные глаза. — Констанс Кент я знаю почти два года — с лета 1863-го.
— С августа, — уточнила Констанс.
— То есть вы знакомы примерно двадцать один месяц, — заметил сэр Генри.
— Именно так, — продолжил Вагнер. — Насколько я припоминаю, принять ее в нашу обитель попросила одна английская семья, объясняя свою просьбу тем, что у нее то ли нет дома, то ли еще какие-то проблемы возникли. Наш «дом», или, скорее, как его сейчас называют, «лечебница», — это часть церкви Святой Марии, представляющая собой прибежище для истово верующих дам. Тогда, в августе, эта женщина появилась там как гостья и с тех пор остается с нами.
— Ясно, мистер Вагнер, — сказал сэр Генри. — А теперь мой долг спросить вас, не оказывалось ли на автора этого признания какого-либо давления — в любой форме?
— С моей стороны — нет. Насколько мне известно, оно сделано совершенно добровольно. Если мне память не изменяет, впервые она заговорила об этом примерно две недели назад. И это именно она высказала пожелание, чтобы ее доставили в лондонский мировой суд. По сути, признание, сделанное ею мне, совпадает с ее письменным заявлением, существующим теперь и в виде официального обвинительного акта.
Вагнер уточнил, что, говоря о признании, сделанном Констанс, он имеет в виду ее публичное заявление, а не то, что было сказано с глазу на глаз.
— Ну, пока об этом речи нет, — прервал его сэр Генри, — хотя не исключено, что в ходе судебного заседания этот вопрос возникнет, притом во всех деталях. — Судья вновь повернулся к Констанс. Ему явно не давало покоя участие клирика во всем этом деле. — Надеюсь, вы отдаете себе ясный отчет в том, что все вами сказанное должно иметь совершенно добровольный характер и что на вас не оказывалось никакого воздействия, повлекшего те или иные последствия?
— Никто меня ни к чему не подталкивал, сэр.
— Прошу вас со всей серьезностью обдумать мои слова.
— Хотел бы отметить, — вмешался Вагнер, — что мне исповедуются многие, это становится чем-то вроде религиозного опыта, но я никогда и никого не побуждаю придавать этой исповеди публичный характер.
— Хорошо, что вы сказали это, — с некоторой строгостью в голосе проговорил сэр Генри. — Но хотелось бы уточнить, не побуждали ли вы ее сделать конфиденциальное признание.
— Нет, сэр. Я не предпринимал никаких попыток принудить ее к исповеди. Это было ее собственное желание.
— Если вы считаете, что признание, сейчас выслушанное здесь нами, хоть в какой-то степени продиктовано тем, что она говорила вам лично, следует сказать об этом прямо.
— Я никогда ей ничего подобного не советовал, — твердо заявил Вагнер. — Я просто слушал. С моей точки зрения, она повела себя правильно, и я не пытался отговаривать ее.
— Но вы настаиваете на том, что не уговаривали?
— Именно так, сэр.
— Итак, здесь содержится ваше признание, верно? — Сэр Генри указал на лист бумаги, переданный ему Констанс. — Все еще не поздно… Вас никто не вынуждает делать какие-либо признания против воли.
Клерк спросил Констанс, написаны ли эти строки самолично.
— Да, сэр.
Сэр Генри осведомился у Вагнера, знаком ли ему почерк мисс Кент, тот ответил отрицательно — он видит его впервые.
Клерк зачитал Констанс ее же признание. Та подтвердила, что прочитано верно, и поставила свою подпись, прибегнув к изначальному написанию второго имени — Emily. Услышав от сэра Генри, что он передает дело в суд, Констанс вздохнула, словно с облегчением, и откинулась на спинку стула.
В этот момент в зал вошли суперинтендант Даркин и инспектор Уильямсон — обоих вызвали из Скотленд-Ярда.[86]
— Преступление было совершено в Уилтшире, — заявил сэр Генри, — там же должен состояться и суд. Отсюда следует, что эту женщину необходимо доставить туда, дабы местные судьи могли допросить ее до начала судебного заседания. Инспектор Уильямсон принимал участие в прошлом расследовании — ему должны быть известны подробности дела, а также состав суда.
— Все правильно, сэр Томас, — подтвердил Уильямсон.
— А где живут судьи, вам известно?
— Один — в Троубридже.
— Ну что, в первой инстанции будет достаточно одного мирового судьи, — заметил сэр Генри и спросил об Уичере, но Уильямсон ответил, что тот вышел в отставку.
Уильямсон отвез Констанс Кент и мисс Грим на Паддингтонский вокзал, где к ним присоединился сержант Робинсон, с которым он работал вместе по Кингсвудскому делу. Все четверо сели на поезд, отходивший в восемь часов десять минут в Чиппенем. В купе Констанс молчала, хотя инспектор и пытался расшевелить ее всякими дружелюбными вопросами. Она не была в Уилтшире с 1861 года и выглядела, по словам Уильямсона, «чрезвычайно подавленной». Около полуночи путники добрались до Чиппенема, где наняли крытый четырехколесный экипаж и направились в Троубридж, расстояние до которого составляло пятнадцать миль. В экипаже Уильямсон снова попытался разговорить Констанс, задавая несущественные вопросы, например, далеко ли им ехать, — но ответом ему было молчание. Кучер плохо знал здешние места, все время сбивался с пути, так что в Троубридж они приехали только в два часа ночи. В полицейском участке Констанс была передана на попечение миссис Харрис, жены нового суперинтенданта (Джон Фоли умер в сентябре минувшего года, ему было шестьдесят девять лет).[87]
Прессу признание Констанс поразило. Некоторые газеты отказывались верить в достоверность ее заявления. Случается, преступления совершают люди невменяемые; другие, вроде каменщика, утверждавшего, что именно он убил Сэвила Кента, возможно, делают такие признания в надежде избавиться от болезненного чувства какой-то вины и подавленности. Быть может, Констанс «не убийца, а сумасшедшая», высказывала предположение «Дейли телеграф»; минувшие пять лет «она медленно агонизировала» и вполне могла утратить душевное равновесие, что и привело к признанию в том, чего она не совершала. «Было бы в сто раз лучше, если бы она оказалась невменяемой, нежели убийцей». Тем не менее, вынуждена была признать газета, четкость и «невероятная смелость» ее признания «отнюдь не свидетельствуют об умопомешательстве». «Морнинг стар» выдвинула версию, согласно которой Констанс убила своего сводного брата, движимая «страстной привязанностью» к Уильяму. Псевдоромантические отношения между братьями и сестрами отнюдь не были новостью для людей Викторианской эпохи — в замкнутых, скованных строгим домашним уставом мелкобуржуазных семьях брат или сестра могли оказаться самым близким человеком противоположного пола. Газета «Лондон стандард» находила в признании Констанс нечто сомнительное: написанное, по-видимому, ее собственной рукой, оно, однако же, «не было заверено нотариально». «Лондон ревью», смутно намекая на какие-то подрывные действия папистских сил, обнаружила «в языке документа явные следы руки из-за рубежа и чуждое влияние».
«Таймс», с другой стороны, с полным доверием отнеслась к признанию Констанс и предложила объяснение случившемуся, бросающее тень едва ли не на половину английского населения: «Возрастной промежуток от двенадцати—четырнадцати до восемнадцати—двадцати лет — это такое время жизни, когда естественные привязанности почти не обнаруживают себя, оставляя тело и разум полностью во власти процессов роста, а сердце — открытым мощным страстям и национальным устремлениям, которым невозможно противостоять… Должно с грустью признать, что именно представительницы слабого пола проявляют особенно откровенно бессердечие». Девушки «тверже и эгоистичнее молодых людей»; в предвкушении половой зрелости их сердца утрачивают всякую нежность. А в случаях, когда девушка «особенно склонна к раздумьям, когда у нее особенно сильно развито воображение… мечта превращается в навязчивую идею, сколько угодно абсурдную и низкую, заполняет собою всю внутреннюю жизнь, протекающую независимо от общественных установлений и жизненных занятий». Яростно отвергая представление о женщине викторианских времен, принадлежащей к среднему классу, как о «домашнем ангеле»,[88] газета уверяет, что большинство девушек в возрасте от тринадцати до двадцати лет охвачены гибельными страстями: «Следует признать, что Констанс Кент совершила лишь то, что миллионы ее сверстниц жаждут видеть совершенным кем-нибудь другим».[89]
Иные газеты утверждали, что Констанс уже написала обо всем своему отцу в Уэльс, дабы избавить его от неизбежного шока при чтении газет. Но история, описанная на страницах «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», не подтверждает этого. Один знакомый Сэмюела Кента, оказавшись в среду утром, 26 апреля, в валлийском городке Озуэстри, недалеко от своего родного Лланголлена, при встрече с Сэмюелом Кентом обратил внимание на то, в каком тот пребывает хорошем настроении. Около двух часов пополудни Кента видели покупающим газету в вокзальном киоске. Читая номер, в котором был напечатан репортаж о признании, сделанном накануне его дочерью в зале заседаний мирового суда в Лондоне, он «на какой-то момент оцепенел», а затем бросился по главной улице в гостиницу, где, забыв о назначенном на этот день деловом свидании в Озуэстри, заказал экипаж и немедленно направился домой.
В среду, в одиннадцать утра, Уильямсон, которому было поручено самостоятельно вести это дело, собрал в полицейском суде Троубриджа несколько мировых судей. Во главе их, как и раньше, был Генри Ладлоу. В заседании участвовали также секретарь суда Генри Кларк, главный констебль уилтширской полиции капитан Мередит, суперинтендант Харрис, Джозеф Степлтон и два адвоката, привлеченных Сэмюелом Кентом еще в 1860 году, — Роуленд Родуэй и Уильям Данн. Начало заседания пришлось отложить, так как опаздывал главный свидетель — преподобный Вагнер. Сотни людей, не сумевших проникнуть внутрь, ждали на улице под жарким апрельским солнцем.
Вагнер, в сопровождении сержанта Томаса, сошел с поезда на троубриджской железнодорожной станции ровно в полдень и направился прямо в суд. Зал заседаний был наполнен до отказа. Вагнер опустился на стул и застыл с полуприкрытыми глазами, упершись подбородком в покоящиеся на ручке зонтика пухлые руки.
Констанс, сообщает репортер «Дейли телеграф», вошла в зал заседаний суда «спокойной и твердой походкой». Это, продолжает он, была плотная девушка среднего роста, «на вид отменно здоровая… с румяными щеками, по которым никак не скажешь, что ее мучают угрызения совести. Первые несколько минут она выглядела как человек, попавший в неловкую ситуацию». Мисс Грим, сидевшая рядом с Констанс, застыла от напряжения.
Секретарь зачитал заявление Вагнера.
— Все правильно, сэр? — обратился к нему председательствующий.
— Да.
— У вас есть вопросы к свидетелю? — повернулся Ладлоу в сторону Констанс.
— Нет, сэр, вопросов не имею.
— Вы можете быть свободны, — кивнул судья Вагнеру.
На свидетельскую трибуну поднялся Уильямсон, и секретарь зачитал составленный им акт. И вот тут-то Констанс потеряла прежнее самообладание. При слове «убила» она залилась слезами и едва не опустилась на колени, прижимаясь к мисс Грим и безутешно рыдая. Старшая послушница тоже не сдерживала слез. Одна из женщин, сидевших поблизости, протянула Констанс флакон с нюхательной солью, другая — стакан воды, но ее трясло так, что она ничего не замечала. Инспектор вернулся на свое место, и Ладлоу сказал Констанс, что ближайшую неделю она будет находиться под стражей. В тот же день ее доставили в тюрьму Девайзеса.
Уильямсон направил письмо сэру Ричарду Мейну с просьбой выделить детектива для задержания Элизабет Гаф, а на следующий день послал телеграмму соответствующего содержания уже непосредственно детективу-инспектору Тэннеру. Последний еще в 1860 году допрашивал по поручению Уичера бывшего слугу Кента Голлопа, а известность приобрел четыре года спустя, успешно раскрыв первое в Англии убийство, совершенное на железной дороге (он установил личность убийцы по шляпе, оставленной тем в вагоне, а затем, преследуя его, пересек океан и взял уже в Нью-Йорке). В прессе писали, что Элизабет Гаф вышла замуж за какого-то австралийского фермера-овцевода, но Тэннер выяснил, что она живет с родными в Айлворте, в двадцати милях от Лондона. Мейн предложил Уичеру, по-прежнему живущему в Пимлико, присоединиться к Тэннеру, чтобы вместе с ним допросить женщину, которую он столь страстно — и бесплодно — защищал в 1860 году.[90] Выяснилось, что она едва зарабатывает себе на пропитание поденной работой — шитьем да штопкой в богатых домах.
Тем временем Уильямсон работал в деревне и во Фруме — допрашивал Уильяма Данна и Джошуа Парсонса. Последний перебрался сюда из Бекингтона еще в 1862 году и теперь имел обширную медицинскую практику. В субботу инспектор вернулся в Лондон, а в воскресенье, взяв с собой Уичера, нанес визит Элизабет Гаф.
Всю эту неделю экс-детектив и его бывший протеже работали вместе. Впоследствии Уильямсон обратился к начальству с просьбой возместить своему прежнему боссу «дорожные и иные расходы» на сумму пять фунтов семь шиллингов шесть пенсов. Ровно год прошел с тех пор, как Уичер, опозоренный и отринутый всеми, ушел со службы. Иные газеты сетовали на допущенную в отношении его несправедливость. «Таймс» опубликовала письмо лорда Фолстона, в котором, между прочим, говорилось: «Позвольте мне заявить в оправдание детектива Уичера следующее… последнее, что он сказал, уходя в отставку, одному из моих друзей: „Попомните мои слова, сэр: до тех пор пока мисс Констанс сама во всем не признается, убийство останется нераскрытым“». «Сомерсет энд Уилтс джорнэл» напомнила своим читателям о «безжалостных и, можно сказать, огульных обвинениях и преследованиях», обрушившихся на этого «способного и опытного офицера». Но признание Констанс в содеянном вовсе не означало, что детектив может торжествовать победу. Об этом же говорит и изречение, выбитое на могильном камне, под которым покоится Сэвил: «Там, где терпят поражение люди — и наука, и расследование, — торжествует Бог».
В понедельник, 1 мая, Сэмюел Кент в сопровождении Роуленда Родуэя навестил в тюрьме дочь. Констанс сидела за столом и что-то писала. При появлении Родуэя она встала, чтобы поприветствовать его, но, увидев отца, разрыдалась, ноги у нее подкосились, и она едва не рухнула на кровать. Сэмюел поддержал ее. Прощаясь, Констанс сказала отцу, что «избранной дорогой она обязана ему и Богу».
«Стандард» отмечает, что Сэмюел был «совершенно потрясен» свиданием с дочерью: «Впечатление такое, что и ходит, и говорит он совершенно механически». На протяжении всей недели Сэмюел навещал дочь ежедневно и договорился в местной гостинице, что ей будут доставлять обед. Время в тюрьме Констанс проводила за чтением, писанием и шитьем.
В четверг ее вновь доставили в полицейское управление Троубриджа для проведения судебного заседания. Председательствовал по-прежнему Генри Ладлоу, и в его задачу входило установить, достаточно ли доказательств собрано для того, чтобы передать дело Констанс в суд более высокой инстанции. В одиннадцать утра около тридцати репортеров протиснулись узким коридором в душный зал заседаний. Грубо сколоченная скамья, предоставленная для прессы еще во время первых слушаний, никуда не исчезла, но места для всех не хватало, и кое-кто расположился на стульях, предназначенных для адвокатов, что вызвало недовольство полицейских, пытавшихся установить в зале порядок. Ну а стоячих мест хватило лишь для незначительной части публики — большинство осталось снаружи.
Поначалу Констанс выглядела спокойной, но стоило ей занять свое место на скамье подсудимых, как, по словам корреспондента «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», «ее вздымающаяся грудь стала верным свидетельством бушующих внутри ее чувств». Как и пять лет назад, сменяли друг друга свидетели, которые мало что могли сказать, а вернее, повторить, — Элизабет Гаф, Бенгер, Парсонс, Сара Кокс (ныне Роджерс — она вышла замуж за фермера из соседней деревни, здесь же, в графстве Уилтшир), сержант Джеймс Уоттс. Были и те, для кого события пятилетней давности сохранили всю свою живость. Например, Бенгер вспомнил, как он, вынося тело мальчика из уборной, заметил «на полах его детской ночной рубашонки засохшие пятна крови». Парсонс, несколько отходя от своих показаний, данных в 1860 году, заявил, что, с его точки зрения, непосредственной причиной смерти стала рана, нанесенная в шею, но не исключено также, что еще до удара мальчика пытались задушить. Он повторил, что рана в груди не могла быть нанесена бритвой, — это результат «удара длинным, остро отточенным ножом… рваная поверхность раны на одной из сторон указывает на то, что нож извлекали из тела под углом, отличным от того, под каким был нанесен удар». Парсонс добавил также, что, осматривая 30 июня 1860 года ночную рубашку на кровати Констанс, обратил внимание на то, что манжеты еще не успели обмякнуть после крахмала.
После выступлений свидетелей председательствующий несколько раз предлагал Констанс задавать вопросы, но она неизменно едва слышно заявляла, что таковых не имеется. Лицо ее было скрыто вуалью, взгляд на протяжении всех слушаний обращен вниз — поднимала она голову, только чтобы посмотреть на очередного свидетеля да ответить на вопрос председательствующего.
На трибуну поднялся Уичер. Давая показания, он демонстрировал собранные им вещественные доказательства, должно быть, приберегавшиеся для сегодняшнего дня, — две ночные рубашки, конфискованные им пять лет назад из комнаты Констанс, составленный ею перечень белья для стирки и, наконец, ордер на ее арест. («Вам следовало бы служить в полиции», — заявила леди Одли своему преследователю Роберту Одли. На что тот ответил: «Иногда мне кажется, что я мог бы стать недурным полицейским». — «Почему?» — «Потому что я умею терпеть».) Рассказ Уичера о проведенном им в 1860 году расследовании почти слово в слово совпал с тем, что он представил суду тогда же, пять лет назад. Он повторял его, словно заклинание, никак не выражая своих чувств по поводу того, как повернулось тогда дело. Ни мстительности не звучало в его словах, ни торжества, ни облегчения. Ладлоу решил дать Уичеру возможность со всей ясностью высказаться по поводу того, что местная полиция скрыла от него факт обнаружения в бойлере белья с засохшими пятнами крови.
— Вы слышали, что было найдено белье с пятнами крови? — спросил его судья.
— Нет, никто из полицейских не сообщал мне об этом, — ответил Уичер. — Этот факт стал известен мне только три месяца спустя, из газет.
Следующей свидетельницей стала Кэтрин Грим. Напряжение в зале сразу возросло. Она начала с того, что обратилась к суду с просьбой уважать тайну признаний, сделанных ей Констанс — как если бы это была исповедь ребенка матери: «Сначала она и пришла ко мне как дочь». Затем мисс Грим сообщила суду, что во время Страстной недели, пришедшейся в этом году на 9—16 апреля, преподобный Вагнер сказал ей, что Констанс призналась в совершенном ею убийстве и хочет сделать это признание публично. Мисс Грим поговорила с девушкой, не употребляя при этом слово «убийство». Она спросила, вполне ли та «отдает себе отчет» в последствиях такого рода признания. Констанс ответила утвердительно. На следующей неделе она рассказала мисс Грим, как все это было: она снесла спящего ребенка вниз, вышла из дома через окно в гостиной, воспользовалась бритвой, специально взятой «для этой цели» из ящика отцовского туалетного столика. Констанс сказала также, что «это» было совершено «не из антипатии к Сэвилу, но в качестве мести мачехе». Позднее она сообщила мисс Грим, что тайком вытащила, как и предполагал Уичер, ночную рубашку из корзины с бельем.
Но Ладлоу надо было еще установить, не оказывалось ли на девушку какого-либо давления, а потому он спросил у Кэтрин Грим, что, с ее точки зрения, могло побудить Констанс раскрыть эти дополнительные подробности убийства.
— По-моему, я спрашивала ее, не молил ли мальчик пощадить его, — сказала мисс Грим.
— А что предшествовало вашему разговору? — настаивал Ладлоу.
— Я все время пыталась внушить ей, какой это страшный грех в глазах Бога, и еще говорила о том, что она может в его глазах усугубить вину.
— Ну а когда она все рассказала, вы не пытались уговорить ее открыто во всем признаться?
— Нет, — твердо заявила мисс Грим. — Такого не было никогда.
Следующим на свидетельскую трибуну поднялся Вагнер. Сложив на груди руки, он обратился («плачущим», по определению «Сомерсет энд Уилтс джорнэл», тоном) к судье с просьбой разрешить ему зачитать заранее подготовленное краткое письменное заявление. Ладлоу ответил, что до завершения слушания показаний это невозможно. Тем не менее уже в самом начале допроса Вагнер заявил:
— Все, что сообщила мне мисс Констанс Кент, является тайной исповеди, и потому я вынужден отказаться от ответа на любые вопросы, предполагающие нарушение этой тайны.
Это прозвучало довольно вызывающе. Дело в том, что Римско-католическая церковь может полагать тайну исповеди священной, но англиканская церковь подчиняется законам государства. По залу пробежал недовольный ропот.
— Мистер Вагнер, — обратился к свидетелю Ладлоу, — вы принесли присягу. Вы поклялись перед лицом Бога говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды.
— Мой долг перед Всевышним, — возразил Вагнер, — запрещает раскрывать сказанное на исповеди.
По залу снова пробежал ропот.
— Я могу позволить себе сообщить, — продолжал Вагнер, только то, что три-четыре недели назад Констанс попросила меня связаться с сэром Роджером Греем, в 1861 году сменившим Корнуолла Льюиса на посту министра внутренних дел, и сообщить ему, что убийство в доме на Роуд-Хилл совершила она, Констанс Кент.
Далее Вагнер подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не подталкивал девушку к публичному признанию своей вины. По поводу тайны исповеди Ладлоу решил с ним не спорить, отложив это до суда.
Около шести вечера закончился допрос последнего свидетеля, и Ладлоу спросил Констанс, не желает ли она что-либо сказать. Девушка слегка покачала головой. Ладлоу объявил, что Констанс Кент будет предана суду, и она медленно поднялась со своего места. Уже через час ее повезли назад, в тюрьму.
До начала суда над Констанс Кент прошло почти три месяца. Все это время Уильямсон продолжал опрашивать свидетелей и собирать доказательства ее вины — на тот случай, если она откажется от своего признания. В конце мая крестный Сэвила, доктор Мэллем, проживавший в Холлоувее, одном из районов на севере Лондона, обратился в Скотленд-Ярд с предложением своих услуг. В беседе с Уильямсоном он заявил, что был свидетелем того, какие унижения испытывали дети Сэмюела Кента от первого брака со стороны отца и мачехи. Если полиция хочет проверить эти показания, достаточно обратиться к Мэри-Энн и она подтвердит их. Мэллем также пересказал разговор, состоявшийся между ним, Парсонсом, Степлтоном и Родуэем сразу после похорон Сэвила: все они тогда сошлись на том, что повинна в гибели мальчика Констанс. «Доктор Мэллем также сообщил мне, — пишет в своем рапорте Уильямсон, что некто Стивенс, ранее служивший у Кентов садовником, а ныне проживающий во Фруме, говорил ему, что года за полтора до убийства мисс Констанс спрашивала его по какому-то поводу, как можно извлечь бритву из отцовского туалетного столика». Эта малоправдоподобная история все же может иметь под собой какие-то основания, ибо действительно человек по имени Уильям Стивенс оказался в списке немногих новых свидетелей, призванных давать показания в ходе июльского процесса над Констанс.
29 июня Уильямсон отправился в Дублин, чтобы вручить повестку в суд Эмме Моуди, а две недели спустя — в графство Глостершир, где в городке Олдбери жила Луиза Лонг, в девичестве Хэзерхилл, еще одна соученица Констанс, с которой Уичер встречался в 1860 году. Ей тоже следовало явиться в суд.
Преподобный Вагнер, не дождавшись слов благодарности за содействие в раскрытии убийства, оказался в положении козла отпущения для прессы и широкой публики. В газетах, в палате общин, в палате лордов с него просто шкуру живьем сдирали (лорд Эвери заявил, что «скандальное поведение» Вагнера свидетельствует о том, насколько «прогнила» вся англиканская церковь). Выступив в роли исповедника Констанс, Вагнер поверг многих в гнев и смятение. В Брайтоне люди срывали со стен собора Святого Павла, где он служил, объявления о проповедях, оскорбляли его на улицах, швыряли разные предметы в окна пансиона Святой Марии. В номере «Стандард» от 6 мая безымянный корреспондент интересовался судьбой тысячи фунтов, полученных Констанс по наследству в день совершеннолетия. Адвокат Вагнера сообщил, что восемьсот фунтов Констанс хотела передать пансиону, но каноник этому воспротивился. Вечером, накануне поездки на Бау-стрит, она положила деньги в ящик для пожертвований там же, в пансионе. На следующий день Вагнер обнаружил их и поставил в известность об этом министра внутренних дел. Все это подтвердил Роуленд Родуэй, сообщивший газетчикам, что Вагнер передал деньги Сэмюелу Кенту, дабы тот распорядился ими от имени дочери.
Дело об убийстве в доме на Роуд-Хилл породило крупнейший религиозный конфликт столетия, в котором столкнулись два направления англиканской церкви — Высокое и Низкое. Преподобный Джеймс Дэвис утверждает в своей брошюре, что признание Констанс Кент говорит в пользу монашества англокатолической церкви и ее институтов. Именно пансион Святой Марии, рассуждает он, подтолкнул девушку к признанию: «Царящая в нем праведная жизнь и строгая дисциплина, а также сама атмосфера святой обители пролили свет на душу, смягчили сердце и подготовили к столь важному шагу. А когда сердце смягчается, оно должно раскрыться». Несколько эротические тона, избранные Дэвисом для описания примирения девушки с Богом, напоминают скорее об экстатических восторгах католических монашенок, о неделе благочестивой строгости протестантизма, воплощением которого автор пытается представить свою героиню.
В ответ священник конгрегационалистской церкви Эдвин Пакстон Худ обнародовал брошюру, в которой критически рассматривается деятельность новоявленных «религиозных семей». В их лоно молодая женщина может «предать себя» без согласия своих родных — таким образом, церковь способна подорвать авторитет викторианского дома. Пакстон Худ выразил свое неудовольствие тем, что вокруг Констанс Кент создается некий романтический ореол: «Ничего такого из ряда вон выходящего в ней, в ее деянии и в пятилетнем молчании или в сделанном признании нет, разве что действовала она очень жестоко, беспощадно и бездушно. И вряд ли что в ней за эти пять лет изменилось. Признание ничуть ее не возвышает, и мы совершенно не склонны воспринимать ее ни как образец кающейся грешницы, ни — а такие попытки предпринимаются — как героиню. Это просто чрезвычайно безнравственная, порочная молодая женщина».[91]
Иные утверждали, что Вагнер уговорил Констанс сделать признание, чтобы таким образом лишний раз разрекламировать свои взгляды на таинство исповеди. Другие считали, что полыхающий в нем дух Высокой церкви передался девушке и она оговорила себя. Джеймс Реддинг Уэйр выпустил вторым изданием свою брошюру в 1862 году. В ней он намекает на то, что на самом деле убийство совершила эта лунатичка Элизабет Гаф; что же касается признания Констанс, то автор высказывает «некоторые соображения», заставляющие в нем усомниться. «Романизированная» церковь, продолжает он, пропагандирует идею самопожертвования: «Если признание мисс Констанс Кент о чем и свидетельствует, так лишь о том, что она откровенно стремится именно себя сделать объектом негодования, порожденного гибелью ее брата».
Один уилтширский священнослужитель, навестивший в мае Констанс в заключении, попытался разобраться в ее душевном состоянии. Войдя в камеру, он увидел ее за столом, заваленным раскрытыми книгами, и что-то пишущей. Выглядела она, как поведал клирик корреспонденту «Солсбери энд Винчестер джорнэл», «вполне здоровой, розовощекой, держалась хладнокровно и уверенно». В ответ на вопрос, думает ли она, что Бог простил ее, Констанс ответила: «Не уверена, что мой грех прощен, но кто из нас, пребывающих по эту сторону могилы, может быть в этом уверен?» Она не выказывала, по его словам, ни жалости к самой себе, ни раскаяния.
Констанс писала из камеры своему адвокату Родуэю:
Утверждают, что возникшая у меня жажда мести стала результатом жестокого обращения. Это совершенно не так. Со стороны тех двоих, кого в этом обвиняют, я, напротив, видела одно только добро. И я сама не испытывала по отношению к ним никаких дурных чувств, вызванных якобы их поведением. Повторяю, они были очень добры ко мне… Я буду признательна, если вы предадите огласке это заявление, чтобы люди не заблуждались на этот счет.[92]
Сказано как будто вполне определенно, да только мотивы убийства становятся в таком случае еще более загадочными. Газеты продолжали высказывать надежду на то, что девушка невменяема. В таком случае ее можно извинить, пожалеть и позаботиться о ней. «Версия сумасшествия решает все проблемы», — говорилось в «Сатердей ревью» от 20 мая.
Женщины, обвиняемые в убийстве, часто ссылаются на невменяемость в надежде на то, что суд проявит к ним снисходительность. И у Констанс, и у ее адвокатов были все возможности утверждать, что в момент совершения преступления она была охвачена манией убийства.[93] То, что на вид она психически вполне здорова, препятствием отнюдь не служит. Как пишет в «Тайне леди Одли» Мэри Брэддон, «вы только подумайте, сколь многие содрогаются при мысли о том, как узок зазор между психическим здоровьем и психическим расстройством: сегодня ты безумен, а завтра вполне нормален; безумен вчера — и нормален сегодня». Наследственные душевные заболевания, утверждает психиатр Джеймс Причард, могут никак себя не проявлять до тех пор, пока не возникнут определенного рода обстоятельства, а затем вновь, и столь же стремительно, сходят на нет. Считается, что у женщин психические расстройства могут вызываться либо нарушениями менструального цикла, либо повышенной сексуальной возбудимостью, либо ощущениями, связанными с наступлением половой зрелости. В одной из своих статей, опубликованных в 1860 году, врач Джеймс Кричтон-Браун утверждает, что мономания чаще всего наступает в детстве. «Впечатления, стремительно сменяющие друг друга в неизменно возбужденном воображении ребенка… вскоре начинают восприниматься как реальность и внедряются в его подсознание. Проще говоря, они превращаются в иллюзии». Дети, пишет тот же автор в другой статье, это «подарочное переиздание уходящих в глубь тысячелетий оригиналов, сохранившее всю силу первобытных инстинктов…» Да и целый ряд других медиков подчеркивают, что в только формирующейся груди может таиться безумие, психические отклонения, даже бесовство, — далеко не все люди Викторианской эпохи склонны идеализировать и обожествлять ребенка.[94]
Тем не менее при осмотре, проводимом в тюрьме выдающимся английским психиатром Чарлзом Бакниллом, Констанс повторяла, что психически совершенно здорова — и тогда была, и сейчас. Врач пытался понять мотивы убийства мальчика: отчего она не выбрала жертвой ту, кто в действительности вызывает у нее столь острую неприязнь, — мачеху? На это Констанс отвечала, что так было бы «слишком просто». Бакнилл понял ее таким образом, что она хотела не столько избавиться от ненавистной ей женщины, сколько заставить ее страдать, долго и мучительно. Впоследствии Бакнилл разъяснил министру внутренних дел, что, с его точки зрения, Констанс «унаследовала явную предрасположенность к нарушениям психики», но «запретил» тому предавать гласности это заключение, ибо оно могло бы бросить тень на отца и брата. Точно так же трактует мотивы поведения Констанс и Родуэй. «Ссылка на психическое расстройство, — отмечает он в разговоре с тем же министром внутренних дел, — могла бы возыметь действие, однако, опасаясь, что в таком случае брату ее придется в жизни несладко, она настаивала на том, чтобы этот аргумент в суде не приводился». Констанс решила во что бы то ни стало избавить Уильяма от возможных подозрений в наличии и у него психического расстройства.
Бакнилл не стал возражать и представил официальное заключение о вменяемости подсудимой, но в разговорах с газетчиками намекал на то, что дело обстоит не так просто. Подобно Уичеру, он усматривал признаки душевного расстройства Констанс в ее хладнокровии. Бесчеловечности деяния явно противоречит равнодушие, демонстрируемое девушкой. «Единственное, что настораживает Бакнилла, — пишет автор статьи в „Солсбери энд Винчестер джорнэл“, — так это поразительное спокойствие, полное отсутствие каких-либо эмоций».
Глава 17 ОТ ЛЮБВИ К НЕНАВИСТИ
Июль — август 1865
Во вторник вечером, 18 июля, Констанс была доставлена в Солсбери, где находилась центральная тюрьма графства. Обычно узников перевозят поездом, но на сей раз начальник тюрьмы в Девайзесе распорядился использовать для этого дилижанс, которым девушка и отправилась в свою сорокамильную дорогу, пролегающую через Солсберийскую равнину. В Фишертонской тюрьме, располагающейся на окраине города, она оказалась среди еще пятидесяти заключенных — сорока пяти мужчин и пяти женщин. В среду — за два дня до начала суда — у нее состоялось свидание с адвокатом Роулендом Родуэем, заверившим ее, что он и его коллеги считают, что, несмотря на сделанное признание, можно добиться оправдательного приговора, — надо только, чтобы Констанс заявила о своей невиновности. Он уговаривал девушку примириться с Богом приватно: духовное покаяние, настаивал Родуэй, никак не связано с публичным признанием и осуждением. Констанс повторила, что собирается признать себя виновной, это «ее бесспорный долг, единственный способ примириться с собственной совестью», а также снять подозрение со всех остальных.
В Солсбери съезжался народ. Сэмюел, Мэри, Мэри-Энн и Уильям Кент остановились в «Уайт харт», симпатичной гостинице в георгианском стиле, расположенной напротив собора. В Солсбери приехал Уильямсон, а также Уичер — скорее всего он остановился у своей племянницы Мэри-Энн, жившей с мужем Уильямом Уортом на Нью-стрит. На всякий случай обвинение доставило в город более тридцати своих свидетелей, в том числе Луизу — школьную приятельницу Констанс (а вот Эмма Моуди заболела и не смогла приехать из Ирландии).
Представлять интересы Констанс должен был королевский адвокат Джон Дьюк Колридж, один из наиболее успешных защитников.[95] В четверг он встретился с Мэри-Энн и Уильямом, чтобы обсудить дело их сестры, а затем, как говорится в дневниковой записи, «не ложился до трех утра, готовя речь». Он отправил своей подзащитной записку: «Если вы не признаете себя виновной, я сделаю все, чтобы вас оправдали. Если признаете — все, чтобы с других были сняты любые подозрения. Но советую вам не занимать промежуточной позиции». Ранним утром в пятницу, 21 июля, в день начала суда, Констанс прислала ответ: «Я убеждена, что лучшее оправдание невиновных — признание виновной меня».[96]
Уилтширская полиция огородила здание суда и свезла в город констеблей со всего графства. Прибыло около тридцати репортеров, обнаруживших с негодованием, что вопреки обещаниям городские власти не выделили прессе специальной ложи в зале заседаний. Зарезервировано было всего четырнадцать мест — остальным предстояло уповать на удачу вместе с публикой, готовой хлынуть в зал, когда в девять утра откроются двери.
Председательствовал сэр Джеймс Уиллз, высокий мужчина с роскошной темной шевелюрой, густыми бровями, бакенбардами, внушительного размера носом и суровым взглядом. Сдержанный и обходительный в манерах, он говорил с легким ирландским акцентом: судья был выходцем из Корка, где родился в 1814 году в протестантской семье. Сразу после того как он и еще двадцать четыре мировых судьи, выполнявших роль присяжных, заняли свои места, в зал ввели Констанс. Она была во всем черном: ручной вязки вуаль, простая накидка, шляпка со стеклянным бисером, перчатки до локтя. По описанию репортера «Дейли телеграф», ее «округлое, ничем не примечательное лицо выражало одно лишь тупое равнодушие… У нее большие глаза, в них время от времени мелькает выражение, свидетельствующее как будто о том, что окружающие вызывают у нее некое подозрение, но лучше всего его можно описать как взгляд человека, чего-то боящегося». А вот портрет в исполнении корреспондента «Глобал ньюс»: «Тяжелый невыразительный взгляд, низкий лоб, маленькие глаза, склонная к полноте фигура, а также полное отсутствие во внешности и во всем ее облике каких-либо признаков интереса к жизни. Что-то в ней есть замогильное».
Секретарь суда зачитал текст обвинения и спросил:
— Констанс Эмили Кент, признаете ли вы себя виновной?
— Признаю, — еле слышно ответила Констанс.
— Отдаете ли вы себе отчет, — вмешался судья Уиллз, — что вы обвиняетесь в преднамеренном, сознательном, со злым умыслом совершенном убийстве брата?
— Да.
Судья выдержан паузу.
— И вы признаете себя виновной в этом преступлении?
Констанс не ответила.
Выждав несколько секунд, Уиллз переспросил с нажимом:
— Так каков же ваш ответ?
И вновь Констанс не произнесла ни слова. При всей решимости признать себя виновной, она, судя по всему, ощущала давление сгустившейся вокруг нее атмосферы тишины и таинственности.
— Вас обвиняют в преднамеренном, сознательном, со злым умыслом совершенном убийстве вашего брата. Признаете ли вы себя виновной?
— Признаю, — проговорила наконец Констанс.
— Прошу занести признание в протокол.
Пока секретарь делал свою работу, в зале царила мертвая тишина.
Колридж поднялся со своего места и от имени Констанс обратился к суду:
— Перед тем как суд вынесет свой вердикт, мне хотелось бы отметить следующее. — Адвокат был сухопарый мужчина с удлиненным лицом, острым, благожелательным взглядом и мелодичным голосом. — Во-первых, перед лицом всемогущего Бога и как человек, желающий быть в мире со своей душой, обвиняемая просит меня торжественно заявить от ее имени, что виновна в преступлении она, и только она, а ее отец и другие столь долго и неправедно находившиеся под подозрением люди целиком и полностью невиновны. Во-вторых, она просит меня заявить, что вопреки тому, что утверждалось, побудило ее к данному деянию не дурное обращение со стороны домашних. В семье ее неизменно окружала самая нежная и преданная любовь. Надеюсь также, что мне будет позволено уже от себя добавить, что все сказанное доставляет мне печальную радость, ибо я от души убежден, что это правда.
Колридж сел на место. Секретарь суда спросил Констанс о том, имеются ли у нее какие-либо основания просить суд о смягчении наказания. Она промолчала.
Перед тем как вынести смертный приговор, Уиллз надел черный судейский головной убор и обратился к Констанс:
— Изучив материалы дела и сопоставив их с вашим трехкратным признанием своей вины, я не имею ни малейших сомнений в том, что сделанное вами заявление — это заявление человека, виновного в совершенном преступлении. Представляется, что вы дали волю чувству ревности…
— Никакой ревности! — выкрикнула Констанс.
— …и злобы, — продолжал судья, — и они настолько глубоко проникли в ваше сердце, что в конце концов зло полностью овладело вами.
В этом месте голос судьи пресекся, и, не в силах продолжать, он вынужден был сделать паузу. Пока он молчал, Констанс подняла голову. Увидев поникшую фигуру судьи, утратила остатки самообладания и отвернулась, пытаясь сдержать слезы. Уиллз же разрыдался в открытую. Наконец он справился с собой и вновь медленно заговорил:
— С моей стороны было бы в высшей степени самонадеянно судить о том, воспользуется ли ее величество королева своим правом помилования ввиду того, что в момент совершения убийства вы были совсем юной девушкой, что осуждены вы на основании вашего собственного признания и что это признание освобождает от подозрений других людей. Могу лишь сказать, что отныне вам надлежит прожить то, что прожить осталось, в ожидании близкой смерти и в молитвах об ином, высшем милосердии, в глубоком и искреннем покаянии и вере в божественное воздаяние.
Судья зачитал формулу смертного приговора, закончив словами: «И да помилует Бог вашу душу».
Констанс на мгновение застыла, затем опустила вуаль. Из зала заседаний ее вывела стражница с лицом, залитым слезами. Судебное заседание продолжалось двадцать минут.
Выкрик Констанс — «Никакой ревности!» — был единственным публичным проявлением чувств, которое она себе позволила за все то время, что прошло между ее признанием и судом. Она готова была согласиться с тем, что ею двигала ярость, что да, она, совершила убийство, но не из ревности — нет… Быть может, реакция ее была чрезмерной: убивая Сэвила в порыве гнева, она могла представляться себе героиней — мстительницей за мать и брата, но если двигала ею ревность, то, выходит, она эгоистичный, слабый ребенок. Если все дело в ревности, то она не просто восставала против отца и мачехи, а жаждала их любви.
Сразу после вынесения смертного приговора стали во множестве появляться посвященные убийству в доме на Роуд-Хилл «народные» баллады. Собственно, это было чистое стихоплетство — краткое, на страничку, кое-как срифмованное описание всякого рола преступлений. Печатались такие «произведения» быстро, расходились в большом количестве экземпляров, а затем распевались уличными торговцами. Их эстафету быстро перехватили газеты, печатавшие в виде отчетов о преступлениях такую же дешевку, только в более развернутой форме и обращаясь к большей аудитории грамотных людей. Большинство «народных» баллад были написаны от первого лица, в форме признания или жалобного плача:
Бритвой по горлышку я резанула, Тельце потом в одеяло свернула, В нужник, куда же еще, сволокла, В жижу пахучую детку спихнула, Сладко зевнула и спать побрела.Констанс могла говорить что угодно, но авторам баллад мотивы ее поведения были, видимо, совершенно ясны:
Отец нашел себе другую — Меня обрек на жизнь лихую.В другой балладе говорилось, что она «ревнует к своей мачехе», а многие сходились на том, что Констанс преследует призрак убиенного Сэвила: «Ни дня ни ночи мне покоя, мой брат во сне преследует меня». Ну а кое-кто испытывал сладострастное возбуждение в предвкушении сцены казни и пытался поделиться им с другими:
О, что за миг, о, что за вид, Коль у судьбы на древе Девица красная висит С витой петлей на шее.Но издатели «народных» баллад начали скачки, не дождавшись стартового выстрела, — в публике росли настроения в пользу помилования Констанс. Один мировой судья из Девоншира готов был под присягой засвидетельствовать факт умопомешательства первой жены мистера Кента — не только он, но и другие соседи Кентов не раз наблюдали случавшиеся с ней припадки.[97] В первое же воскресенье после вынесения приговора преподобный Чарлз Сперджен, самый популярный проповедник своего времени, обратился к четырехтысячной толпе, собравшейся на площади Слона и Замка[98] с речью, в которой сравнил преступление Констанс Кент с преступлением, совершенным доктором Эдвардом Притчардом из Глазго, также осужденным незадолго до того на смерть за убийство. Притчард был арестован, потому что в крови его жены и матери, умерших вскоре после того, как стала известна его связь с четырнадцатилетней служанкой, были обнаружены следы яда. Виновным себя Притчард не признал и даже после оглашения приговора пытался возложить ответственность за происшедшее на других: «У меня такое чувство, что после начала моей связи с Мэри Маклеод я жил среди полоумных». В противоположность ему Констанс сама взяла вину на себя, чтобы снять подозрения с близких людей. Преподобный Сперджен призывал к милосердию. Роуленд Родуэй, доктор Бакнилл и преподобный Вагнер, а следом за ними и судья Уиллз обратились с просьбой о снисхождении к министру внутренних дел. Единодушны были и газеты. Для хладнокровной детоубийцы Констанс вызывала слишком большую симпатию. Не теряя времени, сэр Джордж Грей обратился к королеве с прошением о замене смертного приговора пожизненным заключением, что, в сущности, обычно означало двадцатилетний срок.
В четверг утром, 27 июля, королева Виктория приняла решение помиловать молодую женщину.[99] Начальник Фишертонской тюрьмы поспешил в камеру, где содержалась Констанс, чтобы сообщить ей новость, которую она выслушала со столь характерным для нее спокойствием: «Она не высказала ни малейшего волнения».
На той же неделе Джозеф Степлтон опубликовал в «Таймс» обращение к подписчикам газеты делать взносы в основанный им фонд помощи Элизабет Гаф. Деньги следовало пересылать на специальный счет в «Норт-Уилтс бэнк», в Троубридже. «Долгих пять лет, — говорилось в обращении, — эта женщина была лишена возможности получить хорошую работу, и препятствовали тому подозрения, висевшие над ней после убийства в доме Кентов». Степлтон заверяет читателей в «исключительной скромности (мисс Гаф) и чистоте ее сердца, преданности хозяину и его семье, неизменному мужеству и прямоте, демонстрируемых ею в период выпавших на ее долю испытаний». Степлтон также обращает внимание на трудное положение, в котором оказался Уильям Кент. «Этот молодой человек, хороший сын и преданный брат, отличается необыкновенной искренностью и немалыми дарованиями. Однако же над ним висит, не давая занять достойное место в жизни, мрачная туча неизбывного семейного горя. Неужели никто не привлечет к нему внимание властей? Неужели правительство отвергнет призыв предоставить Уильяму Кенту работу, соответствовавшую бы его образованию и наклонностям?»
Поскольку Констанс признала себя виновной, отказ Вагнера раскрыть все, что она говорила ему на исповеди, не вызвал возражений в суде (более того, Уиллз с самого начала решил, что он будет защищать право Вагнера на молчание по этому поводу — впоследствии он говорил Колриджу, что вполне признает «законное право священника не раскрывать тайны исповеди»).[100] Клирик не отвернулся от Констанс. Вместе с Кэтрин Грим он регулярно навещал ее в тюрьме.
В августе восковая фигура Констанс Кент была выставлена в Комнате ужасов Музея мадам Тюссо, рядом с двумя другими только что изготовленными изваяниями: доктора-отравителя Притчарда и Джона Уилкса Бута, убившего Авраама Линкольна на той неделе, когда Констанс исповедовалась Вагнеру. А в тот день, когда она была помещена в камеру тюрьмы Девайзеса, Бут был настигнут и застрелен.[101]
Мировые судьи Уилтшира 4 августа обратились к сэру Ричарду Мейну с предложением выплатить Уичеру и Уильямсону сто фунтов премиальных, еще в 1860 году обещанных правительством тому или тем, кто поспособствует поимке убийцы. Это, говорилось в послании, «хоть в какой-то степени послужит признанием выдающегося мастерства и проницательности, проявленных этими офицерами при выполнении своей трудной миссии». Ответа на это обращение не последовало.
В апреле, прямо перед тем как ее доставили из Брайтона на Бау-стрит, в мировой суд, Констанс отправила письмо сэру Джону Ирдли, баронету Уилмоту, принявшему в 1860 году столь живое участие в том, чтобы помочь Кентам защитить свое честное имя. Та часть этого письма, в которой она самым подробным образом объясняет, что именно подтолкнуло ее к убийству, была переправлена в июле Питеру Эдлину, работавшему по этому делу в качестве защитника. Но поскольку защита на суде представлена не была, письмо осталось фактом частной переписки. Вот сохранившийся его фрагмент:
Я совершила убийство, чтобы отомстить за мать, чье место заняла мачеха. Она жила в нашей семье с самого моего рождения и всегда относилась ко мне с добротой и любовью (ибо моя родная мать никогда меня не любила и не заботилась обо мне), и я отвечала ей тем же, как если бы она действительно была мне матерью.
Примерно с трехлетнего возраста я начала замечать, что мать занимает в доме второстепенное положение — и как жена, и как хозяйка, а главная — она. По прошествии многих лет мне вспомнились разговоры по этому поводу, которые велись при мне, так как считалось, что мне их не понять, — мол, слишком мала для этого. В то время я всегда становилась на сторону, противную матери, и когда о ней отзывались презрительно, тоже испытывала чувство презрения. Но по мере того как с годами я начала понимать, что отец любит ее, а к матери равнодушен, мое отношение начало меняться. Теперь меня втайне коробило, когда она отзывалась о матери неуважительно или с пренебрежением.
Мама умерла. С тех пор моя любовь к мачехе перешла в самую черную ненависть. Даже после смерти она продолжала говорить о маме с презрением. В такие моменты ненависть настолько переполняла меня, что я не могла оставаться с ней в одной комнате. Я принесла смертельную клятву, отреклась от религии и отдалась душой и телом духу зла, умоляя его посодействовать в выполнении моей клятвы. Сначала я собиралась убить ее, но потом решила, что эта боль пройдет слишком быстро. А мне нужно, чтобы она почувствовала мою месть. Она украла у моей матери ту любовь, что принадлежала ей по праву. Что ж, теперь я украду то, что она сама любит больше всего на свете. С этого момента я превратилась в демона, одержимого злом и стремящегося других втянуть в круг зла, постоянно ищущего возможность осуществления своего дьявольского замысла. И я нашла такую возможность.
Почти пять лет прошло, и на протяжении всего этого времени меня либо сжигал огонь безумия, поддерживавшийся жаждою сотворить зло, либо я впадала в такое отчаяние, что готова была покончить с этой жизнью при первой же возможности. В такие моменты я ненавидела всех и желала только одного — чтобы всем было так же плохо, как и мне.
А потом все переменилось. Совесть замучила меня и пробудилось раскаяние. Несчастная, потерянная, всех и во всем подозревающая, я чувствовала себя как в аду. И тогда я решила во всем признаться.
Теперь я готова заплатить за это самую высокую цену. Жизнь за жизнь — вот все, что я могу отдать, потому что само причиненное Зло непоправимо.
Я не была милосердна, так пусть никто не просит милосердия для меня — напротив, пусть всем я внушаю настоящий ужас.
Я не смею просить прощения у тех, кому нанесла такой страшный удар. Я ненавидела, так пусть и мне наградою будет их ненависть.
Это поистине прекрасный образец покаяния. При чтении этого письма, где Констанс объясняет, почему убила Сэвила — хотела причинить дурной матери такую же боль, какая была причинена матери доброй, — дух захватывает: в нем есть в одно и то же время и безумие, и своя логика, как и в самом убийстве есть хладнокровие расчета и безумие страсти. Во всем этом повествовании ощущается некая заданность, предопределенность: дикость убийства ребенка представляется как роковая неизбежность, человек ищет возможность сотворить зло и «находит» ее.
По завершении процесса Уильямсон направил сэру Ричарду Мейну отчет: «Мне стало известно, что Констанс, по ее же словам, дважды замышляла убийство мачехи, но оба раза мешали обстоятельства. Потом ее вдруг осенило: перед тем как убить ее, она убьет детей, ибо это причинит ей еще большую боль, и именно с этим чувством она вернулась домой из пансиона в 1860 году». Скорее всего узнал это Уильямсон от доктора Бакнилла, довольно подробно обсуждавшего с Констанс обстоятельства убийства. Но лишь в конце августа психиатр направил в редакции газет письмо, содержащее рассказ девушки о том, как она убила брата.
За несколько дней до убийства она завладела бритвой отца, хранившейся в зеленом ящичке среди его туалетных вещей, и спрятала ее. Это было единственное орудие, использованное ею. Приготовила она также свечу и спички, спрятав их в углу дворового туалета, где и было совершено убийство. В ту ночь она пролежала не смыкая глаз, предполагая, что к ней перед сном могут зайти сестры. Когда же, вскоре после полуночи, решила, что весь дом заснул, вышла из своей комнаты, спустилась на первый этаж и, войдя в гостиную, откинула ставни… Затем она прошла в детскую, вытащила одеяло, лежавшее между простыней и покрывалом, и повесила его на бортик кровати. Далее подняла ребенка и прошла вниз через гостиную. На ней была ночная рубашка, а в гостиной она надела калоши. С ребенком в одной руке, другой она открыла окно, обошла вокруг дома, добралась до туалета, зажгла свечу и поставила на сиденье. Все это время ребенок, завернутый в одеяло, не просыпался. Спящему она и перерезала горло. По ее словам, она думала, что не будет столько крови. И так как ей показалось, что ребенок жив, она вновь вонзила бритву ему в шею, а затем, не раскрывая одеяла бросила тело в яму. Свеча догорела. Она вернулась к себе в комнату, осмотрела одежду и обнаружила на ней только два пятна крови. Она смыла их в тазу и слила воду, почти чистую, в тазик для мытья ног. Затем надела другую ночную рубашку и легла спать. К утру первая рубашка просохла. Она аккуратно свернула ее и положила в ящик для белья. Все три ее ночные рубашки были тщательно осмотрены мистером Фоли, а также мистером Парсонсом, домашним врачом Кентов. Ночью ей показалось, что рубашку она замыла дочиста, но через день или два, осмотрев ее при свете, обнаружила, что небольшие следы все же остались. Какое-то время она прятала ее, перекладывая с места на место, и в конце концов сожгла в своей комнате, а золу собрала и ссыпала в камин. Произошло все это через пять-шесть дней после убийства. В субботу утром, тщательно отмыв бритву, она улучила момент, чтобы незаметно вернуть ее на место. Воспользовавшись тем, что горничная вышла за стаканом воды, она вынула рубашку из корзины с грязным бельем. Что касается какой-то одежды с засохшими на ней пятнами крови, обнаруженной в бойлере, то она не имеет к этому делу никакого отношения. Говоря о мотивах преступления, следует отметить, что, относясь ранее ко второй жене отца с большим уважением, она в то же время брала на заметку любое замечание, бросающее, с ее точки зрения, тень на членов первой семьи отца, и готова была отомстить за него. По отношению к Сэвилу она не испытывала никаких дурных чувств, для нее это был просто один из детей мачехи…
Узнав, что в убийстве подозревают няню, она решила, если ту осудят, непременно признаться в содеянном, а если осудят ее — совершить самоубийство. Она рассказала также, что до совершения убийства подпала под влияние духа зла, но ни тогда, ни прежде не считала, что он несет большую ответственность за данное преступление, чем за любое иное злое дело. На протяжении года до этих событий она не молилась, не молилась и потом, до самого переезда в Брайтон. Она сказала, что возрождением религиозного чувства обязана мыслям о предстоящем обряде конфирмации.
Заканчивается письмо замечанием, что хотя, с точки зрения автора, Констанс нельзя считать психически неуравновешенной, еще в детстве она обнаруживала «странные наклонности» и «поразительную твердость характера», из чего следует, что «к худу ли, к добру ли, но жизнь ей предстоит необычная». Если содержать ее в одиночке, предостерегает доктор Бакнилл, она может-таки впасть в безумие.[102]
В эмоциональном смысле исповедь, выслушанная Бакнил-лом, отличается мрачной отстраненностью, какая вообще-то свойственна такого рода преступлениям. Осуществление убийства требует подавления всех чувств. В момент гибели Сэвила внимание убийцы сосредоточивается не на трупе, а на колеблющемся пламени; «Свеча догорела».
Ясное и в то же время холодное по тону повествование несколько удивляет своей двусмысленностью. Никаких точек над i, вопреки поспешным утверждениям прессы Констанс не расставила. Как ей удалось одной рукой откинуть и расправить постельное белье, если в другой она держала крупного, почти четырехлетнего, ребенка? Каким образом, по-прежнему держа его на руках, она подняла окно в гостиной? Как ухитрилась проскользнуть через проем, даже не разбудив мальчика, а затем зажечь свечу в туалете? Зачем ей понадобилась фланелька и почему никто раньше не замечал ее в комнате Констанс? Почему на ночной рубашке оказалось лишь две-три капли крови, если она резанула мальчика несколько раз? Каким образом те, кто обыскивал дом после совершения убийства, сумели не заметить пропажи ночной рубашки, а также бритвы Сэмюела Кента? Как, наконец, девушке удалось нанести столь глубокие раны бритвой, ведь медики в один голос утверждали, что это невозможно? Правда, некоторые детали, пусть даже еще более осложняя картину, представляются убедительными: например, суеверный страх, охвативший Констанс, когда не оправдалось ее предположение, что «крови не будет очень много», трудно надумать, он кажется вполне натуральным.
«Таймс» меланхолически отмечала, что преступление, «будучи прослеженным шаг за шагом, так, кажется, и осталось странным и запутанным. Представляется очевидным, что у нас по-прежнему нет полной картины случившегося». Даже после того как прозвучало признание, остается слишком много неясного. «Дополнительного света пролилось совсем немного, — пишет „Глобал ньюс“, — показания Констанс лишь усугубляют наш ужас и смятение».
Сорок лет спустя прозвучало знаменитое утверждение Зигмунда Фрейда относительно того, сколь обреченно человеческие существа выдают самих себя и с какой определенностью читаются их мысли: «Имеющий глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, вполне может убедиться в том, что смертный не способен хранить секреты. Даже если уста его безмолвствуют, пальцы выдают его; вся его суть словно проступает сквозь поры.» Подобно автору «романа ощущений» или сверхпроницательному детективу, Фрейд создает некий образ: человеческие тайны, утверждает он, в конце концов оказываются на поверхности, образуя на ней красные и белые пятна, либо выходят на свет божий при еле заметном шевелении кончиков пальцев. И вполне возможно, в признаниях и умолчаниях Констанс Кент таится, ожидая своего часа, истинная история преступления.
Глава 18 КОНЕЧНО, НАШ НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ ЖИВ
1865–1885
В октябре 1865 года Констанс была переведена из Солсбери в Миллбанк, тюрьму на тысячу камер, расположенную на берегу Темзы. Это было «господствующее над всей местностью массивное приземистое мрачное здание с башнями, — пишет в „Принцессе Казамассиме“ Генри Джеймс, — с бурыми голыми стенами без окон и уродливыми срезанными шпилями, производящее впечатление невыразимо грустное и угнетающее… Тут были стены меж стен и галереи над галереями; здесь всегда царили сумерки, и никогда нельзя было сказать, который теперь час». Женщины содержались в крыле, известном под названием «Третий Пентагон». Перед посетителем тюрьмы, продолжает Генри Джеймс, заключенные «возникают внезапно, словно призраки в одинаковых уродливых колпаках, прячущиеся в потаенных уголках и пещерах продуваемого насквозь лабиринта». «Пенни иллюстрейтед пейпер» направила репортера ознакомиться с условиями содержания Констанс. Миллбанк показался ему «геометрическим ребусом, запутанным лабиринтом подземных, видимо, коридоров общей протяженностью три мили, с мрачными закоулками, с дверьми с двойными запорами, открывающимися под самыми разными, порой совершенно немыслимыми углами и ведущими то к какой-то потаенной двери, то, чаще, к каменной лестнице, выглядевшей так… будто она вырезана из огромного кирпича».
Констанс поместили в камеру, в которой имелись газовый рожок, умывальник, отхожее ведро, полка, оловянные кружки, солонка, тарелка, деревянная ложка, Библия, грифельная доска, карандаш, подвесная койка, постельное белье, гребень, полотенце и щетка. Свет проникал через зарешеченное окно. Подобно другим заключенным, она носила коричневую фланелевую робу. Завтрак состоял из чашки какао и черной патоки, на обед давали мясо, картошку и хлеб, а на ужин — хлеб и тарелку каши. Первые несколько месяцев заключения ей было запрещено общаться с другими арестантками, не разрешались свидания — преподобный Вагнер и мисс Грим обращались со специальной просьбой о посещении, но им было отказано. Каждый день Констанс убирала камеру и ходила в часовню. После этого она обычно работала — штопала одежду, шила чулки, делала щетки для других заключенных. Раз в неделю полагалась баня, в библиотеке можно было заказывать книги. На прогулках заключенные держали дистанцию в шесть футов; гуляли по огороженному заболоченному пустырю, окружающему тюремные здания. На севере виднелось Вестминстерское аббатство, с востока доносились речные запахи. Дом Джека Уичера, невидимый за высокими тюремными стенами, находился всего в квартале от этих мест.[103]
Сам Уичер тем временем вернулся к активной жизни. В 1866 году он женился на своей домохозяйке Шарлотте Пайпер, даме тремя годами старше его. Даже если он и был официально женат на Элизабет Грин, матери своего умершего в младенчестве ребенка, то к этому времени она, должно быть, уже почила. Церемония бракосочетания состоялась в церкви Святой Маргариты — изящном образце зодчества XVI века, расположенном на территории Вестминстерского аббатства, где в то время еще щипали траву овцы.[104]
В начале следующего года Уичер занялся частным сыском. В деньгах он не нуждался — пенсии вполне хватало, и к тому же у новоявленной миссис Уичер был независимый доход. Но теперь, когда в глазах общественного мнения Уичер был оправдан, на душе у него полегчало, мысли прояснились и вернулся вкус к расследованию.
Считалось, что частные детективы вроде Чарли Филда или Игнатиуса Поллэки воплощают самые зловещие стороны профессии. В 1858 году судья по бракоразводным делам сэр Кресуэлл обрушился «на таких типов, как Филд»: «Из всех народов мира англичане испытывают самую большую ненависть к шпионажу. Сама мысль о том, что за ними следят и каждый шаг отмечают, вызывает у них крайнее отвращение». В романе Уилки Коллинза «Армадейл» (1866) частный детектив предстает «довольно мерзкой личностью, порожденной обществом для удовлетворения своих еще более мерзких нужд. У этого „доверенного лица“ нового времени становится все больше и больше дел, а агентство его все более процветает. Вот он — вездесущий детектив… человек, профессионально готовый к тому, чтобы по одному подозрению (если только оно сможет принести ему барыш) залезть к нам под кровать и заглянуть в замочную скважину; человек этот должен был бы лишиться всего, что имеет, если бы, конечно, ему было хоть отдаленно знакомо чувство жалости или стыда». Работа оплачивалась хорошо, пусть и непостоянно. Так, в 1854 году Филду была поручена слежка за некой мисс Эванс, и получал он пятнадцать шиллингов в день плюс оплата накладных расходов; за доказательство же супружеской измены, что требовалось на случай, если муж решится на развод, полагались дополнительные шесть шиллингов в день.[105]
В своем новом качестве Уичер принял участие в самой продолжительной и самой знаменитой судебной тяжбе второй половины XIX века — в деле лже-Тичборна. В конце 1866 года в Лондоне объявился полный, с двойным подбородком джентльмен, представлявшийся сэром Роджером Тичборном, баронетом, католиком по вероисповеданию и наследником семейного состояния. Сэр Роджер погиб в кораблекрушении в 1854 году, тело его так и не было найдено. Лже-Тичборн утверждал, что на самом деле он спасся, оказался в Чили, а оттуда перебрался в Австралию. Все это время он жил в Новом Южном Уэльсе, в местечке Вага-Вага, под вымышленным именем Томас Кастро; в какой-то момент он узнал, что вдовствующая леди Тич-борн, весьма эксцентричная француженка, твердо уверенная в том, что ее сын жив, разместила в австралийских газетах объявление о его розыске.
Вдова признала в Томасе Кастро своего сына; друзья, знакомые, бывшие слуги также официально удостоверили его личность. Даже домашний врач подтвердил, что это тот самый человек, за которым он присматривал с детских лет; он также упомянул пикантную деталь — в вялом состоянии пенис пациента втягивается в пах, как у лошади. С другой стороны, многие из тех, кто хорошо знал сэра Роджера, видели в этом типе лишь жалкого самозванца. Подчас этот человек поражал своей памятью: так, например, он обратил внимание на то, что за время его отсутствия одна из картин в поместье Тичборнов была реставрирована, — но при этом делал элементарные ошибки и даже, казалось, забывал слова своего родного французского языка.
Один из таких скептиков, а именно лорд Арундел из Виндзора, связанный с Тичборнами родственными узами, нанял Уичера, чтобы тот разоблачил самозванца. Детективу был обещан щедрый гонорар, если он будет работать по делу с полной отдачей сил и времени. На протяжении последующих семи лет это дело привлекало к себе внимание не только Уичера, но и всей страны. Могло показаться, что решение этого запутанного ребуса, оттеснило на второй план все другие проблемы в стране. «Словно демон какой-то вселился в сознание англичан», — отмечал один адвокат в 1872 году, а два года спустя газета «Обсервер» констатировала, что «трудно припомнить время, когда человеческое сознание было бы столь же безраздельно поглощено каким-то предметом».
За спиной Уичера было два десятка лет подобной работы: тайной слежки, соглядатайства, поисков свидетелей, балансирования между ложью и полуправдой, выуживания информации у людей, не склонных к разговорам, установления личности по фотографиям, психологической оценки людей. Используя конфиденциальную информацию, полученную от одного австралийского детектива, Уичер начал с прочесывания Уоппинга, бедного городского района, прилегающего к докам на востоке Лондона. Ему удалось выяснить, что на Рождество 1866 года, едва сойдя на английский берег, лже-Тичборн зашел в трактир «Глобус» на Уоппинг-Хай-стрит, заказал шерри и сигару и принялся расспрашивать о семействе Ортон. Интерес свой он объяснил тем, что действует по поручению Артура Ортона, своего знакомого австралийского мясника. Уичер заподозрил, что этим мясником сам же он и является.
Месяц за месяцем Уичер рыскал по улицам Уоппинга. Он выявил местных жителей, знавших Ортона — трактирщиков, бакалейщиков, мастеров, изготовляющих паруса, и многих других, — и принялся методически наезжать в Кройдон, район в южной части города, где поселился самозванец. Один за другим доверенные люди детектива из местных встречались с ним на вокзале Лондон-Бридж, затем доезжали до Кройдона и ждали там, пока лже-Тичборн выйдет из дома или появится в окне. Многие, хотя и не все, узнали в нем Артура Ортона. Если он оказывался на улице, Уичер тут же отходил за ближайший угол. По словам одного из свидетелей, «он говорил, что его не должны здесь видеть, — это может вызвать подозрения и заставит этого типа отсиживаться дома». Уичер разыскал Мэри-Энн Лодер, бывшую приятельницу Ортона, клятвенно заверившую, что лже-Тичборн тот самый мужчина, что бросил ее в 1852 году и уехал искать счастье за океан. Она оказалась важной свидетельницей. Так, ею было подтверждено, что у Ортона действительно втягивающийся в пах пенис.
Уичер широко раскинул свои сети. Он не только собирал факты, свидетельствующие против лже-Тичборна, но и пытался перевербовать тех, кто выступал на его стороне. В октябре 1868 года он нанес визит одному из его главных поверенных, некоему мистеру Раусу, владельцу поместья Суон в Элресфорде, графство Гэмпшир. Заказав стакан грога и сигару, детектив спросил его: «Так, стало быть, вы верите этому человеку?»
— Вполне, — ответил Раус. — У меня нет ни малейших сомнений в том, что он тот, за кого себя выдает. Только ведет себя глупо.
— Вынужден вас разочаровать, мистер Раус. Это не так. Боюсь, то, что вы от меня услышите, сильно вас огорчит. — И Уичер принялся разоблачать придуманную лже-Тичборном историю.
Весивший на момент прибытия в Англию приблизительно двести восемьдесят фунтов (семьдесят килограммов), он полнел прямо на глазах. Его сторонники из рабочей среды видели в нем героя, выступавшего против аристократии и католической церкви, стремившихся унизить его за вульгарные манеры и язык, перенятые им от австралийских бушменов. Таким образом, Уичер вновь работал на высшее общество и вновь против того класса, к которому принадлежал по рождению, — он был отступником, он был и остался типичным полицейским.
Когда лже-Тичборн в 1871 году обратился в суд с претензией на управление семейными имениями, Тичборны наняли защищать свои интересы сэра Джона Дьюка Колриджа, того самого адвоката, что выступал в суде от имени Констанс Кент. На протяжении всего процесса противная сторона, как и при расследовании убийства в доме на Роуд-Хилл, пыталась дискредитировать Уичера и представленные им доказательства. Адвокаты же истца жаловались на то, что их клиента постоянно «преследуют» детективы, особенно один из них. «Считаем, что именно в его голове и родилась вся история Артура Ортона, — заявляли адвокаты. — Думаем, нам еще предстоит узнать, как именно она была состряпана. Нам не нравятся такие люди. Они абсолютно безответственны и не представляют никакой организации, никто не требует от них отчета в их поведении. Они не принадлежат к государственной полиции, это любители, многие из них — доживающие свой век офицеры, зарабатывающие частным сыском хорошие деньги. Не обвиняя их перед лицом высокочтимого суда в том, что они подтасовывают факты, хотим, однако же, напомнить, что подобная практика может применяться для того, чтобы представить в искаженном виде и все дело».
В 1872 году истец проиграл процесс, и против него немедленно было выдвинуто обвинение в лжесвидетельстве. И вновь адвокаты претендента — на сей раз возглавляемые ирландцем Эдвардом Кинели — попытались бросить тень на Уичера, на сей раз обвиняя его в том, что он подкупал своих свидетелей и натаскивал их на вопросах-ответах. Кинели не раз обрывал показания свидетелей обвинения едкими репликами: «Полагаю, вы с Уичером не одну рюмку выпили, обсуждая это дело?»
Дело об убийстве в доме на Роуд-Хилл научило Уичера не обращать внимания на подобные колкости, смотреть на ситуацию шире. Он обрел былую уверенность в себе. Уичер писал другу: «Наверное, тебе приходилось слышать, как полощут мое имя в связи с делом Тичборна. Не знаю, удастся ли мне вынести все инсинуации и клевету со стороны… Кинели (как удалось в деле об убийстве в доме Кентов), но в чем я твердо убежден, так это в том, что этот Артур Ортон — самозванец. Твой старый друг Джек Уичер».[106]
В 1874 году лже-Тичборн был признан виновным и осужден на четырнадцать лет тюрьмы. Отбывал он срок в Миллбанке. Адвокат Тичборнов пытался убедить семью выплатить Уичеру премиальные — сто гиней, — однако за столь эффективное его участие никаких свидетельств, последовали ли они этому совету, не сохранилось.
Джек Уичер по-прежнему жил с Шарлоттой на Пейдж-стрит, в доме 63, невдалеке от Миллбанка. Раньше это был дом 31 по Холивелл-стрит, теперь и улицу переименовали, и номер дома изменили. Его племянница Сара съехала в 1862 году, выйдя замуж за Джеймса Холивелла, племянника Шарлотты. Он был одним из первых, кого наградили Крестом королевы Виктории за участие в подавлении индийского восстания 1857 года. Как писали газеты, он, будучи блокирован в одном из домов в Лакнау, «вел себя в высшей степени достойно, всячески подбадривая своих девятерых соратников, заметно павших духом… Ему удалось поднять их настроение и организовать эффективную защиту пылающего дома, обстреливаемого противником со всех сторон». Сейчас Джеймс и Сара вместе с тремя своими сыновьями жили в Уайтчепеле, на востоке Лондона. У Джека и Шарлотты своих детей не было, но у них в доме регулярно (с пятилетнего возраста) появлялась некая Эми Грей, родившаяся в 1856 году в Кембервелле, а в метрическом свидетельстве, выписанном в 1871 году на имя Эммы Сэнгвейз, появившейся на свет в том же Кембервелле в 1863 году, значилось, что она является воспитанницей Уичера. Истинная природа взаимоотношений супружеской пары с этими девочками остается загадкой, однако же связь с ними не прерывалась до самой смерти Уичера и его жены.[107]
В январе 1868 года, когда Уичер отыскивал в Уоппинге свидетелей, журнал «Круглый год» опубликовал первые главы романа Уилки Коллинза «Лунный камень». Публикация немедленно сделалась бестселлером. «Весьма любопытное повествование, — заметил Диккенс, — захватывающее и одновременно какое-то очень домашнее». В «Лунном камне», книге, породившей всю детективную литературу, прослеживаются многие черты подлинного расследования, проведенного некогда в доме на Роуд-Хилл: преступление, совершенное в сельской местности и при этом непременно кем-то из домашних; тайная жизнь под прикрытием полного благополучия; туповатый и надутый местный полицейский. События и поведение персонажей на первый взгляд свидетельствуют об одном, а оборачиваются чем-то совсем другим; одинаково подозрительно ведут себя виновные и ни в чем не повинные. Что объясняется просто: каждому есть что скрывать; множество, по словам рецензента, «подлинных и ложных следов» (выражение «красная селедка» — то, что бросают на землю, чтобы сбить со следа ищеек, впервые было употреблено в метафорическом значении «ложного следа» только в 1884 году). В обоих случаях причины преступления таятся в прошлом: грехи отцов ложатся на детей как проклятие. Те же ходы использовались впоследствии авторами детективов — преемниками Коллинза; воспроизводили они также атмосферу призрачности и неопределенности происходящего, столь характерную для «Лунного камня». Один из его персонажей называет этот феномен «атмосферой тайны и подозрительности, в которой все мы сейчас живем».
Правда, от живописания ужасов Коллинз отказывается: вместо детоубийства в «Лунном камне» — кража драгоценностей, вместо пятен крови — пятна краски. Тем не менее в сюжете легко угадываются некоторые особенности реального события: запачканная пропавшая ночная рубашка; список белья, подтверждающий эту пропажу; известный детектив, которого вызывают в провинцию из Лондона; его появление в доме, повергающее семью в смятение; грубость представителя низов, обвиняющего в краже девушку, принадлежащую к среднему классу. А самое важное сходство заключается в том, что, создавая образ «прославленного Каффа»,[108] этого эталонного героя детективного романа, автор явно имел в виду Уичера. Прочитав роман сразу же после его появления, семнадцатилетний Роберт Луис Стивенсон писал матери: «Замечательный, право, образец детективной литературы». Внешне Кафф — сухопарый пожилой мужчина, с орлиным носом — абсолютно отличается от Уичера. Но по характеру они схожи. Кафф — человек меланхолический, с острым умом, загадочный, скрытный: в работе он предпочитает «кружные» и «подпольные» пути, с тем чтобы побудить людей наговорить больше, чем они намеревались. Взгляд его, направленный на тебя, чрезвычайно смущает каким-то неуловимым лукавством, так словно он ожидает от тебя чего-то такого, что ты сам о себе не знаешь. Вместе с фактами, укрываемыми сознательно, Кафф стремится вытянуть из людей их подсознательно хранимые тайны. Он явно контрастирует с героями «романов ощущений», выступая в роли думающей машины, проникающей в психологические глубины и оценивающей смутные побуждения других персонажей. Уподобляя себя Каффу, читатель получает возможность несколько отстраненно воспринимать острые ситуации, порождаемые динамично развивающимся сюжетом, физическим возбуждением, дрожью надвигающейся угрозы, хотя именно эти ощущения он и стремится получить от чтения детектива. При этом лихорадка чувства сменяется «детективной лихорадкой», обжигающей героев романа и его читателей властной потребностью разгадать загадку. В этом смысле детективный роман как бы усмиряет «роман ощущений»: бурное чувство он помещает в тенета красивой интеллектуальной структуры. Былое безумие уступает методологии. Именно сержант Кафф превратил «Лунный камень» в образец нового литературного жанра.
И тем не менее в отличие от детективов, им же порожденных, Кафф находит ответ, оказывающийся ложным. «Должен признать, что я все только запутал», — говорит он. Кафф ошибается, полагая, что преступница — дочь хозяина дома: «скрытная, дьявольски своенравная, непредсказуемая и страстная» мисс Рэчел. А на самом деле она обнаруживает большее благородство, нежели способна вообразить себе его полицейская натура. Отражая в каком-то смысле реальные события, происшедшие в доме на Роуд-Хилл, автор романа игнорирует официальный вердикт суда — виновность Констанс Кент — и, напротив, акцентирует сомнения, все еще витающие вокруг убийства. На страницах романа словно возникают сомнамбулические видения, совершаются бесконтрольные поступки, происходит раздвоение личности в ходе расследования, зарождаются поражающие воображение версии. И все это берет свое начало с убийства Сэвила Кента. В конце концов у Коллинза загадка лунного камня разрешается тем, что непредсказуемая и страстная мисс Рэчел навлекает подозрение на себя, чтобы отвратить его от кого-то другого.
В одной из статей 1927 года Т. С. Элиот сравнил «Лунный камень» с прозой Эдгара Аллана По и Артура Конан Дойла, отдав предпочтение первому:
Детективный сюжет, в той форме, в какой его разработал По, сопоставим по своей специфике и интеллектуальной сложности с шахматной задачей, в то время как английская детективная литература в лучших своих образцах в гораздо большей степени базируется на непостижимости человеческой натуры, нежели на красоте математической задачи… лучшие герои английской детективной прозы могут, подобно сержанту Каффу, заблуждаться.
При жизни Коллинза часто говорили, что, будучи мастером построения сюжета, он все же неглубоко проникает во внутренний мир создаваемых им персонажей. В отличие от таких своих современников, как Джордж Элиот, он основывает свое повествование на внешних, а не на внутренних качествах. Генри Джеймсу его книги казались «образцами искусства мозаики», потом он, правда, уточнял: «это не столько произведения искусства, сколько произведения науки».
В мае 1866 года Сэмюел Кент вновь обратился в министерство внутренних дел с просьбой уравнять пенсию с заработной платой, выросшей к апрелю, когда он закончил свою тридцатилетнюю служебную деятельность, до пятисот фунтов. «После смерти сына, — писал он в своем обращении, — семья переживает неописуемую боль и страдание, невероятно усиленное теми признаниями, к которым в конце концов подтолкнули мою дочь Констанс муки раскаяния. Попытки найти убийцу и защитить семью заставили залезть в долги. Здоровье второй жены серьезнейшим образом пошатнулось — миссис Кент теряет зрение и превращается в беспомощную жертву неизлечимого паралича, так что приходится и за женой ухаживать, и четырех детей опекать».
В августе, к крайнему разочарованию Сэмюела, министерство назначило ему пенсию в двести пятьдесят фунтов — половину того, что он просил, но максимум того, что разрешает закон. Он предпринял отчаянную попытку взять заявление об отставке назад. В министерстве поинтересовались, есть ли у него возможности выполнять прежние обязанности. В конце августа он отвечал, что больше у него нет нужды ухаживать за женой — Мэри Кент, в девичестве Пратт, умерла в начале этого месяца от гиперемии легких в возрасте сорока шести лет.[109]
Министерство внутренних дел не возражало против возвращения Сэмюела Кента на должность помощника инспектора. Тем летом он получил от эдинбургской «Дейли ньюс» двести пятьдесят фунтов в качестве компенсацию за оскорбление чести и достоинства, выразившееся в том, что газета опубликовала статью, изображавшую его вторую жену женщиной заурядной и жестокой. Вместе с четырьмя детьми от второго брака — Мэри-Амалией, Эвелин, Эклендом и Флоренс — Сэмюел направился на север, в валлийский городок Денбай, где нанял гувернантку из Австралии и еще двух слуг. Старшие дочери, Мэри-Энн и Элизабет, уехали в Лондон. Уильям, получив по достижении совершеннолетия (в июле) причитавшуюся ему по наследству тысячу фунтов, тоже отправился в столицу.
Всю зиму 1867 года Уильям[110] посещал вечерние занятия в Кингз-колледже, где изучал «новую науку», основанную Дарвином и его последователями. Особый интерес Уильям проявлял к микроскопии (в доме Кентов был микроскоп, а также два телескопа). Не прошло и года, как он был избран членом Общества микроскопии. Один из наиболее влиятельных ученых своего времени, биолог Томас Хаксли, стал спонсором Уильяма. Он всячески поощрял молодого человека изучать инфузорий и одноклеточных водяных бактерий.
За страстную защиту идей великого натуралиста его называли «бульдогом Дарвина». Именно Хаксли придумал название для процесса восстановления прошлого путем наблюдения за настоящим — «ретроспективное пророчество».[111] Исследователь естественной истории стремится проникнуть мысленным взором в прошлое, так же как пророк вглядывается в будущее. «Как жаль, что нет такого слова — „бэктеллер“[112] (повествователь о том, что было)!» — восклицал Хаксли.
Уильям Кент был страстно увлечен всякими крохотными объектами, так как в них, считал он, таятся большие тайны. Пять лет он провел в Кембриджском зоологическом музее, а затем в Королевском медицинском колледже, где изучал беспозвоночных животных. Потом он поступил на работу в зоологический отдел Британского музея.
Чарлз Диккенс умер в 1870 году, оставив незаконченным роман «Тайна Эдвина Друда». Случилось так, что из-за кончины автора книга стала классическим образцом повествования об убийстве, и интерес к этой истории не иссякал в поколениях. «Быть может, Диккенс — единственный среди сочинителей детективной литературы, кому не было суждено дожить до того, чтобы пришлось раскрывать свою тайну, — писал Гилберт Кит Честертон. — Может, Эдвин Друд умер, а может, и нет, но что не умер Чарлз Диккенс — это точно. Конечно, наш настоящий детектив жив и в свой срок появится на земле. Ибо законченное повествование может обеспечить человеку бессмертие в поверхностном, литературном смысле, а незаконченное подразумевает иное бессмертие, более глубокое и более таинственное».[113]
В 1865 году Чарлз Диккенс, подобно многим, был вынужден отказаться от своей уверенности в том, что убийство в доме на Роуд-Хилл совершили Сэмюел Кент и Элизабет Гаф. Словно бы возвращаясь к этой истории, он изображает в своем последнем романе брата и сестру, напоминающих Констанс и Уильяма Кент. Рано осиротевшая, ни на кого не похожая Елена часто убегала с Невиллом Лэндлессом из дома, где близнецам так плохо жилось. «Никакая жестокость не могла заставить ее покориться, хотя я часто вынужден смиряться, — говорит Невилл. — Когда мы убегали из дома (а за шесть лет мы убегали четырежды, только нас неизменно ловили и жестоко наказывали), план бегства составляла и вожаком была всегда она. Всякий раз она переодевалась мальчиком и выказывала отвагу взрослого мужчины. В первый раз мы удрали, кажется, лет семи, но я как сейчас помню — я тогда потерял перочинный ножик, которым она хотела отрезать свои длинные кудри, и с каким же отчаянием она пыталась их вырвать или перегрызть зубами!» Быть может, вожаком Елена и была, но Невилл не зря признается и в своем «тигрином нраве» и агрессивных устремлениях. В хитроумии и умении ненавидеть он не отстает от сестры: «С тех самых лет, как я себя помню, мне приходилось подавлять неутолимую, смертельную ненависть. Это сделало меня замкнутым и мстительным».
Диккенс представляет этих двоих в виде загадочных, чуждых миру существ: «Оба чуть-чуть диковатые, какие-то неручные; на первый взгляд они охотник и охотница — но нет, ведь скорее это их преследуют, а не они ведут травлю. Тонкие, гибкие, быстрые в движениях, застенчивые, но не смирные, с горячим взглядом. Что-то есть в их лицах, в их позах, в их сдержанности, что напоминает пантеру, притаившуюся перед прыжком, или готового спастись бегством оленя».
В январе 1872 года у Сэмюела Кента начались серьезные осложнения с печенью, и Уильям поехал к нему в Уэльс. Сидя у отцовской постели, он написал письмо свому научному руководителю, одолжившему ему пять фунтов на проезд: «Мне нет нужды говорить, сколь признателен я за возможность какое-то время побыть с ним и хоть в чем-то быть полезным». 5 февраля в Британский музей пришло еще одно письмо: «Все кончено! Полагаю, траур, в котором мы все пребываем, является достаточным оправданием для того, чтобы я задержался здесь еще на несколько дней». Сэмюел был похоронен рядом со второй женой на кладбище в Лэнголлене. Деньги он завещал детям от второго брака, с условием, что получить их те смогут по достижении совершеннолетия. Опекунами были назначены Уильям и владелец «Манчестер гардиан» — по-видимому, друг семьи.[114]
Через четыре месяца после смерти отца Уильям женился на дочери адвоката Элизабет Беннет и переехал в Сток-Ньюингтон. По просьбе Уильяма его новоиспеченный тесть подал апелляцию о досрочном освобождении Констанс, но она была отклонена. В 1873 году Уильям был назначен на должность штатного биолога в брайтонском океанарии. Здание океанария с аркадами в неоготическом стиле, выходящими на набережную у пирса, поражало своими масштабами. Поселились они с женой неподалеку от побережья.
Постоянный интерес публики к обитателям океанария обеспечивал его рентабельность и стимулировал изучение морской фауны, но Уильяму казалось, что люди, финансировавшие все это предприятие, считали должность штатного естественника «ненужной роскошью» и относились к нему с явной антипатией. Не находил он общего языка и с коллегами. Как-то раз Уильям упрекнул одного из младших сотрудников в том, что тот его подсиживает, и в результате был обвинен в некорректном поведении. Дело было так. Он договорился с сотрудником, с которым совместно изучал соитие спрутов, написать в соавторстве статью. Затем кое-какие данные наблюдений Уильяма появились в виде письма в «Таймс», и несостоявшийся соавтор обвинил его в двойной игре. Уильям обозлился и отказался от дальнейшего сотрудничества с океанариумом. Вообще для него свойственно было обращаться с людьми жестко, без сантиментов. Возможно, это было обусловлено его полной поглощенностью своим делом.
На следующий год Уильям был назначен хранителем и одновременно научным сотрудником нового океанария в Манчестере. Он заменил аквариумы, наладил систему циркуляции воды и решил проблему сохранности морских водорослей в искусственных условиях. В 1875 году им была выпущена книжка-путеводитель с описанием «подведомственных» ему существ; на страницах ее возникает целый подводный мир со своими драмами, жертвами и хищниками. Тех и других автор описывает с неизменной любовью и восхищением, указывая на «красивые выразительные глаза» гладкой морской собачки из аквариума номер тринадцать, «маленького храброго рыцаря», охраняющего своих «жен»; в аквариуме номер шесть живет «на редкость драчливый» краб, готовый на куски разорвать своих собратьев; а в аквариуме номер десять помещен «пятнистый налим», чье верхнее веко на протяжении всего дня «совершенно прикрывает глаз. С наступлением темноты эта перепонка полностью втягивается внутрь, открывая блестящее глазное яблоко».
Работая в манчестерском океанариуме, Уильям обнаружил, что морские коньки общаются при помощи звуков.
«Установить это удалось следующим образом, — пишет автор путеводителя. — В прошлом году, в первых числах мая, большая часть образцов этого прекрасного собрания уникальных рыбок была доставлена в Англию из Средиземноморья… Кое-какие из особей сразу же обратили на себя внимание своей окраской — ярко-красной, или бледно-розовой, или желтой, иногда беспримесно-белой… Некоторых автор этих строк перенес на несколько дней в отдельное помещение, чтобы сделать беглые цветные наброски. Большинство было помещено в обыкновенную, только перевернутую вверх дном стеклянную вазу, а несколько рыбок изолированы на короткое время в резервуаре поменьше. В какой-то момент из большой вазы, стоявшей на столике у стены, послышались резкие равномерные звуки, сразу же встретившие точно такой же отклик из другой посудины, стоявшей рядом. Можете себе представить восторг и изумление, когда выяснилось, что исходят они от рыбки, ранее считавшейся „немой“. Более пристальные наблюдения показали, что производятся звуки в результате сложных мускульных сокращений и внезапного расширения нижней челюсти».
В 1875 году от заворота кишок в двадцатипятилетнем возрасте скоропостижно скончалась жена Уильяма Элизабет.[115] Через год он женился вновь — на Мэри-Энн Ливси, привлекательной тридцатилетней женщине, и переехал в Лондон, где его ждала работа смотрителя нового Королевского океанариума — величественного сооружения прямо напротив Вестминстерского дворца. Несколько лет спустя он уже считался одним из крупных специалистов по морской фауне. В 1881 году Уильям опубликовал третий, и последний, том своего девятисотстраничного «Справочника инфузорий» с авторскими иллюстрациями крохотных существ, обитающих в подводном мире. В мае того же года у себя дома, на Стивен-авеню, 87, его жена разрешилась мертвым ребенком.
Около 1880 года Джек и Шарлотта Уичер переехали южнее и поселись у подножия Лавандер-Хилл, рядом с парком Беттерси. Этот район, расположенный в миле от Вестминстера, славился своими садами и огородами, напоминая в этом смысле деревню, в которой вырос Уичер, разве что клумбы и грядки тут были скрыты за рядами коттеджей. К дому Уичеров (Камберленд-Виллас, 1) примыкал обширный — самый большой в квартале — сад, выходивший на пробегающую внизу железную дорогу. А перед домом, с января 1881 года, постоянно громыхала конка. Прямо напротив находилась одна из последних плантаций лаванды.
Летом 1881 года Уичер заболел гастритом, и 29 июня, в результате прободения желудка, он скончался в возрасте шестидесяти шести лет. У смертного одра была его подопечная, Эми Грей, ныне двадцатипятилетняя шляпница; в свидетельстве о смерти она фигурирует как племянница Уичера. Он завещал ей сто пятьдесят фунтов и золотые швейцарские часы. Сто фунтов он оставил Эмме Сангвейз, другой девушке, в которой они с женой принимали участие, триста фунтов — племяннице Саре Холивелл. Завещал сто пятьдесят фунтов, золотые часы, цепь и печатку своему другу Джону Поттеру, работавшему в одном из правительственных учреждений секретарем, и еще сто фунтов — другу и ученику Уильямсону, к тому времени главному суперинтенданту Скотленд-Ярда. Двое последних были названы в завещании душеприказчиками. Все остальное достояние Уичера — около семисот фунтов — отошло его жене.
Краткий — всего три фразы — некролог был опубликован в «Полис газетт». К тому времени Уичер был почти забыт. При всем блеске, с каким он расследовал дело об убийстве в доме на Роуд-Хилл, Уичер оказался бессилен дать публике то, чего она так жаждала, — полной определенности, а также избавить от зла, свидетелем которому стал. Он был наказан за неудачу, и с тех пор героями детективы становились в Англии лишь на страницах книг.[116]
После смерти мужа Шарлотта, вместе с Эми Грей и Эммой Сангвейз, переехала к Джону Поттеру, на Сондерс-роуд. Она умерла в январе 1883 года, в возрасте шестидесяти девяти лет, оставив почти все состояние Эми и Эмме. Единственным своим душеприказчиком она назначила Уильямсона.
Уильямсон стал «спокойным непритязательным пожилым мужчиной, — вспоминает знаток истории полиции и начальник тюрьмы майор Артур Гриффитс. — Он лениво расхаживал по Уайтхоллу, то и дело поправляя на голове шляпу, несколько великоватую для него. Часто меж губ у него торчала травинка или цветок. По природе это был человек весьма скрытный, никто не мог вытянуть из него подробностей многих больших дел, „распутанных им“. Он любил потолковать, например, о садоводстве, ставшем для него настоящей страстью; его цветы были знамениты в округе, где он проводил свободное время».[117]
За склонность к рассуждениям как таковым и любовь к разного рода интеллектуальным упражнениям главного суперинтенданта называли Философом. Поговаривали также, что он руководит полицейскими операциями из-за стола, словно играя в шахматы. Один сослуживец отзывается о нем следующим образом: «Шотландец с головы до пят, надежный, трудолюбивый, настойчивый, флегматичный, упрямый, неторопливый, храбрый, всегда имеет свое мнение и никогда не страшится высказать его, относящийся с осторожностью к новым идеям. При всем том у этого человека настолько ясный ум, он так честен и терпим, что его смело можно назвать исключительно бескорыстным и ценным слугой общества». Уильямсон был полной противоположностью Чарли Филду, первому напарнику Уичера, который, казалось, упивался своей близостью к преступному миру. Эта парочка словно подпирала Уичера с разных сторон, демонстрируя, сколь широко само это понятие — детектив Викторианской эпохи. Филд, едва ли не впавший в семидесятых годах в нищету,[118] напоминает безрассудно храбрых преследователей воровского сословия XVIII века, а Уильямсон выглядит как прообраз осмотрительных полицейских боссов века XX.
На печально знаменитом процессе 1877 года некоторые из подчиненных Уильямсона были признаны виновными в коррупции, что подтвердило распространенное мнение, будто детективы, находящиеся на государственной службе, — люди своекорыстные и двуличные. По слухам, Уильямсон был потрясен этим вердиктом. На следующий год он возглавил управление криминальных расследований, и хотя дело Джека-потрошителя рассматривалось еще при нем — шел 1888 год, — здоровье его слишком пошатнулось, чтобы принимать в деле активное участие. По словам одного комиссара полиции, «постоянное напряжение и чрезвычайно изнурительная работа преждевременно вымотали его». Он умер в 1889 году, пятидесяти восьми лет от роду, оставив жену и пятерых детей. Шестеро детективов несли усыпанный цветами гроб Уильямсона в церковь Святого Иоанна, что находилась прямо напротив его дома, на Смит-сквер, рядом с Вестминстером.[119]
Констанс Кент переводили из тюрьмы в тюрьму — из Миллбанка в Паркхерст, на острове Уайт, затем в Уокинг, в графстве Суррей, оттуда обратно в Миллбанк. В Паркхерсте она составляла мозаику и геометрические фигуры; выполненные на рабочей доске, они переправлялись затем в церкви южной Англии и выкладывались на полу: в церкви Святой Катарины в Мерстэме, графство Суррей; в церкви Святого Петра в Портленде, графство Дорсет; в церкви Святого Суитона в Ист-Гринстеде, графство Суссекс. Констанс оказалась способной художницей. В Уокинге она делала мозаику для крипты лондонского собора Святого Павла. Как и брата Уильяма, ее притягивали миниатюрные вещи, некие фрагменты, таящие в себе разные истории. Среди изображений, украшающих пол крипты собора Святого Павла, есть круглое личико младенца с широко раскрытыми, словно от изумления, глазами, а над головой его простерты крылья.[120]
В Миллбанке Констанс работала попеременно на кухне, в прачечной и лечебном изоляторе, представлявшем собой, по описанию Генри Джеймса, вереницу «комнат с голыми стенами и зарешеченными окнами», залитых «болезненно-желтым светом». Майор Артур Гриффитс, в ту пору заместитель начальника тюрьмы, одобрительно отзывался о ее работе в изоляторе: «К больным, находившимся на ее, как сиделки, попечении, она относилась с исключительным вниманием». В его мемуарах Констанс предстает как «маленькое, похожее на мышку существо, умеющее с проворством той же мышки или ящерицы скрываться при малейшей угрозе. А угроза, настоящая опасность, виделась ей в любой незнакомой личности: у нее сразу же возникал страх, что этот человек собирается следить за ней. Стоило кому-нибудь спросить: „Кто из вас Констанс“, — как она стремительно скрывалась, демонстрируя при этом и ловкость, и находчивость. Эта девушка — сплошная загадка. Почти невозможно поверить, что это маленькое безобидное существо могло перерезать горло ребенку, своему брату, да еще с такой жестокостью. Можно не сомневаться, что антрополог-криминалист выявил бы в ее внешности черты, свидетельствующие о преступных инстинктах: высокие скулы, густые нависающие брови, глубоко посаженные маленькие глаза, — но манеры у нее были весьма приятные, а ум — исключительно острый».[121]
В другой книге воспоминаний Гриффитс пишет об умении молодой женщины быть совершенно незаметной: «В Миллбанке Констанс Кент походила на привидение — двигалась совершенно бесшумно, почти невидимо… Она ни с кем не заговаривала, и к ней никто не обращался, относясь с неизменным уважением к ее стремлению оставаться незаметной. Даже имени ее не упоминалось».[122]
В 1877 году Констанс обратилась к Ричарду Кроссу, министру внутренних дел в правительстве консерваторов во главе с Бенджаменом Дизраэли, с просьбой о досрочном освобождении. К Кроссу также адресовался от ее имени мистер Беннет, бывший тесть Уильяма. В обоих случаях был получен отказ. Тем летом тюремный врач порекомендовал начальству освободить Констанс от требовавшей немалых физических усилий работы на кухне, в помещении мрачном и унылом, заменив ее шитьем. Он полагал, что стоило бы подумать о переводе ее в другую тюрьму — она слабеет, и «перемена атмосферы» могла бы пойти ей на пользу. В то же время врач не советовал возвращаться в Уокинг ввиду «той антипатии, которую по той или иной причине она там вызывает». Ближе к концу года Констанс была переведена в женскую тюрьму Фулхэм, на юго-востоке Лондона, где содержались четыреста заключенных.
Оттуда Констанс вновь апеллировала к Ричарду Кроссу. В качестве аргументов она приводила свой юный возраст в момент совершения убийства, искреннее раскаяние, добровольное признание, примерное поведение в тюрьме. В своем непоследовательном, сбивчивом послании Констанс пыталась объяснить причины, толкнувшие ее на преступление: «Непреодолимая ненависть к женщине, научившей ее презирать и отталкивать собственную мать, укравшей у матери любовь и мужа, и дочери; ощущение того, что с матерью поступают дурно, усилившееся после ее смерти, неизменные насмешки и сарказм, с которыми мачеха отзывалась о матери, — все это взывало к отмщению, тем более что душевная агония матери не прекращалась».
И на сей раз ей тоже было отказано. В 1880 году, и через год, и еще через год она вновь взывала к милосердию, добавляя к перечню своих невзгод ухудшающееся зрение (в глаз попала какая-то инфекция) и «угнетающие обстоятельства» ее пребывания в тюрьме. Все эти три апелляции отклонил сэр Уильям Вернон Харкурт — новый министр внутренних дел в правительстве либералов во главе с Уильямом Гладстоном. Письма в поддержку Констанс распространял преподобный Вагнер, а также следовавшие его примеру другие деятели церкви — в частности, епископ Бломфонтен. В 1883 году Констанс обратилась (столь же безрезультатно) с очередной петицией и на будущий год оказалась на грани отчаяния. «Я просидела в тюрьме почти двадцать лет, — взывала она, — без проблеска надежды на лучшую долю… сколько себя помню, жизнь протекала в заточении, будь то школа, монастырь или тюрьма, а сейчас передо мною открывается лишь мрачное будущее — приближение старости, сменяющей молодые годы, проведенные в тоскливом ожидании и рвущей сердце тоске, в полной изоляции от того, что делает жизнь хоть сколько-нибудь стоящей, в атмосфере, угнетающей и тело, и душу».
И вновь Харкурт поставил резолюцию: «Отказать».[123]
Лишь отсидев ровно двадцать лет, от звонка до звонка, Констанс Кент 18 июля 1885 года вышла на свободу.
Глава 19 РЕАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ
1884
В 1884 году Уильям со второй женой отплыли в Тасманию. Он дал согласие на предложение занять в этой колонии должность суперинтенданта и инспектора рыбного промысла с окладом триста пятьдесят фунтов в год. Свое второе имя он объединил с фамилией и назывался теперь Уильямом Сэвилом Кентом. Его сестра по отцу Мэри-Амалия, ныне женщина двадцати девяти лет, отправилась с ними; до этого она работала гувернанткой двух девочек на одной из уилтширских ферм. Через два года к ним в Хобарт, столицу островной провинции Австралии, приехали трое других родичей Уильяма — сначала Экленд (тогда ему было двадцать шесть, и до отъезда он торговал полотнами в Манчестере), затем Эвелин (та самая малышка, что спала в детской дома на Роуд-Хилл в ночь убийства Сэвила; теперь ей было уже двадцать восемь), и, наконец, двадцатипятилетняя Флоренс.
Главная задача Уильяма в Тасмании заключалась в том, чтобы навести порядок в рыбопромысловой области, пришедшей на грань разорения; в результате бесконтрольного сбора устриц, издавна составлявшего основную статью дохода здешнего рыболовства, предстояло также выработать меры, способствующие разведению лососевых в водах этой колонии. Естественно, вскоре он нажил на этом поприще врагов. Коллеги по контролю за рыбным промыслом жаловались на то, что он «пренебрегает своими прямыми обязанностями» ради каких-то экспериментов. Дело в том, что Уильям оборудовал у себя дома в Хобарте огромный инкубатор по разведению мальков. Уильям «весьма непочтительно отзывался о своих товарищах по работе, называя их невеждами», во всеуслышание утверждая, что тасманцы вовсе не уделяют должного внимания лососевым, интересуясь только форелью. Его контракт истек в 1887 году.
Несмотря на столь резкие заявления, таланты Уильяма оказались востребованы в других частях Австралии. На протяжении последующего десятилетия он занимал пост советника при правительствах штатов Виктория, Квинсленд и Западная Австралия. Сначала он прибыл на юг, в Мельбурн, столицу штата Виктория, город, известный в 80-е годы как «Красавец Мельбурн», или «Париж Южного полушария». В 1887 году на золотые прииски Виктории направился брат Уильяма Экленд, но вскоре заболел и в том же году скончался в Мельбурне на руках у Уильяма.
В 1889 году Уильям с женой поселись в доме у реки неподалеку от Брисбена — растянувшегося вдоль берега, беспорядочно застроенного города, ставшего столицей северо-восточного штата Квинсленд. Уильям обзавелся двумя австралийскими ехиднами — домашними любимцами; одну звали Приклз, другую — Пинз. Поначалу, пишет Уильям, они дичились, выпускали шипы, но потом стали сопровождать его по всему дому и на прилегающем участке и даже позволяли брать себя на руки, словно обычные болонки. Поселились в доме и два козодоя — «пушистые комочки с блестящими золотистыми глазками», тоже ставшие его любимцами. Уильям отрастил густую жесткую бороду, совершенно скрывавшую всю нижнюю часть его худого лица, о выражении которого теперь можно было судить главным образом по большим блестящим глазам. Отправляясь инспектировать рыболовецкие хозяйства Квинсленда или устричные фермы, Уильям обычно надевал полотняный костюм, резиновые туфли и плетеный шлем.
«Необыкновенно робкие» козодои, продолжает Уильям, меняют форму в зависимости от настроения. Перед домашними они ведут себя с «великолепной непринужденностью», но при виде незнакомца сразу застывают и уходят в себя, напоминая в этом случае палку. Когда Уильям возвращался домой после нескольких дней отсутствия, козодой-самец раздувался от нескрываемого довольства, распускал все перья и едва ли не удваивался в размерах. Подобно Сэвилам Кентам, козодои не имели потомства, но каждый год строили себе большое гнездо. Однажды Уильям уронил в него небольшое куриное яйцо и заметил, что птицы бодро уселись на него в ожидании момента, когда проклюнется птенец. Трижды в день он кормил козодоев сырым мясом, вымоченным в холодной воде, добавляя к нему в качестве деликатесов кузнечика, жука или мотылька. Дабы запечатлеть весь удивительный диапазон настроений и внешнего вида птиц, Уильям занялся фотографией. Подобно микроскопу камера расширяла зрительные возможности наблюдающего. Теперь Уильям мог рассматривать объекты с большим прилежанием, а также демонстрировать их другим. Он делал снимки, увеличивал, изучал с помощью лупы. Используя это новое приспособление, он принялся составлять каталог удивительных коралловых образований огромного, длиной тысяча двести миль, Большого Барьерного рифа, охарактеризованного им как «реальное Зазеркалье».
В 1892 году Уильям вернулся в Англию с шестьюдесятью ящиками демонстрационных образцов, впоследствии переданных Музею естественной истории, и большой папкой с рисунками и фотографиями, рассчитывая заинтересовать ими какого-нибудь издателя. Привез он с собой и козодоев. Самец за время пребывания в Лондоне пристрастился к клубнике, а самка к слизням; оба очень полюбили городских тараканов.
Солидный научный труд Уильяма Сэвила Кента «Большой Барьерный риф» был опубликован в Лондоне в 1893 году. Это прекрасно оформленное издание десятилетиями оставалось ценнейшим библиографическим источником и принесло уникальному рифу всемирную известность. Фотоиллюстрации, подготовленные Уильямом, соседствовали с описаниями расцветок, принимаемых этими живыми существами — кораллами. Сфотографированные им рыбы выглядели как морские чудища с блестящими глазами и черной, как чугун, чешуей. В конце книги имелась вкладка с цветными репродукциями сделанных автором рисунков рыб, кораллов и морских анемонов, шевелящих своими яркими и грозными щупальцами.
В том же году Уильям вернулся в Южное полушарие, приступив к работе в рыбопромысловом хозяйстве Перта, на западе Австралии. Козодои отправились с ним, а Мэри-Энн осталась в Англии. Брак их дал трещину. Во время одной из своих поездок в Тасманию Уильям остановился в доме пожилой натуралистки и художницы-акварелистки Луизы Анны Мередит, и с ее двадцатилетней внучкой у него завязался роман.
Впрочем, уже в 1895 году Уильям, возвратившись в Англию, обосновался вместе с женой в доме, расположенном среди утесов и реликтовых окаменелостей Гэмпшира, примерно в ста милях к востоку от их с Констанс места рождения. Ящериц, вывезенных из Австралии, Уильям поместил в оранжерее, вьюрков — у себя в кабинете. В следующем году Уильям устроил в лондонском Берлингтон-Хаусе выставку своих фотографий и акварелей, разместив там же, как писала «Таймс», «совершенно невероятные образцы жемчуга из Западной Австралии; один из них, имеющий два дюйма в диаметре, поразительно напоминал голову и туловище ребенка». Двух ящериц Уильям принес в дар лондонскому зоопарку — ящерицу плащеносную и варана. На примере первой он продемонстрировал, что ящерицы умеют передвигаться на двух ногах, из чего можно сделать вывод, как утверждал учитель Уильяма Гексли, что эти существа происходят от двуногих динозавров. Эти ящерицы представляют собой «недостающее звено» эволюционной цепи.
Уильям был буквально помешан на всем комковатом, чешуйчатом, а еще на всяких необычных явлениях и изгоях естественной истории. В своей второй книге, «Натуралист в Австралии» (1897), посвященной Южному полушарию, он с восторгом описывает баобаб с его неохватным стволом и ощетинившимися ветками. Уильяма поражает «воля к жизни», демонстрируемая этим деревом. Словно какая-то странная созидательная сила им управляет. В буше, пишет он, то и дело наталкиваешься на «баобаб, вырванный с корнем какой-нибудь страшной бурей, пронесшейся, быть может, сотни лет назад, а из него, словно птица феникс, восставшая из пепла, растет новое дерево с его молодой энергией». По словам автора, ему известен лишь один действительно мертвый баобаб — его поразила молния, «катаклизм», приведший «к полной и окончательной гибели». Уильям сделал снимок этого расщепленного ствола. Часть его виднеется над обрушившимся деревом, распростертым на земле, как «некая чудовищная птица, застывшая на страже и погруженная в самое себя подобно бестелесному духу, озирающему пустоту».
В 1904 году Уильяма снова потянуло на юг, и он на восемнадцать месяцев уехал в Австралию, где на сей раз поступил на службу в частную компанию, пытавшуюся осуществить пересадку и окультуривание жемчужной устрицы. По возвращении в Англию он нашел спонсоров для собственного проекта искусственного выращивания жемчуга, после чего в очередной раз направился в южные моря.
Жемчуг — единственный драгоценный «камень», обязанный своим происхождением живым существам, тускло мерцающим объектам, заключенным в некую капсулу неправильной формы. Примерно в 1890 году Уильям стал первым, кто сумел создать искусственный, или пузырчатый, жемчуг. В то время он собирался вывести жемчуг правильной сферической формы, или «свободный» жемчуг, формирующийся где-то глубоко внутри устрицы. В 1906 году он основал жемчужную ферму на острове, в проливе Торрес, у северной оконечности Большого Барьерного рифа. Им был разработан и успешно опробован метод вскрытия раковины без умертвления устрицы, а также освоена техника имплантации частичек раковины в ее мясистые складки. Лишенная щита устрица покрывает при этом мелкими слоями раздражителя перламутром, и в конце концов образуется призмообразная глянцевитая сфера — продукт соединения ингредиентов раковины и ее внутренностей. Приоритет в создании сферического жемчуга отдается двум японским ученым, добившимся успеха в 1907 году, но последние изыскания показали, что еще до них Уильям Сэвил Кент разработал технологию, а возможно, и создал саму раковину.[124] Подробности этой технологии он отказался раскрыть своим спонсорам, но описал ее, поместив затем эти материалы в банковский сейф и распорядившись, что последний может быть вскрыт лишь после его смерти.
В 1908 году Уильям заболел и возвратился в Англию, где вскоре скончался. Произошло это 11 октября в результате заворота кишок — таким образом, он повторил судьбу своей матери и первой жены. Когда инвесторы его устричного проекта вскрыли банковский сейф, в конверте не обнаружилось ничего, кроме каких-то каракулей, совершенно недоступных дешифровке. Тайну искусственного выведения жемчуга Уильям вместе с другими секретами унес в могилу. Его вдова, унаследовавшая сто шестьдесят шесть фунтов, покрыла могильный камень на кладбище при церкви Всех Святых в Милфорде кораллами. Большую часть коллекции покойного мужа, состоявшую из кораллов, губок, раковин и жемчужин, она распродала и до самой своей кончины, последовавшей одиннадцать лет спустя, жила в одиночестве в своем гэмпширском доме.
Старшие дочери Кента, Мэри-Энн и Элизабет, в 1886 году оставили свой дом в Риджентс-парк и перебрались в район Уондсуорт, в больницу Святого Петра — дом призрения, находившийся примерно в миле от Лавандер-Хилл и рассчитанный на сорок два человека. В нем была своя часовня, большой холл и библиотека. Мэри-Энн умерла в 1913 году, восьмидесяти двух лет от роду, завещав свое имущество (общей стоимостью сто двадцать девять фунтов) Элизабет. Та скончалась девять лет спустя, на девяносто первом году жизни, завещав двести пятьдесят фунтов кузине по имени Констанс Амалия Барнс и еще 100 фунтов сестре по отцовской линии Мэри-Амалии, с которой переписывалась до самых последних дней.[125]
У Констанс Кент был дар оставаться невидимой — горожане Динана, а затем и миллбанкские тюремщики неизменно поражались ее способностью как бы растворяться в окружающей среде и даже вовсе исчезать, что нашло весьма убедительное подтверждение после освобождения из тюрьмы. Люди понятия не имели, куда Констанс направилась и где обитала. Это оставалось загадкой почти столетие.
Лишь в 50-е годы XX века выяснилось, что в 1885 году (именно тогда истек срок ее заключения) преподобный Вагнер взял ее в сестринскую общину, основанную им в Бакстеде, графство Суссекс. Раз в месяц она отмечалась в полицейском участке Брайтона, куда приходилось ездить примерно за двадцать пять миль. Одна из бакстедских сестер вспоминает, что некоторое время после приезда Констанс ходила «как ходят в тюрьме», — неслышно, носила темные очки, коротко стригла волосы, кожа на руках была обветрена, поведение за столом отличалось грубостью. Поначалу она «почти не открывала рта», вспоминает та же сестра, но потом разговорилась — в частности, поведала о том, что в тюрьме работала над мозаикой, в том числе для крипты собора Святого Павла. О семье Констанс не обмолвилась ни разу. Она говорила сестрам, что собирается эмигрировать в Канаду, где рассчитывала найти работу сиделки под именем Эмили Кинг.[126] Как выяснилось впоследствии, это было правдой лишь наполовину — Констанс просто хотела скрыться от всеобщего внимания.
В 70-е годы XX века обнаружилось, что в начале 1886 года Констанс вместе со своими сестрами по отцу Эвелин и Флоренс отплыла в Тасманию под именем Эмили Кей; Экленд отправился туда же несколькими месяцами раньше. В Хобарте они поселились в доме Уильяма и его жены. Близость между братьями и сестрами, которая, казалось бы, должна была нарушиться после убийства, проявилась с новой силой, что напомнило о том, сколь причудливо складывается частная внутрисемейная жизнь.
Констанс и Уильям постоянно поддерживали тесные сердечные отношения друг с другом до самой смерти. Констанс вместе с Уильямом и его женой в 1889 году переехала в Брисбен и поселилась там вместе с ними и застенчивыми козодоями. Через год она направилась в Мельбурн, где с полной отдачей ухаживала за жертвами сыпного тифа, а впоследствии поступила на курсы медсестер. Она работала сестрой-хозяйкой в одной из частных клиник Перта, когда там в 1893 году появился Уильям, а в середине 90-х переехала в Сидней, куда он тоже несколько раз приезжал в 1895–1908 годах. Какое-то время Констанс работала в лепрозории Лонг-Бэй, а также в колонии для малолетних правонарушителей Парраматта.
Констанс пережила брата. В 1911 году, все еще под именем Эмили Кей, она открыла в Мейтленде, городке, расположенном к северу от Сиднея, приют для медсестер, которым заведовала до середины 30-х годов. Следующее десятилетие Констанс провела в домах отдыха, расположенных в окрестностях Сиднея. Она поддерживала связь с Оливией — дочерью Мэри-Амалии, хоть та и не знала, что «мисс Кей» — ее тетка; думала, просто старая приятельница матери и теток — Эвелин и Флоренс.[127] На Рождество 1943 года Констанс заказала библиографический справочник по птицам и послала его в качестве подарка своему внучатому племяннику — единственному сыну Оливии. Одновременно Констанс направила самой Оливии письмо с извинениями по поводу того, что это «не популярная книга с иллюстрациями, изображающими гнезда, яйца и т. д., а просто каталог, что, впрочем, все же лучше, чем большинство детских книг — отвратительного и вульгарного чтива, заполненного всякими ужасами и уродами, вытеснившими прекрасную Страну Чудес».
Когда Констанс исполнилось сто — а случилось это в феврале 1944 года, — местная газета опубликовала ее фотографию, на которой она, лежа на диване, улыбается прямо в объектив. В лице Эмили Кей газета чествовала «одну из первых наших медсестер». «Когда-то, — писал автор, явно пребывавший в неведении о прошлом героини, — она ухаживала за прокаженными. От короля и королевы пришла поздравительная телеграмма, а архиепископ Сиднейский нанес личный визит, преподнеся юбилярше роскошный букет цветов». Оливия была на праздновании дня рождения. Эмили Кей, пишет она, «поистине чудесная старая дама, такая веселая. Возникает ощущение, что в нее влюблены буквально все».
Через два месяца мисс Кей умерла. Она завещала Оливии несколько памятных вещей, в том числе брошь, золотые часы, цепочку и два ящика, которые не открывали следующие тридцать лет.
В 1974 году Оливия с сыном совершили путешествие в Англию. Они посетили Бойнтон-Хаус, где родилась мать Оливии, и узнали об убийстве в доме на Роуд-Хилл. Оливия задумалась, а уж не есть ли Эмили Кей, ее покойная тетка, убийца Констанс Кент. По возвращении в Австралию она открыла оставленные мисс Кей ящики и обнаружила в одном из них дагеротипы первой жены мистера Кента и Эдварда, старшего брата Констанс, умершего в Гаване от желтой лихорадки.
Глава 20 ЗВОН КОСЫ НА ЛУЖАЙКЕ ЗА ОКНОМ
В 1928 году, за шестнадцать лет до смерти Констанс Кент, известный автор судебных очерков Джон Роуд опубликовал книгу, посвященную убийству в доме на Роуд-Хилл. В феврале 1929 года его издатель получил анонимное письмо со штемпелем Сиднейского почтового отделения, содержащее следующее примечание: «Дорогой сэр, вы можете распорядиться прилагаемыми материалами по своему усмотрению, а если они обретут какую-нибудь денежную стоимость, перешлите соответствующие средства валлийским шахтерам, людям, доводимым нашей цивилизацией до ужасающего состояния. Подтвердите, пожалуйста, получение в рубрике „Пропавшие друзья“ газеты „Сидней морнинг геральд“». Указанные материалы представляли собой описание первых лет семейной жизни в доме Сэмюела Кента, увиденной глазами ребенка. Это на редкость живое и довольно пространное — около трех тысяч слов — повествование, и трудно представить себе, чтобы авторство его принадлежало кому-либо иному, кроме Констанс Кент. Местами оно почти буквально совпадает с письмом, написанным ею Ирдли Уилмоту, и обращениями к сменявшим друг друга министрам внутренних дел, ставшими достоянием гласности лишь много лет спустя. Имя Сэвила в сиднейском послании не фигурирует, но ясно, что автор пытается объяснить глубинные причины его гибели.
По словам автора, Констанс полюбила «славную, очень внимательную» гувернантку, появившуюся в доме Кентов в начале 40-х годов. Более того, она сделалась «любимицей» мисс Пратт. Однако вскоре она стала причиной семейного раскола. Однажды утром старший сын Эдвард увидел мистера Кента выходящим из спальни гувернантки, и между ними вспыхнула ссора. В конце концов его вместе с двумя сестрами отправили в пансион. Приезжая из школы домой, все трое, как и младший брат Уильям, в ком миссис Кент «души не чаяла», неизменно тянулись к матери. Мэри-Энн и Элизабет, продолжает автор письма, всегда с жаром утверждали, что психически она совершенно здорова. Между тем Констанс проводила время в основном в библиотеке, с отцом и гувернанткой. Мисс Пратт «отзывалась о миссис Кент пренебрежительно и всячески высмеивала „эту особу“. Констанс порой бывала груба с матерью, передавала все, что та говорит, гувернантке, молча внимавшей с улыбкой Моны Лизы». В разговорах с детьми миссис Кент частенько называла себя «вашей бедной мамой», что немало удивляло Констанс.
Жизнь в доме становилась все более замкнутой, и по мере того как дети росли, за их знакомствами следили все более строго. Однажды, копаясь на специально для них отведенном участке земли за кустарником, Констанс с Уильямом услышали «веселый смех», доносившийся со стороны соседнего дома. Они с любопытством заглянули за кустарник и, пренебрегая запретом играть с чужими, откликнулись на приглашение составить компанию. «Преступление» было раскрыто, и в качестве наказания их «маленький садик» был «затоптан, все растения вырваны с корнем». Вторжения извне не приветствовались — две тропические птички, присланные Эдвардом своим младшим братьям и сестрам, были помещены в холодный чулан, где прожили совсем недолго.
Однажды Констанс познакомилась с девочкой, жившей в миле или около того от дома Кентов. Старшие вопреки обыкновению это знакомство поощряли, но ничего хорошего из него не вышло: какое-то время им было просто скучно друг с другом, а потом девочка несправедливо обвинила Констанс в попытках настроить ее против матери. Упрек был тем обиднее, что саму-то Констанс приучали смотреть на мать как на врага.
По мере того как Констанс становилась старше, отношения ее с гувернанткой все более охлаждались, а уроки и вовсе превратились в сплошное мучение. Если Констанс делала ошибки в написании букв или слов, неизбежно следовало наказание за упрямство.
«Из-за буквы „Н“ Констанс не один час провела в запертой комнате, тоскливо прислушиваясь к звону косы на лужайке за окном. Когда же дело дошло до обучения словам, наказания сделались строже: два дня она провела взаперти на сухом хлебе, молоке и воде вместо чая; в других случаях ее ставили в угол, и она рыдала, повторяя „я больше не буду“, „я буду хорошей“, пока не пришла к заключению, что дети хорошими быть не могут, остается лишь надеяться на быстрое повзросление — ведь взрослых никто не называет капризными».
Так было написано все письмо — нервно, с ошибками в пунктуации, так, словно автор торопился дать волю потоку памяти.
После того как семья переехала в Бэйнтон-Хаус, графство Уилтшир, продолжает автор, мисс Пратт запирала Констанс за непослушание на чердаке, а девочка, воспринимая это как игру, изыскивала всяческие способы, чтобы подурачить свою тюремщицу. Бывало, она «прикидывалась обезьяной», набрасывая меховую накидку, вылезая через окно на крышу, спускаясь вниз с противоположной стороны и вновь карабкаясь наверх, чтобы скрыться в другом чердачном помещении. После этого она возвращалась на исходную позицию, отпирала дверь и входила внутрь: «гувернантку поражало, отчего это дверь всегда остается незапертой, ключ торчит изнутри; опрашивают слуг, но те, естественно, ничего не могут сказать».
Будучи запертой в винном погребе, Констанс ложилась на охапку сена и «воображала, будто находится в темнице большого замка в ожидании казни, назначенной на утро». Однажды, освобождая Констанс из заключения, мисс Пратт удивилась, увидев девочку улыбающейся. Та «выглядела очень довольной своими фантазиями». Мисс Пратт спросила, чему это она так радуется.
— Да ничего особенного, просто крысы, они такие забавные.
— Что за крысы?
— Они не кусаются, только пляшут и играют.
Еще одним узилищем был пивной погреб, но после того, как однажды Констанс вытащила из бочонка затычку, ее стали запирать в одной из двух комнат для гостей, о которых говорили, будто в них — по определенным числам — проникает «голубой огонь» из камина. Если ее запирали в отцовском кабинете на нижнем этаже, Констанс выбиралась наружу и залезала на дерево, разыгрывая жестокий спектакль: она накалывала слизней и улиток на ветки, что в ее представлении являлось распятием. Это был «непоседливый и живой ребенок», жаждущий развлечений, порой опасных. Она любила удирать в лес, «надеясь и в то же время страшась увидеть льва или медведя».
В пансионе, пишет автор, Констанс считалась белой вороной, «не уважала старших», «вечно попадала в какие-то передряги», хотя к истории с утечкой газа она не имеет никакого отношения — «скорее всего это произошло от того, что кто-то забыл перекрыть краны, когда газ был включен» (забота автора о том, чтобы очистить Констанс от всяких подозрений по этому поводу, весьма показательная деталь).[128]
Констанс любила давать учителям прозвища. Так, одного из них она называла из-за его густой черной бороды «волосатым медведем», другого — преподавателя Закона Божьего — «восьмиугольником в рясе» (намек на форму часовни). Тот не стал ругать ее — напротив, рассмеялся и, «рассчитывая достучаться до ее сердца, начал уделять ей особое внимание. Констанс же видя, что другие девочки ревнуют, нарочно стала глупить в разговорах с ним, так что вскоре он потерял к ней интерес». Потом она попыталась «стать религиозной», но, прочитав книгу пуританского проповедника Ричарда Бакстера, убедилась, что уже совершила «непростительный грех» — кощунство против Духа Святого, — и пришла к выводу, что о мечтах стать праведницей можно забыть.
В письме утверждается, что Констанс еще девочкой читала Дарвина и скандализовала семью заявлениями о своем согласии с теорией эволюции.[129] Подобно Уильяму, Констанс находила отдохновение в мире живой природы. В сиднейском письме звери и иные существа предстают носителями свободы — лев, медведь, овца, обезьяна, сорока, тропические птицы, танцующие крысы, даже жертвенные слизняки и улитки.
После смерти матери Констанс пришла к убеждению, что «никому она не нужна, все против нее», что мачеха не замедлила и подтвердить. Как-то раз, когда Констанс приехала из школы домой, та встретила ее такими словами: «Ради себя самой тебе лучше оставаться в пансионе. Когда я сообщила, что ты едешь домой, одна из твоих сестер пришла в ужас от того, что приедет такая зануда! Так что, сама видишь, ты им не нужна». В письме говорится, что на мысль сесть на корабль с Уильямом и сбежать Констанс подталкивало чтение книг про то, как «женщины, переодетые мужчинами, зарабатывают себе на жизнь и остаются неразоблаченными до самой смерти». Она уговорила брата бежать вместе, а потом того «сочли дурным мальчишкой, сбившим другого с пути истинного».
В какой-то момент Констанс поняла, что ее мать, которую она привыкла высмеивать, никогда не была помешанной, скорее — святой. «Мать всегда была окутана какой-то тайной». Автор поясняет, что до Констанс постепенно дошло, что роман отца с гувернанткой начался давно, когда она, Констанс, была еще совсем ребенком. Задним числом ей раскрывались интимные подробности, хранившиеся от нее в секрете. Это возбуждало работу памяти и одновременно искажало ее всяческими подозрениями. Ребенком Констанс «спала в комнате, смежной с комнатой гувернантки. И та всегда запирала на ночь разделяющую их дверь. Спальня и гардеробная мистера Кента находились в противоположной части дома, и когда он уезжал по делам, гувернантка говорила, что ей страшно спать одной, и брала Констанс к себе». Однажды, находясь в библиотеке, мисс Пратт испугалась разыгравшейся грозы и бросилась к Сэмюелу. Он посадил ее на колени и поцеловал. «Нет-нет, не при ребенке», — вскрикнула она. Таким образом Констанс оказалась, сама того не осознавая, втянутой в любовные игры взрослых: она была свидетельницей их нежностей, спала рядом с запертой комнатой гувернантки, занимала место отца в ее постели.
Подобно героине повести Генри Джеймса «Что знала Мэйзи» (1897), Констанс была ребенком, «вынужденным видеть в детстве гораздо больше, чем может понять». Не в такие ли годы рождается страсть к расследованию — от страха или растерянности, от желания докопаться до тайн мира взрослых, пока лишь смутно мерцающих в сознании? Констанс читала следы, рассыпанные по ее детским годам, по фрагментам воссоздавала картину преступления (мать, преданная отцом), выявляла преступников (отец и гувернантка). Быть может, у любого детектива любопытство пробуждается в детстве, и любой остается пленником своего прошлого.[130]
В письме из Сиднея приводятся весьма любопытные сведения из семейной истории Кентов. Оказывается, у Констанс и Уильяма были так называемые зубы Хатчинсона; Уильям страдал от абсцесса в ноге; несколько их братьев и сестер умерли в младенчестве. «Зубы Хатчинсона» означают уплощенные резцы, что, как обнаружил в 80-е годы XIX века врач Джонатан Хатчинсон, является симптомом врожденного сифилиса. Он же может служить причиной ножной язвы («гуммата»), вызывает также смерть в младенчестве. Автор сиднейского письма намекает, что у первой жены Сэмюела был сифилис.
Сифилис — заболевание, наличие которого легко заподозрить задним числом и трудно доказать. Изабелла Битон и ее муж, Томас Харди и его жена, Бетховен, Шуберт, Флобер, Ницше, Бодлер, Ван Гог — считается, что все они были сифилитиками. В XIX веке эта болезнь — тогда неизлечимая — получила немалое распространение. И за способность мимикрировать, походя по своим признакам и симптомам на иные заболевания, принимать, подобно хамелеону, разную окраску, заслужила наименование «Великий Имитатор». Поскольку обычно она связана с распутством, жертвы предпочитали скрывать свой недуг, и тем, кому хватало денег для оплаты тайной медицинской помощи, нередко это удавалось.
Допустим, Сэмюел подхватил сифилис в Лондоне, и появившиеся симптомы — в первые несколько недель недуг проявляет себя безболезненными шанкрами, в основном на гениталиях, но потом начинается лихорадка, боли, сыпь по всему телу — вынудили его подать в отставку с должности на консервной фабрике и в 1833 году срочно направиться в Девоншир, чтобы на время скрыться. Если у него действительно был сифилис, то его желание уединиться понять нетрудно, как, впрочем, и то, что до 1836 года ему не удавалось найти новую работу.
На протяжении первых нескольких месяцев сифилис передается легко и быстро: при половом акте с женой бактерии, исходящие из шанкров на его теле, почти наверняка проникают через малейшие порезы или просто поры ее кожи (эти бактерии впервые удалось разглядеть под микроскопом в 1905 году; они известны как спирохеты — в переводе с греческого — «продергивание ниток»). Первая жена Кента вполне могла, сама о том не подозревая, передать болезнь детям еще в утробе. Беременность женщины, зараженной сифилисом, чаще всего заканчивается выкидышем, нередко ребенок рождается мертвым, а если все-таки выживает, то слабеньким, чахлым, тщедушным, почти не поддающимся кормлению. Чаще всего такие новорожденные умирают в младенчестве. Не исключено, что несколько выкидышей у миссис Кент, а также смерть четверых детей подряд как раз и объясняются сифилисом. Обычно дети от матерей, зараженных сифилисом, в первые годы не обнаруживают никаких признаков заболевания, но затем у них уплощаются резцы, искривляются ноги либо возникают другие симптомы, указанные Хатчинсоном. Возможно, говоря о свойственной герою его книги «несдержанности» — в выпивке, в расходах, в половой жизни, — способной оказать дурное воздействие на его детей, Джозеф Степлтон как раз и хотел дать понять, что всему виной сифилис.
Если это действительно так, то Сэмюел принадлежал к счастливому большинству тех, кто через год-другой после заражения не обнаруживает никаких новых симптомов болезни. А вот его жена вполне могла оказаться среди меньшинства, то есть среди неудачников, оказывающихся по прошествии ряда лет (обычно от пяти до двадцати) подверженными так называемому третичному сифилису. Природа его стала понятна лишь через много лет после смерти миссис Кент. Третичный сифилис часто обнаруживает себя душевными отклонениями и затем парезом, «частичным параличом» невменяемого. Это постепенный и неизлечимым процесс мозгового распада. Помимо поражения психики и обшей слабости, именно третичный сифилис мог стать причиной и ранней (в возрасте сорока четырех лет) смерти миссис Кент от заворота кишок: желудочно-кишечные заболевания тоже один из множества возможных симптомов сифилиса, а смерть, как правило, наступает через пятнадцать — тридцать лет после заражения.
Было бы слишком просто объяснить сифилисом столь же раннюю — в сорок шесть лет — смерть второй жены Кента, перед тем практически ослепшей и парализованной (она страдала сухоткой спинного мозга, а это также одно из проявлений третичного сифилиса), но в таком случае она могла заразиться им от Сэмюела, только если он сам был реинфицирован. В принципе это не исключено, хотя сам Сэмюел мог считать себя здоровым — ведь шанкры и сыпь исчезли. Вообще люди средневикторианской эпохи считали, что сифилис дважды не подхватывают — миф, вызванный тем обстоятельством, что вторичная инфекция не сопровождается поражением тканей и пятнами на теле.
Но это косвенный и неубедительный аргумент. Даже сам автор сиднейского письма не выказывает на этот счет никакой уверенности. В то же время, принимая во внимание «зубы Хатчинсона», можно допустить, что истоки трагедии семьи Кент коренятся в случайной встрече отца Сэвила с какой-нибудь лондонской проституткой в начале 30-х годов. След терялся в почти невидимом мире, коим был так очарован Уильям Сэвил Кент, и мог привести к какому-нибудь нитеподобному серебристому извивающемуся существу, настолько крохотному, что разглядеть его можно только через микроскоп.
Связь между сифилисом и заболеваниями вроде сухотки спинного мозга, или пареза, была обнаружена лишь в конце XIX века, так что подозревать Сэмюела в том, что именно он стал причиной злосчастий своих жен, можно лишь задним числом. Говоря во всеуслышание о невменяемости своей первой жены или парезе и слепоте второй, Сэмюел Кент понятия не имел, что, возможно, подводит к тому, что и его собственное тело было поражено болезнью.[131]
Странно, но письмо из Сиднея ни в коей мере не прояснило некоторых таинственных сторон признания Констанс, сделанного в 1865 году. А впрочем, и в книге Джона Роуда, которая, собственно, и спровоцировала само это письмо, признание характеризуется как «откровенно недостоверное» и «крайне неудовлетворительное», так что возникают сомнения в самой виновности девушки. «Психически она выглядит настолько неуравновешенной, что допускает практически любые версии происшедшего, — пишет Роуд. — Вполне возможно, например, что, оказавшись в атмосфере больницы Святой Марии, до предела насыщенной религиозным чувством, девушка решила принести себя в жертву, дабы рассеять сгустившиеся над ее семьей тучи».
Несомненно, сам преступник находится в наилучшем положении, чтобы раскрыть преступление.[132] Как писала в номере от 28 августа 1865 года «Таймс», «все прежние неудачные расследования убеждают в том, что загадку преступления способен раскрыть только тот, кто его совершил». В своих признаниях и в письме, в котором она, кажется, раскрывает душу, Констанс показала себя неважным детективом: они неубедительны. Не следует ли из этого, что убийцей был кто-то другой?
Пробелы в изложенной ею истории породили иные версии убийства, частным образом озвучивавшиеся с самого начала. Публично же они были высказаны уже после того, как основные участники событий ушли из жизни.[133] Но еще задолго до этого Уичер выдвинул собственную версию, объяснявшую многочисленные нестыковки в показаниях Констанс. Открыто она так и не прозвучала, но Уичер обозначил основные ее позиции в конфиденциальных докладах сэру Ричарду Мейну.
В первом же из сохранившихся отчетов Уичер пишет, что Констанс «была единственной в доме, кто спал отдельно, не считая ее брата, также вернувшегося из школы на каникулы (и, как можно подозревать, также причастного к убийству, только пока для его ареста нет достаточных оснований)». Вернувшись, после того как Констанс отпустили под залог, в Лондон, Уичер отмечает, что и брат, и сестра приехали домой вместе за две недели до убийства. «Предположим, вина лежит на мисс Констанс и у нее был сообщник; тогда им, судя по близости, существующей между этими двумя, по всей вероятности, является ее брат Уильям…»
«Я склоняюсь к мысли, — завершает Уичер свой отчет, — что убийство было совершено либо одной мисс Констанс в припадке безумия, либо ею и ее братом Уильямом из ненависти и зависти к младшим детям и их родителям. При этом второй вариант мне кажется более вероятным, учитывая то, что эти двое испытывают друг к другу определенную симпатию, а также то, что у каждого из них своя отдельная комната. Особенно же примечательно то подавленное состояние, в котором этот парень пребывал до и после ареста сестры. Мне кажется, отцу или кому-нибудь из родственников было бы не трудно добиться от него признания, пока сестра находится в тюрьме, но в силу сложившихся, весьма специфических, обстоятельств я бы не рекомендовал предпринимать шаги в этом направлении».
Нет ничего удивительного в том, что Уильям был «подавлен» смертью брата. Уичеру же и впрямь должна была показаться «специфической» форма проявления этой подавленности — самопоглощенность, чувство леденящей кровь вины или страх. Уичер ясно обозначил варианты: либо Констанс обезумела и убила Сэвила в одиночку, либо была в своем уме и убила брата при содействии Уильяма. С самого начала Уичер заподозрил, что Уильям и Констанс задумали и осуществили убийство вместе. Ко времени отъезда из дома на Роуд-Хилл он был почти уверен в этом.
Уичер считал, что план убийства разработала Констанс, как более старшая, импульсивная и решительная из них двоих, но осуществила задуманное ради брата и с его помощью. У Уильяма же был для убийства более ясный мотив: Сэвил занял его место родительского любимца, и отец часто ставил младшего брата ему в пример. Если убийство они задумали осуществить вдвоем, то нет ничего удивительного в том, что план удался. Двое детей, одинокие, отверженные, вполне могли обитать в мире фантазий, каждый в своем, а прочность ему придавала вера друг в друга; оба вполне могли убедить себя, что защищают себя и умершую мать. А решимость укреплялась уверенностью, что друг друга они никогда не предадут.
Вполне вероятно, что Сэмюел Кент навел подозрения полиции на Констанс, чтобы оградить от них сына. Возможно, теми же соображениями он руководствовался, расписывая историю бегства детей в Бат с такими подробностями, чтобы Степлтон, которому он ее поведал, понял, насколько чувствителен мальчик и насколько тверда характером девочка. Уильяма во время расследования нередко исключали из числа подозреваемых именно ввиду кротости нрава. Однако Уичер допускал, что тот способен принять участие в убийстве. Точно так же и газетные статьи, посвященные батской эскападе, убеждают, что мальчик обладал сильной волей и изобретательностью; это, собственно, только подтвердила вся его последующая жизнь.
В ходе расследования убийства Сэвила часто высказывалось предположение, что в преступлении были замешаны двое. Если Уильям действительно помогал Констанс, это объясняет, каким образом было расправлено постельное белье, когда мальчика выносили из детской, как его заставили молчать, когда открывали двери и окна, как уничтожались вещественные доказательства. Что касается бритвы, то, возможно, Констанс упомянула ее в своем признании, потому что только ею и пользовалась, в то время как Уильям орудовал ножом. Автор сиднейского письма всячески избегает упоминания убийства как такового — возможно, потому, что не удалось найти объяснения, которое исключило бы наличие сообщника.
В некоторых беллетристических сочинениях, сюжетно основанных на данном деле, намекается на возможность того, что Констанс и Уильям все еще что-то скрывают. В «Лунном камне» героиня выводит из-под удара любимого человека, навлекая подозрения на себя саму. У пускающихся в бега брата и сестры из «Тайны Эдвина Друда» общее темное прошлое. Загадка «Поворота винта» лежит в молчании детей, брата и сестры, которых связывает общая тайна.[134]
Независимо от того, выступал ли Уильям сообщником или просто был посвящен в замысел, Констанс неизменно старалась его выгородить. В признании четко и ясно говорится, что преступление совершено «в одиночку и без чьего-либо содействия». Адвокату Констанс говорила, что отказывается ссылаться на невменяемость именно для того, чтобы не бросать тень на брата, и точно таким же образом она выстраивает свой рассказ о преступлении и его мотивах. Имя Уильяма в нем не фигурирует. Школьным приятельницам Констанс жаловалась на то, что Сэмюел и Мэри ее третируют — унизительными сравнениями с Сэвилом, понуждениями возить детскую коляску по деревне, — но в 1865 году об этом не было сказано ни слова. Об отце и мачехе Констанс говорила так: «Я никогда не держала на них зла за дурное обращение со мной». То есть не должно было возникнуть и малейшего сомнения в том, что она могла «держать зло» за дурное обращение с кем-нибудь еще. В конце концов, разгадку тайны убийства Сэвила Кента можно искать в самих умолчаниях Констанс, особенно в нежелании говорить о любимом брате.
Констанс призналась в содеянном за год до совершеннолетия Уильяма, когда он должен был получить тысячу фунтов, завещанных ему матерью. Он рассчитывал потратить эти деньги на занятия наукой, но этому все еще препятствовала неопределенность и окружавшая его семью атмосфера подозрительности. Вот Констанс и предпочла погрузиться во тьму сама, рассеяв тем самым тучи над головой брата. Ее покаяние принесло Уильяму свободу, открыло ему путь в будущее.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Третья глава книги Джозефа Степлтона об убийстве в доме на Роуд-Хилл посвящена вскрытию тела Сэвила Кента. В ряду иных медицинских заключений выделяется сделанное в характерных для этого автора несколько выспренних выражениях описание двух ран на левой руке мальчика:
Но на руке — левой руке, этой точеной ручке, безжизненно свисающей с тела, которое, даже и будучи изуродованным, могло бы стать образцом или моделью для скульптора, — виднеются два небольших пореза: один проникает до самой кости, другой представляет собой просто царапину на костяшке указательного пальца.
Комментарий Степлтона к этим словам неожиданно вновь надолго выдвигает Сэвила на авансцену событий. По характеру и расположению ран врач заключает, что непосредственно перед убийством ребенок проснулся и вскинул левую руку, чтобы защититься от ножа, направленного к его горлу; нож полоснул по суставу пальца; он вновь, на сей раз медленнее, поднял руку, и лезвие, перед тем как вонзиться в горло, рассекло палец.[135]
В рамках этой картины внезапно возникает образ Сэвила: вот он просыпается и видит убийцу, видит приближающуюся смерть. Этот фрагмент книги Степлтона внезапно напомнил мне, что мальчик жил, потому что, разворачивая историю его убийства, я совершенно забыла о нем самом.
Быть может, в том и состоит цель детективного расследования, чтобы — как в жизни, так и в литературе, — эмоции, ужас и страдания воплотить в загадку, а затем благополучно решить ее и жить дальше. «Детектив, — заметил в 1949 году Реймонд Чандлер, — это трагедия со счастливым концом». Детектив как литературное произведение начинается с убийства и кончается освобождением от него. Он избавляет нас от чувства вины, неопределенности и удаляет от нас смерть.
Фотографии и иллюстрации
Сэмюэл Кейт. Ок. 1863
Вторая миссис Кент. Ок.1863
Элизабет Гаф. 1860
Констанс Кент. Ок. 1858
Эдвард Кент. Начало 50-х гг. XIX в.
Мэри-Энн Уиндус. 1828. Через год она станет женой Сэмюэла Кента
Особняк на Роуд-Хилл. Главный вход
Особняк на Роуд-Хилл. Задний фасад. Справа — окна гостиной
Вид с высоты птичьего полёта на особняк на Роуд-Хилл. 1860
Особняк на Роуд-Хилл. Задний фасад. 1860
Детектив Фредерик Уильямсон (Долли). 1860
Комиссар полиции Ричард Мейн. 1840
Вид Троубриджа, графство Уилтшир. Середина XIX в.
Надпись на надгробии во дворе церкви в Ист-Коулстоне
Кэтрин Грэм дает показания в суде г. Троубриджа, апрель 1865
Констанс Кент. 1874
Уильям Сэвил Кент. 1880
Фотографии из книги Уильяма Сэвила Кента «Большой барьерный риф», изданой в 1863 г.
Уильям Сэвил Кент снимает рыб и кораллы Большого Барьерного рифа. Ок. 1890
Иллюстрация Уильяма Сэвила Кента. 1880–1882
Иллюстрация Уильяма Сэвила Кента к книге «Большой барьерный риф»
Ей 100 лет. Рут Эмили Кей. Сидней, Австралия. 1944
Фрагмент напольной мозаики в крипте собора Святого Павла в Лондоне, выполненный заключёнными Уокингской тюрьмы в 1870 г.
План дома на Роуд-Хилл
Расшифровка к плану дома:
1. Комната для гостей
2. Спальня четы Кент
3. Коридор
4. Гардеробная
5. Детская
6. Гардеробная
7, 8. Чулан
9, 10. Комната для гостей
11. Комната Мэри-Энн и Элизабет
12. Комната Констанс
13. Комната прислуги
14. Комната Уильяма
15. Коридор
16. Гостиная
17. Библиотека
18. Холл
19. Столовая
20. Прачечная
21. Погреб
22. Коридор
23. Кладовая
24. Кухня
25. Коридор
26. Кладовая
27. Черный ход
28. Каретный сарай
29. Конюшня
30. Денник
31. Судомойня
32. Пристройки
33. Точильня
34. Уборная
35. Фруктовый сад
Примечания
1
Из финансовых отчетов Уичера, хранящихся в отделе документов Национального архива лондонской полиции, 3-61.
(обратно)2
См.: Ковано Т. «Скотленд-Ярд вчера и сегодня: тридцать семь лет службы», 1893.
(обратно)3
Об этом см.: «Современные методы поимки грабителей». Хаусхолд уордс, 13 июля 1850 г. Не исключено, что одним из авторов этой публикации был Чарлз Диккенс.
(обратно)4
«Witchem» созвучно с «which of 'em», то есть «который из них?». «Witcher» звучит почти как «witch» — «ведьма».
(обратно)5
Роулэнд Родуэй, прежний адвокат Сэмюела Кента, вел борьбу за улучшение обслуживания пассажиров на троубриджской железнодорожной станции. «Платформы, — утверждал он, — слишком узки, это представляет опасность для людей, нет пешеходных мостов, нет зала ожидания». См.: «Троубридж энд Норт-Уилтс эдвертайзер», 21 июля 1860.
(обратно)6
О семье Уичеров см.: Лондонский городской архив, Х097-236, а также свидетельство о регистрации брака между Сарой Уичер и Джеймсом Холивеллом. Об истории Камбервелла см.: Путеводитель по Лондону и близлежащим графствам, 1823–1824; Эллпорт Д. Камбервелл; Боаст М. «История Камбервелла», 1996.
(обратно)7
Получается, таким образом, один страж порядка на 425 жителей.
(обратно)8
От англ. «cop» — арестовывать.
(обратно)9
Среди констеблей были бывшие мясники, булочники, сапожники, портные, солдаты, слуги, плотники, строители, гончары, клерки, приказчики, механики, сантехники, маляры, матросы, ткачи и каменщики. См.: Дилнот Дж. «Скотленд-Ярд, его история и организация», 1929.
(обратно)10
Согласно переписи 1841 г.
(обратно)11
В 1837 г., когда Уичер поступил на службу в полицию, в Лондоне было арестовано около 17 тыс. человек, в том числе: 107 уличных воров, 110 налетчиков, 38 бандитов, 773 карманника, 3657 «обычных воров», 11 конокрадов, 141 «собачник», 28 фальшивомонетчиков, 640 разного рода мошенников, 343 скупщика краденого, 2768 «нарушителей общественного покоя», 1295 бродяг, 136 попрошаек, 895 проституток, проживающих в борделях, 1612 хорошо одетых уличных проституток, 3864 проститутки «низшего разряда» из бедных районов (см.: Дилнот Дж. «Скотленд-Ярд, его история и организация», 1929).
(обратно)12
Агента звали Попи, сборище — митинг чартистов. Премьер-министр Пил заверял в 1822 г. членов палаты общин, что он выступает категорически против «системы шпионажа».
(обратно)13
Согласно переписи 1851 г., Торнтон родился в 1803 г. в Эпсоме, графство Суррей. Он женился на женщине, которая была на 17 лет старше его, от этого брака родились двое детей.
(обратно)14
Согласно словарю сленга, составленному Дж. С. Хоттеном (1864), детективов называли также «стопами», а переиздание словаря десять лет спустя фиксирует еще одно прозвище — «носы». В первом издании приводятся образцы жаргона лондонских полицейских: «загнать в трубу» — значит преследовать подозреваемого, «выкурить» — обнаружить.
(обратно)15
К сентябрю 1853 г. в журнале было опубликовано еще 11 рассказов Уотерса. Эти рассказы вошли в книгу, вышедшую в 1856 г.
(обратно)16
В том же году Чарли Филду пришлось выдержать нападки за слишком хитроумный способ поимки двух злоумышленников, пытавшихся взорвать железнодорожные пути в Чеддингтоне, графство Бекингэмшир. Как пишет «Бедфорд таймс», он выдал себя за продавца спичек, снял комнату в городе, сделался завсегдатаем местных пабов, где представился «лесоторговцем», и лишь затем принялся выуживать необходимую информацию (см.: Коллинз Ф. Диккенс и преступный мир).
(обратно)17
Детективы-персонажи литературных произведений представлялись людьми тихими и незаметными. Сотрудник Скотленд-Ярда Картер из романа М. Брэддон «Генри Данбар» (1864) походит на нечто среднее между «благовоспитанным капитаном в потрепанной одежде и на половинном жалованье и неудачливым брокером». Детектив из «Отчаянных средств» (1871) Т. Харди — господин «заурядный во всем, кроме глаз». Герой-повествователь романа Д. Беннета «Том Фокс» (1860) говорил: «Я всегда полагался на свои глаза и уши, говорил же очень мало — этому правилу должен следовать любой детектив». Детектив из романа М. Брэддон «Путем змея» — немой.
(обратно)18
Этому делу была посвящена передовица в номере «Дейли телеграф» от 10 октября 1859 года: «Лондон — это амальгама миров внутри других миров, и повседневные события убеждают нас в том, что каждый из них отличается своими особыми тайнами и характером преступлений… Поговаривали, что в коллекторах Хемпстеда устроилось стадо ужасных боровов, которые носятся по фекалиям с диким ревом, угрожающим снести арки Хайгейта». (См.: Бойл Т. «Боровы в коллекторах Хемпстеда: по ту сторону викторианской чувственности», 1989; см. также: «Таймс», 19 сентября и 16 декабря 1859.)
(обратно)19
См.: Лэнсдаун Э. «Воспоминания о Скотленд-Ярде», 1890.
(обратно)20
См.: «Хаусхолд уордс», 27 июля 1850.
(обратно)21
См.: Мейтон У. Г. «Фауна графства Уилтс», 1843; Бевик Т. «Птицы Англии», 1885; «Птицы Уилтшира» (под ред. Д. Бакстона), 1981. Данные о погоде здесь и далее приводятся по местным газетам.
(обратно)22
См.: Дженнингс Дж. «Диалекты Западной Англии», 1825; Джонс М., Диллон П. «Уилтширский диалект», 1987.
(обратно)23
Данные о профессиональной занятости и учреждениях почерпнуты из переписи 1861 г., о фабриках и мельничном хозяйстве из книг: Роджерс К. «Деформация и ткань: история ткацкого дела в Уилтшире», 1986; Понтинга К. «Шерсть и вода», 1975 — и выставок, экспонирующихся в краеведческих музеях Фрума и Троубриджа.
(обратно)24
Джозеф Степлтон опровергает эту точку зрения, утверждая, что «безупречная воспитанность и терпимость» его коллеги немало способствовали популяризации этого закона. Впрочем, в другом месте своей книги он говорит, что Сэмюел стал жертвой тех, кого «лично задевало честное исполнение им своих обязанностей».
(обратно)25
Это здание было построено на пожертвования жителей деревни, выступавших против употребления алкоголя, в особенности продажи спиртного по субботам и привычки посылать детей за пивом для родителей. «Сомерсет энд Уилтс джорнэл» сообщает, что в среду, накануне убийства, в Темперенс-Холле, укрываясь от проливного дождя, собралось много народу. В сопровождении двадцати двух участников духового оркестра (на фортепьяно аккомпанировал местный почтальон Чарлз Хэпперфилд) люди распевали антиалкогольные гимны.
(обратно)26
В книге «Дом аристократа, или Как переделать английское жилище из пастората в дворец» Р. Керр пишет: «Семья образует один круг, слуги — другой. Какая бы близость между ними ни существовала и сколь бы доверительные отношения их ни связывали, представители разных классов имеют право отгородиться друг от друга и жить своей жизнью». Цитируется по книге: Тош Д. «Место мужчины: мужественность и дом семьи среднего класса в викторианской Англии», 1999.
(обратно)27
Свои аналитические выкладки, касающиеся убийства, Уичер изложил в трех донесениях на имя комиссара лондонской полиции сэра Ричарда Мейна. Эти донесения подшиты к документам Национального архива лондонской полиции, 3-61.
(обратно)28
Тридцать два года спустя в рассказе «Серебряный» Артур Конан Дойл пишет о «необычном поведении собаки ночью» — необычном в том смысле, что она не залаяла на злоумышленника. Собственно, в этом и состоял ключ к загадке: выходит, злоумышленник был псу знаком. Но в деле об убийстве на Роуд-Хилл обстоятельства были более запутанными: в ночь убийства собака залаяла, но тут же умолкла.
(обратно)29
См.: Локк Д. «Ужасные деяния и злодейские убийства: первые детективы Скотленд-Ярда», 1990.
(обратно)30
По ходу расследования в «Иллюстрейтед Лондон ньюс» (1 сентября 1849) появилась статья, автор которой утешает себя тем, что «детектив в любом случае нападет на след, даже если гнусный преступник, используя силу парового двигателя, уносится со скоростью тридцать миль в час; его настигнут еще более резвые гонцы — молния, с помощью чудесных свойств телеграфа, донесет до самых отдаленных концов страны описание и преступника, и его деяний».
(обратно)31
Такого рода заболевания могут быть вызваны различными причинами, в том числе опухолью, грыжей, употреблением наркотиков (например, опиума), метаболическим дисбалансом, почечными коликами.
(обратно)32
В прессе сообщалось, что годовое жалованье мистера Кента составляло 800 фунтов. Сам он никогда эту цифру не корректировал, но из архивов министерства внутренних дел следует, что, скажем, в 1860 г. он получал всего 350 фунтов. Правда, у него мог быть и какой-нибудь другой, пусть незначительный, источник дохода. По подсчетам, которые приводит в «Книге домашнего хозяйства» (1861) миссис Битон, для содержания дома с тремя слугами необходимо 500 фунтов в год (среднее жалованье кухарки составляло 20 фунтов, горничной — 12, няни — 10).
(обратно)33
В изложении истории семьи Кентов автор, вслед за Дж. У. Степлтоном, опирается на гражданские акты рождений, браков и смертей, а также на архивы министерства внутренних дел, ХО 45-6970.
(обратно)34
Согласно данным переписей 1861–1871 гг.
(обратно)35
Э. Уинтер в книге «Границы безумия» (1875) пишет: «Психиатры единодушны в том, что девочки, как правило, наследуют душевные недуги от матерей, а не от отцов».
(обратно)36
В отчетах Ричарду Мейну Уичер подчеркивал те слова и предложения, на которые хотел обратить особое внимание комиссара. Здесь подчеркнутые слова приведены курсивом.
(обратно)37
Д. А. Миллер в книге «Роман и полиция» (1988) показывает, в частности, как объекты, которым в ходе расследования придается важное значение, впоследствии оборачиваются совершенно невинными вещами.
(обратно)38
Страшные подробности обнаружения трупа мальчика также сыграли некоторую роль в формировании эстетики этого литературного жанра. «Труп в детективном романе, — пишет У. Х. Оден в эссе „Викарий-преступник: заметки о детективном повествовании, принадлежащие перу любителя детективов“ (1948), — должен шокировать не просто потому, что это труп, но еще потому, что — даже как труп — он катастрофически неуместен, как если бы собака раздирала в клочья ковер в гостиной». Классическое убийство в сельском доме представляет собой нарушение всех правил приличия, обнаженное выражение низменных побуждений и потребностей.
(обратно)39
В статье «Полицейские и воры» Э. Уинтер пишет: «Между детективом и вором нет никакой личной вражды, при встрече они странным образом перемигиваются, как добрые знакомые — вор улыбается, как бы говоря: „не волнуйтесь, у меня все хорошо“, а детектив отвечает ему взглядом, который можно прочитать следующим образом: „нам предстоит познакомиться поближе“. Короче, оба чувствуют, что живут за счет собственных мозгов, и между ними возникает молчаливое согласие: обоим следует наилучшим образом играть в свою игру».
(обратно)40
Сопровождая Чарли Филда по подземельям церкви Святого Джайлза, Диккенс обратил внимание на «изучающий взгляд, от которого не ускользнет никакая мелочь»; фонари в руках его спутников он уподобил «горящим глазам», образующим «извилистые аллеи света» (Ст. «Инспектор Филд на дежурстве» — «Хаусхолд уордс», 14 июня 1851). См. также: Кеймен М. «От Бау-стрит до Бейкер-стрит: загадка, расследование, литературный сюжет», 1992.
(обратно)41
См.: Томас Р. «Детективная литература и развитие судебной медицины», 1999.
(обратно)42
На эту тему рассуждает Ч. Диккенс в очерке «Поведение убийцы», опубликованном в «Хаусхолд уордс» 14 июня 1856 г.
(обратно)43
Писала «Бат энд Челтенхем газетт» от 23 июля 1856 г.
(обратно)44
Согласно переписи 1861 г.
(обратно)45
Данный диалог воспроизводится по записи показаний Эммы Моуди в суде 27 июля 1860 г.
(обратно)46
Впервые слово «ищейка» в качестве синонима «детектива» было употреблено в 70-е гг. XIX в.
(обратно)47
Hawk — ястреб (англ.).
(обратно)48
«Вы, детективы, — говорит другой персонаж этой пьесы, — готовы отца родного заподозрить». Пьеса «За примерное поведение» была впервые поставлена в мае 1863 г. в лондонском театре «Друри-Лейн» и имела шумный успех.
(обратно)49
Из показаний Фрэнсиса Вулфа, опубликованных в «Бристоль дейли пост» 2 октября 1860 г.
(обратно)50
Фрейд З. «Психоанализ и установление фактов в судебной процедуре», 1906.
(обратно)51
Увеличение количества газет было вызвано, в частности, отменой налогов на почтовые отправления (1855) и отменой пошлин на бумагу (1860), что уже на будущий год привело к появлению дешевых ежедневных изданий.
(обратно)52
Эти слухи, с известной степенью точности, воспроизведены в газете «Сомерсет энд Уилтс джорнэл» (21 июля 1860).
(обратно)53
Из заметок присутствовавшего на суде адвоката Питера Эдлина, который передал их писателю Сесилу Стриту, опубликовавшему под псевдонимом Джон Роуд текст: «Дело Констанс Кент» (1918). Эти и иные документы, собранные следователями, имеются в архиве Бернарда Тейлора, автора книги «Жестокое убийство: Констанс Кент и смерть на Роуд-Хилл» (1979, второе издание — 1989). Архив в настоящее время хранится у Стюарта Эванса, автора детективов.
(обратно)54
Из показаний Сэмюела Кента, Фоли, Урча и Херитиджа в ходе заседаний мирового суда в октябре — ноябре 1860 г.
(обратно)55
Об укладе жизни английских семей, принадлежащих среднему классу см.: «Викторианская семья: состав и стрессы» / под ред. А. Воль (1973). В очерке, включенном в эту антологию, Э. Шоувольтер пишет, что тайна заключается в «коренных условиях самой жизни среднего класса. Глубинная самопоглощенность каждого индивида и соучастие общества в украшении фасада, за которым таятся бесчисленные тайны, — вот темы, занимавшие многих романистов середины века».
В 1938 г. немецкий философ В. Беньямин связал эту вновь возникшую склонность к сохранению частной жизни с возникновением детективной литературы: «Впервые личное пространство человека образует явный контраст с повседневной служебной рутиной. Следы последней отпечатываются дома, и из них-то рождается детективное повествование».
(обратно)56
В эссе о детективах Б. Брехт пишет: «Мы получаем наши знания о жизни в виде описаний катастроф. История пишется по следам катастроф… Кто-то умер. Что предшествовало смерти? Что произошло? Каким образом возникла сама ситуация? Появляется возможность дедуктивным способом ответить на эти вопросы». Цитата взята из кн.: Мандель Э. «Восхитительное убийство: социальная история детектива», 1984.
(обратно)57
В Библии сказано: «И сказал Господь (Бог) Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож братцу моему? И сказал (Господь): что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт. 4:9-10).
(обратно)58
Из показаний Уичера, данных в суде во второй половине того же дня.
(обратно)59
Согласно одному малоправдоподобному слуху, Кенты были незаконными отпрысками королевской семьи. Журналисты временами отмечали сходство Констанс с королевой Викторией.
(обратно)60
См.: Кобб Б. «Роковые годы Скотленд-Ярда: карьера Фредерика Уильямсона из отдела уголовного розыска», 1956.
(обратно)61
Согласно данным переписи 1861 г.
(обратно)62
См.: Кавано Т. «Скотленд-Ярд вчера и сегодня: Тридцать семь лет службы», 1893.
(обратно)63
Таким правом ответчики пользуются лишь начиная с 1898 г.
(обратно)64
Если Евгения лгала, то возникает вопрос, какую роль в ее жизни играл домашний врач мистер Гэй, с которым она — в одиннадцать-то лет — уже была помолвлена и который называл ее своей женушкой. Это он обследовал ее на предмет обнаружения следов сексуальных домогательств, обнаружив, по его словам, «незначительные следы насилия».
(обратно)65
Из показаний Луизы Хэзерхилл на заседании уилтширского мирового суда 27 июля 1860 г.
(обратно)66
В отчете Уичера от 22 июля обратный адрес значится как «Вулпэк инн», но в рекламных объявлениях местных газет та же гостиница называется немного иначе: «Вулпэкс инн».
(обратно)67
За пятнадцать лет до этих событий, в марте 1845 г., Мейн строго отчитал Уичера и его напарника сержанта Генри Смита за недостаток почтения к старшим офицерам, подчеркнув, что подобное поведение «является в высшей степени неподобающим и непростительным с точки зрения закона». Поскольку это был первый случай в подобном роде, Мейн ограничился устным выговором, но предупредил, что в случае повторения наказание будет более суровым (Брайн Д. Дж. «Возникновение Скотленд-Ярда: история лондонской полиции», 1956).
(обратно)68
Из пометок Уичера на письме сэра Джона Ирдли Уилмота от 16 августа 1860 г. (Национальный архив лондонской полиции, 3-61).
(обратно)69
См.: «Фрум таймс», 20 июня 1860.
(обратно)70
Мономания — психическое заболевание, впервые описанное французским психиатром Ж. Эскиролем в 1808 г.
(обратно)71
Шерлок Холмс следовал тем же путем: «Вы ведь знаете мой метод. Он основан на наблюдении за самыми незначительными вещами. Нет ничего важнее пустяков» (Доил А. К. «Человек с рассеченной губой», 1891).
(обратно)72
По сообщению газеты «Всемирные новости», как раз в том месяце погибла работница пошивочной фабрики в Шеффилде: ее кринолин попал во вращающийся барабан машины, и беднягу просто задушило.
(обратно)73
Самое острое оружие детектива, утверждает Диккенс, — нестандартность мышления. «Все время настороже, все время в состоянии наивысшего умственного напряжения, эти люди должны быть всегда готовы к любым хитростям, на которые так горазд английский преступный мир, и предвидеть, что может из них воспоследовать» (Хаусхолд уордс, 10 августа 1850).
(обратно)74
Ночная рубашка, позволяющая установить связь между девочкой-подростком из уважаемой семьи и убийством, подобно костям, иллюстрирующим процесс происхождения человека от обезьяны, — дело страшное, занимаясь им, нельзя не испытывать страха. Об эмоциях, пробуждаемых феноменом «недостающего звена», пишет в книге «В поисках недостающего звена: интердисциплинарные этюды» (1993) Джилиан Вир.
(обратно)75
Об угрозах, исходящих от слуг и полицейских для частной жизни средней английской семьи, пишет в книге «Преступления на домашней почве в викторианском романе» (1989) Антеа Тродд.
(обратно)76
Экленд — девичья фамилия матери миссис Кент; Фрэнсис (первое имя Сэвила) — было дано ее отцу при крещении.
(обратно)77
В адресной книге 1861 г. его имя не фигурирует, однако же есть ряд указаний на то, что к 1860 г. Уичер уже поселился здесь. В одном из полицейских циркуляров, относящихся к 1858 г., он обращается к коллегам с просьбой сообщить ему любую имеющуюся информацию об исчезнувшем двадцатичетырехлетнем господине, «предположительно несколько тронувшемся умом». Адрес указан служебный — Скотленд-Ярд. Но уже две недели спустя в «Таймс» было опубликовано частное объявление, сулящее десять фунтов любому, кто предоставит информацию о местонахождении того же самого молодого человека «с довольно бледным округлым лицом». Подписано оно было неким Уилсоном, но скорее всего за этим именем скрывался сам Уичер, и адрес указан иной — Холивелл-стрит, 31. Псевдоним же понадобился для того, чтобы скрыть тот факт, что полиция разыскивает больного человека. «Приемы, используемые сыщиками, поистине неисчислимы, — замечает герой романа „Женщина-детектив“. — Боюсь за многими вполне невинными объявлениями скрываются следы детектива».
(обратно)78
См: литографии и карты, хранящиеся в Вестминстерской исторической библиотеке, а также «Скотленд-Ярд вчера и сегодня». В 1890 г. главное управление лондонской полиции было перемещено в здание на набережной Темзы, получившее наименование Нового Скотленд-Ярда, в 1867 г. — в квартал правительственных учреждений на Виктория-стрит, сохранив при этом то же наименование.
(обратно)79
Та же игра слов: Whicher — witchery (ведовство).
(обратно)80
Другие авторы также отмечали, что особый интерес к жестоким преступлениям проявляют женщины. Например, Эдвард Бульвер-Литтон, пишет в своей книге «Англия и английское» (1833), что именно женщины «с жадностью набрасываются на рассказы или пьесы трагического или леденящего кровь содержания… Вам наверняка приходилось видеть, как уличные торговцы сбывают женщинам книжки, повествующие о самых кровавых убийствах».
(обратно)81
См.: перепись 1861 г., свидетельство о смерти Торнтона, Национальный архив лондонской полиции, 4-333 (прием на службу, повышения). Отдел расследований несколько расширился, но и теперь в нем служило всего 12 человек, в то время как сегодня — 7000!
(обратно)82
Национальный архив лондонской полиции, 2-23 (материалы 1862 г., касающиеся помощи, оказанной российскому правительству в реорганизации варшавской полиции).
(обратно)83
Диккенс, с которым он познакомился в 1850 г., прозвал его Сталкером. Сам он детективом не был, служил в секретариате комиссара полиции.
(обратно)84
Сведения о погоде взяты из отчетов о весенних скачках в Эпсоме (25 апреля 1865 г.). Дерби прошло, как указывает «Таймс», в самый жаркий день апреля, температура в тот день была выше среднеиюльской.
(обратно)85
В апрельском выпуске «Биддер» (1860) говорится, что зимой обстановка в зале была дурна, летом же просто невыносима. Мировые судьи пытались найти себе новую крышу начиная с сороковых годов.
(обратно)86
После возвращения дела об убийстве на Роуд-Хилл Уильямсон (Долли) женился и воспитывал двухлетнюю дочь Эмму. Даркин возглавлял расследование печально знаменитого дела, легшего в основу одного из очерков У. М. Теккерея. Некий ростовщик с Нортумберленд-стрит, неподалеку от Стрэнда, напал на своего нового клиента, майора 10-го гусарского полка Уильяма Марри. Тот ответил ударом на удар и в конце концов размозжил обидчику голову бутылкой. Выяснилось, что гнев ростовщика был вызван его тайной влюбленностью в жену Марри.
«В свете всего происшедшего, — пишет Теккерей, — какой смысл тщательно оправдывать те или иные сюжетные ходы в литературе?.. Если возможно такое, то что вообще невозможно? Возможно, рынок Хангерфорд заминирован, и в один прекрасный день прозвучит взрыв». Беспричинное насилие могло потрясти, изумить, даже вызвать священный трепет — мир как более или менее безопасное место разлетелся на куски, и последовать могло все, что угодно. Преступление на Нортумберленд-стрит, нашедшее, между прочим, отражение в «Лунном камне», подробно описывается в исследовании Ричарда Д. Олтика «Страшные встречи: две сенсации викторианской эпохи» (1986).
(обратно)87
Как следует из свидетельства о смерти, он скончался от грудной водянки у себя дома в Троубридже 5 сентября 1864 г.
(обратно)88
Этот образ позаимствован из стихотворения Ковентри Пэтмора, в котором описывается самоотреченность и верность его жены Эмили.
(обратно)89
Цитата из газеты «Таймс», 26 апреля 1865 г. Столь же цинично отзывается о женских инстинктах «Бат кроникл». В номере от 29 апреля говорится, что это преступление отличается «утонченной жестокостью», на которую способны только женщины. «Сатердей ревью» выражает надежду на то, что Констанс — это «психологический монстр», но не типичная девочка-подросток. Проблема женской преступности исследуется также в книге: Нельман Ю. «Порывы ветра: женщины-убийцы и английская пресса», 1998.
(обратно)90
Тэннер по состоянию здоровья ушел в отставку в 1869 г. и тогда же открыл гостиницу в Винчестере. Он умер в 1873 г. сорока двух лет от роду. См.: Локк Д. «Страшные преступления и жестокие убийства: первые детективы Скотленд-Ярда», 1990.
(обратно)91
Дэвис Д. «Дело Констанс Кент с точки зрения святой католической церкви», 1865; Вуд Э. П. «Дело Констанс Кент глазами верующего», 1865.
(обратно)92
Родуэй передал эту записку прессе, и она появилась тем летом в ряде английских газет.
(обратно)93
Вскрывая извращенную логику подобного поведения, Степлтон пересказывает страшную историю, связанную с одним молодым человеком, настолько завороженного ветряными мельницами, что он готов был смотреть на них целыми днями. В 1843 г. друзья, дабы излечить его от этой мании, увезли в другое место, где мельниц не было. Там маньяк завлек в лес мальчика, убил и расчленил тело на части. Объяснил он свое поведение тем, что надеялся быть отправленным в качестве наказания в такое место, где окажется мельница.
(обратно)94
«Воплощенное „я“…» (op. cit.). «Моральный урок, который следует извлечь из всей этой истории, заключается в том, что низменные инстинкты таятся даже в детских душах» («Медикал таймс энд газетт», 22 июля 1865). Цитируется по книге: Хартман М. «Женщины-убийцы в викторианские времена: подлинная история тринадцати англичанок и американок, обвиненных в убийстве», 1976.
(обратно)95
Колридж зарабатывал более 4000 фунтов в год.
(обратно)96
Из переписки, хранящейся в архиве Бернарда Тейлора.
(обратно)97
Из показаний Густавуса Смита от 24 июля 1865 г. Архив министерства внутренних дел, 1144-20-49113.
(обратно)98
По названию старинной гостиницы, находившейся в этом месте на юго-западе Лондона. — Примеч. пер.
(обратно)99
Притчард был повешен в пятницу.
(обратно)100
Из письма, отправленного Колриджем У. И. Гладстону 6 апреля 1890 г.
(обратно)101
Изваяние Констанс Кент мадам Тюссо выставила только после смерти Сэмюела Кента — возможно, из уважения к его чувствам. Согласно музейным каталогам, оно было доступно для обозрения с 1873 по 1877 г.
(обратно)102
В лекции «Умопомешательство как юридическая проблема», прочитанной тринадцать лет спустя — в апреле 1878 г. — в Королевском медицинском колледже, Бакнилл продолжил разговор о мотивах, толкнувших Констанс на преступление. У девушки «копились ярость и мстительное чувство» по отношению к своей «несдержанной мачехе», вызванные унизительными репликами, которая та отпускала по адресу ее «полупомешанной» матери. Констанс попыталась было убежать от «ненавистной» матери, но была поймана и возвращена домой; тогда она и приняла твердое решение отомстить. Яд показался ей «недостаточным наказанием», и она решила убить Сэвила. «Ужасная история, — замечает Бакнилл, — но кто не испытает сострадания при мысли о семейных несчастьях, которые за ней стоят?» Цит.: Мэйкок У. «Знаменитые преступления и знаменитые преступники», 1890.
(обратно)103
Из свидетельства о браке Джонатана Уичера, в котором он называет себя не вдовцом, а холостяком.
(обратно)104
Об овцах, щиплющих траву близ Вестминстерского аббатства, упоминает И. Тэн в «Английских заметках» (1872)
(обратно)105
См.: «Таймс», 9 декабря 1858 г.
(обратно)106
См.: Дилнот Дж. «Скотленд-Ярд, его история и структура», 1829.
(обратно)107
Согласно переписям 1861, 1871 и 1881 гг., а также из свидетельства о браке Сары Уичер и Джеймса Холивелла.
(обратно)108
В просторечье того времени «cuff» — это сокращенная форма глагола «to handcuff», что в переводе — надеть наручники.
(обратно)109
В ежегодном мартовском докладе фабричный ревизор Роберт Бейкер указывает на большую несправедливость, совершенную по отношению к Сэмюелу после смерти Сэвила. Соответствующие выдержки из этого отчета, касающиеся испытаний, выпавших на долю его сослуживца, включая «угрозу слепоты» и паралич, который разбил миссис Кент, опубликованы в «Таймс» от 24 марта 1866 г. Согласно свидетельству о смерти, Мэри Кент скончалась 17 августа 1866 г. в Лэнголлене — Сэмюел присутствовал на ее похоронах. Архив министерства внутренних дел, 45-6970.
(обратно)110
Сведения о жизни Уильяма Кента после 1865 г. содержатся в книге: Харрисон Дж. «Исследователь австралийских вод», 1993.
(обратно)111
См.: Хаксли Т. «О методе Задига: ретроспективное пророчество как функция науки» (1880). В «Тайне леди Одли» Мэри Брэддон называет работу детектива «обратным расследованием». Примерно в 1865 г. американский философ Чарлз Сандерс Пирс выдвинул концепцию «абдукции», или ретроспективной дедукции. «Истину можно добыть только гипотетическим путем, иначе она недостижима». Об «обратном гипостазировании» см. также: Леман П. «Безупречное убийство», 1989; Вир Г. «Восстанавливая недостающее звено: интердисциплинарные истории», 1993.
(обратно)112
По созвучию с «бестселлером», хотя семантически в этих словах — реально существующим и воображаемым — нет ничего общего. «Backteller» означает нечто вроде повествования о том, что было. — Примеч. пер.
(обратно)113
См.: Честертон Г. К. «Взгляд на творчество Чарлза Диккенса», 1911. В цитате содержится аллюзия на Библию: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию» (Иов, 19:25). Другие, впрочем, находят концовки детективных рассказов разочаровывающими. «Разгадка тайны всегда ниже самой тайны, — пишет Хорхе Луис Борхес в новелле „Абенхакан Эль Бохари, погибший в своем лабиринте“ (1951). — К тайне причастно сверхъестественное и даже божественное, разгадка же — фокус».
(обратно)114
Из завещания Сэмюела Кента, датированного 19 января 1872 г. и подтвержденного Уильямом 21 февраля того же года.
(обратно)115
Согласно свидетельству о смерти, она скончалась 15 февраля в Манчестере.
(обратно)116
Через шесть лет, в 1887 г., А. К. Дойл написал первый из своих рассказов о Шерлоке Холмсе, которые ожидал необыкновенный читательский успех. В отличие от Джека Уичера вымышленный детектив А. К. Дойла — это любитель и джентльмен, он всегда оказывается прав. «Самый совершенный в мире аппарат, созданный для наблюдения и делания выводов», как говорит в новелле «Скандал в Богемии» друг и летописец Холмса доктор Ватсон.
(обратно)117
См.: Гриффитс А. «Пятьдесят лет на службе обществу», 1904.
(обратно)118
В письме, отправленном в январе 1874 г. одному из своих клиентов из «Филд Лодж», его дома в Челси, Филд просит прислать полагающийся ему 1 фунт стерлингов — «последние четыре месяца, — пишет он, — я провел в постели и задолжал доктору 30 фунтов». Письмо хранится в Британском собрании рукописей: оп. 42580, папка 219. В том же году Филд скончался.
(обратно)119
См.: Кобб Б. «Критические годы Скотленд-Ярда: карьера Фредерика Уильямсона из управления службы детективов и отдела по расследованию уголовных преступлений», 1956.
(обратно)120
Согласно записям в книгах собора Святого Павла за 1874–1879 гг. мозаика для пола крипты была сделана в основном заключенными Уокингской тюрьмы в 1875–1877 гт.
(обратно)121
См.: Гриффитс А. «Тюремные тайны», 1894.
(обратно)122
Гриффитс А. «Пятьдесят лет на службе обществу», 1904.
(обратно)123
Архив министерства внутренних дел: Петиции, 144-20-49113.
(обратно)124
Австралийский специалист по жемчугу С. Д. Джордж указывает, что в 1901 г. приемный отец этих двух японцев провел на Четверговом острове несколько месяцев, и у него была возможность наблюдать за работой Уильяма Сэвила Кента. Джордж также утверждает, что незадолго до смерти Сэвил Кент добился успеха в культивации цельного жемчуга, и созданные им жемчужины обнаружились в 1984 г. у одной женщины-ветеринара, проживающей в Брисбене; ходят слухи, что еще одна нитка принадлежит одной ирландской семье.
(обратно)125
Информация о семье Кентов почерпнута из свидетельств о смерти, завещаний, корреспонденции, хранящейся в архиве Бернарда Тейлора, и разысканий, проведенных в Австралии А. Дж. Харрисоном и Ноэлиной Кайл.
(обратно)126
См.: Бриджес И. «Святая — с руками по локоть в крови?»; 1954. Автор утверждает, что получила информацию из первых рук, от женщины, которой было двадцать два года, когда она в 1885 г. познакомилась с Констанс. Когда Бриджес приступала к написанию своей книги, о судьбе Констанс после освобождения из тюрьмы еще ничего не было известно.
(обратно)127
В 1899 г. Мэри-Амалия вышла замуж за сиднейского садовника, а на следующий год родила дочь — своего единственного ребенка. Эвелин, которую все называли Леной, вышла в 1888 г. за медика и стала матерью сына и дочери. Флоренс оставалась старой девой и последние годы жизни провела рядом со своей племянницей Оливией.
(обратно)128
Об утечке газа говорится в одном из номеров «Сомерсет энд Уилтс джорнэл» за 1865 г. По версии журналиста, Констанс, действительно находившаяся тогда в своем пансионе, «в ответ на оскорбление со стороны учителя решила открыть во всем доме газ, не делая тайны из того, что ее цель — вызвать взрыв».
(обратно)129
Имея в виду широкий интерес, который привлекло к себе «Происхождение видов» (1859), такое утверждение представляется вполне правдоподобным. Правда, в другом случае в письме содержится явный анахронизм: автор заявляет, будто юная Констанс то и дело шокировала людей, ссылаясь на «божественную Сару» (Бернар), но актриса — ее ровесница — приобрела известность лишь в 70-е гг.
(обратно)130
В одной из статей, опубликованной в 1949 г., Жеральдин Педерсен-Крэг высказывает мысль, согласно которой убийство в детективном романе является преображением того момента, когда ребенок впервые осознает, что мать и отец совершают любовный акт. Жертва воплощает одного из родителей, следы — ночные стоны, пятна и шутки, которые ребенок видел и слышал, но едва ли понимал смысл. Читатель детективного романа, продолжает Педерсен-Крэг, удовлетворяет свое детское любопытство, идентифицируя себя с детективом и таким образом «полностью изживая беспомощность и тревожное чувство вины, бессознательно живущее в нем с детских лет».
В 1957 г. психолог Чарлз Рикрофт уточнил, что читатель воплощает не только детектива, но и преступника, давая таким образом выход враждебному чувству по отношению к родителям.
(обратно)131
См.: Хайден Д. «Сифилис: гений, безумие и тайна», 1904. Сведения, касающиеся сифилиса, получены также от лондонского дерматолога-консультанта Алистера Баркли.
(обратно)132
В трагедии Софокла «Эдип-царь», которую иногда называют первым в мире детективом, заглавный герой предстает и убийцей, и детективом, он совершает преступления, и он же их раскрывает. «В любом расследовании настоящий детектив — подозреваемый, — пишет в „Онемевшем доме“ Д. Бернсайд. — Это он показывает нам следы, это он выдает себя».
(обратно)133
В «Убийстве и его мотивах» (1924) Ф. Т. Джесс признает виновность Констанс, но сетует на то, что родилась она в век, не способный разобраться в ее сложной психологии. В книге «Граф-повстанец и другие исследования» (1926) У. Рафхед выражает сожаление в том, что психиатр не смог распознать «душевного заболевания» Констанс. И. Бриджес («Святая с руками по локоть в крови?», 1954) утверждает, что убийцами на самом деле были Сэмюел Кент и Элизабет Гаф, а Констанс сделала свое признание, чтобы обелить их. Эту точку зрения разделяет М. Хартман, автор книги «Убийца викторианских времен» (1977). Бернард Тейлор, в свою очередь («Жестокое убийство», 1979), готов согласиться с тем, что мальчика убила Констанс, но тело его изуродовал, чтобы скрыть преступление, совершенное дочерью, Сэмюел, у которого был роман с Элизабет.
В том же ряду можно упомянуть один из эпизодов английского фильма ужасов «Смерть в ночи» (1945), когда в глухом углу сельского дома героине является призрак Сэвила Кента и горько жалуется, отчего она так жестоко с ним обошлась. Два года спустя сэр Джон Миллз поставил в Лондоне написанную его женой X. Белл пьесу «Ангел». Публика была настолько шокирована откровенным сочувствием драматурга к Констанс, что спектакль пришлось снять через несколько недель после премьеры, и вообще он едва не положил конец литературной карьере автора. Э. Хибберт, писавшая под псевдонимом Джин Плейди историческую прозу, положила эту историю в основу романа «Мрачная история» (1953), который выпустила под другим псевдонимом — Э. Форд. Фрэнсис Кинг, автор романа «Темное деяние» (1983), переносит место действия в Индию 30-х годов прошлого века и несколько меняет расстановку персонажей: мальчик по случайности убивает свою сестру и няню, застав их за грехом лесбиянства. В романе Дж. Фрила «Под завесой» (1989) действие происходит в Манчестере: мальчик убивает отца и тетку-няню, застав их в одной постели; его сводная сестра-подросток расчленяет тело и, дабы обелить отца, который еще раньше изнасиловал ее, делает ложное признание в убийстве. В 2003 г. В. Уолкер изложила тот же сюжет в большой (и по сию пору не опубликованной) поэме «Синее пламя», в которой используется одно слово из каждой строки книги Степлтона «Знаменитое убийство 1860 года».
(обратно)134
Повесть Генри Джеймса была опубликована в 1898 г., как раз когда достигли пика популярности рассказы о Шерлоке Холмсе. В «Повороте винта» детективный сюжет перевернут с ног на голову: тайна молчания детей так и остается тайной; повествователь-детектив становится участником безымянного преступления; смерть ребенка становится не завязкой, а развязкой повествования.
(обратно)135
Производивший вскрытие тела Джошуа Парсонс отвергает подобную версию. Надрезы, как показывал он на судебном заседании 4 октября 1860 года, не кровоточили, что свидетельствует о том, что сделаны они были уже после смерти ребенка — возможно, случайно. Но в любом случае, говорит он, поранена была правая рука, а не левая. Его выводы подкрепляют версию об удушении мальчика, что Степлтон всячески пытался опровергнуть.
(обратно)

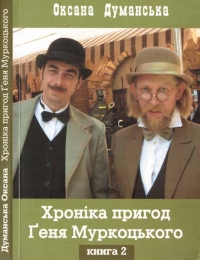
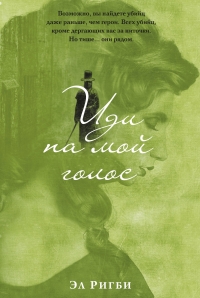
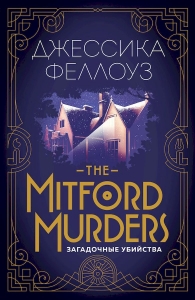
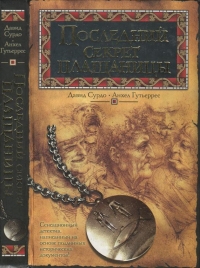
Комментарии к книге «Подозрения мистера Уичера, или Убийство на Роуд-Хилл», Кейт Саммерскейл
Всего 0 комментариев