Врублевская Катерина Дело о рубинах царицы Савской
Глава первая
Пасквиль. Проект Аршинова. "Северная Пальмира". Условие тетушкиного завещания. Одесский порт. Перепись колонистов. Отплытие. Капитан Мадервакс. Маршрут путешествия. Трюм. Больной ребенок. Матросская каша. Два негодяя. Наказание самогонщика. Разговор с Головниным.
14 декабря 1894 года.
Заметка в "Московском листке" издателя Пастухова.
""Вольный казак", а попросту пензенский мещанин Н.И. Аршинов, вновь собирается ограбить казну, извести множество простого народа и опозорить нас перед Европой.
"Что же случилось?" — спросит почтеннейшая публика. И будет недоумевать, как наше правительство дозволило авантюристу, запятнавшему себя разбоем и неуважением к законам, снова собрать корабли и отправиться в экспедицию, от которой ни один здравомыслящий человек не ждет ничего хорошего".
Так начиналась заметка, наклеенная мною в толстую тетрадь "in folio", в которой я начала вести дневник. Продолжение я оторвала и выбросила, так как не могла стерпеть огромное количество грязи, вылившейся на моего друга, Николая Ивановича, из этого желтого листка, полного пасквилей и нападок.
Мы с Аршиновым познакомились в поезде на Варшаву[1], где он мгновенно завладел моим вниманием, а его арапчонок смотрел такими огромными глазищами, что становилось не по себе. Аршинов с таким увлечением рассказывал о деле своей жизни — расширении границ России-матушки, что я невольно увлеклась его проектом. Я сопереживала ему до такой степени, что согласилась участвовать в его второй экспедиции в Абиссинию. Согласие дано было не впопыхах, а после длительных раздумий: тетушка Мария Игнатьевна завещала мне крупный капитал с условием, что я совершу поездку в места, где странствовал мой покойный супруг, ученый-географ Владимир Гаврилович Авилов. И если бы я отказалась от сего намерения, то все ее капиталы разошлись бы по монастырям — тетя была набожной и любила замаливать грехи.[2] А мне нравилось жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Ведь только женщина со средствами может чувствовать себя современной и независимой от власти мужчин.
К экспедиции подготовились более чем тщательно: печальный опыт Аршинова учил его тому, что любая мелочь может оказаться бесценной в местах, где деньги не играют никакой роли.
Деньги собрали по подписке. Аршинов увлек сильных мира сего идеей основания на Красном море незамерзающего русского порта. Он говорил, что нельзя допустить экспансию Англии в Азию, и так они полмира захватили.
А простым переселенцам он рассказывал, что в Эфиопии лето теплое, зима мягкая, морозов не бывает, дождей достаточно — можно по три урожая в год снимать, не то, что в соседнем Судане, где дождей и вовсе не бывает. А эфиопы свою землю обрабатывают мало, ведь у них есть пословица: "Лучше умереть от голода, чем от работы". Поэтому они и рады будут обменять земли на малую толику картошки с кукурузой.
К Аршинову благосклонно отнеслись морской министр Шестаков, нижегородский губернатор Баранов, сам прошедший службу в российском военном флоте, и даже сам святейший обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев, чье мнение уважал император Александр III.
Богатые купцы первой гильдии, волжские судовладельцы и московские мануфактурщики расщедрились на покупку оборудования, скобяной и посудной утвари, столь необходимой на новом пустынном месте.
Ему удалось зафрахтовать торговый корабль "Северная Пальмира" Российской восточной компании, на который и погрузили наши вещи, скот, оборудование и сто сорок человек экспедиции. Мне была обещана одноместная каюта. Большинство участников экспедиции потеснятся в трюмах и на палубе.
Так как была зима, то компания охотно пошла нам навстречу, предложив корабль за умеренную сумму. Обычно "Северная Пальмира" ходила на Камчатку и Дальний Восток, но в это время на северных морских путях навигация остановилась из-за льдов, сковавших моря, и корабль простаивал без фрахта.
Вдоль бортов был навален строительный лес, тес, кругляки и брусы — все, что могло понадобиться для изб на новом месте. В трюме уложены саженцы вишневых и яблоневых деревьев, закутанные в плотную рогожу. Виноградные лозы сортов «Бахчисарай» и «Мускат» были тщательно перенумерованы, семена овощей и трав сложены в мешочки из навощенной ткани. На нижней палубе блеяли козы и бараны, мычали коровы, которых тоже везли обживаться на африканском берегу. Настоящий Ноев ковчег, а не корабль.
Я тоже внесла свою лепту. Вместе со мной ехала машина по выделке кирпичей — этот современный станок, изобретенный в Германии, был способен за час слепить две тысячи кирпичей. К нему прилагался чертеж простой печи для обжига и подробное описание, как ее построить собственноручно. В местности, скудной лесом, такая машина будет несомненным подспорьем в строительстве домов, по крайней мере, я на это надеялась. Аршинов сказал, что с обжигом проблем не будет — там, куда мы направлялись, нашли запасы каменного угля.
Конечной целью нашего путешествия должна была стать точка на карте — в самом конце Красного моря, там, где оно сужается, и сквозь Баб-эль-Мандебский пролив выходит в Индийский океан. Аршинов считал это место стратегическим и уместным для построения на нем колонии "Новая Одесса" — удобная бухта позволяла бы русским кораблям спокойно переносить тяготы плавания.
Я поражалась энергии и натиску этого уже немолодого, крепко сбитого казака. Как будто он одновременно мог находиться в нескольких местах: уговаривал толстосумов, проверял, правильно ли упакован багаж, подписывал кучу векселей, разговаривал с желающими участвовать в экспедиции.
К тому времени я уже приехала из N-ска в Одессу и ждала прибытия моего груза, закупленного для колонии. Делать было совершенно нечего, я прогуливалась по набережной и вспоминала свой разговор с отцом, присяжным поверенным Лазарем Петровичем Рамзиным.
— Куда ты на этот раз собралась, дочка? — спросил он, целуя меня в лоб.
— В Африку, papa, на побережье Чермного[3] моря.
Он нахмурился и произнес:
— Этому есть еще причины, помимо тетушкиного завещания?
— А разве это не самая важная причина, Лазарь Петрович? — я удивленно посмотрела на отца. — Ты же сам говорил давеча, что пять лет на исходе, и надо подумать о выполнении условия в завещании, иначе деньги перейдут монастырю.
— Но можно же было как-то по-другому… — сказал отец с несвойственной ему нерешительностью в голосе. — Я бы придумал что-нибудь. Отправил бы тебя на воды…
— Нет, papa, — заявила я, — это было бы нечестно по отношению к памяти моего покойного мужа и твоего друга. Поэтому я поеду в Африку, и выполню условие тетушки.
— Как знаешь, дочь моя. Не мне тебя останавливать. Напоследок мой тебе совет: привези из Африки документальные доказательства твоего нахождения там.
И, выпустив эту парфянскую стрелу, он, недовольный моим решением, вышел из комнаты.
* * *
Поселившись в Одессе в Воронцовском переулке, выходящем на роскошный Приморский бульвар, я ежедневно наведывалась в порт, чтобы лично наблюдать за погрузкой на "Северную Пальмиру". Меня завораживали шум и лязг, крики грузчиков, вид огромных тюков в толстой канатной оплетке, запахи йода, краски и дыма — мне все равно нечего было делать…
В один из дней я, как обычно, пришла с утра в порт и увидела Аршинова, смачно ругающего гуртовщика скота, вертлявого мужика в суконной поддевке со сборами.
— Ты какую скотину мне пригнал, ирод? Я тебе что заказывал? Это же не коровы — мощи!
— Не извольте сомневаться, коровы — первый сорт. Рога, копыта, все при всем. Исправные.
— Какие копыта? Какие рога? Они что, на рога худеют, я тебя спрашиваю?! Вон, ребра торчат! — и Аршинов со всего размаху стукнул корову по неровному боку. Корова испугалась и, подняв хвост, шлепнула на сапог казака тяжелую лепешку.
Суетливый гуртовщик почему-то обрадовался.
— Смотри, барин, хорошо коровка поела, а ты еще жалуешься!
— Да ну тебя! — отмахнулся от него Николай Иванович и тут заметил меня: — Полина, как хорошо, что вы пришли!
Он подошел ко мне, резко пахнущий коровьим навозом, и я постаралась не отшатнуться.
— Вот, решила посмотреть как продвигается погрузка, — начала я.
— Мне нужна ваша помощь.
— Говорите, чем могу помочь?
— Сейчас на пристань придут люди. Нужно переписать их имена, и какими ремеслами владеют. Отдельно городских, крестьян и казаков. Есть ли при себе инструмент, в порядке ли документы. А я за скотом присмотрю — не разорваться же мне!
— Разумеется, Николай Иванович, я и сама хотела предложить вам помощь. Ведь скучно сидеть, дожидаться отправки.
— Вот и чудесно! — обрадовался он. — Отправляйтесь в контору, что за пирсом, там уже собрались будущие колонисты. Бумагу и перо вам выдадут. Мне еще плотниками заниматься, они должны нары в грузовом трюме для переселенцев сколачивать. А у них еще конь не валялся!
Он махнул рукой, повернулся к гуртовщику и вновь принялся хлопать коров по тощим задам, подталкивая их к сходням.
* * *
Около конторы образовалась толпа человек в сто пятьдесят. Некоторые бабы держали на руках ребятишек, укачивая их. Дети постарше шныряли меж взрослых. Мужчины стояли отдельно, разбившись на группы. Они беседовали, неторопливо покуривая. У задней стены эллинга[4] лежали тюки с нехитрым скарбом. Из плетеных сеток выглядывали недовольные куры и гуси.
Посторонившись, мне дали пройти в контору. Я вошла и объяснила приказчику, что буду переписывать добровольцев по личной просьбе Аршинова. Услышав фамилию, напомаженный молодой человек поклонился, предложил мне стул и подровнял стопку бумаги на столе.
— Как вас зовут? — спросила я.
— Прокофием Власовым, сударыня. Я здесь в портовых служащих. Временно приставлен к господину Аршинову.
— Очень хорошо, Прокофий. Впускай людей семьями, и поставь тут лавку, чтобы они не стояли.
Расторопный служащий выполнил мою просьбу, открыл дверь и принялся руководить очередью, выражая особенное усердие. Толпа возле дверей заволновалась.
Аршинов заглянул в контору, гаркнул на толпу: "Аполлинария Лазаревна — моя правая рука. Подчиняться, как мне! Всем ясно?!" — люди тут же присмирели, и уже никто не лез вперед с руганью и тычками.
Посетители заходили один за другим. На предложение присаживаться переминались с ноги на ногу и неохотно садились. Ребятишки бегали по конторе, норовя схватить все, что попадается на глаза.
Не буду описывать всех, так как за несколько часов сидения за столом все слилось в череду безликих образов. Остановлюсь лишь на тех, кто заинтересовал меня своей непохожестью, выделился из общей массы колонистов, желающих достичь рая на земле.
Авдей Петрович Толубеев, казак станицы Вольной на Дону, лет пятидесяти, высокий кряжистый мужик, кузнец и печник. Когда он зашел в комнату, мне показалось, что он занял собой большую ее часть. За ним следовала невысокая худенькая жена с острым носом на морщинистом лице и два сына, Прохор и Григорий, восемнадцати и двадцати лет. Сыновья пошли ростом в мать, но размах плеч им достался от отца.
Арсений Михайлович Нестеров, двадцати девяти лет, мещанин из Москвы, недоучившийся студент медицинского отделения университета. Телосложения хлипкого, росту высокого, носит бородку и круглые очки. Из багажа — тючок с носильными вещами, медицинский саквояж и тяжелая коробка с фотографическим аппаратом. Говорит образно, слегка заикается. Отрекомендовался фотохудожником-любителем, ботаником и биологом.
Савелий Христофорович Маслоедов, тридцати двух лет. Иссиня-черные волосы, разделенные на четкий прямой пробор, тонкие усики и переливающийся жилет из камки[5] бутылочного цвета завершал картину. При нем присутствовали две женщины — жена и сестра, обе пышные, полногрудые, но непохожие друг на друга. Одна из них, та, что постарше, — рыжая, другая — брюнетка. Женщины были одеты с кокетливым мещанским шиком: яркие юбки, полусапожки с ушками и шали с вытканными розами. Рыжеволосую звали Марией, черноволосую — Агриппиной.
Монах по имени Автоном. Одет в хламиду непонятного цвета, подпоясан веревкой. На ногах странные кожаные сандалии. Взгляд, горящий и полубезумный, говорит об обращении заблудших душ. Возраста его мне так и не удалось узнать, как и фамилии. Изъясняется исключительно на церковнославянском. Объяснил, что у монахов фамилии нет. Все время бормотал, что послан с великой целью, смысл которой остался для меня туманен.
Крещеный осетин Георгий Сапаров, тридцати двух лет. Вида звероподобного, в черкеске с кинжалом, борода начинается от глаз. Говорит на русском плохо. Документы исправны, в паспорте написано — православный. О том, почему он поменял веру, я спрашивать не стала.
Только к вечеру я закончила перепись. Всего набралось сто восемьдесят две души: сто двадцать мужчин, сорок три женщины и восемнадцать детей в возрасте до девяти лет.
Пришел Аршинов, похвалил меня и увел обедать. Потом я вернулась к себе и легла спать. А на утро было назначено отплытие.
* * *
Раздался длинный протяжный гудок и "Северная Пальмира" отчалила. Несмотря на ясное солнечное утро, нас никто не провожал, на пирсе не махали платочками, с верфей доносились глухие удары и визжание пил. Отплытие состоялось без звуков фанфар и духового оркестра. Никто не бросал шляп в воздух, не сверкали фейерверки и не слышались залпы салюта. Все было скучно и буднично, ведь кому интересен обыкновенный торговый корабль, стоящий в одесском порту среди сотен таких же, как он?
Мы словно уплывали в никуда.
Стоя у поручней, окаймлявших высокую палубу, я глядела на удаляющийся берег и старалась не думать о том, что меня ждет впереди. Мне хотелось убежать от самой себя, и путешествие через три моря совсем не худшее лекарство от этого состояния.
Корабль, не торопясь, вышел из порта, отдаляющийся берег подернулся туманной дымкой, и я отправилась разбирать саквояжи.
Николай Иванович предоставил мне небольшую одноместную каюту, неподалеку от капитанской. В ней еле-еле помещалась койка, небольшой столик и стул, но я была очень рада. Вторая одноместная каюта, напротив моей, была заперта на ключ. Странно, что там никто не поселился — я видела, как матросы несли вещи Аршинова совсем в другую сторону. Грузовое судно обычно не оборудуется многими каютами, место необходимо высвободить под груз, а я многое везла с собой: в основном, предметы белья, гигиены и самые необходимые лекарства. Они занимали два саквояжа, и я принялась укладывать их в рундук под койкой.
В дверь постучали.
— Госпожа Авилова, капитан приглашает вас на завтрак.
— Одну минуту, я выхожу.
Когда я вышла в коридор, матрос стоял и ждал меня. Со словами "Я провожу, а то вы заблудитесь", он быстро пошел вперед, а я поспешила за ним, дабы не остаться одной в узких корабельных закоулках.
В кают-компании был накрыт большой стол на семь персон. При виде меня мужчины встали. В их обществе я оказалась единственной дамой.
Аршинов, подал мне стул и познакомил с капитаном. Его звали Иван Александрович Мадервакс. Это был дородный высокий мужчина, иссиня-черный брюнет с орлиным профилем и пышными усами. Белый капитанский китель сидел на нем как влитой.
Первого помощника, Сергея Викторовича, высокого шатена, я узнала сразу — это он встретил меня и проводил до каюты. Я ему улыбнулась.
За столом я увидела также чиновника в мундире министерства иностранных дел, коллежского асессора, Порфирия Григорьевича Вохрякова. Он был лыс, роста маленького, брови насуплены, с суетливыми руками.
— Познакомьтесь, Полина, — Аршинов указал на статного мужчину лет сорока в штатском, но с военной выправкой. — Лев Платонович Головнин, охотник, добытчик трофеев и знаток повадок диких зверей. Решил поучаствовать в нашей экспедиции — охота в тех местах богатая.
— Очень приятно, — улыбнулась я и протянула руку для поцелуя.
Матрос в белой куртке подал рассыпчатую пшенную кашу, крутые яйца, свежие булочки необычной плетеной формы и рыбный паштет. Признаться, я впервые завтракала на корабле, и необычность меню мне понравилась.
— Как устроились, Аполлинария Лазаревна? — спросил меня капитан.
— Благодарю вас, очень удобно. Пока не освоилась, но, думаю, что плавание мне понравится. Только бы не заболеть морской болезнью! Боюсь, что тогда вся эта вкусная еда придется мне не по вкусу.
— Не волнуйтесь, — засмеялся первый помощник, — мы вам выдадим сухари и соленые огурцы. От них даже в шторм не отказываются.
— Смею заметить, — недовольно произнес чиновник, обращаясь к капитану, — что на форпике[6] качает с неимоверной силой. Зря вы поместили меня на носу. Я слышал, что на корме качка не такая изматывающая.
— Я распоряжусь доставить вам в каюту сухари и соленые огурцы, — абсолютно серьезно ответил Иван Александрович.
— Как долго мы будем плыть? — спросила я, намазывая паштет на кусочек булки.
— Идти, г-жа Авилова, идти, а не плыть. Около двух недель. Сами посчитайте: три дня до Босфора, потом денек по Мраморному морю до Дарданелл, четыре дня по Эгейскому со Средиземным морям. Это если шторм нас не захватит — в январе Средиземное море неспокойно. А если не повезет, то еще день-два накиньте. Пару дней постоим в Александрии — наберем свежей воды, потом день идти до Порт-Саида, там возьмем лоцмана и спустимся по Суэцкому каналу прямо в Красное море. Еще четыре дня и мы в Баб-эль-Мандебском проливе. А там и до места назначения рукой подать.
Меня заворожили названия, вкусно произнесенные капитаном: Суэцкий канал, Александрия, Баб-эль-Мандебский пролив… Я никогда не была в тех местах и поэтому с нетерпением ожидала новых впечатлений.
Мне очень нравилось сидеть в уютной кают-компании, где стены украшали деревянные лакированные панели, а электрические лампы давали мягкий рассеянный свет. Каждая вещь была на своем месте, и небольшое внутреннее пространство было заполнено со вкусом и некоторым изыском.
— Как все здесь продумано, капитан Мадервакс, — похвалила я убранство.
— Да, — кивнул он, соглашаясь, — корабль небольшой, но современный и с прекрасной маневренностью. Длина — сто десять метров, ширина — в десять раз меньше, грузоподъемность почти три тысячи тонн. Великолепный корабль! До него я ходил на паруснике, и скажу вам, Аполлинария Лазаревна, за пароходами большое будущее!
Аршинов перехватил внимание капитана и принялся обсуждать с ним бытовые проблемы переселенцев, а ко мне обратился старший помощник:
— Г-жа Авилова, хотите, после завтрака я покажу вам корабль?
— С удовольствием! — воскликнула я. — Вы опередили мои пожелания.
— Вот и отлично. У меня есть час свободного времени. Только оденьтесь потеплее, на палубе морозно.
Мы поднялись на верхнюю палубу и помощник капитана начал свой увлекательный рассказ. Его речь изобиловала морскими терминами, некоторые слова он произносил не с тем ударением, но слушать его было интересно и познавательно.
Опущу в своем повествовании сведения о количестве спасательных шлюпках и устройстве секстанта, так как меня более всего интересовали люди.
— А где пассажиры? — спросила я Рощина. — Я хочу знать, как они устроились.
Сергей Викторович слегка поморщился:
— Не волнуйтесь, Аполлинария Лазаревна, все они расположены в большом грузовом трюме. Места достаточно, и не думаю, что вам следует волноваться. Матросы следят, чтобы у переселенцев не было ни в чем недостатка.
— И все же мне бы хотелось удостовериться в этом самолично. Если нужно разрешение Николая Ивановича, то я немедленно отправляюсь в кают-компанию.
— Как вам будет угодно, — вздохнул Рощин, решив не спорить со взбалмошной дамочкой, — извольте спуститься за мной по скобтрапу.[7] Будьте осторожны, качает.
Казалось, ступенькам не будет конца — у меня даже закружилась голова, когда я спускалась все ниже и ниже, крепко держась руками за балясины.
Сквозь подволочные[8] люки пробивался свет, но все-таки его было недостаточно. Первое, что я почувствовала — запах скученности, человеческих испарений и кислого молока. Меня шатнуло. Рощин наклонился ко мне и прошептал: "Я ведь вас предупреждал, госпожа Авилова. Вас увести?"
Отрицательно покачав головой, я попыталась возразить, и в этот момент ко мне кинулась женщина:
— Барыня, вы же начальство тут. Помогите!
— Что случилось? — спросила я ее. Объяснять, что я не имею к начальству никакого отношения, не было резона, все видели меня заполняющей список, а кто этим занимается, как не начальство?
— Ребенок у меня захворал. В горячке мечется!
— Где он?
— Пойдемте за мной, я покажу.
И я отправилась вглубь трюма, мимо наспех сколоченных нар, на которых сидели и лежали переселенцы. Женщины были отделены от мужчин старым парусом, заменяющим перегородку. Дети находились с ними.
Ребенок лет пяти лежал на ворохе тряпья и шумно, со свистом дышал. Губы обметаны, на щеках лихорадочный румянец, глаза закрыты. Потрогав лоб, я убедилась, что у мальчика жар.
— У кого-нибудь есть уксус? — спросила я, обернувшись к женщинам, обступившим меня.
— Вот, барыня, возьмите, — казачка средних лет протянула мне бутыль, заткнутую тряпицей.
Вспомнив, как меня в девятилетнем возрасте наша горничная Вера обтирала тряпицей, смоченной в уксусе, дабы сбить жар, я взяла свой носовой платок, так как тряпки, разбросанные вокруг, были жесткими и нечистыми.
Уксус издавал резкий запах, ребенок проснулся и начал капризничать, но я продолжала. Закончив обтирать его, я передала платок и плошку с уксусом матери и сказала:
— Через час снова оботрите его, и дайте ему питья — липового чаю с медом или сухой малиной. Поите его чаще.
— Да откуда у нас чай! — всплеснула руками женщина. — И вода только та, что в баке. Горячей нет.
— Постараюсь что-нибудь для вас сделать. А пока просто дайте ребенку пить, у него губы совсем высохли.
Обернувшись к первому помощнику капитана, я спросила по-французски — мне не хотелось, чтобы переселенцы поняли, о чем речь:
— Сергей Викторович, надо что-то делать. Нужен кипяток, горячее питание, фонари для освещения. И доктор, в конце концов!
— Но у нас грузовой корабль, г-жа Авилова, — ответил он мне так же по-французски. — Доктор не предусмотрен.
— Но когда фрахтовали корабль, знали, что надо перевозить людей. Значит, надо было пригласить врача на время плавания. Давайте поднимемся наверх. Я очень довольна, что побывала здесь — теперь смогу рассказать г-ну Аршинову и капитану о первостепенных нуждах переселенцев.
И я, взявшись за скобу, полезла наверх. Рощин страховал меня снизу.
— Подождите! — услышали мы крик. К нам подбежал молодой человек. Я узнала его — это был Нестеров, студент и фотограф.
— Слушаю вас, — обратилась я к нему.
— Г-жа Авилова, если вам это интересно знать: до поступления в университет я служил в институте под попечительством герцога Ольденбургского — там производили вакцины от чумы и дифтерита, так что хоть и незаконченное, но медицинское образование у меня есть.
— Прекрасно, г-н Нестеров. Займитесь больным, а я еще вернусь, и вы сообщите мне, что вам нужно для исполнения медицинских обязанностей.
Выбравшись на палубу, я отряхнула платье и спросила Рощина:
— Скажите, Сергей Викторович, а как детей спускали в трюм? Я еле-еле спустилась, а они же крошки совсем!
— Их на шкертах[9] спускали, а матросы страховали снизу. У нас все предусмотрено, можете не волноваться.
— Да как же мне не волноваться? Люди лишены самого необходимого. Я хочу, чтобы капитан принял меня немедленно!
Иван Александрович внимательно меня выслушал.
— Камбузу отданы все необходимые распоряжения, — сказал он. — Переселенцы ежедневно будут получать горячую еду, хлеб по фунту на душу и кипяток.
На камбузе в двух огромных котлах кипела вода. Помощники кока споро наливали в два двухпудовых бачка кашу и густой перловый суп — это готовилась еда для пассажиров. Отдельно, в холщовый мешок повар перекладывал круглые буханки, вслух считая каждую.
Дородный кок кивнул мне и ткнул пухлым пальцем в мешок:
— Все в порядке, барышня, сорок буханок.
— Вы полагаете, этого хватит? — усомнилась я.
— Не хватит — добавим. Хлеба достаточно.
— Не могли бы матросы отнести кипятку в трюм? Люди хотят чаю.
— Все будет, — и прикрикнул на матросов: — Пеньковый фал захватите. Да не этот, покрепче. А то каша на голову им шваркнется, — обратившись ко мне, пояснил: — На веревке бачки спускать будем. Потом также пустые и поднимем.
— Позвольте попробовать, — попросила я.
— Извольте, — немного обиженный кок протянул мне столовую ложку. — И суп хорош, и каша. Не господская еда, но для простого народа в самый раз. У меня матросы едят и хвалят.
Действительно, каша оказалась сытной и щедро сдобренной коноплянным маслом.
— Полина, вот вы где! А я вас ищу, — раздался на камбузе голос Аршинова. — Что вы тут делаете?
— Кашу пробую, — ответила я, возвращая коку ложку.
— И как?
— Вкусная.
— Тогда и мне дайте, — Аршинов перехватил у кока ложку, зачерпнул от души каши и проглотил. — Да, знатная каша, молодец, кок! Не подвел!
— Николай Иванович, — обратилась я к казаку, когда мы вышли из камбуза, — плохо людям в трюме. Без света они там, ребенок в горячке мечется.
Аршинов нахмурился:
— Я займусь этим, Аполлинария Лазаревна, а вы ступайте к себе, отдохните. Вон зеленая вся от качки.
— Спасибо, Николай Иванович, но я не хочу отдыхать. Лучше схожу гляну, может, что-нибудь из медикаментов пригодится. Кстати, у одного из переселенцев, студента Нестерова, оказалось медицинское образование. Он вызвался понаблюдать ребенка.
С тех пор я ежедневно спускалась в трюм, расспрашивала людей об их нуждах, а потом поднималась наверх и теребила капитана, Аршинова, первого помощника, — любого, кто мог бы помочь мне.
Ребенок выздоровел и его мать каждый раз, когда я проходила мимо, осеняла себя крестным знамением и кланялась. Мне было неудобно.
Нестеров вовсю занялся фельдшерской практикой: вскрывал нарывы, прикладывал свинцовую примочку к ушибам, поил недужных касторкой — почему-то многие маялись животами от морской болезни.
Запах в трюме стоял тяжелый. Воды для мытья нет — только питьевая. Гальюн устроен просто до невозможности — все совершалось в бачок, который дежурный выливал в бочку. Раз в день бочку стрелой вытаскивали наверх матросы и опорожняли в море.
Около двух десятков человек ходили за коровами: задавали корм, сгребали в сторону навоз. Бабы доили. Детям давали свежее молоко.
Уже прошли Босфор и Дарданеллы. Потеплело. Корабль вышел в Эгейское море, и я каждое утро выходила на палубу и наслаждалась особенным дурманящим воздухом. Здешний ветер не похож на те резкие колючие порывы, которые не давали мне дышать в N-ске. Морской воздух напоен жизнью, именно тут должна была зародиться цивилизация, и принести миру красоту и искусство.
— Ох, какая бабонька! И наверху ходит — наверное, из благородных. Сейчас мы ее оприходуем!..
В мои раздумья ворвался наглый пьяный возглас. Я обернулась. За моей спиной стояли два мужика и протягивали ко мне руки.
— Хороша, — с пьяной настойчивостью сказал один из них. — Чистенькая.
— Позвольте, — я отступила к поручню, — что вы себе позволяете?
— А чего ж не позволить? — усмехнулся второй. — Мы хотим чинно благородно под ручку погулять. Дадите ручку, барыня?
Испугаться я не успела. Откуда ни возьмись, появился боцман и засвистел. Со всех сторон подбежали матросы и скрутили пьянчуг.
Я глядела на боцмана как зачарованная. У него были косматые брови, сдвинутые с крайне недовольным видом, и красный расплюснутый нос. Морщины настолько глубоко прорезали его обветренное лицо, что их можно было принять за шрамы. Он шел на меня, переступая кривыми ногами носками внутрь, а выше коротких черных пальцев-крючьев виднелась татуировка — адмиралтейский якорь, перевитый роскошной цепью и над ним надпись «Клава».
— Почему на верхней палубе? — загремел боцман. — Кто позволил?
Один из мужиков принялся канючить:
— Воздухом подышать хотели, вашбродь, сил нет в трюме сидеть!
— Пьяные почему? Ведь перед посадкой обыскивали на предмет? Неужто пронесли, мерзавцы?
— А… Да это… — но второй мужик, повыше и покрепче, не дал ему договорить и толкнул локтем в бок.
К нам подошел Аршинов.
— Откуда водка? Признавайтесь, не сойти вам на берег!
— Христофорыч гонит…
— Что? — не понял Аршинов.
Толстый боцман взревел:
— Открытый огонь в трюме?! Выкину за борт собственными руками!
Он отдал приказ матросам, и те спустились в трюм. Через несколько минут она выволокли на свет божий Маслоедова, запомнившегося мне еще по переписи в портовой конторе — уж очень он произвел неприятное впечатление.
За ним на палубу вылезли две женщины и тут же принялись голосить — это были его сестра и жена. Потом двое матросов выволокли наружу бак с крышкой и мокрую табуретку, от которой несло сивухой.
Испуганный Маслоедов упал на колени и принялся биться лбом о деревянный палубный настил.
— Ах ты, падаль червивая! Я тебя, негодяя, за борт вышвырну! Сгною! Ишь что удумал — огонь в трюме разводить! Самогон гнать! — топал ногами боцман. — Прямо сейчас, своими руками на корм ракам, бизань тебе в глотку вместе со всеми парусами по самый клотик!
Бабы, воя, кинулись в ноги Аршинову, умоляя пощадить кормильца.
— Вот что, — остановил Николай Иванович разбушевавшегося боцмана. — Не надо этого за борт. Лучше вручите ему вилы и в скотный трюм навоз убирать. Пусть искупает вину. Мог ведь, подлец, корабль поджечь из за своей копеечной выгоды.
Так и сделали. Поникшего Маслоедова матросы потащили в другой трюм, за ним, всхлипывая, последовали его жена и сестра, а я подошла к Аршинову.
— Плохо переселенцам внизу, Николай Иванович, — сказала я тихо. — В темноте сидят, страдают от морской болезни, кругом вонь и холод. Когда же кончится это плавание?!
— Не волнуйтесь, Полина, — ответил он мне. — Вот только пересечем Средиземное море, а там, на подходе к Александрии, можно будет и на нижней палубе расположиться. Даже ночевать смогут. Температура до летней прогреется. А уж когда до Абиссинии дойдем, вы о сегодняшних холодах с тоской вспоминать начнете, я вас уверяю.
— Кстати, Николай Иванович, а где ваш арапчонок Али, что всегда за вами следовал, как собачонка на привязи?
Аршинов как-то странно посмотрел по сторонам, потом на меня и сказал изменившимся голосом:
— Он тут, Полина, просто вы его еще не видели. Едет у меня в каюте. Простите, меня ждет капитан.
И он быстрым шагом направился прочь от меня. Я осталась на палубе и продолжала смотреть на волнующееся море.
— Скучаете? Или отдыхаете? — около меня стоял Лев Платонович и попыхивал пенковой трубкой с изогнутым чубуком.
— Смотрю на море. Мне никогда не надоедает любоваться волнами.
— А я на вас смотрю, Аполлинария Лазаревна. И восхищаюсь! Пуститься одной в столь трудное и опасное путешествие… Зачем? Вам не сиделось дома в уютном кресле?
— То есть, исходя из ваших слов, мужчине можно путешествовать, а женщине нельзя. Так изволите вас понимать?
— Не обижайтесь, прошу вас. Есть много мест на земле, пригодных для легкого и приятной прогулки. Париж, например: "Мулен Руж", Эйфелева башня, Всемирная выставка…
— Спасибо, Лев Платонович, в Париже я уже была. К моему удивлению, поездка оказалась совсем не увеселительной, и чтобы отдохнуть от нее, я пустилась в это плавание.[10]
Он картинно ахнул и выпустил изо рта клуб дыма:
— Боже! Что же вы пережили в Париже, если считаете Абиссинию прекрасной страной для времяпрепровождения?
Мне не хотелось посвящать его в детали, и я поспешила перевести разговор на другое — известно, что мужчины очень любят говорить о своей драгоценной особе:
— А вы зачем едете в эту экспедицию, Лев Платонович? Вы не похожи на беженца-переселенца, не по службе, как Вохряков, да и в то, что вы обуреваемы идеалами, как Николай Иванович, мне тоже не верится. Загадочный вы человек.
Мой собеседник непринужденно рассмеялся:
— Сметливая вы, г-жа Авилова. Я, не в пример другим мужчинам, ценю в дамах светлую голову — от этого женщина только краше становится. Вы совершенно правы: меня влекут в Абиссинию совсем другие мотивы. Я охотник, а в тех краях есть плато, на котором водятся редкие звери. Вот и соблазнился, когда Аршинов предложил мне присоединиться к экспедиции. Белый леопард или серебристый бабуин будут неплохими дополнениями к моей коллекции.
— Простите, а как вы сохраняете шкуры? — спросила я.
— На досуге освоил профессию таксидермиста. Знаю основные приемы, как оберечь шкуру от разложения. Ну, а потом набить ее опилками — занятие для дилетанта.
— Вы, наверное, и белку в глаз стреляете, чтобы шкурку не портить?
— Ну, что вы, уважаемая! Белок стреляют из мелкокалиберной винтовки — мелкашки. Можно, конечно, из дробовика, но тогда целиться надо так, чтобы дробь в голову попала. Тут есть одна хитрость. Вы тихонько передвигаетесь, — Лев Платонович сделал несколько вкрадчивых скользящих движений по палубе, — пока не выберете позицию, чтобы тушка белки оказалась закрытой стволом дерева. Вы видите только голову и стреляете. Дробь в голове, а шкурка цела! — Охотник остановился и всплеснул руками: — Кажется, я увлекся, Аполлинария Лазаревна. Прошу простить.
— Нет, что вы! Мне было очень интересно, — улыбнулась я. — Вы поохотитесь, найдете себе бабуина и уедете?
— Ну… — он внимательно посмотрел на меня тем самым взглядом, который я прекрасно научилась распознавать у мужчин. — Может быть, еще нечто заставит меня задержаться…
— Лев Платонович, вот вы где! Здравствуйте, сударыня, — к нам подошел запыхавшийся чиновник Вохряков и неловко поклонился. — А я вас по всему кораблю ищу. Дело одно обсудить надо бы…
— Простите, Аполлинария Лазаревна, дела, — Головнин поцеловал мне руку и откланялся.
* * *
Глава вторая
Качка. Арапчонок Али. Монах Фасиль Агонафер. Старинный пергамент. Рассказ о царе Соломоне и царице Савской. Прибытие в Александрию. Незваное вторжение. Восточный обед. Менелик крадет ковчег. Тайна рубинов. Антоний и Феодосий. План Аполлинарии.
Я отправилась в каюту, так как ветер посвежел, и началась качка.
К вечеру качка усилилась. Со столика стали падать книги и щетки для волос, жалобно звенели два стакана, а к горлу поднялась тошнотворная муть. "Где же сухари и соленые огурцы?" — подумала я, хотя есть не хотелось.
Лежа пластом на койке, я прислушивалась к своему желудку, то скачущему вверх, то падающему далеко вниз, куда-то к пяткам. Мне хотелось только одного — лежать горизонтально. Разве я многого прошу?
Качка продолжалась, меня рвало горькой желчью, и тут в дверь каюты тихонько постучали.
Не в силах подняться и не в силах ответить, я продолжала лежать, свесив голову вниз, но стук продолжался.
Неимоверным усилием я поднялась с койки и поплелась к двери.
— Кто там? — и в этот момент меня так качнуло, что я отлетела в сторону и сильно ушибла бедро.
— Откройте, госпожа, это я, Али, — раздался за дверью тоненький голосок.
Ахнув, я открыла дверь. На пороге стоял, держась за косяк, арапчонок Николая Ивановича.
— Тебе страшно, Али? Заходи, — я отодвинулась от двери.
— Нет, госпожа, Али не страшно, Али просит другое.
— Что ты хочешь?
Вместо ответа он потянул меня за руку и вывел в коридор. Я шла за ним, держась за стенки. Али привел меня к каюте, которая была всегда заперта. Он толкнул дверь и знаком пригласил меня войти.
В полумраке я не сразу поняла, кто лежит на койке. Подойдя поближе, я увидела изможденного темнокожего человека, укрытого белой простыней. Глаза его были закрыты, он прерывисто дышал.
— Что с ним? — тихо спросила я.
— Он умирает, — всхлипнул мальчик, и что-то спросил высоким гортанным голосом. У лежащего слегка дрогнули ресницы.
— Кто это?
— Святой, — прошептал Али. — Его зовут Фасиль Агонафер. Он монах из монастыря Дебре-Дамо.
— Как он здесь оказался?
— Он ходил к вашим святым за мудростью. А теперь возвращается с нами домой. Он умрет, я боюсь.
— Иди, позови Николая Ивановича. Ты знаешь, где его каюта? Не испугаешься?
— А как же он? — Али кивнул на монаха.
— Не бойся, я посижу с ним.
— Я быстро! — обрадовался мальчик и выбежал за дверь, шатаясь от качки.
Подойдя к койке, на которой лежал бритый наголо монах, я поправила сползшее одеяло. Он приоткрыл глаза и посмотрел на меня.
— Кто ты? — тихо спросил он по-русски с шелестящим акцентом.
— Полина, — ответила я. — Меня поселили в каюте напротив.
— Пить… — прошептал старик.
Я обернулась, поискала глазами и нашла глиняный кувшин. В нем оказалась вода. Чашки не было, и я приложила кувшин к губам старика.
— Пейте.
Его кадык ходил ходуном. Напившись, старик откинулся на подушку и прошептал:
— Я умираю. Не успеваю к негусу…
— Вы успеете, дедушка, выздоровеете и успеете к негусу.
Он схватил меня горячечной рукой.
— Ты передашь негусу то, что я нашел в Свенском монастыре. Это очень важно. Я проделал длинный путь и, наконец, нашел документ, по которому не распадется связь времен.
— Что передать?
— Вот… — старик запустил руку под одеяло и вытащил свернутый в трубочку пергамент. — Спрячь, и никому. Никому, кроме негуса.
Это ничтожное усилие досталось ему с таким трудом, что он откинулся на подушки и задышал со свистом. Я спрятала пергамент в потайной карман панталон у пояса.
— Обещай! Обещай, что найдешь рубины! — прошептал старик, не открывая глаз.
— Обещаю, — не помня себя, ответила я.
И тут дверь отворилась, и в каюту ворвались Аршинов, за ним Лев Платонович с неизменной трубкой и Нестеров с медицинским саквояжем. Арапчонок Али стоял в дверях. Какая-то тень мелькнула за ним и пропала.
Аршинов нагнулся над умирающим.
— Позвольте, — Нестеров решительно отодвинул казака и принялся хлопотать над ним.
— Как он? — спросил меня Лев Платонович.
— Отходит, — прошептала я.
Мальчик Али закрыл глаза руками и зарыдал в голос.
— Ах, бедный, бедный Фасиль Агонафер! Он не принял слабительного и теперь умрет вместе с глистами внутри.
— Что он говорит? — спросила я Головнина.
— У эфиопов есть обычай: считается неприличным умирать с паразитами в теле, поэтому перед смертью им дают слабительного.
— Господи, что за чушь! — прошептала я, но тут же устыдилась собственного неблагодушия, подошла к мальчику и принялась его утешать: — Не бойся, у него нет глистов, он же ничего не ел уже давно.
— Правда? — он посмотрел на меня снизу вверх, слезы подсохли, и тут Нестеров попросил нас всех выйти.
Мы вышли и поднялись на палубу. Было свежо, на небе мерцали звезды величиной с кулак. Море успокоилось. Головнин запыхтел своей неизменной трубкой, а я спросила Аршинова, в нетерпении шагающего от одного борта к другому:
— Николай Иванович, вы можете, наконец, объяснить, в чем дело? В реестрах переселенцев нет никакого эфиопа.
— Нет, потому что он не переселенец. Он возвращается на родину, — резонно заметил Аршинов.
— Но на него должны были выписать довольствие!
— Ах, дорогая Полина, — хохотнул он, — ну, сколько тот монах ест? Как птичка. Мой Али и то больше потребляет.
— А почему он жил в отдельной каюте? Как и я.
— Да разве можно больного, да еще божьего человека в трюм совать? — Аршинов округлил глаза. — Нет, я этого не позволил, все же он православный, как и мы с вами.
О том, что в трюме сидели сплошные православные, я Аршинову напоминать не стала. Все равно соврет. Поэтому я извинилась и поспешила к себе в каюту, чтобы посмотреть, что же вручил мне старый эфиопский монах.
* * *
В каюте я тщательно осмотрелась, заперла дверь, и только после этого достала из кармана пергамент. Я боялась, что текст будет на эфиопском языке, или как говорил Аршинов — на амхарском, но, увидев, что в нем есть и привычная славянская вязь, повеселела и присела поближе к иллюминатору — рассвет уже занимался.
Но моя радость была преждевременной. Пергамент оказался источен жучком, а витые буквы церковнославянского кое-где вытерты от частого скручивания письма в трубочку.
По верху пергамент был порван по изломанной линии, дальше шли странные значки, а потом мне удалось разобрать следующие строки, написанные странным почерком, в котором буквы отделялись одна от другой:
"…я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя его и служили ему единодушно. Из заречных стран Ефиопии, поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары — так говорил Софония, и поклонимся же, возлюбленные чада мои, его мудрости, равной мудрости великого из царей, чей сын не уступил ему в зоркости сердца.
Но злое задумал Менелик, и, принеся дары, забрал из Святая Святых (тут стерто)… потеряны рубины матери его, и кто теперь помажет на царство?
(далее другим почерком, на церковно-славянском)
И порази Господь ефиопи пред Асою и Иудою и бежаша ефиопы: и погна их Аса и людие его даже до Гедора: и падоша ефиопы, даже не быти в них останку, еяко сотрени быша пред Господом и пред силою его, и плениша корысти многи: и изсекоша веси их окрест Гедора, велик бо страх Господен объят их, и плениша вся грады их, занемноги корысти быша в них…[11] — и пропало все! Кто спасет род царей, лишившихся аксумского оберега?
(здесь опять пропуск)
Как нашли эфиопляне силы грешить, так пусть найдут силы сказать о себе правду пред Богом, без оправдания себя, как есть, как Едином, имеющим власть оставлять наши грехи, что нас чудом спасёт от всего гнета, причиняемого нам злом. И если не выполним мы то, что заповедано свыше, и не потратим все силы и помыслы наши на возвращении реликвии, падет династия! И будет все так, как сказано пророком Иезекиилем: "И егда послю стрелы глада на ня, и будут во скончание, и послю растлити вы, и глад соберу на вы, и сотру утверждение хлеба твоего, и испущу на тя глад и звери люты, и умучу тя, смерть же и кровь пройдут сквозь тя, и меч наведу на тя окрест: аз гдесь глаголах".[12]
Господь не оставит нас милостью своей, ибо было откровение дабтару Абуне на геэз — священном языке ефиоплян: быстры воды Тана, из него по языку дракона поспеши на очи херувимов, не дай ослепнуть без кровавых капель, — ищи там манну небесную, данную нам Господом…"
На этом месте текст обрывался. Далее шли еще значки, но мне от них толку не было.
Аккуратно свернув пергамент, я спрятала его на дно саквояжа, и не напрасно — в дверь постучали, и матрос пригласил меня на завтрак в кают-компанию. Я заколебалась. Потом все же решила взять документ с собой, тем более, что он прекрасно помещался во внутреннем кармане панталон.
Мужчины при виде меня встали. Я села и расправила салфетку.
— Что с ним? — спросила я Нестерова.
— Скончался, Аполлинария Лазаревна, — произнес он.
— Мир праху его, — я перекрестилась.
Я обратила внимания, что Головнин беспрерывно подливал себе в рюмку из большой пузатой бутылки с оплеткой, а Аршинов сидел понурившись. На нем лица не было. Неужели он так переживал смерть монаха? Решив его приободрить, я дотронулась до его руки и прошептала:
— Расскажите нам о нем.
Аршинов встрепенулся, обвел глазами сидящих за столом:
— Если бы вы знали, какого великого ума был Фасиль Агонафер. Я его называл Василием, по-нашему, по-русски. Он не обижался, понимал, что от всей души.
— А как он в России оказался? — спросил Головнин.
— О! Это долгая история. Началась в древние времена. Слышали вы о иудейском царе Соломоне и царице Савской?
— Николай Иванович, ну вы уж совсем нас за гимназистов-двоечников не принимайте, — хохотнул капитан Мадервакс.
— А то, что красавица-царица была черна лицом, ибо родом происходила из Эфиопии, вам известно?
— Неужели? — удивилась я. — Мне всегда казалось, что она персонаж персидских сказок наподобие "1001 ночи".
— Вот и ошибаетесь, Аполлинария Лазаревна. В ней все было прекрасно: лицо, ум, стать, вот только, злые языки поговаривают, ноги кривоваты и покрытые волосами. Я не буду рассказывать о том, как был очарован царь Соломон умом и красотою царицы, какие загадки они друг-другу задавали, не в том суть. Главное, что царица уехала от него не одна. Спустя несколько месяцев она родила сына и назвала его Менеликом. Это был Менелик I.
— Интересно, как ей удалось покорить царя с такими ногами? — спросил первый помощник Рощин. — Ведь их в постели не спрячешь, а ноги для женщины самое главное.
— Да уж, с такими ногами только в карточные дамы, — подхватил Головнин шутку моряка. Что с них взять? Моряки да охотники никогда особой куртуазностью не отличались.
Аршинов и бровью не повел. Он продолжал свой рассказ:
— Как вам известно, сейчас в Эфиопии правит Менелик II. Думаю, что он не зря взял себе это имя — не верю я в совпадения.
— Ну и что? — довольно бестактно перебил Аршинова Головнин. Скорее всего, столовое вино бросилось ему в голову. — У нас тоже монаршие особы по номерам различаются, никто не возражает.
— Как вам будет угодно, — не по натуре кротко ответил Аршинов. — Вы позволите продолжить?
Но тут в кают-компанию вошел второй помощник и, наклонившись к капитану, что-то сказал. Иван Александрович поднялся из-за стола и произнес:
— Продолжайте, господа, а мне пора. Александрия на горизонте.
Разговор перешел на другое, Аршинов поскучнел, и скомкал свой рассказ. Мои соседи завершили завтрак и поспешили на палубу, чтобы разглядеть приближающийся город.
Александрия вставала перед нами в пенной дымке облаков. В небе летали чайки, изменился воздух — с берега доносились запахи рыбы и дыма. Вскоре я уже слышала пронзительные крики муэдзина, сгонявшего правоверных на молитву.
Нестеров был уже тут как тут со своим фотографическим аппаратом. Он что-то подкручивал, налаживал в странного вида коробке с двумя полусферами.
— Что вы будете снимать, Арсений Михайлович? — спросила я. — Не далековат ли берег?
— Моя «Фотосфера», Аполлинария Лазаревна, самый современный аппарат в нынешнее время. Вот, попробовать решил, а вдруг удастся? Я слышал, что в Александрии можно будет разжиться фотографическими пластинками. Хоть я и взял много, но они кончаются с непостижимой быстротой.
Ко мне неслышными шагами подошел Лев Платонович.
— Мадам Авилова, вы бы не хотели немного прогуляться по городу? С удовольствием составлю вам компанию.
— Разве мы не едем все вместе?
— Да, но мне бы хотелось показать вам особые лавки, с шелками и благовониями.
— Спасибо, месье Головнин, я не расположена сейчас к тратам. А город мне покажет Николай Иванович, он был тут не раз, — мне совершенно не нравилось совершать прогулку в обществе выпившего провожатого.
— Ну, тогда мы с Арсением Михайловичем отправимся запечатлевать виды.
Охотник откланялся и исчез, а я отправилась в каюту надеть дорожное платье.
И остановилась на пороге. Кто-то посещал каюту и рылся в моих вещах. Хотя незваный визитер старался положить все на место, но я знала, что он здесь был: салфетка свешивалась со стола немного криво, одеяло на кровати морщило, а ведь я всегда, по привычке, вбитой еще в женском институте, натягиваю его на кровать, уходя из комнаты. Институтка не должна показывать, что она пользуется постелью.
Вытянув из-под койки саквояж, я обнаружила, что в нем все перевернуто. Даже мои флакончики с разными порошками были притерты не до конца. Все это меня настолько неприятно поразило, что я решила впредь быть более осторожной. Ведь вполне вероятно, что не найдя того, что искали, преступник не остановится, чтобы обыскать меня. Значит, надо постоянно быть рядом с кем-нибудь, кому я доверяю. А кроме Аршинова и арапчонка Али, я никого ранее не знала. Каждый вызывал подозрения.
Достав пергамент, я положила его на дно саквояжа, решив, что второй раз ко мне больше не полезут и, переодевшись, вышла на палубу.
Александрия кишела профессиональными попрошайками. Город оглушил шумом, яркими красками, кричащими мальчишками, предлагавшими всякую всячину: холодный лимонад, восточные сладости, резных верблюдиков.
Мы с Аршиновым бродили по узким улочкам с глинобитными стенами, протянувшимися вглубь от Восточной бухты, прогулялись по антикварным лавочкам во французских садах, полюбовались домами, украшенными машрабией — резными деревянными фонарями на окнах.
Когда же пришло время перекусить, мы нашли прохладную таверну с низкими сводчатыми потолками. Нам тут же принесли мункачину — салат из апельсинов с оливками, бабагануш из баклажан, потом подали острый фасолевый суп, курицу в меду с орехами, а на десерт — кофе в маленьких чашечках и восточные сладости. Я ощущала себя на верху блаженства после пресной корабельной кухни.
— Николай Иванович, а что же дальше было с сыном царицы Савской? — спросила я.
— О, это удивительная история! Сын Соломона вырос весь в папашу — такой же умный и головастый. Царица на него не нарадовалась. И когда Менелику исполнилось шестнадцать — возраст совершеннолетия, она, собрав богатые дары, отправила его к отцу.
Долго шло посольство из страны Куш — так называли Эфиопию, пока не добрались до страны Иудейской. Царю Соломону доложили, что его сын Менелик хочет его видеть, и царь решил испытать его так, как когда-то испытывал его мать. Он приказал одному из слуг надеть роскошные царские одежды и сесть на трон, а сам смешался с толпой придворных.
Менелик Соломонид[13] подошел к трону, но не поклонился, а пристально посмотрел на «царя». Потом отвернулся, поискал глазами, и сразу выделил глазами Соломона, хотя он ни разу в жизни не видел его, да и портретов тоже не было. Сыграло сыновнее чувство. Он поклонился отцу и сказал: "Великий царь, я, сын твой, Менелик, пришел засвидетельствовать тебе свое почтение и передать тебе те дары, что послала моя мать, царица Савская!" Ну, может, он как-то по-другому сказал, но суть была ясна: сын узнал отца. Соломон вышел из толпы царедворцев, обнял сына и пригласил его пожить во дворце, сколько тот пожелает.
Менелик с радостью согласился и остался при дворе. Он был очень любознательным юношей: участвовал в храмовых богослужениях, возносил почести ковчегу Завета, в котором лежали священные скрижали. Он объезжал границы, наблюдал за сбором фиников и гранатов, строительством дорог. Он восхищался мощью государства, расцветающим под неусыпным взором царя, и понимал, как далеко простерлась власть мудрейшего Соломона.
Лишь одно волновало его, воспитанного матерью в религии отца: у царя было 700 жен и 300 наложниц разной веры. Они поклонялись идолам, и не верили в единого бога. Некоторые из идолов были столь омерзительны, что требовали человеческих жертв. Более того, сам царь не гнушался обрядами и проводил их в капищах чужеземных богов вместе со своими женами.
И тогда у Менелика возник план. Он попросил несколько молодых людей, преданных ему, помочь в одном секретном мероприятии. Заручившись их согласием, он пришел к отцу и попросил у царя Соломона разрешения отбыть на родину, к матери, царице Савской. Царь согласился с неудовольствием, уж больно понравился ему смышленый сын, и Менелик принялся собираться в обратный путь. Соломон одарил его богатыми дарами, предоставил свиту и охрану. Менелик попросил, чтобы в его свите были те юноши, которые согласились помочь ему.
В последнюю ночь перед отбытием Менелик сотоварищи пробрались в Святая Святых Храма и украли Ковчег Завета. Они вынесли его через подземный ход, прорытый по приказу Соломона. Царский сын прихватил также шкатулку, которая лежала рядом с ковчегом.
Никто не хватился пропажи, так как в Святая Святых позволительно входить только первосвященнику и только раз в год, так что у Менелика было время добраться до дома. Ковчег он спрятал в Аксуме, в городе на севере Абиссинии, а потом, спустя многие годы, на том месте была построена церковь Святой Марии Сионской. С тех пор стал ковчег абиссинской святыней, хотя никто его не видел и не открывал. Нельзя.
Аршинов замолчал, отпил уже холодного кофе и жестом приказал мальчишке-слуге принести другую чашку.
— А что было в той шкатулке, которую Менелик украл вместе с ковчегом? — спросила я.
Аршинов улыбнулся:
— Сметливая вы, Аполлинария Лазаревна. Ничего не упустите. В той шкатулке лежали четыре рубина неимоверной красоты и прозрачности. Их он подарил матери, и царица носила их, не снимая. Сын так и объяснил ей, что по соломоновым законам отец ребенка должен предоставить матери вспомоществование, чтобы они с сыном не терпели нужды. Вот он и взял то, что ему полагалось по праву. Довод, конечно, спорный, но разумный.
С этими рубинами Менелик короновался на царство после смерти Савской, и принял имя Менелика Первого. С тех пор каждый царь, или как тут принято говорить, Негус негест,[14] восходящий на престол, надевал диадему с этими рубинами, как знак непрекращающейся династии от самого царя Соломона.
— И нынешний негус, Менелик Второй? — поинтересовалась я, откусывая приторно-сладкое печенье.
Аршинов вновь как-то странно на меня посмотрел, словно раздумывая, говорить или нет. Наконец, произнес:
— Полина, я вас знаю не первый день, поэтому открою вам одну тайну, — он оглянулся, словно боясь чего-то. — Меня эти рубины очень заинтересовали.
— Постойте, постойте, Николай Иванович, я чего-то не понимаю. Вы же говорили, что хотите основать колонию. Что это, блеф? Обман? А как же все эти люди, что поверили вам?
— Нет, ну что вы! Все правильно, я от своих слов не отказываюсь. Еду ради колонии. Но и к рубинам интерес имеется. Дело в том, что пропали они.
— Как пропали?
— После внезапной смерти негуса Иоанна VI пропали. Когда Иоанна в 1889 году убили, то Менелик Второй лично захватил власть в стране. Его надо короновать, а рубинов нет. А раз нет, то и права он не имеет властвовать, раз не коронован. Понимаете, какое дело?
— Понимаю, но вы тут причем?
— Да я был там, у негуса, единственный русский недуховного звания.
— И что?
— А то, что подозрение пало на двух православных монахов, Антония и Феодосия, которые жили в горном монастыре Дебре-Дамо, но в то время находились при негусе. Они торопились вернуться в Россию, так как их монастырь праздновал 600-летие со дня основания, и они непременно желали участвовать в празднествах, молебнах и крестном ходе. После их отъезда и обнаружилась пропажа рубинов. Поэтому Менелик приказал Фасилю Агонаферу отправиться в Россию и разыскать пропажу. Фасиль знал русский и много общался с нашими монахами. Меня лично негус Иоанн попросил отвезти его в Россию и привести обратно. Я согласился.
— И как? Он нашел что-нибудь?
— Сказал, что не нашел рубинов. И что русские монахи ни причем, их оклеветали. Рубины не выходили за пределы страны.
— И все?
— Ну да. А что еще?
— А доказательства?
— Какие доказательства? — удивился Аршинов.
— Ну, что рубины в Абиссинии.
— Не знаю, он ничего не сказал, да и мне как-то не с руки было расспрашивать. Мое дело отвезти и привезти. А потом Агонафер умер.
Решив пока не рассказывать Аршинову о пергаменте, я продолжила спрашивать дальше:
— И что теперь? Менелик Второй так и останется самозванцем?
— Понятия не имею. Меня все это очень волнует. Ведь разрешение на колонию мне дал негус Иоанн, а Менелик его терпеть не мог, забрасывал его разными унизительными письмами, на бой вызывал, и, скорее всего, обрадовался, когда Иоанна убили в битве. Так что может быть, что он не допустит основания колонии. И как этот барьер перейти, уму непостижимо!
— Очень просто, Николай Иванович, — улыбнулась я. — Давайте найдем эти рубины, раз они не вышли за пределы Абиссинии, преподнесем их негусу, а он даст разрешение на колонию. Как вам мой план?
— План хорош, да как его исполнить?
— А вот об этом поговорим на корабле.
— Договорились, Аполлинария Лазаревна, с вами хоть в омут!
Аршинов подозвал мальчишку, расплатился и мы вышли на душную пыльную улицу.
* * *
Глава третья
Внезапное нападение. Расследование Рощина. Аполлинария решает раскрыть тайну пергамента. Ассабский залив. Итальянская канонерка. Таможенный досмотр. Важная бумага. Аршинов побеждает.
В порт мы решили не идти пешком, а взять коляску. Смуглый, словно высушенный снаружи и изнутри, возчик лихо докатил нас до самых сходен, всю дорогу оглушительно крича и щелкая кнутом.
Не успели мы сойти с коляски, как к Аршинову подбежал Али и что-то взволнованно принялся рассказывать.
— Полина, голубушка, тут недалеко. Вы дойдете сами, а мне срочно отойти надо. Уж простите.
— Конечно, Николай Иванович, о чем разговор? Не беспокойтесь, я доберусь.
Матросы споро загружали корабли разными тюками и ящиками. Отовсюду неслись крики грузчиков, в воздухе стояла пыль, пахло смолой и горячим машинным маслом. "Северная Пальмира" была в двух шагах, как вдруг земля ушла у меня из-под ног — мне на голову накинули какой-то вонючий мешок и потащили в сторону. Я кричала и отбивалась, но кто мог услышать мои крики в суете и грохоте порта?
Все происходило быстро и в абсолютной темноте. Я чувствовала, что напавших на меня несколько. Пока одна пара рук держала мешок на голове, две другие общупывали меня с ног до головы: залезли под белье, расшнуровали ботинки, а стоило мне дернуться или подать голос, как мешок так затягивался на шее, что я начинала задыхаться.
Наконец, обыск закончился. Мне спешно натянули ботинки на ноги, потащили куда-то, стукнули в спину и я, вылетев вперед, упала на булыжную мостовую, сильно ударившись коленкой и лбом. Удар, правда, смягчил мешок, который мне так и не сняли.
Сколько я лежала — не помню. Ко мне подбежали какие-то люди, подняли на ноги, освободили голову — я зажмурилась от яркого света. Среди помогавших оказались два матроса с "Северной Пальмиры". Я попросила их отвести меня на корабль. Спотыкаясь и наступая на шнурки ботинок, я кое-как добрела до своей каюты и упала на койку.
Мне было противно. Я ощущала себя грязной, ведь чужие руки шарили по моему телу. Мне необходимо было выкупаться, чтобы смыть с себя это ощущение.
Но сначала надо было проверить, на мечте ли пергамент монаха Фасиля. Да, он лежал там, куда я его и положила.
В дверь постучали.
— Войдите, — сказала я, мгновенно вытащив руку из-под матраса и лихорадочно пытаясь привести себя в порядок.
Вошел первый помощник.
— Аполлинария Лазаревна, добрый день, как вы себя чувствуете?
— Спасибо, Сергей Викторович, уже лучше.
— Мне рассказали, что с вами случилось. Вы можете разъяснить положение?
— Как вам сказать, Сергей Викторович, все произошло так быстро и внезапно. Помню лишь только, что нападавшие молчали, поэтому определить, откуда они родом, не было никакой возможности.
— Они над вами издевались?
— Если не считать мешок на голову и обыск по всему телу за издевательство, то почти и нет.
— Что-нибудь у вас пропало?
— Да, сумочка.
— Там были деньги?
— Совсем немного, рублей десять-двенадцать. Мне не хотелось тратиться, и поэтому я много не взяла с собой.
— Думаю, поэтому вас и обыскали. Решили, что вы прячете деньги где-нибудь в платье.
— Я тоже так думаю, — кивнула я, хотя думала совершенно не так.
— Вы же поехали в город с провожатым. Куда подевался г-н Аршинов?
— К нему подбежал его слуга Али, и Аршинов меня оставил.
— Нехорошо, — покачал головой Рощин. — Александрия — воровской город, негоже было оставлять даму одну.
Мне пришла в голову мысль.
— Скажите, Сергей Викторович, кто-нибудь из переселенцев отправился в город?
— Конечно. Мы дали возможность людям немного размяться. Отправили две большие шлюпки. Скоро они должны вернуться. Иван Александрович разрешил прогулку до шести. Вы думаете, что на вас напали наши люди?
— А с чего бы им тогда молчать, когда они меня обыскивали? Только чтобы не выдать того, что они русские.
— Возможно, вы правы, — задумчиво произнес Рощин. — Я выясню, кто из поселенцев был на берегу. Отдыхайте, Аполлинария Лазаревна.
— Сергей Викторович, мне бы бадью какую-нибудь с водой. Вся изгваздалась.
— Я распоряжусь, — кивнул он и вышел из каюты.
Воду принесли два дюжих матроса в бочке с ручками. Она оказалась пресной — не зря в Александрии запасались водой. Благодать! Я вымылась, постирала белье (вновь помянув добрым словом наш женский институт, где всему этому учили), и почувствовала себя на седьмом небе — все тело дышало, а о неприятном инциденте напоминала только ссадина на лбу. Что ж, ее можно прикрыть шляпкой.
На палубу я вышла вовремя. К судну подходили две шлюпки с возвращающимися с берега поселенцами. Я разглядела среди них Аршинова с мальчиком, Маслоедова в окружении сестры и жены, рядом возвышался хмурый осетин Георгий Сапаров. В другой шлюпке сидели казак Толубеев с сыновьями, чиновник Порфирий Григорьевич Вохряков и Лев Платонович. И это не считая тех поселенцев, которых я просто не запомнила.
Прежде всего, надо было рассказать Аршинову, что со мной приключилось. Уж он сможет мне помочь. Но тогда придется сообщить и об обыске в комнате, и о пергаменте. Почему-то мне не хотелось этого делать, так как гнусная мыслишка о том, что именно Аршинов может быть причастен ко всем этим тайнам, не отпускала меня. Но я отогнала ее. Ведь кто, как не Николай Иванович, показал себя с прекрасной стороны в Париже?[15] И подозревать его, по меньшей мере, нелепо. А союзник, обладающий полнотой знаний о том, что происходит, не помешает никогда!
Аршинов, только взойдя по сходням, кинулся ко мне:
— Полина, вы живы-здоровы! Боже, какой я болван, что оставил вас одну!
— А что случилось? Почему вы так быстро ушли? С вами все было в порядке?
— Да, просто одна женщина из поселенцев упала в обморок, Али увидел это — он ждал меня около склада, я приказал ему там стоять, поэтому и позвал. Ах, если бы я знал!
— Ничего, Николай Иванович, все обошлось!
— Как это обошлось? Эх, если бы задержаться на берегу! Я бы всю береговую охрану на ноги поднял!
К нам подошли Головнин и Арсений Нестеров.
— Может, я осмотрю вашу ссадину, г-жа Авилова? На южном ветру она еще загноится, вам это ни к чему.
— Спасибо, Арсений Михайлович, зайдите ко мне, буду рада.
Головнин хохотнул:
— Я теперь, Аполлинария Лазаревна, буду за вами с винчестером ходить. За вами пригляд нужен.
— Не стоит, Лев Платонович, я уверена, что это всего лишь досадное недоразумение.
— Храбрая вы, но не теряйте голову.
И он ушел, волоча за собой позвякивающий чем-то железным мешок — видно, приобрел нечто в Александрии для своих фотографических нужд.
Повернувшись к Аршинову, я сказала:
— Николай Иванович, загляните после обеда ко мне, есть разговор.
Я решила открыть ему тайну пергамента. Все же не с руки мне одной, без помощника…
* * *
На палубе беспрестанно стучали молотки и ухали топоры — это переселенцы готовили плоты для перевозки на берег грузов и скота. Три дня, оставшиеся до берегов Абиссинии, мы с Аршиновым провели в разговорах о рубинах царицы Савской. Было понятно, что без них построить колонию будет трудновато. Ведь разрешение на нее дал негус Иоанн, которого так не любил нынешний негус Менелик Второй. Аршинов вполне может, как руководитель колонии оспаривать действия Менелика, мотивируя тем, что Иоанн был законным царем, а вот Менелик — не очень. Конечно, у ныне действующего негуса на стороне власть и армия, но как бы ни была Абиссиния далека от мировой цивилизации, за ней пристально наблюдают, и конфликт с великой Российской империей ей совсем не нужен.
Мы прошли мыс с расположенным на нем портом Ассаб, находящимся в руках итальянцев. Впереди на горизонте показались живописные острова. Корабль вошел в Ассабский залив — конечную цель нашего путешествия.
Неожиданно раздался пушечный выстрел. Наш корабль замедлил ход и лег в дрейф. Все поспешили наверх.
Милях в трех с севера к нам поспешала итальянская канонерка. Три ее мощных орудия были направлены на "Северную Пальмиру". Все это выглядело обыкновенным пиратством, но от этого легче не становилось.
— Что это за флажки на мачте? — спросила я первого помощника.
— Сигнал, чтобы мы застопорили движение, мадам.
— Зачем? Почему мы должны их слушаться? — возмутилась я.
— Г-жа Авилова, с военным кораблем не спорят. Особенно если это пассажирский пароход.
— Но почему именно итальянцы так себя ведут? Что им тут делать?
— О, мадам, они считают себя полными хозяевами здешних краев. Помните, мы проходили Суэцким каналом?
— Да, очень живописные места.
— С открытием Суэцкого канала в 1869 г. побережье Красного моря стало очень привлекательным для европейцев. Поэтому итальянцы и сосредоточили внимание на Абиссинии, захватив в 1872 г. порт Ассаб, а в 1885 г. — Массауа.
— Как же это?
— А что эта бедная страна могла поделать? Я вам больше скажу: итальянцы обманули эфиопов, вот поэтому они и хозяйничают тут.
— Вот макаронники, якорь им в глотку, меньше, чем на кабельтов подошли! — ругнулся было боцман, но, увидев меня, отошел от греха подальше.
Мужики держали в руках топоры, бабы тихо выли, закусив платки.
— Сейчас досмотровую группу вышлют, — произнес Рощин, ни к кому не обращаясь.
— Да кто они такие?! Не имеют права! Корабль его императорского величества! — Порфирий Григорьевич волновался так, что у него запотело пенсне.
— По праву сильного, милостивый государь! — остановил его Аршинов. — Вы впервые направляетесь к негусу, а я там уже был, и скажу я вам, что итальянцы не зря тут крутятся — у них свой интерес имеется. А негус попустительствует.
Чиновник надулся и повернулся в другую сторону.
Тем временем канонерка подошла к нам почти вплотную, и легла в дрейф. С подветренного борта оттуда спустили шлюпку с досмотровой группой во главе с офицером.
— Сколько их там, я не вижу! — обратилась я к Рощину.
— Дюжина матросов, унтер и вахтенный офицер, Аполлинария Лазаревна, — четко ответил мне старший помощник.
Группа по трапу поднялась на "Северную Пальмиру". Наш капитан стоял, заложив руки за спину, и ожидал, пока офицер обратится к нему.
Офицер что-то сказал по-итальянски.
— Я не понимаю вас, лейтенант, — ответил Иван Александрович. —
Потрудитесь отвечать по-французски — это международный язык.
Офицер заговорил на неплохом французском:
— Лейтенант Буччини. Обязан произвести досмотр судна.
— По какому праву?
— По личному распоряжению его величества Менелика Второго. Каждое судно, заходящее в территориальные воды Абиссинии, должно быть осмотрено на предмет обнаружения военного снаряжения и боеприпасов.
— У нас мирное судно с мирным грузом.
— Какова цель вашего захода сюда?
В разговор вмешался Аршинов. На своем ужасном французском он заявил:
— У меня есть бумага, подписанная лично негусом Иоанном Шестым, о разрешении на постройку колонии на берегу Абиссинии.
— Сейчас правит негус Менелик Второй, — парировал офицер.
— Когда Иоанн подписывал бумагу, он об этом не догадывался.
— Вы должны получить разрешение на колонию от ныне действующего негуса.
— Как же мы получим разрешение, если вы не даете нам сойти на берег?
— Покажите бумагу, — потребовал офицер.
— Только из моих рук, — ответил Аршинов, держа документ перед носом у лейтенанта. Стоящие неподалеку переселенцы с топорами зашевелились.
— Но тут написано по-амхарски.
— Вот перевод на французский от парижского нотариуса, мэтра Роше. Можете взять копию и показать своему начальству.
Офицер взял копию, бегло ее пробежал, щелкнул каблуками и заявил:
— Я не буду производить досмотр. Бумага будет передана капитану. Честь имею!
Он козырнул, крикнул команде по-итальянски, и досмотровая группа покинула "Северную Пальмиру".
— Уф! Слава тебе, Господи! — перекрестился Вохряков. — Нам еще не хватало международного скандала!
А Головнин громко засмеялся, хлопнул Аршинова по плечу и гаркнул:
— Молодец, Николай Иванович! Так их, макаронников! Как ты им нос-то утер, как есть молодец! Уважаю!
— Да уж, чем больше бумаг, тем чище задница. Ох, простите, Аполлинария Лазаревна, это я от радости не сдержался.
— А уж как я рад! — добавил Лев Платонович. — У меня под койкой целый арсенал. Неохота было терять.
Боцман засвистел в свисток:
— А ну всем работать! Давай, ребятушки, поднажмем, солнце высоко уже.
Канонерка отчалила и пропала с глаз.
* * *
Глава четвертая
Баб-эль-Мандебский пролив. Разгрузка. Эфиопские дети. Инджера — эфиопский хлеб. Ямато алака — полиция негуса. Экспедиция в столицу. Проводы. Беспокойство Нестерова. Наказ Агонафера. Путешествие по пустыне Донакиль. Дебре-Берхан. Сообщение глашатаев. Круглая церковь. Ересь Евтихия.
С той поры авторитет Аршинова, и так высокий, вырос в глазах поселенцев неимоверно. Как же, у Николая Ивановича есть «гумага», от которой сбежали эти чернявые. Значит, и все остальное будет в порядке.
И топоры с молотками звучали с особой энергией, когда мимо проходил Аршинов.
С каждым днем становилось все жарче. Средиземное море осталось давно позади, мы спускались на юг по Красному морю, вдоль берегов Африки. И вот на горизонте показался Баб-эль-Мандебский пролив, а за ним Французский берег Сомали[16] и Аденский залив. Вода была столь прозрачна, что я видела коралловые рифы разных цветов, уходящие вниз на десятки аршин.
— Суровое место этот пролив впереди, — сказал мне подошедший Головнин. — Говорят, тут на дне похоронено несколько тысяч кораблей. Ах, сколько кладов!
— Да разве ж так можно, Лев Платонович? — возразила я. — Вам только выгода везде и мерещится.
— А чем плохо? Тем, кто под водой, клады уже не нужны. А мне не помешают.
Наконец, настала та минута, когда отдали якорь, и все было готово к разгрузке. Пароходные грузовые стрелы спустили на воду плашкоут,[17] на него погрузили бочки и ящики, и тихим ходом, ведомое шлюпкой с гребцами, оно двинулось к берегу.
Потом на воду спустили плоты, а на них начали грузить коров и свиней. От непрестанного визга у меня заложило уши, но я не обращала на это внимания, а помогала людям вылезать из трюма и устраиваться для дальнейшей высадки на берег.
Канонерка появилась снова. Но не подходила, а кружила вдалеке, наблюдая за высадкой.
Поселенцы, вылезая, жмурились от солнца, младенцы вопили, люди пытались докричаться друг до друга, были даже стычки отчаянных голов. Их разнимали матросы.
Плашкоут ходил туда-сюда, пока не забрал последний груз.
— Вот и настало время прощаться, — ко мне подошел Сергей Викторович. — Вы несказанно скрасили наше путешествие, дорогая Аполлинария Лазаревна.
— Дайте, я вас обниму по-отечески, — сочным басом сказал капитан Мадервакс. — А может, с нами, в обратный путь? Вы свое дело сделали, людей помогли довезти, чего вам в этих краях искать?
— Не могу, Иван Александрович, я слово дала побывать в тех местах, где мой муж, географ Авилов, странствовал.
— Ну, храни вас бог! — он перекрести меня, и поцеловал. — Ступайте. Уже все на берегу. Последнюю шлюпку собираем.
Захватив саквояж, на дне которого покоился пергамент Фасиля Агонафера, я спустилась в шлюпку и отправилась навстречу ждавшим меня приключениям.
* * *
Аршинов уже вовсю командовал на берегу: под его руководством натягивали палатки, разбирали грузы. Неподалеку варили кашу в большом котле.
Ко мне подошел Нестеров и попросил помочь. После тяжелого перехода многие маялись животами, сыпями и чесоткой, особенно дети. Их надо было отпаивать козьим молоком, касторкой и мазать болтушкой на мелу и мяте, чтобы немного приглушить чесотку.
Вокруг нашего лагеря стали появляться маленькие вертлявые эфиопские дети. Сначала они глядели из-за ограды, потом осмелели и стали подходить поближе. Поселенцы их привечали и дарили сухарь или горсть каши.
Вскоре от эфиопских детей вышла прямая польза. Они, как сухая губка, впитывали русские слова и через неделю могли вести с нами простые беседы: как тебя зовут, где ты живешь, а что это такое? Очень помогал Аршинов, переводя в затруднительных случаях, но его часто было не дозваться.
Стали появляться взрослые. Высохшие старики в белых тюрбанах сидели на окраине поселения и обмахивались кисточкой из конского волоса. Если бы не эти движения, их можно было бы принять за статуи из эбенового дерева.
А потом появились женщины. Они принесли инджеру — ноздрястые горькие лепешки, выпеченные не из муки, а из семян какого-то растения с названием тэфф. К этому хлебу полагался ват — жгучий соус, от которого горело во рту. Нестеров, попробовав хлеб, сказал, что семена, скорее, семейства резедовых. Женщины тоже были одеты в белое с узорной каймой по подолу. Их движения, плавные, как воды равнинной реки, завораживали молодых поселенцев. Они предлагали эфиопкам орехи и пытались заигрывать. Те отворачивались.
Постепенно жизнь под ярким африканским солнцем входила в нормальное русло. Заработала машина для лепки кирпичей, подростки пасли скот, женщины готовили, мужчины распахивали пустоши и несли охрану. Умельцы-мастеровые построили кузницу и оружейную мастерскую, крестьяне разбили огороды.
Конечно, картина не была идиллической — возникали ссоры и распри, но Аршинов каким-то образом мог улаживать конфликты так, что они больше не возникали.
Пергамент старого монаха волновал меня все меньше, так как в веренице повседневных дел как-то забылась стародавняя история с рубинами царицы Савской.
А однажды возле нашего поселения появились вооруженные темнокожие люди. Поселенцы бросили работу и поспешили встретить их наготове.
На каурых низкорослых лошадках в седлах со странными стременами только для большого пальца сидели воины в белых балахонах. На головах у троих я приметила шапочки с пером какой-то экзотической птицы. Остальные отличались всклокоченными прическами, похожими на львиную гриву. Воины были вооружены копьями и щитами.
— Кто это? — спросила я удачно подвернувшегося рядом Али.
— Это ямато алака,[18] а вон там два яамса алака,[19] - быстро ответил он и убежал.
Его ответ мне мало чем помог, поэтому я принялась искать глазами Аршинова. Тот уже подошел к абиссинцу с самым большим пером на шапке. Командир спешился, и они прошли в палатку Аршинова. Перед входом в палатку Николай Иванович махнул всем рукой, мол, нечего тут стоять, возвращайтесь к работе, и люди нехотя разошлись, бурно обсуждая визит абиссинцев.
Я отправилась помогать Нестерову, и когда Аршинов позвал меня, я не удивилась.
— Кто это был? — спросила я, войдя в его палатку.
— Туземная полиция, Полина. Плохи наши дела.
— Что случилось?
— То, чего и следовало ожидать. Менелик прислал их передать, что наше поселение незаконно, что мы должны все свернуть и в течение месяца освободить берег. Никакие мои доводы и бумага Иоанна не помогла. Менелик не хочет даже слышать об Иоанне.
— И что теперь?
— Надо собрать небольшую экспедицию и отправиться к Менелику. Ах, как это все не вовремя! Стройка и сев в разгаре, за всем нужен глаз да глаз, а мне придется уехать.
— Я поеду с вами, Николай Иванович!
— Может, не стоит, Полина? Дорога трудная, мало ли что произойдет в пути?
— Нет, я с вами, тем более что у меня пергамент, а я вам его просто так не отдам, — я хитро улыбнулась.
— Хорошо, уговорили. Соберем около десяти человек и поедем.
— Не много?
— Мало, Аполлинария Лазаревна, очень мало! Охранять надо, мало ли какие дервиши нападут по дороге. Да еще местные обычаи надо уважать. Если я заявлюсь туда без сопровождения хотя бы трех вооруженных людей, со мной никто разговаривать не станет, за недостойного бедняка посчитают.
Лагерь тем временем полнился слухами. Выгонят или нет, нападут или разрешат остаться? И не каннибалы ли местные жители?
Около моей палатки стояла, потупившись, Агриппина Маслоедова и теребила бахрому платка.
— Что тебе, Агриппина? — спросила я. — Случилось что?
— Барыня, очень прошу, возьмите меня с собой.
— Куда?
— Вы же с Николаем Иванычем к царю собрались. Вот и возьмите меня. Я в дороге вам прислуживать буду, а то трудно вам будет. А я наученная, у купчихи Зарубиной служила в горничных.
— Откуда ты знаешь, Агриппина, что мы едем к царю?
— Да кто ж этого не знает? — удивилась она. — В поселении только об этом и говорят. Возьмите меня, барыня, я вам пригожусь. Ведь сил нет тут оставаться. Братец с женой совсем заели: это не так, то не этак.
Она почувствовала, что наговорила лишнего, и испуганно замолчала.
— Хорошо, я поговорю с господином Аршиновым. Ступай!
Аршинов сначала воспротивился, но потом, подумав, сказал:
— Ладно, стряпухой будет. Не могу я их инджеру есть — живот не принимает.
Кроме Агриппины Маслоедовой, в экспедицию вошли:
Порфирий Григорьевич Вохряков — чиновник. Он должен был подготовить все необходимое к приезду в будущем году государственной делегации. Об этом давно шли разговоры и, наконец, министерство иностранных дел воспользовалось оказией, и послала Вохрякова на нашем корабле. Г-н Гирс[20] — весьма экономный служитель отечества.
Уже упомянутый Арсений Нестеров. Он очень уговаривал Аршинова взять его с собой, так как намеревался по дороге собрать образцы флоры для будущей диссертации, а также испытать свой новый фотографический аппарат.
Прохор и Григорий Толубеевы, сыновья Авдея Петровича, печника, были званы Аршиновым в охрану. Точно так же, как и Георгий Сапаров, православный осетин. Их Аршинов передал под начало Головнина, на которого и была возложена задача обеспечить безопасность экспедиции.
Десятым за нами увязался монах Автоном. Ему надо было в монастырь в городе Лалибеле. Так как монах был рослым и от ружья не отказывался, то Аршинов позволил ему присоединиться к нам при условии, что тот пойдет в Лалибелу в "Бетэ Мирьям"[21] только после того, как мы предстанем перед негусом. Лиц духовного звания полезно показывать царям.
На следующее утро, на рассвете, мы были готовы к отправке. Все поселение вышло нас проводить, ведь на Аршинова была возложена важная миссия спасения "Новой Одессы".
* * *
Нам предстояло добраться до маленького поселения под названием Аддис-Абеба, которое начал строить Менелик Второй и там установил свой шатер, чтобы лично следить за возведением собственного дворца.
— Николай Иванович, скажите, как это получилось, что у такой большой страны нет до сих пор столицы? — спросила я Аршинова.
— Эта традиция идет с давних времен, — ответил он, покачиваясь в седле. — Не зря в Абиссинии так много монастырей. Именно они олицетворяют собой города. Вокруг них строятся глинобитные дома, в них живут ремесленники, обслуживающие монахов, и крестьяне, работающие на монастырских полях.
— А как же негус?
— А негус объезжает монастыри один за другим: собирает дань, узнает, что нового произошло за время его отсутствия. Его сопровождает войско, которое и проедает в пути дань от предыдущего монастыря. Так и живут: ведь если негус своей собственной персоной не будет показываться перед мятежными вассалами, те могут и восстать. Знаете, Полина, как мне приходилось гоняться за Иоанном, он же был как перекати-поле. А Менелик Второй поломал существующую традицию, столицу строит. Это хорошо.
Я с ним согласилась.
Аршинов дороги не знал. Он хотел нанять проводника, но ни один местный житель даже не слышал о таком месте — Аддис-Абеба, и только качали головой. Поэтому мы тронулись на свой страх и риск, полагаясь лишь на слова начальника сотни о том, что сначала надо ехать вдоль отрога хребта Данакиль, пока не доедем до Дэбрэ-Берхан, а там и до резиденции негуса недалеко.
Наша процессия растянулась на несколько десятков аршин. Впереди ехал немногословный осетин, за ним Аршинов с Али, Головнин беседовал с Вохряковым о политике негуса, два казака гарцевали около Агриппины, а ко мне приблизился Нестеров.
— Аполлинария Лазаревна, как ваша ссадина на лбу?
— Спасибо, уже почти ничего не осталось. Струпик вчера отвалился.
— Это хорошо, а то я не хотел бы, чтобы на вашем прекрасном лице были какие-либо шрамы. Не к лицу это вам, — Нестеров улыбнулся.
— Ах, Арсений Михайлович, а вы бонвиван! — я погрозила ему пальцем.
Он нахмурился.
— Я все думаю об этом нападении на вас. И почему-то убежден, что это дело рук тех, кто шел с нами на корабле, а не местных ворюг. У них совсем другие повадки: наброситься стаей, вырвать сумочку, выклянчить деньги. А тут все сделали, чтобы вы их не узнали.
— Да, в ваших словах есть резон, г-н Нестеров, — согласилась я с его доводами. — Хотя не понимаю, к чему вы это говорите? Ведь мы тут, а те, кто шли с нами на корабле, остались в поселении.
— Все ли? — покачал он головой.
— Что вы имеете в виду?
— Ничего, я просто рассуждаю.
— Нет, Арсений Михайлович, вы меня не проведете. Рассказывайте, что вам известно!
— Когда умирал старый монах, я попросил всех выйти. И Агонафер сказал мне, чтобы я во всем подчинялся вам. Так и сказал: "Иди к ней и подчинись. У нее в руках знание. Ее нужно охранять. Иначе падет династия". Потом пробормотал что-то неразборчивое и умер. Аполлинария Лазаревна, о какой династии идет речь? О Романовых? Я, к сожалению, далек от политики.
— Если позволите, я отвечу вам немного позже, а сейчас мне надо кое-что сказать Николаю Ивановичу, — я пришпорила лошадь и поскакала к Аршинову, надеясь, что Нестеров не заметил волнения у меня на лице.
— Николай Иванович, мне надо с вами поговорить, — Аршинов отослал Али и внимательно на меня посмотрел.
— Что случилось, Полина?
— Дело в том, что Нестеров что-то знает о нашем плане, — и я рассказала ему то, что услышала от молодого врача.
Аршинов поцокал языком.
— Получается, что ботанику надо рассказать. Хотя, с другой стороны, как не рассказать, если мы все едем спасать колонию. Насколько мне известно, при дворе Менелика очень сильны антирусские настроения, епископ Теофил воду мутит. Вот и получается, что не рассказать нельзя.
— Всем?
— Сложная задача. Не хотелось бы вмешивать охрану. Да и монаха с крапивным семенем[22] тоже. Поэтому сделаем так: до аудиенции у негуса не будем ничего говорить, а там видно будет.
Вернувшись обратно, я увидела, что Нестеров о чем-то оживленно беседует с Головниным. Увидев меня, они прекратили говорить и заулыбались. Такое положение дел мне нравилось все меньше и меньше.
Головнин воскликнул:
— Аполлинария Лазаревна, вы посмотрите, какая красота вокруг! Эх, жаль я тут не один: наша кавалькада всех зверей в округе распугала. А то бы я подстрелил какую-нибудь антилопу. Уж очень хочется полакомиться свежим мясом!
И действительно, красота была неописуемая. Мы скакали по нетронутой пустыне. Слева от нас возвышались вулканические горы, пестрящие потеками свинцового цвета. Редкие изогнутые деревья сгибались под плоскими кронами. Над ними летали крупные птицы, встревоженные нашим появлением. Над головой, в синем небе одиноко парил ястреб, наблюдая за нами. Тишина и покой владели миром. Лишь выбрасываемый из-под копыт песок нарушал гармонию.
* * *
За несколько дней пути мы проехали мимо селения Сардо, состоящего из нескольких глинобитных мазанок, Тандахо, где нас накормили свежей курятиной и неизменной инджерой, потом по единственной дороге пустыни Донакиль свернули в сторону городка Дессие, в котором все дома были круглыми хижинами с крышами из циновок. Там мы переночевали в пустующем доме и наутро, со свежими силами тронулись на юг, в новую Аддис-Абебу.
К Головнину приблизились братья казаки, они пошептались, потом что-то спросили у Автонома, и Лев Платонович торжественно произнес:
— Негоже православному мимо святой церкви проезжать, хоть и монофизиты там. Помолиться требуется перед богоугодным делом вспомоществования истинно верующим. Вот и Автоном приветствует.
Аршинов кивнул:
— Что ж, если так, то вскоре, в часе езды, будут две церкви: Дебре-Сина и Дебре-Берхан, мне в селении сказали. Выберем одну из них и помолимся.
Дорога резко пошла вверх. Из ущелья мы стали подниматься на плато, высотой около полутора тысяч аршин. Резко похолодало.
Дебре-Берхан — это уже город по абиссинским меркам. В нем есть церковь, постоянный рынок, на который свозят товары окрестные жители. Дома обычные — круглые, под коническими соломенными крышами. Здесь, по рассказам Аршинова, жил негус Менелик в доме своего отца Хайле Малакота, до того, как он решил основать столицу под именем Аддис-Абеба.
Пронзительные звуки и барабанную дробь мы услышали издалека, на подступах к городу.
— Что это? — спросила я Али, скакавшего рядом.
— Негарит, — ответил он, и быстро помахал руками.
— Понятно, — кивнула я, хотя ничего не было понятно. Не горит, так не горит.
На нашу процессию даже не обратили внимания. Толпы людей бежали в одном направлении. Мы спешились, так как проехать на лошадях с навьюченными тюками не было никакой возможности.
На главной площади на небольшом возвышении стоял глашатай и два барабанщика. Барабанщики били в барабаны, и я поняла, что имел в виду Али. Негарит — это барабан. А глашатай дудел в длинный рог антилопы. Наконец, они прекратили свою вакханалию, и глашатай принялся кричать высоким гортанным голосом.
Все тут же обратились к Аршинову.
— Что он говорит?
— Подождите, дайте послушать.
Через некоторое время, когда глашатай по третьему разу прокричал одно и то же, а барабанщики вновь заколотили по барабанам, Аршинов повернулся и сказал:
— Что-то мне это все не нравится, господа. Через три дня состоится публичная казнь изменников, которые захотели сбросить с императорского престола законного негуса и посадить на него сына Иоанна VI. Казнь будет в полдень, в Аддис-Абебе, напротив строящегося императорского дворца.
— А сын Иоанна, он где? — спросил Нестеров.
— Среди приговоренных.
— Где тут церковь? — спросил Головнин, а Автоном взял лошадь под узды и резко повернулся к выходу с площади.
Мы прошли мимо поселян, торгующих медом, воском, домашней птицей и яйцами, войлочными одеялами и бурнусами из Менца.[23]
Церковь Дебре-Берхан мы нашли на самом краю плато, откуда на север простиралась великолепная панорама горного хребта Донакиль.
На пороге церкви, напоминающей своим видом спелый гриб-боровик под круглой шляпкой, стоял монах в черном одеянии и пересчитывал белые кирпичи, завернутые в пальмовые листья.
— Что это?
Всезнающий Аршинов ответил:
— Брикеты соли из соляных копей в пустыне. Они здесь идут как разменная монета. Видите, торговец принес пожертвование деве Марии. Ее тут очень почитают. Называют Мирьям.
Сняв запыленную обувь, мы вошли в церковь. Вдоль периметра круглого здания были уложены цветастые половички, а на квадратных колоннах, поддерживающих крышу, висели иконы.
Меня поразило то, что все они были чернокожими! Иисус, дева Мария, Троица, святой Иоанн Евангелист — все черные, с большими круглыми добрыми глазами. Я поискала глазами свечки, чтобы зажечь — свечек нигде не было.
Автоном упал на колени и принялся истово молиться. Он клал земные поклоны, крестился, и вокруг него не существовало ничего мирского и суетного. Прохор, Григорий и Агриппина прикладывались к иконам, осетин всего лишь раз обмахнул себя крестным знамением и вышел из церкви.
Священник, покончив принимать соль, вошел в церковь. Аршинов поздоровался с ним за руку и заговорил на амхарском, называя того "кес аггафари".[24]
В глубине, за последней колонной, рядом с алтарем, я увидела необычную картину. Это была не икона, а произведение, стилизованное под иконописную живопись. На переднем плане была нарисована красивая женщина, а сзади нее, в искаженных пропорциях четверо юношей несли на плечах нечто вроде короткого гроба, спрятанного под покрывалом. Голову женщины покрывала диадема из красных точек.
Священник остановился возле меня.
— Шва,[25] - сказала я. Этому слову меня научил Аршинов.
Священник кивнул, показал на голову царицы.
— Кыбур денгай,[26] - произнес он. — Руби.[27]
— Ишь ты, — вдруг подошел к нам Вохряков. — Денег просит. Рублей. И откуда они, души еретические, знают о наших рублях?
Я достала из сумочки несколько рублей и протянула священнику. Он отрицательно покачал головой и отклонил мое подношение. Брикетов соли у меня не было.
Из церкви я вышла немного не в себе. Значит, это не легенда? Значит, это все правда? Хотя картину с рубинами и ковчегом, который несут четыре юноши, тоже могли нарисовать по легенде. Но у священника в глазах была такая вера во все, что нарисовано на картине, что я стала склоняться к мысли: а почему бы и нет? Нашел же Генрих Шлиман 22 года назад Трою на холме Гиссарлык? Об этом много писали в газетах. Почему бы и этой легенде не обернуться былью?
Ко мне приблизился Головнин.
— Аполлинария Лазаревна, красавица вы наша, не хмурьте лобик, вам совсем это не идет. О чем вы задумались?
— А? Что? — я очнулась и посмотрела на охотника. — Так, глупости…
— Будет ли мне позволительно узнать, какая глупость заставила вас нахмуриться? Морщинки останутся.
— Да очень просто, — я решила схитрить. — Вы назвали эфиопов монофизитами, а Вохряков — еретиками. Но они же православные! Ну, черные, но ведь нашей веры?
— Как вам сказать… Эфиопов в своё время забыли позвать на Никейский собор — так с тех пор они и монофизитствуют.
— А что это такое?
— Монофизитство — это… я не большой знаток, лучше у Автонома спросить, но он ликом страшен и рык. Не будем, сами разберемся. Это ересь Евтихия, был такой престарелый архимандрит, которого вызвали на собор и спросили: "Исповедуешь ли ты, что Христос единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству?", а он взял и ответил вопросом на вопрос: "А где в Писании сказано — два естества?" Если по-простому, то он не признавал Иисуса Христа единосущным нам по человечеству. Его взяли и отлучили, назвав его убеждения ересью. Но до Абиссинии этот приговор не дошел, поэтому они так и остались монофизитами.
— Спасибо, Лев Платонович! Откуда вы это все знаете?
— В молодости хотел в семинарию поступать, вот и остались какие-то крохи в голове.
— А чего не поступили?
— Охоту люблю. А деяния такие несовместимы с духовным саном. Вот я и выбрал охоту.
* * *
Глава пятая
Привал в пещере. Рекогносцировка. Решение спасти принца. Вохряков отказывается. Узурпатор Менелик. План Аршинова. Аполлинария хочет участвовать. Казнь. Нападение. Спасение приговоренных. Погоня. Кто принц? Дрова надо прятать в лесу. Русские идут.
Мы поднимались все выше и выше по высокогорной провинции Шоа. Наконец, на горизонте показались первые мазанки Аддис-Абебы.
— Будем искать ночлег, — распорядился Аршинов.
— Тут нет гостиниц? — брезгливо повел носом Вохряков. — Сколько можно ночевать в курятниках?
— Сколько потребуется, милейший Порфирий Григорьевич, — ответил Головнин. — Мы же просителями сюда пришли. И держаться нам надо скромно и незаметно, пока не сделаем рекогносцировку на местности. Агриппина, когда найдем пристанище, займись, голубушка, обедом, есть охота!
Место для ночлега мы нашли не в курятнике, а в пещере в небольшой расщелине справа от дороги на Аддис-Абебу. Казаки и Сапаров распрягли лошадей, расстелили кошмы на сухом земляном полу. Нестеров достал купленные на рынке в Дебре-Берхане дрова — здесь они большая редкость. Агриппина принялась за кашу, а Аршинов сказал:
— Вы тут устраивайтесь, а нам с Али надо в город, разведать обстановку.
Они вернулись через три часа. У Аршинова лицо и кисти рук были вымазаны ваксой. Он привез с собой восемь бурнусов и странных мохнатых шапок, украшенных по краю витой вышивкой.
— Что это? — спросила я.
— Национальные одежды дервишей, врагов Менелика Второго.
— Вы что-то замыслили, Николай Иванович?
— Да, Полина. Одну небольшую операцию. Господа! Подойдите все сюда! Григорий, Прохор, Георгий, вы тоже!
Мы все подошли и сели на кошму в центре пещеры. Агриппина принесла две миски перловой каши, но Аршинов сделал нетерпеливый жест рукой, и она отошла.
— Диспозиция следующая. Сегодня на закате состоится казнь Малькамо, младшего сына Иоанна Шестого, и двух его товарищей, которые подняли бунт против Менелика Второго с целью захвата власти. Малькамо надо освободить. И мы это сделаем.
— Как? — вскричал Порфирий Григорьевич. — Это бунт! Сопротивление властям! Я, как уполномоченный правительством его Императорского Величества, категорически против этой затеи, а так же своего в ней участия!
— Ну что ж, вольному воля. Поедем без вас. Кто еще не согласен?
— Хотелось бы узнать, зачем нам это делать? — Нестеров снял очки в круглой железной оправе и принялся их протирать. — Не вмешиваемся ли мы в частное, внутреннее дело суверенного государства?
— Нет! — отрубил Аршинов. — Менелик узурпировал власть, ведь когда Иоанна смертельно ранили в сражении при Метемне, власть должна была перейти к его старшему сыну, Расу-Ареа Салазье. Но он был тоже убит в этом же сражении. Перед смертью Иоанн успел назначить своим преемником своего племянника Мангашиа до тех пор, пока из Франции не вернется младший сын Малькамо. И пока осуществлялась передача власти, решали, какими правами будет наделен временный властитель Мангашиа, Менелик просто взял и объявил себя негусом. Смелость города берет! Уставшие от смуты и безвластия абиссинцы охотно пошли ему навстречу, потому что на его стороне была сила и самоназвание — его зовут так же, как и соломонова сына, которого народ чтит.
— А для чего нам нужно спасение царского сына? — спросил Головнин.
— Для выживания колонии!
— Не понимаю, поясните ваши слова, г-н Аршинов.
Аршинов начал ab ovo.[28] Он рассказал о царице Савской и Соломоне, о рождении Менелика Первого, о краже ковчега и рубинов. Потом объяснил, что при Иоанне рубины пропали, и тот очень волновался — ему нужно было, чтобы его сын короновался законно, как все цари династии Соломонидов. Но внезапная смерть оборвала его планы. Малькамо в это время находился в закрытой школе во Франции, и когда вернулся в Абиссинию, делать было нечего: власть захватил Менелик с помощью своих воинов.
Мы слушали как зачарованные — Николай Иванович обладал несомненным даром рассказчика. А он воодушевлялся все более:
— Многие верные покойному негусу соратники не захотели смириться с властью узурпатора. Потому что они считали: только потомок Соломона и царицы Савской, которую сами абиссинцы называли Шва, Македа, Азэб, может стать царем царей, избранником Бога, а именно Негусом негестом.
Менелик Второй, а на самом деле Сахлэ-Марьям, правитель области Шоа, мечтал о власти давно. Как губернатор, он не получал жалованья и военной помощи от императора, а содержал собственную армию, что, как вы понимаете, было слишком накладно: жалование, фураж, обмундирование. Кроме того, Сахлэ-Марьям казнил и миловал в своей провинции, и ежегодно отправлял к царскму двору часть собранных налогов.
Но ему мало было губернаторской должности. Он хотел стать царем. Он очень умный, образованный и хитрый человек. Языки знает.
И это ему удалось. Для того, чтобы убрать из памяти подданных, что он ненастоящий царь, Сахлэ-Марьям подписал контракт с итальянцами на поставку в Шоа двух тысяч винтовок «Ремингтон». Этими винтовками он вооружил своих амхарских и тиграйских воинов и захватил власть.
Итальянцы почувствовали себя при нем привольно, так как именно они помогли ему прийти к власти. Поэтому так нагло и вели себя с нами моряки с канонерки.
Менелик колеблется. Ему нужны макаронники, и поэтому он против России. Вот почему нам и нужен сын законного негуса Иоанна. Спасая Малькамо, мы спасаем российскую колонию, и помогаем нашей родине.
Все молчали, осмысливая услышанное. А я восхищалась тем, что Аршинов ни слова не сказал о пергаменте Фасиля Агонафера. Хоть нас было и мало, но лишние уши никому не нужны.
— Неужели нельзя договориться с Менеликом? — спросил Вохряков. — Вы как хотите, господа, но у меня нет полномочий на такие авантюры. Я послан с четким и недвусмысленным поручением: подготовить почву для российской делегации на самом выском уровне, и считаю, что ваша бессмысленная затея только нанесет урон престижу Российской империи.
— А о людях вы подумали, Порфирий Григорьевич? — спросил его Нестеров. — Они там, под пушками итальянских канонерок. Женщины и дети. А мы будем дожидаться российской делегации? Да скорее рак на горе свистнет!
— А как вы себе представляете операцию по спасению принца, г-н Аршинов? — спросил Головнин, попыхивая трубкой. — Ведь «Ремингтоны» — не игрушки. Они стреляют.
— Мы с Али все высмотрели. Казнить осужденных будут на главной площади. Там уже стоят три виселицы. Вокруг оцепление. Но позади виселиц площадь переходит в узкую улочку, на которой будет стоять четверо-пятеро солдат, не больше. План такой: сначала Али пойдет один. Он не вызовет подозрения. Мы же отправимся на рынок, и будем рассматривать лошадей. Только лошадники не пойдут на казнь — им некуда будет поставить свой товар. А когда забьют барабаны и выведут осужденных, Али подаст сигнал — свистнет, как я его научил. Мы вскочим на лошадей и рысью помчимся, сметая пешую охрану. Схватим заключенных, и будет таковы.
— А винтовки? — спросил Нестеров. — Охрана же стрелять будет.
— Вся операция займет не более нескольких секунд, они даже вскинуть винтовки не успеют, если мы, конечно, не замешкаемся.
— Я против! Я — категорически против! — тонким фальцетом завопил Вохряков. — Именем Его Императорского Величества…
— Заткнитесь, Вохряков, дайте слово сказать, — Головнин даже не вытащил трубки изо рта. — Николай Иванович, я лично согласен. Но вам надо опросить всех.
— Конечно! Ваше слово, господа.
— Я поеду, — кивнул Нестеров.
Братья-казаки и осетин тоже подтвердили свое участие.
— Очень хорошо, — сказал Аршинов, — вот вы и схватите по осужденному и посадите к себе на лошадь. А мы будем вас прикрывать. Лев Платонович, у нас достаточно оружия?
— Хватит, — кивнул тот.
— Я тоже с вами! — воскликнула я.
Все удивленно посмотрели на меня, а Агриппина даже охнула и перекрестилась.
— Полина, да вы что! Куда вам с нами?
— Как куда? Вместо этого, — я так глянула на Вохрякова, что он сжался весь и опустил голову.
— Не пущу! — отрубил Аршинов.
— Ах, так? — в запальчивости крикнула я. — Как все тяготы пути выдерживать — так я могу. Как помочь в чем-то — тут же Полину зовете. А я, между прочим, не хуже вашего в седле сижу. И по-мужски! Не возьмете меня, не будем вам больше от меня пользы! Так и знайте.
Головнин снова невозмутимо пыхнул трубкой.
— Главное, чтобы ваксы хватило — арапа из вас сделать.
— Так, значит, согласны? — я не поверила своим ушам.
— А что? Я за то, чтобы взять Аполлинарию Лазаревну с собой. По крайней мере, под присмотром будет. Что скажете, Николай Иванович?
Вместо ответа он повернулся к Агриппине, и громко произнес:
— Ты, любезная, будешь вот этого стеречь, — он показал на Вохрякова. — Чтоб не удрал никуда. Тебе его поручаю, больше некому. А мы скоро вернемся. Господа, давайте одеваться. И ваксы, ваксы не жалейте!
* * *
Солнце еще стояло высоко, когда мы выехали на дорогу, ведущую к Аддис-Абебе. Все в тяжелых халатах дервишей, мохнатых шапках, надвинутых на самые уши. Особенно нелепо сидел халат на монахе Автономе — его широкие плечи, казалось, вот-вот разорвут ветхую одежонку. Головнин дал каждому по пистолету и приказал спрятать за пояс. Мне было непривычно — пистолет бился о живот, и я боялась, что он выстрелит. А еще было жарко, и только ветер обвевал раздраженное от ваксы лицо.
Дорога обезлюдела. Либо все с утра ушли в город, либо сидели в своих хижинах и не высовывали носа наружу. Аршинов перевел лошадь с рыси на галоп, все последовали его примеру.
Как и ожидалось, на рынке народ остался только около лошадей. Да и то это были мальчишки, стерегущие товар. Взрослых не наблюдалось.
Али пошептался с Аршиновым, соскочил с лошади и убежал в сторону главной площади. Он придерживал на бегу шапку, хотя ему прятаться не надо было, его же не намазали ваксой.
Мальчишки смотрели на нас и шушукались. Наконец, осмелели и подошли поближе. Аршинов рыкнул на них, и они стремглав бросились обратно.
Ко мне приблизился Головнин.
— Ух, как курить охота! Спасу нет! — прошептал он мне.
— Потерпите, Лев Платонович, не ровен час, выдадите всех.
— Да я-то что? Нестерову еще хуже, чем мне, он же без очков.
И вот где-то далеко зазвучали барабаны. Она все усиливалась, нарастала и тревожила душу пугающей дробью.
— Готовсь! — приказал Аршинов.
Вдруг раздались два длинных пронзительных свистка. Аршинов пришпорил коня и понесся вперед. Мы за ним. В арьергарде следовали Автоном, братья-казаки и осетин Сапаров.
Увидев нас, отскочили в сторону воины из первого ряда заграждений, стоявшие на входе на площадь. Они были вооружены только копьями.
На площади тем временем все было готово к казни. Я впервые видела так близко от себя три помоста с болтающимися петлями. Трое с завязанными руками стояли напротив пышного балдахина, под которым сидели важные особы, вокруг осужденных стояли рослые воины в львиных шкурах на плечах.
Аршинов направил коня на цепь солдат, те в панике бросились прочь от смерти, несущейся на них. Некоторые пытались вскинуть ружья, но Головнин меткими выстрелами уложил их на месте.
Народ убегал с площади, голосили женщины. Чиновных особ загородили телохранители. Казаки и Сапаров подскочили к помосту, каждый схватил по человеку и перекинул через коня. Автоном прикрывал их с тыла. Выстрелы раздавались все чаще, надо было спешить.
— За мной! — крикнул Аршинов, видя, что спасенные в наших руках, развернул коня и направился вновь на улочку, ведущую к рынку.
И тут я заметила, что Нестеров кружит, не видя ничего перед собой. Его уже ухватили за стремена и пытались свалить с лошади. Не задумываясь, я выхватила пистолет и выстрелила в того солдата, который тянул Нестерова за ногу. Он упал, я выстрелила во второго, схватила под узды коня полуслепого медика и пришпорила свою лошадку. Нестеров опомнился, тоже пришпорил коня, и я отпустила его. Выстрелы продолжались, поэтому пришлось сильно нагнуться и обнять лошадиную шею. При этом мохнатая шапка дервиша упала с головы.
На выходе из города к нам присоединился Али. Он ждал там, Аршинов приказал ему только подать сигнал, и не вмешиваться. Мы поскакали к ущелью, где можно было укрыться в нашей пещере.
Коней завели в укрытие и распрягли. Троих спасенных эфиопов сняли и развязали им руки. Оказалось, что один из них тяжело ранен — пулевое ранение в спину. Нестеров тут же водрузил на нос очки и раскрыл свой медицинский саквояж. Агриппина бросилась ему помогать, а Вохряков даже не показывался — наверное, ему было стыдно за то, что он не поехал с нами. А может, я просто думала о нем хорошо.
— Кто из вас Малькамо? — спросил Аршинов на амхарском. — Кто сын негуса Иоанна?
Эфиопы молчали. Даже не переглядывались. Один лежал и дышал со свистом, двое сидели возле него и никак не реагировали на вопросы Аршинова.
Мне надоело это запирательство.
— Ingrat comme les chats,[29] - выкрикнула я в сердцах. — Ради этих людей мы рисковали собственной жизнью, а они не хотят даже рта открыть.
— Нет, мадам, — вдруг по-французски ответил один из эфиопов, самый молодой из них, — мы умеем быть благодарными и признательны вам от всего сердца, особенно за то, что вы лечите нашего друга, но мы не знаем, кто вы? Вы странные люди, говорящие на странном языке и носящие одежды дервишей — заклятых врагов моего покойного отца.
У юноши было породистое лицо, тонкий нос с горбинкой, умные глаза, которые запали от перенесенных страданий. Он был высок ростом, тонок костью, и выглядел статуэткой эбенового дерева.
— Разве ты не видел людей, говорящих, как мы, при дворе твоего отца? — спросила я. — Это были монахи из России.
— Нет, меня тогда не было дома. Я учился во Франции.
Я повернулась к своим спутникам:
— Ну вот, господа, позвольте представить вам наследного принца Малькамо, сына Иоанна Шестого.
— Здорово! — воскликнул Головнин. — Как это вам удалось?
— Очень просто, ведь Николай Иванович рассказывал, что Иоанн отправил сына учиться в закрытую школу во Франции. Поэтому я и сказала по-французски фразу, способную задеть того, кто поймет, о чем я говорю.
— Хитра, Аполлинария Лазаревна, ох, хитроумна! — погрозил мне пальцем Аршинов и обратился к Малькамо на своем ужасном французском:
— Уважаемый принц, мы — твои друзья. Мы из России и пришли…
— Николай Иванович, дайте, лучше я скажу, — остановила я его.
— Ну, как хотите, Полина, мне легче скакать и шашкой биться, чем так гундосить.
— Как сказал наш друг, мы из России, и той же веры, что и ты, Малькамо, — сказала я. — Мы очень уважали твоего покойного отца. Ведь это именно он разрешил г-ну Аршинову построить колонию на берегу Красного моря. А потом к власти пришел Менелик. Сначала нас в море остановила итальянская канонерка, а потом Менелик призвал нас к себе — очень ему не по нраву разрешение негуса Иоанна. Мы уже было собрались к нему, но на рынке в Дебре-Берхан услышали о готовящейся казни, поэтому решили повременить с визитом и сначала спасти тебя, а уж потом и к негусу можно на прием.
— Понятно, — кивнул Малькамо. — Вы рисковали, и я рад, что вы решились на эту вылазку. Вот только жаль Абебо, он очень плохо выглядит.
— Я делаю все возможное, — вступил в разговор Нестеров, — но рана очень тяжелая. Лихорадит его.
Из дальнего угла вылез Вохряков и склонился перед Малькамо:
— Мое почтение, ваше высочество, позвольте поздравить вас с исполнением божественной справедливости — вашим освобождением от неминуемой смерти.
— Вот только вы, Порфирий Григорьевич, не имеете к этому никакого отношения, — скривился Головнин. — Дама вместо вас поскакала, да еще Нестерова спасла. Стыдно вам должно быть.
— Я фигура государственная! — взизгнул Вохряков.
— А вот если государственная, так и ведите себя по- государственному, а не как глиста бесхребетная.
— Да как вы смеете?! — опять вспыхнул Вохряков.
— Ох, да подите вы прочь! Просто вы, действительно, нужны нам, пока от Менелика не выйдем, а уж после того я побрезгую плюнуть в вашу сторону!
— Господа, господа, утихомирьтесь, не до этого нам. Нужно думать о том, как и когда предстать перед Менеликом. А для этого надо въехать на постоялый двор, чтобы соглядатаи негуса знали: в город въехала российская делегация, и доложили бы ему это известие.
— Как вы думаете, нас не узнают? — спросил Нестеров.
— Не думаю. Тем более, что мы должны сделать это немедленно. Дрова надо прятать в лесу. Поэтому нам лучше всего быть на виду, а не отсиживаться в этой пещере, которая хоть и удобное убежище, но не думаю, что слишком надежное для столь большой компании, как наша. Да еще с лошадьми.
— Но что делать с раненым?
— У него есть родственники в Дебре-Берхан, — ответил Малькамо. — Дайте нам одну лошадь, надо отвезти Абебо.
Тут Абебо что-то сказал. Малькамо выслушал и повернулся ко второму товарищу.
— Мулё, останешься с Абебо пока он не выздоровеет. Вот только кто вернет лошадь обратно?
— Так… — Аршинов долго не раздумывал. — Али, собирайся, поедешь в Дебре-Берхан, потом приведешь лошадь назад. Малькамо, ты наденешь одежду Али, будешь моим слугой, пока не спрячемся в гостинице. А вы, господа, оттирайте ваксу с лиц и переодевайтесь в цивильное платье. Пусть видят, что русские идут!
* * *
Глава шестая
Испорченный саквояж. Расследование. Торжественная делегация. Самовар и другие подарки. Менелик Второй, Негус негест. Переговоры. Побоище. Плен. Что делал Монте-Кристо? Ночная прогулка. Встреча наедине. Полина обещает помочь. Итальянские насильники. Подкоп. Освобождение.
Я взяла в руки саквояж и вскрикнула: он был безнадежно испорчен — поперек шел большой надрез, из которого вывалилась половина моего носильного платья. Замок на саквояже оказался неповрежденным.
— Агриппина! — закричала я что есть мочи. — Что это?!
На мой крик прибежали все, находящиеся в пещере. Агриппина, увидев изуродованный саквояж, упала на колени, и завопила:
— Не виновата я, матушка! Не знаю, как вышло.
— Не ври мне, Агриппина, — погрозила я ей. — Если не ты, то кто же ко мне в саквояж залезть хотел? Порфирий Григорьевич?
— Вы, мадам Авилова, говорите, да не заговаривайтесь! — выступил вперед Вохряков. — Да что это получается? Кто меня только не обвинял за последнее время?
— Пока ясно только одно: саквояж взрезан и изрядно испорчен, — произнес Головнин. — А как это сделано и чем, сейчас глянем.
Не выпуская изо рта трубки, Лев Платонович покрутил саквояж, тщательно прощупав края надреза.
— Нож. Я было подумал, что за острый край его зацепило. Так нет, не камень. Такой ровный надрез даст только хороший нож. Кожа добротная, ее с размаху не возьмешь.
— Агриппина! — рявкнул Аршинов. — А ну рассказывай, подлая твоя душа, что ты искала у Аполлинарии Лазаревны? Своровать хотела? Признавайся!
Несчастная женщина от страха упала на колени и принялась мелко креститься. Ее лицо выражало такой ужас, что мне даже стало ее жаль, но, вспомнив, во что превратился мой саквояж, я задавила в себе жалость.
— Говоришь, не ты? А кто тогда? Он? — Аршинов ткнул пальцем в сторону Вохрякова.
Тот возмутился в очередной раз.
— Позвольте! Я вообще все время спал и не желаю иметь к этому делу никакого отношения! А вот она, представьте себе, дважды подходила ко мне и наклонялась. То ли высматривала, сплю я или нет, то ли присоединиться намеревалась.
Мне стало неприятно на душе от такого беспардонного заявления чиновного сморчка. Уж что-то, а заподозрить пышную Агриппину в сиих намерениях было просто смешно. Тем более, что братья-казаки, стоявшие рядом, при этих словах одновременно схватились за ружья. Аршинов жестом остановил их.
— Хорошо, — кивнул он. — Не ты виновата, ни Вохряков. А саквояж порезан потому, что вор не смог вскрыть замок. В нем рылись. Значит, был кто-то третий? Или ты тоже спала и ничего не видела?
— Не видела, — запричитала она, — вот вам истинный крест, не видела. Я кашу варила, за огнем следила, может, и не заметила арапа какого-нибудь.
— Почему арапа? Здесь был эфиоп?
— Где ж тут православному оказаться? Одни черные кругом.
— Эфиопы тоже православные, ты не подумала об этом?
— Да ничего я не думаю, ваше благородие! Не знаю, не видела, не мучьте меня, Христом-богом прошу!
Поняв, что от Агриппины ничего не добьешься, Аршинов приказал Григорию, Прохору и Сапарову обыскать окрестности — нет ли следов, не спрятался ли кто чужой.
Они вернулись ни с чем. Почва в ущелье каменистая, следов никаких не осталось, да и наши лошади если и были какие следы, то затоптали.
— Господа, будем переодеваться, — сказал Аршинов, когда вернулся Али, ведя под уздцы вторую лошадь. — Нас ждет Аддис-Абеба.
— А как же Малькамо? — спросила я.
— Изменим внешность, не волнуйтесь, Аполлинария Лазаревна: несколько фальшивых татуировок тигранского племени полностью превратят его из сына амхарского вождя в воина другой губернии. Никому и в голову не придет заподозрить.
* * *
В город мы вступали торжественно и величаво. Аршинов в черкесске с газырями, с переброшенными через плечо волчьими хвостами сидел на лошади подбоченись. Головнин в пробковом шлеме выглядел вылитым англичанином. Сапаров в папахе, братья-казаки в фуражках набекрень. Огромный монах Автоном в рясе и сандалиях, с большим серебряным крестом на груди. Агриппина в цветастой шали. Малькамо с Али ехали позади всех, лицо принца было закрыто синей накидкой, по закону воинов-тиграни. Зрелище было восхитительное. Мы нарочно шли медленно, чтобы сбежавшиеся отовсюду эфиопы могли нас хорошо разглядеть и передать сплетни как можно дальше.
Наша кавалькада остановилась на постоялом дворе около рыночной площади. Мужчины стали вносить тюки во двор, Агриппина зорко смотрела по сторонам, так как юркие мальчишки крутились рядом, якобы помочь. Она отгоняла их, ругая по-русски шельмецами и разбойниками. Мальчишки, к моему удивлению, понимали.
Мне предоставили отдельную комнату с циновками на полу. По моей просьбе принесли бадью с водой, и я с наслаждением вымылась. Агриппина мне помогала. Упав на узкую постель, я забылась глубоким сном.
На следующее утро ко мне постучался Нестеров:
— Аполлинария Лазаревна, какая удача! Сегодня вечером нас примет Менелик Второй.
Я обрадовалась: какой же Николай Иванович молодец! Только благодаря его знанию языка нас пускают в столь рекордные сроки.
— Я же не успею одеться! Агриппина, где ты? Мне нужно нагреть щипцы! Почистить платье! Все равно тут нет утюгов.
— Вы тут готовьтесь, а я пойду, присмотрю за подарками. Аршинов самовар аж из Одессы вез. Не все же только грамоты вручать. Вохряков до этого не додумается, мышиная душа.
Часы, оставшиеся до вечера, я провела за приведением себя в божеский вид. С болью смотрела на свои поцарапанные пальцы, неровные волосы, которые никак не желали укладываться, на синяки под глазами от недосыпа, обветренную кожу. Нет, не красавица… Подурнела Полина. Куда делся твой персиковый цвет лица?
И все же, зачем мне надо красоваться перед негусом? Мы по делам приехали, вот и будем решать эти дела, а не моргать ресницами.
Достав свое единственное выходное платье, я критически осмотрела его. Кружева смялись, буфы висели, словно собачьи брыли, а подол следовало подшить. Достав иголку с ниткой, я усадила Агриппину за шитье, а сама занялась ботинками, которые тоже были не первой свежести.
Когда все мужчины собрались во дворе, я только доканчивала закалывать волосы. Но я быстро завершила свой туалет, натянула перчатки и вышла во двор. Меня встретили восхищенными возгласами.
— В путь, господа! С божьей помощью!
Аршинов вскочил на коня. Мы за ним. Особенно великолепно выглядел Сапаров, у которого к седлу был приторочен самовар. Агриппина накануне начистила его, и он блестел, как золотой.
Подъехав к высокому шатру, величиной с цирк шапито, мы спешились, и Аршинов зычно прокричал что-то по-амхарски. Я услышала только слово «Руссия». К нам подбежала толпа слуг: одни взяли наших лошадей под уздцы и увели. Другим мы вручили тюки с подарками. Сапаров самовар не отдал.
Подошел высокий эфиоп, наряженный в львиную шкуру, зеленое платье и белые узкие штаны. В руках он держал копье и круглый щит буйволовой кожи, украшенный орнаментом. Охранник жестом пригласил нас следовать за нами.
Идти было нелегко — все вокруг было раскопано, мощеной дороги не было.
— Что тут строят? — спросила я Аршинова.
— Дворец негуса, самый большой в стране.
— Понятно. Значит, он надолго решил тут расположиться.
Мы вошли под своды шатра, подпертые высокими бамбуковыми опорами. Резкий свет лился из прорезанных в стенках узких окнах. Повсюду висели львиные шкуры, подобные той, которая была надета на нашем сопровождающем. Полы были устланы мягкими коричневыми коврами с желтыми и голубыми геометрическими узорами.
Прямо напротив нас возвышался царский балдахин красного бархата. Балдахин венчала огромная корона, украшенная блестящими красными камнями.
Под куполом, на постаменте высотой в аршин, покрытый красно-золотой парчой, на троне с подушками сидел сам Менелик Второй, Негус негест, повелитель Тиграя и Шоа, Валло, Годжама и Аксума, главный настоятель монастырей Дебре-Дамо, Йемрахана-Кристос и Святой Мирьям в Лалибеле.
Внешне Менелик производил довольно приятное впечатление. Неопределенного возраста и очень темного цвета кожи: ему можно было бы дать и тридцать пять, и шестьдесят лет, на округлом лице не было морщин. Высокий рост несколько скрадывал полноту. На негусе был надет широкий халат, расшитый замысловатыми узорами, а на голове красовался широкий венец из кованых золотых и серебрянных пластин, украшенных резьбой.
Справа от трона стояли придворные в белых одеяниях шамма[30] из тканой кисеи и в накидках ярко-синего цвета, украшенных длинными висящими полосками кожи. Все они были босиком. А слева выстроились четыре итальянских офицера при полном параде.
Аршинов вышел вперед и громко произнес что-то на амхарском. Потом повернулся к казакам и махнул рукой:
— Давай, ребятушки!
Прохор и Григорий раскрыли тюки и достали оттуда большое расписное фарфоровое блюдо кузнецовского завода, штуку ситца, поставец с головой селезня и дюжину ложек — все хохломской работы, абашевские[31] расписные свистульки в виде коровок и круторогих баранов, и две бутылки водки.
И, наконец, осетин Сапаров торжественно поставил перед негусом сияющий самовар.
Подарки вызвали некоторое оживление. Придворные вытягивали шеи, пытаясь рассмотреть невиданные вещи. От вида самовара по шатру пронесся вздох, и начались перешептывания. Даже итальянцы переглянулись.
Менелик сидел на троне, не шевелясь и не реагируя ни на что. Только его выпуклые глаза двигались, переходя от подарков на нас. Довольно часто его взгляд останавливался на мне. Он смотрел на меня пристально, но я не отводила взгляда, так как не собиралась склоняться перед человеком, пославшего на казнь законного принца.
Мы стояли, вытянувшись. Менелик молчал. Пауза затянулась.
Первым не выдержал Вохряков. Отодвинув в сторону Головнина, возле которого он стоял, чиновник вышел вперед, держа в руках письмо из канцелярии Министерства Иностранных дел и, поклонившись, протянул его негусу. Наперерез ему тут же бросился один из телохранителей, отобрал письмо и почтительно склонившись, положил его возле босых ступней Менелика. Вохряков вскипел:
— Приветствие его сиятельства, г-на Гирса! К ногам!
— Тише вы, — прошипел Аршинов. — Не видите, негус размышляет. Вас что, не учили перед поездкой абиссинскому этикету?
Менелик не шевелился. Не смотрел на письмо у своих ног, не обращал внимания на подарки. Только переводил взгляд с одного из нас на другого.
Когда молчание стало вконец невыносимым, вперед выступил монах Автоном и загудел:
— И возвед очи свои, виде мужа путника на стогнах градных, и рече муж старец: камо идеши и откуду грядеши? И рече к нему: грядем мы от Вифлеема Иудина даже до стран горы Ефремли, отонуду же аз есмь; и ходих до Вифлеема Иудина, и иду аз в дом мой; и несть мужа вводящаго мя в дом…[32]
Аршинов схватил монаха за руку и быстро заговорил, обращаясь к Менелику.
Негус что-то отрывисто произнес. Аршинов шумно вздохнул и между ними начался диалог. Никто из нас не понимал, о чем они говорят, но вдруг Менелик перешел на французский и произнес с тяжелым акцентом:
— Я приветствую вас, господа!
Этим тут же воспользовался Вохряков:
— Ваше величество, позвольте от лица официального представителя канцелярии Министерства Иностранных дел выразить благодарность за аудиенцию и вручить вам письмо лично от его сиятельства, г-на Гирса, министра иностранных дел, того, кто послал меня в вашу благодатную страну.
— Много слов, — буркнул Менелик и жестом приказал подать ему письмо. Сам даже не наклонился, наверняка, ему мешал живот, выпиравший из-под парчовой робы. — И я не "ваше величество". Мой титул: "Лев из колена Иудова, Менелик Второй, Богом поставленный царь царей Эфиопии". Запомни это и передай своему господину.
— Всенепременно… — залебезил Вохряков.
— Стража! — отдал приказ негус. — Заберите подарки, отнесите жене, пусть дети порадуются.
Началась небольшая суета. Слуги собрали подарки и отнесли их за перегородку из ткани, натянутой на бамбуковые перекладины.
— Итак, — произнес Менелик, когда суета несколько улеглась, и слуги снова застыли безмолвными изваяниями, — что вы хотите?
И опять Вохряков успел первым:
— Я присутствую здесь отдельно от делегации г-на Аршинова. Мне нужно переговорить с вами по поводу приезда российской делегации, организованной его сиятельством…
— Гирсом. Слышали уже, — отмахнулся Менелик. — Хорошо. Раз ты сам по себе, а они сами по себе, отойди в сторону, сядь вон там, я с тобой потом поговорю. А теперь ты говори, — обратился он к Аршинову. — А то этот слова не дает сказать. А из подарков — одно письмо с печатью.
— Обращаюсь к тебе, Лев из колена Иудова, Менелик Второй, Богом поставленный царь царей Эфиопии, с просьбой, — при этих словах негус заулыбался и одобрительно покачал головой. — Ты видишь перед собой малую часть моего народа. Мы приехали на голый пустынный берег твоей страны, чтобы украсить ее, чтобы засадить ее яблонями и вишнями — это такие фрукты у нас в России. Но что произошло? Сначала за нами погналась итальянская канонерка, а потом пришли твои люди и потребовали, чтобы я немедленно бросил все работы по возведению колонии и направился к тебе. И вот я здесь и слушаю твое милостивое решение.
При этих словах итальянцы подобрались и нахмурились. Один даже сделал шаг вперед сделал жест, будто хотел что-то сказать.
— А кто тебе дал разрешение прибыть сюда со своими людьми и сажать эти, как их, яблони? — спросил Менелик.
— Безвременно усопший негус Иоанн Шестой дал такое разрешение. Он всегда был за дружбу между нашими странами.
При этих словах Менелик даже приподнялся на троне, но тут же опустился опять.
— Иоанн? Иоанна нет уже шесть лет. Где ты был все это время?
— Собирал деньги, уговаривал людей, снаряжал корабль, — объяснил Аршинов. — Кто же знал, что Иоанн погибнет в битве и его слово будет под сомнением?
Хотя Аршинов и высказал общее мнение крайне дипломатично, все же он не убедил Менелика. Наступила пауза.
— Указы Иоанна для меня недействительны, — произнес, наконец, негус. — Я сам решаю, чему быть. Обстановка изменилась, мои союзники итальянцы крайне недовольны вашим присутствием. Я уже получил депешу, в которой они выражают протест.
— Что же нам делать? — воскликнул Аршинов. — Я вложил все, что у меня было, в этот проект! Набрал людей, привез их сюда, оторвав от родины, и сейчас все бросить? Повернуть обратно только потому, что у нового негуса другие страны в союзниках?
— Лучше всего вам уйти с моей земли.
Аршинов прибег к последнему доводу:
— Вот бумага, подписанная коронованным на царство негусом Иоанном Шестым, данная мне в январе 1889 года.
— Коронованным?! — вспылил негус. — Ты на что намекаешь, белый проходимец?!
Я не выдержала и встала рядом с Аршиновым:
— Прошу простить меня, ваше величество, но глава нашей делегации не намекает, а лишь показывает, что бумаги монарха верны и после его смерти.
— О! Мадам… — Менелик словно увидел меня впервые. — Вы красивы, но это не дает вам право вмешиваться в разговор мужчин. Ваша бумажка не стоит единого быра.[33] А земли у моря хорошие, плодородные. Интересно, сколько вы заплатили Иоанну за то, чтобы он подписал вам эту бумагу? Неужели только самоваром? — он издевательски захохотал и оглянулся на итальянцев. Те вежливо улыбнулись в ответ.
— Негус Иоанн Шестой очень ценил связи с такой могущественной страной, коей является Российская империя, — Аршинов поклонился.
— А вот мы сейчас спросим у посланника вашего негуса, — Менелик подозвал к себе Вохрякова, — Скажи-ка, дабтар,[34] твой господин знает о просьбе вот этого человека?
Палец с длинным ногтем ткнул воздух по направлению к Аршинову.
— Не могу знать, — пожал тот плечами. — Официальное письмо за подписью его сиятельства было вручено только мне.
— А как же ты оказался вместе с ними?
— Оказия, ваше величество, то есть лев из колена Иудова, Менелик Второй, Богом поставленный царь царей Эфиопии, — скороговоркой пробормотал Вохряков, чуть не падая на колени. — Они шли в вашу сторону, вот я и напросился.
— Подлец! — выругался Головнин, а Нестеров так заскрипел зубами, что мне страшно стало.
— Ну как, слышали? — издевательски рассмеялся Менелик. — Вот все и выяснилось. Никакие вы не представители великой и могущественной страны, с которой у меня нет даже дипломатических отношений. С Францией есть, с Италией — давно, они мне два порта построили. Вот эти господа, — он махнул рукой в сторону итальянцев. — А с вашими посланниками я только соберусь разговаривать. Если захочу. Если вот он мне понравится.
Вохряков задрожал еще сильнее.
— А подумали ли вы, уважаемый лев из колена Иудова, о том, что это российские представители еще очень хорошо взвесят, стоит ли им общаться с некоронованным властителем? Что тогда? А вот мы бы и сыграли вам хорошую службу. Так сказать, поспешествовали, — пошла я ва-банк, ведь терять было уже нечего.
— Женщина?! Вмешиваться в разговор негуса?! Перебивать? Стража! Арестовать немедленно! — последние слова он произнес на амхарском, поэтому наши мужчины отреагировали на мгновение позже, чем того следовало.
Началось побоище. Все наши люди были безоружными: Аршинов знал, что при входе в шатер негуса нас будут обыскивать и отберут оружие. И никто не поручится, что его вернут — винтовки и револьверы в Абиссинии довольно редки и пользуются большим спросом. Так что надо было идти на риск, ничего не поделаешь.
А вот у нападавших на нас слуг негуса были и сабли, и щиты. И хотя они орудовали ими плашмя, как жандармы, хорошего было мало. Рослые Автоном и Головнин сумели разбросать нескольких щуплых стражников, пока дюжина рослых охранников их не скрутили. Коренастый Аршинов хватал по паре нападавших и бил их головами друг о друга. Нестеров снял и спрятал очки.
А вот Сапаров и братья-казаки сумели вырваться и напролом, через толпу придворных, бросились к выходу, сметая все на своем пути. Стенки шатра так угрожающе колыхались, а бамбуковые опоры так ходили ходуном, что я испугалась: а что если вдруг они обломятся, и вся огромная масса тяжелой ткани рухнет нам на голову?
Меня довольно аккуратно держали за локти два итальянца. Я попыталась было вырваться, но один из них сухо приказал:
— Не двигайтесь, мадам.
А когда уводили Аршинова, он крикнул мне:
— Полина, скажи ему о рубинах! Это наш последний шанс!
Негус что-то приказал, меня взяли за локти абиссинцы, вывели из шатра и повели по двору. Люди испуганно ахали и отворачивались, женщины прикрывали лица краем белой накидки.
Меня привели в низкую мазанку, покрытую соломенной конической крышей. Стражники жестами приказали мне сесть на деревянный топчан, покрытый ковром, и вышли. Я осталась одна в маленькой комнатке.
Подбежав к узкому маленькому окну, в котором не было никакого стекла, я увидела, что стражники не ушли, а остались стоять возле двери — охранять, чтобы я не убежала. А еще очень хотелось есть и справить естественные надобности.
Я присела на краешек кровати и задумалась. Ну почему во всех книгах, которые я читала, никогда не описывалось, как герои справляют нужду? Ведь нормальному человеку это нужно несколько раз в день. Возьмем, например, графа Монте-Кристо. Сидел страдалец много лет. Ему тюремщик приносил еду. А вот про горшок ничего написано не было. А так как весь свой опыт я черпала из книг, а там об этом ни слова, то я сидела, терпела и не знала, как мне быть.
Дверь открылась, и в комнату вошла молодая эфиопка. Одета она была в длинную рубашку и накидку, на шейной повязке с амулетами нашиты колокольчики, которые нежно позвякивали в такт ее шагам. В уши вдеты крупные золотые серьги, на лбу татуировка крестиком.
Она несла в руках поднос, на котором лежала инджера, какие-то овощи и плошка с водой. Я хотела ей сказать, но тут опять встала неразрешимая проблема. Во всех книгах герои, куда бы они не попадали, не испытывали языкового барьера, а если это была Африка или Полинезия, то аборигены, все, как один, показывали чудеса понятливости и интуиции — схватывали все на лету.
Но эта эфиопка оказалась не столь понятливой. Я ей уже и «пи-пи» говорила, и воду лила, сдерживаясь изо всех сил — она стояла и покачивала недоуменно головой. Наконец, я задрала юбку и присела. Она охнула и выбежала из комнаты, но через мгновение вернулась с какой-то глиняной посудиной.
Но она не ушла. Осталась и уставилась на меня выпуклыми, черными, как маслины, глазами. Сил больше не оставалось. Ну и ладно! Буду считать ее служанкой.
Самое интересное, что я оказалась права. Девушка действительно оказалась служанкой. Она вынесла горшок, опорожнив его в двух шагах от стражников, принесла мне одеяло. Мне очень хотелось спросить ее, что с моими друзьями, но как? Она ничего не понимает, я не могу ничего объяснить. Впервые в жизни я почувствовала себя немой и фактически парализованной — я сидела взаперти, а мои спутники томились неизвестно где.
Утро вечера мудренее. Я откинула одеяло и прилегла на жесткую кровать, не раздеваясь. Несмотря на тревогу, сон мгновенно смежил мне веки, и я провалилась в густую черноту.
* * *
Очнулась я оттого, что служанка трясла меня за плечо. В темноте белки ее глаз сверкали, как два осколка луны. Она потянула меня за руку, делая приглашающие жесты.
Мы вышли из хижины. В прохладной ночи на небе сверкали звезды величиной с кулак. Стражников около входа не было.
Знакомой дорогой мы подошли к шатру негуса. Я замешкалась. Она подтолкнула меня вперед и исчезла в ночи. Делать нечего, я откинула тяжелый полог и вошла.
Внутри горели толстые свечи, испускающие неровный мерцающий свет. Я прищурилась, но все равно ничего не увидела.
Вдруг из глубины раздалась французская речь:
— Мадам, подойдите ко мне.
Я направилась на звук голоса.
Негус Менелик лежал на роскошном ложе в одной ночной рубашке из такой же белой кисеи, как и повседневная эфиопская одежда. Его круглый живот выпирал, словно арбуз, а розовые пятки блестели в неровном свете свечи.
— Подойди сюда, сядь. Зовут тебя как?
— Меня зовут Полин, — ответила я на французский манер. — Спасибо, я не хочу садиться.
— Ты отказываешь негусу? — его тон не был раздраженным, просто он играл со мной в извечную игру «мужчина-женщина».
— Я отказываю человеку, который своей властью поставил меня в неподобающее для женщины моего ранга положение.
— И какой у тебя ранг? — поинтересовался Менелик?
— Дворянка. Потомственная. Если вам это о чем-то говорит.
— Говорит, — кивнул он. — Не зря у меня в детстве был французский гувернер. Тоже потомственный дворянин. Тоже, как и ты, кичился своей кожей и титулом.
Мне почему-то очень захотелось спросить, что с гувернером случилось, может, его съели, но я сдержалась и ответила:
— Я не кичусь, просто не хочу потерять достоинство и честь.
— С негусом честь не теряют, а достоинство приобретают.
— Разрешите мне ничего не отвечать, сир.
Менелик привстал и сел на постели.
— Сядь рядом, не укушу. Ты знаешь, что я вчера должен был повесить на закате государственных преступников?
— Нет, не знаю, — я сделала вид, что удивилась.
— Они хотели отнять у меня власть. Мою страну, которую я пестую вот этими руками: дерусь и мирюсь с французами и итальянцами на севере, подавляю дервишей на западе. Я расширил страну, присоединил галлаские земли, и нет конца заботам! Мои разведчики доносят мне, что итальянцы готовятся напасть на меня исподтишка. Эти белые — они же шакалы, готовые наброситься и разорвать мою страну! Семь стран на конгрессе делили Африку вдоль и поперек! Они даже не приняли во внимание, что мы — христианский народ с законной императорской династией! Она посчитали нас язычниками и магометанцами![35]
Я кашлянула. Менелик верно понял мою реакцию.
— Нет-нет, Россия тут ни причем. Ее на этой конференции по работорговле не было. Мы — две православные страны и нам надо держаться вместе.
— Вот и разрешите нам колонию на берегу, — я ухватилась за предоставленную возможность.
Нет, не получится из меня дипломата: рублю все как есть, сразу, и совсем не могу льстить и славословить.
— Не могу, — вздохнул он. — Итальянцы сильны. У меня с ними очень хрупкий мир. Я бы и рад, но не могу. Война на носу. Единственное, на что я согласен — это на приезд вашей официальной делегации. Тут уж итальянцы закроют рот — мною решено. Ну и вашим императором. Выше только Христос.
Менелик потянул меня за руку:
— Ну, иди ко мне. С тобой разговаривать, конечно, интересно. Ты не как мои жены, которые боятся глаз поднять, но все же пора и заняться тем, ради чего ты здесь.
— Не хочу я, сир.
Он опять не разозлился. Только прищурился и произнес:
— Кстати, я вчера хотел повесить трех преступников, но дервиши их отбили. А виселицы еще не разобраны. Твои друзья могут занять их места. Очень просто. Так что не ломайся и раздевайся. Ты же не хочешь, чтобы я позвал слуг, и они живо привели бы твой рассудок в порядок.
Чтобы как-то отвлечь его, я сделала вид, что расстегиваю пуговицы, и спросила:
— Что это за люди, которых вы хотели повесить? Дервиши?
Менелик погладил меня по голове своей лапищей и пробормотал:
— Где-то я видел такие волосы. С рыжиной. Только не вспомню… — и словно отряхнув видение, добавил: — Один из них сын бывшего негуса. Когда-то был славным мальчишкой, но сейчас его окружают просто фанатики.
— Какие фанатики?
— Которые перешли к сыну от его отца. Я очень уважал императора Иоанна. Но он был христианин-фанатик и задался целью не иметь среди своих подданных мусульман, он их обращал насильно в христианство. Конечно, Иоанн мечтал о восстановлении величия Эфиопской империи. И что он сделал для этого? Он решил составить империю из четырех королевств: Тигре, Годжам, Уоло и Шоа: в каждом королевстве следовало иметь отдельного епископа и с этой целью выписал четырех абун[36] из Александрии, заплатив за каждого по 10 тысяч талеров. Лучше бы он на эти деньги купил проса и пшеницы — голодающих в стране видимо-невидимо! Я не знаю, что было бы, если бы его случайно не убили при осаде Метаммы, — Менелик привстал на ложе, его глаза блестели, он выглядел возбужденным. — Пойми, я провожу последовательную политику… А мне мешает мальчишка, выращенный французскими монахами.
— Какими монахами? — удивилась я. — Я слышала, что принца определили в закрытую аристократическую школу.
Менелик расхохотался:
— Как бы не так! В монастырь его отправил Иоанн. К бенедиктинцам. А там, если что не по уставу — в карцер, на хлеб и воду. Ты что-нибудь слышала об аббатстве Клуни и их реформе?[37] Те тоже были бенедиктинцами… Да ляг ты, я тебя не укушу — ты едва на ногах держишься. Возьми шербет. Меня во Франции приучили к тому, что женщину неинтересно познавать без ее желания. Совсем не тот вкус. А я так одинок здесь. Черные не понимают, белые не любят, — его руки подбирались ко мне.
— Простите, и что там с сыном негуса? — я решительно делала вид, что не понимаю поползновений императора.
— К сожалению, — нахмурился Менелик, — у него есть очень сильные последователи. И все из-за династических распрей. Дело в том, что у нас, в монастыре Дебре-Табор, хранится генеалогическое древо, восходящее к Менелику Первому. Всех негусов короновали на царство короной с рубинами царицы Савской. Последним короновался Иоанн…
— А вы? — спросила я, хотя знала уже эту историю. Сердце мое сжималось, ноги похолодели.
— Во время царствования Иоанна кто-то украл рубины. И с момента его смерти находились бунтари, которые требовали короновать меня рубинами, которых просто не было. Дикость какая-то! Люди считали, что раз они не видели торжественной коронации, то я — ненастоящий негус. А я столько сделал для этой страны! Всего за шесть лет! — Менелик что-то отпил из высокого бокала и всхлипнул. — Дервиши стали повсюду распускать слухи, что рубины у сына Иоанна, и он вот-вот будет коронован. Что мне оставалось делать? Надо было вырвать жало у змеи.
— И вы решились казнить юношу?
— Эх, — усмехнулся Менелик. — Да приди этот юноша к власти, не было бы ни меня, ни моей семьи, ни страны. Все бы захватили дервиши. У них уже семнадцать лет свое государство на западе. Они хотят завоевать все, до чего дотянутся их руки. И белых ненавидят. Никаких переговоров, никакой цивилизации, никакого прогресса. Молитва, власть одного племени и полный аскетизм. Темные люди!
— Получается, что для того, чтобы трон не шатался под вами, вам нужны эти рубины?
— Да, — печально кивнул Менелик.
— А если мы достанем вам их, что тогда?
— Просите, чего хотите!
— Даже, несмотря на то, что это предрассудки?
— Когда дело касается династии, тут уж не до раздумываний. Хотя где вы их возьмете?
— Есть средство. Только обещайте мне, сир, что вы дадите разрешение на колонию.
— Дам, если корона с рубинами будет у меня на голове, но это так же несбыточно, как и…
Я прервала его:
— Для нас нет ничего невозможного, сир, ради счастья нашей родины и процветания вашей.
— Ну, тогда, если это получится, я… donner sa langue aux chats.[38]
— Тогда, сир, отпустите моих друзей, иначе я не смогу найти рубины в одиночку.
— А ты хитрая! Выдумала сказку и думаешь, что я тебе поверю и освобожу твоих соотечественников?
— Ну, почему выдумала? Откуда я знаю такие подробности?
— А, кстати, действительно, откуда ты знаешь?
— На нашем корабле вместе с нами ехал один старый монах. Вот он и рассказал о рубинах.
— Как его звали?
— Фасиль Агонафер. Только он умер там на корабле.
— Фасиль… — протянул Менелик и задумался. — А ведь я знал одного старого монаха с таким именем. Видел его у Иоанна. Большой мудрости был человек. Почти святой. Так что похоже на правду. Рассказывай, что знаешь!
— Я? Ничего. Он же на амхарском говорил. А потом наш глава экспедиции немного нам перевел.
— Это тот, с волчьими хвостами?
— Он самый.
— Утром вызову. А сейчас давай спать, ложись вот сюда.
— Может, я все же пойду, сир?
— Ладно, иди, раз такая несговорчивая… Устал я. Пятьдесят три года дают о себе знать, да и спина болит.
Он хлопнул в ладоши, прибежала та самая служанка со свечой и махнула мне рукой. Осторожно ступая в кромешной темноте, я вышла из шатра, прошла два шага и… Тут же меня схватили крепкие руки и потащили куда-то в сторону от хоть какой-то, но дороги. Я не могла даже вскрикнуть, так как нападавший зажал мне рот и зло прошептал на ухо по-французски с сильным итальянским акцентом:
— Попробуй только крикнуть, porca battona![39] Рассказывай, о чем ты шепталась с негусом?
— Оставьте меня! — я извивалась изо всех сил, пытаясь вырваться. — Ни о чем не говорили. Негус хотел от меня только любви.
— И ты ему не дала, putana?[40] Побрезговала черным, хоть и царем? Ничего, сейчас мы тобой побалуемся. Давно не видели белых дамочек. Энрико, стащи с нее юбки.
Да что это такое! Только избавилась от негуса, так эти наглые жеребцы напали. Я изловчилась и двинула одного их них ногой прямо в пах. Тот взвыл от боли и машинально меня отпустил. Воспользовавшись этим, я наклонилась и вывернулась из рук второго насильника, и ударила его локтем в живот.
Но их было четверо. Еще пара повалила меня на землю, один из них сел на меня верхом.
— Так о чем ты говорила с негусом? Будешь говорить? Ведь живой от нас не уйдешь!
Вдруг послышался звук удара, итальянец замолчал и повалился на меня. От неожиданности я громко икнула.
— Нэ бойтэсь, это мы…
Меня крепко в объятьях держал Сапаров. Рядом стояли братья-казаки, Али и Малькамо. Казаки зажимали рот служанке, которая, скорее всего, и показала, куда меня утащили итальянцы. Бравые ребята расправились с насильниками так тихо, что ничто не шевельнулось в ночи, несмотря на то, что вокруг было полно слуг и стражи.
Казаки быстро сняли с итальянцев мундиры и переоделись в них. Заодно отобрали и пистолеты. Сапаров остался в своем — на него форма щуплых итальянцев не влезала. Поэтому он связал одежду казаков в тючок и держался за ними. Али и Малькамо были одеты как стражники негуса — белые подштанники и хламиду поверх носил каждый второй абиссинец.
Али тихо что-то шепнул девушке, я расслышала только слово фаренджи.[41] Служанка кивнула и пошла вперед. Казаки ее не отпускали. Прохор держал девушку за кушак, которым она была обмотана. Она шла и боязливо оглядывалась на нас, боясь, что ражие парни сейчас с ней что-то сотворят, скорее всего, съедят сырой.
— Куда мы идем? — спросила я Али.
— Турма, — ответил он, и я поняла, что мы направляемся то в место, где томятся наши друзья.
У круглостенного дома с такой же конической крышей, как и у большинства домов в Абиссинии, стояли на посту два стражника — точно также, как и около моего домика. Но было различие: четверо других босоногих солдат-сменщиков спали неподалеку.
— Что будем делать? — прошептала я. — У них ружья. Они же полгорода на ноги поднимут.
— Не волнуйтесь, Аполлинария Лазаревна, — ответил мне Прохор. — Мы в армии лазутчиками были — все сделаем, как надо. Ведь для них все белые на одно лицо. Вот мы и сыграем на этом. Но прежде надо связать Георгия. Будто мы его поймали и ведем в тюрьму.
Они с братом для вида перевязали Сапарова. Малькамо, в белой накидке на лице, открывавшей только глаза, шел за ними. Вся группа, не таясь, подошла к стоявшим на страже абиссинцам, подталкивая Сапарова вперед, и Прохор рявкнул:
— Как ты, морда неблагообразная, стоишь перед итальянцами?! А ну во фрунт! Смирррна!
Абиссинцы схватились за копья, но казаки несколькими точными движениями разоружили их.
Тем временем проснулись четверо других. На них навалились Сапаров с Малькамо, потом и Прохор с Григорием подоспели. Сонных стражников спеленали их же подстилками, засунув предварительно кляпы в рот.
Я не смотрела, зажмурилась и отвернулась. Девушка-служанка тихонько подвывала, но маленький Али прошептал ей что-то на ухо, и она мгновенно замолчала.
Когда все стихло, и были слышны только удары пятками изнутри о кошму, Прохор с Григорием подозвали Али и приказали ему спросить, где ключи. Али запутался, тогда Малькамо сказал мне по-французски, что ключи у баламбараса,[42] который приходит утром и лично проверяет, все ли в порядке.
— Нет, до утра мы ждать не будет. Придется ломать.
— Подождите, — остановила я их. — Давайте позовем наших.
Мы обошли круглый дом и увидели окошко под самой крышей. Сапаров поднял на шею Али, и тот закричал в темноту, подзывая Аршинова.
— Кто? Где? — раздался взволнованный голос Николая Ивановича. — А где стража?
— Не волнуйтесь, ваше благородие, — ответил Прохор, мы тут стражу убрали, теперь вот вас вызволять будем.
Сапаров взял копье и принялся размашисто бить по засову, перекрывавшему дверь. Гулкие звуки разносились по всей округе. Я только молилась про себя, чтобы сюда никто не прибежал.
Последнее усилие и засов свалился, открывая пленникам путь на свободу.
Они вышли, пошатываясь, и бросились обниматься.
— Боже мой, Николай Иванович, в каком вы все виде! — воскликнула я. — Что вы делали? Вас волоком тащили?
Впечатление сложилось такое, будто наших друзей закопали по шею в мягкую глину, а потом выдернули оттуда. Они все, даже чопорный денди Головнин были с ног до головы выпачканы желтой землей.
— Подкоп рыли, дорогая Аполлинария Лазаревна.
— И как?
— Совсем немного осталось, да в валун уперлись. А тут как раз и вы. Как вам удалось?
— Это вы их благодарите, — я кивнула в сторону казаков. — И Малькамо сражался, как лев.
Головнин посмотрел по сторонам:
— Как отсюда выбраться? Хорошо бы поскорей. Не время обмениваться впечатлениями.
Монах Автоном, весь в желтой глине, особенно ее много было в спутанных волосах и бороде, забасил, подтверждая:
— И рече Давид всем отрокам своим сущим с ним во Иерусалиме: востаните, и бежим, яко несть нам спасения от лица Авессаломля; ускорите ити, да не ускорит и возмёт нас, и наведет на нас злобу, и избиет град острием меча.[43]
Малькамо смотрел на него с неподдельным восхищением. Нестеров даже подошел и взял юношу за руку, чтобы тот немного опомнился.
— Григорий, Прохор, Георгий, дорогу назад знаете? — спросил Аршинов.
— Да, ваше благородие.
— Тогда вперед, нечего тут рассиживаться. Двигаемся по одиночке, пригнувшись, Аполлинарию Лазаревну в середку.
Заря уже забрезжила на востоке. Мы добрались до гостиницы, где нас ждала испуганная Агриппина. Аршинов приказал седлать лошадей. В течение получаса мы собрались, выехали за пределы города и поскакали на север — туда, куда вел нас пергамент старого монаха. Без рубинов нельзя было возвращаться. Или не бывать колонии "Новая Одесса".
* * *
Глава седьмая
Храм в скале. Монастырь отшельников. Нелегкий выбор — Менелик или Малькамо? Аниба Лабраг. Перевод ветхого пергамента. Учиалийский договор. Страсть Агриппины. Портрет Ганнибала. Агриппина исчезла. Смерть Прохора. Похороны. Али остается в монастыре.
Мы скакали так, словно за нами гнались полчища вооруженных всадников, жаждущих нашей крови. Хотя, кто знает, может быть, так оно и было.
Сделав небольшой привал в городке Фише и подкрепившись надоевшей инджерой, купленной у местных торговцев вместе с перцем и пряными травами (так хотелось нормального хлеба, пусть даже черного), мы помчались дальше, невзирая на усталость.
Дорога, проложенная между скал, вела на северо-запад. Мы скакали уже несколько часов, лошадям давно пора надо было отдохнуть, да и мы еле держались в седлах, как вдруг дорога резко свернула влево, наша кавалькада притормозила, и у всех вырвался вздох изумления! Перед нами возвышался храм. И это был не просто храм — он был полностью высечен в скале. Огромные монументальные колонны из цельного камня уходили вверх на десятки аршин. Вершины их заканчивались капителями с языческими полумесяцами, а окна, прорезанные в толще камня, были прихотливо украшены выпуклым рисунком.
Мы спешились. Вокруг не было ни души.
— Где мы? — спросила я.
— В монастыре отшельников Дебре-Маркос, — ответил мне Малькамо.
— А где они, отшельники?
— Сидят в кельях и молятся. Они не общаются с мирянами. Только послушники, которые сами потом станут отшельниками, когда освободится келья после смерти одного из них.
Вдруг подлетели пчелы и стали кружиться вокруг нас. Мы не двигались, пчелы так же неожиданно улетели.
— Откуда тут пчелы? — удивилась я.
Принц охотно объяснил:
— Дело в том, что земля вокруг монастырей считается священной. Здесь нельзя не только рубить деревья, но и срывать с них листья. Нельзя пахать, так как это все равно, что вонзить нож в человека. Эти земли святые.
— Поэтому пчелам есть, где собирать нектар? — поняла я.
— Конечно, — кивнул он. — Нужно быстрее найти убежище в стенах монастыря, так как именно тут могут водиться дикие животные, истребленные в других местах…
— Смотрите! — Головнин вскинул ружье.
— Нельзя! — Малькамо бросился ему навстречу и ударил по стволу.
— Да вы что, юноша? — разозлился охотник.
— Это обезьяна колобус, она считается священным животным. Нельзя убивать!
— Боже, какая жалость! — вздохнул Головнин.
— Здесь не только обезьяны или пчелы. Могут прийти леопарды и бабуины. Даже огромные змеи. Правда, считается, что леопарды приходят только для того, чтобы монахи почесали им за ушами, но я в это не верю.
Пришлось действовать самостоятельно, благо во дворе оказался небольшой каменный бассейн с проточной водой. Сапаров и Прохор напоили коней, Агриппина принялась хлопотать насчет еды, Али ей помогал. Аршинов с Головниным пошли искать хозяев, Автоном опустился на колени и принялся истово молиться, гляда на резные кресты на стелах, а Нестеров стал осматривать ногу Малькамо — он сильно порезал пятку, когда мы убегали от негуса. Одной мне оказалось нечего делать, и я стала расспрашивать Малькамо, чтобы немного отвлечь его от болезненной процедуры.
— Скажи, Малькамо, откуда ты знаешь об этом монастыре?
— До того, как отец отправил меня во французскую школу, я, вместе с воспитателем, объездил много монастырей и в каждом жил по несколько месяцев. И здесь был, учился у дабтара Анибы Лабрага. Он мне родня со стороны матери. Большого ума человек.
Подошел Аршинов. Его сопровождал босоногий послушник в синей хламиде. Череп послушника был выбрит наголо. На шее висел узорчатый крест. Молодой монах поклонился, сложив ладони, а Аршинов сказал:
— Нам предоставляют две кельи: большую для мужчин и поменьше для дам. Сейчас мы пойдем в трапезную — там нам приготовили немного поесть, да и стряпня Агриппины не помешает. Я кое-что хочу вам рассказать после еды.
Мы вошли в высокую комнату с квадратными потолочными балками. На каменном столе были разложены глиняные плоские тарелки, а на них лежали какие-то коренья, сухой сыр и инджера. Агриппина достала сала, кусок солонины и десяток крутых яиц.
Когда первый голод был утолен, Аршинов отодвинул в сторону тарелку и произнес:
— Друзья мои, мы все больше и больше удаляемся от нашей стоянки "Новая Одесса". Пока что путешествие к Менелику закончилось ничем. Но если мы прямо сейчас вернемся в колонию, то ей останутся считанные дни до конца существования.
— Тогда как быть? — взволнованно спросил Нестеров. — Надеяться на Вохрякова? Но колония не доживет до приезда императорской делегации.
— Верно, — кивнул Аршинов.
— Николай Иванович, если я вас правильно понял, — пыхнул трубкой Головнин, — вы сказали "пока что". Значит, у вас есть некий туз в кармане?
— Вы, как всегда, проницательны, Лев Платонович. Есть одна задумка, и ее я хочу претворить в жизнь. Если, конечно, мне помогут.
Аршинов начал свой рассказ о царице Савской, Соломоне, их сыне Менелике, Ковчеге Завета и рубиновом ожерелье. Все слушали, затаив дыхание. Только я тихонько переводила Малькамо, сидящему рядом со мной, на французский. Но он и без меня знал эту историю, и даже поправил Аршинова, когда тот сказал, что Менелику, отправившемуся к царю, было 16 лет. Нет, — сказал принц, — ему было 22 года. Значит, историю своей родины он знал на «похвально».
Свой рассказ Николай Иванович завершил так:
— Следы пропажи вели в Россию, так как одновременно с исчезновением рубинов Иоанна покинули два русских монаха, Антоний и Феодосий, которые изучали священные книги в горном монастыре Дебре-Дамо. Но они оказались ни при чем. И, я думаю, что дальше нам расскажет Аполлинария Лазаревна — она, как никто другой, знает больше всех об этой истории.
Аршинов улыбнулся и сделал приглашающий жест рукой.
— Все очень просто, — сказала я, оглядывая внимательных слушателей. — Дело в том, что я оказалась у постели умирающего Фасиля Агонафера, и он передал мне кусок пергамента, на котором был записан некий текст из Ветхого Завета, касающийся рубинов царицы Савской. А в тот день, когда вас арестовали, меня пригласил к себе Менелик. Ночью.
— И вы отдали ему пергамент? — заволновался Нестеров.
— Нет, ну что вы, — успокоила я его. — Я даже не сказала, что владею этим документом. Во время нашего разговора я попросила Менелика Второго дать разрешение на существование нашей колонии, но он ответил, что интересы большой политики не позволяют ему это сделать. И тогда я пошла ва-банк: я спросила, а если мы найдем рубины и принесем их ему, чтобы он смог короноваться и стать законным династическим негусом, даст ли он разрешение? Он согласился.
— Аполлинария Лазаревна, я преклоняюсь перед вашими умом и находчивостью, — сказал Головнин, — но не слишком ли опрометчиво было обещать Менелику корону, когда вот у нас сидит претендент.
И он указал трубкой на Малькамо.
Малькамо не выдержал и спросил по-французски:
— Объясните мне, что это значит? А то я, кроме Менелик и «руби», не понял ничего.
— Подождите, Полина, я сам объясню.
И на своем ужасном французском Аршинов сказал:
— Малькамо, послушай, мой дорогой! Мы тебя очень уважаем. Я уважал твоего отца. Мы спасли тебе жизнь. Но если от того, кому достанется корона с рубинами царицы Савской, зависит будущее нашей колонии, то мы отдадим эти чертовы рубины тому, кто даст нам спокойствие. Политика прежде всего.
— Понимаю, — понурился Малькамо. — Нет, мне нельзя настаивать, будь что будет. Но на чем, м-ль Полин, основана ваша уверенность в том, что вы и ваши друзья найдете рубины?
Я вопросительно посмотрела на Аршинова.
— Покажите, Аполлинария Лазаревна, пергамент.
Бережно достав из потайного кармана драгоценный документ, я выложила его на каменную столешницу. Все нагнулись поближе, чтобы рассмотреть его.
— Руками не трогать! — предупредил Аршинов.
Сапаров не шелохнулся, будто его это не касалось, Автоном размашисто крестился, а Агриппина умиленно подперла рукой щеку и несколько раз оглянулась, словно хотела убедиться, не видит ли кто нас.
— Прочитайте его вслух, — попросил Нестеров
Запинаясь, я прочитала церковно-славянский и протянула пергамент Малькамо:
— Тут на вашем языке что-то. Может, прочитаешь?
— Нет, — покачал он головой, — это на священном языке геэз,[44] я его читать не могу.
— Он не может прочитать, — сказала я всем.
— Может быть, я вам смогу в этом помочь? — вдруг раздался надтреснутый старческий голос на русском.
Около лестницы, также высеченной из камня, стоял старец. Весь в белом, на голове белая шапка, в тулью которой был словно вшит бублик, в одной руке посох, заканчивающийся большим крестом, в другой — метелка из конского волоса для обмахивания. Видом старый монах напоминал мумию, лицо прорезали глубокие морщины, но пронзительный взгляд выпуклых черных глаз заставлял задуматься, что не так он уж и стар. По крайней мере, на уме это не отразилось.
Малькамо, увидев его, кинулся навстречу, опустился на колени, и поцеловал край белого «шама» старика.
— Аниба Лабраг! — воскликнул он, и далее последовал страстный монолог. Старик удовлетворенно кивал, поглаживая юношу по голове.
— Постойте! — воскликнул Нестеров, сняв очки от удивления. — Откуда вы знаете русский? Вы были в России?
— К сожалению, не довелось, — ответил старик. — Но в нашей семье этой традиции не меньше двух столетий. Старшего сына старшей дочери всегда называют Анибой и отправляют в монастырь учиться наукам. А так как мы с вами братья по вере, то церковно-славянский входит в обязательную часть обучения. Мы преклоняемся перед мудростью ваших святых отцов: Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Мой дядя, настоятель монастыря Дебре-Марьям, что в Кохаине, даже совершил паломничество в Россию и успел увидеть преподобного Серафима.[45] Я очень рад, что вы прибыли сюда и привезли мне моего любимого племянника Малькамо. Ведь я старший брат его матери.
— Прекрасно! Сам Господь послал вас! — сказал Аршинов и взял со стола пергамент. — Не сомневаюсь, что вы читаете на языке геэз.
— Разумеется, — кивнул Аниба Лабраг. — Это входит в классическое обучение дабтаров.
— Тогда вы поможете нам перевести то, что написано здесь? Дело в том, что мы бежим от Менелика и этот пергамент — единственная надежда на спасение нашей колонии на берегу моря.
Тут Автоном не выдержал. Упал на колени, и истово крестясь, возопил:
— Ярость царева — вестник смерти; муж же премудро утолит его![46]
— Полно, полно, — ответил старик, положив руку на спутанные кудри монаха, целующего его посох. — Не стоит так волноваться. Посмотрим, что тут написано.
— Это большой святости человек, — прошептал мне Малькамо. — Я знаю его с детства, он нам поможет. Видишь, у него табот и коб.
— А что это?
— Табот — это посох с крестом, который освящает все пространство закрытой комнаты. А коб — специальная шапочка у него на голове. Он — меноксе…
— Боже мой, а это что такое?
— Монах, отрешенный от мира в монастыре. Он напрямую говорит с Господом.
Тем временем Аниба Лабраг взял пергамент и стал читать, шевеля губами. Потом отложил и произнес:
— Это писал мой хороший знакомый, Фасиль Агонафер, знаток кене и зема.[47] Интересный был человек. Больше обращал внимание на земное, а не на небесное, хотя и достиг высокого сана в священной иерархии. У него было хорошо развито предвидение, то, что сейчас, по-новому, называют интуицией. И некоторые события, которые он описал тут, были им предугаданы за несколько лет до их происхождения.
— Переведите, пожалуйста, — попросил Головнин.
— Тут написано: "Бойтесь Асу — он раздавит вас, если вы сами его не победите. Не дайте реликвии погибнуть под пятой, как погибла мать в Учиали. Идите на север в Танин и убейте зверя! Да поможет вам святой Георгий! Да прозреют глаза херувимов!"
— И все?
— Да. Больше тут ничего нет.
— Тогда ничего не понятно, — Головнин набил трубку табаком и закурил. — Насколько я понимаю, в церковно-славянском, приведен отрывок из Ветхого Завета о том, что некий Аса разбил наголову эфиоплян и выгнал их со своей земли. Но причем тут нынешнее время?
— «Аса» на языке геэз это "сапог", — тихо ответил Аниба Лабраг.
И тут меня осенило:
— Сапог — это Италия! "Бойтесь Асу" — это бойтесь итальянцев. "погибнуть под пятой" — это под "пятой сапога". Верно?
— Именно так, госпожа, — старый монах отвесил в мою сторону почтительный поклон.
— Что это — Танин? — спросил Нестеров.
— Вероятно, озеро Тана. Оно на севере от нас.
— А чья мать погибла в Учиали? О чем идет речь?
— О вероломстве итальянцев. А мать — это наша Абиссиния.
— Прошу вас, расскажите подробнее.
— Во всем виновата хитрая лиса Антонелли, граф и дипломат. Это он проник в тайну коронации и понял, что Менелик узурпировал власть. Тогда он просто предложил ему покровительство Италии в обмен на территории провинций Асмара, Керен и часть области Тигре. Менелик согласился и установил границу по рекам Маребу и Белезе. Таким образом, итальянцы с помощью политических махинаций создали себе протекторат над значительной частью нашей страны.
— Почему Менелик на это пошел? — спросил Нестеров.
— А что еще ему оставалось делать? Ведь если бы он не согласился, началась бы война, а ему война была невыгодна — его войска стояли безоружными. Но не это было самым неприятное в той истории.
— Что может быть хуже потери земли? — поинтересовался Аршинов.
— Потеря свободы и независимости. Ведь наша страна никогда не была захвачена. От нас не вывозили рабов, нас не заставляли говорить на чужих языках, над нами не властвовали белые люди. Вся Африка страдала, а нас спасало православие, Господь и дева Мирьям. Но до поры до времени, пока мы не прогневали Господа, и он закрыл глаза на Учиалийский договор.
— Какой договор? — воскликнули одновременно Нестеров и Головнин.
— По Учиалийскому договору, нам были предоставлены некоторые торговые права, но итальянцы распространили на нас свой политический протекторат. И, как впоследствии стало известно, итальянцы совершили политический подлог; договор был написан на двух языках: на амхарском и на итальянском. Причем на амхарском было написано, что негус имеет право входить в сношения с европейскими державами через короля итальянского Гумберта, а король обязан быть их ходатаем перед Европой. А вот в на итальянском было переведено так, что негус обязан сноситься с европейскими государствами только через короля Гумберта или его представителя. Это же совсем разный смысл!
— Что, прямо так и подлог? — недоверчиво спросила я. — Неужели просвещенная нация пошла на это?
— Я наизусть помню этот договор, так как присутствовал при подписании его вместе с другими настоятелями монастырей. В статье 17-й на амхарском сказано: "Его Величество император Эфиопии может пользоваться услугами правительства Его Величества короля Италии для переговоров по всем делам, которые у него могут быть с другими державами или правительствами". А в итальянском тексте вместо «может» — «согласен». А что такое согласен? Это должен. Поэтому итальянцы, ничтоже сумняшеся, объявили нашу страну своим протекторатом.
— И что теперь будет?
Аниба Лабраг махнул кисточкой из конского волоса.
— Война.
— Как война?! — закричали мы одновременно.
— Она уже идет на севере. Мы гордый народ и нас нельзя обижать. Сбылось пророчество: если рубины не вернутся на свое место — падет династия! Не зря же они исчезли именно тогда, когда воцарился Менелик.
— Но нам надо именно на север! — разволновался Аршинов.
— У вас есть ружья? — спросил монах.
— Всего два. И пистолеты.
— Каждый из вас получит по ружью. А ваших женщин мы переправим в спокойное место.
— Никуда я не поеду! — заявила я и, схватив со стола пергамент, отвернулась и надежно спрятала его в потайной карман панталон. — Я не хочу расставаться с моими друзьями. И если там война, что ж, тем хуже для войны.
— А ты, Агриппина? — спросил девушку Аршинов.
Та перекрестилась и отважно сказала:
— Куда все, туда и я.
— А ты, Малькамо? Ведь ты можешь остаться здесь, у своего наставника. Разве ты не хочешь, чтобы тебя защищали крепкие стены монастыря?
— Ни за что! Я с вами! Я сам хочу найти рубины и водрузить на себя священный венец праматери нашей, царицы Савской.
Малькамо воодушевился, глаза его горели.
И вновь Аршинов спросил:
— И теперь, господа, я снова вернусь к своему предложению, так как независящие от нас обстоятельства только ухудшили его: кто согласен ехать со мной на север, к озеру Тана, чтобы найти рубины царицы Савской? В них спасение нашей колонии.
Единодушное «согласен» было ответом бравому казаку, радетелю "Новой Одессы".
* * *
Мы с Агриппиной покинули мужчин, еще обсуждавших предстоящую итальянскую кампанию, и пошли укладываться на боковую.
В келье прямо из стены выходили каменные уступы, на которые было наброшено какое-то стеганое лоскутное тряпье. Мы достали вещи и принялись раскладываться.
— Ах, барыня, — сказала вдруг молчавшая до сих пор Агриппина, — моченьки нет. Зачем я пошла с вами? Страсть, как боюсь! Что же теперь будет? Война ведь!
— Ну, что ты так переживаешь? Ведь ты можешь отказаться и вернуться обратно, в поселение.
— Нет! — вскрикнула она испуганно. — Не хочу!
— Почему? — спросила я, и тут меня пронзила догадка. — Агриппина, ты влюблена! В кого? В Прохора или Григория?
Девушка опустила голову:
— В Георгия…
— Что ж, тоже неплохо. А он что?
— Молчит. Гордый он. А я, не думайте что, девушка честная и себя блюду.
— Не поняла, так ты ему нравишься или нет?
— Не знаю, — вздохнула она. — Да если бы и нравилась, все равно не выйдет ничего. Братец не допустит. Он за меня ответственный. И еще…
— Что?
— Не даст он нам пожениться.
— Почему? Потому что Георгий не русский? Но он же перешел в православную веру.
— Бедный он. А у братца Савелия Христофоровича только деньги на уме. Вот поэтому и не даст. Для него любой жених беден, так и помру в девках! Ведь сватались за меня в Супонево и владелец извоза, и печник, а ему все мало было. Сирота я, только братец с женой мне родственники. Я так молилась, так молилась, что даже в монастырь уйти хотела.
— Как в монастырь? Неужели тебе свет не мил?
— Будет он мил с таким братцем! А монастырь у нас хороший, старинный… Мужской, правда, но, неподалеку и женский есть. Наш на Свиньиной речке стоит, что в Десну впадает. Ах, барыня, какая же у нас красота! Не то, что здесь — песок да камни: низкий заливной луг, куда мы коров выгоняли, купы верб. А уж дубы могучие — трое не обхватят!
— Да, красиво… — задумалась я. Как все же я далека от милого N-ска, своего отца, Александровского парка и кондитерской с трюфелями и монпансье. И почему это мне в голову лезут всякие глупости?
— У нас много чего интересного есть, — голос Агриппины вывел меня из задумчивости. — Домик Петра Великого есть. И там все сохранено в целости и сохранности, как при царе. Я знаю, потому что братец туда на работы нанимался, а я ему еду носила. И портрет эфиопа на стенке видела.
— Какого эфиопа?
— Не знаю. Мальчик такой, на нашего Али похож. В красной шапочке. С него-то все и началось.
— Расскажи, все равно не спится.
— Братец мой, Савелий Христофорович, только женился. Жена его, Мария, из богатой купеческой семьи была. И когда пришла к нам жить, то поначалу нос морщила, мол, у маменьки с папенькой с золотого блюда едала, да на пуховой перине почивала. Да вранье это все. Хоть и богатая семья была, да дюжина детей, из которых одиннадцать девок. И как всех замуж отдать? Рады были, что избавились.
Денег в семье не хватало. Савелий работал, как двужильный, я по дому матери помогала, а Мария ничего не делала — только семечки лузгала. Она из младших дочек, предпоследняя, так ничему не обученная, сестры все за нее работали. Родители наши даже советовали братцу поучить жену, но он любил ее, отказывался выпороть.
Было у нас шесть лет назад великое празднество. Нашему Новопечерскому монастырю исполнялось шестьсот лет. Ах, как было благолепно! Сам архиепископ служил. А уж богомольцев — видимо-невидимо: и из самого Брянска пришли, из Бежиц и Мальцева.
Сначала, как полагалось, совершили малую вечерню, а потом начался благовест к всенощному бдению. А уж когда вышел владыка Симеон, да настоятель обители Авраамий, так такое блаженство меня охватило. Стою и плачу от умиления. Пою вместе со всеми: "Пресвятая Богородице, спаси нас!" Ну и, конечно, крестный ход с хоругвями, запрестольными иконами и свечами. Ничего краше не видывала.
А потом с чудотворной иконой Свенской Богоматери крестный ход отправился в домик Петра Великого. Туда архимандрит Авраамий внес чудотворную икону и начался молебен с водосвятием. Везде окропили святой водой, и диакон пропел вечную память государю Петру. Вот такое было молебствие при всеобщем коленопреклонении, — Агриппина не переставала креститься.
— И что потом? — спросила я.
— А потом я увидела трех монахов: двое помоложе, рыжий да толстый, а третий черен лицом и стар. Они разговаривали, и монахи называли его братом Василием. Говорили они на непонятном языке, высоком и переливистом. Это только здесь я поняла, что так говорят эфиопы. Но почему русские монахи на нем говорят — это мне было невдомек. Черный монах потом долго стоял один перед портретом мальчика в домике государя. Я полы мыла и видела — он плакал.
— Это был портрет арапа Петра Великого, Агриппина, — сказала я тихо, — Абрама Ганнибала.
— Да? — удивилась она. — Вот не знала.
— А Пушкина Александра Сергеевича ты знаешь?
— Кто ж его не знает? Грамотные мы, — и продекламировала: — Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь; его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь… Как про нас написано. Душевно.
— Молодец! А знаешь ли ты, что на том портрете был изображен прадед великого поэта — Абрам Петрович Ганнибал, крестник Петра Великого? Замечательный был человек, учился артиллерии и фортификации.
— Ох, барыня, ученая вы! И откуда вам все это известно?
— Читать люблю. Вот из книжек и узнала.
— Читать бабам вредно. У них от этого глаза портятся, и морщины на лбу появляются. Мужчина он чуть что — очки наденет. А бабе очки, как петуху передник, смех один!
Отсмеявшись, я спросила:
— Ну, а как в экспедиции ваша семья очутилась?
— Да все братец… Он с теми монахами подружился очень. Ходил с ними о божественном разговаривать. Молился. А однажды пришел домой и говорит: "Уезжает брат Василий домой, на родину. С казаком по имени Николай Аршинов. Интересно о нем рассказывает. Будто есть у них в Абиссинии полно нетронутой земли. Палку посадишь — черешня вырастет. А Аршинов со всей России-матушки людей собирает, чтобы заселить эту землю". И с той поры брату покоя не было. Все размышлял, стоит ехать, не стоит. И решил, что надо. Пока детишек бог не дал. И меня взял с собой — я же, по нашенским меркам, перестарок уже — не нашлось мне в селении мужа подстать. А у колонистов завсегда мужиков поболее, чем баб будет, — вона как все трое с меня глаз не сводят. Ведь правда, барыня? — подмигнула она.
Мне не понравилось это амикошонство.
— Ну, ладно, Агриппина, давай спать, утро вечера мудренее. А то нам вставать ни свет, ни заря.
Я отвернулась к стене и постаралась заснуть, несмотря на неудобную каменную постель. За окном свистела какая-то птица. Засыпая я слышала, как Агриппина ворочалась и вздыхала. И я провалилась в объятья Морфея.
* * *
На рассвете, когда я проснулась, Агриппины не было. Я не особо этому удивилась, хотя одеваться без горничной всегда несколько утомительно. А когда все снова собрались в трапезной, то Аршинов спросил меня:
— Аполлинария Лазаревна, с добрым утром! А где Агриппина? — потом огляделся и добавил: — И Прохора не видать… Странно. Григорий, где Прохор?
— Не могу знать! — вытянулся во фрунт казак. — С утра не видел.
— А ты, Сапаров? Не видел?
— Нет, — покачал тот головой. — Он брат, он и сторож.
Интересно, невольно или намеренно Сапаров ответил цитатой из Библии?
Словно уловив мои мысли, Автоном загудел:
— Кий человек от вас имый сто овец, и погубль едину от них, не оставит ли девятидесяти и девяти в пустыни и идет вслед погибшия, дондеже обрящет ю?[48]
— Верно говорил монах, искать их надо, место неспокойное, — поддержал его Головнин.
Мужчины поспешили наружу и принялись обыскивать закоулки монастыря, что было крайне сложно: сразу за вытесанными стенами начиналось узкое и глубокое ущелье, перебраться через которое удалось бы только с помощью подвесного моста.
Вдруг раздался женский крик. Он несся с разных сторон, отражаясь от высоких стен, дробился на части и мы не знали, куда бежать.
— Сюда, все сюда! — закричал Сапаров.
При входе в ущелье, в узкой ложбинке лежал Прохор. Над ним выла Агриппина. Она рвала на себе волосы и била кулаком в грудь. Мы подошли поближе. В груди Прохора торчал нож.
Нестеров наклонился над телом и потянул за нож, которым был заколот Прохор. Нож имел странную трехгранную форму и был светло-желтого цвета там, где его не окрасила кровь несчастного парня.
— Что это? — обомлев, спросила я.
— Абиссинский обсидиановый нож, — хмуро ответил Аршинов. — Часто используется в ритуальных культах у племен, не принявших православие.
— Но откуда тут взялся убийца и чего он хотел? — спросил Головнин. — Агриппина, ты можешь ответить?
Тем временем прибежали послушники и, осторожно подняв тело, отнесли его в монастырь.
— Рассказывай! — приказал девушке Аршинов, когда она немного успокоилась.
— Ну… Это самое…
— Не мычи! Как ты оказалась тут? Зачем из кельи втихую выходила?
Григорий сидел на камне, обхватив голову руками, и раскачивался от душевной боли из стороны в сторону. Сапаров злобно сверкал белками глаз, глядя на Агриппину.
Мне пришлось вмешаться.
— Николай Иванович, не пугайте девушку. Агриппина, скажи, почему ты меня не разбудила, а сама вышла из кельи?
— Да по нужде, барыня, — ответила она смущенно. — Во двор вышла. Зачем вас будить? Так впотьмах, без свечки, и пошла себе.
— А что дальше было?
— Прохор стоял, курил. Подошел ко мне, мы стали разговаривать, — при этих словах Сапаров схватился за кинжал, висящий на боку.
— И что было дальше?
— Мне неудобно было при нем. Поэтому я сказала, чтобы стоял и курил дальше, а сама пошла за угол. И там на меня напали двое эфиопов.
— Как они выглядели?
— Сами в белом, а лица черные, только зубы светятся. Жилистые такие. Я как закричу: "Проша!", он бросился мне на помощь, и тут его один эфиоп и заколол.
— Вот так сразу?
— Ну да! Один меня держал крепко, второй за углом спрятался и нож выставил. Прохор и напоролся со всего размаху.
— И что потом было?
— Убежали они.
— Куда?
— Не знаю, я сразу над Прошей склонилась, а когда поняла, что он мертвый, так закричала.
— Не получается, — сказал молчавший до сих пор Головнин.
— Почему?
— Аполлинария Лазаревна, — повернулся ко мне Головнин, — когда вы проснулись?
— Рассвет уже занялся.
— Хорошо. А Агриппина проснулась до рассвета. И во двор вышла в темноте, по ее рассказу. А закричала только что, когда солнце уже выглянуло из-за гор. Что она делала все это время?
— Они тебя снасильничали? — рванулся к ней Сапаров.
Несчастная девушка отшатнулась, закрыла лицо руками и зарыдала во весь голос. Я принялась ее успокаивать.
— Мы найдем их, найдем и убьем. Успокойся, ты жива-здорова. Жаль Прохора, но ты не виновата. Он сам вышел из кельи. Бог распорядился, что поделаешь?
Сапаров презрительно плюнул и отвернулся. Григорий сидел все так же отрешенно, закрыв голову руками.
Во двор вышел Аниба Лабраг.
— Монахи обрядили вашего друга.
Мы вошли в большую комнату, не меньше трапезной. Прохор лежал на каменном столе. Лицо его выглядело умиротворенным. Автоном читал молитвы, горели свечи. Я перекрестилась. Малькамо, стоявший рядом со мной, повторил мой жест.
— По нашим обычаям хоронить надо до захода солнца, — сказал Аниба Лабраг. — Жарко.
Могилу вырыли на небольшом кладбище близ монастыря. Там уже покоились несколько монахов. Григорий собственноручно установил крест с косой перекладиной. Автоном без устали читал молитвы.
— Пора нам, братцы, — сказал Аршинов. — Тяжело, но надо. Потом подтолкнул Али вперед. — Ты останешься здесь, и будешь ждать нашего возвращения. Дорога очень опасная, а я не хочу тебя потерять.
Али не сказал ни слова, только кивнул и отошел в сторону. Я подивилась послушанию паренька.
Монахи вышли с нами проститься. Я приблизилась к Анибе Лабрагу:
— Благословите меня, батюшка.
Он положил сухую ладонь мне на голову и вместо благословения тихо произнес:
— Скажи своим друзьям, чтобы не держали зла на моих соплеменников. Они не убивали вашего человека.
— Как? — я даже подняла низко опущенную голову и удивленно посмотрела на старика. Не путает ли он? Ведь обсидиановый нож доказывал обратное!
— Когда мы обмывали покойника, то стало понятно: смертельная рана нанесена плоским железным ножом, а не трехгранным обсидиановым. Его просто потом вложили в рану. Кто — не знаю… Я не хочу сейчас об этом говорить всем и вслух — еще не поверят, но ты должна знать: наши люди ни причем. Эфиопы чтят неприкосновенность женщины и не убивают на монастырской земле. Очень странная история. Ищи у себя в группе.
Мне стало не по себе. Я охнула и прижала руки к губам.
— Иди к соплеменникам. Благословляю тебя, Полина. Ты отмечена милостью божьей! Но будь осторожна — смерть ходит вокруг.
Я поцеловала руку старцу, поклонилась и бросилась догонять нашу экспедицию.
* * *
Глава восьмая
Нашествие демонов. Засада. Дикобразы. Бивак. Инкогнито Малькамо нарушено. Спор. Экспедиция присоединяется к армии. Обед. Лучший в мире кофе. Гражданская война. Воздушный шар. Итальянские лазутчики. Неизвестный в русских сапогах. Аршинов ранен. Полина и Малькамо в плену. Генерал Баратиери. Встреча кузенов. Страстный любовник.
Городок Волло в провинции Годжам, куда мы прибыли к вечеру, состоял из кучки наспех слепленных домов, увенчанных традиционной соломенной крышей в виде конуса. Навстречу нам никто не вышел, улицы словно вымерли: ни бегающих попрошайничающих детей, ни живности. Единственным ровным местом, где можно было разбить палатки, была главная площадь деревни.
— Что скажешь, Малькамо? — спросил Аршинов. — Тебе понятно, почему нет людей?
— Не знаю, — пожал он плечами. — может, стоит постучаться к старейшине?
— А как мы узнаем, где живет старейшина?
— Вот видите, — юноша показал на дома, — это «тукуль», круглые дома, обмазанные глиной. У них всегда коническая кровля. Богатые люди живут в «хедме». Это дома из камня вперемешку с глиной и щебнем. И крыша у таких домов плоская, с навесом.
— Что ж, поищем, — Аршинов пришпорил коня.
Такой дом оказался сразу же за поворотом. Аршинов спешился и постучал в дверь. Никто не ответил. Он закричал на амхарском:
— Хозяева, отворите!
Подошел Малькамо и тоже стал что-то кричать.
Дверь немного приоткрылась, оттуда выглянул старый эфиоп.
— Мы путешественники, — повторил Аршинов. — Идем на север, к озеру Тана. Где тут у вас можно напоить лошадей, да и самим передохнуть?
Хозяин вышел из дома, за ним трое молодых парней и толстая женщина. Николай Иванович поклонился, и опять повторил, что мы путешественники, идем с добрыми намерениями и не причиним зла населению городка. Они по-прежнему смотрели на нас с подозрением.
Тогда вперед вышел Малькамо и принялся убеждать старосту. Он говорил быстро, высоким гортанным голосом, и хозяин дома мерно покачивал головой в такт его словам. Наконец, он кивнул, крикнул что-то, обернувшись назад, и тут же из дома высыпала стайка женщин в белых шамма, украшенных затейливой вышивкой и принялись хлопотать: одна разжигала огонь в печке, стоящей во дворе, другие несли посуду и покрывала.
Староста пригласил нас в дом. Согнувшись, так как притолока была на уровне плеч, мы вошли в просторную комнату, убранную коврами и подушками-валиками. Столов и стульев не было. Аршинов завел со стариком беседу, потом повернулся к нам.
— Ситуация такова, дамы и господа: городишко не показывает носа на улицу, потому что люди боятся демонов.
— Каких демонов? — спросил Нестеров, а Агриппина и Автоном принялись креститься.
— Демоны появляются ночью, портят посевы, трещат погремушками. Они неуловимы, стреляют тонкими острыми стрелами, уже поранили несколько человек. Раненые мучаются лихорадкой.
— Позвольте мне осмотреть их, пока солнце не село, — вызвался Нестеров.
Малькамо перевел. Староста кивнул и пошел вдоль улицы. Нестеров и Малькамо, в качестве переводчика, за ним, а я пошла следом, вдруг моя помощь пригодится при врачевании?
Нестеров зашел в один дом, потом во второй и приказал всех больных вынести на подстилках на площадь. В хижинах было очень темно и он ничего не видел даже в очках.
Больных оказалось три парня и девушка. У них были множественные порезы, уколы, царапины, которые воспалились, а некоторые даже нагноились. Они тяжело дышали, глаза лихорадочно блестели.
— Малькамо, спроси их, как это получилось?
Из рассказа следовало, что они вечером пошли на поле выкопать несколько клубней батата, чтобы испечь их. Почему ночью? Потому что поле принадлежало не им, а старосте, поэтому их могли жестоко наказать за воровство и самоуправство.
Когда они пришли на поле и стали уже выкапывать клубни, то раздался страшный треск, на них накинулись демоны небольшого роста, примерно им по колено, стали кусать за ноги и стрелять в них острыми стрелами. Несчастные бросились вон, а на следующий день работники старосты увидели, что поле потоптано, побеги перегрызены, а многие бататы выкорчеваны.
Староста приказал найти проказников, но те сознались сами, так как уже лежали больными. Им не поверили, думали, что юноши и девушка хотят переложить вину на неизвестно на кого, но следующей ночью случилось тоже самое. Демоны грызли растения и трещали так громко, что их было слышно на противоположном конце городка.
Вот почему, когда мы въехали в город, он оказался пустынным и молчаливым. Люди боялись нашествия демонов.
Тем временем Арсений Михайлович осмотрел раны. Они были хоть и воспаленными, но поверхностными, и попросил ведро воды.
— Аполлинария Лазаревна, — обратился он ко мне, — у меня в саквояже склянка. На ней написано KMnO4. Будьте любезны, дайте мне ее.
— А что это? — я подала ему склянку с притертой крышкой, в которой лежали кристаллы темно-фиолетового цвета.
— Марганцовокислый калий, — ответил Нестеров. — Он является сильным антисептиком. Будем лечить нагноение.
Арсений Михайлович достал несколько кристалликов и бросил их в принесенную большую глиняную плошку с водой. Вода мгновенно окрасилась в сиренево-розовый цвет. Столпившиеся вокруг нас эфиопы, как один, вскрикнули, и стали взволнованно переговариваться.
— Что с ними? — спросила я Малькамо.
— Они называют месье Нестерова божьим человеком, чудодеем и дабтаром — ученым мужем. Он превратил воду в вино, как великий Иисус! А вон тот парень, — Малькамо улыбнулся и показал на мальчишку, с восхищением разглядывающего розовую воду, пожалел, что не лежит с остальными. Они его звали воровать бататы, а он не пошел. Сейчас бы лечился волшебной водой.
Тем временем Нестеров обмывал раны подростков и бинтовал полосками из старой шаммы. В основном, были поранены ноги, только один из них был ранен в ягодицу и руку.
— А мы займемся демонами, — сказал Головнин, попыхивая трубкой.
Он любовно погладил свою винтовку. Видно было, что ему не терпится выйти на охоту.
Багровый диск солнца закатился за горы. Резко похолодало. Григорий с Сапаровым успели разбить палатки, но никто не ложился. Нужно было идти на охоту, ловить демонов.
— Николай Иванович, — как по-вашему, что это может быть?
— Понятия не имею, Полина. Ничего, ввяжемся в драку, там посмотрим.
— Кстати, — Нестеров поднял голову, оторвавшись от очередного больного, — я бы хотел увидеть эти стрелы. Может быть, они смазаны ядом. Хотя в раны, скорей всего, попали песок и грязь, потому и воспалились. Хорошо еще столбняка нет.
Малькамо перевел. Жители опять испуганно замахали руками и принялись бурно высказываться.
— Они сожгли две стрелы на костре, а священник прочитал молитву. Больше нет, — ответил юноша.
— Жаль, очень жаль… Это прояснило бы картину.
— Не волнуйтесь, Арсений Михайлович, — хохотнул Головнин, — ночью я вам столько стрел достану, хватит вам для полной картины!
— Можно мне с вами? — я умоляюще посмотрела на охотника. — Лев Платонович, я очень вас прошу!
— Аполлинария Лазаревна, несравненная, ложитесь-ка вы спать. Дело нетрудное.
— Нет уж, не пойду я спать! Если в спасении принца не дрогнула, то что мне демоны по колено? Карлики какие-то!
— Ну, как вам будет угодно. Только вперед не стремитесь, будет кому в засаде лежать.
* * *
В засаду отправились после полуночи: Аршинов, Малькамо, Головнин, я и Григорий с Сапаровым. Автоном остался молиться, Нестеров в темноте ничего не видит, а Агриппина присматривала за Али.
В полночь мы пришли на бататовое поле. Идти было крайне неудобно: я все время цеплялась за коренья и комья земли.
Справа от нас виднелась груда валунов.
— Давайте туда, за камни! — шепотом приказал Аршинов.
Мы, согнувшись, бросились за камни и притаились.
Ждать пришлось недолго. Неожиданно раздалось шуршание, потом треск, словно кто-то перекатывал горошины в сухом стручке.
— Факелы, — шепнул Головнин, и тут же Сапаров с товарищем зажгли два факела из промасленной пакли, намотанной на крепкие ветки.
По полю бегали какие-то круглые существа, похожие на огромных ежей, длиной в аршин. Увидев огонь, они остановились, встопорщили иголки, стали трясти ими. Иголки разлетались в разные стороны.
— Осторожно! — закричал Головнин, прицелился и выстрелил. Одно существо осталось лежать, остальные заметались по полю.
— Сеть! Сеть набрасывай! — закричал Аршинов. — В норы уйдут!
Двое его подручных изловчились и набросили взятую с собой сеть на клубки острых иголок. Те бешено заворочались, пытаясь выбраться, но от этого запутывались все более и более, пока совсем не затихли.
— Кто это? — спросил Малькамо. — Демоны?
— Да какие там демоны? — засмеялся Головнин. — Дикобразы. Правда, довольно большие и упитанные, я такой вид раньше не видел. Поменьше попадались, когда охотился в Индии. Давайте, служивые, беритесь за сетку, только осторожно, не пораньтесь об иголки.
— Они ядовитые? — спросила я.
— Насколько я знаю, нет, но все может быть, так что держитесь подальше, Аполлинария Лазаревна, — предупредил Головнин.
Вернувшись, мои спутники сделали нечто вроде загончика из обломков скал, оставив дикобразов в сети. Я вернулась в свою палатку.
— Барыня! А я уж так боялась, так боялась! — Аграфена приподнялась со своей кошмы.
— Не волнуйся, все обошлось.
— Чем вы демонов-то повергли? Крестным знамением?
— Ружьем и сетью. Не демоны это, дикобразы.
— Ох! Это что за напасть такая? Дикие образом?
— Зверьки, похожие на больших ежей. С иголками. Давай спать.
Наутро вокруг загона собралось все население городка. Люди жались друг к другу и вскрикивали, когда пойманные дикобразы шевелились или топорщили иголки. В загоне сидел Нестеров. Он налил животным воды в глиняную плошку и попросил у местных жителей пару бататов.
— Вы уже здесь, Арсений Михайлович, — улыбнулась я.
— О да! С рассвета! Получаю неизъяснимое наслаждение! Ути, моя цыпочка, — он предложил дикобразу плошку с водой. — Это же африканский гребенчатый дикобраз, Аполлинария Лазаревна, я о таких только читал, и не думал, что доведется живьем увидеть! Редкое животное.
— На ежей похожи.
— Смотрите, какая у них грива из гибких шипов и острых игл. Не сомневаюсь, что они поворачивались к вам хвостом и нападали, стараясь уколоть.
— Не знаю, их Григорий с Георгием ловили. Я в засаде сидела. Кстати, и много у них игл? Они ими так стреляли!
— Нет, — рассмеялся Нестеров, — они не могут стрелять. Это легенда.
— Но я сама видела! — возразила я.
— Дело в том, что иголки у этого животного держатся очень непрочно. Когда на дикобраза нападает враг, он начинает трясти иглами. При этом они отрываются и летят во все стороны, куда попало. Именно из-за этого вы и решили, что дикобраз стреляет иглами. А их у животного около тридцати тысяч.
— Невероятно! Откуда же они взялись?
— Иглы? Выросли.
— Нет, я о самих животных. Откуда они пришли?
— Судя по тому, что местные жители их никогда не видели и приняли за демонов, дикобразы пришли издалека. Их что-то спугнуло, или кто-то спугнул, — ответил подошедший Аршинов.
— Причем шли они под землей — они выкапывают длинные норы и ведут ночной образ жизни, — добавил Нестеров.
— Не нравится мне все это, — посерьезнел Аршинов. — Когда звери трогаются с места, это обозначает катастрофу не менее, чем лесной пожар.
— Может быть, на них охотились? — спросил Нестеров. — Все же в культуре народов многих стран принято украшать себя иголками дикобразов.
— Не помню, чтобы эфиопы украшали себя подобным. Нет, дело не в погоне за иголками. Что-то происходит буквально в нескольких верстах отсюда.
Дикобразы тем временем поели и залезли в тень отдохнуть.
— Что будем с ними делать? — спросила я.
— Надо отнести их в монастырь, — сказал Малькамо. — Там их никто не тронет, на монастырских землях какие только животные не водятся.
— Предложи это старосте, — согласился с его доводами Аршинов.
— А я пока снова займусь ранеными, — Нестеров оторвался от своих любимцев.
Жители городка опять стали свидетелями возливания розово-фиолетовой воды на раны больных, которые уже подсохли и больше не гноились. Приветственными криками они встретили такое лечение, а больные стали героями дня.
Аршинов договорился со старостой, что дикобразов отнесут в монастырь Дебре-Маркос и там отпустят на волю.
* * *
Мы неуклонно продвигались к озеру Тана. Уже с севера стало тянуть влажностью, ночью сырели наши бурнусы, а в воздухе появилось больше птиц.
Аршинов сказал, что перед тем, как добраться до озера, мы переночуем в монастыре Дебре-Табор. Он старался выбирать для ночевок монастыри, так как там были каменные полати, на которые можно было бросить бурнусы, и столы, а в хижинах эфиопов нас кусали злые насекомые. Уж лучше на твердом камне, чем с кровососами. Я так скучала по обычным гостиницам с кроватью и кувшином горячей воды. Но делать было нечего — я поклялась, что пройду путем моего незабвенного мужа Владимира Гавриловича.
Уже на подступах к монастырю мы заметили нечто необычное: многочисленные струйки дыма устремлялись ввысь, ржали кони, кричали ослы, ревели верблюды. Перед монастырем обосновался самый настоящий бивак.
— Малькамо, спрячь лицо! — приказал Николай Иванович. — Кажется, это войска негуса.
Нас заметили. Навстречу нам скакал отряд эфиопской армии. Мы остановились.
Воины приблизились. Их командир что-то отрывисто произнес. Я разобрала слово «итальяно».
Аршинов перевел:
— Это ямато алака — начальник сотни, по-вашему штабс-капитан. Видишь у него на плече львиная лапа. Он спрашивает, кто мы и не итальянцы ли мы. А еще приказывает нам следовать за ним, в лагерь, расположенный в монастыре.
Аршинов ответил согласием и снова повернулся к нам:
— Вот что, господа, оказывается, недалеко отсюда идут жестокие бои с итальянцами. В нас подозревают лазутчиков, поэтому мы сейчас поедем в лагерь и там я попробую объясниться с более высоким начальством. За мной!
В огромном монастырском дворе мы спешились и пошли, держа под узды своих лошадей. Нас обступили эфиопы, цокали языками, переговаривались, некоторые даже дотрагивались, особенно до меня и Агриппины, но наши спутники быстро обступили нас так, что мы оказались в середине процессии.
Много было раненых. Они лежали прямо на земле, окровавленные, над ними хлопотали монахи.
Поручив лошадей и припасы монахам, так как наших людей нам не разрешили оставить во дворе, мы вошли в монастырь. Штабс-капитан показывал дорогу, а сзади нас шли несколько воинов, готовых тут же выстрелить, если мы вдруг предпримем попытку к бегству.
Нас привели в светлую комнату с высокими потолками, и выстроили вдоль стены. Чтобы немного успокоиться, я стала рассматривать предметы, которыми были уставлены длинные полки. Это были различные церемониальные кресты, литые и из витой проволоки, резные деревянные, украшенные эмалью или просто раскрашенные яркими красками. В углу небольшой латунный аналой старинной работы, а на нем бронзовое панно с вырезанными архаичными фигурками Христа, архангелов и апостолов.
Особенно хороши были потолочные панели. На них вырезаны, как живые, слон, козел и корова, кормящая теленка. Скорее всего, эти панели не имели ничего общего с христианством, а представляли собой отражение местных языческих верований.
За столом посреди комнаты сидел молодой офицер в богатом наряде. Было видно, что он, несмотря на молодость, старший по званию, потому что все остальные воины, находящиеся в комнате, относились к нему с почтением, кланялись и выслушивали указания. Офицер внимательно смотрел на нас, медленно переводя взгляд с одного на другого. Увидев Малькамо, закрывающего лицо краем шаммы, он кивнул стражникам, те подскочили и отдернули одежды. Малькамо закрыл лицо руками.
Офицер сделал знак, чтобы стражники отошли в сторону, и что-то отрывисто спросил высоким звенящим голосом. Малькамо отнял руки от лица, выпрямился и произнес гордо несколько слов, из которых я только и поняла, что "Малькамо, негус, Иоанн".
Завязался ожесточенный спор. Я все равно ничего не понимала, поэтому просто следила за лицами. Молодой офицер вызывал смутные воспоминания. Ну, конечно! Он был один из тех, кто стоял возле царского трона, на котором восседал Менелик. И он не волок нас в тюрьму, это сделали его поручные, рангом пониже.
Все это не внушало особенной надежды на будущее. Хотя Менелик и отнесся ко мне благосклонно, но с нами путешествовал его враг, которого он собирался предать казни. А этот молодой офицер, без сомнения, предан ему донельзя, и поэтому нас ожидает плен и отправка в Аддис-Абебу.
Я тихонько спросила Аршинова, стоящего слева от меня:
— Что происходит?
— Они были друзьями детства, но потом этот офицер перешел на сторону Менелика.
— И что теперь будет?
— Пока не знаю. Спорят.
Тем временем накал и интонация спора изменились. Малькамо в чем-то убеждал офицера, показывая на нас. Он произносил «руси», значит, речь шла о нас и наших странствиях.
Офицер волевым жестом прекратил спор и обратился к нам на неплохом французском:
— Господа, сейчас идут боевые действия с итальянцами. С белыми. Вы тоже белые. Вчера был сильный бой, много воинов полегло от итальянского оружия. Они — захватчики на нашей земле, и мы будем бороться из последних сил, чтобы защитить родину. Поэтому я хочу спросить вас: за кого вы? За соплеменников по цвету кожи или за нас, справедливых защитников своей страны?
— Мы уважаем и любим народ Абиссинии, — ответил Аршинов. — И цвет нашей кожи тут ни причем. Поэтому располагайте нами, как вам будет угодно.
— Я - меткий стрелок, — добавил Головнин, — и пусть мое оружие послужит делу справедливости. Только верните мне его.
— Здесь много раненых, — добавил Нестеров. — Я немного понимаю в медицине, и хотел бы помочь в облегчении их страданий.
— Присоединяюсь к доктору, — сказала я. — Тем более, что к итальянцам у меня есть свои счеты.
— Какие? — спросил офицер.
— Четверо напали на меня во дворе перед шатром Менелика и пытались лишить чести. Хорошо, что мои друзья подоспели на помощь.
— Брать силой женщину, если она этого не желает? — возмутился молодой офицер. — У нашего народа это считается одним из самых страшных преступлений!
Я не стала продолжать, что и Менелик поступил неправедно, заточив моих друзей в темницу, и поэтому пришлось переодеться в мундиры итальянцев, чтобы спасти узников. Это было ни к чему.
Но, словно услышав мои мысли, монах Автоном гаркнул басом:
— Постав их не будет на ризу, и не одеждутся от дел своих: дела бо их дела беззакония.[49]
— Что он сказал? — спросил офицер.
— Дела итальянцев — дела беззаконные, — ответила я. — Наш монах — святой дабтар и знаток священного писания.
— И в святой книге написано о них?
— Да, — кивнула я, не задумываясь.
— Где?
Обернувшись к монаху, я спросила:
— Автоном, голубчик, откуда ты взял эти слова. Офицер спрашивает.
— Пророк Исайя возвестил.
— Священное писание мне! — приказал офицер.
Один из солдат подошел к полкам и благоговейно взял огромный фолиант в переплете телячьей кожи.
— Исайя говоришь? Посмотрим…
Он быстро перелистал книгу, нашел нужный раздел и вчитался.
— Дела их — дела неправедные, и насилие в руках их… Надо же. А ведь прав святой человек. Вы свободны, господа, и я счастлив, что вашему присутствию здесь, хотя и не при благоприятных обстоятельствах.
— Автоном, вы наш талисман! — прошептал Нестеров.
Но монаха, видимо, не интересовала наша похвала, он истово крестился, перебегая глазами с одного креста на стене до другого.
— И Малькамо? — спросила я.
— А что, Малькамо пособник итальянцев? — при этих словах принц энергично покачал головой. — Ну, вот, видите. А разбираться, враг он негусу или нет, мы будем после того, как разобьем итальянцев. Присаживайтесь, господа!
Мы уселись вокруг стола на табуретки, покрытые обезьяньими шкурами — это мне сказал Малькамо, севший рядом. Он же объяснял мне названия всех блюд. Монахи принесли инджеру, и устелили этими ноздрястыми блинами весь стол. На них навалили вареную кукурузу, «тыбс» — особым образом нарезанные полоски мяса, жареные с зеленым перцем. Налили «вотт» — острый соус из перца «бербери», который огнем горел на языке и в желудке. Запивать пришлось напитком «тэджем», по вкусу напоминавшем медовую брагу, но, почему-то, мутно-опалового цвета, и ячменным пивом «тэлла».
От пива я отказалась, но мои спутники пили и похваливали. Сидящие на противоположном конце стола солдаты ели что-то похожее на французский "стек тартар",[50] только они называли его «кытфо» и резали кривыми, остро отточенными ножиками.
Есть, как обычно, пришлось руками, заворачивая мясо и овощи в «скатерть» — инджеру. Острый сок тек по пальцам, но никто не обращал на это внимания — все были голодны и старательно набивали желудки — когда еще придется так же плотно поесть?
Когда все насытились, принесли кофе, черный и густой. Аромат разнесся по всей трапезной, и я приободрилась: жизнь уже не казалась такой мрачной, страхи перед завтрашним днем отпустили.
Запасливая Агриппина собрала в сумку все, что не успели доесть сотоварищи, а Малькамо мне сказал:
— Полин, пей кофе, такого кофе, как в Абиссинии, ты не найдешь даже в Париже.
— Да, я согласна, — кивнула я и отпила маленький глоточек.
— Самый лучший кофе готовят к юго-западу от Аддис-Абебы — в городе Бонга. А знаешь почему?
— Нет, не знаю. Расскажи.
— Бонга — это столица провинции Каффа. Тебе ничего не говорит это название?
— Похоже на кофе, — я показала на чашечку.
— Верно. Существует легенда: однажды некий пастушок пас коз. Заснул и потерял их. Козы убежали. Когда пастух пошел их искать, то нашел их скачущими возле неизвестного дерева — козы наелись плодов этого дерева и пришли в неистовство. Пастушок был любознательным парнем. Он собрал несколько плодов, отнес дабтару и рассказал о поведении коз. Дабтар долго колдовал над зернами, и придумал напиток, вселяющий бодрость и силы. Напиток назвали кофе, по имени провинции Каффа, а уж оттуда он распространился по всему миру. Теперь понятно, почему в Бонга варят лучший в мире кофе?
— Спасибо, Малькамо, очень интересная история.
— Не за что, Полин. Мне так приятно сидеть рядом с тобой, — он потупился.
Я смотрела на юношу и недоумевала. Неужели он мне нравится? Он не глуп, строен и высок, знатного рода, у него тонкие черты лица, вот только цвет кожи не такой, к которому я привыкла. Но разве это мешает мне общаться с ним? Подумав, я решила, что общаться не мешает.
И тогда я спросила:
— Скажи, Малькамо, кто этот офицер, который нас допрашивал?
— Его зовут Астер Тункара, он фитаурари.
— Кто?
— Фитаурари — это генерал-майор, начальник или отдельной армии, или одного из отрядов негуса. С нашего языка переводится, как "вперед грабить".
— Понятно, — кивнула я. — Раз вперед, значит авангардный отряд, а фитаурари — командир авангарда. Теперь все ясно.
Словно услышав мои слова Астер Тункара, молчавший во время еды, заговорил:
— Господа, — сказал он, — завтра нас ждет тяжелый день. Отправляйтесь спать, потому что на рассвете мы выступаем против итальянцев.
При этих словах Агриппина задрожала и принялась мелко креститься.
— Позвольте лишь узнать, — спросил Головнин, — каковы силы противника?
— Превосходящие, — ответил командир отряда. — На нас идет генерал Баратиери. Самое страшное во всем этом, что у нас настоящая гражданская война.
— Как? Ведь вы боретесь против итальянцев! — воскликнула я. — Они хотят установить протекторат и отобрать у вашей страны независимость.
— Все так, — кивнул Тункара, — но итальянцы только командуют. Простые воины — это такие же эфиопы, как и мы. Страна раскололась на два лагеря. Теперь ты понимаешь, Малькамо, что попав у руки противника, тут же станешь разменным козырным тузом?
— Не понимаю, — Малькамо мотнул головой. — Ты же служишь узурпатору, захватившему власть в стране. Не отсюда ли все беды нашей страны?
— Ах, оставь, — Тункара махнул рукой, — захватил он или получил по праву, но у Абиссинии нет сейчас другого правителя, способного противостоять итальянцам. А твой кузен Мангашия лижет им пятки, надеясь, что итальянцы свергнут негуса.
— Не смей так говорить о сыне сестры моего отца! — вскипел Малькамо. — Он — достойный представитель нашего рода! Мой отец в лицо сказал итальянцам: "Ваша страна от моря до Рима, a моя от моря до сих мест", дав им понять, что их ноги не будет в Абиссинии, и нас этому научил. А у Менелика итальянцы по шатру разгуливают и чувствуют себя, как дома!
— Спокойно, молодые люди, спокойно, — Аршинов попытался утихомирить спорщиков. — Я не хочу, чтобы гражданская война началась прямо здесь, в монастырской трапезной.
Головнин вновь повторил вопрос:
— Мне так никто и не ответил: каковы силы противника, вооружение, тактика боя. В конце концов, какого черта ваши люди, я имею в виду жителей вашей страны, служат итальянцам?
— За деньги, — ответил Тункара.
— И что, итальянцы много платят? — спросил Нестеров.
— Да куда там! Одну лиру и 50 граммов муки в день. И за это люди борются против своей страны.
— Неужели все так плохо?
— Голод… На юге еще не так страшно, а вот север, города Аксум, Керен, уже давно испытывают нехватку продовольствия. Люди оттуда бегут, нанимаются к итальянцам, а те бросают их против регулярных войск негуса. Что для простого человека слова «договор», "независимость", «протекторат»? Инджера для них понятнее.
Малькамо сидел, опустив голову. Его смуглое лицо почернело от обиды и стыда. Слова молодого фитаурари горько ранили его в самое сердце. Я понимала, что с ним творится: он же полагал негуса Менелика захватчиком власти, а оказалось, что именно Менелик борется за независимость страны, когда его кузен перешел на сторону итальянцев, чтобы удержать власть.
— Простите, уважаемый, — обратился Тункара к Головнину, — я еще не ответил на ваш вопрос. Разведка доложила, что диспозиция такая: у нас около трех тысяч воинов и полутора тысяч винтовок «ремингтон». У кого нет винтовки, вооружены копьями и дубинками. Триста лошадей и сто верблюдов. У противника шесть отрядов дервишей по пятьсот человек, известных своей жестокостью, силой и выносливостью. Ими командуют итальянские офицеры под предводительством генерала Бальдиссера. Кроме них около полутора тысяч наемников башибузуков и тысяча итальянских, хорошо вооруженных солдат, которых генерал держит на базе в Дангиле, позади линии фронта. Он ими рискнет в последнюю очередь, подставив под пули эфиопов самих же эфиопов.
— Есть ли у них артиллерийские орудия? — спросил Аршинов.
— Да, — кивнул Тункара. — четыре орудия у них и два у нас, и для тех не хватает снарядов. Скоро башибузуки пойдут на штурм. Надо будет обороняться и тут каждый человек на счету.
— Мы с вами! — заявил Аршинов. Остальные подтвердили согласие.
— Женщины пусть останутся здесь, за монастырскими стенами. И лекаря не отпускайте — он понадобится раненым. Собирайтесь, господа, уже совсем рассвело.
Агриппина, не скрывая рыданий, бросилась к Сапарову и обняла его. Он молча погладил ее по голове, потом оторвал от себя ее руки. Григорий вышел за ним.
— Прикажите вернуть нам наше оружие и лошадей, — сказал Головнин. — Я, конечно, не профессиональный военный, но поохотиться люблю. Просто сегодня это будет двуногая дичь.
Во дворе послышались крики. Мы выбежали наружу.
Над нами, в синем небе, парил огромный воздушный шар! В нем сидели два итальянца. Один смотрел в подзорную трубу, другой отвязывал балласт — мешки с песком и бросал их вниз. Шар от этого качало, и он понемногу набирал высоту.
— Заряжай! По шару пли! — приказал Тункара.
Первым среагировал Головнин. Он прицелился и выстрелил. Раздался свист — пуля пробила оболочку. Шар стал стремительно опускаться, влекомый ветром. Аршинов вскочил на коня.
— Вперед! Схватим лазутчиков!
Григорий с Сапаровым поскакали за ним. Издалека, навстречу им приближались всадники. Тункара послал отряд на помощь, а я молила Господа, чтобы нащи друзья успели вернуться с добычей до того, как их настигнут башибузуки.
Успели! Противника встретили огнем — толстые стены монастыря защищали стрелявших. Наша отважная троица возвращалась, пригнувшись к гривам, у Аршинова через круп коня был перекинут итальянец: он висел, как тряпичная кукла.
Итальянца привели в чувство, он ошарашено смотрел по сторонам, не понимая, как среди эфиопов оказались белые европейцы, которые с ними заодно.
Итальянца увели для допроса. Второй, бывший в корзине, разбился насмерть. Страшная смерть.
Мы занялись лошадьми. Сапаров седлал их, Григорий проверял сбрую. За этим занятием я и не заметила, как к нам подошел Астер Тункара и спросил Аршинова:
— Сколько вас человек?
— Все здесь, — ответил Аршинов. — Семеро мужчин и две женщины.
— Не отбивался ли от вас кто-то еще?
— Нет. Мы держимся вместе. А что случилось?
— Итальянец утверждает, что видел сверху всадника. И судя по одежде на вас, тот тоже был русским, у него похожие сапоги, — Тункара показал на сапоги казака.
— Как он увидел сапоги? — спросила я.
— В подзорную трубу.
— И где этот человек? — спросил Нестеров.
— Как только он заметил воздушный шар, тут же пришпорил коня и скрылся в ущелье.
— Его нужно найти! — заявил Аршинов. — Может, это, действительно, человек из нашей колонии, спешит к нам, чтобы сообщить что-то важное.
— Тогда почему он прячется?
— Не от нас же, — возразил Аршинов. — Кто знает, что у него на уме?
Но тут раздался взрыв совсем неподалеку от нас.
— Полина, Груша, в укрытие! За мной, друзья! — закричал Аршинов, вскочил на коня и поскакал на арену боевых действий, которой служила большая песчаная поляна позади монастыря. Наши мужчины устремились за ним. Со мной остался только Нестеров.
Вскоре стали прибывать раненые. Мы работали, невзирая на грохот вокруг, крики и стоны: перевязывали, чистили, промывали раны, но, к сожалению, ощущалась нехватка всего. Нам помогали монахи, но и от них было скорее психологическое подспорье.
Так продолжалось до заката. Урвав минутку, я выбегала за монастырские ворота, чтобы посмотреть, не возвращаются ли наши, но в огромном поле, все в дымке от снарядов, ничего нельзя было разобрать, оставалось только надеяться на Господа.
Сердце мое было неспокойно, уже реже стали гулкие взрывы от ударов снарядов, уже длинные тени поползли по монастырскому плиточному двору, а мои соотечественники все не возвращались.
Вдруг в воротах появился Малькамо на взмыленной лошади. Весь в саже, рукав холщевой рубашки оторван:
— Полин, где месье доктор? Аршинов ранен!
Как назло, Нестеров был внутри монастыря, вместе с монахами переносил и устраивал раненых. Не было времени его дожидаться.
— Вот его саквояж! — я схватила кожаный саквояж Арсения Михайловича. — Возьми меня к нему!
Малькамо легко подхватил меня, усадил на лошадь и мы помчались по полю, усеянному неподвижными и стонущими телами.
Сильный толчок остановил лошадь, словно она наткнулась на непреодолимую преграду. Передние ноги ее подкосились, она стала заваливаться набок, раненая в шею, а мы с Малькамо кубарем скатились с нее.
Ах, как больно я ушиблась! От удара даже дыхание перехватило. Единственное, что успокаивало, я крепко прижимала к себе саквояж Нестерова. Если бы он пропал, Арсений Михайлович очень бы расстроился.
Малькамо досталось больше. Ведь слетев с лошади я упала на него, чем смягчила удар, который и так был не слаб, а он потерял сознание.
Я принялась его тормошить и упустила момент: к нам подбежали четыре башибузука, скрутили и потащили с собой. Всю дорогу я волновалась, не случилось ли у юноши сотрясения мозга, ведь его так сильно трясли и подталкивали тычками в спину и шею.
Мы шли довольно долго. Вечерело. Последние шаги оказались особенно трудны — дорога вела в гору.
На небольшом плато был разбит ярко-красный шатер, видный издалека. Вокруг охрана из эфиопов. Повсюду командовали итальянские офицеры. На нас они смотрели с любопытством, некоторые даже приветствовали, но башибузуки не останавливались. С упорством ослов, бегущих за морковкой, они тащили нас к цели — в ставку командира армии.
Внутри шатра было душно, чадили масляные факелы, освещавшие неровным светом сидящих за походным плетеным столом офицеров. В центре сидел полный итальянец в опереточном мундире, увешанный галунами и звездами. Рядом — два эфиопа в высоких тюрбанах. Позади стояли стражники со свирепым выражением лиц — только зубы и белки глаз блестели в наступающем сумраке.
Толстый офицер что-то спросил по-итальянски.
— Я говорю по-французски и по-русски, — ответила я.
— Русская? — удивился он.
— Да, — кивнула я, стараясь придать себе гордый и неустрашимый вид, — дворянка, по фамилии Авилова.
— Очень приятно иметь таких очаровательных врагов, — он встал и подошел ко мне. Ростом толстяк доходил мне до плеча. — Я вам не враг, прелестная синьорита Авилова, просто мне хочется узнать, как вы оказались на поле боя?
У толстяка замаслились глаза. Он смотрел на меня, как жирный кот на крынку со сметаной. Скорее всего, генерал много месяцев не видел белых женщин, даже таких замарашек, как я: после падения с коня платье было разорвано и в пыли, волосы спутаны. Что ж, надо обратить его чувства на пользу себе. Я повела плечом и улыбнулась с возможным обаянием, на которое была способна.
— Синьора, с вашего позволения. Я вдова. Хотела бы иметь представление, с кем имею честь?
— Генерал Баратиери к вашим услугам, мадам, — он слегка опустил подбородок, но тут же его задрал. — Теперь вы скажете, почему вы оказались на поле боя?
— Я спешила помочь моему другу, раненому на поле боя.
— Хорошо, я задам вопрос по-другому: как ваш друг оказался участником боевых действий?
— По стечению обстоятельств. Мы мирные путешественники, знакомимся с историей и географией страны, изучаем ее флору и фауну. Направляясь на озеро Тана, мы совершенно случайно попали на передовую.
В это время Малькамо издал короткий стон, пошатнулся и упал.
— Воды! Воздуха! — закричала я на местном языке, так как уже знала немного слов. При этом двое в тюрбанах встали и подошли к нам поближе, переглянулись.
— Малькамо… — сказал один из них.
Тут же началась суета и суматоха. Принца вытащили на свежий воздух, уложили на кошму, дали выпить какой-то остропахнущий напиток из глиняной плошки. Он отдышался и немного пришел в себя. Тогда тот эфиоп, который узнал Малькамо, принялся его целовать и тереться носом о его нос. Мы с генералом с интересом смотрели на это проявление таких бурных чувств.
Наконец, эфиоп оторвался от Малькамо, встал, поклонился мне, протянул руку и стал что-то взволнованно восклицать.
— Это рас[51] Деджиак Мангашиа, племянник негуса Иоанна. Он утверждает, что этот молодой человек — сын негуса, а он — его опекун. Верно?
— Да, — кивнула я. — Это Малькамо. Принц, сын негуса Иоанна. Все правильно. Насчет опекуна сказать ничего не могу. Не имею представления.
— Как получилось, что он оказался с вами? По последним сведениям, дошедшим до меня, выходило, что он в тюрьме и ждал приговора Менелика.
— И что же его опекун, фельдмаршал, со всей своей армией дервишей и башибузуков не смог вызволить любимого племянника из тюрьмы? — я позволила себе некоторую дерзость, видя, что напряжение немного спало. — Может, не так уж и хотелось вызволять, дабы не делиться короной и властью?
Толстый генерал пожал плечами:
— Кто их знает, темные люди. За престол вполне могут зарезать друг друга.
— Семейство Борджия отличалось большей изощренностью в подобного рода наследственных спорах, — Боже мой, но кто меня за язык-то тянет!
— Мы пришли, чтобы дать им цивилизацию, — насупился Баратиери.
— Огнем и мечом. Хотя, давайте оставим наши споры. Посмотрите, как они рады друг другу. Кстати, я не ответила на ваш вопрос, откуда в нашей экспедиции оказался наследный принц Абиссинии. Очень просто, мы отбили его — спасли от казни.
— Каким образом? — удивился генерал.
— Менелик хотел его повесить. Мы напали во время казни и вызволили принца и его двух друзей. Вы можете сами спросить — он подтвердит.
— Прекрасно! Значит, вы против Менелика?
— Не за, и не против. Мы держим нейтралитет.
— Тогда какова цель вашей экспедиции?
— Я же уже сказала: история и география страны.
— Оставьте, — генерал махнул рукой, — это все притворство. Пройти полстраны для того, чтобы исследовать птичек и рыбок, да еще в театре военных действий, это ж каким надо быть идиотом! Простите, синьора, вырвалось. Ни за что не поверю! Скорее всего, вы — лазутчики!
— Вы с ума сошли, мон женераль! Принц Малькамо, кузен вашего раса Мангашиа, тот, которого хотел повесить Менелик — лазутчик?! Ну, знаете… Я была лучшего мнения о ваших умственных способностях.
— Ну, хорошо, хорошо, синьора, белла донна, — толстяк все ближе подвигался ко мне, а я делала вид, что не понимаю его поползновений. — Ваша экспедиция изучает историю с географией. А зачем принцу ехать с вами дальше? Он нашел родственника, опекуна и теперь сам должен решить, стоит ему ехать с вами, или остаться здесь.
Он вопросительно посмотрел на Малькамо, глаза которого метали молнии. Юноша порывался встать и избить генерала за его фривольное поведение. Но тот либо не замечал, либо ему было все равно и он просто насмехался над нами.
— Полагаю, принцу самому решать, что он хочет — ехать с нами или остаться. Вот его и спрашивайте.
Баратиери нехотя оторвался от меня и повернулся к Малькамо.
— Что скажете, ваше высочество? — в его голосе прозвучал сарказм.
— Я поеду с экспедицией.
— Странно. Зачем? Здесь ваши друзья, кузен-опекун. А на дорогах стреляют.
— Это мое дело. Сказал — отправлюсь, значит, так тому и быть.
— А вот это не вам решать, уважаемый Малькамо, я не собираюсь такой жирный козырь, как вы, упускать из рук.
И генерал что-то сказал по-амхарски Мангашиа. Тот быстро-быстро закивал головой.
Факелы, затрещав, погасли. Теперь шатер освещался только отблесками костра, горевшего перед входом.
— Время позднее, вы, синьора, будете спать здесь, у меня в шатре. И не вздумайте бежать — стражи у меня много. А вы, ваше высочество, в палатке вашего кузена. Я думаю, что вам найдется, о чем поговорить. Стража будет стоять и там — для обеспечения вашей безопасности, — толстяк глумливо улыбнулся, видя, как нервничает юноша, не желающий оставлять меня наедине с похотливым толстяком.
Я не боялась. Было неприятно, я знала, что ночью этот потный боров полезет ко мне. В ботинке у меня был спрятан небольшой кинжальчик, подарок Аршинова. Он холодил мне щиколотку и я знала, что, не задумываясь, пущу его в ход. Конечно, я не проколю такую сальную тушу, но кровь пустить смогу. Одно лишь мешало — на ночь я привыкла снимать ботинки. Тогда еще лучше — положу оружие рядом с собой, авось в темноте никто не заметит.
Не успела я заснуть, как в темноте раздался голос генерала:
— Синьора… Синьора Авилова, вы спите?
Мне не хотелось отвечать, авось он подумает, что я сплю, и оставит меня в покое?
Но я напрасно надеялась, что генерал разочаруется и прекратит докучать мне — горячая итальянская кровь возобладала над усталостью и приличиями. Хотя о каких приличиях можно было вести речь тут, на бивуаке?
— Что такое? Простите, мон женераль, я очень устала и сплю.
— Если вы ответили, что вы спите, значит, вы обманываете.
— Сейчас не время заниматься казуистикой.
Генерал тяжело вздохнул и со свистом выпустил воздух.
— Вы взрослая женщина, вам понятно, почему я здесь. Так что, синьора, раздевайтесь. Мне опротивели местные эфиопки. Будете сопротивляться, позову стражу.
И он потянул меня за рукав. Толстая ткань затрещала, но не поддалась. Кажется, пришло время пустить в ход ножик, хотя я всячески старалась оттянуть этот момент. Поэтому я поступила по-другому: схватив генерала за толстые плечи, я дернула его на себя. Он свалился навзничь на кошму, я быстро уселась верхом на его толстый живот, отчего тот стал хрипеть и, наклонившись к багровому лицу, страстно прошептала:
— Слушай, ты, incoglionito figlio di putana, stronzo bastardo![52] Ты что, забыл, как надо вести себя с дворянками? Да я сама согласна уступить такому красавчику, как ты, и не надо меня пугать своими солдафонами. Сейчас я тебя раздену, и мы славно поскачем. Мне тоже надоели эфиопы, тем более от последнего из них у меня началась внизу какая-то чесотка и жжение.
Итальянским ругательствам меня научила Джованна, пансионерка нашего женского института — взбалмошная, но добрая девушка, с непокорной копной рыжих волос. Она приехала в Россию со своей матерью, решившей попытать счастья в далекой холодной стране и поступившей в компаньонки к пожилой вдове товарища министра. Джованну с большими трудностями, и не без помощи министерской вдовы, устроили в институт. Ей у нас все очень не нравилось, она постоянно страдала от холода и отводила душу в ругательствах, которые выкрикивала страстно и экспрессивно, правда, в отсутствие надзирательниц. Кто же знал, что именно эти слова, которые я запомнила в далеком детстве, сейчас вырвутся на волю?
От такого натиска генерал захрипел еще сильнее. Я слегка ослабила хватку.
— Си… Синьора, разве ж так можно? Откуда вы так хорошо знаете миланский диалект?
— Довелось, — коротко бросила я.
— У вас правда жжение? — он выразительно скосил глаза мне на юбку. — Вы не шутите?
— Разве с этим шутят? — возразила я — Ну, так как, вы разбудили даму, покажите себя страстным кавалером. Мне просто невтерпеж!
— Ах, синьора, оставьте ваши шутки! Дайте мне сесть, — Баратиери выполз из-под меня, сел и принялся отдуваться, словно вытащенный из воды тюлень.
— Да какие шутки? Это вы, мон женераль, шутник. Пришли незвано, разбудили. А у нас в России говорят: "Незваный гость хуже татарина", так теперь я буду считать, что незваный гость хуже итальянца.
— Мамма мия, во что же я только что чуть не влез?! — генерал достал камчатый платок и стал утирать лоб. — Слышал, что среди местного населения распространены разные болезни, в том числе венерические, но пока Бог миловал. Как же вас угораздило, синьора?
Я потупилась:
— Вот такие же вояки, как и вы, простите меня за прямоту. Тяжела и опасна роль посланца с гуманитарной миссией, но я не пожалею живота своего…
Кажется, я переборщила. Баратиери скривился:
— Довольно, госпожа Авилова, рассказывайте, что вам надо, и покончим с этим досадным инцидентом. Я себя чувствую каким-то Пульчинеллой рядом с вами.
— Отпустите Малькамо. Он вам ни к чему. Насколько мне известно, принц потерял к политике всякий интерес, и его сейчас более интересует история, нежели современная действительность. Вам не сделать из него политическую марионетку.
— А вам он зачем?
— Мы едем на север поклониться святыне. Принц, как и мы, русские, относится к православной церкви, несмотря на то, что воспитан монахами-бенедиктинцами. Для него это важное паломничество.
— И вы хотите сказать, что кроме как религиозных, других целей у вас нет? Что вам тоже неинтересно, кто сядет на трон Абиссинии?
— Ну, почему же? Конечно, интересно, но чисто умозрительно. Мы рады любому негусу, севшему на трон на законном основании, — последние слова я произнесла с нажимом.
— Вы умная женщина, синьора, и я, честно сказать, в раздумьях. Не знаю, как с вами поступить. Давайте дождемся рассвета. Мне понятно лишь одно: вступать с вами в интимные отношения мне что-то расхотелось.
И он, пригнувшись, вышел из палатки.
* * *
Глава девятая
Бегство из плена. Человек на осле. Рассказ Маслоедова. Малькамо находит Полину. Прощание. Озеро Тана. Поездка на тростниковых лодках. Нападение бегемота. Прогулка верхом. Малькамо понимает язык зверей. Монастырь святого Георгия. Танин на языке фалашей. Рассказ Абрхи. Крокодилы. Щепка пробкового дерева.
Но на рассвете мне не удалось увидеть генерала, так как в кромешной темноте, которая случается перед восходом солнца, вдруг послышались крики, вопли и лязг оружия — это вновь передовые отряды абиссинцев бросились в бой. И мне не было никакой разницы — это сторонники Менелика или Мангашиа, главное, вырваться из этой суматохи живыми и невредимыми.
Осторожно выглянув из палатки, я заметила, что стражи уже не было. Значит, дорога была свободной. Но как бежать? Ведь любой башибузук проткнет меня пикой. И потом я не могла оставить Малькамо, хотя и была уверена, что именно тут, в стане его родственника ему ничего не угрожает. Юноша все больше и больше занимал мое сердце.
Где выход? Надо срочно изменить внешность! И я принялась обыскивать палатку. Мои находки оказались весьма скудными. Это была какая-то толстая накидка неопределенного цвета, служившая подстилкой, и длинный грязный шарф, когда-то белый.
Воспряв духом, я намотала на голову тюрбан, зачерпнула золы и щедро натерла себе лицо и руки. Конечно, все местные воины ходят босиком, но я не могла себе позволить снять ботинки, иначе бы не прошла и двух шагов по острым камням. Поэтому я понадеялась, что накидка скроет мои ступни.
И я решилась, так как медлить более было нельзя, солнце уже вставало над горизонтом.
Прижав к себе саквояж Нестерова я вышла из палатки и оглянулась: на горизонте поднимался дым, слышалось ржанье лошадей, неподалеку несколько эфиопов скатывали кошмы, не обращая на меня никакого внимания. Я вдруг стала невидимкой, что меня вполне устраивало.
Где же Малькамо? В какую палатку его увели? И, может, ее уже скатали, а принц сейчас далеко? Затея оказалась невыполнимой. Тогда надо пробираться обратно, в монастырь, где под толстыми стенами укрылись мои друзья.
Еще меня беспокоила мысль об Аршинове: где он, что с ним; но если о Малькамо я знала хоть что-то, что вчера вечером он был жив, то об Аршинове я не знала ничего, и это меня угнетало больше всего.
И я побрела в сторону невысокого холма, у подножия которого стоял монастырь. Вчера на лошади мы с Малькамо добрались сюда за четверть часа, а пешком мне понадобится не более двух часов при хорошем раскладе.
Моим чаяниям не суждено было сбыться. С двух сторон на меня неслись всадники, и я уже представила себя под копытами их лошадей. Но мне совершенно не хотелось оказаться раздавленной в чужой сече, поэтому я стремглав побежала в сторону и спряталась за большим валуном. Хоть какая, но защита.
А битва продолжалась: с резкими гортанными криками абиссинцы нападали друг на друга, рубились короткими мечами, пинали пятками лошадей, отчего те вставали на дыбы и отчаянно ржали. Я выглядывала из-за валуна, пытаясь высмотреть знакомые лица, но в поднявшейся пыли ничего не было видно.
Вдруг позади себя я услышала стон: к моему убежищу приближался серый ослик. На нем полусидел человек со стрелой в груди. Человек все время запрокидывался на правую сторону и от этого ослик шел не прямо, а кругами.
Я выскочила из своего убежища, подбежала к ослику, схватила его под уздцы и втянула за валун. Животное прядало ушами и от страха отчаянно сопротивлялось.
Человек сидел на осле, низко опустив голову. Из правой лопатки торчала стрела. Накидка от солнца закрывала лицо и плечи. Он хрипел.
Дотронувшись до него, я спросила на амхарском:
— Кто ты?
Он не ответил. Тогда я осторожно взяла его за подбородок и заглянула в лицо. И ахнула. Передо мной был Савелий Христофорович Маслоедов, брат Агриппины.
Раскрыв саквояж Нестерова, я достала склянку с нашатырным спиртом и поднесла раненому под нос. Он скривился и открыл глаза.
— Больно…
— Потерпите, Савелий, бой кончится, и я вас в монастырь отвезу. А там доктор. Вылечат вас.
— Не вылечат. Кончаюсь я. Спустите меня, барыня, с осла.
Ухватив Маслоедова за подмышки, я спустила его на землю и уложила в тени под валуном. Он лежал на боку, так как стрела не давала ему другой возможности. Изо рта тоненькой струйкой бежала кровь.
— Быть мне в аду. Не причастился, не соборовался, — прошептал он. — Да и за грехи мои тяжкие меня на том свете не пожалуют.
— Лежите, лежите, вам вредно разговаривать.
— Нет уж, барыня, не могу я с собой в могилу унести. Лучше я вам расскажу. А вы, как в церковь попадете, поставьте за меня свечку.
— Ну, хорошо, — согласилась я. — рассказывайте. Все равно, пока не ускачут, нам пройти не дадут.
Маслоедов задыхался, язык у него заплетался, он часто перескакивал в своем повествовании, но кое-что мне удалось понять.
Маслоедовы родом с Брянщины, из села Супонево. Село расположено вокруг Свенского монастыря, а неподалеку стоят еще две каменные церкви, построенные по велению самого Ивана Грозного. Петр Великий не раз бывал в монастыре: здесь узнал он об измене Мазепы, здесь останавливался после Полтавской победы. Для него был выстроен отдельный домик, а рядом с монастырем и ныне стоит "дуб Петра Великого" в три обхвата.
Маслоедову посчастливилось стать смотрителем домика. Он топил печь, натирал полы, пускал посетителей-богомольцев, пришедших поклониться не только чудотворной иконе Свенской Богоматери, но и великому царю.
Однажды в домике появились два монаха, загорелые дочерна. Савелий узнал, что их зовут Антоний и Феодосий, и что они прибыли из далекой страны Абиссинии. Монахи привезли с собой книги на диковинном языке, странные предметы черного дерева и одежду из тонкой кисеи. Настоятель монастыря, архимандрит Софроний, повелел выделить для этих вещей одну из комнат петровского домика, так как не был уверен в благости привезенного и не хотел допускать их в обитель.
Монахи ежедневно бывали в «кабинете» — так они нарекли эту комнату. Они составляли словарь, писали отчет о своем пребывании в Абиссинии и не замечали Маслоедова, тенью шмыгавшего из комнаты в комнату. Он был для них такой же деталью интерьера, как трубка Петра Первого или портрет арапа Ганнибала на стене.
Савелий оказался способным к языкам. Он улавливал слова, произнесенные на амхарском, а когда монахи уходили в обитель, то раскрывал их тетради и читал записи, сделанные на двух языках.
Однажды он прочел о рубинах. Антоний и Феодосий сопровождали Иоанна в время его военной кампании и на их глазах он умер. Перед смертью Иоанн узнал, что его старший сын Расу-Ареа Салазье убит в этой же битве. Он взмолился — попросил монахов, которым всецело доверял, взять рубины из потайного места, известного только ему, и перепрятать их, дабы они не достались Менелику. Антоний и Феодосий согласились.
После похорон Иоанна VI они перепрятали рубины и тут же уехали в Россию, дабы Менелик не смог силой или пытками вырвать у них признание.
В своих тетрадях они описывали эти драгоценности: рубины были величиной с голубиное яйцо, ярко красного цвета, без единого изъяна, и вдеты в тонкую оправу — диадему царицы Савской. Стоимость их не поддавалась исчислению.
И Савелий загорелся. Он во чтобы-то ни стало захотел найти эти рубины и тем самым обеспечить себя на всю жизнь! Он мечтал узнать, где же спрятаны рубины, но в тетрадях об этом не было ни единой записи.
Маслоедов не унывал. Каждый вечер, после ухода монахов, он прокрадывался в кабинет и читал. Он научился уже достаточно сносно разбирать амхарские буквы, благо словарь и алфавит, был под рукой. Он читал об обычаях абиссинцев, о климате и географии страны, но ни слова больше не было о рубинах.
Однажды в Супонево появился старый монах-эфиоп в белом одеянии. Он немного говорил по-русски. Монах искал Антония и Феодосия. Ему сказали, что братья бывают ежедневно в домике Петра, и показали на Савелия, служившего там. Савелий привел монаха в дом, усадил дожидаться Антония и Феодосия, а сам тем временем шмыгнул в соседнюю комнату и прильнул к дырочке, которую сам высверлил для удобства наблюдения за кабинетом.
Когда братья вошли в дом и увидели Фасиля Агонафера (а это был он), то очень удивились. Она не ожидали, что их найдут так быстро. Начался спор, причем спорящие говорили на амхарском. На свое удивление, Маслоедов понимал почти все. Антоний и Феодосий не верили старому монаху, они отказывались открыть ему тайну рубинов. Фасиль клялся, что, несмотря на то, что он послан Менеликом, диадема увенчает истинного негуса, а для этого нужно найти рубины.
Споры продолжались несколько дней. Все это время Маслоедов подслушивал, пока в один прекрасный день братья не сдались и не открыли Агонаферу тайну. Рубины были спрятаны на озере Тана, в деревушке с названием Танин, что, по-видимому, обозначало "рядом с Таной", причем ни один житель деревни не был посвящен в тайну. Антоний еще сказал фразу, которую Маслоедов понял, как "Рубины сторожат драконы", но что обозначала фраза и кто кого сторожит — так и не выяснилось.
Савелий видел, как Агонафер записывает то, что говорят ему монахи, на пергаменте, и ему страстно захотелось завладеть этим документом. Он даже хотел ограбить монаха, но не решился.
И тогда ему в голову пришел план. Монах ведь собирается домой, на родину. Он постарается сделать так, чтобы попасть с ним на один корабль, а там уже завладеть пергаментом.
Удача сопутствовала ему. Оказалось, что Фасиль Агонафер возвращается домой вместе с поселенцами Аршинова. Маслоедов тут же записался в колонисты, причем, чтобы не вызвав подозрений, записал также жену и сестру. Женщины ехать не хотели, им и в Супонево было хорошо, но не смели перечить.
Пергамент, на которой Агонафер записал место, где спрятаны рубины, не давала покоя Маслоедову. И хотя из трюма было строго-настрого запрещено выходить, он ночью поднялся наверх и подошел к каюте старого монаха. Но ему не повезло. В это время Али позвал меня, Фасилю стало плохо, и Маслоедов слышал, как тот передавал мне бумагу. Но вмешаться он не мог — вбежали Аршинов и другие, начался переполох, Маслоедову пришлось убраться.
Следующая вылазка тоже оказалась безуспешной — Маслоедов обыскал мою каюту, но и там не нашел бумаги. Обезумев, он решился напасть на меня и обыскать, причем сделать это с помощью сестры и жены, которые подчинялись ему беспрекословно. Это удалось ему в Александрии, но опять у него ничего не получилось, так как документ я оставила в саквояже.
Он понял, что судьба пока что против него и затаился. А когда наша небольшая экспедиция собралась к Менелику, то заставил свою сестру напроситься ко мне в горничные. Сам же, оставив жену, пустился за нами, надеясь, что таким образом мы приведем его к рубинам.
В одной из деревень он купил осла, с языком проблем не было, он представлялся православным паломником, отставшим от основной экспедиции, и везде получал приют и пищу — местные жители охотно помогали человеку, говорящему на их языке.
Мой взрезанный саквояж — тоже его рук дело. Дождавшись нашего отъезда он пробрался в пещеру, пригрозил сестре, чтобы она молчала, и опять рылся у меня в вещах. Вохряков его не видел — он спал.
Однажды ночью, когда мы спали в монастыре, он свистом вызвал сестру и принялся уговаривать ее обыскать мои вещи. Сестра не соглашалась, впервые за всю жизнь. Она сильно испугалась, когда ей пришлось врать мне, что она ничего не видела, и поэтому она не хотела повторения. Маслоедов разозлился и стал ее избивать. На шум прибежал проснувшийся Прохор. Увидев, что Маслоедов избивает сестру, он накинулся на него. Но Прохор был безоружным, а у противника был нож, которым он и воспользовался. Увидев, что он убил парня, Маслоедов вытащил свой нож и вложил обсидиановый, купленный в одной из деревень, чтобы перевести подозрение на эфиопов. Потом он сбежал и все равно продолжал следить за нами, пока, наконец, стрела абиссинского воина не пронзила ему грудь.
* * *
К концу рассказа речь Савелия стала бессвязной, он закряхтел, силы оставили его и он перестал дышать. Так бесславно закончилась его жизнь.
Тем временем битва продолжалась. Я выглянула из-за валуна, и увидела, что ко мне скачет всадник. Испугавшись, я снова спряталась, но осел, громким ржанием привлек внимание неизвестного.
— Полин, это ты! Какое счастье, что я тебя нашел! — это был Малькамо.
— Как тебе удалось?
Вот что произошло: когда Малькамо с моих глаз увели в палатку раса Деджиака Мангашиа, то там встреча кузенов была не такая жаркая, как в палатке у генерала Баратиери. Перед Мангашиа стоял настоящий наследник престола, и его притязания стать негусом уходили на третий план, после Менелика и Малькамо. Кичливому главнокомандующему было трудно с этим смириться.
С одной стороны, он должен был выказывать приязнь и радость по поводу обретения родственника, но с другой, все его естество восставало против сей досадной помехи на пути к трону. Рас Мангашиа всячески пытался вызнать намерения принца, но тот отмалчивался, так как у него сильно болела грудь, ушибленная мною, и он сильно хотел спать.
Ничего не добившись, Мангашиа оставил Малькамо в покое, решив продолжить утром свои распросы.
Малькамо замолчал и подмигнул мне.
— И что было дальше?
— Я убежал из палатки кузена, схватил первую попавшуюся лошадь и поскакал к палатке итальянца. Тебя там не было. Я принялся тебя искать: мне пришлось врезаться в гущу битвы, кажется, я прикончил нескольких башибузуков, напавших на меня, но и там тебя не было. Я продолжал искать, понимая, что далеко ты сама уйти не могла, а то, что ты убежала, у меня не было никаких сомнений, сейчас не до русской паломницы, решается, кто победит в битве — сторонники или противники Менелика.
— Кто побеждает?
— Пока не знаю, в любом случае нам надо побыстрей добраться до монастыря. Стой, а это кто?
— Брат нашей Агриппины. Он умер, его пронзила стрела. А это его осел.
— Как он тут оказался?
— Это долгая история, не сейчас.
— Хорошо, — согласился Малькамо. — Давай навьючим его на осла, а ты садись ко мне. Это немного задержит наш путь к монастырю, но не оставлять же тело здесь.
Мы поскакали к монастырю, почти невидному из-за клубов пыли, стоящих в воздухе. Тело Маслоедова подпрыгивало на осле, семенившем мелкой рысью за нами.
Какова же была моя радость, когда я увидела своих друзей, целыми и невредимыми.
Головнин с Сапаровым отыскали Аршинова, Нестеров оказал ему помощь, рана оказалась пустяковой, и вскоре мои друзья принялись разрабатывать план спасения меня и Малькамо. Но он не понадобился, так как мы объявились в монастыре сами, к бурному восторгу нашей экспедиции.
Как только Агриппина увидела тело, она зашлась в крике. Я стояла молча и смотрела, жалости у меня не было никакой, я раздумывала, рассказывать или нет, и решила рассказать Аршинову о преступлениях Маслоедова.
Аршинов выслушал, насупив брови, и произнес,
— Ну, что ж, Полина, все хорошо. Что хорошо кончается, а тайное становится явным. Единственная полезная информация, которую можно выудить из этой истории, это та, что рубины следует искать в деревне Танин возле озеро Тана. Вот туда мы и направимся. Сейчас всем на боковую, а завтра с утра тронемся. Идите, ложитесь, мне еще распорядиться насчет тела надо.
Он ушел, а я отправилась в свою келью, которая после всего пережитого показалась мне чуть ли не уютной.
* * *
Нас провожали монахи и солдаты. Они целовались с моими товарищами, избегая, правда, прикасаться ко мне. Агриппина отправилась с нами, хотя ей очень хотелось остаться при могиле и справить по брату девять дней, а если удастся, то и сороковины. Аршинов договорился с монахами, что когда она вернется из экспедиции, ей предоставят уединенную келью в удаленном крыле монастыря. Кто знает, как все обернется и что нас ждет впереди?
Во дворе к нам подошел Астер Тункара. Он обнял каждого и произнес:
— Я благодарю вас, мои храбрые друзья, за ту неоценимую помощь, что вы нам оказали. Позволю себе дать вам один совет: чем дальше вы будете продвигаться на север, тем меньше у вас будет возможности достать еды. Вот вам три мешка с припасами, надеюсь, их хватит надолго. В северных провинциях голод, не задерживайтесь там.
Мы поблагодарили фитаурари, а Автоном прогудел:
— И изъядоша седмь кравы злыя и худыя седмь крав первых добрых и избранных…[53]
— Что он говорит? — поинтересовался Тункара.
— О семи годах голода, приснившихся фараону, — перевел ему Аршинов.
— Верно, — кивнул офицер, — правду говорит святой человек. Ждут нас семь лет голода, но, к сожалению, мы не подготовились к нему так, как фараон, наученный премудрым Иосифом.
Лошади посвежели, отдохнули, и мы галопом скакали по равнине — вперед, к озеру Тана. Еще сутки, и мы будем у цели. Настроение было самое приподнятое, страхи развеялись, на горизонте ни одного вражеского отряда, они остались на юге. А нас ждали рубины царицы Савской и цветущая колония на берегу залива.
* * *
Озеро Тана открылось перед нами внезапно во всей своей красе. После изнуряющей пустыни, где преобладали серо-желтые оттенки песка и скал, глаз радовали многочисленные оттенки голубого и зеленого. Деревья клонили тяжелые ветви, по водной глади скользили тростниковые челноки, на маленьких островках кричали пеликаны, а в полверсте справа в воде у берега с громким шумом появлялись и исчезали какие-то черные пятна.
До самого горизонта виднелись острова с круглыми хижинами на них, и с обычными для этих мест коническими крышами.
— Боже мой! Какая красота! — воскликнула я. — А что это там?
— Гиппопотамы, — ответил мне Малькамо. — У них начался брачный период.
— Вроде, танцуют, — пробормотал Головнин, щуря глаза. — Эх, поохотиться бы…
— Не время, Лев Платонович, — остановил его Аршинов. — Нам деревню искать надо.
— И как мы ее найдем? Может, она на островах?
— Нет, на островах монастыри, — ответил Малькамо. — Справа — самый большой, святого Георгия.
— Поспрашиваем местных, — решил Аршинов, — вон там женщины собрались на берегу.
Мы спешились. Мужчины принялись расседлывать коней, Агриппина достала немного еды и тут к нам подбежали двое подростков. Они были неимоверно худы: торчали ребра, щеки впали. Наша кухарка мгновенно собрала все обратно и замахала на них руками, чтобы они ушли. Но подростки не уходили.
— Барыня, — взмолилась Агриппина. — У нас и так прокорма в обрез. Еще этих баловать! Смотрите, их же там не меньше пяти дюжин, всем только на один зуб!
Подошла женщина в балахоне, подпоясанном грубой веревкой. За ее спиной, в платке, перевязанном крест-накрест под грудью, сидел младенец. Глаза у ребенка были огромные и грустные. Женщина держала на голове большое тростниковое блюдо, заполненное разным тряпьем.
Малькамо заговорил с ней. Оказалось, что ее зовут Чиклит, она пришла сюда с мужем и четырьмя детьми из деревни в трех днях пути от озера. В деревне голод и они решили, что у озера они найдут себе пропитание. Муж сейчас ловит рыбу, другие мужчины пытаются поймать пеликанов, и им всем не хватает инджеры. Сейчас ранняя весна, фруктов и овощей нет, и в их деревне многие умерли от голода. Поэтому кто бежит сюда, на озеро, кто записывается в армию, неважно с чьей стороны, так как там дают в день немного поесть, а это сейчас самое главное.
Все это Чиклит говорила тоненьким голоском, а Малькамо переводил. Агриппина и без перевода поняла, достала из сумки остатки разваренных бобов, завернутые в тряпицу, и протянула женщине. Та аккуратно разделила еду, протянула часть подросткам и поела сама. Потом дала грудь ребенку — он с жадностью присосался.
— Скажи мне, Чиклит, — спросил Аршинов, — как называется твоя деревня? Танин?
— Нет, — ответила она, — Тис-Аббай.
— А где Танин?
— Не знаю, — эфиопка пожала плечами. — Это Тана, а Танина здесь нет.
— Попали… — протянул Головнин. — Где теперь искать этот Танин?
Один из мальчишек стал дергать его за рукав и тыкать в сторону озера, как раз в правую сторону, где возвышалась самая большая хижина.
— Что он говорит?
Малькамо переспросил паренька и ответил:
— Он говорит, что на том острове монастырь, там живет святой, и он знает все на свете. Надо поплыть к нему, и он ответит. Только лодку пусть наймут у его отца.
— Ах ты, постреленок! — засмеялся Аршинов. — А что, дельное предложение, надо будет добраться, если парень не врет. Так что Григорий, Георгий, отведите лошадей подальше, разбейте палатки. Лев Платонович и вы, Арсений, озаботьтесь охраной. А мы с Малькамо отправимся в монастырь.
— А как же я? — возмутилась я. — Я тоже хочу посмотреть на святого.
Мне не столько хотелось в монастырь, сколько не разлучаться с Малькамо, но я бы никогда в этом не призналась даже самой себе.
— Сударыня, вы разве не устали? — пытался было возразить Аршинов. — Мы с Малькамо наймем лодку и поплывем. Как же вы грести будете?
— А я с Автономом поплыву! — в запальчивости воскликнула я. — Автоном, хотите в монастырь святого Георгия?
Молчаливый монах только кивнул и встал рядом со мной.
— Придется нанимать две лодки, — покачал головой рачительный Аршинов.
— И пусть, — заупрямилась я, — я сама заплачу.
— Боюсь, они рублями не возьмут. Надо прихватить что-нибудь съестное. Да и в монастырь отвезти.
Так и решили. Агриппина со скрипом выдала мешок с припасами, Автоном взвалил их на плечи и мы направились к толпе эфиопов, стоящих на берегу.
Переговоры проходили долго. Аршинов и Малькамо долго торговались, отворачивались, снова торговались, пока не сговорились: они арендовали две тростниковые лодки. На одной поплывут Аршинов и Малькамо, на другой — я и Автоном. Это сделано было для того, чтобы уравновесить массивных казака и монаха легковесными принцем и мной.
Я с опаской смотрела на узкую папирусную лодку, почти полностью погруженную в воду. На дне хлюпала вода. Ну, почему мне не сидится спокойно — надо обязательно ввязаться в авантюру!
— Может, останетесь Аполлинария Лазаревна? — спросил Аршинов. Он уже рассчитался с владельцами лодок несколькими початками кукурузы и теперь озабоченно смотрел на меня.
— Нет уж, Николай Иванович, я с вами, а то Автоному грести скучно будет.
— Ладно, тогда полезайте. И приподнимите юбку, чтобы не замочить.
Сделав вид, что я не услышала его слов, я полезла в утлое сооружение, качающееся на волнах. Автоном полез за мной, да так накренил, что в лодку хлынула вода и залила мне юбку до колен. Он даже не извинился, схватил весла и стал грести. Аршинов с Малькамо пошли за нами.
Какая дивная красота раскинулась перед нами! Пахло свежестью, мокрой травой и едва уловимо лимонами. Кричали пеликаны: огромные белые птицы с розовыми зобами летали над нами и оглушительно хлопали крыльями. По небу плыли облака, я впервые увидела их после того, как сошла с трапа корабля.
Наш путь лежал к острову с хижиной, увенчанной конической крышей, но перед ним надо было пройти мимо другого небольшого островка, на котором нежились бегемоты. Шкура у них, цвета застывшей смолы, блестела на солнце. Они ревели, широко раскрывая красные пасти с тупыми зубами.
— Автоном, пожалуйста, давайте обогнем этот островок, — попросила я.
Он кивнул, продолжая грести и, вдруг, одно весло ударилось обо что-то твердое, скользнуло, другое глубоко погрузилось в воду, лодка качнулась, снизу раздался мощный удар, и мы с Автономом вылетели из лодки.
От холодной воды помутился разум. Зажмурившись, я принялась изо всех сил колотить руками, пытаясь выбраться вверх, но тяжелые ботинки и платье тянули меня вниз. Я глотала противную мутную воду, в глазах почернело, как вдруг меня схватили за волосы и резко дернули вверх. От неожиданности я сделала еще один глоток, в глазах окончательно потемнело, и… очнулась я уже на островке.
Острые камни впились мне в поясницу, нос щекотал резкий запах гуано, Малькамо поддерживал мне голову, а Аршинов нажимал на грудь. Фонтан воды вырвался у меня из глотки, я закашлялась, окончательно пришла в себя, вскочила и прикрыла обнаженную грудь.
— Слава Богу! — воскликнул Аршинов. — Вы пришли в себя!
— Что это было? — спросила я, пытаясь застегнуть пуговицу на воротнике.
— Вас подбросила разъяренная бегемотиха, которую Автоном задел веслом. Лодка перевернулась, вы скрылись под водой, и я только молился, чтобы эта скотина не задела вас.
— И как я оказалась здесь?
— Как только мы с Малькамо увидели, что произошло, то бросились в воду. Он нырнул, схватил вас за волосы и доплыл до островка. А я помогал Автоному — бортом лодки его крепко приложило по голове.
— Принц, — обратилась я к Малькамо, предварительно убедившись, что моя одежда в порядке, — так это вам я обязана своим спасением?
Он кивнул, и на его смуглых щеках появилось нечто вроде румянца.
— Теперь стоит подумать, как отсюда выбираться, — произнес Аршинов. — Остров вон там. Мы без лодок — их отнесло далеко к середине озера, только вот весла спасли, одежда мокрая, тяжелая, в ней холодно, и нам не доплыть, даже если мы разденемся догола.
— Догола? — возмутилась я.
— Простите, Полина, речь сейчас идет не о хороших манерах, а о выживании. А у нас нет даже сухой спички.
Автоном молился на краю островка, который был ближе к видневшемуся вдали монастырю. Один из пеликанов, наверняка, самый нахальный из всех, подошел к нему вразвалку и тяпнул за пятку. Автоном крикнул "Кыш!", замахал руками, отчего мокрые рукава его рясы громко захлопали. Птица отскочила в сторону, спугнула других, те взлетели и сели на спины бегемотам, нежившимся на солнышке. Вот им холодно не было, а у меня зуб на зуб не попадал.
— Автоном, брат мой, — окликнул его Аршинов, — а ты что скажешь?
— Стезя, не позна ея птица…[54]
— Неутешительно, — пробормотал Аршинов.
— Позвольте мне, — сказал Малькамо, — а не доплыть ли нам до острова на бегемотах?
— Как это?
— У нас остались весла. Если забраться бегемоту на спину и ударить его по левому уху, он повернется и поплывет направо, и наоборот. Я видел, как плыли на бегемотах крестьяне из Бахр-Дара — это селение на берегу, немного севернее. Может, попробуем? Что нам терять? В крайнем случае, разденемся в воде и поплывем сами. Надо же как-то выбираться с этой скалы.
Мы с Аршиновым переглянулись. У меня не было слов.
— А давайте Автонома спросим, — предложил он. — Автоном, что ты думаешь о прогулке на бегемоте?
— Ось бегемот, сотвориша тебе, траву аки волове ядят. Возложиши же ли нань руку…[55]
— Так, — кивнул Аршинов, — божий человек не возражает, тем более мы сами сейчас на положении Иова, испытуемого Господом. Пошли, выберем себе рысаков.
Малькамо выбрал двух широкобедрых бегемотих, он сказал, что самки более покладисты. Вручив одно весло Аршинову, он объяснил, как надо хлопать бегемотиху по уху, чтобы добиться правильного направления. Аршинов кивнул и решительно направился к своей животине.
— Полин, иди ко мне, — предложил юноша. — Садись, ухвати меня за талию и ничего не бойся, ты со мной.
Бегемоты не высказывали никакого неудовольствия. Автоном уселся позади Аршинова, Малькамо громко крикнул и хлопнул своего «коня» промеж ушей. На удивление, бегемотиха встала и, покачиваясь, пошла к воде. Я замерла, покрепче обняв принца.
Плюхнувшись в воду, бегемоты поплыли. Сидеть на спине оказалось удобно, только ноги по колено были погружены в воду. Малькамо изредка похлопывал свою лошадку между ушей, выкрикивая "Малесса!", а Аршинов вторил ему залихватским "Но-но, залетная!"
Дважды наша бегемотиха (которую я про себя уже окрестила Фросей) пыталась нырнуть, но Малькамо тянул ее за уши. От этого она прекращала свои попытки и продолжала плыть в заданном направлении.
Вскоре я уже отчетливо видела пологий песчаный берег, хижину с конической крышей, увенчанную крестом с диагональной перекладиной, горстку послушников, лысых и в белых одеяниях, высыпавших на берег, чтобы подивиться такому редкому зрелищу.
Аршинову и Автоному не повезло — бегемотиха взбрыкнула и выбросила их в воду почти перед самым берегом. Наша Фрося вела себя на удивление смирно и позволили нам сойти самим, когда стало совсем мелко.
При нашем появлении послушники обступили нас, и и вперед вышел старик-священник в зеленой тоге и с посохом в руке.
Малькамо подошел к нему и поклонился. Священник что-то сказал высоким гортанным голосом. Малькамо ответил. Я уловила только «Соломон».
— О чем они говорят? — спросила я подошедшего Аршинова, мокрого до нитки.
Но Аршинов не успел ответить: послушники пали ниц, а священник ударил шестом по земле и прокричал что-то, устремив глаза вверх.
— Все хорошо, Полина, — поспешил перевести Николай Иванович. — Священник спросил у нашего парня, как ему удалось приручить бегемотов, на что тот ответил, что понимает язык животных и птиц.
— Что, действительно понимает? — поразилась я.
— Полина, ну, вы как дитё малое! — усмехнулся казак. — Неуж-то на такие вопросы правду отвечают? Получилось — вот и прекрасно. А как, и по каким законам, не им судить.
— Неужели священник такой наивный и доверчивый? — продолжала я расспрашивать Аршинова.
— Малькамо сказал, что он принц из рода Соломона. А как известно, царь Соломон понимал язык животных и птиц.
— Ах, вон оно что, теперь ясно.
Священнослужитель (он сказал, что его зовут отец Асаминэу) еще раз стукнул палкой о землю и сделал приглашающий жест рукой. Послушники встали с земли, не переставая кланяться.
Сначала нас отвели в маленькие кельи и дали переодеться в сухие шаммы. Мне было неловко, но в то же время приятно чувствовать себя в сухом и просторном эфиопском одеянии.
После того, как все переоделись, нас пригласили в сам храм, стены которого были расписаны картинами жития святого Георгия. Только Георгий, как и Иисус, и дева Мария, был эфиопом с удлиненными грустными глазами.
У иконы "всадник Георгий поражает змея" Автоном опустился на колени и принялся неистово молиться. Впрочем, он всегда так молился. Змей на картине был нарисован с ногами и очень походил на рогатую ящерицу.
— Что привело сюда блистательного сына великого негуса? — спросил старец.
— Мы идем по следам двух белых монахов, — ответил Менелик. — Побывали ли они тут, в вашем монастыре?
— Да, — кивнул тот, — наведывались.
Мы переглянулись. Как никогда мы были близки к цели нашего пути.
— Они говорили, зачем пришли сюда? — спросил Аршинов.
— Да, — ответил отец Асаминэу. Слова из него приходилось выцарапывать клещами.
— Говори же.
— Они принесли нам корону негуса из негусов, царя Менелика Первого и попросили схоронить ее до лучших времен.
— Правда?! — Закричали одновременно Аршинов и Менелик. — И где она? Мы хотим ее видеть.
— Ее нет здесь.
— Как нет?
— Я отказался принять сокровище.
— Но почему?
— Нам негде ее хранить. У нас нет ни потайных подвалов, ни сокровищницы, ничего. Мы всего-навсего бедные монахи в монастыре, и только святой Георгий охраняет нас от бед и напастей. Я не мог взять на себя такую огромную ответственность.
— Старик просто струсил, — прошептал мне по-русски Аршинов. — Он испугался слуг Менелика Второго. Ведь видно, что он за Иоанна и наследников. Прямо вьюном вьется вокруг нашего парня.
Малькамо обернулся к нам:
— Что будем делать? Священник все отрицает, нет у него рубиновой диадемы.
Тем временем монахи внесли угощение — самодельное пиво тэлла, в маленьких тыквочках-калебасах. Мы сели в угол на циновки и принялись за кисловатый теплый напиток. В животе у меня урчало, что совсем было недостойно воспитанной дамы.
— Он не обманывает? — спросила я.
— Не думаю, — ответил Малькамо. — я вижу, когда искренне говорят, а когда врут. В монастыре действительно ничего не оставляли. Да и хлипкое тут сооружение — если бы кто-нибудь захотел, вмиг бы нашел сокровищницу. На острове даже прятать некуда.
— Ты спрашивал старца о Танине?
— Да, спрашивал. Нет такого поселения на озере Тана. И на островах нет.
— Попали… — сокрушенно заметил Аршинов.
И лишь Автоном ничего не ответил — он продолжал молиться Георгию-Победоносцу, пронзающего змея с лапами и острой мордой.
— Малькамо, скажи мне, что обозначает «танин» на амхарском? — некая мысль пришла мне в голову, и я поспешила ее выразить вслух.
— Ничего не означает, — он пожал плечами.
— А какие языки есть еще в Абиссинии? Ты говорил что-то о священном языке геэз.
— Надо спросить священника.
Он обернулся и спросил. Я уловила слова «геэз» и «танин». Отец Асаминэу отрицательно покачал головой. Все было ясно и без перевода.
— Есть ли среди послушников говорящие на других языках?
Священник хлопнул в ладоши и десяток бритых монахов в белых одеждах заполнили свободное место рядом с ним.
Малькамо объяснил:
— Вот этот монах говорит на тигринья, эти на аргобба, гураге, харари, и галла. Ни в одном из этих языков нет слова «танин».
Вдруг вперед выступил монах, единственный бородатый среди всех, стоявший позади, и что-то произнес.
— Кто это? — спросил Аршинов.
— Это фалаш, эфиопский иудей, — ответил Малькамо. — Скорее всего, он родом из заброшенного города Горгора. Тамошние жители переходят в христианство в надежде на лучшую жизнь.
И он вступил в разговор. Когда же закончил его, то повернулся к нам, и я увидела, какое у принца радостное лицо. Если бы он сейчас закричал "Эврика!" я бы ничуть не удивилась.
— Этот монах, его зовут Абрха, сказал, что на их священном языке «танин» обозначает крокодил.
— Эврика! — закричала я, показывая на картину. — Вот он, крокодил!
Теперь понятно, кого мне напоминало чудовище, пронзаемое Святым Георгием.
Аршинов, как всегда взял бразды правления в свои руки. Отослав монахов обратно по кельям, он взял Абрху под локоток и подвел к нам.
— Расскажи, что ты знаешь о двух белых монахах?
Тот оглянулся на священника, но старец лишь кивнул головой и приободренный послушник рассказал:
— Они приплыли вдвоем на тростниковой лодке. Вид у них были такой, словно за ними долго кто-то гнался. Когда они отдохнули у нас и подкрепились, то долго молились у этой иконы, — Абрха показал на Георгия-Победоносца. — Вот как ваш святой человек. Они сказали, что Святой Георгий покровитель всех их земель, и он непременно спасет истинно верующих.
Монах замолчал и посмотрел на настоятеля. Тот сидел, выпрямившись, и не двигался, словно спал с открытыми глазами.
— Продолжай, что ты остановился? — подтолкнул его Аршинов. — Отец Асаминэу разрешает.
— Белые монахи долго разговаривали с нашим настоятелем. О чем — не знаю. У меня было послушничество — убирать в храме. Я вытряхивал во дворе циновки и видел, как они убеждают отца Асаминэу, а тот отказывается. Наконец, настоятель ушел, а монахи сели на груду чистых циновок, которые я уже вытряхнул, и стали разговаривать между собой на своем языке. Я подошел и попросил их встать, чтобы я смог разложить на полу циновки, а один из них спросил меня, откуда я родом. Я сказал, что из деревни около водопада из Голубого Нила. Я ушел туда жить, когда Горгора был окончательно разрушен.
— Это еще что такое? — тихонько спросила я Малькамо, который переводил мне рассказ послушника.
— Голубой Нил — это река, она берет начало из озера Тана и на ней из-за перепада высот часто встречаются водопады.[56]
— Видно было, что им некуда было идти, они сидели на циновках и не знали, что делать. Один из них даже сказал: "Эх, Святой Георгий, защитник и покровитель. Шли мы к тебе, но ты слишком занят, змея убиваешь, а до нас никакого тебе дела нет…" Очень они были грустные. Поэтому я решил их немного развеселить: рассказал, какой около нашей деревни красивый водопад, и какие у нас сторожа, которые никого не пустят, если не знать к нам дороги.
— Какие сторожа? — спросил Аршинов.
— Вот и они тоже спросили, — впервые улыбнулся Абрха. — Рядом с нашей деревней живут крокодилы. Они охраняют нас, и их так много, что ни один враг не пройдет к нам. А на нашем святом языке крокодил называется танин.
— О! Сейчас спросим, — Аршинов поднял вверх указательный палец и обратился к Автоному: — Автоном, святая душа, скажи нам, что в Священном Писании о крокодилах говорят?
Автоном, не переставая молиться, изрек:
— Глаголи и рцы: сие глаголит Адонай гдесь: се, аз наведу на тя, фараоне, царю египетский, змея великаго, седящаго средь рек своих,
глаголющаго: моя суть реки, и аз сотворих я.[57]
— Спасибо, дорогой! А сказал-то кто?
— Иезекииль.
— Но он про змия сказал, а не про крокодила.
Автоном ткнул пальцем в икону:
— Про него сказал.
Тут все кусочки головоломки окончательно сложились у меня в голове.
— Подождите! — вмешалась я в разговор. — Ведь в пергаменте Фасиля Агонафера тоже приведены слова из пророка Иезекииля! Только его у меня нет, остался в саквояже на том берегу.
И я процитировала строки, которые уже знала наизусть.
— И что это значит, Полина? — спросил Малькамо. — Может, это простое совпадение.
— В таких делах не бывает совпадений, — отвергла я его предложение. — Спроси Абрху, что потом сделали монахи?
Малькамо перевел мои слова и монах ответил:
— Белые монахи задумались. Они смотрели то на меня, то на икону Святого Георгия. И, наконец, упали на колени. Один из них воскликнул: "Грешен я, Святой Георгий-Несущий победу, я усомнился в мощи твоей! Ты дал нам знак, и мы последуем ему! Если стены храма твоего не могут сохранить сокровище, пусть сохранит его чудовище, которого только ты сумеешь поразить!" Я молился вместе с ними. Потом они спросили, как добраться до моей деревни, взяли две лодки и уплыли к устью Голубого Нила.
— Нужно немедленно плыть туда, в деревню! Рубины там! — я ощущала себя гончей, взявшей след.
— Полина, подожди, не торопись. А как же наши товарищи? Они же ждут нас. И лошади, и скарб.
— Хорошо, давайте вернемся. Только, Малькамо, я прошу тебя, узнай у монаха точную дорогу, чтобы нам не пришлось плутать.
* * *
Больше в монастыре делать было нечего. Мы сердечно распрощались с отцом Асаминэу и с послушниками, особенно с Абрхой. Нам подарили две папирусные лодки, более крепкие на вид, чем те, на которых мы отправились в плавание по озеру. Монахи беспрестанно кланялись и называли Малькамо "Сын мудрого Соломона, знающего язык птиц и зверей". Малькамо не возражал и держал себя с достоинством высокородной особы.
Особых приключений на обратном пути не было. Мы держались подальше от бегемотов и пеликанов, смотрели в оба и гребли аккуратно. Поэтому до заката очутились на том месте, откуда отправились в путь.
Нас встречали встревоженные товарищи.
— Ну, как? Какие новости? — спросил Головнин.
— Вы здоровы, Аполлинария Лазаревна? — Нестеров заметил мой покрасневший нос от купания в холодной воде.
Агриппина хлопотала по хозяйству, казак и осетин ей помогали.
Аршинов собрал всех и начал рассказывать. Весть о том, что мы вернулись без рубинов, разочаровала наших слушателей, но, узнав о деревне с крокодилами, Головнин встрепенулся:
— Немедленно в путь! Предстоит знатная охота!
— Подождите, месье Головнин, — остановил его Малькамо. — Дело в том, что нам на пути встретятся водопады. Как мы их преодолеем? Самый большой из них — Тис-Ысат, высотой около 150 футов.[58]
— А по берегу? — робко заметила я.
— Берега могут оказаться непроходимыми, — ответил Аршинов. — надо плыть. Но тростниковая лодка порвется на первых же порогах.
— Можно мне, барин, Николай Иванович? — вдруг сказал молодой казак Григорий. Он стоял и смущенно вертел в руке какую-то щепку.
— Говори, — позволил Аршинов.
— Мы пацанятами плоты строили — на два бревна доски накладывали и по порогам вниз сигали. Устойчивый плот был.
— И что ты предлагаешь? Сделать такой плот?
— И не просто плот. Я тут деревья нашел, когда лошадей выгуливал. Настоящая пробка! Такую древесину на винный завод привозили. Легче ваты!
— Слышал я о подобных плотах. Их называют катамаранами, — вступил в разговор Головнин. — Действительно, очень прочные и не переворачиваются. А ну, покажи щепку!
Щепка пошла по кругу. Действительно, невесомая и легко крошащаяся. Настоящая пробка, такая, какую всегда мой отец, Лазарь Петрович, доставал из бутылки "Вдовы Клико".
— Тогда за дело! — решил Аршинов. — Сколотим плот и вдоль по Голубому Нилу. За рубинами! Что-то они от нас ускользают.
* * *
Глава десятая
Постройка катамарана. Малькамо делает предложение. Отплытие. Водопад Тис-Ысат. Падение в бездну. Полина в отчаянии. Поисковая команда. Спасение экспедиции. Ультиматум племени оромо. Рекс-эффект. Малькамо отказывается. Деревенский праздник. Полина становится табу. Агриппина вновь пропала. Предсказание старухи.
Малькамо нанял нескольких крепких эфиопов в помощь Григорию и Георгию. Агриппина, правда, заворчала, что еще лишние рты кормить, но смирилась и выдавала худым до прозрачности мужчинам тарелки просяной каши. Те ели немного, а остальное относили семьям.
Катамаран рос с удивительной быстротой. На него пошли два ствола пробкового дерева. Гораздо сложнее было с досками — их просто не было на берегу озера. Поэтому между бревнами настилали толстые ветви, которые переплетались тростником так, чтобы получилась цельная поверхность.
У запасливого Григория оказалась с собой горсть гвоздей, их забивали большим валуном, но все равно не хватило. Поэтому ветви стягивали гибкими лианами и тростником. Для этого требовалась большая сила: тростник натягивали так, что он трещал и иногда рвался, в этих случаях его выбрасывали и брали новый.
Кроме того, чтобы бегать к плоту с охапками свежего тростника, я ничем помочь не могла. Поэтому, срезав достаточное количество, я села на небольшой пенек, оставшийся от пробкового дерева и наблюдала за мужчинами, строящими катамаран.
Странное чувство овладело мной. Я была почти уверена, что мы находимся на последнем отрезке пути к нашей цели. Ведь остался только проход по Голубому Нилу до деревни Танин, и там нас ждут вожделенные рубины, которые принесут счастье колонии "Новая Одесса".
Но что-то мешало мне поверить в то, что все страхи и опасения остались позади. Да еще сосущее чувство голода мешало. Агриппина уменьшила порции, и теперь даже мне, столь неприхотливой в еде, становилось некомфортно. Что уж говорить о мужчинах, привыкших к солидным порциям.
На готовом катамаране мужчины отправились на рыбалку — испытать, не протекает ли, хорошо ли держит равновесие. Да и стол разнообразить не помешало бы.
На берегу остались мы с Агриппиной, и Малькамо, который почему-то не захотел отправиться на рыбалку.
Делать было особенно нечего, Груша возилась у очага, сложенного из больших камней, а мне Малькамо предложил погулять по берегу. Я с удовольствием согласилась.
Накинув пелеринку, так как уже стало холодать, я потерла озябшие руки. Надо же, Африка, и все равно холодно.
— Наверное, наше путешествие скоро закончится, — грустно сказал юноша, идя рядом со мной. — Полин, ты рада этому?
— Как тебе сказать, — осторожно ответила я. — Скорее да, чем нет. Если мы найдем диадему вашей царицы…
И тут я замолчала. Своим вопросом Малькамо поставил меня в неловкое положение. Найдем диадему, отдадим ее Менелику Второму. Значит, принц-наследник останется ни с чем, и даже его жизни может угрожать опасность, ведь никто не поручится за новоиспеченного негуса. Как же ответить? Сказать, что мы отдадим ему корону, не скажу, так как нам дорога судьба колонии. Да и Аршинов уже сообщил Малькамо об этом. Прямо ответить, что после того, как найдем рубины, его помощь будет не нужна, и он может отправляться на все четыре стороны, я тоже не могу.
Юноша понял мои сомнения. Ласково взяв мою руку, он произнес:
— Полин, я понимаю. Я уже давно задумываюсь над тем, что мне предстоит в этой жизни. Вы были для меня хорошими друзьями, я рад, что познакомился с русскими. А ты… Ты несравненная женщина, Полин! Я не встречал таких.
— Много ли ты вообще встречал женщин, Малькамо? — я попыталась охладить пыл взволнованного юноши.
— Ты права, — он понурил голову, — не встречал. И не встречу. Ты будешь жить в колонии?
Его глаза загорелись надеждой.
— Нет, Малькамо, к сожалению, мне придется вернуться на родину. Но я буду тебя вспоминать.
— Разве этого достаточно?
Вместо ответа я потянулась к нему и потерлась носом о его нос. Он обнял меня, прижался щекой к моей щеке, и мы стояли так на берегу, не в силах разжать объятья. Мне было тепло и хорошо с ним. От Малькамо исходил еле слышный запах абиссинских пряностей, кажется, корицы и мускатного ореха.
— Тебя кто-то ждет в России? — прошептал он мне на ухо?
— Отец…
— У него своя жизнь, а ты уже взрослая женщина. У наших женщин в твои годы уже по несколько детей.
— Я вдова, Малькамо, поэтому у меня нет детей. Мой муж умер слишком рано, а до этого мы нечасто виделись — он путешествовал по всему свету. Бывал и в ваших краях.
— Как странно… Я ничего о тебе не знаю. Кто ты, о чем думаешь, на что надеешься?
— Обычная женщина, живу самой обыкновенной жизнью, просто иногда попадаю в передряги из-за своего любопытного носа. И, конечно же, хочу счастья.
— Скажи, Полин, ты очень скучаешь по отцу? Могла бы ты написать ему, что задерживаешься тут? Он бы понял и пожелал тебе счастья.
Я покачала головой:
— Нет, Малькамо, не могу, не проси. Я должна буду вернуться.
— А если… а если я предложу тебе стать моей женой?! — запальчиво выкрикнул он. — Ты согласишься.
Отстранив от себя его руки, я произнесла:
— Ну, что ты, мой хороший? Какая из меня абиссинская жена? Я инджеру готовить не могу, да и шамму не ношу.
— Научиться готовить инджеру дело нехитрое, да и шамма тебе к лицу. А вот то, что ты отказываешься… Был бы я негусом — не отказалась бы, — его лицо помрачнело. — Да и цвет кожи у меня неподходящий.
— Прекрати, какая разница, ты негус или нет? Для меня твое предложение словно с неба упало. Я не могу так сразу решиться на изменение своей жизни.
Малькамо отошел на шаг:
— Смотри, наш катамаран возвращается, — произнес он ничего не выражающим голосом.
— И действительно, возвращается! Побежали им навстречу! — я была рада закончить этот тягостный для себя разговор.
* * *
Катамаран оказался выше всяких похвал. Он не тонул, его не перекашивало, узлы держались крепко. Мои товарищи наловили кучу рыбы, Агриппина с помощниками почистила ее, испекла в углях и мы славно поужинали. Аршинов назначил на утро сплав по Голубому Нилу.
В эту ночь мне не спалось. Я лежала и смотрела на звезды величиной с кулак. В голове неотвязно бились мысли: "Боже мой, зачем я здесь? Куда я стремлюсь? Чего хочу достигнуть?" Ведь это неверно, что я отправилась в путешествие только из-за тетушкиного наследства. Я хотела прожить жизнью своего покойного мужа, побывать в местах, где был он, почувствовать то, что чувствовал он, и даже, как ревностная христианка, перенести те тяготы, которые перенес он. Кроме того, я делаю благое дело: помогаю колонии выжить. Но почему в душе такая тоска? Почему все вокруг стало ненужным и досадным? Потому что юноша с шоколадным цветом кожи признался мне в любви?
В том-то и дело, что не признался. Предложил стать женой, но не сказал, что любит. Жена — суть явление династическое, родоплеменное, предмет гордости и вещь в хозяйстве. А я не вещь! Я жажду любви!
Аполлинария, не смеши сама себя! Чьей ты жаждешь любви? Человека, чей образ мыслей и жизненный уклад весьма далек от твоего? Который никогда не говорил по-русски, не катался на санках, и не говел перед Пасхой. Да разве это важно? Важно, еще как важно! А если он приедет ко мне в N-ск? Мне безразлично, что будет говорить Елизавета Павловна, наша губернская "княгиня Марья Алексевна". Мне важно то, что будет чувствовать он, Малькамо. А вдруг ему не понравится у меня? Хотя почему его должна удивить и оттолкнуть российская действительность? Учился же он во французском монастыре, значит, видел снег. Хотя какой у них там во Франции снег? Вот у нас в N-ске…
Опять я перескакиваю в мечтах с того, что никогда не было на то, что никогда не будет. Кто звал Малькамо в Россию? Наоборот, это он хотел, чтобы я осталась в Абиссинии. А что я буду здесь делать? Бороться рядом с ним за власть? Сидеть в гареме старшей женой? Я же умру от горя и уязвленного самолюбия. Нет, это не для меня.
И все же, какие у него бездонные глаза. Словно два черных омута. И ресницы загибаются, как у девушки. А в глазах отражаются звезды… Звезды… Величиной с кулак…
И я заснула.
* * *
С рассветом стали собираться в дорогу. Для нас с Грушей в деревне купили два плетеных стула и закрепили их на плоту. Кроме того, везде, где можно, были привязаны крепкие сыромятные ремни, вожжи и части подпруги. Это было сделано для того, чтобы в опасные моменты можно было хвататься за них.
Аршинов оставил лошадей в деревне, заплатив несколько быров, и строго-настрого приказал заботиться о них и не продавать, мы еще вернемся. Его уверенность в том внушала надежду.
Около сотни абиссинцев в белых шамма пришли посмотреть на наше отплытие. Некоторые из них помогали грузить на плот пожитки, вокруг бегали малыши, у Агриппины уже не было сил их отгонять — она намаялась, увязывая поклажу. Поэтому она только сидела на большом тюке и обмахивалась платком. Несмотря на утреннюю прохладу ей было жарко.
Наконец, все было уложено, последние вещи крепко привязаны, мы взошли на катамаран и Григорий с Георгием оттолкнулись от дна шестами. Автоном стоял на краю и торжественно крестил абиссинцев, молча смотрящих на нас с берега. Началось наше путешествие по Голубому Нилу, на местном наречии — Аббай.
Поначалу вода была зеленой, тяжелой, но к моменту выхода из устья, она покрылась пенными барашками и заметно посветлела.
Плот несло по течению, иногда чувствительно потряхивая. Мимо проплывали заросли тростника, из которых плетут не только лодки, но и циновки, мебель, им покрывают крыши хижин. Из тростника вспархивали ибисы, пеликаны ныряли за рыбой, а на островках нежились бегемоты. Всем им не было до нас никакого дела. Нестеров распаковал фотографическую камеру, чтобы запечатлеть эту красоты. Интересно, получатся ли у него снимки, ведь мы так быстро движемся. Я с интересом наблюдала за его манипуляциями. Вернусь в N-ск, обязательно куплю себе такую же, как бы смешно это не выглядело в глазах окружающих.
Мужчины гребли, сменяя друг друга. Она громко переговаривались, перекрикивая шум волн, предупреждали друг друга об опасности, подстерегающей со всех сторон. Могли помешать мели, водовороты, опасные животные. Порожистые участки сменялись болотистыми, со стоячей водой. Там приходилось грести изо всех сил, да еще мешал свежий встречный ветер. Такие места были наиболее опасны. Кто знает, что скрывают эти мутные воды?
— Скоро будет водопад! — прокричал Малькамо. — Нужно прибить плот к берегу. Это опасно!
— А как мы будем волочь плот по берегу?
— Нужно доплыть до португальского моста, а там можно и по берегу.
— Что это за мост? — спросила я.
— Он переброшен сразу после Тис-Ысата, построен португальскими миссионерами в 18 веке. А водопад — очень серьезное препятствие. Я даже не знаю, как мы его пройдем.
Не успел Малькамо произнести последние слова, как наш плот тряхнуло и мы свалились, словно с небольшой горки. Хорошо, что все вещи были привязаны, а мы сами крепко держались за ремни с двух сторон плота.
— Весла, весла не потеряйте! — крикнул Аршинов.
— Барин, может вправо грести, там, навроде, поспокойнее будет? — закричал Григорий.
— Делай, как знаешь!
Нас снова тряхнуло, на этот раз сильнее. Рев воды все усиливался, ничего не было слышно, в воздухе стояла мелкая водяная пыль.
— Не успеваем в сторону от водопада! Держитесь крепче!
Последнее, что я услышала перед тем, как пучина поглотила меня, это молитву Автонома…
На водопады хорошо любоваться, когда стоишь в отдалении от него, на твердой земле. На тебе прорезиненный макинтош,[59] перчатки и зонтик. Воздух свеж и прохладен. Скоро ты пойдешь пить горячий шоколад и, снимая с себя тяжелый плащ, скажешь со вздохом: "Конечно, это удивительное явление природы, такая мощь! И все же как хорошо, что нас там нет".
Но мы, в отличие от стороннего наблюдателя, оказались в самой высокой точке водопада. Словно решив посмеяться над нами, Тис-Ысат бросил под наш катамаран огромный валун, который застрял между пробковыми бревнами. Плот резко затормозил, нас кинуло вперед и все одновременно закричали от ужаса: перед нами расстилалась пропасть, в которую низвергались бушующие воды. Катамаран недолго оставался в покое, волны со всех сторон били со страшной силой, задняя часть плота поднялась, и мы кувырком понеслись навстречу своей гибели.
Странно, что я не потеряла сознания. Сердце ухало оттого, что я неслась с высоты вниз, но страха не было. Была какая-то эйфория, бездонное счастье переполняло меня, и я не думала о том, что могу вот сейчас напороться на острые камни.
Судьба оказалась ко мне милостивой: меня вынесло в спокойное место, недалеко от берега. Приложив все усилия, я поплыла к нему, и скоро взбиралась по скользким от ила камням.
Никого вокруг не было. Оказавшись одной, без припасов, в мокром платье, на пустынном берегу, я отчаялась. Меня стала бить сильная дрожь. Неужели только я спаслась в этом происшествии? А как же мои друзья? Что с ними? Я вглядывалась вдаль, пытаясь заметить хоть какое-то движение, или услышать крики о помощи, но только рев водопада был мне ответом.
Надо было что-то предпринять. Несмотря на то, что солнце стояло высоко, мне было холодно. Для начала надо было высушить платье. Увидев заросли кустов, я сняла с себя юбку, блузку, чулки и, подумав, нижнюю рубашку тоже. Одежду я распялила на кустах, подставив ее солнечным лучам, и тут почувствовала страшный голод. Положение мое становилось все хуже.
На берегу я заметила какие-то кусты с красными плодами на них и решила подойти поближе. Только я сорвала несколько ягод, как почувствовала некое шевеление. Оглянулась и тут ноги у меня подкосились: из зарослей вылезал крокодил. За ним еще два, поменьше. Я помертвела.
Страшные ящеры приближались, разевая на ходу пасти. Мне показалось даже, что они ухмыляются.
Забыв обо все на свете, я бросилась бежать, хлюпая в ботинках на босу ногу. Крокодилы поспевали за мной. Оказывается, они могли передвигаться быстро. Я бежала от берега, надеясь, что они отстанут, но боялась обернуться, и от этого бежала еще быстрее.
Внезапно под ноги попался камень. Я споткнулась и полетела вперед, ободрав коленки. На лету я перевернулась и увидела, что никакие крокодилы за мной не гонятся. Неужели привиделось? Нет, я не настолько повредилась умом.
Коленки болели. Плечи припекало яркое солнце. Из одежды на мне были надеты панталоны, разорванные в нескольких местах, полотняный лиф и ботинки. Остальное осталось на берегу, куда я не вернусь ни за какие коврижки.
И тут я совершило то, чего я не делала уже много лет: я принялась рыдать. Причем совершенно неожиданно. Как же я жалела себя: зачем я здесь, в этой далекой африканской стране? Почему не погибла вместе с остальными? Что я буду делать? Как выживу? Хотелось пить, но в реке крокодилы. Что я на себя надену? Я рыдала и слезам не была конца — они текли, разъедая лицо и щеки. Нос распух, а глаза ничего не видели. Я упала ничком на землю, мне не хотелось жить. Пусть меня сожрут крокодилы, пусть меня сожжет солнце, мне было все равно. Все погибли, и Малькамо тоже. Зачем мне жить?
Кто-то потряс меня за плечо. Я подняла голову и увидела двух эфиопов. Они стояли и переговаривались, глядя на меня. Один из них что-то спросил. Я не поняла. У них было совсем другое наречие.
— Амхари? — спросила я.
Он отрицательно покачал головой:
— Тиграи.
Если я на амхарском знала несколько слов, то этот язык мне был вовсе неизвестен.
Сделав руками движение, словно пью, я протянула руку и показала на калебасу, висящую на поясе у одного из них. Тот отцепил ее и дал мне. В калебасе оказалась речная вода с чуть тухловатым привкусом. Я с наслаждением выпила всю воду, до последнего глотка.
Второй эфиоп снял с себя верхнее покрывало и протянул мне. Я с наслаждением закуталась. Жизнь уже не казалась мне такой постылой.
До деревни мы шли около часа вдоль реки. Я пыталась на пальцах объяснить моим спасителям, что мои спутники пропали в водопаде, что их надо найти, вдруг они спаслись и не знают, куда попали и как выбраться, но эфиопы не понимали. Они размеренно шли по берегу, усеянному острыми камешками, и казалось, что их несут не ноги, а паровозные шатуны — так плавен был их ход. Я не поспевала за ними в мокрых ботинках, ступни болели от волдырей, но они не останавливались, словно не понимали, что можно затрудняться идти.
Наконец показались конусные крыши деревни. На последнем издыхании я села на камень около одного из домов и с наслаждением вытянула горевшие огнем ноги. Меня окружила стайка женщин и детей. Они рассматривали мои красные пятки и цокали языками. Одна эфиопка, постарше, принесла какую-то мутную жидкость в тыквенной чаше и вылила мне на ноги. Немного полегчало.
— Амхари? — опять спросила я, надеясь, что в деревне найдется кто-то понимающий хотя бы пару слов на этом языке.
Вперед вышла женщина. У нее были более тонкие черты лица, а цвет кожи светлее, чем у других жителей деревни.
— Амхари, — кивнула она, тыча себя в грудь. — Фитфит.
Я поняла, что ее так зовут.
— Полина, — я тоже показала на себя.
— По-ли-на… — повторила она, протягивая слоги. Первый контакт был налажен.
Я обрадовалась. Путая русские, французские слова с амхарскими, я рассказала ей, что я не одна, что со мной еще мужчины и одна женщина. "Мужчины?", — переспросила она. Я кивнула. Фитфит оставила меня и ушла.
Она вернулась с тремя стариками. Старики расположились напротив меня и принялись обмахиваться кисточками из выбеленного конского волоса. Фитфит горячо что-то им доказывала, время от времени показывая в мою сторону.
Наконец, один из стариков, с реденькой седой бородкой что-то спросил. Фитфит обернулась ко мне и на пальцах попросила показать, сколько человек пропало. Я показала восемь пальцев — семеро мужчин и одна женщина. Фитфит показала старикам семь пальцев. Они переглянулись, поднялись и ушли.
Вскоре около дюжины мужчин отправились в сторону реки. Я поняла, что мои усилия увенчались успехом — это была поисковая экспедиция.
У меня даже ноги перестали болеть, а может быть, это подействовала мутная жидкость, которую на меня вылили. Поэтому я решила осмотреть деревню.
С самого начала меня поразила одна особенность — везде были только женщины, не считая тех стариков, пришедших посмотреть на мня. Неужели та дюжина, отправившаяся на поиски катамарана, и есть мужское население деревни? Скорей всего, именно поэтому старики так заинтересовались моим сообщением.
Женщин я насчитала около восьмидесяти. Старухи смотрели за детьми, причем я не видела ни одного грудного младенца — обычно матери носят их, привязывая к спине. Молодые женщины, как одна, были с обезображенными губами, растянутыми посторонними предметами, или с воткнутыми в них короткими стрелами.
И все худые, со впалыми щеками, отвисшей грудью и тонкими руками, ребра, волнистые как стиральная доска. И то, что я видела, заставило меня проглотить слюну и не просить есть, так как я понимала, что в деревне голод.
Ко мне подошла Фитфит и я жестами попросила ее дать мне место поспать. Она отвела меня в одну из хижин, показала на циновку, куда я и свалилась от усталости и переутомления.
* * *
Проснулась я оттого, что кто-то тряс меня за плечо. Я открыла глаза и увидела Аршинова.
— Николай Иванович, родненький! — закричала я, обняла его и принялась целовать в колючие щеки.
— Ну, полно, полно, дорогая моя, — он растроганно гладил меня по голове. — Если бы не вы, Аполлинария Лазаревна, тяжело бы нам пришлось.
— Расскажите, все ли спаслись?
— Все, не волнуйтесь. Все живы, здоровы, Груша только воды нахлебалась, да Автонома бревном по лбу приложило. А так все в порядке.
— Вас нашли жители деревни?
— Да, они сказали, что вы их послали на поиски.
— Я просто рассказала, что мои друзья должны быть где-то неподалеку, и их обязательно надо спасти.
Аршинов рассказал следующее: после того, как наш катамаран свалился с водопада Тис-Ысат, он раскололся пополам (именно тогда Автоном получил удар по голове). Меня отбросило в сторону, а все остальные одной кучей свалились в реку, которая унесла их далеко по течению. Аршинов не потерял присутствия духа, крикнул всем, чтобы они держались за ветви, и таким образом все, кроме меня, оказались на плаву.
Течение было столь сильно, что они не могли даже прибиться к берегу. Но с другой стороны, это оказалось к счастью: ведь то расстояние, что я прошла пешком до деревни, они проплыли по реке.
Их нашли эфиопы, посланные Фитфит по моей просьбе. Наша экспедиция нашла тихую заводь, все выплыли и расположились сушиться. Потом намеревались отправиться на мои поиски. Это сообщение меня особенно растрогало.
— Где они, я хочу всех видеть!
Выбежав из хижины, я бросилась навстречу друзьям. Со всеми обнялась, троекратно расцеловалась, а Автоном осенил меня крестным знамением и произнес:
— Исповемся тебе яко услышал мя еси и был еси мне во спасение![60]
Малькамо спокойно стоял в стороне и ждал, пока я обниму и перецелую всех. Я подошла к нему.
— Я так рад видеть тебя, — тихо сказал он и его ресницы задрожали.
— И я, — я даже не решилась обнять его.
— Тебе так идет шамма, — вдруг произнес он.
— Правда? — обрадовалась я. — Знаешь, как получилось, что я ее надела?
Созвав всех, я рассказала о своих приключениях: как за мной полз крокодил, как я бежала, бросив одежду, как меня спасли жители деревни. Меня внимательно слушали, переспрашивали, а Агриппина вскрикивала и испуганно крестилась.
Я закончила рассказ и спросила:
— Скажите, а у вас есть что-нибудь пожевать? Очень хочется.
— Ничего, — Аршинов развел руками. — Все утонуло.
— Я с трудом спас свой винчестер, — добавил Головнин. — только лишь потому, что я с ним не расстаюсь. Точно так же, как наш студент со своим фотографическим любимцем. Так что, может, удастся подстрелить парочку пеликанов. Правда, говорят, у них мясо жесткое и рыбой пахнет.
Я посмотрела на Нестерова. Он сиял, крепко держа в руках мокрую коробку с фотоаппаратом.
К нам подошли три старика, те самые, которые дали добро на спасательную экспедицию. Малькамо подошел к ним, поклонился и вступил в неспешную беседу. Аршинов ничем помочь не мог — он не знал языка тиграи. Говорили они долго. Когда, наконец, старики произвели вновь весь необходимый церемониал, теперь уже прощания и ушли, вид у Малькамо был самый что ни на есть потерянный.
— Я даже не знаю, как объяснить… — начал он.
— Ты сразу скажи, — перебил его Аршинов, — они нам есть дадут? А то неохота быть назойливыми и отбирать у них последнее.
— Они сказали, что дадут, но… — тут принц запнулся.
— Говори же, не тяни.
— Они сказали, что дадут нам поесть и примут, как дорогих гостей, но при одном условии… Нет, тут дамы, я не могу.
Аршинов строго посмотрел на меня, призывая оставить наше собрание, но я и бровью не повела. Аршинов вздохнул и попросил Малькамо продолжить.
Из слов юноши мы узнали, что попали в небольшое племя оромо. Оно живет здесь замкнуто уже много веков. Сначала людей было много, сейчас численность племени около трех сотен человек, причем три четверти составляют женщины. Мальчики рождаются слабыми и недееспособными, умирают чаще. Многие женщины годами не могут забеременеть. Поэтому в племени есть такой обычай: как только сюда забредает чужеземец, то жители устраивают праздник — едят, пьют и веселятся у костров. Чужеземец может выбирать одну или нескольких женщин, которые ему понравятся, а остальные женщины выбирают мужчин племени, причем сразу несколько за ночь. Чем больше мужчин полюбят одну женщину, тем выше ее шанс зачать ребенка. Поэтому старейшины племени обратились к нам с просьбой оплодотворить как можно больше женщин, а они нас за это накормят и дадут еды с собой, несмотря на то, что у них самих ее маловато.
Головнин поднялся и гордо выпрямился:
— Я лучше пойду пеликанов настреляю. Действительно, такое и при даме, — Агриппину он за даму не считал.
— Подождите Лев Платонович, не кипятитесь, — остановил его Нестеров. — Я, когда обучался в университете, читал труды немецкого ученого Гюнтера фон Штольца. Он был естествоиспытателем и биологом. Так вот, Штольц писал, что если какой-либо народ вымирает, в результате эпидемий, или отсутствия свежей крови, или из-за плохих климатических условий, то первыми страдают мужчины. Они становятся неспособными к оплодотворению. Вот поэтому они и призывают чужеземцев. Штольц назвал это явление рекс-эффектом, от названия одного из динозавров — тиранозавр-рекс. Ведь динозавры-то вымерли. Думаю, что помочь племени надо. В естествоиспытательных целях.
Вдруг Агриппина вскочила с места:
— Не хочу! Не хочу, чтобы Георгий шел к этим черным! Не позволю.
— Замолчи, женщина, — приказал ей осетин, и она сникла.
— Ну что ж, друзья, надо решать, — сказал Аршинов. — Соглашаемся мы на предложение племени или нет? Ведь нам еще рубины искать. Как-то не хочется помирать тут без куска хлеба, но гордыми. Нас люди ждут в колонии. Итак, Георгий, Григорий, что скажете?
— Согласны, — ответили они.
— Арсений?
— Н-ну, если требуется для спасения племени и в естествоиспытательных целях… Согласен, — Нестеров снял очки и принялся их энергично протирать.
— Лев Платонович, вы как?
— Николай Иванович, вы ж просто с ножом к горлу. Не могу переступить через себя.
— Перестаньте ломаться, как благородная девица! За нами колония, а вы позволяете себе рефлексии, словно не военный. Это приказ, г-н Головнин.
— Что ж, я подчинюсь приказу, — неохотно ответил охотник.
— Малькамо, что скажешь?
— Я не согласен!
— А ты-то почему? — удивился Аршинов. — Это же твои соплеменницы, можно сказать.
— Не могу, это мне противно. Это входит вразрез с моими моральными установками.
— Боже мой, — устало вздохнул казак и вытер со лба пот. — Еще один чистоплюй. У меня две сотни людей ждут эти треклятые рубины, которые и тебе, Малькамо, пользу принесут, а ты ломаешься. Не ожидал! Да ты первым должен был бы броситься в бой! Молодой, горячий!
— Нет, — твердо ответил принц.
— Ну, почему? — Аршинов почти умолял. — В чем причина? Скажешь?
— Нет!
— А если я тебя попрошу, Малькамо? — я встала и подошла к нему. — Посмотри мне в глаза. Это из-за меня ты не хочешь пойти на праздник. Ведь так?
Юноша ничего не ответил, лишь опустил голову.
— Вот это да! — прошептал изумленный Аршинов.
— Малькамо, — торжественно сказала я и положила ему руки на плечи. — Я прошу тебя пойти на праздник и выполнить то, о чем тебя попросили старейшины. Ради меня. Согласен?
— И у тебя не разорвется сердце, Полин? — он поднял на меня глаза, в которых дрожали слезы.
— Ты делаешь это ради нашего будущего, мой принц. Иди и выполни с честью предначертанное, — я повернула его и слегка подтолкнула к Аршинову.
— Ну что, парень? — спросил тот.
— Согласен, — кивнул он, отвернулся и спрятал лицо в ладони.
Аршинов облегченно вздохнул, перекрестился и обратился к монаху:
— Автоном, дружище, тебе я приказать не могу, ты лицо духовное. Но, может, пойдешь с нами за компанию? Потом замолишь грех, епитимью на себя наложишь. Понимаешь, надо…
— И благосвятся в семени твоем вси языцы земныи, занеже послушал еси гласа моего.[61]
— Значит, согласен. Вот и славно, — Аршинов потер ладони. — Малькамо, сообщи старейшинам, пусть готовят пир.
— Подождите! — остановила я собравшихся было расходиться членов экспедиции. — Малькамо, а ты спросил о крокодилах? Это те, которые за мной гнались? Или в преддверии праздника вы тут забыли о нашей цели.
— Ничего я не забыл, — улыбнулся принц в ответ. — Просто крокодилы — это запрет, и о них с чужаками не говорят. Вот когда мы пройдем обряд инициации и станем не чужими этому племени, вот тогда старейшины поделятся знаниями.
— Что ж ты сразу не сказал? — удивился Аршинов. — Тогда бы о несогласии и речи не было бы. Вперед, орлы!
* * *
В деревне вовсю готовились к празднику: мужчины собирали легкие навесы, женщины что-то готовили из скудных припасов. Над деревней стоял запах острых специй и дыма. Подростки расчищали деревенскую площадь, сгребая камни и мусор в сторону. Посреди площади складывали хворост, обложив его крупными валунами.
Мы приблизились. Женщины, не отрываясь от готовки, перебрасывались словечками, выкрикивая их тоненькими голосами. Их говор напоминал журчание ручейка и крик соек над ним. Все смотрели на нас с любопытством. При виде бородатых Автонома и Георгия цокали языками. Агриппина жалась к осетину, вид у нее был одновременно и воинствующий, и жалкий.
Нас усадили неподалеку от места, где будут развиваться события. Две женщины принесли какой-то напиток в половинках тыквы. "Токо", — сказала она, улыбаясь и протягивая Малькамо сосуд.
— Что это? — спросила я.
— Напиток из корней местного кустарника, — ответил он и приготовился было выпить, но я взяла у него чашу и залпом проглотила содержимое. Мне хотелось не только есть, но и пить. Напиток имел солоноватый вкус и напоминал имбирное пиво.
— Эх, Полин… — сокрушенно покачал он головой. — Это же ритуальный напиток, только для мужчин. Чтобы у них прибавилось сил и ушли тревоги.
— Малькамо, разве можно быть таким женоненавистником? — засмеялась я. Мне вдруг стало легко и приятно. Люди милы, а жизнь прекрасна. — Почему ты считаешь, что только мужчинам нужно вернуть силы. Разве я перенесла меньше тебя?
— Как тебе будет угодно, — пожал он плечами. — Питье это не вредное, только в голову ударяет не хуже шампанского.
Между тем приготовления к празднику подходили к концу. Жители деревни удалились в хижины, и вышли переодетые в белые праздничные шамма. Мужчины украсили себя высокими шапками с неизменным бубликом поверху, метелками из конского волоса и амулетами, сшитыми из шкуры какого-то лохматого животного. Женщины надели браслеты и повязали на головы яркие платки. Движения у них стали раскованнее, бедра заходили ходуном. Они приплясывали, неся на головах подносы с праздничным угощеньем. Старухи сгоняли детей в сторону, а те ускользали от них, чтобы побыть в гуще событий.
Вскоре все было готово к празднику. Зазвучали барабаны, их тревожная дробь пробуждала волнение. Послышались звуки рожков — это мужчины дудели в длинные загнутые трубы, сделанные из рогов антилопы. Вспыхнул костер. В его неровном пламени фигуры теряли очертания, расплывались и исчезали. Многочисленные тени совершали круговорот, повинуясь движениям своих владельцев. Старухи бросали в костер сухие толченые листья, от которых пламя вспыхивало синим цветом и по всех округе разносился терпкий, манящий запах. На душе становилось легко и покойно.
Мужчины и женщины образовали хоровод и стали плясать вокруг костра, притоптывая голыми пятками. Их зрачки были расширены так, что совсем не было видно белков глаз. И взгляд казался пугающим.
Нам предложили инджеру с просяной кашей и овощами, и все тот же напиток токо. Наконец-то мы насытились — это была наша первая трапеза после падения с водопада.
В голове шумело от запахов, в желудке ощущалась приятная тяжесть, во рту горели огнем пряности, которыми была щедро посыпана инджера. Сколько бы я не пила токо — не помогало, хотелось пить еще и еще.
Мои сотоварищи не отставали, пили и ели за троих. Наконец, Аршинов оторвался от еды и, икнув, произнес:
— А не потанцевать ли нам? Вон как пляшут душевно.
Казак встал и побрел к костру, где толпились эфиопы. Вокруг него сразу образовался круг. Николай Иванович топнул сапогом, повел рукой и принялся отплясывать камаринского под барабаны и рожки. Он ухал, хлопал ладонями по груди и коленкам, а эфиопы воздевали руки к небу и выкрикивали гортанными голосами, вторя ему.
С места поднялись и другие. Токо ударил в голову. Нестеров дергал плечами, исполняя цыганочку, осетин Георгий зашелся в лезгинке, вызвав всеобщий восторг, даже Автоном притоптывал.
Груша сидела возле меня и рыдала в голос:
— Сейчас Егора прельстят эфиопки! И он меня позабудет!
— Помолчи, Агриппина, он не любострастия ради пошел на это. У нас святая цель! Пошли спать, не наш это праздник, мы чужие здесь. А ты у нас девушка невенчанная, рано тебе на такое глядеть.
— Барыня, туда охота, в круг! Вон какие среди них статные.
— Да ты что, Груша, совсем не в себе, что ли? Этих молодцев и так мало, будут они еще на тебя тратиться.
Вздохнув, Агриппина поплелась за мной, в хижину, которую нам выделили заранее. Она поминутно оглядывалась, вид ее выражал сильнейшее мучение.
Мы вошли в хижину и принялись укладываться. Я отвернулась к стенке и сомкнула глаза. С деревенской площади доносился барабанный бой, заунывное хоровое пение и вой антилопьих рогов. Агриппина ворочалась, прислушиваясь ко мне, но я лежала тихо. Она подумала, что я заснула, встала и выскользнула из хижины. Я не стала ее останавливать, собственно, кто я ей?
Сон не шел. Постепенно затихли шумы на площади, им на смену пришли другие: из всех хижин стали раздаваться сладострастные крики и стоны. Казалось, мужчины и женщины конкурировали: кто сильнее закричит. Ни малой толики стыда не было в этих звуках, наоборот, природа брала свое, возрождаясь внутри сплетенных тел.
Мне показалось, что я расслышала выкрики "Эх!..", "Хорошо-то как!" и даже "Адам позна Еву, жену свою…". Уснуть среди этой вакханалии не было никакой возможности. Поэтому я предалась воспоминаниям. Перед моими глазами проносились образы классных комнат, где под руководством дежурных синявок[62] я заучивала французские глаголы, катание на коньках по замерзшему пруду, пасхальную всенощную…
Было душно, я откинула травяную занавеску, закрывающую вход в хижину, села и обхватила колени руками. В проем светила полная луна.
Неожиданно на пороге появилась тень. Так как луна светила человеку прямо в спину, то я увидела лишь профиль силуэта обнаженного тела со вздыбленным естеством внушительных размеров. С утробным рыком он бросился на меня, повалив на пол. Но так как я сидела, а не лежала, да еще не сняла ботинки, то оказалась в выигрышном положении: колени мои опрокинулись вверх, и острым концом ботинка я со всего размаха врезала насильнику промеж ног. Он завыл так, словно его ошпарили, и сверзился с меня. Вскочив, я выбежала из хижины, но через несколько шагов остановилась в сомнении. Если я сейчас буду бегать от хижины к хижине, с воплями зовя на помощь своих друзей, не помешаю ли я тем самым исполнению ими нелегкого долга, который они обещали свершить со всем надлежащим старанием. И потом, чем провинился этот эфиоп? Он в своем праве, пришел исполнять обычай. Разве он знал, что я против? Ведь наутро, я уверена в том, жители деревни будут хвастаться количеством соитий. А я только что покалечила одного из них и вывела его из битвы.
Меня охватило раскаяние. Эфиопы — они простые и радушные, как дети. А я так нехорошо поступила. Не по-христиански. И я отправилась обратно в хижину.
Мой незваный гость лежал и тихо выл, спрятав руки промеж ног. Увидев меня, он испугался, и отодвинулся вглубь хижины.
— Вылезай! — скомандовала я ему. — Иди отсюда.
Но он не понимал и смотрел на меня во все глаза. Глаза его блестели, как две черные перламутровые пуговицы.
Тогда я потянула его за ногу, он понял и выбрался наружу, охая и гримасничая.
— Айнекам![63] — гордо сказала я, тыча себя пальцем в грудь.
Это слово он понял. На его лице отразился неподдельный ужас, он повернулся и бросился бежать от меня. Глядя на него в ярком свете луны, я поняла смысл выражения "пятки сверкали".
* * *
Стоны, вздохи и оханье продолжались до рассвета. Как-то незаметно я уснула под эту однообразную какофонию и даже отлично выспалась.
Солнце уже высоко стояло над рекой, когда я, движимая естественными потребностями, вышла из хижины. Вся мужская часть экспедиции сидела за низким плетеным столом и завтракала неизменной инджерой, оставшейся после вчерашнего празднества. Боже мой, ну и вид у них был! Под глазами залегли глубокие тени, они зевали и потягивались, выражение лица хмурое, волосы взъерошенные. Нет, не так выглядят после любовной битвы.
— Доброе утро господа! — приветствовала я их. — Как спалось? Ох, простите, вырвалось…
— Присаживайтесь, Аполлинария Лазаревна, угощайтесь, чем бог послал, — ответил Аршинов и закряхтел, схватившись за поясницу.
— Спасибо, Николай Иванович. Что с вами?
— Стар я уже для подобных баталий, — ответил он. — Это вот пусть молодые играют, пока не наигрались. А мне, старику, скакать с одной дамочки на другую уже не по чину. Но как они, чертовки, могут заставить! — Аршинов улыбнулся, но тут опять охнул и стал потирать бок.
— Я эти корешки с собой возьму, — сказал Нестеров, — обследовать надо будет в хорошей лаборатории.
— А у вас, Арсений Михайлович, спина в порядке?
— Да, вашими молитвами, — ответил он. — Но попотеть пришлось изрядно. Ощущал себя лошадью, запряженной в мельничное колесо.
— Да уж, — поддакнул Головнин, откусывая большой кусок от инджеры. — Подобное приключение не забудется долго. Будет о чем вспомнить на старости лет. Шесть женщин за ночь — это не шутка.
Больше всех оказалось у Георгия — восемь, у Григория, как и у Головнина — по шесть, у Нестерова с Аршиновым по пять. Монах Автоном от вопросов отмахнулся. Он молился, отбивая земные поклоны. Малькамо молчал.
— А ты, принц? — спросил его Аршинов. — Что прячешься от товарищей? Делись, скольких осчастливил?
— Ни одной, — ответил он и потупился.
— Да как ты мог! — возмутился Аршинов. — Мы тут уродовались, а ты в сторону увильнул?
— Я не увиливал, — твердо сказал Малькамо. — Десять женщин получили то, на что они надеялись. Просто я до них не дотронулся. Давал им то, что им надо было, они сами управлялись. Простите, я больше не буду отвечать на вопросы, мне тяжело.
— Кстати, где Агриппина? — спросила я, чтобы переменить разговор.
— А разве она не с вами? — удивились мои собеседники. Георгий даже прекратил есть и смотрел на меня во все глаза.
— Нет, не со мной. Она ночью вышла из хижины и больше с тех пор я ее не видела.
— Неразумно, Полина, очень неразумно, — покачал головой Аршинов. — Как же вы ее отпустили?
— А что я могла поделать? — возразила я. — Груша — девушка взрослая, не крепостная, как ее удержать, если она желает уйти? За косы силой?
— А вот и она, — Нестеров показал в сторону.
Мы обернулись. К нам степенно приближалась Груша в сопровождении высокого рослого эфиопа лет тридцати пяти. При виде их Георгий встал и растерянно посмотрел на нас.
Агриппина подошла и поклонилась в пояс.
— Барыня, Аполлинария Лазаревна, и вы, Николай Иванович, ухожу я от вас. Замуж выхожу. За Ватасу.
И она показала на эфиопа, молча стоявшего рядом.
В наступившей тишине я услышала, как Георгий заскрипел зубами.
— И когда это случилось? — спросил Аршинов, хотя можно было и не спрашивать.
— А вот сегодня ночью и порешили, — ответила Груша. — Я, как от вас, барыня, ушла, так сразу на него и наткнулась. Нашли пустую хижину и слюбились. Потом еще пятеро приходили, совсем не такие, как Ватасу. Мой Васятка лучше всех.
С диким криком осетин кинулся на Грушу, но ее суженый скупым движением перехватил и отбросил в сторону. Его лицо не изменилось.
— Одумайся, Агриппина, что ты говоришь? — воскликнула я. — ты же православная!
— Ну и что? Разве эфиопы не православные? А то, что ревности промеж них нет, так это и славно. Жила бы я с ним, — она показала подбородком на Георгия, сидевшего на земле, — он бы меня уморил, или бы прирезал, как сейчас собирался.
— А как же колония? — спросил Нестеров. — У вас там никто не остался?
— Что колония? Братец умер, а без его жены я как-нибудь проживу. Я ехала в Африку мужа себе найти, вот и нашла, — она с любовью посмотрела на гиганта, тот наклонился и расцеловал ее в обе щеки.
Мы стояли озадаченные. Девушка сделала свой выбор, ей и решать. Но оставлять ее тут, среди туземцев, живущих по своим обычаям, мало схожим с обычаями цивилизованных людей, было как-то не с руки. Агриппина прервала тишину.
— Автоном, голубчик, — она умоляюще взглянула на монаха, — пожени нас и благослови. Ты здесь единственное духовное лицо, а мне страсть как хочется венчанной быть. Чтоб все по закону.
Я облегченно вздохнула. Как законная жена, Агриппина будет находиться под божьим благословением, а это немаловажно для ее и нашего спокойствия.
Автоном кивнул в знак согласия, и успокоенная Агриппина удалилась вместе со своим нареченным Васей. На Георгия было страшно смотреть. Вот что бывает, когда из-за гордыни постоянно отталкиваешь женщину. Отталкиваешь, а она возьмет и уйдет. И что тогда? Останешься на бобах. Что и произошло с нашим осетином. Нет, недостаточно у неофита смирения…
Вдруг ко мне подошла старая эфиопка, закутанная с головой в белую шамма и что-то стала бормотать, протягивая ко мне руки. Я расслышала только слово «Македа».
— Малькамо! — позвала я юношу. — Переведи мне, что хочет эта женщина.
Принц внимательно выслушал ее, потом поклонился, поцеловал ей руки и четырехкратно в обе щеки. Она что-то вручила ему и отошла. Он повернулся ко мне, лицо его было смущенным, ресницы трепетали.
— Рассказывай, что она тебе сказала?
— Полин, мне неудобно… По-моему, это глупости. Но Мулюнаш, так зовут старуху, считается у оромо известной прорицательницей.
— Не томи, что ты ходишь вокруг да около? И что такое «Македа»?
— Так на языке геэз называют царицу Савскую.
— А причем тут я? Или речь шла не обо мне?
— Мулюнаш сказала, что я буду негусом, самым великим из всех негусов, если не считать сына Македы, но только если ты будешь моей женой. Именно от тебя будет зависеть, вступлю я на трон Абиссинии или нет. Потому что у тебя знание и воля. Она увидела это в твоих глазах.
Я была слегка разочарована. Вместо того, чтобы сказать что-то дельное, хотя чего ждать от старухи, прожившей всю жизнь в глинобитной мазанке, я услышала очередные бредни. Точно так же гадали цыганки у нас в N-ске, в Александровском парке: "Позолоти ручку, красавица. Все тебе расскажу, смарагд мой яхонтовый, ничего не утаю…"
Старуха приблизилась ко мне и протянула мне лепешку инджеры. Я машинально взяла и отошла в сторону.
Малькамо увидел, что я отвернулась, и торопливо добавил:
— Она, действительно, видит будущее, я ей сразу поверил. Ты — необыкновенная женщина, я давно это понял! Никогда таких не встречал.
Этим и объяснялся его восторженный пыл: учился в закрытом заведении для мальчиков, с европейскими женщинами практически не общался, хотя и видел их из окна интерната. Я была для него всего лишь символом запретного плода.
— А что она тебе дала? Я видела какой-то мешочек.
— Так, — смутился он, — травки разные. Наши специи для еды в дорогу.
— Хорошо. Давай пойдем, уже поздно.
* * *
Глава одиннадцатая
Старики приносят пергамент. Прогулка к крокодилам. Побоище. Смерть Григория. Крокодилья нора. Заветный сундучок. Полина примеряет корону. История внучки Пушкина. Малькамо возражает. Праздник Тимката.
Оставшаяся часть трапезы прошла в полном молчании. Когда мы насытились, Аршинов произнес:
— Господа, все это конечно, замечательно: афинские ночи, замужество Агриппины, но пора и о рубинах вспомнить. Где эти старейшины? Мы свои обязательства выполнили, пусть теперь они выполняют свои. Малькамо, возьми, пожалуйста, Георгия и Григория, и попроси старейшин прийти к нам.
Ждать долго не пришлось, старейшины явились и принялись благодарить наших мужчин за то усердие, которое они проявили для племени в прошлую ночь.
— Все это замечательно, — нетерпеливо ответил Аршинов. — Но мы пришли за тем, что оставили вам два белых дабтара, бывших здесь несколько лет назад.
— Они оставили нам свое семя. От них народилось восемь детей. Все дети крупные, здоровые. Мы надеемся, что и ваши дети будут такими же.
— Это все?
— Нет, еще они оставили пергамент и начертали на нем неизвестные нам слова. И сказали, что только тому, кто продолжит святые слова, откроется тайна.
— А вы сами знаете их?
— Да, — кивнул старец. — Мы заучили их, но они на чужом языке и смысла их нам не дано понять.
— Давайте сюда этот пергамент, — приказал Аршинов.
Один из стариков протянул ему обрывок.
— Постойте-ка… — закричала я, отбежала в сторону за хижину и полезла под шамму, где в потайном кармане панталон лежал мой кусок пергамента. — Вот, смотрите!
Аршинов взял два куска, один из которых был практически смыт водой, и приложил друг к другу. Они совпали по линии обрыва.
— Можно мне? — попросил Малькамо.
Он взял пергамент и прочитал, шевеля губами. Что-то знакомое показалось мне в словах, что он произносил.
— Повтори, что ты сказал, — сказала я.
— Странно… Буквы амхарские, а слова непонятные.
— Прочитай вслух и медленно.
— Отче наш ежи еси на небеси… — запинаясь, прочитал Малькамо.
— Да святится имя Твое, да прибудет воля Твоя… — произнесли мы хором, а Автоном осенил себя размашистым крестным знамением.
Старики переглянулись.
— Вы сказали правильные слова. Именно им нас научили два белых дабтара. Поэтому мы покажем вам, где сокровища.
Аршинов глубоко вздохнул и с шумом выпустил воздух:
— Наконец-то, слава, тебе, Господи! Идти-то куда?
— Туда, откуда пришла голая белая женщина. Она — атыкрав![64]
Тут мне пришлось вмешаться:
— Я не понимаю, что это такое, и причем тут сокровища?
— Тебя не тронули танины.
— Кто?
— Полин, они так называют крокодилов, — пояснил Малькамо. — Я же переводил тебе слова монаха-фалаша в монастыре Святого Георгия.
Мне стало понятно. Оказывается, водопад выбросил меня на то место, к которому мы сейчас стремились. Странно получается, я была так близка к сокровищам.
— Стражи охраняют рубины царицы, — продолжил старик свою речь. — Вы не достигнете их, стражи разорвут вас на куски!
— Ну, это мы посмотрим, кто кого разорвет, — буркнул Головнин. — Тоже мне стражи. Жаль, у меня бронебойных патронов нет.
— В глаз бейте, — посоветовал Аршинов, — как белку.
В путь пустились на рассвете следующего дня. Идти было легко, температура воздуха едва ли достигала 10 — 12 градусов. Здешняя зима напоминала раннюю осень в нашей губернии. Мои спутники бодро стучали посохами, которые им выдали добрые жители.
Старики шли той дорогой, по которой спасители привели меня в деревню. Они размеренно ступали шаг за шагом и при кажущейся плавности движений двигались на удивление быстро. В прошлый раз я не смогла разглядеть окрестности, но сейчас шла и любовалась. Над Голубым Нилом парила легкая дымка. Резко кричали странного вида птицы с длинными клювами, рыбы выпрыгивали из воды, а вдалеке ровно гудел великий водопад, с которого я и мои спутники имели честь сверзиться.
Влажная прохлада пробирала до самых костей. Даже не верилось, что мы в Африке. Тонкая шамма не защищала от холода, и я довольно ощутимо продрогла. Но накрыться было нечем, поэтому нужно было только терпеть и идти вперед как можно быстрей.
Болото, заросшее африканским видом камыша, показалось неожиданно из-за скал. Старики остановились.
— Дальше мы не пойдем. Нельзя!
Головнин стянул с плеча ружье. Аршинов похлопал себя по карманам и виновато развел руками — его пистолет покоился где-то на дне Голубого Нила.
— Хорошо, вы не пойдете, — сказал им Малькамо, — но хоть скажите, где искать?
— Там, — один из стариков, повыше ростом, махнул рукой в сторону тростника, но с места не сдвинулся.
Издалека я увидела какие-то пятна на ветвях, бросилась туда — это оказались обрывки моего платья. Схватив уже ненужные тряпки, я прижала их к груди и… Не зря говорят, что история повторяется сначала в виде трагедии, а потом в вид фарса. У меня фарс был сначала…
— Стой, куда?! — закричал Аршинов, но не успел. Внезапно выскочивший крокодил схватил меня за полу шаммы и потянул на себя.
Почуяв добычу, из зарослей выползли еще ящеры. Мужчины, размахивая посохами, бросились на них, отчаянно колотя крокодилов по головам и пасти.
— Посторонись! Стреляю! — выкрикнул Головнин.
— В глаз его, как белку!
Крокодил дернул меня за полу, и на мое счастье, отодрал ее с мясом. Была бы на мне моя суконная юбка — мне бы не вырваться. От неожиданного толчка я покатилась прочь по земле, и туда тут же стали подползать остальные чудовища.
Головнин выстрелил. Ящеры не обратили внимания. Но когда от второго выстрела с близкого расстояния череп одного из них взорвался, то остальные твари отвернулись от меня и бросились на своего мертвого сотоварища.
Нестеров оттащил меня в сторону:
— Полина, вы в порядке?
— Благодарю вас, Арсений, я, кажется, и на сей раз осталась без верхнего платья.
— Да уж, почему-то эти земноводные испытывают к вашим нарядам особое чувство.
Побоище разыгралось не на шутку. Григорий бил шестом, Георгий колол ножом в глаза, нос — самые уязвимые крокодильи места. А твари, возбужденные запахом крови, все лезли и лезли на берег, и несть им числа!
Малькамо крикнул:
— Николя, переведи всем! Я покажу, как убивают крокодилов наши воины!
И показал: он взял шест, позвал Григория и они вместе, поднатужившись, перевернули крокодила на спину.
— А теперь режь! — закричал он осетину.
Но тому не надо было переводить. Замах, и кишки крокодила выплеснулись наружу. У меня подкатил к горлу тугой комок.
Так и продолжалось: двое подбегали с одной стороны, переворачивали туши, неповоротливые от зимней прохлады (холодом эту температуру назвать у меня язык не поворачивался), а Георгий, усердно работая своим ножом, вспарывал крокодилам брюхо.
Вскоре со стаей было покончено. Самые умные крокодилы убрались от греха подальше. Из наших потерь только царапина на ноге Автонома, который, в отличие от нас, обутых в сапоги и ботинки, ходил в веревочных сандалиях. Нестеров промыл ему рану, но, к сожалению, больше ничего сделать не смог, его медицинский саквояж исчез вместе со всеми остальными нашими вещами.
— Так… — задумчиво произнес Николай Иванович. — Крокодилов мы побиваху. Что дальше? Идти куда? Малькамо, потряси старцев.
Малькамо обратился к старикам, сидевшим на песке в отдалении, но те, пробормотав несколько слов, умолкли.
— Что они говорят?
— Дальше нельзя, запрет!
— Какой-такой запрет? — возмутился Аршинов. — Они обещали привести нас к сокровищу, а вместо этого мы наткнулись на лежбище. И что? В желудках у них рыться? Нет, дайте мне с ними потолковать.
Он подошел к старикам, что-то стал им возбужденно говорить, оборачиваясь на Малькамо и тыча в него пальцем. Его собеседники лишь обмахивались метелками из конского волоса и никак не реагировали.
Казак сплюнул, выругался в сердцах и вернулся к нам.
— Что они говорят? — спросили его.
— Ничего не говорят. Ждите у моря погоды.
— Поесть бы… — мечтательно произнес Нестеров.
— Печеных крокодильих хвостов не желаете отведать? — спросил Головнин.
— А что, это мысль, — согласился Аршинов. — Георгий, возьми свой нож и нашинкуй нам парочку хвостов. В золе запечем.
Осетин взял напарника, и они вместе пошли к окровавленным тушам, над которыми уже кружили стервятники.
— Ну что, господа, будем делать? — спросил Аршинов, когда мы уселись кружком на земле, подальше от места побоища. — Кажется, наша экспедиция завершается ничем. Рубинов не нашли, в нескольких верстах отсюда идет война, надо будет возвращаться, и уповать на Господа.
— Охота зато знатной была, — мечтательно произнес Головнин. — Я давно мечтал на крокодилов поохотиться, теперь мечта сбылась.
— Нам еще повезло, что холодно, — сказал Нестеров. — Обычно, в холодное время года эти пресмыкающиеся впадают в спячку и становятся неповоротливыми. Пришлось бы туго, если бы они были чуть порезвей.
Издалека раздался дикий крик. Мы вскочили с мест.
Страшное зрелище предстало перед нами: огромное чудовище, крокодил гигантских размеров схватил Григория поперек туловища. Раздался жуткий хруст: дергающееся тело обмякло, пасть монстра обагрилась алым.
Один старик-эфиоп вскочил с места и закричал: "Танин!", а другой: "Атыкрав!". Они голосили недолго, потом упали и распластались на земле.
Первым опомнился Головнин. Он схватил ружье, прицелился, выстрелил, но пули отскакивали от бронированной шкуры пятиаршинного монстра. Автоном огромными скачками бежал навстречу крокодилу, занесенный для удара посох в его руках напоминал древнерусскую палицу.
Георгий резко развернулся и всадил нож прямо в кончик носа крокодила, который уже подбирался к нему. Животное разжало челюсти, из глаз полились слезы. Но Григорий не отставал — воткнул длинный кинжал сначала в правый глаз, потом в левый, но тут его нож сломался и остался торчать, погруженный по рукоятку в глазницу.
Но крокодил не умирал. Он не издавал ни звука, разевал пасть, из которой уже упал несчастный Григорий, загребал лапами и проявлял чудеса быстроты и натиска, Георгий еле успевал отскакивать в сторону.
— Монах, в сторону, стреляю! — кричал Головнин.
Тем временем ослепший крокодил сумел перекусить посох, которым его колол Георгий, теперь посох оканчивался острой зазубренной щепкой. И когда в очередной раз распахнулась зловонная пасть, полная зубов, острых, как лезвия, Георгий издал жуткий вопль и всадил посох в глотку ящера.
Подбежавший Головнин выстрелил в глотку, но и без пуль с крокодилом было покончено, он несколько раз конвульсивно дернулся и сдох.
Нестеров с Малькамо наклонились над несчастным Григорием, но тому уже ничем нельзя было помочь.
Мертвая рептилия поражала своими размерами. Крокодил был не зеленый, а какого-то бурого цвета с серыми проплешинами на боках. Шириной аршина в полтора-два, а в длину достигал десятка аршин. Клыки в пасти, желтые, размером с мою ладонь, торчали в несколько рядом. Лапы с мощными когтями держали многопудовую тушу.
— Григория похороним в деревне, — распорядился Аршинов. — Пусть Агриппина ухаживает за могилой. А ты, Георгий, молодец! Вылитый Георгий-победоносец. Экого дракона завалил!
Сзади неслышными шагами подошли старики-эфиопы и что-то произнесли. Я опять услышала слово «атыкрав».
— Что он говорит, Малькамо? — спросила я юношу, посеревшего от страха и напряжения сил.
— Они подошли потому, что запрет закончился. Боги приняли кровавую жертву, и страж убит.
— Какие боги? Они же православные.
— Все не так просто, Полин. Здесь до сих пор еще верят в духов рек и деревьев. Они же не настоящие абиссинцы, они — оморо.
Высокий старик продолжал сто-то говорить, качаясь на месте и воздевая руки к небу. Второй стоял рядом и подпевал тонким надтреснутым голосом.
Пришлось мне опять подергать Малькамо, стоявшего в забрызганной кровью шамме, чтобы он перевел мне слова стариков.
— Они говорят: идите в жилище танина, там сокровища.
— Где же его жилище? Под водой?
— Надо посмотреть, откуда он выполз.
— А вдруг его жилище под водой. Будем нырять? — спросил обеспокоенный Головнин.
— Надо будет, нырнем, — сказал Аршинов, как припечатал. Для спасения колонии он был готов на все.
— Не надо нырять, — Нестеров обошел вокруг чудовища, наклонился и покачал головой, — Это нильский крокодил, сrocodylus niloticus, и, на мой взгляд, самка. Просто гигантских размеров. Судя по тому, что она вылезла и так агрессивно набросилась, она сторожит кладку с яйцами.
— И где кладка?
— Обычно нильские крокодилы, у которых, кстати, репутация людоедов, живут долго, роют себе норы в нескольких метрах от воды и там откладывают яйца. Это бывает в зарослях тростника, из которого самки строят гнезда.
— Норы глубокие? — поинтересовался Головнин.
— Не очень. С аршин или даже меньше.
— Так что же, сокровища в норе? — озарила меня мысль.
— Все может быть, — пожал плечами Нестеров. — Для того, чтобы в этом убедиться, надо найти нору.
— Но как монахи могли спрятать рубины в норе крокодила-людоеда?
— Не всегда же она сидит в норе. Очень часто гнезда разоряют гиены, ящерицы, да и люди. Это происходит обычно в тот момент, когда самка вынуждена оставить гнездо, чтобы охладиться и поохотиться. Наверное, все и произошло в такой момент, просто монахи не разорили гнездо, а наоборот, подложили туда сокровище.
Малькамо начал расспрашивать стариков, переводя им слова Нестерова. Те одновременно закивали головами и показали в сторону тростника.
— Ну что ж, вперед, братцы! — приказал Аршинов. — Аполлинария Лазаревна останется тут.
— Почему это тут? — возмутилась я. — Я тоже хочу увидеть сокровища!
— Увидите еще. Если найдем.
И мужчины удалились в заросли тростника, идя по примятым следам. Я осталась со стариками и Автономом, молившимся около тела Григория.
Все же я не удержалась и пошла вперед, не обращая внимания на приказ начальника экспедиции. Неужели самое интересное произойдет без меня?
Заросли тростника неожиданно кончились, и мы оказались на песчаной насыпи, от которой доносилось резкое зловоние. Она вся была взрыхлена лапами крокодильей самки. В центре насыпи виднелся темный вход в нору.
— Кто у нас самый тонкий? — спросил Аршинов. — Надо залезть внутрь.
— Может быть, я? — я вышла вперед.
— Полина, — нахмурился Аршинов, — ваше сумасбродство начинает меня раздражать. Прекратите немедленно!
— Я пойду, — выступил вперед Малькамо. — Все же эти рубины принадлежат мне по праву, и я должен их найти самолично.
— Что ж, — согласился Аршинов, — иди, только будь осторожен. Арсений, в норе не может оказаться еще одного крокодила? Например, супруга этой красотки?
— Нет, не должно. Самцы обычно живут отдельно.
— Дайте мне пару раз выстрелить внутрь. Для вящего спокойствия, — Головнин вскинул ружье наизготовку.
— Неплохая идея, стреляйте, Лев Платонович. Надеюсь, рубинам пули не повредят.
Головнин выстрелил, из норы не было слышно ни звука.
— Ну, с Богом! — Аршинов перекрестил Малькамо и подтолкнул его к норе.
Юноша уточкой нырнул в темноту, а мы остались ждать. Я лишь молилась про себя, чтобы он вылез живым. Можно и без рубинов. Достаточно смертей и потерь!
Прошли томительные минуты. Вдруг послышался шорох, потом сдавленный вскрик и из норы выполз Малькамо. Лицо его было искажено от боли, так как в палец правой руки вцепился новорожденный крокодильчик, величиной не более ладони. Юноша сам не мог его снять, так как в левой руке он держал сундучок, покрытый грязью и нечистотами. Да и сам он выглядел не лучше — белая шамма, испачканная кровью, теперь вся была покрыта зеленой дурнопахнущей слизью.
Подскочив к нему, я содрала крокодильчика с пальца и выкинула в сторону. Малькамо охнул и засунул палец в рот.
— Это? — закричал Аршинов.
Малькамо лишь кивнул, не вынимая палец изо рта, и протянул сундучок дрожащему от нетерпения казаку.
Аршинов принял дар с благоговением. Мы столпились вокруг него, а он медлил: протирал сундучок от грязи, поглаживал, вычищал все прорези и завитки на крышке.
Наконец, замочек щелкнул, и нашим взорам предстала изумительная картина: на золотой парче лежала диадема царицы Савской. Четыре крупных рубина, ограненные кабошоном, были обрамлены сеточкой из золота и серебра. По краю диадему украшала россыпь более мелких рубинов и бриллиантов. Многочисленные завитки и ажурные листья складывались в национальный абиссинский орнамент, знакомый мне по росписям церквей, которые мы посещали во время путешествия.
Николай Иванович бережно ощупывал корону, словно лаская ее кончиками пальцев. И вдруг, сделав незаметное движение, он раскрыл оплетку рубина и вытащил кабошон.
— Смотрите, а ведь корона-то с секретом! — воскликнул он.
Все четыре камня легко вынимались и вкладывались обратно. Без оправы они напоминали глаза, налитые кровью.
Что-то в короне показалось мне знакомым. Более того, во мне крепла уверенность, что я уже видела нечто подобное.
— Очи херувимов! — воскликнула я.
— Что? — не поняли мои спутники.
— В пергаменте Фасиля Агонафера написано о глазах херувимов. Вот они — глаза.
— А сами херувимы — на ковчеге, — заключил Аршинов. — Думаю, что ваша догадка верна, Аполлинария Лазаревна.
Я мучительно размышляла, стараясь вспомнить что-то, связанное с этой короной. Но нить мысли ускользала. Мои размышления прервали:
— Малькамо, а ну-ка надень корону, хотим посмотреть как она на тебе, — предложил Аршинов, протягивая ее юноше.
Тот попятился:
— Нет, нет, я не готов. Потом… На церемонии…
— Эх, братец, — вздохнул Аршинов, — Развел, понимаешь, тут церемонии. Ведь церемонии с твоим участием может и не быть. Разве не знаешь, что эта корона обещана Менелику?
— Пусть Полин примерит, — предложил Малькамо. — Я хочу посмотреть, идет ли она ей.
Он выразил мое первое затаенное желание. Вторым было найти зеркало.
— Сейчас, сейчас, — засуетился Нестеров, распаковывая свою «Фотосферу». Вас надо запечатлеть, Аполлинария Лазаревна, в-всенепременно!
Ломаться я не стала. Наклонив голову, я позволила Малькамо увенчать меня драгоценностью. Мужчины охнули. Даже в глазах сумрачного Георгия появилось одобрение.
— Как вам идет, Аполлинария Лазаревна! — воскликнул Нестеров. — Вы просто созданы носить драгоценности.
— Эх, почему мы не на балу? — вздохнул Головнин.
А Малькамо ничего не сказал. Он просто не сводил с меня восхищенного взгляда.
— Зеркало… — простонала я в отчаянии.
— Идем к воде, — сказал он.
— А крокодилы не выпрыгнут?
— Я обещаю, не будет.
Мы подошли к реке. Водная гладь чуть рябила, но я увидела себя в диадеме. Наверное, есть во мне что-то от Нарцисса — я не могла отвести глаз: из воды на меня смотрела царица. Я вглядывалась в отражение, и тут поняла, что отражение мне напоминает — это историю мне рассказала тетушка, Мария Игнатьевна Рамзина, статская советница, по чьей воле я и оказалась на далеких берегах Голубого Нила.
Года четыре тому назад газеты заполнил великосветский скандал: роскошный бонвиван, светский лев Великий князь Михаил Михайлович, внук государя Николая, влюбился. И в кого? В Софью Николаевну Меренберг, дочь Натальи Александровны Пушкиной, младшей дочери поэта, и принца Николая Вильгельма Нассауского. Ее мать, вылитая лицом в своего отца, великого поэта, была несчастна первым браком. Ей было всего шестнадцать, когда она без памяти влюбилась в Михаила Дубельта, карточного игрока, мота и драчуна. Он стрелялся на дуэлях, ночи напролет играл в карты, проигрывая огромные суммы, и приходил в ярость по ничтожному поводу. Наталья Николаевна была категорически против этого брака, более того, отец возлюбленного дочери, шеф Тайной полиции, немало насолил поэту Пушкину. Но упрямица дочь настояла и вышла замуж за своего "обожаемого Мишеньку".
Как и следовало ожидать, брак получился неудачным. Дубельт продолжал кутить, пьянствовать и даже поднимал руку на жену. Кроме того, он проиграл в карты ее приданое, и бешено ревновал, хотя сам не был особо верным супругом. Наталья Александровна терпела долго. Один за другим родились трое детей, и когда пьяный муж набросился с кулаками на старшего ребенка, несчастная женщина уехала в деревню и подала на развод.
По тем временам это был поступок неслыханной дерзости! Если уж в наш просвещенный век развод до сих пор становится предметом оживленных пересудов, несмотря на движение женщин, борющихся за свои права, то что говорить о прошлом времени? Наталья Александровна с трудом выправила себе вид на отдельное жительство. Она ждала четыре года, пока ее бумаги ходили по инстанциям, и дождалась: она получила долгожданный развод.
Ей надо было немного отдохнуть и прийти в себя, поэтому, вручив детей матери, она отправилась в Германию на воды.
На водах появление русской красавицы, дочери прославленного отца, да еще разведенной, что придавало особую пикантность ее образу, произвело фурор. За ней стали увиваться местные светские львы, но она ни на кого не обращала внимания: была молчалива и задумчива.
Такой ее и увидел принц Николай Вильгельм Нассауский. Увидел и остался у ее ног. Он не слушал, что ему говорили о репутации разведенной русской, он отмахивался от предостережений, он влюбился. И так сильно, что немедля попросил руки тридцатилетней Натальи Александровны.
Их любовь была взаимной и перетерпела многие невзгоды: ее, как разведенку некоролевской крови, не пустили в династию герцогов Нассау, от них на многие годы отвернулся свет, но это им не мешало, супруги любили друг друга.
От этого брака родилась дочь Софья, которая, как утверждали видевшие ее, затмила мать красотой и привлекательностью. Она была так хороша, что на первом балу, на котором она выступила дебютанткой, она получила семь предложений руки и сердца.
Но она ждала принца. Такого же настоящего, как ее отец. Софья, несмотря на молодость и незрелость, была довольно-таки тщеславной девушкой, и то, что ее мать не приняли в семью отца, больно ранило ее сердце.
И дождалась! Великий князь Михаил Михайлович Романов, внук царя Николая, полюбил ее всем сердцем. И попросил ее в знак ее расположения самой выбрать тот подарок, который она хочет.
К вящему изумлению Великого князя Софья попросила корону. И не простую, а такую, о которой слышала в детстве, когда мать, Наталья Александровна, рассказывала ей на ночь сказки. Причем в ткань сказки вплетались и воспоминания ее бабушки, Натальи Николаевны Гончаровой, и стихи деда. В корону червленого золота с серебром были искусно вделаны яхонты и диаманты.[65] И носила ее черная королева.
По описаниям невесты Великий князь заказал корону у поставщика двора его Императорского Величества фирмы "К. Э. Болин". Она была тонкой ажурной работы, в переплетеньях золотых и серебряных нитей покоились рубины и бриллианты.
Софья с радостью дала согласие на брак, но тут ее отец, принц Вильгельм Нассауский получил срочную депешу от ныне здравствующего императора Александра. Его Величество писал: "Этот брак, заключенный наперекор законам нашей страны, требующих моего предварительного согласия, будет рассматриваться в России как недействительный и не имевший места".
Что было дальше, я не знаю. Тетушка покинула Петербург — источник великосветских сплетен и скандалов, и единственное, что она могла добавить, что жених с невестой были хотя и подавлены, но настроены весьма решительно…
* * *
С трудом оторвавшись от созерцания своего изображения в водной глади я повернулась к спутникам. Они стояли и смотрели на меня. Наконец, Аршинов прервал молчание:
— Да… Хороша Аполлинария Лазаревна! Даже жалко такую красоту отдавать.
— Вы, Николай Иванович, рассуждаете, как Иван-царевич, который не захотел отдавать Василису Прекрасную старому царю. А придется, — усмехнулась я, снимая с головы корону.
— Это правда, — кивнул он, — не хочется. А надо. И что делать — ума не приложу. Такую красоту узурпатору да своими руками нести!
— Давайте божьего человека спросим, — тихо сказал Малькамо.
В последнее время я стала замечать, что Малькамо много времени проводил с Автономом. Как они общались — сие мне неведомо. Автоном не знал французского, а абиссинец — русского. Но они вместе молились, отбивали поклоны, а повечерам на привале сидели и шептались о чем-то, понятном только им двоим.
— Автоном, брат наш, скажи, что нам делать? Отдавать корону Менелику или повременить? — Аршинов смущенно переступал с ноги на ногу. Чувство долга в нем боролось с крестьянской жадностью.
Монах нахмурился, почесал бороду и изрек:
— Аще сребро, еже обретохом во вретищах наших, возвратихом к тебе от земли Ханаани, како быхом украли из дому господина твоего сребро или злато?[66]
— Что он сказал, Полин? — спросил меня Малькамо, внимательно вслушиваясь в непонятные речи Автонома.
Я перевела ему фразу из Библии. Малькамо удивился:
— Почему наш брат считает, что мы украли корону? Что он имеет в виду?
Но как ни тормошил Аршинов упрямого монаха, тот больше не произнес ни слова.
— Приказываю, — решительно произнес Аршинов. — Сейчас ужинаем печеными крокодильими хвостами, ложимся спать. Старики идут домой и завтра на рассвете приходят с подмогой: надо забрать тело Григория и похоронить по православному обычаю. Малькамо, переведи.
Старики кивнули и отправились восвояси. Юноша объяснил, что завтра они вернутся с жителями деревни — ведь для тех крокодилы тоже отменная добыча.
Головнин с Сапаровым вырыли яму, набросали туда хвороста. Отрезанные хвосты обмазали глиной, положили на тлеющие угли и присыпали сверху. Ждать пришлось недолго.
Крокодилятина оказалась вкусной и сочной. Она пахла дымом и вкусом напоминала телятину. За ужином поминали Григория и Прохора, жалели их родителей. Головнин прочищал свой винчестер, Нестеров сокрушался по поводу потери медицинского сундучка, а Автоном беззвучно молился.
Сундучок стоял возле Аршинова и тот время от времени любовно поглаживал его рукой, надеясь, что вот уж теперь все горести закончатся, и колония обретет законное право находиться на абиссинской земле.
Потом легли спать. За длинный день много случилось всего: и ужасного, и радостного. Все устали и заснули, как только растянулись на жестких тростниковых подстилках.
Я лежала и смотрела на звездное небо. Так как я слегка близорука, то звезды расплывались, становились большими, как бублики из пекарни на Моховой. Нам в институт их приносила толстая булочница в бязевом переднике. У нее в руках была корзина, накрытая чистой тряпицей, она откидывала ткань, и запах свежей сдобы наполнял дортуар, холодный и промозглый. Ах, как приятно было, торопясь, протянуть ей две копейки, схватить бублик и отойти в сторонку, чтобы полакомиться. Не могла же приличная девушка вцепляться зубами в выпечку на виду у остальных! И почему я подумала о бубликах? Наверное, давно не ела обыкновенного хлеба. Да что там хлеба? Инджеры, и той не видать…
Разбудил меня толчок в бок.
— Полин, Полин, проснись! — я повернулась и испугалась: в темноте на меня смотрел Малькамо, и я видела лишь белки глаз и блестевшие зубы.
— Что случилось, Малькамо? — удивилась я.
— Мне нужно сказать тебе что-то важное. Не здесь. Пойдем отсюда.
— Куда?
— Не хочу, чтобы нас кто-нибудь невольно услышал.
Поднявшись со своего ложа, я пошла за Малькамо, недоумевая, что же ему надо? Мы отошли на расстояние около пятидесяти шагов и остановились возле большого камня.
— Садись, — предложил он мне. Я послушно села. — Прошу тебя, то, о чем я тебе расскажу, должно остаться между нами. Обещаешь?
Мне стало неприятно. Я никогда ничего не скрывала от Аршинова, так как он мой друг и начальник экспедиции. А вдруг то, что скажет мне Малькамо, настолько важно, что это следует передать Николаю Ивановичу? Нет, на это я пойти не могу. Так и ответила юноше. Он понурился.
— Ладно, все равно без твоей помощи я не справлюсь. Дело в том, что я долго беседовал с Автономом. И он мне поведал: то, что вы собираетесь делать — это неправильно и не по-божески.
— Что именно?
— Отдать Менелику корону моей прародительницы. Нехорошо это.
Я задумалась. Интересно, на каком языке общались Малькамо и Автоном, и почему Автоном против создания колонии? Ведь без отданных Менелику рубинов колонии просто не будет — это плата за ее существование!
— Как ты понял, что он тебе сказал? — спросила я.
— Душой. Он говорил, молился, я вникал. И понял. Для этого совсем не надо знать язык, достаточно чувствовать сердцем.
— И твое сердце поведало тебе, что короновать надо тебя, а не Менелика? И что тогда будет с нашей колонией? Ты понимаешь, что ставишь под удар сотни наших людей?
— Отдав Менелику корону, я ставлю под удар миллионы моих людей, потому что они будут вынуждены законно подчиниться узурпатору! — Малькамо сделал ударение на слове «моих».
— Я вынуждена передать наш разговор Аршинову, — я поднялась с камня.
— Подожди, — он схватил меня за руку, — ты что, подумала, что я хочу короноваться?
— А что еще прикажешь думать? — возразила я.
— Ты не так поняла, Полин! — Малькамо умоляюще посмотрел на меня и молитвенно сложил ладони. — Да, я не хочу отдавать корону Менелику, но и короноваться, чтобы стать негусом, мне тоже не надо.
— Тогда чего ты хочешь?
— Корону надо вернуть на ее законное место — в Аксум. Она должна лежать возле священного ковчега, увезенного Менеликом Первым из Иерусалима. И вот когда рубины упокоятся на своем законном месте, вот тогда пусть Менелик едет туда и коронуется. Ты пойми, я не против него, несмотря на то, что он хотел меня повесить. Менелик — сильный отважный негус, он борется с захватчиками-итальянцами, и вполне способен освободить нашу страну от иноземцев. Но только в одном случае: когда все будет по закону! А если мы неизвестно откуда привезем ему корону, не только он, но и остальные могут поверить, что корона поддельная. И тогда пошатнется его власть, положение, я уж не говорю о том, что ждет нас. Ведь вы же рассчитывали на то, что он обласкает вас и одарит почестями. Даст разрешение на существование колонии. Верно?
— Да, — кивнула я, завороженная его рассуждениями.
— Вы рассуждаете, как истинные европейцы: подарок — услуга. А у нас не так. А вдруг вы подменили рубины? Вдруг вы хотите не того, что просите, а совсем другого? Ведь не зря у нас дьявол белокожий. Теперь понятно?
— Понятно. И что теперь?
— То, что посоветовал мне Автоном: рубины должны лежать в Аксуме, возле Ковчега Завета. А уж потом пусть Менелик сам разбирается, ехать ему в Аксум или нет.
— И об этом надо сказать Аршинову.
— Он не согласится. Ведь это отдалит получение разрешения на существование колонии.
— Подожди… А как Менелик узнает, что рубины, хранящиеся в Аксуме, настоящие? Ведь кто может поручиться, что мы не подменили корону?
— Я могу доказать.
— Как?
— Полин, я не хочу сейчас говорить об этом. Это семейная тайна, переходящая в нашем роду из поколения в поколение. Лишь могу сказать, что доказать подлинность рубинов можно только рядом с Ковчегом. И если я это сделаю, то Менелик уже не сможет возражать и отдаст вам права на колонию. Теперь понятно, почему нужно, чтобы рубины оказались рядом с ковчегом?
— Теперь понятно. Пойдем спать, а завтра расскажем участникам экспедиции. Утро вечера мудренее.
— Что?
— Пошли спать, мой принц. Поздно уже.
* * *
Утром позавтракали остывшей крокодилятиной. Когда все насытились, я попросила внимания:
— Друзья мои, хочу с вами посоветоваться…
И я рассказала то, что слышала от Малькамо. Известие о том, что вместо того, чтобы возвращаться на юг, в Аддис-Абебу к Менелику и на этом закончить наше путешествие, мы должны продвигаться на север, охваченный войной и голодом, повергла всех в уныние. Колонисты предвкушали уже завершение тягостного пути, и вот, все их надежды обратились в прах.
— Полин, ты очень хорошо описала, почему Менелик может заподозрить нас в подделке рубинов, — сказал Аршинов. — Мне непонятно другое: как мы докажем, что они настоящие?
— Пусть это вам расскажет Малькамо, — ответила я.
Все обернулись и посмотрели на юношу. Тот сидел, опустив голову и сжав кулаки.
— Поверьте мне, — взмолился он. — Мне дано право доказать это, но я боюсь, ибо никто не знает, что может произойти.
— Послушайте, наш юный друг, — веско произнес Головнин, — вам не пристало сомневаться в нашем участии к вам. Почему же вы скрываете от нас вашу тайну?
— Может, мы сможем чем-нибудь помочь? — добавил Нестеров.
— Вам туда нельзя, — пробормотал Малькамо. — Монахи убивают каждого, кто приблизится к святыне.
— И тебя? — ужаснулась я.
— Меня могут пощадить, ведь я потомок царя Соломона и у меня в руках корона царицы Савской. Но я и в этом не уверен…
— Расскажи нам, что это за Аксум и как туда попасть, — предложил юноше Аршинов, видя, что он в совершенном отчаянии. Я облегченно вздохнула: руководитель экспедиции уже не был настроен так категорически против, как в начале беседы.
По словам Малькамо, Аксум находится в провинции Тигре, а западу от Адуа. Точно так же, как Реймс был местом коронации французских королей, в Аксуме короновались абиссинские негусы. Город пережил и эпоху расцвета, и столетия забвения. Аксум полтора тысячелетия назад соперничал с Византией по своей мощи и красоте. Аксумиты жили богато и счастливо. Находясь на перекрестке торговых путей по Красному морю и Восточной Африке, они торговали слоновой костью, леопардами, золотом и изумрудами, пряностями и парчой. Процветала работорговля. В городе строили огромные стеллы-обелиски, возвеличивающие аксумских царей и святыни города. Надписи были сделаны на древне-эфиопском языке геэз, греческом и сабейском.
Чем же был так привлекателен город? Почему в него стремились люди, селились в нем, работали, не покладая рук, и разносили славу о нем по всему миру?
Дело в том, что сын Соломона Менелик, укравший Ковчег Завета, спрятал его в Аксуме, и с тех пор значимость города возросла невероятно.
Почему Менелик совершил это преступление? Так он отплатил за доброту отца, принявшего его со всеми подобающими почестями?
Менелик долго жил у царя Соломона. Он видел, как царь все более и более идет на поводу у своих многочисленных жен-язычниц, позволяет строительство капищ для того, чтобы они могли молиться своим богам. Ведь написано в Библии: "Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской".[67] Все видел Менелик, и сердце его сжималось от страха и боли за священную реликвию. Поэтому он и решил украсть ковчег, перенести в безопасное место, чтобы не осквернили его язычники.
Менелик, с помощью верных друзей — юношей из богатых иудейских домов, украл ковчег, в котором хранились золотой сосуд с манной небесной, жезл Ааронов и две скрижали с десятью заповедями. Сам ковчег, вытесанный из дерева гофер,[68] длиной был два с половиной локтя, высотой и шириной по полтора локтя, и покрыт внутри и снаружи тонким листовым золотом. Венчала сооружение крышка из чистого золота с фигурками двух херувимов на ней.
Это описание прочитал Малькамо в священной книге эфиопов "Кебра Негест".[69] Полны восхищения слова о ковчеге: "Его вид подобен яшмовому камню, от которого исходит свет и серебряный блеск. При взгляде на него чувства мешаются, а глаза отказываются верить чуду Божьему, представленному перед тобой".
С огромными трудностями и препятствиями вывез Менелик ковчег в Эфиопию. А когда добрался до Аксума, то повелел выстроить часовню с подземным хранилищем, поставить туда ковчег и приставить к нему хранителя-отшельника. Этот хранитель не имеет права покидать ковчег ни на минуту — он живет там, в хранилище, но даже ему нельзя поднимать покров, которым накрыт священный символ. Покров этот тяжелый, сплетен из кольчужных колец и полностью закрывает ковчег.
Раз в год, во время праздника Тимката[70] выходят из аксумской церкви православные эфиопские священники в белых одеждах, расшитых золотом и выносят на толстых кедровых брусьях тщательно укутанный ковчег. Он очень тяжелый, поэтому его несут от двенадцати до шестнадцати священников. На время праздника поверх обычных покрывал накидывают разноцветные бархатные и парчовые, расшитые местными искусницами. Священников сопровождают люди с тимпанами и трещотками — они поют псалмы и приплясывают. По краям процессии вышагивает почетный караул, вооруженный саблями и копьями. Монахи несут таботы[71] — доски с эфиопским крестом посредине. Женщины выкрикивают слова радости и разбрасывают цветы под ноги процессии…
— Малькамо, — остановил Аршинов воспоминания юноши, — когда празднуют праздник Тимката?
— В начале марта, — не сразу ответил юноша, сбитый с толку вопросом.
— Понятно… Что ж, это интересно, — пробормотал Аршинов как бы про себя. — Сейчас середина февраля, значит, мы вполне сможем успеть к празднику в Аксум.
— А где кончается крестный ход? — спросил Головнин.
— В отдалении от часовни строят палатку, называемую Скинией Завета, в которой ковчег будет находиться всю ночь. Потому что наутро начинается крещение, и люди хотят, чтобы оно происходило в присутствии святыни.
— Но ведь ковчег никто никогда не видел! — удивилась я. — Какая разница, что там накрыто расшитым покрывалом?
— Что ты, Полин, — ужаснулся Малькамо. — Ни одному смертному до Страшного Суда нельзя не только прикасаться к ковчегу, но и видеть его. Иначе смерть, ужасная и жестокая: люди покрываются моровыми язвами и погибают. Так описано в Библии. Хоть Автонома спроси.
— И бысть по прешествии его, и бысть рука господня на граде, мятеж велий зело: и порази мужы града от мала до велика, и порази их на седалищах их,[72] - не преминул вмешаться Автоном.
Эта история напомнила мне прочитанную в детстве книгу о девочке Алисе. Там описывался Белый Рыцарь, у которого была мечта:
Мне хотелось бы покрасить Бакенбарды в цвет зеленый, В руки веер взять побольше, Чтобы их никто не видел.[73]Для чего нужна священная реликвия, если ее никто не видит и никто не прикасается? Вот у нас в храмах к чудотворным иконам и мощам прикладываются, лобызают, крестные ходы устраивают, чтобы их все видели. А тут под тремя покрывалами держат, и никто не знает, это настоящий ковчег или нет. Что-то тут не так…
Мои размышления прервал Головнин:
— Несколько лет назад я путешествовал по Аравии. И один кочевник рассказал мне легенду. В святом городе мусульман Мекке есть мечеть. А в нее висит занавес под названием "кисва".[74] На занавесе вышито золотом изречение на арабском: "Кто заглянет за занавес, то узнает свое будущее, но уже никогда не испытает счастья". Говорят, что с того дня как висит занавес, ни один человек не заглянул за занавес, и что за ним спрятано — неизвестно. Может, и с ковчегом так?
— Любопытной Варваре нос оторвали, — подытожил Аршинов дискуссию. — А так как мы любопытны, но носами все же дорожим, то наметим маршрут и вперед, чтобы успеть к празднику Тимката.
* * *
Глава двенадцатая
Прощание с жителями деревни. Беженцы. Гондар. Губернаторские жена и дочка. Разговор в бане. Обед. Губернаторша предлагает отдохнуть. Ночное нападение. Цагамалак находит корону. Георгий спасает положение.
За несколько дней мы переделали множество дел: похоронили Григория, наказав Агриппине ухаживать за могилой. Она выглядела спокойно и даже расцвела — жизнь в племени оромо пошла ей на пользу. Груша не сводила взгляда со своего мужа, которого нежно называла Васяткой. Тот жмурился и ухал от удовольствия. Георгий хмурился и отворачивался. Мне было даже немного жаль его.
Аршинов вновь проявил себя настоящим коммерсантом. Туши крокодилов, убитых нашей экспедицией, он поменял на трех верблюдов, немного полезной утвари и мешок с просом, их которого жители племени варили кислое пиво. Нам навялили крокодилятины, налили в калебасы свежей воды и под причитания Агриппины собрались на главной площади деревни, там, где проходили ритуальные танцы.
Старый эфиоп начертил нам на листе бумаги, вырванной из ветхой Библии карту. Дорога пролегала извилистой тропой, на которой были начертаны буквы амхарского шрифта. Малькамо, склонившись над картой, прочитал названия городов и деревень: Горгора, Гондар, Бегхемдир, вверх по горам Семиенским (эфиопы не говорят — на восток или прямо, из-за рельефа местности они говорят вниз или наверх), Ади-Аркай, Таказзе, Адуа, Адиграт, и в Аксум к ковчегу.
Мы распрощались с гостеприимными жителями. Многие девушки тыкали себя пальцем в живот, а потом указывали на наших мужчин. При этом они широко улыбались, показывая тем самым, что с радостью понесли. Откуда им это было известно, я не знала, ведь прошло всего несколько дней.
На одного верблюда взобрались мы с Малькамо, на другого Головнин с Нестеровым, на третьего — Аршинов. Георгий и Автоном шли рядом пешком.
До сих пор я никогда не ездила верхом на верблюде. Мне было страшно: верблюд выше лошади, идет иноходью, отчего меня качало из стороны в сторону. Я все время боялась сверзиться и лишь Малькамо, сидевший сзади меня, успокаивал и поддерживал.
Точно так же себя чувствовал и Нестеров, боявшийся высоты. Головнин держал его за пояс и уговаривал не бояться, но тот лишь крепче прижимал к груди свой любимый фотографический аппарат. Аршинову же все было нипочем. Он сидел, подогнув одну ногу под себя, и выглядел так, словно всю жизнь провел в верблюжьем седле.
Заночевали мы в заброшенном городе Горгора, в церкви с остатками росписей на них. Георгий сварил просяную кашу, бросил туда вяленого мяса, и мы поели. Было холодно, поэтому все улеглись вокруг костра, в который дежурный подбрасывал хворост. Ночью я почувствовала, что кто-то накрывает меня еще одним покрывалом, но не проснулась: я была уверена, что это Малькамо, которому выпала очередь дежурить.
Утром, доев остывшую кашу, тронулись в путь. Я, полусонная, качалась в седле, за талию меня крепко обнимали руки принца. Все было по-прежнему, но я чувствовала, что нечто изменилось в отношениях между членами экспедиции, появилась некая напряженность: мы уже не обменивались шутками, не расспрашивали друг о друге, не пели дорожные песни. Не хватало еды, мыла, обычных вещей, скрашивающих и облегчающих кочевую жизнь. Башмаки мои почти развалились, а заменить их было нечем: абиссинцы ходят босиком и не шьют обувь.
Но мы с маниакальным упорством продвигались вперед, к цели нашего путешествия — священному Аксуму. От нас зависела судьба сотен людей, ждущих нашей помощи.
На дорогах стали появляться беженцы. Голодные и оборванные, они тоже шли на север, спасаясь от войны. Они рассказывали, как итальянцы расстреливали целые деревни из пушек, а их собственные военачальники силком сгоняли мужчин участвовать в военных действиях. Те, кому удавалось избежать насильственной мобилизации, убегали в горы и сколачивали бандитские шайки, устраивали засады на дорогах, грабили путников и захватывали заложников. Несколько раз мы натыкались на тела людей, просто умерших от недоедания и упавших вдоль дороги. Все это не добавляло хорошего настроения.
Дорога вела все выше и выше, и я стала ощущать нехватку воздуха. Мне постоянно было холодно, а жесткое верблюжье седло натерло ноги. Малькамо утешал меня, он шептал мне на ухо, что скоро будет Гондар, большой город, и там мы найдем кров и стол. Но мне было тревожно.
Внезапно на склоне горы перед нами появились высокие крепостные стены, сложенные из темного камня. Тяжелые деревянные ворота с массивными запорами преграждали путь в город. Над воротами возвышалась сторожевая башня — круглая, похожая на минарет.
— Вот он, Гондар! Бывшая столица Абиссинии! — воскликнул Малькамо.
— А почему ворота на запоре? — спросил Аршинов. — Ведь ночь еще не наступила.
Мы спешились, Аршинов с Малькамо отправились договариваться со стражниками. После того, как они выяснили, что мы не итальянцы, ворота распахнулись и нас впустили внутрь.
Мы шли и озирались по сторонам: такого города мы еще не видели. Улицы поднимались и опускались под крутым углом, дома, как круглые «тукуль», традиционные, покрытые соломенной крышей, так и прямоугольные «хыдмо», сложенные из саманного кирпича, теснились один к другому. Иногда между домами появлялся просвет: там, в огороженных двориках, кудахтали куры и блеяли козы. Их шеи украшали деревянные колокольца. Перед многими домами на столбах были установлены навесы для отдыха в жаркий полдень.
— Где у вас тут постоялый двор? — спросил Аршинов мальчишку, который стоял, уставившись на нас во все глаза. Тот охотно показал куда-то наверх и направо.
Мы направились в гостиницу, и когда уже подошли к самым дверям, то послышался гортанный клич. Прохожие обнажили головы, и только мы остались стоять в недоумении.
Мимо важно и неторопливо проходила процессия. Впереди глашатаи на конях, с богато расшитой сбруей, затем воины в леопардовых шкурах, а за ними открытая повозка, устланная ткаными циновками и подушками-валиками. В карете сидели две женщины: одна постарше, необъятной толщины, с тремя подбородками, и другая, помоложе, годящаяся первой в дочки. Они были разряжены так, что глазам больно: их украшали золотые цепи, кольца, на головах замысловатые платки из парчовой ткани.
Старшая дама махнула рукой, процессия остановилась. Младшая сморщила нос — от наших верблюдов исходил стойкий запах. Да и мы выглядели, как бродяги с большой дороги.
Дама приказала что-то офицеру, скачущему рядом. Тот приблизился и резко выкрикнул, обращаясь к нам. Малькамо ответил, офицер замахнулся плеткой.
И тут один из верблюдов тряхнул головой и плюнул прямо в лицо офицеру. Тот весь оказался в грязно-зеленой дурнопахнущей пене, закричал и стал оттирать лицо леопардовой шкурой.
На нас бросились другие офицеры, стали теснить, и тут Малькамо закричал:
— Цагамалак!
Он словно сказал волшебное слово. Свита остановилась, на лице у толстой дамы появилось удивленное выражение, она поманила юношу пальцем и воскликнула:
— Малькамо! — он бросился к ней, и они обнялись, троекратно расцеловавшись.
— Полин! Николя! — закричал он. — Это моя тетушка Цагамалак! Кузина моей матери! Она жена губернатора. А это ее дочка Оливия. Познакомьтесь.
Все решилось на удивление быстро. Ни в какой постоялый двор мы не попали, а прямиком направились в губернаторский дворец на площади Пьяцца — так ее назвали итальянцы, построившие полтора десятка лет назад дороги из Гондара на юг Абиссинии.
Дворец, названный в честь основателя Гондара императора Фасилидаса, представлял собой несколько зданий со сводчатыми крышами, обнесенных каменной оградой, с двенадцатью круглыми коническими башенками, выстроенными через равные интервалы. Усадьба включала в себя и собственную церковь с домом призрения для старых священников-дабтаров, трехэтажный дом губернатора с балконами резного дерева, баню, три домика для гостей, и даже львятник — специальное помещение, где всегда держали львов, символ провинции Гондар. Сейчас львов не было, лишь чучело последного из них заполняло собой небольшую комнату.
Особенно нашу экспедицию, не мывшуюся со дня падения в водопад, обрадовала баня. Слуги разожгли огонь под глиняными трубами, по которым текла вода, и мы прошли в две комнаты, где нас уже поджидали слуги.
С наслаждением опустившись в бассейн с горячей водой, я предоставила себя в распоряжение губернаторских служанок, одетых в полупрозрачные шаммы на голое тело. Они принялись тереть меня жесткими губками и махровыми тряпицами, надутыми, как мыльные пузыри и тихонько переговаривались между собой — дивились моей белой коже, которая уже порозовела под их энергичными натираниями. Я лежала и прислушивалась: из соседней комнаты доносились смех, шлепки и вскрикивания служанок. Там было весело. Мои девушки с завистью посматривали на закрытую дверь.
Поняв, что им хочется, я сжалилась и уже собралась было отпустить служанок в соседнюю комнату, как тут меня ужалил страх. Где рубины? Ведь мы тут все голые, а грязную одежду слуги унесли.
— Стой! — закричала я на амхарском, это было одно из немногих слов, что я выучила. — Где Малькамо?
Служанка выпучила от страха глаза и опрометью понеслась в соседнюю комнату.
— Стой! — закричала я еще громче. — Дай шамму!
Не представать же перед мужчиной в наряде праматери Евы.
Испуганная девушка подала мне кисейное платье, украшенное вышивкой по подолу и ушла в мужское отделение. Я быстро натянула на себя шамму, но вышло еще хуже, если бы я даже была раздетой: тонкая кисея облепила мокрое тело и обнажила все, что можно и нельзя было обнажать.
Такой и застал меня Малькамо: отмытой, розовощекой, в мокром платье на голое тело. Его бедра были покрыты белым куском материи.
— Полин! — бросился он ко мне. — Ты звала меня! Я ждал, что ты позовешь!
— Подожди, — я отвела назад его протянутые ко мне руки, — я вот для чего тебя звала… Где рубины?
— У Николя, — юноша недоуменно посмотрел на меня. — А что случилось?
— А где Аршинов?
— В той комнате, моется.
— Он в короне моется?! — гневно я. — Куда он спрятал рубины, ведь нашу одежду забрали.
— Н-не знаю…
— Немедленно ступай и расспроси его. Да, и вот еще что: нам надо всем собраться и решить, что мы будем рассказывать губернатору. Нельзя ему открывать тайну рубинов, хоть его жена и приходится тебе теткой.
Малькамо скрылся за дверью, и через несколько минут появился вновь:
— Полин, мы ждем тебя, — произнес он, смущаясь.
— Иду.
Вслед за ним я вошла в окутанную паром комнату. Мужчины, закутавшись в белые простыни, сидели на скамьях вдоль стен. Георгий шлепком выпроводил служанок, бросавших на меня испуганно-заинтересованные взоры.
— Прости, Малькамо, мы будем говорить по-русски. Я и Полина переведем. Просто я не хочу, чтобы кто-нибудь подслушал то, о чем мы будем говорить, а русского, я надеюсь, тут никто не знает. Согласен? — спросил Аршинов юношу.
Тот кивнул.
— Аполлинария Лазаревна, прежде всего, не волнуйтесь, сундучок вот он тут, под лавкой. Я с него глаз не спускаю.
— Вот и славно. Напрасно я тревогу забила, — улыбнулась я.
— Нет, совсем не напрасно, — в разговор вступил Головнин. — Все произошло так быстро и неожиданно, что мы не успели договориться о совместных действиях. Надо выработать общий план: кто мы, зачем и куда идем.
— Камо грядеши, — пробормотал Автоном. На его бороде серебрились капельки воды.
— Ни в коем случае нельзя рассказывать о рубинах! — взволнованно произнес Нестеров. — Отнимут.
— Пусть только попробуют, — нахмурился Георгий.
— Георгий, голубчик, Арсений прав, — вмешался Аршинов. — нашу тайну надо хранить пуще зеницы ока. Никто не знает, чего захочет губернатор, узнав, что мы владеем коронационными рубинами.
— Малькамо, — обратилась я к юноше, — скажи, губернатор сторонник Менелика или твоего отца?
— Не знаю, — он пожал плечами. — Я вообще его не помню. Только тетю, она приезжала к нам без него, когда я был маленьким.
— Тогда надо быть крайне осторожными, — подытожил Аршинов. — Решено! Мы едем на праздник, ибо слава священного Аксума достигла и наших краев. Ну, а уж там будем действовать по обстоятельствам.
— А почему мы были так плохо одеты и грязные? — спросила я.
— Ну, это легко объяснить. По дороге на нас напали разбойники и отобрали последнее.
— А что это у вас в сундучке? Что будет, если спросят?
— Ничего особенного, дорожные принадлежности. Георгий, у нас просо осталось?
— Да, — кивнул осетин.
— Надо засыпать корону просом доверху.
— Будет исполнено!
— Малькамо, зови служанок, пусть несут одежды!
* * *
Одежды принесли богатые! Мы принарядились: я в белоснежную шамму с вышитой грудью и подолом, мужчины — в шаровары зеленого атласа, широкие туники и накидки. Особенно Георгий выглядел представительно: точь-в-точь абиссинский генерал. Малькамо же смотрелся именно так, как должен выглядеть принц. Я залюбовалась им.
Мы попросили обувь. Босоногие служанки вернулись с грудой сандалий, которые держались на двух средних пальцах. Делать было нечего — обули то, что нам подали.
Нас повели длинными переходами, украшенными резными крестами и барельефами с изображением львов. Стены были покрыты яркой мозаикой, а на мраморных полах ветвились замысловатые узоры. Я шла и дивилась красоте и величию гондарского дворца.
Толстая тетушка Цагамалак поспешила нам навстречу, широко раскидывая руки. Точно так же бежала бы навстречу любая тетушка моего родного N-ска, встречая блудного племянника.
Еще раз крепко расцеловав его в обе щеки, она поочередно обняла каждого из нас и пригласила к низенькому столу, уставленному разными местными кушаньями. Мы не заставили себя ждать.
Стол ломился от яств. На нем, помимо неизменной инджеры, я увидела салат фиолетового цвета, трубочки из ростков молодого бамбука, начиненные мясом ягненка — «алличу», большие куски тушеного мяса с длинным перцем, мускатным орехом и гвоздикой — это блюдо называлось «гуршя», кашу из чечевицы со шпинатом. Все кушанья были приправлены таким количеством специй, что только от вдыхания аромата в горле начиналось першение, поэтому все присутствующие налегали на просяное пиво и медовуху «тедж». Еда, хоть и переперченная, была необыкновенно вкусна. Я пила приторный сок тропических фруктов.
Меня удивило такое изобилие при всеобщем голоде, но я смолчала. Роскошь дворца приводила меня в смятение. А когда губернаторская дочка, сидящая рядом с Малькамо, принялась в знак особого к нему расположения, отрывать куски инджеры, заворачивать в них мясо и совать тому в рот, мне стало не по себе. Малькамо, впрочем, относился к этому действу, как само собой разумеющемуся.
— Рассказывайте! — потребовала она. — Я хочу все знать, как ты, мой милый мальчик, оказался в наших краях, и где познакомился с белокожими друзьями?
В отличие от Малькамо она была угольно-черной. Кожа лоснилась и напоминала густую шоколадную глазурь, в которую наша кухарка добавляла изрядную долю сливочного масла, чтобы блестела.
Малькамо принялся рассказывать. Мы сидели и не понимали, но он так убедительно показывал виселицу, нас, скачущих на конях, чтобы его освободить, что тетка с дочкой ахали и прижимали руки к груди и щекам.
— Малькамо, ты ври, да не завирайся, — пробурчал Аршинов по-французски. Он смотрел в сторону, но юноша его понял и осекся. — О крокодильей норе ни слова.
— А где губернатор? — спросила я, чтобы прервать неприятную паузу.
Оказалось, что губернатор уже несколько недель, как выехал руководить военными действиями, и от него изредка приходят с курьером записки, что с ним все в порядке. Губернаторша сама железной рукой наводит порядок в доме, монастыре и во всем городе, но очень устает без мужской руки. Тут Цагамалак так выразительно посмотрела на Малькамо, что я поняла все даже без перевода.
Хозяйка хлопнула в ладоши и в комнату вошли три женщины. У каждой на голове, на небольшой подушечке покоился глиняный сосуд, похожий своей формой на лабораторную колбу: круглый и приземистый внизу с очень узким длинным горлышком наверху. Я ощутила сильный аромат кофе. Каждая налила нам по маленькой чашечке, и я вновь отведала божественный напиток, который ни в какое сравнение не шел с тем кофе, что я пила в N-ской кофейне в Александровском саду. Аромат пьянил и возбуждал, все чувства были обострены до предела.
Кроме кофе прислужницы выложили на стол пучки травы, под названием «гат». Губернаторша предложила пожевать, чтобы снять усталость и все потянулись попробовать. Только Автоном не притронулся к травке, он сосредоточенно пил пиво и молчал, как обычно.
Умница Николай Иванович, заметив мое состояние (я даже есть перестала, так как кусок не лез в горло), стал просить губернаторшу помочь нам добраться в Аксум на праздник Тимката. Цагамалак обещала подумать, а пока пригласила нас отдохнуть у нее во дворце, ведь до праздника еще оставалось несколько дней.
Отдых, действительно, пошел бы нам на пользу, поэтому Аршинов согласился, но добавил, что мы остаемся ненадолго.
Следующие дни прошли чудесно! Мы гуляли по саду, ели, спали, купались в бане — это было то, что нам не хватало все тяжелые дни путешествия. Губернаторша не часто чтила нас своим присутствием: она, действительно, была занята управлением в отсутствие своего мужа, а вот дочку свою, Оливию, она посылала к нам каждое утро. Та приходила, окруженная сонмом служанок, нагруженных подносами со сластями и фруктами, и не уходила до вечера. Она постоянно следовала тенью за Малькамо, всегда молчаливая, но от этого не менее назойливая. Принц обходился с ней с подобающей ее статусу вежливостью, но, как я поняла, такое состояние дел его тяготило. Оливия же продолжала в знак своего расположения к нему, кормить его с рук, чему Малькамо не мог противиться, иначе это было бы нарушением этикета.
Когда мы отдохнули и набрались сил, то назначили время отъезда. Аршинов вел долгие переговоры с губернаторшей, ей по всему нравилось общество казака, и она охотно предоставила нам крепких мулов и повозку для поездки в Аксум. Повозка нужна была для еды, одеял и ружей, которые Аршинов тоже смог выпросить у Цагамалак. Наверняка, она почувствовала к казаку слабость в отсутствие мужа.
Наконец, было решено выехать на рассвете. В ночь перед отправкой мне не спалось. Круглая луна светила в окошко, слышался вой гиен, вышедших на полночную охоту. Я смежила веки и отвернулась к стене. Заснуть удалось не скоро.
Вдруг тишину нарушил грохот падающего глиняного горшка. Я резко повернулась и увидела в свете полной луны темный силуэт и руку с занесенным поблескивающим ножом. Ни секунды не раздумывая, я согнула ноги в коленях и со всей силы ударила нападавшего в живот. Тот отлетел, ударился об угол и жалобно застонал.
Меня спас ночной горшок, как не неприлично для бывшей воспитанницы женского института сие высказывание. Несостоявшийся убийца наткнулся на него в темноте. Так как я спала на некоем подобии сундука, поэтому не было никакой возможности спрятать его под кровать. Как часто бывает, нелепая мелочь играет значительную роль в судьбе.
Вскочив с кровати, я бросилась к непрошенному гостю и в ярком свете луны с ужасом обнаружила, что это Оливия. Пришлось взваливать ее на себя и волочить в кровать.
Но что мне с ней было делать? Она же не поймет меня! Надо бежать к Аршинову. Будить ночью Малькамо мне даже не пришло в голову.
По темному коридору я прокралась к комнате казака и постучалась в дверь.
— Николай Иванович, откройте, это я, Полина!
Послышались звуки босых ног, дверь приоткрылась:
— Полина, что случилось?
— Идемте ко мне, там такое!
Он вышел и притворил за собой дверь.
— Пошли!
Аршинов зашел в комнату и увидел на кровати девушку.
— Как она тут оказалась?
— Она пыталась меня убить. Вот этим ножом.
Девушка лежала в моей кровати и стонала, держась за живот.
— Мда… Крепко вы ее, Полина, — он наклонился и произнес несколько слов. Девушка со стоном ответила. — Говорит, от ревности она вас хотела заколоть, уж больно ей наш Малькамо понравился.
Пришлось сделать вид, что для меня это новость, хотя я неоднократно кипела от возмущения, наблюдая раскованные нравы губернаторской дочки. Было заметно, что она не привыкла ни в чем себе отказывать.
Оливия вновь застонала и что-то пробормотала.
— Мать зовет, — перевел Аршинов. — Вы ей, Полина, кишки-то не перебили? А то не оберемся хлопот.
— Не знаю, — ответила я, беспокоясь за девушку. — Может, действительно, найти губернаторшу? Только вот где ее искать? Весь дворец на ноги поднимем.
— Ну, уж, этого я не допущу, — усмехнулся Аршинов. — Пошли за мамашей.
В полной темноте мы побрели обратно, держась за стенки. Когда дошли до комнаты Аршинова и открыли дверь, то ярком свете луны пред нами предстала удивительная картина: на коленях перед кроватью стояла губернаторша Цагамалак. Из одежды на ней была только шамма, обернутая вокруг мощных бедер. Тяжелые груди свесились до самого пола. Рядом валялся сундучок с распахнутой крышкой, повсюду рассыпано просо. В руках женщина держала корону царицы Савской.
Издав львиный рык, Аршинов бросился на губернаторшу, пытаясь вырвать у нее из рук корону, но не ту-то было. Цагамалак прижала ее к груди, повернулась задом и принялась брыкаться. Казак и тут не растерялся: оседлал ее и стал выдирать корону, запрятанную глубоко между грудей.
Наконец, ему удалось отобрать сокровище.
— Лови! — крикнул он и бросил мне корону. Я схватила ее обеими руками, а Аршинов содрал с губернаторши шамму, разорвал на две части, одной связал ей руки, а вторую смял и засунул ей в рот кляп. Потом ремнем смотал ей ноги так, что Цагамалак оказалась полностью стреноженной. Только тогда он отошел в сторону, устало вздохнул и вытер пот со лба.
— Что делать-то будем, Николай Иванович? — спросила я. — В моей комнате дочка, здесь мать, и обе в непрезентабельном виде. Как бы выйти сухими из воды?
— Да, Полина, занесла нас нелегкая. Надо друзей звать. Покараульте ее, а я схожу, соберу всех.
Он аккуратно укрыл обнаженную губернаторшу и вышел, а я осталась сторожить. Попутно я рассматривала корону, нежная оправа была погнута, а рубины сидели косо. Я попыталась исправить то, что напортила Цагамалак, но у меня не очень-то получалось.
Она сидела молча и лишь сверкала белками глаз. Мне было страшно, а вдруг она сейчас развяжется и набросится на меня.
Так прошло несколько томительных минут. Я четыре раза прочитала про себя "Отче наш". Скрипнули половицы, и в комнату вошли мои спутники.
Аршинов подошел к Цагамалак, сказал ей несколько слов, она кивнула, и он вынул у нее изо рта кляп. Женщина тяжело задышала и принялась тоненьким голосом быстро что-то выговаривать Николаю Ивановичу. Тот послушно кивал головой, но потом сделал отрицательный жест рукой. Так они препирались довольно долго, пока первым не выдержал Головнин:
— Малькамо, о чем они спорят?
Как оказалось, губернаторше была известна корона. Она видела ее на голове у Иоанна, отца Малькамо, и сразу смекнула, что неплохо бы завладеть таким неоспоримым доказательством против Менелика Второго. Ее муж был сторонником нынешнего негуса, а она решила выдать свою дочку за Малькамо и усадить его на трон Абиссинии. Аршинов возражал ей, он говорил, что мы обещали корону Менелику, вот только сходим на праздник ковчега, чтобы очистить корону и добавить ей святости, и немедленно вернемся в Аддис-Абебу, и что нечего ей вмешиваться в политику. Цагамалак же заявила, что дает нам время до рассвета, так как утром явятся слуги и поднимут тревогу.
— Николай Иванович, спросите ее, почему она подослала дочь убить меня? — сказала я по-французски, чтобы и юноша меня понял.
При этих словах Малькамо задрожал и вперил гневный взгляд в губернаторшу. Будь его воля, он бы придушил ее собственными руками.
Оливия сама решила меня заколоть, Цагамалак тут ни причем. Она влюбилась в Малькамо с первого взгляда и тут же почувствовала во мне соперницу. А так как она была единственной избалованной дочкой, привыкшей получать все, что захочет, то решила избавиться от меня так, как подсказало ей ее душа. Ведь она видела сотни умирающих от голода людей в то время, как она не испытывала ни в чем нужды. Что ей чужая жизнь, да еще белой «фаранжи» — чужеземки? Как же интересно играют ангелы-хранители нашими судьбами: меня спас ночной горшок! О таком спасении даже стыдно кому-либо рассказать. Интересно, как она там, пришла ли в себя, или лежит в моей постели, держась за живот? Хорошо бы привести ее, от греха подальше сюда, к нам, иначе она поднимет тревогу.
Сходить за ней вызвался Георгий. За то время пока он отсутствовал, Цагамалак выдвинула требование: мы оставляем во дворце Малькамо, с нами отправляются ее слуги. После очищения короны перед ковчегом на празднике мы все возвращаемся обратно, устраиваем пышную свадьбу с коронацией Малькамо, а потом мы можем отправляться на все четыре стороны, хоть к Менелику, хоть к черту на рога!
Даже Автоном хмыкнул, когда она это все произнесла. Губернаторша так надеялась на помощь слуг, что не отдавала себе отчета в собственном бесславном положении.
Не успел Аршинов все перевести, как явился Георгий, неся на руках Оливию, обвившую его шею.
С криком "Дочь моя!" Цагамалак вскочила с постели, покрывало упало, обнажив ее, и тут же свалилась вновь, так как путы на руках и ногах не разрешали ей сделать и шага.
— Спокойнее, спокойнее, — проговорил Аршинов, вновь заботливо укрывая ее, — вот видишь, твоя дочь в целости и сохранности, и это даже несмотря на то, что она покушалась на жизнь нашей соотечественницы.
— Она — губернаторская дочь! — гордо произнесла Цагамалак. — И выйдет замуж только за принца! Для этого все средства хороши.
Нестеров не выдержал:
— Николай Иванович, чего мы ждем? Вы разве не видите, она время тянет, слуг дожидается. Надо на мулов и бежать.
— Бежать не получится, — ответил Аршинов. — Где стоят мулы, — нам неизвестно, да и тихо покинуть дом нам не удастся. Придется уговаривать.
Тем временем Оливия подбежала к матери и принялась сдирать с нее путы, одновременно что-то причитая тоненьким голоском. Мы не препятствовали: что могут две женщины сделать против стольких мужчин, да и не в наших планах было с ними ссориться. Цагамалак отвечала дочери резко и отрицательно качала головой, выражая всем своим видом сильное возмущение. А потом изо всей силы залепила ей пощечину! Я подумала, что вот оно — возмездие за то, что девушка ночью набросилась на меня, но как оказалось, не я была причиной материнского гнева. Оливия продолжала плакать и упрашивать мать.
Аршинов заинтересованно прислушивался к воплям девушки, Малькамо с облегчением вздохнул, прислонился к Автоному, а тот его перекрестил, Головнин с Нестеровым удивленно переглядывались, и лишь Георгий стоял, как статуя с обнаженным торсом, в блестящих шелковых шароварах и сандалиях с двумя ремешками. Ни единым движением он не выдавал своих чувств.
Наконец, Цагамалак кивнула, отстранила от себя дочь и что-то сказала Аршинову. Тот поклонился и поцеловал ее в обе щеки. Потом подошел к Георгию и также троекратно его облобызал.
— Кто-нибудь скажет мне, что тут происходит? — спросила я, вне себя от любопытства.
Малькамо поднял на меня счастливые глаза:
— Полин, Оливия просит мать оставить вместо меня Георгия! Он ей понравился, и она хочет выйти за него замуж.
— Но Георгий не принц! — вырвалось у меня.
— Неважно, она хочет только его.
Аршинов хлопнул осетина по плечу:
— Ну, Георгий-победоносец, и тут не сплоховал! Уложил губернаторскую дочку на обе лопатки. Сам-то как, согласен послужить делу колонии.
Осетин важно кивнул и снова застыл.
— Он же не принц? — шепнула я Аршинову.
— Зато в любви — бог! — ответил мне казак и подмигнул. — А это важнее, чем быть принцем.
На том и остановились. Светало. Аршинов пошел проводить Цагамалак до ее покоев и заодно договориться насчет мулов. Мы разошлись по своим комнатам.
* * *
Поспать мне удалось не более двух часов.
— Полин, вставай, собирайся, скоро выезжаем, — Малькамо зашел ко мне в комнату и присел возле постели. Я тут же почувствовала себя неловко: сонная, с кругами под глазами, растрепанная. — Сейчас служанки принесут воду, умоешься, приведешь себя в порядок. Мы ждем.
И он наклонился, чтобы поцеловать меня в лоб, но я откинулась назад, и его поцелуй пришелся в губы. Мы смутились оба. Юноша отпрянул от меня и что-то пробормотав, выскочил из комнаты.
На губернаторском дворе уже стояла повозка, запряженная парочкой крепких мулов. На повозку были уложены одеяла, оружие, бурнусы, мешки с едой — все, что могла понадобиться нам в поездке в Аксум. Рядом прядала ушами пятерка крепких низкорослых лошадок под седлами со стременами для большого пальца.
Цагамалак стояла на ступеньках, возвышаясь над снующими слугами. По ее роскошному одеянию и надменному виду нельзя было понять, что всего несколько часов назад она лежала обнаженная в постели Аршинова с кляпом во рту. Оливия стояла рядом с ней, вид у нее был самый счастливый. Георгий застыл статуей, держась за роскошно инкрустированный кинжал в богатых ножнах. На плечи у него была накинута львиная шкура, на талии — широкая перевязь.
— Кажется, наш Георгий-Победоносец вошел во вкус, — хмыкнул Головнин.
— Я непременно должен их сфотографировать! — заторопился Нестеров.
Так они и остались в моей памяти: роскошная губернаторша угольно-черного цвета, тоненькая порочная дочка и осетин-скала, неподвластный стихиям.
* * *
Глава тринадцатая
Ревность и зависть. История Аксума. Как добраться до ковчега? Прибытие в Аксум. Рекогносцировка. Вынос ковчега. "Совет в Филях". Ведьмина трава. Малькамо открывает тайну рубинов. Операция началась. Автоном удивляет. Витилиго. Ковчег действует.
Мы осторожно продвигались вперед горными тропами, опасаясь камнепадов и оползней. Мулы шли медленно, мои спутники часто спешивались и шли рядом, держа лошадей под уздцы.
— Арсений Михайлович, — как-то спросила я Нестерова, идущего вровень с моей повозкой. — Меня мучает и не отпускает мысль: почему Оливия на меня набросилась? Неужели человеческая жизнь для нее игрушка, не стоящая и гроша?
— Понимаете, Аполлинария Лазаревна, обучение на биологическом факультете давно отучило меня от восторженного славословия человеку, как вершине бытия. Человек то же животное, только слегка облагороженное.
— Что вы такое говорите, Арсений Михайлович? — возмутилась я. А как же божественная искра? Стремления, помыслы, душа, наконец!
— Ах, оставьте, моя драгоценная. Все поведение человека обусловлено двумя самыми сильными страстями: стремлением к бессмертию, выраженное в детях, внуках и потомках, и желанием улучшить свою жизнь. То есть налицо цель и возможности ее достижения с помощью мощного стимула, основанного на сравнении своих и чужих достижений.
— Я не понимаю, вы имеете в виду зависть?
— Да, — кивнул Нестеров, — именно поэтому Оливия набросилась на вас. Вы для нее потенциальная убийца ее бессмертия, то есть ее будущих детей и внуков, которых она бы завела с Малькамо. А так как вам невозможно препятствовать, то вас следует уничтожить. Из зависти.
— Вы привели крайний, болезненный случай, — возразила я. — Почему именно зависть движет людьми? А не стремление помочь ближнему, чувство собственного достоинства. Да и зависть бывает разная, например, белая.
— Это эвфемизм, дорогая Аполлинария Лазаревна, — усмехнулся Нестеров. "Белая зависть" суть зависть черная, только выраженная в «благородной» форме. Не считаю сию страсть ни плохой, ни хорошей. Это просто жизнь, и человек старается выжить, как верблюд в пустыне, который инстинктивно идет по линиям наименьшей земной гравитации.
— Что-то вы мудрено объясняетесь, Арсений Михайлович.
— Если вам непонятны слова мои, давайте спросим у Автонома. Божий человек не обманет. Скажи, Автоном, душа-человек, что ты думаешь, почему губернаторская дочка напала на Аполлинарию Лазаревну?
— Видевши же Рахиль, яко не роди Иакову, и поревнова Рахиль сестре своей и рече Иакову: даждь ми чада: аще же ни, умру аз.[75]
— Вот вам и ответ, г-жа Авилова. Приревновала вас Оливия. А ревность от зависти недалеко расположена. По крайней мере, в животном мире именно так.
Мы помолчали. Потом я спросила:
— Арсений Михайлович, а что вы будете делать с фотографиями?
— Выставку хочу организовать. И ездить с ней по всей России, а может быть, и по Европе. Альбом издать. Ведь какие удивительные типажи нам попадаются. А вы в короне просто королева!
— Ну что вы, г-н Нестеров, не смущайте меня.
— Уверяю вас, Аполлинария Лазаревна, ваш портрет станет украшением выставки, как портрет Софьи Шлиман в драгоценностях Трои стал сенсацией на Всемирной выставке в Париже.
Вскоре на дорогах стало появляться все больше народу. Люди спешили на праздник Тимката. Они шли пешком и ехали в телегах, на ослах и верблюдах. Иногда на узких дорогах меж Семиенских гор возникал затор — так много было паломников. Матери несли в заплечных мешках младенцев, дети постарше бежали вприпрыжку рядом. И все были босыми, несмотря на холод, тянущийся от земли.
Мы проходили маленькие городишки, я попутно осведомлялась о названии. Аршинов или Малькамо говорили мне, что это Ади-Аркай, Таказзе, Адуа, Адиграт, но все эти конусообразные крыши слились для меня в один нескончаемый ряд и не вызывали уже никакого любопытства. Несмотря на комфортабельное путешествие в губернаторском возке я устала и изнемогала от затянувшегося путешествия.
Малькамо ехал рядом, молчал. Если разговаривал, то только с Автономом, ожесточенно жестикулируя. Его взгляд жег, как огненные стрелы. Он ничего не говорил, просто не отрываясь смотрел на меня, и в его глазах плескалась вселенская скорбь. Аршинов все замечал, но тоже ничего не говорил: вокруг меня образовался заговор молчания.
Чтобы разрушить сложившееся напряжение, я попросила юношу:
— Малькамо, расскажи нам, что ты знаешь о городе, в который мы направляемся?
Он, словно бы нехотя, ответил:
— Историю Аксума знает каждый образованный абиссинец. Нет в стране города, куда бы не стремился любой из нас. Кому-то удается попасть туда раз в год, кому-то раз в жизни, и путешествие это незабываемо. Святость места чувствуется лишь стоит пройти крепостные стены. Это потому, что в городе уже много веков хранится Ковчег Завета. Говорят, что подобное ощущается в Иерусалиме, но я в сомнении, ведь Ковчега там уже нет…
Мы неторопливо продвигались вперед, мулы цокали копытами, повозка мерно покачивалась, а Малькамо продолжал свой неспешный рассказ.
Аксум уже был известен в старинных летописях, написанных за полторы тысячи лет до рождества Христова. В них точно указывалось место сказочной страны Пунт, куда снарядила свои корабли дочь фараона Тутмоса I царица Хатшепсут. И этим местом был Аксум. Египтяне покупали здесь ладан и мирру, слоновую кость и древесину эбенового дерева, золото и янтарь, рабов-негров, живых обезьян и леопардов для зоопарка дочери фараона. А еще из Аксума везли на продажу панцири огромных морских черепах с островов Дахлак близ Адулиса, горный обсидиан для ножей, рог носорога, изумруды из местности Бежа и цибет.[76] Аксум чеканил золотые монеты, которые ценились во всем торговом мире.
Много веков спустя уже другие корабли — Хирама, царя Тира, шли вдоль берегов Красного моря, чтобы привезти царю Давиду сокровища Офира.
Автоном тут же не преминул вмешаться и произнес заутробным голосом:
— И корабль хирамль приносящь злато из Офира, и принесе древа нетёсана многа зело, и камение драгое.[77]
— Чует мое сердце, что не просто так царица Савская к Соломону направилась, — произнес молчавший до того Аршинов. — Из одного любопытства шубу не сошьешь. Там денежный интерес присутствовал. Небось снижения податей отправилась просить, заодно и очаровать, если получится. Не помешает.
Малькамо кивнул:
— Все верно. Наша царица торговала со многими странами: товары шли вдоль Красного моря в Египет, Сирию и Финикию, а вот дороги проходили по земле, починенной царю Соломону. Захочет он — караваны пройдут незамедлительно, а нет, так могут случиться убытки.
— Вот так всегда, — поддакнул Головнин. — Снаружи все романтично, а как копнешь…
— Какие вы меркантильные мужчины! — воскликнула я, раздосадованная тем, что прервали речь Малькамо. — прошу тебя, продолжай, мне очень интересно.
Аксум рос и развивался. Слава о том, что в нем хранится Ковчег Завета, привлекала к городу людей со всего мира. В Аксум прибывали португальцы, византийцы, жители дальних племен, населявших плоскогорья Африки. В IV веке при царе Эзане в длинных штольнях недалеко от озера Тана добывалось золото, которое переправлялось через порты Массауа и Асэб на Красном море, а так же сплавлялось по Голубому Нилу. Легендарная страна Офир оправдывала свое название — Аксум чтили вровень с Римом, Китаем и Персией.
На склонах гор трудолюбивые жители разбили террасы и выращивали рис, пшеницу, фрукты и овощи. И несмотря на зимние заморозки, в городе в изобилии продавались манго и папайя, финики и инжир.
А в шестом веке в Аксум пришли арабы. Их не интересовал Священный Ковчег, они жаждали захватить золотоносные копи и штольни. Арабы и персы отрезали город от главных торговых путей, и Аксум стал приходить в упадок. Страна Офир перестала существовать. И до сих пор город не оправился от того вторжения. От него осталось лишь воспоминание былого величия, да каменные стеллы, разбросанные по всему городу.
— Что это за стеллы такие? — спросил Нестеров, внимательно слушая Малькамо.
— Никто не знает, что это и откуда. Они стоят и лежат на главной площади города. Высечены из цельного камня. Кто их сотворил, откуда их принесли — неизвестно. Считается, что эти каменные обелиски установили по приказу Менелика, дабы охранять ковчег. Но каким образом — непонятно. Известно только одно, пока эти стеллы стоят, ковчег находится на своем месте.
— А где оно — это место, в котором хранится Ковчег Завета? — спросила я.
— В часовне церкви Марии Сионской, или на языке тиграйя "Марьям Цейон". Это небольшая церковь за толстыми каменными стенами. Ковчег хранится в уединенной келье, и при нем всегда находится сторож. Если сторож вошел в келью, то выхода ему уже нет. Он вечный хранитель ковчега, до самой своей смерти. Но даже ему запрещено дотрагиваться до ковчега — только на Страшном Суде ему будет позволено.
— Но как мы доберемся до него? Ведь надо исполнить то, что начертано на пергаменте Фасиля Агонафера.
— Поэтому мы и спешим в Аксум к началу праздника Тимкана. Только раз в году ковчег выносят из церкви в палатку и оставляют под присмотром на всю ночь. На следующее утро он снова в церкви под присмотром.
— Охраняют ли ковчег в палатке? — спросил Аршинов.
— Не думаю, что очень ревностно, — ответил Малькамо. — За все века не нашлось ни одного злоумышленника, попытавшегося украсть его.
— Придется быть первопроходцами, — ухмыльнулся Головнин.
— Почему это? — возразила я. — Мы не собираемся красть ковчег. Просто надо доказать подлинность короны, Малькамо знает как, и Менелик может спокойно короноваться.
— А если корона не подлинная? — спросил Нестеров.
— На нет и суда нет, — развел руками Аршинов. — Отдадим то, что есть. Время поджимает. Нас люди ждут.
* * *
В Аксум, запруженный народом, мы попали вечером следующего дня, в канун Тимкаты. Улице кишели людьми, прибывшими на праздник. О том чтобы снять помещение для отдыха, не было и речи — дома переполнены, отовсюду несся рев ослов, верблюдов, ржанье лошадей. Люди, завидев знакомых, кричали им изо всех сил, продавцы всякой всячины верещали так, словно вокруг забивали тысячу свиней. Вся эта какофония уже не вызывала интерес, я только желала, чтобы шум прекратился и мне дали возможность спокойно отдохнуть в тишине. А еще меня мучили запахи навоза, скученных людских тел, резких пряностей и затхлой воды.
За всей этой суматохой я мельком глядела на обелиски с вырезанными на них иероглифами, развалины дворцов, небольшие церквушки с белеными стенами, которых отличал от стоявших рядом домов только эфиопский крест на покатых крышах.
Между двумя поваленными обелисками мы отыскали небольшой участок, незанятый паломниками. Мужчины принялись разбивать палатку, а я достала наши немудреные припасы: вяленую козлятину, остатки инджеры и несколько кореньев.
— Да уж… Если завтра мы не достанем хоть какой-нибудь еды, придется нам поститься.
— И не однажды, — мрачно добавил Головнин.
Аршинов оставил за сторожа Автонома, и мы отправились на поиски церкви Марии Сионской. Люди, шедшие нам навстречу, не обращали никакого внимания на компанию белых с одним эфиопом. У них были потухшие глаза и впалые щеки. Пронзительно кричали младенцы, но матери их не успокаивали, просто продолжали идти дальше.
Малькамо уверенно вел нас к церкви Марии Сионской. Мы прошли площадь с гранитными стеллами, на которых были высечены загадочные иероглифы, палаточный городок, с тысячами страждущих паломников, и, наконец, подощли к церкви. Небольшое двухэтажное здание окружила толпа людей, они стояли в оцепенении и ждали. Ждали молча, глядя с надеждой на каменные стены церкви. Впалые щеки, проступающие ребра — мне стало страшно, и я прижалась к Малькамо.
— Скажи мне, чего они ждут? — спросила я.
— Выноса ковчега. Считается, что если человек пройдет по крестному ходу позади ковчега, то все его беды и болезни отступят.
— А когда его вынесут?
— Обычно это делается на закате. Его проносят до палатки на краю города, оставляют там, а утром начинается массовое крещение в реке. Считается, что за ночь река воспринимает святость, излучаемую Ковчегом. В ней купаются те, кто хочет не только креститься, но и избавиться от болезней.
Нестеров не расставался со своей любимой «Фотосферой», как и Аршинов с ларцом, в котором на парче хранилась корона. Вот и сейчас фотограф-любитель достал камеру и приготовился было снимать, как Аршинов остановил его:
— Достаточно, Арсений, оставь. Не трать пластинки. Вот начнется крестный ход, тогда и пофотографируешь.
Проведя по выражению Головнина рекогносцировку, мы вернулись к палатке, застали там молящегося Автонома и рассказали ему, что видели в городе. Автоном молиться не прекратил. Он выглядел так, словно, наконец, обрел пристанище, как усталый путник долгожданный отдых, и обыденная суета его не интересовала.
Солнце постепенно клонилось к вершинам гор, и в стане ожидающих выноса ковчега началось шевеление. Томительное ожидание продолжалось довольно долго, сумерки уже опустились на землю. И вот ворота церкви Марии Сионской медленно разъехались в разные стороны, и в проеме появились священники в белых шаммах и шапочках, несущие на вытянутых руках зажженные факелы и посохи с крестом на конце.
За факелоносцами шли барабанщики и музыканты с тимпанами и бубнами в руках, за ними еще семеро священников, дующих в длинные трубы. Они бренчали, били в бубны и барабаны, и все это вместе составляло такую какофонию, что мне захотелось зажать уши. Но это было бы неприличным, и поэтому я воздержалась.
Наконец, когда терпение ожидающих было уже на пределе, из церкви вышла процессия из двенадцати крепких мужчин-послушников. Они несли на плечах носилки, на которых находилось некое сооружение, покрытое зеленым парчовым покрывалом с алой оторочкой. Видно было, как тяжело носильщикам: в холодную погоду с них градом тек пот.
— Малькамо, — спросила я, — почему они надрываются? Положили бы ковчег на волов и везли бы.
— Нельзя по традиции, — серьезно ответил он. — Это еще повелось с тех времен, когда иудеи странствовали по пустыне. Сначала в палатку, она же Святая Святых входил Аарон, и укутывал ковчег покрывалом. Потом разбирали святилище, потом подходили левиты-прислужники, и его переносили всегда на плечах, в отличие от остальной храмовой утвари, которую ставили на повозки, а повозки тянули быки или верблюды. Когда приносили ковчег на место, то его вначале ставили завернутым, потом вокруг него возводили стены святилища, ту самую походную палатку, потом разворачивали.
— Понятно, — кивнула я. — дань традиции…
За ковчегом следовал почетный караул. Солдаты были вооружены пиками и длинными кинжалами. Они шли босыми, пританцовывая на ходу. За ними толпой валили женщины. Они что-то выкрикивали, завывая во весь голос, и я не поняла, они плачут или радуются.
Ожидающие перед воротами расступились, дали пройти процессии и принялись шумно выражать свое восхищение. Многие пошли вслед, мы со спутниками тоже.
Идти оказалось недалеко. В полуверсте от часовни, где хранился ковчег, священники разбили палатку. Ковчег, или то, что было под покрывалом, торжественно внесли внутрь, занавесили вход, и почетный караул встал вкруг временного жилища. Наступила ночь и перерыв в празднике Тимката. Завтра утром будут массовые крещения, а пока ковчег стоял в палатке, и доступа к нему не было.
Мы вернулись в свой временный лагерь за упавшей стеллой. Процессия произвела на меня огромное впечатление, но уверенности в том, что в палатке хранился настоящий ковчег, у меня не было.
— Что будем делать, господа? — спросил Аршинов на нашем импровизированном "совете в Филях", когда мы в полной темноте собрались в нашей палатке.
— Мы на финише, Николай Иванович, — резонно заметил Головнин. — Неужели отступать? Ни за что!
— Столько времени и сил потрачено! Наши товарищи жизни положили и все напрасно? — добавил Нестеров.
— Но там же караул! Да и люди кругом. Как добраться до ковчега?
Тут совершенно дикая мысль пришла ко мне в голову.
— Малькамо, — обратилась я к юноше. — Помнишь ту старуху из племени оромо?
— Конечно, — кивнул он.
— Она дала тебе травки в дорогу. Ты сказал, что это пряности для вашей еды, но ни разу за время нашего путешествия ты не предложил их нам. Почему?
Если бы сын негуса мог краснеть, он бы запунцовел. Малькамо опустил голову и произнес:
— Это не пряности, а снадобье для общения с духами радости.
— Как это? — удивились мы.
— Помните, когда мы сидели на площади и праздновали, то женщины подбрасывали горсти этой травы в костер. От этого сидящим у костра становилось весело и спокойно. Люди начинали танцевать, а потом у них просыпался любовный пыл. В том племени всегда используют эту траву на праздниках. Она растет только в низовьях Голубого Нила и почти неизвестна в других районах Абиссинии. Оромо хранят ее происхождение в большой тайне.
— Тогда почему тебе старуха отсыпала от щедрот своих? — спросил Аршинов.
— Что за вопрос? — хохотнул Головнин. — Понравился наш парень ведьме.
— Можно мне посмотреть, что это за трава? — Нестеров протянул руку и Малькамо вложил в нее мешочек. Арсений Михайлович понюхал ее, потер сухие листья пальцами и объявил: — Это тропическая разновидность дурман-травы, или по-простому — белены, из семейства пасленовых. Ее применяют против астмы, а из семян получают атропин, не зря у танцующих вокруг костра были такие неестественно огромные зрачки, я обратил внимание.
— Все это, конечно, познавательно, — Аршинов нетерпеливо прервал Нестерова, готового часами рассказывать о растительном мире, — но для чего вы, Аполлинария Лазаревна, завели этот разговор?
— Николай Иванович, не сердитесь, — остановила я раздосадованного казака. — Вспомните лучше свои ощущения, когда вы надышались дымом этой травки-белены. Что с вами произошло?
— Да мне море по колено было, — ответил Аршинов, — хотелось на все махнуть рукой и пуститься вприсядку…
— Что, впрочем, вы и сделали, — резюмировал Головнин.
— Неужели?! — удивился бравый казак.
— В том-то и дело! — подтвердила я. — Так что у меня есть идея. Посмотрите вокруг. Вы видите, везде зажигают костры, чтобы греться в эту морозную ночь. Поэтому давайте подойдем как можно ближе к палатке, где хранится ковчег, и зажжем костер с наветренной стороны. Бросим в костер дурман-траву так, чтобы ветер отнес дым на стражей, охраняющих палатку. А уж сладить, хоть и с двенадцатью, но одурманенными воинами, думаю, вам будет по плечу. Как вам план?
Все молчали, обдумывая.
— Что ж… — Аршинов хлопнул себя по коленкам, как бы подводя итог совету. — За неимением гербовой пишем на простой. Будем выполнять! Кстати, Малькамо, дружище, ты нам откроешь, почему тебя так тянет к ковчегу? Пришла пора узнать. Иначе, зачем нам стараться?
Малькамо вздохнул, словно перед тем, как броситься в ледяную воду и произнес:
— Эта тайна переходит в нашей семье из поколение в поколение — от самого Менелика Первого. А он узнал ее от своего отца, царя Соломона. Только в самые трудные для страны дни можно воспользоваться проверкой, ибо жестоко карает ковчег всех, кто осмелится приблизиться к нему, а тем более — прикоснуться. Говорят, что еще до моего рождения нашелся безумец, который проник в часовню. Что с ним стало — неизвестно. Наверняка ковчег испепелил его на месте. Когда существовал Храм, то только первосвященник мог входить в него. А теперь, когда Храма нет, то тот, кто владеет тайной. ашей семье из поколение в поколение — от и произнес:
по плечу. с наветренной сторонывный пыл. ��������
— Да не ходи ты кругами, скажи, что делать-то надо?
— А… Это просто. Надо вставить рубины в очи херувимов на крышке ковчега. Если они подойдут к глазницам, значит, корона подлинная. Только вот никто не знает, как ковчег себя поведет, если это произойдет.
— Не в людном месте такими опытами заниматься, — заметил Головнин. — Надо забрать ковчег и выйти с ним подальше в поле. Иди знай, что он сотворить может.
Пока вокруг обсуждали, меня привлекло поведение Автонома. Он кусал губы, хмурился, даже мычал, когда говорил Малькамо, сжимал кулаки, вел себя странно и даже вызывающе.
— Автоном, брат наш во Христе, — спросила я, — что тебя так гнетет? Ты знаешь, что нас ждет? Расскажи, сделай милость!
— Он уже что-то вещал про наросты, которые поразят каждого притронувшегося к ковчегу, — предупредил Головнин.
— Да, я знаю, — кивнула я. — Но, может, кроме наростов и моровой язвы, еще что-нибудь будет? Автоном, что же ты не отвечаешь, не молчи!
— Помянухом рыбы, яже ядохом в земле Египетской втуне, и огурцы, и дыни, лук и червленый лук, и чеснок. Ныне же душа наша изсохла, ничто же…[78] — Автоном внезапно оборвал речь, как и начал.
— Ничего, Автоноша, потерпи, — Аршинов хлопнул монаха по плечу. — Все есть хотят. Вот закончим с ковчегом, купим еды и поедим, что Бог пошлет. А сейчас давайте собираться — переберемся поближе к палатке и зажжем костер. Перед рассветом выйдем, когда у стражников самый сон будет. Тогда и травы в огонь подбросим.
* * *
Так и сделали. Хотя и трудно было найти место около главной палатки праздника, все же добрые паломники потеснились и мы разбили лагерь в нескольких шагах от стражников.
Небольшой ветерок дул от нас к палатке и далее к реке, поэтому мы не сомневались, что выбрали правильное направление.
Вокруг переговаривались люди, плакали дети за спинами матерей, иногда раздавался звериный вой. Но к трем часам ночи стан притих, все вокруг погрузилось во тьму и тишину, и лишь тлеющие угли и белые шаммы выделялись размытыми пятнами.
— Пора! — шепнул Аршинов.
Малькамо достал кисет с сушеными листьями и стал осторожно подбрасывать их в еле теплившийся костер. Угли посинели, густой дым молочного цвета стал подниматься над нашими головами. Ветер относил его к палатке.
— Зажмите носы, — приказал Малькамо. — А то надышитесь и уснете.
Мы замотали головы тряпками. Прошло несколько минут. Дым поредел, вокруг мирно спали паломники. Из главной палатки-скинии не доносилось ни звука.
Первым короткими перебежками, нагнувшись, побежал Головнин, сжимая в руках винчестер. За ним Аршинов и Автоном. Потом остальные. На мгновение обернувшись, Аршинов приказал мне сидеть и охранять вещи. Разве это справедливо? И только лишь потому, что я женщина!
Я сидела, закутанная по глаза в шамму, и нетерпеливо дергалась. Все мои помыслы были там, с друзьями. Что они делают? Все ли у них в порядке? Нет, я должна это увидеть собственными глазами. А вещи… Да что вещи? Все спят, да и не жалко их, когда там, в палатке, самый настоящий Ковчег Завета! Я себе не прощу, если не увижу это чудо света!
Накинув на себя темную накидку, я тоже пригнулась, и стараясь быть незаметной, побежала к вожделенной палатке. Спрятаться было негде — она стояла в чистом поле, позади обрыв и река.
Только подойдя поближе, я увидела, что мои друзья укладывают рядком на землю стражников, одуревших от дыма, связывают их и заталкивают им кляпы в рот.
— А, вы здесь, — недовольно сказал Аршинов, увидев меня. — Ничуть не сомневался. Подержите сундучок, мешает.
Обрадованная тем, что все идет так, как и было условлено, я схватила сундучок и отошла в сторонку понаблюдать, как разоружают стражников. Некоторые из них пытались сопротивляться, но вскоре были уложены рядом со своими товарищами. Захват Скинии Завета произошел на удивление быстро и легко.
Мне было непонятно, почему нам так сопутствует удача. Где все священники, участвовавшие в праздничной церемонии? Неужели они вернулись обратно в церковь, оставив ковчег под охраной только двенадцати стражников? Почему?
Ответ пришел сам собой. Я вспомнила, как Малькамо рассказывал мне о ковчеге. Каждый эфиоп уверен, что с главной святыней страны не может произойти ничего плохого. Ковчег защищает сам себя — ему не нужны запоры, толстые стены и вооруженные охранники — даже те, кто стоял вокруг палатки, напоминали, скорее всего, почетный караул, а не действительную охрану. И эти легкость и простота тревожили меня больше всего, хотя ничего дурного мы причинить ковчегу не хотели. Всего лишь проверить достоверность короны царицы Савской.
— Посчитайте, сколько их? — спросил Аршинов.
— Дюжина, — Николай Иванович, — ответил Головнин.
— Отлично! А теперь все внутрь!
Мы вошли гуськом, отогнул полог палатки. И что же предстало перед нами?
В мерцающем свете масляных лампад посреди палатки, там, где самый высокий потолок, стояли грубо сколоченные козлы, а на них сооружение, покрытое знакомыми покрывалами. Золотая парча поблескивала, отражая огоньки.
А перед ковчегом сидел монах Автоном. Без рясы, в странной одежде, похожей на латы, и с двумя пистолетами в руках, направленных на нас.
Последним зашел Нестеров с фотографической камерой. Щуря подслеповатые глаза, он громко спросил:
— Николай Иванович, без магниевой вспышки ничего не видно будет. Как же я тут магний зажгу… — и осекся, увидев Автонома.
— Голубчик, как прикажете это понимать? — спросил Аршинов. Автоном не отвечал.
Хотя мне было страшно от наведенных на меня пистолетов, я с жадным любопытством рассматривала монаха. На нем были даже не латы, а некое подобие нагрудника первосвященника, который свисал до середины живота. Руки до плеч были обнажены, и что меня поразило — они от кистей до локтей были белыми, а выше, до плеч — темнокоричневыми, причем с пятнами. Или мне так показалось в темноте?
Не переставая наводить на нас пистолеты, Автоном произнес что-то на амхарском языке. Малькамо встрепенулся:
— Ты абиссинец? — спросил он.
— Да, — кивнул монах. Или он был лже-монахом?
Малькамо принялся упрашивать Автонома. Тот не соглашался и сделал взмах рукой по направлению к Головнину, чтобы тот отбросил в сторону ружье. Головнин нехотя повиновался.
Малькамо продолжил уговаривать Автонома. Тот отвечал угрожающе. Надо было что-то предпринять. Я тихонько прошептала Нестерову:
— Арсений, вы сможете сейчас зажечь вашу магниевую лампу?
— Да, — беззвучно произнес он.
— Тогда по моему знаку. Как только я скажу "Автоном, посмотри на меня" — я это скажу на амхарском, зажигайте.
Нестеров чуть заметно кивнул.
Тем временем монах уже поднял пистолет и прицелился в Малькамо.
Я громко произнесла:
— Автоном, посмотри на меня! — тот машинально оторвался от юноши и глянул в мою сторону. В эту секунду у Нестерова вспыхнула магниевая лампа, ослепший монах пошатнулся, выронил один пистолет, закрывая глаза рукой, и выстрелил из другого. Малькамо, увидев это, бросился на меня, толкнул так, что я кубарем покатилась по земляному полу, и ахнул от боли: пуля вонзилась ему в плечо. Нестеров с Головниным накинулись на Автонома, тот рычал, аки раненый зверь, хотя ранен был не он, а Малькамо. Они скрутили его, а я спешно стала отдирать подол своей шаммы, чтобы забинтовать юноше плечо. Ему повезло: на плече была всего лишь царапина, пуля прошла мимо, но крови вылилось предостаточно. Пистолеты Головнин подобрал и сунул под ремень.
— Слушай, Автоном, ты можешь объяснить, в чем дело? — спросил Аршинов. — На нормальном русском языке?
Малькамо, морщась от перевязки, понял последние слова.
— Николя, он не говорит по-русски.
— Как это не говорит? Я же сам слышал.
— У него феноменальная память. Автоном выучил наизусть Ветхий Завет, когда служил послушником в одном русском монастыре.
— Почему только Ветхий? — удивилась я. А Новый? Разве он не христианин?
— В Ветхом Завете рассказывается о Ковчеге Завета — это то, что интересует Автонома больше жизни. Новый он знает хуже.
— Я не поняла, он русский или нет? — спросила я.
— Он эфиоп, такой же, как я, — ответил Малькамо.
— Но он же белый! Или нет, вот тут пятнистый, — я указала на плечи поверженного монаха.
— Он заболел неизвестной болезнью, от которой стал белеть.
— Позвольте мне, — вмешался Нестеров. Он нагнулся над Автономом и потрогал его руку, — это витилиго.
— Что?
— Редкая болезнь, незаразная. На коже появляются белые очаги, которые сливаются в большие пятна. Со временем человек может побелеть весь. Особенно эта болезнь заметна на представителях черной расы.
Автоном что-то пробормотал.
— Он говорит, что его собственная мать считала его сыном дьявола и выгнала из дома, — перевел Малькамо и застонал, держась за плечо.
— Как же это?
— Белые никогда не пользовались доверием у жителей Абиссинии. Слишком много невзгод было от них. А если собственный сын белеет, то что может подумать деревенская женщина?
Аршинов тем временем подошел к козлам и дернул за тяжелое покрывало. Оно не поддалось.
— Нет! — закричал Автоном.
— Спокойно, спокойно… Ничего мы не сделаем, только посмотрим.
— Не открывай! Ковчег убьет тебя! И всех нас! Вон там, в углу нагрудники — все наденьте их!
Малькамо, первым поняв, что кричит Автоном, бросился в сторону, нашел охапку нагрудников и распределил между нами.
Вмешался Головнин:
— Вынести бы это сооружение в чисто поле, чтоб не рвануло сгоряча.
Но Ковчег был таким тяжелым, что поднять его вчетвером не представлялось никакой возможности. Да еще болело плечо у раненого Малькамо.
— Автоном, обещаешь помочь, если мы развяжем тебя?
— Да, — кивнул тот. — Мне все равно не жить. Если меня пощадит ковчег, то убьют Стражи.
— Кто это? — спросил Аршинов.
— Орден, к которому я принадлежу. Стражи Ковчега.
— Кроме тебя есть еще кто-нибудь? Эти, которых мы связали?
— Нет. Это послушники. А Стражи — они скрывают свое предназначение, и никто не знает, кто они. Вот Фасиль Агонафер был Стражем.
— Интересно. Давай об этом после поговорим. А сейчас помоги поднять ковчег.
Мне тоже пришлось поучаствовать. Кряхтя и склоняясь под тяжестью сооружения, мы вынесли его из палатки, прорезав отверстие напротив входа. Задняя сторона выходила на берег реки, поэтому путь был свободен.
Вскоре показалась небольшая лагуна, закрытая сверху нависающей скалой. С облегчением мы опустили тяжелую ношу на песок.
— Ну, с Богом! — выдохнул Аршинов, перекрестился и осторожно приподнял покрывало.
— Николай Иванович, постойте, — молил Нестеров, — я только магний заряжу. Темно ведь!
Но света и не понадобилось. В свете полной луны нашим глазам предстала удивительная картина: на носилках покоился небольшой деревянный сундук, инкрустированный золотыми пластинами. Тончайшая резьба, изображающая буквы древнего алфавита, покрывала их. Крышку ковчега украшали две фигурки крылатых быков с углублениями в глазницах. От Ковчега Завета исходил неясный дрожащий свет, размывающий очертания.
— Боже мой, какая красота! — воскликнула я.
И тут вновь вспыхнул магний. Нестеров перезаряжал пластинки, дрожа от нетерпения:
— Какое счастье, что я не все потратил! Этим снимкам цены не будет! Вернусь домой — сразу засяду за докторскую!
— Не мельтеши, — остановил его Аршинов и попытался приподнять крышку, но она не поддалась. — Нам делом надо заняться. Полина, где венец с рубинами?
Я протянула ему сундучок. Когда Николай Иванович достал корону, мне показалось, что рубины вспыхнули, оказавшись вблизи ковчега. Но как их вытащить из оправы. Ведь она погнута разъяренной губернаторшей? Нож не подойдет — слишком грубый. И тут я вспомнила, что у меня осталась игла дикобраза, воткнутая на счастье в панталоны. Я достала ее и аккуратно поддела рубин. Он поддался. Так я вытащила из оправы все четыре рубина и протянула Малькамо.
— Ты принц, — сказала я. — Тебе и проверять.
Дрожащими руками Малькамо взял рубины, подошел и вложил их в глазницы херувимов. Рубины вспыхнули, глаза крылатых быков налились кровью. Они повернули головы и захлопали крыльями. Раздался неприятный металлический скрежет. Послышался мерный гул, Ковчег задрожал.
Малькамо воскликнул:
— Посмотрите, они как живые! В наших священных книгах написано, что если херувимы обнимутся крыльями, то в народе единство, а если задвинут за спину, то разлад и распри!
К сожалению, после недолгого хлопания херувимы задвинули крылья за спину.
Автоном напряженно следил за действиями принца. И когда Малькамо протянул руку, чтобы открыть крышку, то монах внезапно бросился ему наперерез, оттолкнул в сторону, крикнул: "Всем назад!" и распахнул ковчег. Мы отпрянули.
Из ковчега стали подниматься вверх два цилиндра черного цвета с высеченными на них письменами. Они только поначалу были черными, потом накалились и превратились в светящиеся малиновые, а буквы засветились белым ослепительным светом. Гул усилился. Нестеров фотографировал, а Автоном то приподнимал, то опускал немного крышку, пока стержни вновь не стали черными. При этом он нараспев читал молитвы. Мы с интересом и страхом наблюдали за его манипуляциями.
Когда монах, наконец, закрыл крышку, то вдруг из глаз херувимов выстрелили четыре узких красных луча. Три луча ударили в Автонома, а четвертый задел Малькамо. Оба упали.
— Накройте ковчег покрывалом! — закричал Аршинов.
Головнин и Нестеров с трудом подняли тяжелое покрывало и набросили на ковчег. Лучи исчезли. В ткани палатки, куда они попали, образовались четыре дырочки с обожженными краями.
— Что это было? — дрожащим голосом спросила я.
— Мой дядя, Аниба Лабраг, рассказывал мне удивительные истории. Но я был маленьким и мало что помню. И только сейчас, увидев ковчег в действии, я понял, о чем рассказывал дядя.
Но договорить ему помешали обстоятельства. Резко похолодало. На востоке засветилась заря.
— Надо возвращать ковчег обратно, — сказал Аршинов. — Поторопимся, друзья, скоро станет совсем светло. Малькамо, вынимай рубины обратно. Настоящие они! Иначе бы крышка не открылась — сам пробовал.
Но сколько Малькамо не пробовал, просунув руки под покрывало, рубины не вынимались. Они так и остались в глазницах херувимов. Аршинов хватался за голову и стонал в голос.
С трудом подняв тяжелый ящик на носилки, мы побрели вверх от реки и незаметно внесли ковчег на место, сквозь прореху в палатке. Укрыли его покрывалами, сняли с себя нагрудники, и отправились восвояси, предоставив желающим распутывать стражников.
* * *
Глава четырнадцатая
Леканора съедобная. Автоном умирает. Признание Малькамо. Любовь. Ностальгия. Санхерин и Навуходоносор. Малькамо остается в Аксуме.
Утром нас разбудил страшный шум. Люди голосили, били в бубны и барабаны, плясали, воздев руки к небу.
Удивленные, мы вылезли из палатки, ежась от холода. На голову сыпался мелкий снежок.
— Малькамо, что происходит? — спросила я, но юноша озадаченно вертел головой, тоже не понимая, отчего так возбуждены люди. На подготовку к крещению это было мало похоже.
— Они кричат "Чудо! Великое чудо!", — пояснил Аршинов. — Интересно, о чем это они? Вроде ковчег на месте, не пропал.
— Что за странный снег? — удивился Головнин. — Падает мне за шиворот и не тает.
Нестеров поймал блестящие крупинки, рассмотрел, попробовал на зуб и произнес:
— Это не снег, милостивые государи!
— А что?
— Если память мне не изменяет, это семена съедобного лишайника, "леканоры съедобной", именуемой в простонародье "манна небесная".
— Не может быть!
— Да вот она, сами попробуйте! — Нестеров нагнулся и зачерпнул с земли горсть крупинок.
— Откуда она взялась? — спросила я и бросила несколько крупинок в рот. Они имели сладковатый привкус. — Неужели с неба?
— Та самая? Из Библии? — Головнин не мог прийти в себя. — Я сейчас, как Автоном, на церковнославянском заговорю: "Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как кристалл".[79]
— Кстати, а где он? — забеспокоился Аршинов.
Монаха мы нашли недалеко от нашей палатки. Он лежал, прислонившись к каменной стелле и тяжело дышал. Вид его был бледен, а лицо и руки изуродованы кровоточащими болячками.
— Не подходите ко мне! — еле слышно произнес он на амхарском. — Мои часы сочтены. Это возмездие за то, что я, смертный, открыл крышку. Яростные лучи испепелили меня!
— Перенесем его в палатку, — приказал Аршинов.
— Нет! Моя болезнь заразна, и если вы соприкоснетесь, то умрете тоже. Идите в реку, примите святое крещение! Омойте себя и свои одежды. Только так вы спасетесь от божьего гнева!
— Но мы крещеные, Автоном, — попробовала возразить я.
— Идите и омойтесь! Иначе смерть! — он продолжал со свистом дышать. — Не хороните меня на кладбище, ибо я проклят. Знал я это, когда пускался в погоню за Фасилем Агонафером, чтобы не дать ему раскрыть тайну ковчега. И не вышло: сам раскрыл и показал. Грех на мне. Земля вокруг моей могилы будет светиться по ночам, и ничего живое на ней не вырастет. Найдите заброшенный колодец и похороните меня, завалив камнями. Нельзя вмешиваться в сущность Господню!
Это были его последние слова. Он закрыл глаза и замолчал уже навеки. Бедный, бедный Автоном…
* * *
Мы исполнили то, что приказал нам Автоном. Завернули тело в два покрывала, погрузили на повозку и отъехали в сторону от Аксума. В трех верстах к северу нашли покинутую деревню, а в ней сухой колодец. Опустили туда тело, прочитали все подобающие молитвы, и завалили колодец камнями и песком. Сверху возложили большой плоский камень, на котором Малькамо начертал несколько слов на амхарском языке.
— А теперь креститься. Исполним последнюю волю почившего в бозе, — приказал Аршинов.
Когда мы вернулись, веселье было в самом разгаре: паломники собирали семена, мололи, толкли, кое-где уже пекли хлеб. Многие, обрядившись в праздничные шаммы, несмотря на холод, шли к реке, чтобы принять таинство крещения.
Мы тоже встали в очередь к священнику, совершающему обряд. В чем были зашли в воду и окунулись. Холодная вода обожгла мне тело, я даже задохнулась от спазма, сжавшего легкие. И сразу же пришло облегчение и ощущение чистоты, проникшее во все уголки моего тела. Я перестала чувствовать холод, мне стало хорошо и покойно.
На берегу мы переоделись в сухую одежду, выданную нам щедрой губернаторшей. Одного мула Аршинов обменял на ночлег на постоялом дворе: нам отдали две комнаты, большую для мужчин, и поменьше для меня. С каким наслаждением я улеглась на твердый топчан, все же он был не на голой земле, а на высоте трех вершков от пола.
Сон не шел. Я думала о несчастном Автономе, которого прогнала собственная мать, о его поприще — защищать Ковчег Завета, и то, что он, защитив святыню, спас нас, отдав свою жизнь. Никто не знает, чтобы произошло, если бы он не принял на себя удар лучей херувимов.
Откуда же взялось это Божье творение? Ангелы принесли или люди, вдохновленные чистыми помыслами, сотворили сие? И тут я вспомнила книгу, которую читала перед самым отъездом. Она была на английском, называлась "The Time Machine",[80] к сожалению не помню фамилии неизвестного писателя, и в ней рассказывалось о том, как с помощью машины времени путешественник переодолевал века и тысячелетия. Может, ковчег — это и есть машина, заброшенная в нашу эпоху из будущего? Неразрешимые вопросы, на которые ответ так и не будет выдан.
Вспомнив книгу, которую я оставила раскрытой на туалетном столике, я вдруг до умопомрачения захотела домой, к папеньке и Вере, которая так славно заваривает липовый чай и рассказывает на ночь истории из жизни театральной труппы. Ничего. Уже все позади. Пригласим Менелика в Аксум — пусть коронуется на здоровье, и обратно, в колонию. Там, наверное, уже избы срубили, и печи сложили из того кирпича, что из моей хитроумной машины.
Ох, да что же это?! Как я могла забыть? Ведь секрет ковчега переходит от Менелика Первого из поколения в поколение. А если мы отдадим корону, не раскрыв того, что рубины, эти глаза херувимов, источают смертельные лучи, но в то же время дают манну, то прервется связь времен! И потомки негуса Менелика Второго, придя к власти, не смогут в трудное для страны время воспользоваться тем, что ковчег дал голодным паломникам — не будет у ефиоплян манны небесной!
Надо срочно переговорить с Малькамо! Согласен ли он передать Менелику секрет?
Вскочив с топчана, я откинула плетеную занавесь, и сразу же наткнулась на спящего Головнина — наши комнаты были совсем рядом.
Он встрепенулся:
— Полина, случилось что?
— Нет-нет, отдыхайте. Мне Малькамо нужен.
— А… — протянул он, повернулся на другой бок и заснул.
Малькамо, накинув шамму, вышел на мой зов.
— Идем ко мне, мне нужно спросить у тебя что-то важное.
Мы присели на жесткую постель. Малькамо поморщился и потер плечо.
— Как твоя рана?
— Ты позвала меня, чтобы спросить об этой царапине? Немного побаливает, ничего страшного.
— Ты спас меня. Рисковал собой.
— Ну и что? Я не думал об этом.
— Спасибо.
— Ты не понимаешь, Полин. Если бы ты умерла, я бы тоже расстался с жизнью. Мне нечего делать на этой земле без тебя. Ине уадишь аллоу. Ине лемидар канчи гар эфгалыг аллоу.[81]
Я не знала что ответить. Сказать, что я люблю его тоже? Но ведь это не соответствует действительности. И потом, я боялась, что эти слова обяжут меня, заставят совершить то, к чему я не готова. Например, остаться в Абиссинии.
Малькамо снова перешел на французский:
— Ты молчишь… Тебе нечего мне ответить.
Он был прав. Поэтому вместо ответа я прильнула к нему, обняла и поцеловала. У него были мягкие нежные губы, которые нерешительно ответили на мой порыв. Но потом он осмелел: я упала навзничь, а Малькамо стал покрывать меня поцелуями. Мы освободились от платьев, которые и так не стесняли движения и соединились, чтобы передать друг к другу частицу тепла.
У него было гибкое, тонкое тело, словно выплавленное из глыбы горького шоколада. И ощущала я его, словно пила этот шоколад, наслаждаясь сладостью соития и горечью расставания.
Каждая его мышца трепетала от восторга, он шептал мне слова на разных языках, а я раскачивалась на волнах наслаждения.
— Полин, Полин, ты чудо! Ты необыкновенная, изумительная женщина! Как я раньше жил без тебя, без твоей улыбки и твоей ласки? Только я увидел тебя, моя жизнь переменилась, в ней появилась любовь!
У него почти не было волос на теле. Мои руки скользили по гладкой коже, и казалось, что вот-вот я сейчас схвачу его всего, и не отпущу, и не отдам, но пальцы разжимались, и опять он ускользал от меня.
В тот самый миг, когда мы достигли вершины, на которой тебе все равно — свалишься ты или останешься на ней до бесконечности, со мной произошло что-то странное: я до умопомрачения испугалась, что он покинет меня, я хотела оставить его в себе навечно, навсегда! Я вцепилась в него, сжала коленями и напряглась. Он не пытался выпростаться — тихо лежал в моих объятьях, не шевелясь. Я потеряла счет времени — неизвестно, сколько продолжались наше слияние: час, два, всю ночь… А когда мы в изнеможении разомкнули объятья, то я поняла: ничего не закончилось. Он всегда будет со мной с этой поры.
Мы лежали и молчали. Я смаковала минуты полного счастья, расслабления и отсутствия тревоги.
Шепот Малькамо нарушил тишину:
— Полин, ты выйдешь за меня замуж? Я буду бороться за свою страну и стану негусом. А ты — царицей.
Очарование ночи внезапно пропало. Я представила себя вдали от России, от любимых пейзажей, знакомых и родственников и мне стало плохо. Вот уж не знала, что ностальгия такая опасная болезнь!
— Не смогу, Малькамо. Чужая я тут. Домой тянет.
— Тебя дома ждет муж?
— Нет. Отец ждет. Няня. И не только они, — ну, как ему объяснить, что я скучаю по снегу и запаху пыли, прибитой грибным дождем. Что мне хочется ватрушки, а не инджеры.
— Я тебя не понимаю, Полин. Когда эфиопскому юноше исполняется шестнадцать, он уходит из родительской семьи и строит себе дом: сначала просто мазанку под крышей из пальмовых ветвей, а потом и дом побольше. Отец с матерью перестают быть семьей — вот такие у нас законы.
— У нас другие законы. Мой отец много сделал для меня. Я не могу его оставить.
Я лукавила. Если бы я любила Малькамо так, как любила своего покойного мужа, я бы оставила отца, как ни горько это признать. Но я его не любила. А призыв плоти… Что ж, слаб человек. Отмолю грех.
— Эх, Полин, Полин… Ты для меня словно ангел, спустившийся с небес. И я понимаю, что ты не сможешь жить здесь точно так же, как я не смогу жить в твоей стране. Я же учился во Франции, и каждый день тосковал по своей земле.
Мне не хотелось продолжать этот тягостный разговор, и я спросила:
— Малькамо, скажи, теперь, когда ты удостоверился в том, что рубины подлинные, что ты намерен делать? Отдать их Менелику или короноваться самому?
— Знаешь, Полин, еще несколько минут назад я не был уверен, что отвечу на твой вопрос. А сейчас мой ответ таков: я отдам камни и право на царство. Открою негусу секрет рубинов. Хоть он и повелел повесить меня, но с каждым днем я все больше убеждаюсь, что Абиссинии повезло с негусом: Менелик силен и умен. Он прогонит итальянцев с нашей земли. А у меня на это нет сил. Да и не хочу быть негусом без тебя.
Я украдкой вздохнула. Оказалось, что проблема заключалась во мне, и я своим нежеланием выйти замуж за принца, ее решила. Ну, что ж, теперь все пути открыты: Менелик получит законное право на Абиссинию, Аршинов — колонию, а я вернусь домой.
Вот только что достанется Малькамо? Не в силах подавить угрызения совести я повернулась к нему и попросила:
— Расскажи мне еще о ковчеге.
— О, это интересная история. Известно ли тебе, Полин, что филистимляне не знали, как обращаться с ковчегом. Поэтому все они погибали, а ковчег так и оставался в Святая Святых. Потом на землю иудеев напал ассирийский царь, тиран Санхерин, который был в те времена могущественнейшим из земных владык: его империя включала в себя чуть ли не все царства той эпохи. Он переселял с места на место целые народы, тасовал их, как карточную колоду, и те очень быстро теряли свою самобытность, растворялись в недрах империи и исчезали с лица земли. И вот почти вся страна захвачена врагом: города Иудеи пали, ассирийские полчища стоят у стен Иерусалима, — глаза Малькамо горели, он был возбужден, что совершенно на него не было похоже. — В те годы страной правил царь Хизкия, потомок царя Давида. Он верил, что Господь сохранит святой город и не даст захватчикам ворваться в него. Крепостные стены надежно защищали Иерусалим. Тогда ассирийцы решили взять город приступом. Но они не успели: вдруг в одну ночь все войско вымерло. Что это было? Чума? Крысы напали? В святых книгах написано: "И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень, и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии."[82] После сегодняшних событий я понял, что не ангел господен поразил войско Санхерина, а рубиновые лучи ковчега, испепеляющие все на своем пути.
— Интересная мысль! — восхитилась я.
— Думаю, что не всех поразили лучи, — продолжил Малькамо. — Ведь, в конце концов, иудеев взяли в плен вавилоняне и ковчег их не тронул. Думаю, что кто-то спасся и рассказал об этом оружии Навуходоносору. А дальше просто: Навуходоносор подкупил кого-то из жрецов, владеющих тайной ковчега, тот вынул глаза, и спрятал обездвиженный ковчег в подземельях царя Соломона. Разведка иногла бывает сильнее самой кровавой битвы.
— Да ты стратег, мой принц! Ты достоин править царством!
Но Малькамо нахмурился, отвернулся от меня и до утра не издал ни звука.
* * *
На утреннем совете было решено немедленно собираться в путь, чтобы вернуться как можно скорее в Аддис-Абебу и рассказать Менелику, что рубины на месте, там, где и должны быть. Чтобы он немедленно поехал сам и все проверил на месте. Но тут воспротивился Аршинов.
— До колонии ближе, чем до негуса. Сердце мое неспокойно, надо узнать, что там происходит. Все-таки без пригляда нельзя.
— Там же горы на пути! — возразил Говнин.
— Ничего! — бодро парировал Аршинов. — Доберемся до порта Массауа, а там вдоль берега на лодке пойдем, быстрее будет, чем по горам лазить.
При одном упоминании о прогулке на утлом суденышке у меня стало подташнивать под ложечкой. Но я промолчала, чтобы не выдавать своей женской слабости.
— Хорошо, — обрадовался Нестеров. — Мне просто не терпится добраться до дому. Там, в колонии я оставил свои реактивы. Очень хочется отпечатать фотографические карточки ковчега, да и ваши, Аполлинария Лазаревна, где вы в короне царицы Савской.
— Оставьте оправу от рубинов в Аксуме, — неожиданно твердо сказал молчавший до сих пор Малькамо.
— Как это? — удивился Аршинов. — Столько труда и жизней положили, лишения претерпели и все прахом пойдет?
— Нет, не прахом, — возразил Малькамо. — Все негусы всегда короновались в Аксуме, возле ковчега. И даже если вы выковыряете рубины, что теперь уже невозможно и отвезете корону Менелику, все равно он будет вынужден вернуться в Аксум на коронацию. А рубины тут целее будут, им в глазах херувимов самое место.
— Не верю я никому, — отрубил Аршинов. — Оставить неизвестно кому такое сокровище? Малькамо, ты в своем уме?
— Да. Более чем. Николя, а мне ты доверяешь?
— Как своему сыну! Как Али.
— Я остаюсь здесь, в Аксуме, возле ковчега.
Эта новость поразила нас.
— Но почему?
— Малькамо, что произошло?
— Перед смертью Автоном посвятил меня в Стражи Ковчега. Он рассказал мне историю ковчега и его стражей. И я должен быть рядом. Поэтому я принял решение постричься в монахи.
Лицо его преобразилось. Глаза светились, а руки были протянуты к нам в надежде, что мы поймем его решение.
Первым опомнился Аршинов:
— Ну что ж… Решил, значит, так тому и быть. И рубины при тебе целее будут. Молодец, одобряю!
— Принц, ну, как же так? — спросила я.
— Ты не оставила мне выхода, Полин. То есть выход был один, и я его выбрал. Без тебя мне жизнь не мила. Без тебя нет смысла бороться за страну и корону. Ты предпочла родину и одиночество вдали от меня. Что ж, Бог тебе судья.
— Может, это мимолетная слабость, которая вскоре пройдет?
Аршинов подошел и положил руки мне на плечи:
— Не отговаривайте его, Аполлинария Лазаревна. Он взрослый мужчина и сам принял решение. Малькамо, держи сундучок. Храни его, как зеницу ока. Мы с негусом еще вернемся.
Малькамо принял драгоценную реликвию и поклонился.
— Можно я тебя сфотографирую на прощанье? — спросил Нестеров.
Принц кивнул. Таким он и остался в моей памяти: в белых одеждах, с огромными молящими глазами, обращенными на меня, с рубинами царицы Савской в руках.
* * *
Глава пятнадцатая
Полина заболевает. Красный Крест. Баронесса Франческа де Лускони. Встреча с отцом. Доказательство поездки. Письмо Нестерова. Подтверждение Малькамо. Рождение Марии. Письмо Анибы Лабрага. Конец.
До порта Массауа мы добирались несколько дней. В пути меня настигла лихорадка, я лежала в забытьи в повозке, запряженной мулами, и мучилась от кошмаров. На меня неслись абиссинские воины в львиных шкурах на плечах, я тонула в болоте, полном крокодилов с ощерившимися пастями, пыталась найти выход из темного подземелья. Мои спутники поили меня теплой водой из тыквенной фляги и меняли на лбу влажные повязки. Все тело ломило и меня бросало то в жар, то в холод.
Очнулась я оттого, что меня сильно тошнило. Я открыла глаза и обнаружила себя в небольшой каюте с круглым окном иллюминатором. Корабль качало, поэтому я едва успела вытащить из-под койки ночной горшок и выплюнуть туда желчь, рвавшуюся наружу.
Дверь отворилась и в каюту вошла женщина в белом платье. Ее волосы были убраны под косынку со знаком красного креста на лбу.
— Где я? — спросила я.
Сестру милосердия звали Луизой. Корабль, зафрахтованный женевским комитетом Красного Креста, прибыл к берегам Абиссинии, чтобы забрать итальянских раненых, умиравших от ран и голода. Сестра Луиза рассказала мне, что к капитану корабля прорвался русский казак зверообразного вида, по глаза заросший бородой, и настоял, чтобы тот позволил забрать больную гражданку Российской Империи. Капитан поначалу не соглашался, ведь корабль предназначался для итальянцев, но Аршинов (а это был конечно он) поклялся не сойти с места, пока мне не будет предоставлена каюта и медицинская помощь. За меня заступилась одна из патронесс Красного Креста, баронесса Франческа де Лускони, прибывшая с миссией, и капитан сдался. Меня поместили в каюту и, как могли, облегчали мои страдания, пока, наконец, я не пришла в себя. Вскоре мне стало намного лучше, я уже могла самостоятельно подниматься с постели, а через сутки уже сама предложила сестрам милосердия свою помощь в уходе за ранеными. Меня облачили в такой же наряд — белое платье и косынка с красным крестом, и поначалу поручали самые простые занятия: я щипала корпию,[83] подносила раненым питье, и просто слушала их рассказы, так как в итальянском сильна не была.
За время недолгого путешествия мы с баронессой сдружились. Это была дама весьма непрезентабельной наружности — высокая, костистая, с лицом, напоминающим лошадиное. Но у нее было такое доброе сердце, она так мастерски руководила вверенной ей миссией, что мне оставалось только восхищаться ее душевными качествами и умением досконально разбираться в любой мелочи.
Спустя двенадцать дней мы прибыли в итальянский порт Ливорно. Раненых солдат перевели на военную базу, а мне предстоял путь домой. Баронесса и тут проявила свое благородство: съездила со мной к русскому консулу в Рим, чтобы выправить мне паспорт, снабдила деньгами на дорогу и купила билет на корабль, отправляющийся в Одессу.
За дни, проведенные с баронессой де Лускони, я многое узнала о ней, да и ей рассказала о покойном муже Владимире Гавриловиче, об Аршинове, спасшем мне жизнь, и, конечно же, о Малькамо и его предложении стать царицей Абиссинии. Баронесса лишь покачивала головой, улыбка трогала ее губы.
Перед отплытием, обнимая меня, Франческа прошептала на ухо: "Милая, ты еще не догадываешься, какое счастье тебя ждет…"
Мы сердечно распрощались, и я взошла по трапу на корабль, который в скором времени доставит меня в Одессу. Заканчивалась очередная эпопея моей жизни.
* * *
На перроне стоял Лазарь Петрович и с нетерпением ожидал скорого поезда Москва-N-ск. Я увидела его первой, и соскочила с подножки, едва поезд замедлил ход.
— Боже мой, Боже мой! — восклицал отец, целуя и обнимая меня. — Загорела, как черкешенка, истощала, одни глаза светятся! Слава Богу, что целая и невредимая вернулась! Молебен закажу! Вот все рады будут!
— Папенька! — закричала я, бросившись ему на шею. — Как я рада! Как я скучала, передать невозможно!
По дому уже разносился аромат корицы — Вера пекла шарлотку с яблоками. Настенька, наша воспитанница, накрывала на стол. Мы крепко обнялись и расцеловались.
— Полина, как ты похудела! Тощая! Наверное, в мои платья влезешь. И руки шершавые, и лицо обветренное! Тебе нужен отдых.
— Полно, полно, Настенька, не нападай так сразу. Я отдохну и приду в себя, вот увидишь.
За столом, уставленным домашними яствами, мы не могли наговориться. Я рассказывала о своих приключениях, сглаживая острые углы, и все равно Настенька ахала, а Лазарь Петрович недовольно качал головой и хмурился. Вновь и вновь я вспоминала Аршинова, с которым отец был знаком, фотографа Нестерова и принца Малькамо. Вера без конца подкладывала мне на тарелку добавку, да так, что меня стало подташнивать от переедания.
Когда Анастасия, поцеловав меня и отца, ушла спать, и мы остались вдвоем, то разговор приобрел несколько другое направление.
— Скажи, Полина, — спросил отец, закуривая сигару, — ты привезла какие-либо доказательства твоего пребывания в Абиссинии? Или только рассказы? Ты же понимаешь, что я сейчас спрашиваю тебя не как отец, а как твой стряпчий и поверенный в делах по наследству тетушки Марии Игнатьевны. Я беспокоюсь, как бы ее наследство не отошло монастырям.
— Да, papa, у меня есть доказательство.
— Прекрасно! Какое?
— Я беременна.
* * *
Мое интересное положение стало главной темой пересудов в городе. У Елизаветы Павловны на ее «четвергах» только и разговоров было, как я выгляжу, как я себя чувствую, стыжусь ли я и кто отец ребенка? Версии были различные, но ни одна и близко не подходила к фантастической правде: отец моего будущего ребенка — принц далекой страны.
Беременность я переносила легко. Скорее всего, меня закалили трудности, перенесенные в Абиссинии, да еще размеренная жизнь, покой и сон сделали свое дело: встреченные на улице знакомые отмечали мой цвет лица и блеск в глазах.
О доказательствах Лазарь Петрович больше не заговаривал, но я чувствовала, что он что-то предпринимает: он уединялся в своем кабинете, листал атлас и писал письма, которые щедро облеплял марками.
И его усилия увенчались успехом. Однажды, незадолго до моих родов, почтальон принес большой плоский пакет из темно-коричневой бумаги. Обратным адресом был обозначен Париж. В пакете лежали фотографические карточки. К ним приложены два письма. С каким восторгом мы всей семьей разглядывали их: абиссинцев деревни Оромо, Аршинова, поставившего ногу на поверженного крокодила, Малькамо, разговаривающим о чем-то с Автономом, и меня в короне царицы Савской. Наконец-то я увидела себя со стороны и приятно поразилась.
Первое письмо было от Арсения Нестерова. Он писал:
"Здравствуйте, дорогая Аполлинария Лазаревна! Очень рад, что, наконец, смогу передать вам фотографические карточки, на которых вы получились изумительной красавицей! Нет, вы и в действительности хороши, но, кажется, я запутался.
Итак, все по порядку. В те дни, когда вы впали в забытье, и мы опасались за вашу жизнь, само Провидение пошло нам навстречу: в порту Массауа стоял корабль, зафрахтованный женевским комитетом Красного Креста, на который грузили раненых итальянских солдат. Николай Иванович бросился к капитану, просил, умолял, даже угрожал, пока вас не подняли на борт и не пообещали позаботиться о вас.
С чувством облегчения мы двинулись дальше: наняли небольшую лодку и пустились в плавание вдоль берегов, дабы прибыть к месту нашей колонии. Каково было наше изумление, когда мы увидели разор и запустение! Жители соседней деревни рассказали, что однажды к берегу примчался отряд дервишей и усроили побоище. Колонисты отстаивали свои жилища, как могли, но дервишей было в десятеро больше. Они исчезли так же неожиданно, каки появились. А жители разбрелись кто куда. Многие отправились в порт, чтобы вернуться обратно в Россию.
Николай Иванович, узнав об этом, впал в прострацию, потом опомнился и сказал, что идет поступать на службу к Менелику, чтобы добить этих проклятых захватчиков, заклятых врагов негуса. Лев Платонович отправился с ним, так как хотел продолжить охоту и собственные изыскания. Мы попрощались, и больше я их не видел.
Я отправился обратно в порт, чтобы сесть на корабль, идущий в Россию, но такого корабля не было, и я за еду и кров устроился в портовую службу: помогал вести учет кораблям и лодкам, грузам и почте. И однажды я увидел письмо, отправленное из вашего родного N-ска. Адресатом была церковь Марии Сионской в Аксуме. Простите меня, дорогая Аполлинария Лазаревна, но я вскрыл конверт и обнаружил письмо вашего батюшки, господина Рамзина. В письме Лазарь Петрович просит предоставить доказательства вашего пребывания в Абиссинии. Причем там было указано, что письма разосланы и в королевскую резиденцию, и в колонию, и еще в места, о которых он только слышал от вас или читал.
Не мешкая, я отправился в Аксум, и там увидел Малькамо. Когда он узнал, что вы ждете ребенка, то упал ниц и долго молился. Потом сказал, что напишет все, что полагается.
Следующим утром я пришел в церковь и Малькамо вручил мне запечатанный конверт, который я вкладываю в это письмо. При этом обнял меня и сказал, что хранитель ковчега стар и болен, и его путь — стать хранителем после смерти прежнего. Вы знаете, что это значит, Аполлинария Лазаревна? Что он до конца жизни замурует себя вместе с ковчегом! Но кто я, чтобы противостоять и отговорить принца от этого решения? Я оставил его наедине со своим решением и удалился.
Когда я вернулся в порт, то первой моей мыслью было поскорее отправить вам письмо. И я сел на корабль, направляющийся во Францию. Как я добирался до Парижа, стоит отдельного рассказа, но об этом я умолчу. Оставшись без средств к существованию, я подрядился мыть пробирки в лабораторию месье Беккереля, французского физика. Ему порекомендовали меня потому, что он был страстным поклонником фотографии, и в его лаборатории я надеялся найти реактивы, необходимые мне для проявления фотографических карточек. Месье Беккерель благосклонно разрешил мне в свободное от мытья пробирок время проявить снимки и, о ужас: все фотографии, на которых был запечатлен ковчег, оказались засвеченными. Нет, я не открывал пластинки при свете, я делал все строго по правилам и установкам, подтверждением чему служат фотографии, которые я посылаю вам. Но именно снимки ковчега не получились абсолютно! Почему? Месье Беккерель сказал, что это очень интересная физическая задача, над которой он обязательно на досуге поломает голову. Как жаль, что такое ценное доказательство существования реликвии превратилось в стопку ненужных пластинок.
У него прелестная помощница, полька по имени Мари. Я хочу попытаться счастья и поухаживать за ней, но мне все время мешает один парень по имени Пьер, носатый и лохматый. И все же я не теряю надежды.
Вот, кажется и все. Я вкладываю в конверт ваши портреты, дорогая Аполлинария Лазаревна, письмо принца, и, надеюсь, вы вскоре его получите, в целости и сохранности.
Остаюсь,
Ваш,
Арсений Нестеров,
Париж, сентябрь 1895 г.
* * *
Я отложила письмо в сторону и задумалась. Действительно, получилось очень странно: портреты людей, жанровые фотографии, да и просто пейзажи получились у Нестерова. А именно ковчег — не вышел. Не наводит ли сей факт на мысль, что само божественное провидение хочет скрыть от людских глаз реликвию, на которую мы так неосторожно посягнули?
Ребенок во мне заворочался, лягнул меня изнутри, отчего все тело пронзила сладостная истома. Я сидела и размышляла о том, какая я счастливая — у меня, наконец, будет маленький. Давно пора. Все заждались — и отец, и Вера, готовая тут же нянчить и баюкать крошку. Сколько можно быть одной, как перст?
С таким настроением я взялась за второе письмо и взрезала конверт ножом с ручкой слоновой кости. Дрожащими руками я развернула лист бумаги, на котором было написано по-французски: "Я, Малькамо бар Иоанн, негус негест, православной веры монофизитского толка, принадлежу к священной абиссинской церкви, сим удостоверяю, что взял в жены дворянку Аполлинарию Авилову, православную, в дату праздника Тимката, 12 марта 1895 года от рождества Христова. Венчание случилось в церкви Марии Сионской, в Аксуме, Абиссиния. По моему соизволению у моей жены остается фамилия Авилова, так как в моей стране ношение фамилий не заведено. Благословляю свою супругу и ребенка, зачатого от меня. Малькамо бар Иоанн, он же брат Иоанн, принявший постриг. 11 августа 1895".
Больше в письме ничего не было: ни нежных слов, ни приписки о том, как он живет, как себя чувствует. Только холодные строчки официального письма. Я почувствовала досаду, но потом одернула себя: Аполлинария, что ты себе позволяешь? Благородный принц решился на святую ложь, дабы облегчить мне жизнь и спасти репутацию в глазах общества и закона. А я видите ли, испытываю смешанные чувства! Он имеет право на обиду, и все же сделал то, что подсказывало ему человеколюбие.
И я поспешила к отцу, взяв с собой конверт из толстой коричневой бумаги.
Войдя в рабочий кабинет Лазаря Петровича, я бросилась ему на шею и расцеловала!
— Рара, ты у меня самый заботливый и замечательный отец на свете!
— Правда? — усмехнулся он. — Приятно слышать. Чем обязан такому восторгу?
— Смотри! — и я протянула отцу конверт. — Твои усилия не пропали даром.
— Интересно, интересно, посмотрим, что здесь, — сказал Лазарь Петрович, внимательно осматривая марки и печати на конверте.
— Ты внутрь загляни, — я сгорала от нетерпения.
Отец достал фотографии и принялся рассматривать их так же тщательно, как и надписи на конверте. Адвокатскую выучку не забудешь ни при каких обстоятельствах!
— Да ты красавица, Полинушка! Тебе так к лицу корона. Королевна! Настоящая королевна! Шемаханская царица!
— Абиссинская, — поправила я.
— Вот это доказательства, — удовлетворенно отметил Лазарь Петрович. — Теперь их можно в судейскую коллегию, подтверждать тетушкино завещание.
— Ты дальше смотри! — взмолилась я.
— А что, в конверте еще что-то есть? — он заглянул внутрь и вытащил письмо Малькамо. Прочитал. — Полина, это правда то, что тут написано?
— Нет, рара, — твердо ответила я. — Мы не венчались в церкви Марии Сионской, это ложь.
— Кто об этом знает?
— Ты, я, — я медлила, — и Малькамо.
— Отлично! — сказал Лазарь Петрович и потер ладони. — Малькамо далеко, ты — слабая женщина, а я — твой адвокат, который обязан хранить тайну. Тебе вредно волноваться в твоем положении.
— Отец… Я чувствую… Кажется, начинается…
* * *
Немедленно были вызваны доктор и акушерка. Вера забегала с горячей водой и полотенцами, а я лежала на кожаном диванчике и стонала, обхватив руками живот. Не помню уже, сколько времени все продолжалось, но вдруг мне стало легко-легко, акушерка что-то подхватила на руки, раздался скрипучий крик и мои муки закончились.
— Девочка! — воскликнула акушерка. — Темненькая.
— Покажите, — слабым голосом попросила я.
— Сейчас, сейчас, только пуповину обрежу и обмою.
Девочка оказалась красавицей. Кожа цвета кофе с молоком, огромные черные глаза в пол-лица, точеный носик и редкие волосики на голове. Маленькая копия Малькамо. Она немного покряхтела, чмокнула губами и чихнула. Я умилилась.
В комнату вошел Лазарь Петрович.
— Где моя внучка? — ласково произнес он?
Акушерка протянула ему ребенка. Я и не ожидала, как может меняться человек, когда он осознает себя дедом. Строгий адвокат, искусный оратор вдруг превратился в любящего деда, из которого малышка в недалеком будущем начнет вить веревки. Можно не сомневаться: может, лицом она и в отца, но характером будет в меня. Я это чувствую!
— Назовешь-то как? — спросил отец?
— Марией, — чуть слышно прошептала я. Как же иначе?
* * *
Пока я отлеживалась в постели после родов и кормила свою ненаглядную девочку, в N-ске разразился скандал. Елизавета Павловна на ближайшем четверге осудила взбалмошную вдову, перешедшую все границы приличия. Мало того, что я уехала одна в африканскую страну, так еще и вернулась с черным незаконнорожденным отпрыском. Ноги моей не будет в избранном обществе! С ней согласились почтмейстерша, супруга судебного пристава и две «синявки» из женского института. Они хотели уговорить губернаторшу подключиться ко всеобщему остракизму, но практичная, или просто равнодушная ко всему, кроме еды, губернаторша отказалась.
Все это рассказывала мне Вера, у которой были лазутчики во всех мало-мальски приличных домах. Вера обожала сплетни и слухи, к ней они стекались с неимоверной быстротой.
В дом зачастили визитеры вроде бы для того, чтобы пожелать здравия матери и новорожденной, но их заворачивали обратно, объясняя тем, что я еще не оправилась после родов.
В кондитерской Китаева на отца напала некая почтенная дама и, потрясая клюкой, завопила, что его дочь вавилонская блудница! Отец, купив эклеры, отвесил кликуше легкий поклон и предложил позвать околоточного. Та немедленно угомонилась.
Все переменилось словно по мановению волшебной палочки, когда судейская коллегия признала бумаги подлинными, а меня — выполнившей условия завещания тетка Марии Игнатьевны, и поэтому я, спустя три недели, стала полноправной владелицей тетушкиного наследства, а моя дочь получила законного отца.
На крестины в церковь Благовещения, что на Соборной площади нашего N-ска, собрался весь город. Крестной матерью я попросила быть любимую подругу Юленьку. Она приехала из Аркадии, чтобы выполнить мою просьбу. Крестным отцом выразил желание стать полковник Савелий Васильевич Лукин, тот самый, у кого в полку служил Николай Сомов, мой незадачливый воздыхатель. Елизавете Павловне Бурчиной, главной сплетнице N-ска, досталось место прямо напротив купели. Она своими глазами хотела увидеть таинство от начала до конца, чтобы было о чем потом говорить мо меньшей мере несколько недель подряд на ее пресловутых «четвергах».
Отец Иннокентий, читая молитву, опустил мою доченьку в купель — она даже не плакала. Крестные приняли ее, Марию Ивановну Авилову, обрядили в крестильную рубашечку и передали мне. Ах, как я волновалась! Слезы сами текли у меня из глаз, но это были слезы радости!
Дома, покормив и уложив Машеньку спать, я спустилась открыть дверь. На пороге стоял отец.
— Рара! — воскликнула я. — Мы же только что расстались! Случилось что?
— Она спит? — спросил Лазарь Петрович, снимая пальто.
— Да. Намаялась, бедная.
— У меня для тебя письмо. Пришло на мой адрес.
Взяв протянутое отцом письмо, я подошла к окну и распечатала его. Неразборчивым витым почерком по-русски было написано: "Уважаемая Аполлинария Лазаревна! С прискорбием сообщаю Вам, что мой племянник, Малькамо бар Иоанн, он же брат Иоанн, скончался третьего дня от всеобщей слабости и лихорадки. Перед смертью он просил меня передать Вам уверения в его любви, которая последует за ним в лучший из миров.
Остаюсь, преданный Вам, и буду вечно молить за Вас Бога,
Аниба Лабраг,
Настоятель монастыря отшельников Дебре-Маркос,
Абиссиния, 17 сентября 1895 года".
* * *
Слез уже не осталось. Я сидела, тупо уставившись в стенку, и повторяла: "Аниба Лабраг, Аниба Лабраг, АнибаЛабраг, Абра Ганнибал…" Тут я проснулась. Настоятеля монастыря звали как легендарного прадеда великого поэта! Это не могло быть совпадением. Тем более, что корона внучки Пушкина похожа на ту, что я примеряла. Значит, великий поэт был осведомлен о тайнах рода Ганнибала! Ведь захотела же его внучка корону абиссинской царицы! А еще Аниба Лабраг по-русски говорит. Что тогда получается? Моя доченька с одной стороны потомок царицы Савской и царя Соломона, а с другой — рода Ганнибалов! А как же я? Что в ней от меня. Ах, да… Характер. Как она мужественно держалась при крещении, когда ее опускали в воду.
Из бельэтажа спустился отец, навещавший внучку. Я отдала ему письмо. Он пробежал глазами и сказал:
— Что ж, вот ты и опять свободна, Полинушка.
— Ах, рара, — воскликнула я, — не понимаю, чего в тебе больше, человеколюбия или адвокатской изворотливости? Ведь доченька моя осиротела.
— Ну, полно, полно. У нее есть мы с тобой, крестные, Вера, Настенька. Все под Богом ходим.
— Надоело мне все! Сколько смертей перевидала, в скольких передрягах побывала. А сейчас хватит! У меня дочь, и я отныне буду жить только ради нее. Авантюры закончились!
— Ну, это еще как сказать, — усмехнулся отец. — Уж, я-то твой характер знаю! Tempora mutantur, etnos mutamur in illis![84]
К О Н Е Ц
Аскалон
июнь 2003 — январь 2006
Примечания
1
См. детектив К. Врублевской "Дело о старинном портрете".
(обратно)2
См. детектив К. Врублевской "Первое дело Аполлинарии Авиловой".
(обратно)3
Чермное — так на церковнославянском языке называется Красное море.
(обратно)4
Эллинг (голл. helling), сооружение на берегу моря, реки или озера, оборудованное для строительства судов.
(обратно)5
Камка — тонкая ткань с разнообразным по композиции цветочным рисунком, как правило, шелковая, одноцветная. Отличительной особенностью ее является сочетание блестящего узора и матового фона по лицевой стороне и блестящего фона и матового узора по изнанке.
(обратно)6
Форпик — спальная каюта на две койки, расположенная под носовой палубой.
(обратно)7
Скобтрап — лестница из железных скоб на внутренней обшивке трюма.
(обратно)8
Подволочный — потолочный. Подволоком на флоте называют потолок.
(обратно)9
Шкерт — концевая веревка, бечевка для подъема чего-либо на судно
(обратно)10
Подробнее в романе "Дело о старинном портрете".
(обратно)11
(2-я Паралипоменон, глава 14.) И поразил Господь Ефиоплян пред лицем Асы и пред лицем Иуды, и побежали Ефиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали Ефиопляне, так что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его. И набрали добычи великое множество. И разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа; и разграбили все города и вынесли из них весьма много добычи.
(обратно)12
И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу, и усилю голод между вами, и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя; и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя; Я, Господь, изрек сие. (Иезекииль 5:16–17)
(обратно)13
Соломонид — сын Соломона.
(обратно)14
Негус негест — император, главнокомандующий всеми армиями.
(обратно)15
Подробнее в романе "Дело о старинном портрете".
(обратно)16
В настоящее время государство Джибути.
(обратно)17
Плашкоут, плоскодонное судно, служащее при разгрузке судов, а равно для настилки временных мостов.
(обратно)18
Ямато алака (амхарский) — начальник сотни, капитан, штабс-капитан
(обратно)19
Яамса алака — начальник полусотни, поручик
(обратно)20
Гирс Николай Карлович — министр иностранных дел Российской империи.
(обратно)21
Храм Девы Марии в Лалибеле.
(обратно)22
Крапивное семя — это синоним чиновников, взяточников, крючкотворов, мздоимцев.
(обратно)23
Менц — высокогорный овцеводческий район в Эфиопии.
(обратно)24
Кес аггафари — священник-казначей
(обратно)25
Шва — Савская.
(обратно)26
Кыбур денгай — драгоценные камни.
(обратно)27
Руби — рубин.
(обратно)28
Ab ovo (лат. — с яйца), с самого начала.
(обратно)29
Ingrat comme les chats (франц.) — в высшей степени неблагодарный (букв. неблагодарный, как кот) — французская поговорка.
(обратно)30
Одеяние в виде тоги — как для мужчин, так и для женщин.
(обратно)31
Абашевская игрушка — русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде, ныне Беднодемьяновском районе Пензенской области.
(обратно)32
(Из книги Судей(Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской. И сказал старик: куда идешь? И откуда ты пришел?
Он сказал ему: мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я; я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа; и никто не приглашает меня в дом.
(обратно)33
Быр — денежная единица Эфиопии.
(обратно)34
Дабтар (амхар.) — чиновник, писец, грамотный человек.
(обратно)35
Европейские державы — Франция, Англия, Германия, Италия, Бельгия, Испания и Португалия, имеющие владения на Африканском побережье и заинтересованные в завладении внутренностью материка, во избежание ссор между собой собрались на конгресс в Брюсселе с 18 ноября 1889 г. по 2 июля 1890 г. На нем шел торг о разделе Африканского континента между колониальными державами. Ранее этого, на Берлинской конференции 1884 — 1885 гг. была предпринята попытка согласовать интересы колониальных держав во время дележа Африки, в частности в бассейне Конго, и договориться об общих принципах эксплуатации ее богатств.
(обратно)36
Абуна — (арабск.: отец наш), в Сирии священник, монах; в Абиссинии митрополит Эфиопской церкви.
(обратно)37
Клунийская реформа — преобразования в конце 10–11 вв. в католической церкви, направленные на ее укрепление. Движение за реформу возглавило аббатство Клуни (Cluny) в Бургундии (Франция). Главные требования клунийцев: суровый режим в монастырях, независимость их от светской власти и от епископов, непосредственное подчинение папе; запрещение симонии, соблюдение целибата. Часть требований была осуществлена. Программу клунийцев использовало папство в борьбе с императором за инвеституру.
(обратно)38
donner sa langue aux chats. — Сдаюсь. (букв. отдать свой язык кошкам);
(обратно)39
Porca battona (итал.) (порка баттона) — грязная потаскуха (шлюха).
(обратно)40
Putana (итал.) (путана) — проститутка.
(обратно)41
Фаренжи (амхар.) — иностранец.
(обратно)42
Баламбарас (амхар.) — комендант. Дословный перевод — "где есть крепость начальник"; соответствует капитану.
(обратно)43
И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома; спешите, чтобы нам уйти, чтоб он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды и не истребил города мечом. (2-я Книга Царств 15:14).
(обратно)44
Геэз — Мертвый язык семитской группы семито-хамитской семьи языков, язык эпиграфики и христианской литературы Эфиопии. С XIII века перестал быть государственным языком, но как литературный продолжал существовать до конца XIX — начала XX века. Ныне является культовым языком христианского населения Эфиопии.
(обратно)45
Серафим Саровский (1759 — 1833), иеромонах — пустынножитель и чудотворец. Прохор Мошнин в 19 лет пришел из Курска в Саровскую обитель и остался там навсегда. Восемь лет он был послушником, потом был пострижен в сан инока. При посвящении он получил имя Серафим.
(обратно)46
Царский гнев — вестник смерти; но мудрый человек умилостивит его. Книга Притчей (16:14)
(обратно)47
Кене (амхар.) — эзотерическая поэзия. Зема — церковные песнопения.
(обратно)48
Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? (Евангелие от Луки, глава 15:4)
(обратно)49
Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением; дела их — дела неправедные, и насилие в руках их. (Исайя, Глава 59:6)
(обратно)50
"Стек тартар" — татарский бифштекс, сырой фарш с луком и пряностями.
(обратно)51
Рас (амхар.) — фельдмаршал, самостоятельный главнокомандующий армией своей области или одной из армий императора или негуса.
(обратно)52
incoglionito figlio di putana, stronzo bastardo (инкольонито фильо ди путана, стронцо бастардо) (итал.) — охреневший сукин сын, сраный ублюдок.
(обратно)53
И съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных; (Бытие 41:20)
(обратно)54
Стези [туда] не знает хищная птица, (и не видал ее глаз коршуна); (Иов 28:7)
(обратно)55
Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол; (Иов 40:10) Клади на него руку твою. (Иов 40:27)
(обратно)56
В 1769 году английский путешественник Джемс Брюс высадился в Массауа, порту на севере Эфиопии. Несмотря на противодействие правителя Массауа, Брюс сумел проникнуть в горы Абиссинии и открыть истоки Голубого Нила, самого полноводного притока Нила. В своем отчете он писал: "Взгляните на эту травянистую кочку среди болота", — сказал проводник. Склон холма был усеян цветами с толстыми выступающими из земли корнями. Так как я засмотрелся на эти цветы, то дважды упал и очень больно ушибся, прежде чем очутился у края болота. Наконец, я приблизился с заросшему травой островку. В восторге я созерцал ключ, являющийся началом великой реки.
(обратно)57
Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я — на тебя, фараон, царь Египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: "Моя река, и я создал ее для себя". (Иезекииль 29:3)
(обратно)58
Тис-Ысат (амхар.) — Дым без огня, водопад на реке Аббай (Голубой Нил) высотой 45 м.
(обратно)59
В 1823 шотландский химик Чарльз Макинтош начал продажу плащей из прорезиненной ткани — «макинтош».
(обратно)60
Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. (Псалтирь 117-21)
(обратно)61
И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего. (Бытие 22:18)
(обратно)62
Синявка — презрительное название классных дам в женских институтах, носивших форменные платья синего сукна.
(обратно)63
Айнекам (амхар.) — табу, запрет, трогать нельзя.
(обратно)64
Атыкрав (амхар.) — нельзя приближаться.
(обратно)65
Яхонт (др. слав.) — рубин. Диамант — бриллиант.
(обратно)66
Вот, серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской: как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? (Бытие 44:8)
(обратно)67
3-я Книга Царств 11:7.
(обратно)68
Акация.
(обратно)69
"Кебра Негест" — "Слава королей", кодекс законов Эфиопии, написанный около 850 года до н. э.
(обратно)70
Праздник Тимката (Богоявление) посвящен Ковчегу Завета. Во время праздника происходят массовые крещения.
(обратно)71
Табот — деревянная или каменная доска с изображением креста посредине и символов евангелистов по углам, соответствующая антиминсу православной обрядности. Табот помещается в алтаре и выносится из церкви только во время крестного хода. При освящении церкви освящается именно табот, который и символизирует эту церковь. Без табота храм — пустое строение, лишенное всякой святости.
(обратно)72
После того, как отправили его (ковчег), была рука Господа на городе — ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты (Книга 1-я Царств, 5:9).
(обратно)73
В 1879 году, сказка Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" появилась на русском языке.
(обратно)74
Кисва (араб.) — покрывало.
(обратно)75
И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю (Бытие 30:1).
(обратно)76
Цибет (или цибетин) — вещество, сильно пахнущее мускусом, применяется в парфюмерии, добывается из желез виверры (или циветты — род хищного млекопитающегося).
(обратно)77
И корабль Хирамов, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней (Книга 3-я Царств 10:11).
(обратно)78
Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает; ничего нет… (Числа 11:5,6)
(обратно)79
(Числа 11:7)
(обратно)80
Книга Герберта Уэллса "Машина времени" вышла в свет в 1895 году.
(обратно)81
Я люблю тебя. Будь моей женой! (амхар.)
(обратно)82
Книга Царств IV, 19:35–36 и Исайя, 37:36–37
(обратно)83
Корпия — это нащипанные из тряпок нитки для перевязки, обработки ран.
(обратно)84
Времена меняются и мы меняемся вместе с ними. (лат.)
Чтобы изменить документ по умолчанию, отредактируйте файл "blank.fb2" вручную.
(обратно)



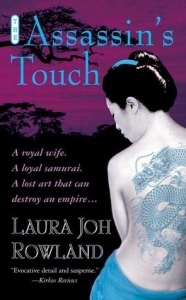
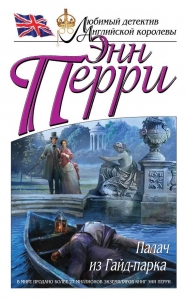


Комментарии к книге «Дело о рубинах царицы Савской», Катерина Врублевская
Всего 0 комментариев