Валерий Ярхо Байки русского сыска
Предисловие
Предлагаемая вашему вниманию подборка новелл связана воедино темой криминала, послужившей нитью, на которую собраны жемчужины фактов. Они были сокрыты в раковинах старых газет и журналов, давно покоящихся на дне великого океана информации, занесённые там песками и илом времени. Обнаруженные во многом случайно, они — своеобразный «побочный продукт», полученный при «погружении в эпоху». Автор, словно водолаз, нырнул в упомянутый выше океан, ища сведений совсем иного рода, и принялся ворошить на дне эти самые песок и ил. Проще говоря, для одного исследования понадобилось просмотреть все номера нескольких московских газет, издававшихся с середины XIX века до 1917 года. День за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем… Пожелтевшие, часто ветхие и изорванные листы старых изданий подарили множество ценнейшей информации, часть которой легла в основу этой книги.
Они действительно драгоценны, эти «жемчужины», хотя бы потому, что многие из них, мелькнув на информационном небосклоне яркими метеорами, упали на дно памяти, и там их завалило слоями более поздней информации, так что и следа от них не осталось. Пролежав какое-то время в безвестности, они обратились в «редкости», стали «ценными историческими ископаемыми», вроде драгоценных камней. Некоторые из этих «самородков» автор счёл необходимым, не считаясь с трудами, «поднять на поверхность», и вот они перед вами, почти в натуральном виде.
Пусть вас не смущает, что именно криминал стал тематической нитью коллекции. Искры, рассыпающиеся при столкновении мнений, страстей, интересов, люди и время делают уроки истории гораздо более доходчивыми и увлекательными, нежели сухое перечисление дат и событий. Истории эти житейские, корысть, похоть, жадность, глупость, желание возвыситься — вот основные мотивы поступков тех, кто когда-то их совершил. Криминальные истории — это часть нашей общей истории. Видеть, как выглядит со стороны иное обычное «житейское дельце», порою важнее, нежели, зевая, «обозреть целиком великую эпоху», ничего лично для себя в ней не отметив.
Преступление на грани искусства
Московский размах
Обер-полицмейстеру и начальнику сыскной полиции Москвы долгое время отравлял жизнь вопрос, который любил задавать генерал-губернатор, князь В.А. Долгорукий, после того как выслушивал рапорт о состоянии дел в городе.
— А как там «червонные валетики»? — бывало, спросит князь.
Полицейским чинам оставалось только, понурившись, отвечать:
— Ищем-с, ваше сиятельство!
Всей России было известно, что в Москве свила гнездо шайка ловких аферистов, действовавших не только в обеих столицах, но и по всей стране и даже в Европе. Называли они себя «Клуб червонных валетов», и, по слухам, гулявшим тогда по городам и весям, состоял этот клуб из «людей общества», а проделки их были столь ловкими и остроумными, что в газетах о них писали с едва скрываемым восхищением. Было от чего смущаться полицейским чинам, оказавшимся меж двух огней: с одной стороны, начальство требует решительно бороться с мошенниками, а с другой — известно, какие мастера эти московские, уже не раз «усаживавшие в лужу» служилых людей.
* * *
Когда назначенный в двадцатых годах XIX века на долж-ность московского обер-полицмейстера «для искоренения мошенничества и воровства» генерал-майор Шульгин громко объявил о своём намерении «за дело взяться не на шутку», сообщество московских мошенников решило с ним «пошутить». Как-то раз утром к дому генерала Шульгина подкатили парные сани и вышедший из них ливрейный лакей, войдя в швейцарскую, попросил доложить, что послан за обер-полицмейстером своей хозяйкой, графиней Орловой, просившей незамедлительно прибыть к ней главного полицейского начальника Москвы по очень важному делу. Шульгин был лично знаком с графиней и потому без лишних вопросов собрался, накинул шинель и вскоре уже сидел в санях, которые лихо несли его по московским улицам.
Добравшись до дома Орловых, Шульгин стремительно вошёл в подъезд. Лакей, шедший сзади, едва за ним поспевал. На ходу обер-полицмейстер скинул свою богатую шинель «на больших бобрах», так что ливрейный едва успел её подхватить. Шульгин проследовал во внутренние покои, а лакей с шинелью присел на лавку в швейцарской. Графиня встретила посетителя в гостиной и приветливо спросила его: «Чем я обязана нежданному визиту дорогого гостя?» — «Как — чем? — удивился Шульгин. — Вы же послали лакея, чтобы я немедленно приехал переговорить с вами о важном деле! Это я у вас хотел спросить: что случилось, сударыня?» — «Я никого за вами не посылала! И дела к вам у меня никакого нет!» Послали в швейцарскую за лакеем, а того уж и след простыл, и саней у подъезда не оказалось. С ними пропала и шульгинская шинель «на больших бобрах».
Как потом шёпотом рассказывали, на следующий день получил обер-полицмейстер письмо, в котором «неизвестные доброжелатели» писали ему: «Напрасно вы, ваше превосходительство, с нами ссориться хотите! Будем лучше жить в мире да ладе, глядишь, никто и не будет внакладе!» Шульгин поначалу был обескуражен, но потом, «вняв гласу рассудка», дал знать «кому следовало», что согласен на мировую, и московские жулики оказали ему целый ряд важных услуг, так что Шульгин в историю попал как «дея-тельный обер-полицмейстер». Однако тогдашние жулики не шли ни в какое сравнение с «червонными валетами», вот и приходилось полицейским лавировать между Сциллой долга и Харибдой опасности.
* * *
Первую по-настоящему крупную афёру «червонные валеты» провернули в начале семидесятых годов, когда через нижегородскую контору Российского общества мор-ского, речного и сухопутного страхования и транспортировки кладей они отправили почтой в разные города несколько десятков сундуков, указав в сопроводительных документах, что в сундуках находится «готовое бельё». Каждый такой груз был оценён ими в 950 рублей. По прибытии на место эти сундуки долго пылились в почтовых конторах, пока, по прошествии законного срока, их не вскрывали как невостребованные адресатом. По установленным правилам вскрытие производили почтовые служащие в присутствии чинов полиции. Каково же было удивление чиновников обоих ведомств, когда вместо ожидаемого белья в большом сундуке был обнаружен другой сундук, меньший по размеру. Вскрыли и его, а там снова сундук, в нем ещё один небольшой сундучок, в котором лежали экземпляры книги «Воспоминания об императрице Екатерине Второй, по случаю открытия ей памятника». Во всех конторах, куда были отправлены подобные сундуки, эту выходку сочли чьей-то странной шуткой или недоразумением, а потому никаких расследований проводить не стали. Впоследствии же, когда это дело раскрылось, пришлось спешно изменять многие правила учёта и обращения русских ценных бумаг. Фокус, придуманный «червонными валетами», был остроумен и в то же время прост: в основе его лежало правило, позволявшее принимать в залог, наравне с векселями, расписки страховой конторы, выдававшиеся на гербовой бумаге. Мошенники извлекли из этой афёры двойную выгоду: они подрядились вывезти залежавшийся тираж плохо продаваемой книги о Екатерине Великой, а потом, накупив сундуков, разослали их, составленные как матрёшки, один в другом, поместив в середину книги — для весу при перевозке и пущей загадочности при вскрытии. Пока сундуки ехали по России дапылились в конторах, отправители заложили «гербовые расписки», получили по ним денежки и были таковы.
* * *
Каждая афёра московских мошенников напоминала маленький спектакль. Разница была лишь в том, что разыгрывался он не на сцене, а в жизни, и вместо криков «браво!» в финале этих плутовских представлений раздавались вопли «карауууул!!!».
Вот, например, однажды два господина, солидных видом и манерами, зашли в располагавшийся на Кузнецком Мосту магазин, в котором производилась торговля драгоценностями и церковной утварью. При магазине была мастерская, принимавшая заказы на изготовление предметов утвари и облачений. Хозяину заведения посетители представились тульскими купцами, депутатами купеческого общества, якобы уполномоченными заказать в Москве полное архиерейское облачение с митрой, которое тульское купечество собиралось поднести своему архиерею. Заказ был весьма выгодный, но выполнить его нужно было за неделю. Хозяин пообещал управиться в срок, и в ма-стерской при магазине закипела работа.
* * *
Ровно через неделю, около полудня, когда все приказчики ушли обедать и в магазине остался один только хозяин, заказчики пришли за товаром. Осмотрев приготовленные по их заказу вещи, они попросили показать им ещё камни и различные мелкие, но весьма ценные вещицы, которые они пожелали присовокупить к основной покупке. Перебрав драгоценности, купцы немного замялись, а потом, пошептавшись между собой, сказали:
— Тут, стало быть, такая штука: архиерею все ж таки дарим, не кому-нибудь! Потому есть у нас некоторое сомнение. Вещи, конечно, красивые, дорогие и сделаны хорошо, но вот только любопытно было бы взглянуть, как они будут на живом человеке смотреться? Не могли бы вы продемонстрировать облачение «в деле», на себе то есть?!
Не желая перечить выгодным заказчикам, владелец магазина решил, что греха большого не будет, если он облачится в архиерейские ризы, и потому уступил просьбе. Купцы усердно ему помогали одеваться и под конец, водрузив на его голову архиерейскую митру, отошли в сторону, любуясь делом рук своих.
— Недурно, очень недурно, — приговаривали мошенники, как бы невзначай приближаясь к кассе. — Повернитесь-ка спиной к нам.
Исполнивший эту просьбу купец услышал только, как за спиной зашуршали бумажки и что-то звякнуло. Это «покупатели» мигом очистили кассу, сгребли с прилавка разложенные для осмотра драгоценные камни и бросились из магазина на улицу, к ожидавшей их коляске. Случайные прохожие в тот день стали свидетелями зрелища небывалого: по улице, подобрав одежды, за коляской, запряжённой парой, бежал, крича во все горло: «Карауууул! Держи их проклятых!», архиерей в полном облачении, с митрой, лихо съехавшей набекрень при беге. Соревноваться с двумя лошадьми в быстроте, будучи облачённым в мало приспособленные к таким забегам ризы, дело бесполезное, и потому он скоро отстал. Оставшись стоять на улице, он потрясал кулаками и изрыгал ужасные проклятия. Вокруг собралась толпа любопытных, сквозь которую с трудом пробились городовые, арестовавшие «архиерея» за буйство в общественном месте. Пока суд да дело, мошенников уж и след простыл.
* * *
После одной из особенно дерзких выходок «Клуба червонных валетов» князь Долгорукий, возмущённый бессилием московской полиции, в сердцах воскликнул: «Изловлю и законопачу!» Когда этот грозный рык московского генерал-губернатора достиг ушей «червонных валетов», предерзкие мошенники, расценив угрозу генерал-губернатора как вызов, «подняли перчатку». Об их ответной афёре писали многие, начиная с Гиляровского, вкратце пересказавшего историю продажи «червонными валетами» дома самого генерал-губернатора англичанам. По воспоминаниям современников, допущенных к московским тайнам, для нанесения удара «дерзнувшему им грозить» генерал-губернатору «червонные валеты» разделились на три группы. Одна команда занялась устройством фиктивной нотариальной конторы близ Охотного Ряда. Вторая группа мошенников свела близкое знакомство с несколькими англичанами, приехавшими в Россию для ведения торговли. Многие «червонные валеты» служили в различных финансовых учреждениях Москвы и занимались вполне легальной коммерцией, так что общие темы для разговоров нашлись. Новые знакомые англичан, эти русские коммерсанты, в короткий срок совершенно очаровали сынов туманного Альбиона своим хлебосольством, весельем и деловой хваткой. Поэтому, когда русские повели между собой разговоры о продающемся совсем задёшево огромном доме на Тверской улице, англичане, конечно же, заинтересовались. Им объяснили, что владелец дома, отпрыск древнего рода, в данный момент крайне нуждается в наличных деньгах и потому готов продать свою городскую усадьбу за сравнительно небольшие деньги. Наличные нужны ему очень спешно, потому и цена такая. «А ежели этот дом нынче купить, а потом продать его „за настоящую цену“, то прибыль будет весьма значительна», — твердили англичанам на безукоризненном английском языке их новые русские знакомые, высчитывая предполагаемую выгоду буквально на пальцах, так она была очевидна. Разговор был проведён так умно, что в головы англичан, вроде как сама собою, пришла мысль о покупке этого дома. Тогда в дело вступила третья группа участников этой афёры. На приём к князю Долгорукому записались несколько «червонных валетов», изображавших делегацию от купечества, и, явившись пред княжеские очи, они обратились к генерал-губернатору с такой речью:
— Ваше сиятельство! На днях в Москву прибыло несколько богатых английских коммерсантов для налаживания торговых отношений.
— Знаю, — ответил князь, — мне докладывали.
— Так вот, ваше сиятельство, мы, как есть русское купечество, порешили промеж себя для начала Москву, нашу матушку, им показать, а посему уж вы не откажите нам в нижайшей нашей просьбе: дозвольте показать настоящее русское богатство — продемонстрировать ваши апартаменты, чтобы знали, как живут в России важные сановники.
Растроганный таким обращением, князь разрешил.
— Что же, я рад, — отвечал он, — извольте, покажите им.
А в это время в гостинице уже вовсю шёл торг: «червонные валеты» сообщили англичанам, что им удалось уговорить хозяина дома сделать их посредниками в деле купли-продажи. За дом князя Долгорукого они просили у англичан полмиллиона рублей. Красноречия «червонным валетам» было не занимать, деловитые англичане заглазно, как их к тому поначалу склоняли, покупать усадьбу отказывались, желая сначала осмотреть товар. Получив от сообщников весточку о том, что князь разрешил осмотр дома, продавцы согласились на условия покупателей: «Желаете самолично осмотреть дом? Вери гуд, джентльмены, извольте, хоть завтра». На том и порешили.
* * *
В назначенный к осмотру день мошенники повели англичан, ни бельмеса не смысливших по-русски, в дом генерал-губернатора, который был продемонстрирован как выставленный на продажу. Показ сопровождался комментариями на английском языке. Князь, уверенный в том, что согласно договорённости купцы проводят экскурсию по его дому, на все недоуменные вопросы отвечал: «Да-да, я знаю, я разрешил, пусть смотрят». Громадный, благоустроенный и меблированный дом англичанам очень понравился, но все же они стали торговаться, и им удалось сбить цену до 400 тысяч рублей. На том по рукам ударили. Осталось только оформить покупку, что и было сделано в той самой нотариальной конторе, которую организовали «червонные валеты». Дальнейшие сведения о судьбе этой сделки разнятся: одни утверждают, что мошенники получили все 400 тысяч; более реальная версия гласит, что добычей стали только 70 тысяч рублей, в качестве задатка уплаченных англичанами в «нотариальной конторе». Как бы то ни было, воры сорвали приличный куш, но не он был в этой затее главной целью. Основные события развернулись на следующий день поутру. Когда англичане, уже на правах хозяев, явились в генерал-губернаторский дом, их не пустили далее швейцара. Коммерсанты выразили решительный протест, разгорелся скандал. Весь день и всю ночь кипевший негодованием князь Долгорукий теребил московскую полицию. Каждый час он вызывал к себе обер-полицмейстера для доклада и требовал немедленно изловить негодяев! Однако результатом титанических усилий полиции стало лишь обнаружение той самой фиктивной конторы, в которой была оформлена сделка. Но имущество конторы оказалось единственным трофеем полиции.
* * *
Все-таки спустя годы «червонные валеты» попались. «Погорели» они на банковских афёрах. Выяснилось, что шайку возглавлял сын генерала артиллерии, служивший в Обществе московского городского кредита. Павел Карлович Шпеер. Сам Шпеер избежал ареста, успев скрыться за границей. По легенде, он, загримированный стариком, присутствовал на всех заседаниях долгого судебного процесса над своими товарищами и, по вынесении им приговора, отправил из зала издевательскую записку председателю суда. Несмотря на бегство Шпеера, можно сказать, что князь Долгорукий выполнил своё обещание, данное публично: он действительно добился того, чтобы почти весь «Клуб червонных валетов» изловили и отправили в Сибирь.
Харьковское изобретение
В конце XIX века российские газеты пестрели сообщениями о проделках мошенников, каждое из которых заканчивалось предупреждением: не подбирайте на улицах «случайно потерянных», набитых деньгами кошельков, порт-фелей и пакетов — это всего лишь наживка ловких аферистов. Но как можно устоять, когда, словно во сне, идя сто раз хоженным путём, в один прекрасный день обнаруживаешь у себя под ногами портфель, или пакет, или бумажник «купеческого фасона»?! Обычно такие вещи находили люди прилично одетые, при часах, поскольку подкидывать соблазнительные «находки» голодранцам смысла никакого не было. Ну-с, обнаружив валяющееся на панели тротуара сокровище, «счастливчик», конечно же, его поднимал, осматривал, но едва он только убеждался, что портфель, бумажник или пакет набит пачками наличных, облигациями или иными ценными бумагами, как у него заспиной раздавался мерзкий смешок. Оглянувшись, он обнаруживал оборванца, этакого кривляющегося типа из «опустившихся интеллигентов». «Тип» с явным оттенком зависти говорил обычно:
— Беспокоиться, сударь, нечего… Доносительством мы не занимаемся, поскольку не питаем симпатии к полицей-скому сословию… Однако обидели вы меня — двумя шагами опередили и, можно сказать, состояние из-под носа цапнули… Может — это судьба моя лежала, изменение жизни к лучшему, возврат в общество цивилизованных людей… Э-э, да что толку горевать, находка ваша, Бог, видно, достойных награждает, а я… пойду, пожалуй, залью провороненную фортуну! Пожалте, сударь, от щедрот своей удачи, что Бог на руку положит! Не шутка ведь — счастье своё пропивать буду!
«Счастливец», поначалу опасающийся, что «тип» будет требовать раздела находки, облегчённо вздохнув, отваливал «от щедрот» иногда и до 10 рублей, на которые тогда можно было напиться до белой горячки. «Тип», исполнив свою роль, заключавшуюся в выяснении, имеются ли при «счастливце» деньги и где он их держит, немедленно исчезал.
* * *
Расставшись с неприятным «конкурентом», «счастливец» прижимал к груди находку, обмирая от нежданно свалившегося счастья и, боясь, что все это только сон, шёл по улице, но не успевал сделать и десяти шагов, как на него коршуном налетал какой-то прилично одетый господин.
Он вцеплялся в находку, в самого «счастливца» и громогласно требовал немедленно вернуть ему потерянную вещь, грозя заявить в полицию о краже.
— Помилуйте! — кричал перепуганный этим нападением «счастливец». — Какая кража: я нашёл это валявшимся на панели… Можно сказать, спас… Мне, по меньшей мере, треть полагается…
— Знаем мы таких «спасителей», — кричал в ответ «владелец», — непременно в полицию надо, там разберутся!
Вокруг спорящих живо вырастала толпа зевак, и два-три «свидетеля» громко разъясняли вновь прибывающим, что «вон энтот, который в котелке, стибрил у господина, кричит который, евонный портфель с деньгами, а теперь отпирается; нашёл, говорит, на земле валялось!».
Драгоценная находка в этот момент извлекалась «владельцем» из рук «счастливца» и тут же прилюдно ревизовалась на предмет сохранности содержимого. Вскоре обнаруживалось, что денег не хватает.
— Господа! — с оттенком истеричности обращался «владелец» к толпе. — Здесь трехсот рублей не хватает!
— Ловко! — отзывались из толпы подвывалы-«свидетели». — Вона как, значит, люди чужие денежки находят! Учись, Степан!
— Да вы что! — визжал возмущённый «счастливец». — Я их даже пересчитать не успел… Что за наглость!
— Мало ли что, не успел пересчитать, — кричали ему в ответ. — Это, сударь мой, в краже не помеха! Верно, Степан?! Тут теперича один только способ есть: обыскать немедленно, покуда сплавить краденое не успел!
Чувствующий за собой правду, «счастливец» видел в этом выход.
— Черт с вами! — заявлял он. — Обыскивайте! Сами убедитесь!
И тут же ловкие руки «свидетелей», изъявивших желание принять участие в обыске, начинали шарить по всем карманам и телу обыскиваемого. Результат был предсказуем.
— Нет ничего! — с лёгким оттенком разочарования признавали они. — Прощенья просим, барин, ошибочка вышла!
— Да вы, черти косорукие, искать не умеете! — вступал заключительным аккордом последний член шайки, до того момента старавшийся держаться в тени. — Эти типы так спрячут, что честному человеку вовек не сыскать. Его в полицию надо свесть, ужо обыщут так обыщут! Небось там с подобными «господами» обращаться обучены.
Это последние предложение окончательно добивало «счастливца», и он, уже чуть не плача, просил отпустить его. Уже и речи нет о компенсации, избавиться бы только! «Владелец», видя, что «клиент созрел», милостиво отпускал его, а «счастливец», рад-радёшенек, выбирался из толпы, хватал извозчика и спешно покидал место события, от сраму подальше. И только уже возле собственного дома, при расплате с извозчиком, он обнаруживал, что его собственный бумажник, часы, портсигар, платок — словом, решительно все, что только было у него в карманах, исчезло во время «обыска», ради которого и был затеян весь этот спектакль.
* * *
На воровском жаргоне этот способ назывался «сделать подкладку». Изобрели его харьковские воры, несколько лет успешно гастролировавшие в Москве, Санкт-Петербурге и богатых губернских городах. Сначала для «наживки» использовали фальшивые деньги и поддельные монеты, потом стали делать «куклы» из резаной бумаги. Подкидывали украшения с якобы драгоценными камнями и убеждали нашедшего, что находка стоит сумасшедших денег, требовали свою долю и отправляли «оценить» находку к ювелиру, предварительно взяв солидный «залог». У ювелира «счастливцу» сообщали, что нашёл он стекляшку в три рубля ценой, а когда он, удручённый, возвращался туда, где оставил «ждавшего своей доли» товарища по находке, то обнаруживал, что тот исчез вместе с деньгами, оставленными ему «в залог». «Харьковским трюком» мошенники пользуются по сию пору, в качестве «подкладки» используя фальшивые доллары.
Ловля «на монаха»
Одному Богу ведомо, в чью именно светлую голландскую голову стукнула эта идея. Согласно отечественным источникам, до «гербовой бумаги» додумался дворецкий графа Шереметьева, Алексей Курбатов, который якобы написал проект по сему вопросу и подбросил его в Ямской приказ. За то он будто бы был обласкан царём Петром Великим, награждён домом в Москве и деревней с мужиками.
Сколь ни патриотична эта версия, стоит все же заметить, что до особо оплачиваемой бумаги, на которой следует вести государственные и коммерческие дела, европейцы додумались много раньше. Произошло это в Нидерландах в то время, когда «государственная казна страны находилась в большом расстройстве», и именно оборотистые соотечественники Уленшпигеля открыли новый источник для её пополнения. В 1624 году специальным указом было постановлено всю переписку между государством и подданными, а также коммерческую и юридическую, вести на бумаге, помеченной знаком государственного герба, с указанием цены за лист. Листы эти стали дополнительным средством пополнения государственной казны.
Выгодное изобретение тут же подхватили в соседних европейских государствах, и государь наш Пётр Алексеевич, посетив впервые в 1697 году Голландию, скорее всего именно там приметил, помимо многого другого, и этот способ для взимания «косвенных налогов с подданных». Дотошный и практичный, государь никак не мог пройти мимо полезного для казны изобретения, каким являлась «гербовая бумага». Так что Алексей Курбатов, очевидно, был отмечен за какие-то другие заслуги.
* * *
Как бы то ни было, но в январе 1699 года Пётр повелел «иметь при всех приказах гербовую бумагу, по цене за лист от 1 до 50 копеек». Начали торговлю этой бумагой с гербом в Москве, на Ивановской площади Кремля. Место было удачное — площадь у Ивановской колокольни была деловым центром столицы. Здесь чиновники-дьяки, выходя из Приказов, громкими голосами объявляли царские указы, от чего и пошла поговорка «Кричать во всю ивановскую». Здесь же совершались разные акты и сделки, площадные подьячие писали тут челобитные и прочие деловые бумаги.
«Голландское изобретение» хоть и со скрипом, но прижилось в России и даже усовершенствовалось. К концу XIX ве-ка цена одного листа гербовой бумаги колебалась от 60 копеек до 825 рублей! Московское казначейство продавало гербовой бумаги и марок, её заменяющих, ежегодно на два миллиона рублей.
* * *
Возможно, мы не были первыми в изобретении гербовой бумаги, но постепенно бойкий русский ум нашёл ей применение, которое вовсе не имели в виду голландцы. Некоторые проделки мошенников были столь сложны, что они «ставили» их как театральные действа. Этот многодневный спектакль-марафон начинался, как и полагается, «с афиши и анонсов», — например, с такого объявления: «Солидному коммерсанту крупные деньги ссужаются под соло-векселя за минимальные проценты». К некоторым коммерсантам приходили письма с вложенными газетными вырезками, содержащими соблазнительные предложения. Обычно их получали именно те купцы, подрядчики, владельцы домов и собственных заведений, которые в тот момент отчаянно нуждались в деньгах. К объявлению обычно прилагался адрес почтового отделения, куда следовало «до востребования» посылать сообщение о готовности прибегнуть к обещанному займу.
Объявления были составлены столь умело, звучали столь заманчиво, что клевали на них весьма опытные в финансовых делах люди, порою даже остро не нуждавшиеся в наличных деньгах. Если коммерсант — потенциальная жерт-ва — отзывался на предложение, то через несколько дней он получал письмо, в котором коротко, по-деловому ему назначалось место и время свидания: обычно в городском парке или скверике — словом, там, где можно было под видом гуляющих обсудить все вопросы вдали от любопытных ушей и глаз.
* * *
На встречу являлся прилично одетый господин с хорошими манерами и внешностью, «внушавшей доверие». Этот господин начинал осторожный разговор с коммерсантом, из которого тот мог заключить, что он разбирается в финансовых операциях, но не профессионал. Это ещё более обнадёживало купца, решившегося взять предлагаемые ему деньги: с профессионалами связываться рискованно, и рассчитывать «много с них поиметь» было бы глупо. Купчина не подозревал, что беседа с этим «приятным господином» выверена вплоть до пауз и интонаций с таким расчётом, чтобы не вспугнуть и не насторожить его. Ближе к финалу первой встречи джентльмен, своими безукоризненными манерами окончательно располагавший к себе «клиента», говорил обрабатываемому купцу или подрядчику:
— Побеседовав с вами, уважаемый Пётр Иваныч, я совершенно убедился в вашей порядочности и в том, что вижу перед собой честного коммерсанта, а потому могу доверить вам большой секрет: откуда, собственно, взялись предлагаемые вам деньги.
Пётр Иваныч, польщённый столь высокой оценкой своей личности и заинтригованный до крайности, с нетерпением ждал продолжения. А джентльмен не спеша раскуривал сигару и, выдержав паузу, начинал рассказ:
— Это, можно сказать, интимная история, доверенная мне под честное благородное слово, и не дай бог, она выплывет наружу: скандал будет первостатейнейший. Сами знаете, нынче газеты любой пустяк могут раздуть, а уж тут им просто клад откроется: год писать будут, что там год — годы! Пожалуй, в присказку превратят, в притчу во языцех.
Купец, которому не терпелось узнать, что за тайна такая толкает в его руки капитал, торжественно клялся, что будет нем как дубовая колода. Мошенник, добившись нужного ему состояния «пассажира», с ловкостью фокусника срывал перед ним покровы «тайны».
— Видите ли, Пётр Иваныч, — говорил он, несколько раз оглянувшись по сторонам, — в одном из крупных монастырей… в каком именно — сказать вам не решаюсь, так вот, есть в этом самом монастыре монах, отец э-э-э… впрочем, имя его не суть важно, а важно то, что этот монах распоряжается денежными суммами монастыря. На этой должности он уже не первый год, ну а денежки-то, они сами к рукам липнут, даже и у монашествующих. Хе-хе-хе, как говорится: «Кто Богу не грешен? Царю не виновен?» Ну, так вот-с, собрались у того монаха крупные деньжата. В келье их держать ему не с руки — не дай бог увидит кто. Опять же — человек он уже немолодой, тучный, склонный к апоплексии, врачи о здоровье его отзываются с тревогой, а есть у него на стороне тайная семья: жена, молодая женщина, да детишек четверо. И теперь получается, что ежели их секретный папка нечаянно помрёт, то денежки его пропадут, и детки с их мамой по миру пойдут. Прямо сейчас он отдать жене деньги не хочет: зачем молодую женщину в соблазн вводить?! И в банк он их положить не может, поскольку огласки боится. Вот по давнишнему нашему с ним знакомству и доверился мне этот монах, с тем чтобы подыскал я ему верного и надёжного человека, которому можно было бы доверить капиталы в рост, но только чтобы тайна была соблюдена. Проценты он собирается просить совсем пустяковые: три, от силы, четыре в год. Ссуда долгосрочная, до совершеннолетия старшего сына. Вы, голубчик Пётр Иваныч, пустите эти деньги в дело и, пока срок платежа подойдёт, десять раз миллионером сделаетесь! Будет чем вернуть сумму и по процентам рассчитаться. В качестве гарантии просит монах соло-векселей на этот капитал, на оговорённые сроки. Коли вы согласны, то мы наведём о вас соответствующие справки, главным образом касающиеся вашего характера, и, после того, пожалуйте получать денежки!
— А много ли денег? — непременно интересовался купец.
«Доверенное лицо монаха» всегда называло очень крупную сумму, варьировавшуюся в каждом случае в зависимости от представлений о богатстве «пассажира». Бывали случаи, что сулили и миллион! Соблазнённый размером капитала, совершенно замороченный сюжетом «романтической подкладки» этой истории, купец хватался за предложение.
* * *
По правилам ужения, заглотнувшую наживку и подсечённую «крупную рыбу» опытные ловцы «вываживали». Начиналась деловая суета: наведение справок, уточнения, деловые свидания, происходившие конспиративно, дабы не рассекретить инкогнито монаха-капиталиста. Джентльмен, втянувший коммерсанта в эту историю, держался в высшей степени достойно, неся все расходы по делу «в равной доле». Купец видел во всем только положительные стороны: посредник и его доверитель явно были не коммерческие люди, что подтверждало правдивость рассказанной ему истории. В мечтах он уже давно решил, во что именно вложит деньги, так внезапно свалившиеся на него, и уже подсчитывал, сколько на этом заработает. Наконец, когда коммерсанта уже начинало терзать нетерпение, его вели на свидание с таинственным монахом. Свидание организовывалось с соблюдением всех возможных правил конспирации: со сменой извозчиков, проверками на предмет слежки и подготовленной «легендой» для родственников.
Встреча обычно происходила в какой-нибудь глухой местности за городом, в подозрительной гостинице, где со дня открытия заведения не ступала нога порядочного человека. Выбор места купцу объясняли очень просто: «В этом притоне не бывает шпиков и отсутствует риск случайно напороться на знакомых». Купца знакомили с «монахом». Тучный, с большой бородой, «монах» выглядел в точности таким, как его описывал «джентльмен» при первом свидании: благочестивым ханжой, тайным плутом и сластолюбцем, попавшим в трудную ситуацию. На этом свидании вырабатывались условия относительно векселей, назначалась дата и место следующей встречи. После этой встречи купец уже ни о чем другом и думать не мог, кроме как о капитале монаха.
* * *
Но вот наступал день, а вернее ночь, когда он отправлялся в назначенное место, имея при себе ворох вексельных бланков. Новое место встречи было ещё глуше и подозрительнее прежнего, но встречающий купца «посредник» был спокоен и уверен в себе, люди, присутствовавшие тут же, подчинялись ему беспрекословно. «Посредник» сообщал, что монаха пока ещё нет, вёл гостя в горницу и заводил с ним разговор о том, сколько ему причитается с этой сделки, о тексте векселей, для написания которого на каждом документе приглашены специальные писари. «Иначе быстро не управиться», — поясняли купцу.
Наконец являлся монах. Он выслушивал проект текста, вносил в него незначительные поправки, после чего пачки вексельных бланков передавались писарям для заполнения, а всем участникам сделки предлагалось, пока суд да дело, пройти к уже накрытому в соседней комнате столу, дабы, по обычаю отцов, спрыснуть сделку. Долго звать к хорошему столу никого не требуется, и вот уже произносятся тосты, развязываются языки… Но в самый разгар застолья в столовую вдруг вбегал кто-нибудь из карауливших на улице и, сделав ужасное лицо, «пытался» крикнуть сдавленным голосом:
— Полиция! Сыщики выследили!
Поднималась невероятная суматоха! Причитавшего монаха «эвакуировали» в первую очередь, не успевающего сообразить что-либо купца вели следом, но выводили другим ходом, и на улице предлагали далее пробираться самому. Где-то в стороне из кромешной тьмы доносились полицейские свистки и крики: «Окружай их!», «Слушаюсь, ваше благородие! Ага, один попался! А вот и другой! Стой! Стой!! Держи его! Стреляйте, ваше благородие, уйдёт окаянный!», совсем рядом раздавались выстрелы, и не помнящий себя от ужаса коммерсант зайцем бежал куда глаза глядят.
* * *
Как правило, несколько дней после этого «ночного приключения» купец, сидя дома, как сыч в норе, усердно читал в газетах рубрику «Происшествия», надеясь найти в ней отчёт о задержании в загородной гостинице «группы подозрительных лиц». Но отчёта все не было, а его деловые партнёры все не давали о себе знать. Только тогда купец начинал подозревать подвох и, словно прозрев, ясно видел, что его «обули, как Филю в лапти», попросту отняв у него вексельные бланки, которые он привозил для оформления огромного займа. Он-то охотился за капиталом, считая, что сам ничего не вкладывает, соответственно и потерять ничего не может, совершенно упуская из виду то, что «гербовые бумаги» тоже могут интересовать мошенников. Передав «писарям» пачки бланков, ценою в несколько тысяч рублей, купец расставался с ними навсегда.
После такого печального открытия не каждый решался заявить о случившемся в полицию, а если и заявлял, то, как правило, толку от этого было мало: ведь конспирация являлась главным условием «сделки».
Несмотря на то что в газетах часто писали о подобных случаях, предупреждая о возможности их повторения, прок от этого был невелик. Заметки эти все читали, давясь от смеха, и приговаривали: «Захотел Пётр Иваныч купить на грош пятаков!», но снова и снова кто-нибудь, наткнувшись в разделе «Объявления» на призыв мошеннических сирен, подгоняемый жадностью и самонадеянностью, откликался. И не одного ещё такого «Петра Иваныча» клюнули «гербовые птицы» в самые обидные места.
Частный случай надзирателя Замайского
В середине января 1878 года в справочную контору госпожи Гаврилиной, занимавшейся наймом прислуги, обратился господин Неронов, инженер, служивший в управлении Курской железной дороги. Этот богатый московский житель, имевший чин надворного советника, занимал большую квартиру в доме Усова, во втором квартале Сретенской части, а потому содержал для обслуживания семьи и дома штат прислуги: горничную, повара, кухарку, кучера и лакея. Вот как раз о вакансии последнего Неронов и повёл речь, прося Гаврилину, через которую уже и прежде нанимал слуг, как можно скорее прислать ему подходящего человека. Жалованье он обещал хорошее, но и требования к кандидату предъявлял соответствующие: лакей должен быть средних лет, благообразной наружности, достаточно образованным, с хорошими манерами и трудолюбивый. Честность подразумевалась сама собой.
Справочная контора не зря слыла заведением весьма надёжным, уже на следующий день с запиской от госпожи Гаврилиной к Неронову пришёл человек, изъявивший желание поступить на службу. Он предъявил паспорт на имя витебского мещанина Добровольского. Неронову он показался сущим кладом: манеры приличные, лицо открытое и честное, образованный, знает довольно сносно немецкий и французский языки. Неронов, чтобы испытать его, дал кандидату на место немецкую книжку стихов Гейне, и Добровольский бойко прочитал отрывок, перевёл его на русский и сумел даже передать живой юмор автора. Место было оставлено за ним. Прослужив совсем недолго у Нероновых, Добровольский сумел все семейство расположить к себе окончательно: мало того что он обнаружил приятность манер и образование, но и в работах по лакейскому ремеслу был весьма усерден, вытирая пыль с мебели, подметая пол, чистя сапоги барина и вообще выполняя множество мелких работ по дому.
* * *
В воскресенье, 20 января, Неронов на один день вы-ехал в своё подмосковное имение, находившееся недалеко от станции Крюково, а когда вернулся, то застал своих домочадцев в полной растерянности. Ему сообщили, что новый лакей ночью взломал письменный стол в его кабинете, забрал из него все, что там обнаружил, и скрылся неведомо куда. Из всех слуг только у него была своя каморка, «лакейская» в «верхней квартире», где жили хозяева. Ночью, когда все спали, он без труда проник в кабинет и совершил кражу. Его добычей стали более 80 тысяч рублей в ценных бумагах: выигрышных билетах, билетах Восточного займа, различных акциях, да плюс к тому драгоценности мадам Нероновой, стоившие несколько тысяч.
Понимая, что вор не мог уйти далеко, Неронов, не медля ни минуты, отправился к квартальному надзирателю 4-го квартала Мещанской части штабс-капитану Замай-скому, хотя тот служил не в их участке, и даже в другой части. Тем не менее Замайский был известен всей Москве как деятельный и талантливый сыщик.
Прибыв в участок, в котором служил Замайский, господин Неронов сразу начал с дела: он предложил штабс-капитану разыскать вора частным образом, пообещав ему в случае успеха награду в 10 тысяч рублей. Такой огромный по тем временам гонорар не мог оставить равнодушным опытного сыщика. Без долгих разговоров Замайский собрался и на том же извозчике, на котором прибыл к нему потерпевший Дмитрий Неронов, отправился вместе с ним к московскому обер-полицмейстеру, а получив от того формальный приказ заняться поиском вора, вместе с Нероновым приехал к нему домой.
* * *
Сыщик, внимательно осмотрев кабинет и взломанный письменный стол, обнаружил, что вор, который выгреб из ящика все, не побрезговав даже деревянными запонками, свой паспорт, лежавший там же, почему-то не взял, как бы забыл впопыхах. Отметив про себя, что это сделано, пожалуй, специально, для того чтобы сбить со следа, Замайский посчитал этот паспорт подложным. В лакейской комнате нашли пустой чемодан, на крючке у двери осталась висеть старенькая, но ещё вполне приличная шуба Добровольского. После осмотра кабинета и лакейской сыщик принялся опрашивать домочадцев инженера и выяснил, что вор небольшого роста, смуглый, с очень выразительными глазами, чёрными жёсткими волосами, зачёсанными назад и прикрывающими лысину. Пропавший лакей одевался щеголевато и говорил без малейшего акцента. Разузнав, что требовалось, Замайский отправился на Сретенку, в трактирчик Московского, рассчитывая застать тамошнего завсегдатая, которого он привлекал к розыску в качестве тайного агента.
Небольшого роста румяный толстячок средних лет по паспорту значился как Николай Толстищев, проживающий в Москве киевский мещанин, но в определённых кругах Первопрестольной он получил прозвище Маленький московский Лекок. С французским сыщиком его сравнивали не случайно: этот неприметный человечек, несмотря на вполне безобидный вид, был очень хитрым и пронырливым типом. В прошлом неоднократно судимый за кражи и другие проступки перед законом, он с некоторых пор решил, что охранять закон много выгоднее, чем его нарушать. И стал агентом Замайского, помогая ему в розысках. Его помощь была очень ценной. Толстищев имел широкие знакомства в криминальном мире, обладал хорошей памятью и интуицией. Полицейский рассказал агенту о краже в доме Усова, упомянул о том, что потерпевший готов щедро оплатить поиск вора, и в завершение отдал Толстищеву листок с приметами «Добровольского», поручив ему разузнать, где тот жил в Москве до поступления к Неронову.
Вечером того же дня он выслушал доклад Маленького Лекока. Толстищев рассказал, что прямо из своей «штаб-квартиры» в трактире отправился в Чернышевский переулок, где располагалась справочная контора госпожи Гаврилиной. Припугнув хозяйку тем, что может привлечь её «как потатчицу вору», он получил от неё адрес, который оставил «Добровольский», встав на учёт в конторе Гаврилиной. Прежняя квартира его оказалась в доме Корчагина, в Успенском переулке. Поспешивший туда Толстищев, конечно же, не нашёл там преступника, но зато опросил всех его соседей, дворника, управляющего, извозчиков — словом, всех тех людей, которые много лет живут на одном месте и всех новеньких примечают. К вечеру сыщики уже знали, что «Добровольский» в столице появился в январе, жил тихо, навещал его только какой-то еврей. Несколько раз он приходил к «Добровольскому», а однажды они вдвоём вышли и, взяв извозчика у ворот дома, куда-то поехали. Дворник, рассказавший Толстищеву об этом, показал ему и извозчика с ближайшей к дому биржи. Тот припомнил, что возил он этих седоков «кажись к дому Дворецкого, в Мещанской части». Имея описание гостя «Добровольского», Толстищев отправился в дом Дворецкого и снова стал расспрашивать местных сторожей, швейцаров и дворников о жившем в этом доме человеке с соответствующими приметами. Таковой обнаружился очень скоро, и убеждённость Толстищева, что след этот «горячий», ещё более укрепилась. Человек, навещавший «Добровольского» в Успенском переулке, оказался Хукой Гольдштейном, личностью, пользовавшейся самой дурной репутацией: он только недавно освободился из арестантского отделения московского тюремного замка, в котором содержался по решению суда за различные преступления. От дворника дома Дворецкого Толстищев узнал, что накануне кражи в квартире Неронова, 19 января, у Гольд-штейна собралась большая компания, пропьянствовавшая всю ночь, и среди гостей Хуки был человек, очень похожий по описанию на «Добровольского».
* * *
Вооружённый такими сведениями, Замайский с утра пораньше явился на квартиру к Гольдштейну и самым строгим образом стал спрашивать его о гостях, бывших у него девятнадцатого. Гольдштейн сказал, что народу у него в тот вечер собралось много, более десяти человек, сам он напился и толком не помнил, кто пришёл раньше, кто позже, кто каких своих знакомых приводил.
— Что же, сукин ты сын, совсем не помнишь, с кем водку пил? Хотя бы тех, кто с самого начала был? А? — грозно топорща усы, спросил его Замайский.
— Ну, почему не помню, — боязливо глядя на него, осторожно отвечал Гольдштейн. — Ну, были… Его Лессельроде привёл, они вроде знакомые.
Этого было довольно. Забрав Гольдштейна в участок «на всякий случай», Замайский велел привести к нему Леву Лессельроде, и тот рассказал, что человек этот приехал к нему от его давнего знакомого, жившего в Туле, некоего Генеретика.
— Приезжий? — хмурясь, спросил Замайский. — А откуда приезжий?
— Так вроде как из Курска! — отвечал Лессельроде. — Он сам говорил. Приехал, привет передал от знакомого моего, от Генеретика, они с ним вместе сидели в курском остроге.
— Где этот твой Генеретик сейчас?
— Так где же ему быть — дома, должно быть! В Туле, его осенью ещё выпустили из острога.
Замайский телеграфировал начальнику курского острога, чтобы он сообщил, с кем дружил арестант Генеретик. Ответ, пришедший из Курска, гласил: «Генеретик дружил с губернским секретарём Поповым, арестованным за предъявление подложного паспорта. Перед Рождеством Попов бежал из острога».
* * *
Замайский и Толстищев спешно выехали в Тулу. Выяснив у местного полицмейстера адрес Генеретика, они отправились на свидание с острожным знакомцем разыскиваемого ими вора. При встрече Генеретику они представились «барыгами», которым «Добровольский» обещал «хабар с дела». Показав газету «Русские ведомости» с сообщением о краже в квартире Неронова, сказали:
— Мы ему нашли покупателя на ценные бумаги, а он куда-то исчез! Хука Гольдштейн сказал, что у тебя может гостить.
— У меня его нету, — отвечал Генеретик.
— А найти его не поможешь?
— Что мне за интерес?
— Будет, будет тебе интерес — процент со сделки дадим! — пообещал Замайский. — Мы ведь даже не знаем, кто он таков, где его искать. Человек-то он надёжный?
— О, господа! Это, скажу я вам, такой человек! С кем иметь гешефты, так только с ним, — принялся рассказывать Генеретик, услыхав о проценте со сделки.
Язык его развязался ещё больше, когда он и его гости выпили водки за знакомство и за начало общего дела.
— Он «из наших», но не чета «нашим», — водя пальцем перед носом, говорил Генеретик. — Окончил херсонскую гимназию и учился ещё где-то, говорят, аж в университете! Какие стихи пишет! Он их публиковал в настоящих журналах, под фамилией Михайловский. Вот как. И вор отличный — его профессия такая: нанимается лакеем в хороший дом, все высмотрит, да и возьмёт чего хочется! Ловкий человек: сколько раз ловили его, и каждый раз он убегал. Мы когда в Курске сидели, он губернским секретарём Поповым назывался, потому что из киевского арестант-ского отделения сбежал. Там его взяли по делу о краже.
— Что же он такой ловкий, а все попадается? — спросил Толстищев.
— У всякого человека, — назидательно сказал захмелевший Генеретик, — имеется слабое место. У Исайки это любовь.
— У какого Исайки? — изображая удивление, спросил Замайский. — Мы же про этого, про Попова говорили?
— Это он по бумагам был Попов, а на самом деле он Исайка Зельцер, а любовь у него к папаше своему и сёстрам. Через то всегда и попадается. Уж если про человека известно, что он куда-то непременно заедет, там его и ждут, а он к семье своей в Очаков завсегда заезжает. Так что если хотите его найти, то езжайте к отцу его Гиршу Зельцеру в Очаков.
Узнав то, что им было нужно, сыщик и его агент дождались, когда Генеретик окончательно «окосел» и заснул за столом. Ушли они из его дома «по-английски», не прощаясь. В гостинице решили, что Замайский, прихватив с собою Генеретика, поедет в Москву, на тот случай, если Зельцер остался в городе, а Толстищев прямо из Тулы направится в Очаков, поджидая Исайку там.
* * *
Условившись с Толстищевым, что тот телеграфирует ему из Очакова не позже 26 января, Замайский стал ждать известий. Однако минуло 26, 27 и 28 января, а телеграммы все не было. Обеспокоенный Замайский, прихватив с собою ещё одного помощника, Юрку Байструкова, человека из того же круга, что и запропастившийся Николай Толстищев, выехал по железной дороге в Одессу. От Одессы до Очакова железнодорожного сообщения не было, приходилось нанимать извозчика или ехать на почтовой тройке. Замайский и его помощник остановились в лучшей гостинице города и принялись наводить справки о приезжих, рассчитывая узнать что-нибудь о Толстищеве. И тут оказалось, что Толстищев, приехав в Одессу, остановился в этой же гостинице. Хозяин припомнил, что он на день выезжал в Очаков, а вернувшись, неотлучно жил в Одессе.
— Каждый день ходил на извозчичью биржу, где подряжались везти за город, и к почтовой конторе наведывался. А 30 января в гостинице снял номер чиновник, служащий по Министерству народного просвещения, господин Севостьянов. Он только внёс свои вещи в 43-й нумер и немедленно пошёл нанимать лошадей до Очакова, а тут и господину Толстищеву загорелось срочно ехать туда же.
* * *
Выслушав хозяина гостиницы, Замайский отправился на телеграф и послал в полицейское управление Очакова телеграмму для Толстищева, прося ответить ему на адрес гостиницы. В тот же день пришёл ответ: «Зельцер мною арестован при попытке выехать из Очакова. Денег при нем всего 315 рублей. Где остальные, не говорит. Толстищев».
На следующий день агент сам приехал в Одессу. Он рассказал, что, прибыв на юг России, сначала посетил Очаков, где расспросил отца Исайки о сыне. Тот сказал, что не видал его уже давно. Похоже, он не врал. Тогда Толстищев решил вернуться в Одессу, так как миновать этот город никому из едущих в Очаков было невозможно. Взяв под наблюдение места, где можно было нанять лошадей до Очакова, Толстищев спокойно ждал, когда в его силки залетит долгожданный Зельцер. Но встретил он Исайку в этой самой гостинице. Толстищева совершенно не ввели в заблуждение чиновничьи мундир и фуражка, ловко сидевшие на маленьком, смуглом человеке, поспешно отправившемся нанимать лошадей до Очакова. Толстищев последовал за ним.
Прямо с площади перед очаковской почтовой конторой Исайка поспешил в дом своего отца, а Толстищев за ним не пошёл, чтобы не спугнуть раньше времени. Он и так знал, что старик Гирш предупредит сына о визите сыщика к нему. Потому, сообщив городовому о том, кто он таков и зачем здесь находится, Толстищев стал преспокойно ждать там же, у почтовой конторы. Не прошло и двадцати минут, как он увидел возвращавшегося обратно Исайку, и в тот самый момент, когда он подряжал перекладную тройку до Одессы, Толстищев и местные полицейские его арестовали.
Однако денег при нем не нашли, обыск в доме отца тоже ничего не дал. Оставалась надежда, что пропажа находится в багаже Исайки, оставленном в 43-м номере гостиницы.
* * *
Хозяин гостиницы сначала не разрешил сыщикам осматривать вещи его постояльца. Потребовалось обращение к одесскому полицмейстеру, который приказал хозяину отпереть номер, снятый Севостьяновым. В номере стояли два больших нераспакованных чемодана. Вскрыв их, сыщики нашли там лишь носильные вещи, бельё, изящные мелочи из обихода путешествующего. В одном из чемоданов были найдены за фальшивой подкладкой несколько паспортов, выписанных на разные имена, с описанием примет, указывающих на Зельцера, однако денег сыщики не обнаружили ни полушки. Тогда они начали перетряхивать одежду, и в кармане фрачной жилетки нашли какую-то бумажку. Развернув её, Замайский увидел, что это квитанция московского почтамта, в коей значилось, что 21 января, в день обнаружения кражи у Неронова, кем-то была отправлена из Москвы в Николаев посылка «до востребования», оценённая в 10 рублей. Адресована она была на имя Гирша Зельцера.
Замайский спешно телеграфировал на николаевский почтамт: «1) имеется ли в вашем распоряжении посылка на имя Гирша Зельцера? 2) если есть, но не выдана, никому её не выдавать; 3) явившегося за этой посылкой немедленно арестуйте».
На это николаевский почтмейстер ответил, что его ведомство таких справок не выдаёт, арестов производить права не имеет, а посылки выдаёт тому, на чьё имя они присланы. Значит, Гирш Зельцер, если Исайка успел ему сказать о посылке, мог в любой момент отправиться из Очакова в Николаев, до которого было 35 вёрст, и там совершенно спокойно забрать посылку, в которой, предположительно, было денег больше чем на 80 тысяч рублей. И тогда ищи их! При посредстве одесского полицмейстера Замайский телеграфировал в очаковскую полицию, прося взять под наблюдение Гирша Зельцера. После чего они с Толстищевым выехали в Очаков, чтобы допросить Исайку, содержавшегося в тамошнем остроге. Прибыв на место, сыщики несколько успокоились, когда им сообщили, что Гирш Зельцер в последнее время из дому не отлучался, стало быть, посылка скорее всего находится все ещё в Николаеве, в кладовой почтамта.
На допросе Исайка заявил, что здесь, в Очакове, он говорить не будет:
— Везите меня в Москву, начальник! Здесь разговору не будет!
— Э, брат! Да ты вон какая тонкая штучка! — понимающе сказал Замайский. — Думаешь, увезём мы тебя в Моск-ву, твой батька получит посылку с деньгами, а ты потом сбежишь снова — и дело в шляпе?!
— Какую посылку? — спросил побледневший Исайка, ничего не знавший об обыске в его номере одесской гостиницы.
— Ту самую, что ты отправил из Москвы 21 января 1878 года, обворовав в предшествующую ночь господина Неронова! Припоминаешь? Мы ведь квитанцию об отправлении нашли в твоей жилетке, что лежит в чемодане, оставшемся в гостинице. А ты знаешь, что теперь я могу твоего отца привлечь к этому делу как соучастника, как укрывателя краденного?! Подумай, куда твои сестры потом пойдут: прямая им дорога не замуж, а в портовый бордель в Одессе!
— Не надо, начальник, они ни при чем здесь! — попросил Зельцер.
— Знамо дело, ни при чем, да только по закону так выходит! — развёл руками Замайский. — Коли не хочешь по-человечески…
— А как по-человечески?
— А так: приведу сюда отца твоего, Гирша, скажи ему, в моем присутствии и по-русски, не на идиш вашем скажи, чтоб ехал со мною в Николаев и, забрав посылку, мне её отдал. Понял?
* * *
Зельцер все исполнил, как велел ему Замайский, и Гирш вместе с двумя сыщиками отправился на казённой тройке в Николаев. Там долго не могли отыскать посылку, прибывшую на почтамт, судя по записи в реестре, ещё 26 января. Тогда Замайский, назвавшись, заявил, что в посылке находится окровавленное бельё, вещественное доказательство по делу об убийстве в Москве. Посылочка моментально отыскалась, была выдана Гиршу без всякого промедления, а тот передал её Замайскому. Однако вскрыть посылку на почтамте не представилось возможности — за несанкционированное вскрытие чужой посылки в присутствии почтовых чиновников тем грозили крупные неприятности: ведь все эти розыски сыщики вели как частные лица. Пришлось на несколько часов снять номер в гостинице, пригласить понятых и в их присутствии открыть посылку, представлявшую собой шляпную коробку, обшитую наволочкой и перевязанную бечёвкой. Внутри этой невзрачной коробки были обнаружены ценные бумаги на 82 тысячи рублей и драгоценности на 8 тысяч. Однако радость от находки была неполной: среди драгоценностей не хватало одной весьма ценной вещицы, а именно перстня господина Неронова.
Когда вернувшийся из Николаева Замайский спросил Исайку о перстне, тот обещал вернуть его, если ему разрешат свидание с отцом и сёстрами. Зная, что Исайку обыскали уже много раз и ничего при нем не нашли, Замайский подумал, что тот успел передать перстень отцу и Гирш вернёт его. Свидание по просьбе Замайского разрешили. Повидавшись с родными, Исайка запросился в отхожее место. Посетив это заведение, он через конвойного пригласил зайти к нему в камеру Замайского и, когда тот пришёл, отдал ему тщательно вымытый перстень Неронова. Где он его хранил, остаётся только догадываться!
После завершения столь скоро и удачно проведённого розыска господин Неронов на радостях не поскупился: как и обещал Замайскому, он заплатил 10 тысяч, на долю Толстищева и Байстрюкова пришлось по 2,5 тысячи рублей. Было отчего радоваться Неронову — ведь половина денег, у него украденных, принадлежала чужим людям, да и заявил он о пропаже 80 тысяч, а в шляпной картонке нашли ценностей и бумаг почти на девяносто, но откуда взялось «лишнее», выяснять никто не стал: ведь расследование было частное, а Исайка Зельцер, понятное дело, претензий предъявлять не стал. Но на этом история не закончилась.
* * *
Исайка знал, что говорил, когда просился в Москву из Очакова. Оказавшись под официальным следствием, он сразу изменил свои показания. На первом же допросе, который следователь провёл 18 февраля 1878 года, Исаак Гиршелевич Зельцер признал, что жил по подложному виду на имя Павла Добровольского и, нанявшись в лакеи к Дмитрию Неронову, совершил кражу. Покинув квартиру инженера около шести часов утра, он отправился к менялам, которым продал один выигрышный билет. Потом поехал на почтамт, отправил посылку с добычей в Николаев «до востребования» на имя отца, а сам нанял лошадей до Клина. Лишь приехав в Клин, он сел на поезд до Санкт-Петербурга. Прибыв в столицу, Зельцер накупил дорогих вещей, немного гульнул, а потом отправился по Варшав-ской железной дороге в Одессу. Поэтому и получилось так, что сыщики его опередили, прибыв в Одессу на несколько дней раньше. По словам Зельцера, он, навестив семью, собирался покинуть Россию и уехать в Америку, чтобы потом вызвать туда все семейство. Но к этому он присовокупил, что действовал не один, а при пособничестве и по наущению Николая Толстищева, который его и арестовал, после того как он отказался разделить с ним деньги, взятые у Неронова.
К тому времени «засыпались» почти все, кто свидетельствовал против Зельцера: Гольдштейн и Лессельроде оказались членами шайки Соньки Золотой Ручки и сидели в том же остроге, в котором парился и сам Исаак, а через некоторое время к ним присоседился… Маленький Лекок, которого Зельцер сдал следствию.
* * *
Провал тайного агента, который, как оказалось, работал не столько на полицию, сколько на самого себя, начался с того, что взятый под стражу Гольдштейн рассказал, что с беглым Зельцером он познакомился недели за две до того, как была «обработана» квартира Неронова, на квартире у Лессельроде. При этой встрече был и Толстищев, про которого известно, что он стал работать на Замайского. Гольдштейну сказали, что Зельцер нуждается в вещах, потому что он «оборвался из острога» и «ему нужно придать вид». Гольдштейн продал Зельцеру шубу (ту самую, что он бросил в квартире Неронова) и ещё кое-что из вещей.
Рассказ Гольдштейна о знакомстве Маленького Лекока с вором, его покровительство беглому и забота о костюме Зельцера навели на него подозрения в соучастии. На втором допросе Зельцера, 2 марта того же года, ему устроили очную ставку с Толстищевым, на которой сыщик заявил следователю, что действительно знаком с подследственным, так как когда-то сидел с ним в киевском остроге и случайно встретил у Лессельроде, когда зашёл к тому по делу. На вопрос следователя: «Что за дело?» — Толстищев, не моргнув глазом, ответил, что квартира Лессельроде считается у уголовников «надёжной хавирой» и туда частенько заглядывают типы, которым нужно отсидеться и переждать, а он, под видом продажи или покупки краденого, иногда там бывает, чтобы наблюдать за посетителями владельца «надёжной хавиры».
Зельцер на очной ставке рассказал, что знает Толстищева лет восемь. Познакомились они тогда, когда Николай Толстищев ещё не был полицейским агентом, а «работал» с киевскими «щипачами». Он занимался тем, что «отводил глаза фраеру», то есть отвлекал внимание тех, чьи карманы в этот момент «чистили» карманники.
Когда Исайка в последний раз попался, документы у него были на имя чиновника, губернского секретаря Николая Петровича Попова. Под этим именем он попал в курский острог. В Курске его судили Окружным судом за подделку служебных аттестатов, кражи и побеги из-под стражи, приговорив к ссылке на поселение в отдалённые места Сибири. Но перед самой отправкой по этапу, перед Рождеством 1877 года, Исайка сумел сбежать и, переодевшись женщиной, добрался до Москвы. Здесь он укрылся у Лессельроде, к которому действительно совершенно случайно зашёл Толстищев, его старинный знакомый по Киеву. Зельцер был уже в курсе того, что Толстищев работает на сыщиков, но «Лекок» сумел заверить его, что это только так, по прежней его специальности, «для отвода глаз фраерам», и убедил, что при его новом положении да Исайкиной ловкости они много могут «дел наделать».
* * *
Они вызвали к Лессельроде Хуку Гольдштейна, сторговали у него шубу, вещички, одеяло и все прочее, необходимое для жизни в зимнее время в Москве. Потом Толстищев отвёз Зельцера к себе на квартиру, а на следующий день снял для него комнату в номерах Егорова — как раз напротив того дома, где была казённая квартира надзирателя Замайского.
Не имевший ни копейки денег, Зельцер «все содержание», по его словам, получал от Николая Толстищева. Тот и паспорт ему привёз на имя Добровольского. Зельцер был мастак по части подделок различных бумаг и, получив паспорт, уже сам где надо вытравил текст и своей рукой вписал необходимые сведения.
* * *
Так продолжалось две недели, пока Толстищев не приказал Зельцеру съезжать из номеров Егорова и переселиться в дом Корчагина, что в Успенском переулке. Это было нужно для дела. По словам Толстищева, в этом доме жил «богатый пассажир», квартиру которого можно было «хорошо почистить»: Толстищев предполагал, что там можно будет взять тысяч на двадцать денег и ценностей. Оставив за собой комнату в номерах Егорова, Зельцер перебрался в Успенский переулок. На эту квартиру Толстищев уже не ходил, боясь «засветиться». Для свиданий сыщик-оборотень и вор оговорили время между шестью и семью часами в уже известном нам трактире Московского на Сретенке. Почти при первой же их встрече там Зельцер объявил, что «поднять это дело не сможет»: клиент был человек опытный. Крепкая дверь его квартиры была снабжена хитрыми и надёжными запорами, и отмычкой взять их было очень трудно. Ломать же замки не представлялось возможным из-за того, что квартира выходила в большой людный коридор. Можно было зайти в квартиру, если открывал сам хозяин, но тогда его надо было «мочить», а ни вор Исайка, ни сыщик Толстищев «мокрушничать» не желали, не их это была «специальность».
Плюнув на это дело, решили подыскать другое. Толстищев стал узнавать, не требуется ли в хороший дом слуга? И в конторе Гаврилиной, где только что побывал Неронов, ему сказали: требуется. С этого все и закрутилось. Устроившись в дом Неронова, Зельцер, до того находившийся на содержании Толстищева, вышел из-под его контроля. Виделись они только раз, случайно столкнувшись в театре, куда Зельцер сопровождал своего хозяина в качестве лакея. Заметив сыщика, он сделал ему тайный воровской знак: «Не подходи!»
* * *
Толстищев, не выдержав, стал кричать, что Зельцер все врёт и оговаривает его. И Толстищева отпустили, но стали за ним следить, подозревая, что хотя бы часть рассказанного Зельцером об их «сотрудничестве» — правда.
Пристав Серпуховской части Ребров, будучи не менее Замайского известен в Москве как ловкий сыщик, повёл своё расследование этого дела. Его людям удалось выяснить, что в доме Корчагина действительно жил человек, у которого водились деньги: отставной штабс-капитан Гринченко. Его комнаты выходили в тот же коридор, что и комната, снятая Зельцером. Отставной офицер занимался денежными операциями и держал у себя на дому крупные суммы. Дверь его квартиры действительно была снабжена сложной системой запоров, которая в точности походила на описанную Зельцером. Гольдштейн сознался, что снабдил Исайку инструментами взлома — тот пришёл к нему накануне кражи, когда у того собралась компания. Они ушли в соседнюю комнату, и Хука отдал ему долото и два бурава. Зельцер пожаловался ему, что подобрать ключи к замкам Неронова не удалось. Гольдштейн отрицал, что он «навёл» Зельцера на квартиру, но свой рассказ об обстановке в доме Неронова в присутствии Толстищева, когда они как-то раз пили на квартире Лессельроде, он припомнил.
Нашлись свидетели, видевшие Зельцера и Толстищева вместе, и тот факт, что сыщик содержал вора, подтвердили, поскольку Маленький Лекок имел неосторожность пожаловаться, что для этого ему пришлось заложить свои часы, но он сообщил своему напарнику, Юрке Байструкову, что дело того стоит.
* * *
Скоро Реброву донесли, что некоему Залману Генеткену предложили стать посредником в передаче взятки Зельцеру. Генеткен пришёл по своим делам в лавку Поспехина, что помещалась на Сретенке напротив трактира Московского. Хозяин лавки в разговоре с ним спросил, не желает ли он «принять на комиссию одно дельце». «Что за дельце?» — спросил Генеткен. «Да надо сходить в тюрьму, свидеться там с неким Павлом Добровольским, который содержится там за кражу в доме Неронова, и передать несколько слов арестанту». Генеткен спросил, кому это нужно. «Толстищеву, — ответил хозяин, — он у меня брал для этого Добровольского бельё и другие вещи и не за все рассчитался». Генеткен сказал, что сначала нужно ему поговорить с человеком, прежде чем решать, лезть ему в это дело или нет. Тем же вечером в лавке Поспехина Толстищев и Генеткен сошлись, и сыщик повёл его в свою «штаб-квартиру», в трактир Московского. Там он напоил Залмана водкой и объяснил задачу: надо уговорить Добровольского не впутывать в это дело его, Толстищева. За это он готов был устроить арестанту обеспеченную жизнь. Генеткен спросил: «Сколько мне будет, если я уговорю его?» Толстищев посулил четвертную. Генеткен только засмеялся. Толстищев предложил 100, сказав, что готов отдать и две тысячи, «лишь бы развязаться с этим делом». Он пояснил, что Зельцер, который сидит как Добровольский, надул его: денежки спёр и скрылся, а он ведь его беглого принял, содержал на свой счёт, на дело «навёл» и помог в тот дом «протыриться». После того как Зельцера арестовали, он уже ничего для него сделать не может, а тот задумал и его погубить! Всех этих сведений оказалось достаточно для того, чтобы Толстищева арестовать, что и было сделано.
* * *
За Генеткеном стали следить, но тот, видимо, имел какие-то свои «ходы» в тюремном замке, поскольку сам он туда не наведался, но Зельцер вдруг резко изменил свои показания, заявив, что он оговаривал Толстищева. Судя по всему, старые приятели все же договорились между собою. Но и полицейские были не лыком шиты: «подсадные» доложили, что между Зельцером и волей идёт оживлённая переписка. Оказалось, что в тюремный замок передачи носила жена Толстищева и письма Зельцеру передавала она. Выждав, когда Зельцер получил очередную передачу, 24 ноября 1878 года в его камере внезапно произвели обыск и обнаружили письмо, в котором оговаривались их совместные с Толстищевым показания: «Николай уже научен говорить так, как ты писал прежде, и следователь уже согласен выпустить его под залог в пять тысяч рублей». У Зельцера же изъяли уже готовое письмо, адресованное «Наталье Михайловне Кудрявцевой, в Рогожской части, 8-й квартал, собственный дом, для передачи Николаю Петровичу».
Кудрявцева была служащей при секретных нумерах тюремного замка. Это через неё шла переписка арестантов, их родных и ходатаев, через неё же жена Толстищева засылала в тюрьму мужу и Зельцеру чай, сахар, бельё. На допросе жена Толстищева призналась, что дважды навещала Зельцера в тюремной больнице. Там он передал в её распоряжение рукопись статьи, которую Толстищева должна была пристроить в одну из газет, чтобы таким образом «надавить на следствие». Статья была озаглавлена «По поводу беспорядков в нашем судопроизводстве» и содержала в себе изложение хода следствия по нескольким делам, разбиравшимся в тот момент. Автор представил дело так, словно все арестованные по этому делу совершенно невиновны и являются жертвами судебно-полицей-ского произвола. В качестве же главного примера приводились факты из дела о краже в доме Неронова.
* * *
После этой попытки «развалить дело» и сговора между арестованными попавшийся с поличным Исайка в очередной раз изменил показания и снова все стал валить на Толстищева. Из-за увёрток обвиняемых следствие по этому делу затянулось. К тому ж потребовалось получить множество бумаг из самых разных мест, где успели «наследить» молодцы, попавшие в руки правосудия. Так, в конце июня 1879 года из Киева пришло подробное досье на Толстищева, в котором была отражена вся его воровская карьера. Судился он за кражи и укрывательство краж в 1867 и 1869 годах, в первый раз отделался штрафом, а во второй раз сел на четыре месяца в тюрьму. В 1872 году он был судим киевской Палатой уголовного суда по обвинению в кражах со взломом и грабеже, а также проживании по чужому паспорту, выписанному на имя «турецкоподданного Михайлова». Доказать его вину в кражах и грабеже не смогли, «оставив в подозрении», а за проживание по чужим документам он получил четыре месяца работ. Но уже в 1873 года попался вновь на краже и снова сел на три месяца. Такое же досье прислали и на Исаака Зельцера, и на третьего участника дела, подданного Румынии Хуку Гольдштейна, члена шайки воров и грабителей, которой руководила легендарная Золотая Ручка.
* * *
В суд это дело поступило только в ноябре 1879 года, и на 23-е число было назначено первое слушание. В качестве свидетеля по этому делу выступал и надзиратель Замайский, который попытался спасти своего агента. Он доказывал, что все показания воров есть «заговор нескольких евреев с целью погубить сыщика, который пользы приносит много больше, нежели вреда». Однако все было напрасно. После перерыва, сделанного для обеда, заседание возобновилось. Присяжный поверенный, защищавший Зельцера, заявил, что в перерыве к его подзащитному подходил Генеткен и дал ему половину сторублевой бумажки, переданной от Толстищева, пообещав вторую половину передать в острог, по окончании процесса, если Зельцер отзовёт свои показания о соучастии Толстищева. Сыщик заявил, что это провокация, подстроенная людьми Золотой Ручки, но его не стали слушать.
В последний день процесса Толстищев решил «давить на слезу». В своём последнем слове он, обращаясь к присяжным и судьям, сказал так: «Вот все говорят, что я советовал да организовывал для Зельцера… Да разве я этому „обер-плуту“ и „королю острога“ советчик? Да он и без меня все что нужно может сделать! И к какому бы сроку вы меня ни приговорили, для меня это все равно что смертная казнь: как кинут меня в общую камеру, так все, мне конец. Ведь в этом зале на местах для публики, наверное, треть сидит тех, кого раньше арестовывали с моей помощью. Найдутся те, кто зашлёт денег в острог, предупредят, чтобы ждали меня, а там расправа будет коротка — накроют халатами, а потом скажут „была обоюдная драка“.
Присяжные долго совещались. К единому мнению они пришли только в 3 часа ночи с 24 на 25 ноября, объявив, что Зельцер виновен по всем пунктам обвинения. Толстищев и Гольдштейн также виновны, но заслуживают снисхождения. Суд вынес приговор: Исаака Зельцера, как беглого каторжника, подвергнуть наказанию плетьми, нанеся ему 30 ударов, после чего сослать в каторжные работы на сибирские заводы. Толстищева приговорили к отправке в арестантские роты сроком на три года. Это означало, что он должен будет отбывать наказание в гражданском отделении военных частей для штрафников, которые по большей части занимались тяжёлыми работами при прокладке дорог, строительстве гаваней и крепостей. Хука Гольдштейна присудили к полутора годам в работном доме, где он, надо полагать, работал по своей столярской профессии.
* * *
О краже у Неронова вспомнили снова через год, когда в апреле 1880 года на скамье подсудимых оказались… надзиратель Станислав Замайский и его агент Байструков, которых инженер Неронов обвинял в вымогательстве денег. На суде обвиняемые сказали, что им были обещаны солидные наградные за отыскание похищенного Зельцером, но оказалось, что Неронов (ставший к тому времени начальником Курско-Харьковской железной дороги) не вполне удовлетворил сыщиков, и те решили «взыскать с него». Неронов же подал на них в суд как на вымогателей — его обещание не было оформлено документально. Это дело кончилось для Замайского «лёгким испугом», и он остался при своей должности. Именно он, штабс-капитан Замайский, был первым полицейским чиновником, осмотревшим труп умершего загадочной смертью в номере гостиницы «Англия», что была на углу Петровки и Столешникова, героя России «белого генерала» Михаила Дмитриевича Скобелева. Впоследствии его имя увековечил Владимир Гиляровский, мельком упомянув в своей книге «Москва и москвичи», фактически вписав это имя в историю страны.
Имена остальных участников «дела о краже у Неронова» давно уж сгинули. Ещё раз дал знать о себе только такой неординарный человек, как Исаак Зельцер. Спустя семь лет после того, как его приговорили к каторжным работам, его имя снова попало на страницы газет, которые по этому случаю дали о нем сведения менее сумбурные, чем в те дни, когда Исайку судили за кражу у Неронова.
* * *
По сведениям, опубликованным в «Московских ведомостях», Исаак вырос в порядочной еврейской семье. Его отец и сестры жили в Очакове, но потом перебрались в Одессу. Зельцер действительно получил хорошее образование, что для еврея тогда было весьма затруднительно: существовал барьер — в учебных заведениях для лиц еврейской национальности и иудейского исповедания существовала квота в один процент от общего числа учащихся, и попасть в этот процент было весьма не просто. Тем не менее Зельцер окончил херсонскую гимназию и был вольнослушателем Новороссийского и Киевского университетов.
Но порочная натура взяла своё, и Иссак, бросив учёбу, перебрался в Харьков, где примкнул к шайке Софьи Блюштейн, известной как Золотая Ручка. Его первой «специальностью» стала подделка документов. На этом поприще он весьма преуспел, но за это своё искусство и первый срок заработал. Его присудили к ссылке в Сибирь, откуда он сбежал, едва прибыв к месту, назначенному ему для проживания.
Выправив подложный паспорт, Зельцер устроился служить «в хороший дом», который он вскорости и «обработал», похитив деньги и ценности, имевшиеся в доме, на несколько тысяч рублей. С этим «хабаром» он прибыл в Харьков. Там Исайка стал искать покупателя на вещи, «взятые» в Сибири, но его не устраивали цены, которые ему предлагали, и тогда он, по наводке одного из барышников, выехал в Белгород, где жил еврей — скупщик краденого. Зельцер не знал, что тот, к кому он ехал, некоторое время назад попался с поличным на скупке и теперь «сидел на крючке», выдавая всех, кто к нему приходил «с товаром», чем оплачивал собственную свободу. Зельцера этот «спалившийся» скупщик также сдал полиции, и Исаака взяли прямо с сундучком, в котором нашли столовое серебро, похищенное им у хозяина.
Из Белгорода Зельцера переправили в Курск, откуда он сбежал из острога, переодевшись женщиной, и добрался до Москвы. Дальнейшее (вплоть до присуждения каторжных работ) известно, расскажем теперь о том, что случилось позже.
* * *
Получив по приговору суда три года каторги, Зельцер не унялся и, как только случай представился, сбежал с каторги. В Сибири он повстречал свою старую подружку Софу Блюштейн, и они некоторое время промышляли вместе, пока их снова не задержали и не вернули «по принадлежности», причём Зельцера опять посекли плетьми.
Отбыв каторгу, в 1884 году Зельцер вернулся в Киев и вновь взялся «за работу»: безупречный паспорт, безукоризненные манеры, знание языков, деловитость и аккуратность при благообразной внешности — все эти проверенные «факторы успеха» снова были пущены им в ход при соискании места в «хорошем доме», и место камердинера при графе Арарусе досталось ему. Графу этот неосмотрительный наём слуги обошёлся в несколько тысяч, а Зельцер, получив «стартовый капитал», отправился в Вильну.
Его искали, а Исайка тем временем затеял новое крупное мошенничество. Но, ведя оживлённую переписку, он насторожил содержателя гостиницы, в которой остановился. Тому показалось странным, что постоялец получает слишком много писем, в том числе и из-за границы. Полиция, предупреждённая хозяином гостиницы, решила присмотреться повнимательнее к подозрительному субъекту, и почти сразу же Исайка был опознан — его личность была хорошо изучена полицейскими «черты оседлости». Зельцера взяли прямо в гостинице и уже успели отправить в Киев победную реляцию, но арестованный Зельцер сбежал по дороге в Киев и очутился в Витебске. Там его уже ждала любовница, мадам Кравченко, одного с ним поля ягодка.
* * *
При помощи Кравченко Зельцер, уже с новыми бумагами, устроился слугой в дом семьи Вешняковых. В первое же воскресенье, когда Вешняковы вечером отправились в театр, Зельцер и его подружка обобрали их дом на восемнадцать тысяч и попытались скрыться. Но им чертовски не повезло — в театре мадам Вешнякова почувствовала себя нехорошо, и хозяева вернулись раньше, чем ожидалось. Обнаружив кражу, они немедленно дали знать в полицию. По распоряжению пристава сыщики отправились на вокзал и успели как раз вовремя: первой, в станционном буфете, арестовали Кравченко, а уж она указала, в каком вагоне поезда, который должен был отправиться на Киев, находился Зельцер.
Краденое нашли при них, а потому и наказание для Исаака Зельцера в этот раз вышло более суровое: он получил 60 плетей и ссылку на каторжные работы на остров Сахалин. Таких, как он, «склонных к побегу», на Сахалине отправляли в особую команду. Каторжан, зачисленных в неё на несколько лет, приковывали к тяжёлой тачке. После этого приговора имя Зельцера уже не появлялось на страницах прессы, производя сенсации, и что с ним стало дальше, сейчас установить довольно трудно.
Лазейка для «куклы»
В один из июльских дней 1889 года у пристани городка, расположенного на юге России, бросил якорь почтово-грузопассажирский пароход, совершавший плавание вдоль Черноморского побережья. Пока с него сгружали почту и товары, а на борт принимали пассажиров и грузы, предназначенные к отправке, у путешествовавших морем появилась возможность пройтись по набережной и ознакомиться с немногочисленными местными достопримечательностями. Среди прочих пассажиров сошёл на берег мужчина средних лет, облачённый в летний «колониальный костюм». Лёгкие английские башмаки и пробковый шлем делали его похожим на английского джентльмена, направляющегося по делам службы или коммерции в тропики. Фланирующей походкой он прошёлся по набережной, свернул на упиравшийся в неё перпендикуляром городской бульвар, засаженный деревьями, чья благодатная тень спасала от июльского пекла. Пройдя по бульвару до торговой площади, «джентльмен» выйти из тени не пожелал, развернулся и пошёл обратно к набережной, но, не дойдя до неё, снова повернул к площади. Третий раз проходя по бульвару, он заметил шедшего со стороны площади мужчину, одетого в ситцевую рубаху с пояском, плисовые штаны, заправленные в сапоги, и с лёгким белым картузом на голове. По всему было видно, что это торговец, как говорится, «средней руки», который, покончив с торговлей в утренние часы, шёл теперь либо домой «ко щам», либо в ближайший трактир, чтобы перекусить. «Джентльмен», учтиво прикоснувшись к краю своего шлема, спросил торговца:
— Покорнейше прошу извинить меня, вы, часом, не местный ли житель?
— Точно так-с, — подтвердил его догадку человек в белом картузе.
— Не будете ли вы столь любезны, — продолжил «джентльмен», — не подскажете ли, где здесь телеграф?
— Контора почтово-телеграфная, сударь, расположена за торговой площадью, эвон свернёте в переулочек, там спросите.
— Гм, — промычал «джентльмен», — однако, я думал, ближе, не опоздать бы на пароход…
— С нынешним каботажем прибыть изволили? — поинтересовался простоватый местный житель. — Не по коммерческой ли части?
— Так точно, вот присматриваюсь к ценам, ищу надёжного человека для коммерческой операции.
— Большое, стало быть, дело затеваете?
— Да это уж как получится, главное, человека найти, — отвечал «джентльмен» и, протянув дорогой портсигар, предложил местному жителю: — Угощайтесь, сделайте одолжение!
— Благодарствую!
Папиросы были под стать портсигару, и, когда собеседники прикурили от спички торговца, их окутало ароматное облако.
— Чем изволите заниматься? — продолжил разговор «джентльмен».
— Торгуем помаленьку, — щуря глаза и выпуская колечко дыма, ответил горожанин.
— В купечестве состоите?
— Нет-с, обороты не те, — со вздохом отвечал торговец. — Пишемся по мещанству.
— А чем торгуете?
— Шорно-седельная лавка у меня и ещё по кожевенной части.
— Гм, — снова промычал «джентльмен», — должно быть, приносит хороший доход?
— Грех жаловаться, но для того, чтобы по-настоящему развернуться — открыть три-четыре лавки в больших сёлах, где ярмарки бывают, ещё лет десять ждать надо. А там, глядишь, уж и старость нагрянет, сил недостанет большие дела вести… Охо-хо, грехи наши тяжкие! — С этими словами шорник, затянувшись в последний раз, бросил окурок в урну, подле которой они курили. Он собирался уже прощаться, как вдруг приезжий, ещё раз смерив его взглядом, словно решившись на что-то, сказал:
— Послушайте, а может, вы как раз тот, кто мне и нужен? Хотите войти в хорошее дело?
— Так я же говорю, капиталом не богат, свободных денег почти нет, — отвечал шорник.
— Капитал — дело наживное: купите у меня партию товара, пару раз обернётесь, вот вам и капитал на развитие дела! Ну, что скажете?!
— Что же это за товар? — насторожённо спросил торговец.
— А вот-с, извольте взглянуть, — понизив голос, произнёс «джентльмен», загадочно улыбаясь.
Из внутреннего кармана пиджака он вытащил новенький кредитный билет трехрублевого достоинства. Помяв бумажку пальцами, от чего она приятно захрустела, он передал её шорнику, зачарованно смотревшему на деньги. Тот покрутил её, зачем-то понюхал и вернул владельцу.
— Поняли, каков мой товар? — все так же тихо спросил «джентльмен».
— От такого товара, пожалуй, Сибирью-матушкой попахивает, — сомневающимся тоном ответил ему шорник, глядя на своего собеседника уже с некоторой опаской.
— Полно вам вздор городить! С такими бумажками никто вас в жизни не поймает, их в банке принимают как настоящие. Это же не в «черте оседлости» сделано, где, сидя в тёмном погребе, тамошние грамотеи пишут на кредитном билете «рубиль» вместо «рубль». Товарец у нас первый сорт — в Англии, в настоящей типографии, на настоящей денежной бумаге сработан. Комар носу не подточит! И прошу я недорого, всего-то за сотню таких бумажек — пятьдесят рубликов. Вам распихать их в ярмарочный день, да на закупках, дело плёвое! Вот и сообразите: на полсотни — двести пятьдесят прибыли. На эти двести пятьдесят ещё рубликов наживёте, так, глядишь, к Рождеству новую лавку откроете, к Пасхе, другую. Ну что, согласны?
— Да ведь оно, конечно, товар, по всему видать, сделан на славу. Только как же нам поступить, у меня сейчас денег нету.
— Ну и я с собой такой «товар» не таскаю просто так. Давайте встретимся через недельку, здесь как раз ярмарка откроется, ну вот я и подъеду с «товаром», а вы денежки приготовите.
На том порешили и, условившись о встрече на том же бульваре ровно через неделю, разошлись. «Джентльмен» поспешил на пристань, где пароход, на котором он путешествовал, уже дал первый гудок. Шорник же, немного погодя, пошёл за ним вслед. Пройдя по бульвару, он вышел на набережную, где, облокотившись на обрамляющий её парапет, простоял до тех пор, пока пароход не отвалил от причала. Потом спешно, едва не сбиваясь на бег, направился к Приморскому полицейскому участку. Там он попросил немедленно свести его с приставом.
* * *
Шорник рассказал полицейскому офицеру о странной встрече на бульваре, «заманчивом предложении» и о том, что он «согласился». Выслушав его, пристав встал со своего места, прошёлся по кабинету и, азартно потирая руки, сказал:
— Ну, не иначе как к нам одесские «кукольники» припожаловали!
— Они, ваше благородие, больше некому! — согласился с ним шорник. — За дурачка меня принял, наживой соблазнял. От ихней коммерции уж кой год житья нету! Когда ездишь по закупке, так почитай в каждом селе или местечке жалуются: «Опять бумагу вместо денег подсунули!»
— Не надо на фальшивые бумажки покупаться, — назидательно произнёс пристав, садясь за стол.
— Соблазн больно велик «на грош пятаков» купить, да и ловкие ребята — умеют уговаривать.
— Это да, — согласился пристав, несколько опечалившись.
Шайка одесских мошенников была головной болью полицейских властей юга России уже несколько лет кряду. Свои операции они вели с начала восьмидесятых годов, действовали дерзко, не стесняясь, и оставались безнаказанными. Члены этой преступной группировки плавали на пароходах вдоль всего побережья Чёрного моря, объездили все южные губернии, стараясь не пропустить ни одного городка, села или местечка, где бывали ярмарки или большие базары. Присмотрев клиента, они предлагали ему «коммерцию». Соблазнившийся покупатель фальшивых денег отдавал «свои кровные», получая взамен пачку трехрублевок. Уже потом он обнаруживал, что в пачке лишь резанная под нужный размер белая бумага, с обоих концов прикрытая несколькими настоящими трехрублевыми билетами. На воровском жаргоне такой свёрток назывался «кукла», а те, кто продавал их простофилям, — «кукольники».
Потерпевшие бросались в полицию, и случалось, что по горячим следам жуликов ловили. Но те и не думали отрицать, что они в обмен на 50 или 100 рублей дали покупателю резаную бумагу и несколько трехрублевок. Их вели к мировому судье, и тут обнаруживалось, что судить-то их нельзя! Те бумажные кредитки, что были в пачках для маскировки бумаги, оказывались самыми настоящими, значит, уличить их в сбыте фальшивых денег было невозможно. Статьи же Уголовного уложения, в которых речь шла о наказаниях за обман и мошенничество, на «кукольников» не распространялись. Дело в том, что согласно решению № 66, принятому правительствующим сенатом Российской империи в 1876 году, обман, совершённый при проведении запрещённой законом сделки, в уголовном порядке не преследовался. Покупка фальшивых денег была явно не дозволена законом, стало быть, и преследовать за этот обман было нельзя. Вот через эту лазейку в законодательстве «кукольники» легко ускользали от наказания, и их отпускали уже через несколько часов после задержания.
Учитывая это, к встрече «джентльмена» с «покупателем» полицейские подготовились основательно.
* * *
Ровно через неделю на том же бульваре приморского городка «джентльмен» и шорник встретились вновь. Коротко переговорив, они подтвердили свою готовность «сделать дело».
— Возьму на пробу сотню бумажек, — сказал шорник «джентльмену», — если за месяц разойдутся, возьму ещё.
— Ну что же, приходите сюда вечерком с деньгами, а я товар поднесу. Тогда и договоримся окончательно, как нам дальше дела вести.
Когда, условившись сойтись вечером того же дня, оба участника незаконной сделки разошлись, с одной из лавочек, стоявших на бульваре, поднялся неприметный человек, до того читавший газету. Он, на ходу сложив и сунув газету в карман, не упускал из виду «джентльмена». Дойдя вслед за ним до гостиницы и подождав, пока «джентльмен» поднимется к себе в номер, этот человек показал портье полицейский жетон и подробно расспросил его, а затем коридорных и швейцара о постояльце. Полицейский агент интересовался буквально всем: давно ли приехал, один или с компанией, что у него за багаж, что о себе говорил, много ли дал на чай?
* * *
Вечером, когда «джентльмен» вышел из гостиницы, к месту свидания его провожал другой неприметный человек, и ещё несколько полицейских в штатском рассредоточились, сидя на лавочках и изображая праздных гуляк, наслаждающихся тёплым вечером.
Когда покупатель и продавец произвели обмен — шорник получил пакет с «деньгами», а «джентльмен» десять пятирублевок, на продавца накинулись двое гулявших, которые за секунду до того просто «проходили мимо». В мгновенье ока «джентльмена» скрутили, усадили в пролётку и отвезли в Приморский полицей-ский участок.
Арестованный держался с достоинством и лишь иронически улыбался. Он назвал свою фамилию и предъявил паспорт. Когда ему продемонстрировали свёрток, вручённый им шорнику, где, как и предполагали полицейские, была лишь резаная бумага, «джентльмен» лишь пожал плечами и произнёс насмешливым тоном:
— Ну и что?
Его отвезли в гостиницу и в его присутствии, при понятых, обыскали номер. В большом чемодане были обнаружены ещё несколько свёртков, аналогичных проданному на бульваре. Но и тут присутствие духа не оставило мошенника — он продолжал улыбаться, даже когда его отправили в камеру в участке.
* * *
Переночевавшего под казённым кровом «джентльмена» утром отвезли в суд. Здесь выяснилось, что с вечера по телеграфу в Одессу был отправлен запрос в участок, выдавший «джентльмену» паспорт, и утром пришёл ответ, который содержал подробности относительно личности арестованного. Среди прочего было упомянуто, что «джентльмен» уже был однажды судим за кражу и даже отбыл наказание. Кроме того, одесские полицейские извещали, что, по имеющимся у них сведениям, именно он стоит во главе шайки «кукольников». Но и эти добытые полицейскими сведения не смутили мошенника. В ответ на вопрос судьи, признает ли он себя виновным, аферист ответил:
— Своего деяния я не отрицаю, но смею заметить, что согласно решению Правительствующего сената от 1876 года оно не может быть уголовно наказуемо.
— При обыске в занимаемом вами номере гостиницы среди ваших вещей были обнаружены ещё несколько свёртков с резаной бумагой, — ответил судья. — Для суда очевиден умысел и заведомая подготовка «незаконной сделки», что, в свою очередь, подпадает под действие статьи Уголовного кодекса. Суд приговаривает вас к тюремному заключению сроком на шесть месяцев с отбытием наказания в арестантском отделении.
— Но позвольте! — возмущённо воскликнул «джентльмен». — Как же так?
— Вы можете подать кассационную жалобу съезду мировых судей, — сказал судья и объявил заседание закрытым.
* * *
Кассационную жалобу рассмотрели в тот же день, и на этот раз мошенник уже «бился без дураков», напрягая всю свою эрудицию.
— Я допускаю, что моё деяние в некоторой степени предосудительно с точки зрения морали, — говорил он с адвокатским пафосом, — но ведь человек, купивший у меня бумагу, хотел распространить фальшивые деньги, то есть готов был совершить ещё более тяжкое преступление, а, как говорится, «по делам вору и мука».
В подтверждение он цитировал по памяти статьи и параграфы соответствующего решения Сената и для пущей наглядности привёл пример:
— Продажа медных опилок под видом золотого песка, якобы украденного с прииска, законом не преследуется, поскольку сама по себе сделка незаконна! Так какая разница: опилки или бумажки? Сделка-то все равно незаконна!
— Точно так, как вы и говорите, — подтвердил председательствующий, — но вы приговорены вовсе не за ваше, как вы изволите выражаться, «деяние», а за подготовку к совершению незаконной сделки. Используя ваш же пример с опилками — не за продажу таковых под видом золотого песка, но за то, что вы их изготовили, имея в виду подобную продажу.
Позиция съезда осталась неколебимой, и в удовлетворении кассационной жалобы было отказано. Учитывая же то обстоятельство, что преступник был уже ранее судим и явно склонён к совершению противозаконных поступков, дабы не дать ему возможности скрыться, решением съезда было постановлено: взять его под стражу в зале заседания.
Словно гром раздался над головами мошенников, привыкших к тому, что всегда удаётся уйти от наказания. С тех пор в течение нескольких лет в этот уезд одесские «кукольники» не заглядывали вовсе. Но постепенно промысел этот стал перемещаться в северные губернии России, а в начале девяностых годов в Прибалтике разразился скандал, заставивший вспомнить о проделках «одесситов» и, в част-ности, слова их главаря в суде.
* * *
В начале 1892 года некоторые парижские ювелиры и торговцы драгоценными металлами, в основном выходцы из Восточной Европы и «черты оседлости» Российской империи, стали получать письма, в которых им предлагалось купить золотой песок в большом количестве и по чрезвычайно низкой цене. Здесь же давалось объяснение, отчего товар так дешёв. «Наша компания, — сообщалось в письме, — приобрела песок у скупщиков краденого золота, орудующих вокруг сибирских золотых приисков. Сами скупщики не имеют возможности реализовывать крупные партии золота, поскольку у них нет нужных связей. Они продают его нам по ценам, много ниже установившихся официальных цен».
Письма в Париж приходили из Риги, за подписью то Вейса, то Вейля, то Бернера. Но это не смутило парижских «гешефтмахеров». Их заботило то обстоятельство, что золота предлагалось слишком много. Ни у одного из них не было столько денег, чтобы управиться с крупной покупкой в одиночку. Тогда несколько парижских торговцев объединили капиталы и отправили в Ригу своих представителей на разведку.
* * *
Представителей встретил месье Вейс, произведший на парижан самое благоприятное впечатление: безукоризненность манер, деловитость, опыт коммерсанта и осторожность в ведении дел вселили в контрагентов уверенность в успехе и выгодности дела. С соблюдением всех мер конспирации представителей доставили на приморскую дачу неподалёку от Риги, где им показали сундучок, наполненный золотым песком. В присутствии представителя парижских ювелиров был произведён опыт: в жаровню с угольями, которые раскалили паяльной лампой, высыпали немного золотого песку. Когда угли немного остыли, их разрыли и извлекли золотую горошину, образовавшуюся из расплавившегося песка. Горошину отдали посланцам, которые увезли её с собою в Париж.
Во Франции привезённое золото передали в руки опытных химиков. Эксперты дали заключение: слиток произведён кустарно, из шлихта с сибирских приисков, но золото самой высокой пробы. Уверившись в том, что товар настоящий, парижская компания решила: берём! Тотчас же в Ригу была отправлена телеграмма «до востребования» на предъявителя сторублевого кредитного билета с указанием номера. Организована сделка была образцово, чувствовалась рука опытного конспиратора.
Вслед за телеграммой в Ригу выехали представители покупателей. Их опять встретил Вейс, отвёз на дачу, там «французы» получили товар, погрузили сундучок на телегу и отправили на товарную станцию. На мызе же произошёл расчёт: за краденое золотишко парижане отвалили полмиллиона франков.
Вейс вызвался уладить дела на русской таможне, и действительно, груз удачно миновал границу. Но Вейс не оставил своих французских партнёров и потом, проводив их до самой французской границы, где «окно» на таможне готовили уже сами французы. Продавец и покупатели расстались, весьма довольные друг другом.
* * *
Через несколько дней парижские торговцы, вскрыв сундук, обнаружили в нем вместо золотого песка те самые медные опилки, о которых «для примера» говорил в своё время главарь одесских «кукольников», доказывая мировому судье, что его нельзя преследовать по закону.
Наверное, от обиды на то, что их так жестоко надули, опытные дельцы совершенно потеряли голову, ибо не нашли ничего лучшего, чем заявить о произошедшем с ними казусе в полицию. Дело было поручено знаменитому комиссару Кошфру, и он деятельно взялся за него, но почти сразу же оказалось, что помощи от российской стороны ждать нечего: «джентльмен» знал что говорил, приведя пример с опилками. Скупка заведомо краденого золотого песка была операцией незаконной, потому расследование русские власти проводить не собирались. А без этого невозможно было выяснить главное: где именно произошла подмена — в России или за её пределами? Таким образом, расследование зашло в тупик и было прекращено. В то же время прокуратура возбудила дело против самих «пострадавших»: их обвинили во ввозе во Францию контрабанды, — ведь «сундуки с золотом» они ввезли в страну нелегально.
* * *
Прошло всего лишь полгода, и члены рижской шайки «Золотой клуб» все же попались. Правда, погорели они не на иностранцах, а на россиянах. «Золотые валеты» затеяли облапошить группу купцов, но те, наслышанные о проделках с опилками, помимо экспертизы, проведённой с участием мошенников, почти тотчас же по получении товара дали его осмотреть ювелиру, и обнаружилось, что им впарили медь. Тогда они отправились к рижскому полицмейстеру с повинной, подробно описав, с кем имели дело. Им показали фотографии тех, кого власти подозревали в совершении подобных махинаций. Потерпевшие опознали Вильгельма Арнольдовича Шнейдерса, митавского мещанина, выдававшего себя за представителя рижской торговой фирмы «Меркурий и Зубковский». Помимо операций с золотом Шнейдерс промышлял ещё почтовыми марками заграничных фирм. За ним немедленно было установлено наблюдение, для чего пристав 1-го Митавского полицейского участка командировал сыщика Бринкмана. Тот добросовестно «водил» Шнейдерса несколько дней и в результате выяснил круг знакомств этого человека. Знакомых Шнейдерса тайком показали купцам, и они узнали всех участников сделки. Когда состав банды был выяснен, об этом было доложено министру внутренних дел, по приказу которого в ночь на 22 июля 1892 года в Риге и окрестностях была проведена полицейская операция, во время которой были задержаны все восемь членов шайки.
На дачу к Иоганну Яковлевичу Игерману, 37-летнему рижскому мещанину, полицейские явились около двух часов ночи и попросили его пройти в полицейский участок якобы для выяснения какого-то паспортного вопроса. По дороге он очень возмущался, а сыщики «очень извинялись», в участке же роли поменялись, и Игермана немедленно взяли под стражу, отправив в тюремный замок. При обыске, произведённом на даче после ареста Игермана, был найден изрядный запас медных опилок и несколько сундучков, приготовленных впрок. Здесь «заряжали кукол», которых потом подсовывали «пижонам».
* * *
Остальные арестованные были под стать Игерману, народ все солидный, «коммерческий». Иоганн Викторович Позднер, рижский домовладелец, подозревался в совершении мошенничества на сумму в 10 тысяч рублей. Элиса Яковлевича Лацкого, рижского мещанина, 39 лет, подозревала полиция во многих махинациях, совершённых в Лодзи, Берлине и Варшаве. Арестованный Янкель Абрамович Попмахер, 63 лет, до своего ареста вёл жизнь настолько хлопотную, что не мог обходиться без трех фальшивых паспортов, живя по трём адресам сразу. Попмахера взяли около четырех часов утра, подняв с постели. На просьбу полиции показать документы он, не моргнув глазом, предъявил паспорт на имя Шермера. За этим старичком у полиции числились два мошенничества в Риге: на 4,5 тысячи рублей и на 21 тысячу. Следующий член шайки, отставной рядовой Лейба Боруввич Липкинд, в шайке отвечал за подбор «клиентов» и оказание мелких услуг, получал небольшой процент со сделок «Золотого клуба». Душой компании был Шнейдерс. Он вёл обширную переписку, которую изъяли у него при аресте. Шнейдерс был большим специалистом в составлении «соблазнительных писем», он же выступал в роли «Вейса», с которым «пижоны» вели дело на первоначальном этапе операции. Главарём шайки был Иоганн Генрихович Беттер, по паспорту значившийся крестьянином Курляндской губернии, а на деле — бывший рижский домовладелец. При аресте в его доме, той же ночью 22 июля 1892 года, был задержан и последний член шайки, 33-летний рижский мещанин Карл Юргенсон.
* * *
На первых же допросах припёртые к стене неоспоримыми уликами и вещественными доказательствами, в частности большим запасом медных опилок, хранившихся на даче, члены «Золотого клуба» почти сразу же дали признательные показания. Они знали, что за сами «операции» им сделать ничего не смогут и «светят» им небольшие, до полугода, сроки ареста «за подготовку незаконной сделки», потому были довольно откровенны. Следователей и экспертов более всего интересовал вопрос: каким образом им так долго удавалось превращать медные опилки в золото прямо на глазах у покупателей? Оказалось, что никаких алхимических знаний этот трюк не требовал! Просто медные опилки, выдаваемые за золотой песок, будучи высыпанными на раскалённые угли, тут же делались чёрными от копоти и потому «исчезали», смешиваясь с углём, а золотую горошину в жаровню клали заранее, насыпая уголь поверху. После того как эксперимент признавали состоявшимся, на сундучок, из которого черпали «золотой песок», накладывали печати покупателя, а сам он, с подсунутой ему золотой «цацкой», ехал к ювелирам выяснять — золото это или не золото? Те его, конечно же, обнадёживали. Возвратившись, «пижон» находил свои печати на сундучке в полной неприкосновенности. Тогда он забирал товар. Перевозился незаконно приобретённый песок тайно, на месте осматривался не сразу, так что прежде, чем обнаруживалась подмена, проходило некоторое время. Когда выяснялось, что в сундуке медь, а не золото, облапошенный «пижон» ничего не мог сделать. Найдя дачу, на которой его обманули, он узнавал, что снята она была на короткий срок по фальшивым документам. Оставалось только проклинать свою жадность.
«Кукла» из клада
Служивший в полиции Баку надзиратель Альфонсов 23 декабря 1909 года, вернувшись с обхода территории, находящейся в ведении полицейского участка, сразу же направился к своему начальнику, приставу Руденко, с докладом. В кабинете он откашлялся и начал как обычно:
— Так что, позвольте доложить?!
— Докладывай, — разрешил пристав, отрываясь от бумаг, лежавших перед ним.
— Тут такое дело: зашёл я в трактир Карасева чаю выпить…
— Кхм-кхм, — сомнительно закашлялся Руденко.
— Ей-богу, только чаю, — вытаращив глаза, заверил Альфонсов, — нечто мы не понимаем — известное дело: служба. Однако ветер с моря так и продирает…
— Так что трактир? — нетерпеливо перебил пристав.
— Подавал мне половой Ахметка-татарин, за ним грешки разные водятся: жалуются, что когда он из трактира кого пьяным выводит, то непременно потом в карманах пропажи обнаруживаются, ну так он всегда рад услужить. Подал Ахметка чай да и шепнул мне: «К хозяину утром пришли двое оборванцев, по-русски кое-как объясняются, на греков похожи. Хозяин с ними заперся у себя, на жилой половине, и угощает их как дорогих гостей — второй графин водки почали, самовар и закуску меняли уже». Вот я и думаю: не те ли это греки, что 16-го числа духанщика Мартироса Айрапетова на 119 рублей нагрели на Арменишкенде?
— А трактирщик подходящий?
— Трактирщик самый первый сорт для них — мимо себя копейки не пропустит! Верные сведения имеются: берет вещи в заклад. Такой им и нужен! Да и чего бы он стал чаи гонять с оборванцами?!
— Да, действительно, странная компания у них получается. Ты вот что, голубчик, установи-ка наблюдение за трактиром, посмотрим, что там у них за каша заваривается.
* * *
В это самое время в квартире трактирщика Карасева шёл большой торг. Карасев, крупный мужчина средних лет, разгорячась, уже снял сюртук и остался в жилете, надетом поверх белой рубахи. Он азартно втолковывал своим гостям, двум субъектам, облачённым в грязноватое тряпьё, зияющее местами прорехами:
— Кой черт вам нужен «русский попа»?! Он вас быстрее нагреет, чем мазурик на рынке!
— Нася не понимай мазурик, — коверкая слова характерным для греков присюсюкиванием, отвечал ему носатый грек с печальными чёрными глазами, — засем обизяесь попа? Грех! — И он назидательно поднял грязный палец.
В ответ на это Карасев глухо зарычал и, утерев рушником вспотевшее лицо, провёл им по волосам, шее и ухоженной бороде. Потом взялся за графин, налил в рюмки гостям и себе, предложив:
— Давайте-ка ещё дербалызнем, да снова я вам все объясню!
* * *
Греки пришли в его трактир к самому открытию. Робко потоптавшись у стойки, попросили молодца-буфетчика позвать хозяина. Карасев сначала подумал, что они предложат ему в залог какую-нибудь дрянь, и сделал даже кислую физиономию, готовясь отказать, но тут один из греков протянул ему несколько странных кружочков и робко спросил:
— Сказыте, добрая каспатина: цто это такое? Эта тенги?
Взяв шершавые на ощупь кружочки, купец взглянул на них, и брезгливость на его холёном лице сменилась недоумением: это были заляпанные застывшим цементным раствором монеты! Там, где сквозь слой окаменевшего песка проступал металл, Карасев сумел прочитать «полу…», а отколупнув ногтем немножко пристывший раствор, рассмотрел и часть герба: скипетр в лапе двуглавого орла. Сомнений не было — в руках он держал золотой полуимпериал, выпущенный, судя по тому, что на нем не было портрета императора, в начале девятнадцатого века. Такие монеты, без царского погрудного портрета, начали чеканить в царствование Павла, и лишь с 1886 года портрет снова появился на золотых. Другой кружочек на поверку оказался серебряным рублём эпохи Николая Первого.
— Ну, — нетерпеливо спросил один из греков, — цто эта такое?
— Это старинные русские монеты, — сдерживая волнение, пояснил им трактирщик. — А где вы их взяли?
— Вы нам дадите за них покусать? — спросил грек, отбирая монеты у Карасева.
— Нет, брат! — деланно засмеялся трактирщик. — На них сейчас ни шиша не купишь, менять надо на современные деньги.
— Зе-зе-зе, — разочарованно прогудел басом товарищ грека, ведшего переговоры, — селий месек монета, а кусать купить не на сто! Зе-зе-зе!
— Сказыте, допрая каспадина, которая тут поблизости русский попа живёт?
— Попа? — изумился трактирщик. — Какая попа?
— Русский попа, святой отсе, серковь которая слузит, кте?!
— А! — поняв, о чем речь, обрадованно воскликнул Карасев. — Вам попа надо! Зачем вам поп? Он что, банк, что ли? Вам в банк идти надо!
— Не-е, допрый каспадина! Нам в банк никак низя. Мы русский закон совсем не знаем, коворить не умеем, спросят: кто, откуда, токумент.. Оттай, сказут, посел к цертовой матери, сказут. Наси узе хотили банка: турецкий лира и англизи силинг сменять хотели, полицейский свисток свистел, насих тюрьма сазай. Селий недель дерзали, за цто не известно, а тут старые деньги… Не-е, мы попа только доверяй, он селовек святой, поступит по-бозецки…
— Н-да, — сочувственно согласился трактирщик, — с нашими «фараонами» только свяжись! Только чего же к попу-то вас тянет, успеете ещё, пойдёмте-ка, я вас покормлю, водочки выпьем, чайку горяченького, вы мне расскажете все, а я, может, чем помогу. Гаврилка! Ахметка! — зычно скомандовал он половым. — Нут-ка, живо накройте стол у меня в фатере, да ко мне никого не пускать.
* * *
Выпив и закусив, греки, путаясь и кое-как подбирая слова, стали рассказывать о том, как их подрядил богатый грек строить ему дачу в пригороде Баку. Доплыли они до Батума на турецком корабле, потом привезли их в Баку. На месте предполагаемой дачи стояли руины большого сельского дома. Грекам велели за зиму стены разобрать и подготовить все к стройке. Разбирая стены, они в одном месте наткнулись на тайник и сначала не поняли, что нашли: монеты были залиты раствором цемента и песка. Насобирали они целый мешок таких кругляшей, стали думать, чего с ними делать. Грек-подрядчик держал их впроголодь, обещая расплатиться к концу месяца, вот и решили греки командировать двух, которые русский язык получше знали, в город, чтобы выяснить: что они нашли. Деньги ли это? Если деньги, то купить на них еды, водки и табаку.
Карасев, слушая их, мысленно прикидывал: «Это сколько же у них в руках оказалось монет? Такой редкий случай упускать никак нельзя! Зачем дуракам деньги? Для них большие деньги — одна морока!» Когда вместе с греками «усидели» графин водки, он и сделал им предложение:
— Продайте, братцы, вы мне эти монеты: сразу, весь клад, за живые, настоящие деньги?! И сразу бросите эту стройку, жулика своего подрядчика, сейчас же в Батум и домой поедете, к бабам свом и детишкам! А? Давайте дело сделаем!
Но греки упёрлись и твердили только одно:
— Не-е-е, мы только русский попа товеряем, к нему пойдём.
Однако Карасев не сдавался и, приказав подать ещё графин водки, начал «правильную осаду». Ближе к вечеру захмелевшие греки как будто стали поддаваться уговорам:
— Сколько зе топрый каспатина Карасева плетлезит?
Стали торговаться уже предметно. Однако возникла некоторая трудность: греки не знали, сколько у них монет, говорили просто: «Месек», а сколько в том мешке, поди знай! Карасев, «честно глядя им в глаза», предложил «хорошую цену»:
— Давайте так: вот за эти монетки, — он указал на полуимпериал, — я дам вам по рублю, а вот за эти, — и он взял в руки николаевский рубль, — по гривеннику за штуку? За такое старьё — красная цена!
Греки пьяненько щурили глазки, водили грязными пальцами у себя перед носами и, встряхивая кудрявыми шевелюрами, возражали:
— Не-е-е, каспатина Карасева нас хосет обмануть. Такие старый монетки меньсе сём по тва рубли за стуку оттавать грех. Надо к попа нам итти, там нету греха!
— Ага! — с издёвкой произнёс трактирщик. — Сходите, в тюрьме переночуете! Мы-то все сделаем по-тихому, деньги получите и поминай, как вас звали, а над попом сто начальников, он за каждую копеечку отчитывается, нешто он наберёт вам такие деньги?!
Спорили они, торговались и сошлись на такой цене: трактирщик платит грекам по 1 рублю 25 копеек за каждый полуимпериал и по 25 копеек за николаевский серебряный рубль. К вечеру Карасев был уже и от водки пьян, и от удачи весел: на каждый свой рубль он наживал больше десяти. Ведь старые полуимпериалы приравнивались к пятнадцати рублям новых денег, в них содержалось 11,6 грамма чистого золота 916-й пробы! Гости его, на вид бывшие ещё пьянее его, собираясь уходить, выставили ещё одно условие:
— Показите нам теньги, мозет, у вас их и вовсе нету!
— Да как же я вам их покажу, если неизвестно: сколько нужно? — удивился купец.
— Ну и цто зе? — пьяно упрямились греки. — Показите хотя бы тысяцу рублей, а то мы только, мозет, зря проходим.
— У-у, «попа» недоверчивая, — бормотал Карасев, пока ходил к бюро в соседней комнате. Достав пачку денег, он вернулся к грекам и показал им деньги. — Ну, вот этими самыми деньгами я вам завтра и отсчитаю. Довольны?
— Осень довольны! — вполне искренне ответили греки. — Спасибы больсая хлеб-соль, благодарим. Зтите, завтра придём.
После ухода странных гостей трактирщика надзиратель Альфонсов, который все время, пока гости заседали за столом и вели переговоры, кружил по улицам вокруг заведения Карасева, зашёл в трактир и снова спросил чаю. Подавал ему, как и утром, Ахмет, и пока он сервировал стол, Альфонсов успел с ним перекинуться парой слов. Просидев в трактире за чаем около часу, надзиратель пошёл докладывать приставу, но прежде он подошёл к городовым, заступившим в наряд, и приказал за трактиром присматривать особо.
— Как думаешь, сговорились они? — задумчиво спросил пристав Руденко Альфонсова, выслушав его доклад о результатах наблюдения.
— Надо думать, не без толку просидели целый день! — уверенно сказал Альфонсов. — Ахметка говорит: «Хозяин так нарезался, что в зал уже не выходил, старший приказчик всем распоряжается». Да и эти еле ноги уволокли.
Решено было на следующий день устроить возле трактира засаду: выставить пост из самых смышлёных городовых напротив трактира, в сам трактир посадить компанию полицейских в штатском. Особенно мощный заслон наметили устроить позади трактира. Здесь начинались постройки, благодаря чему можно было незаметно выскочить на соседние улицы или спрятаться.
* * *
Утром 24 декабря посты, намеченные накануне приставом Руденко, были выставлены, полицейские проинструктированы. Теперь оставалось самое тяжёлое: ждать.
— Вот тебе и юг! — бормотал Руденко, ёжась под порывами сырого ветра, дувшего с Каспия. — Уж скорее бы пришли!
Переодетым в штатское полицейским, засевшим в трактире, изображать гуляющих было не легче, чем их товарищам на зимней улице: в трактире нужно пить и есть, а эти приятные поначалу особенности задания очень быстро становятся тягостны. Выручало то, что, распив «для почину» штоф настоящей водки, полицейские далее пили только воду, подносимую в графинчиках расторопным Ахметкой. Без его поддержки засада в трактире не продержалась бы так долго.
«Гости» явились ближе к вечеру, когда на улице уже начало смеркаться. Один грек нёс за спиной тяжёлый мешок, его товарищ, распахнув дверь трактира, помог ему войти.
Как только дверь за греками закрылась, кольцо полицейской блокады сомкнулось вокруг трактира, и теперь невозможно сделалось войти или выйти, минуя посты. Минут через десять после того как греки со своим мешком проследовали через трактирную залу и скрылись за дверью, отделявшей собственно трактир от квартиры трактирщика, компания полицейских в штатском подозвала Ахметку.
— Поди, впусти наших с заднего двора, — велел половому старший из филёров. Вся компания, разом «протрезвев», поднялась из-за стола и направилась к дверям на хозяйскую половину. Ждать им пришлось недолго: почти тотчас же дверь открылась — и прямо на полицейских вышли оба грека, уже без мешка.
— Ни с места! — приказал старший филёр. — Руки вверх!
Греки сразу же подчинились. Им приказали повернуть назад и провели в комнаты хозяина.
* * *
В большой комнате возле накрытого к вечернему чаю стола стоял бледный от испуга Карасев, нервно крутя пуговицы на своей жилетке. Кроме него в комнате были пристав Руденко, надзиратель Альфонсов и двое городовых, которые проникли в дом с чёрного хода.
— Ну так где же, господин Карасев? — нетерпеливо спросил Руденко.
— Не понимаю, о чем вы изволите спрашивать! — ответил трактирщик.
— О мешке, который вот эти два господина внесли в ваши покои, — пояснил Руденко. — Где он?
— Почему, собственно, я должен вам отвечать?
— Вообще-то это в ваших интересах, господин Карасев. Вы сейчас в этом убедитесь! — пообещал Руденко и, обращаясь к надзирателю, приказал: — А ну-ка, Альфонсов, обыщи этих субчиков, пусть господин трактирщик сам увидит, что его несколько минут назад обокрали!
Долго ждать не пришлось. Привычными движениями обыскав арестованных греков, Альфонсов вытащил из лохмотьев одного из них увесистый свёрточек, сделанный из платка. Альфонсов положил свёрток рядом с мелочами, обнаруженными в карманах оборванцев: хороший портсигар, ключ, спички, немного мелочи.
— Нуте-с, господин Карасев, узнаете свёрточек?
— Да ведь он же должен… — беря себя за горло, словно его душили, начал было фразу Карасев, но осёкся на полуслове.
— Ну, начальник, — подал голос один из «греков», заговоривший по-русски чисто, без всякого акцента, — твой сегодня фарт!
— Фарт! — насмешливо передразнил его Руденко. — Понимал бы чего, Арутюн Кахраманьянц! Скажешь тоже! Это наука: ваши физиономии и приметы по всему югу России разосланы. Так что ни тебе, ни Сафару ходу не было, не сегодня, так завтра взяли бы.
— Какой Кахраманьянц, какой Сафар? Я ничего не понимаю! — воскликнул Карасев, оседая на стул.
— Да вот эти самые, — указывая на арестованных, пояснил пристав, — продавцы кладов! Этот вот — Арутюн Кахраманьянц, персидско-подданный, а второй — Сафархан Шахмамед-оглы. Третий год они «под греков» работают, все клады простакам продают! В 1907 году взяли тысячу рублей у содержателя прачечной Михаила Вержбицкого, так ведь, Арутюн?! А в 1908 году в Балахане пятеро наивных скинулись по двести рубликов и купили точно такой же мешочек, что вам сегодня принесли. Было дело, Сафархан?! И в Ростове-на-Дону два случая за ними… — неожиданно прервав себя, Руденко взял со стола ключ, обнаруженный у «греков», и спросил у Карасева: — А где у вас здесь сундук?
Не дождавшись ответа, он осмотрелся по сторонам и увидел порядочных размеров окованный железом сундук, стоявший у стенки. Подойдя к сундуку, Руденко склонился над замком, вставил ключ. Замок открылся легко, ключи, найденные в кармане Сафархана Шахмамеда-оглы, оказались от сундука трактирщика Карасева.
Откинув крышку сундука и заглянув внутрь, пристав обрадовался, словно увидал внутри своего старого знакомого:
— Ба! А вот и он! Вытаскивайте, ребята, мешок!
Когда городовые извлекли мешок наружу и развязали горловину, то сначала из него вытащили точно такой же свёрточек, что нашли при обыске «греков», его тоже выложили на стол. Кроме этого свёртка в мешке нашли около полутора пудов цементных кругляшей, размером с монету-полуимпериал. Руденко разломил несколько колёсиков, но никаких монет в них не было, один застывший раствор. В свёртке, который вытащили из мешка, найденного в сундуке трактирщика, была резаная бумага, зато в его близнеце, изъятом у «греков», обнаружилась внушительная пачка денег.
* * *
Когда арестованных увели, пристав Руденко, закурив папиросу, доброжелательно обратился к трактирщику:
— Хотите, господин Карасев, я вам расскажу, как все здесь происходило? — И, не дожидаясь согласия собеседника, продолжил: — Вчера, когда вы здесь сидели, уже когда вроде договорились, просили они вас показать деньги, которыми вы будете за «клад» расплачиваться. Так ведь?
— Так, — удивлённо подтвердил Карасев.
— Это в их комбинации первейшая вещь — разглядеть, какими деньгами платить будет «клиент». Они потом готовят «куклу» — свёрток с резаной бумагой подходящего размера. А сегодня пришли они к вам и говорят…
— И говорят, сволочи: «Сибко чизало тасить вся монетка! Ти, топрий каспатина, дай нам теньги, а мы тебе исе месек монеток притассим!» Ну, я им говорю: «Дудки, братцы! Несите ещё, а мешок пусть здесь полежит!»
— Тут они, конечно, в амбицию, не соглашаются, — утвердительно произнёс Руденко.
— Конечно! Однако быстро придумали, как выйти из положения: дают мне платок, говорят, деньги заверни и клади в мешок, мешок в сундук сунем, запрём. «А клюсик нам отдас». На том и порешили! Только вот никак я не пойму: как же это деньги у них оказались, а в мешке бумага?
— Очень просто: они небось, перед тем как мешок в сундук положить, свёрток достали…
— Ну да! Смотри, дескать, вот они, твои деньги, все по-честному…
— Вот в этот самый момент они свёрточки и поменяли. И мешок нарочно погрязнее принесли, чтобы вы за него поменьше хватались. Потом эти цементные кругляши заперли и пошли. Ведь зацементированных монет-то у них всего две-три, от силы пять штук бывает, чтобы «пассажиру» показать сначала, заинтересовать чтобы! В мешке лежат одни пустышки, а люди думают, что золото им оставляют в сундуках. Так бы вы и сидели, как остальные ими обманутые — полтора пуда цементных блямб карауля. А они бы тем временем на вокзал и — прощай, Баку!
— А откуда вы про все это узнали?
— Следили мы за ними. Ведь они в этом году в Баку у Осипа Абрамова за такой вот «клад» 600 рублей взяли, а только что, вот 16 декабря, на Арменишкенде духанщика Айрапетова обработали. Любят они вашего брата, владельцев трактирных заведений!
— Бога мне теперь за спасителей молить надо?! — с полувопросительной интонацией произнёс Карасев, заглядывая в глаза приставу. Теперь, когда и первое изумление, и испуг, и возмущение уже прошли, рассудок трактирщика заработал привычно, и чувствовалось, что ему очень хочется спросить: «А что мне будет? А деньги мои?», но он не смел. Немного помучив его, Руденко встал из-за стола и веско сказал:
— Да уж, конечно, молить Бога следует! — И добавил, насмешливо глядя прямо в глаза поднявшемуся вслед за ним Карасеву: — Завтра придёте с утра в участок, дадите показания, как потерпевший при попытке покушения на мошенничество, получите свои деньги и больше уж, глядите, на такие дешёвые штуки не покупайтесь. Такие вот «греки» знаете как говорят? «Фраеров губит жадность». Как раз ваш случай.
* * *
Когда полицейские вышли на тёмную, продуваемую холодным ветром улицу, Альфонсов неожиданно хохотнул.
— Чего ты? — спросил пристав.
— Вот интересно, как же это Карасев за Ахметку будет Бога молить?! Магометанин ведь Ахметка-то, а «греков» он первый заметил.
— Ничего! — усмехнувшись, ответил Руденко. — В небесной канцелярии разберутся, по какому департаменту молитвы пустить. Не наше это дело.
И они пошли молча, прибавляя шаг, стараясь побыстрее добраться до жарко натопленного участка.
Игра в «доктора»
Письма… Сколько их проходит через руки почтальонов? Что в них сообщают люди друг другу? У писем, как и у людей, их пишущих, судьбы разные. За одними охотятся исследователи и их издают, есть даже такой жанр в литературе — эпистолярная проза. Другие смирно лежат в комоде, откуда их изредка извлекают, чтобы перебрать, вспомнить тех, кого уж рядом нет. А бывают ещё письма-улики, и хранятся они в специальных архивах, редко являясь взгляду непосвящённых в служебную тайну. Здесь-то чаще всего и скрываются удивительные истории, в которых жизненный сюжет закручен, как в авантюрном романе. Раскроем же одно из таких дел, в котором письма, приходившие обычной почтой, служили завязкой авантюрных событий.
* * *
Странное письмо обнаружил киевский генерал-губернатор Гессе, просматривая утреннюю почту, поданную ему адъютантом в один из летних дней 1872 года. Написанное на бланке генерал-губернатора Восточной Сибири А.В. Хрущёва, письмо адресовалось самому Гессе и содержало просьбу: отыскать в Киеве находящегося в отпуске личного врача Хрущёва, некоего доктора Запольского, с тем чтобы вручить ему приложенное к письму предписание, в котором содержался приказ доктору незамедлительно выехать на станцию Жмеринка, где дожидаться самого Хрущёва, едущего для лечения на заграничный курорт. Доктор должен был присоединиться к своему патрону и с ним вместе ехать за границу. При этом Хрущёв обращался к Гессе: «В виде одолжения лично мне прошу распорядиться о снабжении вышеозначенного доктора Запольского некоторой суммой денег, необходимой ему для исполнения моего предписания, каковую сумму я непременно верну, будучи проездом в Киеве, при личной нашей встрече». Гессе, внимательно перечитав письмо и предписание ещё раз, обратил внимание на то, что на бланке письма стоя-ло: «А.В. Хрущёв, генерал-губернатор Восточной Сибири», а на предписании Запольскому: «Генерал-губернатор Восточной Сибири А.В. Хрущёв». Эта разница и сама необычная просьба вызвали у генерал-губернатора смутное сомнение. Гессе вызвал адъютанта и попросил его найти деловые бумаги, приходившие в Киев из Восточной Сибири, написанные рукой Хрущёва. Через некоторое время требуемые документы были принесены, и Гессе, сличив их с письмом и предписанием, совершенно убедился в подлинности подписи восточносибирского генерал-губернатора. Более того, ему стало ясно, что письмо ему и предписание Запольскому также были написаны рукою Хрущёва. Успокоившись, Гессе приказал немедленно отыскать доктора Запольского, вручить ему предписание его начальника и выдать из губернаторского личного фонда 200 рублей денег.
* * *
Приказание киевского губернатора было исполнено в точности чинами местной полиции. В тот же день в одной из гостиниц был отыскан доктор Андрей Аполлонович Запольский, которому были вручены предписание и деньги. Доктор повёл себя, как и подобало: сначала был крайне удивлён, потом рассыпался в благодарностях, принял деньги и стал спешно собираться. Тем же вечером Запольский уехал из Киева, но отправился он не в Жмеринку, как следовало ожидать, а совсем в другую сторону — в Вильно. Оттуда он поехал в Варшаву, потом в Одессу, в Рязань, в иные места. И везде, куда бы он ни приезжал, с ним повторялась одна и та же история: в гостиницах, в которых он останавливался, его отыскивали полицейские чины и вручали предписание — следовать для встречи с едущим за границу для лечения восточносибирским генерал-губернатором. Вместе с предписанием непременно передавался пакет с деньгами. Обращения от лица Хрущёва получали самые разные должностные лица: полицмейстеры, градоначальники, губернаторы. Их буквально завораживали титул и почти интимная просьба высокопо-ставленного лица, хлопотавшего о вспомоществовании то личному доктору, то доверенному чиновнику, то племяннику. Во всех этих ипостасях был представлен один и тот же человек — А.А. Запольский. После того как сорвавший очередной куш Запольский исчезал на просторах необъятной страны, чиновники ещё долго ждали проезда через их город Хрущёва, обещавшего вернуть деньги. Но их высокопревосходительство почему-то все не ехали и не ехали, а напомнить о долге в сотню-другую рублей не позволяла субординация.
* * *
Так шло до самого 1874 года, когда на родине великого писателя Гоголя и знаменитых солёных огурчиков, в городе Нежине, местный полицмейстер, вручив сто рублей «господину доктору» и лично проводив его до вагона поезда, решил «блеснуть исполнительностью» перед генерал-губернатором Восточной Сибири. В Иркутск, на имя Хрущёва, была отправлена телеграмма следующего содержания: «Честь имею рапортовать вашему высокопревосходительству об исполнении вашего указания относительно вручения предписания и денежной суммы личному вашего высокопревосходительства доктору Запольскому». В тот же день полицмейстер получил ответ из Иркутска: «Никаких распоряжений о вручении предписаний в ваш адрес отослано не было. Нет никакого доктора Запольского. Запольский — беглый ссыльнопоселенец, прошу принять меры к розыску и задержанию». Подписано было лично Хрущёвым.
* * *
Огорошенный этим известием нежинский полицмейстер долго ещё ходил сам не свой. Так опростоволоситься ему ещё не доводилось. «Ну, ужо попадись ты мне только!» — не раз думал он, вспоминая сбежавшего жулика. Судьба смилостивилась над служивым человеком, довольно скоро предоставив ему случай взять реванш.
В Нежине, как и во многих других провинциальных городах обширного государства Российского, железнодорожный вокзал помимо своей основной функции исполнял ещё и множество других. Как правило, на вокзале был лучший ресторан, со свежайшими, «прямо с поезда», устрицами и иными деликатесами, первоклассный буфет, самые свежие газеты и журналы в почтовом киоске; перрон же его был неким подобием местного «Невского проспекта». Сюда приходили погулять, выпить водки и пива, закусить, посудачить, газетку почитать, продемонстрировать новый фасон модного наряда — словом, провести время, пообщаться, а заодно посмотреть на поезда и пассажиров, помечтать о возможности уехать из этого захолустья. Большую притягательную силу для жителей провинциальных городков имел вокзал, поэтому неудивительно, что в месте, где собирался городской бомонд, частенько можно было видеть и полицмейстера, бывавшего здесь и по служебным обязанностям, и просто так, как все горожане. Однажды полицмейстер, угостившись в буфете, вышел на платформу в тот самый момент, когда к ней подходил поезд, следовавший на Киев. Каковы же были его изумление и хищная радость, когда он увидел в вагонном окне лицо Запольского, меланхолично взиравшего поверх голов стоявших на платформе нежинских жителей на здание вокзала и привокзальную площадь.
* * *
План в голове полицмейстера созрел моментально! За время остановки поезда он успел дать в киевское полицейское управление телеграмму и сел в тот же поезд, только двумя вагонами далее того, в котором ехал Запольский. По его распоряжению обер-кондуктор, которому полицмейстер объяснил суть дела, организовал через проводников наблюдение за мошенником. Билет Заполь-ский взял до Киева, но наученный горьким опытом полицмейстер распорядился глаз с него не спускать и с каждой станции отправлял в Киев телеграмму о продвижении преступника. Как оказалось, не напрасно! Запольский был последовательным приверженцем неукоснительного соблюдения правил конспирации, поэтому за одну остановку до конечной, на станции Киев-Товарный, он распорядился внести свои вещи в тамбур, о чем проводники немедленно известили его преследователя. Сойдя на товарной станции, Запольский взял извозчика и приказал везти его в Киев. Следом, на безопасном расстоянии, ехал на извозчике полицмейстер, успевший распорядиться, чтобы обер-кондуктор известил киевских полицейских о том, что он ведёт слежку за Запольским.
Уверенный в полнейшей безопасности, мошенник, въехав в город, велел отвезти себя в хорошую гостиницу, стоявшую неподалёку от железнодорожного вокзала. Убедившись в том, что его заклятый недруг там остановился, нежинский детектив известил о его пристанище киевскую полицию. В тот же день в своём номере Запольский был арестован.
При обыске в его номере, в одном из принадлежавших Запольскому чемоданов, был обнаружен любопытный набор бумаг: пачки бланков генерал-губернатора Восточной Сибири Хрущёва, большая коллекция деловых записок, визитных карточек, частных писем и справок с автографами высокопоставленных чиновников, богатых и влиятельных людей. На вопрос следователя, зачем ему понадобились все эти бумаги, Запольский спокойно ответил, что они нужны были для подделки документов, облегчающих ему получение денег незаконным способом. Его попросили назвать сообщников, но мошенник ответил, что управлялся со всеми делами сам, без всяких сообщников. Ему не поверили. По запросу следователя из разных мест были собраны фальшивые письма, с помощью которых Запольский выманивал деньги. Следствие было убеждено, что писали их по крайней мере с десяток разных людей. Но Запольский упорно отрицал чьё-либо соучастие, и тогда был проведён следственный эксперимент: из «коллекции почерков» наугад вытащили бумагу и Запольскому предложили тут же скопировать стиль обращения и почерк. Каково же было изумление опытного следователя и экспертов, когда Запольский, поупражнявшись дважды на черновике, в течение пятнадцати минут написал требуемое послание, без единой помарки и зацепки для подозрения, и притом почерком, совершенно неотличимым от подлинного!
Дело, ввиду многочисленности эпизодов, затянулось надолго, и лишь в 1877 году Андрей Аполлонович Запольский предстал перед киевским окружным судом. Статья, под действие которой подпадали совершённые им деяния, сулила ему до трех лет тюремного заключения, но обаяние личности преступника, умное поведение на следствии и ловкая защита адвоката сыграли свою роль, поэтому получил он всего лишь год и четыре месяца тюрьмы. С учётом срока пребывания его под стражей до суда Запольского выпустили «под строгий надзор полиции, сроком на два года». В тот же день он исчез из Киева, как ему казалось, навсегда. Надзор оказался не таким уж и строгим для человека с его богатым опытом побегов из самых разных мест содержания.
* * *
Андрей Запольский родился в семье кавалерийского обер-офицера, женатого на дочери своего полкового товарища, вышедшего в отставку. Отец будущего преступника, Аполлон Запольский, происходил из дворян Тихвин-ского уезда Новгородской губернии, служил в Петербурге, выйдя в отставку в чине подполковника, занял должность младшего полицмейстера в Нижнем Новгороде. Андрей был первенцем счастливой семейной пары и появился на свет в Петербурге 10 мая 1830 года. Четырнадцати лет, как дворянин и сын офицера, он поступил в Михайлов-ское артиллерийское училище, но закончить его Заполь-скому-младшему не довелось. Проучившись два с половиной года, он был исключён из училища «за весьма плохие успехи и дурное поведение» и выпущен юнкером в полевую артиллерию, где ему и был присвоен первый офицерский чин.
* * *
Армейская среда облагораживающего влияния на юного буяна не оказала, замашки у него остались прежними. Как-то раз большая компания офицеров и штатских играла в карты, и, как водится в таких случаях, все много выпили. Из-за чего-то возникла ссора, оружие не вовремя оказалось под рукою у пьяного Запольского, который и уложил «двух штатских штафирок». Так в 1851 году он впервые предстал перед судом. Военный трибунал, ввиду взаимной вины сторон, «за убийство двух человек в запальчивости» ограничился лишь разжалованием его в рядовые. Впрочем, вскоре Запольского произвели в обер-канониры, потом в фельдфебели. До возвращения офицерских погон ему оставалось совсем немного, когда его опять взяли под арест, на этот раз по обвинению в изнасиловании девушки-казачки. Но «за недоказанностью» его отпустили, «оставив в подозрении».
Потом его вновь разжаловали в рядовые и приговорили к содержанию в гауптвахте сначала житомирского, а затем киевского гарнизонных батальонов — «за нанесение оскорбления действием полицейскому офицеру».
На военной карьере можно было ставить крест. Однако Запольский не унывал. Он нашёл своё истинное призвание в подделке документов и с большим успехом оперировал ими в Киеве и его окрестностях до тех пор, пока в 1858 году не попался с поличным — были обнаружены два подложных письма, составленные от лица флигель-адъютанта Стюрлера. На этот раз Запольского лишили воинского звания, дворянства, особых прав и сослали в Сибирь, на поселение, в самую глушь Тобольской губернии.
* * *
Прожить ссыльному в чужом краю, не имея ремесла, навыка и привычки к крестьянскому труду, было очень трудно. Некоторые считали, что каторжанам легче: все осуждённые равны, их худо-бедно кормили, им была обеспечена крыша над головой. Ссыльнопоселенцы же были чужаками среди вольных, кормиться и вообще жить должны были за свой счёт. Из этого затруднительного положения Запольский решил выйти с помощью женитьбы на местной девушке. Он повёл под венец дочь отставного солдата Евгению Абрамову. Но, прожив с нею недолго, Запольский бросил её. Перебравшись в другое село, он составил подложные документы о смерти жены и как вдовец женился второй раз на вдове учителя Марье Тимофеевой. Первая его жена умерла в 1865 году, а в 1867-м умерла и Тимофеева. Тогда этот дважды вдовец в том же 1867 году женился в третий раз, на мещанке Анне Кобылиной, и прижил с нею дочь.
* * *
К тому времени Запольский вполне освоился со своим положением. Эксплуатируя свой талант, он в Тобольске устроился писцом и чертёжником к инженеру-технологу. Получая жалованье, Запольский ещё и недурно прирабатывал, чертя рисунки иконостасов строившихся церквей, давая уроки. По мнению местного начальства, ссыльнопоселенец «вёл себя хорошо». Ввиду крайнего дефицита в тех местах людей грамотных, способных к службе, Запольский получает разрешение «быть принятым по вольному найму, для занятий в присутственных местах». Обычный ссыльный мог бы считать достигнутое венцом карьеры, но для Запольского это была лишь первая ступень в его давно задуманном плане бегства из Сибири.
В 1869 году Запольский, раздобыв себе «надёжный паспорт», вместе с женою и дочерью скрылся из Тоболь-ска. Объявились они в Новгородской губернии, в Тихвине, откуда происходили его предки. Здесь его, родившегося в Питере, конечно же, никто не знал, поэтому он поселился вместе с семьёю в городе: завёл торговлю, познакомился с обывателями — словом, зажил обычной жизнью. Так проходит два спокойных года, и в 1871 году он сумел даже оказаться причисленным к мещанскому сословию Тихвина. Это давало ему статус, возвращало права, придавало устойчивость его положению. Но «вспыльчивость натуры» не могла не проявиться, и он опять оказался под стражей — за нанесение оскорблений товарищу прокурора и полицейскому чиновнику. В тюрьме открылось, что он сбежал из Сибири, и его вновь вернули «в не столь отдалённые места», приписав к городовым крестьянам Тобольска. Жить в Сибири Запольскому было уже невмоготу, и он, сведя знакомство с волостным писарем, сумел склонить того к подлогу — выписать ему паспорт на имя Запольского, сроком на год. Получив документ, он бросил жену и дочь в Тобольске, а сам вернулся в Россию. В Сибирь он никогда не вернётся, как не увидит ни жены (она умрёт в 1876 году), ни дочери, оставшейся жить в Тобольске.
* * *
Сбежав в очередной раз, в 1872 году Запольский добрался до Одессы, где устроился на службу не куда-нибудь, а в полицию, на должность писца. Пробыл он здесь недолго, но успел подделать на официальном бланке крайне важный для него документ — «копию» с вымышленного им постановления Государственного совета «о возвращении военному врачу Запольскому прав, чинов, орденов». Так Андрей Аполлонович впервые объявил себя врачом. Недрогнувшей рукой он подписал эту филькину грамоту титулом и личным автографом государя императора, самодержца всероссийского. На этом же «шедевре криминального творчества» была сделана нахальная приписка: «Запольскому, по прибытии в Петербург, надлежит незамедлительно явиться для представления Государю лично». На провинциальных чиновников эта опереточная «царёва грамота» действовала умопомрачающе, когда Заполь— ский, облачённый в мундир военного врача, являлся к ним.
Разъезжая по городам и весям, он пользовался этим документом, требуя немедленно выдать денег «на дорогу до Петербурга». Ему нигде не отказывали. Предъявив в одной типографии все то же «постановление Государственного совета» и подложное удостоверение от генерал-губернатора Восточной Сибири Хрущёва, он заказал бланки, которыми пользовался в дальнейшем для своих мошеннических операций.
* * *
Скрывшись в 1877 году из Киева, Запольский, словно змея, решил «сбросить старую кожу». На свет появился «доктор Черемшанский». Андрей Аполлонович заготовил себе целый комплект копий различных бумаг на эту фамилию. Черемшанским он назвался отнюдь не случайно. Существовали целых три настоящих врача, носившие эту фамилию: отец служил в Сибири, а два сына Черемшанских практиковали в Петербурге.
Обретя новую фамилию, беглец прежде всего отправился в Москву. По дороге он свёл знакомство с кандидатом на военно-судебные должности Владиславлевым, от которого узнал адреса знакомых тому семейств Дяковских и Ефимовых. Явившись в дом Ефимовых, он отрекомендовался военным доктором и передал хозяевам поклон от Владиславлевых. Здесь же на квартире у Ефимовых, где он был принят как добрый друг, он познакомился с их прия-тельницей, «девицей на выданье» Анной Коробовой. «Доктору» позарез нужна была «база в Москве», и он решил обеспечить её проверенным способом, через женитьбу. После короткой осады девицы он, уже через два дня знакомства, просил руки дочери у матери Коробовой. Напуганная таким натиском мамаша поначалу отказала, но опытный обольститель «повёл правильную осаду». Все это время он «выезжал на гастроли в провинцию», объясняя свои отлучки «срочными служебными командировками».
Наконец, 13 февраля 1878 года он обвенчался — четвёртый раз в своей жизни. Для этого ему пришлось изготовить целую серию фальшивых бумаг, необходимых для представления «по брачным обыскам». Мошенник создал удо-стоверение от МВД, Медицинского департамента и от нового генерал-губернатора столь памятной ему Восточной Сибири, генерала Редерихса. От последней инстанции было выписано разрешение на имя военного врача Андрея Аполлоновича Черемшанского, 51 года, реформаторского вероисповедания, командированного старшим врачом на Сахалин, которому, как вдовцу, дозволялось вступить в третий брак.
* * *
Женившись, «доктор Черемшанский» недолго предавался семейной неге и уюту. Его деловые поездки случались все чаще и раз от разу были продолжительнее. Наконец, уехав в город Сарапул, он долго не подавал о себе никаких известий. Молодая жена и её мамаша, встревоженные долгим молчанием, снарядили «поисковую экспедицию» в Сарапул, отправившись по следам блудного супруга и зятя. Прибытия их в богоспасаемый град Сарапул никто не ждал, а потому застали они там положение дел для себя весьма обидное: оказалось, что недавний молодожён успел окрутить местную девушку, дочь дьякона, Лидию Радзинскую, которая к тому времени уже была беременна от него. (Впоследствии, по странному стечению обстоятельств, злой рок преследовал почти всех жён мошенника — Лидия умерла при родах, а ребёнок погиб.) Андрей Аполлонович визиту жены и тёщи, мягко говоря, не обрадовался. Его буйный норов дал себя знать, и он, говоря языком протокола, запечатлевшего это событие, «обошёлся с ними крайне дурно», так что те принуждены были, в буквальном смысле слова «спасая жизнь свою», спешно покинуть Сарапул и возвращаться в Москву. Раздражение «доктора» родилось не на пустом месте. В Сарапуле он впервые попытался воплотить в жизнь некую идею, которая вполне могла обеспечить ему безбедное существование и положение в порядочном обществе, когда из Москвы нежданно явились «родственницы» и все испортили.
В сентябре 1878 года он приехал в Москву просить прощения за горячность, но заявил твёрдо, что жить с Анной не намеревается, и по законам того времени «выдал жене отдельный паспорт». Он даст знать о себе этим женщинам ещё раз в январе 1881 года, прислав им по городской почте письмо, в котором извещал, что собирается уехать «с одной молоденькой гувернанткой» в город Благовещенск. Но это был обман, старый жулик просто «путал за собою след» на случай, если неугомонные Коробовы снова примутся его искать. В Благовещенск он не поехал, а отправился в Уфимскую губернию, где уже давно легализовался, удивительным образом превратившись в уездного доктора.
* * *
Тогда в Сарапуле ему удалось поступить на службу в местное земство: 28 мая 1878 года он, вследствие собственного прошения, под фамилией Черемшанский был принят на службу сарапульским земским врачом. В подтверждение своего медицинского звания он представил временное свидетельство, якобы выданное 16 марта 1878 го-да на имя старшего врача, доктора медицины «надворного советника Черемшанского», от командира второго Туркестанского линейного батальона. В свидетельстве было сказано, что он «ввиду болезненного состояния увольняется в отпуск, впредь до окончательного увольнения в отставку». Но после того, как он прожил под этой личиной несколько месяцев, в городе появились жена и тёща, открылось прелюбодеяние с дочкой дьякона, возник скандал, и все пошло насмарку. Пришлось уехать в другое место. Так он оказался в городе Бирске Уфимской губернии. Там он повторил свой манёвр, представившись отставным старшим врачом второго Туркестанского батальона, доктором медицины. Представив все те же собственноручно изготовленные справки, удостоверения и дипломы, он 14 марта 1879 года был принят на службу и назначен земским врачом Мензелинского уезда. Прослужив полгода в этой должности, «доктор Черемшанский» подал прошение и был переведён врачом на завод Башиловых, где и прослужил до 1883 года, а потом 3 апреля 1883 года перевёлся уездным врачом в Бирск.
* * *
На новом месте ему решительно все нравилось: климат, общество, городки, в которых он служил. Несмотря на немолодой свой возраст, в тех краях, где каждая холостая мужская единица рассматривается молодыми вдовушками и непристроенными девицами как дар небесный, «Черемшанский» считался завидным женихом. Служа в Мензелинском уезде, он, по сложившейся у него привычке, женился на своей «коллеге», акушерке земской больницы, девице Елизавете Александровне Жаровой. Венчание состоялось 9 сентября 1881 года. Совершение таинства брака, как всегда, предваряло совершение подлога. На этот раз мошенник состряпал подложное свидетельство Московской духовной консистории и «определение Святейшего Синода от 24 апреля 1881 года о расторжении второго брака доктора Черемшанского с пензенской мещанкой Анной Коробовой, за нарушением с её стороны святости тайны брака». Текст этих документов в августе 1881 года написал с черновиков, составленных Заполь-ским-Черемшанским, военный писарь Клещов, его давний помощник, имя которого мошенник всегда тщательно скрывал от следствия. Подписи же под обоими документами сварганил сам «маэстро».
* * *
Поразительно, как этому человеку удавалось безупречно играть роль врача! Одно дело выправить подложные документы и занять должность, но ведь он же лечить должен был, и, судя по всему, делал это не без успеха. В те времена земский врач был универсальным специалистом, который не только выписывал порошки, пилюли и микстуры, но и делал операции. Он должен был вполне профессионально рвать зубы, делать полостные операции и ампутации, в случаях трудных родов делать операции и по гинекологической части. Да мало ли чего должен был уметь земский врач! Допустим, Запольскому, как многим шарлатанам, удавалось ловко обманывать пациентов, но ведь работавшие с ним рядом врачи по одному тому, как он скальпель держит, проводит клиническое обследование, по терминологии при постановке диагноза, по десятку других признаков должны были понять, что этот человек не медик, что он не из их касты. Однако ни коллеги, ни жена-акушерка не почувствовали и не увидели ничего такого, что могло бы породить сомнение в профессиональной подготовке «доктора Черемшанского». Он прослужил, вполне благополучно, целых шесть лет в Уфимской губернии и здесь же «по выслуге лет» был произведён в статские советники, попав в пятый класс табели о рангах «с правом ношения генеральского мундира». Мошенник сам стал «превосходительством»!
Закончилось это благоденствие в один из дней октября 1884 года, когда «милый учёный доктор Андрей Аполлонович» вышел утром из своего уютного домика, а обратно не вернулся, оставив безутешную супругу и недоумевающих горожан. Говорят, что в тех краях появился человек, действительно служивший во втором Туркестанском линейном батальоне, и Черемшанского «порадовали», сообщив, что в уезде появился его сослуживец. Опытный мошенник, на личном опыте познавший, как важно в его профессии исчезнуть, не стал тянуть со сборами и в тот же день сбежал.
* * *
Снявшись с насиженного места, он отправился в Казань, где переоформил бумаги и «сменил оперение». В Москве он появился уже как доктор Иванов. Узнав о том, что генерал-губернатором Восточной Сибири в те дни был назначен граф Игнатьев, Запольский, изготовив фальшивое разрешение графа, заказал в Петербурге, в типографии Арнгольда, бланки приказов от имени иркутского генерал-губернатора. Уверенность в себе у него явно начала перерастать в наглость: 16 января 1885 года, в генеральском мундире, с орденом св. Анны на шее и бумагами доктора Иванова, он явился в московское окружное интендантское управление и потребовал выдать ему деньги «на прогоны». Видавшие виды интенданты, узрев предъявленный им приказ, писанный на отпечатанном бланке генерал-губернатора Восточной Сибири, о назначении доктора Иванова «верхнеленским уездным врачом», приказ командующего Иркутским военным округом о назначении Иванова на эту должность и удостоверение его личности, выданное Медицинским департаментом, возразить не посмели и безропотно выдали просителю 970 рублей.
В тот же день в то же окружное интендантское управление пришло по почте требование, подписанное графом Игнатьевым и управляющим его путевой канцелярией, действительным статским советником Лисицыным. В нем говорилось о необходимости выдать инспектору Иркутского военного округа статскому советнику Рубцу прогонные от Москвы до Иркутска и подъёмные коллежскому советнику Карсакову, «назначенному верхнеленским исправником», как отправляющимся к месту своей службы. К первому требованию был приложен расчёт на сумму 769 р. 80 коп., и 22 января 1885 года, явясь в московское губернское казначейство, назвавшись Рубцом и предъявив соответствующие документы, Запольский получил затребованную сумму. Со вторым требованием дело сорвалось: оказалось, что с 1884 года денежное довольствие для лиц штатских, отправляющихся в отдалённые места к своим должностям, было изъято из ведения казённых палат.
Поправив свои дела, Запольский выехал в город Ковель, где, опять же выдавая себя за врача, прожил несколько месяцев, но уже не служа, а занимаясь частной практикой и имея массу знакомств.
* * *
Ища применение своим недюжинным задаткам афериста, Запольский изобрёл ещё один способ добывания денег. Приехав в какой-нибудь город, он являлся на аптекарский склад или в магазин медико-хирургических инструментов и от лица земской врачебной управы делал хозяину большой, на несколько тысяч рублей, заказ товара. Каталоги лекарств, затребованные им, удостоверения и бумаги, подтверждающие его полномочия по закупке, изготовлялись, понятное дело, им самим. Ну а далее он просил упаковать наиболее ценные инструменты или лекарства и забирал их с собою, прося хозяина «подготовить все партию непременно завтра к отправке, у меня уж и вагон заказан», после чего исчезал, унося с собою ходового товара на несколько сотен рублей.
Для проведения подобной операции он прибыл в конце октября 1885 года в Вильну, город, в котором он привык всегда прибыльно работать на ниве облапошивания доверчивых к поддельным бумагам чиновников и частных лиц. На этот раз объектом его интереса стал аптекарский склад Сегаля. Свой приезд Запольский предварил письмом и телеграммой и, явившись к Сегалю в форме врача гражданского ведомства, весь увешанный орденами, отрекомендовался «бирским уездным врачом Черемшанским». Он предъявил хозяину склада свои прежние бумаги и объявил, что уполномочен Мензелинским и Бирским земствами сделать у Сегаля на складе закупку разных медицинских препаратов и медикаментов на шесть тысяч рублей. Как водится, наиболее ценные медикаменты «доктор» пожелал взять с собою. Однако Сегаль оказался осторожнее своих коллег и согласился на условия «Черемшанского» с оговоркой: сначала он запросит по телеграфу управляющего мензелинской аптекой. Не выдав ни единым мускулом лица своего разочарования, а, наоборот, похвалив предусмотрительность Сегаля, мошенник сказал, что придёт завтра в это же время, когда ответ из Мензелина уже, наверное, придёт, после чего откланялся и ушёл. Через час Запольский спешно покинул Вильну. После этой неудачи он решил «немного переменить тему».
* * *
В ноябре 1885 года Запольский объявился в Петербурге и не где-нибудь, а в главном штабе, представившись лично его начальнику, генерал-адъютанту Обручеву. Назвавшись «доктором Ивановым», он просил зачислить его на военную службу. Этот финт вполне бы мог пройти, по крайней мере, в военном ведомстве его бумаги и он сам подозрения не вызвали, но оказалось, что его прокол в Вильне имел далеко идущие последствия: Сегаль, получив из мензелинской аптеки полную аттестацию сбежавшего «доктора Черемшанского», известил о его визите полицию. Пойдя по свежему следу старого плута, сыщики узнали, что он отправился в Петербург, и известили столичную полицию. Почуяв опасность, Запольский, не став дожидаться ответа на своё прошение из главного штаба, и почёл за благо поскорее скрыться.
Он успел ещё обработать несколько аптекарских магазинов и оптических складов в Москве, но вскоре сыщики опять напали на его след. Тогда он решил отсидеться в одной из своих провинциальных берлог. Собравшись пробраться в Уфимскую губернию, в Казани он пришёл «по надёжному адресу», где хранил запасные бланки и инструменты для подделки, и угодил в засаду. Полиция хорошо изучила его маршруты. Через некоторое время мошенника этапировали в Москву. Началось длинное следствие, которое закончилось лишь летом 1886 года. В сентябре должен был состояться суд, но Запольский не дожил до него: заразившись в тюрьме тифом, он скончался в тюремной больнице. Тем и закончилась его преступная карьера, продолжавшаяся целых 35 лет.
По мнению большинства следователей, имевших с ним дело, это был, несомненно, одарённый человек, все свои способности положивший на совершение мошенничеств и других преступлений, далеко не все из которых были открыты следствием.
Похождения чиновника
Почтовый поезд из Симферополя уходил ночью, и потому мешки с корреспонденцией из почтово-телеграфной конторы обычно доставляли ближе к полуночи. В ночь с 23 на 24 июня 1890 года дежурным в конторе был молодой чиновник Иван Осипович Буйницкий, он и возглавил обоз из трех пролёток, гружённых почтой, отправляемой из города. Пролётки остановились на платформе возле почтового вагона, и Буйницкий приказал подчинённым ему почтальонам Евдошенко и Язвицкому и трём ямщикам начать погрузку в вагон. Привычное дело спорилось: почтальоны подавали пакеты и мешки ямщикам, те переносили их в вагон, где груз принимал разъездной железнодорожный почтальон, а Буйницкий оформлял документы. Все было обычным порядком до тех пор, пока дело не дошло до сдачи в вагон почтовой денежной сумки, которую железнодорожный почтальон принимать наотрез оказался, заметив, что печать и колодка на ней были нарушены.
Когда принимающий чиновник заявил, что не примет сумку в таком виде, Буйницкий потребовал, чтобы об этом была сделана пометка в книге, а сам, сказав почтальонам, чтобы они управлялись дальше без него, сел в пролётку ямщика Петрова и приказал спешно везти себя в контору, чтобы там поскорее заделать сумку и успеть вернуться с нею к отходу поезда.
* * *
Когда пролётка Петрова подкатила к почтовой конторе, чиновник велел ямщику ждать, сказав, что войдёт в контору через задние двери, от которых у него, как у дежурного, имелись ключи. После чего он, пройдя вдоль парадного фасада здания конторы, свернул за угол, в Гимназический переулок, в который выходил служебный ход, и исчез из поля зрения Петрова. Минуло довольно много времени, а Буйницкого все не было, однако ямщик, решив, что это не его ума дело, продолжал спокойно ждать, сидя на козлах. Неизвестно, сколько бы он ещё просидел, если бы его не увидел возвращавшийся из гостей чиновник симферопольской конторы Городков, которому в тот вечер сильно не везло в игре в преферанс. Воспользовавшись возможностью выместить на ком-то дурное настроение, Городков подошёл к ямщику и раздражённо спросил его:
— Какого лешего ты торчишь перед конторой ночью?
— Жду Ивана Осипыча, — отвечал чиновник — он в конторе, печати на сумку накладывает. Да вот только что-то задерживается — больше часа жду.
— Больше часа? — озадаченно спросил Городков и присвистнул от удивления. Он сам пошёл к чёрному ходу, подёргал двери и обнаружил, что они заперты. На его настойчивый стук и крики никто не отозвался.
Встревожившись не на шутку, Городков вернулся к пролётке, зажёг спичку и стал осматривать внутренность повозки. Под сиденьем он заметил что-то тёмное. Когда он вытащил это «что-то» из-под сиденья, оказалось, что это та самая денежная сумка, которую якобы «заделывал» в запертой конторе Буйницкий. Сумка была распорота по боку острым ножом, а все её содержимое исчезло. Догоревшая спичка погасла, и Городков дрожащими руками зажёг новую, при свете колеблющегося пламени он рассмотрел сумму, проставленную на бирке, привязанной к колодке с печатью: в сумке должны были находиться деньги — 75 494 рубля.
Чиновник ошарашенно глянул на извозчика, заглядывавшего ему через плечо, и хрипло произнёс:
— Гони к полицейскому управлению! Живо!
— А как же Иван Осипыч? — спросил ямщик.
— Сбежал он, твой Иван Осипыч, с деньгами казёнными скрылся! — прорычал Городков. — Гони, поспешай, брат! Может, успеют его ещё перехватить.
* * *
Через час вся полиция Симферополя и уезда была поднята на ноги, в городе пошли облавы и проверки тех мест, где мог бы укрыться беглец. К утру полицейские за-ставы перекрыли дороги, ведущие из города в Ялту и Евпаторию; во все полицейские участки, в села и города побережья были даны телеграммы с приметами Ивана Буйницкого, чиновника двадцати восьми лет от роду, служившего в почтово-телеграфной конторе Симферополя и скрывшегося с казёнными деньгами. На железнодорожных вокзалах Крыма и пароходных пристанях на побережье были выставлены усиленные посты — уйти из города незамеченным, выбраться вообще из Крыма беглому чиновнику было невозможно ни по суше, ни по морю.
Поиски по горячим следам ни к чему не привели: на квартире Буйницкого, жившего с женой и маленьким сыном в доме на Малобазарной улице, никого не оказалось. Смотритель дома, принадлежавшего почтово-телеграфной конторе, сообщил, что жена Ивана Осиповича ещё 17 июня уехала вместе с их малолетним сыном.
— Сказывала: мать с отцом повидать, в Болград поехала, в Бессарабию, — рассказывал он сыщикам.
Ещё больше запутало дело письмо, написанное рукой Буйницкого, которое через день после его таинственного исчезновения с деньгами вместе с городской почтой пришло к начальнику симферопольской почтово-телеграфной конторы. «Сделать эту подлость меня заставили жестокие люди и обстоятельства. Когда, через три дня, мой хладный труп будет найден, моя семья окажется спасённой от позора», — писал Буйницкий в этом письме.
Однако минули и три, и пять дней, и неделя прошла, а ни «хладного трупа», ни живого Буйницкого, ни денег нигде обнаружено не было, и все поняли, что то был только отвлекающий манёвр вора, пытавшегося затормозить и запутать розыски.
В то же время из Болграда, городка в Измаильском уезде, с места прежнего жительства и службы Буйницкого, куда был отправлен запрос тамошним полицейским властям, пришёл ответ, предоставивший для сыщиков много интересных сведений о беглеце, но, правду сказать, сведения эти оказались неутешительными для симферополь-ских сыщиков и почтовых чиновников.
* * *
Оказалось, что Иван Осипович Буйницкий, сын обер-офицера, служивший прежде письмоводителем у мирового судьи 4-го измаильского участка, несмотря на свою молодость, успел натворить там массу прискорбных дел, среди которых были и присвоение казённых денег, и уничтожение дел, назначенных к разбирательству, и многое другое, из-за чего было начато следствие и даже выписан ордер на арест Буйницкого. Но тот, узнав о выдаче ордера на его арест, скрылся и перебрался с женой и ребёнком в Симферополь. Здесь, чуть «подправив» свои документы, он, пользуясь тем, что на окраинах империи ощущался недостаток грамотных чиновников, легко устроился служить по почтовому ведомству.
Болградское полицейское управление дважды рассылало запросы и извещения ко всем полицейским начальникам южных губерний России, сообщая о розыске Буйницкого, но тот, служа на почте, зорко следил за всей корреспонденцией, прибывавшей в Симферополь из Болграда. Пакеты, адресованные симферопольскому полицмейстеру, в которых содержались извещения о его розыске, Иван Буйницкий уничтожал, посылая следственным властям обратно в Болград фальшивые удостоверения о получении их запроса от лица письмоводителя симферопольского полицмейстера. Тот же, ни сном ни духом не ведая об этих запросах, не принимал никаких мер к поиску Буйницкого.
После того как стало известно, кого пригрел у себя в конторе почтмейстер, он был вызван к губернатору и имел с ним пренеприятнейший разговор, но делу это помогло мало. В одном только убедились сыщики: похититель тот ещё шельмец, видимо, подготовил все заранее, и ни о каких «злых людях», якобы его заставивших совершить кражу, тут и речи быть не может. Поиски в Симферополе зашли в тупик: небольшой город был перерыт сверху донизу, и следствию пришлось признать неприятный факт — несмотря на все меры, вор, похоже, все же выскользнул из облавы, устроенной на него. Но вряд ли он мог сделать это в одиночку, ему явно кто-то помогал. Вот этого «кого-то» и решили сыщики поискать, рассчитывая на то, что, обнаружив его, найдут и Ивана Буйницкого.
* * *
Когда стало ясно, что у преступника скорее всего были сообщники, помогавшие ему покинуть город, сыщики отправили в Болград новый запрос о круге знакомств и родственниках Буйницкого и его жены, пытаясь определить, кто бы из них мог ему помогать. Из Бессарабии ответили, что многочисленная родня жены Ивана, Ирины Буйницкой, живёт в Болграде — это в основном болгары-крестьяне, люди едва грамотные и вряд ли способные на участие в хитроумных комбинациях. Но, как сообщалось далее, в Одессе живёт брат Буйницкого, содержатель ресторана, однако ничего конкретного о Дмитрии Буйницком болградская полиция сообщить не могла.
Крымские сыщики, предположив, что скорее всего сбежавший с деньгами Буйницкий может запросить помощи именно у брата, направили своего сотрудника в Одессу. Тот, при помощи одесских коллег, повёл розыски, расспрашивая людей, живших поблизости от ресторана Дмитрия Буйницкого, городовых и дворников Михайловской улицы, на которой находилось заведение Дмитрия: не видели ли они после 24 июня человека, по приметам походившего на Ивана Буйницкого? Оказалось, видели, да не одного, а с неким Иваном Перовским, прежде служившим в Одессе в бакалейной лавке. Этот Перовский приходился Буйницкому шурином, был братом его жены.
Ввиду такой «семейственности» решено было провести в ресторане и на квартире Дмитрия Буйницкого внезапный обыск. Заведение и квартира располагались в одном доме, на углу Михайловской и Дальницкой улиц в Одессе, почти в сотне метров от Михайловского полицейского участка. Полицейские, не раз бывавшие в ресторане у Дмитрия Осиповича, предложили ему «рассказать все по-хорошему», но тот обиженно заявил, что он «человек честный и рассказывать ему нечего, потому что он ничего не скрывает». Тогда сыщики начали обыск, длившийся довольно долго.
На квартире ресторатора ничего не нашли, а вот в ресторане, в буфете, за бутылками с напитками обнаружили свёрток, в котором оказались пятисотрублевые билеты, всего на сумму 5500 рублей. Дмитрию сказали, что номера билетов, похищенных из сумки, были переписаны и установить, что деньги те самые, краденые, не составит особого труда. Деваться было некуда, Дмитрий Буйницкий признался, что деньги оставили ему брат и шурин, когда останавливались у него по дороге в Кишинёв. Оставили ему шесть тысяч, но пять сотен он успел потратить на обновление своего гардероба и ресторанной мебели. Деньги брат ему отдал для размена крупных и «засвеченных» купюр.
* * *
Дмитрия Буйницкого взяли под арест, и на допросе он рассказал, что обворовать почтовую контору его брат задумал давно. Понимая, что рано или поздно его отыщут, будут судить и, скорее всего, сошлют, он хотел выправить документы на чужое имя и уехать за границу, начать там новую жизнь. Но для того, чтобы надёжно скрыться и «на новую жизнь», нужны были деньги, хотя бы на первое время: обитать в трущобах или работать руками Иван Буницкий не желал. Присвоение казённых денег во время их пересылки показалось ему самой лёгкой возможностью раздобыть крупную сумму. Но для того, чтобы провернуть такую комбинацию, требовался надёжный сообщник, свой человек, которому можно было бы полностью доверять. Перебрав всех знакомых, он остановился на своём шурине Перовском, служившем в Одессе приказчиком в бакалейной лавке. Тот, по словам Дмитрия, долго не соглашался, но потом, поддавшись уговорам, оставил своё место и поехал в Крым.
В Симферополе Перовский снял за девять рублей в месяц квартиру на Госпитальной улице, почти на самой окраине города. О себе Перовский сообщил хозяину, что он прибыл в город по делам коммерции и что будет время от времени выезжать из города. Прожив так две недели, он получил от Буйницкого сигнал — быть наготове. Это означало, что ожидается отправка крупной суммы денег.
В ночь с 23 на 24 июня события разворачивались следующим образом: Буйницкий сам нарушил печать на сумке, чтобы спровоцировать отказ разъездного чиновника принять сумму. Словно бы «по воле случая», он, прихватив деньги, отправился в город один с неопытным ямщиком. По дороге Буйницкий распорол сумку, вытащил из неё деньги и, приехав к конторе, велел ямщику ждать своего возвращения, а сам направился якобы к служебному входу в контору. Но едва завернув за угол, в Гимназический переулок, Буйницкий тут же нанял другого извозчика и велел везти себя на Госпитальную улицу. Ямщик Петров все ещё ждал его у конторы, а Буйницкий тем временем уже добрался до окраины Симферополя, где, отпустив извозчика, подождал, покуда тот развернётся и уедет, а затем, крадучись, направился к саду дома Крылова, в котором его сообщник нанял квартиру. Перовский уже поджидал его возле ограды, помог перебраться в сад и тайком провёл к себе. Убежище для беглого чиновника Перовский оборудовал на чердаке дома, и когда начались розыски беглеца, тот уже был надёжно спрятан.
На чердаке Буйницкий просидел две недели, а Перовский, соблюдая все меры предосторожности, носил ему еду. Когда пыл сыщиков немного поугас и розыски велись уже не столь тщательно, Буйницкий сбрил бороду, напялил на голову парик и, тайком выбравшись из своего убежища, вместе с шурином отправился на вокзал. Билеты на ночной поезд Перовский купил накануне, и они прибыли к самому его отходу, когда сигнальный колокол на перроне ударил второй раз. Благодаря удачному гриму Буйницкого никто не узнал, хотя возле почтового вагона суетились, сдавая почту, его недавние коллеги — служащие почтово-телеграфной конторы Симферополя, привёзшие корреспонденцию к поезду, точно так же, как и он, всего за две недели до того.
Доехав на поезде до Харькова, сообщники сделали там пересадку и отправились в Киев, а оттуда в Одессу. Приехав к брату, Буйницкий много кутил, тратил деньги на шикарную одежду, но, по его словам, твёрдо собирался уйти за кордон, потому что «теперь в России меня искать будут ещё долго, — даже в столицах писали обо мне». Единственно, чего они опасались с Перовским, так это, что при нелегальном переходе границы проводники могут их убить и ограбить. Сами выросшие в местах, примыкавших к румынской границе, они прекрасно знали о существовании такого промысла среди местных крестьян. Выбрав «пассажира» побогаче, особенно если он бежит от закона, уводили его к границе, и там, где-нибудь в глухом месте на сопредельной территории, приканчивали, обирая до нитки. В таком случае закордонным властям дела не было до чужестранного бродяги, да и в России его самого никто не жалел и убийц беглеца особенно не разыскивали — ведь убийство произошло на территории иностранного государства. Осторожничая, Буйницкий и Перовский на этот случай хотели приобрести оружие и подыскать проводника через границу понадёжнее, из знакомых людей. Для осуществления своих планов они выехали в Бессарабию, направляясь в Кишинёв, а куда они последовали далее — Дмитрий Буйницкий уже не знал.
Получив эти сведения, симферопольские сыщики обыскали дом Крылова на Госпитальной и нашли там следы пребывания Буйницкого. На чердаке они обнаружили объедки, несколько пустых бутылок из-под водки и пива, разорванный пост-пакет и засунутый под стропила свёрток, в котором оказались 3 тысячи рублей. Эти билеты были ветхие, изъятые из оборота, проштемпелёванные казначейством. Их отсылали для уничтожения, и для Буйницкого они были просто мусором.
Обнаружение тайного убежища Буйницкого и выявление личности его сообщника не приблизило следствие к отысканию самого похитителя и его шурина. На всякий случай дали знать на границу о готовящемся переходе, да продолжали проверять места, где бы беглец мог оказаться. За домом жены Буйницкого в Болграде было установлено самое тщательное тайное наблюдение.
* * *
Со дня бегства Ивана Буйницкого минуло более месяца, когда в ночь на 3 августа 1890 года в Болграде во время обхода патруля, состоявшего из городового Синегирова и нескольких местных обывателей, ходивших в дозор по очереди, ими был замечен неизвестный мужчина, который с опаской шёл по улице, стараясь держаться в тени заборов. Синегирову показалась подозрительной эта фигура: было уже около двух часов ночи и держал себя этот человек весьма странно, «не как добрый человек, открыто идущий по своей надобности», как написал впоследствии в своём рапорте городовой Синегуров. Он окликнул неизвестного:
— Эй! Ты кто таков? Чего по ночам шляешься?
И услыхал в ответ дерзкие слова:
— А тебе какого… надо? Чего присучился?! Куда надо, туда и иду!
Вскипев благородным негодованием, Синегуров за— кричал:
— Я т-т-те покажу, какого мне надо! — И, обращаясь к обывателям, входившим в состав его патруля, приказал: — А ну, хватай его, ребята!
«Ребята» не замедлили исполнить приказание городового.
— Ведите его в участок, там ему живо растолкуют что к чему! — многообещающе произнёс Снегуров.
Задержанный, заметно сбавив тон, стал просить отпу-стить его:
— Ну что вы, право, братцы! Я думал, шутник какой окликнул, вот и нагрубил. Отпустили бы вы меня. И вы, ваше благородие, ей-богу, отпустили бы?! А я бы вам водочки поставил или вот хотите — рубль дам?
Но ни обещанное угощение, ни деньги не соблазнили городового — дерзкого незнакомца поволокли в участок. Всю дорогу он жалобно канючил, прося его отпустить, но, когда до дверей участка оставалось не более десятка шагов, вдруг резко оттолкнул державших его под руки «обходных», и те, не ждавшие подобного фортеля, повалились в разные стороны, как кегли, а вырвавшийся из их рук незнакомец бросился бежать. На секунду Синегуров и «обходные» опешили, но, скоро придя в себя, бросились за ним в погоню. Среди патрульных было несколько молодых парней, бежавших весьма быстро, они-то скоро стали настигать беглеца. Но он, повернувшись к своим преследователям, крикнул, поднимая руку:
— Оставьте меня, не доводите до греха! У меня револьвер, я стрелять буду!
Ему не поверили, думая, что он пугает, но в этот момент действительно загрохотали выстрелы, и пули засвистели совсем рядом с головами дозорных и подоспевшего городового. Сделав несколько выстрелов, неизвестный бросился бежать дальше, но Синегуров и его люди не прекратили преследование, зная, что на звуки выстрелов и их свистки тревоги непременно прибежит подмога. Так и вышло! Оторвавшийся от погони незнакомец угодил прямо в объятия сидевших в засаде у дома жены Буйницкого полицейских, которые, заслышав стрельбу и шум погони, вышли на перехват беглецу. Его повалили на землю, обезоружили, скрутили ему руки и под усиленным конвоем доставили в участок. Когда дежурный офицер рассмотрел его, то удивлённо и обрадованно воскликнул:
— Ба! Да ведь это сам господин Буйницкий к нам припожаловал! Ну, здравствуй, здравствуй, голубчик, а то мы тебя совсем уж заждались, а ты все не едешь и не едешь! Поздравляю, господа! — обратился он ко всем участникам погони и ареста преступника и пообещал: — Не иначе как вам всем быть с наградой! Важную птицу поймали.
Буйницкий, а это был он, хмуро попросил «не тыкать» ему, но то, что он «тот самый Буйницкий», отрицать не стал — это было бы глупо, его, бывшего чиновника мирового судьи, все полицейские знали как облупленного.
На первом допросе он рассказал немногое: в городе они задержались с Перовским из-за того, что границу усиленно охраняли, и уйти за кордон, в Болгарию или Румынию, не было никакой возможности. Прятались они у родственников жены, к которой Буйницкий время от времени тайком пробирался на свидания. В ночь ареста он тоже шёл к Ирине, да вот наткнулся на патруль.
В домах жены и родственников Буйницкого в ту же ночь были произведены аресты и обыски, во время которых большая часть похищенных денег была обнаружена. К обвинениям Буйницкого в служебном лихоимстве и краже прибавилось ещё и оказание вооружённого сопротивления властям при аресте. Теперь беглый чиновник считался особо опасным преступником, и до окончания следствия по его делу и суда Буйницкого поместили в кишеневский тюремный замок.
* * *
В первый раз Буйницкого судили отдельно от всех, по обвинению в вооружённом сопротивлении властям. Процесс этот состоялся в кишинёвском окружном суде 13 октября 1890 года. После показаний участников погони и ареста, а также предъявления суду револьвера, из которого Буйницкий стрелял в полицейского и его помощников, слово дали самому обвиняемому. Буйницкий факт стрельбы в сторону полицейских признал, но утверждал, что не имел намерения убить кого-либо или ранить, а стрелял нарочно поверх голов, чтобы попугать преследователей. Суд, признав неоспоримость факта стрельбы в сторону представителей закона, жизни которых, с умыслом или без такового, подвергались опасности, приговорил Ивана Осиповича Буйницкого к 4 годам каторги, постановив при этом, что исполнение приговора откладывается впредь до решения дела о похищении подсудимым пост-пакета с казёнными деньгами.
* * *
Второй раз Буйницкого судили летом 1891 года, в одесском окружном суде. Процесс начался 4 июля, и на этот раз Буйницкий оказался на скамье подсудимых не один, а в большой компании: рядом с ним сидела его жена Ирина с ребёнком на руках, брат Дмитрий — одесский ресторатор, Иван Перовский и ещё пятеро родственников, укрывавших его и Перовского в то время, когда их разыскивала полиция. В краже обвинялся один Буйницкий, а остальные — лишь в пособничестве и укрывательстве.
На суде выяснилось, что похищенные деньги были найдены почти все, за исключением тех четырех тысяч, что успели прокутить и растратить Буйницкий и его сообщник.
Буйницкий держался очень спокойно, заявив, что виноват во всем только он, что остальных он либо вовлёк в это дело, либо они ему помогали по-родственному, не зная, что совершают преступление. Дрогнул он лишь один раз, когда заплакал его сынишка, которого Ирина держала на руках. В этот момент Иван закрыл уши руками и опустил голову. Вообще же вид красавицы с младенцем на руках, сидевшей на скамье подсудимых, произвёл довольно сильное впечатление на присяжных и публику в зале. После вынесения решения присяжными суд приговорил Ивана Буйницкого к шести годам каторжных работ. Сюда вошли и те четыре года каторги, что подсудимый получил прежде за оказание сопротивления при аресте. Перов-скому дали год тюрьмы; брату Дмитрию — восемь месяцев; трём родственникам, укрывавшим его, — по шесть месяцев, двух других родственников и жену Ирину оправдали как непричастных к делу.
* * *
Но этим приговором эпопея бывшего чиновника не закончилась. Через месяц после вынесения приговора из кишинёвской тюрьмы, где Буйницкий ожидал отправки пароходом на Сахалинскую каторгу, была предпринята дерз-кая попытка побега.
Однажды вечером, когда после вечерней проверки арестантов развели по камерам, а заступавшие в ночную смену надзиратели отправились по домам, чтобы поужинать, начальник тюрьмы вышел прогуляться во внешний дворик. Надо сказать, что тюремный замок в Кишинёве имел два двора: внутренний, образованный каре тюремных корпусов, в него вели ворота с подворотней, проходящей под всем корпусом, и внешний, образованный пространством между корпусами и внешней стеной тюрьмы. В этом внешнем дворе помещались больница, пекарня и другие службы. Вдоль тюремной стены, с внутренней стороны, был разбит палисадник, по которому и прогуливался начальник в тот вечер. По прошествии часа в тюрьму стали возвращаться надзиратели, ходившие на ужин, они стучали в калитку ворот, но им никто не отвечал и двери не открывал. Тогда они стали стучать сильнее. Привлечённый их стуком и криками к внешним воротам подошёл начальник тюрьмы, обнаружив дежурившего в тот день на этом посту надзирателя Бондаренко в бессознательном состоянии: тот лежал на земле и бормотал что-то несвязное. Впустив подчинённых, начальник тюрьмы приказал поднять тревогу и срочно обойти всю тюрьму, проверив наличие арестантов. Тюремный врач, прибыв по вызову начальника, осмотрел Бондаренко и констатировал сильное отравление. Тут же учинили следствие, выясняя, кто и что ел в тот день. Оказалось, что троих надзирателей — Бондаренко, Ломоносова и Лавренёва — арестанты, работавшие в пекарне, угостили пирожками. Ломоносову пирожок показался горьким, и он его, не доев, бросил, Лавренёв оставил «на потом», а Бондаренко съел. Врач забрал пирожок у Лавренёва для экспертизы, а начальник приказал позвать к себе арестантов-пекарей. Это были Бердан и Гонцов, оба местные воры, получившие относительно небольшие сроки. Они целыми днями возились на кухне и в пекарне, а на ночь их запирали в камеру, расположенную в корпусе, имевшем выход во внутренний двор. Травить охранников им было незачем. Даже если бы стоявшие на внешних постах трое надзирателей были выведены из строя, то как бы Бердан и Гонцов об этом узнали, а главное, что бы это им дало? Ведь ворота, ведшие во внутренний двор, и решётки, перегораживающие коридоры, все равно остались бы запертыми. Значит, они либо рассчитывали на чью-то помощь извне, либо действовали по плану, составленному не ими. Так решил начальник тюрьмы.
Свой контингент он знал очень хорошо — придумать столь хитроумный план обоим пекарям было «не по уму», да и бежать они не смогли бы: резона им не было — через полгода они должны были выйти на волю, а находиться при кухне и пекарне — не самая тяжёлая доля для привыкших к частым отсидкам воров.
* * *
Всех арестантов в тюрьме было семнадцать человек, из них только у Буйницкого и Мельштейна были большие сроки каторги: Буйницкому «припаяли» шесть лет, а Мельштейн за ограбление и убийство был приговорён к пятнадцати годам каторжных работ. Оба преступника на воле отличались редкостным хитроумием, и им-то как раз под силу было придумать «сюжет побега». К тому же буквально накануне они «заболели» и были переведены в больницу, расположенную в первом тюремном дворе. На окнах этого заведения не было даже решёток, и, если вывести из строя сторожей у ворот, у каторжан появился шанс сбежать.
Будучи допрошенными, Бердан и Гонцов всю вину взяли на себя, признавшись, что хотели бежать, для чего подмешали в пирожки «дурман» и угостили ими сторожей. То, что именно они давали пирожки Бондаренко и остальным надзирателям, было очевидно, но ни один из пекарей не смог объяснить, что это был за «дурман» и где они его взяли. Не смогли они также ответить на вопрос, как собирались выбраться из тюремного корпуса, поэтому начальник тюрьмы им не поверил. Узнав о том, что днём ранее к Буйницкому на свидание приходила жена, которая могла передать «дурман», он укрепился в своих подозрениях ещё больше и, дабы не усложнять дело и не искушать судьбу, распорядился своею властью усилить режим для Буйницкого и Мельштейна, а Бердана и Гонцова отправить в Одессу для следствия и суда над ними.
* * *
Буйницкого и Мельштейна заковали в кандалы и заперли в одиночные камеры. Иван Осипович очень возмущался, кричал о произволе, но толстые стены «секретной камеры» слыхивали такое не раз, а ничьего слуха его крики не достигли. Надзиратели в кишинёвском тюремном замке после попытки отравления их товарищей были очень строги и даже жестоки к нему. Очень скоро он кричать перестал и, уяснив положение вещей, смирился. Теперь, опасаясь мести со стороны надзирателей, он даже с нетерпением ждал, когда в одесском порту начнётся погрузка на борт парохода очередной партии каторжан. Буйницкий боялся, что не доживёт до того момента, когда начнётся длительное путешествие в трюме парохода, идущего через несколько морей и Индийский океан, на другую сторону земного шара, к острову Сахалин, где ему надлежало отбывать срок за совершённые им преступления. Дожил ли он до отправки на каторжный остров и что с ним стало потом, неизвестно. Он затерялся среди каторжан, сгинув в массе бритоголовой братвы.
Криминальная филателия
Осенью 1901 года в Киеве творились странные дела: дотоле безупречно работавшая городская почта стала вдруг давать какие-то непонятные сбои. Центральная почтовая контора на Крещатике была завалена жалобами частных лиц и учреждений, в которых высказывались претензии относительно пропавших писем. Совершенно непонятным образом отправляемые из Киева письма исчезали, не доходя до адресатов. Наибольший ущерб понёс некий крупный коммерсант, который, в преддверии ярмарки, отправил двадцать деловых писем в разные города, и ни одно из них не дошло.
Во всех почтовых подразделениях были проведены самые тщательные проверки, но никаких существенных прорех в службе не обнаружили: вся извлекаемая из поч-товых ящиков корреспонденция аккуратно обрабатывалась и пересылалась как обычно. А жалобы все поступали и поступали.
Кое-кто сгоряча стал уже предполагать во всем этом мистическую подоплёку, а губернское начальство недовольно хмурило брови. Назревал крупный скандал с очень неприятными последствиями.
* * *
Начало разгадке этих странных обстоятельств положил телефонный звонок, раздавшийся в центральной почтовой конторе Киева около восьми часов вечера 17 октября того же 1901 года. Неизвестная дама сообщила дежурившему в тот вечер чиновнику, что почтовый ящик на Большой Владимирской улице переполнен так, что совершенно невозможно протиснуть в его щель письмо. Дежурный чиновник доложил о звонке, и заведующий конторой А. Яворский распорядился послать по указанному дамой адресу почтальона для внеочередной выемки из ящика переполненного мешка с письмами и замены его порожним.
Прибывший на место почтальон вскрыл ящик и, заглянув в него, некоторое время оставался в полном недоумении. Он увидел там какой-то необычный длинный, узкий мешочек из кальки, вставленный в отверстие для опускания писем. Верхние края мешочка были выкрашены в чёрный цвет, такой же, как и сам ящик, и аккуратно приклеены к краям отверстия. Таким образом, все письма, опускаемые в ящик, попадали именно в этот, а не в имевшийся там обычный казённый мешок. Смекнув, что обнаружил мошенничество, почтальон запер ящик, оставив в нем нетронутой всю конструкцию, и поспешил обратно в контору доложить начальству о находке.
Господин Яворский, услыхав про самодельный пакет из кальки, вставленный в почтовый ящик, сопоставил его с массой жалоб о пропажах писем и решил, что оба эти явления между собой как-то связаны. Он немедленно распорядился осмотреть все почтовые ящики в Киеве. Из служащих, дежуривших в тот вечер, были сформированы четыре команды, которые, невзирая на позднее время, разошлись по разным районам города с экстренной проверкой. Очень скоро в контору стали поступать донесения о том, что подобные же мешочки были обнаружены ещё в нескольких ящиках на центральных улицах города.
Яворский связался с полицейским управлением и изложил дежурному суть дела. Пропажи писем в Киеве к тому времени были уже притчей во языцех, и полиции долго объяснять ситуацию не потребовалось. Стражи порядка решили устроить засады у тех ящиков, в которых была обнаружена «закладка».
Засада возле ящика на Прорезной улице едва успела расположиться в удобном для наблюдения месте, как к ящику не спеша подошли два молодых человека. Один из молодцев, облачённый в форменную шинель и фуражку, делавшие его в темноте похожим на почтового служащего, стал через отверстие для писем извлекать тот самый мешочек из кальки, наполненный письмами, а его спутник стоял поодаль, посматривая по сторонам. Когда человек, орудовавший у ящика, наполовину вытащил мешочек с письмами, полицейские выскочили из укрытия, бросились на него и схватили за руки. Сообщник злоумышленника пустился наутёк и сумел убежать от преследовавших его чинов полиции.
* * *
Арестованного доставили в ближайший участок и там допросили по всей форме. Он назвался Евгением Поповым, восемнадцати лет от роду, сыном обер-офицера. При обыске в карманах Попова были обнаружены письма, не ему адресованные, и несколько ценных марок. Из дальнейшего допроса выяснилось, что эти письма он вытащил уже известным полиции способом из почтового ящика на Златовратской улице (посланная туда засада не успела дойти).
По поводу своих странных поступков он ничего вразумительного объяснить не мог, и было решено устроить обыск у него на квартире. Там агенты прежде всего опросили хозяйку, сдавшую комнату Попову, о её постояльце. Она рассказала, что Попов снимал комнату не один, а с чертёжником Панасюком, которого в тот момент дома не было.
При обыске в жилище Попова и Панасюка были обнаружены неопровержимые улики, подтверждающие их причастность к систематическому хищению писем из почтовых ящиков. Полицейские нашли приготовленные мешочки из кальки, украденные письма и, наконец, как выяснилось, предмет их охоты — более шестисот различных почтовых марок, снятых с конвертов. В самый разгар обыска вернулся второй квартиросъёмщик — чертёжник Панасюк, которого тут же арестовали.
* * *
Припёртые неопровержимыми уликами, Попов и Панасюк признались, что похищали письма из-за марок, которые потом продавали филателистам. Трюк с мешочками придумал Панасюк. На долю же Попова выпало, облачившись в отцовскую фуражку и шинель, вытаскивать вставные мешочки и заправлять ящики новыми. И Панасюк обычно стоял на страже.
Позже было установлено, что криминальный дуэт, действуя с августа 1901 года, успел похитить более десяти тысяч писем. Оба молодца предстали перед судом за нанесение ущерба казённому учреждению, кражи у частных лиц и прочие сопутствующие нарушения статей Граждан-ского и Уголовного кодексов.
Но этот киевский случай, при всей его неординарности, все же уступает событиям, случившимся несколько позже, когда герои киевской истории, наверное, уже успели отбыть наказание и вернуться домой. В соответствии с духом века кустарные кражи марок, практиковавшиеся в разных местах, оказались вытеснены из жизни поистине гигантской филателистической афёрой, раскрытой в 1908 году чинами московской сыскной полиции.
* * *
Все началось с того, что чиновники Московского поч-тамта с удивлением констатировали значительное падение спроса на почтовые марки, в то время как объём пересылае-мой корреспонденции отнюдь не уменьшился. Предположив за всеми этими явлениями скрытую афёру, московский почт-директор обратился в сыскную полицию с просьбой провести негласное расследование с целью выяснить: откуда москвичи берут марки в таких значительных количествах, ежели у почтовиков они их покупают совсем мало?
В тот год на пост начальника московской сыскной полиции заступил Аркадий Францевич Кошко, которому ещё только предстояло прославить своё имя на поприще криминального сыска. Он лично возглавил это расследование, поскольку цифры ущерба для казны, сообщённые ему почт-директором, были весьма значительны.
Сыщики начали с того, что попросили почтовых работников предоставить им для экспертизы сотню марок с конвертов писем, проходящих через почтамт. Вскоре полицейские эксперты выдали ошеломляющее заключение: более половины проверенных марок оказались поддельными, а вернее, реставрированными. Реставрация бывших в употреблении марок была сделана настолько искусно, что они выглядели как новенькие. Сопоставив качество и масштаб подделок, сыщики пришли к выводу: действует какая-то мошенническая «фирма».
* * *
Для начала было решено искать мошенников там, где они могут продавать свою «продукцию». Судя по всему, это должны были быть мелочные лавочки — заведения вроде нынешних газетных киосков, где кроме почты обычно продавались марки. Задействовав почти весь личный состав агентов сыскного отделения, Кошко распорядился установить наблюдение за мелочными лавочками, располагавшимися в местах, наиболее «перспективных» для поиска. За лавочками наблюдали несколько дней, но не заметили ничего подозрительного. Тогда решили произвести, как сказали бы сейчас, «контрольную закупку». В лавочке на Страстной площади сыщик купил дюжину марок и отдал их эксперту. Результат экспертизы обнадёживал: все марки оказались «сделанными». Тотчас же в лавке был произведён обыск, и в результате изъяты 400 марок, сработанных из ранее уже бывших в употреблении знаков почтовой оплаты.
Хозяина и приказчика лавки арестовали. На первом же допросе они повинились, рассказав, что получали марки «на реализацию» от своего знакомого, торговца сельдью с Маросейки.
За ушлым селедочником отправили наряд полиции. Доставленный в тот же полицейский участок, где чистосердечно каялись его реализаторы, торговец, ознакомившись с их показаниями, заявил после некоторого замешательства, что и он тут человек маленький, а подбил его, оказывается, на это дело и давал марки для продажи приказчик одной из лавок. Он сдавал марки селедочнику по шести рублей за сотню. Тот, в свою очередь, отдавал лавочнику по десяти рублей за сотню же, а лавочник реализовывал их по номиналу: от пятачка до рубля за штуку.
* * *
Отправив троицу «предпринимателей» в тюремный замок, Кошко распорядился установить скрытое наблюдение за тем приказчиком, на которого указал торговец сельдью. И вскоре сыщики сообщили, что тот в свободное от занятий в своей лавке время чуть ли не каждый день посещал мелочные лавочки, торгующие марками, так, словно был хозяином, обходившим свои торговые заведения.
Вечером в воскресенье приказчик отправился в дачное местечко Ново-Кучино, где посетил дом некоего господина. Примерно через час объект наблюдения вышел из дома и направился к станции, в руках у него был какой-то свёрток, хотя вошёл он в дачу с пустыми руками. Выяснилось, что дача принадлежала вышедшему на пенсию по выслуге лет экспедитору московского почтамта Кудрявцеву, страстному филателисту. За долгую жизнь он собрал огромную коллекцию русских и зарубежных марок. Оставив службу, он целиком посвятил себя любимому занятию: торговал марками, менял их, покупал, а также давал платные консультации по вопросам филателии.
* * *
Первым решили арестовать приказчика, ушедшего от почтового чиновника-филателиста явно не с пустыми руками. Его взяли в лавке вечером, когда он уже собирался идти домой. При обыске в его квартире был найден свёрток, в котором оказалось более тысячи почтовых марок разного достоинства, уже приготовленных к продаже.
На очной ставке селедочник указал на приказчика как на человека, сбывавшего ему фальшивые марки оптом. Ввиду обнаруженных улик отпираться было бессмысленно, и приказчик заговорил.
Оказалось, что в прежнее время он служил «при доме» у почтового чиновника Кудрявцева. Чиновник, будучи человеком одиноким, привязался к нему. Выйдя в отставку, Кудрявцев поселился в Ново-Кучине, а его бывший слуга поступил в приказчики. Они не виделись некоторое время, затем Кудрявцев разыскал его и предложил поучаствовать в прибыльном деле, продавая марки. Зная, что прежде его хозяин, торгуя марками, имел неплохие обороты, приказчик согласился. В его задачу входила продажа больших партий «мелким оптовикам», а также наблюдение за тем, чтобы все заведения были постоянно «при товаре», и поиск новых точек сбыта. По словам арестованного, дело быстро стало набирать обороты и к моменту ареста достигло таких размеров, что он один едва успевал управляться.
* * *
В Ново-Кучино отправился сам Кошко, возглавивший отряд агентов, прибывших, чтобы арестовать пенсионера-филателиста. В его доме была обнаружена действительно богатейшая коллекция марок и вместе с тем несколько пакетов, приготовленных для отправки за границу. В них были упакованы ординарные, бывшие в употреблении марки, по тысяче штук в каждом пакете. Хозяин дачи дал по этому поводу следующие пояснения: все началось с того, что он поместил в нескольких газетах объявление о продаже марок и обмене ценных экземпляров. В том же объявлении он предлагал свои услуги в качестве консультанта и эксперта-филателиста. Именно за консультацией обратился к нему прибывший из Варшавы бойкий господин Л.Д., который якобы промышлял торговлей марками у себя в Варшаве, и он действительно показал себя знатоком марок. Ведя профессиональную беседу, Л.Д., как бы невзначай, поинтересовался: «Не мае ли пане цих марук для запроданья?» Узнав, что имеются, он спросил: а нет ли у «пана знатока» бывших в употреблении ординарных марок? У Кудрявцева за время его службы на почте, способствующей пополнению коллекции, требуемых марок оказалось огромное количество. Тогда варшавский гость поведал старику, что он в два своих приезда в Россию — в Москву и Петербург — приобрёл полтора миллиона таких марок и готов прямо сейчас купить большую партию этого «филателистического мусора». Сказано — сделано. Варшавянин приобрёл у коллекционера 30 тысяч марок, заплатив наличными. С тем они и расстались.
А через некоторое время Л.Д. вновь появился в доме отставного почтовика. На этот раз не с пустыми руками: он продемонстрировал «образцик товара» — марки, прошедшие реставрацию в подпольной мастерской, притаившейся в недрах еврейского квартала Варшавы. Он предложил гешефт: Кудрявцев будет поставлять «сырьё», а взамен по самой бросовой цене получать подобный «товар» на реализацию. И бес жадности лягнул своим копытом в ребро пенсионеру Кудрявцеву, плюнувшему на свою безупречную репутацию и пустившемуся на старости лет в эту авантюру.
* * *
При обыске личных вещей старика сыщики обнаружили в кармане его пиджака квитанцию варшавского банкирского дома Мендеца, по которой следовало получить в Московском учётном банке предназначавшуюся ему ценную посылку, высланную из Варшавы и оплаченную наложенным платежом. Прямо из дома в Ново-Кучине Кошко отправился в указанный в квитанции банк и потребовал предъявить ему подозрительную посылку. При вскрытии коробки в её содержимом были обнаружены искусно спрятанные марки. Когда уже препровождённому в управление сыскной полиции коллекционеру предъявили посылку, тот «вспомнил», что существовал ещё один канал пересылки: через Московское отделение Южнорусского банка.
* * *
События, произошедшие за время расследования «филателистической панамы», как позже назвали этот случай газеты, потребовали срочного выезда бригады москов-ских сыщиков в Варшаву. Им предстояло раскрыть подпольную фабрику и всю организацию господина Л.Д. В противном случае следовало ожидать «возрождения промысла» в каком угодно месте огромной страны, а тогда весь их успех не стоил и ломаного гроша.
Для начала решили отыскать самого гешефтмахера-искусителя. Задачу облегчали показания о «варшавянине» почтового чиновника, имеющиеся у московских сыщиков. Варшавские коллеги помогли отыскать лавочку, принадлежавшую Л.Д. За мошенником было установлено негласное наблюдение. Не подозревая о том, что его «москов-ская сеть» провалилась, Л.Д. чувствовал себя в Варшаве в полной безопасности, правил конспирации не соблюдал, и сыщикам только оставалось брать на заметку адреса и фамилии людей, которых он посещал. «Хвост», пущенный за одним из тех, с кем общался Л.Д., привёл полицейских к лавке старьёвщика в небогатом еврейском квартале. Сыщик, наблюдавший за лавкой, обратил внимание на то, что утром поодиночке сюда заходят несколько человек и находятся там до самого вечера, а что они так долго делают в магазинчике, который едва их всех может вместить, было совершенно непонятно! В один из дней вслед за подозрительными посетителями в лавку прибыл и наряд жандармов, которые при обыске нашли в задней комнате люк, ведший в подвал. Спустившись вниз, жандармы обнаружили прекрасно оборудованную мастерскую, в которой более двух десятков ретушёров, рисовальщиков, специалистов-химиков «трудились» не покладая рук, вытравляя штемпеля, подчищая марки и подкрашивая их, доводя тем самым до «товарной кондиции».
Одновременно ещё по 17 адресам были произведены обыски и аресты, в результате «фирма» прекратила существование.
* * *
Всего мошенники произвели и частично реализовали более шести миллионов марок разного достоинства: от пятикопеечных до тех, что были ценою в рубль, самых ходовых. Подпольное предприятие при дальнейшем наращивании своих «оборотов» и «расширении производства» могло бы наводнить фальшивыми марками всю Россию. Дотошность чиновников Московского почтамта и профессионализм сыщиков помогли успешно завершить сложное расследование. Дело о фальшивых марках было одним из первых крупных успехов «московского периода» в карьере известного сыщика Аркадия Францевича Кошко.
Молчание грешников
Утром 10 октября 1911 года на приём к начальнику сыскного отделения московской полиции Аркадию Францевичу Кошко записался некто С.К. Добычин, владелец собственного кирпичного завода, как было указано в его визитной карточке, поданной секретарю. Войдя в кабинет, этот осанистый, весьма респектабельный на вид господин проявлял все признаки волнения, и Кошко даже поначалу показалось, что он хочет признаться в каком-нибудь преступлении. Такое уже бывало в его практике, когда люди, сгоряча натворив дел, придя в себя, прибегали в его кабинет каяться.
Но, как оказалось, владелец кирпичного завода пришёл вовсе не за этим. Кошко, давая возможность посетителю успокоиться, усадил того не в кресло, стоявшее перед его письменным столом, а на диван у стены, и сам присел рядом, создавая таким образом особую, не казённую обстановку для беседы.
— Что вас привело ко мне, господин Добычин? — доброжелательно поинтересовался сыщик, и, видимо, то, как был задан этот вопрос, помогло взволнованному посетителю собраться с мыслями и приступить к изложению своего дела.
— Со мною десять дней назад приключилась, изволите ли видеть, одна престранная история, — начал Добычин свой рассказ. — Завод мой находится в уезде, контора при нем, поэтому в Москве специального помещения под контору я не снимаю. Принимать на квартире деловых посетителей не всегда удобно, поэтому частенько я свои дела веду в одном из кабинетов трактира Степанова у Серпуховских ворот. Там есть телефон, заведение приличное — словом, все удобства: недорого, уютно и приятно. Так вот, значит, десять дней назад, 30 сентября, половой доложил, что меня желает видеть некий господин…
* * *
В кабинет трактира, занимаемый Добычиным, вошёл человек с азиатскими чертами лица, одетый в добротное осеннее пальто. Он держал в левой руке одновременно и трость, и шляпу-котелок, правая же рука его была опущена в карман.
— С кем имею честь? — вежливо осведомился владелец завода, приподнимаясь из-за стола.
— Я агент охранного отделения, — угрюмо усмехнувшись, ответил пришедший. — Мне поручено вас арестовать, господин Добычин, и доставить к начальнику московского охранного отделения.
От неожиданности купец рухнул на стул, будто сыщик его ударил, а тот, не давая ему опомниться, продолжил:
— Живо собирайтесь. Заберите с собой бумаги и все, что в этом помещении есть вашего, но прежде позовите полового и расплатитесь.
Добычин выполнил это распоряжение и, двигаясь словно сомнамбула, под пристальным взором агента стал собираться. Когда они уже выходили из кабинета, сыщик предупредил его:
— Учтите, господин Добычин, у меня в кармане браунинг, и палец я держу на спусковом крючке, так что смотрите, не наделайте глупостей.
* * *
— Как услыхал я это самое «арестовать», так ничего уже другого и думать не мог, кроме как: «За что же это они меня, господи?» — признался Добычин. — Все мозги словно отшибло, ничего не соображал!
— Что же было дальше? — подбодрил рассказчика Аркадий Францевич.
— Кликнул он извозчика, сели мы, и агент велел везти нас в Дегтярный переулок…
— Позвольте, господин Добычин! — перебил его Кошко. — Но охранное отделение в Москве находится в Гнёзд-никовском переулке. Это же всем известно!
— Знамо дело — известно! — азартно подтвердил купец. — Я и спросил агента: «Почему, мол, не в Гнездниковский едем?», а он мне ответил: «Потому как велено вас доставить прямо на квартиру к начальнику», и добавил ещё: «Повезло вам!»
* * *
— Чем же мне повезло? — озадаченно спросил Добычин, услыхав последние слова агента.
— Если начальник дома принимает, значит, разговор у вас будет, а не допрос. Может, все ещё и обойдётся.
— Да что обойдётся-то? Из-за чего меня арестовали? — стал приставать с вопросами купец к агенту, уже не казавшемуся ему таким страшным, как в первые минуты их знакомства.
— Мне это не известно! — отвечал филёр. — Приказано было арестовать, вот я приказ и исполняю. А хоть бы и знал, то не сказал бы, потому как присягу на сохранение служебной тайны давал.
— Да это мы понимаем, — заверил его Добычин, решив вытянуть из разговорчивого агента хоть немножечко подробностей по своему делу. — Вы хоть намекните: в чем дело-то?
— Да говорю же — не знаю! — отнекивался агент. — Мало ли! Может, донёс кто-нибудь на вас.
— Да господи, твоя воля! Что ж на меня донести-то можно?! Нешто студент какой или, прости господи, социалист?
— Да как сказать, — веско отвечал агент. — В наши силки птички и не такого полёта попадались, дворяне из хороших фамилий бомбистами оказывались! Вот вы говорите: чисты как слеза, а глину для вашего заводика где изволите брать?
— Известно где — в карьере!
— Тэк-с! А карьер как вскрывают? Динамитом рвут?!
— Так оно дешевле выходит, чем сотню землекопов содержать, пока они до нужного слоя докопаются…
— Это все, господин Добычин, пустой разговор, — прервал его агент, — а получается, что у вас на карьере скопление рабочих, среди которых замечены подозрительные элементы, и взрывчатка под боком — делай бомбы, сколько хочешь!
— Это какая же вражина на меня такое написала?! — вскипел купец.
— Да кто же вам говорил, что это написали, это я так просто, для примера привёл, — стал уверять его агент.
— Полно, что вы меня за ребёнка держите! — продолжал возмущаться Добычин. — Проговорились, так чего уж тут…
— Вы только смотрите, начальству меня не выдайте, что от меня услыхали, — попросил его агент. И добавил уже совсем дружественно: — Я, признаться, во все это не очень верю. Так и начальству сказал: «Не может быть, чтобы Добычин у себя на заводе ячейку боевиков пригрел, не иначе как его угрозами либо шантажом принудили к этому».
— Да меня никто не принуждал! — воскликнул купец.
— Неужто сами против существующих порядков выступить решились? — обмер агент.
— Кой черт, выступить! Нету у меня на заводе никаких боевиков, да и динамит нам тот нужен раз в год, специально партию закупаем и используем сразу же! Что вы там за чушь напридумывали?!
— Кто его знает? — пожал плечами агент. — Начальству виднее, я когда за вами следил, все понять никак не мог: «Зачем, думаю, такому хорошему человеку революция? Завод у него, доходы немалые, покушать любит, выпить не дурак, по части женского пола опять же, и в картишки не прочь… Неужто, думаю, маска все это, а под нею скрывается жуткая физиономия фанатика, про которую нам давеча их благородие господин штабс-ротмистр изволили доводить на очередном инструктаже?» Думаю так и сам не верю! Так и написал в последнем отчёте: «…после этого заказал себе матлот из налимьих печёнок и, съев его с большим аппетитом, потом более двух часов играл на бильярде с неизвестным мне лицом, которое он называл Матвеем Петровичем. По моему мнению, человек с такими здоровыми наклонностями не может иметь преступной натуры: слишком многое он рискует потерять, попав на каторгу».
— И что начальство? — спросил купец.
— За наблюдательность похвалили, а за выводы изволили сделать выговор: «Не вашего ума дело, вам приказано наблюдать!»
* * *
— Так за разговорцем и приехали, — продолжил свой рассказ Добычин. — Высадились в Дегтярном переулке, возле большого дома. С извозчиком рассчитался этот самый агент и повёл он меня в подъезд. Дом большой, подъезд шикарный, с подъёмной машиной. Зашли мы в эту машину, и, когда двери агент закрыл, я ему сторублевый билет в ручку сунул и говорю: «Вы в случае чего насчёт здоровых наклонностей доложите ещё раз, ежели спросят».
— Взял? — спросил Кошко.
— Приняли-с, — ответил Добычин. — Поднялись мы на третий этаж, вышли из машины, и он позвонил в ту дверь, что справа от нас была. Открыла горничная. Мой агент велел ей доложить, что, дескать, приказание выполнено: арестованный Добычин доставлен. Горничная побежала с докладом, а филёр этот ввёл меня в квартиру, и прямо из прихожей попали мы в большой, хорошо обставленный зал. Вскоре горничная, пятясь, вышла из-за створчатых дверей и из-за них послышался голос начальника:
— Скажите филёру, чтобы ввёл Добычина.
Тот только успел шепнуть мне:
— Не перечьте ему особенно, он три покушения бомбистов пережил, оттого страшно зол на вашего брата…
Не успел я и слова молвить, что, дескать, черт с рогами им брат, тем бомбистам, а не я, ан уж мы в кабинете оказались…
* * *
Добычина ввели в кабинет и усадили напротив большого письменного стола, за которым восседал с грозным видом довольно ещё молодой господин, облачённый в дорогой цивильный костюм. Смерив купца взглядом, полным холодной, проникающей в самую душу ненависти, он презрительно поджал губы и нажал на кнопку звонка, вмонтированного в его стол, с таким видом, словно давил клопа, насосавшегося его крови. В кабинет бесшумно вошёл атлетически сложенный чиновник, также одетый в штатское, и начальник, обращаясь к нему, но неотрывно глядя на Добычина, произнёс:
— Господин штабс-ротмистр, потрудитесь принести дело господина Добычина.
— Слушаю-с, ваше-ство, — ответил ротмистр и по привычке щёлкнул каблуками ботинок. Он исчез за дверью и буквально через минуту вернулся с пухлым томом в казённой папке серого цвета, на которой чёрными буквами было напечатано «Дело».
Пока сотрудники охранки проделывали все эти манипуляции, душа кирпичника, вроде немного отогревшаяся за время разговора с филёром, вёзшим его из трактира, теперь вновь оказалась скованной страхом. Ощущение было похоже на то, какое испытывает пациент дантиста перед началом операции, когда он уже сидит с открытым ртом в кресле и, зажмурившись от страха, прислушивается к позвякиванию страшных орудий зубоврачебного ремесла, перебираемых врачом в раздумье: каким именно можно начать мучить больного, чтобы причинить ему как можно больше страданий?
Начальник углубился в чтение папки, и пауза, столь угнетающе действующая на купца, все более затягивалась, доводя его до крайней степени испуга. Когда начальник, наконец оторвавшись от чтения, посмотрел на него тяжёлым взглядом и мрачно произнёс:
— Ну-с, господин Добычин…
Он даже обрадовался и с готовностью произнёс:
— Чего изволите?
И тут же строгий начальник хватил кулаком по столу и заорал:
— Молчать, революционная дррррянь! Говорить будете, только когда я велю! Попался, так изволь отвечать за свои делишки!
— Не виноват я, ваше благородие! — заголосил купец. — Вот святой истинный крест, не виноват, оболгали меня злые люди! Поклёп возвели!
— Поклёп?! — пуще прежнего взъярился начальник. — А это вот что в деле написано?
И он, схватив папку, раскрыл её примерно посередине и прочитал:
«…После того как дважды проверился, глядя в витрины, наблюдая в них возможную слежку, вошёл в номера Супонина, где имел конспиративную встречу с крестьянкой Марьей Шунихиной». Было?
— Было, — подтвердил купец, — но…
Начальник договорить ему не дал:
— То-то, что было! Вы, конечно, конспиратор опытный, но вот остальные члены вашей преступной организации крайне беспечны, и нам не составило труда последить за Шунихиной и выяснить про неё все!
— Что «все»?! — вскричал перепуганный насмерть Добычин.
— Все, значит, все! Вы знали, чем занимался и где был брат Марьи Шунихиной, Иван Шунихин, в 1905—1907 годах?
— Да откуда же мне знать! — простонал Добычин. — Я даже не знал, что у неё брат есть!
— Не знали? — издевательски хмыкнув, спросил начальник охранки. — Вы не знали, что Иван Шунихин был членом шайки экспроприаторов, совершившей более десятка разбойных нападений для пополнения партийной кассы? Что на совести этих разбойников несколько убийств и что, когда их, наконец, поймали, большинство членов этой шайки по приговору военно-полевого суда повесили, а Ивану заменили казнь бессрочной каторгой исключительно потому, что не удалось доказать его непосредственное участие в убийствах? И про то, что он сбежал и вот уже долгое время скрывается, вы тоже не знали? Встречались конспиративно с его сестрой, поддерживали связь с братом через неё и не знали всего этого? Вы что же, нас совсем за дураков считаете?
— Ваше благородие, позвольте объясниться! — взмолился Добычин. — Ничегошеньки я про этого братца её окаянного не знал, не ведал! Марья поступила к нам горничной около года назад. Молодая крепкая девка. Жена как-то уехала к тётке, ну а нас, как говорится, бес попутал… Жене, когда приехала, кто-то про нас нашептал… Дальше известное дело: Марье — расчёт, мне — скандал. Еле браслеткой золотой отдарился. Ну а девочку жалко стало, пристроил я её на место в один дом, к даме одной, я ей кирпич для ремонта имения продавал. Ну и вот с тех пор тайком видимся с нею в тех самых номерах.
— На предмет чего?
— Для того же для самого, что и раньше было, — густо покраснев, признался купец и совсем уж тихо проговорил: — Для продолжения связи. А ходим туда с оглядкой, потому как опасаемся: не дай бог кто-нибудь пронюхает про наши амуры и опять моей благоверной донесёт, тогда беды не оберёшься!
* * *
— Позвольте мне закурить, — попросил разрешения у хозяина кабинета Добычин, доставая портсигар.
— Сделайте одолжение, — разрешил Кошко, но тут же нетерпеливо спросил, потирая руки: — И что же было дальше?
— Дальше? — торопливо прикурив и выпустив клуб дыма, переспросил Добычин. — Дальше он меня часа полтора ещё так мариновал: я ему про Фому, он мне про Ерему. Я ему про амуры с Марьей, а он мне про брата её Ивана и боевую организацию. «Назовите известные вам явки и запасные способы связи между вами! Где скрываются беглые: в окрестностях вашего завода или вы им выправили паспорта, и они у вас числятся рабочими и служащими? Много ли среди них интеллигентов, которые способны организовать людей?» И далее в таком роде. Однако гляжу, притомился он как будто, помягче стал: по столу не стучит, не кричит, к словам моим прислушиваться стал. Я ему толкую: «Сами посудите, на кой мне эта революция? С Марьей был грех, признаю, ну так за это же в Сибирь не ссылают, если уж нужно, предайте покаянию!» Отвечает он мне: «Полно вздоры говорить: „покаянию предайте“. С кем вам в связи быть, это ваше личное дело. Допустим, поверил я вам, случайно вы оказались в эту историю впутаны, да только что же прикажете делать с этим вот?» И хлопает он рукой по папке с делом, да так, что пыль от неё поднимается. «Теперь вот эти бумажки ведут дело! Как мы сможем их опровергнуть: слова ваши и покаяния к делу не подошьёшь. В этом деле бумажки, по ним и судить будут, как с вами поступить: отпустить с извинением либо загнать на остров Сахалин на каторжные работы. Бумажки-то, они, знаете какие сильные?»
* * *
— Те-те-те, думаю, — продолжил Добычин, раздавливая окурок в пепельнице. — Неспроста он о бумажках-то столько твердит. Решил рискнуть. Говорю ему: «А у меня, господин начальник, имеются бумажки, которые будут посильнее тех, что в папке этой!» Вытащил из кармана сторублевку и протянул ему: «Извольте, говорю, осмотреть: подойдёт ли?» Покрутил он её в руках, потом прищурился и говорит: «Подойти-то подойдёт, да только таких бумажек много понадобится!» Интересуюсь: «Сколько же, например?» И пошёл у нас торг! Вернее, назвал он цену — 5 тысяч целковых, а я пытался поторговаться немного, да у такого молодца разве отобьёшь? Была при мне тысяча, отдал ему до копейки. «Больше, говорю, нет при себе». Он мне отвечает: « Что за беда? Вы мне на остальные четыре тысячи векселя выпишите». И достаёт из шкапа, который у него в кабинете стоял, чистые вексельные бланки. Подписал я их без указания срока платежа и выписки текста. Сразу после этого приказал он меня проводить вон, к несказанной моей радости.
* * *
— Прошло несколько дней, и стал я что-то сомневаться. Уж больно легко меня отпустили. Стал у знакомых, которые подвергались аресту, спрашивать, как у них бывало, и заметил я одну странность: всех их непременно обыскивали и отбирали все личные вещи, а уже потом допрашивали, со мною же не так было.
— Ещё бы! — усмехнулся Кошко. — Если бы они у вас отобрали деньги сами, это было бы уже совсем другое дело, грабёж. А так выходит, вы эти деньги им сами предложили и векселя сами подписали.
— Вот, собственно, я и пришёл сюда по этому поводу, из-за векселей этих самых. Вчера в трактире Степанова меня позвали к телефону. Звонивший велел мне внести плату по векселям не позднее трех часов дня 11 октября. Деньги я должен принести по уже известному мне адресу, прямо на квартиру к начальнику. Предварительно я должен буду позвонить по номеру 189-99 и сообщить, что готов платить и уже иду с деньгами. И что мне теперь делать, честно сказать, я ума не приложу. Решил к вам пойти, вы, по газетам судя, и не такие странные истории распутывали.
— Ну что же, — подвёл итог разговору Кошко, — вы правильно поступили, обратившись к нам. Теперь деньги ваши останутся при вас, а шайку этих мошенников мы возьмём с поличным.
Начальник полиции вызвал в свой кабинет нескольких агентов и каждому из них дал задание, отправив выяснить все насчёт Марьи Шунихиной и её брата, а также следить за домом в Дегтярном переулке, в котором якобы помещалась квартира начальника московского охранного отделения.
— А вас, господин Добычин, — обратился он к купцу, — я попрошу позвонить по указанному вам номеру и позвать к аппарату самого начальника.
Покрутив ручку аппарата, стоявшего на столе Кошко, Добычин попросил соединить его с номером 189-99, а Кошко, взяв отводную трубку от аппарата, внимательно слушал, что ответят. На том конце провода трубку сняла женщина, которая в ответ на просьбу Добычина позвать к аппарату самого начальника заявила, что его нет дома, он придёт после пяти часов.
По адресно-телефонной книжке было установлено, что аппарат с номером 189-99 установлен действительно в доме, стоящем в Дегтярном переулке, в квартире некоей Ольги Александровны Тарфенко, никакого отношения не имеющей ни к охранному отделению, ни к его начальнику.
Вскоре прибыл сыщик, посланный навести справки о Шунихиных: оказалось, что в семье Марьи действительно есть брат, но не Иван, а Пётр, и ему в 1905 году едва исполнилось десять лет, так что ни в какой шайке он состоять не мог.
— Они, наверное, следили за вами некоторое время, а потом уже придумывали, но так, чтобы все было похоже на правду, — пояснил Кошко Добычину этот фокус. — Однако и мы им ответим тем же. Вечером мы позвоним им, а вы должны сказать следующее…
* * *
Тем же вечером Добычин вновь звонил по номеру 189-99, на этот раз подошёл к аппарату сам «начальник». Полицейские, приникшие к отводной трубке, приготовились стенографировать разговор. Едва собеседники заговорили, как карандаши забегали по бумаге:
— С кем я говорю? — уточнил, как научил его Кошко, Добычин.
— С начальником московского охранного отделения, — уверенно ответил голос в трубке.
— Это я, купец Добычин. Господин начальник, я готов исполнить обещанное, — сказал Добычин в трубку, — но я хотел бы сделать это несколько раньше. Дело в том, что 11-го мне нужно срочно выехать из Москвы по делам моего завода, поэтому не могли бы вы принять меня не в три часа, как было условлено, а, скажем, около часу?
— А вы все приготовили?
— Все, как было велено!
— Ну, рано не поздно, что ж с вами делать, приходите к часу! Но смотрите, если надумали меня обмануть, горько об этом пожалеете!
— Да господь с вами! Как можно! — ещё кричал в трубку Добычин, когда его собеседник уже повесил свою.
* * *
На следующий день ровно в час Добычин, держа в руках свёрток с помеченными деньгами, позвонил в дверь квартиры «начальника охранного отделения». Примерно минут через пять после того, как Добычин вошёл в квартиру, звонок зазвенел вновь, и горничная, открывшая дверь, была отброшена в строну ворвавшимися в квартиру сыщиками, державшими наготове свои револьверы. Стремительно миновав большой зал, знакомый им по рассказу Добычина, они вбежали в кабинет «начальника», где и застали последнего в компании с Добычиным за пересчётом денег. «Начальник» сдался без всякого сопротивления, когда агенты объявили мошеннику, что он арестован. Вошедший вслед за своими молодцами Кошко, увидев арестованного, не смог удержать возгласа удивления:
— Ба! Вот, оказывается, кто это! Господин Добычин, позвольте вам отрекомендовать «начальника охранного отделения»: помните, в прошлом году было громкое дело — инженер Андрей Гилевич, застраховав себя на крупную сумму денег, подобрал подходящего человека, им оказался несчастный студент Прилуцкий, искавший место секретаря, убил его, изуродовал лицо и скальпировал череп. Тело Андрея опознал как труп его родной брат Константин. Андрей скрылся во Франции, а Константин в четырех компаниях получил страховку на общую сумму 300 тысяч рублей. Однако и полиция не дремала, обоих выследили, в результате Андрей отравился при аресте, а Константин повесился в камере. Перед вами ещё один Гилевич — Василий, третий брат.
— К делу моих братьев я никакого отношения не имею, — мрачно заявил Гилевич.
— Точно так, — подтвердил Кошко, — по крайней мере, обратного в суде доказать не удалось, и вы даже содрали штраф в 3 тысячи рублей с газеты, посмевшей связать вас с этим делом. Мы вас давно подозревали в содержании игорного притона и прочих «шалостях», а вот с поличным взять до сегодняшнего дня не удавалось. Но сколь верёвочке не виться, конец непременно будет. Уведите его, господа! — распорядился Кошко, обращаясь к сыщикам.
На квартире в Дегтярном переулке помимо Василия Гилевича были арестованы Фома Рябинин, исполнявший в этом плутовском спектакле роль «господина штабс-ротмистра», и Изатула Енгалычев, величавший себя «Князь». В нем Добычин опознал того самого филёра, что «арестовал» его в трактире Степанова и которому он подарил сотню рублей. Были задержаны также мать Гилевича и сожительница Василия некая Козлова, исполнявшая роль горничной.
* * *
Василий Гилевич был опознан жертвой мошенниче-ской проделки купцом Добычиным, их разговор по телефону, стенографически записанный при свидетелях, являлся прямой уликой, поэтому запирательство было совершенно бессмысленным. Гилевич избрал другую тактику: основную роль в этом деле он приписал Рябинину, который указал на Добычина как на потенциальную жертву. Критерии отбора были таковы: состоятелен, простоват, явно замешан в тёмных коммерческих и личных делишках и потому не захочет огласки. Енгалычев учредил за Добычиным регулярную слежку, на купца завели настоящее дело, занося туда все нюансы и подробности его жизни. Когда мошенникам показалось, что «дело созрело», они приступили к реализации плана. Первый «удой», ту тысячу рублей, которую купец отдал «за немедленное освобождение», они поделили между собой: «Князь» и Фома Рябинин получили по 200 рублей, а остальное Гилевич забрал себе.
Василий Гилевич вывёртывался до последнего и получил сравнительно небольшой срок каторги: всего четыре года. Судили его только за случай с Добычиным, за одно мошенничество, и хотя у следствия были все основания полагать, что этот случай был далеко не единственным, доказать это не удалось. Остальные пострадавшие предпочитали помалкивать, храня в тайне свой позор и те делишки, которые сделали их жертвами вымогательства.
Пропавшее наследство
Мировой судья Хамовнического участка Москвы С.А. Жу-ков среди почты, поданной ему для разбора утром 28 апреля 1910 года, обнаружил талон, присланный из московского губернского казначейства, с пометкой о произведённой оплате присланной ранее ассигновки № 3040, за подписью самого Жукова. Приписка, сделанная на талоне, поясняла, что 12 апреля хранившиеся на депозите Хамовнического участка мирового суда 142 100 рублей, в билетах государственной ренты, были выданы сыну надворного советника Михаилу Николаевичу Костальскому как наследнику по делу о наследстве, оставшемся после А.Н. Костальской.
Судья в недоумении покрутил в руках талон, потом звонком вызвал к себе в кабинет письмоводителя суда и попросил его принести книгу ассигновок. Сверившись с нею, он обнаружил, что ассигновка № 3040 находится в книге, как и было ей положено, поскольку он точно помнил, что ассигновки на выплату 142 100 рублей в казначейство не отсылал. Судья немедленно снял трубку с телефонного аппарата и попросил его соединить с москов-ской сыскной полицией. У судьи Жукова сомнений не осталось: кто-то от его имени совершил подлог и «наказал» московское губернское казначейство на весьма приличную сумму.
* * *
Вскоре в кабинете судьи расположились прибывшие по его просьбе сам начальник московской сыскной полиции Аркадий Францевич Кошко и его помощник Андреанов. Судья коротко ввёл их в курс дела. Андреанов принялся рассматривать талон, а Кошко попросил Жукова рассказать о происхождении пропавших денег.
— Сумма эта, — начал рассказ судья, — осталась после скончавшейся от оспы 17 июня 1909 года домовладелицы Анны Николаевны Костальской. Ей было 78 лет, и при жизни она отличалась большими странностями.
— В чем это выражалось? — спросил Кошко.
— Костальская слыла за юродивую: одиноко жила в своей захламлённой квартирке, почти не тратя на себя ничего из оставшихся ей после смерти её отца, священника Костальского, 150 тысяч рублей. С родственниками она почти не общалась, а те, в свою очередь, не очень и стремились к этому. Деньги эти, а вернее процентные бумаги на сумму 142 100 рублей, были найдены уже после смерти Костальской среди грязных тряпок, в чулане, когда его освобождали от старья. И вот тут-то в спор за право наследования денег, оставшихся после Костальской, вступили четверо родственников. Но, как вы сами понимаете, полусумасшедшая старуха; даже если бы она и оставила завещание, его, скорее всего, оспорили бы те, кто в нем не был бы упомянут или посчитал бы себя обделённым. А тут… вообще ничего, деньги как с неба упали. Так как стороны договориться не смогли, то всю сумму до решения суда поместили на депозит в казначейство, откуда они и были, судя по талону, который вы изволите видеть, выданы 16 дней назад. Но я не посылал никаких ассигновок по этому делу в казначейство! Да и ассигновка-то из книги не вырезана, вот она: № 3040, на месте.
— Что же, — подвёл итог разговору Кошко. — Поедем в казначейство, посмотрим, что за ассигновка пришла к ним. А что талон? — спросил он у Андреанова, все это время внимательно рассматривавшего документ сквозь лупу.
— Талон, Аркадий Францевич, явно дефектный, — передавая начальнику документ, сказал Андреанов. — Вот, взгляните сами: подпись судьи неразборчивая — хотя и похожая, но под лупой явная абракадабра, набор линий. Засим печать — неясно оттиснута, скорее всего «переведена» с какой-нибудь реальной бумаги, подлинного документа. Ну и подпись «сына надворного советника Михаила Николаевича Костальского» выполнена как-то неумело, излишне старательно, так подписываются полуграмотные люди.
Захватив с собой талон, сыщики связались по телефону с управлением и, приказав выехать в московское губернское казначейство ещё нескольким агентам, отправились туда же. Изъяв в казначействе ассигновку и оставив своих агентов снимать допрос с чиновников, Кошко и Андреанов поспешили к начальству с докладом о первых шагах начатого ими розыска злоумышленников, совершивших ловкий подлог.
* * *
Первый вывод, к которому пришли сыщики, состоял в том, что дельце провернули люди, близкие к мировым судьям, вращающиеся в этом специфическом мирке, в котором только и можно было выудить информацию о спорной сумме денег, хранящейся в казначействе. К тому ж они отлично разбирались в документах и деталях дел о наследствах, проходящих через мировых судей, поскольку сумели, ловко подделав бумаги, воспользоваться обстоятельствами и присвоить деньги.
Следствие располагало двумя документами, побывавшими в руках мошенников: талоном и ассигновкой, изъятой в казначействе. Её, по прибытии в управление сыскной полиции, Андреанов вместе с полицейским-экспертом внимательнейшим образом рассмотрели сквозь сильную лупу, в особенности изучая номер подложного документа. И хотя подделка была сделана первоклассно, слабые следы подчистки и травления под сильным увеличением все же разглядеть удалось. Тогда ассигновку передали полицейскому фотографу, который, засняв документ особым образом, получил ясный отпечаток вытравленного номера «1715».
Узнав номер подлинной ассигновки, из которой мошенники «сработали» подложную, сыщики обратились к писцу съезда мировых судей Котову, который занимался выдачей ассигновок участковым судьям. Котов, сверившись с записями, сообщил им, что ассигновка № 1715 выдана была им среди прочих мировому судье Якиманского участка, камера которого находится как раз в здании съезда.
* * *
Кошко, Андреанов и следователь по особо важным делам К.М. Головин на автомобиле поехали к судье Якиманского участка, ничего ему предварительно не сообщив, и по прибытии в камеру судьи потребовали от него безотлагательно предъявить им книгу ассигновок. Но тут ими была допущена досадная оплошность: углубившись в рассматривание документов, сыщики не заметили, как куда-то ушёл письмоводитель судьи Пётр Семёнович Кириллов, поэтому, когда возникли к нему вопросы, его нигде не могли отыскать. Тогда Кошко по телефону связался с управлением и распорядился немедленно выслать на квартиру Кириллова наряд полиции, с тем, чтобы задержать письмоводителя и доставить его в управление сыскной полиции для допроса. Однако когда наряд прибыл на квартиру, Кириллова там уже не было. Его тёща сообщила, что зятёк прибежал очень возбуждённый, сказал, что уезжает в деревню, откуда даст знать о себе. Потом схватил своё пальто на вате, сообщил, что заложит его, чтобы получить деньги на дорогу, завернул пальто в простыню и ушёл из дому.
В квартире Кириллова произвели тщательный обыск, но ничего уличающего его не нашли. На самой квартире и вокруг неё решено было устроить засады. Несколько часов спустя агенты, ведшие наружное наблюдение во дворе дома, в котором располагалась квартира Кирилловых, заметили, как во двор вошёл человек, по приметам очень похожий на беглеца-письмоводителя. Озираясь по сторонам, он прошёл по двору и, войдя в подъезд, стал подниматься по лестнице. Агенты осторожно последовали за ним. На площадке возле двери квартиры Кириллова он остановился прислушиваясь и, достав связку ключей из кармана, поднёс ключ к замочной скважине. Едва он повернул ключ в замке, как дверь разом распахнулась перед ним. Увидев стоящего на пороге квартиры неизвестного ему мужчину, Кириллов (а это был он) бросился было бежать вниз по лестнице, но, не пробежав и половины лестничного марша, остановился и без сил сел на ступеньки, прислонившись лбом к металлическим прутьям перил, — снизу поднимались несколько агентов полиции с револьверами в руках. Искусно расставленная ловушка захлопнулась.
* * *
Арестованного Кириллова обыскали, найдя в его карманах 80 рублей наличных денег. Пальто, унесённого им из дому, при нем уже не было, но не было и квитанции о закладе.
Когда Кириллова доставили в управление сыскной полиции, там уже ждал его Кошко со своими сотрудниками, которые в книге ассигновок мирового судьи Якиманского участка обнаружили недостачу не только ассигновки № 1715, но и ещё одной, под № 1713. Выслушав рапорт агентов, арестовавших Кириллова, Кошко заинтересовался тем, куда тот девал пальто и зачем ему, имевшему 80 рублей, суммы более чем достаточной для того, чтобы уехать куда угодно, потребовалось закладывать пальто?
Однако допрос опытный сыщик начал все же с ассигновок, спросив Кириллова, что тот может сообщить по поводу своего бегства и недостачи в бумагах судьи? Кириллов дал довольно пространный ответ.
— Тут, изволите ли видеть, дело так было: аккурат, значит, на Вербной неделе ко мне на службу, в камеру судьи то есть, прямо во время занятий явился какой-то субъект, лет этак 30—35. Совершенно мне незнакомый, — обстоятельно начал Кириллов, сидя перед следователем и Кошко на табурете, привинченном к полу. — Он назвал меня по имени и фамилии, представился письмоводителем одного из петербургских мировых судей. Просил помочь ему покрыть недостачу, а то, говорит, место потеряю, дескать, растратил ассигновку. Говорил, что вроде бы он уже обошёл несколько участков и везде получил отказ, но в одном месте кто-то ему на меня указал как на человека, нуждающегося в деньгах (а я и правда нуждаюсь). Вот он и говорит: 300 целковых плачу за бумажку ассигновки. Ну, я вижу, человек в беде, да и деньги сулит немалые… взял да вырезал ассигновку № 1715 из книги, отдал ему её, а взамен деньги получил.
— Где же это вы такую коммерцию провернули? Прямо в камере у судьи? — спросил Кошко.
— Зачем?! — возразил Кириллов. — Я тихонечко вырезал её и с собой унёс. А после занятий он меня в трактире уже ждал, там, значит, и того, обменялись.
— В каком трактире? — спросил Кошко.
— Да там, — неопределённо махнув рукой, неуверенно ответил Кириллов. — В каком-то… какой подвернулся, я там в первый раз был, да и спешил, некогда запоминать было…
— Ну а вторую ассигнацию ты кому продал? — спросил следователь, до того слушавший молча.
— Да ему же, только не продал, а так отдал. Он заявился вновь, теперь уже на квартиру ко мне, сказал, что по той, по ассигновке № 1715, получил в казначействе деньги и теперь донесёт на меня как на соучастника преступления, если не отдам ему следующую ассигновку. Пришлось вырезать ещё одну, № 1713, и отдать её лихоимцу. А когда сегодня вы в камеру судьи пришли и потребовали книгу ассигновок, испугался я, что придётся отвечать за чужие грехи, и пустился в бега, да вот решил вернуться, узнать, не обошлось ли все.
— А вторую ассигновку где отдал? — спросил Кошко. — Опять в трактире?
— Нет, — бойко ответил Кириллов, — в этот раз он меня в подъезде моего дома ждал.
— А пальто куда дел, которое из дому унёс?
— Продал. Барышнику с рук продал, за 10 рублей.
— Так у тебя ж 80 целковых было при себе, зачем же пальто продавать?!
— А кто знал, сколько мне из-за этих бумажек бегать предстоит, — ответил Кириллов и тяжело вздохнул.
Когда Кириллова увели в камеру, Кошко сказал, обращаясь к следователю:
— Врёт он все и про незнакомца, и про пальто… Не так он его просто унёс куда-то, не случайно первым делом за него схватился, когда собирался в бега. Не успел продумать как следует, где он якобы отдал бумажку. Сказал первое, что на ум взбрело, — «в трактире», потом сообразил, что в трактире спросить можно, про вторую сказал, что в подъезде. Однако упёрся он и стоит на своём твёрдо, а без фактов его басню не опровергнешь. Надо бы нашим людям по окрестным трактирам походить, порасспрашивать про него.
Вскоре отряд агентов под командой помощника начальника сыскной полиции Андреанова отрабатывал окружение Кириллова, наводя о нем подробные справки у всех, кто его знал, расспрашивая о Кириллове в тех местах, где он бывал во внерабочее время. В трактире Алексеева людям Андреанова рассказали, что перед Пасхой в трактире был известный здесь Кириллов в компании не менее известного «ходатая от Иверских ворот» Бойцова, личности весьма тёмной, промышлявшей нелегальной адвокатурой. Оба они держались насторожённо, переговаривались шёпотом и при приближении полового замолкали, прерывая разговор на полуслове.
* * *
Кошко, получив сведения о странных переговорах в трактире, распорядился вызвать Кириллова на допрос.
— Скажи, Кириллов, а кто указал на тебя этому питерцу, что пристал к тебе, как бес к девице?
— Да я не знаю, — пожав плечами, ответил Кириллов. — Говорил, что, дескать, в одном месте человек подсказал, из судейских кто-то.
— А часом этот неизвестный, он не твой знакомый Бойцов? А, Кириллов? Ведь он же хорошо был осведомлён об обстоятельствах твоей жизни? — спросил Аркадий Францевич. — Не мог он из желания помочь направить к тебе «клиента»? Вот с ним ты в трактирах частенько сиживал, разговоры вели, и как раз на Вербной неделе заседали в алексеевском трактире, на Болоте, перед тем как искусителю твоему возникнуть!
Услышав, что Кошко назвал фамилию Бойцова, Кириллов сник. Поняв, что сыщики взяли след, он, после недолгого раздумья, сделал признание, заявив, что является соучастником похищения денег из казначейства по фальшивым ассигновкам. По его словам, они уже обратили ценные бумаги в деньги и разделили их. На его долю пришлось 47 300 рублей, которые он зашил в пальто, а пальто отнёс к своему дяде, служащему швейцаром в 5-й мужской гимназии.
К дяде Кириллова тотчас отправили агентов, которые изъяли вещь и, призвав понятых, вспороли её подкладку, из-под которой извлекли несколько пачек денег «крупными бумажками», как раз на 47 300 рублей. Допрошенный дядя Кириллова показал, что соучастником племянника был закадычный его дружок Александр Алексеевич Бойцов, которому при дележе достались 58 тысяч рублей, отданные им, чтобы спрятала, какой-то старухе, жившей на Моховой улице. Дядю, взяв под белы руки, повезли в заведение, в котором уже обретался его племянничек.
* * *
Тем же вечером агентам сыскной полиции удалось задержать и Бойцова, но тот на допросе молчал, не давая никаких объяснений. Видя, что этот закоренелый негодяй, поднаторевший в своей подпольной юридической практике, будет «орешком покрепче», нежели Кириллов, его оставили на время в покое и принялись допрашивать его жену.
Мадам Бойцова изворачивалась сколько могла, но только до тех пор, пока Кошко не пригрозил ей, что в случае дальнейшего запирательства она будет признана соучастницей в деле.
— Ой, ну есть у меня родственница… дальняя… седьмая вода на киселе! — говорила мадам Бойцова, нервно теребя платок, накинутый на плечи. — Я про неё просто не сразу вспомнила! Она уже в возрасте… и живёт на Моховой, служит кухаркой у секретаря университетского.
— У кого точно она служит? Точный адрес какой? — не давая ей возможности собраться с мыслями, наседал с вопросами Кошко.
— Да какой-то Кизельман, что ли, по медицинскому факультету он служит.
Снова на автомобиле сыщики помчались по ночной уже Москве, спеша по указанному адресу.
* * *
Прибыв на квартиру штатного ординатора медицин-ского факультета Московского университета Н.М. Кизельмана, где служила в кухарках Савельева, сыщики потребовали от неё немедленной выдачи денег, отданных ей на хранение Бойцовым. Но не на ту напали, старушка оказалась под стать родственничку! Пелагея Ивановна заявила, что хотя Бойцова она и знает, он ей приходится родственником по жене, но никаких денег от него она сроду не получала. Тогда Андреанов, прибывший во главе агентов, распорядился обыскать вещи Савельевой. В её сундучке довольно быстро нашли припрятанную под носильными вещами книжку сберегательной кассы, открытую на имя Савельевой, с вкладом на 100 рублей. Для кухарки, жившей «в людях», это была весьма и весьма приличная сумма. Происхождение денег кухарка объяснить затруднилась, дав весьма путаные показания. Андреанов распорядился арестовать её и отправить в управление, а сам, запросив у начальства подкрепления, решил обыскать старинный дом. Если деньги были ей переданы Савельевой на хранение, нигде больше она их спрятать не могла, кроме как в этом доме.
Работа предстояла титаническая! Старый университетский корпус имел массу мест, где можно было бы спрятать относительно небольшой свёрток с деньгами: многочисленные кладовки, чуланы, комнатки, подвалы и громадный чердак. В распоряжение Андреанова командировали 25 полицейских, которые приступили к обыску и через 13 часов непрерывной работы нашли на чердаке, под балками, зарытыми в мусор два свёртка: один в бумаге, другой в платке. В первом свёртке оказались новые золотые и серебряные вещи, а во втором — кредитные билеты и серии на 96 тысяч рублей.
Когда находку доставили в управление сыскной полиции и предъявили её Бойцову и Кириллову, те, видя, что игра проиграна ими окончательно и добыча изъята, рассказали все как было.
* * *
По словам Бойцова, он, ища клиентов, в первых числах апреля крутился в коридорах суда, где повстречал некую даму, спросившую его, где в суде находится дело по наследству Костальской. Он помог навести справки и получил за это небольшое вознаграждение. Узнав о том, что в казначействе на депозите находятся спорные деньги, Бойцов задумал присвоить их. К делу он привлёк своего приятеля Кириллова, служившего письмоводителем у мирового судьи Якиманского участка. Наведя справки, Бойцов узнал, что деньги находятся в распоряжении судьи Хованского участка. Чтобы эти деньги присвоить, необходимо было совершить подлог.
План «операции» они разработали, сидя в трактире Алексеева. В окружном суде Кириллов узнал, в каком положении находится дело Костальских и из каких именно ценных бумаг и денежных знаков состоит наследство, для чего снял копию с охранной описи. Бойцов в это время узнал положение дела в Хомовническом мировом суде и номер квитанции, под которой в казначействе хранились ценности. Действовали они под видом родственников, собирающих необходимые справки по делу о наследстве. Мошенники подсмотрели номер ассигновки, выписанный судьёй, когда какая-то дама получала деньги по своему делу, чтобы номер на «их» ассигновке был достоверным, близким к тем, что выписывались в эти дни.
Кириллов похитил бланк ассигновки, вырезав его вместе с талоном из книги судьи своего участка, и передал его Бойцову. Тот у себя на квартире попытался хлорной жидкостью вытравить номер, но переборщил и, оставив слишком заметные следы травления, испортил бланк ассигновки № 1713. Тогда Кириллов вырезал следующую ассигнов— ку, № 1715, и уже сам, очень удачно, вытравил номер. Образцы мастичной печати для ассигновки и подписи мирового судьи Жукова они получили, предъявив от вымышленного имени к вымышленному лицу у мирового судьи Хамовнического участка исполнительный лист, на котором были подпись судьи и печать. Получив образцы искомых реквизитов, они уничтожили фиктивный «исполнительный лист».
* * *
Засев со всеми своими «трофеями» в отдельном кабинете ресторана «Прогресс» на Чистых прудах, приятели составили текст ассигновки и безукоризненно заполнили подготовленный бланк. Номер, цифру суммы ценностей и подложную подпись мирового судьи Жукова поставил Кириллов. На Хитровом рынке мошенники приобрели паспорт, оформленный по их заказу на имя сына надворного советника Михаила Николаевича Костальского. Сфабрикованная ассигновка была записана в старую разносную книгу судьи Якиманского участка, добытую Кирилловым на службе. Эту книгу, вернее запись в ней, предъявил в московском губернском казначействе 12 апреля 1910 года Бойцов, сыгравший роль курьера.
День для получения денег сообщники выбрали очень удачный: понедельник Страстной недели был днём выдачи в казначействе содержания, наградных денег и получения квартирного налога. Как всегда в дни внутриучрежденче-ских выплат и расчётов, внимание служащих было притуплено, поэтому по предъявлении талона, с первого взгляда совершенно обыкновенного, особого внимания на посетителя не обратили, признав, что все бумаги в порядке.
Бойцов, исполнявший роль сына надворного советника Костальского, справился со своим делом блестяще: получив ценные бумаги, он хладнокровно их пересчитал, проверил все купоны, уложил ценные бумаги в портфель и не спеша вышел из казначейства, где у подъезда его ждал Кириллов. Отсюда они отправились на Кузнецкий Мост, в банкирскую контору Юнкера, и продали там 4%-ную ренту в 25 тысяч рублей. В трактире, куда они пришли спрыснуть успех, решено было остальные бумаги тоже продать. Продав их банкирскому дому Джимгаровых, за исключением одной бумаги в 5 тысяч рублей, которую оставили в меняльной лавке на Ильинке, разделили деньги и притаились выжидая.
* * *
Как оказалось, эта «операция» для дуэта Бойцов — Кириллов была не первой. Казначейство, ревизовав после кражи 142 100 рублей свои активы, обнаружило пропажу 16 900 рублей, произведённую ещё в феврале по подложному определению московского окружного суда. Кошко, узнав об открывшемся подлоге, заподозрил попавшихся мошенников и в этой махинации, поскольку изъятых у них денег и ценностей было в сумме больше, нежели 142 100 рублей, на которые они «нагрели» казначейство в апреле.
На допросе мошенники, понимая, что их все равно опознают, рассказали, как Бойцов, ошиваясь в коридорах суда, краем уха услыхал об имуществе и деньгах, оставшихся после умершей Софьи Павловны Клочковой. Вместе с Кирилловым они, выдав себя за родственников, достали копию с выписки из охранной описи имущества Клочковой, сняли копию с объявления в «Сенатских ведомостях», а затем изготовили подложное постановление окружного суда о выдаче денег по этой описи представителю «наследников Клочковой». Причём сфабриковали документы так искусно, что никто не усомнился в их подлинности: номера, печать, подписи и прочие детали были в полной исправности. По этим документам мировым судьёй Калужского участка была составлена ассигновка, а представителю «наследников» выдан талон, деньги по которому были получены из все того же московского губернского казначейства. Именно успех этого дела, если верить словам Бойцова, навёл их с Кирилловым на мысль продолжить «потрошение» казначейства, и они месяц спустя вновь «пошли на дело», взяв уже 142 100 рублей.
* * *
Московская сыскная полиция, невзирая на то что преступление было совершено почти за три недели до того, как оно было обнаружено и все следы его были уничтожены, а похищенное переведено в деньги, разделено и спрятано, отыскала злоумышленников всего за три дня, раскрыв попутно и первое их похищение. После объединения этих двух мошенничеств в одно судебное дело преступникам предстояло отвечать за кражу 159 тысяч рублей.
За блестяще проведённый розыск все его участники получили поощрения. Начальник московских сыщиков, Аркадий Францевич Кошко, удостоился монаршей милости, получив 2 тысячи рублей наградных, пожалованных ему лично императором Николаем Александровичем, о чем и была сделана соответствующая запись в наградном разделе служебного формуляра наряду с перечислением других наград, полученных талантливым русским криминали-стом на поприще сыска.
Ты не вейся, Чёрный ворон…
Было такое времечко на Святой Руси, между 1904 и 1906 годами, когда преступников было даже больше, чем нынче. Сообщения о грабежах, называемых красивым словом «экспроприация», в тогдашних газетах занимали целую полосу. Пошаливать стали даже в тихих, что называется, патриархальных городах, где раньше, бывало, наскакивали лихие люди, грабя на больших дорогах, но чтобы со смертоубийством случай вышел, так это, может, в десять лет раз. И вдруг как пошла пальба да взрывы по всей стране, как набежали экспроприаторы с маузерами да бомбами, да в газетах страху понагнали на обывателя! Все словно перевернулось в Российской империи. На полицию надежды было мало, на городовых охотились, словно на куропаток, а их начальников убивали со злодейской регулярностью. Очень скоро экспроприаторы даже перестали лично навещать ограбляемых, стали посылать им по почте извещения: когда, куда и в каком количестве те должны были принести деньги. При этом подписывались они угрожающе: «Ангелы мести»; «Пролетарский меч»; «Сокол анархии», но чаще почему-то назывались «Чёрный ворон». Этих самых воронов кружилась над Россией целая стая: и в Одессе, и в Перми, а то и в Первопрестольную залетали. Полиция и охранное отделение ловили этих «птичек», суды отправляли их на каторжные работы и на виселицу посылали, но на их место прибывали следующие, а облагаемые налогом все платили и платили.
* * *
И вот вышел по этому поводу такой случай. Аккурат в начале лета 1906 года орловский купец Степан Шерапов получил по почте письмецо. Вскрыв конверт, он обнаружил листок бумаги, выдранный из ученической тетрадки в клеточку и покрытый каракулями, извещавшими его степенство о том, что он с этого самого дня обязан жертвовать 300 рублей в месяц на борьбу за установление анархии, матери нового мирового порядка. Там же указывалось, что теперь ему, непременно по первым числам, следовало относить эти деньги на пустырь, что был в конце улицы, и класть их под большой камень-валун, который с незапамятных времён лежал на том пустыре среди зарослей бурьяна. Шевеля губами, купец прочитал подпись: «Чёрный ворон». Как и положено, письмо было иллюстрировано рисунком, изображавшим знамя, на котором красовался череп, под ним скрещённые кинжал и дымящийся револьвер, по верху стяга был пущен лозунг: «Да здравствует анархия».
Почесав в бороде, Шерапов вздохнул: «Чёрный ворон» все ж таки требовал деньги не шуточные — трехмесячное жалованье средней руки чиновника с «чистым и непорочным формуляром». Так он вздыхал целую неделю, пока не пришёл срок нести первый взнос на анархию, будь она неладна. Покряхтел купец, на счетах пощёлкал, да и решил: «Отнесу! Дешевле обойдётся. Где по гривеннику на пуд накину, где по полушке на фунт, оно, глядишь, и обойдётся за счёт покупателей. А так лавку спалят или взорвут, да и самого с семейством последнего здоровья, а то и жизни лишат».
В полицию он не пошёл, рассудив, что коли в государстве такой разор завёлся, так свято место пусто не будет: поймают Чёрного ворона, Пегий сокол прилетит, от того отобьёшься, ещё какой-нибудь Черт Иванович пожалует, а народ они все озорной, из тех, кому своя шейка — копейка, а уж чужая головушка и вовсе полушка! Отнёс Степан, сын Иванович, три «катеньки», в тряпочку чистую завёрнутые, под камень сунул, бородой потряс над ним, головой покачал и поплёлся домой, ко щам.
* * *
На другой месяц отнёс он ещё триста рублей. А как третий месяц пошёл, стал Степан Иванович задумываться. Больно уж ему, человеку деловому, не хотелось пустырь сторублевками засевать, противно его купеческой натуре было такое занятие. Недели за две до очередного срока он, что называется, дозрел. Пошёл в кузницу и заказал особенный капкан, вроде как на медведя, только чуток побольше и «пружинка, чтобы, значить, покрепше была». Мастеру велел помалкивать, а когда заказ был готов, то он сам за ним и сходил, да не занося в дом, поскольку боялся, что за ним неотступно следят, отволок капкан на пустырь и возле того камня, под который деньги клал, припрятал.
Вот, значит, наступило 1 сентября, «день дани». Пошёл купец на пустырь, только в этот раз не вздыхал, а весел был почтеннейший Степан Иванович, и глаз у него, у шельмы, блестел по-молодому. Положил он под камень вместо денег резаную бумагу в тряпочке, а рядом с тем местом капканчик насторожил. Придя обратно в лавку, собрал Шерапов своих молодцов-приказчиков, сторожей, да дворника, да мальчиков, для побегушек в доме приспособленных, тож кликнул. Всей этой своей личной гвардии велел вооружиться кто чем может и идти тайно, по одному, на пустырь в конце их улицы, там спрятаться и ждать его сигнала.
* * *
Вот заняли они позицию, когда уже стемнело, попрятались в бурьяне. Лежат, ждут. Так час прошёл, другой. На колокольне церкви часы отзвонили одиннадцать раз. Вдруг, чу! Идёт кто-то. Какая-то фигура скользнула от забора крайнего к пустырю дома и скрылась в бурьяне. Прошло ещё немного времени, и вдруг там, в зарослях, кто-то сначала взвизгнул, а потом заорал дурниной, в голос.
— Ага! Попался щучий сын, Чёрный ворон! — вскричал купец и скомандовал своим молодцам: — Хватай его, ребята! Бей по чем придётся, пока полиция не отняла!
Кинулись они на пролом через бурьяны пустырские, подбежали к тому месту, где вопил злодей, глядят, сидит кто-то возле камня, качается из стороны в сторону и тонким голосом воет. Тут старший приказчик, который у хозяина «право голоса» имел, приглядевшись и прислушавшись, сказал:
— Степан Иваныч, дык, эт самое, он, кажись, баба!
Малец-побегушник потыкал пойманного дрючком в бок и тоном эксперта подтвердил:
— И впрямь, Степан Иваныч, баба пымалась!
— Цыть мне! — рыкнул Шерапов и приказал: — Ну-ка серник запали кто-нито!
Кто-то чиркнул спичкой и поднял её над головой, и тут все, забыв субординацию, в один голос выдохнули:
— Мать честная! Это ж Дашка!
На земле, с ногой, защемлённой в капкане, сидела горничная купца Шерапова, Дарья Клецкова, капкан, защёлкнувшись, раздробил ей лодыжку. Пойманная сидела и тихо поскуливала от боли, а рядом с нею валялся тряпичный свёрточек с резаной бумагой, который был приманкой для Чёрного ворона.
* * *
Раненую девицу освободили из ловушки и на руках отнесли в участок, где ей оказали первую медицинскую помощь. Потом её допросили, и она призналась, что придумал это все Никифор Котомкин, жених её, который служил половым в трактире, а также состоял «при нумерах».
Никишка, как человек шибко грамотный, любил на досуге газетку помусолить, там и вычитал, какие огромные тыщи сдирает «Чёрный ворон» с купечества. Вот и предложил он невесте, дабы приблизить момент их счастливого воссоединения законным браком, немножко потрясти Шерапова, у которого та служила. Собирались они доить купца, покуда не наберут на собственный трактир, возле которого заживут припеваючи, плодясь и размножаясь, как закон христианский велит.
Приволокли вскорости в участок умного Никифора и устроили жениху с невестой очную ставку. Котомкин повинился в содеянном: и что придумал, и что письмо писал, и картинку рисовал, и про то, что деньги у него хранились. После чего отправили их в острог: Никишку — в камеру, а Дарью — в госпиталь тюремный.
* * *
После судили их не как «политиков», а обычным уголовным судом. И вышло им за вымогательство, с учётом отбытого под следствием: Котомкину — год арестантских рот, а Дарье — полгода арестантского отделения тюрьмы. А перед судом венчали их в тюремной церкви, поскольку прокурор такое условие Котомкину поставил: «Коли сбил ты девку с панталыку, до тюремного замка довёл, обещая жениться, так и женись же на ней, сукин ты сын. А не то за рисование антиправительственных картинок и лозунгов я тебя, подлеца этакого, по другой статье, в каторжные работы на Сахалин-остров отправлю!» Ну, понятное дело, так кто хочешь женится.
Говорят, невеста в церкви ещё костылями подпёртая стояла, но все равно очень была довольная: для евиной дочери замуж выйти — первое дело, хоть бы даже и с переломанными ногами, в тюрьме, за арестанта.
Следы двуногого хищника
Жильцы дома № 6 по улице Попова Гора в Казани утром 21 мая 1910 года пришли к домовладелице мадам Купидоновой с жалобой на шум, тревоживший их ночью. Возня и крики, раздававшиеся из квартиры в первом этаже, перебудили соседей наверху. Жалобщики предполагали, что семья Поповых, жившая под ними, куда-то уехала, а их прислуга, пользуясь отъездом хозяев, привела к себе кавалера. Напившись, они принялись безобразно скандалить. Жильцы просили домовладелицу урезонить разгулявшуюся прислугу, и Купидонова, повздыхав, пошла «урезонивать». Она долго стучала в дверь квартиры Поповых, но ей никто не открывал. Тогда рассерженная Купидонова кликнула дворника и спросила его: дома ли прислуга Поповых? Тот ответил, что со двора никто из этой квартиры не уходил с самого утра. Тогда Купидонова, вообразив, что провинившаяся работница просто не отпирает ей, приказала дворнику вскрыть дверь, что тот и сделал, слегка попортив замок. Купидонова вошла в квартиру, но тут же выскочила оттуда, вся бледная, с вытаращенными от ужаса глазами. Мелко крестясь и причитая, она сумела лишь выдавить из себя фразу, обращённую к дворнику:
— Свисти! Зови полицию!
Выйдя к воротам, дворник засвистел, и на тревожную трель его служебного свистка вскоре появился городовой, которому, немного пришедшая к тому моменту в себя домовладелица, смогла сказать:
— Там все в кровище…
Городовой осторожно вошёл в квартиру и почти сразу же увидел на стене прихожей следы крови. Кровь была также размазана широкой полосой по полу, и тянулась эта полоса от самой прихожей в глубь квартиры. Стараясь не наступать на кровавый след, городовой прошёл вдоль этой полосы, и она привела его к дверям спальни. Толкнув дверь, он заглянул в образовавшийся проем и тут увидел два трупа, мужской и женский, лежавшие на полу у кровати так, словно их бросили один на другой, как ненужный мусор. Обнаружив факт убийства, городовой ничего трогать не стал и, как велит инструкция, отправил дворника вызывать сыщиков из сыскного отделения, а сам встал у дверей квартиры на посту.
* * *
Прибывшие на Попову Гору сыщики, во главе со своим начальником Савинским, распределив свои обязанности, стали осматривать место преступления. В убитом мужчине домовладелица Купидонова опознала своего жильца, врача Андрея Александровича Попова, служившего в Казанском медицинском военно-окружном управлении на должности делопроизводителя. Судя по найденному в его квартире паспорту, ему было 57 лет. Женщина, найденная мёртвой, Лидия Федоровна Попова, была женой родного брата Попова, по словам соседей и домовладелицы, приехавшая погостить к деверю несколько дней назад. Мадам Попова, жена Андрея Александровича, в то время находилась в Вологде, в гостях у родственников.
Убили их жестоко, разбив обоим головы тяжёлой механической мясорубкой, бросив орудие убийства в прихожей, в луже крови. Лица погибших были изуродованы ударами, головы пробиты в нескольких местах, но умерли они не сразу. По крайней мере, Лидия Федоровна оказала отчаянное сопротивление убийцам — в её руке был зажат клок волос, очевидно выдранных ею из головы убийцы. Её пришлось задушить верёвкой, которая осталась у неё на шее, а до того она успела несколько раз крикнуть, и это её крики жильцы с верху приняли за пьяные крики загулявшей прислуги.
* * *
По наведённым справкам оказалось, что вскоре после отъезда жены Попова, отправившейся на первой неделе Пасхи к родне в Вологду, 10 мая в Казань приехала жена брата Андрея Александровича, чтобы помочь ему по хозяйству. Вечерами оба они не сидели дома, отправляясь развлекаться каждый по своему вкусу. Вечером 20 мая доктор Попов ушёл в шахматный клуб, а Лидия Федоровна — в гости к знакомым. Дальнейшее, судя по предположениям полицейских, происходило следующим образом: первым вернулся Попов, который, войдя в квартиру, тут же получил несколько ударов мясорубкой по голове. Соседи, услышав шум и какую-то возню, обратили внимание на позднее время — было это около двух часов ночи. Это же время фигурирует в показаниях членов шахматного клуба и извозчиков, подвозивших Попова, а позже и Попову, к дому на Поповой Горе. Лидия Федоровна вернулась минут на пятнадцать позже Андрея Александровича, и так же в прихожей на неё напали, но, не сумев убить сразу, задушили после отчаянной борьбы. Трупы сволокли в спальню, где и бросили.
Квартира носила следы разгрома, ясно было, что нападение совершилось с целью грабежа. У убитых пропали все наличные деньги. Как выяснили сыщики, в кошельке у Попова было больше двухсот рублей, около ста — у Поповой. Кроме того, убийцы забрали золотые часики Лидии Федоровны, несколько золотых колец, её дорогие платья, бельё — словом, все, что нашли в доме ценного.
* * *
Куда-то пропала прислуга, работавшая у Поповых. По показаниям домовладелицы и дворника, Андрей Александрович 13 мая рассчитал прежнюю прислугу и нанял новую. В полицейском участке, куда для прописки носил её паспорт дворник, сыщикам сообщили, что нанята была крестьянка деревни Большая Оленка, Лобасковской волости, Лукояновского уезда Нижегородской губернии Анна Никифоровна Жмакова. По показаниям дворника, к Жмаковой ходил мужчина, которого она называла своим мужем. Но основное подозрение полиции пало на знакомых доктора Попова: астраханского мещанина Александра Павлова, служившего в Казани фельдшером, и его сожительницы Марии Степановой, акушерки по профессии. Эта пара рано утром 21 мая спешно выехала из Казани в Астрахань. Среди знавших Попова людей никто более с такой поспешностью из города не выезжал.
На прислугу решили не тратить время, рассудив, что, пожалуй, она здесь ни при чем — где это видано, чтобы баба могла наносить такие удары по голове тяжеленной мясорубкой? Явно работал мужчина! Скорее всего, рассудили казанские сыщики, Жмакова загуляла с любовником, а когда заявилась под утро домой, то, найдя страшную картину убийства, перепугалась и бежала куда глаза глядят. Другое дело любовники, сбежавшие из города, — по слухам, они остро нуждались в деньгах, и было их двое, как и предполагаемых убийц.
На поиски Павлова и Степановой в Астрахань отправился сам Савинский, и вскоре Степанова и Павлов были арестованы. На следствии они давали путаные показания, алиби у них не было, а волосы Павлова оказались весьма похожими на те, что были зажаты в руке покойной Лидии Федоровны. Все это позволило предъявить Павлову и Степановой обвинение в убийстве. Во время суда, не имея порядочного адвоката, доказать собственную непричастность они не сумели, а потому присяжные признали любовников виновными в двойном убийстве, и на этом основании суд приговорил обоих к каторжным работам.
Со дня убийства Поповых в Казани минул год и один день, когда в Ставрополе, в собственном доме, были найдены убитыми пожилые супруги Ященко. «Почерк» совершивших это преступление полностью совпадал с казан-ским случаем. Первой была убита старуха Ященко, которой проломили голову воровским ломиком «фомкой». Её труп спрятали в чулане. Потом, видимо, пришёл хозяин дома, и его тоже ударили по голове «фомкой», а потом задушили, оставив тело в гостиной.
В доме пропали деньги и все более-менее ценные вещи. Для выяснения, что именно пропало, стали искать прислугу, служившую у Ященко, но та как в воду канула. Это показалось странным, и сыщики стали выяснять, кто она такая, откуда взялась в доме стариков. Оказалось, что при приёме на работу она предъявила паспорт своего мужа, крестьянина Чернова, в который была вписана. Естественно, предположили, что она с перепугу прячется у мужа. Про Черновых было известно, что в Ставрополь приехали они в январе 1911 года, а в начале февраля Чернова поступила на работу в дом Ященко. Муж к ней наведывался, и его в доме считали своим. Хозяин дома, у которого снимал комнату Чернов, сообщил полицейским, что жилец буквально накануне происшествия расплатился с ним, собрал все вещи и ушёл, сказав, что уезжает в Киев.
Приметы супругов Черновых немедленно были разосланы по всем местам, где они могли появиться при выезде из Ставрополя. На вокзале эту пару припомнили — приних было несколько чемоданов, и они опоздали на поезд утром 22 мая. Они так спешили, что здесь же, на привокзальной площади, подрядили трех извозчиков за 75 рублей, чтобы те отвезли их в Армавир. Опрошенные извозчики показали, что привезли их к армавирскому вокзалу и помогли перенести вещи к багажному отделению, после чего наниматели с ними расплатились и отпустили их.
* * *
Сыщики отправились в Армавир, и там, в багажном отделении, выяснили, что чемоданы, про которые рассказали извозчики, были отправлены малой скоростью в Царицын. Узнали номер квитанции багажа, спешно дали телеграмму в Царицын, и тамошние сыщики бросились на вокзал, чтобы выяснить — прибыл ли багаж и не забрали ли его. К счастью для полицейских, багаж пришёл, но ещё не был востребован. За багажным отделением было установлено тайное наблюдение. Два дня прошли в томительном ожидании, пока, наконец, около полудня 25 мая багажный раздатчик подал сыщикам условный знак, означавший, что ему предъявлена квитанция, по которой следовало выдать багаж, отправленный супругами Черновыми из Армавира. За багажом пришла молодая, красивая, хорошо одетая дама. Когда её арестовали, она предъявила паспорт на имя Решетниковой. При ней вскрыли чемоданы, в них были найдены вещи, которые значились в списке украденного в доме Ященко.
Даму доставили в участок железнодорожной жандармерии при царицынском вокзале. Внимательно рассмотрев задержанную, убедились, что она и есть пропавшая прислуга Ященко, «крестьянка Чернова».
Разговор у сыщиков с арестованной на вокзале вышел короток: указав на то, что её запросто опознают соседи Ященко, а вещи уличат как убийцу, предложили назвать имя сообщника и место, где он укрывается, иначе ей одной предстоит отвечать за двойное убийство и грабёж. Испуганная такой перспективой, Решетникова сказала, что послал её за вещами известный уголовник Болдырев, который ждёт её в гостинице. Ещё не веря своей удаче, сыщики со всею поспешностью отправились по названному адресу и вскоре арестовали сообщника дамочки, никак не ожидавшего такого поворота событий.
* * *
Впрочем, арестованный быстро пришёл в себя и в дальнейшем держался уверенно и нагло. Это был отпетый уголовник, профессионал, из тех, что в сети полиции попадаются нечасто. Болдырев знал, что его приметы есть во всех полицейских участках юга России, что его ищут уже несколько лет, а потому и не думал запираться. Он с ухмылкой говорил полицейским: «Я все скажу, ваше благородие, мне бояться нечего! Все равно я сбегу, потому как я умею убегать от вас. Вот и в этот раз уйду! Вы спрашивайте — я отвечу!»
Совершенно спокойно, словно речь шла об обычном деле, Болдырев рассказал, как они приехали с Решетниковой в Ставрополь зимой 1911 года, решив играть супружескую пару, так как паспорт у них был один на двоих, на имя мужа и жены Черновых. Привередничать им не приходилось, пользовались тем, «что Бог послал». Этот паспорт Болдырев добыл в Саратове на базаре, где он встретил крестьянина Чернова, которому представился артельщиком, набирающим людей для работы в каменоломнях. Чернов согласился поработать, потребовал аванс и, получив от «артельщика» три рубля, отдал ему свой паспорт «для оформления бумаг».
Пользуясь документом Чернова, Болдырев и Решетникова легализовались в городе и стали «подбирать дело». Обычно Болдырев посылал Решетникову прислугой или кухаркой в дом, который был побогаче. Когда разведчица, все высмотрев, сообщала ему, где что лежит, он, пользуясь её наводкой, обворовывал хозяев дома. Через некоторое время Решетникова брала расчёт и уезжала из города, после чего они встречались в условленном месте. Болдырев не отрицал, что в тех случаях, когда невозможно было сделать все «чисто», он легко шёл «на мокрое дело». Так было и в Ставрополе.
* * *
Для получения сведений о вакансиях прислуги Болдырев пользовался одним и тем же «надёжным номером». Он просто шёл ранним утром на городской рынок или привозной крестьянский базар, где ходил в съестных рядах, делая вид, что приценяется к товару, а сам в это время прислушивался к разговорам кухарок и прислуги, явившихся делать покупки. Так ему удалось подслушать, как прислуга жаловалась на то, что хозяева её богатые, но ужасно прижимистые старики и она на днях собирается от них уходить. Когда собеседницы расстались, Болдырев пошёл за прислугой, что жаловалась на хозяев. Он проследил её до самого дома, — это был дом стариков Ященко. В тот же день он послал Решетникову к Ященко наниматься в прислуги, но прежде «для виду» она зашла в несколько соседних домов с той же просьбой. Ященко, которым надоела «война» с прежней кухаркой, были рады избавиться от неё и, себе на беду, в тот же день приняли сообщницу Болдырева.
* * *
Прослужив довольно длительное время в доме стариков, Решетникова все никак не могла понять, где они держат свои деньги, пока не подслушала разговор о 10 тысячах рублей за проданное имение. Об этом она сообщила Болдыреву, и тот решил, что пора, ради такого куша можно пойти на «мокрое дело». Через два дня они, уверенные в том, что деньги спрятаны где-то в доме, начали действовать: Решетникова впустила Болдырева в дом, отперев ему двери, и тот почти сразу набросился на старуху Ященко, которая вышла в прихожую посмотреть, кто пришёл. Сообщники без труда труп хозяйки дома оттащили в чулан и стали дожидаться старика. Войдя в дом, тот попал в подготовленную засаду, с ним убийцы тоже расправились быстро. Совершив эти злодейства, Решетникова и Болдырев, с хладнокровием профессионалов, стали методично обыскивать дом Ященко, но 10 тысяч рублей не нашли. Лишь потом, из газетных сообщений, они узнали, что у стариков в доме денег не было, они держали их в городском банке, куда положили, когда продали имение. Найдя в доме лишь 200 рублей, убийцы решили, как всегда делали в таких случаях, «добрать вещами». Они набили имуществом Ященко несколько чемоданов, которые и вывели полицию на их след.
* * *
На момент ареста Болдыреву было всего 34 года, но его молодость ничуть не обманула полицейских. Болдырев подозревался в 57 (!) убийствах, совершённых им за последние несколько лет. Рассказывая ужасные подробности убийства четы Ященко, он был спокоен и даже самоироничен, признавая свои промахи. Когда ему назвали предполагаемое число убитых им людей, он рассмеялся и замахал руками: «Да вы что, ваше благородие! Это меня путают с другим. Он тут же сидит, в царицынском замке, вот нас и путают. Люди говорят, он с 1905 по 1910 год отправил на тот свет аж 118 человек. Ну так то его специальность — мочить на заказ, а я вор и убивал, только обороняясь либо уж когда нельзя было не убить».
Он брал на себя около 20 случаев, и первое, в чем признался… было убийство Поповых в Казани, то самое, за которое вот уже скоро год сидели в тюрьме, ожидая отправки на каторгу, фельдшер Павлов и акушерка Степанова. Болдырев рассказал, как дело было. Решетникова исполняла роль прислуги, назвавшись Жмаковой. Она впустила его вечером 20 мая 1910 года, когда хозяев не было дома, потом они их по очереди убили. Болдин привёл следующие подробности: взяли они деньгами 700 рублей и немного ценных вещей, которые потом, перебравшись в Саратов, заложили в ломбарде. После этого признания невинно пострадавших немедленно выпустили.
* * *
Все в той же непринуждённой манере Болдырев рассказал, что решился пролить кровь лет десять назад, а до того он, сколько себя помнил, был «честным вором». Первое его «мокрое дело» было «убийство чести» — подельщик Болдырева «зажал 300 рублей с дела», то есть утаил при делёжке, не внёс их в общий котёл. По воровскому закону, его «надо было кончить», что Болдырев и сделал, чем невероятно поднял свой авторитет в определённых кругах. Потом он отправил на тот свет свою любовницу во время гулянья: та в пьяном угаре приревновала его к какой-то «шмаре» и «в сердцах» сдала полиции. Задержавшего его городового Болдырев «ублажил» пятирублевой бумажкой и, получив возможность сбежать, явился «на хазу», где продолжалась гулянка, и прямо тут же, при всех, зарезал предавшую его любовницу, которая, конечно же, не ожидала, что он скоро вернётся. Почуяв, что убивать можно легко и «работать так проще», он стал нападать на людей, как хищник из засады, и остальные случаи убийств были у него, как выражался сам Болдырев, «по работе», такие же, как в Казани и Ставрополе.
* * *
Болдырев неоднократно совершал побеги, всякий раз действуя смело и изобретательно. Он убил начальника астраханского конвоя Прибыловского, когда партия арестантов подняла бунт при отправке их из Астрахани на пароходе. Спасаясь от конвоя, Болдырев прыгнул за борт и, по его словам, пронырнув под днищем парохода, выплыл с другой стороны, спрятавшись между бортом и швартовочной стенкой, где его едва не раздавило, когда пароход несколько раз качнуло на большой волне.
В Саратове он, прямо во время допроса в сыскном отделении, сиганул в открытое по случаю летней жары окошко и был таков. В Харькове, когда его вели по улице под конвоем, он просто распихал конвоиров и, что было сил, рванул по улице. Стрелять ему вслед белым днём на людной улице конвойные не решились, а догнать его не сумели. Он так верил в свою удачу, что, припоминая эти свои похождения в кабинете следователя, похохатывал от удовольствия и все приговаривал: «Ничего, ваше благородие, я и в этот раз уйду! Не сейчас, а попозже, из тюрьмы сбегу. Не укараулите вы меня!» Однако его оптимистичным прогнозам не суждено было сбыться. После того как в конце мая 1911 го-да его арестовали в Царицыне, в тамошней тюрьме он просидел всего чуть больше полутора месяцев — в середине июля скоропостижно умер. Почти все российские газеты перепечатали сообщение о смерти этого умного и циничного двуногого хищника, не указав, правда, причину его смерти, что позволяет предположить, что давнишнее убийство Прибыловского, совершённое Болдыревым при побеге в Астрахани, теперь «вышло ему боком» — царицынские тюремщики нашли средство отомстить за смерть «своего». Впрочем, хотя бы отчасти, но своё слово Болдырев сдержал, сбежав от суда и приговора, если только, конечно, можно считать побегом уход в мир иной, где человеческие законы не имеют силы.
Секреты сундуков
История криминалистики, если в ней как следует покопаться, может одарить усердного исследователя самыми неожиданными находками. Порою самые обыкновенные вещи оказываются в эпицентре интриг, поднимая кутерьму не меньшую, чем в истории с бриллиантовыми подвесками, неосторожно подаренными своему любовнику ветреной королевой.
Вот, к примеру, сундук. Казалось бы, что может быть прозаичнее! Обычно сундуки становились предметом преступных замыслов и деяний: их взламывали или похищали вместе с содержимым. Но иногда эти здоровенные, обитые железом ящики сами становились орудиями преступления. Опытные и умелые жулики с ними вытворяли голово-кружительные штуки!
* * *
Возле багажного вагона поезда № 5, который 10 ноября 1906 года должен был отправиться с Курского вокзала на юг России, через Орёл, Курск и Харьков, возник небольшой переполох, когда дежурный ударил в сигнальный колокол во второй раз. Поезд вот-вот должен был отойти от перрона, а несколько грузчиков все никак не могли занести в вагон здоровенный сундук, который их подрядила загрузить в вагон молодая, прилично одетая дама, суетившаяся тут же, умоляя быть осторожнее. Эту фразу, словно заклинание, она твердила все время, пока грузчики тащили её сундучище от ломового извозчика, на котором его доставили на вокзал, до самого вагона. По словам владелицы сундука, в нем была упакована очень дорогая фарфоровая посуда.
Видавшие виды вокзальные амбалы дивились тяжести «места груза»: на весах багажного отделения он потянул только семь пудов, а нести его было страсть как тяжело! Дамочка успокоилась, только когда увидела, что багажный вагон закрыт перед отправлением.
* * *
Доехав до станции Орёл, беспокойная хозяйка сундука вновь развила бурную деятельность. Но здесь её встречал чернявый молодой человек, который заранее нанял артель вокзальных грузчиков для переноски сундука. Когда орловские носильщики, крякнув, подняли сундук, вынесли его из вагона и стали разворачиваться, приноравливаясь к тому, как бы ловчее перехватиться, в сундуке вдруг кто-то чихнул! От неожиданности носильщики выронили сундук, и он грохнулся оземь. Дамочка побледнела как полотно, но шум поднимать не спешила. Смекнув, что дело тут нечисто, один из носильщиков кликнул дежурного жандарма, который попросил дамочку пройти в отделение железнодорожной жандармерии, помещавшееся на вокзале, туда же он распорядился отнести и сундук, где его с различными предосторожностями вскрыли. К немалому удивлению жандармов, из сундука, щурясь на свет лампы, выбрался молодой человек приятной наружности. В покинутом им убежище жандармы, проводившие осмотр, обнаружили подушку, ватное одеяло, полпуда крупы, две пустые пивные бутылки, грязное полотенце, здоровенную морковь, потаённый фонарик и другие инструменты, которые обычно используют воры, а также початую бутылку водки, колбасу, хлеб и виноград.
Владелицу сундука, встречавшего её молодца и молодого человека, столь необычным образом путешествовавшего, сразу же задержали. Но по какому, собственно, поводу — и сами жандармы сказать затруднялись: ездить в сундуках никому вроде бы законом не возбранялось, поэтому сформулировали просто: «По подозрению в незаконном действии».
Арестованные вели себя спокойно, без спору предъявили свои паспорта: дама — на имя мещанки Марии Николаевны Чернецовой, а мужчина — Петра Ивановича Караева. Фамилия встречавшего была Саркисов. Документы у всех были в полном порядке, но ни на какие вопросы отвечать они не пожелали и объяснений по поводу этого странного происшествия не дали. Тогда до поры до времени их посадили в камеры при отделении, отправив по линии сообщение о странном задержании.
Пока в Орле разбирались с этой странной компанией, поезд, на котором они прибыли, успел доехать до Харькова, и там открылось одно неприятное обстоятельство: в багажном вагоне произошла кража ценного груза. В Москве в вагон был сдан большой саквояж, застрахованный на сумму 5 тысяч рублей. В Харькове обнаружилось, что он вскрыт, вернее, разрезан сбоку, а содержимое его исчезло. Раздатчик багажа и артельщик нижегородской биржевой артели, несущие ответственность за сохранность груза, перевозимого в багажном вагоне, попали под подозрение. Их моментально отстранили от работы, а в Харьков срочно выехали для проведения расследования два детектива, состоящие на службе у биржевой артели, которой теперь предстояло, по обязательству, возмещать убытки.
Допрошенные раздатчик и артельщик клялись всеми святыми, что проверяли проклятый саквояж на каждой станции, что все делали, как положено. Но им не верили: вагон был заперт, и следов взлома нигде не было! Не сквозь стены же прошёл вор и унёс с собой краденое?! Общее недоумение продолжалось до тех пор, пока один из детективов не стал проверять телеграммы, пришедшие за ночь и прошедший день по линии телеграфа железнодорожной жандармерии. Среди этих депеш он наткнулся на разосланное по линии сообщение о странном задержании в Орле. Детективы, узнав, что в багажном вагоне, в котором произошла кража, ехал запертый в сундуке человек, ещё не поняв, в чем суть, немедленно выехали в Орёл.
* * *
По прибытии прямо в отделение железнодорожной жандармерии, где содержался сундук, из которого извлекли странного молодого человека, представители артели осмотрели его и обнаружили, что этот с виду обыкновенный сундук — на самом деле предмет, довольно хитро сконструированный! В нем были проделаны вентиляционные отверстия, чтобы сидевший внутри не задохнулся, и одна из его стенок держалась на крюках и открывалась изнутри, как у фокусника в цирке.
Все тем же жандармским телеграфом сыщики запросили сведения об этом сундуке, выслав его багажные реквизиты и номера квитанций во все пункты приёма и выдачи кладей вокруг Москвы. Вскоре пришло сообщение, что этот груз прибыл в Москву со станции Бологое Николаевской железной дороги и был отправлен получателю: мадам Чернецовой, проживавшей в Москве в номерах Шкуриной, на Садовой улице, недалеко от Курского вокзала. Причём был указан и вес сундука — всего 3 пуда.
* * *
Саркисова, Чернецову и Караева снова вызвали на допрос и, сразу «выложив козыри», предложили во всем сознаться. Караев, понимая, что игра проиграна и он разоблачён, признался в том, что именно он придумал смелую комбинацию, которую собирался провернуть с подельниками. Суть её заключалась в следующем: Саркисов, которого «использовали втёмную», по просьбе Караева сдал в багажное отделение «ценный саквояж». В него Караев и его сожительница Чернецова уложили фальшивый груз, собрав его из того, что под руку подвернулось. Этот саквояж Саркисов застраховал по всем правилам на 5 тысяч рублей.
Чернецова заранее выписала из Бологого сундук, доставленный в номера Шкуриной, в который они уложили все необходимое для дороги и «работы», после чего Караев залез туда же, а Чернецова «упаковала» своего любовника снаружи. Потом она наняла грузчиков, ломовика, свезла сундук на вокзал и там проследила за его погрузкой, убедившись, что Караева «занесли» в тот же вагон, в котором везли «ценный саквояж».
Сначала он хотел просто вылезти из сундука, когда в вагоне никого не будет, забрать саквояж и спрятаться с ним обратно в сундук. Его бы вынесли в Орле, в Харькове пропажу ценного груза зафиксировали бы, оставалось только пойти и получить страховую премию! Но, сидя в сундуке, он слышал, как артельщик и раздатчик несколько раз проверяли саквояж и выражали беспокойство по поводу его сохранности. Караев понял, что кража саквояжа будет обнаружена тут же, в Орле, и весь план провалится. Тогда он решил имитировать вскрытие саквояжа и «похищение» из него, ведь сам он останется на месте, а о том, что содержимое исчезло, узнают только в Харькове.
Дождавшись, когда все ушли и поезд тронулся, он выбрался из сундука и, светя себе потайным фонариком, который предусмотрительно прихватил с собою, в кромешной тьме вагона отыскал саквояж, вспорол ему бок, вынул подложенный фальшивый груз, перенёс всю эту дрянь к себе в сундук и спрятался сам.
Ехал он с относительным комфортом: в сундуке была пуховая подушка, ватное одеяло. Запасена была бутылка водки, 2 фунта колбасы, белый хлеб и для десерта три фунта винограда. Внутри сундука были устроены специальные кожаные петли, на которых во время переноски он должен был повиснуть. В Москве, на вокзале, сделать этого он не успел и потому сидел на полу, здорово увеличивая вес при переноске, а в Орле угораздило его чихнуть и тем себя обнаружить.
* * *
После раскрытия преступления Чернецову и Караева отдали под суд за мошенничество, а Саркисова отпустили — по словам преступников, он только выполнял их просьбы, сам не понимая, в чем участвует. Артельщика и багажного раздатчика восстановили в прежних должностях, когда все выяснилось. Но это было только началом эпидемии аналогичных краж на железных дорогах. Видимо, Караев просто взял все на себя, не назвав настоящего разработчика этого трюка, который сам на дело не ходил.
Впоследствии, когда после нескольких эпизодов с подкладкой в багажные отделения сундуков «с живой начинкой» большие сундуки попали под подозрение, их стали нарочно «ставить на попа», встряхивать и иными способами определять, не скрылся ли в них вор. Тогда для краж стали использовать детей, набирая малолетних подручных из беспризорников: они умещались в кофре или чемодане, к тому же маленькие «живые отмычки» были гораздо ответственнее своих взрослых коллег, работу «портили» редко, а попавшись, молчали наглухо, да и делиться добычей с ними было не нужно, давали «от щедрот» сколько заблагорассудится.
* * *
Но ещё задолго до того, как сундук дебютировал в истории криминалистики как орудие совершения кражи, его вовсю использовали для багажных мошенничеств. В то время когда железных дорог ещё не было, ловкачи отправляли в разные места сундуки и ящики, содержащие фальшивый багаж, на вымышленные адреса. Конторы по перевозке кладей выдавали на них квитанцию, которая юридически была приравнена к векселю, то есть годилась для операций в банке! Мошенникам оставалось только путём нехитрой комбинации «обналичить» багажную квитанцию, пока где-то далеко на складах провинциальных контор по перевозке кладей отправленные с фальшивым грузом сундуки долгие годы пылились как «невостребованные получателем».
А ещё сундуки обожали использовать убийцы, желающие избавиться от трупа. Распутывать такие дела было чрезвычайно сложно, поэтому каждое расследование, завершавшееся поимкой преступника, который подготовил такой «сюрприз», попадало сначала на страницы газет как сенсация, а потом в учебники по криминалистике.
Порою страшные, порою смешные тайны могли содержать в себе с виду безобидные сундуки, бывшие символами спокойной и размеренной жизни во времена, когда наши прабабушки хранили в них приданое. Нынче, когда люди стали путешествовать налегке, а держать в квартирах такие громадины стало затруднительно, сундуки совсем уже почти вышли из употребления. Остались, пожалуй, только у цирковых фокусников, которые в своё время проделывали на арене с ними всякие штуки и, надо думать, подтолкнули сообразительных жуликов к мысли использовать сундуки столь необычным образом.
Бриллианты семьи шталмейстера
Год 1914-й от Рождества Христова для шталмейстера* В.И. Денисова начался со страшной трагедии: совершенно неожиданно покончил с собой его старший сын Николай. После этого у младшего сына, Ильи, развилась неврастения. Денисов, совершенно доверяя человеку, в коем Илья души не чаял, препоручил всю заботу о сыне его воспитателю, доктору прав, французу Данжу. Семья шталмейстера распалась несколькими годами ранее: жена выразила желание жить отдельно, и сыновья остались с Денисовым (так тогда было принято). Это были уже довольно взрослые молодые люди, достигшие совершеннолетия, но жившие на попечении у отца. К ним был приставлен уже упоминавшийся Данжу, служивший в доме Денисовых несколько лет. Имущественные дела супругов, живших раздельно, но официально не разводившихся и имущества не деливших, были весьма запутаны. Мадам Денисова, зная деловую хватку мужа и полагаясь на его джентльменство, управление своими делами поручила ему, о чем и выдала соответствующий документ. Ещё в 1907 году Денисов купил на имя жены дом в Петербурге, на Загородном проспекте, но потом, после того, как выяснилось, что дом не приносит ожидаемых доходов, жена уговорила Денисова продать его и подарить ей особняк в Гродненском переулке. В этом доме семья, собственно, и жила. После ухода жены Денисов остался в этом особняке с сыновьями: супруга подписала отказ от владения этим домом с условием, что ей достанется большая доля наследства в случае смерти Денисова. В управлении мужа остались также и земли, приданое жены, за которые Денисов выплачивал ей ежегодную ренту. Но самым главным в этой истории было то, что у мужа остались на сохранении бриллианты жены, оценивавшиеся в 200 тысяч рублей.
* * *
Оправившись от горя, Денисов-старший вернулся к деловой жизни, которая требовала частых разъездов, поэтому, собираясь в заграничный вояж в марте 1914 года, шталмейстер абонировал личный сейф в Волжско-Камском банке, чтобы поместить туда бриллианты жены. Накануне назначенного отъезда Денисов лично упаковал украшения в картонные коробочки из-под конфет, сложил коробки в стопу и крепко перевязал их верёвкой так, что получился один пакет. Этот свёрток он положил в несгораемую кассу в своём кабинете, рассчитывая с утра отвезти его в банк. Однако утром 19 марта он получил телеграмму, извещавшую его, что целесообразно отложить приезд на несколько дней. Образовавшийся досуг изменил планы Денисова, и он решил отправиться на торгово-промышленный съезд в Вильну. Пакет с драгоценностями так и остался лежать в его несгораемой кассе. Через неделю он вернулся в Петербург, отвёз пакет в Волго-Кам-ский банк, поместил его в абонированный сейф и в тот же вечер уехал за границу.
* * *
По возвращении домой в апреле того же года Денисов, заглянув в свою кассу, сразу обнаружил недостачу: исчез фамильный серебряный сервиз эпохи Наполеона Первого, ценою 25 тысяч рублей, и икона пророка Илии, украшенная бриллиантами. Икона была поднесена некогда чете Денисовых настоятельницей монастыря, который супруги почтили своим посещением.
Денисов пожелал видеть сына, чтобы расспросить его о том, что происходило в доме. Но ему доложили, что Илья за время его отсутствия выправил заграничный паспорт и, как только была получена телеграмма от Денисова, извещавшая о приезде, в сопровождении воспитателя-француза спешно отбыл на вокзал и выехал за пределы Российской империи. У несчастного шталмейстера от всего этого голова буквально пошла кругом, а тут ещё позвонил поверенный жены и передал её просьбу срочно предоставить в распоряжение мадам Денисовой хранившиеся у него бриллианты.
Пришлось, оставив невыясненной историю с пропажами из кабинетной кассы, спешно ехать в Волжско-Камский банк, забирать из сейфа пакет. Там же, в сейфовом зале, Денисов вскрыл одну из коробочек и обнаружил в ней вместо украшений с бриллиантами… пасхальное яичко! Он принялся лихорадочно раздирать другие коробки и находил в них все те же яички-«крашенки» вместо драгоценностей.
Прямо из банка шталмейстер отправился в санкт-петербургскую сыскную полицию, где был принят лично её начальником Филипповым, которому и поведал о произошедшей краже и подмене. Связи в сыскной полиции у Денисова имелись большие: он состоял в Обществе поощрения использования собак в полицейской и сторожевой службе и много делал для становления кинологической полицейской службы.
В доверительной беседе посетитель поведал о запутанной ситуации, сложившейся в его доме, умоляя только об одном: провести расследование, по возможности не предавая события огласке. Вести деликатное дело Филиппов поручил своему заместителю, старшему чиновнику для особых поручений Кунцевичу, которому разрешено было брать в помощь любых людей из персонала столичной сыскной полиции.
* * *
Осмотр замка кассы в кабинете Денисова показал, что её открывали ключом: следы взлома или работы отмычкой отсутствовали. Ключ от кассы был в общей связке и всегда при Денисове, заграничная поездка не была исключением. Вследствие собранных первичных показаний и рассказа самого Денисова Кунцевич предположил, что обе кражи мог совершить только кто-то из живших в доме. Он сосредоточил внимание своих людей на двух моментах: во-первых, следовало проверить, не заказывал ли кто-либо копии ключа от кассы, во-вторых, разузнать о всех живших в доме Денисовых и попробовать ответить на вопрос, кто из них знал о бриллиантах, а главное, мог их подменить.
Сам же сыщик постарался выяснить подробности спешного отъезда Ильи Денисова и доктора Данжу, именно на этой паре сошлись оба направления поиска, заданные Кунцевичем. Подозрение на них пало после того, как полиция сделала через французское посольство запрос о личности Данжу, и оказалось, что воспитатель детей шталмейстера, покоривший всех в доме своим светским обращением и изяществом манер, личность, в своём роде, презанятная.
Образование месье Данжу получил в одном из иезуитских колледжей и даже готовился принять монашество, но за какие-то проделки был изгнан из ордена (за какие именно, установить не удалось — иезуиты не раскрывают своих тайн). Засим в его биографии был эпизод, когда в Тулузе он предстал перед уголовным судом присяжных по обвинению в краже. Но тогда «доктор прав» ловко симулировал сумасшествие, и присяжные, признав Данжу слабоумным и недееспособным, освободили его от ответственности. После этого он прибыл в Россию, где очень скоро стал своим человеком в разрушающейся семье Денисовых.
Таким образом, подозреваемый №1 определился довольно быстро. Сыщикам удалось найти слесаря, изготовившего модельный ключ от кассы Денисова. Когда мастеру показали фото Данжу, он опознал в нем заказчика. Для полиции оставалась непонятной роль Ильи Денисова в этой истории. И они принялись исследовать окружение младшего сына шталмейстера. Факты, которые были собраны в короткий срок, когда они были представлены Денисову-старшему, поразили его более, чем все предыдущие события: оказалось, что под одной с ним крышей жил человек, фактически похитивший у него его детей.
* * *
Попав в семью Денисовых, Данжу, пользуясь слабохарактерностью Николая и Ильи, полностью завладел их волей. При этом рассказывавшие об этой власти француза над молодыми людьми употребляли термин «гипнотическая власть», именно так он воздействовал на них. Однако природа этого «гипноза» раскрылась, когда выяснилось, что Данжу проповедовал своим подопечным идеи женоненавистничества, восхваляя «чистую мужскую дружбу и союз». Примером для молодых людей он избрал Оскара Уайльда. Восхищаясь мастерством британского писателя, он ставил его талант в прямую зависимость от сексуальных предпочтений, которые, по Данжу, являлись знаками тонкой, творческой натуры, не скованной условностями ложной буржуазной морали и общественных предрассудков. В сущности, речь шла о растлении молодых людей посредством педерастии и пристрастию к кокаину, что являлось признаками элитарности в тогдашней среде петербургской «золотой молодёжи».
В своих проповедях Данжу преуспел настолько, что оба Денисовых стали игрушками в его руках. Помимо гомосексуально-кокаиновой подоплёки самоубийства Николая Денисова в ходе расследования неожиданно обнаружилась ещё и «экономическая причина» произошедшего — Николай, по просьбе своего кумира Данжу, подписал векселя на кругленькую сумму в знак их «высоких отношений». Позже, поняв, что без скандала из этой истории ему не выпутаться, он предпочёл уйти из жизни, чтобы не подвергнуть опасности «дражайшего друга Данжу».
Положение Денисова было отчаянное: в любой момент мог разразиться скандал, и его, светского человека, могли обвинить в том, что он все это подстроил, чтобы украсть у своей жены бриллианты. Известно: на каждый роток не накинешь платок. И если пуля в голову или яд могли спасти поруганную честь, то сын все равно оставался в руках Данжу, этой извращённой твари, которая умеет принудить его совершать самые ужасающие пакости!
* * *
По имевшимся в распоряжении полиции данным, Илья Денисов и Данжу выехали в Швейцарию, куда немедленно был командирован Кунцевич для розыска и допроса француза. Вместе с ним собирался выехать и Денисов, но его задержали неожиданные дела: жена во время его пребывания за границей обратилась в суд с иском о разделе имущества и выплате причитающейся ей доли. Во время разбирательства выяснилась тайна пропажи иконы и сервиза из кассы в кабинете Денисова: оказалось, что мадам Денисова успела посетить особняк в Гродненском переулке. Пока муж отсутствовал, она вывезла из нескольких комнат особняка ценную мебель и предметы обстановки к себе на квартиру, снятую в доме на Сергиевской улице, где она жила. Муж на такую «мелочь» не пожелал обратить внимания. Но, как выяснилось, не мебель была целью посещения покинутого семейного гнёзда. Денисова, имея «свой» ключ от кассы, в которой хранились её бриллианты, по договорённости с мужем хотела забрать драгоценности, но, не обнаружив их, «ограничилась» только сервизом и иконой. Этим и объяснялось её поспешное требование к мужу, прямо в день его приезда, выдать ей бриллианты, которых она не обнаружила в условленном месте.
Денисов поручил своему адвокату как можно быстрее уладить все вопросы к бывшей супруге, только бы развязать себе руки и получить возможность ехать спасать сына и дворянскую честь. Денисова не преминула воспользоваться ситуацией и выставила условие: 50 тысяч ей единовременно «для обеспечения будущего» и 18 тысяч ежегодно «на житьё». Денисов велел адвокату соглашаться. Только после этого он смог выехать вслед за Кунцевичем, уже во второй половине мая 1914 года.
* * *
Оказалось, что Кунцевич, прибывший в Швейцарию раньше Денисова, времени даром не терял и успел отыскать беглецов. Идя по их следам от самого Петербурга, сыщик установил, что приметная парочка направилась в швейцарский город Люцерн. Прибыв туда, Кунцевич принялся систематически обходить отели и пансионы, в которых предположительно могли остановиться Илья Денисов и Данжу, и в одном из них он в списке постояльцев обнаружил некоего французского подданного по фамилии Дюрен. Это насторожило сыщика: дело в том, что совсем незадолго до этой командировки он прочитал сообщение в газете о том, что во Франции скончался в глубокой старости последний представитель древнего дворянского рода Дюренов, ведшегося от одного из маршалов Франции. В сообщении говорилось, что после умершего не осталось детей мужского пола и, таким образом, род Дюренов пресёкся, прекратив своё существование как дворянская фамилия. Заинтересовавшись самозванцем, Кунцевич расположился в холле отеля у столика с газетами, решив дождаться возвращения Дюрена в отель. Вскоре он увидел, как в холл, под руку с красивой дамой, вошёл Данжу, попросивший у портье ключ от номера. Вручая ключ, портье назвал Данжу «месье Дюреном». Таким образом, последние сомнения в виновности француза отпали: Данжу жил в отёле под чужим именем, явно скрываясь, а честному человеку, не чувствующему за собой вины, такие предосторожности не нужны.
Местонахождение Ильи Денисова выяснилось через несколько дней: оказалось, что молодой человек пребывал в одном из люцернских психиатрических заведений санаторного типа, куда его поместил Данжу, после того как у Ильи начались истерические приступы. Кунцевича, который теперь неотрывно следил за Данжу, «подопечный» к Илье привёл сам, когда отправился навестить Денисова-младшего. Сыщик лишь последовал за ним.
* * *
Прибыв в Люцерн, Денисов-старший разыскал Кунцевича, и они стали думать, что им делать дальше. Сыщик предлагал обратиться к швейцарским властям с просьбой взять под стражу Данжу, опасаясь, что тот может скрыться. Денисов же высказал опасение, что арест этого прохвоста может пагубно отразиться на психике сына, и без того находящегося на грани безумия. В конце концов они решили сначала попытаться убедить Илью в виновности Данжу, добиться полного с ним разрыва и возвращения его в Россию с отцом. Здесь же, в Швейцарии, наделённый необходимыми полномочиями Кунцевич сможет тогда вести расследование по всем правилам, не будучи связан по рукам и ногам необходимостью щадить разболтанную психику молодого человека, бывшего в этой истории и причиной, и жертвой, и орудием преступления.
* * *
Денисов отправился на свидание с сыном в санаторий. Он умолял Илью одуматься, приводил факты, доказывавшие виновность Данжу, и просил дать ему возможность вернуть матери бриллианты, чтобы избежать скандала, могущего погубить их фамильную честь, его карьеру, в конце концов, будущее самого Ильи. В ответ сын сказал, что он ни на секунду не сомневается в честности и порядочности месье Данжу, которого уже давно преследует некая группа лиц, задумавших погубить этого блистательного человека, как загубили в Англии Оскара Уайльда, только из-за глупой предубеждённости и зависти. По убеждению Ильи, вся эта история с бриллиантами была частью чьей-то дьявольской интриги против Данжу. Напрасно отец взывал к логике сына, предлагал ему ответить на вопрос: почему они так спешно покинули Петербург и Россию? На какие средства существуют здесь? Но неврастеник с болезненным упрямством твердил своё: Данжу не виновен, если будет арестован, то он готов вслед за Николаем покончить с собой.
Ничего не добившись, Денисов убыл восвояси. Он упросил Кунцевича не предпринимать пока никаких шагов и ограничиваться лишь только слежкой за Данжу, которую установили с помощью прибывших из Петербурга сыщиков, вызванных телеграммой в качестве подкрепления.
* * *
Прошло несколько дней. Наблюдатели докладывали, что Данжу не расстаётся со своей красавицей, оказавшейся итальянкой, последние годы жившей в Петербурге и сопровождавшей его с самого их отъезда из столицы. Ничего особенного в их поведении замечено не было — обычные любовники среднего достатка. Необходимо было предпринимать активные действия по розыску драгоценностей: в любой момент бывшая супруга могла потребовать новых компенсаций и сделать губительные для чести Денисова заявления для прессы. Проанализировав сложившуюся ситуацию, сыщик и Денисов разработали новый план действий: первым делом во что бы то ни стало разъединить Данжу и Илью, хотя бы на некоторое время.
Для этого Денисов отправился в город Мюгге, расположенный в двух часах езды от Люцерна. Он остановился в отёле и по телефону переговорил с доктором санатория, в котором лечился Илья, выясняя, может ли тот вынести переезд. Узнав, что сын здоров, Денисов вызвал его к себе в Мюгге телеграммой. Тот немедленно известил об этом своего друга. Данжу спешно переехал в Берн со своей итальянкой, устроил её в отёле и вернулся в Люцерн, где, встретившись с Ильёй, имел с ним долгий разговор, после которого попытался вместо него встретиться с Денисовым, но тот не принял его. Он желал видеть только сына.
* * *
Наконец, в Мюгге прибыл сам Илья. Отец повторил своё предложение вернуться вместе в Россию, порвав с Данжу, но сын и на этот раз отверг его. При этом он был крайне возбуждён и его била крупная нервическая дрожь. Отец переменил тон и тему разговора. Он мягко и доброжелательно обратил внимание сына на состояние его здоровья, на то, что ему следует серьёзно лечиться, а ведь для этого нужны деньги, чтобы платить хорошим специалистам. У месье Данжу, ежели он бриллиантов не брал, таких денег быть не может, и, оставаясь вне семьи, Илья окончит свои дни в бесплатной клинике для психически больных. При этом Денисов живо описал все присущие подобным заведениям «прелести». Отец предлагал сыну, коль тот не хочет ехать в Россию, отправиться для лечения в Париж, но при этом оговаривал себе право сопровождать его, чтобы платить за лечение и вообще заботиться о нем. Немного подумав, Илья согласился ехать с отцом в Париж, заявив все же, что считает месье Данжу честнейшим человеком. Денисов-старший не стал с ним спорить — главное, что сын согласился ехать в Париж с ним, а не с французом! За ними, безусловно, последует и Данжу, а за ним — Кунцевич со своей сыщицкой бригадой. Им было крайне важно вытащить всю эту компанию именно в Париж, где, предположительно, Данжу спрятал бриллианты: сыщики, наводя справки об итальянке, подружке Данжу, установили, что она сначала проследовала в Париж, а уж потом присоединилась к Данжу в Швейцарии.
* * *
Прибыв в Париж, каждый занялся своим делом: отец водил Илью по врачам, а люди Кунцевича неотступно следили за Данжу. На третий день после прибытия в Париж он посетил один дом на улице Вольтера. Вскоре туда же прибыла и итальянка. Пробыв в доме до вечера, любовники расстались. С этого дня они стали являться туда как по расписанию, ежедневно. Кунцевич навёл справки у швейцара этого дома и выяснил, что Данжу арендует в доме квартиру под чужим именем, здесь его знали как Марка Фердинанди. Сыщики обратились в криминальную полицию Парижа и с её помощью стали изымать почту месье Данжу. Здесь их ждала удача: в одном из писем своему брату Данжу написал, что очень скоро он уже реализует бриллианты, купит большой многоквартирный дом и заживёт, как мечтал, жизнью хорошо обеспеченного домовладельца и рантье. Брату он сулил место управляющего при его доходном доме. Для французской полиции этого оказалось достаточно, и буквально на следующий день поклонника Оскара Уайльда и «чистой мужской дружбы» арестовали на лестничной площадке возле квартиры на улице Вольтера. При обыске в этой квартире нашли и камни, похищенные у Денисова. Данжу извлёк бриллианты из оправ, но все они были на месте, за исключением двух камней, извлечённых из диадемы мадам Денисовой. Их он продал, чтобы обеспечить себя деньгами на первое время, пока не реализует все драгоценности.
* * *
В полиции, уже не таясь, Данжу рассказал о том, как, приобретя власть над сыновьями Денисова, он только ждал удобного случая эту власть употребить. Начал он с векселей, которые заставил подписать Николая и Илью, порознь друг от друга. Всего они выдали ему векселей на 350 тысяч франков, которые он учёл в банке «Лионский кредит», открыв там онкольный счёт. Потом возникла идея с подменой бриллиантов. Зная о том, что отношения супругов Денисовых крайне запутанны, Данжу решил воспользоваться этим, рассчитывая, что гордые аристократы не станут «выносить сор из избы». В качестве первоначальной «отмычки» он употребил ничего не подозревавшего Илью. Однажды вечером воспитатель сумел убедить молодого человека, что тот неважно выглядит. Крупная нервная дрожь нередко случалась в тот период у больного юноши. «Добрый друг» убедил сына попросить у отца его тёплый домашний халат, чтобы укутаться на ночь. В кармане халата лежала связка ключей, это француз подметил давно. Остальное было делом техники: напоив Илью успокоительными лекарствами, француз дождался, пока тот крепко уснул, вытащил из кармана ключи, снял мерку и положил их обратно. На другой день он заказал слесарю копию ключа от кассы и, получив таковую в свои руки, похитил украшения, подменив их первым, что попалось под руку.
Он заставил Илью выправить заграничный паспорт и решил увезти его с собою, имея в качестве щита от нападок родителей. В день приезда Денисова-старшего они выехали за границу: убедить Илью ехать было несложно. «Отец может помешать нашему счастью, — твердил воспитатель, добавляя: — Здесь существами низшими плетётся дьявольская интрига против меня». Этих аргументов вполне хватило для того, чтобы безвольный молодой человек отправился с ним и потом защищал до последнего, грозя самоубийством.
Уже в Париже, осторожно подготовив почву, Данжу открылся Илье, что именно он взял бриллианты из кассы его отца. Сначала Денисов-младший возмутился, стал требовать немедленно бросить проклятые камни в Сену… но потом, обласканный, приголубленный и убеждённый во всегдашней правильности поступков Данжу, совершенно успокоился и отцу ничего не сказал до самого ареста своего любовника. Относительно дальнейшей судьбы Ильи, после того как он, сыграв свою роль, стал бы не нужен своему кумиру, остаётся только догадываться — скорее всего, его ждал бы сумасшедший дом в какой-нибудь европейской дыре, а то и дорожка на тот свет, проторённая старшим братом, не случайно мысль о повторении его шага сидела в голове молодого человека. После того как Илья «вошёл в курс дела», Данжу решился извлечь бриллианты из тайника, в который их упрятала его сообщница, и перевёз на квартиру на бульваре Вольтера, готовя к продаже. Нельзя же было солидным покупателям демонстрировать столь деликатный товар в лесу или номере отеля?!
* * *
Данжу поместили в тюрьму, на счёт его в «Лионском кредите» наложили арест, а похищенные бриллианты вернули Денисову-старшему. Вместе с сыном шталмейстер выехал в Россию в середине июня 1914 года. Но счастливого конца этой истории не последовало: ещё в поезде Илье сделалось худо, с ним несколько раз кряду случились неврастенические припадки, начались галлюцинации и истерики. В ужасном состоянии его прямо с вокзала в Петербурге увезли в больницу для душевнобольных доктора Консевича.
Прошло несколько дней, но состояние больного не улучшалось: припадки и галлюцинации продолжались, усиленные тем, что сейчас называют «кокаиновой ломкой». В минуты просветления Илья слёзно умолял отца не преследовать «милого месье Данжу» и тем вернуть ему душевное спокойствие. Денисов, будучи не в силах переносить вида мучений сына, дал такое обещание и слово сдержал. Он обратился через французское посольство к судебным властям Французской республики, прося прекратить уголовное дело в отношении Данжу, поскольку он прощает его, с тем, однако, условием, что упомянутый Данжу никогда более не пересечёт границ Российской империи и не вступит в письменные или какие-либо ещё сношения с его сыном Ильёй Денисовым. В случае невыполнения этого условия Денисов оставлял за собой право возобновить преследование Данжу в судебном порядке.
Никто не знал тогда, что все это, в сущности, уже лишнее: менее чем через полтора месяца началась Первая мировая война, смешавшая в одну кучу обломки планов, условий, прежних законов и человеческих судеб…
Авторитетные мальчики
Вечером 12 января 1910 года на имя начальника сыск-ного отделения псковской полиции Мютеля из Петербурга пришла телеграмма: «Срочно примите меры к задержанию мальчика Пети Крылова, совершившего в Санкт-Петербурге кражу и, по полученным сведениям, выехавшего в Псков». Не имея никакого представления ни о личности мальчика Пети, ни о характере совершённого им преступления, Мютель, тем не менее, распорядился выслать на пассажирскую станцию Псков-Первый, куда прибывали поезда из столицы, всех имевшихся в его распоряжении агентов. Задачу им поставили простую: проверить всех мальчиков, приехавших в Псков с питерским поездом, прибывающим в 20 часов 40 минут. На вокзал отправился и сам Мютель.
Проверка пассажиров, прибывших вечерним поездом, ничего не дала. Собственно, и проверять-то сыщикам оказалось почти некого: из всех подходящих под определение «мальчик» с этим поездом приехали лишь двое, которые при поверхностной проверке Петями Крыловыми не оказались. Вернувшись в отделение, Мютель отправил в петербургскую сыскную полицию рапорт о проведении проверки на вокзале и о результатах её, вернее, об отсутствии таковых. После чего отправился домой.
* * *
Придя утром на службу, он получил от дежурившего той ночью чиновника дополнительные сведения о разыскиваемом Пете Крылове. Телеграмма пришла из Петербурга глубокой ночью. «Видимо, мальчик наделал в столице много шума, если там даже ночью не спали, разыскивая его», — подумал опытный сыщик, раскрывая папку с депешей, обнаружив в ней большой бланк с наклеенными на него полосками телеграфной ленты. Это была розыскная ориентировка на Петра Михайлова Крылова, по кличке Скобарь, крестьянина Псково-градской воло-сти, деревни Вавериной, 15 лет от роду. По сведениям картотеки Санкт-Петербургской сыскной полиции, Пётр Крылов, несмотря на свой юный возраст, был уже опытным вором-карманником, «щипачом», пять раз судимым за это. Первые два раза его отдавали под надзор родителей, после третьего задержания отправили на три месяца в монастырь, на воспитание. Однако покаяния от него добиться не удалось, и едва выйдя из стен обители, Скобарь взялся за старое. Потом его ещё дважды ловили и, в конце концов, поместили в санкт-петербургскую колонию для несовершеннолетних преступников, откуда Петенька совершил девять побегов, в последний раз «оборвавшись» более месяца назад. Накануне Скобарь, в составе шайки опытных «шипачей», на центральном почтамте Санкт-Петербурга совершил кражу тысячи рублей и скрылся из города, предположительно уехав на родину.
* * *
Мютель, вызвав опытного агента, надзирателя полиции Шубина, приказал снарядить отряд нижних чинов для проведения поиска Скобаря. Для начала этот отряд, под командой самого Мютеля, отправился в Запсковье. Там в Кошачей слободе, согласно сведениям, имевшимся в псковской полиции, у матери Пети, Варвары Крыловой, был собственный домик.
Прибыв на место, полицейские не застали дома ни самого Скобаря, ни его матери Варвары. Дома была только бабушка Пети, свекровь его матери. Хитрая старуха была опытна в воровских делах: разыгрывая из себя глуховатую и тупую старушонку, все переспрашивала: «Ась? Чего говоришь-та?» На все вопросы она твердила, что ничего не знает о местонахождении внука и снохи. Не добившись толку, полицейские решили опросить свою агентуру. В Кошачей слободе, месте весьма подозрительном, селилось много народа, промышлявшего тёмными делишками. Здесь во многих домах были «хазы» и «малины», поэтому у местной полиции в слободе имелись несколько надёжных информаторов. С одним из них тайком встретился Шубин и спросил агента, не видел ли тот Петьку Скобаря. Оказалось, что мальчик наведывался к матери накануне днём.
— С хорошего дела приехал Петька, господин начальник, — сказал Шубину информатор.
— Почему так думаешь?
— Одет больно фартово: в новом пальте, в папахе белой, в сапогах с калошами. Не в колонии же его так прибарахлили!
— Где он сейчас?
— Они с Варварой, матерью его, в тот же день из дому подались. Говорят, к бабке его, к матери Татьяны, в деревню Великое Село.
* * *
По следу матери и сына Мютель направил надзирателя Шубина с нижними чинами, а сам отправился обратно в Псков.
Вернувшись, Шубин доложил, что, приехав в Великое Село и разыскав дом матери Петьки и его, стало быть, второй бабушки, Татьяны Яковлевны Ягуповой, произвёл в нем обыск. Но сразу обнаружить ничего не удалось. В доме Ягуповой было полно ребятишек младшего возраста, которых старуха брала на воспитание, пока их родители ездили на промысел в Петербург. Чем промышляли они, остаётся только догадываться. Сама Ягупова заявила, что она не видела внука и дочери. Но Шубин, осматривая дом, нашёл белую папаху. Точно такая же, по словам информатора из Кошачьей слободы, была на Петьке, когда он с матерью уезжал в Великое Село. Улучив момент, когда Ягуповой не было в горнице, Шубин спросил у ребятишек, игравших на полу:
— А чья же это шапка такая красивая? Твоя, наверное? — спросил он у того из малышей, что был постарше.
— Не-е! — солидно возразил карапуз. — Это Петькина шапка.
— Так Петька к бабе Тане приехал?
— Вчера, кажись.
— И где же он теперь?
— С утра тут был, а сейчас, наверное, вышел погулять.
— Ну, брат, куда же это он на такой мороз без шапки гулять пойдёт?! — возразил Шубин более своим мыслям, нежели малышу. Он уже совершенно уверился в том, что Скобарь где-то здесь, в доме своей бабки.
Распорядившись начинать обыск заново, Шубин сам, вместе с нижними чинами, облазил весь дом. Скобарь отыскался в погребе. Он притаился в большой бочке, искусно присыпанный сверху ячменём. «Фартового мальчика» немедленно арестовали и обыскали, но денег при нем обнаружили только 2 рубля 75 копеек.
* * *
Доставленный в Псков Скобарь был допрошен лично Мютелем. Сначала он показал, что, сбежав в последний раз из колонии, около месяца шатался по различным притонам, промышляя карманными кражами. 11 января 1910 года вместе с Тимофеем Богдановым, по кличке Тимошка Просвиркин, уроженцем деревни Обижи Остенской волости, и кронштадтским мещанином Иваном Андреевым, по прозвищу Левак, они отправились на главный почтамт. Там, в очереди у окошка, где выдают ценные бандероли, Просвиркин присмотрел кошель у какого-то господина, и он, Скобарь вытащил бумажник, передав его Леваку. Покинув место кражи, они пошли в чайную на 5-ю Суворов-скую улицу, где сосчитали добычу. Оказалось, что в бумажнике было 935 рублей. За наводку и помощь при совершении кражи Скобарь отсчитал Просвиркину и Леваку по 75 рублей. Отмечая успех, они стали пить водку. По словам Скобаря, он сильно захмелел, и когда они с Просвиркиным уже прибыли на Николаевский вокзал, чтобы ехать домой на Псковщину, то обнаружилось, что деньги у него пропали. Просвиркин предположил, что «зузы скрысятил Левак», но искать его уже не было времени, поезд вот-вот должен был отойти. В Псков он приехал в 12 часов дня и сразу отправился в Кошачью слободу, к матери, которой отдал девять рублей из тех двенадцати, что были у него в кармане, а три оставил себе.
Выслушав его, Мютель спросил молодого вора:
— Что же ты врёшь мне? Вещи-то у тебя совсем новенькие, почти неношеные. Ведь перед отъездом купил, так ведь, Петя?
Перед допросом Мютель ещё раз связался с Петербургской сыскной полицией. Столичные сыщики уточнили обстоятельства кражи: переполох вышел из-за того, что денежки Скобарь на почтамте «тиснул» из внутреннего кармана шинели у частного пристава одного из отделений Петербургской полиции, можно сказать у коллеги. Тот в сыскном отделении опознал по картотеке мальчишку, тёршегося возле него у стойки выдачи бандеролей, из-за чего весь сыр-бор и разгорелся. По показаниям потерпевшего одет вор был плоховато: в короткий зимний пиджак и лёгонький картузик. Поэтому и говорил Мютель столь уверенно, что купил Скобарь одежду перед самым отъездом.
— Твоя правда, начальник, — нехотя согласился Скобарь, поражённый проницательностью Мютеля, — немножко все было по-другому.
«По-другому» было так: на дело они пошли всемером — сам Скобарь, Колька Бриллиантик, Левак, брат его Серёга, Тимошка Просвиркин, Володька и ещё один, которого «Скобарь» не знал. Роли были расписаны заранее: один присмотрел денежного «пассажира», другие, «закопёрщики», устроили небольшую «давильню» у окошка, отвлекая внимание жертвы, Скобарь «щипнул лопатник у фраера», который тут же «спулил Леваку». Потом они в чайной поделили деньги: Бриллиантику перепало 120 рублей; Леваку с Просвиркиным — по 75; Володьке — 30; Серёге — 18; неизвестному он дал 24 рубля, а остальное взял себе. Из чайной они разошлись в разные стороны. Скобарь пошёл на Александровский рынок, где купил пальто, сапоги, папаху и другие вещи. Приехав домой, он отдал 500 рублей матери, которая их куда-то спрятала. Потом они вместе с нею уехали в Великое село к бабушке.
* * *
Пришлось надзирателю Шубину снова ехать в Великое Село для задержания матери Крылова, Варвары. Приехав в деревню, он, однако, её там не застал. По словам Ягуповой, дочь её заболела и уехала в Псков, в больницу. Пришлось возвращаться обратно в город. В больнице, где находилась на излечении Варвара Крылова, Шубин переговорил с лечившим её врачом, и тот сказал, что болезнь у пациентки застарелая, хроническая, лечению не поддающаяся, но для жизни не опасная, а потому не далее как через два дня он её выпишет. Пресекая возможность растраты украденных денег, задержали всех живущих в городе и окрестностях родственников Крылова. После того как Варвара Крылова вышла из больницы, арестовали и её. На первом же допросе она созналась, что получила от своего сына деньги, сколько — точно не знает, потому что не считала. Их она, по её словам, отдала своей матери, перед тем как ехать в Псков ложиться в больницу. Сказала, что в свёртке документы, и попросила спрятать до поры. Забрав с собою из тюрьмы Татьяну Ягупову, Шубин в третий раз за эти дни выехал в деревню Великое Село. Ягупова на его требование выдать деньги, оставленные дочерью, сначала пробовала «финтить», сказала, что не знает ни про какие деньги. Но Шубин пригрозил ей соучастием, и она призналась, что дочь отдала ей на сохранение «какие-то документы», которые она уложила в жестяную банку и закопала на гумне. В жестянке, найденной в указанном месте, оказались спрятаны, завёрнутые в бумагу и ветошь, 575 рублей кредитными билетами.
* * *
Нельзя сказать, чтобы Петя Скобарь был явлением уникальным. Молодёжная преступность в конце XIX — начале XX века была распространена во всем мире. По мере роста городов, механизации труда родители стали работать на производстве, а дети оказались предоставлены сами себе. Их миром стала улица, а на ней заправляли всем «люди среды», как тогда называли уголовников. Законы улицы, её язык, образ мышления, — все это впитывалось мальчиками и девочками, а убогость быта и материальная стеснённость часто толкали их на первые криминальные «подвиги».
Однако путь в воры был открыт далеко не для всех: «люди среды» отбирали из ребятишек лучших, самых на их взгляд способных. Отбирали и начинали учить ремеслу. Существовали целые «воровские колледжи», об этом полиция знала не понаслышке. В восьмидесятых годах XIX века достоянием гласности стали опубликованные в одной из парижских газет откровения 14-летнего вора, пойманного с поличным на улице. На допросе в комиссариате мальчишка проболтался о том, что, состоя «учеником колледжа», должен был обязательно принести что-нибудь своим «профессорам», иначе его бы побили. Прижатый к стенке «студент факультета карманной тяги» рассказал, что науку воровства преподают нескольким десяткам таких же, как он сам, парижских «мальчиков из предместий» два опытных вора-англичанина. Каждое утро в доме, где идёт обучение, выставляется манекен, изображающий мужчину, экипированного как положено джентльмену. Над каждым карманом костюма, в каждый шов его платья вшиты маленькие, но звонкие колокольчики. По карманам «джентльмена» распиханы часы, платки, бумажники, портсигары и прочие предметы, что обычно носят в карманах богатые люди. «Профессор» на глазах у «студентов», действуя точно и аккуратно, опустошает карманы манекена, ни разу не потревожив колокольчик. Его коллега в этот момент поясняет детям, как точны должны быть движения, как выверены, быстры, но не суетливы. Давая пояснения, он обучает тому, как можно этого добиться. После объяснения начинается практика. Однако, по словам мальчика, опытности не хватает почти никому. Колокольчики поднимают тревогу, и «попавшемуся» достаются изрядные колотушки — для закрепления пройденного. Сам погоревший на краже «студент» сетовал на то, что позабыл от волнения одну из основных сентенций своих наставников: «Залезть в карман трудно, но ещё труднее вынуть руку с добычей так, чтобы не потревожить клиента». Он сказал, что на манекене у него получалось, а вот на улице нет.
Неизвестно, существовали ли подобные «учебные заведения» в России, но судя по богатой криминальной биографии Скобаря, пять раз судимого к пятнадцати годам, натаскивать на «дело» его начали с самого юного возраста.
* * *
В Японии к занятию воровским «ремеслом» готовили основательно, с соблюдением древних традиций. Как правило, «профессия» передавалась по наследству, и папаша-вор начинал готовить своё чадо с колыбели, тщательно массируя младенцу ручки, развивая в них гибкость. Когда мальцу исполнялось десять лет, его вели в тайную школу, к «мастеру-сенсею», отошедшему от дел опытному вору. Брали туда не всех, требовалось проявить склонность натуры и доказать ловкость шаловливых ручонок. Отец с гордостью докладывал, что его сынок мимо себя ничего плохо лежащего не пропускает, и если это не было пустой похвальбой, сенсей брал новичка в обучение. Учили, как всякому другому делу, начиная с азов. Натаскивали мальчишек на проникновение в запертые помещения, обшаривание одежды. (У японцев долго не было карманников из-за отсутствия карманов на одежде. Все, что мы носим в карманах, японцы носили в рукавах или на поясе-шнурке.) Курсантов тайной школы учили убегать от преследователей, ловко двигаться в толпе, борцовским приёмам, фехтованию, и даже слегка пытали, приучая ученика с малолетства терпеть боль. Параллельно с этим ученики обслуживали дом сенсея, выполняя хозяйственные и иные работы, что было своеобразной платой за обучение.
* * *
Через несколько лет группу старших учеников ждал «выпускной экзамен». Несколько опытных воров, приглашённых мастером, выводили «молодых» на первое дело. Обычно для этого выбирали толпу, собирающуюся на площадях по случаю праздника. Ученики растворялись в толпе, а вечером собирались в условленном месте. Пришедшие с добычей становились отныне «дипломированными» ворами — их принимали как равных опытные мошенники, усаживая с собою в один круг. Провалившие «экзамен» до следующей «переэкзаменовки» прислуживали своим более удачливым товарищам, вошедшим в круг «настоящих» воров. Задержанных во время этого испытания и заключённых в тюрьму не жалели — это были нерадивые ученики, признававшиеся неспособными к ремеслу.
Затем начиналась специализация: одних учили «работать» на улице, других — в магазинах, третьих — в домах. Когда в Японии построили железные дороги, стали готовить поездных воров, «майданщиков», как их называют в России. Они считались среди японских уголовных большими ловкачами. Блатной эпос Страны восходящего солнца запечатлел передающуюся от поколения к поколению байку о том, как в вагоне поезда зашёл разговор о воровстве и один из пассажиров, известный адвокат, возвращавшийся домой после выигранного процесса, заявил во всеуслышанье, что-де во всем виновато ротозейство самих обворованных, а вовсе не ловкость воров. «Вот у меня, — хвастался он, — ещё никто никогда ничего не украл! А все потому, что я держу ухо востро». Сойдя с поезда на нужной ему станции, адвокат обнаружил, что у него с пояса срезали сумку с деньгами, гонорар за процесс. Удручённый, он поплёлся домой и на пороге своего дома нашёл подброшенную ему сумку, ту, что пропала в поезде. В неё была вложена записка: «Никогда не рассуждайте о том, чего не знаете. Великодушный вор». Такое поведение характерно для воров, считавших своё занятие родом искусства. Они старались жить в рамках определённых традиций удальства, в которых благородству отводилась далеко не последняя роль.
В Испании карманники Мадрида и Барселоны устроили целое соревнование в благородстве, отказываясь от выгодных «приобретений», уже бывших в их руках, с хладнокровием ничуть не меньшим, чем их японский «коллега», решивший преподать урок заносчивому глупцу.
Началось это соревнование с того, что у композитора Чунни украли кошелёк. Имя Чунни сегодня в России, возможно, никому и ничего не говорит, но в конце XIX века этот маэстро был невероятно популярен у себя на родине, в Испании. Успех к нему пришёл вполне закономерно — Чунни был сочинителем опереток и другой, как бы сейчас выразились, «лёгкой музыки», мотивы которой моментально расходились по всей стране. Знатоки жанра утверждали, что лучшим произведением этого композитора являлась оперетта « La Gran via» — «Главная улица», одними из главных персонажей в которой были мадридские карманники. В этом произведении уличные воры были представлены симпатичными и остроумными людьми, и оперетка вполне успешно шла на мадридской сцене и в провинции. И вот один из прототипов персонажей «Главной улицы» забрался в карман маэстро Чунни, ехавшего в переполненном трамвае по своим делам. Трамвайный «щипач» сработал чисто: композитор хватился пропажи много позже, когда собирался расплатиться за что-то в лавке. В пропавшем бумажники было около 300 песет (вполне приличные по тем временам деньги), визитки и несколько фотографических карточек с факсимильным автографом Чунни, заготовленные заранее для раздачи многочисленным поклонникам и поклонницам его таланта. Потужив о пропаже, композитор пошёл в полицейский участок и сделал там заявление о краже, составил описание самого бумажника и его содержимого. Честные полицейские предупредили его сразу, что шансы поймать карманного вора в данной ситуации весьма незначительны. Да Чунни и сам понимал это, а потому и особо не надеялся ни на что, а действовал больше «для порядка». Случись это с кем-нибудь ещё, пожалуй, тем бы все и закончилось, но тут в дело вмешались газетные репортёры, специализировавшиеся на криминально-полицейской тематике. Несколько такого рода газетчиков постоянно крутились возле полицейского участка, рассчитывая первыми «заарканить» криминальную историю, годную для поднесения публике в качестве сенсации. Заметив знаменитого композитора в участке, они поспешили осведомиться у дежурных: по какому поводу любимец публики осчастливил служивых своим посещением? Узнав о приключившейся с композитором напасти, каждый из них счёл необходимым «дать заметку в вечерний выпуск», и тем же вечером о краже бумажника Чунни знал уже весь Мадрид.
* * *
Утром уже следующего дня композитор получил по городской почте большой пакет, распечатав который он с изумлением обнаружил вложенные в него 300 песет и письмо следующего содержания. «Глубокоуважаемый маэстро! — почтительно начал своё послание неизвестный ему автор. — Наш товарищ по ошибке, о которой он горько сожалеет, вчера в трамвае присвоил ваш бумажник со всем его содержимым. Но тем же вечером, узнав из газет об этой своей ошибке, он глубоко раскаялся и, призвав на помощь Председателя нашего сообщества, попросил помочь исправить досадную оплошность, допущенную им. По поручению сеньора Председателя мы, мадридские карманники, честь имеем возвратить вам при сём послании означенные выше 300 песет, присовокупляя к этому наши глубочайшие извинения. Дабы избежать в будущем подобных печальных казусов, мы позволили себе оставить ваши фотографические карточки, одну из которых, по распоряжению сеньора Председателя, мы, прежде увеличив её до размеров портрета, планируем поместить в зале, где происходят собрания нашего сообщества при обсуждении насущных вопросов нашей внутренней жизни. Наши действия продиктованы тем уважением, которое испытывает весь цех мадридских карманников к человеку, своим талантом возвысившему и увековечившему наше ремесло в оперетте „Главная улица“. Письма было подписано: „Les tges Ratas“, так в оперетте Чунни были названы трое мадридских карманников.
Растрогавшийся маэстро поспешил ответить через газеты благодарственным письмом, обращаясь к неведомому ему «сеньору Председателю» и его работникам, с выражением искреннего восхищения их благородством. И опять тема карманников и бумажника композитора была основной темой для разговоров мадридцев в тот вечер.
* * *
Лавры мадридских карманников, как оказалось, не давали спокойно спать ворам из Барселоны. Извечное соперничество этих двух городов обязывало их «держать марку», и они решили показать, что не менее благородны и щепетильны в вопросах «понятий» и «воровской этики». Случай для этого им представился довольно скоро: у жены редактора барселонского журнала «El noticiero Universal» пропали очень дорогие часы. Сама сеньора редакторша посчитала, что она их где-то потеряла, и её супруг поместил на страницах своего журнала объявление о пропаже часов, обещая нашедшему приличное вознаграждение. Прошло несколько дней, и в редакцию пришёл хорошо одетый молодой человек, который без долгих предисловий вручил редактору часы, тут же ушёл, наотрез отказавшись от вознаграждения и не назвав своего имени. Тем вечером дома сеньора редактора ждало письмо, в котором ему разъясняли, что часики были не потеряны, как думала его жена, а ловко «уведены» у неё в театре одним из «специалистов», действовавших там среди богатой публики. Но когда «барселонский цех карманной тяги» узнал, что эти «рыжие котлы» не чьи-нибудь, а жены редактора популярного журнала, они решили вернуть их. «Мы не менее благородны, наши мадридские коллеги, — заявлял автор письма, выступавший от лица всего воровского коллектива. — По нашим воровским законам художники, писатели, журналисты и прочие деятели культуры и искусства считаются неприкосновенными».
* * *
Надо сказать, что и в России того времени действовали аналогичные «понятия» в воровской среде. По преж-ним понятиям не уважали «мокрушников» — в воровской среде считалось, что убивают «на деле» только трусы или неумелые «работники». На воровских сходках решено было не наносить умышленный вред и беспокойство: артистам (особенно циркачам), писателям, газетчикам, спортсменам и вообще людям популярным. В них воры видели «родственные души», людей, не желавших жить по «законам обывательского, пошлого общества». Помимо представителей богемы воры «не трогали» врачей и адвокатов — эти профессии «приносили пользу» и уважались особо. Именно такое отношение авторитетных воров к пишущей братии позволяло преспокойно разгуливать в поисках «типов», тем и сюжетов по самым опасным притонам Гиляровскому, Куприну и многим другим «пишущим», ничуть не опасаясь за свою жизнь и имущество. Их защищали талант и «правдивость».
Потом, когда революция и гражданская война во многом изменили жизнь, поменялись и «понятия», но ещё долго тот «старорежимный закал» действовал в воровской среде. Примером тому может послужить случай, имевший место в биографии замечательного актёра советского кино Михаила Ивановича Жарова. Как известно, огромную популярность Жарову принесла роль вора Жигана, исполненная им в фильме «Путёвка в жизнь». Необычайная убедительность «образа», блатные куплеты и «жизненность сюжета и ситуаций» сделали этого в общем-то «антигероя» личностью весьма известной. Потрясение у публики было столь сильно, что самого артиста Жарова стали частенько путать с его экранным персонажем, и на улице мальчишки бегали за Михаилом Ивановичем следом, время от времени покрикивая: «Жиган! Ты за что Мустафу убил?!»
И вот однажды с советским актёром случилась та же неприятность, что некогда и с испанским маэстро, только не в трамвае, а в гастрономе у него из кармана ловко «тиснули лопатник». Популярный актёр, которому следовало рассчитаться за покупки, стоял у кассы как обыкновенный гражданин и с видом глупого удивления ощупывал карманы, все ещё не веря в пропажу, как вдруг его поманил к себе некий молодой прилично одетый мужчина. Когда они отошли в сторонку, он заговорщически подмигнул Жарову и передал ему его собственный бумажник, который тот так упорно искал в карманах. Передав «пропажу», молодой человек полушёпотом произнёс: «Мы своих не трогаем! Прости, Жиган, это совсем молодой мальчик сделал, он „Путёвку в жизнь“ всего пять раз смотрел, а потому не признал вас, да хорошо я рядом был, приметил!» Такая популярность воистину «дорогого стоит».
Конечно, эти «воры прежних времён» были далеко не ангелами, но все же следует признать: человеческое в них было, и они хотя бы пытались жить пусть по своим, но все же законам, «соблюдая правила игры», даже если эти правила, они писали сами.
Казнить, нельзя помиловать!
В 1375 году в московском княжестве случилась измена. В Тверь бежал знатный московский боярин Иван Васильевич Вельяминов вместе с «московским гостем, сурож-ским купцом, Некоматом», они ушли из Москвы «со многими лжами и клеветами», то есть нелегально, перейдя на сторону самого опасного противника своего сюзерена.
В то время между московскими и тверскими князьями шла отчаянная борьба за право Великого княжения на Руси. По сложным, часто противоречивым, толкуемым каждым в свою пользу, династическим законам феодального государства, каждый из претендентов готов был доказать это перед третейскими судьями, в роли которых в этом споре выступали тогдашние правители Руси, ханы Золотой Орды. Но и в Орде, изобиловавшей «царевичами», рождёнными от многих ханских жён, тоже шла жестокая борьба за ханство. Соискатели великокняжеского престола пускались во все тяжкие, интригуя при ханском дворе в Орде, ставя то на одного, то на другого претендента на ордынский престол, добывая себе ярлык на княжение. Но бывало так, что, получив ярлык от одного хана, послы князя не успевали добраться до дома, как на престол восходил уже другой правитель Орды, наделявший аналогичным документом послов князя-конкурента, иногда просто чтобы было «не как при прежнем хане».
Исследователи сходятся на том, что Вельяминов бежал к врагу московского князя из-за того, что князь Дмитрий не сделал Ивана тысяцким. Эта должность была одной из ключевых в московском государстве, — тысяцкий был начальником земской военной рати, ополчения, второй военной силы в государстве после княжеской дружины. По тогдашним меркам, это была фигура, равная новгород-скому посаднику. В XIV веке тысяцкие по своим полномочиям не только превосходили остальных московских бояр, но даже временами равнялись с властью самого великого князя! Такое усиление тысяцких у своевольных феодалов и самих князей вызывало желание «поставить их на место», а того лучше и вовсе «отделаться» от соуправителей в государстве.
Придворные интриги при отце Дмитрия Донского, князе Иване Ивановиче, обернулись кровопролитием. В Пасхальное воскресенье 1357 года на московской площади был найден, невесть кем убитый, тысяцкий Алексей Петрович Хвост. Несмотря на то что убийцы найдены так и не были, народ московский усмотрел в этом преступлении «явный заказной характер» и обрушил свой гнев на бояр, якобы составивших заговор против Хвоста. Разразился бунт, спасаясь от которого большинство боярских фамилий вынуждены были «отъехать на Рязань». После успокоения бунта и по просьбе князя Ивана Ивановича они вернулись в Москву, а на место убиенного Хвоста назначен был Василий Васильевич Вельяминов, отец боярина Ивана.
Это был опытный придворный и ловкий интриган, глава большой боярской партии, и потому, хоть и хотелось московскому князю избавиться от слишком значительной фигуры, сделать он это так и не решился. Но когда Василий Вельяминов в 1374 году умер, князь просто не назначил на должность тысяцкого никого, тем самым упразднив её вовсе. Юридически князь был безупречен! Должность эта, в отличие от многих в тогдашнем государстве, была не наследуемой.
Очевидно, боярин Иван посчитал себя обойдённым, а возможно, опасался, что князь подумает, что он затаил обиду и его может ждать участь предшественника отца на посту тысяцкого. Кто знает? Дальнейшие события показали, что в Москве существовали в боярской среде «протверские» настроения или скорее недовольство князем Дмитрием. Вполне возможно, что Вельяминов был главою этой «тайной оппозиции». Как бы то ни было, Вельяминов бежал в Тверь! При этом следует заметить, что брат его, оставшийся верным князю Дмитрию Ивановичу, продолжал оставаться его «ближним боярином». Микула Васильевич Вельяминов был с князем Дмитрием в родстве: будучи женат на его старшей сестре, приходился ему шурином.
Второй беглец, сурожский купец Некомат, фигура мало освещённая историческими фактами. Сурожем называли торговый город в Крыму, ныне на этом месте стоит город Судак. В XIV веке это был торговый перекрёсток морской европейской и азиатской караванной торговли, связи из которого простирались через генуэзских купцов во все уголки Европы, а через караванные маршруты Востока до Китая и Индии. «Сурожские гости» впервые упоминаются в документах той поры, как пришедшие в свите знатного татарина Ирынчая. Они осели в Москве и имели свой торговый ряд, торгуя восточными редкостями и шёлковыми тканями.
Тверь в борьбе с Москвой сильно уповала на развитие заморской торговли, используя такой прекрасный водный путь, как Волга, по которой легко было добраться до Каспия и караванных путей, ведших на Восток. Не исключено, что Некомат был связан с одной из придворных партий при ордынском дворе, представляя её интересы в Москве. Возможно, он и сманил боярина на побег, сделав очередной ход в антимосковской интриге.
При дворе тверского князя Михаила беглецов приняли с радостью и почётом. Оба они стали одними из самых близких к князю людей. Из-за чего затевался этот побег, стало ясно, когда Вельяминову и Некомату доверили важнейшую миссию, отправив их послами тверского князя в Орду, поручив просить для их нового владыки ярлык на Великое княжение Владимирское. Это был сильнейший удар по интересам Москвы!
* * *
Посольство Вельяминова и Некомата в Орде было успешным. Они получили от хана ярлык для князя Михаила, и Некомат привёз в Тверь вожделенный документ. Вельяминов же остался в Орде, став одним из тех политических лоббистов, которые жили постоянно при ордынском дворе, этом средоточии всех интриг тогдашнего времени, действуя в интересах тех или иных политических сил, обращавшихся к ним за помощью. Они, используя свои связи и познания тайных рычагов правления при восточном дворе, весьма ловко действовали, в основном являясь посредниками между соискателями тех или иных решений и теми, от кого принятие этих решений зависело, чаще всего ведя заочные переговоры между «заинтересованными сторонами» о размере «поминок», как тогда называли взятки. Интриганы и себя не забывали, имея, как бы сейчас сказали, «процент со сделок» и обладая определённым политическим влиянием, часто «играли в собственные игры». Вельяминов сделался в Орде главой антимосковской партии, и его стараниями, как говорит летопись, «многие нечто нестроения бысть».
В скором времени, после того как Некомат прибыл с ярлыком из Орды в Тверь, между московским и тверским княжествами вновь вспыхнула война, которой, как правило, завершался какой-либо дипломатический успех одной из сторон, подвергавшейся нападению князя, в дипломатических играх потерпевшего поражение. После нескольких походов, осад и сражений, не добившись решительного перелома в своих сложных взаимоотношениях, князья заключили очередной мир. Отдельной строкой в нем было сказано о Вельяминове, попавшем в разряд государственных преступников московского государства. Договор предусматривал разрешение боярам обоих княжеств выезжать на служение к другим князьям, при этом их вотчины в княжестве того правителя, из которого они выезжали, оставались за ними. Иван же Вельяминов был исключением, его имения князь Дмитрий «взял за себя».
* * *
После раскола, произошедшего в Орде, Вельяминов, которому терять уже было нечего, сделал ставку на бывшего тёмника Мамая, узурпировавшего ханскую власть. В 1378 году Мамай вторгся с ратью, набранной из разных народов в русские пределы. На реке Воже князь Дмитрий встретил эту рать со своим войском и разбил. Среди захваченных пленных оказался беглый поп, а при нем был найден мешок «злых зелий». На допросе полоняник показал, что он послан был от Вельяминова. По одной из версий он должен был отравить князя Дмитрия, хотя, скорее всего, это был лишь связной между Вельяминовым и его людьми в Москве, в ближайшем окружении князя. Попа сослали в дальний монастырь, а Ивана Вельяминова, зная о его делах, направленных супротив Москвы, а теперь убедившись и в его готовно-сти организовать покушение на самого князя, решили ликвидировать.
Для этого была проведена довольно сложная и тонкая операция. Умного и осторожного боярина сумели выманить из Орды на Русь! В летописи сказано: «вызвали обманом». В Серпухове, куда он прибыл, боярина Ивана схватили люди князя Дмитрия и привезли его в Москву.
Удачную поимку опасного врага решили завершить торжественно. Впервые, в назидание всем тем, кто попытается изменить, в Москве была совершена публичная казнь. В 30-й день августа 1378 года Ивана Вельяминова казнили, отрубив голову мечом: «на Кучковом поле (ныне Сретенка), у города Москвы, по повелению Великого Князя».
Однако назидательности в этом шаге оказалось мало. Боярин был красив и статен, а потому, как свидетельствует та же летопись, народ, собравшийся во множестве, ради невиданного ранее зрелища «мнози прослезишеся о нем и опечалившися о благородстве и величестве его».
Сурожанина Некомата поймали только через четыре года. Зимой 1383 года, как говорит летопись: «Убит был некий брёх (вздорный человек) именем Некомат, за некую крамолу бывшую и измену».
Рассказ о таком историческом событии, каковым явилась первая публичная казнь в Москве, будет не полон, если не упомянуть о ещё одном завитке сюжета в той придворной интриге. Не исключено, что к поимке братца-изменника приложил руку Микула Васильевич, оставшийся до конца верным своему князю. Измена Ивана никак не сказалась на отношении к нему князя Дмитрия. Микула Васильевич участвовал в донском походе, командуя коломенским полком, и в битве на Куликовом поле с честью погиб, тем самым смыв позорное клеймо предательства, лёгшее на род Вельяминовых.
Сыщик по имени Треф
На станции Бронницы Московско-Казанской железной дороги 28 ноября 1909 года чины уездной полиции ждали приезда сыщиков, командированных из московской сыскной полиции для расследования убийства, произошедшего в деревне Кузнецово, что находилась в одной версте от станции. Там накануне днём был найден убитым в собственном доме старик Гришаев. Старик слыл человеком состоятельным, но так ли это было, в точности в деревне никто не знал. Убитому было уже за шестьдесят, жил он одиноко и компании ни с кем не водил. Говорили, что Гришаев любил сидеть на лавке возле своего дома и смотреть на дорогу, а больше о его привычках никто ничего не припомнил. Собственно, когда он на «своём посту» не появился несколько дней кряду, а из трубы его дома не было видно дыма, соседи, обеспокоенные, не заболел ли он, решили навестить бобыля. Дверь они обнаружили незапертой и, войдя в горницу, увидели Гришаева лежащим на полу в луже запёкшейся крови. Судя по тому, что труп уже начал разлагаться, старика убили несколько дней назад.
* * *
С московским поездом в Бронницы прибыл околоточный надзиратель Дмитриев, но не один, а в сопровождении собаки-сыщика, очень породистого доберман-пинчера. Чёрная шерсть с темно-коричневыми подпалинами, стоящие уши, острая морда, большие круглые глаза делали собаку привлекательной, но выражение собачьих глаз и оскал великолепных зубов к фамильярности не располагали. Это был Треф, чемпион первого выпуска петербургского питомника Общества поощрения использования собак в полицейской и сторожевой службе, месяц назад привезённый в Москву в питомник при московском охранном отделении. Выезд для розыска убийц Гришаева был для Трефа своеобразным дебютом.
* * *
На свет Треф появился в рижском питомнике, происхождение своё вёл от родителей «чистых кровей»: «русского» добермана Боя и элитной суки Флориды, «немки» из знаменитого питомника «фон Тюринген», принадлежавшего ученику основателя породы Добермана — Отто Геллеру. Воспитали же Трефа в первой школе служебного собаководства Общества поощрения использования собак в полицейской и сторожевой службе, основанного трудами начальника петербургской сыскной полиции Лебедева в начале 1909 года.
Попав в школу совсем молодым псом, с первых дней обучения Треф проявил редкую понятливость, подкреплённую настойчивостью и серьёзностью в работе. Пёс обладал феноменальным чутьём и на публичном испытании в питомнике Общества, состоявшемся 25 октября 1909 года, он вместе со своим дрессировщиком Владимиром Дмитриевым продемонстрировал все, на что был способен. В этих испытаниях принимали участие семь собак, но Треф был вне конкуренции. При отработке «розыска преступника», которого изображал дворник, нанятый для такого случая, пёс, обнюхав специально оставленный след сапога «преступника», повёл за собою Дмитриева и инструкторов питомника, контролировавших розыск. За час до того дворник, выйдя с территории питомника, как и было условлено, поплутал по окрестностям и потом зашёл в трактир, находившийся в полутора верстах от места старта. Треф шёл по следу мимо Чёрной речки, знаменитого ресторана «Вилла Роде», по Новодеревенской набережной к Приморскому вокзалу… Добежав до трактира, в котором укрылся дворник, он поднялся по лестнице на второй этаж и нашёл «преступника» в общем зале, где тот притаился, встав на подоконник и укрывшись занавеской.
Когда собака и Дмитриев вернулись в питомник, испытания были продолжены: теперь Треф должен был защищать своего дрессировщика. В Дмитриева «злоумышленник» выстрелил из револьвера холостыми патронами, а отважный Треф, несмотря на огонь, прыгнул на него и выбил из руки оружие. Все команды пёс выполнял безукоризненно, и результат испытания был признан блестящим. Дмитриеву за обучение собаки был вручён первый приз — кубок председателя Общества поощрения использования собак в полицейской и сторожевой службе. Место службы призёру было уже определено: московское охранное отделение и сыскная полиция.
В Москву собака и дрессировщик прибыли 28 октября, и тем же вечером Трефа осмотрело все высшее полицейское начальство столицы. За месяц своей москов-ской жизни Треф успел победить на выставке полицей-ских собак, где с ним соперничали его старые знакомые по родному питерскому питомнику Общества, немецкие овчарки Неро, Яна, Лорд и Ириса, находившиеся в ведении славяно-сербского уездного исправника Кенике. Треф, заявленный как «собака московского градоначальника», получил золотую медаль выставки, серебро досталось Неро. Однако аттестации, призы и награды это все были авансы, отрабатывать которые предстояло розыскной практикой. Теперь Трефу нужно было взять след, оставленный несколько дней назад настоящими убийцами.
* * *
Доставленного в Кузнецово Трефа ввели в дом Гришаева. Получив приказ искать, Треф обнюхивал пол и углы горницы, а потом, влекомый только им различимым запахом, пёс-сыщик бросился из дому во двор. Там он постоял, понюхал воздух и, уверенно подбежав к навозной куче в углу двора, принялся разрывать навоз. Из разрытой ямки вытащил какую-то тряпку, которую принёс в зубах и положил к ногам Дмитриева. Бронницкие полицейские, заворожённо наблюдавшие за работой собаки, подошли ближе, чтобы внимательно рассмотреть находку. Это была изодранная женская исподняя юбка со следами крови. Очевидно, убийцы, вытерев об неё окровавленные руки, в последний момент поспешно зарыли юбку в навоз, уверенные, что там искать не станут. Так и было бы, кабы не Треф!
Получив столь важную улику, полицейские рассудили, что коли в доме Гришаева женщин не было, и юбке там взяться было неоткуда. Стало быть, этот предмет женского обихода попал в дом с убийцами. Значит, среди них была женщина. Классический случай — «шерше ля фам»! Расспросив деревенских жителей, сыщики выяснили, что несколько дней назад через деревню проходила компания нищих: два мужика и с ними баба, было это 23 ноября. Их даже видели заходившими в дом Гришаева, но вот когда они уходили и куда потом делись, никто понятия не имел.
* * *
Трефу дали ещё раз обнюхать найденную им юбку, и Дмитриев приказал ему искать. Пёс, покружив по двору, повёл Дмитриева в огород, начинавшийся за домом Гришаева, а потом, через дыру в ограде, вывел в поле, за деревню. Пройдя немного полем, пёс повернул на дорогу, ведшую к соседней деревне Малышевой. Добежав до околицы этой деревни, Треф долго обнюхивал дорогу, но снова взял след и уверенно привёл запыхавшихся сыщиков, едва за ним поспевавших, к дому, где жила крестьянка Самонова. Пёс стал бросаться на дверь.
По требованию полиции Самонова впустила собаку, и пока Треф обнюхивал все углы в доме, с хозяйки учинили допрос, на котором она показала, что несколько дней назад к ней действительно заходили трое нищих, до того случая несколько раз ночевавших у неё в доме. «Звать их Сашка да Васька Рябые, а с ними баба была, Агашкой кличут», — сообщила Самонова сыщикам. Услыхав эти имена, бронницкие полицейские переглянулись между собой: эту шайку уже давно подозревали в совершении нескольких краж и грабежей, но всякий раз они умели ловко скрыться. Бродяги нигде долго не задерживались, что крайне затрудняло их поимку: пойди, поищи ветра в поле! Со слов Самоновой, эта компания побыла у неё недолго, куда они ушли, хозяйка дома не знала или знала, но полицейским не сказала.
Тем временем Треф что-то учуял и прямо от дома Самоновой повёл полицейских к казённой винной лавке. Покрутившись подле лавки, пёс побежал дальше по улице, но вскоре остановился возле одного ничем не примечательного места и стал лаять. Крестьяне, с любопытством наблюдавшие за происходившим, пояснили: «Аккурат на сём месте, ден несколько тому назад, точно, было дело, стояли два мужика и баба, оборванцы бродячие, часто здеся таскаются: Сашка с Васькой, а при них баба, одна на двоих, Агашкой кличут. Пили они водку, да не как обычно, а прямо как благородные господа: не пожелав выкушать из горлышка, купили у Ефима Боголюбова кружку. Тридцать копеек отвалили за посудину, дороже чем за водку! Во как». Пока крестьяне рассказывали об этом происшествии, Трефа Дмитриеву пришлось взять на ремень — пёс рвался бежать по следу. Тем временем позвали Ефима Боголюбова, возле дома которого оборванцы выпивали несколько дней назад. Он подтвердил, что продал им кружку и добавил, что промеж себя Сашка с Васькой перемолвились о том, что, дескать, надо бы поскорее из этих мест уходить.
Когда дрожавшего от нетерпения Трефа проводник спустил с ремня, тот так быстро побежал по следу, что угнаться за ним не было никакой возможности, да и сыщики уже от такой длительной погони порядком устали. Пришлось спешно нанять в Малышевой лошадь с санями и ехать вдогон четвероногому коллеге.
* * *
Нагнали они его лишь на околице следующей деревни, Петровской. Там Треф долго бегал между домов, не оставив без внимания ни один. Наконец он уверенно облаял три дома, хозяева которых, будучи опрошены полицейскими, подтвердили, что к ним заходили трое нищих бродяг, просились на ночлег, но так как выглядели они подозрительно и были пьяны, никто их не впустил. Из Петровской погоня, вслед за Трефом, пошла по берегу речки Гжелки и вышла к железной дороге. Пробежав вдоль её полотна около 10 вёрст, Треф перешёл на другую сторону дороги. Здесь он пробежал ещё немного и, спустившись с насыпи, повёл людей в сторону деревни Литвиновой, находящейся в 18 верстах от Бронниц и 5 верстах от железнодорожной станции. В Литвиновой он нашёл ещё два дома, в которые заходили убийцы, но и там их уже не было.
Так, от деревни к деревне, Треф вёл погоню, обнаруживая невидимые следы присутствия шайки. В общей сложности в тот день он проделал 115 вёрст и вымотался совершенно. Люди тоже выбились из сил. Было решено изменить способ поиска: собака помогла определить имена преступников, отыскать и арестовать их должны были люди. Отряд вернулся в Бронницы, откуда по всей округе были разосланы приметы преступников и их предположительный маршрут: судя по направлению их движения, к этому времени они должны были проходить через Богородский уезд.
Горячо поблагодарив Дмитриева и его питомца, бронницкие полицейские усадили их в поезд, отправлявшийся в Москву, так что окончание этой истории они узнали из служебных рапортов и газетных отчётов.
* * *
После того как приметы убийц Гришаева были получены приставом 4-го стана Богородского уезда, он командировал на розыски шайки урядника, который, опросив нищую братию, выяснил, что оба Рябых и Агашка действительно совсем недавно проходили этими местами и собирались идти в Павловский Посад. Урядник отправился туда, но в Посаде их уже не застал, убийцы ушли из города. Расспросив «людей перехожих», заседавших в трактирах и чайных, урядник нанял в Посаде лошадь и выехал в направлении Богородского уезда, продолжая расспрашивать встречных о трех бродягах. Поздно вечером он въехал в большую деревню Томилино, что была в 15 верстах от Богородска, от неё до границы с Владимирской губернией, куда предположительно направились странники, оставалось не более 10 вёрст. Урядник посчитал, что, дойдя ближе к ночи до Томилина, нищие непременно останутся там, соблазнённые трактирами и ночлежными домами. Он стал последовательно обходить соответствующие заведения, и в одной из ночлежек застал Агашку и Сашку Рябого, которых немедленно арестовал и отправил в Богород-скую тюрьму. При обыске у нищих нашли 19 рублей — остаток той суммы, что они захватили в доме убитого ими Гришаева. Куда подевался третий участник преступления, Васька Рябой, так и осталось неизвестным, но шайке грабителей и убийц, долгое время остававшейся неуловимой, пришёл конец. Все без исключения отдавали пальму первенства в раскрытии этого преступления четвероногому сыщику Трефу, сразу же превратившемуся в «звезду сыска». Ему можно было доверять даже больше, нежели его двуногим коллегам: он гораздо реже ошибался и никогда не брал взяток. Будучи совершенно беспристрастным, он служил только Закону и Истине, что людям всегда даётся гораздо тяжелее.
* * *
Зима 1909—10 года выдалась для Дмитриева и Трефа очень напряжённой. Они много работали и продолжали участвовать в показательных выступлениях, где неизменно получали первые призы. Так, 6 декабря 1909 года Треф в московском Манеже соревновался с полицейскими-овчарками. В программе состязаний были упражнения на силу и выносливость: нужно было прыгнуть с большим грузом в зубах через двухаршинное препятствие, что Треф проделал легко. Но особенно всех поразило то, как ни разу не сбившись, он отыскал «вора» в толпе, присутствовавшей на выставке-соревновании. «Вор», в специальном костюме, «наследив», долго крутился в толпе, путая след, а потом укрылся в конторе выставки. Треф спустя некоторое время с лёгкостью отыскал его там и «зафиксировал» так, что Дмитриеву пришлось потрудиться, прежде чем он сумел оттащить своего питомца. Первая премия опять была присуждена Трефу.
Меньше чем через две недели после этой победы, 18 де-кабря 1909 года, Дмитриева и Трефа в составе специальной группы московских сыщиков срочно вывезли в Коломну. Там, прямо на рабочем месте, был убит начальник локомотивного депо, инженер-технолог Трофимов. Убийство произошло утром, а Треф со своим проводником прибыл в Коломну лишь вечером и сразу приступил к работе. Покрутившись в мастерских, четвероногий сыщик взял след. Он повёл людей к так называемым «железнодорожным домам», группе бараков, стоявших неподалёку от депо. Отсюда он побежал к ближайшему селу Боброво, затем через железнодорожные пути к машинострои-тельному заводу, но и там не задержавшись пошёл по следу обратно к депо. Коломенские полицейские и московские сыщики предположили, что пёс отработал первоначальный маршрут убийцы. Трефу предъявили всех рабочих мастерских, бывших там в момент убийства — их было 12 человек. Пёс, обнюхав всех, облаял троих рабочих, и их немедленно арестовали по подозрению в общении с убийцей.
Временный штаб розыска разместился в буфете станции Голутвин. Когда туда привели Трефа, его хотели покормить, но Дмитриев запретил это делать, пояснив: «Иначе, господа, он работать не сможет, а нам ещё предстоит поиск». Основной версией убийства инженера Трофимова считался конфликт между ним и рабочими, требовавшими от покойного выполнения их требований — увеличения расценок, приёма на работу временно уволенных и прочее. Как оказалось, Трофимов получал письма с угрозами, в его дом пытались вломиться какие-то люди, но строгий и принципиальный начальник остался непреклонен, объясняя сослуживцам и близким, что, дав слабину, он позволит своим подчинённым распоряжаться собой как слугой. Несмотря на позднее время Трефа опять отвели в мастерские депо, и он снова был пущен по следу. На этот раз Треф повёл сыщиков в Митяево, рабочую слободу в четырех верстах от Голутвина. Собака то бежала со всех ног, то замедляла шаг и обнюхивала землю, петляла на одном месте и снова бежала, прыгая через рвы и ямы, а за нею следом устремлялись люди, на бегу высказывая сочувствие Дмитриеву, находя, что хлеб его тяжёл, если ему приходится каждый день вот эдак-то прыгать и бегать.
* * *
В Митяево Треф вывел полицейских к дому некоего Никиты Павлова, известного местного бандита, находившегося в бегах с 1907 года. Дом принадлежал родителям Павлова, которые сказали, что сына не видели уже давно, но обыск в их доме показал, что сынок навещает их часто и не с пустыми руками: в сундуках и погребе нашли много краденых вещей, пропавших из лавок и со складов после грабежей, причём некоторые из них сопровождались убийством хозяев и сторожей. Пока шёл обыск, были найдены свидетели, видевшие Павлова в Митяево в тот день возле мастерских. Треф все время просился искать дальше, чуя свежие следы, и когда решено было продолжить поиск, он прямо от дома родителей Павлова повёл Дмитриева и его коломенских коллег по следу и, выведя за город, в поле указал на фигуру, едва видневшуюся на дороге. Погоня устремилась следом, но Павлов, а это был он, заметив её, опрометью бросился к ближайшему лесу и, пока подтянули солдат для прочёсывания, успел уйти, воспользовавшись темнотой. Однако никакой вины на Трефе в этой неудаче не было, наоборот, все отмечали, что свою часть работы пёс выполнил образцово, как писали некоторые газеты: «Гораздо более умело, чем люди». Фактически он снова указал на убийцу, которого следовало искать. Это позволило следствию установить истину: рабочие обратились к Никите Павлову, тогда работавшему в мастерских депо, с просьбой «найти на инженера управу»; однако ни записки с угрозами, ни попытки «попугать» не помогли, и тогда, чтобы поддержать «авторитет», Павлов взялся «замочить начальника». Об этом узнал помощник машиниста Кошелев и хотел предупредить Трофимова, но не успел: он был убит за неделю до того, как убили Трофимова. Экспертиза установила, что пули, сразившие Кошелева и Трофимова, были выпущены из одного оружия. Как оказалось, из того же пистолета убили и бобровского лавочника Григорьева, у которого отняли всего 50 рублей, а товары, найденные в доме Павлова, принадлежали голутвинскому лавочнику, убитому за год до описываемых событий. Таким образом, начал распутываться целый клубок преступлений, совершённых местным Робином Гудом. В январе 1910 года Павлов, которого усиленно искали уже после отъезда Трефа и Дмитриева, в конце концов, попав в засаду, был убит в перестрелке, а его сообщники были арестованы ещё через несколько дней.
* * *
В конце января газеты раструбили о новой победе собаки-сыщика. В ночь с 27 на 28 января была совершена кража в квартире Ореста Ивановича Емельянова, казначея и смотрителя Николаевского сиротского профессионального женского училища. Квартира смотрителя помещалась в здании училища, в доме № 20 на Солянке, рядом с Николаевским Воспитательным домом. Неизвестный вор, проникнув ночью в окно, пробрался в спальню Емельянова и, совершенно его не потревожив, вытащил 400 рублей из кармана пиджака, висевшего на спинке стула. Пропажа обнаружилась утром, и все училище было поднято на ноги. Было ясно, что украл кто-то свой: вор знал порядки в доме, расположение комнат и даже обстановку в квартире смотрителя настолько, что ничего не задел, совершая кражу, уверенно двигаясь в ночной тьме. Розыски, проведённые своими силами, толку не дали — следы под окном были затоптаны любопытствующими, а пиджак, из которого вытащили деньги, побывал во многих руках. В полицию о краже дали знать около двух часов дня, так что розыск Треф начал только в три часа.
Это было больше похоже на издевательство над благородным животным! Семь часов кряду собака мучительно отыскивала следы похитителя и не находила их — слишком много народу побывало на месте. Но вот, уже около одиннадцати часов вечера, Треф вдруг сделал резкое движение и бросился по лестнице во двор, за ним следом поспешили Дмитриев и сыщики. Собака привела их к двери в полуподвал Воспитательного дома, за которой была квартира истопника, служившего при этом заведении более десяти лет, крестьянина Подольской губернии Павла Жукова. Самого хозяина дома не было, он возился в дровяном сарае и возле печей, протапливая их на ночь, но смотритель открыл дверь ключом со связки запасных, имевшихся в его распоряжении. Когда дверь отперли, первым в квартиру вбежал Треф, который немедленно стал рыться в вещах Жукова и в его постели. Дмитриев отвёл пса в сторону, и сыщики, осмотрев постель, обнаружили под тюфяком 40 рублей. Срочно послали городового за Жуковым, которого привели в тот момент, когда первый обыск уже заканчивался. На столе лежали обнаруженные в тайниках, устроенных за кроватью и шкафом в квартире Жукова, золотые и серебряные вещи. Когда приунывшего истопника спросили, как в его квартире оказались золотые изделия, тот, смутившись, ответить ничего не смог. Тогда его спросили о краже денег у Емельянова, уточнив, что на него указала собака. Сражённый этим аргументом, Жуков признался, что участвовал в краже вместе с дворником Воспитательного дома Петром Сергеевым и одним воспитанником, которого они протолкнули в форточку, чтобы он им открыл потом окно. После чего Жуков выдал 205 рублей, спрятанных им в вентиляционной шахте, сказав, что найденные прежде 40 и эти деньги являются его долей, а остальное у Сергеева и воспитанника. Относительно же найденных у него драгоценностей истопник, начав давать показания, сообщил, что это часть украденного им у разных лиц в течение семи последних лет.
Когда допрос уже закончился, сыщики поинтересовались: «Как же ты не боялся красть рядом со спящим?» Жуков со страшным спокойствием ответил: «Кабыон бы проснулся, я б его зарезал, а не дал бы себя схватить!» Крепкий сон спас смотрителя училища от верной смерти.
* * *
Когда полицейские уже уезжали из училища, произошло событие совершенно удивительное: Треф, поджидавший с Дмитриевым во дворе того момента, когда можно будет ехать обратно в питомник, был спущен с ремня и, бегая по двору, нашёл и принёс к ногам своего хозяина узелок. Развернув его, Дмитриев увидел деньги, 70 рублей замусоленными бумажками. Стали выяснять, чьи бы это могли быть, и оказалось, что на днях у прачки Воспитательного дома пропали все сбережения, как раз 70 рублей. Видимо, тот, кто стибрил прачкины капиталы, увидав, как Треф отыскал краденое и воров, совершивших такую ловкую кражу в квартире смотрителя, испугался, что теперь с собакой начнут искать и деньги прачки. Поскольку похититель сам инкогнито подкинул деньги собаке, его решили не раскрывать, хотя для Трефа отыскать человека, подержавшего в руках этот узелок, было делом совсем несложным.
«Домой» в питомник при московском охранном отделении Треф вернулся после девяти часов сложнейшего розыска, и там его Дмитриев накормил на ночь. За хозяина Треф признавал только Дмитриева и слушался только его команд. Но даже в обращении с хозяином-дрессировщиком пёс был сдержан, никогда не ласкался и не заигрывал с ним. Ни от кого другого пищи Треф не принимал. Дмитриев приучил его к этому с раннего детства. Сделано это было специально, чтобы пса не смогли отравить. Учитывая, сколь опасен был Треф для преступников, такая мера предосторожности была отнюдь не лишней.
* * *
Не прошло и недели после раскрытия кражи в Николаевском профессиональном училище, как было начато новое расследование преступления, совершённого далеко от Москвы, в самой глубинке Воронежской губернии, на границе Бобровского и Павловского уездов. Там, в имении князя Б.А. Васильчикова, в своей сторожке был найден мёртвым сторож конюшен и скотного двора Степан Кузьмич Василенко. О смерти сторожа управляющему имением около шести часов утра 31 января 1910 года сообщил местный крестьянин Алексей Багаев. Управляющий, взяв с собою нескольких работников, вместе с Багаевым отправился в сторожку, находившуюся примерно в одной версте от имения, где и увидел труп Василенко, голова которого была разбита каким-то тупым предметом. О преступлении дали знать полиции в город Павловск. Прибывшие следователи первым делом обыскали сторожку, тут-то и обнаружилось, что в домике нет ни копейки денег, хотя всей округе было известно, что денежки у Василенко водились. Этот одинокий мужичок очень любил золотые монетки. Разменяв «бумажки» на золотые, завязывал их в чистую тряпицу, однако от золотишка сторожа не осталось и следа. Придя к выводу, что убийство произошло с целью ограбления, местная полиция никаких следов, могущих привести к убийце, не нашла, и дело зашло в тупик. На счастье, кто-то накануне читал в столичной газете о том, как в Москве собака Треф отыскала деньги и вора в Воспитательном доме. Решено было дать телеграмму московскому полицмейстеру с просьбой прислать удивительное животное для раскрытия преступления. Пришлось Дмитриеву и Трефу снова ехать в специальном вагоне «на гастроли».
* * *
Слух о том, что для проведения розысков в Воронеж-скую губернию из Москвы едет знаменитый Треф, разнёсся мгновенно, и когда поезд с собакой-сыщиком и Дмитриевым прибыл на станцию Воронеж, его уже встречала восторженная толпа почитателей, устроившая настоящую овацию талантливому псу, как писала местная газета, «иному заезжему тенору на зависть». Когда поезд тронулся, его провожали криками и пожеланиями успеха. До имения князя Васильчикова Дмитриев и Треф добрались уже совсем поздно вечером, а розыски начали с утра 4 февраля.
В сопровождении следственных властей столичные сыщики, человек и собака, пришли в сторожку Василенко. С момента убийства прошло уже пять дней, многие следы были затоптаны, часть из них уже присыпана свежим снегом, но работа есть работа, и тщательно обнюхав доски пола с засохшими потёками крови, обследовав углы дома, порывшись в распахнутом сундуке, среди вещей убитого, Треф довольно быстро взял след. Он за-просился на улицу, и когда его выпустили, уверенно «повёл». Люди, едва поспевая, буквально бежали за собакой и примерно через версту оказались возле сараев, в которых делали кирпич. Они стояли на окраине села Лосева, уроженцем которого был Василенко. Кирпичное заведение принадлежало крестьянину Багаеву, тому самому, что сообщил об убийстве сторожа первым. Когда полицейские подбежали к сараям, в них слышались крик и возня: оказалось, что Треф, как его и учили, отыскав того, по чьему следу он шёл, не дожидаясь людей, ворвался в сарай и бросился на Багаева. Спасая хозяина, пса хотели оттащить работники, но это было не просто! Когда полицейские вбежали в сарай и Дмитриев оттащил рычащего Трефа, Багаев, спасаясь от злой собаки, заперся в своём доме и говорил с полицией через дверь. Налицо была явная оплошность Трефа: Багаев нашёл труп Василенко, переворачивал мёртвое тело, осматривая его, и даже испачкался в крови, немудрёно, что он наследил там, где «работал» Треф, и тем привлёк внимание собаки.
* * *
Опростоволосившегося Трефа отвели обратно к сторожке и снова приказали искать. В этот раз он повёл совсем в другую сторону. Пробежав около трех вёрст, пёс остановился на опушке леса, возле села Верхнее Кисляево, здесь были оставлены несколько стогов. Порывшись возле одного из них, Треф выкопал из-под снега пук сена со следами крови. Очевидно, убийца вытирал им окровавленные руки! Поведя сыщиков с этого места, Треф привёл их… опять к багаевскиму кирпичному заводику! Теперь за ошибку поведение собаки принять уже было невозможно. В доме Алексея Багаева устроили обыск и отыскали там сначала его шубу, залитую кровью, потом горсть золотых монет, и самое главное, орудие убийства: молот со следами крови.
На допросе Багаев попытался выкрутиться, заявив, что он в ночь убийства был в Павловске, и только под утро, вернувшись, зашёл в сторожку и нашёл Василенко мёртвым. «Да ведь ты врёшь! — воскликнул управляющий имением, присутствовавший при допросе. — Ведь когда мы пришли, труп-то ещё тёплым был! А до имения от сторожки — верста расстояния. Это пока мы собрались, да обратно верста… Кабы его с вечеру или ночью убили, а ты бы утром нашёл, то Степан Кузьмич, царство ему небесное, уже окоченел бы! И как это я раньше не додумался!»
Работники Багаева, арестованные по подозрению в соучастии, были отпущены, но в своих показаниях сообщили, что хозяин вроде бы шуткой, но говаривал: «Хорошо бы Кузьмича… того, обушком по голове, а золотишко его к рукам прибрать. Живёт мужичок совсем один, а деньжищ уйма!» Следствие установило, что в ту ночь, когда было совершено убийство Василенко, Багаев дома не ночевал и в Павловске, несмотря на утверждения подозреваемого, его никто не видел. Бывшего «первого свидетеля» взяли под стражу и отправили в Павловск, в тюрьму.
На следующий день кавалькада саней с полицейскими возвращалась из имения князя в Павловск, и, когда они проезжали селом Ершовым, случился курьёз, почти такой же, что и в Николаевском Воспитательном доме, неделей раньше. Навстречу отряду полиции вышел местный священник, долго благодаривший полицейских «и собачку особенно». Оказалось, что некоторое время назад местную церковь обокрали. «Тогда мы погрешили на цыган или ещё на каких-то бродяг, — рассказывал священник, — но сегодня утром, вот только что, пропавшие 800 рублей были подброшены на крыльцо моего дома!» Сам пастырь связывал это со слухами, распространившимися по округе, о том, что якобы теперь, пользуясь удобным случаем, с собакой будут искать воров во всей округе. «Кто-то из порочных селян, — как назвали воров в газетном отчёте, — завидев подъезжавший к селу обоз полицейских и Трефа в санях, решил, что слух верен, розыски начались, и подбросил деньги!» Это уж становилось традицией: одно раскрытое Трефом преступление тут же помогало раскрывать и другое.
* * *
По мере того как Треф служил в Москве, слава его настолько укрепилась, что кличка даже стала обозначением проницательности. В газетном фельетоне той поры обычный персонаж, муж-гуляка, у которого жена забрала спрятанные деньги, теперь кричал своей благоверной: «Да ты у меня как Треф, даже лучше! Тебя бы на поводок, да в сыскную на службу! С твоим-то нюхом дома сидючи, только талант зарываешь!» Портреты Трефа и Дмитриева печатались не только в российских, но и в европейских газетах, причём именно собака была в цент-ре внимания.
Несмотря на то что газетчики подробно описывали розыски, проводимые с участием Трефа, мало кто знал, что эту собаку используют в расследовании не только уголовных преступлений, но и тех, что были в ведомстве охранного отделения. Свидетельство об участии околоточного надзирателя Дмитриева и его четвероногого подопечного в таких «специальных операциях» отыскалось в мемуарах бывшего начальника московского охранного отделения, полковника жандармерии Павла Павловича Заварзина, вышедших в двадцатые годы в Париже.
В 1911 году агент охранного отделения по кличке Фельдшер, внедрённый в среду анархистов, сообщил, что в Москве существует группа, составленная из осколков разгромленных прежде революционных организаций, которая собирается провести серию акций «безмотивного террора». «Безмотивники» были головной болью для большинства полицейских служб Европы, угадать, где они проведут очередную акцию, было почти невозможно: атаковались не конкретные личности или организации, а буржуазия вообще — устраивались взрывы «в местах скопления буржуев». На счёту «безмотивников» разных групп к тому времени был взрыв театра в Барселоне: бомба рванула в зале, в самый разгар представления; в Варшаве был взорван шикарный ресторан «Бристоль», а в Одессе — фешенебельная кондитерская Либмана. Все эти бессмысленные злодейства повлекли многочисленные жертвы. Не желая допустить подобные акции в Москве, охранное отделение взяло тех, чьи имена назвал Фельдшер, под плотное наблюдение. В результате долгой и тщательной слежки, в которой в иные моменты были задействованы до двух десятков филёров, удалось определить ядро группы. Выяснилось, что во главе её стоит некто Савельев. Обнаружилась такая подробность: к самим акциям группа только готовится, ищет деньги, для чего проводит в провинции «экспроприации» (так тогда называли вооружённые грабежи). Большинство членов группы были не москвичи, приезжие.
В очередном донесении Фельдшер сообщил, что анархисты собираются куда-то ехать. Их проследили до самого вокзала и, когда более десятка членов организации порознь сели в один поезд, имея на руках билеты до Костромы, «провожать до места» их не стали, а просто известили об их приезде местную полицию и жандармское управление. Из Костромы сообщили, что террористов «приняли в лучшем виде», арестовав на месте сбора, прямо на привокзальной площади. Некоторым удалось уйти, Савельеву в том числе. Но ускользнувшие, не оценив масштаб провала, посчитали его случайностью и вернулись «на московские квартиры», где их уже ждали московские филёры. Словом, получилось все достаточно удачно, террористов взяли почти всех. Одна была беда: никаких взрывчатых веществ при обысках у арестованных не нашли. Разрабатывая связи группы, обнаружили, что они тянутся в несколько городов России и за границу, в Австро-Венгрию.
* * *
Агент Фельдшер, арестованный вместе со всеми, сидел в тюрьме, как говорится, на общих основаниях, информируя начальство о том, что происходит в камерах. Через него Савельев передал на волю письмо, которое Фельдшер прочитал и запомнил, в нем было указание: «Произвести чистку квартиры и сор выбросить или оставить на удобрения». Речь, очевидно, шла о каком-то тайнике, но вот только где этот тайник?
Письмо было передано с одним вором, выходившим на свободу. Проследив за ним, выяснили, что письмо ушло в Брянск и получил его некий Малива. Спросить о тайнике Савельева не удалось: переправив письмо, он покончил с собой в камере.
* * *
Неожиданно на допрос запросился один из основных боевиков, некто Филиппов. Он произвёл на полковника самое неблагоприятное впечатление: здоровенный детина, с длинными по анархической моде прямыми волосами, падавшими на лоб и виски. Заварзин обратил внимание на его жилистую, вдвинутую вперёд шею и мускулистые ручищи с огромными толстыми пальцами. Филиппов предложил полковнику сделку: его выпускают из тюрьмы и следят за ним, он приводит сыщиков к сообщникам, а сам исчезает. Для начала он признался в том, что незадолго до ареста совершил убийство и ограбление. В Калужской губернии он, его маруха по кличке Курносая Таня и ещё двое сообщников совершили налёт на усадьбу одинокой вдовы-помещицы. Это была его «частная практика», не имевшая отношения к основному делу. Убив сторожа-садовника, служанку и саму помещицу, грабители захватили большую сумму денег и много ценных вещей. Свою долю он отдал Курносой, велев припрятать, а сам поехал в Москву, чтобы вместе с анархистами ехать «на гастроли» в Кострому. Рассказывая, как он убивал вдову, Филиппов, увлёкшись, живописал свой «подвиг» следующими словами: «Так я её прижал, шо у ей ажно кости захрумтели на шее». В этот момент он пошевелил своими огромными пальцами так, что полковника едва не стошнило. Теперь это существо опасалось того, что, узнав о его аресте, подельники убьют маруху Таньку и завладеют его долей. Вот он и предлагает…
Не дав ему договорить, Заварзин резко оборвал его и напористо заговорил сам. Он сказал Филиппову, что у него имеется другое предложение: охранному отделению отлично известно, кто он такой, и потому ему предлагают рассказать все, что ему известно, в обмен на сохранение ему жизни. Дело в том, что Филиппов был опознан как участник восстания на броненосце «Потёмкин», и не просто участник, а один из матросов-палачей, лично казнивших трех офицеров. Заочно он был приговорён к повешению ещё тогда, в 1905 году, и теперь спастись мог только по ходатайству следствия. Филиппов, страшно перепугавшись того, что его тайна открыта, в этот момент был похож на загнанного зверя. Спасая свою шкуру, он заговорил поспешно и путано. Лишь потом, постепенно успокоившись, стал припоминать подробности и рассказывал внятно.
* * *
В 1905 году, после того как экипаж «Потёмкина» сошёл на берег в Румынии, разошлись они кто куда. Филиппов, помотавшись по Балканам, решил перебраться на Дальний Восток. Он нанялся матросом на корабль, шедший в нужном ему направлении, и добрался до Владивостока. Там он быстро сошёлся с местными уголовниками, собрал свою шайку и стал промышлять грабежами и убийствами. Долго ли, коротко ли, но двое членов его банды были арестованы, а остальные, почли за благо убраться подальше от этих мест — в европейскую часть России. Надёжными документами они запаслись заранее, деньги у них водились, поэтому переезд труда не составил. Осели бандиты кто в Орле, кто в Брянске, и принялись за старое, выезжая «на гастроли» в Рязан-скую, Калужскую, Тверскую и Курскую губернии. В Брян-ске Филиппов случайно познакомился с Савельевым, который предложил ему принять участие в экспроприациях. По словам Филиппова, Савельев был идейный анархист, часто увлечённо говорил о будущем, том светлом времени, когда на всем земном шаре победит Анархия. Филиппов, по его собственному признанию, мало понимал, что он говорил, в силу необразованности, больше интересуясь делом и добычей. Анархисты его уважали за умение «чисто делать дело» и уходить от полиции, а также за революционные заслуги — казнь офицеров на борту мятежного броненосца.
Филиппов открыл следствию, что главная квартира группы находится в Брянске, в доме его приятеля, живущего на окраине города. Для прикрытия он содержал на дому бондарную мастерскую, а жена его занималась огородом при доме. Фамилия этого бондаря была… Малива.
* * *
Из Москвы в Брянск были направлены четверо опытных филёров, в задачу которым поставили слежку за этим Маливой. Агенты должны были осесть в городе, найти там работу и следить за связями «бондаря». Старшему филёру Теленову поручалось свести знакомство с «бондарем», посещая тот же трактир, что и он, войти к нему в доверие и открыться в подходящий момент, сообщив, что он беглый солдат и к «бондарю» его якобы направил Филиппов. Перед тем как поручить это задание Теленову, филёра ознакомили с показаниями Филиппова, Савельева, других членов группы и предупредили, что Курносая ещё не разыскана.
В Брянске Теленов довольно быстро справился с первой частью задания: в трактире, в который обычно ходил Малива, они как-то раз выпили-закусили, разговорились и подружились, как это бывает у людей пьющих сплошь и рядом. В своём первом донесении из Брянска Теленов сообщал, что «бондарь» пьёт сильно и во хмелю болтлив, однако хитёр и про дело ни разу не проболтался. Потом пришло подробное донесение. «Хотя „бондарь“ и утверждает, что он много лет никуда не выезжал из Брянска, похоже, что врёт, — писал Теленов. — Скорее всего, он бывший моряк, причём долго жил на Дальнем Востоке. Так я думаю потому, что: 1) Как-то раз в трактире он случайно обнажил руку по локоть, и обнаружилась татуировка: трехцветный дракон. Такие обычно делают моряки, плававшие в китайских водах. 2) Походка у него явно „морская“: чуть сутулится, широко расставляет ноги, как бы для устойчивости. 3) Головной убор носит, как матросы бескозырку, сдвинув на затылок. 4) Когда он курит, то сплёвывает, выбрасывая слюну очень далеко, как делают матросы, привыкшие сплёвывать за борт, чтобы не попало на палубу».
В другом своём донесении он доложил, что накануне к «бондарю» в трактире подошла какая-то молодая женщина. Она отозвала его в сторону, о чем-то пошепталась с ним и передала «бондарю» узел. «У этой женщины нос вздёрнут, и возможно, это и есть та самая Курносая Таня», — писал Теленов. Ему удалось «передать» Курносую своему напарнику, посещавшему тот же трактир отдельно от него, и тот проследил её до самого дома.
Когда Теленову показалось, что «подходящий момент» настал, он «открылся» своему новому другу. Тот выслушал его, пьяно усмехнулся, но ничего не сказал. Ни фамилия Филиппова, ни легенда о дезертирстве, казалось, на него не произвели никакого впечатления. Опасаясь, что «бондарь», заподозрив слежку, попытается скрыться, Заварзин в тот же день телеграммой распорядился немедленно арестовать «бондаря», его жену и Курносую.
Утром пришёл ответ. Сообщалось, что аресты произведены, но при проведении обысков ни у Курносой, ни у «бондаря» ничего предосудительного не найдено. Вся операция повисла на волоске: тайник с бомбами так и остался необнаруженным, а они могли быть взорваны в любой момент и где угодно. Вот тогда-то и вспомнили о Трефе. Заварзин включил собаку-сыщика и его проводника в специальную группу, которую возглавил ротмистр Курдюмов. Кроме того, в группу вошли два опытных агента. В этой командировке в Брянск Треф превзошёл самого себя.
* * *
Начав обследование дома «бондаря», Треф, нигде не задерживаясь, походил по комнатам и сел. Дмитриеву стало ясно, что никаких тайников в доме пёс не нашёл. Его вывели во двор, но и там картина повторилась. Оставалось поискать ещё в большом огороде. Привезли из участ-ка жену Малива и дали собаке её обнюхать. После этого дело вроде бы пошло веселее: Треф побежал в огород, куда Дмитриев никого не пускал, чтобы не путать следы. Пробегав более часу по всему огороду, обнюхав едва ли не все растения, Треф, так нигде и не задержавшись, опять сел. Что делать теперь, было совершенно не понятно! Дмитриев уже понял, что случилось: супруга Малива каждый день работала в огороде и пёс просто бегал по её следам.
В этот момент к месту событий прибыл Теленов, уже вышедший из обличья дезертира, шляющегося по подозрительным брянским трактирам. Когда жена Малива увидела его, она разразилась по его адресу ужасной бранью и попыталась ударить филёра, после чего её увели. Узнав в чем дело, Теленов сказал Курдюмову, руководившему розыском в Брянске: «Господин ротмистр, в последний раз Малива пришёл в трактир с руками чистыми, но под ногтями у него была „траурная каёмка“, не иначе, шельма, в земле рылся! Вы распорядились бы, чтоб его самого привезли. Может, у собачки дело бойчее пойдёт?!» Ухватившись за этот шанс, ротмистр распорядился привезти из тюрьмы «бондаря», и когда его доставили, история повторилась снова: Треф обнюхал Маливу и побежал в огород. Там побегав вдоль забора… снова вернулся и сел возле Дмитриева! Но понимая, что сейчас все зависит от него и Трефа, Дмитриев снова повёл собаку в дом и заставил заново обнюхать все вещи хозяев, затем снова повёл его на улицу. И тут свершилось! Треф, видимо, «зацепился» наконец за какой-то едва ощутимый запашок и пошёл за ним, пошёл… Вот он снова побежал вдоль забора… Повернул обратно… Покрутился на одном месте… залаял и начал рыть лапами землю. Курдюмов хотел было сунуться в огород, посмотреть, что там происходит, но Треф, грозно рявкнув, едва не бросился на него. «Нельзя, нельзя, господин ротмистр! — закричал на офицера Дмитриев и, уже как бы извиняясь, пояснил мягче: — Он же работает». Издалека ротмистр распорядился отвести в сторону собаку, а когда Дмитриев выполнил команду, в дело вступили городовые с лопатами. Люди выкопали довольно глубокую яму, прежде чем нашли то, что учуяла под землёй собака. Это был смолёный бочонок, в котором был запас взрывчатки для нескольких бомб, крупная дробь «для начинки», пробирки для кислотных детонаторов, корпуса для бомб. Кроме того, свёрток, завёрнутый в синий платок, тот самый, который передала в трактире Курносая. В нем обнаружили 200 экземпляров журнала анархистов «Буревестник». На самом дне бочонка нашли свёрток с документами и фотографиями. На одной из них был изображён Малива в матросской форме, рядом с ним стояла женщина, в которой можно было узнать его жену. На фотографии была надпись: «Владивосток. Фотография „Экспресс“. В том же свёртке лежали паспорта и другие бумаги, выписанные на имена Купченко и Шестовой.
* * *
Как оказалось, «бондарь Малива» был членом банды Филиппова, беглым матросом Купченко. Дезертировав с военного корабля, он стал уголовником и при попытке ограбления церкви убил священника. На этом и «засыпался». Сидя во владивостокской тюрьме, он не стал дожидаться, когда его повесят, сбежал и примкнул к бандитам Филиппова. Шестова, его сожительница, а не жена, была известная во Владивостоке воровка. Курносая, действительно оказалась Таней, сожительницей Филиппова, в полиции Брянска она была зарегистрирована как проститутка.
Обыск в её доме делали тоже с Трефом. Пёс облазил весь дом, чердак, сараи и не нашёл ничего. Тогда был обследован подвал, и там, возле здоровенной лохани с замоченным грязным бельём, Треф залаял. Лохань едва сдвинули с места двое городовых, под нею обнаружился люк, ведший в тайник, в котором нашли много краденого, в том числе и вещи, взятые грабителями во время налёта в калужской губернии, когда были убиты трое обитателей усадьбы.
Этот розыск в Брянске позволил потом обнаружить по всей России несколько законспирированных групп террора, арестовать руководителей «безмотивников». Всего по делу было арестовано 35 человек, в разных местах изъяли много оружия, взрывчатки, готовых бомб. Одному только Богу известно, сколько человеческих жизней спасла собака Треф, найдя в Брянске закопанный бочонок с запасами террористов.
* * *
Всех «безмотивников» судили, и они получили большие сроки каторжных работ. Филиппову, на совести которого, как выяснило следствие, вместе с казнёнными им на «Потёмкине» офицерами было в общей сложности одиннадцать трупов, но за помощь следствию, как и было ему обещано, жизнь этому монстру сохранили. На суде его приговорили к бессрочной каторге. После революции, в почётном звании «жертвы царизма», Филиппов вернулся с каторги в Брянск, где стал… председателем брянской ЧК!
Судьбы остальных участников этой истории сложились куда более печально. Заварзин вынужден был бежать за границу и, живя во Франции, чтобы прокормить жену, на старости лет пошёл работать к конвейеру автомобильного завода «Ситроен». Дрессировщик, вырастивший Трефа и живший как бы «в тени славы» своего четвероногого напарника и питомца, околоточный надзиратель Владимир Дмитриев был расстрелян в первые годы революции. Ему не простили успехов розысков охранного отделения, а особенно того, что уже после февральской революции Дмитриев и его Треф были включены в группу контрразведки, по приказу Временного правительства искавшую Ленина, скрывавшегося после попытки переворота, предпринятой большевиками летом 1917-го в Питере. Такая же судьба постигла многих специалистов-кинологов, служивших в полицейских и жандармских подразделениях. В совершеннейшем забвении окончил свои дни главный энтузиаст служебного собаководства, фактически создавший его в России, бывший начальник петербургского сыскного отделения Лебедев. О том, как сложилась судьба Трефа «при новой власти», доподлинно неизвестно, но, судя по его преданности Дмитриеву, остаётся предположить самое худшее: ведь собаки — они же не люди, они не умеют «подстраиваться к обстоятельствам» и служить убийцам друзей и хозяев, вряд ли Трефу удалось пережить годы гражданской войны и разрухи. Правда, по сведениям кинологов, занимающихся служебным собаководством, после Трефа осталось многочисленное потомство: в более счастливые для него «звёздные годы» он был активным производителем, и потому первые служебные собаки советской милиции были доберман-пинчеры, его прямые потомки. Потом, сочтя эту породу слишком «изнеженной», перешли на разведение менее прихотливых овчарок, сделав их основной «розыскной собакой».


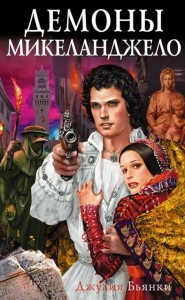



Комментарии к книге «Байки русского сыска», Валерий Ярхо
Всего 0 комментариев