Катерина ВРУБЛЕВСКАЯ ДЕЛО О СТАРИННОМ ПОРТРЕТЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Вкусы меняются столь же часто, сколь редко меняются склонности. 1
Теплым июньским днем 1893 года я сидела в Александровском парке и глядела на рябь пруда, в котором среди ряски и редких кувшинок плавала пара лебедей. На скамейке рядом лежал томик братьев Гонкуров — «Мадам де Помпадур». Читать совершенно не хотелось, впрочем, не хотелось и ничего другого — меня охватила ленивая истома, и я рассеянно следила за белоснежными птицами.
Мысли плавно перетекали из одного воспоминания в другое: мне припомнились и праздничные молебны накануне Пасхи в институтской церкви, где сладко и дурманяще пахло ладаном, и строгие наставницы, обучавшие пансионерок манерам и языкам, и те радостные мгновенья, которые я провела с мужем…
Владимир Гаврилович Авилов, географ-путешественник, член Императорского Русского географического общества, доктор естествознания, — высокий, худощавый, с обветренным лицом и пронзительными синими глазами — составлял разительный контраст своему другу — моему отцу, полноватому и черноусому, с холеными ногтями и всегда безупречно одетому.
Авилов появлялся в нашем доме редко. Но зато каждый раз из очередного путешествия привозил мне подарок. Это могли быть веточка коралла, кусок скалы с отпечатком крупного насекомого или костяные бусы, изготовленные далекими мастерами. Но больше подарков меня привлекали его истории. Рассказывал он великолепно, и я словно сама оказывалась в тех местах, о которых шла речь.
Однажды, когда мне было тринадцать, он пришел к нам и увидел, что я читаю «Графа Монте-Кристо» писателя Александра Дюма-отца.
— Нравится? — спросил Авилов.
— Конечно! — воскликнула я. — Эдмон Дантес такой красавчик!
— Но там есть кое-кто гораздо умнее и интереснее твоего спесивого графа!
Я широко раскрыла глаза.
— И кто же это?
— Аббат Фариа, — ответил он.
— Что ж в нем интересного? — разочарованно спросила я. — Сидит в тюрьме, а потом умирает, так и не выйдя на волю…
— Аббат очень умен и проницателен, — объяснил Авилов серьезно. — Обрати внимание, как он ловко распутал задачу и узнал, кто посадил Дантеса в тюрьму! А ведь аббат Фариа никогда в жизни не видел этих людей и не был в том городке. Что мешало Дантесу самому распутать узел и отвести от себя обвинения?
— Не знаю, — я пожала плечами. — Наверное, он сильно любил свою невесту.
— Одно другому не мешает, — Владимир Гаврилович рассмеялся. — Просто аббат умел делать правильные выводы из полученных сведений, а Дантес — нет. Именно это и называется умом.
После того разговора я вернулась к началу и перечитала роман заново, обращая внимание на аббата Фариа. Я не могла не восхититься точностью оценки Владимира Гавриловича и для себя решила, что друг отца ничуть не глупее аббата.
Прошло три года. Авилов уехал в Маньчжурию и долго не возвращался. Он писал нам чудесные письма, полные описаний приключений и опасностей. Однажды, в день посещений, ко мне пришел отец. Рядом с ним стоял высокий седой мужчина. Поначалу я его не узнала, а когда поняла, что это Владимир Гаврилович, то с радостным возгласом кинулась ему на шею, совершенно выпустив из виду, как это выглядит со стороны.
Кто бы мог подумать, что такое нарушение благонравия приведет к непредсказуемым последствиям! По окончании визита отца и Авилова ко мне подошла дежурная «синявка» — так мы в институте называли классных дам за их синие форменные платья. Синявка кипела от бешенства.
— Как вы себя вели, мадемуазель Рамзина? Это верх неприличия — бросаться на шею мужчине! Вы поставили под удар репутацию института! Я немедленно доложу о вашем непристойном поведении начальнице.
Несмотря на то, что я была уже взрослой семнадцатилетней девицей и вскоре должна была сдавать выпускные экзамены, быть исключенной из института после семи лет мучений, да еще с записью «за неблагонравие», мне вовсе не улыбалось.
Мадам фон Лутц, грузная начальница института, сидела в удобном кресле с подлокотниками, а на ее коленях покоился жирный пудель, вылитый портрет хозяйки.
— Что вы скажете в свое оправдание, мадемуазель? — хрипло спросила она, задыхаясь от гнева. — Вы преступно забылись, и теперь мне остается одно — исключить вас из института. Как вы могли?
В зале для посещений находились младшие воспитанницы. Какой пример вы им подали? И что скажут их родители? Что мы воспитываем… э… — тут она запнулась, но справилась с собой, — …кокоток?
Стоя с опущенной головой, я чуть не прыснула — оказывается, Maman знает слово, известное мне из романов господина Бальзака. Синявка тихонько ахнула и прикрыла ладонью тонкогубый рот. Мгновенно мое лицо вновь обрело серьезное и даже виноватое выражение.
— Господин Авилов, пришедший с отцом, — известный путешественник и давнишний друг нашего дома, — тихо сказала я. — Он вернулся после длительного отсутствия, и моя радость при виде его была вполне понятна.
— Это не дает вам права забываться, мадемуазель Рамзина. Где ваша гордость и девичья честь?
Внезапно меня осенила дикая мысль.
— Господин Авилов — мой жених. — Я в упор посмотрела на начальницу честными-пречестными глазами. — Он просил моей руки, и отец дал согласие.
Начальница и классная дама переглянулись. Наступило молчание.
— Ну что же, это меняет дело, — уже другим тоном сказала мадам фон Луга,, но внезапно ее голос опять стал жестким: — Я немедленно посылаю за вашим отцом, чтобы он подтвердил ваши слова. Надеюсь, вы не лжете, мадемуазель… Ступайте.
Я присела в реверансе и, дрожа от волнения, покинула кабинет мадам фон Лутц.
Нужно было срочно предупредить отца. Но как? Кого послать с запиской? Сторожа Антипа, который время от времени выполнял поручения институток?
Тут я заметила, что Долгова — синявка, устроившая мне это наказание, — идет за мной с явным намерением следить. Так и вышло.
Ни жива ни мертва я просидела полтора часа в дортуаре, и меня снова позвали в кабинет начальницы.
Увидев отца и Владимира Гавриловича, я несколько приободрилась.
— Подойдите ко мне, мадемуазель, — почти ласково сказала Maman. Я робко приблизилась, и она потрепала меня по плечу. — Ваш отец и мсье Авилов подтвердили ваши слова, и вы можете продолжать учебу в институте. Но я приказываю вам — никаких вольностей в дальнейшем. Вам понятно?
— Да, Maman, — чуть слышно ответила я, не решаясь поднять глаза, и присела в низком реверансе. Щеки мои горели, будто их отхлестали.
— Идите и подумайте над моими словами.
Повернувшись, я вышла из кабинета, но перед дверью обернулась. В глазах отца плясали смешинки, а Владимир Гаврилович смотрел на меня как-то странно.
Отец рассказал мне потом, что приглашение приехать в институт сразу же, как только они с Авиловым вернулись оттуда, не сулило ему ничего хорошего. Он взволновался, и мой будущий муж вызвался поехать вместе с ним. Их провели в кабинет к мадам фон Лутц, и та, не давая им опомниться, задала вопрос:
— Скажите, мсье Рамзин, правда ли то, что утверждает ваша дочь?
— Моя дочь никогда не обманывает. Она всегда говорит чистую правду.
— Полтора часа назад, на этом месте, она сказала, что мсье Авилов — ее жених.
Отец удивленно посмотрел на начальницу.
— Полина сама вам это сказала?
— Да, сама. Что вы на это ответите? Вы подтверждаете ее слова?
Владимир Гаврилович вмешался в разговор:
— Ваша воспитанница и дочь моего близкого друга говорит чистую правду. Третьего дня я просил ее руки и получил согласие у Лазаря Петровича.
Вот так были спасены моя честь и учеба в институте. Вскоре после того случая Авилов действительно попросил моей руки, и я согласилась, несмотря на его седину и тридцатилетнюю разницу в возрасте. Ведь я была в него влюблена с самого детства! Отец дал свое благословение. Мы сыграли свадьбу через два месяца после окончания мною института.
А спустя шесть лет мой муж скончался в возрасте пятидесяти трех лет. Изнурительные путешествия подорвали его здоровье. Из последнего, в Южную Африку, он вернулся совершенно больным и тихо угас у меня на руках. Я осталась вдовой в двадцать четыре года, с приличным состоянием и без детей. В душе моей образовалась пустота, и я решительно не знала, чем ее занять. После окончания траура вокруг меня стали виться поклонники, но среди них не было ни одного, кто умом и характером мог хоть сколько-нибудь приблизиться к моему покойному супругу.
***
— Полина, милая, вот ты где! — услышала я за спиной.
Обернувшись, я увидела отца. Он шел мне навстречу, протягивая руки, и я в который раз отметила про себя, что он изрядно пополнел за последние годы: аскеза не входила в число добродетелей papa.
Не будь Лазарь Петрович Рамзин моим отцом, которого я нежно люблю и почитаю, я сказала бы, что он весьма достойный человек, адвокат, член судейской коллегии, обладатель широких взглядов и солидного капитала, нажитого собственным искусством и красноречием. Уложение о наказаниях знает как собственные пять пальцев — меня всегда восхищали его память и умение толковать законы. Росту высокого, я в него уродилась, собой хорош, могуч, владелец роскошных усов и бархатного баритона. Живет один после того, как я вышла замуж и переехала к Владимиру Гавриловичу. Дом и без меня содержится хорошо, хозяйством ведают экономка Вера, она же горничная, и камердинер. Там же проживает секретарь отца, поскольку по службе господин Рамзин принимает на дому. Лазарь Петрович — специалист по уголовным делам, он умеет убеждать и берется за самые сложные дела.
***
Papa рано остался вдовцом: матушка умерла в родах, так что я ее никогда в жизни не видела. Лазарь Петрович более в брак не вступал, хотя (надеюсь, что мне, уже вдове, позволительно иметь собственное мнение по этому вопросу) остался большим охотником до особ женского пола, на которых изливал весь нерастраченный в супружеской жизни пыл. Но чего у него не отнять — от своих метресс Лазарь Петрович требовал быть со мной приветливыми и ни в чем мне не перечить. В детстве я пользовалась его особым благодушием, и как же я изводила несчастных! Иногда я даже корю себя за такое недостойное поведение в младые годы.
С ранних лет отец дал мне чрезмерную свободу. Родители хотели мальчика, а родилась я. Сызмальства ко мне были приставлены няньки, мамки, бонны да гувернантки, которые мне и шагу не давали ступить. Но при том отец часто брал меня с собой, чему я вовсе не противилась, совсем наоборот — в охотку ездила верхом, причем в мужском седле, играла в лаун-теннис, модную спортивную игру, привезенную из Европы, а также, когда удавалось, не вылезала из приемной Лазаря Петровича.
Ведь это было так интересно! Я с детства крутилась у отца в кабинете, ловила каждое слово, даже захотела поступить на высшие женские курсы — не для чего иного, как для того, чтобы стать судебным медиком и помогать отцу в работе! Отец всячески поощрял мои затеи и только посмеивался: «Полинушка, кто ж тебя замуж возьмет, такую начитанную? Разве что какой-нибудь книжник…»
Это сейчас я понимаю, чего может понабраться юная благовоспитанная особа в приемной у адвоката по уголовному праву. Кого только там не встретишь! А тогда я ничего этого не осознавала и была рада предоставляемой мне свободе. Отец, занятый своими делами, не обращал на сей факт никакого внимания, пока однажды не приехала старая тетка Мария Игнатьевна и не устроила ему самый настоящий выговор. Я называла ее старой козой (да-да, она была так похожа, только без бубенца!) и полагала себя совершенно правой. Мария Игнатьевна считала, что негоже барышне слушать про убийства и блуд, а также присутствовать при составлении речей, оправдывающих сии противоправные действия.
После ее отъезда меня стали усиленно готовить к поступлению в N-ский институт, где я вскоре и очутилась, к великой своей печали и вящему облегчению престарелой родственницы…
***
— Что случилось? — спросила я, когда отец подошел ко мне.
— Тебя так долго не было дома! Я дважды посылал к тебе горничную с поручением, но ты так и не возвратилась. Поэтому я отправился на поиски. Разве можно столько сидеть на солнце?
— Не волнуйся, ничего со мной не случится. Кстати, который час?
Уже два часа пополудни. Ты ничего не ела. И бледная. — Отец с тревогой пощупал мне лоб. — Может, вернешься, приляжешь? Или пойдем ко мне. Я прикажу Вере заварить тебе валерианового корня.
— Спасибо, papa, я в полном порядке. Немного еще посижу и вернусь домой. Все чудесно, ты воспитал меня разумной барышней.
— Ладно, — согласился отец. — Все же не сиди на солнце и возвращайся домой. А я в консисторию. Пришел запрос от товарища прокурора по поводу моего подзащитного, так что мне необходимо отлучиться. Надеюсь, благочинный долго не задержит. Иди домой, детка, и не скучай.
Уходя, отец потрепал меня по щеке словно маленькую. Я заметила в его глазах тревогу, но он, как опытный адвокат, прекрасно умел себя держать. Лазарь Петрович знал, что мне пришлось пережить этой зимой, я ничего от отца не скрывала.
После возвращения в марте из Москвы, где волею рока мне пришлось быть замешанной в череду убийств, совершенных в занесенном снегом особняке, я долгое время оттаивала душой, стараясь изгнать из памяти страшные картины 2. Чтобы выйти из состояния апатии и безволия, нужно было что-то поменять в жизни. Нет ничего лучше, чем изменить обстановку в доме, и я решила приобрести новую мебель для малой гостиной.
В деньгах у меня недостатка не было — покойная тетушка оставила мне достаточно, чтобы я ни в чем не нуждалась, и я жила на проценты с капитала, помещенного в Общество взаимного кредита Санкт-Петербургского уездного земства. Иногда позволяла себе через свою банковскую контору играть на бирже дивидендными бумагами, но всегда действовала осторожно и не гналась за большой прибылью…
Солнце стало припекать, расшалилась мигрень, и я стала подумывать, не принять ли мне «капли датского короля», которые всегда у меня с собой в сумочке, — не люблю зависеть от недомоганий. Разумеется, отец прав, нужно было возвращаться домой. Но как же мне не хотелось вновь оказаться одной в четырех стенах! В парке смеялись люди, играли дети, по водной глади заросшего тиной пруда плавали лебеди. А что дома? Дома я одна, наедине с воспоминаниями, в тусклых комнатах, обставленных мебелью, приобретенной еще родителями покойного супруга…
***
Владимир Гаврилович мало интересовался домом, ведь он многие месяцы проводил в экспедициях, а я набивала синяки на боках, ударяясь об острые углы допотопных комодов. Задыхаясь среди ампирных стульев с львиными лапами вместо ножек и подлокотниками в виде крылатых грифонов, я вознамерилась полностью изменить стиль малой гостиной. Мне хотелось нового, воздушного, неповторимого, чтобы душе было светло и просторно. Обставить дом для меня было равносильно изменению чего-то в себе самой, в своей судьбе, но, к моему великому огорчению, ничего путного из этой затеи не выходило. N-ские торговцы мебелью предлагали только лишь набившие оскомину комоды с лепниной из левкаса, козетки палисандрового дерева с выгнутыми спинками да горки с золочеными карнизами.
Отчаявшись что-либо изменить в интерьере, я сидела как-то у себя в малой гостиной и предавалась горьким раздумьям. Такой и застал меня отец, вернувшись из присутствия.
— Полинушка, что ты в темноте сидишь, да в таком разобранном виде? — спросил отец, усаживаясь на ту самую ненавистную козетку.
— Ax, papa, — ответила я, — хочу гостиную поменять, а торговцы как сговорились: несут образцы, словно я купчиха какая или барыня в салопе. Все у них вычурно, аляповато, тяжело… Сплошная лепнина, позолота, все скрюченное — ни одной прямой линии. Келью царевны Софьи в Новодевичьем монастыре такой мебелью обставлять, а не гостиную конца нынешнего столетия. Мне света хочется, простора, papa. Взяла бы и отодрала эти портьеры, чтобы духу их тут не было! Одна пыль от них. У меня горло перехватывает, когда я возле зашторенного окна стою. На дворе солнце, свет, радость, а я словно…
— …царевна Софья в Новодевичьем монастыре, — подхватил Лазарь Петрович и звонко рассмеялся.
— Верно!
— Это называется клаустрофобия, дочка, — ответил мне умный отец, любивший между делом щегольнуть латинским словечком. — Как ты понимаешь, боязнь замкнутого пространства. Такое у тебя навязчивое представление, говоря по-русски.
— Откуда? — удивилась я.
— После того ужаса, что ты пережила в заснеженном замке, подле мертвых тел и убийцы, бродившего по дому, вполне понятно, что тебе хочется простора и воздуха. Любой другой человек давно бы просыпался по ночам с криками и в холодном поту, но ты у меня молодец!
Мне были понятны неуклюжие попытки отца узнать о моем нервическом состоянии, поэтому я ответила как можно беспечнее:
— Надо же, а мне просто казалось, что хандрю. То-то гулять постоянно хочется, горизонт видеть. Пройдет.
Не сомневаюсь, что пройдет. Но скоро ли? Не нравится мне, что ты одна. Владимир умер, пора тебе о новом замужестве подумать. Сколько можно оплакивать Авилова? Он был мне другом, но ты-то мне дочь!
— Мне и так хорошо, papa, а вот найду достойного человека, тогда и поговорим.
Лазарь Петрович с видимым усилием встал со злосчастной козетки.
— Собирайся, — почти приказным тоном сказал он мне. — Еще вчера думал свести тебя в «Эрмитаж», но сегодня бери выше. Поедем к Жан-Полю, отметим победу. Я выиграл дело купца Крашенинова о покупке им поддельных аккредитивов. Мошенника приговорили к лишению всех особенных прав и преимуществ и отдали в исправительное арестантское отделение на год, а купец на радостях отстегнул мне приличную премию из возвращенных ему денег. Так что поехали кутить!
В ресторане «Lutetia» 3, что на Предтеченской улице возле городской думы, нас встретил сам хозяин мсье Жан-Поль, полный француз с усами колечком и в белоснежном переднике.
— О! Мсье Рамзин! — воскликнул он, кланяясь и одновременно всплескивая руками. — Я так рад вашему визиту! Сегодня в меню креветочный суп, форель по-нормандски и седло барашка в соусе «пармезан». Рекомендую, вы останетесь довольны.
— А вино? — спросил Лазарь Петрович.
— Только бургундское! Наш великий Бальзак именно благодаря бургундскому написал «Тридцатилетнюю женщину», — произнес француз, повернувшись ко мне.
— Конечно, конечно, — рассеянно сказал отец, а я нахмурилась: интересно, на что это намекает француз? Неужели я выгляжу на тридцать? И это галантные французы? А может, papa прав, и мне надо встряхнуться?
Мы сели за уютный столик, покрытый скатертью в сине-красную клетку. Через несколько минут чернявый официант принес фарфоровую супницу. Нежно-розовый суп из протертых креветок оказался превыше всяких похвал. Во время еды мы перекинулись лишь несколькими словами — так было все вкусно. Интересно, как скажется такой обед на моей талии? Жесткие китовые усы корсета немилосердно сдавили мне ребра. Хорошо мужчинам — им не нужно носить всю жизнь этот пыточный станок, да и брюшко показывать не зазорно — больше звеньев цепочки от часов поместится…
Когда, отдав должное форели и запив барашка выдержанным бургундским, отец приказал принести счет, он внимательно посмотрел на меня, словно размышляя, говорить или нет, и произнес:
— Есть один человек… Он как-то приходил ко мне консультироваться — его хотел обмануть компаньон. Хорошо, что вовремя обратился, иначе остался бы и без мастерской, и без дома. Я ему кое-что посоветовал — по мелочи, но вовремя. Серапион Григорьевич его зовут. Серапион Григорьевич Протасов, из мещан. Он столяр, плотник, одним словом, работник по дереву. Мастеровой отменный — так мебель чинит, лучше новой выходит. У него мастерская на Кирпичной улице, что в Мещанской слободе. Тетушка твоя Марья Игнатьевна, покойница, весьма его жаловала. Никому свою оттоманку не доверяла, на которой любила отдыхать после обеда, а его позвала чинить. Он выправил — лучше прежней стала. Марья Игнатьевна осталась довольна.
— Papa, так мне ж не чинить, мне новая мебель нужна! — возразила я. — Для чего мне столяр? Мне и чинить нечего. Ту рухлядь, что в доме стоит, давно пора выбросить. Надоела, сил нет на нее смотреть, особенно на комод!
— Ну что ж, пообедали, давай вернемся к тебе, покажешь, что ты намереваешься выбросить. — Отец промокнул салфеткой усы и поднялся из-за стола.
Дома Лазарь Петрович прошелся по малой гостиной, провел рукой по комоду, погладил грифона на подлокотнике кресла, остановился возле ненавистной козетки.
— Третьего дня встретил я того Протасова, — продолжил отец разговор, начатый в ресторане. — Он шел с молодым человеком. Увидев меня, поклонился. «Вот, Лазарь Петрович, — говорит, — позвольте представить, сын из Москвы приехал, Андреем звать. В училище живописи он там. У господина Поленова учится. Теперь домой заехал, на этюды. Если желаете портрет нарисовать или картину, — все сделает и денег не возьмет, сильно вы меня давеча выручили».
— И что же? — спросила я. — Не понимаю, что ты хочешь этим сказать.
— Завтра же пошлю за ним и попрошу молодого художника набросать эскизы мебели — нарисует все, что скажешь, а отец выполнит. Негоже тебе одной в четырех стенах в темноте сидеть. Делом займись, а то совсем в отшельницы записалась. Ты же дама, следить за собой должна. Я обратил внимание, как ты передернулась от слов француза, хотя он вовсе не тебя имел в виду. В будущий четверг мы званы к Елизавете Павловне, а как ты выглядишь? Ни лица, ни прически. Нехорошо, дочка.
Вот так холеный щеголь, мой отец, бичевал душевную хандру, в которую повергли меня убийства в доме Иловайских. Уж скоро полгода будет, а мне до сих пор по ночам снится кровавое пятно на снегу, где лежала моя подруга.
Чтобы только прекратить его справедливые упреки, я вяло кивнула и проговорила:
— Зови художника, пусть рисует. — Мне было все равно; особенного толка в затее отца я не видела, но не хотела обижать его отказом. — Будет у меня новый гарнитур а-ля Мещанская слобода.
— Завтра к полудню приведи себя в порядок — пришлю его. Ну, а сейчас мне пора. — Отец вытащил из жилетного кармашка часы. — Через полчаса у меня встреча с предводителем дворянства. Не унывай.
Лазарь Петрович поцеловал меня в лоб и вышел из гостиной.
Я долго сидела, разглядывая свой decor 4. Потом попросила Дуняшу расшнуровать мне корсет и легла спать. Как ни странно, кровавое пятно на снегу мне в ту ночь не снилось.
***
Ровно в полдень горничная постучалась ко мне в спальню и сообщила:
— К вам Андрей Серапионович Протасов, барыня.
— Проводи в малую гостиную, Дуняша, проси обождать. Я скоро буду.
Боже, как долго я спала! Уже и не припомню, чтобы такое со мной приключалось. Проспала, а ведь отец предупреждал! Тем не менее настроение мое было отличным, и я подумала, что мне и впредь стоит подольше нежиться в постели, а не мучить себя воспоминаниями.
Увидев меня, художник встал со стула и поклонился. Статный, росту около восьми вершков 5, с длинными русыми волосами, рассыпанными по плечам, и с таким прекрасным цветом лица, который можно было бы назвать персиковым, если бы он принадлежал девушке. В косоворотке — по черному полю мелкая красная клетка, на ногах мягкие козловые сапоги. Юноша мял в руках картуз — на тонких пальцах были видны следы краски и заметно волновался.
— Рада видеть, господин Протасов. — Я протянула ему руку для поцелуя, и он неловко клюнул мне тыльную часть кисти. — Присаживайтесь. Меня зовут Аполлинария Лазаревна Авилова. Чувствуйте себя свободно и рассказывайте, откуда вы, где учитесь.
— Родом отсюда, из села Олейниково, что неподалеку, — просто, без рисовки, ответил он. — Родители перебрались в город сразу после моего рождения. Отец столярничал сначала на хозяина, потом открыл свою мастерскую. С детства помню запах опилок, клея — на свете нет аромата приятней. Я там и вырос, среди стружек, — улыбнулся Протасов, и мне стало приятно от его улыбки. Она освещала лицо, а из уголков глаз разбегались тоненькие лучики.
— Когда вы начали рисовать?
— Не помню, когда я этого не делал. Сызмальства что-то царапал углем на дощечках, кирпичах, оберточной бумаге. Белые листы были дороги — не для потех и баловства.
— Ну какое же тут баловство? — возразила я. — Это учеба.
— Так-то оно так, да отец надеялся, что помощником буду, ведь я старший в семье, а я слезно упросил отпустить меня в училище живописи. Серапион Григорьевич и сам видел, что у меня не блажь, что вся жизнь моя в рисовании, и отпустил в Москву.
— Молодец! — похвалила я отца Протасова. — Иметь такую широту взглядов — это не часто встречается.
Может быть, отец пожалел меня, а может, — есть у меня такая надежда — выгоду видел: мол, вернусь и буду ему помогать в деле. Тогда будет у него не просто мастерская, а мастерская с художником из Москвы! — Андрей Серапионович забавно поднял вверх палец, как бы показывая значимость титула. — Сейчас же по старинке работают — как двадцать лет назад стулья сколачивали, так и сейчас, никакого творчества!
— Лазарь Петрович уже рассказал вам о моей необычной прихоти? — спросила я. — Или мне повторить для вас?
— Не стоит, мне ясно. Почему ж необычная? Вполне понятная и милая прихоть, — снова улыбнулся юноша. — Хорошая мысль. Давно надоели эти нагромождения, ведь столько места занимают! Хочется все собрать и вывезти на помойку, уж простите за грубость. Сколько с отцом ни спорю, а он моих взглядов не признает. Мал еще, говорит, яйца курицу не учат, поперек батьки не лезь. Вот выучишься на художника, тогда и поговорим, а сейчас ты еще права не имеешь, на отцовские деньги ума-разума набираешься. Вся народная мудрость против меня.
— Всецело с вами согласна, Андрей Серапионович, — кивнула я. — Ничего хорошего в этих козетках да оттоманках нет. Выглядят, как замоскворецкие купчихи, такие же тяжелые и расплывшиеся. И пыль в резьбе скапливается. Не хочу резную мебель. Только вот чего мне хочется, сама не знаю. Решила вас спросить.
— А я наброски принес, — Протасов вытащил откуда-то из-за спины картонную папку и показал мне. — Вдруг вам что-нибудь понравится? А нет, так еще нарисуем, мне в радость.
Говорил он мягко, певуче, немного окая. Серые глаза смотрели на меня чуть насмешливо, но совсем не обидно, будто своими желаниями я взяла его в сообщники. Когда он протянул мне папку, я обратила внимание, что у него широкие мощные плечи, которые, однако, не делали его торс коренастым и приземистым. Косоворотка ладно обрисовывала фигуру Протасова, и мне даже пришла в голову мысль: а в училище живописи он так же одевается, или это просто дань семье мастеровых? С немалым усилием я перевела взгляд на эскизы, не ожидая, впрочем, ничего особенного. Однако от увиденного у меня побежали мурашки по коже, словно я выпила бокал ледяного шампанского, — настолько интересными оказались рисунки. Четкими уверенными штрихами на картонных листах были изображены легкие стулья, устремляющиеся вверх шкафы; округлые, плавные формы мебели заставили меня разглядывать все до мельчайших подробностей. Редкие декоративные элементы в стиле рококо и барокко не затеняли общей картины новизны, лишь придавали ей еще больше очарования. Я перебирала рисунки и не знала, на чем остановиться.
— Изумительно! — только и смогла воскликнуть я. — Что это? Никогда прежде такого не видела! Так не бывает!
— Это называется модерн — новый стиль. В Германии его называют югендстилем. Я узнал о нем совсем недавно, в училище, когда один из наших студентов вернулся из Мюнхена и привез рисунки архитекторов Беренса и фон Уде. А это, — он показал на наброски, — моя интерпретация немецких образов. Когда Лазарь Петрович предложил мне нарисовать для вас мебель, я сразу сел за работу и так увлекся, что просидел над картонами до рассвета. Работа захватила меня. Мне понравилась идея внести в немецкий стиль русский самобытный колорит. Вам нравится?
У художника даже речь изменилась. Голос стал тверже, фразы длиннее. Пропал мастеровой. О стилях в искусстве со мной разговаривал образованный московский студент. Я порадовалась этой перемене, так как сразу ощутила, что молодой человек непрост и что ему тесны рамки отцовской мастерской.
— Конечно! Мне все нравится, даже не знаю что более всего. Так бы сразу взяла и расставила: стол в центре, шкаф в тот угол, к окну, он будет хорошо смотреться от входной двери. Только… — спохватилась я, — только кто все это сделает? Было просто на бумаге, да забыли про овраги. Знаете такую пословицу?
— Не волнуйтесь, Аполлинария Лазаревна, отец возьмется за эту работу, я уже с ним беседовал. Утром я показал Серапиону Григорьевичу эскизы, и он согласился взяться за заказ, даже ему интересно стало. Вы не подумайте, он не такой ретроград, как кажется. Просто он основательный и не возьмется делать заведомо плохую вещь. У него хорошие столяры, да и я сгожусь. С детства рубанок в руках держал. Вот и вспомню, как отцу помогал. Не повредит. — Протасов улыбнулся. — Руки чешутся самому сделать то, что придумал.
— Неужели и вы будете тоже работать? — поразилась я. — Вы же художник, вам руки беречь нужно. Может, не стоит? Будете наблюдать, показывать, что и как, а делают пусть другие.
— Не страшно, мы привычные, — засмеялся он, и я вновь поразилась, как освещает его улыбка. Передо мной снова стоял мастеровой, рубаха-парень.
Мы сговорились на том, что пока я закажу гарнитур для малой гостиной, включающий стол, полдюжины стульев, небольшой диван, два кресла, шкаф и комод, а дальше видно будет. И так работы для всей мастерской наберется не менее чем на два месяца, и это если ничего переделывать не придется. А в том, что придется переделывать, я не сомневалась: капризная из меня заказчица, люблю, чтобы все было на самом высшем уровне.
После визита Протасова меня охватила бурная жажда деятельности. Хотелось все перевернуть вверх дном. Я вдруг заметила, какой спертый воздух в гостиной. Подойдя к окну, я распахнула створки, и прохладный ветер ворвался в комнаты.
Я послала Дуняшу за двумя поденщицами, постоянно работавшими у меня по большим стиркам, и, когда они явились, стала сыпать указаниями. Поденщицы сняли и замочили занавеси, протерли пыль, залезая в самые далекие уголки под потолком, вымыли стекла и полы, и к концу дня я отпустила их, строго наказав назавтра прийти вновь и продолжить работу.
В тот вечер я вновь спала без кошмаров, мучивших меня после возвращения из Москвы. Мне снилась улыбка Протасова.
***
Работа над эскизами мне нравилась. Я объясняла Протасову, как именно должна выглядеть малая гостиная, и он рисовал быстрыми, размашистыми движениями. Когда ему окончательно становилась понятна моя точка зрения, он переводил эскизы в чертежи и передавал отцу. Два столяра в мастерской работали только над моим заказом, поэтому дело спорилось. Андрей Серапионович навещал меня, принося с собой то ножку стула, то деталь украшения на дверцу комода, а однажды отвел меня в Мещанскую слободу, чтобы показать, как из простого дерева рождается произведение искусства. Я была совершенно счастлива, вдыхая нежный аромат березовых и липовых стружек.
Как-то я встретила в торговом ряду Елизавету Павловну, известную городскую сплетницу.
— Душечка Аполлинария Лазаревна, вы чудесно выглядите! — пропела она, окидывая меня цепким взглядом. — Что же вы пропустили мой прошлый четверг? Лазарь Петрович обещал пренепременно вас привести! Сказал, что вы прихворнули. Как здоровье?
— Спасибо, Елизавета Павловна, со мной все в порядке.
— Чем вы болели? Мигрень? Я недавно получила из заграницы чудесные соли! Не хотите ли?
Мне подумалось, что мадам Бурчина злоупотребляла эпитетами «чудесный, прелестный, трогательный»; это была манера общения с членами «ее круга», куда она всеми силами старалась затащить меня. Я удивляюсь, как мог мой отец, выдержанный человек, комильфо, посещать ее сборища, где, помимо пасьянсов или других «степенных игр», не было более приятного времяпрепровождения, чем сплетничать о знакомых. На мои вопросы Лазарь Петрович отвечал, что сведения, добытые им в салоне Елизаветы Павловны, имеют несомненную ценность для его деятельности стряпчего и присяжного поверенного.
— Нет, нет, не стоит, Елизавета Павловна, со мной все в порядке, — нетерпеливо повторила я.
— Да, я заметила, — протянула она. — С таким цветом лица не болеют, тем более что вы любите бывать на свежем воздухе. Давеча Людмила Ильинична видела вас в Мещанской слободе. И не одну. Вы так оживленно разговаривали с молодым приказчиком, и цвет лица у вас был точно такой, как сейчас.
Я рассердилась:
— Мадам Бурчина, цвет лица у меня самый что ни на есть обыкновенный — не зеленый и не синий. А с кем я разговаривала — это неважно. Людям язык для того и даден, чтобы разговаривать. Вот как вам сейчас, например. Извините, я тороплюсь, счастливо оставаться.
И я быстрым шагом направилась в сторону суконного ряда.
***
Во время работы над гарнитуром мне довелось узнать много нового. Андрей Серапионович так и сыпал названиями: «югендстиль» 6, «ар нуво» 7, «модерн», «сецессион» 8
***
… Каждый раз я поражалась, как много ему известно об этой новой ветви искусства. А фамилии художников-импрессионистов, стоявших у истоков нового стиля в живописи, он произносил с благоговением, словно перечислял имена святых: Моне, Сезанн, Ренуар.
Однажды Протасов, сильно смущаясь и краснея, попросил его выслушать.
— Аполлинария Лазаревна, если позволите… Мне очень неловко…
— Что случилось, господин Протасов? Присаживайтесь. Что-то не так с гарнитуром?
— Нет, что вы, — он замахал руками, — выточены уже все ножки для стульев, сейчас в мастерской кроят обивку. Я не об этом.
— Тогда что же?
Художник глубоко вздохнул и, набравшись храбрости, выговорил на одном дыхании:
— Позвольте мне написать ваш портрет, Аполлинария Лазаревна. У вас такое породистое лицо. Выразительное, особенное. Мне бы очень хотелось запечатлеть его, уж простите мою назойливость.
В душе я обрадовалась, более того, он угадал мои мысли. Мне самой хотелось иметь собственное изображение на холсте, но я не решалась попросить художника, так как считала, что он очень занят работа в мастерской отца, рисование этюдов на пленэре.
— Что ж, я согласна вам позировать, — кивнула я, ничем не выказав своей радости. — Только мне не хочется обычного портрета. Напишите меня в этом модном стиле, о котором вы так интересно рассказываете. Ни у кого не будет портрета «ар ну-во», и к тому же я думаю, что он подойдет к обновленной малой гостиной.
— Аполлинария Лазаревна, я так счастлив, что вы согласились! Это именно то, что я хотел вам предложить. Завтра же покажу вам несколько композиций.
— Вам хватит ночи, чтобы их сделать? — удивилась я.
Художник смутился:
— Я рисовал их в свободное время…
Карандашные наброски, принесенные Протасовым, изображали одалиску в серале султана, купальщицу, пробующую ножкой воду, Андромеду, прикованную к скале.
Только взглянув на рисунки, я поняла, какого рода чувство обуревало моего собеседника. Во всех эскизах, выполненных в штриховой манере, чувствовалась энергия и видно было мастерство, но все же мне что-то не нравилось. Поэтому я вежливо сказала так, чтобы его не обидеть:
— Андрей Серапионович, ваши рисунки прелестны, но я смогу повесить такой портрет разве что в спальне, куда я никого не буду пускать, кроме горничной. Мне хотелось бы что-нибудь более… одетое. Вы меня понимаете?
— Конечно, госпожа Авилова, — сухо сказал художник и принялся собирать наброски. — Я нарисую для вас нечто приемлемое.
Вы все-таки обиделись. — Я протянула ему руку для поцелуя. — Поймите меня правильно, у нас провинция, все друг с другом знакомы, а я и так на язычке у местных кумушек— живу одна, замуж не стремлюсь, богата. Кстати, я заплачу вам за портрет столько, сколько попросите. Я понимаю, что отнимаю время от ваших занятий.
— Ну что вы, Аполлинария Лазаревна, это такая честь для меня! Я же сам предложил!
— Никаких возражений, господин Протасов! Меня это не обременит, и совесть будет спокойна. Ступайте.
После долгих раздумий Протасов решил писать меня в образе Клеопатры, царицы египетской. Мои каштановые кудри совершенно не подходили для этого, и я послала Дуняшу к отцу, где у нашей горничной Веры хранилась коллекция париков. Вера когда-то была провинциальной инженю и собрала с нашей помощью неплохую коллекцию театральных аксессуаров — и отец, и я, зная ее пристрастия, порой дарили ей парики, накладные усы, носы и бороды. Дуняша вернулась с великолепным париком из иссиня-черных волос, который я тут же примерила перед зеркалом. Лицо стало бледнее, и я подумала, что перед позированием надо будет наложить грим — опытная Вера прислала его вместе с париком.
На следующее утро начался сеанс. Я полулежала в гостиной на старой козетке, покрытой куском золоченой парчи с пейслийским узором 9. Ткань Протасов принес из мастерской — ею обивали стулья для гарнитура генеральши Мордвиновой. Ненавистная козетка — аляповатая, на львиных лапах — по мнению Андрея Серапионовича, как нельзя более подходила для портрета Клеопатры. После завершения работы над гарнитуром я намеревалась отдать ее в богадельню.
На голове у меня был черный парик-каре, глаза были подведены стрелками до ушей, лицо набелено, губы карминные, а фигура задрапирована креп-жоржетовым салопом, вывернутым наизнанку, на атласную сторону. Лицо стянуло так, словно я намазала его яичным белком. Я подумала, что после сеанса попрошу у горничной Веры ее бальзам. Этим кремом, которым пользуются артисты, она смывала краску с лица, иначе театральный грим испортил бы кожу.
Хотя я и не протестовала против грима, в душе у меня роились сомнения. В таком виде я была сама не своя. Я люблю такие картины, когда то, что на них изображено, выглядит похожим. Иначе зачем позировать, мучиться, застыв в одной позе? Нарисовал бы Протасов из головы и назвал: «Клеопатра на ложе», а не «Портрет г-жи Авиловой в костюме Клеопатры».
Когда Протасов только пришел, то, пока он устанавливал мольберт и смешивал краски на палитре, я ходила кругами, приглядываясь к его действиям и стараясь ничего не упустить. Чего греха таить, мне было не только интересно, но и приятно наблюдать за его четкими профессиональными движениями. Но когда он взял в руки угольный карандаш, мне не оставалось ничего другого, как прилечь на скользкую парчу с царапающими кожу узелками и замереть в неудобной позе «страстная вакханка», изображая наслаждение и негу.
Одна рука у меня была заложена под затылок, кисть другой покоилась на животе ниже пупка, голова повернута так, что подбородок оказался на левом плече, — все это, по мнению Протасова, должно было изображать легендарную царицу, отдыхающую после бурных утех. Я хотела было сказать ему, что ни одна разумная женщина не ляжет отдыхать в такой неудобной позе после ночи любви, но промолчала: Протасов — художник, ему виднее, как должны выглядеть на картине сладострастные египетские царицы.
Лежать без движения оказалось трудно, а спустя несколько минут — просто невозможно. Шея затекла, и я перестала ее ощущать, по рукам побежали противные мурашки, а кончик носа зачесался так, что мне неудержимо захотелось чихнуть. Да еще в воздухе плавал сильный запах масляных красок. Сдержаться не удалось, я оглушительно чихнула и заерзала на месте, ломая рельеф ткани, складки и все, что трепетно выстраивал художник в течение часа.
— Аполлинария Лазаревна, голубушка, не двигайтесь, прошу вас, — умоляюще воскликнул Протасов, прижимая к блузе руки. — Так удачно тени легли, нельзя менять композицию. Лежите смирно.
— Но мне… Апчхи! Что делать, если чихать хочется? Да и нос чешется. А… апчхи! Андрей Серапионович! Эта генеральшина парча пыльная и кусачая. И еще я с нее сползаю. Скоро на полу окажусь.
— Лягте, как лежали, прошу вас. Я скоро закончу наброски, и вы сможете отдохнуть. А пока замрите и не двигайтесь, мне нужно начертить основные линии. Несколько минут, не более того.
Но это «скоро» никак не наступало.
Мне очень нравился приятный художник с длинными русыми волосами, и мысль, что он видит перед собой лишь модель для своей картины да богатую заказчицу, не давала мне покоя. Я хотела, чтобы он увидел во мне женщину, и, кажется, я придумала, как этого добиться. Но это потом, а сейчас я легла поудобнее и вновь застыла в придуманной художником позе — Клеопатра отдыхает после бурной ночи с Марком Антонием.
Неожиданно в гостиную вошел Лазарь Петрович.
— Добрый день, Полина, приветствую, господин Протасов!
Художник поклонился.
— Papa, посмотри, как я тебе в наряде Клеопатры? — Я воспользовалась случаем и поднялась с колченогой козетки.
— Во всех ты, душечка, нарядах хороша! — воскликнул отец. — Только бледна уж очень.
— Это грим, не волнуйся, я его смою после сеанса.
— Если мне память не изменяет, то Клеопатра была смуглой. А ты выбелилась, словно Пьеро.
— Papa, это новый стиль, «ар нуво», слышал о таком?
— Нет, но охотно верю, что новый стиль весьма идет египтянкам из русской провинции. Все, не буду вам мешать, занимайтесь. — И Лазарь Петрович вышел из гостиной, напоследок подмигнув мне.
Я приняла этот знак как одобрение моих планов на завтра.
На следующее утро я особенно тщательно занялась своим туалетом: надушила не только волосы и шею, но также живот, грудь и под коленками, побрызгала в гостиной лавандовой водой и заставила Дуняшу отполировать мне ногти на руках и ногах. Когда Андрей Серапионович занял свое место за мольбертом, а я, облаченная в парик и креп-жоржетовый салоп, возлегла египетской царицей на козетке, настало время действовать.
Чуть двинув коленкой, я нарушила складки, которые Протасов собственноручно укладывал на мне, стараясь, чтобы ткань легла классическим образом. Спустя две минуты художник заметил изменения и подошел поправить. Напрячь бедро было дело одного мгновения, и складки, любовно уложенные, распрямлялись, ткань сползала, обнажая щиколотки, надушенные пармской фиалкой.
Писать бедному юноше становилось труднее и труднее. Он все чаще смахивал пот со лба, хотя утреннее солнце не припекало совершенно. Протасов беспрестанно хмурился и покусывал губы, у него ломался уголь, выпадала из рук кисть. Я только посмеивалась про себя, ничем не выдавая, что все это мне очень нравится. Наконец, когда в очередной раз Протасов приблизился ко мне, чтобы поправить замявшуюся складку, я выпростала из-под головы руку и обняла его. Он неловко изогнулся и рухнул на меня. Древняя козетка жалобно заскрипела, прогнулась под двойной тяжестью, но выдержала. Напрасно я ее ругала, повременю отдавать в богоугодное заведение. Все получилось так, как было задумано. Я торжествовала!
С тех пор в моей жизни настала череда солнечных дней. Андрей приходил ежедневно, рисовал меня, и мне не в тягость было позировать: я знала, что за этим сеансом последует другой, такой же восхитительный. Глупый парик был возвращен Вере с благодарностями, грим с лица смыт, псевдовакхические позы забыты за ненадобностью — мне не хотелось быть сладострастной Клеопатрой, мое отношение к Андрею день ото дня становилось светлее и душевнее. Был чудный май, зеленый и с грозами. Мы много беседовали, гуляли, и Андрей набрасывал на листах из этюдника быстрые зарисовки: я сижу в плетеном соломенном кресле на веранде, и лучи солнца пробиваются сквозь редкий навес; я стою на берегу пруда; качаюсь на качелях…
Мы говорили о многом, и только одна тема была закрыта для нас: что будет с нами дальше? Разумеется, я знала, что он вернется в Москву, в свое училище, и продолжит занятия, а я останусь в N-ске. Мне очень хотелось приехать в первопрестольную, где Андрей мог бы навещать меня, — оставалось только снять приличную квартиру, но он ничего не говорил об этом, а мне не хотелось первой начинать такой щепетильный разговор.
Все было ясно без слов: я дворянка — он мещанин, я богата — у него только этюдник и часть мастерской по завещанию; и он моложе меня на три года — вместе это выстраивалось в откровенный мезальянс. Увы… Меня многое удерживало от желания сочетаться с Андреем браком, и самое главное, я чувствовала, что предаю память покойного мужа. Поэтому я твердо решила больше не думать об этом.
Моя хандра улетучилась, словно ее никогда и не было, щеки разрумянились, я даже избавилась от чрезмерной худобы, так волновавшей отца. Ушли в прошлое темные круги под глазами и ночные кошмары. А когда настало время пригласить гостей, с тем чтобы показать им новый гарнитур, и я принялась ездить с визитами, Елизавета Павловна заметила со значением в голосе: «Перемена обстановки пошла вам на пользу, душенька». Непонятно, что она подразумевала под «обстановкой» — только лишь мебель?
Гостей я решила позвать в начале лета, на Троицу. С детства мне очень нравится этот праздник. Мы с отцом направились к заутрене, и в убранной свежей зеленью церкви я увидела Андрея — он истово молился и кланялся, жарко прося у Господа милости. Я стояла неподалеку, ничем себя не выдавая, смотрела на близкого мне мужчину и вспоминала, как меня, еще институтку, забрали с собой в лес мои подружки, две сестры, дочки мелкопоместных дворян, привыкшие в деревне праздновать Троицу по-своему, по-деревенски. Мы плели венки, «завивали» 10 молодую березку и пели:
Александровская береза, береза
Посреди дубравы стояла, стояла,
Она ветвями шумела, шумела,
Золотым венком веяла, веяла.
Гуляй, гуляй, голубок,
Гуляй, сизенький, сизокрыленький,
Ты куда, голубь, летал?
Куда, сизый, полетел?
— Я ко девице, ко красавице,
Коя лучше всех, коя важнее…
Непрошеные слезы заливали глаза, сердце теснило, и я, вместо молитвы, повторяла про себя сухими губами: «Неисповедимы пути твои, Господи…»
А вечером в моем доме собрались сливки губернского N-ска. Прием удался на славу. Гости цокали языками и ахали, осматривая стулья с накладками из полированного металла. Такое новшество в обычной мебели было для них в диковинку. Некоторые даже проверяли тонкие изящные ножки на прочность — садились на стул и подпрыгивали. Раскрывали дверцы шкафчиков и комодов, инкрустированные мозаикой из внутренней заболони 11, проводили пальцами по столешнице, украшенной по бокам стилизованными цветами и растениями.
В новой гостиной я сменила занавеси и люстры. Мне уже было невмоготу видеть тяжелые драпри, не дающие воздуху и свету проникнуть сквозь стекло. Портьеры в срочном порядке шили мне прямо на дому две мастерицы, причем ткань я выбрала необычную, очень светлую, с узором из лебедей, прячущихся в камышовых зарослях, а абажуры для настенных газовых рожков — розового стекла, в виде распустившегося цветка — я купила в магазине фарфора, что возле губернской управы.
Букеты нежно-сиреневых и розовых азалий я расставила на высоких подставках по обе стороны от окон, и они своим изяществом подчеркивали воздушность шелковых занавесей.
Я даже заказала себе новый наряд, заглянув в ателье модного платья мадемуазель Жаннет Гринье, что по соседству с фарфоровым магазином. На самом деле модистку звали Анной, она была уроженкой N-ска. Много лет назад Анна влюбилась в гувернера-француза, и тот увез ее к себе в Лион. Там она поступила в услужение в магазин модного платья и, по словам наших досужих кумушек, «нахваталась заморского шику». Потом гувернер скончался от чахотки, которую нажил в суровом для него северном климате, и Анна спустя несколько лет вернулась в N-ск. Здесь она переменила имя и открыла модный салон на главной площади.
— Как я рада видеть вас, мадам Авилова! — щебетала мадемуазель Жаннет по-французски с неистребимым акцентом, указывающим, что у нее не было в детстве гувернантки и язык модистка выучила, будучи взрослой. — У меня есть для вас чудные туалеты. Вам на заказ или, может, готовое платье? Из Парижа на прошлой неделе доставили курьерской почтой. На вас никогда нельзя было ничего подобрать — вы были изящны сверх меры, но теперь…
Позвольте посмотреть журналы, — невежливо оборвала я ее, боясь, что модистка выпалит что-нибудь лишнее. Конечно, платье на заказ выглядело бы не в пример элегантнее, но мне не хотелось уподобляться женам купцов-миллионщиков, богатых откупщиков и дамам полусвета, носившим исключительно наимоднейшие туалеты. Дама из общества должна выглядеть изысканно и просто, но так, чтоб было ясно: эта простота стоит немалого состояния. Sapienti sat 12.
— Сейчас снова в моду вошли рукава-буфы. — Модистка показала на одну картинку, на которой изогнула стан кокетка с гренадерскими плечами. Я содрогнулась и отложила картинку в сторону. — А как вам модный корсет «голубиная грудь»? Самое последнее изобретение. Даже самый незначительный бюст выглядит пышным и пленительным.
Вот это казус! Назвать мою грудь незначительной… Нет, эта псевдофранцуженка позволяет себе слишком много. В конце концов, Прасковья Васильевна шьет не хуже, только ей надо хорошенько объяснить. Но она не торопится, а о платье я подумала в последний момент, после занавесей и люстр.
— Никаких буфов и никаких голубиных корсетов, — решительно сказала я, отодвигая от себя журналы. — Подайте мне голубую тафту и приготовьте булавки для драпировки. Я знаю, какой туалет мне нужен!
Платье, которое я заказала у мадемуазель Жаннет, придумал Андрей. Он набросал несколько эскизов, глядя на меня, стоящую у зеркала, и один из рисунков настолько мне понравился, что я решила воплотить его в тафте небесного цвета. Юбка сильно обтягивала бедра и расширялась колоколом книзу, что удлиняло линию ног, а на бедра был накинут платок из тончайшей органди, завязывающийся узлом на левом боку. Свободный лиф украшали сутаж и блестки, ансамбль дополняли черные шелковые чулки и длинные перчатки без пальцев.
— Великолепно! Прелестно! — приговаривала модистка, ползая вокруг меня по полу. Я боялась, что она проглотит булавки, коих у нее был полон рот. — Из какого журнала вы выбрали фасон, мадам Авилова? Неужели у вас есть парижские журналы, которые еще не дошли до меня?
— Я взяла этот фасон не из журнала, — ответила я.
— А откуда?
— Его придумал мой личный модельер, — не удержалась я.
Мне было прекрасно видно, что мадемуазель Жаннет беременна кучей вопросов, готовых выпрыгнуть у нее изо рта вместе с булавками, но я решила на этом прекратить общение.
Протасов скромно стоял у окна и, неловко улыбаясь, разговаривал с Лазарем Петровичем, курившим толстую «гавану». Художник был непривычно строго одет — в черную пару, которая, как и косоворотка и блуза, сидела на нем отменно. Отец благодушествовал, его сочный баритон разносился по всей комнате вместе с запахом крепкого табака. Гости подходили к Андрею, восхищались, интересовались ценами и сроками изготовления, а статская советница Тишенинова уже назначила день, когда мастеру нужно будет явиться к ней для замеров, — она выдавала замуж младшую дочь, и той страстно захотелось получить к свадьбе точно такой же гарнитур, как у меня. Две старшие дочки статской советницы смотрели по сторонам с явно заметной завистью — им на свадьбы не перепало столь роскошных подарков.
— Необыкновенный гарнитур! — Ко мне подкралась мадам Бурчина. — Сколько вы вложили в него?
— Вложили чего, Елизавета Павловна? Денег?
— Ну что вы, — отмахнулась она, словно деньги были для нее чем-то недостойным. — Я имею в виду, времени и сил.
— Это не я, это Андрей Серапионович постарался. Его идея, его же и работа. Если вам понравился гарнитур, можете выразить свое восхищение непосредственно художнику.
Совиное лицо старой сплетницы исказила нелепая гримаса. Она куриной гузкой поджала рот и процедила:
— Вы правы, моя дорогая, это его работа, не более того. Работа столяра-краснодеревщика. Вы еще предложите булочника похвалить за маковые плюшки. Слишком вы, голубушка, демократичны, как я погляжу. И такие тесные отношения со столяром…
— Интересно, любезная Елизавета Павловна, вы булочника просто так вспомнили или тесными отношениями навеяло? — осведомилась я, наклоняясь к этой гарпии.
Бурчина ничего не ответила и скрылась в толпе гостей.
— Ну что, Аполлинария, я был прав? Хандра исчезла? — улыбнулся Лазарь Петрович. — Прекрасная гостиная получилась! Именно так я себе представляю интерьер будущего века. Не зря ты взялась за дело — вся в меня! Молодец, дочка!
— Спасибо тебе! Ты всегда меня понимал. Что бы я без тебя делала? Это ведь ты все придумал. — Я приобняла отца.
— Будет, будет. — Он похлопал меня по плечу. — Я отойду ненадолго, пообщаюсь с полковником Лукиным. Вон он мне там машет.
Отец отошел, а я направилась к Протасову.
— Андрей, сегодня тебе улыбнется удача! — обратилась я к нему. — Посмотри, сколько комплиментов! Заказы посыплются, я уверена. Ты станешь известным художником по мебели в нашей губернии, а может, даже и в соседних. Будешь богатым и знаменитым, на крыльце твоего дома выстроится очередь из желающих заказать гарнитуры, и я буду гордиться, что была у тебя первой заказчицей.
Андрей помолчал немного и грустно ответил:
— Я не хочу быть художником по мебели. Ни в нашей губернии, ни в какой другой… Я хочу писать картины. Портреты, пейзажи. Так, как пишут импрессионисты. И никаких гарнитуров.
— Импрессионисты? Это те самые Моне и Сезанн, о которых ты мне рассказывал?
— Да. Их живопись завораживает! Я чувствую, что могу так же. Мне только нужно увидеть, как они пишут, научиться у них.
— Но ты же учишься в Москве. И говорил, что у тебя прекрасные педагоги. Почему бы не учиться у них?
— Ты не понимаешь! Импрессионисты — это новая школа. Я хочу учиться у них, писать, как они!
Мой портрет Андрей так и не написал. Набросков было много, но все они так и остались набросками. Позировать мне не хотелось, и я делала все, чтобы увильнуть от этого скучного занятия. Какие бы позы я ни принимала, после двух минут неподвижного сидения или лежания они казались мне нежизненными и фальшивыми.
— Хорошо, Андрей Серапионович, поговорим об этом после, а сейчас я должна идти к гостям. Простите. — И я отвернулась, чтобы не видеть его грустного взгляда.
Мне не хотелось продолжать этот разговор. И вот почему. Я, конечно, признавала талант Протасова в столярном деле, но считала, что художник из него неважный, хотя мне было неприятно это сознавать. Он мог четко выписать детали, придумать новые стулья и другую мебель, нарисовать дом и интерьер каждой комнаты в нем. Эскизы углем и карандашом у него получались неплохие. Во всяком случае, по ним можно было определить, что нарисован щенок, валяющийся в пыли, ваза с яблоками или соседская девочка, играющая с котенком. Но вот портреты маслом… Лица у Андрея еще выходили похожими на оригинал, однако передавать движения у него не ладилось, а позы получались скованными. Вроде все правильно, но души в картине нет, и долго смотреть на нее не хочется. Можно было бы отнести эти неудачи в счет того, что молодой человек еще не закончил учебу в училище, но ведь талант виден всегда, просто он бывает неотшлифованным. Я сильно сомневалась в таланте Андрея как портретного живописца. Хотя этюды с классических греческих статуй у Протасова получались недурно — руку он имел точную, а глаз зоркий.
В чем Андрею не было равных, так это в «науке страсти нежной». Здесь не нужны никакие училища. С ним я ожила, почувствовала себя любимой женщиной. Его страсть ко мне была ненасытной, чувства — крепкими, он мог изумлять меня без устали ночи напролет. Уходя поутру из моего дома, он к вечеру возвращался вновь, полный надежд и желаний. И я каждодневно ждала его прихода с нетерпением. Никогда у меня не было подобного чувства к мужчине. Своего мужа я любила, и эта любовь была благоговением перед его умом и опытом. Он относился ко мне как к драгоценному кристаллу, отшлифованному собственноручно.
Андрей же обожествлял во мне женщину. Красивую, страстную, полную желания и откликающуюся на его взгляды и прикосновения. Каждый раз он с волнением ждал моего согласия и не верил, что я желаю его так же страстно, как и он меня.
— Полина, любимая моя! Несравненная женщина! — шептал Андрей, обнимая и лаская меня. — Господи, за что мне такое счастье?! Я недостоин тебя! Я никто, мещанин, недоучившийся студент! Никогда в жизни я не видел женщину, подобную тебе! Аристократка телом и душой, а я всего лишь ничтожный раб, упавший к ногам патрицианки. Но я буду художником и однажды приду к тебе богатый и знаменитый, для того чтобы никогда более с тобой не расставаться. Ты больше не будешь стыдиться ни меня, ни связи со мной. Ты будешь мной гордиться. Твои портреты украсят залы лучших музеев!
Про себя я улыбалась его словам. Андрей всего на три года моложе меня, а рассуждает словно шестнадцатилетний подросток. Он считал, что живет со мной в грехе, и страдал от этого необычайно. Он жаждал славы и богатства, но не для себя, а для того, чтобы жениться на мне, став равным. Это мне импонировало. Но Андрей не понимал, что после Владимира Гавриловича, с которым я вольно или невольно сравнивала всех соискателей руки и сердца, мне будет трудно найти человека на место супруга, настолько мой покойный муж был для меня идеалом мужчины и рыцаря. И как бы великолепно ни вел себя Протасов в постели, все же ему не хватало того внутреннего такта, который отличает истинно благородных людей. Как бы хорошо мне ни было с ним, я постоянно себя одергивала: «Полина, не забывайся! Мезальянс тебе ни к чему. Протасов замечателен как средство против хандры, но не более. Помни, кто ты и кто он. Всегда помни!» А сердце рвалось навстречу милому художнику с печальными серыми глазами.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В серьезных делах следует заботиться
не столько о том, чтобы создавать
благоприятные возможности,
сколько о том, чтобы их не упускать.
Я очнулась от воспоминаний. Лебеди плыли, низко наклоняя шеи к воде, а я сидела, подставив лицо жарким лучам, — мне хотелось избавиться от надоевшей природной бледности. И тут Протасов неслышно появился за моей спиной.
— Андрей, как ты меня напугал! — воскликнула я и протянула ему руки.
Он обошел скамью, поцеловал меня в губы и, опустившись на траву, уткнулся носом мне в колени. Я принялась гладить его пшеничные волосы. От них доносился знакомый запах масляных красок и свежих стружек.
— Что с тобой, милый? У тебя неприятности? Ты что-то не в себе.
Андрей молчал, только плечи подрагивали.
— Полина, я не могу так больше жить! Отпусти меня! — застонал он.
Это было для меня чем-то новым.
— Разве я тебя держу? — удивилась я. — Ты волен в своих поступках. Как я могу ограничить твою свободу? Ступай.
— Я люблю тебя, Полина! Не мыслю жизни без тебя и за счастье почитаю повести тебя к алтарю.
Но я не могу предложить тебе стать моей женой, ведь я никто.
— Перестань, Андрей! Почему ты говоришь глупости? Ты прекрасный художник по мебели и внутреннему убранству, декоратор, отличный столяр. После изготовления гарнитура на тебя посыпались заказы — зачем же ты Бога гневишь?
Он закрыл лицо ладонями и с болью произнес:
— Если бы ты знала, как это тяжело — видеть, чувствовать и не иметь возможности донести до холста! Если бы я рисовал сразу глазами, если бы картины не проделывали такой длинный путь через руку, краски и кисти… Образы, роящиеся у меня в голове, настолько прекрасны! Если я смогу воплотить хоть малую толику того, что вижу…
— Ты научишься, ты обязательно научишься! Ты же можешь рисовать мебель и эскизы.
— Полина, далась тебе эта мебель! Как же ты не понимаешь?! Это все поделки, ремесло для обойщика, а я хочу писать! Заниматься настоящим искусством!
Его слова рассердили меня:
— Нет, это ты не понимаешь! Ты возомнил о себе невесть что. Твои «поделки», как ты выражаешься, приносят людям пользу. Да-да, пользу, ничего плохого в этом слове нет, и не смотри на меня укоризненно. Я духом воспрянула, когда гарнитуром занялась, у меня всяческая хандра пропала. Дочь Тишениновой спит и видит заполучить себе такую же мебель, как у меня, хотя я надеюсь, что такой же точно у нее не будет. А ты о каком-то «настоящем искусстве» рассуждаешь, словно оно может накормить и обогреть людей. Нужно делать то, что у тебя лучше всего получается, и то, что приносит людям удовлетворение. Потому что настоящее искусство — это такое, которое в радость не только тебе. Ты не на необитаемом острове живешь, а среди людей.
После этих моих слов Андрей долго молчал, а потом вымолвил через силу глухим голосом:
— Виноват, мне пора. Не думал, Полина, что ты меня настолько не понимаешь…
Он поднялся с колен, повернулся и ушел, ничего не сказав на прощание.
***
Этот вечер, впервые за множество дней, я провела одна. До полуночи не тушила свет, не раздевалась и ждала. Недоумевая, я отправилась спать, надеясь, что наутро недоразумение рассеется. Но и утром Андрей не пришел. Меня охватило волнение. Я быстрыми шагами мерила гостиную вдоль и поперек, и мне уже не были милы ни стулья, любовно собранные его руками, ни резьба на столешнице. Все вокруг напоминало о нем. Нет, не напоминало — кричало: «Мы частицы его, где же он, что с ним?» Но ответа не было.
Тогда я собрала волю в кулак и решила не обращать внимания: если ему не хочется меня видеть, что ж, займусь другими делами, благо, их накопилось немерено. В любовном пылу и угаре я забыла о милых повседневных заботах и хлопотах, которые помогали забыться и не чувствовать себя одинокой.
Я навестила Настеньку в институте, принесла ей гостинцы. За последний год девушка вытянулась, похорошела и уже ничем не напоминала того несчастного ребенка, которого взял под свою опеку мой отец 13. Она по-детски обрадовалась моему визиту, и мы славно поболтали, обсуждая ее подруг-пансионерок и классных дам.
Потом я зашла в ателье модного платья Жаннет Гринье, полистала журналы, но так ничего и не выбрала — не было настроения кому-то нравиться.
Комплименты Жаннет моему цвету лица мне пришлись не по вкусу, я была в большом раздражении. Купила полфунта глазированных орешков в кондитерской Китаева, немного поговорила с Аделаидой Федоровной, вдовой титулярного советника, пившей там горячий шоколад, — она уже была осведомлена о моем новом гарнитуре — и спустя час, немного уставшая от прогулки по городу, вернулась домой.
Прогулка не принесла облегчения. Сердце продолжала томить тревога. Снимая шляпку, я спросила Дуняшу: «Андрей Серапионович не заходил?» — и получила отрицательный ответ.
Мне не спалось, не читалось, я впала в отчаяние, потеряла аппетит. Несколько дней я не выходила из дома: боялась, что Андрей придет, а меня не окажется.
В субботу заглянул отец и сразу понял, что со мной творится неладное. Я не выдержала и разрыдалась в его присутствии.
— Papa, объясни ты мне, что я ему сделала? Ведь я хвалила его умение рисовать мебель, а он обиделся.
— Протасов художник, — ответил мне отец, — он ищет себя. Андрей Серапионович хочет достичь вершин, а ты опускаешь его на грубую землю. Вы не поняли друг друга, вот он и обиделся.
— Что же мне делать?
— Сколько времени прошло с тех пор, как вы не виделись?
— Почти неделя. Я не могу так больше, я хочу его видеть. Я пошлю за ним!
Лазарь Петрович улыбнулся:
— Не придет. Художники, они гордые. Хочешь его видеть — иди к нему сама.
— Сама? — поразилась я. — Я не смогу. Что я ему скажу? И потом, я не хочу показывать, что он мне нужен больше, чем я ему.
— Это все детские игры институток. Оставь. Хочешь чего-то — скажи об этом, а не жди, что тебе дадут вожделенное прямо в руки.
— Но это же стыдно, papa! Что он обо мне подумает?
— О чем он может подумать больше, чем думает уже? Будь стойкой, дочь моя, и иди к цели, если она тебе по душе. А мне пора. И чтобы я больше не видел тебя в таком настроении.
Итак, не выдержав характера, я поехала в мебельную мастерскую Протасовых.
Обычно меня сюда приводил Андрей. Мы шли мимо базарной площади, потом начинались кирпичные сараи купца Охлопкова — он торговал зерном и мукой, затем мимо земской ямщицкой станции, из-за невысокого забора которой доносилось ржание лошадей, и наконец доходили до мастерской.
А теперь я приехала на извозчике, без Андрея.
Серапион Григорьевич, в длинном кожаном фартуке, сосредоточенно скоблил массивную столешницу. В углу мастерской двое рабочих пилили длинные доски. Сильно пахло столярным клеем. Андрея в мастерской не было.
Увидев меня, Протасов-старший отложил в сторону инструмент и степенно поклонился.
— Вот пришла, Серапион Григорьевич, поблагодарить вас за отличную работу. Не могла раньше заглянуть — дела держали. Прекрасный гарнитур вы сделали. Мои гости были в восторге.
— Благодарствуйте, госпожа Авилова. Со всем нашим старанием, — вновь поклонился он.
— К вам обращалась статская советница Тишенинова по моей рекомендации? Ей очень понравился гарнитур, и она хочет за дочерью дать в приданое такой же, но только кленовый, с узором «птичий глаз».
— Да, была недавно, разговаривали.
— Только не делайте, прошу вас, точно такую же мебель, Серапион Григорьевич. Мне совсем не хочется, чтобы у других было со мной одинаково, — попросила я.
— Даже не знаю, что вам и ответить, — вздохнул мебельщик. — И сам бы рад, да не получится. Одно и то же стругать — никакого интересу нет, а придется.
— Почему? Что произошло?
— Чтобы другой гарнитур сделать, на ваш не похожий, рисунки и чертежи нужны. А где их взять?
— Как где? — удивилась я. — А Андрей Серапионович на что? Неужели отказывается заработать? Или он на этюдах занят?
— Уехал он вчера, — нахмурился Протасов-старший. — И когда вернется, неизвестно.
— Как уехал, куда? Ведь занятия в училище еще не начались! Он мне ничего не говорил. — Я спохватилась, что выдала себя, но мастер и бровью не повел.
— В Париж. Сказал, что, как только устроится, обязательно напишет. Учиться желает у тамошних художников. Твердил, мол, они сейчас самые новые да самые лучшие. Мечту свою исполнять желает. Наши художники ему не по нраву пришлись, не так пишут. Каких-то импер… прессисистов поминал.
— Импрессионистов, — поправила я его.
— Верно. К ним самым поехал. Учиться будет по-французски картины писать. Будто по-русски нельзя. Зачем только надо было отца в расходы вводить, в Москву ездить?
— И вы его отпустили?
— Разве Андрюху удержишь? Если что себе в голову вбил, так и будет. Я не препятствую. У него своя голова на плечах.
— Как жаль… Он даже не пришел со мной попрощаться. Как-то не по-дружески.
— Он вам письмо оставил, — сообщил Протасов. — Наказал отдать в собственные руки. С утра недосуг мне было, а после обеда собирался к вам мальчонку послать, и тут вы сами явились, будто знали. Погодите, сейчас принесу.
Серапион Григорьевич тщательно вытер руки, вышел из мастерской и вскоре вернулся, неся простой запечатанный конверт. Поблагодарив его, я откланялась и поспешила домой, чтобы прочитать письмо наедине. Хорошо, не отпустила извозчика, у меня словно сердце чуяло, что я долго в мастерской не задержусь.
Придя к себе, я отложила сумочку в сторону — она жгла мне руки. Несколько минут простояла в тишине, не пытаясь вскрыть конверт. Я страшилась того, что запечатано в нем.
Села на новый диванчик и задумалась: что со мной происходит? Почему меня так глубоко взволновал поступок Андрея? Ведь я, отказавшись выйти замуж за бравого штабс-капитана Сомова, нисколько не была этим взволнована или опечалена. А тут — дрожь в руках, боюсь открыть конверт и прочитать адресованные мне слова. Я никогда особо не задумывалась о будущем с Андреем — жила сегодняшним днем, и мне было хорошо. Неужели мне так полюбились стати молодого Протасова, что я сейчас рассуждаю не разумом, а женским естеством? Или все же есть в нем нечто цельное, настоящее, и меня влечет к интересному и талантливому человеку? Прочь сомнения, я обязана взглянуть правде в глаза, а не прятать голову в песок, как страус.
Я пришла в себя, открыла конверт и достала сложенный вчетверо лист бумаги. На нем свинцовым карандашом были написаны рвущие душу строки:
«Милая, любимая моя Полина! Обожаемая мною женщина! Прости меня, прости за все: за то, что уезжаю вот так, не попрощавшись, за мое невнимание к тебе, за то, что возомнил о себе Бог весть что, за обиду, что нанес тебе. Горе мне!
Я недостоин тебя. Недостоин такой, какой есть сейчас — подмастерье в столярной мастерской, умеющий лишь рисовать эскизы заказной мебели. Мелкий, ничтожный человечишка. Рядом с тобой должен быть талант, знаменитость, ты привыкла к выдающимся мужчинам. Ты ведь рассказывала мне о своем покойном муже, а меня в эти моменты словно пытали каленым железом: я сравнивал себя с ним и понимал, что и ты сравниваешь тоже.
Единственный выход — уехать и стать тем, кем я должен стать. Мне нужно многому научиться, я хочу писать, хочу выразить все то, что накопил в своей душе за недолгую жизнь. И Париж — лучшее место для этого. Сниму мансарду, куплю краски, буду учиться у мастеров — большего мне пока и не надо. Погружусь с головой в работу и, может быть, успокоюсь.
Как приеду, обязательно тебе напишу.
Прости меня еще раз, что уехал тайком. Прости, что был с тобой резок и не пришел попрощаться. Иначе ты меня отговорила бы, а я не могу тут больше оставаться. Видя тебя ежедневно, я понимал, что теряю тебя. Вот такой парадокс.
Я не прощаюсь навсегда и уверен, что мы увидимся. Но я уже не буду подмастерьем. Я верю в это.
Остаюсь твой навеки
Андрей
Прочитав письмо, я сложила его и спрятала в сумочку. Потом глубоко вздохнула. Вот все и разъяснилось к моему глубокому удовлетворению. Андрея сжигали два противоречивых чувства: вера в свои творческие силы и унижение от низкого статуса мещанского сына. Да еще противозаконная, постыдная связь, не освященная церковью, с женщиной старше него.
Мне было непонятно одно: когда с ним произошла эта неожиданная метаморфоза? Как он мог подумать, что я хочу выйти за него замуж? Ведь для вступления в брак одной физической привлекательности недостаточно. Да, я часто говорила Андрею комплименты. Я восторгалась его телом, пылкостью, неутомимостью и не стыдилась выражать свои чувства вслух. А бедный художник принял все за чистую монету. В его мещанской среде обладание женщиной вне брака считается постыдным, и каждая падшая старается всеми правдами и неправдами затащить совратителя под венец. Но разве я похожа на падшую, а он — на совратителя? Скорее, наоборот.
Я прислушалась к себе. Мне было неприятно, что Протасов стоит на социальной лестнице ниже меня. А если бы он был дворянином, захотела бы я с ним обвенчаться? Глубоко заглянув себе в душу, я поняла: да, захотела бы. Тогда мне не надо было бы ничего объяснять в обществе. Тогда у него не было бы этого ужасного акцента во французском языке. Он был бы более образован, более утончен… Нет, все же я безнадежно отсталая, и надо мной еще довлеют кастовые предрассудки.
Боже мой, ведь мы живем в прогрессивном веке! Уже повсеместно освещают дома электричеством, из Москвы в Санкт-Петербург можно доехать на поезде всего за ночь с небольшим, в Париже на Всемирных выставках показывают чудеса науки со всех концов света, а в нашем провинциальном N-ске молодая вдова с огромным капиталом, вложенным в процентные бумаги, считается падшей и неустроенной женщиной, которой необходим муж и покровитель, — иначе она не справится ни со своим достатком, ни со своей плотью. И ладно бы, что так думают ветхозаветные кумушки в траченных молью салопах. Но московский студент, художник, одержимый новыми веяниями в искусстве, придерживается того же мнения! И мучает его не то, что я не хочу за него замуж — подобная «абсурдная» мысль даже не приходит ему в голову, — а то, что он по имущественному и сословному положению стоит ниже меня. Вот был бы он дворянин с поместьем, я с радостью бросилась бы к нему в объятия. Жаль, он не имел счастья познакомиться с бравым штабс-капитаном Сомовым, дворянином и помещиком. Тот объяснил бы Протасову, как сильно я «желаю» замуж. Да нет, не объяснил бы — он сам толком ничего не понял. Ведь я и «авансы» раздавала, и в постель его затащила, обезумев от страсти. Я ведь не щука замороженная, а женщина, которой хочется любви и ласки. Но почему я должна отдавать свободу и капиталы в обмен на обручальное кольцо? Почему мужчинам можно удовлетворять свою похоть в веселых домах даже при наличии жены, а одинокая женщина не может лечь в постель с тем, кто ей нравится, не снискав презрительных взглядов общества?..
Ну и ладно, что случилось, то случилось. Для меня наступили тихие спокойные дни.
От Андрея стали приходить письма. Он снял мансарду на улице Турлак на Монмартре, записался в школу изящных искусств к мэтру Кормону и принялся осваивать стили и технику живописи. Настроение у него было восторженное, и это понятно: мне известно, как действует на новичка Париж — его воздух, дворцы, бульвары, толпы людей, гуляющих по набережным Сены, кафе под плетеными тентами. А женщины!.. Андрей много писал, проводил время в кабачках — знакомился там с художниками и натурщицами, побывал в кабаре «Мулен Руж», где насладился огненным канканом. Я получала истинное удовольствие, читая его письма, — у Протасова открылся писательский талант, и его замечания оказывались тонкими и остроумными.
Впрочем, о Париже, «Мулен Руж» и бульварах было только первое письмо. В остальных он писал только о работе и учебе, о том, что он недоволен мэтром и намерен поменять школу, о шапочном знакомстве с Тулуз-Лотреком и Пюви де Шаванном в пивной «Ла Сури» на улице Бреда. Он посещал музеи, копировал старых мастеров и возвращался в свою мансарду после полуночи.
Письма Андрея становились все короче, они приходили все реже и реже. Я начала беспокоиться. Я ведь знала, что многие приезжают в Париж, чтобы покорить его, но далеко не каждому это удается.
Последнее письмо от Андрея поразило меня своей безысходностью. Я вчитывалась в строки, пытаясь понять, что с ним, почему ему так плохо и чем я могу ему помочь? И не находила ответа.
«Милая моя Полина, — писал Андрей. — Несмотря на то, что несколько месяцев не такой уж большой срок, я начинаю разочаровываться в этой цитадели „высокого искусства“. Прошел восторг первых дней, и я оказался один на один с жестокой действительностью, от которой мне становится все хуже. Я надеялся найти в Париже свой стиль, а вместо этого меня заставляют по многу часов копировать классиков, то есть делать то же, что я делал в московском училище. Но сколько можно? В мои годы Микеланджело уже высекал статуи, а Рембрандт был знаменит за пределами Нидерландов. Время идет, и я чувствую, как оно течет у меня между пальцами.
Ведь я знаю, что могу писать, и пишу урывками, когда у меня остается время. Я выражаю душу в картинах, а надо мной смеются. Приехал какой-то неуклюжий русский, с жутким акцентом, в нелепой одежде, и хочет завоевать Париж словно какой-нибудь Растиньяк. Их Париж — жестокий и коварный, но в то же время пленительный и одурманивающий, сводящий с ума. Париж водит за нос не только чужака, но и уроженца самого что ни на есть Монпарнаса. Завоевать Париж… Как бы не так, милый, находились и посильнее тебя, только это им тоже оказалось не по зубам! Нет уж, знай, сверчок, свой шесток, сиди тихонько да рисуй лобастых афинян с гипсовых слепков. Я эти безрукие торсы уже с закрытыми глазами рисую. А коричневые картины позднего классицизма просто видеть не могу. Все привычно, знакомо и… словом, надоело. Иногда хочется залечь в мансарде и не выходить на улицу, но я знаю, что это — поражение, и не смирюсь с этим.
Отнес несколько своих работ в галерею на улице Форе. Мне ее посоветовали, сказали, что владелец не такой сквалыга, как остальные. Хозяин взял, но при этом скривился, словно я писал не красками, а уксусом. Обещал заплатить после продажи. Значительных денег не предвижу, хорошо бы на краски заработать да на оплату чердака, и за то спасибо.
Вчера в «Ла Сури» познакомился с одним необычным человеком. Он — алхимик, представляешь себе? Это в наше-то время! Высокий худой старик с растрепанными седыми волосами и непременной трубкой в зубах. Ищет философский камень и смысл жизни. Мы славно поговорили, и он обещал показать мне свою алхимическую лабораторию. Очень этот старик меня заинтересовал.
Я одинок, Полина. У меня здесь нет друзей. Пытаюсь заглушить тоску работой, но перед сном приходят мрачные мысли: зачем все это? Барахтаюсь, как муха, завязшая в смоле. На что только не пойдешь, чтобы убить это чувство одиночества.
Не перестаю думать о тебе и о своем долге, который я сам возложил на себя. Мне нужна власть над кистью, слава и много-много денег. Только тогда я вернусь и паду к твоим ногам. А пока я, стиснув зубы, вновь принимаюсь за копирование классиков.
На этом все, иду работать. Жду с нетерпением твоих писем. Если бы ты знала, как они мне дороги. Я их храню и перечитываю.
Крепко обнимаю.
Не поминай лихом.
Твой Андрей
Это, как я уже сказала, было последнее письмо.
В ответ я написала около десятка писем с перерывами в неделю. Каждый раз, когда приходила почта, я вспыхивала на мгновенье и тут же угасала — письма от Андрея не было. Дуняша по моей просьбе сходила к Протасовым спросить, нет ли известий от сына, но ей ответили, что писем не было уже несколько месяцев.
С того дня прошло около полугода. Я скучала, не зная, чем себя занять. Перечитала все последние новинки, присланные из Москвы и Санкт-Петербурга, начала вышивать гладью, чего не делала с институтских времен. Андрей молчал, и мне все чаще снились его серые глаза. Гарнитур уже не радовал своей новизной, хотя был очень удобен и эффектен, и я подумывала, не заказать ли Серапиону Григорьевичу спальню в том же стиле. Но без Андрея я не решалась — а вдруг мастеровые не справятся?
Елизавета Павловна присылала мне приглашения на свои четверги, и от одиночества и хандры я однажды поехала к ней. Весь вечер вокруг меня крутились двое: помещик Малеев в обсыпанном перхотью сюртуке и жандармский ротмистр Жулябии, абсолютно лысый и с громовым голосом. Они наперебой пытались завладеть моим вниманием, помещик рассказывал об урожае гречихи и пройдохе-землемере, из-за которого у него началась тяжба с соседями, а жандарм подчеркивал свою роль в поимке политических и требовал закрыть университеты, в которых, по его разумению, ничему хорошему научить невозможно.
Рассеянно слушая того и другого, я размышляла, что вот, передо мной два потомственных дворянина, которые не прочь поухлестывать за богатой вдовой, так чего же меня от них с души воротит? Значит, дело не в сословиях, а в чем-то другом?
Больше к Елизавете Павловне я не ездила, устала от помещиков-сутяг и прочих искателей легкой наживы.
Был хмурый весенний вечер. Я гостила у отца и пила чай из любимой чашки. Вера подкладывала мне ватрушки, а Настенька, подперев подбородок ладошкой, слушала наши разговоры. В печи-голландке потрескивали дрова, и все та же лампа под ярко-оранжевым абажуром освещала теплым светом гостиную.
— От Андрея не было писем? — вдруг спросил отец.
Я удивилась. Лазарь Петрович никогда не говорил на эту тему. А я не посвящала его в свои переживания.
— Herr, papa, давно не пишет, уже полгода. Раньше письма чуть ли не каждую неделю приходили.
— А ты ему писала?
— Я отвечала на все его письма. Ответила и на последнее, потом написала еще несколько и стала ждать. Не понимаю, что с ним могло случиться. Может, он решил вернуться и стыдится этого решения?
— Подожди, может, еще и напишет. Почта задерживается или адрес перепутали. Бывает…
У нас был случай в институте, — вступила в разговор Настя. — Пепиньерка Синичкина ждала полгода писем из дома, а они все не шли. Потом ей целую пачку принесли. Оказалось, ее maman адрес перепутала, и письма приходили совершенно другому человеку, какой-то старушке. А той скучно было, вот она открывала чужие письма и читала.
— И каким же образом к твоей Синичкиной вернулись письма? — спросил Лазарь Петрович.
— Старушка усовестилась и принесла их почтмейстеру. Так раскрытыми их Синичкиной и передали. Уж она плакала!
— От чего же?
— Как от чего? От радости. Всегда от радости плачут, — ответила Настя.
Мы рассмеялись. Реплика девушки позволила мне собраться с мыслями.
— Не скажу, что с нетерпением жду его писем… — с деланным равнодушием произнесла я, но отец тут же уловил изменения в моем настроении.
Ведь на самом деле все было немного не таю в последнем письме к Андрею я сообщила, что намереваюсь приехать в Париж по делам. Сроков не указала, да и не было у меня в Париже никаких дел, кроме как повидать его. Я беспокоилась о Протасове и чувствовала, что буду нужна ему. В Париже никому нет дела до того, что он мещанин, а я дворянка, и за нами не будут следить любопытные кумушки, подобные Елизавете Павловне.
— Ты что-то задумала, Полина. — Лазарь Петрович укоризненно посмотрел на меня и сделал паузу, словно находился в зале суда перед присяжными заседателями. — Может, поделишься с нами? Не чужие ведь люди.
От отца ничего невозможно скрыть. Он знает меня лучше, чем самого себя.
— Да, задумала, — призналась я. — Papa, я хочу поехать в Париж. Надеюсь, ты не осудишь меня.
— Ой, в Париж! — воскликнула Настя. — Как я хочу в Париж!
— Сначала закончи институт, а там видно будет, — ответила я.
— Следует ли понимать, что это каким-то образом связано с Протасовым? — мягко спросил Лазарь Петрович.
— Не буду лукавить, и с ним тоже, — кивнула я. — Но не только. Мне скучно здесь: дом обставлять надоело, да и без Андрея Серапионовича это невозможно сделать. Я перечитала все модные новинки, накупила кучу тряпья. В конце концов, зачем мне запирать себя в четырех стенах, если есть возможность посмотреть мир? Я хочу получать удовольствие от жизни.
— Ну, что ж… Ты человек взрослый, средства есть. Поезжай. Развеешься, на Эйфелеву башню посмотришь, говорят, чудо как хороша. Импрессионистами поинтересуйся, может, и прикупишь каких — дом украсить. К новому гарнитуру подойдут замечательно. Ни у кого таких картин не будет, а это вложение серьезное. Кажется мне, надолго они пришли. Паспорт в порядке?
— Да, выправлен недавно.
— Тогда в добрый путь, Полина. Я закажу тебе билеты в первом классе. Все, мне пора.
Отец попрощался и вышел из гостиной. Я знала, что он направляется к своей пассии и будет отсутствовать всю ночь. Вскоре Настя ушла спать, и я уехала к себе.
Вернувшись домой, я долго не могла заснуть — все думала: обрадуется ли мне Андрей, когда я приеду в Париж, что скажет при встрече? Наутро я пересмотрела свой гардероб. Оказалось, что для поездки мне не хватает множества необходимых вещей. Я немедленно отправилась в универсальный магазин и приобрела дорожный несессер с серебряными щипчиками для маникюра и мыльницей оливкового дерева с глицериновым мылом внутри, раскладывающуюся щетку для волос и патентованное средство от мозолей на случай, если придется много ходить.
Спустя две недели я стояла на перроне Брестского вокзала, ожидая посадки на поезд Москва-Варшава. В Москву я приехала накануне и не успела нанести визиты подругам. Да и особой охоты не было: они начали бы расспрашивать, зачем я еду в Париж, не вышла ли я замуж, принялись бы хвастать своими малышами, домом и супругом. От всего этого я была далека.
Из-за спешки отец не смог взять билеты в первый класс трансевропейского экспресса (а на второй я не соглашалась), поэтому в Варшаве мне предстояло самой покупать билет на поезд Варшава-Берлин-Париж, что прибавляло хлопот, но не настолько, чтобы лишиться удобств и мягких диванов в купе. Лишний день погоды не сделает, ведь я и так бесплодно прождала много месяцев.
Перед отъездом я написала Андрею коротенькое письмо. Постаралась так составить фразы, чтобы оно было предельно лаконичным и отстраненным. Мол, еду в Париж по делам, заодно хотелось бы и тебя повидать. Никаких «целую», «твоя навеки» и прочих излишеств.
Купе синего пульмановского вагона оказалось комфортным, не зря я настояла на первом классе. Немного потерта в углах бархатная обивка, но диваны широкие и удобные, столик полированного дерева, а бронзовые водопроводные краны начищены до блеска.
Когда позади остался Смоленск, я почувствовала, что голодна. Заказывать обед в купе не хотелось, и я отправилась в вагон-ресторан.
Там было тепло и уютно: на столиках красивые лампы, занавеси, смягчающие солнечный свет, картины пастельных тонов, на которых были изображены паровозы в клубах дыма. В такт стучавшим колесам позвякивали низкие хрустальные бокалы на белой крахмальной скатерти и бутылки в кольцевых захватах. Я села у окна и стала рассматривать проносившиеся мимо пейзажи.
Подошедший официант поклонился и подал меню.
— Рекомендую кордон-блю, сударыня, — почтительно произнес он. — Наш повар их отменно готовит в соусе пармезан.
— Нет, благодарю, — ответила я. Не люблю куриную грудку. Всегда предпочитала ножки, хоть они и считаются плебейским блюдом. — Лучше принесите мне вот что: рассольник и порцию фуа-гра с жареным картофелем.
Последний раз я ела рассольник несколько лет назад в доме моей тетки Марии Игнатьевны. Ее повар готовил этот суп совершенно замечательно — у других так не получалось.
— Десерт? — спросил официант. — Есть чудное малиновое сорбе.
— Потом.
— Слушаюсь. — Он ловко взмахнул полотенцем и исчез.
В ожидании гусиной печенки я переключила внимание на сидящих в вагоне-ресторане пассажиров. Семейная пара: муж в мундире почтово-телеграфного ведомства и жена в шляпе из бастовой 14 соломки с полевыми цветами. С ними путешествовали также сухопарая бонна-немка с постным лицом и капризничающая девочка лет шести. Бонна непрестанно одергивала девочку, приказывая ей каркающим фельдфебельским голосом: «Мари, сидите прямо! Не вертитесь!» Родители, увлеченные спором, не обращали на них никакого внимания.
За одним из столиков усердно поедал яйца «в гнезде» 15 пожилой чиновник в пенсне, похожий на аптекаря, за другим — тихо разговаривали трое поляков, сидевшие неестественно прямо.
Рассольник оказался необыкновенно вкусным, не хуже, чем получался у повара Марии Игнатьевны, упокой, Господи, ее душу.
Неожиданно за моей спиной послышались шум и громкие шаги. Но я, поглощенная обедом, даже не обернулась. Поляки перестали шептаться. Замолчал и капризничавший ребенок. Громко звякнула упавшая вилка чиновника в пенсне.
К соседнему столику подошел удивительный человек. Гренадерского роста, с пышными усами и раздвоенной бородой, он был одет в шаровары и подобие бурнуса, украшенного хвостами неизвестных мне пушных зверей. За ним следовал арапчонок в красной курточке с позументом и феске с кисточкой.
Гренадер уселся, победоносно обвел глазами вагон-ресторан и гаркнул:
— Половой! Водки! И немедля!
Его приказ был мгновенно исполнен. Тут гренадер заметил меня и движением руки отвел в сторону заказанную водку.
— Шампанского!
Невежа встал, подошел к моему столику и плюхнулся на стул напротив. По полу звонко клацнула длинная сабля в инкрустированных ножнах. Поляки втянули головы. Арапчонок привычно занял место за спиной хозяина.
Вы позволите?
— Вы уже сели, — спокойно ответила я. — Мое разрешение в данном случае — не более чем формальность.
Он и ухом не повел.
— Благодарю. Разрешите представиться, Николай Иванович Аршинов, вольный казак Камышинского уезда Саратовской губернии.
Кивнув, я внимательно посмотрела на него, стараясь взглядом выразить презрение к его манерам. Подлетевший официант принес бутылку «клико» и согнулся в три погибели.
— Прошу меня извинить, я не пью шампанского за обедом, — холодно сказала я, с трудом себя сдерживая. — И тем более не пью его с незнакомцами.
Бедная печенка! Я с такой яростью взялась за изысканное блюдо, что капельки соуса брызнули на белоснежную скатерть.
— Но я же представился, — чуть ли не обиженным тоном сказал гренадер. — Не разбойник какой. С кем мне еще здесь беседовать? Не с этим же стручком!
Он махнул рукой в сторону почтенного чиновника, отчего тот побагровел и приподнялся на стуле, но затем решил сделать вид, что его это не касается, протер пенсне и снова занялся обедом.
Подозвав официанта, неожиданный визави ткнул пальцем в мою тарелку и, ничуть не смущаясь, спросил:
— Что это ты, братец, даме подал?
— Фуа-гра-с, — произнес тот. — Высшего сорта, убоина свежайшая-с.
— Печенка, значит… — проговорил Аршинов. — Печенка — это неплохо. Давай две порции, да пожирнее и послаще. И чтоб немедля! Знаю я вас, по часу мурыжить готовы! Едал я в Париже печенку, до сих пор вкус помню. — Официант побежал исполнять заказ, а гренадер обратился ко мне. — Канальи французишки бедного гуся в клетку сажают да орехи через воронку ему в глотку пропихивают, чтоб мясо имело изысканный вкус. Клетка тесная, гусь в ней сиднем сидит, не шелохнется, дабы вес не потерять. А за три недели до того, как под нож пустить, уксусом его поят. Их самих бы в клетку, да уксус через воронку в глотку вливать. Правда, печенка отменная выходит! Главное, не знать, через что страдалец прошел, тогда можно наслаждаться.
— Откуда вам все это известно? — вдруг само собой вырвалось у меня. Я не хотела разговаривать с Аршиновым, но он так ярко описал страдания несчастного гуся, что мое сердце не выдержало, и я даже отодвинула в сторону тарелку. Мне почему-то расхотелось доедать печенку.
— Навидался этого в Париже. Жил в слободе Фобур-Монмартр, у красавицы Колетт — она гусей продавала. Только и слышно было с утра до вечера: га-га-га да га-га-га. — Аршинов загоготал так оглушительно, что сидящая неподалеку девочка заплакала и мать с гувернанткой захлопотали над ней, словно две встревоженные гусыни.
— Когда вам довелось побывать в Париже?
— Три недели назад еще гулял по бульварам. Парижанки, я вам скажу… — Гренадер потянул носом воздух, словно вдыхая аромат цветущих каштанов. — Но не буду, нельзя при даме других хвалить, обидится.
— Что ж покинули такую красоту? — улыбнулась я.
— Служба. Я себе не хозяин. Раз приказали — как штык, немедленно исполняю. В Австрию еду, пароход нанимать. — Он замолчал, надеясь, что я начну его расспрашивать, но я держала паузу. — Звать-то вас как? Так и не скажете, терзать будете, жестокая?
— Отчего ж не сказать? — рассмеялась я. Мне решительно нравился этот громадный enfant terrible, из-за которого дама в шляпе с цветами поджимала губы и что-то гневно выговаривала мужу, а чиновник-аптекарь ожесточенно тыкал ложечкой в жульен. — Аполлинария Лазаревна Авилова, вдова коллежского асессора.
— Вдова! И такая молодая! — воскликнул он. — Во сколько же лет вас замуж-то выдали? За старика, небось?
Я нахмурилась и промолчала. Бестактность бывает смешной только по отношению к другим.
— Ах, простите, сударыня, великодушно! — извинился Аршинов, увидев, как помрачнело мое лицо. — Давайте о чем-нибудь простом поговорим. Как англичане о погоде. Вы куда направляетесь? В Варшаву?
— В Париж, — ответила я сухо.
— Где намерены остановиться? Мне бы хотелось найти вас, когда я буду в Париже. Жаль расставаться с такой прелестной соотечественницей.
— Благодарю за комплимент, — кивнула я, отводя глаза. — Не знаю пока. В отеле, наверное. Вы посоветуете мне какой-либо из приличных?
Говоря это, я немного лукавила: мне хотелось узнать, действительно ли мой собеседник жил в Париже или просто рисовался передо мной. Ведь «отелем» в Париже называют не гостиницу, а особняк, в котором может жить и один человек, если у него достаточно средств.
— Разумеется! — воскликнул он. — К примеру, на бульваре Капуцинок сдаются прелестные комнаты. Могу порекомендовать. Полный пансион, но несколько дороговато.
— Спасибо, — остановила я его. «Прелестные комнаты» мне никак не подходили. — Непременно воспользуюсь вашим советом.
— Так можно будет туда к вам заглянуть?
— Всенепременно!
Отложив салфетку, я подозвала официанта и достала из сумочки ассигнацию.
— Ну что вы, мадам Авилова! Я заплачу! — Арши-нов полез в карман.
— Ваше право, — безразлично сказала я, оставила деньги рядом с тарелкой и вышла из вагона-ресторана.
— Аполлинария Ла… — донесся до меня его голос. Как иногда удобно иметь длинное, трудновыговариваемое имя.
***
Я достала из саквояжа недочитанный роман Эмиля Золя «Деньги» и попыталась сосредоточиться на перипетиях судьбы Аристида Саккара. Но глаза скользили поверх строчек, напечатанных по-французски, — из головы не шел Аршинов, его манеры, громогласные комплименты, рассказ о гусях и Париже, маленький арапчонок… «Гуси спасли Париж, гуси спасли Париж», — выбивала мерная дробь колес. Я рассердилась на себя: какой Париж, ведь это был Рим! А колеса продолжали стучать: «Что Андрей нашел в Париже? Что Андрей нашел в Париже?»
Стало ясно, что роман я сегодня не дочитаю. Мысли путались, голова отяжелела. И все из-за этого бесшабашного Ноздрева! Глаза бы мои его не видели!
Мне не нравилось, что, желая быстрее избавиться от докучливого собеседника, я осталась без десерта. Во рту пересохло, рассольник давал о себе знать. Очень хотелось пить. Я вызвала кондуктора и заказала чай.
В дверь постучали. Открыв, я увидела на пороге Аршинова со стаканом чая в руке.
— Вот, госпожа Авилова, принес, — сказал он, улыбаясь так непосредственно, что я, не в силах захлопнуть дверь у него перед носом, шагнула назад в купе. — Вы же чаю хотели, верно?
— Я просила у кондуктора, а не у вас.
— А чем я хуже? Я все могу: и чай заваривать, и хлеб резать, и водку наливать. — Аршинов еще шире улыбнулся и поставил стакан в подстаканнике на столик.
— Чему обязана? — скучным голосом спросила я, надеясь, что он сейчас же выйдет. Но мои надежды не оправдались, не такой он человек…
Аршинов оставил мой вопрос без внимания. Он без приглашения уселся на диван напротив и посмотрел мне в глаза:
— Что ж вы, Аполлинария Лазаревна, чай не пьете? Остынет ведь. Вы пейте, пейте, самолично наблюдал за заваркой. Никакого яда не подсыпал, вручил кондуктору пятиалтынный, он мне стакан и отдал.
Я молчала, не притрагиваясь к чаю. Наступила томительная пауза.
— Прошу вас, сударыня, не дуйтесь. Дорога скучная, вот я и напросился поговорить, если вы, разумеется, не против. — Заметив мой протестующий жест, он быстро добавил: — А пришел я к вам вот по какому вопросу: вы, случайно, не супруга Владимира Гавриловича Авилова, географа? Фамилия ваша не такая уж распространенная.
— Да, — кивнула я, изумленная тем, что Аршинов был знаком с моим покойным мужем. — Но уже вдова, к великой моей скорби.
— Ведь я мужа вашего покойного знал… Золотой души был человек. Мы с ним в Абиссинии встречались. Он мне тогда жизнь спас — по гроб жизни ему благодарен, как второе рождение пережил. Хотя если вам неинтересно, то прикажите уйти — уйду. Не в моих правилах навязывать свое общество, если меня не желают…
Он повернулся и открыл дверь купе. Я не выдержала и сменила гнев на милость:
— Оставайтесь, Николай Иванович, и рассказывайте, какими судьбами вас занесло в Абиссинию.
Супруг мне не говорил, что путешествовал в тех краях.
— Для этого мне придется начать с самого начала, — сказал Аршинов. — Иначе вам будет трудно разобраться, что к чему.
— Так начинайте, все равно Варшава не скоро. Вместе дорогу и скоротаем.
— Извольте. К слову, родился я в Царицыне, в купеческой семье. Предки наши чем только не торговали: дровами, скобяным товаром, дегтем, салом. Гоняли по Волге баржи, командовали бурлаками. А вот отец мой, Иван Севастьянович, в делах был неудачлив, да и пил много. Однажды, в поисках лучшей доли, забрал семью и отправился на Кавказ. Сказывали, что места там хлебные, а погода жаркая.
В семье было семеро детей, я старший. Воспитанием моим занимались мало, вернее, не занимались вовсе, и рос я отпетым сорванцом. Мать была занята с младшими детьми, отец ездил по аулам, скупал ковры, браслеты и кинжалы. Потом спускался в долину и перепродавал товар, немного накидывая к цене. Он никогда не брал меня с собой, а мне хотелось собственными глазами увидеть мир, ведь до пятнадцати лет я знал только то селение, в котором мы жили. Однажды я бросил учебу и сбежал из дома — моря и горы манили меня, мне хотелось испытать новые ощущения, стать наконец свободным.
Чем я только с тех пор не занимался: водил караваны с контрабандным табаком из турецкого Батума, ходил вниз по Дону через стремнины на утлой лодчонке, ловил диких кабанов, клеймил скот. И все это для того, чтобы денег заработать да самому себе доказать, чего я стою как мужчина и казак. Головы не жалел, будто не одна жизнь у меня, а по меньшей мере дюжина. И не брали меня ни пуля, ни нож — как заговоренный был.
В семьдесят седьмом году меня занесло на войну с турками. Попал я в полк к Константину Виссарионовичу Комарову, генерал-майору. Великой души был человек. Когда отступали, он приказывал останавливаться и ставить самовары, чтобы поить раненых чаем.
Горячее было время, хоть и ноябрь месяц. Мы брали крепость Каре. Ночь, темно, хоть глаз выколи. Ветер ревет, к земле пригибает. Я крикнул: «За мной, мои ребятушки! Не посрамим Россию!» — и бросился на стену. Турки обстреливали нас из винтовок Мартини-Генри и просто бросались камнями, если у них кончались пули. А когда им удавалось сбить кого-либо из наших, они вопили от радости. Наши солдаты падали, словно спелые яблоки. Бедняги… Но крепость была взята!
На той войне мне и посчастливилось, и не повезло. Счастье было в том, что тяжелая пуля, выпущенная из вражеской винтовки, не сразила меня наповал, а лишь слегка задела, правда, и этого «слегка» более хлипкому человеку вполне хватило бы, чтобы отдать Богу душу. А не повезло потому, что турки захватили меня в плен, раненного и истекающего кровью. Не дай Бог никому попасть в турецкий зин-дан: из этой ямы сбежать почти невозможно. Но я сбежал! Вот этими самыми руками и обломками глиняных черепков я выкопал путь на волю, а затем, пережив тяготы и лишения, оказался в Персии. Но и там мне не повезло: персы поймали меня как подозрительного бродягу, увидели, что на мне турецкие шальвары — я в тюрьме выменял их на шапку, и приняли за турецкого шпиона.
У персов, как и у турок, суд вершится быстро, без всякого следствия. Попался подозрительный — казнить его, тем более если пойманный не магометанин. Вот так и со мной. Персы народ низкорослый, я среди них возвышался что дуб среди подлеска. Сразу ясно: шпион — все видит издалека.
Уже приближался мой смертный час, меня вели к виселице, руки-ноги в кандалах, я — в рубище, народу на базарной площади — тьма! Я смотрел на синее небо, думал, что мало успел, что жизнь так бесславно кончается, и тут… Налетела конница вольных казаков и освободила меня!..
Аршинов даже вскочил с места, пытаясь изобразить сцену своего спасения. Откуда в Персии появилась целая конница казаков, мне было неведомо. Но поезд мерно покачивался, в купе пахло ванильными сушками, которые кондуктор добавил к чаю, и я, улыбаясь про себя, покорно внимала легендам новоявленного барона Мюнхгаузена.
— Вы прекрасно рассказываете, господин Аршинов, — заметила я, когда казак замолчал, чтобы перевести дыхание. — Я даже не замечаю времени. Все так волнующе и правдиво — картины просто встают перед глазами. Но когда вы дойдете до Абиссинии? Я вся в нетерпении.
Не беспокойтесь, Аполлинария Лазаревна, обязательно дойду. Времени предостаточно, запаситесь терпением. Мне так приятно вспомнить прошлое, да еще в обществе столь очаровательной дамы. — Аршинов подкрутил ус и продолжил, как ни в чем ни бывало, свое повествование: — Казаки провозгласили меня атаманом своей вольницы, дали коня, оружие, новую одежду и шапку. Все у нас было: сила, молодость, кураж. Не было только земли, где мы могли бы обустроить свое поселение и жить в довольстве, неся службу царю-батюшке и России. Так и мыкались с места на место, как цыгане кочевые. Надоело нам скитаться, плохо человеку без пристанища. 1де хаты ставить? 1де коров пасти? Неужели в необъятной России-матушке, от моря до моря, не найдется земли для нескольких десятков бравых парней? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пришли мы к Черному морю, и я обратился к генерал-губернатору Сухумского округа, князю Дондукову-Корсакову с просьбой: пусть разрешит нам создать для казаков-хлебопашцев станицы. Будут они землю пахать да кавказскую границу от нехристей-бусурман охранять. И нам хорошо, и государству спокойнее, когда такие молодцы, как мои орлы, границу охраняют. Князь оказался достойным человеком и милостиво согласился удовлетворить мое прошение. Выделил более сотни десятин в Кутаисской губернии и начертал собственноручно резолюцию: «Сим жалую надел, величиной сто сорок десятин, во создание станицы с тем, чтобы вольные казаки на земле осели и хлебопашеством, вкупе с ратным делом, пользу приносили государю императору и отечеству». Хороший был человек князь, не чета папаше.
— Вы и с его отцом знакомы были? — удивилась я.
— Нет, ну что вы, Аполлинария Лазаревна. Тот, поди, четверть века как помер. Просто я по пушкинской эпиграмме понял, что это был за человек. Поэт, он зря не напишет.
— Вы и Пушкина читаете? — ахнула я.
— Конечно. И «Ниву» с картинками, а также Толстого и Достоевского. За душу они хватают своими историями.
— Понятно. Славный вы человек, Николай Иванович. Рассуждаете обо всем. Книги любите. Кстати, интересно, что за эпиграмма? Вы ее помните?
— Помнить-то помню, — неожиданно смутился он, — да сомнения мучают.
— Какие?
— Как бы вред мы не нанесли этим едким стишком. И еще там неприличное слово имеется. А вы дама. Тонкого воспитания.
— Так это же сам Александр Сергеевич написал, — возразила я. — Он зря не напишет. Читайте. Потом вместе посмеемся, если эпиграмма действительно злая и остроумная.
— Как скажете… — согласился Аршинов. — За что купил, за то продаю…
Казак встал, заполнив собой все купе, и громко продекламировал:
В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему он заседает?
Потому что жопа есть.16
И мы оба расхохотались от души. Потом, утирая слезы, я спросила Аршинова, довольны ли казаки наделенными землями, не мало ли им нарезали?
Николай Иванович, мгновенно посерьезнев, ответил так:
— К сожалению, эта история оказалась сказкой с грустным концом. В тот год лето выдалось засушливое, пшеница полегла. И спустя некоторое время станица прекратила свое существование. Казаки разбрелись кто куда: некоторые с семьями вернулись за Дон, другие вновь отправились грабить караваны, и я остался один.
Удрученный крахом своих надежд, я выправил новые документы, отправился в Турцию и там, в Константинополе, зашел помолиться в храм Святой Софии. Я просил Святую Софию направить меня, дабы не прожить бесцельно жизнь и не растратить впустую силы.
Выйдя из храма, я увидел старого черкеса, сидевшего под древней оливой, наверняка помнившей крестовые походы и расцвет Византии. Мы разговорились. Черкес рассказал мне об удивительной стране «черных православных» — Абиссинии. Никогда не было войн на этой земле, никогда ее не захватывал ни один иноземец, и жил там добрый народ под властью «царя царей» негуса Иоанна, потомка царя Соломона и царицы Савской.
С той поры я не мог ни есть, ни спать — так захватила меня мечта увидеть тамошние земли. Я обивал порог русского консульства, требуя, чтобы меня посадили на любой корабль, идущий в том направлении. Вероятно, я надоел хуже горькой редьки, и вскоре, благодаря моей настырности, мне удалось добиться желаемого. На корабль «Амфитрида» меня снарядил константинопольский посол, граф Игнатьев, и поручил меня покровительству Императорского Вольного экономического общества, под эгидой которого ваш муж, дорогая Аполлинария Лазаревна, направлялся в экспедицию в Южную Африку. Вот там мне и посчастливилось познакомиться с вашим супругом.
В пути со мной случился пренеприятнейший казус: меня стали задирать матросы, высмеивая мой казацкий наряд, бороду, шапку. Я не стерпел и подрался с одним негодяем, родом из Сицилии. Крепко я его отмутузил. Немного оправившись, тот подговорил дружков-собутыльников подкараулить меня и выбросить за борт. И когда они вдесятером напали на меня и поволокли к борту, ваш супруг, сударыня, бросился на мою защиту и отбил меня у мерзавцев. Он выстрелил в воздух, на шум прибежали матросы и повязали разбойников.
Мы представились друг другу, разговорились и почувствовали друг к другу неодолимое дружелюбие. Авилов оказался прекрасным собеседником, таким же, как вы, и мы беседовали весь остаток ночи. Однако наутро мне нужно было отчаливать, а Владимиру Гавриловичу плыть далее — в Кейптаун. Мы сердечно распрощались, я сошел в порту Массауа, что в Красном море, и оттуда, через Асмару и Аксум, двинулся в глубь страны.
Негус Иоанн, абиссинский царь, принял меня сердечно. Поселил меня в круглом шатре под соломенной крышей, приказал выдать необходимую утварь, циновки и девчонку для услуг.
Я не знал их языка, но ходил по поселению и учился. Когда же немного начал говорить на амхарском — так называется их эфиопский язык, — то рассказал Иоанну, зачем я к нему приехал. Я понравился негусу, он меня сердечно полюбил и проводил долгие часы в беседах со мной. И самое главное, негус согласился на все мои предложения, дал «добро» на строительство в Абиссинии колонии и русской православной церкви. Он — неглупый правитель и понимал, что ему нужна сильная страна с растущим населением.
Прожил я у него три года — научился говорить на их языке, чуть было не женился, загорел что твой мавр, многое увидел и узнал. А потом негус снарядил меня в обратный путь, богато одарив и приставив ко мне двух ученых монахов-эфиопов — те ехали в Киево-Печерскую лавру учиться православию.
Вернувшись в Россию, я стал рассказывать о том, что видел: о прекрасном климате, о добрых миролюбивых эфиопах, о просторах ничейной земли, где только воткни палку — вырастет апельсин, и звал ехать со мной в этот край.
Понемногу вокруг меня собрались люди, и не только из казацкого сословия, а все, кто искал лучшей доли. Даже монахи к нам примкнули, уж о мастеровых я и не говорю — десятками ко мне спешили, дабы построить форпост на границе, принести пользу и себе, и матушке-России. Я даже имя станице придумал — Новая Москва.
Наш небольшой отряд отправился в Абиссинию летом восемьдесят восьмого года, и поначалу было хоть и тяжело, но радостно: своя земля, тепло, просторно. Люди с охотой взялись за дело: пахали землю, строили дома, ловили рыбу в море, пасли скот, тот, что мы привезли с собой. Любопытные эфиопы часто навещали нас, принося в подарок то фрукты, то домашнюю утварь. Даже негус изъявил желание посмотреть на нашу колонию и однажды явился, сидя в носилках, которые несли четыре дюжих негра.
Идиллия закончилась внезапно. В колонии были казаки, не приученные к крестьянскому труду, начались ссоры, пьянство, зависть. Они ехали не для того, чтобы мирно работать, пахать и сеять, а для вольготной жизни с грабежами и поборами. Выгнать их было некуда — кругом пустыня. Они грабили честных колонистов, и те шли с жалобами ко мне — а к кому ж еще? Мне пришлось даже сколотить команду из нескольких крепких мужиков, чтобы охранять людей от своих же наглых земляков.
Но самое страшное случилось позже, когда с берега наше поселение обстреляла итальянская канонерка. Итальянцы давно задумали захватить Абиссинию, и Новая Москва была для них костью в горле. Снаряды разрушили два дома, убили одного колониста, осколками ранило четверых. Все разбежались кто куда, и мне с трудом удалось вернуть людей.
С тех пор все пошло наперекосяк: дома развалились, да и не дома это были, а так, мазанки-времянки, сети пропали или были специально порваны итальянцами. Спустя несколько месяцев к нашим берегам подошел российский корабль и забрал тех, кто решил уехать. Я долго размышлял над случившимся, все думал, почему я дважды потерпел неудачу, и в конце концов понял, что дело надо вести совсем по-другому: сначала завезти товары, построить крепкие дома за высокой изгородью, а уж потом и людей зазывать.
Но скоро сказка сказывается… Для снаряжения корабля, закупки продовольствия, строительных материалов и необходимых инструментов нужны были деньги, много денег, которых ни у меня, ни у моих людей не было. Купцы дали уже все, что хотели и могли, и один умный человек мне посоветовал: езжай, мол, Николай Иванович, к царю, кинься ему в ноги и попроси денег. Уж царь поймет, насколько этот план важен и нужен для России, и обязательно поможет. Нельзя отдавать макаронникам такие земли — самим там встать надобно.
Вы же знаете, Аполлинария Лазаревна, что император недавно был во Франции — договор о русско-французском союзе заключал. Я приехал в Париж, правдами и неправдами добился аудиенции у Николая Карловича Гирса, всесильного министра иностранных дел, но тот затопал на меня ногами, обвинил в том, что я продаю родину, и даже пригрозил сослать в Сибирь на пять лет. Не до меня ему было. Франция, по его разумению, важнее Абиссинии. Еле ноги оттуда унес. Правда, я не понял, кому именно я продавал родину, уж не негусу ли абиссинскому, но благоразумно не стал выяснять это у раздраженного министра. Он человек государственный, ему виднее.
Теперь вот еду в Германию — меня обещали свести с нужными людьми, которые вроде бы согласились дать денег, а оттуда — обратно в Абиссинию, там меня ждут, самые верные мои товарищи остались присматривать, чтобы колония не развалилась окончательно. Вот такая история. Весь я вам открылся, ничего не утаил, потому что очень вы, сударыня, располагаете к душевной беседе.
Аршинов замолчал, откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза.
— Интересная у вас жизнь, Николай Иванович, — искренне сказала я, захваченная его рассказом. Аршинов уже не казался мне бароном Мюнхгаузеном, вралем и выдумщиком. Столько боли и отчаяния было в его словах об оставшихся в далеком краю друзьях, что я сразу поверила в то, о чем он рассказывал. — Мне так приятно было услышать, что вы знавали моего покойного супруга.
— И не сожалею ничуть, Аполлинария Лазаревна, — ответил он, не меняя положения головы, и я поняла, что передо мной сидит очень уставший человек, многое повидавший и переживший. — Ни за единый поступок в жизни мне не стыдно. Пусть другие меня осуждают за гордыню и самонадеянность, но, ежели что надумаю, я не отступлюсь. Помню слова Авилова. Он мне так сказал: «Ты, Николай, когда слышишь предупреждение: „Не делай этого, сие будет дурно истолковано“, — поступаешь в точности наоборот. Ты упорен, и это мне в тебе нравится! Ты всего добьешься в этой жизни». Удивительной души был ваш муж, интересный человек. Жаль только, что всего лишь несколько часов удалось с ним поговорить. Сейчас только вспомнил, он ведь и о вас рассказывал!
— Да что вы говорите?!
— Конечно! Он рассказывал о юной жене, которую любил всем сердцем. Как я сразу не понял, что это вы? Он же мне вас описывал.
— Науку Владимир Гаврилович любил не менее, — вздохнула я, отворачиваясь. — Она у него была на первом месте, а все остальные, включая меня…
Слезы предательски навернулись на глаза, и я промокнула их платочком.
— Полно, полно, дорогая госпожа Авилова. Не расстраивайтесь так. Вам довелось встретить и полюбить удивительного человека, и, думаю, вы благодарны Создателю за те несколько лет, что провели вместе с Владимиром Гавриловичем. Ведь верно?
Я молча кивнула.
— Расскажите лучше, чего вы ждете от Парижа? Решили развеяться или по делам каким-нибудь?
— Да как вам сказать, Николай Иванович… — Я с радостью сменила тему разговора, — Давно не была в Париже, соскучилась. На выставке хочу побывать, по магазинам модного платья пройтись, к художникам заглянуть, да просто парижского воздуха вдохнуть…
— К художникам? — оживился он. — Люблю художников, веселые парни. Только натурщиц выбирать не умеют. Как глянешь — плакать хочется, одна другой тоще. Женщина, она должна радовать глаз приятными округлостями. А углов у нас самих хватает! — Аршинов оглушительно расхохотался. — И что вы намерены купить из картин?
— Не знаю, наверное, импрессионистов, — ответила я и тут же спохватилась: вдруг мой собеседник не знает, кто это? Неудобно получится.
Но Аршинов и бровью не повел, его не так-то легко было оконфузить.
— Что ж, порекомендую вам парочку галерей, — сказал он с видом знатока. — Вот, например, галерея «Буссо и Валадон» на бульваре Монмартр. Очень, очень достойная. Картины представлены от маленьких до огромных, в полстены. Хоть в присутственное место вешай — все собой закроет. И директорствует там брат этого ненормального художника, что ухо себе отрезал, а потом то ли застрелился, то ли еще как с жизнью покончил, как его бишь… Галерейщика-то Теодор Ван Гог зовут, а вот брата его, нет, не помню… Что еще сказать?.. На улице Форе в девятом доме тоже картины продают. Но дорого, и картины мелковаты. За что такие деньжищи отваливают за картинку размером с носовой платок — не пойму. Потом у Дюран-Рюэля… Эх, не помню больше.
Спасибо, — я смеялась так, что у меня заболело под ложечкой. — Вы все очень подробно рассказали. Надо записать, а то иначе я не запомню. Очень ценные рекомендации.
— Вот по модисткам я не специалист. То есть знаком с парочкой, но не по белошвейной части.
Боясь, что разговор перейдет на скабрезности, я поспешила вернуть беседу в прежнее русло:
— А вы любите живопись, Николай Иванович?
— Как вам сказать, дорогая Аполлинария Лазаревна… Я люблю понятную живопись. Ну, например, лубок «Как мыши кота хоронили», или озеро с лебедями, или купчиху в шали. А ведь черт-те что иногда намалюют и возвещают: «Я так вижу!» Аж плюнуть хочется. Я и плевался. Так одному художнику и сказал: мол, что же ты, садовая твоя голова, рисуешь? А он мне гордо: «Это, Коля, импрессьон! Впечатление. Не по твоему суждению — только подготовленные люди могут в этих картинах что-либо понять». А ты мне, неподготовленному, неученому лапотнику, нарисуй картину, да так, чтобы я понял: это дерево, это стол, за столом девица сидит, чай пьет. Канарейка в клетке, герань на окне. Ведь такую картину на стенку повесишь — глаз радуется!
— Ну, может, у французов другие понятия о красоте? — возразила я. — Им герань на подоконнике не нужна, им надобно что-то другое.
— Да какой он француз? — воскликнул Арши-нов. — Наш, русский парень, Андрюха Протасов. Стал бы я такие турусы на колесах по-французски разводить! Это я русскому говорил.
— Как его зовут? — не поверила я своим ушам.
— Андрей Протасов, художник. С полгода как приехал в Париж учиться мастерству. Заводной малый, столько сил в нем! Запрется, бывало, в своей мансарде, день и ночь пишет, пишет, когда спит — неизвестно. А как зайдешь к нему глянуть на картины — одни кляксы да полосы. У меня на Кавказе ослица была. Если бы я догадался ей к хвосту кисть с краской привязать, ничуть не хуже вышло бы.
— Где он живет? — перебила я Аршинова. — На улице Турлак?
— Да, — кивнул он. — Именно там. Паршивое местечко, под самой крышей. Семь потов сойдет, пока вскарабкаешься. Но я ходил — Протасов отменный собутыльник. Ох, и горазд пить! Мы с ним как-то раз сидели в кабачке на площади Бланш, так гарсоны нас до трех ночи выпроводить не могли. А вы его тоже знаете?
— Знаю. Он мне придумал гостиный гарнитур, — спокойно ответила я, хотя ровный голос дался мне с трудом. Неловко было расспрашивать о любовнике человека, знавшего и уважавшего моего покойного мужа. Во мне все кричало, и я с трудом сдерживалась, чтобы не пытать Аршинова. — Господин Протасов учился в школе живописи и очень хотел поехать в Париж совершенствовать свое мастерство. Рада, что ему это удалось. И что, его картины пользуются успехом?
— Кто ж знает? — пожал плечами Арши-нов. — Может, и найдется дурень, простите великодушно, что купит его мазню. Рисует себе кружочки да черточки и созерцает. Мазнет холст, отбежит, головой покрутит и снова на картину бросается, словно крепость берет. Так и бегает многие версты на одном месте. Жалко мне его.
— Почему?
— Протасов ведь сам, своими руками талант в землю зарывает! Арапчонка моего, Али, за пять минут нарисовал! И похоже: как живой на картинке. А он ищет чего-то, переживает, пьет. Выглядеть плохо стал — осунулся, постарел даже, с лица спал. Сколько раз я ему говорил: Андрюха, у тебя такое ремесло в руках! Ты же портреты рисуешь один в один. Так займись делом, я тебе богатых клиентов найду; так нет же — обиделся, что я его труд ремеслом назвал. «Да, — кричал он мне, — ты прав, Николай, ремесло это! Низкопробное! Точное слово для меня и моей мазни! А я для души хочу, для высокого искусства творить!» Вот какие дела, дорогая госпожа Авилова.
Я не могла открыть Аршинову мое истинное отношение к Протасову, поэтому мне приходилось только поддакивать да сочувственно кивать. Сердце рвалось, когда я слышала горькие и несколько уничижительные слова моего собеседника.
— Кроме вас, у него есть еще друзья в Париже? — спросила я. — Или он анахорет и мизантроп?
— Трудно сказать. Андрей нелюдим, и друзей у него нет. Да и времени тоже — как свободная минутка выпадет, тут же за кисти хватается. Мало ему учебы — свое малюет. Постойте, вспомнил. Он со стариком одним дружбу водит — странный старик, вечно от него какой-то кислятиной воняет. И серой, как от черта, прости меня Господи за такие слова.
— А с женщинами у него как? — не выдержала я, но Аршинов не обратил внимания на то, что у меня дрогнул голос.
— Женщины? У художников всегда девиц, словно блох на моське. Есть одна девица, что иногда у него ночует, — натурщица Сесилька, черненькая такая барышня, худосочная, как они все. Больше не припомню. Я ведь мало с художниками и натурщицами разговаривал. Они как начнут о своем чирикать: тон, цвет, краска такая, кисть сякая — стою дуб дубом, двух слов связать не могу, да и неинтересно мне. Во французском слабоват, я все больше по-турецки да по-амхарски говорю, Андрей частенько бывал моим переводчиком.
Слова Аршинова о черненькой натурщице неприятно резанули меня, и, чтобы скрыть волнение, я задала невинный вопрос:
— Что это за язык — амхарский? Красивый? Никогда не слышала.
— Эфиопы на нем говорят, — ответил Аршинов. — Голоса у них тонкие, слова выводят, как певчие на клиросе. Мне с моим басом трудновато приходится, поначалу вовсе не понимали.
В этот момент дверь отворилась, и в проеме показалась голова арапчонка. Он сверкнул глазами, похожими на две спелые сливы, и высоким голоском протараторил несколько фраз.
— Вот вам и амхарский, госпожа Авилова, — хохотнул казак и что-то ответил мальчику. — Мне пора, мальчик соскучился, ведь несколько часов мы с вами беседовали. Было приятно поговорить. Может, еще и увидимся в Париже.
— Удачи вам в ваших трудах, Николай Иванович. — Я протянула ему руку. — Надеюсь, что еще встретимся.
Он поцеловал мне руку и вышел из купе.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Всецело предаться одному пороку
нам обычно мешает лишь то,
что их у нас несколько.
Билет на Париж в кассе варшавского вокзала я купила быстро. Первый класс был только в экспрессе, отправлявшемся назавтра рано утром, поэтому я поехала в центр и заказала номер в небольшой гостинице на Каноничьей улице, рядом с костелом. Опрятная хозяйка, непрерывно повторяя: «Проше, пани», проводила меня в комнату на втором этаже. Я попросила разбудить меня в пять часов и легла спать, поскольку очень устала с дороги. Во сне я увидела Андрея, обнимающего девку-арапку, и Аршинова, укоризненно качающего головой: «Эх, Андрюша, сколько же ты на нее сажи извел, на черненькую-то Сесильку… И сам измарался».
В дороге я скучала. Островерхие крыши за окном сменялись черепичными, поля — холмами. Пейзаж был серый и прилизанный, поэтому я предпочитала спать и читать.
Иногда я ходила поесть в вагон-ресторан, но собеседники, подобные Аршинову, мне больше не попадались. Ела я без всякого аппетита — настроение портили мысли об Андрее и натурщице Сесиль. Зачем я еду в Париж? Что я скажу Андрею, когда мы встретимся? Нужна ли я ему? Но в конце концов, свет не сошелся клином на Протасове, в Париже есть что посмотреть: Всемирная выставка, картинные галереи, Лувр… Однако на сердце лежала тяжесть, и мою душу терзало чудовище с зелеными глазами.
Париж показался внезапно. Сперва я увидела мрачные бараки с зарешеченными окнами, потом трубы, выбрасывающие в небо клубы черного дыма, и наконец предместья: сначала бедные, потом зажиточные, с красивыми домиками, окруженными изгородями из плюща.
Северный вокзал встретил меня монументальным фасадом со множеством фигур. Я вышла под роскошный стеклянный навес, сделанный архитектором Хитторфом по заказу императора Наполеона Третьего почти сорок лет назад. О Хитторфе рассказал мне отец, когда я впервые увидела это чудо. Жаль, что в нашем N-ске нет ничего подобного.
Носильщик погрузил мои саквояжи в фиакр, и я приказала кучеру в фиолетовом плаще с пелериной ехать на улицу Турлак, откуда приходили письма Андрея. Мне хотелось поскорее увидеть Протасова и даже, может быть, застать его с женщиной, войдя внезапно в мансарду. И хотя я корила себя за столь низменное желание, это было именно то, чего я ждала и чего боялась больше всего на свете.
Я написала ему, что приеду в Париж, но не сообщила, когда. Во мне бушевала страсть брошенной женщины, зажженная не подозревавшим ни о чем Аршиновым. Путешествие в одиночестве лишь усугубило мои страдания. Классическая ревность собаки на сене.
— Улица Турлак, мадемуазель, — повернулся ко мне кучер и почему-то подмигнул. — Прикажете выносить саквояжи?
Попросив кучера подождать, я вошла в дом. В углу сидела консьержка и вязала чулок.
— Добрый день, мадам, — сказала я.
— Добрый день. Вы, наверное, к русскому художнику?
— Да, — удивилась я. — А как вы догадались? По акценту?
— Нет, — улыбнулась она. — Только к нему натурщицы ходят. Но его нет. Он уже три дня домой не приходил.
Мне стало не по себе. Подтвердились мои худшие ожидания: меня назвали натурщицей! К нему ходят женщины! Он не ночует дома! И я пришла напрасно…
Почтенная дама догадалась по моему лицу, какие чувства меня обуревают, понимающе покачала головой и предложила:
— Оставьте записку, я передам Андре, как только он вернется. Хотя… вы можете поискать его в пивной «Ла Сури», он там часто бывает.
— Спасибо, — только и могла вымолвить я.
— Вы из России?
— Да.
— Вам есть где переночевать? Я вижу, вы сюда приехали прямо с вокзала.
— По правде говоря, я об этом еще не задумывалась.
Консьержка отложила чулок и поднялась со стула.
— Позвольте дать вам совет: прикажите извозчику отвезти вас в отель «Сабин». Будете довольны.
— Я, наверное, так и поступлю, мадам.
Поблагодарив консьержку, я достала из сумки карандашик в оплетке и написала по-русски: «Андрей, я в Париже. Как только найду, где остановиться, пришлю адрес. Полина». Отдав консьержке записку, я попрощалась и вышла на улицу.
— Куда теперь, мадемуазель? — спросил кучер.
— В какую-нибудь приличную гостиницу в этом районе, — ответила я, забираясь в фиакр.
Ехать искать неизвестно какую гостиницу по неизвестно чьей рекомендации мне не хотелось.
— Я отвезу вас в «Пти Отель» на бульваре Роше-шуар.
— Куда угодно, только поскорей. Мне все равно.
Когда мы подъехали к гостинице, вдруг раздался трубный звук, от которого с деревьев испуганно вспорхнули птицы.
— Что это? — удивилась я.
— Цирк Фернандо! — ответил усатый кучер. — Лучшие представления каждый вечер! Вот поселитесь и сходите, не пожалеете. Там дрессированные слоны на задних ногах танцуют.
— Не хочу останавливаться в этой гостинице! — испуганно закричала я. — У меня от запаха зверей и соломы сенная лихорадка начинается. Езжайте в другое место!
Кучер резко натянул поводья, лошадь остановилась.
— Жаль, там очень приличный отель. Ну, нет так нет… — Он помолчал, потом повернулся ко мне и вскинул вверх указательный палец. — Вот что: я отвезу вас к Соланж де Жаликур. Очень приятная дама. Она держит небольшую гостиницу в собственном доме на авеню Фрошо. Полный пансион и недорого. Думаю, вам понравится.
— Поехали, — кивнула я. — Мне все равно.
На авеню Фрошо, в глубине заросшего кустарником двора, располагался небольшой двухэтажный особняк начала восемнадцатого века с надписью на фронтоне «Отель Сабин». Высокие окна были окаймлены плющом, а на подоконниках цвели пурпурные мальвы, называемые еще просвирником. Дом выглядел чистеньким и уютным и понравился мне с первого взгляда. Название показалось мне знакомым. Я открыла сумочку и достала записку, сунутую мне консьержкой. Из записки следовало, что меня привезли в ту самую гостиницу. Что ж, это судьба — спорить я не стала.
Кучер спрыгнул с козел и пошел в дом. Спустя минуту он вернулся и принялся сгружать мои саквояжи.
— Пойдемте, мадемуазель, я договорился с хозяйкой, у нее есть для вас хорошая комната, и недорого.
Отворив застекленную дверь, я вошла в просторную прихожую, за которой просматривались столовая с камином и лестница с отполированными перилами. На стенах висели пасторальные картинки, а в углу стояла старинная вешалка с многочисленными крючками.
Хозяйка, пышная дама с кружевной наколкой на шиньоне, была затянута в жесткий корсет, от которого ее грудь, и без того немаленькая, выдавалась вперед, словно ростральная фигура. Атласное платье цвета майского жука топорщилось складками на бедрах, отчего хозяйка напоминала куклу, посаженную на чайник. Дополнительное сходство придавали рукава-буфы с мелкими пуговичками на запястьях.
— Добрый день, мадемуазель! — ослепительно улыбнулась она, обнажая меленькие, словно у лисы, зубы. — Я слышала, что вы желаете снять комнату? У меня есть изумительная светлая комната с окнами на Сакре-Кер! Вы будете довольны!
— Простите, но я не мадемуазель. Позвольте представиться, я вдова. Моя фамилия Авилова. А зовут Аполлинарией.
— Ох, простите меня! — она прижала руки к своей необъятной груди, отчего три ее подбородка заколыхались. — Вы так молодо выглядите, мадам Авилова, я ни за что не поверила бы, что вы были замужем. Восемнадцатилетняя девушка с прекрасным цветом лица! А меня зовут Соланж де Жаликур, я из рода того самого де Жаликура, что отличился в битве при Азенкуре 17. Но его подвиг, к сожалению, не помог Франции. Вы можете называть меня мадам Соланж, мне будет приятно. В моем отеле простая, семейная атмосфера.
Не переставая говорить, она сунула кучеру мзду за то, что привез к ней клиента, и он откланялся. Потом она повела меня на второй этаж; ее пышные юбки шуршали, задевая лестничные столбики.
— Вы полька? — вдруг спросила она, обернувшись ко мне.
— Нет, я русская.
— У вас такое сложное имя. Вам гораздо больше подошло бы имя Полин. Послушайтесь моего совета: представляйтесь здесь именно так, тогда вас примут за настоящую парижанку — вы великолепно говорите по-французски! У вас даже легкий версальский прононс. Вы, наверное, в детстве жили во Франции?
— Нет, одна из моих гувернанток была родом из Парижа.
Мадам Соланж ввела меня в просторную комнату с высоким окном. В глубине оказался альков — вход в него скрывали занавеси розового атласа с пышными набивными пионами. Везде в глаза бросалось буйство персиково-алых оттенков. Я словно попала в будуар героинь Бальзака и Мопассана. Не меблированная комната, а гнездо сладострастия. Как же я тут буду жить, в такой чувственной обстановке и одна? В углу стояла напольная статуя малыша-купидона, выкрашенная бронзовой краской, а на двух диванах в живописном беспорядке были разбросаны подушки и турецкие валики из колкой парчи. Я с тоской вспомнила свою обновленную гостиную в стиле «ар нуво». Призрак козетки на львиных лапах выглядывал из-за каждого предмета, находящегося здесь.
— Вам нравится? — спросила мадам де Жаликур, не сомневаясь в ответе. — Это лучшая моя комната. Посмотрите, какие занавеси на алькове. Вам будет уютно.
— Д-да, — выдавила я — спорить не было никакого желания. В конце концов, на этой комнате свет клином не сошелся. Обоснуюсь и найду что-нибудь получше.
— И плата совсем небольшая, — умильно произнесла хозяйка. Она цепким взглядом осматривала добротные саквояжи из свиной кожи, внесенные сюда садовником. — Всего двести франков в месяц за такую комнату, где вас никто не потревожит. Да еще с пансионом, горничной, чисткой обуви и ежедневной газетой. Вы нигде не найдете ничего подобного, хоть весь Париж обойдите.
— Хорошо. Я согласна.
— Тогда соблаговолите заплатить за месяц вперед. Здесь так принято.
Я открыла сумочку и достала требуемую сумму. Хорошо, что еще в Варшаве я поменяла рубли на франки. Получив деньги, мадам де Жаликур улыбнулась еще шире и сообщила:
— У меня в отеле проживает только самая респектабельная публика. Кстати, в зеленой комнате направо по коридору живет ваш соотечественник, князь. Очень достойный и набожный господин. Каждое воскресенье он ходит в русскую церковь. У князя очень трудная фамилия, так что за ужином он сам вам представится, а мы называем его просто — князь, он не сердится. Располагайтесь, мадам Авилова, хорошего отдыха. Ваши ключи на столике. Если нужна горничная, звоните в колокольчик.
У меня мелькнула мысль, и я остановила хозяйку, уже выходившую из дверей:
— Мадам де Жаликур, постойте. Не подскажете, где находится пивная «Ла Сури»? Мне срочно нужно туда попасть!
Глаза у хозяйки чуть не выскочили на лоб от удивления. Ее можно было понять. Что прикажете думать, если изысканно одетая дама, путешествующая с дорогими чемоданами, говорящая на прекрасном французском, вдруг первым делом по приезде в Париж интересуется пивной, прибежищем нищих художников и гаменов-попрошаек? Мадам де Жаликур явно засомневалась, достойна ли я снимать комнату в ее отеле, но воспоминание о полученных двухстах франках отрезвило ее, и она лишь деланно улыбнулась:
— Это недалеко, мадам Авилова. Дойдете до улицы Дуэ, а там и «Ла Сури» рядом. Простите, не могу дать вам кого-либо в провожатые, мои слуги не посещают подобные заведения.
Подпустив на прощание шпильку, мадам Соланж закрыла за собой дверь.
Оставшись одна, я достала из чемодана платье из тонкого светло-лилового крепа, вышитого небольшими бутонами, с широкими воланами по подолу. Андрей однажды сказал, что я в нем похожа на фею. Шляпка с фиалками и перчатки в тон платью завершили ансамбль.
Я вышла из отеля и направилась на улицу Дуэ. Меня пугала неизвестность: найду ли я сегодня Андрея? Обрадуется ли он нашей встрече? А мысль о том, что он заливает судьбу пивом, просто сводила меня с ума.
Я шла по парижской улице. Меня пьянил горьковатый воздух, напоенный незнакомыми ароматами. На высоких каштанах топорщились колючие зеленые плоды. Даже булыжник на мостовой был совсем другой формы и цвета, чем в Москве или нашем N-ске. Мимо проезжали кареты, немногие из них — с лакеем на запятках. Шли мастеровые и художники, модистки и военные в ярких мундирах. Дама в чепце с оборками несла корзину, из которой торчал длинный багет. Куда-то спешил приказчик со штукой сукна под мышкой.
На перекрестке мальчишка торговал газетами. Он выкрикивал последние новости, зазывая покупателей. Я сунула ему монету и пробежала глазами последнюю страницу: в цирке Фернандо на бульваре Рошешуар новая программа — выступления акробатов, жонглеров, наездниц во главе с восхитительной мадемуазель Клодин; в театре-кабаре «Фоли Бержер» — зажигательный канкан; полиция не может опознать утопленника; из колоний прибыл корабль «Генрих Четвертый»…
За чтением на ходу я чуть было не пропустила поворот на улицу Дуэ, но издали увидела яркую вывеску «Ла Сури». Остановившись, я стала наблюдать за публикой, сновавшей туда и обратно. Глубоко вздохнув и набравшись храбрости, я отворила тяжелую дверь с нарисованной на ней пивной кружкой, вошла и огляделась по сторонам.
Зал «Ла Сури» был обставлен обветшавшей мебелью времен Второй империи. Стены были отделаны буковыми панелями, сколоченными из дверец отживших свое шкафов. Сверху, с толстых потолочных балок, свисали газовые лампы, изготовленные в виде масляных светильников. В большом камине, выложенном красным кирпичом, стояли чугунки и массивные сковородки. На стенах — медальоны с головами кабанов и оленей, на полках — глиняная и медная посуда. Окно украшал настоящий церковный витраж, изображавший Благовещение. Сквозь три выбитых стеклышка в витраже в пивную проникали солнечные лучи.
Внутри стоял густой дым. Из-за шума нельзя было различить ни слова. За дубовыми столами сидел самый разный люд: мужчины в рабочих блузах и испачканных краской беретах, девицы сомнительной репутации. Старый пьяница спал в уголке, уронив голову на скрещенные руки. Две старушки с облезлыми перьями на шляпках что-то громко кричали друг дружке на ухо. Сновали официанты, наряженные в костюмы лотарингцев… Мне стало не по себе: я отчаялась найти в этой толпе Андрея. Кажется, мои опасения оправдались — надо выбираться из этого непристойного места.
— Что ты здесь потеряла, прелестница-незнакомка? — услышала я за спиной насмешливый голос.
Обернувшись, я увидела молодого человека, брюнета с истинно французским, то есть большим и с горбинкой, носом, в узком костюме-тройке. Шелковое кашне было завязано бантом. Его глаза смеялись. Карман сюртука был измазан чернилами.
— Ищу одного человека, — ответила я.
— Кого именно? Может, я его знаю и смогу вам помочь.
— Буду весьма признательна, мсье…
— Меня зовут Доминик Плювинье, репортер «Ле Пти Журналь». — Он слегка поклонился.
— Очень приятно. Ап… Полин Авилова.
— Какая интересная фамилия. — Он взял меня за талию и легонько прижал к себе: оказалось, на нас надвигалась могучая официантка с подносом, уставленным кружками. — Ты из Бретани, Полин?
Мне было неловко: незнакомец обнимал меня, называл по имени, на «ты»…
— Простите, мсье Плювинье. — Я попыталась высвободиться из его объятий, но мне это не удалось. Мужчина держал меня крепко и не отпускал. — Вряд ли вы сможете мне помочь. Я ищу одного художника, но, к сожалению, тут его нет.
— Кто он? Опишите мне его. Я знаком со многими художниками Парижа.
— Приятно было познакомиться. — Я резко оторвала его руки от своей талии. — Поговорим в следующий раз, а сейчас прощайте.
— Брось дурачиться, Полин. Ты, кажется, не поняла, где находишься. Пришла в такое место без провожатого и, наверное, хочешь, чтобы тебя уволок первый попавшийся клошар, которому ты приглянешься?
— А чем вы отличаетесь от него? Что вы в меня вцепились?!
Плювинье словно опомнился и разжал руки.
— Я хочу тебе помочь, глупая, — широко улыбнулся он. — С первого взгляда видно, что ты не парижанка, забрела сюда в нелепой прошлогодней шляпке. Куда тебя занесло? Ты бы попала в мерзкую историю, если бы не я. Вон посмотри, тот забулдыга явно имеет на тебя виды.
А я-то считала, что выгляжу сногсшибательно… Но не об этом следовало сейчас думать.
В словах Плювинье был резон. Поэтому я подавила неприязнь и решилась с ним поговорить.
— Откуда ты приехала? — спросил репортер.
— Из России.
— О-ля-ля!.. Это очень далеко. «Бистро, бистро!», казаки, Сибирь, медведи. — Он выпалил банальности, которые обычно говорят иностранцы, узнав, что собеседник русский, но тут же спросил: — Ты пиво пьешь, Полин? Пойдем, я угощаю.
— Пожалуйста, мсье Плювинье, помогите мне найти художника и не задавайте больше глупых вопросов. Не хочу я вашего пива!
— Он тоже русский?
— Да, мы из одного города. У меня для него письмо.
Никакого письма у меня, конечно, не было, но должна же я была придумать хоть какой-то повод, заставивший меня прийти в это место.
— Хорошо, — согласился он, — давай подойдем вон к тому столу в центре. Я тебя познакомлю кое с кем.
Мы подошли к большому столу, за которым сидела компания молодых людей. К ножке одного из стульев был прислонен складной мольберт. Хмурый парень что-то чертил на салфетке, окуная палец в горчицу. На коленях у высокого верзилы с перебитым носом сидел карлик и сумрачно глядел на окружающих. Чернявый толстяк громко рассказывал собратьям высоким пронзительным голосом:
— Работал я вчера у Дюран-Рюэля на улице Лаффит, реставрировал этажерку орехового дерева. Заходит в галерею одна дама, важная донельзя, но сразу видно — провинциалка. Одета безвкусно, шляпа бархатная с птицами и перьями, в красном марселиновом платье. Пальцы унизаны массивными безвкусными перстнями. Видит, что я в блузе, запачкан краской, и думает, что я тут в приказчиках. Подзывает меня пальцем и спрашивает: «Скажи, милейший вот это — рококо?» — и тычет в кресло «разбитая герцогиня» 18. — «Нет, это барокко, очень интересный образец…» — «А вот это — тоже барокко? — перебивает она и показывает на стул „Версаль“ — „Нет, — отвечаю, — это как раз рококо“. — „Обосраться!“ — восклицает она.
Когда все отсмеялись, тот же толстяк, заметив нас, крикнул:
— Доминик, где тебе удалось отхватить такую красотку? Что-то я не встречал ее на Монмартре.
Второй подхватил:
— Оставьте его, мадемуазель, зачем он вам? Плювинье может лишь написать о вас заметку в паршивой газетенке, а я напишу ваш портрет и прославлю вашу красоту. Садитесь ко мне поближе!
— Ну, бесстыжий, — сказал мрачный высокий человек с карликом на коленях, — ты же ей нос на боку нарисуешь и груди одну под другой. Ее родная мать не узнает на твоем портрете!
— Точно! — не обиделся тот. — Я бесстыжий художник и ничуть этого не стесняюсь.
— Еще бы, у тебя же стыда нет.
— А знаете, что такое бесстыжий художник? — спросил толстяк, обводя всех взглядом. — Это художник, который прикинулся соблазнителем, привел к себе девушку, раздел, уложил и принялся писать с нее картину. Что поделаешь, если нет денег на натурщиц? Надо же как-то выходить из положения!
Все захохотали так, что на столе задрожали пивные кружки.
— Будет тебе, Гренье, — усмехнулся репортер. — Или у вас в Тулузе перевелись красивые девушки? Бери и рисуй сколько душе угодно. Может, тебе только парижанки по нраву? Так они любят худых мужчин, вроде меня.
Позвольте, я познакомлю вас, мадемуазель, — сказал Гренье. — Слева от меня знаменитый Андерс Тигенштет, швед, по прозвищу Хитроумный Улисс, ибо ему всегда удается уговорить хозяйку налить нам пива в долг. Он уже десять лет обещает написать ее портрет для украшения пивной, но каждый раз говорит, что через полгода та станет еще красивее и надо немного подождать. Рядом с ним Тампье. Он хоть и не утруждает себя пачканьем холста, но считается художником, и не простым, а гидропатом. Правда, никто не видел, чтобы он эту воду пил. Кроме пива, ничего в рот не берет. Ну, может, иногда вина. Вот этот дылда — Анкетен, великой души человек, искусный фехтовальщик и наездник, но мухи не обидит, не смотрите, что такой страшный. А на его коленях — Тулуз-Лотрек. Вам обязательно нужно увидеть его афиши танцовщиц из «Мулен Руж». Они словно живые, так и норовят поддеть пенсне зеваки кончиком туфли. А как вас зовут, прелестная незнакомка? У вас чудный цвет лица, такого не бывает у парижских лореток.
— Вот у нас в Тулузе… — протянул с южным акцентом Тампье, и все вновь расхохотались.
— Это Полин из России, — ответил за меня Плювинье. — Она разыскивает одного русского художника.
— Андре? — спросил молчавший до сего момента Тулуз-Лотрек. Он поднял маленькую руку и потер лоб. — Того, что просиживает штаны с утра до ночи в музеях, копируя великих мастеров?
— Да, его зовут Андре. Он в музее?
— Не знаю. Обычно да, но в такое время он уже пьет пиво за дальним столиком в углу. Там нет? — Тулуз-Лотрек ткнул пальцем назад и попал в Анкетена.
— Нет, — ответил за меня Плювинье. — Мы осмотрели пивную.
— Жаль, — сказал Улисс. — Мы его не видели уже неделю. Обычно он бывает здесь каждый вечер. Вы ходили к нему домой, мадемуазель?
— Да, — кивнула я. — Его там нет. Консьержка сказала, что он уже третий день не появляется дома.
— Скверно, — протянул Улисс. — Тогда…
— Что? — спросила я.
— Нет, ничего, — ответил Улисс, словно ему расхотелось говорить.
— Послушайте, — вступил в разговор дылда Анкетен, — зачем вам, такой красавице, этот старый тип? Из него же песок сыплется!
— Из кого? — удивилась я. — Это Андре вы называете старым типом? Ему двадцать шесть лет! Вы его с кем-то путаете.
— Странно… Выглядит он на все пятьдесят. Может, вы, русские, от водки так стареете? Ему не дашь двадцати шести.
— А мы маленькие и удаленькие, — противным голосом захохотал сидевший у него на коленях Тулуз Лотрек. — Верно, Анкетен?
Его приятель не ответил, только удобнее усадил карлика на коленях.
— Послушай, Тигенштет, тебе известен адрес той натурщицы, которую Андре рисовал с месяц назад? Промеж них еще что-то вышло, — сказал Гренье.
Швед поколебался, отвечать или нет, но все же решился.
— Ее зовут Сесиль Мерсо, — буркнул он. — Ее можно найти на улице Миромениль, в доме вдовы Шамборан. Она там подрабатывает у скульптора Роже. Глину месит.
— Там рядом публичный дом мадам Лорен, — проговорил карлик. — Меня туда частенько приглашают погостить. Хотите составить мне компанию, Полин? Я вас приглашаю.
Терпеть такое было уже выше моих сил. Я вспыхнула и бросилась вон из пивной. Слезы застилали мне глаза.
— Полин, остановись, куда ты? — кричал мне вслед репортер, но я бежала, не разбирая дороги. — Осторожно! Берегись!
Вдруг передо мной вздыбились лошади, я обо что-то ударилась головой, и глаза заволокло чернотой.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор.
Очнулась я на узком неудобном диване в небольшой комнатке. Под потолком висели тенета паутины и плавали клубы дыма. Я закашлялась.
— Ах, прости, Полин, — бросился ко мне Доминик. — Я переволновался и закурил трубку. Сейчас загашу.
Он открыл окно, чтобы проветрить комнату, и выколотил трубку о подоконник.
— Вот не знала, что табачным дымом можно приводить в чувство обморочных барышень, — пошутила я. — Где я? Как я сюда попала?
— У меня дома. Я живу неподалеку и попросил помочь отнести тебя ко мне. Ничего страшного, тебя даже не задело, ты просто испугалась, когда лошади толкнули тебя.
— Лошади… — Я вспомнила, как выбежала из пивной, не разбирая дороги.
— Как ты себя чувствуешь? — Молодой человек присел на край дивана.
— Голова болит, — поморщилась я. — Где моя сумочка? Подай мне ее.
Незаметно для себя я стала называть его на «ты».
Доминик протянул мне сумочку, я достала из нее нюхательные соли и несколько раз сильно вдохнула. Не уверена, что они помогают, однако привычка пользоваться ими в критические моменты жизни успокаивала не менее самих солей.
— Мне нужно идти. — Я встала с кровати, но голова закружилась, и мне пришлось сесть снова.
— Не торопись. Может, ты голодна?
— Нет, спасибо, ничего не надо.
— Что ты собираешься делать?
— Соберу вещи и на вокзал. Мне здесь больше делать нечего.
— Но почему? Неужели этот художник так насолил тебе, что ты даже не хочешь видеть его? А вдруг все не так, как рассказывают эти болтуны?
— Я чувствую, что они говорили правду.
— Что тебя задело? То, что у него связь с натурщицей? Полно… С кем не бывает? Натурщицы — девушки легкомысленные. А ты — настоящая красавица. Не думаю, что у твоего художника что-то серьезное с Сесиль.
— Зато я отношусь ко всему более чем серьезно.
— Полин, останься, прошу тебя! Посмотришь Всемирную выставку и новое творение инженера Эйфеля — его башню. А сколько в Париже удивительных мест! Я буду твоим гидом.
— Спасибо, Доминик, но я не могу. Найди мне фиакр. Мне пора, я и так уже здесь задержалась.
Он вышел из комнаты. Я быстро привела себя в порядок, пригладила волосы, надела шляпку и принялась ждать. Плювинье отсутствовал недолго.
— Я поеду с тобой, — сказал он, усаживая меня в фиакр.
— Нет, — покачала я головой и приказала кучеру: — «Отель Сабин» на авеню Фрошо!
Увидев меня, хозяйка расплылась в улыбке.
— Мадам Авилова, как хорошо, что вы вовремя вернулись. Через четверть часа у нас обед. Переодевайтесь и спускайтесь в столовую.
Только я собралась отказаться, как в желудке засосало, и я подумала: почему бы не пообедать, раз пансион входит в стоимость комнаты? Зачем так спешить на вокзал, да еще голодной? Заодно, может быть, узнаю какие-нибудь новости.
— Хорошо, я буду вовремя, — кивнула я.
Переодевшись в первое же попавшееся платье, которое вытащила из саквояжа, я спустилась в столовую.
За столом сидели двое постояльцев: невзрачный мужчина лет пятидесяти, с глубокими залысинами, и дама неопределенного возраста, которая подошла бы под определение «роскошная брюнетка», если бы не увядшие формы, откровенно выставленные из низкого декольте. Мужчина был в узком сюртуке серого цвета, его шею украшало пышное шелковое кашне. При виде меня он отложил в сторону салфетку, встал и поклонился. Дама посмотрела на меня с интересом. Она сильно благоухала «Персидской сиренью» Брокара 19.
— Познакомьтесь, наша новая постоялица, — возвестила хозяйка. — Между прочим, она тоже из России. Будет жить в розовой комнате.
— Князь Кирилл Игоревич Засекин-Батайский, — представился мужчина. — Занимаю зеленую комнату. Милости прошу. Всегда рад соотечественнице, особенно такой молодой и очаровательной.
— Очень приятно, Аполлинария Лазаревна Авилова, вдова коллежского асессора, — ответила я и повернулась к даме.
— Матильда Ларок, рантьерша, — улыбнулась она, оценила быстрым взглядом мой слегка помятый туалет и приступила к супу.
— Ваше лицо мне кажется знакомым, — сказал князь. — Вы из Санкт-Петербурга?
Нет, из N-ска, — ответила я, — и в столице мне приходилось бывать нечасто. Последний раз — вместе с покойным мужем, пять лет назад.
— Вы приехали на выставку? — спросила мадам Ларок. — Весь мир стремится в Париж, чтобы увидеть чудеса, представленные на ней.
— У меня здесь дела, которые я, кажется, уже завершила, поэтому надолго в Париже не останусь. Может, еще день-два, и все.
— Что вы говорите?! Разве можно уехать, не посмотрев достопримечательности Парижа! — всплеснула руками хозяйка. Но по ее тону я поняла, что она просто не хотела терять постоялицу.
— С удовольствием покажу вам достопримечательности, — предложил Засекин-Батайский, а мадам Ларок покачала головой, по-видимому осуждая настойчивость князя. — И все же где-то я вас видел… Вспомнил! Это поразительно! В галерее Себастьяна Кервадека, что на площади Кальвэр, выставлен эскиз Энгра к его картине «Одалиска и рабыня». Так лицо девушки словно с вас списано, мадам Авилова. Я сразу подумал, что у его натурщицы были славянские корни.
— Спасибо, князь, что сравнили меня с натурщицей, — нахмурилась я, вспомнив Сесиль Мерсо. — А может быть, с одалиской или рабыней?
— Прошу прощения, — проговорил князь, — я не задумался о двусмысленности моего сравнения. Но должен сказать, что Энгр был великим художником. И его эскиз стоит пять тысяч франков!
— Смею напомнить, дорогой князь, — сказала Матильда Ларок, — что у Энгра одалиска лежит, отвернувшись от зрителя. Что касается ее лица, то видны только подбородок и часть носа. Я не в восторге от этой картины: живот висит, талии нет совсем. И почему за картины Энгра платят такие огромные деньги?! Только потому, что он нарисовал императора Наполеона Бонапарта сидящим на троне? Или баронессу Ротшильд? Естественность, конечно, вещь прекрасная, но разве стоит ею так увлекаться?
Мне понравились точные, хотя и безапелляционные суждения яркой парижанки, поэтому я заметила:
— Не каждому художнику, мадам Ларок, выпадает возможность написать портрет императора и оставить свое имя в истории. Что же касается портрета баронессы Ротшильд, то, судя по всему, Энгр брал за работу большие деньги, иначе толстосумы не заказывали бы у него картины. Они платили не столько за мастерство, сколько за репутацию.
— Работа, о которой я упомянул, мадам Ларок, — заволновался Засекин-Батайский, стараясь доказать свою правоту, — это эскиз, свидетельствующий о творческих поисках художника. Разве не интересно узнать, спустя восемьдесят пять лет, как художник искал модель, какие ракурсы выбирал…
— Этой натурщице следовало питаться одной овсянкой, как делают англичане, — доедая суп с корнишонами, ответила Матильда. — Противно смотреть, как некоторые дамы берут деньги за то, что выставляют напоказ изъяны фигуры.
Ее декольте кричало об обратном.
— Никогда еще не видел тощую лошадь, питающуюся овсом, — кольнул собеседницу князь.
— Ах, князь, оставьте ваши булавочные уколы. Право, они смешны.
— Мадам Ларок, вы меня, конечно, извините, но в вас говорят предрассудки. Еще поэт воспевал:
И одалиской Энгра, чресла
Дразняще выгнув, возлежит,
Назло застенчивости пресной
И тощей скромности во стыд.20
А вам лишь бы покритиковать. Рантьерша не удостоила его даже взглядом.
— И что люди находят в этих облупленных картинах? — Она повернулась ко мне. — То ли дело импрессионисты — яркие краски, необычные композиции. А Энгр и ему подобные уже давно заросли паутиной. Поверьте, я хорошо разбираюсь в современном искусстве!
— А что в нем разбираться? — фыркнул Засекин-Батайский и раскрыл «Фигаро». — Висит на стене — значит, картина, а если сможешь обойти кругом — статуя. А вам, мадам, в импрессионизме, по моему разумению, нравятся исключительно сами художники — они ведь помоложе будут покрытого паутиной Энгра. Я говорю это вам как ваш старинный друг — кто же, кроме друга, скажет вам правду?
— Господа, попробуйте фрикасе из утки. Сегодня оно удалось на славу. — Хозяйка попыталась притушить спор, а я с интересом наблюдала за пикировкой между князем и мадам Ларок — меня это развлекало. Мысль об отъезде заблудилась где-то далеко.
— Только глупцы платят по пять тысяч франков за то, что случайно не оказалось в мусорной корзине…
Договорить мадам Ларок помешали. В столовую вошел человек среднего роста, чуть полноватый, в форменном мундире.
— Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Прюдан Донзак, я полицейский уголовного сыска Сюртэ.
— О, Святая Дева! — воскликнула хозяйка. — Полиция в доме де Жаликуров! Какой позор!
— Что случилось? — почему-то занервничала Матильда Ларок. Засекин-Батайский аккуратно сложил газету и вынул из глаза монокль.
— Я ищу даму из России по фамилии Авилова.
— Так я и знала! — всплеснула руками хозяйка.
— Это я, — спокойно ответила я. — Чему обязана?
— Когда вы приехали в Париж, мадам Авилова?
— Сегодня утром, берлинским экспрессом.
— Верно, — кивнул он, — этот поезд прибывает каждый четверг в восемь утра. У вас сохранился билет?
— Да. Он в сумочке наверху.
— Я хотел бы на него взглянуть. Скажите, мадам, какова цель вашего приезда во Францию?
Я рассердилась и с гневом произнесла:
— По какому поводу вы меня допрашиваете, мсье инспектор? Я ничего не нарушила, я подданная Российской империи и буду отвечать на ваши вопросы только в присутствии российского консула. В чем меня обвиняют?
Услышав о консуле, Засекин-Батайский приосанился и сорвал с шеи салфетку. Вид у него был прекомичный.
— Боже упаси, мадам Авилова, французская полиция вас ни в чем не обвиняет, — сказал полицейский. — Мне просто надо выяснить цель вашего приезда в Париж. Поверьте, у меня есть серьезные причины для этого.
— Я приехала посмотреть парижские достопримечательности: башню инженера Эйфеля, Лувр, выставку, — ответила я.
Полицейский позволил себе усмехнуться:
— И поэтому вы начали с пивной «Ла Сури»? Она вас заинтересовала больше Эйфелевой башни или Лувра?
— Я искала одного человека. Пошла к нему домой, а консьержка сказала, что он часто посещает это заведение. Я и направилась туда.
— И как? Нашли?
— Нет, к сожалению. Его там не оказалось.
— Кого именно вы искали?
— Знакомого художника, Андрея Протасова. Он уехал в Париж, сначала часто посылал мне письма, а потом перестал. Я решила выяснить, что случилось.
— Как он выглядел? — спросил полицейский.
— Ростом чуть выше меня, волосы русые, до плеч, нос прямой, глаза серые, на шее слева родинка.
— Вам придется поехать со мной.
— Куда?
— На опознание в морг. Найден утопленник. Тело выловили из Сены. По приметам похож…
— Вам нужна помощь? — участливо спросил князь. — Только прикажите.
— Нет, благодарю вас, князь, — сказала я и, надев шляпку, вышла вслед за мсье Донзаком.
Морг на набережной де ла Рапе представлял собой мрачное серое здание с решетчатыми окнами. Непонятно было, для чего нужны эти решетки: чтобы мертвые не сбежали или живые не влезли?
Безуспешно отгоняя от себя дурные мысли, я молилась: только бы не он, только бы не он. Пусть я не увижу его больше, пусть он будет с этой натурщицей, лишь бы я не узнала там, куда меня везут, милого художника, шептавшего мне когда-то: «Полинушка, душа моя…»
Пожилой сторож, похожий на гамлетовского могильщика, не сказав ни слова, пропустил нас внутрь. Резкий сладковатый запах ударил в ноздри, и я в очередной раз полезла в сумочку за нюхательными солями.
— Прошу вас, мадам Авилова, сюда. Осторожно, не оступитесь.
Полуприкрыв глаза, я следовала за Донзаком, боясь смотреть по сторонам. На столах лежали тела, накрытые простынями, только желтые ступни с бирками на больших пальцах торчали наружу.
Мы зашли в небольшую комнату, где я увидела невысокого человека средних лет, склонившегося над цинковым столом. У него был высокий лоб мыслителя и аккуратная борода. В руках он держал большой деревянный циркуль.
— Здравствуйте, Альфонс, — приветствовал его мсье Донзак. — Я вижу, вы уже начали измерения. Как продвигается ваш новый проект?
— Спасибо, — кивнул тот, не прекращая работы. — С утра я говорил с префектом, и он позволил мне продолжать исследования. Я решил упорядочить действия полицейских фотографов. Преступников надо фотографировать анфас и в профиль, а не как взбредет в голову. Эти фотографы-любители до сих пор воображают, что занимаются художественной съемкой. Мне глубоко безразлично, как будут падать тени, главное — другое: подозреваемый на фотографии должен быть похож на себя в жизни. И точка! — Альфонс взмахнул циркулем и воткнул его в воздух, словно ставя эту пресловутую точку. — Кстати, вот очень интересный случай. Структура кожи на лице и теле разная по плотности. И еще я нашел шишку таланта.
— Альфонс, я привел даму на опознание. Познакомьтесь, мадам Авилова. Это мсье Бертильон, гений точных измерений. Именно он по своей картотеке нашел террориста Равашоля, подложившего бомбу на бульваре Сен-Жермен.
— Очень приятно, — промямлила я дрожащими губами.
— Прошу вас, подойдите и посмотрите на тело. — Полицейский подошел к столу и откинул простыню.
Горький комок подкатил к горлу. Я зажмурилась и отвернулась.
— Ну, полно, полно, успокойтесь, — похлопал меня по плечу полицейский. — Вы должны нам помочь. Соберитесь с силами и…
Да, это был Андрей… Бледное лицо, прямой нос, длинные волосы. А на шее страшная странгуляционная борозда. Но что это? Лицо покрывали глубокие старческие морщины. И руки были испещрены сеточкой. Ахнув, я закрыла рот рукой и отшатнулась.
— Да, это он. Андрей Протасов. Как он умер? Его убили?
Мсье Донзак кивнул:
— Его задушили, а потом сбросили в Сену. Тело быстро нашли, поэтому оно не обезображено. Пойдемте отсюда, мадам Авилова, вы нам очень помогли.
На ватных ногах я еле дошла до выхода. Донзак и Бертильон поддерживали меня с двух сторон.
На улице я смогла отдышаться. С Сены веяло прохладой.
— Когда я смогу забрать тело и похоронить его по православному обряду? — спросила я Донзака.
— У него здесь нет родственников?
— Ни единой души. Все родственники в России, а в Париж он приехал, чтобы учиться живописи. Я очень вас прошу, мсье Донзак.
— Хорошо, я распоряжусь, мадам Авилова. Я рад, что вы, как добрая христианка, хотите отдать последний долг погибшему.
— Он был хорошим художником? — участливо спросил Бертильон.
— Да, очень, у него был настоящий талант. — Я отвернулась, чтобы они не увидели моих слез.
— Вас проводить до дома? — спросил меня Донзак.
— Нет, спасибо, я доберусь сама. Остановите мне, пожалуйста, фиакр.
— Я рад, что мои измерения оправдались, — сказал Бертильон. — У настоящего художника должна быть такая шишка!
Уже сидя в фиакре, я спросила у полицейского, стоявшего возле экипажа:
— Мсье Донзак, скажите, каким образом вы нашли меня? Ведь я всего день в Париже. Неужели парижская полиция ведет слежку за всеми прибывающими в город?
— Нет, ну что вы, мадам, — возразил он. — У погибшего под ногтями обнаружились частицы масляной краски, это говорило о том, что он или маляр, или художник. Я решил, что художник, посетил несколько мест, где они обычно встречаются, и в «Ла Сури» мне сказали, что некая дама искала пропавшего художника по имени Андре. В пивной мне сообщили адрес Протасова, а еще сказали, что русскую даму сбил фиакр и репортер Доминик Плювинье отвел пострадавшую к себе домой. Ваш адрес я узнал уже от него. Я пошел по адресам, консьержка рассказала мне, что вы приходили к ней и спрашивали о художнике. Так что в отель «Сабин» я пришел во всеоружии.
— Отдаю должное оперативности французской полиции. Смею надеяться, что вы так же быстро найдете убийцу.
— Мы сделаем все, что в наших силах, мадам Авилова. Только одна просьба: не покидайте Париж, пока все не прояснится. До свидания.
В отель «Сабин» я не поехала — не было сил отвечать на вопросы хозяйки и постояльцев. Я приказала кучеру отвезти меня в православную церковь. Через полчаса я оказалась перед воротами белоснежного храма. Табличка возле каменных ворот гласила на двух языках: «Улица Дарю. Храм Александра Невского». Перекрестившись, я вошла под гулкие своды. В храме было темно и прохладно.
Круглолицая монашка в железных очках продавала свечи. Я купила одну и спросила по-русски, где мне найти священника.
— Сейчас позову отца Иоанна, — ответила она и скрылась за небольшой дверкой.
Я зажгла свечу и принялась молиться за упокой души Андрея.
Вскоре ко мне подошел пожилой священник, благообразный, с седой бородой, в черной рясе.
— Батюшка, благословите! — Я поцеловала ему руку. — С бедой я пришла к вам. Совет нужен.
— Рассказывайте, дочь моя, — ответил он. — Что с вами случилось? Все в руне Божьей.
— Умер мой знакомый, православный, Андрей Серапионович Протасов. Сюда приехал учиться живописи. У него никого в Париже нет. Только я его знаю, мы земляки, оба из N-ска.
— Где сейчас тело раба божьего Андрея?
— В полицейском морге на набережной де ла Рапе.
— Почему? — слегка нахмурился священник.
— Его нашли в Сене, задушенного. Полиция начала расследование, и мне обещали выдать тело, когда они закончат свою работу. Я только что была на опознании.
— Не забудьте взять в полиции разрешение на захоронение, иначе я не смогу ничего для вас сделать. Господь с вами. — Он вяло перекрестил меня.
— Спасибо, владыка. — Я еще раз поцеловала его руку, опустила лепту в кружку для пожертвований и вышла из храма.
В отель «Сабин» я добралась, когда уже совсем стемнело. Дверь мне открыла горничная. Поблагодарив ее, я поднялась в свою комнату, упала на кровать и впервые за сегодняшний день дала волю слезам.
Я не могла позволить себе рыдать в полный голос, а ведь мне хотелось именно этого: завыть, как выли древние плакальщицы, разодрать ногтями лицо и грудь, рвать на себе волосы и одежду. Потом броситься на голую землю и лежать, не в силах подняться. Но я не могла привлекать к себе внимание. Не хотела участия чужих людей, не хотела слышать их любопытствующие перешептывания за спиной и вкрадчивые вопросы. Поэтому я уткнулась лицом в подушку, и рыдания, которым я не давала вырваться наружу, душили меня. Мне так не хватало отца…
Потом я заснула, и мне снился Андрей. Мы гуляли у Александрийского пруда. Он смеялся, закидывал голову назад, а на горле его багровела страшная кровавая полоса. «Что это?» — спрашивала я, кружась в его объятьях. «Это след от гильотины, — отвечал он. — Мы же во Франции. Разве ты не знаешь, что здесь гильотинируют тех, кто любит не ровню себе». — «Но ведь революция — это свобода, равенство и братство!» — «Это для французов, а мы с тобой, Полинушка, не французы…» Потом мы легли на мягкую траву, он прижался ко мне губами, и я провалилась в небытие.
Даже во сне слезы заливали мне лицо. Проснувшись, я долго лежала, не в силах подняться. Впервые я так близко столкнулась с насильственной смертью любимого человека. Мой муж умер от болезней в зрелом возрасте. Все убийства, свидетельницей которых мне приходилось бывать, происходили с чужими мне людьми, случайными знакомыми. А тут совершенно другое: из меня словно вырвали кусок плоти, и рана нестерпимо болела. В ту ночь я поклялась найти убийцу. И если для достижения цели мне придется подвергать свою жизнь опасности, посещать злачные места, подвергаться насмешкам и выспрашивать бывших любовниц Андрея, я пойду на это, ибо он должен быть отомщен. На полицию у меня было мало надежды. Что ей бедный иностранец?
В дверь постучали. В комнату заглянула хозяйка в новой кружевной наколке, на этот раз кремового цвета.
— Мадам Авилова, спускайтесь на завтрак. Я принесла из пекарни свежие круассаны.
— Сейчас спущусь, только приведу себя в порядок.
Скрыть опухшие глаза не удалось, как я ни старалась. Сотрапезники посмотрели на меня с плохо скрываемым любопытством, но ни о чем не спрашивали. Матильда Ларок лениво щипала круассан, князь помешивал кофе со сливками. Заговорила хозяйка:
— Мадам Авилова, вы должны меня понять и не сердиться на меня: у меня респектабельный отель, и сюда никогда не заглядывала полиция.
— Не беспокойтесь, мадам де Жаликур, больше полицейских вы тут не увидите. Я намерена съехать, как только закончу свои дела. Это не займет много времени. Дней пять-шесть, не больше.
— Ну что вы! — Ее лицо помрачнело, скорее всего, это было вызвано опасением, что придется вернуть задаток. — Никто вас не заставляет уезжать, напротив. .. Живите сколько угодно.
Засекин-Батайский посмотрел на меня внимательно и решился спросить:
— Не могли бы вы рассказать нам, чем закончилась ваша поездка с комиссаром? Вас в чем-нибудь обвиняют?
— Напротив, инспектор был очень любезен. Мсье Донзак отвез меня в морг, и я опознала тело. Это был мой знакомый художник, земляк. Он жил тут совсем один, и теперь, кроме меня, его некому проводить в последний путь. Когда мне отдадут тело, я похороню его по православному обряду. Больше в Париже меня ничего не задержит. Выставку, башню и другие достопримечательности я осмотрю в следующий раз, сейчас у меня нет никакого желания развлекаться.
— Что с ним случилось? — спросила мадам Солаюк! — Это, наверное, очень печально ходить по подобным заведениям. Я бы никогда не смогла переступить порог морга.
— Он утонул в Сене, — коротко ответила я. О том, что Андрея задушили, я предпочла не говорить.
— Могу вам помочь с похоронами, — неожиданно сказала мадам Ларок. — Недалеко от Парижа есть небольшое муниципальное кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. На нем мало кого хоронят. У меня там знакомый чиновник, мсье Лами, он быстро все устроит. Скажете ему, что от меня, мы с ним старинные приятели. Правда, там совсем нет православных, и вашему художнику будет одиноко, но на кладбищах в пределах Парижа стараются не хоронить некатоликов, и вам не выправить всех бумаг за короткий срок, если у вас нет связей.
— Искренне вам признательна, — ответила я. — Мне сейчас любая помощь кстати, надо быстро управиться.
В дверь постучали, горничная отправилась открывать, и в прихожую вошли знакомый мне репортер Плювинье и миловидная девушка в синем фуляровом платье и соломенной шляпке, украшенной петушиным пером. Девушка смущенно потупилась и попыталась спрятаться за Доминика.
— Добрый день, мадемуазель, — поприветствовал горничную Плювинье. — Можем ли мы видеть мадам Авилову?
Горничная попросила их подождать, вошла в столовую и наклонилась к уху мадам Соланж.
Но я не стала дожидаться, когда закончится эта длинная церемония. Я вышла из-за стола и протянула репортеру руку.
— Доминик, — сказала я, — и вы, мадемуазель, пройдемте в мою комнату. Прошу извинить меня, господа.
В сопровождении гостей я поднялась к себе, предоставив хозяйке и постояльцам шептаться сколько им заблагорассудится.
— Присаживайтесь. — Гости сели на узкий диванчик. — Я вас слушаю.
— Полин, — начал Доминик, волнуясь, — это Сесиль Мерсо, подруга Андре.
— Вот как? — Мне удалось сдержать горечь в голосе. Девушка была свежа, лет восемнадцати, с короткой стрижкой, которую у нас в России посчитали бы неприличной. — Очень приятно, мадемуазель.
— Доминик сказал мне, что вы ищете Андре. Верно? Вы нашли его? Он в Париже? Зачем он уехал от меня? — Она сыпала вопросами, и в ее глазах отчаяние мешалось с надеждой. Мне было ее жаль.
Я отметила про себя это «от меня» и поняла, что не только я стала жертвой протасовской меланхолии. Бедная девушка в силу своей молодости и неопытности полной ложкой нахлебалась того, от чего я могла оградить себя в силу возраста и положения. Мне нужно было сообщить ей страшную правду.
— Он умер, мадемуазель Мерсо, — сказала я, глядя ей прямо в глаза. — Вернее, его убили.
— Как? Полин, ты не ошибаешься? — воскликнул репортер, а девушка ахнула и закрыла руками лицо.
— К сожалению, нет. Я была на опознании тела. Андре задушили, а потом сбросили в Сену. Хорошо, что его быстро нашли, иначе, по словам полицейского инспектора, тело так обезобразили бы рыбы, что невозможно было бы произвести опознание.
Сесиль зашлась в рыданиях и упала спутнику на колени. Доминик принялся ее успокаивать, нежно поглаживая по голове. И вдруг в моей душе поднялась волна гнева и боли: вчера я была одна, наедине со своими страданиями, и никто не пришел утешить меня, никто не облегчил их. Мне пришлось самой выкарабкиваться из бездны, в которую бросила меня смерть Андрея. А эту барышню сразу пожалели, приласкали, погладили по головке. Но я тут же остановила себя: во мне говорили ревность к девушке и жалость к себе, а вовсе не справедливость. Ведь Доминик и ко мне прекрасно отнесся, помог, когда меня сбила лошадь, отвел к себе, позаботился…
Вдруг девушка подняла голову.
— Я знаю, кто его убил! — воскликнула она. — Да-да, знаю, уверена! Этот иностранец, Улисс! Он завидовал таланту мсье Протасова и делал мне скабрезные намеки! Хотел, чтобы я бросила Андре и ушла к нему. Даже обвенчаться предлагал. Это он, он!
— Полно, полно, успокойтесь, Сесиль, — сказала я, а про себя подумала: «Если в ее словах есть хоть крупица правды, то Андрей мог бы остаться в живых, уйди эта гризетка к Улиссу».
Да что же это такое? Разве я зря молилась в храме Александра Невского? Мне никак не удается быть покорной судьбе и принимать ее удары с истинно христианским смирением.
— Нужно обязательно сообщить в полицию о твоих подозрениях, Сесиль, — произнес Плювинье.
— Я не пойду в полицию, — заупрямилась она.
— Почему?
— Меня уже сажали в тюрьму как малолетнюю воровку, мне полицейские не поверят, — ответила она и добавила с вызовом: — А куда было деваться? Я младшая в семье, мать, не покладая рук, работала поденной уборщицей и прачкой, сестра выросла и ушла от нас, и мне с двенадцати лет пришлось смотреть за чужими младенцами. Однажды я пошла в булочную, взяла три багета, а на третий денег не хватило, вот булочник и обвинил меня в краже.
— Неужели детей сажают за это в тюрьму? — удивилась я.
— Еще бы! Ведь этот тип служил в национальной гвардии, уважаемый человек в округе, ему орден Почетного легиона дали. А я кто? Прачкина дочка, побирушка. Когда меня выпустили из тюрьмы, я сказала себе: «Сесиль, делай что хочешь, вывернись наизнанку, но выберись из этого ужасного квартала возле церкви Нотр-Дам-де-Лорет…»
— Полин, я хочу пояснить тебе, — вмешался Плювинье. — Ты хоть и бывала прежде в Париже, но многое в нашей жизни тебе незнакомо. Слышала ли ты такое слово — «лоретка»?
— Как будто слышала. Это вроде кокотки? — спросила я.
— Примерно… Только кокотка будет рангом повыше. Кокоток скорее можно назвать содержанками или дамами полусвета, а лоретки — это обыкновенные проститутки самого низкого пошиба. Так их назвали потому, что лет семьдесят назад начали строить церковь Нотр-Дам-де-Лорет, о которой упомянула Сесиль, а вокруг — квартал доходных домов. Отцы города ничтоже сумняшеся решили назвать этот квартал попривлекательнее и дали ему имя Новые Афины. Им хотелось, чтобы на новом месте поселились писатели и художники, но не тут-то было. Богема не стремилась на задворки Парижа. Дома пустовали, владельцы терпели убытки, и тогда они решились на крайние меры: стали сдавать комнаты «нечистой» публике, а именно — падшим девицам. Но так как проститутки вовремя вносили плату, а работали за пределами Новых Афин — к примеру, на Елисейских полях или площади Клиши, — то какое дело было домовладельцам, падшие они или нет? С легкой руки одного из хозяев доходных домов, мсье Пюибаро, таких женщин стали называть лоретками — по названию церкви Нотр-Дам-де-Лорет. Теперь понятно, почему Сесиль так мечтала вырваться из этого злосчастного места?
— Понятно. Но откуда тебе все это известно, Доминик? — удивилась я.
— История Парижа — моя страсть. Я собираю книги, старинные карты, свидетельства очевидцев, старые письма. Мечтаю когда-нибудь написать книгу о неизвестном Париже. Если захочешь, я возьму тебя на прогулку и покажу такие уголки, которые не доступны ни одному туристу. Пойдешь?
— С удовольствием! — воскликнула я, но тут же пала духом, вспомнив об одной проблеме. — Как же мне достать документы Андрея? Мне нужен его российский паспорт, ведь надо доказать, что он православный, иначе батюшка в церкви откажется его отпевать.
— У меня есть ключ от комнаты мсье Протасова, — тихо всхлипнула Сесиль. — Я принесла его с собой.
— Так что же ты молчишь? Нужно немедленно пойти туда, пока полиция не опечатала комнату! Идите вниз, я вас догоню.
Мои гости спустились, а я быстро переоделась и через несколько минут присоединилась к ним.
Князь Засекин-Батайский сидел в саду с неизменной «Фигаро» и курил сигару, а хозяйка подстригала розовый куст.
— Мадам Авилова, — окликнула она меня, — что бы вы хотели на обед? Антрекот или бычий хвост в горшочке? Мне надо дать указание поварихе.
— На ваше усмотрение, мадам Соланж. Я не привередлива.
— Не забудьте, обед в семь. Постарайтесь не опаздывать, бычий хвост быстро стынет.
— Не волнуйтесь, я только схожу на улицу Турлак и тут же вернусь обратно. Это не займет много времени.
Мы быстро дошли до здания, где Андрей снимал мансарду, — Доминик провел нас дворами.
Все та же консьержка сидела при входе. Увидев нас, она отложила в сторону вязание, встала и уперла руки в бока.
— Мадемуазель, — грозно обратилась она к Сесиль. — Ваш друг уже которую ночь не ночует дома, а квартирную плату обещал внести еще на прошлой неделе. Что я скажу хозяину? Может, вы хотите, чтобы его выгнали на улицу? Мне стоит только сказать…
— Не беспокойтесь, — выступила я вперед и раскрыла сумочку. — Я заплачу. Сколько мсье Протасов должен за квартиру?
— Сто тридцать франков, мадам.
— Возьмите деньги. Мы поднимемся в мансарду.
— А если вы оттуда что-нибудь заберете? Мне же придется отвечать, зачем пустила…
— Сесиль, покажи ключ, — потребовал Плювинье. — Сами видите, мадам, у подруги мсье художника есть ключ от его комнаты. Значит, он ей доверяет.
— Но другая дама…
— Это его родственница из России. Она даже оказалась столь любезной, что оплатила долг вашего жильца. Или вы хотите вернуть ей деньги?
— Нет-нет. — Консьержка сделала шаг назад и спрятала деньги за спину. — Проходите, господа.
Когда Сесиль открыла дверь, я с замиранием сердца вошла внутрь. Просторная комната была залита светом из потолочных окон. Из обстановки здесь были лишь продавленная кровать, небольшой стол, заваленный тюбиками с красками, и шкафчик в углу. Все остальное пространство занимали картины. Натянутые на подрамники, они стояли, прислоненные к стене, или были сложены в стопки на полу. На мольберте был укреплен незаконченный холст — торс обнаженной натурщицы, все тело состояло из голубых углов, белых выпуклостей и впадин, густо заполненных киноварью. Слабо пахло льняным маслом и скипидаром.
— Кто это? — спросила я, указав на портрет.
— Это я позировала, — печально ответила девушка. — Но я тут совсем на себя не похожа. Словно утопленница.
Тут она поняла, что сказала бестактность, и испуганно умолкла.
— Что будем делать, Полин? — спросил Доминик. — У Андре не осталось душеприказчика, да и продать тут нечего — он только пачкал холсты. Это же ни на что не похоже!
Репортер взял один из холстов и повернул его к свету. На картине были изображены в хаотическом беспорядке разноцветные треугольники, пятна и кляксы, перечеркнутые ломаными линиями. Такими было большинство холстов, лишь изредка попадались незаконченные наброски и картины в классическом стиле: наяды, девушки с кувшинами, обитательницы гарема — все фальшивое, небрежное и без тени таланта. Даже я, с моими небольшими познаниями в живописи, понимала это.
Дверь открылась, и на пороге появился благообразный человек с маленькими усиками, в очках, котелке и с тросточкой. Черный костюм сильно обтягивал его живот, и я удивилась, как этому господину не жарко?
— Доброе утро, дамы и господа, приветствую вас! Вы позволите? — Незнакомец, не дожидаясь ответа, вошел в комнату и остановился около стола.
— А… Это вы, мсье Кервадек, — поморщился Доминик. — Собственной персоной. Стервятники спешат на падаль…
— Ну зачем вы так, Плювинье? — улыбнулся незваный гость. — Первая и вторая древнейшие профессии всегда опережают скромных граждан на пути к достатку. Кстати, я не представился незнакомой даме. Себастьян Кервадек, владелец художественной галереи «Дез Ар».
— О каких профессиях он говорит? — спросила меня Сесиль.
— Первая древнейшая профессия — это проституция, вторая — журналистика, — пояснила я.
— Это же надо! — воскликнула Сесиль. — Он меня проституткой обозвал! А вы меня снимали, почтенный мсье? Заплатили мне хоть сантим? Нет? Так чего же ты, старый сучок, себе позволяешь? Я натурщица, а не проститутка!
Решительно отодвинув Сесиль в сторону, я в упор посмотрела на Кервадека.
— Добрый день, мсье Кервадек. Меня зовут Полин Авилова, я вдова, — сказала я вежливо, желая сгладить выходку девушки. — Чему обязаны вашим визитом? Будьте любезны объясниться.
— Слухами мир полнится, мадам Авилова, и я пришел внести скромную лепту за упокой несчастного Андре. Я знал его немного и даже продал две его картины истинным ценителям современной живописи. Конечно, за весьма скромные деньги, но ведь молодой человек только начинал…
— Откуда вы узнали о его смерти? Кто вам сказал?
— Моя галерея находится на восточном склоне Монмартра. Художники заходят ко мне, как в свой дом. Поверьте, я всегда привечаю молодые таланты. Многим помогал, давал советы. Как только я узнал о страшной трагедии, тут же поспешил сюда узнать, не нужно ли чего, может, смогу чем-либо помочь.
— Кто именно вам сообщил? — настойчиво спросил Доминик. — Назовите имя.
— Ну, какое это имеет значение? — улыбнулся галерейщик. — Если вам так угодно, мсье Тигенштет зашел ко мне полтора часа назад и сказал, что Андре утонул.
— Чем именно вы хотите помочь, мсье Кервадек? — спросила я.
— Скажем, солидной суммой в триста или даже триста пятьдесят франков, — ответил он, рыская глазами по комнате. — Взамен я возьму оптом, не глядя, все картины. Зачем вам эти измазанные холсты? Только место занимают. А я заберу их из уважения к памяти покойного мсье Протасова. По-моему, выгодная сделка, ведь никто из вас не приходится покойному близким родственником или душеприказчиком.
Негодяй! — закричала Сесиль, порываясь расцарапать Кервадеку лицо. — Да здесь только холстов по меньшей мере на пятьсот франков! А ты предлагаешь триста пятьдесят?
— Мадемуазель Мерсо, — ответил, отступая, выжига, — не заставляйте меня отвечать вам цитатой из древнего анекдота: «Ведь когда-то эти холсты были чистыми». Вы сами понимаете, что картины вашего друга не стоят ни гроша, и упираетесь только из понятного мне чувства скорби и противоречия. Я предлагаю сделку. Вам сейчас нужны деньги на похороны. Я даю их вам. Более того, я полагаюсь на вашу порядочность, поскольку не знаю, как вы распорядитесь моими деньгами, ведь юридически вы никто — не жена мсье Протасова, не сестра. Даже не дальняя родственница. А вдруг вы сбежите и его похоронят в общественной могиле в Сен-Мерри на кладбище для бедных? Или еще хуже — в катакомбах? Что тогда? Плакали мои денежки?
— Подите прочь! — Сесиль набросилась на Кервадека и стала выталкивать его из комнаты. Доминик схватил ее за локти и с трудом оттащил от торговца.
— Благодарю вас, мсье Кервадек, — сказала я как можно холодней, — мы не нуждаемся в ваших услугах, поэтому отказываемся от столь великодушного предложения. У меня достаточно денег, чтобы устроить подобающие похороны. Мсье Протасов будет похоронен как полагается, по православному обряду. А с картинами мы разберемся без вашей помощи. Так как мсье Протасов не оставил завещания, в чем я пока не уверена, то все его имущество принадлежит прямым наследникам — родителям, поэтому мы не вправе распоряжаться его картинами. Они будут запакованы и отправлены в Россию.
— Не смею возражать, мадам Авилова. — Кервадек поклонился и направился к двери, но на пороге обернулся: — И все же если вдруг в ближайшие дни вы измените свое мнение, мадемуазель Мерсо и мсье Плювинье знают, где меня найти.
Он с достоинством надел котелок и взялся за ручку двери.
— Постойте! — окликнула я его. — Вы сказали, что продали две картины Андре. У вас остались еще?
— Приходите ко мне в галерею, поговорим. Счастливо оставаться!
Кервадек поклонился еще раз и вышел из мансарды.
— Ненавижу! — крикнула Сесиль и залилась слезами. — Это же паук! Ростовщик! Точно такой же, как тот тип, что засадил меня в тюрьму! Они даже похожи!
— Не надо, дорогая, — обнял ее за плечи Доминик. — Никакой он не паук, просто деловой человек, коммерсант, почуявший для себя выгодную сделку.
— Я помню, как он кривился, когда Андре носил ему картины, — всхлипывала Сесиль. — И если брал одну-две, то будто одолжение делал, а платил столько, что на краски едва хватало. И сейчас он строит из себя благодетеля! Чудовище!
— Надо будет зайти в эту галерею, — сказала я. — Не хочу оставлять ему картины Андрея. Выкуплю, чего бы мне это ни стоило.
— Вот увидишь, Полин, он сдерет с тебя втридорога! — предупредил репортер. — Так что будь благоразумна.
Документы я нашла в шкафчике, рядом с пыльной папкой, и облегченно вздохнула. Пока Сесиль и Доминик складывали картины и перевязывали их толстым шпагатом, я внимательно просмотрела бумаги и, убедившись, что все в порядке, положила паспорт Протасова в сумочку. Потом раскрыла выгоревшую папку. В ней лежали рисунки. Я не поверила своим глазам, увидев на них кривые улочки N-ска, пруд в Александровском парке, здание губернской управы. Интересно, Андрей рисовал это с натуры, или здесь, в Париже, его замучила ностальгия и он вспоминал родные места? Потом я обнаружила парижские виды, наброски лиц, карикатуры… У Андрея действительно был талант рисовальщика, но вместо того чтобы развивать его, он занимался какой-то мазней, по его словам — поисками нового направления в живописи.
— Пойдемте, господа, — сказала я. — Мне надо еще в уголовную полицию, на Кэ дез Орфевр, получить разрешение на захоронение. А эту папку я возьму с собой, тут русские рисунки Андре — посмотрю на досуге.
Сесиль и Доминик прислонили упакованные картины к стене, и мы вышли из студии, чтобы спустя некоторое время вернуться с грузчиками — надо было забрать вещи, а комнату сдать консьержке.
Придя к себе, я раскрыла папку и принялась внимательно рассматривать рисунки. Особого хронологического порядка не нашла, на рисунках отсутствовали даты, но четко выделялись «русский» и «парижский» периоды. Тогда я решила разложить рисунки по темам. Пейзажи N-ска и окрестностей легли в одну стопку, виды парижских улиц — в другую. В третью я сложила наброски людей. С портретов на меня смотрели парижане и парижанки: завсегдатаи кабачков, художники, лоретки, гамены и клошары.
У Андрея была точная рука. Несмотря на то, что ему не нравилось учиться в школе мэтра Кормона, он достиг больших успехов — это было видно невооруженным глазом. Андрей умел добиваться поразительного сходства. Лица выглядели карикатурными, черты выпячивались, но оставались вполне узнаваемыми. Я задержала внимание на портрете Тулуз-Лотрека, карлика, сидевшего на коленях гиганта, потом долго рассматривала мрачного худощавого Улисса, одетого во все черное, а эскизы головки прелестной Сесиль, не глядя, отложила в сторону, чтобы потом понять, что в ней так привлекло Андрея.
Рисунков с моими изображениями в папке не было. Может быть, Андрей не хотел меня вспоминать, а может, просто охладел и забыл, ведь последние полгода я не получала от него писем. Оставалось только сетовать на непостоянство мужчин.
Много набросков было сделано в пивной «Ла Сури» — я узнала ее по интерьеру. Я даже почувствовала особую атмосферу этого заведения, наполненную запахами табака, пива и копченых угрей. Жалко, что рисунки не были подписаны, и я не могла понять, кто на них изображен. Например, меня привлекла законченная жанровая сценка, изображавшая цыганку, гадающую офицеру с усиками, лицо у него было такое угрюмое, словно она предрекала ему пиковый интерес, пустые хлопоты и дорогу в казенный дом.
В дверь постучали.
— Мадам Авилова, вы позволите? — раздался тихий голос.
— Входите, прошу вас.
В комнату вошел князь Засекин-Батайский и поклонился.
— Кирилл Игоревич, родом из Пензы, — сказал он.
— Очень приятно, — ответила я. — Аполлинария Лазаревна, проживаю в N-ске. Присаживайтесь, Кирилл Игоревич.
В моих глазах визитер увидел невысказанный вопрос, поэтому поспешил объяснить:
— Видите ли, Аполлинария Лазаревна, я чего, собственно говоря, заглянул… Прошу простить мою назойливость, но не каждый день сюда в отель приезжают мои соотечественники, и уж совсем редко с ними что-либо случается. Если я правильно понял, вас постигло несчастье?
— Да, — кивнула я. — Погиб мой земляк, утонул в Сене. Никого у него здесь нет, придется мне взять на себя тягостные обязанности по преданию тела земле. Я уже осведомлялась в храме Александра Невского.
— Можете всецело рассчитывать на меня, Аполлинария Лазаревна. Чем могу, как говорится…
— Спасибо, Кирилл Игоревич. Вы давно живете в Париже?
— Около четверти века. И ни разу не покидал его. Париж притягивает настолько, что о других местах даже не помышляю.
— Вполне с вами согласна, но удивлена: неужели за столько лет вы не соскучились по родине?
— Для кого родина, а для кого злая мачеха, — вздохнул Засекин-Батайский. — Не мог я вернуться, и есть у меня для этого веские причины: боялся, что там у меня будет одна дорога — в острог.
— Неужели?
— Представьте себе… Вы слишком молоды, Полина, позвольте мне вас так называть, по-стариковски, и, наверное, вам неизвестны такие фамилии, как Ишутин, Каракозов?
— Напротив, — ответила я. — Один из них, если мне не изменяет память, покушался на государя-императора лет тридцать назад. Но более этого не знаю ничего. Я далека от политики.
У меня возникло было смутное чувство, что я слышала эту фамилию не только в связи с покушением, но так и не смогла вспомнить подробности.
— Sic transit gloria mundi 21, — усмехнулся князь. — Но хоть Чернышевский-то вам знаком?
— Конечно! Я читала его изумительный роман «Что делать?», и Вера Павловна — моя любимая героиня! Она — настоящая женщина!
Тут я запнулась, вспомнив, что роман запрещен цензурой. Я читала его в женевском издании, мне дали только на одну ночь. Вероятно, не следовало говорить об этой книге с незнакомым человеком — вдруг он агент, живущий за границей, который поставлен ловить вот таких бойких на язык дамочек? — но я решила довериться своей интуиции и продолжила:
— Помните, как Жюли сказала Верочке: «Умри, но не давай поцелуя без любви!» Ах, я просто плакала от умиления!
— Прелестно! А еще вот это помните? — И Засекин-Батайский продекламировал: — «Ты видела в зале, как горят щеки, как блистают глаза; ты видела, они уходили, они приходили; они уходили — это я увлекала их, здесь комната каждого и каждой — мой приют, в них мои тайны ненарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие звук, там тишина, там тайна; они возвращались — это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую я…» И эти прекрасные строки запрещены цензурой, а их автор — государственный преступник. Кстати, в моей небольшой библиотеке имеется томик, если хотите, могу одолжить. Перечитаете на досуге. Этот роман — редкость в России.
— Спасибо, мне пока не до чтения — хлопот много, да и собираться надо. Скажите, а вы были знакомы с Чернышевским?
— К сожалению, нет. Когда я приехал из Пензы учиться в Санкт-Петербург, писатель уже был осужден и приговорен к каторге. А ведь он был властителем дум!
— Кирилл Игоревич, вы так и не рассказали, почему вы не посещали Россию все эти годы. Были какие-то особые причины?
Страх, дорогая Полина, страх… Ведь я по своей глупости и несмышлености стал членом общества «Ад» — весьма красноречивое название. Идея свободы вскружила мне голову. В кружке, которым руководил мой земляк Ишутин, разрабатывался план убийства царя. Воображали себя, по меньшей мере, декабристами: «Читал свои Ноэли Пушкин, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал…» А потом Каракозов стрелял в Александра Второго, и вот тогда я испугался. С меня слетел весь романтический флер свободомыслия. Общество было разгромлено, Ишутин арестован, Каракозов сдался сам. Кстати, они состояли в родстве — кузены. А я бежал за границу, хотя никакого обвинения мне предъявлено не было. Вот и продолжаю жить в «аду»…
— Но, может быть, напрасно? Вины за вами нет, все уже позабыто за сроком давности. Хотите, я спрошу у отца — он адвокат и присяжный поверенный в N-ске, — что вам может грозить, если вы вернетесь?
— А куда я вернусь? На пепелище? Именьице родовое и тогда не славилось достатком, крепостные после реформы разбежались, а нынче… — Он махнул рукой. — Нет уж, лучше здесь проживать деньги покойницы жены, урожденной де Фонтанен. В революцию все ее родственники сложили головы на гильотине, а ей, кроме небольшой ренты, ничего не осталось. Живу тихо, спокойно, почти нигде не бываю, читаю «Фигаро» и дышу воздухом. Одна отрада в жизни — каждое воскресенье хожу к заутрене и молюсь за всех, кого знал…
Засекин-Батайский вздохнул и, посмотрев на папку, взял один рисунок.
— Какой оригинальный! Чей он, Полина?
— Моего покойного друга, — вздохнула я.
— Он был талантлив — это сразу бросается в глаза.
— Да, — кивнула я, и тут мне в голову пришла одна идея: — Князь, посмотрите другие рисунки. Может, узнаете на них кого-нибудь.
В числе прочих я протянула ему и понравившийся мне рисунок с офицером и цыганкой. Именно на нем князь остановил свое внимание.
— По случайности, мужчина мне знаком. Его зовут Альфред Дрейфус. Капитан Генерального штаба, кажется, иудейского вероисповедания, но в остальном — настоящий француз. Дрейфус из хорошей семьи, однако ничем себя не проявил. В общем, блеклая личность, ревностный служака, живет по уставу. Такие не способны оставить след даже в истории собственной семьи.
— Откуда вам известны такие подробности? — удивилась я.
— Встречались как-то в салоне маркизы де Мир-бель. Беседовали. Я чуть не умер от скуки — ни одной оригинальной мысли от мсье Дрейфуса так и не услышал.
— А цыганку вы знаете?
— Это Лола. Бродит по монмартрским кабачкам, предсказывает клиентам всякие ужасы. Чтобы от нее отвязаться, ей дают несколько монет, тем и пробавляется. — Засекин-Батайский вопросительно на меня посмотрел. — Вы надеетесь найти ответ в этих рисунках?
— Не знаю, но хотела бы порасспросить людей, изображенных на них. Ведь разговаривал же с ними Протасов, когда рисовал портреты. Может быть, они что-то знают?
— Не уверен, — задумчиво проговорил князь, рассматривая рисунки, и вдруг воскликнул: — Не может быть!
— Что? — встрепенулась я.
— Вот тут… — Он показал мне эскиз, сделанный Андреем в пивной. Иные фигуры были прорисованы до конца, у других только проглядывался торс. — Подождите меня, Полина, я сейчас вернусь.
Князь вышел, оставив меня в полном недоумении. Через несколько минут он вернулся и протянул «Фигаро». Я развернула газету.
— Обратите внимание на портрет под этим заголовком, — сказал князь.
На рисунке был изображен худой старик с пышными бакенбардами. Вид у него был важный и надменный. Круглые, навыкате глаза смотрели прямо перед собой. Стоячий воротник сорочки стягивал галстук-бабочка. Под портретом я прочитала: «Николай Гире, министр иностранных дел Российской империи».
— И что? — не поняла я. — Зачем вы показываете мне портрет нашего министра? Я слышала, что он прибыл в Париж с важной миссией.
— Сравните газету с рисунком Протасова, — предложил Засекин-Батайский.
Взглянув на рисунок, я ахнула. В пивной сидел российский министр и, наклонившись над столом, что-то говорил своему собеседнику, изображенному со спины. Кроме того, что на нем пальто с клетчатой пелериной, о незнакомце сказать было нечего.
— Что делал министр в пивной? — удивилась я. — Ему там совсем не место!
— Загадка… — задумчиво произнес Засекин-Батайский. — Кажется, ваш приятель зарисовал то, на что никоим образом не следовало обращать внимание. Опасная неосторожность. Вам так не кажется?
— Вы полагаете, князь, что его убили по политическим мотивам? — ахнула я.
— Все может быть… Но не исключаю и простого совпадения.
— Кирилл Игоревич, — попросила я, — вы можете оставить мне газету? Я вам ее скоро верну.
— Конечно, дорогая Аполлинария Лазаревна. О чем речь?
Князь поцеловал мне руку и вышел из комнаты.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Легкое поведение — это наименьший
недостаток женщин, известных
своим легким поведением.
Статья называлась «Сердечное согласие». В ней в восторженных тонах говорилось об историческом, эпохальном для двух стран, России и Франции, соглашении жить в мире и дружбе. Впервые со времен императора Наполеона Первого Франция не враг, а сердечный друг России, и они вместе будут сражаться против Германии, Италии и Австро-Венгрии, если те вдруг решат напасть на одну из дружественных сторон. Россия и Франция признают союзнические обязательства по отношению друг к другу, обязуются поддерживать культурные, экономические и политические предложения другой стороны, если они не идут во вред собственным интересам, и прочая, и прочая…
Далее в превосходной степени говорилось о министрах иностранных дел двух стран, Гирсе и Рибо, отмечались их ум, прозорливость и преданность интересам высокой политики. Панегирик завершался аккордом: вот теперь заживем! Мне стало скучно — статья выглядела явно отцензурированной и отражала официальную точку зрения правительства Франции. Мне в ней могли пригодиться только даты, не более того. Ответа на вопрос: зачем министр иностранных дел великой державы встречался в монмартрской пивной с господином в клетчатой пелерине? — она не давала.
Я просмотрела другие полосы. Большая статья под названием «Экспансия германской политики во Франции» предупреждала, что в стране действуют немецкие шпионы и всем гражданам, истинным патриотам, следует быть начеку и непременно сообщать властям о каждом подозрительном инциденте. Несколько колонок были посвящены светским сплетням, новостям и погоде. С разочарованием я отложила газету в сторону. Полчаса были потрачены зря.
Надо было идти в полицию испрашивать разрешение на захоронение, потом к Сесиль за ключом (я отругала себя, что не взяла у нее ключ сразу), затем нужно было заказать грузчиков и перевезти картины Андрея в отель «Сабин». Далее с разрешением из полиции идти в храм Александра Невского договариваться о заупокойной службе, не забыть к гробовщику, et cetera, et cetera… У меня даже не оставалось времени поразмышлять, как я буду искать убийцу.
Мой путь на Кэ дез Орфевр — набережную Злато-кузнецов — лежал мимо той самой пивной, около которой я чуть не попала под фиакр. Проходя мимо злосчастного места, я невольно ускорила шаг, повернула за угол и столкнулась с тощим шведом Улиссом. «Этого мне только не хватало!» — подумала я, но, увидев, как он невозмутимо кивнул и направился дальше, решила его остановить. Заявление Сесиль о том, что он убийца, придало мне решимости.
— Постойте! — окликнула я его.
— Простите? — обернулся он.
— Вы меня помните? Я приходила в пивную «Ла Сури» и расспрашивала о русском рисовальщике. Вы там сидели в компании художников.
— А… Дама в шляпке с фиалками. Как же, помню. Вас лошадь не зашибла?
— Обошлось.
— Рад за вас, — равнодушно ответил он.
Я решила пойти напролом и задала вопрос, старательно пряча противную дрожь в голосе:
— Скажите, откуда вы узнали о смерти Андре?
— Видел собственными глазами, — просто ответил он.
— Как?! — выдохнула я.
Улисс посмотрел по сторонам, ища тень. Солнце слепило ему глаза, отчего он недовольно морщился.
— Кажется, вас зовут Полин? — спросил он. — Давайте отойдем в сторону. Куда вы сейчас направляетесь?
— В полицию. За разрешением на захоронение.
— Я провожу вас. Вы позволите?
— Сделайте одолжение.
Улисс был высоким сорокалетним мужчиной, худощавым и несколько изможденным. У меня сложилось впечатление, что он страдает разлитием желчи: его кожа имела нездоровый желтоватый оттенок, а под глазами были темные круги. Кроме того, он выглядел закоренелым курильщиком — на длинных гибких пальцах виднелись несмываемые пятна от крепкого табака. У него были вьющиеся волосы цвета пожухлой соломы и сильно выдающийся кадык. Пахло от него пивом, табаком и масляными красками.
Мы молча шли по бульвару Рошешуар. Рядом с Улиссом я чувствовала себя неуютно. Кто его знает, может, и в самом деле я иду рядом с убийцей и неизвестно, что у него в голове. Когда мы прошли Пляс Пигаль, я набралась храбрости и переспросила:
— Мсье Улисс, как вы узнали, что Андре погиб?
Он рассмеялся сухим дробным смехом.
— Улиссом меня зовут друзья. Смешно слышать это имя от тебя, да еще с приставкой «мсье». — Он легко перешел со мной на «ты». — Полин, хоть я намного старше тебя и зовут меня скучно и совсем не по-французски — Андерс Тигенштет, для тебя я Улисс, без «мсье», договорились? — Когда я кивнула, он продолжил: — В то утро я отправился писать этюды на противоположный берег Сены. Выше по течению реки рыбаки вытянули что-то сетями и стали кричать. Я не обращал на них внимания и продолжал работать — небо затягивалось облаками, и мне хотелось успеть, пока солнце. Но когда прибыли полицейские из ближайшей префектуры и начали о чем-то громко переговариваться с рыбаками, мне стало любопытно, и я подошел поближе. Оказывается, рыбаки вытащили утопленника. Один из полицейских предложил мне взглянуть на него — вдруг опознаю? Вглядевшись в лицо трупа, я вдруг понял, что действительно знаю утопленника. Это был Андре, русский художник. Наверное, я чем-то выдал себя, потому что полицейский тут же спросил, знаком ли мне утонувший человек. Не знаю почему, но я отрицательно покачал головой. Испугался, наверное, смалодушничал. А потом собрал кисти, сложил мольберт и отправился обратно. Все равно настроения писать уже не было. Ноги сами принесли меня на Монмартр. Перед тем как зайти в пивную, я заглянул в галерею неподалеку — я частенько туда захаживаю.
— К мсье Кервадеку в галерею «Дез Ар»? И там ты рассказал ему о смерти Андре, верно?
— Да, — удивился Улисс, — а откуда тебе известно? Ты с ним разговаривала?
— Пришлось, — вздохнула я. — Он заявился в мансарду Андре и предложил триста пятьдесят франков за все его картины. А вел себя так, будто оказывает нам великое благодеяние.
— Узнаю папашу Себастьяна, — усмехнулся швед. — Уж он-то своего не упустит.
— Но мы не продали Кервадеку картины. Сесиль выгнала его, сказала, что только холстов в комнате на пятьсот франков.
— А старый лис возразил, что раньше холсты были чистыми, — догадался Улисс.
— Верно! Откуда ты знаешь? — Теперь настала моя очередь удивляться.
— Он всем говорит одно и то же. Это ведь бородатый анекдот. Кстати, вот и полицейское управление. Если хочешь, я подожду тебя в кафе напротив. Удачи тебе!
— Хорошо, я постараюсь закончить дела как можно скорее.
Но мне не повезло. Вместо знакомого полицейского Донзака меня принял какой-то надутый индюк в синем форменном кепи. Он долго выяснял, кем я прихожусь Андрею, проверял паспорт и наконец заявил, что без обыска на квартире убитого полиция не может выдать тело. А если я хочу помочь полиции, то обязана предоставить ключи от квартиры покойного, чтобы им не пришлось ломать дверь.
— Я хочу видеть мсье Донзака, — сказала я.
— Он скоро будет, — невозмутимо ответил индюк.
Расстроенная, я вышла на Кэ дез Орфевр и увидела Улисса, сидящего под полосатым тентом. Он пил пиво и выглядел довольным.
— Не знаю, что и делать… — Я опустилась в плетеное кресло рядом с ним. — Полная капитуляция. Ватерлоо…
— Могу ли я чем-нибудь помочь? Гарсон, кофе мадам! — Улисс щелкнул пальцами, и передо мной появилась чашечка ароматного напитка.
Пригубив кофе, я рассказала Улиссу о своих проблемах. Как быть? Не могу же я разорваться! Нужно пойти к Сесиль, взять у нее ключи и не пропустить Донзака.
— Полин, не волнуйся, я сам схожу к натурщице и принесу ключи. Я знаю, где она живет.
— Премного обяжешь, Улисс! — обрадовалась я. — Возьми фиакр, так быстрее!
— Жди меня тут, я скоро вернусь! — крикнул он из окна экипажа. — Никуда не уходи!
Три часа я мерила булыжную мостовую, шагая до конца квартала и обратно, но ни Улисс, ни мсье Донзак не появились. Отчаявшись, я пошла домой, чтобы отдохнуть и переодеться. Я решила сходить вечером к Сесиль, забрать у нее ключ, а утром снова пойти в полицейское управление.
Я сильно рассердилась на Улисса. Как некрасиво он со мной поступил: пообещал помочь и бросил меня тут одну, под палящим солнцем!
Мало мне было неприятностей в течение дня, так еще при входе в отель «Сабин» меня встретила рассерженная хозяйка:
— Я не позволю, мадам Авилова! Такого позора еще не было в моем доме! Потрудитесь объясниться! С вашим поселением в моем отеле все перевернулось вверх дном! Боже, какой позор перед соседями!
— Что случилось? — с досадой спросила я, снимая шляпку. — Я опять опоздала на обед? В конце концов, вам за него заплачено. Позвольте мне пройти в мою комнату, я очень устала и хочу лечь.
— Нет уж, — загородила мне дорогу мадам де Жаликур, — сначала пройдите в гостиную. Там вас ждет полиция! И уже не один час!
Не ожидая ничего хорошего от этой встречи, я вздохнула и пошла в гостиную. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что за столом сидит тот, кого я тщетно прождала около входа в здание на Кэ дез Орфевр, — мсье Прюдан Донзак.
Он поднялся мне навстречу.
— Присаживайтесь, мадам Авилова. Я вас тут уже третий час дожидаюсь.
— А я сегодня ждала вас почти столько же рядом с полицейским управлением, но тщетно. Вот ведь как получается: я жду вас там, а вы меня — здесь.
— Кто может подтвердить ваши слова?
— Я разговаривала в управлении с одним полицейским… таким полнокровным… в синем кепи. Он сказал, что вы скоро будете. Поэтому я пошла в кафе, и там Улисс угостил меня кофе. О, простите, не Улисс, а мсье Тигенштет, художник.
— И что было потом?
— Мне нужно было сходить за ключами от комнаты мсье Протасова к Сесиль, натурщице. На этом настаивал тот полицейский. Он сказал, что если я принесу ключи, то полиции не придется ломать дверь, чтобы провести обыск.
— Разумно, — кивнул инспектор. — Что было дальше?
— Больше всего я боялась разминуться с вами, поэтому мсье Тигенштет оказался столь любезен, что согласился поехать к натурщице Сесиль Мерсо и привезти от нее ключи. Он взял фиакр и уехал, а я осталась в кафе дожидаться вас, мсье Донзак.
— И все три часа вы сидели в кафе?
— Нет, я прогуливалась по улице, стараясь не упускать из виду вход в полицейское управление. Я очень ждала вас, мсье Донзак. Скажите же наконец, я могу похоронить покойного по православному обряду?
— Боюсь, что придется повременить, мадам Авилова. Дело в том, что сегодня, несколько часов назад, в своей квартире найдена убитой натурщица Сесиль Мерсо. По подозрению в убийстве на месте преступления задержан шведский подданный Лидере Тигенштет.
За дверью сдавленно ахнули. Конечно же, хозяйка подслушивала.
— Как это случилось? — спросила я, пораженная этим известием.
— Соседка заглянула к мадемуазель Мерсо и увидела Тигенштета, склонившегося над лежащей девушкой. Ей это показалось подозрительным, и она спросила, что он делает в комнате и почему Сесиль лежит на полу. Андерс Тигенштет тут же начал оправдываться, что это не он, он только зашел и увидел, что Сесиль мертва, но соседка принялась кричать. На ее крик прибежали консьерж и сосед с нижнего этажа. Они скрутили Тигенштета и вызвали полицию. Сейчас подозреваемый у мэтра Бертильона, который делает измерения для картотеки.
— Он не… — Я хотела сказать: «Он не виноват», — но, вспомнив слова Сесиль о том, что Улисс ревновал ее к Андрею, прикусила язык. А вдруг все, что говорила натурщица, — правда? И рядом со мной находился волк в овечьей шкуре? Хороша же я была, когда посылала его к бедной девушке! Если это Улисс убил натурщицу, то косвенная вина лежит и на мне, потому что Бог на небе все видит.
— Что вы хотели сказать, мадам Авилова? — Внимательный полицейский заметил, что я не закончила фразу.
— Н-нет, ничего, все в порядке, — запаниковала я. Мне не хотелось делиться с Донзаком своими подозрениями. Если Улисс виновен, то полиции осталось только собрать улики. А если невиновен, то нет смысла посвящать Донзака в сплетни.
Однако инспектор придерживался иного мнения.
— Интересно, что может быть в порядке? — сказал мсье Донзак, глядя мне прямо в глаза. — Убит ваш соотечественник, убита его возлюбленная, а вы говорите, что все в порядке? Вы что-то скрываете, мадам. Я слышал, что русские намного ревнивее французов, и то, что для француза всего лишь легкая интрижка, для русского — повод к смертельной вражде. На основании этого я могу предположить, что вы причастны к обоим убийствам. Разве у вас не было повода покарать неверного возлюбленного и его пассию? Я испугалась:
— Уверяю вас, мсье Донзак, вы ошибаетесь! Я действительно любила Андрея, но я не знала, что у него есть девушка. Его смерть стала для меня настоящим потрясением. Я не в силах понять, кому мог помешать бедный художник.
— Простите, мадам, но я вам не верю. Вы что-то скрываете от меня. Как я могу выдать вам разрешение на захоронение?
И тогда я рассказала Донзаку все: и о ревности Улисса, и о том, что он видел тело несчастного Андрея, выловленное из Сены. Но все же меня не покидала мысль, что я своими руками рою Улиссу могилу. В его виновности я сильно сомневалась, несмотря на то, что швед произвел на меня не самое приятное впечатление.
Вдруг меня осенило.
— Надо провести обыск в квартире мадемуазель Мерсо! Прикажите вашим полицейским, мсье Донзак!
— Интересная мысль. И что вы надеетесь там найти?
— Ключ от мансарды Протасова. Ведь именно за ним, и по моей просьбе, мсье Тигенштет отправился к бедняжке Сесиль.
— Как, однако, вы его выгораживаете, мадам Авилова. К чему бы это?
— Из-за меня пострадал невинный, и мне это не нравится, — ответила я, решив все-таки прекратить колебания и встать на сторону Улисса.
— Поехали, — поднялся с места инспектор. — Посмотрим, где ключ. Вы сможете его узнать?
— Постараюсь, — кивнула я. — Он большой, массивный, с тремя бороздками.
Мы вышли из гостиной, чуть не прищемив дверью подслушивавшую мадам де Жаликур. Она только жалобно пискнула нам вслед.
По дороге, уже сидя в полицейском экипаже, я спросила Донзака:
— Скажите, мсье инспектор, почему вы не обратили внимания на владельца галереи Себастьяна Кервадека? Почему под подозрением только Тигенштет? Только потому, что он иностранный подданный? Кервадек тоже знал о смерти Андре. И даже пришел в его мансарду, чтобы купить по дешевке все картины. Сесиль выгнала его из дома. Чем не повод для убийства? Расспросите его хорошенько, вдруг расскажет что-нибудь интересное.
— Хорошо, что вы мне это сказали, Полин. Я обязательно проверю алиби Кервадека, и, если нужно, его задержат для выяснения обстоятельств.
— Как убили девушку? — тихо спросила я, не надеясь услышать ответ.
— Точно так же, как и художника, — ее задушили, — помрачнев, сообщил полицейский.
Натурщица Сесиль снимала комнату в доходном доме на углу улиц Корто и Соль-Брюан, на окраине бедного квартала, за которым начинались уже настоящие трущобы. Около дома, где было совершено преступление, собралась толпа зевак.
У входа стоял молодой полицейский. Увидев нас, он вытянулся во фрунт.
— Жан, посторонние не заходили? — спросил его инспектор.
— Нет, никого не пускаю.
— Где тело?
— Уже увезли, инспектор.
— Свидетели есть?
Да, вот эта соседка. — Полицейский подвел к Донзаку полную женщину лет пятидесяти в шляпке с вишнями и петинетовой 22 шали. Оказавшись в центре внимания, она не преминула принарядиться. — Ее фамилия Кабирош. Она живет в соседнем доме.
— Расскажите, мадам Кабирош, что вы видели. Только подробно, ничего не упуская.
Женщина приосанилась и, немного волнуясь, стала рассказывать:
— Я живу на четвертом этаже — вон там. — Свидетельница показала рукой куда-то вверх. — Сегодня утром я выглянула в окно, чтобы посмотреть, какая погода. Я собиралась затеять стирку, а дождик бы все испортил.
— Утром — это когда? — перебил ее Донзак. — В шесть, семь часов?
— Рассвет только-только занимался. Извините, мсье полицейский комиссар, у меня часов нет, они мне без надобности.
— Хорошо, — кивнул Донзак, — продолжайте.
— Вдруг вижу — из дома напротив выходит человек в клетчатом пальто и черной шляпе.
— Опишите его лицо, мадам Кабирош. Как он выглядел?
— Не знаю, — растерялась она. — Я же сверху смотрела и видела только его спину. Потом он завернул за угол и пропал.
— Он торопился?
— Нет. Шел себе спокойно.
— Может, это был кто-нибудь из соседей?
— Нет, ну что вы, мсье полицейский комиссар, я всех жильцов знаю, нет у них пальто в клетку. Это пришлый какой-то был.
— То есть ни бороды с усами, ни трости, ни зонта вы не заметили? Может быть, он прихрамывал?
— Нет, — виновато ответила мадам Кабирош, теребя шаль. — Я на небо смотрела, облака разглядывала — будет дождь или нет.
— Что ж, и на том спасибо. — Донзак повернулся ко мне. — Пойдемте со мной в дом, Полин.
Мы поднялись по скрипучей лестнице.
Узкое окошко, выходящее во двор-колодец, освещало мутным светом крохотную комнатушку, длинную, как пенал. В углу стоял ореховый комод, заставленный немудреными девичьими безделушками: гипсовыми купидонами, вазочками с матерчатыми цветами, картинками на картонных подставках. Когда-то яркие штофные обои поблекли и по углам отставали от стен. На разобранной кровати еще оставалась вмятина от тела. Пахло кислым.
На узком подоконнике я увидела гипсовые и глиняные статуэтки, изображающие сплетенных людей в различных позах. Пропорции были нарушены, и от этого фигуры приобрели некую притягательность для взора. Одна из статуэток представляла собой женщину с роскошными бедрами, меж ног которой примостился тщедушный мужчина.
— Интересно, чья это работа? — спросила я.
— Сейчас я зажгу лампу, прочитаете, на подставке должна быть надпись, — сказал инспектор.
Зашипел газовый рожок, и в его мерцающем свете комната стала еще непригляднее. Надписи на статуэтке я не нашла.
— Ищите ключ, мадам Авилова, вы же знаете, как он выглядит.
В бесплодных поисках прошло около часа. Устав, я опустилась на шаткий стул возле кровати и вздохнула:
— Нет ключа. Что делать?
Я немедленно пошлю агентов взломать дверь и провести обыск у Протасова, — сказал Донзак — Уверен, эти две смерти связаны между собой. И разгадка может быть в квартире художника. Заодно потрясем шведа. Он что-то недоговаривает! Пойдемте отсюда, я отвезу вас на набережную Орфевр за разрешением на похороны вашего друга.
Однако на улице инспектор, о чем-то поговорив с Жаном, вдруг вскочил на подножку казенного экипажа и крикнул мне:
— Простите, мадам Авилова, я очень спешу! Срочное дело, я не могу вас взять с собой, простите великодушно. Приходите в управление завтра, я выдам разрешение!
А я осталась возле дома, где убили натурщицу Сесиль.
***
Мне захотелось поскорей уйти из этого отвратительного места. Я недалеко отошла от дома, когда меня нагнал вихрастый гаврош с прорехой на штанах.
— Мадам, не ходите туда. Эта дорога на Монмартрское кладбище, а вам нужно в другую сторону. За десять франков я провожу вас куда надо.
Мне пришла в голову мысль:
— Послушай, хочешь двадцать франков?
— А что я должен буду сделать за эти деньги? — спросил мальчишка.
— Рассказать мне немного о Сесиль Мерсо. Ты же обо всех все знаешь.
Мальчишка шмыгнул носом и ответил:
— Хорошая она была. Веселая. Конфетами угощала. Я, конечно, большой уже и конфеты брал для младших сестер. Они у меня совсем крохи.
— Как тебя зовут?
— Франсуа. А тебя?
— Меня Полин. Ну вот, Франсуа, мы и познакомились. Расскажи, не видел ли ты кого подозрительного в вашем доме?
— Откуда ж мне знать, какие они, подозрительные? Все люди как люди… А что воруют, так у каждого свое ремесло.
— Можешь ли ты мне рассказать, кто навещал Сесиль?
— К ней нечасто ходили. Высокий такой мужчина приходил, не француз, с длинными светлыми волосами. Но он странный был. Никого не замечал. Однажды на тетку Шарпантье наткнулся, она таз с бельем несла, вот она ругалась, когда все подштанники на землю вывалились. А ему хоть бы что, даже не оглянулся.
Я догадалась, что мальчишка говорит об Андрее.
— И больше ты никого не видел?
— Из людей никого. Она сама нечасто дома бывала. Да, вот еще: на рассвете отсюда карета отъехала. В наши места нечасто в экипажах приезжают, все больше пешком. А если карета, то думать нечего — либо полицейский, либо судейский какой-нибудь, ничего хорошего от них не жди. — Мальчишка сплюнул с важным видом и проследил, далеко ли отлетел плевок
— Что ж ты не рассказал об этом инспектору?
— Еще чего! — возразил мальчишка. — Чтобы он меня потом забрал и не выпустил? Знаю я их, у меня старший брат отсидел год за кражу, так что лучше не соваться, целее будешь.
— А где карета стояла?
— Идем покажу, это недалеко. — Франсуа завел меня в узкий переулок, в котором едва могла поместиться пара лошадей, и показал на следы колес. — Смотри, вчера тут этих следов не было.
На сухой от жары земле еле просматривались борозды и небольшие вмятины от конских копыт. Рядом валялись конские каштаны.
— И это все? — разочарованно произнесла я. — Ничего же не видно!
— А что ты хотела? — презрительно спросил парень. — Чтобы кучер оставил тут именную бляху? И этого хватит умному человеку, чтобы понять — сегодня утром тут стояла карета.
— И что?
— А то, что к нам сюда только телеги заезжают по дороге на рынок. Карет тут сроду не было. К кому здесь ездить? К дочке тетки Шарпантье?
Кажется, соседка немало потаскала парня за вихры, раз он питает к ней такую неприязнь.
— Ты прав, — кивнула я. — А это что?
Рядом с одной из бороздок на глине отпечатался край широкого каблука с подковкой. Я нагнулась и отломила этот отпечаток.
— Не знаю, — пожал плечами мальчишка, — грязь какая-то. Сушь который день стоит, а следы на глине получились оттого, что лошадь напрудила.
Присмотревшись, я поняла, что вокруг — ни на земле у стен, ни на песке неподалеку от колеи — нет ничего подобного. Мальчишка был прав, иначе откуда появиться отпечатку на глине. Это была слабая ниточка, но все лучше, чем ничего. Превозмогая отвращение, я завернула вещественное доказательство в уголок платка — надо будет отдать его Донзаку, если, конечно, инспектор не посмеется надо мной. А может, не отдавать и самой продолжить поиски таинственного убийцы в клетчатой пелерине?
— Пойдем отсюда, — сказала я. — Мне нужно домой. Покажешь дорогу.
По пути Франсуа рассказал мне, что у Сесиль есть старшая сестра, танцовщица в новом кабаре «Мулен Руж», что на бульваре Клиши. Она-то и сосватала сестру в натурщицы, когда та искала работу. Кабаре посещают художники, а им постоянно нужно что-нибудь новенькое.
— Как ее зовут? — спросила я, только чтобы поддержать разговор.
— Вообще-то Женевьевой, но она как-то сказала, что это имя не для танцовщицы, а для монашки, и теперь зовется Моной. Очень злится, если кто-нибудь по старой памяти назовет ее Женевьевой.
На бульваре Рошешуар я отпустила Франсуа, дав ему, как обещала, двадцать франков, и дальше пошла сама. Здесь я уже хорошо ориентировалась.
По дороге мне попадались девушки с тщательно накрашенными личиками, в изящных шляпках, но в потрепанных платьях и нечищеных башмаках. Я не могла понять эту странную разницу между ухоженной головой и неряшливым телом, и только позже мне открылась простая истина: зачем стараться, если в толпе видна только твоя голова? Тратиться на новое платье, башмаки — ведь это все купит тебе любовник. Не сейчас, потом, если понравишься. Чтобы приглянуться мужчине, нужно все усилия бросить на украшение лица и прическу. А дальше уж как получится. Очарованный молодой человек не заметит ни юбки с прорехой, ни стоптанных туфель. Такова сила страсти и первого взгляда, которым она зажжена.
Я свернула на бульвар Клиши, туда, где медленно вертелась красная мельница, зазывая гостей в кабаре «Мулен Руж».
В эти часы кабаре выглядело непривлекательно, словно невыспавшаяся кокотка поутру. Низкое серое здание, тумба с афишами, потушенные фонари в круглых плафонах. Даже мельница с конусообразной крышей не производила впечатления увеселительного заведения, где царят блеск и красота.
Я постучала в запертую дверь. Никто не отвечал. Я постучала сильнее. Дверь отворилась, и показалась голова хмурого служителя:
— Танцовщица? — осведомился он. — Вы опоздали, мадемуазель, отбор на канкан уже завершен.
— Вы ошиблись, я не на отбор пришла. Мне нужна Женевьева, ваша танцовщица.
— Нет у нас такой! Уходите!
— О, простите, мне нужна Мона.
— Она будет в восемь.
Служитель попытался было закрыть дверь, но я обеими руками вцепилась в створку:
— Прошу вас, дайте мне ее адрес! Сегодня ночью убили ее сестру, а Мона ничего об этом не знает!
— Боже! Что вы говорите?! Заходите, я сейчас позову хозяина.
Я вошла и осмотрелась. Пустой полутемный зал был заставлен невысокими столиками с водруженными на них перевернутыми стульями. Вдоль левой стены тянулась стойка, а на сцене топтались две девицы в черных трико. Одна говорила «ап!», вторая подпрыгивала, но невысоко и через раз неуклюже шлепалась на пол. Экзерсис не получался, и акробатка начинала все заново. На стене висела большая картина, написанная яркими красками. Она изображала танец в том зале, где я сейчас находилась. На переднем плане фигура женщины в розовом платье и боа — дама входила в зал, — а в центре картины — неистовые па танцовщицы в красных чулках и ее партнера. Резкие тени падали на дощатый пол, фонари на стенах испускали мутно-желтый свет. Танцевальный зал кабаре «Мулен Руж» перетекал в картину, как в зеркальное отражение, и там вновь становился объемным и просторным.
Служитель вернулся.
— Пойдемте, мсье Оллер ждет вас.
О «неистовом» Оллере я слышала еще в России. Наш губернатор, вернувшийся из Франции, устроил прием и рассказал, помимо всего прочего, о французских деловых людях. Одним из тех, кто произвел на милейшего Игоря Михайловича особое впечатление, был Жозеф Оллер, поклонник игр на тотализаторе. Губернатор так долго и пространно говорил об этой идее, что, казалось, завтра же он приступит к строительству в тихом провинциальном N-ске ипподрома, дабы пополнить губернскую казну и выглядеть не хуже столицы, где такие увеселительные заведения давно в чести. Игорь Михайлович называл Оллера каталонским пройдохой, но тем не менее пригласил его в наш город на гастроли со своим театром «Нувоте» и предложил открыть у нас американские горки, дабы оживить культурную жизнь города, до сих пор ограничивавшуюся масленичными гуляньями и цирком шапито. Однако ничего не вышло. То ли мсье Оллер испугался медведей, то ли цирковым лошадям противопоказаны морозы, но он к нам так и не приехал, к вящей радости местных святош, считавших, что наш губернатор понабрался за границей фармазонских идей.
И вот сейчас меня вели к этому человеку, о котором я уже была наслышана на родине. Как все же тесен мир!
Владелец кабаре «Мулен Руж» оказался дородным усатым брюнетом лет пятидесяти, одетым в чесучовый жилет. Увидев меня, он приподнялся с места и озабоченно бросил:
— Присаживайтесь, мадемуазель, и рассказывайте, в чем дело.
— Сегодня ночью убита Сесиль Мерсо, натурщица. Я слышала, что у нее есть старшая сестра, Женевьева, выступающая в вашем кабаре под псевдонимом Мона. Думаю, что ей нужно сообщить о смерти сестры. Дайте мне ее адрес, пожалуйста.
Оллер встал и начал ходить по кабинету.
— Конечно, сообщить надо, — нервно произнес он. — Но сегодня большой канкан, и Мона солирует. Если ей сообщить — она откажется выступать. Все репетиции пойдут насмарку, а афиши уже развешаны. Сегодня ожидается большой наплыв публики. Что я скажу зрителям?
— Но ведь это не по-человечески! — воскликнула я.
Директор перестал бегать по кабинету, оперся руками о стол и заглянул мне в глаза:
— Вы думаете, мне легко? Без нее номер сорвется! Она солистка. Понимаете — солистка! Публика придет пялиться на ее ноги. А что я им покажу? Свои?
— Вы обязаны сообщить ей о смерти родного человека! — твердо заявила я.
— Ну почему вечно какие-то палки в колеса?! — Оллер не слушал меня, он был во власти собственных переживаний. — Я построил в этом городе плавательный бассейн «Рошешуар», новый цирк, снес старое кабаре «Рен-Бланш» и заложил новое! Мне говорили: «Куда ты лезешь? Иди на Пляс Пигаль, стройся рядом с Брюаном», — но я на это не пошел! У меня изумительные танцоры — один Валентин Бескостный чего стоит! А Мари Касс-Нэ? А Мом Фромаж, которую я переманил из «Элизе-Монмартр»? Вы представляете себе, что это за танцоры? Сливки! А у Моны замены нет — я только вчера выгнал обжору Ла Гулю. Мне пришлось, а что делать? Да, она великолепно танцует. Но потом присаживается на колени посетителей и сжирает все, что у них на тарелках! Многие жалуются. И еще она стала толстеть! А этого я не позволю!
— Сестру Моны убили! — мне пришлось вернуть экспансивного испанца к теме нашего разговора. — И не сообщить ей об этом было бы не по-христиански.
— Хорошо! — кивнул он. — Я согласен. Но предупреждаю: Мона сегодня вечером должна танцевать кадриль и канкан. Иначе выгоню ее, как Ла Гулю. Вам понятно? Так ей и передайте, мадемуазель.
— Понятно, — ответила я. — Так вы дадите адрес?
— Улица Коленкур, девять, второй этаж, — буркнул он, посмотрев в свои записи, и взял в руки перо, тем самым давая понять, что не намерен более со мной разговаривать.
— Спасибо, — сказала я и вышла из кабинета.
На мое счастье, улица Коленкур оказалась недалеко, и спустя полчаса неспешной ходьбы я уже поднималась на второй этаж четырехэтажного дома, украшенного на фронтоне аляповатыми гирляндами.
Миловидная горничная в кружевной наколке открыла мне дверь только после настойчивого стука.
— Мадемуазель не принимает, — объявила она. — Оставьте вашу визитную карточку.
— Я пришла к мадемуазель Женевьеве Мерсо по делу, не терпящему отлагательств. Впустите меня.
— Вы ошиблись. Здесь нет такой дамы.
— Я говорю о мадемуазель Моне.
— Подождите здесь.
Издалека я услышала: «Позови ее!» Служанка вернулась и пригласила меня пройти прямо в спальню. На широкой роскошной кровати лежала девушка. У нее были тонкие черты лица, ничуть не напоминающие простоватую физиономию Сесиль.
— В чем дело? — раздраженно спросила она, оторвав голову от подушки. Под глазами у Моны были мешки, выглядела она невыспавшейся. — Кто ты такая? Откуда ты знаешь мое настоящее имя? Я сама его уже забыла.
— Меня зовут Полин, — ответила я, ничуть не обидевшись на девушку.
Мона встала и накинула на себя шелковый пеньюар, затканный нарциссами.
— Ладно, раз пришла, пойдем сядем по-человечески. А то в этой комнате только одно место в постели возле меня.
Она посторонилась, дав мне первой войти в гостиную. Просторная комната была заставлена низенькими пуфами, отороченными лиловым кантом. Несмотря на солнечный день, в комнате царил полумрак: шторы из кретона с геометрическим рисунком были задернуты. В высоких подсвечниках горели ароматические витые свечи, на этажерке у стены стояли нефритовые статуэтки — потягивающаяся кошка и толстый веселый монах. Пол прикрывал обюссонский ковер в темно-фисташковых разводах. Какой разительный контраст представляло это уютное гнездышко с убогой комнатой ее родной сестры! Вот уж время задуматься о том, о чем писал поэт:
Я смерть зову измученной душою,
Устав смотреть, как слеп капризный рок,
Как добродетель борется с нуждою
И в золоте купается порок.23
Мона уселась в кресло и пристально посмотрела на меня. Я не знала, с чего начать, и топталась на месте, пока не догадалась опуститься на диванчик напротив.
— Я к вам по поводу вашей сестры Сесиль, — наконец проговорила я.
Она не сводила с меня глаз. Между сестрами было много общего: если младшая, Сесиль, выглядела нераспустившимся бутоном на тонком стебельке, то старшая, Мона, представляла собой великолепный образец чувственной красоты. Полы халата из палевой брокатели 24 распахнулись, обнажив точеные сильные ноги танцовщицы. Она водила пальцем по ложбинке на ключице, словно перед ней сидела не я, а еще один кандидат в любовники.
— Сесиль убили, — сказала я.
Мона не среагировала, продолжая покачивать на носке домашнюю туфлю с лебяжьей опушкой. Она еще не проснулась.
— Что ты сказала? — улыбаясь, спросила она. — Сесиль что? Я не расслышала. Говори внятнее.
— Ее убили. Задушили. Сегодня ночью. Тело в полицейском морге.
Улыбка мгновенно сползла с ее лица.
— Что ты такое несешь?!
— То, что слышала! — рассердилась я не на шутку. — Ты что, кокаину нанюхалась и ничего не соображаешь?
Мона смотрела на меня, не мигая, на ее лице был написан ужас.
— Сесиль? Сестричка? Как это произошло? Кто ты такая?
Я рассказала то, что мне было известно. Она завыла в голос, вцепилась себе в волосы и принялась раскачиваться, повторяя:
— Как же так, как же так? Сестричка… Моя маленькая Сесиль…
— Послушай, Женевьева, я пришла к тебе из кабаре. Мсье Оллер, который дал мне твой адрес, сказал, чтобы ты обязательно появилась сегодня на сцене, иначе сорвешь представление. У него большой канкан, публика… Ты же солистка! Станцуешь, а завтра с утра пойдешь в полицию. Если хочешь, я пойду с тобой.
— Никуда я не пойду! — зло ответила она. — И никакой Оллер мне не указ! Мне сестра важнее всех канканов на свете! Чтоб Оллеру провалиться в преисподнюю вместе с его кабаре!
— Не говори так, прошу тебя. Подумай сама, ты же ничем не сможешь помочь сестре, а представление испортишь. Не делай этого, Женевьева. Сегодня на тебя придет смотреть публика. Помни, что ты прежде всего артистка.
Прежде всего я — шлюха… — горько усмехнулась она. — И хотела младшую сестру сделать такой же. Добра ей желала, денег, тряпок красивых. Объясняла, как хорошо жить, если у тебя есть богатый покровитель и ты не заботишься о куске хлеба. А она художницей хотела стать, у нее с детства талант был. — Мона зажгла тонкую сигару, жадно затянулась и продолжила уже более спокойным голосом: — Мы ведь с ней не коренные парижанки, родились в местечке Сент-Жан-де-Фос, что в Лангедоке. Все жители нашего городка — виноделы да гончары. Нравы в Южной Франции просты и патриархальны: детей сызмальства приучают собирать виноград, работать на давильне и в гончарных мастерских. Помню себя с трехлетнего возраста: иду между тяжелых лоз за матерью и подбираю упавшие на землю кисти.
Сесиль любила смотреть, как вращается гончарный круг и из бесформенного куска красной глины рождается кувшин для вина. Она была серьезной девочкой, и отец частенько давал ей остатки красок для росписи черепков. Сесиль сидела в углу и сосредоточенно раскрашивала тарелку или блюдце. Я же любила танцевать и никогда не могла усидеть на одном месте.
Когда мне было одиннадцать лет, а Сесиль восемь, мы осиротели. Отец сильно простудился, заболел лихорадкой и сгорел в одночасье. Мать погоревала, взяла нас и поехала к тетке в Париж в поисках лучшей доли, надеясь, что там уж мы не пропадем. Тетка Амалия оказалась сущей стервой: она попрекала нас куском хлеба, следила, что и сколько мы едим, прятала под замок даже тухлую рыбу, от которой кошки отворачивались. Поэтому мать отдала нас с Сесиль в школу кармелиток — там пансионерок кормили, хотя и впроголодь, но заставляли за это молиться с утра до вечера. Как тяжело было часами стоять на коленях на каменных плитах…
Недолго нам пришлось пробыть у святых сестер. Мать прихварывала, мы вернулись домой и с тех пор помогали ей в работе-, вместе поденно убирали квартиры и стирали белье. А потом меня взяла к себе тетка Амалия — она продавала рыбу на рынке Невинных младенцев и надеялась, что я своим бойким нравом и звонким голосом зазову много покупателей. Мне не нравилось работать в рыбной лавке, но деваться было некуда: мы жили у тетки во флигеле в предместье Нотр-Дам-де-Лорет, и это было наше единственное пристанище. Для сестры тоже нашлась работа — она гуляла с детьми богатых буржуа в саду Тюильри.
Мне всегда хотелось стать богатой — носить платья из органди и шляпки с вуалью. Я хотела душиться изысканными ароматами, а приходилось день и ночь разделывать вонючую рыбу и гонять крыс. Но я не роптала, ведь матери становилось день ото дня все хуже, она слабела от непосильной работы, а Сесиль, такая хрупкая и нежная, не могла трудиться с тем же упорством, что я. У нее было слабое здоровье, она часто оставалась дома в постели и рисовала: мелом, углем, карандашами. На прогулках она рисовала детей, лошадей, статуи в саду, и многие удивлялись — как похоже и красиво у нее выходило.
Рынок надоел мне до смерти, но Амалия постоянно твердила мне, как она всех нас облагодетельствовала и как почетно и выгодно быть рыбной торговкой.
Бросить место, кормившее нашу маленькую семью, я не могла, но в моей жизни появилась какая-никакая отдушина. По вечерам я бегала на площадь около мельницы «Мулен-де-ла-Галет» — там играла музыка, и кавалеры вертели дам в кадрили. Мне хотелось танцевать вечно, потому что в танце забывались и ломота в суставах, и саднящая боль в руках от колких рыбьих плавников, и сожаления об однообразной жизни. Но каждый раз вечер быстро кончался, а утром надо было снова становиться за ненавистный прилавок, заляпанный рыбьей требухой.
Однажды возле «Мулен-де-ла-Галет» я познакомилась с неким пожилым господином, мсье Дюпре, служившим в директории парижского департамента коммерции. Он был стар, маленького роста и с бородавкой на лысой макушке. Поморщившись от резкого соленого запаха, исходившего от меня, старый развратник тем не менее оценил мою ладную фигуру и предложил мне пойти к нему в содержанки. Мне исполнилось шестнадцать с половиной лет, за спиной — три класса монастырской школы и рыбный прилавок Терять мне было нечего, и я согласилась. Швырнув надоевший нож для разделки рыбы, я повернулась и вышла из лавки, оставив разъяренную тетку Амалию потрясать кулаками. Она сыпала проклятьями, а мне было все равно, я шла навстречу новой, сытой и легкой жизни. Я тогда не подумала, что ее ярость обратится на мать и младшую сестру. Тетка принялась издеваться над ними еще изощреннее, пока через некоторое время я не заткнула ей рот ежемесячной платой за проживание и стол для сестры и матери. Она даже перестала прятать еду.
Мсье Дюпре поселил меня в скромной квартирке, казавшейся мне роскошной после халупы на задворках дома тетки Амалии. Он навещал меня ежедневно, но никогда не оставался на ночь, ведь он был женат на дородной мадам Дюпре, осчастливившей его четырьмя дочерьми. В своем квартале он считался примерным семьянином, день его был расписан поминутно, и ко мне он приходил в часы, когда мадам Дюпре думала, что у него срочная работа в департаменте. Такая срочность появлялась у мсье Дюпре ежедневно, кроме воскресенья.
К его приходу, всегда в шесть часов пополудни, я должна была чисто вымыться, распустить волосы, надеть одну из десяти батистовых сорочек, что он мне купил, и встречать его в покорной позе, склонив голову и скрестив руки перед собой. Надевать что-либо под рубашку мне было строго запрещено. Думаю, я знала, почему он требовал от меня такого поведения: дома, придя со службы, он становился обыкновенным подкаблучником, которого изводила жена и не слушались дочки. Поэтому от меня мсье Дюпре ожидал полного подчинения, дабы возместить те унижения, что терпел от супруги, обладавшей зычным голосом и скверным характером.
Мой «благодетель» никогда не приходил с пустыми руками. Он приносил то пакет свежих круассанов, то провансальских глазированных вишен, а то и сирень в кляре. А мне хотелось вина, пива, чесночной ветчины и денег, чтобы все это себе купить. Но я не могла сказать об этом Дюпре, иначе он выгнал бы меня как проститутку. Ведь для него я изображала невинную девушку, и если бы ему разонравилась моя игра, то мне пришлось бы вернуться в вонючую рыбную лавку на рынке Невинных младенцев и терпеть поношения тетки Амалии.
Когда я, не поднимая глаз, приседала в полупоклоне и принимала из его рук скромный подарок, старик усаживался в высокое вольтеровское кресло и начинал форменный допрос. Что я делала за утро, как себя вела, сколько сплела кружев (он даже купил мне набитый ватой валик и другие приспособления для плетения) и не смотрела ли в окно? В первые дни я говорила, что весь день вела себя примерно, плела тесьму и не поднимала головы. Он дулся и неохотно шел в постель, где я, уже познавшая радости плоти с помощниками рыночных приказчиков, вынуждена была изображать полнейшую неосведомленность в постельных утехах, плакать и бояться. Удовольствия от этого я не получала. Толстяк елозил на мне несколько минут, потом вставал, требовал от меня слов восхищения его мужскими достоинствами, одевался и уходил.
Однажды мсье Дюпре пришел довольный и улыбающийся. Он сообщил мне, что консьержка видела, как я строила глазки проходившему мимо окна молодому человеку. За это я должна быть наказана, чем он незамедлительно и займется. Он приказал мне задрать рубашку, лечь к нему на колени и сильно отшлепал меня ладонью. Привыкшая к тумакам и колотушкам тетки Амалии, я терпела молча, не стонала и не просила пощады, чем вызвала его гнев и еще более суровую порку. Отбив себе ладони, он взялся за ремень. А потом в постели Дюпре проявил себя, как молодой жеребчик. Он воодушевился, весь побагровел и бешено скакал на мне, пока не свалился бездыханным.
С тех пор я поняла, чего он от меня дожидается, и не раз ему подыгрывала: каялась в легких грехах вроде разбитой чашки или пятна на платье. От этого Дюпре приходил в такое возбуждение, что багровела бородавка на лысине. Он укладывал меня на колени и шлепал изо всех сил. Иногда старик угрожал выпороть меня ремнем или розгами. Я фальшиво молила о пощаде, дергая покрасневшими ягодицами, а он, войдя в раж, отбрасывал ремень и насиловал меня, стараясь изо всех своих старческих сил. Ему настолько нравились эти маленькие спектакли, что я даже осмелилась попросить немного денег, пригрозив уйти от него обратно в рыбную лавку. Мсье Дюпре испугался и согласился выдавать мне еженедельно скромную сумму, меньшую часть которой я с удовольствием тратила на вино и пиво, а большую отдавала Сесиль вместе с гостинцами сластолюбивого старика. Матушка с сестрой вздохнули свободнее, а тетка Амалия перестала попрекать их куском хлеба. Так прошло два года.
Однажды старик пришел не вовремя, утром, когда у меня находилась младшая сестра. Увидев ее, он задрожал от вожделения и сказал, что хотел бы и ее немного «повоспитывать». Я ответила, что этому никогда не бывать. Тогда он с усмешкой заявил, что я выросла, стала похожа на кобылу и больше его не устраиваю. И если я хочу, чтобы он и дальше платил нашей семье деньги, то я должна уступить свое место Сесиль. Он снимет ей квартиру в укромном уголке, ведь Сесиль несовершеннолетняя, и даже согласен поднять плату на двести франков в месяц.
Но я была готова к этому повороту событий. Мне надоело сидеть целыми днями дома, притворяться маленькой непослушной девочкой и получать порку. За эти два года я научилась лгать, лицемерить и использовать ситуацию в собственных целях. У меня были любовники, которые проскальзывали ко мне, стоило только мсье Дюпре выйти за порог. Консьержку я подкупала, давая ей то пару франков, то шелковые чулки, и она ничего не говорила о моих проказах старику. Частенько бывало так: когда мой покровитель спешил под супружеский кров, в еще теплую постель падал очередной обладатель молодого и горячего тела. Найти их было нетрудно — я пользовалась большей свободой, чем два года назад, и много раз по ночам сама убегала из дома, в кабачок «Буль-Нуар» или «Элизе-Монмартр», чтобы вволю потанцевать и насладиться музыкой.
В один прекрасный день я вышла из своей тесной клетки, ничего не сказав Дюпре, и стала танцовщицей в кабаре «Ле Плю Гран Бок». Я поменяла имя, стала Моной, и теперь уже я выбирала себе любовников с состоянием. Однажды Дюпре пришел туда и увидел меня, танцующую на сцене. Я подпрыгнула, каблуком смахнула шляпу у него с головы, потом задрала юбки и показала ему зад, обтянутый панталонами. Как его освистали! У нас такое поведение танцовщицы говорит о том, что ее покровитель скупердяй и слабак по женской части.
Когда Оллер открыл «Мулен Руж», то переманил меня к себе, и я не жалею, что ушла к нему. Я прима, лучшая танцовщица кабаре и блистаю на сцене. Сейчас у меня новый покровитель, виконт, и я буду с ним, пока он мне не надоест. Теперь я решаю, кого любить и кого бросать.
Мона замолчала, и, воспользовавшись паузой, я спросила:
— Скажи, пожалуйста, почему Сесиль жила в такой бедности? Ведь она не отказывалась брать у тебя деньги?
— Это поначалу, пока была жива мать, сестра не знала, каким образом мне достаются деньги, — я приходила сама и отдавала. А когда мама умерла, Сесиль узнала, что я обыкновенная куртизанка, кокотка, и перестала брать деньги. Она считала, что не имеет права жить на деньги чужого человека. Нет, она не презирала меня, просто не хотела поступаться принципами. Тогда я познакомила ее с художниками, посещавшими монмартрские кабаре, — Пю-ви де Шаванном, Зандоменеги, Тулуз-Лотреком, — и она позировала им, а также училась у них рисовать. Но ничего более: моя Сесиль — порядочная девушка. Была… Теперь ее уже нет…
— Я глубоко тебе сочувствую, Мона. Не только ты горюешь от потери. Ведь и я потеряла близкого человека, художника из России. — Я обняла девушку. — Его звали Андре. И я более чем уверена, что его убил тот же негодяй, что и твою младшую сестру.
— Это возлюбленный Сесиль, — всхлипнув, сказала Мона. Странно, но ее слова меня не ранили. — С ним сестричка познакомилась уже без меня. Я его совсем не знала. Как-то она пришла вместе с Андре ко мне на представление. С ними был еще странный старик с растрепанными волосами и всклокоченной бородой. Он смотрел на меня таким диким взглядом, что я споткнулась во время танца. Он меня словно гипнотизировал.
— Что за старик?
Понятия не имею! Наверное, один из тех бродяг, которые обычно липли к моей сестре, как мухи к меду, уж очень у нее доброе сердце. Она была готова отдать последнее, а они пользовались ее добротой и пропивали те гроши, что она давала им на хлеб. Когда после своего номера я подошла к ним, чтобы поговорить с Сесиль, то услышала, как они обсуждали, где достать денег на покупку каких-то земель.
— Странно… Чтобы приобрести недвижимость, нужны огромные средства. Откуда у них столько денег?
— Не знаю, — пожала плечами Мона. — Я не поинтересовалась.
Она явно приходила в себя. Этого мне и надо было. Я собралась уходить.
— Мона, и все же я прошу тебя: будь вечером в «Мулен Руж». Мсье Оллер будет крайне недоволен, если ты не появишься. Я ему обещала, что поговорю с тобой. А грустными делами займемся вместе завтра. Ведь у нас с тобой общая беда. Согласна?
— Уговорила. Приду в кабаре, — буркнула Мона, не глядя на меня. — Но я Оллеру такой канкан покажу, у него глаза на лоб вылезут! Не канкан будет — горчица с перцем. Будет знать, как условия ставить! Мне, солистке! Подожди, Полин, я зажгу лампу в прихожей.
Она вышла вместе со мной из гостиной, и в ярком свете лампы я вдруг заметила в открытом стенном шкафу пальто с большой клетчатой пелериной. Я похолодела от догадки, пронзившей мне мозг.
— Чье это пальто, Мона? Вот это, в клетку.
— Моего виконта, — удивленно ответила она. — Он часто оставляет у меня вещи. А что такое?
— Ничего, ничего, просто меня заинтересовал покрой. Всего наилучшего, будь вечером в кабаре. Обязательно приду на тебя полюбоваться.
И я закрыла за собой дверь.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Прежде чем сильно чего-то пожелать,
следует осведомиться, очень ли счастлив
нынешний обладатель желаемого.
До восьми вечера оставалось совсем немного, и я решилась — постучала в зеленую комнату, к князю Засекину-Батайскому.
— Войдите!
Несмотря на августовский зной, Кирилл Игоревич сидел в теплом вигоневом шлафроке, несколько потертом, и раскладывал пасьянс. Комнату, оклеенную зелеными штофными обоями в полоску, украшали два настенных ковра с развешанными на них саблями, трубками с длинными чубуками и пистолетами с гравировкой. В углу, на небольшой резной подставке, стояла маленькая икона Божьей Матери, а под ней был пришпилен календарь с изображением бегущих лошадей. На перекладине в углу висели два костюма, под ними ровно стояли туфли. Все вокруг красноречиво говорило о том, что рента его покойной супруги была весьма и весьма умеренной.
— Простите меня, дорогой князь, что я к вам без приглашения…
— Полноте, Полина, всегда рад. Правда, я не при параде. — Кирилл Игоревич попридержал полы халата и поклонился. — Хотите крюшону? Только что с кухни принесли. Прекрасно освежает!
— Не откажусь.
Он протянул мне стакан с терпким, пахнущим лимоном и мятой напитком.
— А я к вам по делу, Кирилл Игоревич, — сказала я. — Не обессудьте.
— Да уж, — вздохнул он и состроил комичную физиономию, — прошли те времена, когда к Засекину-Батайскому юные прелестные дамы заглядывали не только по делу. Скорее, совсем не по делу.
— И вовсе нет, князь, — улыбнулась я, — зачем на себя наговаривать? Вы еще в самом соку. Полвека для мужчины разве возраст? И дело, по которому я пришла, вполне вероятно, поднимет вам настроение. По крайней мере, я надеюсь на это.
— Я весь внимание, дорогая Полина! Слушаю вас.
— Не соблаговолите ли сегодня вечером сопровождать меня в кабаре «Мулен Руж»? — церемонно начала я, но, увидев удивленные глаза князя, просительно добавила: — Мне очень хочется посмотреть канкан, а в такие места без кавалеров ходят только дамы определенного рода занятий. Мне ужасно неловко оттого, что вы можете обо мне подумать, но я, бывая в Париже то с отцом, то с мужем, никогда не посещала кабаре. Всё замки да музеи, иногда рестораны. А ведь, кроме музеев и монастырей, здесь есть немало интересного, не так ли, князь?
— Понимаю, — кивнул он. — Хотите развеяться после неприятных событий. Разумно, разумно… И вы хотите, чтобы я вас сопровождал в кабаре?
— Мне бы очень этого хотелось…
— Когда надо быть готовым? — деловито спросил он.
— Зайдите за мной к восьми с половиною вечера.
— Всенепременно.
Вернувшись в комнату, я стала выбирать платье и шляпку и пришла в полное отчаяние от того, что все мои туалеты выглядят провинциально и надеть абсолютно нечего. Вот так всегда: везешь с собой несколько чемоданов с одеждой, а подойдет время выйти в приличное общество, тут же оказывается, что платье старомодно, шарф не так оттеняет цвет лица, а на замшевых перчатках несмываемое пятно. Вот и придумываешь разные ухищрения, чтобы выглядеть модно и достойно. Конечно, можно было бы сходить к модистке и купить туалет специально для выхода, но я не хотела рисковать: вдруг не успею вернуться, зайдет князь, а меня нет. Нет уж, лучше выберу что-нибудь из своего.
Остановившись на лиловом платье из грогрона 25, строгом и изящном, я выбрала в тон к нему шляпку-ток со сквозной вуалью без мушек и успокоилась: в таком наряде я обычно привлекаю одобрительные взгляды. Для кабаре этот туалет вполне стильный и в меру пикантный.
Ровно в половине девятого в дверь постучали.
На пороге стоял Засекин-Батайский в облегающем сюртуке цвета маренго. На шее у него был повязан шелковый эскот 26, заколотый булавкой с аметистом. В руках князь держал трость с массивным набалдашником и старомодный цилиндр.
— Прошу, князь, входите, я только надену шляпку и перчатки.
Он вошел, а я достала из ридикюля две сотенные купюры и протянула ему со словами:
— Возьмите, Кирилл Игоревич. У вас могут случиться непредвиденные расходы, а мне не хочется, чтобы вы потерпели из-за меня убытки. И не отказывайтесь!
— Как можно! — воскликнул князь, но в глазах его мелькнул алчный огонек. — Почту за честь сопровождать такую прелестную даму, как вы, мадам Авилова.
— Возьмите, возьмите. — Я сунула ему деньги. — Считайте, что вы взяли у меня в долг специально для посещения кабаре. И не думайте ни о чем. Для нас с вами главное сейчас — приятно провести время. Это вы парижанин, а я обычная провинциалка.
— Хорошо, — как бы с неохотой ответил он, пряча деньги в карман. — Я спущусь и возьму фиакр.
Вечером кабаре преобразилось. Все вокруг сверкало. Красная мельница вертела крыльями, украшенными электрическими лампочками. Один за другим подъезжали экипажи, из них выходили дамы в роскошных декольтированных нарядах и мехах, несмотря на летнюю жару. Мужчины, сопровождавшие их, были одеты по-разному: в сюртуки и фраки, студенческие тужурки и яркие мундиры. Французская речь мешалась с английской и итальянской.
Внутри играла музыка, хлопали пробки от шампанского. Свет настенных фонарей отражался в хрустале огромной люстры, свисавшей с лепного потолка, разрисованного амурами и купидонами. Гарсон подвел нас к свободному столику, расположенному достаточно далеко от сцены. Справа от нас разместилась веселая и шумная студенческая компания. Я пожалела, что не заказала одну из литерных лож, находившихся по обеим сторонам сцены, — оттуда я все видела бы без лорнета.
— Вам удобно, Полина? — спросил князь, подвигая мне стул.
— Вполне, благодарю вас, — ответила я и устремила взгляд на сцену.
Там танцевали три девушки, одетые в широкие слоистые юбки, которые они задирали при каждом прыжке, открывая панталоны с кружевами и крепкие икры профессиональных танцовщиц. Девушек сменил фокусник в черном фраке. Он показал фокус с кроликом и цилиндром. Потом вышла акробатка в блестящем трико и принялась извиваться, демонстрируя великолепную гибкость тела.
Происходившее на сцене не слишком интересовало публику. Люди смеялись, перекидывались громкими репликами, встречая входивших в зал, мой визави изучал карту вин, студенты жарко спорили о политике. Я немного разочаровалась — мне казалось, что в кабаре будет нечто потрясающее, а на самом деле подобные номера можно увидеть в любом провинциальном цирке-шапито.
— Князь, скажите, — я наклонилась к нему, иначе ничего не было бы слышно, — вам знаком кто-нибудь из публики?
— Посмотрим, посмотрим, — ответил он, берясь за монокль. Но, обозрев зал, с досадой произнес: — Нет, пока не вижу. Еще рано. Настоящее веселье и канкан начнутся в полночь. Вот тогда самые сливки и подойдут. А пока здесь только разогревают публику. Не обращайте внимания — это коверные в цирке.
Про себя я подумала, что если сливки соберутся так поздно, то им останутся места разве что на сцене.
А публика все прибывала. Уже заполнились все ложи, и были заняты места у барной стойки.
Спустя некоторое время на сцену вышел Оллер.
— Медам, месье! Канкан! — объявил он.
И тут началось светопреставление. Все взгляды устремились на сцену, куда из-за кулис выскочили шестнадцать девиц, одетых в пышные кружевные юбки и корсеты. На ногах у всех были черные сетчатые чулки, перехваченные выше колен алыми атласными подвязками с розетками, и туфли с серебряными пряжками, а на головах — плюмажи из страусовых перьев, раскрашенных в национальные цвета: синий, белый и красный. Девушки выстроились в ряд лицом к публике и под умопомрачительную музыку из «Орфея в аду» блистательного Оффенбаха принялись вскидывать ноги. При этом размашистом движении присутствовавшие прекрасно могли обозревать шестнадцать пар одинаковых муслиновых присборенных панталон с разрезом в шагу.
Публика бесновалась, свистела и улюлюкала. Чаще всего раздавались крики: «Мона! Мона! Браво!» Мне пришлось достать из сумочки лорнет, чтобы разглядеть в центре разноцветной шеренги знакомое лицо. Она единственная из девушек не улыбалась, но подкидывала ноги выше всех.
Танцовщицы одна за другой, как подкошенные, падали на шпагат и вскидывали руки в призывном жесте. Перья трепетали на их головах. Зрители поднялись с мест и разразились бешеными аплодисментами. Одна из девушек встала, выбежала за кулисы и тут же вернулась с национальным флагом на длинном древке. Оркестр заиграл «Марсельезу», девушка вставила древко в отверстие на сцене, и танцовщицы, отдавая честь, промаршировали за кулисы.
Их вызывали и вызывали. Публика отбила ладони, аплодируя прелестницам. Танцовщицы кланялись, сладко улыбались, посылали публике воздушные поцелуи и снова убегали за кулисы.
Наконец на сцене осталась только одна девушка. Я снова взяла лорнет. Это была Мона. Она движением руки остановила публику, сняла знамя с древка, отдала полотнище выбежавшей из-за кулис девушке и обратилась к оркестру:
— Маэстро, прошу вас, исполните «Лебедя».
Густой звучный голос виолончели наполнил зал. Музыка волновала и убаюкивала, ее переливы напомнили мне прекрасных птиц, тихо плавающих в пруду Александровского парка, где я сидела и грезила об Андрее.
Мона танцевала вокруг шеста. Она обвивала его словно возлюбленного, кружилась, то отдаляясь, то приближаясь к нему, под величавую мерную музыку незнакомой мелодии.
В зале наступила тишина. Такая всеобъемлющая, какая бывает при свершении таинства. Тишина, тягучая и вязкая, разбивалась струнными басами. Публика затаила дыхание. У меня защемило в груди, и вдруг показались нелепыми эти разноцветные перья на голове у девушки и пышные, как каравай, юбки. Они мешали сосредоточиться, оценить искусство талантливой танцовщицы.
Словно услышав мои мысли, Мона тряхнула непокорными кудрями, сорвала перья с головы и отбросила в сторону. Публика отозвалась восторженным гулом. Далее случилось невероятное: Мона незаметным движением расстегнула юбки, и те разноцветной пеной упали к ее ногам. Грациозно переступив через них, она, оставшись только в корсете, панталонах и чулках с алыми подвязками, обвила ногой шест и запрокинула голову, резко выгнув спину. Эту позу она не меняла несколько долгих секунд. Потом Мона села на сцену, неторопливо движениями развязала подвязки и бросила ленты в зал. Некоторые мужчины ринулись к подиуму, пытаясь завладеть кусочками шелка. После этого Мона принялась скатывать с себя чулки. Художники справа от меня оживились, захлопали в ладоши и закричали «Браво!». Из литерной ложи к сцене бросился человек — его лица я не смогла рассмотреть — и крикнул: «Мона, остановись!», но она не удостоила его взглядом. Она вся была во власти музыки…
Изгибаясь словно гуттаперчевая кукла, Мона сладострастно гладила себя по плечам и бедрам.
Корсет, стягивавший груди и талию танцовщицы, неожиданно оказался у нее в руках. Я недоумевала: ведь корсеты на шнуровке невозможно снять без помощи горничной, а Мона сделала это в танце. Надо будет потом расспросить, как ей это удалось.
Публика бесновалась! Студенты кричали: «Мона! Дальше! Мона! Снимай же! Не останавливайся!». Я недоумевала — это кричали художники, которые ежедневно видели обнаженную плоть в таком количестве, что воспринимали женское тело только как объект для этюдов. А тут такое возбуждение!
Мужчины устремились к сцене, где властвовала полуобнаженная вакханка. Но между ними и ею словно возвышалась стеклянная стена: ее видели прекрасно, а она, казалось, не замечала никого вокруг, была погружена в себя, в свои сладострастные переживания. Слегка наклонив голову, Мона облизнула указательный палец и провела им вокруг соска. От этого движения по залу пронесся вздох, словно сотня мужчин одновременно почувствовала облегчение.
— Мона, прекрати немедленно, что ты делаешь?! Оллер! Где Оллер?! — кричал тот самый человек. На мгновение он обернулся в зал, ища глазами хозяина кабаре.
— Боже мой! — негромко воскликнул князь. — Это же виконт де Кювервиль! Я впервые вижу его в таком расстройстве!
— Виконт? — переспросила я.
Мона тем временем дразнила публику. Придерживая панталоны за шнурок, обтягивающий талию, она то приспускала их, обнажая аккуратный пупок, то поднимала, и вдруг одним движением Мона выскользнула из них. Она стояла на сцене нагая, освещенная ярким электрическим светом, а в ее взгляде сквозило презрение ко всем, кто смотрел на нее и вожделел. Но выглядела она не танцовщицей, а статуей из каррарского мрамора, холодной и неприступной. Мужчина, звавший Оллера, схватился за голову и застонал.
Внезапно свет погас. А когда через мгновение зажегся, Моны на сцене не было. Раздался вздох разочарования. Публика скандировала: «Мона! Мона!» — но девушка не вышла на приветствия. Вместо нее на сцене появился Оллер. Он раскланялся и произнес:
— Медам, месье! Я очень рад, что танец нашей несравненной Моны вам понравился. Мы не зря готовили для вас этот сюрприз. Надеюсь, и в дальнейшем «Мулен Руж» будет радовать вас новыми номерами.
— Князь, вы знакомы с виконтом? — спросила я, чувствуя, что вот-вот схвачу удачу за хвост.
— Да, немного. Встречаемся иногда на раутах. А что вас интересует, Полина?
— Сделайте одолжение, познакомьте нас. Мне очень нужно.
— Раз нужно, извольте… — И мы начали протискиваться сквозь возбужденную публику к рампе.
Но виконт как сквозь землю провалился! Только что он маячил возле самой сцены и вдруг исчез. Я стала оглядываться по сторонам, и мне показалась, что он выходит в боковую дверь. Я бросилась за ним, Засекин-Батайский поспешил следом, и тут я наткнулась на мощную фигуру, которая даже не покачнулась от моего напора.
— Мадемуазель! Какая приятная встреча! Князь, мое почтение! — Перед нами стоял Себастьян Кервадек и любезно улыбался.
— Здравствуйте, мсье Кервадек, — хмуро ответила я. Ну почему этот коммерсант от искусства попадается мне в самое неподходящее время?
— Как вам понравилась Мона? — спросил он. — Не правда ли, это изумительно, особенно если учесть ее состояние…
— Какое состояние? — спросил Засекин-Батайский.
— Вы не знаете? У нее трагедия! Прошлой ночью убили ее сестру. Бедная девушка! Последний раз я видел ее вместе с вами, в студии вашего друга и ее любовника.
— Боже мой! — ахнул князь. — Такая юная девушка. Это она приходила к вам накануне, мадам Авилова?
— Она самая, — кивнула я.
— Какой ужас!
— А откуда вам это известно, мсье Кервадек? — спросила я.
— Что Протасов был любовником мадемуазель Мерсо?
— Нет, как раз это меня не интересует. Откуда вы знаете, что Сесиль убили?
— У меня такая профессия — знать все, что происходит в мире искусства, иначе утопят более шустрые. — Кервадек продолжал улыбаться одними губами, глаза же оставались пронзительными и сверлящими. — Говорят, мадемуазель Сесиль была неплохой художницей. Да еще лепила прелестные статуэтки.
— На которые теперь поднимется цена, не правда ли? — саркастически заметила я.
— Каждый зарабатывает, как может. — Он ничуть не обиделся.
В этот момент какой-то молодой человек в бархатной блузе и берете отвлек Кервадека, заговорив о ценах на пейзажи, и мы с князем снова бросились к боковой двери.
Коридор был наполнен запахами театрального грима, клея для декораций и разгоряченных тел. Перед уборными танцовщиц стоял служитель в яркой форме с галунами и сдерживал натиск молодых людей, желавших лично выразить Моне свое восхищение.
— Господа, господа, не положено. Отойдите от двери, не толпитесь тут. Мадемуазель Мона отдыхает и велела никого не пускать. Цветы и записки складывайте на столик, — бубнил он, отпихивая ретивых обожателей. — Приходите завтра на представление, мы будем рады. Расходитесь, расходитесь.
Я поняла, что к Моне пройти невозможно, а мне необходимо было увидеться с де Кювервилем.
— Так вы сможете устроить мне встречу с виконтом, князь? — спросила я Засекина-Батайского.
— А для чего это вам, Полина?
— Кирилл Игоревич, разве вы не помните тот рисунок Андрея, с двумя персонажами на нем — русским министром и человеком в клетчатой пелерине?
— Помню, конечно, а что?
— У виконта такое же пальто. Вот я и хочу узнать, не он ли изображен на рисунке.
— Какое интересное предположение. Откуда вам это известно?
— Я видела подобное пальто у Моны в шкафу.
— И о чем вы будете расспрашивать виконта, Полина? — улыбнулся князь. — Не забыл ли он свое пальто у содержанки?
Я предпочла умолчать о том, что свидетельница видела господина в пальто с клетчатой пелериной, выходившего ранним утром из подъезда дома, где жила Сесиль.
— Кстати, Кирилл Игоревич, а чем занимается виконт де Кювервиль? Служит где-нибудь?
— Насколько мне известно, до недавнего времени он служил товарищем министра общественных работ. Где сейчас — не знаю, но можно попробовать его отыскать.
— Вот мы и дома, — сказала я, когда фиакр остановился перед калиткой отеля «Сабин».
Чудесно! — воскликнул князь и подал мне руку, выйдя из экипажа. — Мы добрались на удивление быстро. Полина, скажите, зачем вам это? Искать убийц, проверять улики — то пальто, не то… Пусть парижская полиция разбирается. Вам, женщине и дворянке, не пристало.
— Не будет она разбираться, — вздохнула я. — Что ей русский художник и его подруга-натурщица?
Поняв, что князь Засекин-Батайский не поддержит меня в моих изысканиях, я решила действовать через Мону. Но сначала надо было похоронить несчастных.
***
Добиться выдачи тела Андрея оказалось нелегко. На следующее утро я снова зашла к Моне, и мы с ней отправились в полицию. Сидеть в длинных неуютных коридорах нам пришлось несколько часов, и все из-за бюрократических формальностей. Под различными предлогами нам отказывали, посылали в разные кабинеты департамента, пока наконец к нам не вышел полицейский и не протянул два предписания.
— Спасибо, — робко поблагодарила я чиновника. — Что теперь с ними делать?
— Передайте эти бумаги в погребальную контору. Там все устроят как подобает.
Он козырнул и ушел.
— Пойдем, — сказала Мона, — нужно найти приличных похоронных дел мастеров.
Мы шли по залитым солнцем бульварам. На сердце у меня немного отлегло, и я наконец решилась спросить:
— Мона, скажи, что заставило тебя совершить вчера столь безумный поступок?
Ах, дорогая Полин, — вздохнула она, — вы, иностранцы, сложили особое мнение о французах, а особенно о парижанах: мол, это галантные любвеобильные мужчины и кокетливые романтичные дамы. Париж очень любит приехавших на неделю, но не очень привечает оставшихся на всю жизнь.
— Это понятно… — Я вспомнила безрадостные письма Андрея.
— Поэтому дело чести для парижанина — показать иностранцу, какой он сердцеед и как искушен в таинствах любви. Именно приехавшие на короткий срок путешественники разнесли по всему миру миф о любвеобильности, расточительности и галантности французов.
— Разве это миф? — удивилась я.
— Конечно, милая Полин! — рассмеялась Мона. — Поддерживать реноме местный житель может неделю, не более. Даже месяц для него слишком много. На самом же деле средний француз скуп, расчетлив и выжимает деньги из всего, что только попадется ему на глаза. Состоятельный человек может выкинуть бешеные деньги на бриллианты для своей возлюбленной или на десятки корзин цветов, но только если она появится в этих бриллиантах на балу и все вокруг будут перешептываться: «Невероятно! Он так богат!» — а цветы будут украшать не спальню дамы, где, кроме нее, их никто не увидит, но вход в дом, куда приглашены десятки гостей.
— Ты считаешь, что французы любят показывать себя?
— Да.
— Кто же этого не любит? Знаешь, как русские купцы прикуривают от ассигнаций или кидают роскошные шубы в грязь на глазах у зевак, дабы женщина, которой они домогаются, могла дойти до кареты, не испачкавшись?
— Но только французы сумели показать всему миру, что галантность и страсть — главные качества их натуры.
— Допустим, ты права. А танец-то при чем? Как он соотносится с тем, что ты сейчас сказала?
— Мне захотелось отомстить Оллеру за то, что он заставил меня выйти на сцену в день смерти сестры. Чтобы начались беспорядки, чтобы полиция пришла и закрыла кабаре. А что вышло? Оллер прибежал ко мне в уборную, расцеловал, сунул двести франков и сказал, что завтра закажет Тулуз-Лотреку афишу: «Несравненная Мона и ее напрягшийся сосок». А как бушевал Огюст!
— Кто это?
— Виконт, мой покровитель, я тебе говорила о нем. Я ему сразу приказала молчать и не сметь мне указывать! Пусть не думает, что если он дает мне деньги, то я — его собственность!
— Скажи, Мона, твой виконт был знаком с Протасовым?
— Конечно. Я их познакомила. Сестра попросила найти для ее друга покупателя, вот я и сказала Огюсту. Но ему не понравились картины Андре, он так ничего и не купил, и Сесиль на меня надулась.
— Ему не нравятся импрессионисты?
— Ему не нравится все французское! Это воспитание его матери, немецкой княгини, всю жизнь считавшей брак с французом мезальянсом. Не понимаю, как можно родиться во Франции, прожить всю жизнь в Париже и обожать сосиски с кислой капустой, как какой-нибудь Фриц или Ганс! Меня с души воротит, когда я чувствую этот запах!
Только что Мона ругала французов, теперь обратила свой гнев на немцев. Я понимала, что это раздражение — всего лишь следствие того душевного состояния, в котором находилась девушка. Если бы виконт ее не устраивал, стала бы она поддерживать с ним длительную связь?
— Мона, прошу тебя, устрой мне встречу с виконтом. Мне очень нужно поговорить с ним об Андре. Это очень важно!
Зачем тебе? — удивилась она. — Они же только раз и виделись, когда Андре приходил ко мне с картинами. Ни о чем особенном не говорили. Огюст посмотрел картины и сказал, что ему ничего из них не подходит. Но раз тебе надо, после похорон я поговорю с де Кювервилем.
Тем временем мы добрались до улицы Фонтен-Сен-Жорж, на которой нестерпимо пахло навозом. На доме номер десять висела табличка: «Эдмон Кальмез, прокат лошадей и экипажей». Вся улица была запружена фиакрами. Около соседнего дома стояли два катафалка, украшенные атласными рюшами и кистями. Вывеска гласила: «Антуан Сен-Ландри и зять. Погребальные услуги».
— Это здесь, — сказала Мона, — войдем.
Звякнул колокольчик, и нам навстречу поднялся толстый румяный человечек в черной визитке, застегнутой над круглым животом на одну пуговицу, и с усиками, закрученными колечками. Он вышел из-за столика, на котором лежали образцы крепа. В углу, на массивной вешалке с затейливыми крючками разной величины, висели цилиндры. На лице гробовщика не появилось улыбки, обычно сопутствующей приходу клиентов. Напротив, он изо всех сил попытался скрыть радость и нахмурить брови, дабы выразить нам соболезнование. Но сангвинический темперамент брал свое, и человечек безуспешно боролся с его проявлениями.
— Чем могу быть полезен, уважаемые дамы? — Он склонился в полупоклоне.
Мы, не сговариваясь, одновременно протянули ему полицейские предписания о выдаче тел для захоронения. Мсье Сен-Ландри (или его зять, пока это было непонятно) чуть было не потер ладони от удовольствия, что вместо одного покойника получает сразу двух, но вовремя спохватился:
— Как прискорбно! Я вам соболезную! В расцвете лет! Молодая пара! Что это? Несчастный случай? Заразная болезнь? Или… — тут он понизил голос. — Самоубийство? Вы должны знать, медам, что при самоубийстве мы не хороним в церковной ограде. Даже не принимаем такие заказы. У нас почтенная контора.
Он всем видом выражал искреннее сочувствие, только было непонятно: нам по поводу кончины или себе — оттого что заказ в таком случае уплывет.
— Убийство! — хмуро ответила я. — Нам нужно, чтобы все было сделано по высшему разряду.
— Разумеется, — засуетился он. — Не угодно ли взглянуть на образцы глазета, лент, венков? Вот прекрасный венок из жонкилий 27 с пионами. Очень трогательно.
Мона принялась рассматривать образцы, расставленные на эталажах 28 вдоль стены, а я сказала:
— Мсье Сен-Ландри, хочу вас предупредить: один из покойных — православной веры. Поэтому на погребении должен присутствовать священник. Желательно из храма Александра Невского, что на улице Дарю. Вы справитесь с этим поручением?
— Гм… — замялся человечек и опять затянул свою песню: — Наша контора весьма уважаемая и с репутацией… Мы хороним на муниципальном Монмартрском кладбище, и надо будет выправить разрешение… Боюсь, что…
— Свяжитесь с чиновником кладбища Сент-Женевьев-де-Буа мсье Лами. Думаю, он уладит эту небольшую проблему. Место за городом пустынное, найдется кусочек земли для православной души. Хоть покойный и был ортодоксом, по-вашему, все же христианской души человек. Возьмите задаток. Остальное получите после похорон.
Похоронных дел мастер, уже упавший духом от опасения потерять выгодного клиента, порозовел и вновь еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Мона заказала цветы, ленты и другие необходимые аксессуары, и, условившись прийти назавтра, мы покинули погребальную контору.
Я вздохнула с облегчением: важное дело было сделано — мы добились разрешения на захоронение тел и договорились о погребальном обряде. Теперь можно было немного передохнуть.
Уже в фиакре я заметила, какая Мона бледная. Несчастная девушка откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и прошептала:
— Боюсь, я этого не вынесу! Боже, как мне тяжело. Родителей нет, теперь сестра ушла. Я одна в этом жестоком мире.
— Успокойся, дорогая, ты сильная, ты справишься. Больно, но что делать? Надо молиться, молитвы облегчают душу. Завтра я сама отправлюсь к Сен-Ландри, а ты полежи, отдохни и к Оллеру не ходи. Послезавтра похороним обоих. Ты должна обязательно отдохнуть, иначе не сможешь присутствовать на кладбище. А я загляну к тебе. До свидания, милая Мона.
Мы расцеловались на прощание, и я велела кучеру ехать на авеню Фрошо, где меня ждала розовая комната в отеле «Сабин».
— Ах, Полин, луковый суп придется подогревать — вы опоздали, — натянуто улыбнулась хозяйка, увидев меня.
— Ничего, — пробормотала я, стягивая перчатки, — съем холодный.
— Как можно! Идите в столовую, сейчас Жюли подаст вам обед. Да, и еще вам письмо. Без обратного адреса. — Мадам Соланж посмотрела на меня весьма многозначительно.
Она подала мне простой конверт, на котором было написано: «Мадам Авиловой, отель „Сабин“ на авеню Фрошо», — и явно ждала, что я вскрою письмо при ней. Однако надежды мадам де Жаликур не оправдались: я с деланно равнодушным видом сунула конверт в сумочку и прошла в столовую.
Подогретый луковый суп оказался несъедобным. Я осилила несколько ложек и отодвинула тарелку. Следующее блюдо называлось «филе а-ля паризьен, тушенное в фюме 29» и представляло собой кусок говядины, уложенный на гренке. Мясо я съела, а гренку оставила. Полуголодная, я поднялась к себе, заперлась и наконец вскрыла конверт. В нем лежала записка: «Сумасшедший колдун у Эспри Бланша расскажет вам о том, что вы ищете». Больше в записке ничего не было.
Меня охватило нетерпение гончей, взявшей след. Я недолго раздумывала, что делать. Одевшись как можно проще, чтобы не привлекать внимания, я схватила шляпку с самой плотной вуалью и выскользнула из комнаты. Мне не хотелось ни с кем встречаться — нужно было погулять и обдумать, как быть.
Недалеко от улицы Фрошо находился небольшой сквер с резными скамейками. Я нашла укромное место под раскидистым грабом и погрузилась в размышления.
Итак, Андрей убит. Его подружка тоже, причем практически тем же способом. Можно предположить, что преступник был один и убийство он совершил не просто так. Просто так убивают только душевнобольные люди, да и то первого встречного, а не художника и потом его подружку. Нет, это не больной. У убийцы были мотивы. Андрей ему сильно мешал. А потом и Сесиль, так как была посвящена в тайну Андрея. Узнаю эту тайну — найду убийцу.
Может, он картины искал? Но картины в комнате Андрея остались нетронутыми, они даже пылью покрыты. Он не мог их никому продать. Так что здесь ничего интересного. А что было ценного у Сесиль? Ее эротические статуэтки с искаженными формами? Их убийца тоже не тронул. Значит, Сесиль убили как свидетельницу. Или как сообщницу Андрея, посвященную в его тайну. Но вот свидетельницу чего? Это мне надо было выяснить в первую очередь.
В папке с бумагами, которую я забрала из комнаты Андрея, находился рисунок с изображенными на нем министром иностранных дел Гирсом и, предположительно, виконтом де Кювервилем. Мона рассказала, что у виконта мать немка и что он обожает все немецкое. А Гире трудится над заключением русско-французского союза против немцев. И одновременно встречается в пивной на Монмартре с пронемецким виконтом. Это наводит на интересные размышления. Вдруг Андрея убили те, кто заметил этот рисунок? А раз рисунок в папке и убийцы его не нашли, значит, это неопровержимая улика против русского министра. Следовательно, дело еще не закончено и убийства будут продолжаться. Тогда встречаться с виконтом — все равно что самой лезть в петлю! А я так неосторожно попросила Мону устроить нам свидание. Судя по газетам, во Франции набирает обороты антигерманская истерия, могут полететь даже невинные головы. А моя голова мне дорога, как ничья другая.
Но, с другой стороны, если я не ввяжусь в расследование, убийца останется безнаказанным, так как полиция не будет вмешиваться в политический конфликт двух государств.
В скверике стало прохладно. Я встала и пошла по дорожке, продолжая размышлять. На ходу я достала из сумочки записку и вновь ее перечитала.
Почерк не мужской и не женский. Могла писать женщина с сильным характером, а мог и субтильный мужчина. Кто такой Эспри Бланш? Жаль, я не спросила Матильду Ларок — эта дама, по-моему, знает обо всем, что происходит в Париже, везде у нее есть приятели и хорошие знакомые. А что, если записку написала она? Тогда тем более надо ее расспросить.
— Вот так встреча! И опять на том же месте, — услышала я за спиной насмешливый голос. — Как бы ты ни переодевалась, Полин, у художника глаз наметанный.
Приподняв вуалетку, я пристально посмотрела на стоявшего передо мной Улисса, не понимая, как ноги сами привели меня к пивной «Ла Сури»?
— Здравствуй, Улисс! Тебя уже выпустили из тюрьмы? — совершенно раздосадованная этой встречей, довольно бестактно спросила я.
— Что мы стоим на пороге? — улыбнулся он и взял меня под руку. — Давай зайдем, выпьем пива.
Внутри все было как и в прошлый раз: много народу, облака табачного дыма, снующие гарсоны с подносами, уставленными кружками. Отсутствовали только веселые художники.
— Прости мне мою бесцеремонность, — сказала я, когда мы отыскали свободный столик. — Я не была готова к встрече, но очень рада твоему возвращению.
— Ну что ты… А уж как я рад! Теперь напишу картину «Узник, глядящий сквозь решетку на вольную голубку» и оправдаю тем самым кратковременное заключение во французской тюрьме. Ты какое пиво будешь?
Я колебалась — показать Улиссу странную записку или нет? Кто его знает, может быть, он убил Андрея, а сейчас сидит и тихо-мирно беседует со мной за кружкой пива. И я спросила о другом:
— Скажи, Улисс, Андрей был талантлив?
Художник ответил не сразу. Он пригубил пива, потом пристально посмотрел на меня, словно прикидывая, как я отнесусь к его словам, и сказал:
— К сожалению, нет, Полин. Более того, он ворвался в наш мир с надменностью провинциала: вот сейчас он свежим взглядом все окинет и выдаст новую концепцию в живописи. Зачем? Все это уже не раз было говорено и обсосано до костей. Потому скучно… Хотя надо отдать ему должное, школа у него хорошая, в ваших художественных заведениях отлично учат основам. Головы Аполлона, торсы и геометрические фигуры с тенями у него получались великолепно, но и только. Ни живости, ни фантазии, ни нового видения — ничего. Ноль. Пустота. — Улисс пожал плечами и хмыкнул: — Надеюсь, я тебя не слишком огорчил? Обидно, когда так говорят о соотечественнике и, может быть, о близком человеке, не правда ли?
Он смаковал пиво и глядел на меня, ожидая моей реакции. В его взгляде чувствовалась мужская настойчивость, и мне показалось, что он критиковал не протасовские композиции, а самого Андрея как мужчину.
— Тогда зачем этот Кервадек пришел выкупать его полотна, если они гроша ломаного не стоят? — спросила я.
— Он всегда так делает. — Отставив пустую кружку, Улисс закурил. — Вложения на пару франков, а дивиденды принести может. Себастьян продаст эти холсты с небольшой наценкой бедным художникам под грунтовку. Или в качестве модных картин провинциальным растяпам. Или, в самом крайнем случае, если вдруг Протасов окажется гением, галерейщик станет монополистом и сможет заламывать любую цену. Но этому не бывать…
— Почему же? Всегда существует вероятность. Улисс скептически посмотрел на меня и улыбнулся:
— Ты до сих пор его любишь, Полин. А ему, кроме живописи, ничего не надо было. Даже Сесиль привлекала его, лишь когда он настолько уставал, что не мог держать в руках кисть. И что вы, женщины, находите в русских?
— Душу…
— Странная эта душа. Саморазрушительная. Чего проще, рисуй себе что получается и деньги зарабатывай. У него получались копии — рука твердая, глаз верный. Я вот рисую натюрморты и морские пейзажи. Имею довольно стабильный круг покупателей. Мои картины берут в галерею «Буссо и Валадон», где заведует Ван Гог, продают на улице Виль д'Эвек — там тоже неплохой магазин. Я имею стабильный доход и положение. Недавно пригласили преподавать живопись. И я не суюсь в неизведанные дали. Зачем?
— Как зачем? Чтобы выразить себя! — ответила я.
— Художник, милая Полин, подобен куртизанке. Сначала ему нравится писать, как начинающей куртизанке нравится заниматься любовью, и он делает это ради собственного удовольствия. Потом — не только ради себя, но и ради удовольствия других, иначе его не поймут. И наконец, он пишет только ради денег. Понятно, что Тулуз-Лотрек может себе позволить буйствовать: он несчастный уродец из богатой семьи, и ему не нужно заботиться о пропитании. Пусть рисует своих страшных проституток и кафешантанных певичек — публика падка на искусство с запашком. Но Протасов!..
— А что Протасов? Он тоже куртизанка?
Однажды я зашел к нему в мастерскую и вижу: лежит обнаженная Сесиль, позирует. Я глянул на холст. Андре загрунтовал его, долго смотрел то на натурщицу, то на холст и поставил посредине большую черную точку. «Ты начал рисовать Сесиль с глаза?» — спросил я. «Нет, это она вся», — ответил он. Потом превратил точку в черный овал, потом в треугольник. Затем треугольник стал квадратом. Протасов продолжал сосредоточенно водить кистью по холсту, и я понял, что у него не в порядке с головой. Я даже посоветовал ему обратиться к доктору Бланшу.
— К кому? — переспросила я, не веря своим ушам.
— К психиатру. Есть у меня знакомый доктор психиатрии, Эспри Бланш, он пользует Тулуз-Лотрека и других художников. Я действительно обеспокоился. Перед Протасовым лежит красивая нагая девушка, а он рисует черный квадрат и не обращает на нее никакого внимания. Это же форменное сумасшествие!
— Тебе нравилась Сесиль? — спросила я, чтобы не показать заинтересованности в докторе Бланше.
— Никогда француз в присутствии одной дамы не скажет, что ему нравится другая, но я швед. Да, она мне нравилась. В ней было что-то настоящее, искра божья. Сесиль, в отличие от Андре, была талантливым скульптором. Ей бы чуточку огранки…
Улисс откинулся на спинку стула и снова закурил. Он смотрел на меня так, словно я была одной из его натурщиц. Я поежилась, да и разговор начал меня несколько раздражать.
В этот момент к нам подошел Доминик Плювинье.
— Вот где я тебя нашел, Полин! Привет, Улисс! Очень хорошо, что вы оба здесь! Скажи, Улисс, ты брал у Сесиль ключи от квартиры Андре?
— А чего ты меня спрашиваешь? Ты что, полицейский комиссар?
Я прикоснулась к рукаву его бархатной блузы.
— Улисс, ответь, если тебя не затруднит. При обыске в квартире Сесиль ключи так и не были найдены.
— Пожалуйста, — кивнул он. — Ключи, которые лежали на столике в комнате Сесиль, я машинально сунул в карман, когда заметил бездыханное тело. Их отобрали в тюрьме Консьержери как вещественное доказательство. Только вот вещественное доказательство чего — мне невдомек. Кому их потом передали, не знаю. А что, собственно говоря, произошло?
— В мансарде Протасова случился пожар. Соседка обгорела, но, к счастью, жива. Все картины Андре сгорели, мансарды больше нет, еле-еле успели спасти от огня другие квартиры.
— А кто поджег?
— Неизвестно.
— Доминик, ты проводишь меня туда? Улисс, мне нужно тебя покинуть. Бежим!
Я поднялась из-за стола и поспешила вслед за репортером.
Дом на улице Турлак представлял собой плачевное зрелище. От верхнего этажа остался только остов. На улице толпились взволнованные соседи. Мы подошли поближе, и Плювинье спросил:
— Это поджог или само загорелось?
— Что вы такое говорите? Как могло само? Чердак был заперт уже несколько дней, — ответил пожилой мужчина в засаленном халате и домашних туфлях. — Несомненно, поджог. В мансарде революционер жил, бомбист длинноволосый. Уже неделя, как сбежал. Небось, сам вернулся и поджег, чтобы следы замести. Я слышал, как бомбы на чердаке рвались. Только искры летели!
— Глупости какие! — всплеснула руками простоволосая дама в платье с буфами. — Все знают, что мадам Гранде очень неаккуратно печку топит — вот искра и залетела.
— Негоже вам такое говорить, мадам Амабль, — возмутилась другая соседка, в фартуке с крупным воланом. — Я видела: третьего дня ваш сыночек Роже бегал со свечкой по лестнице. Как вы только ему разрешаете? Он же сожжет все, что осталось!
— Подумаешь, бегал, — ответила мадам Гранде. — Загорелось-то сегодня, а не третьего дня. Так что мой сын ни при чем! Следите лучше за своей вьюшкой — у вас трубочист последний раз два года назад был.
— Скажите, пожалуйста, — обратилась я к спорящим соседкам, — не заходил ли кто чужой в дом? Вы не видели?
— Может, и заходил, — пожала плечами мадам Амабль. — Наша консьержка захворала и отсутствовала сегодня на своем месте. Значит, любой мог зайти. Сколько раз говорила: нельзя оставлять дом без присмотра! Если консьержка болеет — ее муж должен сидеть на входе, или сын, или нанять кого.
— Кого она наймет, мадам Амабль? Вы же знаете, муж у нее грузчик, с утра до вечера работает, а сын такой беспутный — никакого толку, если он будет сидеть при входе, одно расстройство!
— К Мадлен часто ходят чужие, — вмешался мужчина в халате. — Проститутка она. И в жандармерии на учете состоит как гулящая. У меня кузен в жандармах, он все знает.
— Постыдились бы, папаша Мартель! — воскликнула дама в фартуке с воланом. — Да что вы такое говорите?! Несчастную девушку перед чужими позорите! Ведь чахотка у нее.
— А мужчины все равно ходят! — насупился сосед.
Уважаемые дамы, сможем ли мы сейчас поговорить с мадемуазель Мадлен? — обратился Доминик к спорящим женщинам. — Я репортер газеты «Ле Пти Журналь», и мне хотелось бы взять интервью у спасшейся девушки.
— Нет, никак нельзя, — покачала головой мадам Гранде. — Ее увезли в больницу Сальпетриер. Бедняжка вся обгорела. Она чудом осталась в живых.
— Как туда добраться? — спросила я.
Репортер взял меня под локоть:
— Полин, не волнуйся, я знаю, где это. Больница находится в Ботаническом саду, около площади Контреэскарп. Завтра мы поедем туда и расспросим девушку, если она в силах будет отвечать.
— Это больница для проституток. Их там видимо-невидимо! — снова завелся папаша Мартель. Наверняка у него имелся огромный зуб на несчастную девушку.
— Что-нибудь удалось спасти из мансарды? — спросила я.
— О чем вы говорите! — Мадам Амабль удивленно посмотрела на меня. — Даже стен не осталось — все выгорело. Как мы сами спаслись — уму непостижимо! Выскочили кто в чем, даже времени одеться не было. А потом пожарные и наши квартиры водой залили, но мансарду не спасли. Вот хозяину убыток.
— Ничего, он не бедный. Каждые полгода квартирную плату повышает, — отозвалась еще одна соседка, кутающаяся в широкую шаль с кистями. — Мы тут все небогатые, а в мансарде художник жил, тихий такой, скромный, так у него вообще никогда ни сантима не было, только холсты да рамы — вмиг все занялось, словно сухое сено. Такой факел в темноте горел — на другом берегу Сены, думаю, видно было!
— А кто девушку спас?
— Один из пожарных. По приставной лестнице поднялся прямо в окно и спас. Она уже без сознания была. Пожарные и отвезли ее в больницу, бедняжку.
— Понятно, спасибо вам за разъяснения, — сказала я жильцам.
— Не забудьте газету принести, зря, что ли, мы тут распинались? — буркнул на прощанье папаша Мартель. — А то как расспрашивать — все лезут, а как отблагодарить — так никого.
Мы распрощались со всеми, и Доминик вызвался проводить меня домой. Через десять минут мы оказались на бульваре Рошешуар.
— Давай посидим здесь, Полин. Ты еле на ногах держишься от переживаний.
Мы сели на массивную скамейку, скрытую под каштанами. Сквозь разлапистые листья светили звезды. Луна еще не достигла своего пика, но ее света было достаточно, чтобы на земле образовались четкие бархатные тени. Доминик положил мне руку на плечо и легонько привлек к себе:
— Устала, бедняжка… Сколько на тебя навалилось, моя маленькая девочка.
Он приподнял вуаль моей шляпки и стал покрывать поцелуями мое лицо и волосы. Я сидела неподвижно и ни одним движением не выказывала своих чувств — мне просто было хорошо, я отдыхала. Нежные прикосновения его губ напоминали мне ласки Андрея. Но когда молодой человек начал расстегивать пуговицы на воротничке платья, пелена спала с моих глаз.
— Нет, Доминик, оставь… Не сейчас, я не могу так. — Я отвела его руку от себя. — Андре еще не погребен, завтра похороны… Я не хочу.
— Ты любила его? — спросил он, но не отстранился. Будто ждал, что я изменю свое к нему отношение.
— Он любил меня, — уклончиво ответила я.
— И этого достаточно, чтобы приехать за ним в другую страну и сейчас хранить верность покойнику? Вы, русские, странные люди, вас не понять!..
— Не надо понимать, просто будь со мной, Доминик. Мне спокойно в твоем присутствии. Ты хороший человек, и мне бы не хотелось, чтобы ты на меня сердился.
— Хороший человек и только? Такое говорят неудачливому поклоннику, когда желают от него избавиться. Ты еще скажи, что относишься ко мне как сестра! — Вот теперь Доминик отодвинулся от меня с видом обиженного ребенка. — Полин, ты одной рукой притягиваешь меня к себе, а другой — отталкиваешь. Зачем ты это делаешь? Неужели ты не хочешь просто развеяться, отрешиться от мрачных дум? Я предлагаю тебе свои объятья, а ты отвергаешь их. Неужели тебе ничего не хочется? Разве ты не женщина?
Мне надоело спорить, и я ответила:
— Ты прав, мой друг, может, в будущем я и воспользуюсь твоим предложением. А сейчас проводи меня домой, я очень устала за сегодняшний день.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Человек никогда не бывает
так несчастлив, как ему кажется,
или так счастлив, как ему хочется.
Утром меня ожидали свежайшие круассаны и кофе со сливками. Хозяйка, князь и мадам Ларок завтракали и слушали мой рассказ о пожаре в мансарде. Они ахали, когда я описывала несчастную Мадлен, увезенную пожарными в Сальпетриер, и факел, взметнувшийся вверх. Когда я в настроении, то могу рассказывать весьма красочно.
— Уверена, что полиция во всем разберется, — заявила Матильда. — По моему мнению, пожар вспыхнул вовсе не от случайной искры. Не бывает таких совпадений, когда и художник сам утонул, и мансарда сама сгорела.
— Все может быть… — задумчиво произнес князь, промокая губы салфеткой.
— А у меня всегда печные трубы в порядке, — похвасталась мадам де Жаликур. — Я вызываю трубочиста, по меньшей мере, дважды за зиму. А что касается дома на улице Турлак, то его хозяин, мсье Рене, всегда сдает комнаты неизвестно кому. Не удивлюсь, если в его доме еще что-нибудь произойдет.
Хозяйка даже не поняла, что проявила бестактность. Я отложила круассан в сторону и поднялась с места:
— Мадам, в том доме жил мой близкий друг. И он не «неизвестно кто». Если вы считаете его неподходящей личностью для того, чтобы сдавать ему квартиру, то, следовательно, и я для вас личность более чем подозрительная. Я готова немедленно переехать в другой отель, их в Париже достаточно, а вы мне вернете часть полученных за комнату денег.
— Ну что вы, дорогая Полин! — засуетилась хозяйка. — Разве так можно?! Я вас очень уважаю. Я и не думала вас обидеть. Прошу меня простить, я совсем не вас и не вашего друга-художника имела в виду. Мсье Рене сдает комнаты проституткам и разным сомнительным личностям, поэтому у него в доме все может произойти.
Несмотря на ее извинения, я совершенно не была уверена в их искренности.
— Хорошо. Думаю, что инцидент исчерпан. Мне нужно идти.
В коридоре меня догнал князь.
— Полина, умоляю вас, будьте осторожны, — понизив голос, сказал он. — Мне пришло в голову, что этот пожар неспроста. Там заметали следы. Или искали что-то, а потом уж подожгли. Сдается мне, что вашу папку с рисунками…
— Спасибо за предупреждение, Кирилл Игоревич. У меня к вам просьба: кто бы ни спрашивал, не рассказывайте никому о рисунках, которые я вам показывала. Договорились? Ведь, кроме меня и вас, никто не знает, что папка у меня, так что если узнают…
Тут я вспомнила, что о папке знает еще Доминик. Он был в мансарде, когда я ее забирала. Неужели он?! Как часто он появлялся на моем пути, причем происходило это всегда как бы невзначай и очень вовремя. А я еще позволила ему целовать меня…
— Вы думаете, преступник напал на след? — спросил Засекин-Батайский.
— Вполне вероятно, но прошу вас, князь, никому ни слова.
— Будьте спокойны, Полина, не проговорюсь.
Зайдя к себе в комнату, я заперла дверь. Мысль о том, что Доминик Плювинье может быть замешан в убийствах и поджогах, казалась мне отвратительной, но, как назойливая муха, она беспрестанно жужжала у меня в голове.
Надев перчатки и шляпку, я выглянула в окно. Небо хмурилось. Ночью прошел ливень, и дождь мог вот-вот начаться снова. Я решила взять с собой тонкую мериносовую накидку и зонтик, чтобы ненастье не застало меня врасплох.
Как хорошо, что я ни с кем не столкнулась, выходя из отеля. Мне совсем не хотелось объяснять, куда я направляюсь.
Я взяла фиакр и в больницу Сальпетриер доехала за четверть часа.
Итальянский сад, разбитый перед больницей, благоухал ароматами, которые, однако, не могли заглушить запахи карболки и вареного лука. Я шла по мокрой дорожке, любуясь неизвестными мне растениями с огромными листьями, папоротниками и лианами, омытыми ночным дождем. Вход в больницу утопал в зарослях плюща. Сочная зелень скрывала место, где обосновались горе и смерть.
— Постойте, мадемуазель, можно вас спросить? — остановила я пробегающую мимо сиделку в белом платке с красным крестом. — Где мне найти больную, которую привезли вчера вечером с улицы Турлак? Ее зовут Мадлен, а фамилии, к сожалению, я не знаю.
— Что с ней случилось?
— Обгорела при пожаре.
— Не знаю, спросите у доктора Леграна, он занимается ожогами.
— А куда идти?
— Через двор, на второй этаж.
— Благодарю вас.
Внутренний двор больницы Сальпетриер был образован высокими, похожими на крепостные, стенами. Площадка перед входом была вымощена крупными неровными плитами, поэтому приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться и не попасть каблуком в щель между камнями.
Доктора Леграна я нашла быстро. Мне его показала сиделка. Он сидел на больничной койке и выстукивал по спине худую женщину, надрывно кашлявшую. Я подождала, пока он закончит осмотр пациентки, и спросила:
— Доктор, я ищу девушку по имени Мадлен, ее привезли вчера вечером с ожогами.
— Зачем она вам?
— Мне нужно кое-что у нее спросить. Дело в том, что она пострадала при поджоге комнаты моего покойного друга, и мне бы хотелось выяснить некоторые обстоятельства.
Доктор покачал головой:
— Не могу вас к ней пропустить, она в плохом состоянии, говорить с ней нельзя.
— Что же делать? Помогите мне! От ее ответа многое зависит… — Я умоляюще посмотрела на него.
— Идите к заведующему клиникой, доктору Бабинскому. Если он разрешит, так и быть, пущу, но ненадолго.
Доктор Жозеф Бабинский, несмотря на славянскую фамилию, оказался типичным французом с холеными усами. Я постучала в дверь его кабинета и услышала громкое «войдите!». Моему изумлению не было предела — у заведующего клиникой сидел мой старый знакомый, полицейский Прюдан Донзак в штатском платье. Я даже забыла поздороваться, просто стояла и смотрела, пока инспектор не обернулся.
— И вы тут, Полин! Идете по следу, стало быть? На пятки наступаете… Нехорошо мешать полиции в расследовании.
— Простите мне мою настойчивость, мсье Донзак, но я не могу пустить на самотек то, что касается Андре.
— Почему на самотек? Почему вы берете на себя прерогативу полиции? Разве вы не видите — мы расследуем, не сидим без дела.
— Что вас привело сюда, мадам… — густым баритоном спросил доктор Бабинский.
— Авилова. Полин Авилова. Меня привела сюда уверенность в том, что девушка пострадала от рук убийцы. Тот, кто лишил жизни моего друга, поджег и его квартиру. Комната Мадлен — ближайшая к мансарде, наверняка она что-либо видела или слышала. Позвольте мне задать ей вопрос! Только один, прошу вас!
— Вопросы буду задавать я, — отрезал сыщик.
— И в моем присутствии, — добавил доктор. — Не то бедной девушке совсем плохо станет. А вы подождете за дверью.
— Но как же так?.. — пролепетала я, поняв, что все козыри были на их стороне.
Бабинский пропустил Донзака вперед и вышел вслед за ним. Я поплелась сзади. Мы прошли длинными коридорами. Бабинского поминутно останавливали врачи, а инспектор Донзак смотрел на меня так, будто я наступила ему на мозоль. Но я упорно игнорировала его недовольный взгляд и следовала за ними.
У двери палаты сидела пожилая женщина в чепце. Увидев доктора в сопровождении полицейского инспектора, она встала и поклонилась.
— Как себя чувствует больная? — спросил Бабинский.
— Лучше. Пришла в себя, но сильно стонет. У нее сейчас полиция. Ее допрашивают.
Какая полиция?! — вскричал Донзак и распахнул дверь. За ним ринулся Бабинский, а я, не спросив разрешения, зашла последней и затворила дверь.
Окно над кроватью было распахнуто. На постели лежало нечто бесформенное, укрытое одеялом. Доктор откинул его, и мы увидели подушку, закрывавшую лицо девушки.
— Полин, выйдите немедленно из палаты, — приказал Донзак, увидев меня рядом с собой, и повернулся к доктору. — Она задушена подушкой. Преступник выскочил в окно.
— Вижу, — нахмурился Бабинский. — Надо расспросить сиделку. Позовите ее сюда.
Я обрадовалась, что для меня это повод остаться, и открыла дверь, чтобы пригласить женщину, сидевшую у двери.
Ничего не подозревающая сиделка вошла в палату и остановилась перед кроватью.
— Почему вы оставили тяжелобольную одну в палате? — суровым тоном проговорил доктор.
— Этот господин сказал, что он из полиции и что ему надо допросить девушку, — растерялась сиделка, испуганно переводя взгляд с Бабинского на Донзака.
— И вы поверили ему на слово? Или он показал вам какой-либо документ? — спросил Донзак, накаляясь от гнева.
— Нет, ничего не показал. Он заявил, что он из полиции, и приказал мне выйти за дверь. Я сначала не хотела его пускать, потому что больная была совсем плоха, но полицейский настаивал, и я подчинилась.
— Он не полицейский! — взревел Донзак так, что сиделка отшатнулась и прикрыла лицо руками. — Он преступник! Убийца! А вы помогли ему совершить преступление!
— Простите, господин инспектор! Я не хотела… — Сиделка чуть не повалилась в ноги Донзаку, но мы с Бабинским ее удержали.
— Успокойтесь, успокойтесь, Иветт, — сказал Бабинский. Мне показалось, что передо мной разыгрывается классическая игра в злого и доброго инквизитора. — Не плачьте, сосредоточьтесь и расскажите инспектору, как выглядел преступник.
— Пышные рыжие усы с бакенбардами, борода, тоже рыжая, очки в роговой оправе, котелок, темный плащ. Точь-в-точь как у полицейского. Я знаю, у меня деверь в полиции служит, в округе Трокадеро, на хорошем месте. У него точно такой же плащ. Я потому и не сомневалась. Пропустила, и все.
— Все понятно, накладные волосы, — махнул рукой Донзак. — Хитер… Побудьте здесь, а я посмотрю следы под окном, земля после дождя мягкая.
Когда полицейский вышел, я обратилась к доктору Бабинскому:
— Доктор, скажите, пожалуйста, вам знаком человек по имени Эспри Бланш?
— Конечно, — ответил он. — Это мой коллега, психиатр, заведует клиникой для душевнобольных.
— А где она находится? В Париже?
— Да, в саду принцессы Ламбаль, а точнее — пригород Пасси, улица Басе. Позвольте поинтересоваться, мадам Авилова, зачем вам понадобился доктор Бланш?
— В его лечебницу ведет тоненькая ниточка, связанная с этим преступлением.
— Простите великодушно, но вам-то зачем? Это дело полиции.
— Я же говорила вам: убили моего друга, русского художника. Потом убили его подругу — задушили так же, как и его. А теперь вот эту девушку… Я пытаюсь сама кое-что предпринять. И в клинике доктора Бланша я, возможно, найду ответ. Вдруг это его недолечившийся пациент или, еще хуже, сбежавший? Ведь все три убийства совершены одинаково — жертвы задушены.
— Понятно, — кивнул Бабинский. — Пойдемте ко мне в кабинет, я напишу вам записку к нему. Все-таки старый приятель, вместе учились в Сорбонне, попрошу поспешествовать.
— Спасибо, доктор, вы очень меня этим выручите. Не знаю, как вас и благодарить.
— Не стоит благодарности. Я с глубоким уважением отношусь к русской медицинской школе, а работой вашего хирурга Пирогова по ринопластике 30 зачитывался, когда еще был студентом. Так что желаю вам успеха в вашем начинании, хотя считаю, что это не женское дело.
— Всего наилучшего, доктор.
Я уже вышла из кабинета, когда доктор Бабинский окликнул меня:
— Постойте! Если вдруг вы понадобитесь полиции, где мне вас найти? Оставьте мне ваш адрес.
— Пожалуйста, запишите: отель «Сабин» на авеню Фрошо.
Выйдя из здания, я повернула за угол и оказалась под окном, откуда выпрыгнул убийца. Донзак склонился над клумбой, рассматривая следы и ничего не замечая вокруг себя. Присев рядом, я тоже устремила взгляд на влажную почву.
— Нашли что-нибудь, мсье Донзак? — спросила я, дотронувшись до его плеча.
— Примята трава, а четких отпечатков только два, и то неполные, — машинально ответил он и рассердился: — Идите домой, мадам! Что вам тут надо? Без вас полно работы.
У вас будет еще больше работы, инспектор, если вы не посмотрите сюда. — Я расстегнула сумочку и достала из нее носовой платок с завернутым в него кусочком глины.
— Что это? — Донзак протянул руку. — Дайте мне!
Но я не дала ему слепок, а осторожно положила его рядом с влажным следом, так чтобы подковки легли параллельно.
— Смотрите, на обоих отпечатках одинаковые подковки. И шляпка гвоздика немного выдается.
— Да, действительно, очень интересно. Откуда это у вас? — удивился Донзак.
— За домом Сесиль в то утро стоял фиакр, который поджидал убийцу, и рядом со следами колес я увидела вот это.
— Как вы об этом узнали?
— Мне показал это место соседский мальчишка, — объяснила я. — Мальчишки, они востроглазые и видят иногда больше взрослых.
— Вы правы, Полин. Но почему вы не сказали мне сразу?
— Вы бы меня снова прогнали, велев не совать нос не в свои дела, не так ли?
Он поднялся с колен и через силу произнес:
— Если найдете еще нечто подобное, милости прошу. А это, с вашего позволения, я заберу.
— Всего наилучшего, мсье Донзак.
В нескольких шагах от моста Аустерлиц я опять столкнулась с Плювинье.
— Доминик, что случилось? Ты преследуешь меня?
Полин, я не перестаю тобой восхищаться, ты настоящая женщина! — улыбнулся он. — Все события в мире связываешь исключительно со своей особой. Нет, я здесь не из-за тебя. Полчаса назад неподалеку отсюда ограбили одно известное лицо, а я веду криминальную хронику в «Ле Пти Журналь», поэтому я здесь.
— Как ты узнал? — изумилась я. — Ведь ограбление произошло совсем недавно! Ты вездесущ?
— Ты слышала поговорку «дьявол прячется в мелочах»?
— Уж не хочешь ли ты сказать…
— Нет, нет, — засмеялся он, увидев испуг на моем лице, — я совсем не это имел в виду.
— Французская поговорка, правильно? — спросила я. — Моя гувернантка всегда повторяла ее, заставляя меня мыть уши и шею перед сном.
— Верно, — кивнул Плювинье. — Если бы у меня не было сотни-другой добровольных помощников во всех частях Парижа, которые за небольшое вознаграждение сообщают мне интересующие меня сведения, я бы не смог вести колонки в нескольких газетах. А так я и в «Фигаро» подвизаюсь, и в «Ла Газетт».
Я успокоилась. Мои подозрения насчет участия Плювинье в убийствах показались мне смешными и беспочвенными. Да и ступает он мягко, а не клацает подковками о булыжную мостовую.
— Доминик, ты смог бы мне помочь? — Я подумала, что лишняя пара глаз мне не помешает.
— С удовольствием, милая Полин!
— Есть ли у тебя соглядатаи в особняке виконта де Кювервиля? Мне нужно кое-что узнать, сумеешь?
— Это связано с убийством твоего возлюбленного?
— Не скрою, я хочу больше узнать об этом виконте. Уж больно часто его фигура появляется рядом.
— Например?
— Он любовник Моны, танцовщицы из «Мулен Руж».
— Ну и что? У каждого уважающего себя виконта должна быть любовница — певичка или танцовщица.
— А то, что эта Мона, или Женевьева, как ее назвали папа с мамой, родная сестра Сесиль Мерсо, тебе ни о чем не говорит?
— Вот это да! — восхитился Плювинье. — Быстро же ты раскопала! Ты думаешь, он хотел сестричку, а она не согласилась, и тогда…
— Доминик, у тебя слишком богатое воображение, да еще отягощенное профессией. Все не так.
— А как?
— Сама хочу узнать. Поэтому помоги мне, пожалуйста, если можешь. А сейчас мне пора на отпевание в православный храм, оттуда на кладбище. Ты будешь на похоронах?
— Буду. Хочу и об этом поместить заметку в газету.
— Спасибо, до встречи, Доминик.
***
Прежде чем отправиться в храм Александра Невского, я заехала домой, надела темное платье и прицепила траурную вуаль на шляпку. На улице Дарю уже стоял катафалк под балдахином черного бархата, с позументом, бахромой и шнурами. С козел привстал и поклонился мне молодой человек в черном цилиндре. «Это, наверное, зять Антуана Сен-Ландри, того круглого человечка из погребальной конторы, — подумала я. — Как все-таки деловито все устроено у французов: катафалк стоит у храма, как было договорено. Сам возница в церковь не вошел по причине католического вероисповедания, но ждет там, где следует».
В глубине души я гордилась собой. Прежде я никогда не занималась похоронами. Моего супруга и тетку Марию Игнатьевну хоронил Лазарь Петрович. А теперь здесь, в чужой стране, мне пришлось заниматься всем от начала до конца. И я справилась.
Я вошла в храм и перекрестилась.
Гроб стоял на постаменте под золотым покровом. Знакомый мне благообразный священник читал заупокойную молитву: «…Судие неба и земли, внезапу, в час, в оньже не чаяхом и не мнихом. Тако внезапу призван бысть к Тебе усопший раб Твой, брат наш Андрей. Неизследимы и непостижимы пути дивнаго Твоего смотрения на нас, Господи Спасителю!..» Вокруг стояли старушки в черных платках и низко кланялись. Откуда в Париже оказались эти простые старушки с московскими лицами? За ними я увидела высокого, крепко сложенного мужчину. Он стоял со свечкой и крестился. Никогда прежде я его не видела, но было ясно, что он оказался в храме не случайно.
Заупокойная служба была недолгой. Уже в самом конце ее в храм, громко топая, кто-то вошел. Я обернулась, чтобы узнать, кто этот невежа. Против света невозможно было разглядеть его, но коренастая фигура с широкими плечами показалась мне знакомой. За фигурой мелькнула маленькая черная тень в красной феске. «Арапчонок!» — ахнула я про себя.
— Аполлинария Лазаревна, голубушка, вы ли это? — увидев меня, басом прошептал Николай Иванович Аршинов. — Что произошло? Кого хоронят?
— Тише, прошу вас! — ответила я, сжав его руку. — Андрюшу…
— Не может быть! Что случилось?
— Потом, Николай Иванович, потом все расскажу, — еле слышно произнесла я.
Отпевание закончилось, гроб перенесли на катафалк.
Около ворот к нам подошел тот самый человек, которого я заметила в церкви.
— Позвольте представиться, — поклонился он, — Константин Алексеевич Коровин, живописец. Я был знаком с Андреем и видел его работы. Он был талантлив, только опередил свое время, поэтому-то его никто не понимал. Попомните мои слова-, через двадцать-тридцать лет его картины будут цениться выше классиков, Ватто, Энгра и иже с ними.
— Приятно слышать, Константин Алексеевич. Меня зовут Аполлинария Лазаревна Авилова, мы с покойным Андреем были из одного города, N-ска. А это мой хороший друг Николай Иванович Аршинов.
— Казачий атаман, Саратовской губернии. — Аршинов пожал художнику руку.
— Недавно мы со Львом Бакстом, театральным художником, говорили о Протасове, — продолжил Коровин. — Андрей, несомненно, талантлив! Его смерть явилась для меня ударом. Жаль, что уходят молодые, в расцвете сил. Мой вам совет, госпожа Авилова: пусть наследники спрячут картины надолго. Через много лет они принесут большой доход.
— Нечего прятать, господин Коровин, — вздохнула я. — В мансарде Протасова произошел пожар, все картины погибли! Полиция до сих пор разбирается — случайность это или преднамеренный поджог.
— Весьма, весьма прискорбно. — Коровин покачал головой и надел шляпу. — Позвольте откланяться, Аполлинария Лазаревна, спешу в Академию художеств. Мои соболезнования.
— Прощайте, спасибо вам за то, что пришли, господин Коровин, — ответила я и вернулась в храм, чтобы опустить лепту в кружку для пожертвований.
***
Над пригородным кладбищем Сент-Женевьев-де-Буа низко летали вороны, оглашая окрестности карканьем. Две могилы были вырыты рядом. Пришедших проводить Андрея и Сесиль было немного, человек двадцать — двадцать пять. Среди прочих я узнала Улисса, который поддерживал плачущую Мону, князя Засекина-Батайского — он разговаривал с владельцем галереи Себастьяном Кервадеком. В стороне стояла группа молодых людей — художники и танцовщицы из «Мулен Руж». Оллер, владелец кабаре, вытирал лоб камчатым платком, недовольно косился на девушек, но молчал. Доминик Плювинье что-то записывал в блокноте.
Два священника, отец Иоанн и католический, читали молитвы. Конечно, это было вопиющим нарушением церковной процедуры как одной конфессии, так и другой, но гробовщики специально так расставили гробы, чтобы святые отцы не мешали друг другу, а те делали вид, что не замечают около себя никого.
— Добрый день еще раз, — прозвучал сзади меня голос. Я обернулась. Немного в отдалении, за высоким памятником в виде ангела, стоял мсье Донзак.
Подойдя ближе, я спросила:
— Почему вы прячетесь, мсье Донзак? Вы думаете, что убийца присутствует на похоронах?
— Не исключено… — Сыщик осекся и подозрительно посмотрел на Аршинова.
Я поняла его подозрительность.
— Разрешите представить: мой друг из России мсье Аршинов. Николай Иванович, это полицейский, мсье Донзак, он расследует дело об убийстве Андрея.
Мужчины обменялись рукопожатиями.
— Вы уж постарайтесь, мсье Донзак, — на ужасном французском пробасил Аршинов, — поймайте негодяя. Протасов — мой соотечественник, и мне крайне скорбно наблюдать его похороны. Своими руками придушил бы мизерабля.
— Каждый из нас, мсье, выполняет свои обязанности…
Аршинов поклонился, и мы отошли от Донзака. Священники закончили читать молитвы, служители приготовились опустить гробы в могилы. В этот момент на кладбищенской аллее появилась карета, запряженная парой гнедых арабских лошадей. Ее дверца была украшена инкрустированным гербом с короной. Сзади, на запятках, стоял лакей в парике и ливрее. Все повернулись в сторону экипажа.
Из кареты вышел небольшого роста человек с окладистой светлой бородой, пышными усами и бакенбардами. Одет он был в обычный костюм серого сукна, но на правом рукаве у него была повязана траурная лента. Это был виконт. Он подошел и встал рядом с Моной, но так, словно он не заметил ни ее, ни Улисса, обнимавшего девушку за плечи.
— Николай Иванович, — прошептала я, — вам знаком этот человек? Вон тот, с бородой?
— Нет, совершенно не знаком, — ответил Аршинов. — Кто он? Уж больно важную персону из себя строит.
— Потом расскажу. У меня есть серьезные подозрения, что он замешан в преступлении.
— Вы сообщили об этом полиции?
— Нет, не успела. После похорон подойду к инспектору.
— Не надо! — Он схватил меня за руку. — Не будут лягушатники таскать этакого вельможу на допросы ради художника-иностранца. Сами разберемся, что к чему, не привыкать.
Я не разделяла мнения бравого казака. К служаке Донзаку я испытывала искреннее уважение. Но спорить с Аршиновым не стала — кладбище не лучшее место для этого. Я лишь надеялась, что прячущийся за ангелом Донзак увидит виконта и сделает соответствующие выводы.
Траурная церемония подходила к концу. Гробы опустили в могилу, и мы подошли бросить по горсти земли. Это все, что мне осталось сделать для Андрея.
Слез у меня не было. В могилу опускали человека, с которым меня связывали часы радости, но не любви. Но за эту нечаянную радость я благодарила и Господа, и ныне преставленного.
Похороны закончились. Люди стали расходиться. Князь подошел ко мне еще раз выразить соболезнование, и я познакомила его с Аршиновым:
— Надолго в Париж? — спросил Засекин-Батайский.
— Как получится, — ответил казак. — Дело, оно суеты не терпит.
— Мадам Ларок передает вам свои соболезнования, Аполлинария Лазаревна, — сказал князь. — Она не смогла почтить присутствием.
— Спасибо, Кирилл Игоревич.
— Вы домой?
— К сожалению, нет, — ответила я, — у меня еще дела.
— Я провожу вас, — вызвался Аршинов.
— Нет, спасибо, Николай Иванович, не стоит затрудняться.
Я поклонилась могиле Андрея, на которой стоял простой православный крест с косой перекладиной, и направилась к выходу. Надо будет еще раз заехать в погребальную контору Антуана Сен-Ландри и заказать двойной памятник. Пусть Андрей и Сесиль будут вместе, как в последние месяцы жизни. А теперь меня ждал скорбный дом на улице Басе в пригороде Пасси.
***
Мне захотелось пройтись, и я вышла из фиакра возле красивого сада, спускающегося к Сене террасами. Полюбовавшись великолепными тенистыми виноградниками, я стала искать вход: извозчик объяснил мне, что больница расположена сразу за каштановой аллеей. Поплутав немного, я решила спросить кого-нибудь из местных жителей, поэтому зашла в небольшое кафе на тихой уютной улочке и заказала кофе. Меня обслужил сам хозяин, толстый краснолицый мужчина лет шестидесяти, в клетчатом фартуке и с полотенцем, переброшенным через плечо. Кроме меня, посетителей в кафе не было.
— Зовите меня папаша Робер, — представился он, поставив на столик чашечку с черным кофе. — Меня так уж тридцать лет называют.
— Очень приятно, папаша Робер, меня зовут Полин, — ответила я.
— Вы нездешняя, я сразу заметил, — сказал он, оглядывая критическим взглядом мое темное платье и шляпку с густой вуалью. — Прячетесь от кого или следите за неверным возлюбленным? — его бестактность оправдывал только добродушный тон, которым он задавал вопросы. — На этой деревенской улочке никто просто так не появляется, в нашем предместье нет ни модных лавок, ни кабаре с ресторанами. Уверен, вас сюда привело какое-нибудь дело, разве не так?
— Угадали, папаша Робер, — улыбнулась я, отпивая крепкий кофе. — Я ищу больницу доктора Эспри Бланша. Мне сказали, что она находится где-то здесь, в саду принцессы Ламбаль. Но я заблудилась и поэтому прошу у вас помощи.
Папаша Робер протер полотенцем край стола, присел напротив меня и спросил:
— Знаете ли вы, в каком месте находитесь? О! Здесь каждый камень — история.
— Интересно. Расскажите, прошу вас.
— Много лет тому назад мой отец построил здесь придорожный трактир. Это сейчас городская черта проходит за нами, а раньше тут была самая настоящая деревня: на пригорке пасли коз и гусей, а куры копались в пыли прямо на дороге — экипажи проезжали редко. Да что экипажи — телега утром проедет, вот и весь шум за день. Неподалеку били целебные источники, говорят, что их воды хорошо помогали при ипохондрии и разлитии желчи, и отец надеялся, что парижане, приезжая сюда поправить здоровье, будут заходить в трактир пообедать. У нас бывали путешественники из Льежа и Оверни, направлявшиеся по своим надобностям в Париж, да иногда заезжали столичные гости, чтобы в тишине и покое отведать матушкиной стряпни — вкусной жареной печенки и свежевыпеченных лепешек и выпить молодого вина с соседних виноградников. Торговля шла потихоньку, и не было нужды что-либо изменять — на жизнь хватало. В полулье отсюда стоял межевой камень, разграничивавший владения графа Пасси и графа д'Отей, а напротив, вон там, на склоне холма, утопал в зелени старинный особняк барона Дельсера, сахарозаводчика и большого поклонника деревенской жизни.
Нынешнему саду больше ста лет. Принцесса Тереза-Луиза де Савуа-Кариньян, дочь принца Савойского, в шестнадцатилетнем возрасте вышла замуж за богатого, как Крез, герцога Пантьеврского, принца де Ламбаль, внука Людовика Четырнадцатого и мадам де Монтеспан. Бедняжка была несчастна с мужем-вертопрахом, не пропускавшим ни одной юбки, но в скором времени Бог услышал ее молитвы, и она овдовела. Юная вдова принца де Ламбаль приказала разбить роскошный парк с садом и оранжереей. Богатая принцесса, фрейлина и любимица ее величества королевы Марии-Антуанетты, могла позволить себе такую дорогостоящую прихоть. Сад спускался широкими террасами почти до Сены — вы и сейчас можете их видеть, — а по аллеям гуляли многочисленные друзья и знакомые принцессы, любившей принимать у себя поэтов и драматургов. Даже сама королева наведывалась в гости к своей подруге.
Во время революции 1791 года принцесса бежала, но вскоре вернулась, так как не нашла в себе силы предать королеву, которую арестовали септембристы. Ее тут же схватили, а спустя несколько месяцев предали страшной казни: истерзанную, изуродованную бедняжку привязали к лошадям и протащили по улицам. Отрубили ей груди, руки, а один из республиканцев похвалялся, что будет вечером ужинать сердцем принцессы де Ламбаль.
— Какой ужас! — воскликнула я. — Неужели эта женщина была таким страшным врагом революции?
Трактирщик ухмыльнулся:
— Были враги и пострашнее де Ламбаль, но принцессе ставили в вину не только преданность королеве — за это просто полагалась гильотина, — ее обвиняли и в другом страшном преступлении.
— В каком? — спросила я.
Папаша Робер огляделся и, понизив голос, многозначительно произнес:
— Ее называли «трианонской 31 Сапфо» и кавалерственной дамой «анандринского ордена». В этот орден входили только женщины, а мужчин к нему и близко не подпускали. И скажу я вам, Полин, дыма без огня не бывает. Поговаривали, что высокородные герцогини и маркизы задались целью отвратить простых женщин от мужчин и таким образом довести страну до полного бесплодия. А это хуже, чем революции, — это попрание божеских законов!
— Что за глупости?! — возмутилась я. — Как может кучка герцогинь противостоять естественному желанию всех граждан Франции любить и быть любимыми? Думаю, это был злобный и невежественный навет, вызванный завистью к сильным мира сего. Чего только люди не придумают!
— Глупости, не глупости, а бедняжка принцесса поплатилась жизнью за свою противоестественную любовь к женщинам и, в частности, к королеве-австриячке. Любила бы мужчину — умерла бы, как все, на гильотине.
— Очень познавательно, — мрачно констатировала я, сомневаясь в преимуществе такого завершения жизненного пути. — Но все же, папаша Робер, простите мою настойчивость, мне хотелось бы узнать о лечебнице для душевнобольных.
— Да это здесь, — кивнул трактирщик, — в доме, где раньше была оранжерея для растений из жарких стран. Он там один такой. Сразу увидите.
— И как туда добраться?
— Можно пойти прямо через сад — перед вами будет длинный одноэтажный дом. Это и есть больница, но попасть в нее вы не сможете — очень хитрое здание. То, что вы увидите, — не первый этаж, а стена третьего, и входа там нет.
— Как это стена третьего? — удивилась я.
— Очень просто. Я же говорил, что здесь террасы. Поэтому вам надо сейчас идти вниз по улице де Рок. Дойдете до самого конца и там увидите высокую ограду с коваными ажурными воротами. Это запасной выход между садом Ламбаль и домом Оноре де Бальзака. Откроете калитку, она никогда не запирается, чтобы посетители проходили беспрепятственно, и через нее попадете куда нужно.
Я собралась было поблагодарить словоохотливого трактирщика, но, услышав известное имя, замерла.
— Как вы сказали, папаша Робер, — Бальзака? Писателя?
— Ну да, — кивнул он. — Вон, видите дом номер девятнадцать? Это его дом. Точнее, не совсем его. Он снял его на имя мадам де Бреньоль, которая многие годы была его верной экономкой.
— Зачем ему надо было снимать дом на имя служанки?
— Скрывался от кредиторов. А особняк удобный. Он расположен на склоне горы, и у него несколько выходов. Судебный пристав стучался в главные ворота третьего этажа, а Бальзак спускался на первый, проходил через калитку и по тропинке бежал вниз на дилижанс до Пале-Рояля. Я его помню, он полный такой был, вроде меня сейчас, волосы как воронье крыло, по дому в халате всегда расхаживал. Роскошный халат, муаровый…
— Сколько же вам лет тогда было, папаша Робер? Вы — живая история! — восхитилась я.
— Лет десять-одиннадцать. Я ему свежемолотый кофе носил — он был страстным поклонником кофе. У нас покупал обычный мокко на каждый день, а в соседней лавке, в Пасси, там выбор богаче, — мартиникский и бурбон. Так что вы, Полин, пьете тот же кофе, что и мсье Бальзак. Как вам аромат?
— Неужели! — воскликнула я. — Так вот почему он мне показался необыкновенно вкусным. Спасибо вам за все!
Я оставила на столике двадцать франков и вышла на улицу. Признаться, разговорчивый трактирщик лучше любого доктора по душевным болезням сумел развеять тоску, терзавшую меня.
***
На удивление, кованые ворота с ажурным переплетением были распахнуты настежь, и никто не воспрепятствовал моему проникновению в лечебницу. Я шла по пустынной заросшей аллее, ни единой души не попалось мне на пути.
Я подошла ко входу. Дверь отворилась, и на крыльцо вышел седой мужчина лет шестидесяти пяти. Он снял очки, протер их и снова водрузил на переносицу.
— Простите, вы доктор Бланш? — спросила я. — Мне нужно срочно с вами поговорить.
— Да, — кивнул он. — А в чем дело?
— Меня послал к вам доктор Бабинский, ваш коллега. У меня к вам письмо от него. Погиб мой близкий друг, по этому поводу я хотела бы с вами поговорить. Вы позволите?
— Прошу вас, — он посторонился, дав мне пройти.
Мы молча шли по длинному коридору, и я с любопытством оглядывалась по сторонам. На больницу это заведение не походило никоим образом. Скорее, на дом, в котором живут самые разные обитатели. Навстречу попадались люди в обычной одежде: одни кланялись, приветствуя доктора, и бросали на меня любопытный взгляд, другие, не замечая нас, проходили мимо. Огромные окна бывшей оранжереи выходили во внутреннюю часть парка. По аллеям чинно прогуливались люди, беседуя друг с другом. Некоторые отдыхали на траве, наслаждаясь солнцем, и нигде я не видела тех, кто работает в клинике, — врачей и сиделок. Отличить, кто врач, а кто больной, не представлялось возможным.
— Присаживайтесь, мадам… — предложил мне доктор Бланш и выразительно посмотрел на меня.
— Авилова. Я из России, — ответила я. — Вот рекомендательное письмо от доктора Бабинского. Очень надеюсь на вашу помощь, доктор.
Пока Эспри Бланш читал записку, я рассматривала комнату. Мне захотелось больше узнать о владельце этой необычной больницы.
Кабинет доктора Бланша был выдержан в золотисто-коричневых тонах. Массивная уютная мебель, дипломы в резных рамках на стенах: член ассоциации врачей-невропатологов, выпускник медицинского факультета Сорбонны, доктор гонорис кауза. Только одна картина выбивалась из общего строгого ряда — гравюра с изображением лошади, волокущей обнаженное женское тело, и мужчины, держащего насаженную на пику голову с развевающимися волосами.
— Принцесса де Ламбаль? — показала я на гравюру.
— Верно, — кивнул доктор, — это произошло сто лет назад на этом самом месте. Здешние стены еще помнят принцессу — она любила гулять в оранжерее.
— Как вы объясните такую нечеловеческую жестокость по отношению к женщине? Мне рассказывали, что над ее телом даже надругались каннибалы!
— Революционный невроз, — ответил он. — Ее прикончили не люди, а мощный единый организм по имени «толпа». Это страшно — стоять на его пути: толпа сметает все преграды. У толпы нет оттенков, толпа воспринимает все однозначно — или в черном свете, или в белом. Поэтому я в своей клинике возрождаю в людях индивидуальность, их чувство собственного достоинства и осознание своего «я».
— Так вот почему я не видела больничных халатов! — воскликнула я. — Это так прогрессивно!
Каждый человек — личность, со своими достоинствами и недостатками. А в толпе он растворяется, снимает с себя ответственность за свои отрицательные действия и помыслы и перекладывает ее на других. Он уже не личность, а клетка, не имеющая воли и разума. Я повесил эту гравюру не только потому, что купил дом, принадлежавший когда-то несчастной умерщвленной принцессе, но и чтобы никогда не забывать: садизм толпы не выдумка, а грозная болезнь, которая унесет еще немало жизней…
— Простите, что вы сказали? Садизм? Французский не родной мне язык, и это слово мне неизвестно.
Доктор усмехнулся:
— Это слово неизвестно и большинству французов. Мы, ученые, любим придумывать разные словечки, чтобы объяснять ими то, на что раньше никто не обращал внимания. Мой коллега, доктор Крафт-Эбинг, впервые применил его несколько лет назад в монографии «Половая психопатия» 32, образовав термин от фамилии скандально известного маркиза Донасьена де Сада, любителя пыток и насилия. Не думаю, что это слово выйдет за рамки узкоспециализированных монографий. Все же я оптимист и надеюсь, что мир становится человечнее с каждым годом.
— Да, конечно, — пробормотала я, опустив голову, чтобы скрыть вспыхнувший румянец. Я вспомнила, как читала «Жюстину» скандального маркиза, тщательно пряча книгу от отца и горничной. Как подобная книга могла появиться в библиотеке Лазаря Петровича? Не иначе как по профессиональной надобности.
Эспри Бланш заметил мою реакцию, но интерпретировал ее по-своему:
— Простите, мадам Авилова, я немного заговорился и доставил вам неприятные ощущения. Когда врачи начинают говорить о работе, их не остановить. Что ж, давайте вернемся к нашим баранам 33. У меня совсем мало времени. Что привело вас сюда?
— Дело в том, что я получила странную записку, доктор. Вот она.
Я протянула ему полоску бумаги, и доктор прочитал: «Сумасшедший колдун у Эспри Бланша расскажет вам о том, что вы ищете».
— Занятно. — Доктор снял очки и положил их на стол. Глаза у него были светло-голубые, с темной радужкой, и я ощутила на себе слабое гипнотическое воздействие. Зная, как ему противостоять, я слегка расфокусировала взгляд, как учил меня отец, и уставилась доктору в переносицу. Кажется, он понял, что я ему противостою, поэтому отвел глаза и потер переносицу.
— Поймите, доктор, мне очень нужно найти хоть какую-то зацепку. Убили моего друга, русского художника. Потом убили его возлюбленную, а в больнице у доктора Бабинского умертвили соседку художника, видевшую убийцу. Сгорела мансарда с картинами моего друга. И мне кажется, это не последнее злодеяние. Преступника надо остановить!
— Но ведь это дело полиции, — сказал Бланш, — отнесите записку туда. Почему вы, слабая женщина, к тому же иностранка, занимаетесь этим самостоятельно?
А что плохого в стремлении помочь полиции? Просто я подумала: вдруг преступник знает об этой записке, и завтра у вас в больнице будет на одного покойника больше. Что тогда?
— Но среди пациентов моей клиники нет колдунов, зато многие из них неадекватно воспринимают действительность, то есть они сумасшедшие, если использовать обывательскую терминологию. И что прикажете делать? Подходить к каждому и спрашивать, не колдун ли он? Да от такого вопроса, к тому же заданного мной, у многих тут же начнется рецидив! Нет, мадам, на такое я пойти не могу! И не просите!
— Скажите, доктор Бланш, в вашей клинике лечились знаменитости? Может, автор записки имеет в виду одного из них?
— Конечно, лечились! Рассказав, я не нарушу врачебную тайну, так как сие известно многим. У меня обследовались Жерар де Нерваль 34, Шарль Гуно 35, но это было давно. В прошлом году, к великому несчастью для французской литературы, в моей больнице скончался Мопассан. Более знаменитых, чем Мопассан, я и не припомню. Все больше буржуа да ремесленники — я принимаю в больницу каждого, невзирая на титулы. Так что, боюсь, ничем не смогу вам помочь, мадам Авилова.
— Что же мне делать? — растерялась я.
— Вот что, — неожиданно предложил Эспри Бланш, — через четверть часа у нас вечерняя прогулка перед ужином. Я придерживаюсь мнения, что свежий воздух полезен для укрепления нервов и аппетита. Поэтому все больные выходят в сад. Погуляйте по аллеям, авось кто-нибудь и окажется вашим «колдуном». Вас устраивает мой совет?
— Конечно, устраивает, — ответила я. — Большое спасибо, доктор Бланш.
Я вышла из здания и повернула на главную аллею, чтобы заняться наконец тем, ради чего я приехала сюда с другого конца Парижа.
Медленно идя по дорожке, я беспрестанно вертела головой по сторонам, пытаясь в попадавшихся мне навстречу людях увидеть черты, присущие колдуну. Что это может быть? Нос крючком? Седая борода до пояса?
Пациенты клиники доктора Бланша неспешно прогуливались, разговаривая друг с другом, сидели на траве, на скамейках, установленных вдоль аллей, и на первый взгляд ничем не напоминали душевнобольных.
Устав ходить, я опустилась на массивную скамью с бронзовыми подлокотниками. Спустя несколько минут на ту же скамью уселся чудовищно толстый лысый мужчина в сером потрепанном плюшевом халате и пижамных брюках. Он посмотрел на меня исподлобья, насколько позволяли ему три подбородка, и произнес писклявым голосом:
— Добрый вечер, мадам! Прошу прощения, мы не представлены. Барон Жером Сент-Этьенн-дю-Мон. Прогуливаюсь тут для моциона.
— Позвольте, но Сент-Этьенн-дю-Мон — это церковь, — сказала я.
— Верно, — важно кивнул он. — Это я построил. Меня подвигла на это святая Женевьева. Мы с ней вместе отражали нашествие гуннов на Париж. Это было в 451 году от рождества Христова. Вы слышали об этом?
— Да-да, — поспешно ответила я важному господину. Мне стало как-то неуютно. — Вы живете здесь?
— У меня роскошные апартаменты, и я готов пригласить вас к себе! Пойдемте, я покажу вам раку святой Женевьевы. Она у меня стоит на каминной полке.
— Спасибо, но я очень спешу, — ответила я. Кто знает, что может прийти в голову душевнобольному? — Дело в том, что я ищу колдуна. Он тоже живет здесь. Вы, барон, случайно не знакомы с ним?
— Мадам, — торжественно произнес он, глядя куда-то вбок и словно прислушиваясь к себе. — Я вас поздравляю, вы ненормальная! Вам надо обязательно взять сеансы душа Шарко у доктора Бланша. Неужели вы не знаете, что колдунов нет? Их спалили гунны!
— Может, кто-нибудь остался?
— Нет! — отрезал он. — У нас есть Наполеон, две девы Марии, алхимик, Навуходоносор, а колдунов нет. И не было никогда! Говорят же вам, мадам, — гунны!
— А где мне найти алхимика? — спросила я, сообразив, что Наполеон и Навуходоносор колдунами быть не могут, а уж девы Марии тем более. К тому же Андрей писал мне, что познакомился с алхимиком.
— Барону не пристало интересоваться разным сбродом. — Он тяжело поднялся со скамьи и выпятил живот. — После ужина жду. Советую не опаздывать, мадам.
Не дожидаясь ответа, толстый пациент доктора Бланша повернулся ко мне спиной и пошел по аллее нагуливать аппетит перед ужином.
Обрадовавшись, что общение с психически ненормальным «бароном» закончилось вполне мирно, я поспешила в кабинет доктора Бланша. Он сидел за столом и что-то писал.
— Это опять вы? — недовольно произнес он, снимая очки. — У вас такое состояние, что я бы порекомендовал вам душ Шарко и настой валерианы. Вы возбуждены, и мне не нравится этот тремор.
— Спасибо, доктор. Один из ваших пациентов сказал мне то же самое, — запыхавшись, ответила я. — Только один вопрос: кого в вашей клинике называют алхимиком?
— Алхимиком, алхимиком… — пробормотал Бланш. — Вот, нашел! Жан-Люк Лермит, шестидесяти лет, госпитализирован с диагнозом «острая аменция» 36. Пьяница, поклонник абсента, страдает эпилептическими припадками и галлюцинациями. Когда его привезли в коматозном состоянии в больницу, у него в руке была зажата ложечка с прорезями, через которую растворяют сахар в этот убийственный напиток!
— Могу я с ним поговорить?
— Вы с ума сошли! Ни в коем случае! Больные после ужина должны спать, а не нервировать себя ненужными разговорами. Я запрещаю! Уходите, мадам! У меня и без ваших бредней забот хватает.
Несолоно хлебавши, я повернулась и вышла. На сегодня достаточно. Мне оставалось понять, где здесь можно позвать фиакр…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Мы помогаем людям, чтобы они,
в свою очередь, помогли нам;
таким образом, наши услуги сводятся
просто к благодеяниям, которые мы
загодя оказываем самим себе.
— Полин, как продвигается расследование? — спросила меня Матильда за завтраком. — Что говорит полиция?
— К сожалению, ничего существенного. — Я уклонилась от ответа, не желая рассказывать ни о насильственной смерти соседки Андрея, ни о сумасшедшем колдуне, ни об отпечатках подковок на следах. Все это до поры до времени необходимо хранить в тайне.
— Нужно обратиться к какому-нибудь влиятельному вельможе, чтобы он надавил на полицию. Никогда не стоит пренебрегать связями.
— Но у меня нет таких знакомых в Париже! — возразила я, недоумевая, почему Матильда принимает столь живейшее участие в моем деле.
— А чем вам виконт де Кювервиль не подходит? Он ведь тоже заинтересован в раскрытии двойного убийства, не так ли? Князь рассказал мне, что виконт присутствовал на похоронах мсье Протасова и девушки. Ведь теперь это преступление и его касается — убита сестра его любовницы!
Да, вы правы, я подумаю, — пробормотала я, вставая из-за стола. Мне хотелось прервать этот неудобный разговор. Не буду же я рассказывать всем о своих подозрениях в отношении виконта.
Я отложила в сторону салфетку, кивнула присутствующим и пошла к себе наверх собираться. Нужно было снова ехать в больницу Пасси, чтобы встретиться с Жан-Люком Лермитом. Может, утром он будет вменяемым и доктор Эспри Бланш допустит меня в палату «сумасшедшего колдуна». Конечно, на многое я не рассчитывала, но оставаться в отеле и тратить попусту время мне не хотелось.
Когда я переодевалась у себя в комнате, в дверь постучали.
— Полин, вас внизу дожидается один господин, — послышался из-за двери голос хозяйки.
— Спасибо, я спущусь через четверть часа. Мне нужно привести себя в порядок, — ответила я, не пустив ее внутрь. Я понятия не имела, кому я еще понадобилась.
В гостиной сидел Аршинов. Сегодня Николай Иванович пришел без арапчонка. И одет был в цивильное — чесучовую пару, белую рубашку и галстук в тон чесуче. В руках он держал шляпу с низкой тульей. Вместо сапог Аршинов надел ботинки на крепкой подошве, которые совершенно не подходили к узким брюкам. Сказать по правде, казачий чекмень и шаровары шли ему больше. В этом костюме он выглядел бульдогом в попонке.
— Доброе утро, Аполлинария Лазаревна, — пробасил Аршинов, встав с низкого кресла и протянув ко мне руки. — Вот, решил зайти к вам, перед тем как по делам отправиться. Спросить, все ли в порядке, не нужно ли чего. Чувствую за собой обязанность вас опекать, раз уж встретились на чужбине.
Спасибо, Николай Иванович, — рассмеялась я. Мне было приятно осознавать, что находятся люди, которым небезразлично мое благополучие. — А куда вы с утра собрались? Да еще таким франтом!
— И не говорите! В этой одежке чувствую себя, как карась, облепленный глиной. Намереваюсь в отель «Лувр-Конкорд» визит нанести, к министру иностранных дел Гирсу. Вот поэтому я так и оделся. В казацкой одежде к нему не пускают, а в этой непривычно, да что поделаешь — не я ему нужен, а он мне.
Узнав о том, что Аршинов направляется к Гирсу, я мгновенно соотнесла это сообщение со своими намерениями, и у меня возник план. Проведя гостя в мою комнату, я усадила его на диван и, умоляюще сложив руки, сказала:
— Николай Иванович, миленький, возьмите меня с собой к министру! Я вас очень прошу!
— Зачем вам понадобился его превосходительство? — удивился Аршинов.
— Возможно, Андрюшу убили из-за него. У меня есть улики.
— О чем вы говорите? Разве такое возможно? — всполошился Аршинов.
— Погодите… — Я подошла к комоду и достала папку с рисунками. — Удостоверьтесь самолично, что глаза меня не обманывают.
Аршинов взял протянутый мною рисунок, на котором был запечатлен министр иностранных дел Гире с человеком в клетчатой пелерине.
— И что? Ну, сидит человек, разговаривает. Министры тоже люди и иногда позволяют себе выпить пива. Может, он у себя в кабинете сидит.
— Посмотрите на стены. Это же интерьер «Ла Сури», монмартрской пивной. Чтобы министр сидел в подобном заведении?! И вдруг убивают Андрея, потом его девушку и соседку. Вы не знаете, а мне известно: везде мелькает вот эта клетчатая пелерина, которую я случайно увидела в шкафу у Моны, сестры Сесиль. Теперь вам понятно?
— Ничего не понятно! Кто такая Мона?
— Любовница вот этого! — ткнула я пальцем в рисунок.
— Полина, не порите горячку! Как маленькая, ей-богу! Вы просите взять вас к министру, чтобы бросить ему в лицо обвинения, а они смехотворны и подкреплены только этим наброском. Да вас немедленно вышлют в Россию, там посадят в тюрьму и правильно сделают! И чтобы я решился на такое? Никогда!
— Что же делать? Николай Иванович, миленький, помогите!
— И не просите! Куда вы лезете? Это же большая политика!
— Тогда я сама пробьюсь к Гирсу. Я все-таки подданная Российской империи и дворянка. Он не сможет меня не принять. И тогда я выложу ему под нос этот рисунок.
— Подождите, дайте подумать. — Аршинов зашагал по комнате, печатая шаг. Хорошо, что пол устилали войлочные дорожки. Вдруг он остановился, поднял вверх палец и сказал: — Придумал! Сделаем вот каким образом…
И замолчал.
— Говорите! — взмолилась я.
— Вы будете моей невестой. Не по-настоящему, конечно, а на время. Только так я смогу взять вас с собой.
— Но вы ведь женаты!
— Да, но сейчас это не имеет никакого значения. Скажу Гирсу, что супруга не желает ехать со мной в Абиссинию, а вы хотите. Поэтому я вас беру с собой.
— Послушайте, Николай Иванович, — возмутилась я, — в какое безнравственное положение вы меня ставите! Называться невестой при живой жене… Нет, я не могу пойти на это! Гире немедленно нам откажет!
— Хорошо, — согласился он. — Собирайтесь, раз уж решили. Как говаривал местный, всеми любимый император: главное — ввязаться в драку, а там посмотрим.
Аккуратно поместив в ридикюль бумаги, из которых следовало, что я вдова географа-путешественника, члена Императорского Русского географического общества (они давали небольшое преимущество при покупке железнодорожных билетов, поэтому и оказались в моем багаже), я положила между ними рисунок Андрея и вышла из комнаты.
Аршинов остановил садовника, сунул ему монету и приказал на русском языке:
— Поймай-ка нам карету, милейший! — При этом так хлопнул его по спине, что садовник опрометью бросился выполнять приказанное, отлично поняв, чего хотел от него странный русский.
Аршинов поцеловал пухлую руку хозяйки, щелкнул каблуками (в ботинках у него это получилось несколько комично) и, взяв меня под руку, повел к фиакру. Мадам де Жаликур смотрела ему вслед с немым обожанием.
***
Отель «Лувр-Конкорд» располагался прямо у Лувра, в самом сердце Парижа. Сидя в фиакре с открытым верхом, я рассматривала собор Парижской Богоматери, сад Тюильри и Вандомскую площадь, которую мы пересекали. Из-за событий, обрушившихся на меня, я так и не смогла в этот раз побывать в местах, составляющих славу и гордость прекрасного города, и поэтому наслаждалась поездкой, читая волнующие названия: «Комеди Франсез», «Опера Гарнье». От этого почему-то сладко сжималось сердце. Как много в Париже чудесных мест!
Из-за аркад сада Пале-Рояль показался фасад отеля «Лувр-Конкорд». Вдоль улицы стояли конные экипажи с форейторами в расшитых камзолах. У парадного входа, между двумя апельсиновыми деревцами в кадках, вытянулся ливрейный лакей, важный, как наполеоновский маршал.
Мы вошли в роскошный вестибюль с черными мраморными колоннами, поддерживающими высокий потолок. Люстра в виде огромного ананаса сияла над головой ослепительным светом, и тысячи огоньков дробились в ее хрустальных подвесках. Мраморную лестницу справа от входа окаймляла изящная балюстрада. Тяжелые портьеры цвета бургундского вина были подняты вверх, чтобы не заслонять прекрасный вид на Лувр и сад Пале-Рояль.
К нам подошел служащий и поинтересовался, чем он может помочь.
— Нам назначена аудиенция у его высокопревосходительства, министра иностранных дел России, — ответил Аршинов, сняв шляпу.
— Вас проводят, — поклонился тот.
Сопровождающий оказался молодым человеком в строгом черном костюме и с редкими волосами, зализанными на макушке.
— Прошу за мной, господа, — сказал он нам по-русски и открыл дверцу лифта.
Медленно движущаяся роскошная кабина, обитая красным бархатом, поднималась на третий этаж. Тихо звякнув, лифт остановился, и мы вышли в широкий коридор.
— Сюда, — позвал нас молодой человек.
Войдя в небольшую зеленую прихожую с диванчиками, я остановилась и огляделась. Мне все было интересно, и я наслаждалась видом красивых вещей.
Номер был отделан с изяществом: паркет из трех сортов дерева, покрытый прозрачным лаком, обои под шелк в стиле модерн с лиственным орнаментом, в углу мраморный камин, неподалеку от него напольные часы с боем, на потолке — бордюрная лепнина с позолотой и розеткой для хрустальной электрической люстры.
В противоположной стороне от входа была еще одна дверь, около которой за небольшим письменным столом сидел чиновник. Увидев нас, он встал и взял в руки бумагу.
— Господин Аршинов?
— Да, — подошел к нему Николай Иванович, — это я.
— Но, — нахмурился тот и еще раз глянул в бумагу, — в списке аудиенций указано: вы один допущены к его высокопревосходительству. Соблаговолите объясниться.
— Причина нашего совместного появления в том, что мадам Авилова, вдова коллежского асессора, моя единомышленница, и мы прибыли с ней по одному и тому же делу, не терпящему отлагательства.
— Извольте подождать, я доложу его высокопревосходительству, — сказал молодой человек с прилизанными волосами, как мы поняли — секретарь.
Ждать пришлось недолго. Я сидела и рассматривала засушенных гигантских бабочек под стеклом. Аршинов стоял у окна, покачиваясь с носков на пятки и заложив руки за спину. Вновь появившийся секретарь, кивнув, пригласил нас войти в кабинет министра иностранных дел Российской империи Николая Карловича Гирса.
Человека, сидевшего за столом, я узнала сразу. Он был одет в мундир, а не в цивильное платье, как на рисунке. Прозрачные серые глаза смотрели на нас без всякого удивления. Министр махнул рукой, приглашая садиться.
— Позвольте, ваше высокопревосходительство, представить вам госпожу Авилову, — чинно произнес Аршинов и поклонился. — Аполлинария Лазаревна изъявила желание участвовать в экспедиции в Абиссинию, поэтому мы пришли вместе, надеясь на ваше снисхождение к этому проекту.
— Насколько мне известно, господин Арши-нов, — после небольшой паузы сухо сказал Гире, глядя почему-то на меня, — четыре года назад вы отправились в Абиссинию, но вернулись ни с чем. На вас были потрачены огромные суммы из государственных средств. Вы обещали колонию на берегу Баб-эль-Мандебского пролива — стратегического района выхода из Красного моря в Индийский океан. Как видите, я неплохо осведомлен о цели вашего путешествия.
— Но, ваше высокопревосходительство… — начал было Аршинов.
— Не перебивайте меня! — оборвал его Гире. — И теперь вы опять беретесь за свое, надеясь снова получить солидный куш из государственной казны! У вас идефикс, и об этом я не раз уже говорил. Мне надоело, господин Аршинов! Ваши россказни, просьбы, тысяча и один способ выклянчивания денег… — Гире обернулся ко мне: — Но вы, мадам… Как вы могли поддаться на посулы столь ненадежного господина, только недавно состоявшего под надзором полиции?
— Позвольте ответить, ваше высокопревосходительство, — сказала я, подавшись немного вперед. — Страстью к путешествиям заразил меня покойный супруг, Владимир Гаврилович Авилов, член Императорского Русского географического общества. Он странствовал по всему миру и, вернувшись, рассказывал мне, совсем еще юной и ничего не видевшей в жизни, кроме женского института, о дальних и экзотических странах 37. А потом он умер, оставив мне небольшой свободный капитал. И я подумала: почему бы мне не попутешествовать? Вскоре, на свое счастье, я познакомилась с господином Аршиновым.
— Это неразумно с вашей стороны, госпожа Авилова, — сухо заметил Гире. — Ваш супруг исследовал неизвестные уголки земли к вящей славе империи, вам же в голову пришла блажь. Лучше бы детей воспитывали.
— Расширять границы империи и защищать ее от иноземцев, желающих отхватить от нее кусок, — превеликое дело для каждого верноподданного! — пробасил Аршинов.
— Умерьте пафос, милостивый государь, — скривился министр. — Наипервейшее дело женщины — быть верной женой и рожать детей, а не пускаться в авантюры. Этим она принесет России большую пользу, чем хождением в Абиссинию.
— К сожалению, у меня нет детей, ваше высокопревосходительство. Я рано осталась вдовой.
— Простите, — буркнул Гире.
Настал благоприятный момент для осуществления миссии, ради которой я вызвалась сопровождать Аршинова.
— Ваше высокопревосходительство! — воскликнула я, вынимая бумаги из сумочки. — Посмотрите, вот бумаги, свидетельствующие о том, что я не самозванка, а действительно вдова члена Императорского Русского географического общества!
Привстав, я протянула бумаги Гирсу. Он машинально взял их и принялся перелистывать. Увидев рисунок, министр замер. Пауза продолжалась не более нескольких секунд. Гире поднял голову, пристально посмотрел на меня и сухо сказал, возвращая бумаги:
— К сожалению, господа, министерство иностранных дел не видит надобности в финансировании экспедиции в Абиссинию. Личный совет: откажитесь от этой безумной и пустой идеи. Займитесь более плодотворным и полезным начинанием. Всего наилучшего, не смею задерживать. — 1йрс вызвал секретаря. — Проводите!
Он резко встал и выпрямился, мы поднялись тоже. Секретарь стоял у двери и выжидающе смотрел на нас. Пришлось уйти несолоно хлебавши.
Когда роскошный отель «Лувр-Конкорд» остался позади, Аршинов посмотрел на меня и горько произнес:
— Вот так разбиваются мечты, Полина. Зря я приехал в Париж…
В его словах мне почудилось: «Зря я взял тебя с собой…» Он был так трогателен и нелеп в своем узком чесучовом костюме и шляпе…
— Николай Иванович, выслушайте меня и не перебивайте, — сказала я. — Хочу задать вам один вопрос: о какой сумме идет речь? Сколько нужно, чтобы снарядить корабль в Абиссинию?
— Очень большие деньги. Около восьмидесяти или даже ста тысяч рублей.
— Я дам вам сто тысяч на экспедицию.
— Вы смеетесь надо мной, Аполлинария Лазаревна! Оставьте! Откуда у вас такие деньги? Да если бы и были, я все равно не взял бы их у вас.
Он снял шляпу, достал из кармана платок и вытер лоб.
— Николай Иванович, дорогой мой, поверьте, я богатая женщина. У меня тетка умерла и приказала на ее деньги путешествие снарядить. А если я ее волю не выполню, то через пять лет лишусь наследства. Время идет, тетушка три года как почила в Бозе, а я еще никуда не ездила. — Я взяла Аршинова под руку. — И не надо на меня смотреть с таким недоумением, вы не спите, и я вам не снюсь. Я вас подвела, попросив взять с собой к министру, а там влезла и все напортила. Вот и расплачусь как смогу. Мне это совершенно не трудно.
Аршинов смотрел на меня, будто впал в столбняк.
— Вы это серьезно говорите? — наконец спросил он, придя в себя.
— Конечно. Кто же такими вещами шутит?
— Аполлинария Лазаревна! Полина! Вы себе не представляете, что вы для меня делаете! — вскричал Аршинов. Ноги его подкосились, он упал на колени и схватил меня за обе руки. Несколько человек с любопытством наблюдали эту сцену. Наверняка они были уверены, что пылкий русский объясняется в любви даме сердца. — Да я готов вам ноги целовать, спасительнице! И не только я, а целая община казаков с чадами и домочадцами, что дожидаются моего возвращения с деньгами от министра. Спасибо вам! Корабль снарядим, все самое необходимое закупим! Досок, утвари, скобяного товару. Полный отчет дам, уж вы не сомневайтесь!
— Ну, полно, полно, Николай Иванович, — ответила я, отнимая руки, которые он покрывал поцелуями, — не стоит благодарности. Ведь не для себя просите, для общества и отечества ради. А это дорогого стоит. Переедут ваши казаки на вольные хлеба, авось и меня вспомнят добрым словом. Махните кучеру, мне домой пора.
Уже садясь в фиакр, я обратила внимание, что на тротуаре стоит и пристально смотрит в нашу сторону молодой секретарь с прилизанными волосами…
***
Одна мысль, засевшая глубоко в мозгу, не давала мне покоя. Я помнила Андрея молодым здоровым человеком с гладкой кожей и прекрасным цветом лица. Его светлая бородка никогда не кололась, а руки были мягкими и нежными, как у девушки, несмотря на то, что он работал у отца в мастерской и ему частенько приходилось браться за пилу и рубанок.
Почему произошла такая страшная метаморфоза? Почему художники, у которых наметанный глаз, считали Андрея пожилым человеком? Откуда эти страшные борозды, рассекшие его лицо, которое я совсем недавно покрывала поцелуями? Может, он пристрастился к абсенту, как тот старик, пациент доктора Бланша?
Мне захотелось немедленно выяснить эту загадку, и я внезапно изменила свое решение ехать домой.
— Николай Иванович, прикажите кучеру отвезти меня в полицейское управление, — попросила я Аршинова.
— Зачем вам, Полина? Поезжайте домой, отдохните, а то на вас лица нет — все думаете о чем-то. Неужели хотите сами изловить убийцу?
— Прошу вас, прикажите кучеру, — повторила я. Мне не хотелось открывать Николаю Ивановичу свои подозрения. Еще, глядишь, увяжется за мной.
— Все расследуете, — вздохнул он, но просьбу выполнил.
Через четверть часа мы подъехали к Сюртэ.
— Вас проводить?
— Спасибо, не надо. Не ждите меня, Николай Иванович, я вернусь сама. Всего наилучшего!
Войдя в полицейское управление, я попросила провести меня в кабинет господина Бертильона.
«Великий измеритель» стоял, склонившись над конторкой, и вертел в руках тот самый деревянный циркуль, с которым я видела его в прошлый раз.
— Добрый день, мсье Бертильон, — сказала я. — Вы меня помните?
Он прищурился.
— Если вы дадите измерить себя по четырнадцати признакам и я сравню данные с картотекой, то, вполне вероятно, смогу вас идентифицировать. Если же вы тут впервые, то — увы…
Улыбнувшись про себя, я подумала, что столь оригинального предложения от мужчины мне еще не поступало. Меня звали замуж и приглашали на чашечку кофе, предлагали деньги и намекали на интимные отношения, но измеряли меня только модистки и корсетницы, да и те были дамами.
— Скажем так, мсье Бертильон, я здесь не впервые, но к вашим измерениям отношения не имею. Я постараюсь не занять много времени.
— Слушаю вас, э… — с явным нетерпением ответил он, желая вернуться к бумагам.
— Мадам Авилова, — сказала я. — Дело вот в чем: несколько дней назад вы обмеряли тело русского художника по имени Андре Протасов.
— Как же, помню! — воскликнул Бертильон. — У него еще шишка таланта была. Очень большая шишка в верхнезатылочной части черепа.
— Я не о шишке, мсье Бертильон, хочу спросить вас, а о морщинах на лице и руках. Ему было чуть больше двадцати, и год назад я видела его лицо гладким и свежим. Когда же меня пригласили на опознание, я была поражена глубиной морщин, прорезавших его лицо. Чем вы можете объяснить появление старческих признаков в столь юном возрасте? Только лишь влиянием воды, в которой находилось тело?
Мсье Бертильон почесал бороду и задумался.
— Трудно сказать, я не врач и не могу судить о том, что происходит внутри человеческого тела. Я лишь обмеряю снаружи и записываю антропометрические показатели. Хотя… Лет десять назад я читал один немецкий медицинский журнал. В нем была напечатана статья профессора Августа Вейсмана из Фрейбурга, установившего причины старения и смерти. Он что-то нашел в клетке организма и показал: если стареет клетка, то и все тело стареет вместе с ней. Меня тогда очень поразило то, что мы зависим от микроскопических частиц, которые невозможно измерить. — Адепт измерений достал платок и громко чихнул. — И вот что еще я заметил, мадам Авилова: при том, что кожа лица, шеи и кистей рук утопленника были сморщены и покрыты старческими морщинами, само тело соответствовало возрасту двадцати трех — двадцати шести лет.
— Как это? — не поняла я.
— У меня появилось ощущение, что ваш знакомый работал несколько лет у плавильной печи, в раскаленном воздухе. От этого его открытые кожные покровы сморщились и состарились, а те места, что были скрыты под одеждой, остались целыми и невредимыми.
— О каких нескольких годах вы говорите, мсье Бертильон? Я только что сказала — еще год назад у Андре не было этих ужасных морщин, и на родине он работал не у плавильной печи, а в столярной мастерской. Не было там никакого раскаленного воздуха.
— Может быть, ваш друг был скульптором? Им приходится лично наблюдать за разливкой бронзы в опоки.
— Нет, — ответила я. — Не в этом дело. А в чем — не знаю. Поэтому я к вам и пришла, надеясь, что вы поможете выяснить причину столь странной метаморфозы.
— Повторяю, мадам Авилова: я не врач. Так можно и ошибку совершить. Вот что касается измерений, тут у меня никаких ошибок быть не может. 38
Бертильон сел на своего любимого конька. Он поведал мне историю о том, как с помощью его картотеки обмеров был пойман грабитель, убийца и бомбист по кличке Равашоль. Потом рассказал о новшестве — составлении словесного портрета, о том, какое важное это имеет значение, и неожиданно похвалил меня за то, что у меня брови неожиданной «ломаной» формы. Дескать, по этим бровям меня легко можно будет опознать, если что. Я не стала открывать мсье Бертильону секрет того, каким образом достигается этот изящный изгиб и как при этом больно, а, попрощавшись, вышла на улицу.
В общем, визит к мэтру фактически ничего не дал, только запутал меня еще больше. Никогда я не слышала, чтобы Андрей стоял у плавильной печи. Мне он об этом не писал. Может, он действительно что-либо выплавлял во Франции? Например, обжигал фигурки, вылепленные подругой? Или работал где-нибудь на заводе, так как ремесло художника не приносило доходов? Но у какой бы горячей печи он ни стоял, я не верила, что можно так постареть за какие-то месяцы, прошедшие после нашего расставания.
Может, он принимал какие-нибудь снадобья, которые разрушали его молодое тело, а потом, под воздействием этих препаратов, вызывающих галлюцинации, рисовал синих женщин и черные квадраты? Но тогда он должен был постареть весь, а не только на лицо и руки. Не втирал же он себе эти гадости!
И кто все-таки подбросил мне записку? Тоже задача. А внутренний голос говорил мне, что от ее решения многое зависело. Наконец, я так и не нашла «сумасшедшего колдуна», этим надо было заняться в самое ближайшее время.
Пустой желудок напомнил мне, что пора подкрепиться. Возвращаться к обеду на авеню Фрошо мне было не с руки: опять мадам де Жаликур начнет пенять, что я опоздала и что кухарка должна подогревать для меня одной, а потом подаст остывшее баранье рагу. Я зашла в небольшой кабачок на улице Агриппы д'Обинье и заказала легкую еду: сотэ из трески под соусом бешамель, шампиньоны кокотт с сыром рокфор и на десерт крем-брюле. Гарсон спросил, какое вино мне подать — белое пуи девяносто первого года или шардонне монтальяр восемьдесят восьмого? Я выбрала пуи.
За обедом я вспомнила еще об одном деле: нужно сходить в картинную галерею Кервадека и выкупить у него картины Андрея. Если мансарда сгорела со всем содержимым, то пусть у меня останется хоть что-то на память об Андрее. И неважно, сколько запросит Кервадек. А в том, что он заломит несусветную цену, я не сомневалась.
Фиакр остановился на улице Древе, и я, поднявшись по выщербленным ступенькам, оказалась на маленькой площади Кальвэр, вымощенной крупным булыжником. В нижних этажах домов располагались только картинные галереи. Их было четыре, и я задумалась: сразу идти к хитрому Кервадеку или сначала заглянуть в другие магазины, прицениться? Вдруг там тоже есть картины Андрея, которые достанутся мне дешевле? Я, конечно, состоятельная женщина, но копейка рубль бережет.
Я направилась к стеклянной двери, над которой было выведено: «Галерея „Тюильри“. Пейзажи и портреты. Открыта в 1811 году», и вошла под звук тихо звякнувшего колокольчика.
Навстречу мне поднялся лысый старичок в пикейном сюртуке. В руке он держал лупу.
— Добро пожаловать, мадемуазель! Чем могу служить?
Я собираю коллекцию молодых, неизвестных художников. Пока неизвестных, — уточнила я с глубокомысленным видом. — Один компетентный господин сказал мне, что это весьма выгодное вложение. Сейчас они дешевы, а через несколько лет, глядишь, поднимутся в цене.
Старичок отложил лупу и потер маленькие ладошки. Скорей всего, он принял меня за глупую провинциалку. Я вспомнила чьи-то слова: «Если над тобой смеются, значит, ни в чем не подозревают».
— Что именно вы предпочитаете? — засуетился галерейщик. — Какого направления работы вам показать? Пейзажи? Портреты? Батальные сцены? У меня прекрасный выбор.
Он принялся выкладывать картины на широкий прилавок.
Заранее зная, что я ничего у него не куплю, я все же решила подыграть — неудобно было сразу уходить из галереи.
— Что это? — спросила я, указав на первую попавшуюся картину.
— Галантная сцена художника Юбера Робера, вторая половина восемнадцатого века. Настоятельно рекомендую.
— Он неизвестный? По крайней мере, я его не знаю.
Мне показалось, что старичок слегка сморщил нос:
— Ну, что вы, мадемуазель, это очень известный художник!
Я неопределенно пощелкала в воздухе пальцами.
— Мне бы хотелось такого, что никак понять нельзя. А то у нашей богачки, мадам де Равенель, одни портреты предков-аристократов на стенах висят. Она ими кичится до безумия. Предками, я имею в виду, не стенами. По моему разумению, это все старье и не стоит места, которое оно занимает. Я хочу что-нибудь поярче, понепривычнее, чтобы мои гости смотрели на картины, ничего не понимали, но виду не подавали, а сразу думали обо мне как о современной и модной женщине. Вам понятно, мсье?
Старичок замялся…
— Видите ли, сударыня, моя галерея существует уже восемьдесят три года, и она всегда называлась «Пейзажи и портреты». У меня качество! У меня только лучшие мастера лучших школ. И если на картине изображен олень, то это будет олень, а не баран и не свинья. Может, вы перемените свое мнение? Я покажу вам прекрасные картины, и вы сделаете настоящее капиталовложение, да еще приятное глазу. Уверяю вас, животные, цветы и рассвет над Сеной современны всегда.
— Нет, к сожалению, мне не нравятся ни олени, ни эта битая птица, — показала я на натюрморты, выполненные в псевдофламандском стиле. — Мне нужно что-либо из самого последнего, вроде художника Протасова. Мне его очень рекомендовали.
— Увы, мадам… — развел руками старичок. — Я даже не слышал о таком художнике. Он из Польши или Моравии?
— Из России и, как я слышала, весьма ценится среди знатоков. Ну, а если у вас нет, извините.
В двух других галереях мне показали несколько полотен, но я сделала вид, что они не произвели на меня впечатления, и попросила то же самое, но в розовых тонах под стиль моей воображаемой гостиной а-ля Людовик Шестнадцатый, и опять упомянула Протасова. Там о нем тоже ничего не слышали.
Когда я вышла из третьей по счету картинной галереи, то увидела Себастьяна Кервадека. Он стоял на пороге своего магазина и наблюдал за моими перемещениями.
— Мадам Авилова! Вы ли это? — Он деланно всплеснул руками. — Пришли покупать картины или так, полюбопытствовать?
— Как получится, мсье Кервадек.
— В любом случае милости прошу, заходите.
Галерея Кервадека с нарисованной на вывеске придорожной часовней занимала два этажа просторного здания конца восемнадцатого века. Картин на стенах было превеликое множество. Я вытащила из сумочки лорнет и принялась рассматривать произведения, выставленные на продажу. Хозяин галереи молча наблюдал за мной, стоя за конторкой. Он ждал, когда я наконец выберу то, что мне больше всего понравится.
В основном в галерее преобладала обнаженная натура в обрамлении водных источников. Пышнотелые красавицы с греческими прическами плескались в мраморных бассейнах, подставляли свои стати под струи, бьющие из фонтанов в виде рыб с распахнутыми пастями, терли друг друга большими левантийскими губками. Художники были мне незнакомы: Франсуа-Ксавье Фабр, Шарль Бутибонн, Клод-Мари Дюбюф 39, — и я не могла понять, нравятся мне картины или нет. Да и цены поражали: небольшое полотно, на котором были изображены резвящиеся русалки, стоило семь с половиной тысяч франков.
— Даже не знаю, что сказать, мсье Кервадек. Здесь нет того, что я ищу. Душа не лежит.
— А что именно вы ищете, мадам Авилова? — спросил он.
— Пока сама не знаю. У вас здесь так красиво, просто глаза разбегаются. Но и цены… Неужели эти старые полотна стоят таких денег?
— О цене мы с вами как-нибудь договоримся, — улыбнулся Кервадек.
— Хорошо, — согласилась я. — Но я не вижу тут современных полотен. Вы торгуете только работами старых мастеров?
— На втором этаже у меня зал современной живописи. Скажите, что вы хотите: автор, период, манера письма, — и я подберу картины, которые станут украшением вашего дома.
Пришло время перейти в наступление:
— Буду с вами откровенна, мсье, я приехала в Париж с целью приобрести картины, стоимость которых будет расти со временем, — холодно сказала я. — Мне не нужно украшать дом, он и так ломится от произведений искусства русских мастеров — картин, статуй, фарфора. Но мне рассказали, что сейчас во Франции расцвет импрессионизма, которому пророчат большое будущее. А для России такие картины пока что явление редкое…
Об импрессионизме я впервые услышала от отца. Два года назад он ездил в Москву по судейским делам и как-то, в перерыве между заседаниями, от нечего делать забрел на французскую промышленную выставку, которая располагалась в большом павильоне на Ходынском поле. Помимо экспонатов, демонстрировавших технический прогресс, там были выставлены картины художников, имена которых ничего не говорили московскому обывателю: Моне, Дега… Отца привлек громкий хохот, доносившийся из зала. Публика высмеивала непривычные, написанные крупными мазками картины. Их цветовая гамма возбуждала и раздражала.
Лазарь Петрович подошел поближе. Один из посетителей стоял молча и пристально рассматривал полотна. Причем рассматривал крайне своеобразно: он то подходил близко, то отходил на несколько шагов и, что удивительно, сохранял очень серьезный вид, чего нельзя было сказать об остальных. К нему отец и обратился: «Скажите, вы что-нибудь понимаете в этой живописи? Может быть, люди смеются не напрасно?» Высокий худой человек лет сорока, с пышными усами с проседью, улыбнулся и сказал: «На первый взгляд, в этих хаотично наложенных красках всех цветов радуги нет никакой логики, но попробуйте сделать шаг назад и взглянуть еще раз…» Отец так и сделал. Картина преобразилась: хаос отступил, а в туманной дымке появился дождливый Париж. Так они с новым знакомым, Сергеем Ивановичем Щукиным, московским мануфактурщиком и страстным коллекционером всего на свете, переходили от картины к картине и видели то спелые яблоки, то обнаженную женщину, сидящую на траве у ручья. И все это было ярко, красочно и выглядело так необычно, что захватывало дух.
Отец не мог тогда объяснить себе, понравились ему картины или нет, он спешил на судебное заседание — у него заканчивался перерыв. Напоследок он спросил Сергея Ивановича: как тот выбирает картины? Ведь нелегко без специального образования отыскать жемчужное зерно в навозной куче. На что Щукин просто ответил: «Если, увидев картину, вы испытываете психологический шок, если у вас побежали по телу мурашки, если глаз возвращается к ней снова и снова, пытаясь понять, что же в ней вас цепляет, — покупайте ее. Не ошибетесь». Он был уверен в том, что импрессионистов ждет успех. Может, не сейчас, а через пять, десять лет. А у Лазаря Петровича был редкий дар, который Пушкин называл «чутьем изящного». Это выражалось во всем: в одежде, которую он носил, в гастрономических пристрастиях. Даже дам себе он выбирал из первых красавиц нашего N-ска.
Помнится, я тогда спросила его: повесил бы он картину с обнаженной натурщицей в гостиной своего дома? Отец улыбнулся и ответил: в гостиной не повесил бы, чтобы не смеялись те, кто ничего не понимает в живописи, и чтобы не смущать непривычных к таким картинам обывателей; а вот в спальне повесил бы с удовольствием, да еще никому не показывал бы, чтобы самому наслаждаться нежными красками тела юной натурщицы…
— Мадам Авилова! — окликнул меня Кервадек. — Вы меня слышите?
— Ох, простите, я задумалась, это ваши замечательные картины на меня так повлияли.
— Если вас интересуют картины импрессионистов, они на втором этаже. Хотите посмотреть?
— С удовольствием!
Мы поднялись по узкой винтовой лестнице и оказались в светлом зале с высокими окнами.
Здесь картин было значительно меньше, а их фамилии мне и вовсе ничего не говорили: Дени, Валлоттон, Боннар.
— Кто это? — спросила я, остановившись перед одной из картин — это был вид Парижа в блекло-серых тонах. — Вот уж не знала, что этот прекрасный город может быть таким невзрачным.
— Это Боннар, — ответил Кервадек. — Вот увидите, он еще о себе заявит. Париж, мадам, бывает разный, он не всегда похож на ослепительную глянцевую открытку.
— А почему у вас в галерее нет знаменитых импрессионистов: Моне, Ренуара, Сезанна? Это дорого для вас, мсье Кервадек?
— Проданы, — усмехнулся он. — А тут собраны молодые художники. И если вы действительно хотите начать коллекционировать импрессионистов, лучшего я не могу предложить.
— Я подумаю, — нерешительно произнесла я и, как бы продолжая колебаться, добавила: — Вы, конечно, слышали, что сгорела мансарда моего друга и в огне погибли все его картины?
— Слышал, — кивнул он.
— Скажите, мсье Кервадек, а у вас не остались его работы? Сесиль говорила, что Андре приносил вам холсты на продажу.
— Что вы говорите? — удивился он. — Не помню. Мне многие молодые художники приносят работы на комиссию. Но я не у всех беру картины.
— Я вас умоляю! Поищите, ведь на вас последняя надежда!
Кервадек вздохнул и стал тяжело спускаться по лестнице.
— Только ради вас, мадам Авилова! А ведь я предлагал вам выкупить картины Андре. Были бы сейчас у меня в целости и сохранности. Но вы меня прогнали. Ну ладно, не вы, — он заметил мой протестующий жест, — а ваша спутница, да упокоится она с миром, — такая юная девушка. И кому теперь хорошо от этого? Может быть, ваш Протасов посмертно вошел бы в историю. Великий художник — это мертвый художник. Это я вам говорю как человек, который уже пятьдесят лет вертится в этом деле. Я бы мог сделать его великим, ведь я умею продавать картины. Написать каждый дурак сумеет, ты попробуй продай. А сейчас ничего — ни картин, ни художника…
Я присела на диванчик возле окна и пригорюнилась.
— Ну полно, полно… — начал он меня успокаивать. — Сейчас я спущусь в подвал, там у меня склад, а вы подождите. Только не обессудьте, если ничего не найду.
— Хорошо! — обрадовалась я. — Подожду!
Через несколько минут Себастьян Кервадек вернулся, неся две картины небольшого размера.
— Вот, еле нашел, — сказал он, вытирая лоб.
Одна картина изображала синюю женщину, всю в подтеках краски и брызгах. По контуру и складкам фигуры были прочерчены красные линии. Это было похоже на тушку голодного цыпленка, которого несколько раз надрезали, да так и оставили. От второй картины у меня возникло ощущение, что Протасов просто вытирал о нее кисть. На ней были изображены несколько прямоугольников с надписями «Театр», «Бульвар» «Кабаре», заляпанных пятнами, кривыми полосками и штрихами. На обеих картинах внизу было написано по-русски: «Андрей Протасов, Париж, 1894 год».
— Да уж… Мне никогда не понять современной живописи. Возьму их только из уважения к покойному. Сколько вы хотите за эти картины? — спросила я. — Сто франков? Двести?
— Тысячу, — спокойно ответил Кервадек и добавил, глядя мне прямо в глаза: — За каждую.
Я опешила.
— Вы издеваетесь, мсье? Это безумная цена. Хоть покойный и был моим другом, но, поверьте, я могу трезво оценивать, что хорошо, а что нет.
— Боже упаси! Давайте рассуждать логично, мадам Авилова. Вы хотите купить картины покойного художника? Они остались только у меня, остальные сгорели. Так что перед вами подлинный Протасов, как ни странно это признать, раритетный. А раритеты стоят денег. На каждый товар найдется когда-нибудь покупатель. Хочешь, чтобы тебя оценили, — умри.
— Так вот что я вам скажу, мсье Кервадек. — Я гордо выпрямилась и посмотрела галереищику в глаза. — Древние римляне говорили: cui prodest? — кому выгодно? Я не знаю, кто убил Андрея, но склоняюсь к выводу, что именно вам были выгодны и его смерть, и пожар в мансарде! Вы хотите получить профит на его смерти!
— Не смешите меня! Буду я руки пачкать ради картин какого-то неизвестного мазилы-иностранца. Вы ведь хотите купить у меня это только потому, что были с ним знакомы! Кому еще я смогу продать этот хлам? Даже луидора не выручу, не то что тысячу! Что я выиграл от его смерти? Сотню-другую франков?
Как ни странно, я ему поверила — в словах Кервадека был резон.
— Простите, — пробормотала я, раскрыла сумочку и достала деньги. — Вот, возьмите. Я беру картины мсье Протасова.
Кервадек взял деньги и, поколебавшись, спросил:
— Мадам Авилова, вы действительно пришли затем, чтобы пополнить домашнюю коллекцию шедеврами? Или же для того, чтобы забрать картины Протасова?
— Меня весьма интересуют ценные старинные картины, — ответила я. — Меня не поймут на родине, если я не привезу парочку полотен для украшения гостиной. Но у меня с собой почти не осталось денег, нужно снять со счета перевод из России.
— Не беспокойтесь о деньгах. Отдадите, когда вам будет удобно. Я доверяю вам, мадам. Прошу за мной.
Кервадек опустил на окнах портьеры, повесил на входе табличку «Закрыто» и запер дверь на задвижку. Я с любопытством наблюдала за его действиями. Потом он поманил меня к незаметной двери в конце зала, отпер ее и пригласил войти.
Мы оказались в небольшой комнате без окон. Кервадек включил электрическое освещение. И я увидела картины. У меня перехватило дыхание: одного взгляда было достаточно, чтобы понять — этим шедеврам нет цены!
— Что это? — прошептала я.
— Ватто. А здесь у меня Грез, там Фрагонар, Буше. Вы смотрите, выбирайте, что понравится.
— Мне все нравится, это не может не нравиться!
— Я рад, мадам.
— Откуда у вас такие сокровища? — спросила я, не отводя глаз от картин. — Они достойны украсить Лувр!
— Никто и не отрицает, — пожал плечами Кервадек. — В Лувре висят картины этих же авторов.
Меня посетили смутные подозрения, и я высказала их вслух:
— Это… Эти полотна краденые? Из музеев?
— Ни в коем случае! Я никогда не позволю себе опуститься до этого. Да, у меня есть картины, подобные музейным экспонатам. Однако сей факт не означает, что художники писали только для музеев. Были и частные заказы. Но сами понимаете: революции, смута… Люди отдавали бесценные раритеты за возможность остаться в живых и не умереть от голода. Приносили холсты и антикварную утварь моему отцу. Вот так и набралась коллекция. Будете что-либо брать, мадам Авилова? — Он выразительно посмотрел на меня.
— Сейчас, одну минуту…
И тут я увидела небольшой эскиз Энгра к картине «Одалиска и рабыня», тот самый, о котором говорил Засекин-Батайский.
— Я хочу вот эту картину. Сколько она стоит?
— У вас, мадам, отменный вкус! — похвалил меня Кервадек, хотя, уверена, он сказал бы то же самое при любом моем выборе. — Цена этой картины пять тысяч франков. Если у вас нет наличных денег, можете выписать чек.
Он встал коленями на стул у стены и осторожно снял картину.
— Хорошо, — кивнула я. — Вот вам чек на пять тысяч. Упакуйте картины и пришлите их до конца дня на авеню Фрошо в отель «Сабин». Всего наилучшего.
Кервадек проводил меня до двери и отпер задвижку. Я вышла из галереи, посмотрела на солнце, уже висевшее над крышами, и решила, что пора возвращаться домой.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Старики потому так любят давать
хорошие советы, что они уже не могут
подавать дурные примеры.
На площади Кальвэр стояла закрытая карета со скучающим кучером на козлах. Я подошла к фиакру…
— На авеню Фрошо, пожалуйста.
— Садитесь, мадам.
Когда я поднималась в фиакр, моя юбка зацепилась за ступеньку. Лошади тронулись, и подол пришлось дергать уже на ходу. Приведя себя в порядок, я откинулась на спинку сиденья и тут заметила, что не одна в карете. Напротив сидел широкоплечий господин в шляпе, надвинутой на глаза.
— Кто вы? И что тут делаете? — испугалась я.
— Не беспокойтесь, Аполлинария Лазаревна, — ответил он мне по-русски и снял шляпу. — Вам не сделают ничего плохого. Ваша жизнь в безопасности, можете не сомневаться.
— А я сомневаюсь. Заманили в ловушку, везете неизвестно куда и еще хотите, чтобы я не опасалась за свою жизнь!
— Слово дворянина! — серьезно сказал мужчина.
— Куда вы меня везете?
— В тихое, уютное место. Нам надо побеседовать. Это ненадолго. Все зависит от того, что вы нам расскажете.
— Кому это «нам»? Кого вы представляете?
— Узнаете позже.
— Пустите меня, я выйду.
— Госпожа Авилова, не стоит так горячиться. Уверяю вас, беседа не займет более десяти минут. Мне даны соответствующие инструкции, и я костьми лягу, но не выпущу вас из кареты. — Мужчина улыбнулся одними губами, и по его глазам я поняла, что он действительно ляжет костьми, но не даст мне сбежать.
— Это произвол!
— Как вам будет угодно.
Я решила сменить тактику.
— Почему, чтобы говорить с вами, я должна куда-то ехать? Довезите меня до дому, там и поговорим.
— Не получится. Вы будете беседовать не со мной, а с другим человеком.
— Но с кем? И на какую тему? — спросила я.
— Скоро узнаете. — Он отвернулся к окну, скрестил руки на груди, и я поняла, что ничего путного от него не дождусь.
Хорошо еще, что занавески в карете были отдернуты, и я могла следить за дорогой. Мы проехали ярко освещенные Елисейские поля, площадь Звезды, Триумфальную арку, бульвар на авеню Фош, а потом мне пришлось напрягать зрение, чтобы понять, где мы находимся. Я не могла достать из сумочки лорнет — боялась, что мой спутник задернет занавеси на окнах или что ему придет в голову мысль завязать мне глаза. Так что разглядела я лишь блестевшие в лучах заходящего солнца пруды, одинокого всадника в парке, и тут мне вдруг повезло — когда карета въехала через ворота на неширокий мост, я прочитала на нем вывеску: «Сен-Клу». Я успокоилась — во всяком случае, я знала, где нахожусь. Откинувшись на спинку сиденья, я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться — надо было как-то подготовиться к встрече с незнакомцем, похитившим меня с помощью рыцаря плаща и кинжала.
Карета остановилась возле небольшого домика, утопавшего в зелени и ничем не отличавшегося от других таких же домов с черепичными крышами. Все вокруг дышало тихой, сонной провинцией, и невозможно было поверить, что в нескольких лье отсюда вертелись крылья мельницы «Мулен Руж» и отплясывали канкан танцовщицы с перьями на голове.
— Прошу вас, госпожа Авилова. — Мой спутник подал мне руку и помог выйти из кареты. — Сюда, пожалуйста. Тут темно, не оступитесь.
Он отворил калитку и провел меня внутрь. Вокруг не было ни души.
— Входите, Аполлинария Лазаревна, присаживайтесь, — услышала я знакомый голос. На диване в гостиной сидел министр иностранных дел России Николай Карлович Гире и пристально глядел на меня совиными глазами.
— Ах, вот оно что, — ответила я вместо приветствия. — А я-то голову ломала всю дорогу, кому я могла понадобиться?
— Неужели не догадались?
— Нет! — отрезала я. — Где я нахожусь? И главное, зачем я тут?
— Не лукавьте, любезнейшая госпожа Авилова. Вам все прекрасно известно. Находитесь вы в одном из парижских предместий, на квартире, используемой нашим министерством для встреч с агентами.
— Но я-то ведь не агент!
На лице министра отразилась досада.
— Повторюсь — вы прекрасно понимаете, почему находитесь в этом месте. Но, если вам так угодно, извольте: вы здесь потому, что обязаны объяснить мне, откуда у вас рисунок с моим изображением и почему вы подложили его мне на утренней встрече. Ведь рисунок не случайно оказался в вашем ридикюле, а вы сами — в моем кабинете.
— Обязана? Вот уж не думала, что меня, дворянку, словно какую-то иностранную шпионку, привезут неизвестно куда, помимо воли, и еще обяжут отвечать на вопросы, заданные таким тоном! Я не чувствую себя ни в чем виноватой и требую уважения к себе, ваше высокопревосходительство.
— Хорошо, хорошо, — смягчился Гире. — Уважаемая Аполлинария Лазаревна, не будете ли вы столь любезны объяснить, чего ради вам понадобилось устраивать этот маскарад и показывать мне рисунок? Ведь вам хотелось увидеть мою реакцию, верно? Зачем? Вот на этот вопрос я и требую у вас ответа, так как вы непосредственным образом вовлекли меня в ваши авантюры.
— Николай Карлович, дело не в вас. Вас я глубоко уважаю и считаю одним из просвещеннейших деятелей нашей империи, держащих руку на пульсе России. — Я перевела дух и изумилась собственному красноречию. Наверное, от страха в человеке просыпаются дремлющие способности. — Но мне крайне важно узнать, кто изображен вместе с вами на рисунке. Уверяю вас, к политике Российской империи мой интерес не имеет никакого отношения.
— Для чего вам это понадобилось? — спросил Гире и, как мне показалось, немного расслабился. Он откинулся на спинку дивана и попросил разрешения закурить.
— Ваш собеседник подозревается в убийстве трех человек: моего друга русского художника Андрея Протасова, его подруги Сесиль Мерсо, соседки по дому на улице Турлак, а также в умышленном поджоге мансарды с картинами.
— Расскажите в двух словах, о чем идет речь. Я впервые слышу эти фамилии.
— Мой друг, российский подданный Андрей Серапионович Протасов, был найден мертвым в Сене. На шее у него обнаружился след от веревки, и мсье Альфонс Бертильон сделал заключение, что смерть произошла от удушения.
— Понятно, далее…
— Я отправилась в мансарду Протасова и забрала оттуда папку с рисунками. На одном из рисунков были изображены вы и некий господин в пальто с клетчатой пелериной. На следующий день после обнаружения тела Протасова тем же способом была удушена его подруга, натурщица Сесиль Мерсо. Когда я попыталась выяснить причину их смерти…
— Постойте, — перебил меня министр, — почему вы, женщина, да еще иностранка, должны заниматься этим делом? А полиция для чего?
— Простите меня, ваше высокопревосходительство, но какое дело парижским полицейским до нищего русского художника? Хорошо еще, что не нужно было хоронить его за казенный счет. Я сама похоронила его и его подругу на свои средства.
— Похвально, — одобрил он.
— А потом я решила взять инициативу в свои руки.
— Ох уж эти современные женщины! — покачал головой Гире. — И до чего вы додумались, мадам?
— Поиски преступника привели меня в дом Женевьевы Мерсо, старшей сестры покойной. И там, в стенном шкафу, я увидела точь-в-точь такое же пальто, как на неизвестном, изображенном рядом с вами в пивной «Ла Сури».
— Ну и что? Мало ли в Париже клетчатых пальто?
Но не в сочетании с рыжей бородой, — возразила я, уже не удивляясь своей храбрости. — На следующий день в мансарде Протасова произошел пожар. Единственной свидетельницей происшедшего оказалась соседка художника. Ее, с сильными ожогами, пожарные отвезли в больницу Сальпетриер. И там ее убил преступник, носивший рыжую бороду.
— И в клетчатом пальто? — уточнил министр.
— Нет, пальто на нем не было, а был форменный плащ, с помощью которого он обманул сиделку, назвавшись полицейским инспектором. Убийца пробрался в палату к свидетельнице и задушил ее.
— Глупости! — воскликнул Гире и стряхнул пепел в хрустальную пепельницу на столе. — Этого не может быть! Зачем ему убивать? Он же не сошел с ума!
— Моя версия такова: художник запечатлел вас с этим господином в пивной «Ла Сури» — месте, совершенно не подходящем для министра державы, готовящейся подписать договор о дружбе. Следовательно, узнав, что инкогнито раскрыто и это грозит в будущем разоблачениями и обвинениями, господин в клетчатой пелерине решает убить художника и выкрасть рисунок.
— А моя роль во всем этом фарсе заключалась в том, что я отдал злодейский приказ. Верно? — саркастически заметил министр.
— Да, — честно ответила я, глядя ему прямо в глаза и не думая, чем все это может закончиться для меня, если Гирс рассердится. — Убиты три ни в чем не повинных человека. И это не фарс, ваше высокопревосходительство.
Министр не рассердился, он лишь покачал головой.
— Смело, очень смело и даже, я бы сказал, самонадеянно с вашей стороны, госпожа Авилова, обвинять меня в этих преступлениях. Хотя если кто-то что-то ищет, значит, он что-то знает. Странно, что об этом еще не пронюхали журналисты. Они, как мухи на мед, слетаются на горяченькое. Что же сказали полицейские сыщики, когда вы сообщили им о ваших подозрениях и обвинили меня в том, что я отдал приказ спрятать концы в воду?
— Ничего, — пожала я плечами. — Я никому ничего не сообщала.
— Что ж так?
— Зачем вмешивать французскую полицию в дела российских подданных?
— Понятно, — кивнул он. — Вы, госпожа Авилова, патриотка. Похвально, похвально. Patrie fumus igne alieno luculentior 40. Поэтому вы не побоялись явиться ко мне на аудиенцию, показать рисунок и бросить обвинение в лицо, вместо того чтобы поделиться своими сомнениями с полицией.
— Я думала, что так будет лучше.
— Вы из N-ска? Какие экземпляры вырастают в нашей глубинке! Не оскудела земля русская героями, а в особенности героинями. Почему вы не обратились к кому-либо из мужчин? Да хотя бы к этому казаку Аршинову. Негоже даме из общества выслеживать преступников — не женское это дело.
— Для того чтобы понять, кто преступник, достаточно ума, а не грубой силы. А его у образованных женщин достаточно.
В выпуклых глазах министра иностранных дел появилось какое-то подобие улыбки, хотя тонкие губы оставались сжатыми. Он погладил бакенбарды и, выдержав паузу, произнес:
— Похоже, сударыня, лавры Олимпии де Гуж 41 не дают вам покоя. Но она плохо кончила.
— Я знаю, — ответила я. — Ее обвинили в том, что она забыла достоинства своего пола. И если бы я не относилась с уважением к вам и вашему рангу, я бы отметила, что эти слова, ваше высокопревосходительство, отличаются особым цинизмом.
Гире с интересом посмотрел на меня:
— Что ж, сударыня, цинизм — это всего лишь неприятный способ говорить правду. И поэтому советую вам не забыть об участи мадам Олимпии, а то как бы чего не вышло.
— На то вы и столп общества, ваше высокопревосходительство, чтобы не допустить подобной вакханалии в Российской империи. Русские — не французы, чтобы в революции играть.
Министр, как мне показалось, хотел мне возразить, но только покачал головой.
— Пообещайте мне, что прекратите подвергать жизнь ненужной опасности и вернетесь в Россию, — потребовал Гире.
— Только после того, как будет найден убийца моего соотечественника, — с нажимом сказала я.
— Обещаю вам, что прослежу за этим делом. Завтра же мою просьбу доведут до начальника уголовной полиции Французской республики. Но вы должны будете немедленно покинуть Париж и отправиться домой, в N-ск. Считайте это условием выполнения моего обещания.
Министр махнул рукой, и широкоплечий помощник, сопроводивший меня сюда, ловко принялся сервировать стол. Когда перед нами появились изящный чайник, тонкие чашки лиможского фарфора, сахарница и печенье в серебряной вазочке, Гире кивнул, и помощник удалился. Мы остались одни.
Обстановка несколько разрядилась. Мы пили чай, обмениваясь ничего не значащими репликами. Гире предложил называть его по имени-отчеству, а не высокопревосходительством.
— Скажите мне, Николай Карлович, виконт де Кювервиль замешан в этом преступлении? — осмелилась наконец спросить я.
— А вы знаете больше, чем я предполагал, — сказал Гире, раскалывая щипчиками сахар.
— Вы разочарованы?
— Скорее насторожен. Не люблю обманываться в собственных предположениях. Старею, нюх теряю. А нюх для преданного пса — самое главное. С годами оттачивается умение держать нос по ветру, но с возрастом оно может исчезнуть. Да… Не припомню, когда мне приходилось последний раз так сидеть и беседовать с молодой красивой дамой. Все дела, заботы…
Министр лукавил. Взгляд его оставался столь же цепким и холодным. Он размышлял, что мне известно о нем и виконте, и не мог найти ответа. Я с безмятежным видом пила чай и смотрела по сторонам, стараясь не встречаться с ним взглядом.
— Ни в коем разе не хочу затронуть государственные интересы, Николай Карлович, — после долгой паузы сказала я. — Но что же мне делать? Если вы утверждаете, что виконт де Кювервиль непричастен к убийству моего друга, то почему улики указывают на него? Есть у него летнее пальто с клетчатой пелериной? Есть. А рыжая борода? Тоже есть. Он был знаком с художником Протасовым, а также с его подругой Сесиль Мерсо. Это подтвердила Мона, она же Женевьева Мерсо, сестра погибшей. Конечно, это все косвенные улики, и любой адвокат расскажет мне о сотнях совпадений, но согласитесь, Николай Карлович, когда столько совпадений, дело становится подозрительным. И как быть? Отмахнуться от улик только потому, что такой достойный человек, как вы, называет мои предположения глупостями, ничем их не опровергая?
Позвольте мне официально заявить, уважаемая Аполлинария Лазаревна, — очень серьезно сказал Гире, — виконт де Кювервиль не имеет никакого отношения к этим преступлениям. Более того, я готов объяснить, почему он не может быть виновен в тех преступлениях, которые вы ему приписываете. Мсье де Кювервиль сейчас очень занят: мы с министром внутренних дел Дурново подготавливаем его визит в Россию — в частности, в Олонецкую губернию. Поэтому подозревать его в убийстве российского подданного накануне ответственного поручения, по меньшей мере, глупо. Я готов сообщить вам даже цель поездки. Как известно, Олонецкая губерния — край северный, озерный, с горными реками. В Ладожском и Онежском озерах водятся лососи и сиги. Вода прозрачнейшая. Вот об этом мы тогда и говорили с виконтом, сидя в пивной и пережидая ливень, который застал нас на Монмартре. Я ведь тоже человек и люблю иногда прогуляться по парижским бульварам.
— Виконт — страстный рыбак? — спросила я.
— Нет, — засмеялся Гире. — Он пескаря от щуки не отличит. Де Кювервиль едет инспектировать воду.
— Но зачем это надо французскому подданному?
Придется начать издалека, чтобы вам было понятно. Два года назад в нашей армии произошел несчастный случай, унесший множество жизней: низшие чины отравились водкой. Это наделало много шума. Оказалось, что водку изготовляют из чего попало, лишь бы горела. Многие поставщики пошли под суд, но проблемы это не решило. И тогда, по высочайшему повелению, этой проблемой занялся директор Главной палаты мер и весов, член-корреспондент Академии наук Дмитрий Иванович Менделеев. Недавно он представил доклад, в котором говорится о том, каково должно быть соотношение спирта и воды, чтобы водка получилась отменного качества и не вредила здоровью.
— И какое же? — не удержалась я.
— Это государственный секрет, Аполлинария Лазаревна, — слегка нахмурился министр.
— Простите, ваше высокопревосходительство, я не хотела.
— Ничего, ничего. Из прессы вы наверняка знаете о подготовке российско-французского договора. Государь император ежедневно получает мои депеши, в которых я отчитываюсь о своих действиях. Это огромная, многоуровневая работа, за которой пристально следят все государства, особенно Германия — противник этого союза. Мне даны особые полномочия, дабы довести до конца дело, ради которого я прибыл в Париж.
— А я вам мешаю своим расследованием, не так ли? — с вызовом спросила я.
— Отнюдь, — поморщился министр. — Вы даже не пешка, мадам, а так, легкая назойливая мушка, мотылек, что летит на огонь, невзирая на опасность. Уж простите мне это сравнение.
— Нет, нет, ничего…
— Есть другие силы, всячески препятствующие не только политическим интересам Российской империи, но и экономическим!
Гире отпил чаю и замолчал.
— А при чем тут водка? И виконт де Кювервиль? — напомнила я.
Один из пунктов договора предусматривает экспорт русской водки. Новой водки, по рецепту профессора Менделеева. Вот поэтому виконт и едет в Россию как личный представитель французского правительства и президента Рибо. Он будет осматривать ледниковые линзы Ладожского и Онежского озер и проверять качество воды, дабы лично удостовериться в том, что Россия поставит во Францию самую лучшую водку на основе кристально чистой воды — именно так записано в договоре. И это настораживает промышленников-виноделов из Бордо и Бургундии. Особенно из провинции Коньяк.
— Надо же! — удивилась я. — Я и не знала, что виконт наделен такими полномочиями.
— Именно! А теперь скажите мне, дорогая госпожа Авилова, способен ли человек, облеченный столь высоким доверием, бегать по Монмартру, чтобы убить художника, да еще русского?
— Думаю, что нет, Николай Карлович.
— То-то! — Он поднял указательный палец. — А вы, голубушка, цирк шапито устроили, с картинками разными ко мне на аудиенцию прорвались. Спутника своего подставили, господина Аршинова. Эх, не порол вас батюшка в детстве, баловал. А надо бы…
— Простите меня, ваше высокопревосходительство, — взмолилась я. — Я напрасно подозревала виконта де Кювервиля. А Николаю Ивановичу я помогу. Из наследства корабль снаряжу, я уже пообещала.
— Ох, бедовая голова, — погрозил мне пальцем Гире. — Из наследства… Кто ж так распорядился — молодой ветреной женщине наследство отписывать?
— Тетушка, Мария Игнатьевна, — пролепетала я.
— Видать, такая же ветреная женщина была, прости Господи. Вот что, голубушка, пусть Арши-нов завтра явится в отель и запишется ко мне на аудиенцию. И чтоб без вас и ваших штук, мадам! Вы меня поняли?
— Да, ваше высокопревосходительство, я вам крайне признательна.
— Прошу простить. — Он тяжело поднялся с дивана. — Время позднее, а мне еще бумаги просмотреть нужно. Спокойной ночи, Аполлинария Лазаревна, ступайте, вас проводят до дому.
И он медленно, по-стариковски ссутулившись, вышел из гостиной.
Путь в отель «Сабин» занял около полутора часов. Я уже не следила за дорогой — незачем. Устроившись в уголке кареты, я закрыла глаза и задремала. Так и проспала всю дорогу до дома. Помощник министра помог мне, сонной, выйти из кареты и, откланявшись, уехал восвояси.
***
— Боже мой! — всплеснула руками мадам де Жаликур. Рядом с ней стоял князь в протертом халате и укоризненно глядел на меня. — Где вы пропадали, Полин? Мы не спим, беспокоимся, а вас все нет и нет. Решили утром в полицию обратиться. Разве так можно?!
Она обернулась к Засекину-Батайскому, ища у него поддержки. Тот нахмурил брови, но ничего не сказал.
— Я была в кабаре, — ответила я, чуть пошатнувшись, и громко икнула. — Французы — очень приятные мужчины. Такие душки! Мне понравился один Жан… Нет, Поль… А, вспомнила, Жан-Поль! Завтра у нас с ним свидание. Какой мужчина! Нос! Прононс! В России таких кавалеров не бывает…
— Хорошо, хорошо, но это будет завтра. А сейчас поднимайтесь наверх и ложитесь в постель, уже третий час ночи, все добропорядочные парижане спят и третий сон видят.
— Парижане… — хихикнула я, взбираясь по лестнице. — Ну и пусть смотрят свои сны! А я буду танцевать! Жалко спать в таком чудесном городе.
Шатаясь, я поднялась по лестнице и, только закрыв дверь, сбросила с себя, как ненужную тряпку, пьяную улыбку. Помню только, что, уже сонная, я выставила свои ботинки за дверь и упала на кровать, забыв даже задернуть занавеси алькова.
Во сне я видела свой женский институт, а вместо нашей начальницы фон Лутц передо мной стояла мадам де Жаликур и отчитывала меня за пятно на фартуке.
Утром, когда я спустилась к завтраку, меня встретили настороженно. При моем появлении разговоры прекратились. Постояльцы и хозяйка глядели на меня во все глаза.
— Доброе утро, господа, — весело сказала я и разложила салфетку на коленях. — Прекрасная погода сегодня. Позавтракаю и пойду гулять в Люксембургский сад.
Мадам Ларок поздоровалась и с любопытством посмотрела на меня, а Засекин-Батайский привстал и поклонился.
Хозяйка поставила передо мной тарелочку с круассанами.
— Скажите, мадам де Жаликур, мне вчера не приносили посылку?
— Да-да, — закивала хозяйка. — Она здесь. Сейчас прикажу Пьеру принести.
Соланж вышла из столовой и через минуту вернулась в сопровождении садовника, который нес продолговатый пакет в разорванной оберточной бумаге. Пьер положил пакет на стул и удалился.
— Странно… — нахмурилась я. — Почему посылка вскрыта?
— Позвольте мне объяснить, Полина, — произнес князь, отводя взгляд в сторону. — Когда поздно вечером мы стали нервничать по поводу вашего отсутствия, вдруг принесли посылку. И это была моя мысль — посмотреть, что внутри, дабы понять: может быть, вам нужна помощь, или, может быть, мы таким образом узнаем о вашем местонахождении. Время сейчас неспокойное.
Никак не отреагировав на его слова, я распаковала посылку. В ней были три картины, переложенные папиросной бумагой и картоном.
— И что, вы догадались, где я нахожусь, раскрыв предназначенную мне посылку, ваше сиятельство? — Я не могла скрыть раздражения.
— Нам стало ясно, что вы посетили галерею Кервадека, — смутился Кирилл Игоревич. — Внутри посылки визитная карточка. Куда вы направились дальше, узнать было невозможно.
— Я же сказала, что в кабаре. — Не обращая внимания на присутствующих, я принялась рассматривать картины.
Две из них при дневном свете произвели на меня удручающее впечатление. Я повернулась к мадам Ларок.
— Как вам эти картины? Нравятся?
— Две из них — отвратительная мазня! — произнесла Матильда, сморщив нос. — Если не секрет, вам их дали в подарок к Энгру?
— Я заплатила за каждую из них по тысяче франков! — гордо ответила я. — Повешу их у себя в спальне.
Мои собеседники переглянулись. Матильда пожала плечами, а князь покачал головой. Хозяйка с недовольным видом удалилась на кухню. Таким образом они выразили сомнение в моих умственных способностях.
— Позвольте посмотреть Энгра, Полин. Вчера, при свете лампы, мне не удалось увидеть все детали. Можно взять?
— Конечно, Кирилл Игоревич. — Я подала ему картину.
Он вставил в глаз монокль и принял у меня холст.
— Весьма, весьма интересно, — пробормотал он, рассматривая картину. — Есть некоторые различия в композиции, но это понятно, перед нами эскиз, а руку мастера оценит и невооруженный глаз.
— Вы видели оригинал?
— Конечно! Картина висит в Лувре. Сходите, не пожалеете, не все же по кабаре ходить, тоску заглушать…
— Да полно вам, князь, — отмахнулась я. — Неужели нельзя немного порадоваться жизни?
— Судя по тому, как потрескалась краска, — продолжил Засекин-Батаиский, не обратив внимания на мои слова, — этот холст валялся где-нибудь на чердаке или в сыром подвале. Ну как, мадам Ларок, я был прав или нет? Неужели вы не видите сходства между нашей Полин и этой одалиской?
— Ни малейшего, — поморщилась Матильда. — И хорошо еще, что на эскизе только голова, а не вся расползшаяся фигура натурщицы. Энгр вообще игнорировал анатомические пропорции. Вы сделали мадам Авиловой дурной комплимент, князь.
Засекин-Батаиский с сожалением оторвался от созерцания картины и протянул ее мне.
— Отнесу картины наверх, господа, — сказала я. — А потом пойду погуляю. Всего доброго, не волнуйтесь за меня, постараюсь вернуться пораньше. Вы правы, князь, хватит шататься по кабаре. Сегодня я намерена посетить Лувр.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Философия легко торжествует над страданиями прошедшими и будущими; но настоящие страдания торжествуют над ней.
На самом деле я отправилась в клинику доктора Эспри Бланша. Три картины, купленные у Кервадека, я вынула из рам, свернула трубкой и замаскировала, обернув ими ручку зонтика, — мне почему-то не хотелось оставлять их в отеле.
По дороге я купила четыре крепких зеленых яблока с красным бочком.
Дорогу я уже знала, поэтому все извилистые аллеи и террасы сада принцессы Ламбаль преодолела без труда.
— Где я могу видеть больного по имени Жан-Люк Лермит? — остановила я пробегавшую мимо молоденькую сиделку.
— В шестой палате, — ответила она и понеслась дальше, а я подумала: хорошо, что сиделка не принялась расспрашивать, зачем мне нужен этот больной.
Палату я нашла быстро. На разобранной кровати сидел худой изможденный человек с длинными седыми кудрями и смотрел в окно.
— Добрый день, мсье Лермит, — тихо сказала я. — А я вам яблок принесла.
Он медленно повернулся всем телом, посмотрел на меня выцветшими глазами и произнес:
— Мне душу странное измучило виденье,
Мне снится женщина, безвестна и мила,
Всегда одна и та ж, и в вечном измененье,
О, как она меня глубоко поняла…42
— Вы меня знаете? — опешила я.
— Вы та, о которой рассказывал Андре. Я вас сразу узнал. Заберите меня отсюда, — зашептал старик словно в горячечном бреду. — Они думают, что я ненормальный, а я просто знаю то, чего они понять не могут. Вот и называют меня душевнобольным.
— Кто — они? — спросила я. — Больные? Врачи?
— Да что больные! — презрительно махнул он рукой. — Здесь все полоумные, кроме меня! И врачи тоже! Ну, может быть, кроме доктора Бланша. Они мне какой-то новомодный душ прописали. Душ Шарко! Надели на меня обруч с дырками и давай воду холодную качать. А она еле капает. Я говорю: «Дайте мне, я все переделаю, и струи будут бить в десять раз сильнее!» Не дают. В женском отделении рантьерши дугой выгибаются: кричат, вопят, а за ними сиделки ходят, терпят их художества! Да сиделки им не помогут! Не тем лечат! Набрать бы вместо них крестьянских парней да запереть по паре в палате. Сразу выздоровеют! А то придумали — истерия 43. Что за истерия? Да у них просто матка места себе не находит, вот и корчит их от вожделения.
Старик действительно оказался безумцем. Вряд ли я смогу узнать у него что-либо о гибели Андрея, но все же решила попытаться.
Скажите, мсье Лермит, чем занимался Андре?
Старик вдруг дернулся и изумленно посмотрел на меня.
— Андре? Рисовал. Он всегда рисовал.
— Что он рисовал?
— Как что? Мадам, вы сумасшедшая! Если художник рисует, то он рисует картины.
Я чувствовала, что терпение покидает меня. Хотя старик был прав — несмотря на душевную болезнь, он четко отвечал на мои вопросы, и мне нужно было сердиться только на саму себя, потому как я толком и не знала, что именно нужно у него выспрашивать.
— Вам знакомы эти картины? — Я принялась разворачивать холсты, обернутые вокруг ручки зонтика.
Энгра Жан-Люк сразу отложил, лишь скользнув по нему взглядом, а вот одна из картин Андрея, та, где треугольники и квадраты соединялись хаотичными линиями, его заинтересовала. Он посмотрел по сторонам, подошел к печке-голландке и взял из нее уголек. Потом вернулся к картине и стал дорисовывать ломаные линии, приговаривая «Так, и вот так…».
— Что вы делаете?! — закричала я и попыталась отобрать у него холст. — Это же картина Андре!
— Знаю, — невозмутимо кивнул он.
— Зачем вы ее пачкаете?
— Не пачкаю, а исправляю.
Я почувствовала, что начинаю понемногу сходить с ума. В этой больнице, среди подопечных доктора Бланша, сумасшествие наверняка было заразной болезнью и передавалось через кашель или брызги слюны. Еще немного, и меня можно будет отправлять к тем несчастным, которых запирают по палатам.
Я с опаской отодвинулась от Жан-Люка и стала наблюдать за его действиями. Отбирать у него картину не было смысла — все равно это была мазня. Купила-то я ее только из-за подписи на обороте.
Вдруг за стеной раздался истошный вопль. Я вздрогнула и очнулась. Жан-Люк Лермит сидел и пристально смотрел на меня. Как ни странно, взгляд у него был осмысленный и спокойный.
— Вот вам правильный путь. — Он протянул мне свернутый в трубку холст. — Я нарисовал на картине каверны.
— Какие каверны? — удивилась я.
— Я там жил, мадам, — глухо произнес он. — С тридцати лет.
— Где вы жили? В кавернах? — Я не сразу сообразила, что по-французски каверна может обозначать пещеру.
Жан-Люк не успел ответить. Его лицо исказила судорога, он дернулся и нелепо завалился на правый бок. Я в ужасе выскочила в коридор и закричала:
— Доктора! Позовите скорее доктора!
На мой вопль прибежала пожилая сиделка в длинном фартуке.
— Доктор Бланш на кухне, снимает пробу, бегите за ним туда, — сказала она. — А я разожму ему зубы — у него падучая. Еще язык прикусит, не дай Бог!
Сиделка принялась хлопотать над больным, а я побежала туда, откуда доносился запах тушеной рыбы и овощей.
— Доктор, доктор, — закричала я, — там у больного эпилептический припадок! Скорее!
— У кого припадок? — удивился Бланш моему появлению и отложил в сторону ложку.
— У Лермита!
— Значит, вы все-таки до него добрались, — нахмурился он и поспешил в палату. Я побежала за ним.
Жан-Люк уже не бился в судорогах, а спокойно лежал на кровати. Его нос заострился, глаза впали, а морщины глубоко прорезали щеки. Выглядел он — краше в гроб кладут.
Доктор Бланш посмотрел на разбросанные по палате картины:
— Откуда это? Ваши проделки, мадам?
— Я решила развлечь Жан-Люка и принесла ему холсты порисовать, — пролепетала я, поспешно свертывая полотна.
Доктор поднял с пола картину Энгра.
— Вы дали ему рисовать на этом?! Вы кто? Сумасшедшая миллионерша? Чего вы добиваетесь?
— Доктор, для психиатра вы слишком возбудимы и неадекватно реагируете на раздражение. Я уже говорила вам, что ищу убийцу моего друга, а Жан-Люк был с ним знаком. С моим другом, а не с убийцей, — пояснила я, заметив недоумение в глазах Эспри Бланша.
— И поэтому вы позволяете себе доводить до эпилептического припадка больного человека? Вам мало смертей?
— Но я же не знала, что Лермит страдает эпилепсией!
— Я требую, чтобы вы покинули пределы больницы.
— Хорошо, доктор, только разрешите мне задать один вопрос: что такое каверна, кроме того, что это пещера в горах?
— Полость, возникающая в органах тела при разрушении и омертвлении тканей, — машинально ответил он.
— У Жан-Люка они были?
— Не знаю, я же психиатр, а его лечащий врач — доктор Гревиль.
— Прошу вас, вызовите его и спросите. Это очень важно!
Доктор Гревиль сам явился в палату буквально через две минуты. Он достал стетоскоп из нагрудного кармана и склонился над Лермитом.
— Коллега, ответьте на вопрос этой настырной дамы, — обратился к нему Бланш. — Иначе она вцепится в вас как бульдог и не отпустит, пока не вытрясет все, что ей надо. А мне пора, прощайте!
— Слушаю вас. — Гревиль вопросительно посмотрел на меня.
— Доктор, у больного есть каверны?
— Где? — Доктор воззрился на меня с немалым удивлением. — В легких или в почках? Он что, жаловался на боли или затрудненное дыхание?
— Нет, он сказал, что там жил.
— Простите, не понял. Где жил?
— В кавернах.
— Знаете что, мадам, — рассердился доктор Гревиль, — уходите отсюда. Ступайте домой и займитесь каким-нибудь делом. Мало того, что вы доводите больных до эпилептического припадка, так и врачей мучаете глупыми вопросами. Раз больной жил в пещере, это еще не значит, что у него каверны в легких. Ступайте, дайте мсье Лермиту отдохнуть и прийти в себя.
Я свернула холсты, но не стала прятать их в зонтик, надела шляпку и, не сказав больше ни слова, вышла из палаты.
***
Стояла влажная жара. Даже сюда, на монмартрский холм, долетали удушливые испарения с Сены. Я сняла корсет и облачилась в тонкий полупрозрачный пеньюар. Потом достала из комода папку Андрея и принялась перебирать рисунки. Это единственное, что осталось мне от него, если не считать двух картин, одну из которых погубил сумасшедший пациент доктора Бланша. Обедать вместе с постояльцами мне не хотелось, и я попросила мадам де Жаликур принести мне еду в комнату.
Когда я нехотя ковыряла пулярку под эстрагоновым соусом, размышляя, как можно испортить такое простое блюдо, в дверь постучали. Накинув на плечи легкую кашемировую шаль, я приоткрыла дверь. На пороге стоял Улисс.
— Прости, что без предупреждения. Можно войти? — Вид у него был взволнованный.
— Я не одета, — проговорила я, отступая и кутаясь в шаль. — И чувствую себя не в своей тарелке.
— Это неважно, — отмахнулся он и вошел в комнату. — Мне надо с тобой срочно поговорить. У тебя выпить есть?
Я предложила ему сесть и задернула атласные занавеси алькова, где стояла кровать. Потом открыла саквояж и достала бутылку хорошей водки, которую привезла в подарок Андрею из самого N-ска.
Улисс налил себе рюмку водки, выпил и закусил пуляркой из моей тарелки. Потом с интересом посмотрел на меня.
— Полин, скажи, кому из сильных мира сего ты перешла дорогу?
— Прежде чем я соберусь с мыслями, объясни, что произошло.
— Из-за этой истории я уже две ночи отсидел в Консьержери, и мне не хочется снова туда попасть. Только что в пивной «Ла Сури» ко мне подошел один тип. Никогда прежде я его не видел. Тип странный, похож на клошара, небритый и трясущийся, только одет приличнее. Он заявил, что если ты не скажешь, где спрятала картины из мастерской Андре, то сильно об этом пожалеешь.
— Картины Андре? Но я же ничего не знаю!
— Вот и я не знаю. Этот человек сказал: «картины из мастерской Андре», а не «его картины». Значит, там было еще что-то, более ценное, чем поделки русского художника. Прости, Полин, я говорю то, что думаю. Никакой ценности картины Андре не представляют.
— Это неправда! — запротестовала я. — Андрей — прекрасный рисовальщик.
— Как будто я не видел его работ, — хмыкнул швед.
— Можешь полюбоваться. — Я протянула ему свернутые в трубку три холста. — Тут две его работы.
— Что это? — спросил Улисс. Два холста он, бегло просмотрев, отложил в сторону, а на третьем задержал внимание. — Чудесный Энгр! Сколько ты отдала Кервадеку?
— Пять тысяч франков, — ответила я. — Откуда ты знаешь, что я купила их у Кервадека?
— Видел у него коллекцию, которую он собрал после революции, — огромных денег стоит. И тебе он еще по-божески уступил, мог и семь тысяч содрать. Или даже десять.
— Он и содрал, — кивнула я. — За Энгра и два полотна Андре я заплатила семь тысяч франков.
— За это? — Улисс ткнул пальцем в холст, исчерканный Лермитом. — Да, Полин, тебе, наверное, деньги девать некуда! Неужели ты так любила этого русского?
— Сейчас уже не знаю, — вздохнула я. — Может, и любила.
— Ну, полно, полно. — Он снисходительно улыбнулся. — Ты все же сделала удачное приобретение. И сможешь рассказывать своим гостям, чем эскиз Энгра отличается от большой картины, — вот тут парча другой расцветки, и у одалиски нос поменьше.
— Один здешний постоялец сказал, что я на нее похожа.
Улисс окинул меня оценивающим взглядом художника и даже, взяв за подбородок, легонько повернул мою голову.
— Разве что совсем немного. А вот эти холсты выброси или повесь в кладовке, где никто не видит, если тебе так дорога память об Андре. Это не живопись, а стыд и срам!
— Посмотри вот это, Улисс. — Я протянула ему папку с рисунками. — И после этого ты скажешь, что Андре не мог рисовать?
Художник взял у меня папку и принялся рассматривать наброски. Он хмурился, поднимал брови, а, взглянув на рисунок с цыганкой и офицером, даже негромко присвистнул.
— Хорошо, хорошо, а вот это просто замечательно! Но почему Андре не работал в реалистичной манере? Зачем ему это? Рисовал бы портреты богатых буржуа, зарабатывал бы тысячи, а потом, в свободное время, писал бы свои кружки и квадратики. Я не понимаю…
— Улисс, скажи, может быть, именно эти рисунки требовал от тебя тот незнакомец? Если надо, я с ним встречусь. Клянусь тебе, кроме этой папки, все остальные картины из мансарды сгорели. Я сама видела.
— Нет, — ответил он. — За эти бесспорно замечательные рисунки никто не даст и ломаного гроша. У твоего Андре нет звучного имени. Так что не обольщайся. Не всем везет так, как Делакруа.
Мне стало обидно за Андрея. Я взяла холст, испорченный Жан-Люком Лермитом, и принялась его разглаживать, потом стала собирать рисунки. Один набросок выпал у меня из рук и плавно спланировал на разглаженный холст.
— Улисс, смотри, как интересно! — воскликнула я. — Три прямоугольных пятна расположены в большом треугольнике. На одном написано «Порт-Сен-Мартен», на других «Ренессанс» и «Ла Гурдан». То же самое нарисовано в углу холста, купленного у Кервадека. И именно это место на холсте исчертил углем безумец Лермит.
— Действительно, — кивнул он, — совпадение.
— Думаю, это больше, чем совпадение.
— И что же?
— Пока не знаю, но очень хочется эту загадку решить. Тебе известно какое-нибудь заведение или место под названием «Ла Гурдан»?
— Это знаменитый публичный дом. Славится тем, что там начала свою карьеру мадам Дюбарри, любовница Людовика XV.
— Как интересно! Расскажи, пожалуйста. Улисс смутился, поэтому для успокоения нервов налил себе еще водки.
— Я не большой знаток французской истории, — начал он, — но в том публичном доме бывал и поэтому слышал о судьбе мадам Дюбарри. Каждая шлюшка мечтает вырваться оттуда, как это когда-то удалось Жанне Бекю, будущей графине Дюбарри, только никто не хочет закончить свою жизнь на гильотине. Кто только не навещает это заведение! Маркизы, банкиры, епископы толпами наведываются, а художники — Тулуз-Лотрек, Дени, Валлоттон — специально приходят, чтобы рисовать ночи напролет, ведь там можно встретить такие типажи, таких красоток!..
— Андре бывал там?
— Да, с Тулуз-Лотреком. Носил иногда за ним мольберт и краски. Анри всегда просит ему помочь, и никто не отказывает, понимают, что ему трудно самому.
— Улисс, я вот чего не понимаю. Насколько мне известно, «Ла Гурдан» — не единственный бордель в Париже. Почему же туда ходит столько народу? Да еще отборная публика…
— Потому что его владелица мадам Лефлок делает все, чтобы привлечь клиентов. У нее все по высшему разряду: блондинки, брюнетки, рыженькие. Недавно завезла китаянок и мавританок. Устраивает костюмированные балы, маскарады.
— Таких девушек в любом портовом кабаке полно. Они же с кораблей бегут!
— Мадам прекрасно осведомлена о нравах, царящих в подобных местах, — усмехнулся Улисс.
К моим щекам прилила кровь. Мне стало неловко оттого, что я веду такие фривольные разговоры. Что художник подумает обо мне? Я нахмурилась и перевела разговор на другое:
— А что такое «Порт-Сен-Мартен» и «Ренессанс»? Вот тут написано. Ты знаешь?
— Знаю, — кивнул он. — Это театры на Больших бульварах.
— Далеко отсюда?
— Нет, не очень. Там, на бульварах, много театров: «Жимназ», «Варьете», «Водевиль», роскошная Парижская опера.
— Как я люблю театр! Не пропускала ни одного спектакля, когда к нам в город приезжали артисты на гастроли!
— А я, Полин, не большой поклонник театров. Мне просто не хватает на них времени да и желания, хотя можно найти себе развлечение на любой вкус: опера, буффонада, комедия, трагедия, оперетта — залы всегда переполнены. Я понимаю, что тебе сейчас не до театров, но все же посети какой-нибудь из них, развейся.
— Интересно, ходил ли Андре в театр? — Я не обратила внимания на его совет. — Может, там мы сможем найти разгадку его смерти?
— Знаешь, а это мысль. Однажды я видел его в театре «Ренессанс» — он пришел туда по просьбе Альфонса Мухи, моравского художника, чтобы помочь расписать стены. Владелица «Ренессанса» Сара Бернар заказала тому отделку стен и лож — шикарный заказ, очень выгодный. А еще Муха рисовал для нее афиши. Не видела? Потрясающий декор!
Как? Та самая Сара Бернар, перед которой склонился наш император? Она произвела фурор в Санкт-Петербурге лет двенадцать назад. Мой отец, завзятый театрал, присутствовал на ее спектакле и был в восторге.
— Разумеется, это она. Ты бы видела, что творилось в театре, когда Бернар выходила на сцену! Ей рукоплескали от ложи до райка! Она превосходно играет роль великой актрисы — самой себя, и в этом ей нет равных. Бернар — некрасивая женщина, это я тебе говорю как художник, но у нее необыкновенно живое, одухотворенное лицо, и знаешь, многие великие мира сего не устояли перед ее обаянием.
— И кто же, если не секрет?
— Например, Виктор Гюго, потом один гениальный изобретатель, я забыл его фамилию. Ее мужьями были принц из старинной династии и первый красавец Греции. А когда она сыграла Маргариту Готье, в тот год я получил десяток заказов на портреты дам с камелиями 44. Боже, какие это были легкие деньги!
— Улисс, все это, конечно, интересно, но я хочу знать, что обозначают одинаковые пятна на рисунке и картине Андре. Вполне вероятно, что здесь зашифрован какой-то план.
— Интересная мысль, хотя, по-моему, это просто вытирание кисти о холст.
— А надписи? Посмотри же на них!
— Что надписи? Может, он всю ночь гулял, а утром решил запечатлеть свой маршрут — из бардака в театр.
— Не думаю, это не похоже на Андре. Да и сумасшедшему алхимику из клиники доктора Бланша знаком этот путь. Они что, вместе по девочкам ходили? Не верю!
— Что ж, в твоих словах есть резон, — согласился художник.
— Наконец-то… Улисс, милый, ты можешь мне помочь?
— А что надо делать?
— Прошу тебя, срисуй вот эту часть картины и сходи на Большие бульвары. У тебя глаз художника, авось отыщешь что-нибудь в том театре: потайной шкаф с картинами, или, на худой конец, сейф с бриллиантами. Не зря к тебе в пивной пристал тот человек. Наверняка он знает то, что нам пока неизвестно.
— Не нам, — отстранился Улисс. — Тебе. Я не хочу в этом участвовать. Извини, Полин, но ты должна меня понять. Андре был для меня всего лишь случайным знакомым, да и ты, в общем-то, тоже.
— Тогда зачем ты пришел ко мне?
— Мне неприятно, что я оказался втянутым в эту историю. Что я сидел два дня в тюрьме, что ко мне обращаются подозрительные личности. — Улисс встал и нервно заходил по комнате. — Почему я должен это терпеть? Только потому, что случайно оказался на берегу Сены, когда тело Андре выловили из воды?
Я решила немного подбодрить его — подошла и погладила по руке.
— Успокойся, Улисс, и постарайся понять: чем быстрее мы найдем преступника, тем лучше. Не думаю, что нам поможет французская полиция. Поэтому мы должны действовать сами, если ты не хочешь, чтобы к тебе обращались всякие подозрительные личности. Прошу тебя: сходи с этим эскизом в «Ренессанс» и попробуй отыскать то, что здесь нарисовано. В этой точке сходятся все линии — и из публичного дома, и из «Порт-Сен-Мартена». А я буду тебя ждать до поздней ночи.
Улисс сделал копию рисунков за две минуты. Потом попрощался и быстро сбежал вниз по лестнице. А я легла в постель и раскрыла томик Мопассана, купленный в магазинчике на Монмартре.
За обедом мадам де Жаликур смотрела на меня с нескрываемым любопытством. Потом не утерпела и спросила:
— Какой приятный молодой человек сегодня навестил вас. Я не успела предупредить, что к вам гость, — спешила к зеленщику. Вы на меня не в обиде?
Для хозяйки с тремя подбородками любой мужчина моложе пятидесяти считался «приятным молодым человеком». Решив ее немного позлить, я сказала чистую правду:
— Еще в какой обиде, мадам! Вы хоть проверяйте, кого впускаете! Это один из подозреваемых в убийстве моего друга. Он отсидел в Консьержери и пришел навестить меня, так как очень разозлился, что его посадили.
— Надеюсь, он не обвиняет вас, что вы умышленно засадили его в тюрьму? — спросил Засекин-Батайский, отвлекшись от чтения газеты. — Он вам не угрожал?
— Нет, просто пришел сообщить, что вышел на свободу, — ответила я.
— Если ваши гости будут вам досаждать, дорогая, вы уж не церемоньтесь с ними, — сказала Матильда Ларок. — Сразу посылайте слугу за полицией.
В ее фразе мне почудилось не «вам досаждать», а «нам».
— Вот, пожалуйста, посмотрите, что пишут, — воскликнул князь, ткнув пальцем в газету. — «В районе бульвара Монпарнас, к югу от Латинского квартала, из открытого колодезного люка, ведущего в катакомбы, выскочили две крысы ростом с новорожденного теленка и, схватив фокстерьера, принадлежавшего мсье Анри Жордану, лавочнику с перекрестка Вавен, утащили его с собой. Куда смотрит префект? Когда же местные градостроительные власти займутся наконец этими подземными туннелями?»
— Кого утащили? Лавочника? — охнула хозяйка.
— Нет, фокстерьера, — ответил Засекин-Батайский. — Тут же написано.
— А что за катакомбы такие? — спросила я.
— Это страшное место, Полин, — покачала головой Матильда, намазывая паштет на кусочек багета. — Сначала оттуда добывали камни для строительства домов, а потом, после эпидемии чумы, мэрия решила перенести под землю останки умерших. И там, где раньше были камни, сейчас черепа да берцовые кости. Немудрено, что утащили фокстерьера. И теленка смогли бы.
— Боже мой! — всплеснула руками мадам де Жаликур. — Разве можно вести за столом такие разговоры! Я вас прошу, медам и мсье…
— Говорят, что находились смельчаки, которые спускались в катакомбы. Но никто из них не вернулся оттуда, — добавил князь и тут же осекся, взглянув на хозяйку. — Ах, простите, мадам, вам неприятно. Я больше не буду.
В этот момент раздался странный звук за окном — словно утку засунули в паровозный гудок и она там крякает, умоляя выпустить ее на волю. Мадам де Жаликур встала из-за стола и отправилась посмотреть, что происходит во дворе. Вернувшись, она проговорила заплетающимся языком:
— Полин, там вас… — и рухнула в кресло.
За столом никого не осталось. А во дворе обитателей отеля «Сабин» ожидало потрясающее зрелище. На дорожке, ведущей к дому, стоял четырехколесный безлошадный экипаж, на котором гордо восседал Доминик Плювинье в кожаной куртке, крагах и кепке с клапанами. На его лице были огромные очки, а на ногах — клетчатые гетры и крепкие тупоносые башмаки. Картинка из «Вестника Всемирной выставки», да и только!
— Боже! Доминик, что это?! — воскликнула я. — Откуда такая красота?
— «Панар-Левассор»! Четырехколесный автомобиль с бензиновым мотором в четыре лошадиные силы! — гордо ответил он. — Я приехал за тобой, Полин. Предлагаю совершить со мной прогулку. Поедешь?
— Это самоубийство! — покачал головой Засекин-Батайский. — Не соглашайтесь, мадам Авилова, на это безумие.
— Езжайте, Полин, не слушайте князя, — подтолкнула меня Матильда Ларок. — Потом расскажете нам о своих ощущениях. Я слышала, это нечто необыкновенное! Ах, сама бы села, да никто не приглашает.
— Но она не одета, как подобает одеваться шоферам! — воскликнула мадам де Жаликур. — Как можно сесть в этот экипаж без кожаной тужурки и очков?! Это непрактично и так не ездят!
— Ерунда! — махнула рукой Матильда Ларок. — Много вы знаете, как ездят, мадам. Если женщина носит свободную одежду, она должна остерегаться механизмов, а если облегающую — то механиков. Нынешняя мода не предназначена для автомобилей, поэтому пусть едет в чем есть. Полин, не расстраивайтесь, вперед!
Надев шляпку и накидку, я вернулась к автомобилю. Доминик по-хозяйски обошел его кругом, якобы проверяя, все ли в исправности.
— Красавец! — улыбнулся он, постучав носком ботинка по ободу. — Смотри, Полин, у него передвижная ременная передача, четыре скорости, резиновые обручи на колесах. Это же гениальное творение современной инженерной мысли!
— Какова максимальная скорость передвижения? — спросил князь, протирая монокль.
— Пять с половиной лье в час 45!
Но это же невозможно! — воскликнул Кирилл Игоревич. — Профессор медицины Альфред Дюпен утверждал, что человек не способен выдерживать скорость более семи-восьми лье в час в открытом безлошадном экипаже!
— Почему? — удивился Плювинье.
— Он не сможет вдохнуть воздух! Встречное давление будет столь велико, что дыхание остановится!
— Спасибо, мсье, — рассмеялся репортер, — я учту ваше предостережение. Искусство управления автомобилем требует жертв…
— Откуда у тебя самодвижущийся экипаж, Доминик? — спросила я, когда он подал мне руку и помог взобраться на кожаное сиденье. Ощущала я себя вполне удобно, словно сидела в открытом ландо, только было непривычно видеть перед собой не лошадиный хвост и не спину кучера, а открытое пространство.
— Это автомобиль! Так и только так надо называть это гениальное изобретение. Наша газета «Ле Пти Журналь» организует первые в мире гонки для экипажей с бензиновым, паровым или газовым мотором, а я — специальный репортер. Из всех журналистов мсье Жиффар выбрал меня одного.
— Он изобретатель этого автомобиля?
— Нет, он наш главный редактор. Ему принадлежит идея устроить гонки от Парижа до Руана. И приз вполне приличный — пять тысяч франков. Деньги пожертвовал граф де Дион. Каково? Все на высшем уровне! А экипаж мне дал Эмиль Левассор, чтобы я немного покатался. Вот я и решил заехать за тобой. Поехали?
— Мы будем участвовать в гонках? — испугалась я.
— Нет, только проверим ходовые качества аппарата перед соревнованиями.
Доминик резко дернул рычаг и ухватился за колесо перед собой. Автомобиль завибрировал, выпустил клуб черного дыма и стремглав, со скоростью быстро идущего человека, тронулся с места. Меня резко кинуло назад, на спинку сиденья, я ахнула и схватила Доминика за рукав куртки.
— Все в порядке, мы движемся! — крикнул он и принялся крутить колесо то в одну сторону, то в другую. А когда Доминик нажал грушу с раструбом, прикрепленную спереди, рядом с фонарем, я зажала уши руками — это был тот самый вой несчастной утки.
Мы поехали по улице Сент-Элетер на площадь Тертр, к базилике Сакре-Кер. Деревянные окованные колеса автомобиля хоть и были в резине, как уверял Доминик, однако сильно стучали по булыжной мостовой. Трясясь на сиденье, я стискивала зубы, чтобы не прикусить язык. Окрестные собаки лаяли нам вслед, лошади ржали и вставали на дыбы, а прохожие осеняли себя крестным знамением, шарахаясь в стороны с воплями и ругательствами.
Наконец эта пытка закончилась. Плювинье остановил автомобиль и помог мне выйти. Коленки дрожали, меня немного подташнивало, и я решила, что никогда в жизни не сяду в такой самодвижущийся экипаж, даже если вокруг не останется ни одной лошади. Пешком ходить буду. Придумали умники паровоз без рельсов! Нет у этого изобретения будущего и не может быть при такой тряске.
Мы сели на скамью, с которой открывался изумительный вид на Париж. Глядя на окружающий пейзаж, на устремившуюся к небу Эйфелеву башню, я вздохнула: меня пленяла красота этого старинного города, а я не могла ею насладиться. В мозгу засела заноза — кто убил Андрея и за что?
— Да ты в саже, Полин! Дай-ка я уберу ее. — Доминик достал батистовый платок и принялся вытирать мне лицо. — У меня, кажется, есть запасные очки. Хоть немного убережешься от грязи.
— Скажи, Доминик, что ты знаешь о театре «Ренессанс»? — спросила я, отведя в сторону его руки.
— В прошлом году театр купила великая Сара Бернар, она хочет ставить пьесы Ростана и, разумеется, играть в них главные роли. Причем она собирается воплощать как женские образы, так и мужские. А пока она репетирует, на сцене «Ренессанса» идут оперетты и буффонады. Сегодня, например, «Соломенная шляпка» Эжена Лабиша — замечательный водевиль. Может быть, сходим? Мне как сотруднику прессы положены контрамарки.
— Нет, спасибо, не хочется.
— Тогда почему ты спросила о «Ренессансе»?
— Да так. Утром прочитала афишку в газете.
— Полин. — Доминик взял меня за руку. — У меня к тебе серьезный разговор.
— Что случилось?
— Я не просто так приехал за тобой. У меня ощущение, что ты в опасности.
— В опасности я была не далее как несколько минут назад, трясясь в твоем автомобиле.
— Я говорю серьезно, Полин. Сегодня, когда я выходил из редакции, меня подстерег какой-то человек и сказал…
— «Передайте мадам Авиловой, что если она не скажет, где прячет картины из мастерской Андре, ей не поздоровится», — договорила я за него. — Верно?
— Примерно так, — удивился Доминик. — Поэтому я сразу, вместо того чтобы направиться на бульвар Майо, где собираются водители автомобилей, приехал к тебе. Я боюсь за тебя, Полин…
— Интересно, а этот человек сказал, куда я должна принести картины? Допустим, я согласилась, и что, я должна дать объявление об этом в газете?
— На этот счет он ничего не говорил. Лишь просил предупредить тебя. Возможно, он намерен еще раз встретиться со мной или сам обратится к тебе. И вообще, от всего этого у меня голова идет кругом. Ведь я же не сыщик, а простой репортер. Я описываю преступление, а не расследую его. Может, стоит обратиться в полицию? Я могу описать этого человека.
— У меня есть идея! — воскликнула я. — Этот шантажист подходил и к Улиссу тоже, а значит, Улисс сможет его нарисовать. И еще мсье Бертильон говорил мне что-то о словесном портрете. Можно попробовать составить такой портрет и вывести шантажиста на чистую воду!
Неожиданно раздалось утиное кряканье — это мальчишки нажали на резиновую грушу, находящуюся справа от руля автомобиля.
— Пойдем, Полин. Я отвезу тебя домой. — Доминик поднялся со скамьи. — Мне пора на бульвар Майо.
Обратный путь я перенесла значительно легче. То ли я уже привыкла к тряске, то ли дорога была лучше. Автомобиль быстро несся вниз по пологому склону холма, из-под колес летели комья грязи, а несколько собак бросились нас догонять, словно увидели огромную удирающую кошку. Я уже не обращала внимания на тряску и сажу, а наслаждалась удивительным ощущением скорости, когда горизонт мчится тебе навстречу и его не загораживает лошадиная задница…
Около дома нас ждал взволнованный Улисс. Из окон выглядывали привлеченные шумом автомобиля постояльцы.
— Полин, наконец-то! Где ты пропадаешь?! Я все выяснил! — бросился ко мне Улисс.
— Что ты выяснил?
Теперь я знаю, что обозначают пятна и линии на картине Андре! Это вход в катакомбы. На картине, которую рисовал Андре, показан путь в подземелье поверху — это дорога между публичным домом «Ла Гурдан» и театром «Ренессанс», а его сумасшедший приятель начертил план подземелий с входом из «Порт-Сен-Мартена». Надо срочно идти туда!
— Улисс, почему такая спешка? — спросил Плювинье, раздосадованный тем, что на его автомобиль швед не обратил ни малейшего внимания. — Эти катакомбы уже триста лет как выкопаны, неужели с ними что-то случится, если ты опоздаешь?
— Сара Бернар начала в театре ремонт. Когда я пришел, каменщики уже собирались замуровывать отверстие в фундаменте. Я еле упросил их повременить и прибежал за тобой, Полин. Пойдешь со мной?
— Ты еще спрашиваешь! Только переодену это измазанное платье. Подождешь?
— Не надо! Ты думаешь, в каменоломнях чище? Доминик, отвезешь нас на Большие бульвары?
Наконец-то Улисс заметил новейшее средство передвижения, но отнесся к нему так, будто ежедневно ездил в свою мастерскую на автомобиле.
Репортер, обрадованный тем, что в его услугах возникла необходимость, согласился нас довезти. Но поскольку сам торопился, скорость развил сумасшедшую.
Как было страшно! Автомобиль трясло и подбрасывало, нам вслед летели проклятья и оскорбления прохожих, а я сидела ни жива ни мертва и только прижимала к груди сумочку, в которой лежали пенсне, несколько франков и бальзам горничной Веры. Через двенадцать минут мы были на Больших бульварах, около театра «Ренессанс».
— Ты с нами? — крикнул взлохмаченный Улисс Доминику, спрыгивая с автомобиля и помогая мне сойти.
— Нет, мне нужно вернуть Эмилю машину, а потом я приду сюда и буду дожидаться вас тут. Удачи!
Автомобиль взревел, выпустил клуб черного дыма и исчез из виду.
Улисс взял меня за руку и потащил по театральным коридорам. Я не сопротивлялась, только зажала в горсти юбку, чтобы не споткнуться и не упасть.
— Послушай, Улисс, прежде чем мы полезем в какую-то дыру под землей, объясни толком, что происходит.
— Сейчас… — Он нырнул за пыльную портьеру, завернул за угол, и мы оказались перед стеной, в которой зияло отверстие высотой в аршин. Рядом были свалены кирпичи, неподалеку стояло ведро с известью. — Сейчас ты все поймешь. Я пришел в театр и увидел, что в нем идет ремонт. Пока переделка не затронула зал и сцену — рабочие занимаются складскими и подсобными помещениями, но времени у нас в обрез. Помнишь две перекрещивающиеся линии на картине, идущие от пятна с надписью «Ренессанс»? Скорее всего, они обозначают внутренние коридоры за сценой, а точка их пересечения, выделенная красной киноварью, — некое важное место. Я пошел по коридору, вышел к этой стене и увидел каменщиков, собирающихся заделывать отверстие. Насилу упросил их повременить и кинулся за тобой.
Улисс вытащил из кармана свернутый в трубку план и ткнул пальцем в точку пересечения линий рядом со знакомым пятном.
Я вдруг вспомнила о крысах величиной с теленка, утащивших собаку лавочника, и мне стало не по себе.
— Страшно, Улисс. А вдруг там нечисть какая? Сожрут ведь.
Как угодно, — сухо ответил Улисс. — Я бегаю, разыскиваю, а ты сомневаешься. В конце концов, Андре был твоим другом, а не моим, и именно ты хотела найти его убийцу. Только получается, что ты хочешь это сделать чужими руками. А мне нужно, чтобы ко мне не цеплялись разные проходимцы и не мешали жить. Все, будь счастлива, мне пора.
Я была в отчаянии. У меня не хватало решимости полезть в эту дыру.
— Улисс, подожди, не уходи! Я не хотела тебя обидеть.
— Ты не обидела, просто я умываю руки и иду в полицию. Там нарисую портрет господина, который подходил ко мне в пивной, и сообщу, что меня шантажируют. А здесь пусть все замуровывают. Кому интересно, что нарисовал какой-то русский художник? Прощай!
В этот момент в коридоре появились рабочие-каменщики. За ними, чуть прихрамывая, шла худощавая дама лет пятидесяти в облегающем платье. Увидев ее, Улисс переменился в лице.
— Что здесь происходит? — строго спросила она.
— Мадам Бернар, позвольте представить вам мою спутницу, мадам Авилову, — сказал Улисс с таким благоговением, что мне стало неловко. — Она гостья из России и интересуется парижскими катакомбами. Вот, привел ее сюда, к вам.
Сара Бернар — я сразу узнала ее по описанию художника — скептически осмотрела мое платье, выпачканное в саже от автомобиля Плювинье, чуть поморщилась и надменно произнесла:
— В Париже множество входов в катакомбы. Отведите мадемуазель на площадь Данфер-Рошро. Оттуда совсем недалеко до Ротонды Берцовых Костей 46, надеюсь, вам известно это место. Почему вам понадобился вход именно из моего театра?
— Позвольте мне сказать, мадам Бернар. Я счастлива видеть несравненную Сару Бернар! — воскликнула я, покривив душой лишь самую малость. — В Санкт-Петербурге о вас до сих пор ходят легенды. Признаться, самой мне не довелось побывать на спектакле с вашим участием, но мой отец не перестает вспоминать и восхищаться гениальной Сарой Бернар в роли Маргариты Готье. Он стоял на лютом морозе с красными тюльпанами, купленными на последние деньги, чтобы увидеть вас еще раз после спектакля.
Конечно же, я приврала и о красных тюльпанах, и о последних деньгах, но игра стоила свеч. Как только передо мной появилось препятствие в виде актрисы, мне сразу же страстно захотелось попасть в катакомбы.
— Кажется, я припоминаю вашего отца, любезная мадам Авилова, — улыбнулась актриса, и ее лицо смягчилось. Конечно же, она лукавила, но сделано это было с таким очарованием, что я невольно поддалась бы ему, если бы не знала, что разговариваю с самой гениальной лицедейкой нашего времени. — И все же, почему вас заинтересовал именно этот вход в катакомбы?
Каменщики, пришедшие вместе с ней, начали месить раствор и таскать кирпичи. Им не было дела до какой-то барыньки, желающей удовлетворить свою прихоть. Им надо было работать.
Земля ушла из-под ног, и я, не моргнув глазом, выпалила первое, что пришло в голову:
— По сведению моего друга, русского художника Андре Протасова, в непосредственной близости от вашего театра, мадам Бернар, выходит наружу слой минерала, чрезвычайно полезного для живописи. Он немного понимал в минералогии и вынес из катакомб образцы, чтобы показать их специалистам.
— Волконскоит 47, — с серьезным видом добавил Улисс, поняв мою игру.
Актриса и вида не подала, что впервые слышит это название. Вместо этого она произнесла:
— Мне знаком этот художник. Такой высокий, светловолосый. Он помогал Альфонсу Мухе расписывать театр.
— Верно, он самый, — подтвердила я.
— А этот минерал имеет какую-либо практическую ценность? — спросила актриса.
— Несомненно, — кивнул Улисс. — Право на разработку будет принадлежать тому, кто нашел, а также тому, кто купил землю над раскопами.
Этот аргумент убедил мадам Бернар.
— Хорошо. — Она царственным жестом показала на каменщика. — Жан даст вам фонарь, фосфорную зажигалку и две пары высоких сапог. Но через четыре часа, до окончания рабочего дня, вы обязаны вернуться. Иначе следующая артель по незнанию попросту замурует вас в этих катакомбах.
Мадам Бернар повернулась и столь же царственной походкой удалилась.
Плотный, коренастый Жан в длинном кожаном фартуке принес нам сапоги и с пониманием посмотрел на меня, когда я отошла в укромный уголок, чтобы надеть их. Менять обувь в присутствии мужчин неприлично — подобное позволено наблюдать лишь приказчикам обувных лавок Конечно же, сапоги оказались для меня очень велики: поозиравшись по сторонам, я нашла кусок оберточной бумаги и принялась заталкивать его внутрь.
— Не нужно вам туда идти, мадемуазель, — со вздохом сказал Жан, когда я переобулась. — Не советую.
— Почему?
— Не женское это дело. Да и честному христианину туда тоже нечего соваться. Там дьяволова дыра, и охраняют ее тысячи черепов, составленные в пирамиду. Я сам видел. Страсть такая, что и словами не опишешь. Один русский спустился туда и пропал. Больше мы его не видели.
— Это был мой друг. И я должна узнать, что с ним произошло, чего бы мне это ни стоило.
— Жалко мне вас, мадемуазель. Вы такая молодая. Тот русский вошел туда тоже молодым, а вышел однажды дряхлым стариком. Я наблюдал за ним. Мы не первый месяц тут строим. А потом и вовсе сгинул. Не рискуйте, прошу вас, поберегите свою красоту.
— Спасибо на добром слове, Жан, но я все-таки спущусь. Мой спутник, мсье Тигенштет, позаботится обо мне.
Попросив Жана припрятать мои ботинки, я перекрестилась украдкой и протянула Улиссу руку. Он ободряюще подмигнул мне, взял фонарь, и мы вошли в катакомбы.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Самые смелые и самые разумные
люди — это те, которые под любыми
благовидными предлогами
стараются не думать о смерти.
Поначалу идти было легко — высокие потолки, сухо, уклон оказался пологим. Фонарь освещал путь на три-четыре аршина вперед. Улисс чертил на стене стрелки предусмотрительно захваченным куском извести и посвистывал.
Вдруг вдоль стены метнулась тень. Я вскрикнула и отшатнулась.
— Тише, тише, Полин, — взял меня за руку Улисс. — Крысы — это, конечно, неприятно, но они ничего плохого нам не сделают. Не бойся, просто не обращай на них внимания. Сейчас мы дойдем до первой развилки, и там я посмотрю план.
Так в тишине и темноте мы шагали около десяти минут, пока не подошли к большому плоскому камню. За ним коридор разветвлялся на три рукава.
— Давай присядем, — предложил Улисс, и я с удовольствием опустилась на прохладную поверхность.
Улисс поставил фонарь на камень и развернул план.
— Где мы находимся? — спросила я.
Вот тут, — он показал мне трезубую вилку, на одном из концов которой был изображен череп. Это было художество старого алхимика — нарисованный углем оскал успел размазаться.
— Понятно. А куда надо прийти?
— Сюда, в это пятно ярко-желтого цвета. — На картине оно находилось в правом верхнем углу.
— Улисс, мне страшно. Мы не заблудимся?
— Не бойся, Полин. Мне не первый раз приходится путешествовать по катакомбам. И правило правой руки меня всегда выручало.
— Что это за правило?
— Проходя лабиринт, всегда держись правой стороны. Если попадешь в тупик, надо вернуться назад и идти по другому коридору, держась правой рукой стены. Тогда точно выберешься. Вставай, у нас мало времени.
Улисс помог мне подняться, и мы вошли в один из трех узких коридоров.
Теперь идти стало намного труднее. Штольня резко пошла вниз, под ногами начало хлюпать, похолодало. Улисс не забывал чертить на стенах стрелки и еще дважды сверялся с планом. Мы поворачивали то налево, то направо, иногда приходилось преодолевать небольшие груды щебня, осыпавшегося с потолка. В общем, я окончательно потеряла счет времени.
За очередным поворотом Улисс поднял фонарь, и я обмерла от страха: на меня смотрели сотни пустых глазниц и щерились безгубые рты.
— Что это? — зажмурилась я. — Боже мой, я никуда больше не пойду, я хочу назад! Я боюсь!
— Бояться надо живых, Полин. — Улисс обнял меня и легонько прижал к себе. — От этих костей вреда не больше, чем от чурок для растопки камина. Ты только посмотри. Это же просто кучи скелетов, наваленных друг на друга.
Собравшись с духом, я приоткрыла сначала один глаз, потом другой и остолбенела — передо мной были сложенные из черепов пирамиды с гранями из берцовых костей. А еще черепа были вмурованы в стену. Приглядевшись, я поняла, что это настоящие барельефы, изображающие распятия, четки и кубки для причастия.
— Эти картины создали могильщики, перетаскивавшие останки умерших от чумы. Надо же было что-то придумать, чтобы не сойти с ума от такой работенки. Вот и получился оссуарий, — сказал Улисс.
— Что получился? — пролепетала я.
— Оссуарий. Так древние римляне называли вместилища для костей покойников. Они складывали останки предков в керамические горшки, а потом поклонялись им.
— Горшкам?
— Нет, предкам в горшках.
У меня закружилась голова, и я чуть пошатнулась.
— А давно была чума?
— В средние века. Потом, при Людовике Шестнадцатом, обыватели, жившие вокруг «Чрева Парижа», стали роптать.
— «Чрево Парижа» — это парижский рынок? Я читала о нем у писателя Золя.
— Верно, — кивнул Улисс. Он соорудил из кучи щебня и камня нечто вроде табуретки и усадил меня на нее. — Но дело не столько в «Чреве Парижа», сколько в Кладбище праведников около рынка. На это кладбище в течение тысячи лет свозили мертвых. Ты себе представляешь, Полин, тысячу лет в одно и то же место сваливаются трупы! Там же уже земли не осталось — одна органика! Вокруг стоял смрад от гниющих останков, люди болели, умирали и в результате пополняли собой груду костей.
— И что, ничего нельзя было сделать? Рынок рядом с кладбищем — это же прямой путь к эпидемиям! Разве властям не было до этого никакого дела?
Улисс покачал головой.
— Полин, Париж не всегда был таким, каким ты его видишь сейчас: с широкими цветущими бульварами, просторными площадями, красивыми домами. Такому Парижу всего полвека — только при префекте бароне Османе началось крупное строительство. А до этого в Париже были узкие улочки, куда прямо из окон выплескивались помои и нечистоты, и люди не имели никакого понятия об элементарных правилах гигиены.
— Какой ужас! — воскликнула я. — Мне бы не хотелось жить в те времена.
— Как ты думаешь, почему стали так популярны знаменитые французские духи? По простой причине: нужно было перебивать чем-то вонь от смердящих трупов и нечистот, вываленных на улицу.
— Улисс, неужели это правда?
— Именно так, сударыня. Когда из каменоломен вырубили камни для строительства зданий Парижа, в опустевших штольнях закипела своя жизнь: там обосновались клошары, не имевшие собственного жилья, контрабандисты; там воры прятали награбленное, а убийцы — тела своих жертв. И вот Государственный Совет решил положить этому конец, но… помешала революция. А за революцией последовала резня, потом еще одна, и еще… Изобретение мэтра Гильотена действовало бесперебойно, а свежие обезглавленные трупы свозились сюда, в катакомбы. Тут нашли свой последний приют не только князья и герцоги, но и великие граждане свободной Франции — Робеспьер, Дантон и другие.
— Улисс, да ты республиканец! — удивилась я.
— А что в этом плохого? По крайней мере, люди верили в идеалы, лелеяли мысль о свободе, равенстве и братстве…
Что не мешало им отправлять на гильотину тысячи своих собратьев, — оборвала я его. — Ты еще «Марсельезу» здесь спой. Самое место. Ведь, как ты сказал, именно тут находятся останки Дантона и Робеспьера.
— Не сердись, Полин. Если ты отдохнула, давай двигаться дальше, а то мы тут в спорах и так много времени потеряли, — примирительно ответил он. — Смотри, мы уже приближаемся к цели.
Но мы еще долго карабкались по мокрым, склизким камням. Два раза мы попадали в тупик и выходили из него по правилу правой руки; один раз я оступилась и упала в лужу; Улиссу на голову спланировала летучая мышь, и я, превозмогая отвращение, вытаскивала дрожащее животное из его длинных, спутанных волос. И при всех обстоятельствах он не забывал отмечать на стенах направление нашего движения.
В какой-то момент мне послышались шаги. Я остановилась, и мы долго прислушивались к шорохам в катакомбах. Потом мой спутник сказал, что меня сбила с толку капель.
Дальше нам пришлось двигаться чуть ли не на четвереньках. Я старалась не думать, под какой толщей земли мы находимся, — иначе просто умерла бы от страха. К горлу подступала тошнота, сердце колотилось, как сумасшедшее, а Улисс все подталкивал меня к темному проему высотой не более двух-трех локтей.
— Я не могу, Улисс, я боюсь! У меня клаустрофобия! — Я вспомнила слово, которое когда-то услышала от Лазаря Петровича. Он всегда так говорил, выходя из кладовки с пыльными папками, которую приспособил под архив судебных документов.
— Не бойся. Полезу первым, а ты за мной.
Только он собрался лезть в узкий проем, как вдруг остановился.
— Полин, посмотри, что это?
Улисс поднял с земли сложенный вчетверо клочок бумаги, заляпанный грязью и пометом летучих мышей, развернул его, и я вскрикнула — узнала свое письмо к Андрею.
— Дай его мне! — мой голос предательски задрожал. — Это я написала. Улисс, Андре подает нам знак!
У меня в руках оказался пустой надорванный конверт, но и этого было достаточно, чтобы возродить во мне надежду: мы шли по следам Андрея, и вот-вот я узнаю, что стало причиной его гибели.
— Лезь! — решительно сказала я Улиссу. — Я за тобой.
Было страшно. Я оказалась в полной темноте, так как фонарь Улисс проталкивал впереди себя и закрывал собой его свет, но я ползла вперед, не думая, как буду возвращаться.
Наконец лаз расширился, можно было уже встать на четвереньки, потом сделать несколько шагов, согнувшись, и наконец тоннель закончился.
— Обопрись на мою руку, Полин, — предложил Улисс.
— Где мы? — спросила я.
— В какой-то пещере, внутренней полости. Я сейчас посвечу, посмотрим, что тут есть.
— Полость, полость… — задумалась я, и тут меня осенило: — Каверна! Так вот о какой каверне он говорил!
— Кто говорил?
— Жан-Люк, приятель Андре, старый колдун и алхимик, который теперь в клинике для душевнобольных. Это он исчертил картину Андре так, что получился план.
Улисс присвистнул:
— Интересно… Я думал, что эту карту нарисовал Андре. Но если это дело рук алхимика, то он обладает острым умом и отменной памятью. Зачем его держат в сумасшедшем доме?
— Он там скорбит…
— Понятно.
Улисс поднял фонарь повыше, и я заметила на стенах факелы. Показав на них моему спутнику, я предложила их зажечь. Всего в пещере оказалось около двадцати факелов. Вскоре она озарилась ярким светом.
— Что-то в этом роде я и предполагал, — пробормотал Улисс, выйдя на середину пещеры.
— Боже мой! — воскликнула я.
Пещера была разделена на две части. В одной половине стоял грубо сколоченный стол, уставленный колбами, ретортами, и штативами с пробирками. Под столом оказались большая спиртовка и змеевик Возле стены грудой лежали старые одеяла.
В другой половине пещеры я увидела картины. Большие и маленькие, натянутые на подрамники и свернутые в трубку, — их было достаточно много, я насчитала около двух дюжин. Я взяла одну из картин — портрет девушки. «Франсуа Буше», — прочитала я подпись в углу. Другие картины, такие же старые, с потрескавшейся краской, были подписаны не менее известными именами: Ватто и Шарден.
— Что это, Улисс? Я ничего не понимаю. Подобные картины я видела в галерее Кервадека и даже купила одну из них — одалиску Энгра. А теперь я нахожу такие же картины тут, среди камней и реторт. Уж не зря ли я потратила пять тысяч франков?
— Есть два ответа, — подумав, сказал он и взял одну из картин, чтобы лучше ее рассмотреть. — Либо это фальшивка, картины приносили сюда в пещеру и искусственно старили с помощью химических реактивов, либо, наоборот, картины подлинные, но ворованные, а химия нужна была только для реставрации. Смотри, Полин, какие они старые и потрескавшиеся. Наверняка хранились где-нибудь на чердаках и в подвалах.
— Если картины подлинные, зачем лезть с ними глубоко под землю, чтобы реставрировать? Неужели нельзя устроить лабораторию в обычном доме, чтобы приводить их в порядок? И старить фальшивые картины можно там же. Зачем рисковать жизнью, лазать по жутким пещерам? Что-то тут не сходится, Улисс.
— Посмотрю, что в этих колбах, — вместо ответа сказал он и принялся исследовать стол с химическими реактивами. — Насколько мне известно, для старения картин используют соли лития и обработку специальными парами. От них трескается новая краска, и картина приобретает нужный вид.
— Откуда ты это знаешь?
— Я ведь не всегда был художником, Полин. Несколько лет я учился у профессора Нильсона в Упсальском университете — изучал сернистые и хлористые соединения мышьяка, потом занимался редкими землями.
— Ты еще и путешественник?
— Нет, — засмеялся Улисс. — Редкоземельными называются элементы, редко встречающиеся в земной коре. Сейчас их соединения называют солями, а полстолетия назад было принято название «земли». Это скандий, иттрий, лантан… Многие элементы были открыты в Швеции учителем моего профессора — Йенсом Якобом Берцелиусом. Поначалу я так увлекся химией, что мне хотелось встать вровень с гигантами. Но потом… — он осекся и посмотрел на меня. — Вижу, Полин, я совсем заморочил тебе голову. Ты меня совсем не слушаешь…
— Я поняла! — воскликнула я и схватила его за руку.
— Что ты поняла?
— Мне Мона, танцовщица из кабаре, рассказывала, что Жан-Люк говорил с Андре о покупке каких-то земель. Я еще удивилась, откуда у них на это деньги, а оказывается, они хотели приобрести препараты для химических опытов! Теперь понятно. А в колбах эти самые земли? — спросила я, увидев жидкость винного цвета.
— Раствор перманганата калия, но не это меня интересует, а вот что. — Улисс взял раскрытый фолиант, лежавший рядом со штативом, и протянул мне: — Прочитай, мне трудно разобрать старофранцузскую вязь.
Водя пальцем по строчкам, я прочитала: «Возьми философской ртути три унции и прокали ее. Возродится Зеленый Лев, но не прекращай прокаливание, как бы он ни рычал на тебя. Получишь Красного Льва. Добавь унцию кислого виноградного спирта и нагрей, получишь сахар и флегму. От них отойдет горючая вода — пригорелоуксусный спирт и, наконец, явится Черный Дракон. Дай ему укусить свой хвост, и он вновь превратится в Зеленого Льва. Так происходит вечный круговорот из двух начал: мужского без крыльев внизу и крылатого женского наверху. Это сера и меркурий, сырость и теплота, солнце и луна…»
— Улисс, что это? Я ничего не понимаю.
— Все давным-давно известно. — Он махнул рукой и присел на кадку с зеленоватой землей. — Философской ртутью алхимики называли свинец, Зеленый Лев — это массикот, или желтая окись свинца. Красный Лев — красный сурик, сахар — ацетат свинца, если я не ошибаюсь, флегма — кристаллизационная вода, а то, что в книге называется пригорелоуксусным спиртом, — ацетон. После всех манипуляций в реторте остается свинец, который можно прокаливать еще раз. Вот тебе и дракон, кусающий себя за хвост. Обычная химическая реакция. К реставрации картин не имеет никакого отношения.
— Значит, тут не старили картины химическим способом?
— Конечно, нет. Скорее, здесь по старинным рецептам изготовляли краски. — Улисс улыбнулся и щелкнул пальцами. — Или вот еще догадка: искали философский камень. Чтобы обрести вечную молодость и превратить свинец в золото. Ты что выбираешь, Полин?
От факелов воздух в пещере нагрелся. Я взглянула на Улисса и обмерла: его лицо покрывала мелкая сеточка морщин, складки, идущие от носа к губам, углубились и потемнели. Он и раньше выглядел не вполне здоровым человеком, а сейчас мне показалось, что Улисс мгновенно постарел лет на десять.
— Что-то я устал, жарко тут и пить хочется. — Он потер лоб и вздохнул. — Надо возвращаться. Возьмем по картине, а наверху рассмотрим их внимательнее. Потом надо будет прийти сюда с полицией и все как следует обыскать.
Я достала из сумочки коробку с бальзамом и принялась втирать его в лицо и руки. Страшно было подумать, что и я теперь выгляжу так же. Я предложила бальзам Улиссу, но он только отмахнулся и полез в тоннель.
Мы не проползли и половины пути, когда раздался страшный грохот. На меня посыпались песок и мелкие камешки. Я вся сжалась и замерла, ожидая обвала. Но этого не произошло. Я попробовала продвинуться вперед и наткнулась на сапоги Улисса. Он не двигался.
— Улисс, Улисс, почему ты не ползешь вперед? Что случилось? — Я теребила его за ногу, но он не отвечал.
Мне стало страшно. Я поползла назад и снова оказалась в пещере. Времени на размышления не оставалось. Я решила: что бы ни произошло, надо вытащить Улисса из этой дыры. Набравшись смелости, я вновь полезла в тоннель, доползла до Улисса и принялась тянуть его за ноги. Мои усилия увенчались успехом, и вскоре я втащила его в пещеру.
Улисс был мертв. Во лбу его зияла страшная рана, лицо заливала кровь. Я истошно закричала и в ужасе заметалась по пещере, сшибая картины и опрокидывая колбы с растворами. Потом меня долго рвало и трясло от страха. Боже мой! Я на очереди! Сейчас убьют и меня. Что же делать? Как спастись? Есть ли выход из этого каменного мешка? Вытащив Улисса, я дала понять убийце, что знаю о его существовании, и, более того, открыла ему путь в пещеру.
Самообладание далось мне с неимоверным трудом. «Хватит паниковать, Аполлинария! Возьми немедленно себя в руки!» — приказала я себе и стала двигать тяжелую кадку с рудой к проему. Откуда только силы взялись?! Приподняв непосильно тяжелую кадку, я закупорила ею проход. Потом оттащила бездыханное тело Улисса за алхимический стол, накрыла его валявшейся поблизости рогожкой и принялась искать что-нибудь тяжелое, чтобы использовать в качестве оружия. И, кажется, нашла! Это был латунный пестик из ступки.
Присев на землю около проема, я стала прислушиваться к звукам, доносившимся снаружи. Было тихо, как в могиле. Иногда мне слышалось какое-то царапанье, но я относила эти звуки к шуму в голове. Факелы догорали, воздух прогрелся еще сильнее, и все больше хотелось пить. Фонарь я прикрутила так, что он еле светил. У меня не было спичек, поэтому тушить его было нельзя — не зажгу, если понадобится.
Итак, я в западне, из которой нет спасения. Сколько мне еще тут придется сидеть? Может, там, наверху, выход из катакомб уже замуровали? Скоро наступит кромешная тьма. А где-то в лабиринте катакомб меня поджидает убийца.
Постепенно страх притупился, и я начала размышлять о том, что произошло. Как ни крути, а оказалась я в такой ситуации по своей вине, из-за своего безмерного любопытства и самоуверенности. Ну не лезут девушки и дамы из благородных семей в подобные авантюры. А я сама недавно пыталась убедить министра иностранных дел в том, что женщины ни в чем не уступают мужчинам. Еще восхищалась Мэй Шелдон 48! Вот это леди! Она не спасовала бы перед препятствиями.
Не поворачиваясь спиной ко входу, я встала, подошла к столу и обнаружила под ним оловянную бутыль с наклейкой «Aqua destillata» 49. Пить теплую безвкусную воду, отдающую жестью, было противно, но она кое-как утолила жажду, и я принялась рассматривать картины.
Какая-то мысль крутилась у меня в голове, но мне никак не удавалось ухватить ее за хвост. И вдруг меня словно пронзило — я вспомнила слова Улисса о купленном мною эскизе Энгра: «Ты все же сделала удачное приобретение. И сможешь рассказывать своим гостям, чем эскиз Энгра отличается от большой картины, — вот тут парча другой расцветки, и у одалиски нос поменьше».
Покрывало, на котором лежала одалиска, было из той самой золоченой парчи с песлийским узором, которую Андрей принес из мебельной мастерской своего отца. Абсурд в том, что у Энгра на парче от генеральши Мордвиновой лежит одалиска, похожая на меня! Тогда получается, что я купила не Энгра, а подделку, написанную Андреем и, вполне вероятно, состаренную здесь, в этой пещере. Выходит, во всем виноват Кервадек! А я ему поверила! Боже, как я глупа! Он заставлял Андрея рисовать копии, а Жан-Люка Лермита старить их химическим способом. Затем продавал их за большие деньги, а когда Андрею надоело это делать, то Кервадек убил его. Потом он пришел за картинами в мансарду и наткнулся на нас. Сесиль и девушку-соседку убили лишь потому, что они оказались свидетельницами преступления. Опасность также подстерегала меня и Плювинье. А теперь и Улисс пал жертвой Кервадека.
Вдруг кадка с рудой задрожала и начала раскачиваться. Факелы уже потухли, прикрученный фитиль от лампы почти не давал света, и я с трудом различала в темноте выход из пещеры. Крепко сжав в руке тяжелый пестик, я прислушалась к стуку, доносившемуся из тоннеля. Прижавшись к стене, я приготовилась дать отпор. Будь что будет!
Кадка с рудой сдвинулась, посыпалась земля, и я услышала приглушенный голос: «Полин…». Мужчина не успел договорить, так как пестик со всего размаху обрушился ему на голову. От моего удара непрошеный гость ввалился в пещеру и замер, растянувшись на глиняном полу.
Я спряталась за стол алхимика. Кажется, я убила человека.
— Николя, где вы? Я иду за вами! — раздался знакомый голос.
— Кто тут?
— Полин, ты здесь? Жива? Это я, Доминик.
Затеплив фонарь, я подняла его над поверженным противником и с ужасом обнаружила, что приложила пестиком по лбу не подлого Кервадека, а Николая Ивановича Аршинова.
В проеме разлился свет и показался репортер. В руке у него был фонарь. Я отпрянула, закрыв глаза рукой.
— Что с тобой, Полин? Ты в порядке?
— Со мной все ладно, а вот он… — Я показала на лежавшего Аршинова. Тот издал слабый стон.
— Он упал?
— Я бы так не сказала. Это я ударила мсье Аршинова пестиком по голове. Надеюсь, не сильно.
— Ты не убила его? — Репортер принялся поднимать Аршинова. Потом осмотрелся по сторонам и спросил: — А где Улисс? Он ушел, а тебя оставил здесь одну?
— Улисс убит, Доминик.
— Что?! — Он резко выпрямился, и несчастный Николай Иванович вновь повалился на землю. От вторичного падения он пришел в себя, схватился за голову и застонал.
— Как это случилось? — спросил Доминик Мы решили выйти отсюда. Улисс полез первым, потом раздался шум, и, когда я втащила его за ноги обратно в пещеру, у него зияла дыра во лбу.
— Ты знаешь, кто его убил?
— Если бы я знала, — вздохнула я. — Я боялась нос высунуть. Потом немного пришла в себя и взяла вот этот пестик для самозащиты. Когда Николай Иванович появился в пещере, я подумала, что это убийца за мной лезет, и ударила его по голове.
— А где тело Улисса?
— Вон там. Я оттащила его в сторону.
Аршинов и Плювинье подошли к телу и откинули рогожку. Потом Доминик внимательно посмотрел на меня и произнес:
— Полин, мы не видели никого, пока шли сюда. Ты ничего не путаешь?
— Как я могу путать? Улисс убит в упор. Я ползла за ним. Пистолета здесь нет, хоть все обыщи.
— Но если мы были с другой стороны и никого не видели, то как все это могло произойти?
— Может, ты думаешь, это я застрелила Улисса?!
— Нет, ну что ты, — поторопился ответить Плювинье, однако некое недоумение от положения, в которое я попала, явно читалось в его глазах.
— А как вы нас нашли? — спросила я Аршинова.
— По белым стрелкам на стенах. И не только по ним, стрелки могли быть и старыми. А вот следы ваших сапог хорошо отпечатались.
— Надо немедленно осмотреть путь сюда! Думаю, мы найдем следы, отличные от наших. Они наверняка принадлежат убийце! — воскликнула я.
— Пусть лучше этим займется полиция, — сказал Плювинье. — А пока расскажи нам, что здесь происходит? Уверен, из этого выйдет хороший репортаж для «Ле Пти Журналь».
— Ты настоящий репортер, Доминик, — произнесла я с сарказмом. — Далеко пойдешь.
— Работа такая. — Плювинье вовсе не выглядел смущенным.
— Ну что ж, слушайте, — кивнула я.
И я рассказала ему и Аршинову о картинах, о том, что Андрей и Жан-Люк старили их с помощью химических реактивов, о том, как потом эти холсты оказывались у Кервадека и как тот продавал их, выдавая за подлинники. Плювинье строчил, не отрывая карандаша от блокнота.
— Это сенсация, — приговаривал он и требовал от меня новых и новых подробностей.
— Пора выбираться отсюда, — тронул его за плечо Аршинов. — Жарко тут.
Он многозначительно кивнул в сторону трупа Улисса.
— Да, верно, пойдемте отсюда, — заторопился Доминик.
Не помню, как я выбралась наружу. Я шла в натирающих ноги сапогах, цепляясь то за Аршинова, то за Доминика, и твердила себе: «Только бы выйти на белый свет!..» Меня не пугали ни летучие мыши, ни черепа, ни извилистые закоулки, — я брела и молилась за погибшего Улисса!
К моему великому разочарованию, света я так и не увидела — стояла глубокая ночь. Наверху нас ждали взволнованная Сара Бернар, каменщики, полицейские и пожарные.
— А где ваш спутник? — спросила мадам Бернар.
— Остался внизу. Он убит, — ответил Доминик.
— Как это произошло?
— Неизвестно.
— Я должен немедленно послать за следственной полицией. Попрошу всех оставаться на местах, — сказал пожилой полицейский.
Мне стало плохо, силы оставили меня, голова закружилась, и дальнейшего я не помню. В конце концов, дама я или нет? Положено мне хоть иногда падать в обморок?
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Признаваясь в маленьких недостатках,
мы тем самым стараемся убедить
окружающих в том,
что у нас нет крупных.
Очнулась я в театральной уборной, отделанной в моем любимом стиле «ар нуво»: плафоны в виде поникших лилий, изящная мебель и картины с изображением женских головок, увитых плющом. Надо мной склонилась женщина, в которой я еле узнала знаменитую актрису — она была без грима и с убранными в сетку волосами. Лицо ее блестело от жирного крема.
— Вы пришли в себя, — констатировала она. — Это хорошо. Вставайте и выпейте вина — сразу почувствуете себя лучше.
Она протянула мне высокий бокал молодого бо-жоле.
— Который час? — прошептала я, выпив вино большими глотками. По телу тут же разлилась приятная теплота, и я действительно почувствовала себя бодрее.
— Половина второго ночи, — ответила мадам Бернар. — Инспектор Донзак ждет, когда вы придете в себя. Я сейчас приглашу его.
Лицо полицейского выражало крайнюю озабоченность: глаза покраснели, веки набрякли — выглядел он так, словно не спал двое суток. Помятая одежда и заляпанные желтой глиной ботинки дополняли невзрачный облик.
— Полин, доброй ночи, я вижу, что ваше здоровье вне опасности. Вы в состоянии отвечать на вопросы? — спросил он, присаживаясь на стул рядом с кушеткой, на которой я лежала. — Сможете рассказать, что произошло в пещере?
— Смогу, — кивнула я. — Только скажите, что с Улиссом? Его вытащили?
— Его тело отправлено в морг, а картины и химические препараты — в лабораторию в Сюртэ. Наши специалисты определят, что в колбах и подделаны ли картины.
— Это галерейщик, — убежденно сказала я. — Это он торговал картинами из пещеры — я сама купила у него Энгра за пять тысяч франков. Картина оказалась подделкой. На ней нарисована я в виде одалиски, а парча, на которой я лежу, генеральшина.
Полицейский наверняка подумал, что у меня помутился рассудок. Он похлопал меня по руке и ласково проговорил:
— Ничего, ничего, несколько дней отдыха, полный покой, никаких приключений, и все наладится.
— Вы должны арестовать Кервадека, — требовательным тоном сказала я.
— Вы считаете, что Себастьян Кервадек, владелец галереи, совершил все эти преступления? — спросил Донзак. — Почему вы пришли к этому выводу? Вы видели, кто убил Тигенштета?
— Нет, не видела, но уверена, что это он.
— Почему?
— Cui bono? 50 Это выгодно только Кервадеку! Он нанимал Андре писать копии картин известных мастеров, потом Жан-Люк старил полотна химическим способом. Кервадек продавал эти фальшивые картины за большие деньги, даже я купила у него одну.
Полицейский нахмурился.
— Тогда я не понимаю, зачем Кервадеку убивать Протасова, если он имел с художника прибыль. Зачем резать курицу, несущую золотые яйца?
— Вы не знаете Андре, — сказала я. — Он был свободолюбивым человеком и ненавидел зависимость. Если он поначалу и согласился писать копии, то только из-за нехватки денег. А потом отказался, так как для него самовыражение в творчестве было важнее. Протасов — талантливый художник по интерьеру и мебели. Видели бы вы, какой гостиный гарнитур сделали мне по его эскизам!. Он бы мог жить припеваючи, рисуя столы и этажерки. Но он не захотел — его манило высокое искусство, и это не было для него пустыми словами.
— То есть вы полагаете, что мсье Протасов отказался выполнять требования Кервадека, и тот его убил из страха, что секрет изготовления картин откроется. Я вас правильно понял, мадам Авилова?
— Да, все именно так. Очень вас прошу, арестуйте галерейщика! Хватит смертей!
Донзак поднялся и уже около двери произнес:
— Вас отвезут в отель. Постарайтесь отдохнуть, а завтра я пришлю за вами — приглашаю на набережную Орфевр. Устроим вам очную ставку с Кервадеком. Честь имею.
Он поклонился и вышел из гримерной. Сара Бернар взяла меня за руку.
— Я все слышала, и позвольте мне выразить вам свое восхищение. Вы идеал любящей женщины! Броситься на поиски убийцы любимого, рисковать жизнью — это необыкновенно! Просто поразительно! Вы олицетворяете собой тип новой женщины. Я обязательно использую черты вашего характера в своих ролях. Вы не будете возражать?
А взамен, дорогая, мне бы хотелось подарить вам что-нибудь на память.
Мне не хотелось разубеждать великую актрису и доказывать, что она заблуждается, что я не идеал любящей женщины, а просто взбалмошная особа, которая время от времени попадает в разные истории. И я сказала:
— Вы помните, мадам Бернар, я говорила, что мой отец ваш ревностный поклонник Он сравнивает всех актрис с вами и признает вас самой лучшей. Вы для него идеал. Если вас не затруднит написать несколько приветливых слов мсье Рамзину, буду вам весьма благодарна.
— С удовольствием!
Она стремительным изящным почерком написала несколько строк на фотографии, изображавшей ее в роли Маргариты Готье с неизменными камелиями, и протянула мне.
— Благодарю вас, мадам. Я уверена, отец будет счастлив!
В гримерную вошел Доминик Плювинье. Одежда на нем была заляпана сажей от автомобиля и припорошена сверху пылью каменоломен.
— Полин, ты в порядке? — бросился он ко мне. — Боже, как я переживал! Ты сможешь подняться? Я отвезу тебя домой!
Мне было приятно его беспокойство.
— Не волнуйся, Доминик, благодаря заботам мадам Бернар я прекрасно себя чувствую и с удовольствием поеду с тобой.
Пришлось, правда, опереться на его руку, так как у меня закружилась голова, стоило мне встать с постели. Попросив репортера выйти, я надела ботинки, принесенные заботливым Жаном, и попрощалась с Сарой Бернар.
На улице стояла теплая парижская ночь. Черное бархатное небо было усыпано крупными яркими звездами. Шелестели кроны каштанов, а по бульварам прогуливались беспечные парочки. Словно не было никогда ни жутких подземелий, ни пирамид из черепов.
Доминик нежно поддерживал меня за талию, а я хромала, и каждый шаг отзывался болью в натертых ногах. Мы шли медленно, и я наслаждалась открытым пространством, вырвавшись наконец из тесных катакомб.
Смерть Улисса притупила мои чувства, а после бокала вина, поднесенного актрисой, я и вовсе впала в некоторую апатию.
— Как ты себя чувствуешь, дорогая? — прошептал Доминик, и его гасконскии нос уперся мне в ухо.
— Спасибо, уже лучше, — ответила я, и попыталась было отстраниться от него, но он мне этого не позволил.
— Тебе сейчас надо выспаться, — произнес он таким страстным шепотом, что я усомнилась, действительно ли он хочет, чтобы я заснула.
— Да-да, ты прав.
— У тебя есть ключ от входной двери? — спросил он.
— Нет. — Я удивилась тому, что Доминик спрашивает об этом.
— А как ты попадешь домой?
— Постучу, крикну… Не знаю.
— Проблема… — Он покачал головой.
Мне стало неуютно от одной мысли, что заспанная мадам де Жаликур будет сначала долго возиться с замками, потом светить свечой мне в лицо, а утром опять примется язвить.
Мы подошли к калитке, и тут решимость оставила меня. Мне не хотелось поднимать шум и будить постояльцев. И так я уже заработала себе репутацию эксцентричной особы, которую преследуют неприятности. Чем виноваты другие жильцы, которые так же, как и я, платят за комнату?
— Я боюсь звонить в колокольчик, Доминик.
— Подожди, что-нибудь придумаем, — ободрил меня он.
Доминик достал из кармана перочинный нож и принялся ковырять им в замке. На удивление, язычок щелкнул, и калитка отворилась.
— Невероятно! — восхитилась я. — Ты можешь взламывать замки?
— И не только замки. Репортер многое должен уметь, чтобы добыть интересные сведения для газеты.
Мы тихо шли по дорожке. Под ногами хрустел гравий.
— Но как мы войдем в дом, Доминик? Дверь на засове — это не простой замок на калитке.
— Не волнуйся. Давай сначала обойдем дом.
Мы пошли кругом, стараясь не приближаться к окнам на первом этаже, и обнаружили большую лестницу, которую садовник оставил возле яблонь.
— Вот что нам надо, — прошептал Плювинье. — Где твое окно, Полин?
— Вон там, слева, на втором этаже.
Он приставил лестницу к стене, так что ее конец уперся в подоконник моего окна.
— Я поднимусь первым и отожму раму. Потом спущусь за тобой. Стой здесь и смотри по сторонам. Если заметишь что-нибудь подозрительное — позови.
Доминик ловко вскарабкался по лестнице. Наверху он задержался на минуту-другую, потом осторожно, чтобы не было скрипа, распахнул створки окна и спустился вниз.
— Все в порядке, путь свободен. Теперь твоя очередь. Лезь наверх, а я буду держать лестницу.
— Я боюсь, Доминик!
— Глупости! В катакомбах не боялась, а тут… Лезь, тебе говорят, если упадешь, то на меня. Не расшибешься — я тебя поймаю.
Я взялась за перекладину на уровне груди и встала на первую ступеньку. Если не смотреть вниз, то забираться было совсем не трудно, разве что немного дрожали ноги от напряжения да иногда скользили каблуки. Наконец я залезла на широкий мраморный подоконник и через секунду оказалась в своей обители.
— Я уже на месте, Доминик, — прошептала я, выглянув из окна. — Спасибо тебе за все! Убери лестницу и иди домой. Спокойной ночи!
Какое счастье, что в комнате оказался полный кувшин воды. Вероятно, его принесла горничная. Знала, что я к обеду опоздаю. Я сняла с себя грязное платье и ботинки, смочила полотенце водой и принялась обтираться.
Нежданно накатила тоска: завтра все закончится, Кервадек будет заключен в тюрьму. Андрея я похоронила по православному обряду на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. От влюбленности в него излечилась, шишек набила, но живой из передряг вышла. Почему же такая тоска?
Надев ночную сорочку, я подошла к окну, чтобы посмотреть, убрал репортер лестницу или нет.
Не убрал. Он стоял возле лестницы и курил. Я не видела его лица — лишь красный огонек.
— Доминик, ты здесь? — тихо спросила я.
Он поднял голову, и я увидела слезы в его глазах.
— Почему ты не уходишь?
— Не могу, — ответил он.
— Почему?
— Ты не отпускаешь меня, Полин…
— Как это? Я не понимаю тебя, Доминик.
— Ты прогнала меня тогда, в парке. На что я могу сейчас надеяться?
Тоска еще сильнее сжала ледяными ладонями сердце. Все это напоминало сцену под балконом Джульетты, даже мадам де Жаликур в роли похрапывающей няни выглядела бы органично.
Решение пришло мгновенно.
— Поднимайся! — сказала я.
Он словно ждал этого: через мгновение Доминик оказался у меня в комнате.
Отступив, я подумала, что он заключит меня в объятья — все к тому шло. Но этого не случилось. Доминик лишь присел на край подоконника и прошептал:
— Боже, как ты прекрасна!
От его слов я растерялась. Стою себе ночью перед молодым человеком в прозрачной ночной рубашке, которая открывает больше, чем скрывает, и чувствую себя очень неудобно: ни сесть, ни встать, ни ответить на комплимент. В общем, не знаешь, что сказать, чтобы не нарушить очарование момента. Но о чем, собственно, говорить ночью двоим, если на ней лишь сорочка, а он смотрит влюбленными глазами и не трогается с места?
Не найдя ничего лучшего, я подошла к алькову, раздвинула занавеси и присела на кровать.
— Доминик, у нас с тобой был трудный день. Я устала, и мне очень хочется спать. Ты так и будешь сидеть на подоконнике?
— Скажи, Полин, я доказал тебе, что я твой друг?
— Милый, — рассмеялась я, — когда мало времени, тут уже не до дружбы — только любовь.
Он принял мои слова как приглашение к действию: подошел, опустился на колени и стал целовать мне ноги. Как ни странно, спать расхотелось, а во всем теле появилось ощущение легкости. Хотелось смеяться и радоваться жизни.
— Доминик, встань, — я взъерошила его кучерявую шевелюру. — Иди ко мне, мой милый.
— О, Полин! — простонал он, но не набросился на меня, как я ожидала, а начал спокойно раздеваться. На меня пахнуло смесью запахов острого мужского пота и керосина — он со вчерашнего дня не переодевался.
Мне некстати вспомнился Андрей, — тот срывал с себя одежду, и она валялась на полу, стульях и креслах. Потом ему долго приходилось искать свои вещи, чтобы одеться, а однажды мы с ним нашли его сапог на вешалке для верхнего платья. Как мы тогда смеялись! С тех пор я без улыбки не могла смотреть на вешалку, когда подходила к ней.
Так же размеренно, как он снимал с себя одежду, Доминик, приподняв подол моей сорочки, принялся целовать мне живот, потом грудь и шею. Кончиком языка Доминик лизнул мне сосок, потом еще и еще и, недоуменно взглянув на меня, прошептал:
— Тебе хорошо, дорогая?
— О да! — застонала я. — Продолжай! Не останавливайся!
Признаться, я поняла его недоумение. Доминик ожидал, что от его ласки у меня затвердеют соски, но он не знал, какое белье носили воспитанницы женского института губернского N-ска: корсеты и лифчики шились строго по уставу — из плотного небеленого полотна, жесткие складки которого натирали грудь настолько, что соски становились нечувствительными даже к жесткой щетке для мытья. Считалось, что таким образом воспитанницы подготавливаются к священной роли матери, у которой должны быть бодрое тело и твердые соски.
Он вновь стал целовать мне живот, опускаясь все ниже и ниже. Я замерла и напрягла колени.
— Полин, милая, расслабься, я просто хочу порадовать тебя «визитом первого консула».
— Что?
— Не торопись…
Его нос щекотно утыкался мне в живот, а рот вбирал в себя первые завитки.
— Доминик, прошу тебя… Это же… Это же непристойно… Извращение…
— Расслабься, дорогая. Самое неестественное из сексуальных извращений — это целомудрие, — ответил он, не переставая меня целовать.
«Боже, что он делает? — в смятении думала я. — Ну и пусть. Я завтра уеду, так почему бы не увезти с собой еще одно ощущение, которое будет храниться в заветной шкатулочке моих воспоминаний».
От этих мыслей я несколько успокоилась и расслабилась. Доминик незамедлительно воспользовался этим обстоятельством, его язык проскользнул еще ниже и энергично принялся исследовать мои укромные уголки. Я ничуть не пожалела, что пошла ему навстречу. Ощущение было восхитительным: словно внизу у меня запульсировало еще одно сердце, выбрасывавшее в артерии кровь и наполнявшее меня восторгом и жаждой жизни! Потом он лег на меня, и мы погрузились в самую увлекательную игру, известную со времен грехопадения Адама и Евы. Но продлилась она недолго. Доминик остановился на пике экстаза и рухнул на меня опустошенный.
Когда он немного отдохнул, я спросила его:
— Милый, что означали твои слова «визит первого консула»? Кого ты имел в виду?
— Наполеона.
— Славно в такой момент вспомнить историю. Откуда это выражение?
Доминик уткнулся носом в мои волосы.
— Пылкий двадцатипятилетний корсиканец писал из итальянского похода своей возлюбленной креолке Жозефине: «Я не могу забыть твою очаровательную черную рощу, куда я совершал „маленькие визиты“. Ты понимаешь, о чем я говорю. Целую ее тысячу раз…»
— Прелестные слова! А что Жозефина?
— Она сухо отвечала на его письма. Может быть, ей не нравились «визиты»? Что скажешь, Полин?
— Как они могут не нравиться! — воскликнула я и повернула Доминика навзничь.
Наша упоительная игра продолжилась. Француз учил меня тому, чего я не могла представить себе даже в самых жарких вдовьих мечтаниях. Оказалось, что «ответные визиты прелестной креолки» доставляют не меньшее наслаждение. Время летело как на крыльях. Вот только были ли это крылья любви?
Когда я, умиротворенная и переполненная новыми, неизведанными до сей поры ощущениями, уютно устроила голову на плече Доминика, он вдруг хмыкнул:
— Да, не получилась у нас любовь «а-ля козак» …
— Любовь «а-ля козак»? — удивилась я. — О чем это ты?
— Когда-то ваши казаки любили наших француженок с быстротой и натиском, словно шли в атаку. Парижанок это восхищало донельзя. Казаки совершенно не походили на французов. А я, Полин, настоящий француз и к любви отношусь, как к трапезе, где ты — единственное и самое вкусное блюдо. — Он поцеловал меня долгим нежным поцелуем. — Знаешь, почему я вспомнил Жозефину Богарне? Ее так же, как и тебя, охраняли казаки.
— Какие казаки?
— Когда русские войска в 1812 году вошли в Париж, ваш император Александр Первый проявил себя истинно галантным кавалером — он приставил к бывшей жене поверженного противника личную охрану из казаков. Те сопровождали Жозефину, следуя в почетном карауле за ее каретой. Глядя на тебя и Николя, я подумал, что ты так же царственна, как и французская императрица, находящаяся под охраной казачьего пикета.
Мне были приятны его изысканные комплименты, и я поцеловала Доминика.
Он поцеловал меня в ответ и вздохнул:
— Как все же странно переплелись судьбы России и Франции. Гораздо теснее, чем наши тела мгновение назад. Наполеон хотел жениться на княжне, сестре вашего императора; ты, русская от рождения, говоришь с парижским акцентом. Меня тянет к тебе так же, как твоего художника к Сесиль. И у вас, и у нас бомбометатели стали приметой времени, еще немного — и дело дойдет до революций.
— Ну уж нет, — рассмеялась я. — Какие революции? В нашей стране мутит воду лишь горстка отчаянных нигилистов, самоубийц-одиночек. Разве можно сравнить их безумные потуги с тем, что происходило у вас с конца прошлого века? Оставь…
Доминик посмотрел в окно.
— Мне пора, Полин, уже светает. Как быстро пролетела ночь!
Я поежилась.
— Полежи еще, Доминик, а я пойду взгляну, открыла ли горничная засов. Потом позову тебя оттащить лестницу в сад. Я мигом.
Набросив на сорочку пеньюар, я вышла в коридор. Было еще темно, голый пол без ковровой дорожки холодил ноги, и я впопыхах споткнулась о ботинки, выставленные возле двери комнаты князя Засекина-Батайского. Чертыхнувшись, я отшвырнула их в сторону, и они клацнули, ударившись о доски. Я подняла их, чтобы поставить на место возле двери, и замерла, увидев на подошвах характерные подковки, знакомые мне по отпечаткам возле дома Сесиль и под окном палаты в Саль-петриер. Ботинки были вычищены, но в щели между рантом и мыском засохла желтая глина каменоломен.
И тут все стало на свои места. Я увидела полную картину так ясно, что задрожала от предчувствия близкой развязки.
Я пока не знала, за что князь убил Андрея, но теперь я могла точно сказать, как я очутилась в отеле — он подговорил консьержку на улице Турлак дать адрес отеля «Сабин» русской даме, которая будет спрашивать о художнике. Он всегда был в курсе дела, и ему не стоило особого труда идти за мной по пятам и уничтожать ненужных свидетелей. Я вспомнила: князь как раз курил сигару, когда я крикнула хозяйке, подстригающей розы, что еду к Сесиль. А еще я рассказала за столом, что бедняжка Мадлен не погибла, а увезена в госпиталь Саль-петриер. И о каменоломнях он знал, так как, привлеченный гудком автомобиля, выглянул из окна и слышал, как Улисс говорил нам с Домиником о плане подземелья.
Но все это были лишь косвенные улики. Для того чтобы быть полностью уверенной, мне нужно было обязательно найти изобличающую улику: накладную рыжую бороду или оружие, из которого застрелили Улисса.
Послышался скрип, я метнулась в сторону и притаилась за большой кадкой с разлапистой пыльной пальмой. Из комнаты вышел босой Засекин-Батайский, взял ботинки и закрыл дверь. Спустя две минуты он опять вышел из комнаты, уже полностью одетый, и стал спускаться по лестнице.
«Сегодня же воскресенье! — вспомнила я. — Он направился к заутрене! Как кстати!»
Такой благоприятный момент нельзя было упустить. Я решила поделиться с Домиником своими подозрениями. Если мои предположения окажутся верными, он напишет статью, которую у него с руками оторвут все газеты! Правда, придется нарушить закон и обыскать комнату князя.
Тихонько проскользнув в свою комнату, я увидела, что мой любовник спит. Я не стала будить Доминика, а принялась шарить по карманам его платья. Найдя отмычку, ту, которой он открыл калитку, я вышла и стала ковыряться в замке. Дверь не поддавалась. Наконец мне удалось подцепить язычок внутри, и я вошла в комнату князя.
Там было темно и сыро, пахло затхлостью, табаком и кислятиной. Я немного приоткрыла ставни, чтобы в комнату проникли предрассветные лучи, и осмотрелась.
Узкий диванчик был застелен покрывалом с кистями. Я подошла к секретеру и выдвинула ящики. В них оказались разные бумаги, поломанные перья, несколько носовых платков и рассыпанная колода игральных карт. На потертом ковре висели сабли, трубки с длинными чубуками, но… пистолетов там не было. А я точно помню, что они были.
Значит, хотя бы одним из них воспользовались и убили Улисса. Я и не заметила, что размышляю вслух.
— Вы не ошиблись, сударыня, у вас хорошая память, — ответил мне спокойный голос.
Резко повернувшись, я увидела в проеме раскрытой двери князя Засекина-Батайского с направленным на меня пистолетом.
— Если закричите, я выстрелю. Так что не рекомендую, Аполлинария Лазаревна.
— Вы вернулись, князь? — пробормотала я. — А как же заутреня?
— Наверное, идет своим чередом. Внезапно начался дождь, и я вернулся за зонтиком. Верно говорят, что возвращаться — плохая примета: дороги не будет. Но на этот раз мне повезло. А вот вам…
— И что вы намерены предпринять, Кирилл Игоревич? — спросила я, удивляясь своему спокойствию. На самом деле я была загипнотизирована словно кролик удавом и не сводила взгляда с направленного на меня пистолета.
— Разве у меня есть иной выход? — пожал он плечами.
— Отпустите меня. Не берите греха на душу. Вы же христианин, православный. К заутрене ходите.
— Одной душой больше, одной меньше — какая, в сущности, разница? Все равно гореть в геенне огненной.
— Вы уже убивали? — запинаясь, спросила я. Я знала, что он убийца, но мне почему-то хотелось, чтобы он сам в этом признался.
— Приходилось, — ухмыльнулся Засекин-Батайский.
Говоря с ним, я лихорадочно думала, чем же зацепить князя, чтобы он расслабился и перестал наводить на меня пистолет, и еще — как дать знак Доминику?
И тут мне пришла в голову одна мысль.
— Вот уж не думала, что так бесславно закончу свою жизнь, — печально произнесла я. — Уж лучше бы я погибла на родине, пусть и от рук царской охранки.
— Что?! — удивился он, и пистолет в его руке дрогнул. — Вы блефуете!
— Осторожно, князь. Вы меня ненароком пристрелите, а я ведь еще не закончила дело, ради которого приехала сюда.
Я исступленно молилась про себя, чтобы Засекин-Батайский поверил хотя бы отчасти в ту чушь, которую я сейчас несла.
Он недоверчиво посмотрел на меня.
— Уж не обессудьте, Аполлинария Лазаревна, для вящего спокойствия позвольте произвести над вами одно действо. — Князь, пятясь, подошел к шкафу, пошарил, не глядя, левой рукой и извлек из него пару наручников. — Я вас прикую к спинке кровати и только тогда опущу пистолет. И вы мне все расскажете.
— Приковывайте, — обреченно вздохнула я.
— Всегда отмечал за вами неженский ум и крепость духа, — удовлетворенно произнес он и опустил пистолет лишь тогда, когда мои запястья оказались пристегнутыми наручниками к прутьям массивной кровати, стоявшей в алькове, таком же, как у меня. — Вот теперь славно. Рассказывайте, Полина, в чем настоящая цель вашего визита в Париж.
Не верю, что вы проехали всю Европу, чтобы вернуть блудного художника средней руки. Вы птица высокого полета, негоже вам за мещанами бегать, себя забыв…
Я покраснела. Но не от смущения, как подумал князь, а от предвкушения авантюры, в которую намеревалась пуститься. Я склонила голову, чтобы князь не заметил выражения моего лица — это было бы мне совсем некстати.
И я вспомнила, как много лет назад, когда я еще была юной институткой с толстой косой, отец в очередной раз вернулся из служебной поездки в Москву и рассказал мне, а также зашедшему нас навестить Владимиру Гавриловичу сюжет новой пьесы. Лазарь Петрович был завзятым театралом. Приезжая по делам в Петербург или Москву, он не упускал возможности посетить Мариинский, Большой и Малый театры. На сей раз пьеса оказалась хоть и скандальной, но посредственной и провалилась с большим треском. Она называлась «Золотые сердца» 51. Я была уверена, что Засекин-Батайский ничего не знает о ней, и решила использовать сюжет этой пьесы, несколько приукрасив его. Выдумщица из меня никакая, а так — хоть драматург поможет.
Помню, отец очень возмущался, называл пьесу пасквилем и хулой на беззаветно преданных своему делу земских врачей. Он близко принял к сердцу сюжет, потому что его лучший друг, земский врач Алтуфьев, в тот год скончался от сыпного тифа. Алтуфьев самоотверженно боролся с эпидемией, разразившейся среди крестьян.
Отец радовался тому, что пьесу освистали, а вот Авилов не разделял его мнения. Они поспорили. Владимир Гаврилович, который тоже приятельствовал с Алтуфьевым, встречаясь с ним у нас в доме, сказал Лазарю Петровичу, что в пьесе есть подтекст, понятный лишь тем, кто знает историю, на основе которой написан ее сюжет. И что нет в пьесе никакого пасквиля на самоотверженных земских врачей. Он рассказал, что Маруся, героиня пьесы, существует на самом деле и что он был шапочно знаком с ней и ее мужем. Жили они в Пензе, потом с шестью детьми переехали в Симбирск. Супруг Маруси — тихий и скромный земский учитель, а ее дети рождены от разных мужчин: старшая дочь — от великого князя, ставшего впоследствии государем Александром Вторым, а сын Александр — от Дмитрия Каракозова, стрелявшего в отца ее дочери. Второй раз об этой странной семье я услышала спустя пять лет, когда отец прочитал в газетах о казни преступников, покушавшихся на жизнь нынешнего императора.
— Кирилл Игоревич, голубчик, — взмолилась я. — Не убивайте меня, я вам все расскажу. Произошла нелепая ошибка, недоразумение, и если вы сейчас убьете меня, то будете мучиться угрызениями совести до конца своих дней, что убили соратницу по партии! Я вас поначалу подозревала, думала, что вы подосланный агент Охранного отделения, ведь вы говорили мне о народовольцах и романе Чернышевского неспроста!
— Но кто вы? — удивился он.
— Я — агент ушедшей в подполье партии «Народная воля»! Наши отделения существуют по всей России, особенно они сильны в Пензе, Саратове и Нижнем Новгороде.
— Протасов тоже был членом организации? — спросил Засекин-Батайский, и я обрадовалась — рыбка клюнула.
— Да. Он приехал в наш патриархальный N-CK, чтобы организовать подпольную ячейку. Я овдовела и мучилась от безысходности и безделья. Андрей очаровал меня, я вступила в партию, только чтобы заполнить свою жизнь и быть рядом с ним. Он часто ездил в Москву и Санкт-Петербург за инструкциями, и именно он предложил дерзкий план.
— Какой же?
— Год назад стало известно, что государь отправляется в Париж, чтобы присутствовать при заключении русско-французского договора. Невозможно было добраться до царя — его всегда окружала охрана, и Андрей предложил отправиться в Париж, чтобы там, с помощью французских революционеров, совершить акт возмездия! Он был самой подходящей кандидатурой — художник, приехавший учиться мастерству, вряд ли вызовет подозрения. Андрей писал мне в письмах, что он уже близок к цели. Кстати, рисунок с Гирсом и человеком в клетчатой пелерине тому свидетельство. Протасов следил за перемещениями министра, надеясь найти слабое звено. Он сошелся с французскими патриотами, но его начали преследовать неудачи. А еще государь вернулся в Россию, деньги у Андрея кончились, однако руководители организации приказали ему оставаться в Париже и ждать — возможно, император Александр приедет во Францию. Поэтому Андрей рисовал картины и вел неприметную жизнь, дожидаясь благоприятного стечения обстоятельств.
— А зачем вы приехали в Париж, Полина? — спросил князь.
— Я любила его… Когда от Андрея перестали приходить шифрованные письма, я и члены нашей организации забеспокоились. Меня прислали сюда, чтобы выяснить, что с ним случилось. Но, увы, в живых Андрея я уже не застала.
— Что вы искали в моей комнате?
— Пистолеты. Я видела их на ковре, когда была у вас.
— Зачем они вам?
— Покарать Кервадека! Это он убил Андрея и двух девушек-свидетельниц. И загубил наше дело!
— Вы в этом уверены? Странно, — усмехнулся князь. — Я уж было подумал, что вы меня в убийцы записали.
— При чем тут вы, Кирилл Игоревич? — Я лицемерила изо всех сил, надеясь на то, что он поверит и отпустит меня. — Вам-то зачем убивать Андрея? Вы с ним и знакомы-то не были.
— Верно, — кивнул князь и опустил пистолет. — Совсем вы мне голову заморочили, Полина, даже и не знаю, что теперь с вами делать…
— Отпустите меня, — вновь взмолилась я. — Я сегодня же покину Париж. Не по мне это дело. В России от меня будет больше пользы, а здесь я вечно попадаю в какие-то ужасные истории. Простите, Кирилл Игоревич, что забралась к вам в комнату!
Засекин-Батайский покачал головой и полез в карман за ключом от наручников. Я задержала дыхание, боясь поверить в удачу. Но в этот момент в дверь постучали, и в комнату вошел Кервадек Его красное круглое лицо выражало крайнюю степень недовольства.
— Ну, знаете, князь, — завопил он вместо приветствия, — я не согласен играть в эти игры! Только что у меня была полиция, меня обвинили в убийствах и подделках картин и хотели арестовать. Хорошо, что у меня есть алиби, поэтому они оставили меня в покое. Я им не сказал, откуда у меня картины, но у меня нет выхода! Вы же уверяли, что картины подлинные — из коллекции вашей покойной супруги. Но вы обманули меня! Вы погубили мою репутацию! Я требую немедленного опровержения! Собирайтесь, пойдем вместе в полицию — я этого так не оставлю! — Тут он заметил меня, прикованную наручниками к кровати, и ахнул: — Это еще что такое?
Вместо ответа Засекин-Батайский поднял пистолет и выстрелил в Кервадека. Я истошно закричала.
В коридоре послышался голос Доминика:
— Полина, ты где?
— Я тут, Доминик, тут, у князя!
Князь отшвырнул пистолет в сторону, бросился ко мне и принялся душить. Последнее, что я помню, — обнаженный Плювинье в дверном проеме. Тут силы оставили меня, и я потеряла сознание.
***
Очнулась я от запаха нюхательной соли, которую держала перед моим носом Матильда Ларок. Над стонущим Кервадеком хлопотала мадам Соланж. На полу бился в конвульсиях связанный Засекин-Батайский, а Доминик в полотенце, обернутом вокруг бедер, стоял над ним и следил, чтобы тот не достал кого-либо из нас.
— Полиция… — прошептала я и громко чихнула.
— Уже послали садовника. Не волнуйтесь, Полин, — сказала Матильда. — Главное, что вы наконец-то пришли в себя.
Когда в комнату вошли полицейские, сразу стало тесно. Доминик извинился и вышел одеться, я последовала за ним.
— Ну, вот и все, Полин, — обнял меня Доминик. — Конец кошмарам, ты можешь теперь спать спокойно — никто не будет тебя преследовать.
— Нет, — покачала я головой. — Многое еще непонятно в этой истории. Как я очутилась именно в отеле «Сабин», рядом с убийцей? Откуда он узнал о моем приезде и что хотел от меня? Как алхимик старил картины? И наконец, почему у Андрея появились такие глубокие морщины на лице?
Доминик, слава Богу, уже надел брюки, когда в комнату заглянула мадам де Жаликур.
— Полин, дорогая, там внизу мсье Донзак. Он просит вас спуститься в гостиную.
— Сейчас спущусь, — ответила я.
Умывшись и быстро приведя себя в порядок, я поспешила в гостиную. Донзак стоял у двери, напротив него, в наручниках и под охраной двух дюжих полицейских, сидел князь Засекин-Батайский. Вид у него был понурый…
— Мадам Авилова, — официальным тоном обратился ко мне инспектор, — вы признаете в этом человеке того, кто напал на вас сегодня утром?
— Да, — кивнула я. — Признаю. Он угрожал мне пистолетом, а потом приковал наручниками к спинке кровати.
— Она проникла в мою комнату и хотела украсть фамильные пистолеты, — возмущенно проговорил князь.
— Это так, мадам Авилова? — спросил Донзак.
— Что зашла без спросу в комнату — верно. А пистолеты красть не собиралась — не нужны они мне.
— Почему вы это сделали?
— Потому что увидела на пороге выставленные для чистки ботинки Засекина-Батайского, а на них те самые подковки, которые отпечатались на глине возле дома убитой Сесиль и на влажной земле под окном палаты в Сальпетриер. Меня это заинтересовало, и я решила найти накладные бороду и бакенбарды, поэтому и зашла в комнату.
— Она взломала замок! — взвизгнул князь.
— Замолчите! — рявкнул Донзак и обратился ко мне: — Вы искали эти бакенбарды? — Он достал из папки клочки свалявшейся шерсти.
— Я никогда прежде не видела мсье Засекина-Батайского в гриме, — осторожно ответила я, — поэтому мне трудно судить. А где вы это нашли?
— У него под матрасом.
— Понятно.
— Я протестую! Это она мне их подбросила! — крикнул князь.
— Вот видите, мадам, — обратился ко мне Донзак, — как нехорошо преступать закон. Не зашли бы вы в комнату к этому человеку, он не смог бы сейчас вас обвинить.
— Если бы я к нему не зашла, вы бы еще долго разыскивали преступника.
— Рассказывайте, как было дело, князь, — приказал Донзак. — Иначе вы не доживете даже до суда! А расскажете — можете надеяться на снисхождение.
— Хорошо, — кивнул тот, и на его мрачном лице появилась сардоническая усмешка. — Я расскажу, но совсем не для того, чтобы вымолить снисхождение суда. Я сужу себя гораздо строже, чем кто-либо другой.
Во Франции я нахожусь в многолетней эмиграции, путь на родину, в Россию, закрыт для меня уже более четверти века, и все эти годы меня не оставляла мысль вернуться и продолжить начатое дело — борьбу с тиранией и монархическим строем. Россия должна быть республикой!
Но все упиралось в деньги. Меценат и миллионщик Герцен, на деньги которого жила русская община за границей, умер в тот год, когда я бежал в Париж, а другие не были столь щедры. Я женился на богатой буржуазке, которой захотелось присовокупить к своим деньгам еще и мой княжеский титул, и надеялся, что смогу на ее средства осуществить свою мечту. Но действительность жестоко меня разочаровала: супруга, находившаяся под влиянием своего отца, ни за что не желала подпускать меня ни к своим деньгам, ни к управлению двумя мануфактурами, поэтому я довольствовался лишь скромным содержанием, не соответствующим моему аристократическому происхождению, и мне оставалось вести тихую, размеренную жизнь, посещая литературные и художественные салоны.
Я вновь попытался найти смысл жизни после кончины супруги. Но опять остался без денег: по завещанию она отписала мне проценты с ренты, основной капитал был мне недоступен.
Однажды, гуляя по залам Лувра, я увидел молодого художника, копирующего женскую головку с картины Фрагонара. Я поразился точности его руки и похвалил копию. Мы разговорились. Он оказался моим соотечественником Андреем Протасовым.
Мы стали встречаться, иногда в музеях, иногда в пивных. Говорили только об искусстве и России. Я рассказал ему о себе, о том, что надеюсь увидеть родину счастливой и свободной, но, к сожалению, у меня нет ни гроша.
Как-то раз, глядя на его особенно удачную копию Энгра, я заметил: «Вот если бы эта картина выглядела старой, ее можно было бы продать за большие деньги». Я не знал тогда, что мои слова запали Андрею в душу. Он ушел, а спустя некоторое время мы вновь встретились, и Андрей показал мне ту же картину. Но я ее не узнал: краска потрескалась, края холста потемнели и обтрепались. «Как вы смогли этого добиться?» — спросил я. «Неважно, — отмахнулся он. — Не в этом дело. Вы бы смогли продать эту картину?» — «А почему бы вам самому ее не продать?» — спросил я. «Одно дело, если картину продает князь, пусть даже обедневший, а другое дело — художник. Это наводит на подозрения, — ответил Андрей. — Попробуйте продать ее как безделушку, как искусно состаренную копию. Может, за нее дадут больше, чем за свежий ученический холст». — «Хорошо, я попробую», — ответил я и отнес картину Себастьяну Кервадеку, с которым был немного знаком. Я сказал ему, что эта картина из фамильного собрания моей жены, а продаю я ее потому, что сильно нуждаюсь в деньгах. Владелец галереи взял картину на проверку и, удостоверившись в том, что она действительно старинная, выплатил мне приличную сумму, половину которой я отдал Андрею.
Протасов писал на удивление быстро. Он никогда не делал точные копии, часто не прорисовывал детали, чтобы картина выглядела как предварительный набросок, менял ракурс, фон и освещение. Эта гонка подрывала его здоровье — он выглядел плохо, дышал вредными испарениями, но работал как одержимый. Я относил картины Кервадеку, а тот просил еще и еще, так как на них был устойчивый спрос. Выплачивая мне деньги, Себастьян не раз замечал, что моя любовница стоит мне недешево — он думал, что я продаю коллекцию ради женщины.
Мне безумно хотелось узнать, что Протасов делает с картинами. Ведь я тогда смог бы нанять еще художников и увеличить свой капитал. Но сколько я ни следил за ним, так ничего и не смог выяснить. Я знал, что у него появилась возлюбленная, что он общался с художниками-импрессионистами, но кто помогает ему старить картины, я так и не определил.
Однажды Протасов пришел ко мне взбешенный и рассказал, что был в галерее Кервадека. Он увидел там свои картины, которые хозяин выдавал за подлинные. Расспросив Кервадека, Протасов понял, что тот не обманывает, а действительно уверен в том, что картины настоящие. Его также поразили цены: небольшой эскиз стоил пять тысяч франков, а картины побольше — дороже в несколько раз. Художник кричал, что я обманул его, что завтра он пойдет к Кервадеку и скажет, что эти картины писал он, но он не желает обманывать покупателей… Я понял, что меня ждет крах.
Весь вечер я размышлял, что же делать. Протасов был реальной угрозой моему безбедному существованию, к которому я быстро привык.
Я предложил ему вечером прогуляться по берегу Сены и спокойно обо всем поговорить. Он согласился и в сумерках пришел в условленное место. Незаметно подойдя сзади, я накинул ему на шею удавку и сбросил безжизненное тело в воду, надеясь, что меня никто не заметил.
Но смерть художника только отдалила финансовый крах. Мне нужно было завладеть секретом старения картин, чтобы нанять других рисовальщиков. И я вспомнил, что у Протасова осталась в N-ске любящая его женщина. Он сказал мне, что получил от нее письмо, — она едет в Париж. Вполне вероятно, что художник мог открыть ей в письме свою тайну.
Я отправился на улицу Турлак и подкупил консьержку — попросил сообщить мне, когда приедет русская дама, которая будет спрашивать Протасова. А если консьержка порекомендует даме отель «Сабин», где я снимал комнату, то может рассчитывать на дополнительное вознаграждение. Так и вышло: мадам Авилова приехала в Париж и поселилась на авеню Фрошо.
Я стал следить за Полиной. Она познакомилась с подругой Андрея — Сесиль, и две дамы вполне могли договориться за моей спиной. Я решил, что этому не бывать.
Однажды Авилова пригласила меня к себе в комнату и показала рисунки Протасова. На одном из них я увидел русского министра иностранных дел и некоего господина в клетчатой пелерине. Мне пришла в голову мысль направить подозрения Авиловой на этого господина, и я дал ей понять, что в смерти Андрея виновата большая политика. Поэтому, идя на очередное опасное дело, я надел такое же пальто с пелериной и приклеил рыжие бакенбарды, чтобы походить на виконта.
Рано утром я пришел к Сесиль, которая меня знала — Андрей нас знакомил, и потребовал рассказать, откуда у Андрея старинные картины. Она сказала, что их ему дает сумасшедший алхимик. На вопрос, где он сейчас, я получил ответ: «В клинике Эспри Бланша». Не знаю, чем я себя выдал, но Сесиль поняла, что я убил Андрея, поэтому мне пришлось задушить и ее тоже. К моему удивлению, решиться на это оказалось намного легче, и не потому, что девушка физически была слабее Андрея: тому, кто совершает преступление вторично, оно уже кажется дозволенным.
Поняв, что Авилова подозревает в совершенных преступлениях виконта де Кювервиля, я обрадовался — мне это было только на руку. А в казино «Мулен Руж» я лишь постарался укрепить ее в этой мысли.
Однако я не смог найти приятеля Протасова, который, как я был уверен, помогал ему старить картины, поэтому я подбросил записку о сумасшедшем колдуне Авиловой в комнату. Мне был понятен характер этой женщины: она любила Протасова и хотела разоблачить убийцу.
Я боялся, что Авилова или полиция найдут что-либо в мансарде художника, прежде чем я там все обыщу. Поэтому я отправился туда и принялся искать. Я так увлекся, что не заметил, как дверь открылась и в комнату вошла девушка, соседка художника. Она была в домашних, стоптанных туфлях и фартуке. Я ударил ее по голове, она упала, и мне пришлось поджечь мансарду, чтобы скрыть следы моего пребывания там.
На мое несчастье, девушка выжила. Об этом рассказала Авилова за завтраком. Я немедленно отправился в больницу и там задушил девушку подушкой. Теперь уже не в моих силах было остановить преступления, они множились, как круги на воде от брошенного камня. Малейшая зацепка, улика, случайный свидетель — и я пропал!
Незадолго до нашей ссоры Андрей написал еще несколько картин и где-то их спрятал. Я заходил к нему в мансарду и видел их: это были прелестные протасовские Ватто, Фрагонар и другие художники восемнадцатого века. Меня обуревали грандиозные планы: нужно было найти алхимика, забрать или выкупить у него картины, узнать его тайну или склонить к сотрудничеству. Я подослал к нескольким знакомым Авиловой человека, чтобы тот пригрозил им, но ничего не добился. Зато когда за Полиной приехал репортер на самодвижущемся экипаже, а потом тощий художник сказал ей что-то о каменоломнях, я понял — вот он, шанс, картины можно было спрятать именно там. И я отправился вслед за ними.
Я бесшумно крался по узким тоннелям, ведомый лишь белыми стрелками, начерченными на стенах. Ощущение торжества не покидало меня — я был близок к заветной цели. Но когда из проема в стене показался Улисс и недоуменно посмотрел на меня, я испугался и разрядил пистолет прямо в его лицо. Далее я проникнуть не смог, путь мне преграждала бочка с землей.
Вдруг позади я услышал чьи-то шаги. Я юркнул в ближайший коридор и затаился. Просидел там долго. А когда все стихло, я залез в ту пещеру, но не нашел ни одной картины — полицейские все забрали.
Вернувшись домой, уставший и разъяренный, я лег спать, но сон не шел. Поутру собрался в церковь к заутрене, просить Господа наставить меня и уберечь от напастей. В пути меня застал дождь, я вернулся за зонтом и увидел мадам Авилову, роющуюся у меня в секретере. Мне не хотелось убивать ее, просто очень нужно было узнать мотивы ее поступка. Поэтому я приковал ее наручниками, чтобы она не убежала, и стал расспрашивать. Потом получил удар по голове и все…
— Вам больше нечего сказать? — спросил Донзак.
Князь Засекин-Батайский молчал.
— Уведите его, — приказал Донзак полицейским.
— Как самочувствие мсье Кервадека? — спросила я.
— Он ранен в плечо, ничего страшного, — ответил инспектор. — Ему очень повезло.
— Слава Богу, — сказала я. — Мне жаль, что я подозревала его.
— Что вы теперь намереваетесь делать, мадам Авилова?
— Схожу к Андре на могилу, возьму горсть земли и поеду обратно в Россию.
— Что ж, не смею задерживать. — Он поднялся со стула. — Вы нам очень помогли, мадам Авилова. Разрешите откланяться.
Он поцеловал мне руку и вышел вслед за полицейскими.
В гостиной тотчас появилась мадам де Жаликур.
— Ах, какое несчастье, какой позор! — воскликнула она, заламывая руки. — В моем доме!
— Как вы мне надоели, мадам! — в сердцах воскликнула я. — Завтра же ноги моей не будет в вашем отеле!
И я удалилась под стоны: «Он же о моем отеле напишет в газете! А сам выскочил голый!..»
***
Меня провожали Доминик и Николай Иванович. Гасконский нос грустного француза висел на квинте. Аршинов топтался на месте и смотрел на меня преданными собачьими глазами.
— Я к вам обязательно приеду, дорогая Полина, — басил казак. — Как только тут с делами управлюсь, сразу обратно, в Россию. Навешу обязательно.
Ему и хотелось напомнить мне о деньгах, и неудобно было — я же видела. Поэтому я решила ему чуточку помочь:
— Николай Иванович, дорогой, я помню о нашем уговоре. Как закончите ваши дела в Париже — немедленно ко мне. Получите деньги на экспедицию.
У Аршинова не было слов. Он только прижимал руки к груди и не отрывал от меня глаз.
— Полин, я хочу тебе сказать, — смущенно проговорил Доминик, — если все русские женщины хоть немного похожи на тебя, Россия — великая страна. Ведь вы — ее главное богатство! Я обязательно приеду в Россию и напишу книгу о русских женщинах. Только летом приеду — холодов боюсь.
— Не бойся, Доминик, — хлопнул его по плечу Аршинов, да так, что тот покачнулся. — Наши женщины не дадут замерзнуть такому парню, как ты. И обогреют, и приласкают! Будешь как сыр в масле кататься!
Паровоз протяжно загудел. Кондуктор ударил в колокол, и пассажиры начали занимать свои места в вагонах. Мы напоследок расцеловались. В купе я села к окну и смотрела, как становятся все меньше и меньше две фигуры, машущие мне с перрона.
Дома меня ждал отец. С кухни доносился запах любимого яблочного пирога с корицей — старалась Вера, наша старая горничная. Мебель, натертая воском, сияла, и я мгновенно вспомнила об Андрее.
— Как съездила, доченька? — спросил Лазарь Петрович, обняв меня и троекратно поцеловав.
— Потом, papa, потом расскажу, я очень устала с дороги.
В спальне на прикроватном столике лежали письма. Среди них я увидела конверт с маркой, на которой была изображена Эйфелева башня. Внутри у меня похолодело — это была весточка с того света.
Дрожащими руками я вскрыла конверт и вытащила из него листочки, исписанные знакомым нервным почерком.
«Милая Полина, здравствуй!
Прости, что долго тебе не писал — в моей жизни произошло столько разных событий, что даже и не знаю, с чего начать.
Начну с того, что несколько месяцев назад я познакомился с одним интересным человеком по имени Жан-Люк Лермит. Он философ, перипатетик, 52 мы проводим в беседах по многу часов, и я совершенствую свой французский. Его постулаты абсурдны, но не более, чем высказывания какого-либо записного политика. Его действия могут показаться бестолковыми, но только на первый взгляд. И даже жилище философ выбрал себе не такое, как у остальных нормальных людей. Он живет в катакомбах! Да-да, Полина, в самой настоящей пещере, расположенной в старой выработанной штольне, где когда-то добывали камень для строительства особняков. Вход в эту штольню начинается сразу за подсобными помещениями театра «Ренессанс», где властвует несравненная Сара Бернар.
Ты можешь спросить: почему Жан-Люк там живет и чем занимается? Отвечу: он ищет философский камень. Конечно, и это может тебе показаться смешным и нелепым, но почему бы человеку не заняться тем, что ему нравится, если у него совсем скромные потребности? И пещера для такой цели подходит как нельзя лучше.
Примерно в то же время я познакомился с соотечественником, князем Кириллом Игоревичем. Надменный аристократ в потертом сюртуке долго наблюдал, как я пишу копию с Фрагонара, а потом обратился ко мне с комплиментами. Мы разговорились, затем выпили по кружке пива — оказалось, что князь не такой чопорный, как казался. После этого я пошел навестить Лермита.
То ли я выпил много, то ли простудился, но у меня началась небольшая лихорадка, и я остался на три дня в жилище философа. Жан-Люк ухаживал за мной, поил меня отварами, которые приготавливал на спиртовке, укутывал одеялами, и в конце концов я пришел в себя.
Поблагодарив милейшего Лермита за гостеприимство, я взял свою копию и пошел домой. Там я развернул холст и обомлел: он потрескался, потускнел, словно покрылся патиной. Картина выглядела так, словно была написана сто лет назад. Как это произошло — я не понимал.
И тут я вспомнил слова князя. Он сказал мне: «Если бы эта картина была старой, ее можно было бы выгодно продать». Мне захотелось встретиться с ним, но я не знал, где он живет. Я стал выспрашивать о князе и выяснил, что по четвергам он посещает ипподром Лоншана, это недалеко от Сен-Клу.
Там мы и встретились. Кирилл Игоревич был очень расстроен тем, что кобыла Жужу, на которую он поставил крупную сумму, пришла последней, и поначалу даже не признал меня. Он потрясал кулаками, клял на чем свет стоит вора-букмекера и почему-то свою покойную супругу.
Мы присели за столик в тенистом месте, и я заказал пива, так как у князя не осталось ни гроша. Когда он немного успокоился, я показал ему картину и попросил ее продать как состаренную копию. Если бы картину принес я, то мне, как начинающему художнику, заплатили бы гроши. Кирилл Игоревич согласился, а спустя два дня пришел ко мне в мансарду и протянул пятьсот франков. Я никогда не получал за свои холсты такие большие деньги.
Я стал экспериментировать с красками, Жан-Люк помогал мне. Оказалось, если свежую, еще не высохшую картину оставить в пещере на три дня, то перепады температуры и воздух, насыщенный испарениями от опытов Лермита, сделают свое дело — слой краски потрескается, холст потемнеет, и картина будет казаться старинной.
Опыт вдохновил меня, и я начал копировать старых мастеров, одного за другим. Князь отдавал картины на продажу, приносил мне сотни франков и просил работать еще и еще. И я с упорством и настойчивостью писал эскизы, наброски, подстраиваясь под манеру классиков, потом относил сырые холсты в пещеру и через несколько дней отдавал их князю. Тот исправно платил. Мне нужны были деньги, чтобы полностью отдаться любимому делу — писать для себя, стать знаменитым художником, и чтобы ты, Полина, мною гордилась!
Однажды я зашел в галерею Кервадека, и тот рассказал мне, что познакомился с русским князем, распродающим свою коллекцию картин. Я попросил показать мне ее. Кервадек завел меня в отдельную комнату, где я увидел свои картины. Цены меня просто потрясли. Картины стоили от пяти до двадцати тысяч франков.
Мне стало ясно: князь меня надувает. Мало того, что выдает картины за подлинники, так еще и не делится со мной поровну. Я решил с ним серьезно поговорить. Мы условились встретиться завтра на берегу Сены. А пока я принимаюсь за план пещеры. Отнесу ее Кервадеку под видом «новой живописи», пусть полежит до лучших времен, авось кто-нибудь и догадается, как получаются такие «старинные» картины…
Тяжело на душе, Полина, гложут какие-то странные предчувствия, что не тем занимаюсь, не той дорогой иду. А может, просто хандрю.
Приезжай ко мне, я по тебе тоскую…
Остаюсь
твой навеки
Андрей
Я еще долго сидела в спальне, держа в руках письмо. Передо мной проплывали лица Андрея, Сесиль, Улисса… Как странно переплелись судьбы таких разных людей: мелкопоместный князек тщился вырваться из не достойного его титула положения и потому стал нигилистом. Его товарищей осудили, он избежал печальной участи — уехал за границу. Там продал свой титул за выгодный брак, но жена, зная его мотовство и страсть к тотализатору, оставила ему в наследство только проценты, без основного капитала. Засохший стручок, не давший миру детей, отщепенец, покусившийся на государственную власть, он отнял самое дорогое, что есть у человека, — жизнь. И все ради денег.
Я очнулась от дум. Нужно было разобрать вещи, отнести Протасовым горсть земли с могилы сына, заказать молебен. Жизнь продолжалась.
Осенью возле дома остановилась карета. Я услышала знакомый зычный голос и выбежала навстречу.
— Николай Иванович, голубчик! Вы ли это? Глазам не верю!
— Я, Аполлинария Лазаревна. Из Парижа и сразу к вам! Заноси! — махнул он рукой кучеру.
— Что это? — удивилась я.
— Все картины Андрея Протасова. Все, что было конфисковано полицией как вещественные доказательства. Здесь те, что из пещеры, а еще пятнистые картины и синие женщины. Нет только тех, что каналья галерейщик купил, — они теперь его частная собственность.
— Как вам это удалось?
— Да разве ж я смог бы? Это все Гире. Он поспешествовал. На самом высоком уровне обратился. У меня и письмо его к губернатору вашему, рекомендует в городе музей открыть.
— Чудесно! — воскликнула я. — А как ваша экспедиция в Абиссинию? Я помню о своем обещании выделить средства.
— Ну что вы, сударыня! Как можно! Брать у женщины деньги!
— Но вы же согласились, Николай Иванович. Помните, в Париже?
— Я все помню, но теперь в этом нет никакой необходимости.
— Как так? — удивилась я. — Вам удалось достать денег?
— Конечно! И все благодаря вам! Если бы не злосчастная парижская история, не видать мне экспедиции, как своих ушей!
— Расскажите, прошу вас!
— После вашего отъезда я упорно занимался сбором денег. Кстати, ваш любимчик Плювинье мне здорово в этом помог.
— Так уж он и мой, — смутилась я.
— Ваш, ваш, и не спорьте. Он сказал мне: «Николя, так как я питаю самые нежные чувства к Полин, а ты ее соотечественник, то, помогая тебе, я имею возможность быть к ней ближе. Она мне дорога». Вот он и водил меня по разным банкирам и толстосумам и переводил мои просьбы на французский. Плювинье обещал дарителям упомянуть их имена в газете. Многие ради этого соглашались. Так мы собрали часть денег.
— Очень рада за вас!
— Но это еще не все. Однажды Доминику в голову пришла идея. «Николя, — сказал он, — а почему бы нам с тобой не навестить великую Сару Бернар? Она женщина состоятельная и с Полин знакома, авось поможет чем. Хотя ей не нужно, чтобы ее имя упоминали в списках благотворителей, о ней и так пишут огромные статьи, но, может быть, она тоже вложит что-нибудь в вашу экспедицию?»
— Разумно, — согласилась я. — И как, Сара Бернар дала денег?
— В том-то и дело, что не она!
— А кто же?
— Мы пришли в театр к окончанию спектакля. Давали «Антония и Клеопатру». Плювинье сумел проникнуть к Саре Бернар в уборную, хотя нас не пускали. У нее сидел господин, худой и бледный, с бородкой клинышком. Он постоянно вытирал пот со лба — его мучила грудная жаба. С первого взгляда было ясно, что господин влюблен в актрису.
— А вы им помешали…
— Что поделаешь, Аполлинария Лазаревна, кто ж знал? Плювинье подошел к ней, поздоровался. Сара Бернар его вспомнила, спросила о вас, сказала мне несколько приятных слов. Удивительная женщина! Некрасивая, уже в возрасте, а посмотрит — словно теплым ветерком обдаст.
— Да вы поэт, Николай Иванович! И вы рассказали ей об экспедиции?
— Конечно! Я говорил, Доминик переводил. И знаете, мое красноречие достигло цели. Выслушав нас, мадам Бернар выразительно посмотрела на мужчину, и он, ни слова не говоря, достал чековую книжку. «Сколько вам нужно денег для экспедиции в Абиссинию?» — спросил он меня по-русски, совершенно без акцента. Я поразился — этот человек никак не походил на русского. От удивления я выпалил полную сумму, забыв добавить: «Мы будем рады любому вашему взносу». Он выписал чек, протянул мне его и произнес: «Дорогой мсье Аршинов, я жил в Санкт-Петербурге с 1842 года, там же получил прекрасное образование. Моим учителем был профессор Зинин, человек выдающегося ума и таланта. Россию я люблю как вторую родину. Поэтому я одобряю цель вашей миссии — расширить и упрочить границы России — и надеюсь, что мой вклад пойдет на благие начинания». Я посмотрел на чек — там была именно та сумма, которую я назвал. «А теперь, уважаемые господа, прошу простить меня, — сказал он. — У меня осталось совсем мало времени, я уезжаю через час в Италию и зашел проститься с дорогой мне женщиной». Мы с Домиником откланялись и спешно ретировались.
— Чудесно! — воскликнула я. — Но вы так и не сказали, Николай Иванович, кто был этот щедрый благодетель.
— На чеке стояла подпись: «Альфред Нобель».
— Неужели изобретатель динамита?
— Он самый! Как все-таки удачно мы зашли к Саре Бернар! Вот так по-свойски, по-приятельски.
— Прекрасно! Так что с экспедицией? Вы собрали все бумаги?
— Все в порядке. Получено высочайшее соизволение. Деньги собраны, суда готовы к отплытию. Так что от вас сразу на корабль. — Он посмотрел на меня и хитро прищурился. — Хотите со мной, Аполлинария Лазаревна?
— Pourquoi pas? 53 — ответила я.
Примечания
1
Эпиграфы здесь и далее принадлежат Франсуа де Ларошфуко. (Прим. авт.)
(обратно)2
Подробнее об этом читайте в романе К. Врублевской «Дело о пропавшем талисмане». {Прим. ред.)
(обратно)3
«Lutetia» — Лютеция, старинное название Парижа. (Прим. авт.)
(обратно)4
Decor (фр.) — здесь: обстановка. (Прим. ред.)
(обратно)5
В прошлые времена в России рост человека измерялся вершками (4,4 см) сверх двух аршинов (142,2 см), то есть в данном случае речь идет о росте 177— 178 см. (Прим. ред.)
(обратно)6
«Югендстиль» (нем. Jugendstil) — букв, «молодежный стиль», немецкое название стиля «модерн». (Прим. ред.)
(обратно)7
«Ар нуво» (фр. art nouveau) — букв, «новое искусство», — стиль «модерн». (Прим. ред.)
(обратно)8
«Сецессион» (нем. Sezession, от лат. secessio — уход) — название объединения художников в Мюнхене (1892 г.), выступивших провозвестниками стиля «модерн»; впоследствии такие же объединения возникли в Вене и Берлине. (Прим. ред.)
(обратно)9
Пейсли — особая расцветка ткани; по названию шотландского города Пейсли, издавна славившегося своими ткачами. (Прим. ред.)
(обратно)10
«Завивать», или «заламывать», березку принято на Троицу. Это еще и девичий праздник. Будущие невесты выбирали молодую березку и «завивали» (или заламывали) ее, т.е. украшали, пригибая ветки к земле и сплетая их с травой. Затем вешали на березу платки, венки, ленты. Заламывая березку, девушки загадывали желания, а потом водили вокруг нее хороводы и пели песни. (Прим. авт.)
(обратно)11
Внутренняя заболонь характерна для лиственных пород — дуба, ясеня; это слой мягкой древесины, способствующий тому, что пиленый материал впоследствии растрескивается. Для мозаичных работ этот порок очень ценен. (Прим. авт.)
(обратно)12
Для понимающего достаточно (лат.).
(обратно)13
Подробнее об этом читайте в романе К. Врублевской «Первое дело Аполлинарии Авиловой». (Прим. Ред.)
(обратно)14
Баст (май.) — лыко с разных деревьев, заменяющее соломку. (Прим. авт.)
(обратно)15
Яйца «в гнезде» — блюдо, изготовленное из картофельного пюре и яиц. В готовом пюре делается углубление, туда выливается яйцо, после чего блюдо запекают в печи или духовке. (Прим. авт.)
(обратно)16
Эпиграмма А.С. Пушкина, написанная в феврале 1835 года на князя М.А. Дондукова-Корсакова, председателя петербургского цензурного комитета, назначенного вице-президентом Академии наук по протекции президента Уварова. (Прим. авт.)
(обратно)17
Азенкур — селение южнее г. Кале (Франция); при Азенкуре 25 октября 1415 года, во время Столетней войны, английские войска Генриха V разгромили большее по численности французское войско. (Прим. ред.)
(обратно)18
«Разбитая герцогиня» («дюшес бризе» — duchesse brisee (фp.)) — так называлась мебель, составленная из двух кресел и мягкого табурета между ними. (Прим. авт.)
(обратно)19
«Персидская сирень» — духи российского парфюмера французского происхождения Генриха Брокара, получившие «Гран-при» на Всемирной выставке в Париже в 1889 году. (Прим. авт.)
(обратно)20
Из стихотворения Теофиля Готье «Поэма женщины. Паросский мрамор», перевод Ю. Петрова. (Прим. авт.)
(обратно)21
Sic transit gloria mundi (лат.) — Так проходит мирская слава. (Прим. ред.)
(обратно)22
Петинет — тонкая кружевная ткань из шелка, хлопка или льна. (Прим. авт.)
(обратно)23
В. Шекспир. Сонет № 66. Перевод С. Ильина (конец XIX века). (Прим. авт.)
(обратно)24
Брокатель — легкая полушелковая материя, вытканная небольшими цветами, золотыми или серебряными букетами, иногда оттененными цветными нитками. (Прим. авт.)
(обратно)25
Грогрон — гладкокрашеный шелк высшего качества из лучших коконов шелковичного червя с длинной неповрежденной нитью. (Прим. авт.)
(обратно)26
Эскот — галстук с широкими прямоугольными концами, который завязывается так, чтобы концы лежали друг на друге, иногда их скалывают булавкой. (Прим. ред.)
(обратно)27
Жонкилия — разновидность нарцисса с бледно-желтыми цветами. (Прим. ред.)
(обратно)28
Эталаж (фр.) — выставка, раскладка товаров. (Прим. авт.)
(обратно)29
Фюме (фр.) — сильно концентрированный бульон. (Прим. авт.)
(обратно)30
Ринопластика — операция искусственного восстановления носа; для исправления дефекта берется кожный лоскут со щеки, лба, реже с плеча или предплечья. Эту операцию описал в 1835 году великий русский хирург Н.И. Пирогов в статье «О пластических операциях вообще и о ринопластике в особенности», в которой первым в мире выдвинул идею костной пластики. (Прим. авт.)
(обратно)31
Трианон — два увеселительных замка в версальском парке: большой Трианон, выстроенный Людовиком XIV для госпожи Ментенон, и малый Трианон, выстроенный Людовиком XV. (Прим. авт.)
(обратно)32
Крафт-Эбинг, Рихард (Krafft-Ebing, Richard von) (1840-1902), немецкий психиатр и невропатолог, основоположник клинического анализа паранойи, автор многочисленных трудов по психиатрии и невропатологии. Его труд «Половая психопатия» («Psychopathia sexualis») был издан в 1886 г. (Прим. ред.)
(обратно)33
«Вернемся к нашим баранам» («Revenons a nos moutons» (фр.) — такими словами в фарсе XV века «Адвокат Пьер Пат-лен» судья прерывает речь богатого суконщика. Возбудив дело против пастуха, стянувшего у него овец, суконщик, забывая о своей тяжбе, осыпает упреками защитника пастуха, адвоката Патлена, который не уплатил ему за шесть локтей сукна. Выражение это применяется (часто по-французски) по отношению к тому, кто отвлекается от основной темы разговора. (Прим. авт.)
(обратно)34
Нерваль (Nerval) Жерар де (1808-55), французский писатель, представитель романтической школы, покончил с собой, находясь в психически неуравновешенном состоянии и в крайней нужде. (Прим. авт.)
(обратно)35
Гуно (Gounod) Шарль (1818-93), французский композитор. (Прим. авт.)
(обратно)36
Аменция (ртлат. amentia — безумие), вид помрачения сознания (бессвязность мышления, фрагментарность восприятия, беспорядочное возбуждение с последующей амнезией). (Прим. ред.)
(обратно)37
Подробнее об этом читайте в романе К. Врублевской «Первое дело Аполлинарии Авиловой». (Прим. ред.)
(обратно)38
В этом же 1894 году Бертильон оказался причастным к знаменитому делу Дрейфуса: он выступал в качестве эксперта и, не заметив фальсификации результатов почерковедческой экспертизы, спровоцировал судебную ошибку. Через двадцать лет французское правительство пообещало ему красную ленту Почетного легиона, если он признает свою ошибку, но Бертильон так и не согласился на это. (Прим. авт.)
(обратно)39
Французские художники первой половины XIX века, писавшие в академической манере. {Прим. авт.)
(обратно)40
Дым отечества ярче огня чужбины (лат.)
(обратно)41
Олимпия де Гуж — писательница, автор «Декларации прав женщины и гражданки», написанной в 1791 году. В этом документе впервые в истории было открыто сформулировано требование установить равноправие женщин и мужчин перед законом. Олимпия де Гуж пророчески изрекла: «Если женщина имеет право взойти на эшафот, то она должна иметь право подняться и на трибуну». Такое неосторожное заявление стоило писательнице жизни. Ее отправили на гильотину как лицо, презревшее общественные порядки. (Прим. авт.)
(обратно)42
Стихотворение французского поэта Поля Вердена (1844— 1896) «Сон, с которым я сроднился» («Mon reve familier») в переводе Иннокентия Анненского. (Прим. авт.)
(обратно)43
Истерия — от греч. hystera, матка. С древнейших времён истерию связывали с заболеванием матки. (Прим. авт.)
(обратно)44
Сара Бернар исполняла роль Маргариты Готье в пьесе Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». (Прим. авт.)
(обратно)45
Около 22 километров в час. (Прим. авт.)
(обратно)46
Ротонда Берцовых Костей — круглый подземный зал в парижских катакомбах, имеющий великолепную акустику. (Прим. авт.)
(обратно)47
Волконскоит — окись хрома. Неяркая, но очень устойчивая зеленая краска. (Прим. авт.)
(обратно)48
Американка Мэй Шелдон по прозвищу Леди Босс, исследовательница Восточной Африки, в 1892 году стала членом Британского Королевского географического общества. (Прим. авт.)
(обратно)49
Aqua destillata (лат.) — дистиллированная вода.
(обратно)50
Кому выгодно? (лат.)
(обратно)51
Пятиактная пьеса «Золотые сердца» драматурга Назарьева шла на сцене Малого театра всего два раза, 11 и 12 ноября 1882 года. В ней рассказывается о девушке Марусе, дворянке из обедневшей семьи. Она приносит себя в жертву, выйдя замуж за человека, ссудившего деньги ее отцу и тем самым спасшего его от позора и обнищания. Вскоре Маруся, не выдержав жизни с нелюбимым, оставляет мужа и уезжает в Петербург вместе со студентом-медиком, которого полюбила всей душой. В Петербурге Мария становится известной писательницей, борющейся за права женщин, и бросает студента. Тот возвращается домой, встречается с ее мужем, не забывшим любимую жену, и рассказывает о таланте его супруги. Дела Марии идут все хуже и хуже, ее преследует полиция, она перестает писать и посвящает себя уходу за калеками. Муж пишет ей письма, умоляя вернуться, но она отказывает ему. (Прим. авт.)
(обратно)52
Перипатетик — последователь философии Аристотеля. (Прим. авт.)
(обратно)53
Почему бы нет? (фр.)
(обратно)
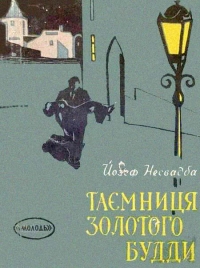
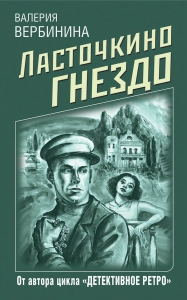


![Планета Вода (сборник) [с иллюстрациями]](https://www.4italka.su/images/articles/474005/primary-medium.jpg)



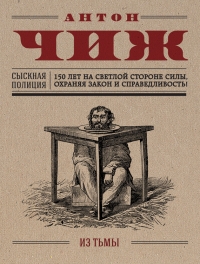
Комментарии к книге «Дело о старинном портрете», Керен Певзнер
Всего 0 комментариев