Игорь ТУМАШ ЧИСТО РУССКОЕ УБИЙСТВО
концептуальный комик–детектив
Впервые за последние семь лет частный детектив Георгий Иванович Прищепкин разрешил себе взять отпуск, чтобы хоть на несколько недель отвлечься от бурной деятельности по разоблачению всякого рода преступников.
Надоели эти уроды! Морды уголовные, со всеми написанными на них пороками, видеть уж больше не мог. Георгий Иванович даже сомневаться начал, будто есть на свете какие–нибудь другие — одухотворенные, честные, открытые. И только на планерках сыскного агентства «Аз воздам», а также бреясь по утрам перед зеркалом, убеждался: не перевелись еще морды–то человечьи, есть!
Ведь если бы, например, убрать с Лехи Бисквита килограммов пятьдесят лишнего веса, то его круглая, лоснящаяся от излишних занятий гастрономическим спортом мордель вполне бы могла уподобиться лику Адама — до совершения греха прелюбодеяния с кокоткой Евой. А морда Сергуни Холодинца — чем не лик какого–нибудь апостола? Сводить Сергуню в баню, одеть прилично, отобрать гадкие дешевые сигареты, которыми тот явно злоупотреблял, и — апостол, вылитый апостол!
В общем, собрал Георгий Иванович вещички да и сел в Минске на «четверочку» до Москвы. Оказавшись поутру в российской столице, перебрался с Белорусского вокзала на Казанский и в 16.20 отбыл на «скором» в Киселевград, город своего сыскарского становления, в котором у него оставалось много друзей, где был похоронен погибший от бандитской пули из–за угла Мишка Високосный — друг самый близкий.
Трудно передать все то волнение, охватившее Георгия Ивановича, когда за окнами плацкартного вагона замелькали до боли знакомые поля и перелески. Ага, вот и станция Раззуваевка, где брали банду Минусина. Вот березовая роща, куда с бывшей женой Викой ездил за грибами. Интересно, не перевелись в роще боровики?
Георгий Иванович вздохнул: вытоптали небось, извели! Ведь нынешняя молодежь абсолютно понятия не имеет о культуре грибной охоты. В частности, что грибы следует аккуратно срезать ножичком, а не выдирать из земли вместе с грибницами; что в поисках «членов семейства» нельзя ворошить дерн вокруг палками, носками ботинок; что червивые части грибных ножек, тем более шляпок, необходимо удалять сразу, а не оставлять на потом; наконец, что грибы следует собирать в плетеные корзины, а не в полиэтиленовые пакеты и хозяйственные сумки.
Ах, как хорошо шли потом маринованные раззуваевские боровики после баньки под водочку! Вместе со снегиревскими, впрочем, жареными рыжиками. Как душевно просиживали они до утра всей опергруппой после каждого удачно проведенного расследования!
Группа работала настолько блестяще, что по настоянию жены Георгию Ивановичу пришлось даже от водки кодироваться. И не ему одному, между прочим. Многие ребята из его группы пошли тогда на поклон к «сыну» крымского врача Данченко.
Только не был тот козел с бородкой, лишивший его радости чисто русского вида коллективного отдыха, Данченке никаким сыном. Георгий Иванович как–то со злости справки навел. Оказалось, что у покойного Данченки вообще не было сыновей. Как и у лейтенанта Шмидта, героя восстания на броненосце «Потемкин», вынужденного покинуть этот мир холостым. Между тем по «сыну» Данченки сидело в каждом более или менее большом городе Содружества. Попадались, впрочем, и «дочери», имелось несколько «племянниц» и «племянников»… Что интересно, у украинца Данченко «детишки» рождались самых разных национальностей: русские, молдаване, кавказцы… Даже одного негра, успешно практиковавшего в Саранске, умудрился родить этот Данченка.
По идее всех самозванцев следовало пересажать. Но код–то работал! К водке Георгий Иванович совершенно охладел. Следовательно, состав преступления был совсем жидким. Дело против самозваных родственников могли возбудить только настоящие родственники. Те, однако, Георгию Ивановичу даже не ответили. Ладно, должен был проявить бдительность и проявил. Теперь закодированным бывшим алкоголикам Прищепкин мог смотреть в глаза с чистой совестью.
За окнами замелькала Воробьевка — дальний пригород Киселевграда. Поезд замедлял ход, лязгал всем своим железьем и скрежетал тормозными — что там у них? — колодками. Город сыскарского становления Георгия Ивановича из грез и воспоминаний постепенно обретал материальные черты.
Промзона… парк имени Юрия Гагарина… гаражный кооператив завода «Вымпел»… привокзальный сквер. Наконец, вокзал. Треснув на посошок буферами и дернувшись так, что приникшие к окнам пассажиры едва удержались на ногах, поезд остановился. И сразу в вагонах воцарилась расслабляющая тишина.
— Поезд на Воркутя отходит со второго путя, — отчетливо, жестяным голосом сообщил вокзальный репродуктор.
Прищепкин чуть не прослезился: «Это же Галка Семенова! Выходит, по–прежнему работает здесь дежурной! Уж сколько начальник станции Анатолий Евграфович Поздняков пенял ей за эти «Воркутя» и «путя» — как об стенку горохом! Ведь даже в анекдот союзного масштаба Галка вписалась!»
— На третю платформу прибыл скорый поезд Москва — Киселевград, — продолжал вещать репродуктор голосом Галки. — Граждане, будьте внимательны и осторожны. Железнодорожные путя — место опасностя.
Георгию Ивановичу пришлось–таки украдкой смахнуть скупую мужскую слезу. Киселевград! Как много в этом слове…
О приезде Георгий Иванович никому не сообщал. Хотел сделать друзьям сюрприз. Поэтому очень удивился, обнаружив на платформе сводный милицейский духовой оркестр, грянувший марш при его появлении в просвете тамбура.
«Откуда узнали?! Как пронюхали?!. Раз такое внимание к моей скромной персоне, значит… Значит, я действительно стал знаменит!» Георгий Иванович выпятил грудь колесом и от удовольствия причмокнул губами.
Однако одновременно с ним, но из тамбура соседнего купейного вагона на киселевградскую землю спускался какой–то лысый тип в солнцезащитных очках, в дорогом костюме. И именно к нему, а не к сыскарю бросились девушки с караваем в русских национальных сарафанах и кокошниках.
«Увы, до Киселевграда моя слава еще не докатилась», — немного грустно констатировал Георгий Иванович, шагая к стоянке такси.
Прищепкин поселился в гостинице. Самой дешевой. Несмотря на все свои достижения в деле частного сыска, он так и остался человеком достатка весьма среднего. Со всеми вытекающими последствиями. Например, он никогда не упускал случая покупки ворованного бензина для своей «восьмерки», в общественном транспорте норовил ездить зайцем. Несолидно? Что ж делать, отказываться от любимого сыскного дела? Нет, Георгий Иванович скорее согласился бы голодать.
Сыскарь принял душ, пообедал в буфете и принялся обзванивать друзей.
Как оказалось, Волошин из системы МВД уволился, переехал в деревню и занялся пчеловодством. «Надо же, — подивился Прищепкин. — Сумел–таки оторваться». Зато Капинос, Фоминцев и Тарасюк оказались на своих местах и с превеликой радостью приняли весть о приезде. Так как каждый из них настойчиво приглашал Георгия Ивановича к себе домой, то сыскарю, чтобы никого не обидеть, пришлось назначить друзьям встречу в гостинице.
Убогость обстановки номера Прищепкина ничуть не смущала, он был уверен, что друзья совсем не изменились и по–прежнему живут духовной, творческой жизнью, то есть сыском. Что они сами вынуждены экономить буквально на всем, при случае воровать бензин, а последнюю неделю до зарплаты вместе со своими семьями питаться домашними заготовками. То есть всей этой кислятиной, маринованными и солеными огурцами да помидорами, квашеной капустой, картошкой… Ибо богатый, хотя бы просто обеспеченный, мент это не страж порядка, а содержанка правонарушителей, дегенерат милицейского рода и племени.
Ну не получается пока у страны достойно содержать верных псов народных. Бурлит потому что в строительном хаосе. Разрозненные сегменты будущего ее устройства находятся в непрерывном броуновском движении, все еще не «узнают» друг друга: не отталкиваются и не притягиваются. Но пройдет какое–то время, и сегменты начнут соединяться, образовывая некую конструкцию. Однако не будет она принципиально новой. Ведь по большому счету все новое в России это либо плохо усвоенное, либо по достоинству не оцененное старое. Только после достаточного отвердения конструкции о псах народных и вспомнят. Вновь окружат заботой и вниманием.
Любил вот Прищепкин пофилософствовать, занимаясь каким–нибудь домашним делом. Теперешним можно было считать приготовление салатов для предстоящей дружеской вечеринки. Георгий Иванович купил в кулинарии вареную курицу, а к ней в палатке — кучу всякой зелени, майонез — в магазине. Первый салат — «мясной». Еще один салат можно назвать «летним»: продукты те же, но уже без курицы. Летом ведь мясо вредно, да и курица была не слишком крупной.
Кроме салатов он задумал порадовать друзей бутербродами со шпротами и прихваченной в Минске литровой бутылкой водки «Беларусь синеокая». Самому же придется довольствоваться минералочкой. Ничего, не привыкать. Зато голова потом болеть не будет.
Данченки, кстати, с просторов СНГ как–то сникли. Вместо них появились кодировщики с фамилиями Донской, Невский. Верно, чтобы у алкашей вызывать ассоциации с крупнейшими победами русского оружия. Татаро–монголов разбили, тевтонов–рыцарей разбили. Следовательно, если человек–однофамилец князей–победителей взялся воевать с ратью зеленого змия, то неужели спасует? Разобьет! Баксы в его мягкие, но цепкие руки можно вручать с абсолютной уверенностью.
К большим деньгам всегда какая–нибудь грязь липнет. Такая вот в природе закономерность имеется.
Прищепкин постепенно пришел к мысли, что кодировке, скорее всего, может любой дурак выучиться. Гораздо сложнее к этому делу как следует примазаться. Ведь трудности наверняка начинаются со стадии лицензирования и регистрации. Чиновники, вершители этих действ, свою долю от горьких алкашеских денег первыми требуют.
Поэтому, чтобы стать популярным кодировщиком, в первую очередь нужно страстно любить деньги и быть докой по части всякого рода подношений. И при этом день и ночь трендеть о безмерной любви к человечеству и Божьем, в отношении себя, промысле…
Не дано нам любить деньги, вздохнул Георгий Иванович, нарезая лопушистые листья салата, поэтому их наличие в обозримой перспективе и не предвидится.
«Сердце красавицы склонно к изме–ене. И к перемене…» — зазвучал вдруг приемник.
Прищепкин бросил взгляд на розетку — не включен! «Да это же Капинос!» — сообразил он, выглянул в окно и увидел внизу Женьку Капиноса и Валеру Тарасюка.
Похожий на каменное изваяние, двухметровый, широкоплечий Капинос старательно выводил арию, а подвижный, как ртуть, коротышка Тарасюк в нетерпении гарцевал вокруг него с огромным букетом сирени.
Капинос закончил школу милиции, но трудоустроился в театр оперетты: уникальные природные певческие данные. Однако служить Мельпомене Капиносу вскоре наскучило, и он вновь надел милицейскую форму. Женька понял, что сыск его призвание, а пение — только хобби, ибо голосом и безупречным музыкальным слухом Создатель наделил его просто так, от щедрот своих. Степенный и представительный, вальяжный флегматик Женька являлся полной противоположностью холерика Валерки.
Внутри Тарасюка словно находился ядерный реактор, ибо в этом маленьком человечке была такая уйма энергии, что с лихвой хватило бы на весь Киселевградский РУВД. Он ни секунды не пребывал в неподвижности, таковым даже не представлялся, и надо иметь развитое воображение, чтобы вообразить его спящим.
Валера, конечно, спал. Но очень мало, часа по три в сутки. Уже в пять какая–то неведомая сила подбрасывала его в постели, и Тарасюк выскакивал из дома на утреннюю пробежку. Заданный с утра темп выдерживал и на протяжении всего рабочего дня. Только искры летели из–под его форменных ботинок.
— Женька, Валерка, здравствуйте, родные мои! Поднимайтесь в номер! — закричал Прищепкин, справившись с закрашенными шпингалетами и распахнув окно.
— Сейчас Фоминцев должен подъехать, — не напрягаясь, ответил Женька, но его полголоса хватило, чтобы Прищепкин на восьмом этаже отчетливо услышал. — С минуты на минуту нарисуется. Мы дождаться обещали, но не вытерпели… Впрочем, да вот и товарищ полковник, собственной персоной.
На стоянке возле гостиницы парковался милицейский «уазик». Гунар Петрович Фоминцев откровенно не любил ходить пешком и служебную машину использовал на все сто восемьдесят процентов. То есть без малейших колебаний разворачивал ее по личным либо семейным надобностям. В Управлении ему и не такое прощали: Фоминцев — умница, Фоминцев — мозг!
Мать у Гунара Петровича была латышкой, отец русским, родился он в Тобольске (фамилия Фоминцев в этом старинном русском городке, кстати, весьма распространена; почти как Гусейнов в Долгопрудном). Чтобы всегда чувствовал сын латышскую свою половинку крови, мать и настояла назвать сына Гунаром. Удачное получилось смешение: Гунар Петрович обладал холодным прибалтийским умом, прагматичностью, был носителем европейской культуры, но имел открытое русское сердце и некоторые привычки также определенно русские. (Может, действительно, не стоило Петру Первому мучиться так со строительством Петербурга, а объявить столицей готовенькую Ригу? Наверно, и история российская тогда б другой азимут приняла, а? Экономия какая!) Гунар Петрович имел разряд по шахматам, и его способность анализировать возникшие ситуации да просчитывать ходы преступников, а также, понятно, и реакцию родного начальства послужила ему гораздо лучшим подспорьем в милицейской карьере, чем неуемная энергия для Валеры и певческий талант для Женьки. Во всяком случае, за прошедшие семь лет Гунар Петрович вырос до полковника и обращаться к нему стали строго по имени–отчеству, между тем как Валера и Женька оставались капитанами, а их отчеств никто не помнил.
— Сердце красавицы склонно к изме–ене, — грянули друзья Прищепкина уже в три глотки, а Валера, словно оказавшись в ситуации, при которой для предотвращения ДТП на железнодорожном переезде необходимо остановить поезд, замахал букетом сирени круговым движением.
— Отставить пение! — гаркнул им Георгий Иванович с восьмого этажа.
Равняйсь! Сми–рна! — Друзья охотно подыгрывали.
Здравствуйте товарищи сыщики!
— Здравия желаем, товарищ детектив! — дружно гаркнули Капинос, Тарасюк и Фоминцев.
Как и в прежние времена просидели друзья до самого утра. Разговорам и воспоминаниям, казалось, не будет конца. А когда у Жени, Гунара Петровича и Жоры начали слипаться глаза, то Валерка, по кличке Комиссар Жюс, потащил их… на рыбалку.
Ребята, в принципе, могли себе это позволить — впереди воскресенье. Но безумно хотелось спать. Всем, кроме Валеры. У Тарасюка, вне зависимости от обстоятельств, с наступлением утра наступал период повышенной активности.
— Да ведь нет у нас для рыбалки ничего, — пробовали сопротивляться сыщики. — Чем рыбу–то ловить будем, пальцами?
— Ерунда, было б желание, — стоял на своем Валера. — Чем ловить — найдем. А ну — не спать! Глаза на ширине плеч! Поднимайтесь! На бережку под кустами подрыхнете… Машину поведет Комиссар Жюс.
По дороге через город Валера тормознул «уазик» у дежурной аптеки, купил несколько пакетиков борной кислоты и марлю.
— Будем порошок в хлебный мякиш закатывать, а из марли сачки сделаем, — пояснил страж правопорядка. — В детстве так ловил, когда с червями загвоздка получалась.
— Между прочим, это браконьерством называется, — хмыкнул Гунар Петрович. — И наш долг…
— Так что, не едем? — растерялся Валера.
— Ладно уж, тронулись, — ответил полковник, с досадой отмечая дистанцию, появившуюся в отношениях между ним и друзьями–капитанами. Пошутить ведь хотел, но Валера принял шутку за назидание старшего по званию.
Георгий Иванович вновь напряженно всматривался в мелькавшие за окном до боли родные пейзажи, менявшиеся с калейдоскопической быстротой: Валера вел «уазик» так, словно гнался за укравшим мешок семок Шумахером. И буквально через полчаса они уже были на Киселевградском водохранилище.
Первые дни июня, самое–самое начало лета. Природа шепчет, Природа дышит — самое распрекрасное время среднерусской полосы. Об этом, глядя на портрет Полины Виардо в прозрачном ночном пеньюаре, еще Тургенев писал. Созерцание Природы среднерусской полосы дало Георгию Ивановичу ощущение тихой радости и глубинного покоя… Если бы еще не мельтешня Тарасюка.
— Дерево–башка! — орал тот на Женьку. — Ну чего кислоту у самого берега разбрасываешь? Денег, между прочим, стоит! Надо ямы искать, вся рыба сейчас в ямах отсиживается.
— А где хоть одна яма? — оправдывался Капинос. — Ты покажи яму–то.
— Может, тебе еще и сомов показать?! — рассвирепел Валера. — Этак каждый дурак сумеет наловить. Побегай по мели, где ухнешь с головкой — там, значит, и яма.
— Сам дурак! — обиделся Женька. — Не буду бегать — делать больше нечего.
— Да на фиг нам вообще рыба. Пожарим на костре колбасы, сала, — миротворчески сказал Прищепкин.
— Ну и жарьте свое сало! Запаску заодно, домкрат! — заявил Валера. — А лично я сюда за рыбой приехал. Сам наловлю!
— Натравлю, — ехидно поправил Гунар Петрович, свинчивая жестяную крышку с бутылки водки. — Бегай, бегай — ищи ямы–то. А мы пока и на бережку неплохо посидим.
Валера бросил на Фоминцева уничтожающий взгляд, открыл уж рот, чтобы покрыть отборным матом, но — осекся, вспомнив, верно, о его трех больших звездах на погонах.
— Ну, будем здоровы! — сказал Фоминцев, чокнувшись с Капиносом, одним гармоничным синхронным движением русского служивого человека опрокидывая в себя водку и подхватывая с разостланной на земле гостиничной скатерти бутерброд со шпротами. Жалко, что ты, Жора, завязал. У меня ведь водка особая — владелец местного завода, Миронов, прислал.
— Мягкая очень, — подтвердил продрогший в воде Капинос, блаженно жмурясь от разливающегося внутри тепла.
— Ушам не верю. У тебя что, водочный барон в друзьях числится? — вороша костер, возмутился Георгий Иванович, прозванный среди киселевградской правоохранительной братии Ханжа Прищепка.
— Одноклассник, с того начнем, — улыбнулся Фоминцев. — Мировой, впрочем, мужик, Миронов–то. С понятиями такой. Рыльце у него, конечно, в пушку, но для города и стадион отремонтировал, и парк в порядок привел, и стипендию для неимущих студентов политеха утвердил. Можно, конечно, сказать, что этим городские власти как бы подкупал. Но по отношению к нему это толкование было бы однобоким. Да, подкупал, естественно, порядок до него заведен. Однако Миронов мог бы сделать то же самое и просто так. По широте душевной.
— Мировой мужик… по широте душевной… Водочным бароном может стать только махинатор либо бандит, — резанул Прищепкин, известный ментовской общественности также и ревнивостью к похвале.
— Махинатор, бандит и есть, — глядя в глаза Прищепкину, взвешенно ответил Фоминцев. — Однако я не оговорился, Миронова уже лет тридцать знаю, двадцать из которых в качестве мента, поэтому за объективность оценки готов поручиться. А вот ты за годы работы в частном сыске, как мне кажется, отвык оценивать людей и обстоятельства как бы в комплексе, без отрыва от социума. Скажем, нанимают тебя найти преступника или распутать какое–то дело, — находишь, распутываешь и получаешь гонорар. Все, больше ничего тебя не касается. Отсюда и идеализм марсианский какой–то. Мы же — в общем российском котле варимся. Поэтому для нас нет ни белого, ни черного, ни добра, ни зла — в каноническом понимании. Мы вынуждены служить не закону, а собственному пониманию этого закона и судить, исходя из собственного чувства справедливости.
— Если помнишь, из–за неприятия этих правил игры я и ушел из органов, — вставил Прищепкин в поток красноречия Фоминцева весьма существенное замечание.
— Да помню все. — Фоминцев потянулся за сигаретой. — Зря, наверно, тебя упрекнул. Тем не менее закончу мысль. Ведь и Миронова нам приходится оценивать по тому же принципу, в комплексе, так сказать. Бандит бандитом, но к нему в приемные дни со всей области горемыки, погорельцы разные тянутся. И хоть бы одному отказал. Кому деньги, кому заступничество. Миронов вообще личность на редкость сильная, яркая. Однозначно положительная. Он просто–напросто принадлежит к тому людскому неординарному, лидерскому типу, который выбивается из серой массы в любое время. В советское Миронов был бы, наверно, героем–полярником, командармом или покорителем целины. При царе–батюшке — освободителем болгар–братушек или отчаянным народовольцем. В нашем времени Миронов нашел себя — где же еще? — в водочном бизнесе. Вот и весь сказ. — Фоминцев зевнул. — Ну, где там реактивный рыбак наш, не всю еще рыбу перетравил? — Тарасюк на горизонте отсутствовал. — Ладно, найдется, атомоходы не тонут. Давай, Женя, еще по одной да соснем немного. А то опять глаза слипаются.
— Соснуть — хорошая мысль, — примирительно сказал Прищепкин.
И возлегли три богатыря на вольной земле русской, и захрапели дружно так, что заглушили и пение птиц, и стрекот приветствующих начало жаркого дня кузнечиков. Долго ли спали, коротко — все равно разбудил Комиссар Жюс. Воплем. С ведром полным рыбы в одной руке и мобильником Фоминцева в другой.
— Мужики, просыпайтесь! Карнач звонил.
— Ну и что теперь, застрелиться? — пробурчал Капинос.
— Мужики, Миронова убили!
— Кого, кого? — резко оторвал голову от земли Фоминцев. — Миронова?
— Ну да, водочника Миронова, — растерянно ответил Тарасюк, думая, что теперь делать с рыбой: очухается, если выпустить назад в водохранилище, или ей кердык уже конкретный настал?
— Любопытное совпадение, — прокомментировал событие Прищепкин. — Перед сном как раз о Миронове говорили.
— Это не совпадение, — задумчиво возразил Капинос. — Коль Фоминцев в школе с ним вместе учился, соприкасался потом с Мироновым много лет, то, значит, завязалась между ними некая связь энергетическая. Вот Фоминцев что–то и почувствовал. Ну, как родственники чувствуют.
— Бутылку вы как раз мироновскую распивали. Так что связь вполне физическая, — съязвил Прищепкин. — Не было б бутылки…
— Так ведь была бутылка–то. Именно мироновская, — развил свою мысль Капинос, увязав в одну упряжку уровни ментовский ментальный, шаманский астральный и марксовский физический.
Фоминцев между тем набирал Карнача.
— Товарищ генерал, что там с Мироновым стряслось?
Пространный ответ Карнача сильно Фоминцева озадачил, во всяком случае, лицо у него вытянулось.
— Все ясно, товарищ генерал. Вернее, ничего не ясно. Немедленно выезжаем!
— Такого орудия убийства в моей практике еще не было. Миронов обезглавлен мечом, — рассказывал он в несущемся на предельной скорости, трясущемся, подпрыгивающем лягушкой на кочках, ревущем всем своим железным нутром «козлике». — Труп Миронова сегодня рано утром обнаружила домработница. В загородном доме. Миронов был в женском халате.
— Ого! Может, и в чулках с подвязками!
— Жора, тебя в гостиницу?
— Да ну, издеваешься, что ли! — возмутился Прищепкин. — У вас такое дело наклевывается, а я, по–твоему, должен в номере сидеть!
— Отпуск же.
— Отдохнул, хватит. Вон сколько рыбы наловили.
— А где, кстати, моя рыба? — повернулся Тарасюк.
Ведра с рыбой в салоне не оказалось. На берегу оставили.
— Жалко, так и не выпустил, — вздохнул Валера. — Она ведь, в принципе, живая еще была, только с жабрами обожженными. Танкисты например, обгорая в подбитом танке, выживают…
Вот такой у Прищепкина получился отпуск. Трое суток дороги и одна дружеская попойка, на которой Георгию Ивановичу довелось лишь наблюдать за процессом пития. Что же касается выловленной неугомонным Тарасюком рыбы, так даже и не разглядел ее толком. Ну и ладно, зато в его активе — хотя нельзя исключать пассива, — появится дело, в котором будет фигурировать отрубленная голова водочного барона.
* * *
Вообще–то загородных домов у Миронова было несколько. Смерть настигла водочного барона в самом от города дальнем, возведенном в густом сосновом бору, километрах в сорока от Киселевграда.
Что интересно, дом этот оказался именно таким, каким и представлял Георгий Иванович, то есть неким княжеским теремом, чудесным образом сохранившимся шедевром догвоздевого деревянного зодчества. Изящным и кокетливым, устремленным к небу, но крепко стоящим на земле. Хотя Фоминцев досадно мало успел рассказать о Миронове, но и того оказалось достаточно, чтобы Прищепкин в конце концов, уже по дороге, в летящем, словно жаба на метле, «уазике» интуитивно составил себе образ человека кровно русского, даже изрядно идеализированного русского, каким предстает тот в глазах недоверчивых иностранцев в картинах Ильи Глазунова. Если бы только не этот халат бабский!
Терем окружало некое подобие частокола, однако вместо дружинников наблюдали с него за миром бесстрастные пятачки мониторов. Во дворе терема уже стояли запыленный джип Карнача, «уазик» Управления, «жигуль», дряхлый «москвич» лаборатории экспертизы и труповозка. Генерал был в гражданском, эскперты, следователи Управления и вовсе в чем–то дачном… Спрашивается, кто оплатит ментам сорванный выходной?
— Видеозаписи отсутствуют, — сразу сообщил Карнач, поздоровавшись с прибывшими операми, а заодно и с Прищепкиным, который его еще при Советах достал, за руку и кивнув в сторону мониторов.
— Вообще ничего не осталось?
— Вчерашний мониторинг исчез. То есть приезд сюда Миронова, приезд гостей. Сохранились только записи, сделанные на протяжении рабочей недели, когда здесь ни одной живой души, кроме охранника, не было. Белки, вороны, сосны…
— Значит, у Миронова вчера были гости?
— Судя по следам протекторов на траве и бардаке в столовой — были. На джипе приехали, на нем же уехали. Да, чуть не забыл, пистолет мироновский пропал, — «макар» был на нем зарегистрирован. В ящике стола кобуру пустую обнаружили.
— А что показал охранник? — задал дилетантский вопрос Женька Капинос.
— Да что он мог показать? — удивился наивности певуна генерал. — Нету охранника, исчез. О видеозаписях позаботились, как могли про охранника забыть.
— То есть версия самоубийства полностью исключается? — задал Тарасюк еще более дилетантский вопрос.
— Ты что, кирной? — Карнач наклонился к Валериному лицу и принюхался, словно сторожевая собака. — Точно, водкой несет! — торжественно заключил он, словно менты не имеют конституционного права хоть немного расслабиться после напряженной рабочей недели.
Вероятно, сам Карнач вчера ни–ни. Что, кстати, могло произойти с ним только по чистой случайности. Вот уж кто был настоящим ханжой. Но у генерала была другая кличка — Хорь Калиныч. (Подозрение на заимствование из литературного источника полностью исключено, так как программа литературы в полицейской академии с гулькин нос, «Преступлением и наказанием», верно, и исчерпывается. Отчество у генерала было такое редкостное — Калинович. Ну а Хоря — хорька значит — ему за натуру вредную карьеристскую сослуживцы присвоили.)
— Никак нет, товарищ генерал! Не кирной совсем. Десна у меня воспалимшись, так я ее, заразу, спиртом продезинфицировал, — нашелся Валерка.
— Ну–ну, смотри у меня. Чтоб только по праздникам. В День милиции, например… Подумай, разве может человек сам себе мечом голову отрубить?.. Ладно, идите с трупом знакомьтесь. — Прищепкина, однако, задержал. — Посторонним нельзя!
— Да какой же Прищепкин посторонний, — заступился Гунар Петрович. — Неужели не узнали?
— Узнал, — вздохнул Карнач. — Как увидел — сразу дурно сделалось.
— Григорий Калинович, насколько я понял, дело мне собираетесь отдать?
— Допустим.
— Тогда Прищепкин мой человек. Григорий Калинович, ну разрешите. Под личную ответственность.
— Ладно, под персональную. Только если учудит что, целку начнет из себя строить — ну, знаешь же, как он умеет, — звездой ответишь. Договорились?
— Так точно, товарищ генерал! Разрешите идти знакомиться с трупом?
— Валяй.
И друзья–сыскари пристроились за Гунаром Петровичем, который зашагал к терему походкой проводника. Оно и понятно, бывал в том тереме Фоминцев. И не раз.
Внутреннее убранство терема оказалось под стать фасадной наружности. Не только безгвоздевое, но и безполимерное, даже безимпортное. Рубленые скамьи, столы, лавы… Прям как в издательстве «Вагриус», куда сунулся однажды, будучи в Москве, Прищепкин, приняв сей храм литературы за кафе в стиле а-ля рюс. В надежде испить в нем хренового иль медового квасу, на худой конец загадочного сбитня.
По дубовой лестнице, с искусно вырезанными на половицах петухами, Фоминцев повел друзей на второй этаж, где располагался кабинет–палата Петра Олеговича Миронова, и через распахнутую, окованную медью дверь увидели опера энд Прищепкин трудящихся в поте лица экспертов, которые что–то вымеряли, раскладывали собранные образцы по пакетикам, пудрили что–то тальком… Обезглавленный труп Миронова в нелепой позе лежал в холодцовой луже почерневшей крови обрубком шеи к окну. У ларя, который весьма диссонировал с его расшитым какими–то нерусскими птицами халатом.
— А голова где? — нервно спросил Капинос, давя в себе возбужденное представшей взору картиной чувство ужаса. — Что–то головы не вижу.
— Есть, не волнуйся. Вон — в контейнере. На столе который, холодильный. Можешь полюбоваться, — отмахнулся от Женьки медэксперт Валик Балык, светло улыбаясь навстречу Прищепкину. — Сколько лет, сколько зим, а… Каким, Жора, ветром тебя сюда занесло?
— Отпускным, — стараясь выпучить из себя улыбку столь же светлую и радостную, ответил стародавнему приятелю Прищепкин, также побаивающийся трупов и крови.
— Молодец, не забыл нас! — от души похвалил Балык. — А у меня, кстати, внук на прошлой неделе родился. Жена говорит: вылитый дед!
— Наверно, такой же лысый! — роготнул фотограф Синичкин.
— Сам ты лысый, — беззлобно отреагировал на шпильку Балык. — С кудрями, как у ангела, до плеч. Дочка три недели переносила. Кесарево пришлось делать. Уже и пяточки у Егорки загнивать начали. Еще б дня три и… — Вздохнул, нахмурившись; наверно, представил, что было бы с Егоркой, затяни с операцией.
— Поздравляю! — с некоторой заторможенностью, так как вспомнил о существовании сына, который теоретически уже мог бы произвести ему внука, сказал Георгий Иванович. Зато от чистого сердца.
— Ладно, хватит лясы точить. Давайте делом займемся! — призвал к порядку Гунар Петрович. — Что там у вас вырисовывается?
— Следов — море, — ответил за всех зав дактилоскопической лабораторией Ермилов. — На фужерах в «трапезной» — отпечатки пяти примерно человек. Плюс обмусоленные окурки в пепельницах. Плюс…
— Со следами помады есть?
— Нет.
— Одни мужики, значит, — разочарованно протянул Фоминцев, которому меньше всего хотелось, чтобы первой версией о мотивах убийства старинного приятеля была версия о некой «голубой» разборке. — Тут, похоже, деловой сходняк был, — нашелся он.
— А на мече отпечатки сохранились? — спросил Прищепкин.
— Ни одного. Это говорит о том, что преступник тщательно протер не только рукоятку, но и лезвие. Тем самым уничтожил и свои отпечатки, и отпечатки пальцев людей, бравших меч в руки из праздного любопытства.
— Убийство могло произойти по причине ссоры. Кто–то из гостей, в таком случае, отличился. Но в той же мере Миронова мог убить и человек посторонний, который знал, что под утро хозяин останется на даче один. Проник сюда да и убил.
— Как это один останется? С охранником, — напомнил Тарасюк.
— Ага, с охранником, — поправился Прищепкин. — Который, возможно, тоже убит… Кинологов, кстати, вызвали?
— Как раз кинологи поиском следов сейчас и занимаются, — ответил «баллист» Суровцев.
— Факт исчезновения охранника подталкивает к версии, что тот может оказаться и убийцей, — заметил Капинос.
— Запросто, — согласился Фоминцев. — Охранника могли для этого нанять. Для убийства шефа у него могли быть и личные мотивы… — И смущенно добавил: — Однако вовсе не обязательно те самые, о которых вы сейчас дружно подумали.
— Наконец, охранника могли просто подкупить, чтобы не мешал, не путался под ногами. Где–то на время следствия схоронился, как говорится, ушел на дно, — развил до логического предела мысль полковника Тарасюк и механически потянулся за сигаретой.
— Не курить! — упредил щелчок зажигалки Ермилов. — Еще пробу воздуха не взяли. Сурков со своими банками что–то задерживается.
— Да какая там проба, — беспечно махнул рукой Валера. — Запахи застолья и разлагающейся крови все другие забили.
— Порядок есть порядок, — пожал плечами Ермилов.
— Подкупить–то охранника могли, — согласился с Тарасюком Фоминцев. — Но вот оставить в живых после убийства человека такого ранга, как Миронов… И вряд ли охранник сам бы свою участь не вычислил. Поэтому по отношению к нему вижу только два варианта: либо убит, либо убийца… Кстати, — обратился он к Суровцеву, рассматривая меч с длиннющей изогнутой рукояткой, — что можно сказать по позе убитого, по следам на ковре?
— Обожди–ка, дай подумать, — ответил Суровцев, который, глядя на позу трупа, пытался составить финальную сценку. — Миронов, похоже, сидел на этом вот резном кресле, троне… как его еще назвать…
Продолжай, понятно, где сидел.
В общем, убийца оказался сзади, и одним ударом отсек голову. Миронов вскочил…
— Как, без головы вскочил?!! — хором воскликнули и эксперты, и опера.
— Ну да, так получается, — сам удивляясь, ответил Суровцев. — Голова–то — взгляните на меловой круг — видите, где лежала? Слева от кресла. А труп где лежит… И чтобы убийца труп к окну зачем–то подтащил, судя по подогнутым коленям Миронова, тоже не похоже: ноги б вытянулись.
— А чему мы удивились? — пригладив лысину — какой я умница! — сказал Валик Балык. — Жизнь–то, пока бьется сердце, продолжается. Следовательно, несколько секунд после отсечения головы Миронов был еще жив. Поэтому оказался вполне способным вскочить на ноги и сделать несколько шагов по направлению к окну. Но только в том случае, если мозг успел принять информацию о взмахе меча и отдал команду телу на какое–то ответное действие. Ну а какая в данном обстоятельстве могла быть команда? Только одна: добраться до окна и — сигать. — Балык выглянул вниз. — Не очень–то и высоко, метра четыре, наверное. Единственный шанс оторваться от убийцы… Все довольно просто. Впрочем, нужно также констатировать факт наличия у Миронова необычайной жизненной силы, воли к борьбе до последнего.
— Что же касается орудия убийства, — продолжал Суровцев, — то дурацкий меч какой–то, не правда ли? Рукоятка чуть короче лезвия. А уж лезвие настолько кривое, что лично я бы руки тому мастеру, который меч делал, с корнями оторвал!
Сыскари, эксперты нахмурились: такого человека, как Петр Олегович, и — дефективным мечом! Даже если допустить «голубую» разборку — полнейший беспредел!
— Только не надо втирать! Не говорите, будто не курили! Я же вас тысячу раз предупреждал: до моего прихода… — Это появился, наконец, Сурков (по кличке даже не Сурок, а Мухтар — в честь подохшего несколько лет назад по старости лучшего поискового пса Краснопартизанского РУВДа). Единственный эксперт–одоролог, то есть «запаховед», на тысячу верст окрест. Имевший плебейское обыкновение по этой причине постоянно где–то «задерживаться». Генерал Карнач четыре часа назад приехал, а какой–то капитанишка… Незаменимый, блин.
— Не мы курили, — ответил Тарасюк. — Это гости убитого вчера накурили.
А Мухтар все принюхивался.
— Молоком еще пахнет, — вдруг радостно, словно новорожденный теленок, заявил он.
— Ну и что, вполне мирный продукт. Какое отношение может иметь молоко к убийству? — это возник на горизонте готовый стереть одоролога в порошок Карнач.
— А кто вам сказал, что запах молока имеет только молоко? — совершил откровенно хамскую попытку поставить генерала на место Мухтар. И тут же разразился пространной лекцией о природе запахов, что с его стороны выглядело и вовсе каким–то эпатажем на грани фола. — Запах каждого индивидуального объекта биологической группы, в частности молока, представляет из себя некий букет, состоящий из набора запахов молекул компонентов этого объекта. А неповторимость окраса запаха каждого конкретного объекта группы придает процентное соотношение этих компонентов. Однако стоит только поменять процентное наполнение местами и — чудеса! Например, клубника начинает пахнуть резиной. А резина, соответственно, клубникой…
— Выходит, реклама, утверждающая об отсутствии ароматизаторов в составе резины презервативов, не врет? — перебил Мухтара Фоминцев с видом человека крайне заинтересованного в получении на сей счет исчерпывающей информации. (Однако исключительно для того, чтобы как–то «приземлить» спеца, выглядевшего большим ученым в глазах неуча Карнача. И тем самым помочь генералу сохранить лицо. Из чувства служебного долга: ну должна же субординация хоть чуть–чуть соблюдаться.)
— Отсутствуют! — попался на уловку Мухтар. — Вы представляете, ни грамма ароматизаторов! Специалисты по молекулярной инженерии ведущей американской фирмы по производству кондонов сумели…
— Капитан Сурков, — рявкнул багровый Карнач. — Если вы приехали сюда исключительно для того, чтобы посвятить нас в тонкости производства гандонов, то можете сию секунду сдать служебное удостоверение.
— Извините, товарищ генерал! — встал во фронт одоролог. Затрапезный джинсовый костюм, бейсболка… — Разрешите заняться отбором проб запахов?
— О, да Сурков кое–что из Устава еще помнит! — Фоминцев, как бы удивляясь открытию, поднял брови. — Не совсем безнадежен.
— Не патология, — кисло согласился Карнач, терпевший Суркова по той единственной причине, что в управлениях МВД соседних областей одорологов не было ни одного, а у него — хоть и хам, — но был. И, повернувшись к Суркову, рявкнул: — Заняться отбором проб запахов — разрешаю!
Сурков выставил из спортивной сумки целую батарею обычных полулитровых банок с металлическими крышками и с фланелевыми — на дне — полосками, набросил белый медицинский халат и натянул резиновые перчатки.
Пробы отбирались с предметов и участков с предположительным присутствием запаховых следов преступника. Например, с ручек дверей, с перил лестницы, с того самого ларя. Ну и с меча, естественно. Мало ли что отпечатков пальцев не осталось, может, преступник, не зная о существовании на свете одоролога Суркова, протирал меч своим грязным носовым платком. Может, из суеверия плевался кругом.
Сурков увлажнял воздух над выбранным предметом из пульверизатора, затем обертывал его фланелью, покрывал несколькими слоями пищевой фольги и плотно пеленал скочем — для обеспечения тесного контакта. Минут через десять повторял операции в обратном порядке: то есть разматывал скоч, снимал фольгу, брал пинцетом фланелевые полоски и укладывал назад в банки. Тут же консервировал и подписывал бирочки, на коих указывал предметы, с которых взяты пробы. Вот как отбор запаховых следов для одорологической экспертизы делается–то, не каждый мент в курсах. Все же не зря, наверно, Карнач Суркова терпел.
— Ну и когда результаты? — спросил Капинос.
— Когда убийцу поймаете — тогда и результаты, — ухмыльнулся Сурков, снимая халат и стягивая перчатки. — Дадим собаке фланель понюхать — подведем к подозреваемому. Если опознает владельца запаха — можете смело отправлять в СИЗО.
— Это и все, чем ты можешь помочь следствию?
— Скорее всего — все, — продолжал ухмыляться Сурков. — А ты хотел, чтобы я фамилию убийцы назвал, да?.. Картотек, в которых бы хранились индивидуальные людские запахи, еще не завели. Даже в проектах таких не существует. У нас вообще нет пока никаких банков данных. Одорология в криминалистике — на фазе становления… Однако кое–какие наводки, может, и дам. В случае если биологический запах преступника содержит какие–либо технические примеси. А вдруг тот работает на каком–нибудь специфическом, с нашей точки зрения, производстве. Скажем, на кожевенном заводе, газонасосной станции… Или незадолго до убийства соприкасался с лаками, растворителями, красками…
Сурков собрал свои банки и был таков. Лето, воскресенье, кому охота? И генерал, кстати, укатил. Сказал, будто к вдове, выразить соболезнования. Но долго ведь не задержится, вернется на дачу — огурцы поливать. Фанат дачный потому что. А вот криминалисты и опера проработали в тереме до вечера. Все облазили, зафиксировали, дождались возврата кинологов.
Со следа предполагаемого преступника собаки сбились за первым поворотом дороги, где тот пересел в машину. Следов же охранника кругом было столько, что и собаки, и кинологи попросту запутались: какие куда ведут, где самые свежие. Ходил, бродил охранник целыми днями по терему, ошивался вокруг да около. Парился в хозяйской бане, купался в речке, читал книжки в дешевых переплетах, занимался в тренажерном зале. Единственным результатом работы кинологов стал вывод, что ни в тереме, ни в радиусе трех километров вокруг охранника нет. Ни живого, ни мертвого.
Остаток вечера Фоминцев, Тарасюк и Капинос провели в номере у Прищепкина. По инициативе Гунара Петровича поминали Миронова. План же на завтрашний день составили с ходу, еще в машине. Фоминцев предварительно взял на себя расследование «производственной» версии, то есть что убийство Миронова было связано с его деловой деятельностью, Прищепкин — бытовую и личную, Тарасюк и Капинос должны были разбираться с мироновской охраной комплексно и с исчезнувшим охранником в частности: кто таков, чем жил, дышал, на что способен?
* * *
— Знаю я, ребята, какое вы клеймо сейчас Миронову покойному поставили. Пусть даже Петр Олегович и извращенец, но мое личное к нему отношение все равно остается неизменным. Чтобы и вы смогли оценить Миронова по достоинству, расскажу–ка я вам один случай из его жизни, — заговорил Фоминцев. — Вспомнить этот случай и за поминальной стопкой сейчас уместно, и для вас полезным окажется: лучше представлять покойного живым будете, душу мироновскую почувствуете.
Давно это было, я еще в школе милиции учился, а Миронов детскую секцию по самбо вел. Окажись он, кстати, с вооруженным мечом преступником лицом к лицу, мы бы сейчас, наверно, уху за этим столом хлебали. Любил Миронов с пацанвой возиться, на спорт переключать. Тем самым он путевку в нормальную, человеческую жизнь многим из своих воспитанников обеспечил. Вы же помните атмосферу подворотен российских городов конца семидесятых? Это были инкубаторы преступности и парнасы блатной романтики. Если в других странах на путь преступлений становились, мечтая о красивой жизни, то у нас, в советские времена, исключительно по дури, подчиняясь законам мира «настоящих мужчин», — в тогдашнем толковании. В том мире правили грубая сила, гордыня закомплексованного в самой крайней степени эго, тяга к насилию и подспудному самоуничтожению, ложные авторитеты и неандертальский идиотизм. Дворовые песенки тех времен еще не забыли: «сижу на нарах как король на именинах». Или, надрывную: «а там над сырою могилою рыдает отец прокурор». Винцо, гитары, клеши под синие «мастерки», финки в карманах… В общем, атмосферка еще та, миазмы блатного мира. Наши курсанты даже форму–то вне школы надевать побаивались: запросто по темнухе перо в бок можно было получить… Помнится, милиционер один на мотоцикле разбился. То–то радости у «правильных пацанов» по всему городу было, со стороны можно было подумать, будто у Советов Белка и Стрелка на Луну высадились. Короче, насасывалась киселевградская пацанва из этой атмосферы дури, а как реализовывала? Одним из способов была война: улица на улицу, район на район. Воробьевские, помнится, вечно воевали с карпинскими, ребята с заводского района с центровыми. Сшибаясь на парковой танцплощадке, забивали стрелки и устраивали за городом такие побоища, что дело порой не ограничивалось сломанными носами да ребрами. До трупов доходило. А каждый труп тянул за собой шлейф из нескольких сломанных жизней пацанов, отправленных «на малолетку». Ведь зоны для несовершеннолетних никого не исправляют, зато там мальчишки превращаются в зомбированных преступников. Общеизвестная истина. На этом прелюдию заканчиваю, перехожу к конкретике.
Среди трудных подростков мироновской секции были два брата Васнецовых. Ребята из неблагополучной семьи. Родители пили, не просыхая, братьев воспитывала улица. Характер же у них бойкий был, шебутной. Курить, само собой, лет в семь начали, выпивать в десять. А уж подраться любили — хлебом не корми. В общем, активно братья в те войны включились. Окна, конечно, попутно били, подворовывали с голодухи, шкодили, короче, в меру сил. Жили Васнецовы по соседству с Мироновыми. Так что Петр шпанят этих сразу про себя отметил. И как только настал у них черед приводов в милицию — установил шефство. Бегать по вечерам для начала заставил — пришлось братикам с куревом расставаться, гантели подарил — завязали пить. В первое время за жратву Миронову подчинялись — вечно ж голодные, а потом самим в охотку стало. В побоищах, однако, в хулиганке еще чаще светиться начали — сил–то, резвости прибавилось. И тогда Миронов втемяшил Васнецовым, что этак выпячиваются они из–за подспудного чувства собственной неполноценности. Ведь люди, осознающие свою силу и достоинство, в постоянных доказательствах этих качеств попросту не нуждаются. В общем, стали Васнецовы ходить на занятия в мироновскую секцию. И ведь талантливыми оказались самбистами! А когда втянулись в спорт надежно, то и от жизни прежней, апломбов дурацких своих отказались! Даже в школе учеба у них наладилась, перестали училкам в стулья гвозди вбивать. А Миронов все вкладывал в них душу и вкладывал, чемпионов из бывших хулиганов сделать решил. И обучил на свою голову приемам из боевого самбо, которые раньше только в ВДВ, спецподразделениях да в милиции знать разрешалось. Уверен потому что в братьях был. Однако жизнь их прежняя не могла так просто в прошлое кануть. Уж больно много братики в ней завязок да крючков оставили. И вот как крючки те Васнецовых цепанули.
Случился однажды у карпинской «правильной пацанвы» праздник большой — кто–то там из малолетки откинулся. Было карпинскими выпито по этому случаю много–много чернил и решено, спьяну уже, совершить рейд в заводской район, дабы поучить тамошних, подвернувшихся под руку пацанов уму–разуму. Средь бела дня, прямо на городских улицах, по фигу веники. Ну и повалили толпой, не разбирая дороги, рогоча и опрокидывая урны. Мочили всех подряд: парней, мужиков, дедов. Когда разгромили газетный киоск в центре заводского района, подоспела милиция, карпинские драпанули в разные стороны. Кого–то скрутили, но большая часть рассосалась в панельных ущельях, где их начала уже вылавливать пацанва заводская. Васнецовы в облаве не участвовали, об учиненном карпинскими погроме не знали. Потому как на тренировке были. И столкнулись с тремя карпинскими громилами лицом к лицу на подходе к своему дому. Карпинские знали брательников по прежним сшибкам, и когда те попытались обойти их стороной, в миролюбивость намерений не поверили и напали первыми. У одного в руке оказалась «розочка», то есть горлышко разбитой бутылки, у других было по арматурине. Карпинские ощущали себя загоняемыми в ловушку волками и были готовы прорываться по трупам.
Завязалась драка, характерная полным игнорированием каких–либо правил и джентльменских условностей. Старший Васнецов сумел перехватить в запястье выкинутую по направлению к лицу руку с «розочкой», вывернул и хряпнул локтем о свое колено. Нападавший взвыл от боли, выпавшая из сломанной в локтевом суставе руки «розочка» звякнула об асфальт. А вот младший Васнецов оборонялся менее успешно, хлеставшая из рассеченной брови кровь заливала лицо. Неизвестно, чем бы потасовка закончилась, если б не включился выскочивший из подъезда с благим намерением разнять дерущихся Миронов. Получив на лету арматуриной по боку, он, однако, забыл о намерении и принял сторону братьев. Теперь–то уж исход драки можно было прогнозировать наверняка. Не в пользу карпинских. Фиг бы, конечно, с ними, но младший Васнецов перестарался. В пылу ли, в злобе ли, в азарте кончиками пальцев резко ткнул карпинскому парню прямехонько в «точку смерти» в области яремной артерии. Которую им Миронов однажды показывал, навсегда бить в то место запрещая. В общем, двое карпинских было отключено, один из которых навсегда, третий задал деру, подкатила милиция…
Следствие, эксперименты… И братья, и Миронов брали труп каждый на себя. Младший — по совести и по существу, старший, младшего выгораживая, Миронов — оберегая будущего чемпиона от малолетки, а также в полной уверенности, что именно он–то в случившемся в первую очередь и виноват: его наука, зачем «точку» показывал. Поверили Миронову. Как старшему, как самбисту–мастеру …
— Человек! — единогласно заключили Капинос с Тарасюком и одновременно, с разных сторон, потянулись к бутылке, чтобы разлить по второй поминальной стопке.
— Таких поискать, — согласился Прищепкин, подливая себе минералки. — А что с Мироновым дальше было, сколько прописали?
— Учли «розочку», прутья арматуры, сам факт учиненного карпинскими погрома и много Миронову не дали. Но независимый, сильный, нетерпимый к несправедливости характер сделал Миронова на зоне убийцей уже настоящим. Защищая чувство собственного достоинства, ему пришлось убить какого–то баклана. Однако сходняк не приговорил его к смерти, признал правоту. Срок ему, тем не менее, добавили, и в Киселевград Петр Миронов вернулся только через шестнадцать лет — уголовным авторитетом. Вскоре бабахнула перестройка. На телезрителей понеслась, гремя копытами, конная тройка в клубах серного дыма. Петр Олегович Миронов стал владельцем водочного завода… Ну что, сразу по третьей? Дел же завтра невпроворот.
— Не вопрос.
* * *
Переваривая события прошедшего дня и негодуя на водочный в комнате дух, Прищепкин долго не мог уснуть. Мешали и любовно–коммерческие охи–вздохи, проникавшие сквозь тонкую стенку из соседнего номера. Все правильно, такова жизнь, кому–то сегодня поминки, а кому–то через неделю на прием к венерологу. Пришлось принять снотворное и наутро отправиться к вдове Миронова с ватной башкой.
Это дача у Миронова была в стиле а-ля рюс, а вот квартира в стиле а-ля нови рюс, квадратов на четыреста, двух или даже трехуровневой, в самом крутом городском элитном доме. Вдову с приступом стенокардии ночью отправили в больницу, так что вести беседу Прищепкину пришлось с братом жены покойного, Александром Генриховичем. Впрочем, это было и к лучшему, ну какая с вдовы могла быть сегодня собеседница. Его мысли подтвердил и Александр Генрихович. В несколько напыщенной — что, впрочем, объяснялось обстоятельством — форме.
— Брак между Петром и Ольгой можно было считать идеальным. Лично я не встречал в жизни ни одного подобного. Ведь в любом браке обязательно есть хоть какая–нибудь червоточинка. Если оная отсутствует, то это уже не жизнь, а искусство, религия, некий недосягаемый идеал. К которому нужно стремиться, но помнить об его условности и призрачности. Как они друг к другу относились, как страстно и глубоко любили!.. И вот — земная связь оборвалась. Учитывая, что детей у них не было… Ольга невменяема.
Впечатление Александр Генрихович произвел на Прищепкина самое благоприятное. Высокий, широкоплечий, с бритой до блеска крупной головой, с великолепными черными густыми усами и крупными, резкими чертами лица… Он был похож на прошедшего огонь, воду и медные трубы офицера. То есть человека мужественного и мудрого, на которого всегда можно положиться, к чьим советам и мнению следует прислушаться. И говорил неспешно, тщательно подбирая слова, и собеседника слушал внимательно, взвешивая. И обаял, очаровывал всех кругом исходящей от него породностью.
Черный, излишне франтовской костюм, дорогая обувь и желание скрыть — обезличиванием всей головы — возрастную лысину выдавали в нем, однако, человека светского. Для офицера был он все же слишком хорош; как и чересчур мужественным для своей профессии кажутся актеры, которых постоянно приглашают на роли каких–нибудь альпинистов, пограничников или подводников. Все же проще офицеры–то настоящие, как бы земнее.
— Смерть Петра оказалась для всех нас абсолютно неожиданной. И знаете, ударила по нам, словно обухом по голове, — продолжал Александр Генрихович великолепным бархатным басом с золотистыми обольстительными переливами. — Я почти уверен, что убийство — результат какой–то разборки среди водочников или ссоры Петра с ближайшими компаньонами по бизнесу. Ну какие могут быть еще причины?.. Почему был в женском халате, спрашиваете?.. О Господи, как вы мне все… Слабо вам, верно, в разборку между водочниками лезть. Да не женский это халат, а мужское кимоно японское. И меч вовсе не «дефективный», как вы все почему–то решили, а самурайский. Такой и должен быть. И меч, и кимоно я привез Петру в подарок ко дню рождения из Москвы… Насколько я знаю, у Петра никогда не было ни любовника, ни любовницы, он не играл в карты… Для него всегда существовали только жена и работа, работа, работа. По воскресеньям, правда, позволял себе расслабиться: занимался спортом, парился в сауне.
— Неужели ничем не увлекался, у него не было хобби? Ведь многое мог позволить?
— Материально — да, разумеется. Но ведь любое увлечение требует также затрат времени и внимания. Времени же ему вечно недоставало, тратить внимание на пустяки было элементарно жалко.
— Зачем же ему понадобилось столько дач? Разве для тех редких дней отдыха, которые Петр Олегович себе позволял, мало было одной?
— Дач у Петра было три — городская молва почему–то склонна их количество по меньшей мере удваивать. Одна дача предназначалась для отдыха Петра и Ольги, вторая — для выросшего в их семье племянника Славы, третья — на которой произошло убийство — для деловых встреч, размещения иногородних партнеров. Ну, и тому подобное. Петр не любил смешивать деловую жизнь с семейной, стремился создать комфортные условия жизни для племянника. Ведь одно время Слава подумывал о том, чтобы остаться в Америке, а Петру эта затея не понравилась, вот и построил племяннику дачу. Чтобы Славу домой тянуло, привязка какая–то появилась.
— Что Слава делает в Америке?.. Кто его родители?
— Слава — сын Петиной сестры Тани. Родила без мужа, рано умерла… Петр и Ольга забрали мальчишку, вырастили. Отправили в Штаты — на учебу в Высшую школу бизнеса. Слава познакомился там с девушкой, влюбился и сделал предложение. Однако Джулия не горит желанием переезжать в Россию.
— Слава будет на похоронах?
— Конечно, я вчера ему сразу позвонил в Штаты на мобильный. Слава помчался в аэропорт. Уже, наверно, приземлился в Шереметьево. Ждем к вечеру.
— Вы часто виделись с Петром Олеговичем, общались с сестрой, со Славой?
— Хотелось чаще, чем получалось, — вздохнул Александр Генрихович. — Я ведь в Москве живу, в Киселевграде бывал только наездами.
«Следовательно, — подумал Прищепкин, — его показания большой ценности не имеют. Вряд ли он знает всю подноготную отношений между покойным и своей сестрой. Вряд ли также, чтобы был накоротке с Петром Олеговичем — слишком близким родственником жены являлся. Ну ведь не любят богатеи родственников своих женщин, факт. Матерей еще как–то терпят, куда деваться, но уж сестер, братьев — извините. Самые ценные показания в таких случаях обычно дают домработницы, сторожа, гувернантки и водилы… Короче, обслуга».
— Александр Генрихович, могу ли я поговорить с кем–нибудь из обслуживающего персонала?
— Только не сегодня, — вежливо, но одним махом отрезал тот. — Все предельно заняты подготовкой к похоронам. Сами должны понимать.
— Понимаю, — вздохнул Прищепкин, — но следствие все равно должно идти своим чередом. Если преступление не раскрывается по горячим следам, то грозит зависнуть.
— Вот и раскрывайте. Только чем может быть интересна бытовая жизнь владельца водочного завода? Что она по сравнению с его криминогенным делом, а?.. Манная кашка рядом с шашлыком.
— Понимаете, Александр Генрихович, на первоначальном этапе мы обязаны рассматривать абсолютно все версии, какие только можно придумать. А уж потом концентрируемся на каких–то определенных. Кроме того, мы должны представлять, если можно так выразиться, фон события. А для этого нужно изучить характер жертвы, составить представление об окружавших его людях.
— Конечно, конечно, понимаю, — вновь вернул себе невозмутимость великолепный Александр Генрихович. — Извините.
— И я вас прекрасно понимаю, — не остался в долгу Прищепкин. — Такое горе… Наверно, бессонная ночь… Скажите, я могу осмотреть комнату покойного, его бумаги, переписку, документы?.. Наконец, полистать семейные альбомы, личные книги?
— Рад бы помочь следствию, но без разрешения Ольги… — развел руками Александр Генрихович.
— Понятно, — вздохнул Прищепкин. — Я уже и спрашивад–то по инерции. Потому что должен был спросить. — Выразил соболезнование, с которого следовало начинать, — ну медведь, увалень, что попишешь, — и попрощался.
Когда Прищепкин подходил к гостинице, его нагнала женщина. В трауре. Миловидная, хотя и с припухшим от слез лицом.
— Мне нужно с вами встретиться. Как–нибудь без свидетелей, без записей, протокола… После похорон, раньше не получится.
— Вы домработница Мироновых?
Женщина кивнула.
— А сейчас и минуточки нет свободной? Мы же с вами и так вроде встретились.
— Понимаете, нас не должны видеть вместе. — Домработница опасливо оглянулась по сторонам. — Я вырвалась буквально на минуту, а разговор предстоит обстоятельный. — Бросила взгляд на часы. — Все, вынуждена вас оставить, позвоните мне на мобильный. — Она сунула Прищепкину вырванный из блокнота листик с номером, кивнула на прощанье и поспешила на троллейбусную остановку — от гостиницы до дома Мироновых рукой подать, но как раз подкатил тридцать четвертый.
Пообедав в гостиничном буфете несвежим винегретом и клейстерной безвкусной пиццей — хоть бы чему хорошему у итальянцев научились — Прищепкин связался с Фоминцевым и попросил прислать машину. Решил смотаться в Зубовку. В этой деревне проживала женщина, приходившая убирать дачу, на которой убили Петра Олеговича. Прищепкин подумал, что ее–то вряд ли привлекли к работе по организации похорон. Хотя до вечера было еще далеко, но ведь как бы не у дел оказался, почему бы не встретиться, поговорить с нужным следствию человеком?
Фоминцев славился умением организовывать работу следственной группы таким образом, что той не приходилось тратить время и нервы на дополнительные организационные усилия. И уже через десять минут Прищепкин с наслаждением вдыхал неповторимую смесь запахов старого милицейского «уазика»: бензин, брезент, никотин, псина… Лучшие в мире духи…
Если сказать, что за прошедшие семь лет Зубовка расцвела и похорошела, это было бы политикой, некой предвыборной агиткой. Жилых, заселенных домов в Зубовке оставалось всего несколько. Да и те не особенно впечатляли. Родионова, впрочем, проживала в самом из них приличном.
Оказалась она бодрой от природы, но угнетенной смертным обстоятельством словоохотливой особой лет шестидесяти пяти. Которую никак нельзя было назвать бабкой, но и на молодицу уже явно не тянувшей.
Впрочем, хозяюшкой стоило Родионову называть, если уж это вопрос принципа! Как бы не привязывая к возрасту, но зато указывая на основную черту личности и характера. Ведь затрат чувствовалось на ее участке, да и в доме, на копеечку, зато труда, любви к той копеечке приложено было столько, что с таким же успехом Родионова могла бы облагородить, оживить и кусочек мертвой тундры иль пустыни. Который без нефти и газа под желтеньким песочком и олигарха на поверхности с мешком для баксов и трубочкой.
Прохладная белизна свежеокрашенных оконных рам и резных ставней, покой и радость запущенной на стены лозы дикого винограда, теплые фонарики цветника у крыльца, ухоженный, без единой лишней травинки, огород, побеленные стволы яблонь, груш. Более всего впечатлила Прищепкина мобильная морковная грядка, на которой каждая морковина произрастала в индивидуальной пластиковой — с обрезанным верхом — бутыли. Впрочем, в эту копеечно–духовную смету явно не вписывался сарай, крытый дорогой финской черепицей.
— Не жалко было — черепицей–то, — подивился Прищепкин запечатленному в оазисе рачительности и бережливости жесту явного расточительства, — если дом под шифером?
— Петр Олегович отдал, после какой–то стройки оставалась. Пять квадратов: для него ни то ни се.
— Расскажите о Миронове. Припомните, пожалуйста, какие–нибудь из жизни его случаи, — проникновенно попросил Прищепкин. — Мне интересно абсолютно все. Хочу узнать о нем как можно больше. Столько, чтобы почувствовать, будто знаю лично… Нам ведь нужно во что бы то ни стало найти убийцу этого замечательного человека.
Едва Родионова задумалась, что бы такое поведать следователю, как тут же прослезилась: нету больше голубка Миронова.
— Редкостных душевных качеств человек был, — начала она, смахнув слезы тыльной стороной заскорузлой ладони. — Обо всех покойных принято так говорить; в том числе и о тех, по ком, дожидаючись, черти в аду извелись. Но я бы о Петре Олеговиче такое и при жизни сказала. Заслужил потому что. Как никто другой заслужил!!!!. Все окружавшие Петра Олеговича люди его просто боготворили. От него словно исходил какой–то магнетизм. Стоило только Петру Олеговичу войти в комнату, как все начинали улыбаться и розоветь, оживая, щечками, хотя до этого чувствовали себя смертельно усталыми да несчастными. Здоровья, мол, уже нету совсем, муж (жена) сволочь, дети катятся по наклонной. Жизнь, короче, не удалась. Петр Олегович находил для каждого нужное тому слово, шутку. Но при этом вовсе не опускался на плоскости людей, находившихся ниже на социальной лестнице, как бывает в случаях, когда начальник для каких–то своих надобностей заигрывает с подчиненными, а оставался собой, то есть человеком, которому реально принадлежала власть в городе, миллионером. Тем самым он как бы подтягивал людей на свой уровень. Великодушным образом: нате, мол, и с моей колокольни полюбуйтесь, в принципе, ничего ведь особого. Тут же в Миронова за один только этот жест и влюблялись. У нас ведь как в основном: я начальник — ты дурак; ты начальник — я дурак. Лично меня Петр Олегович за сердце зацепил, когда Дениску от инвалидности спас. Сынок–то мой в страшенную автокатастрофу попал.
Вы, наверно, и представить себе не сможете, во что превратился Дениска, когда на двухстах километрах скорости врезался в опору мостовую, — он тогда у Мироновых водителем работал, в аэропорт спешил Петра Олеговича встречать. Врачи «скорой», когда приехали, даже пульс не искали. В морг сразу повезли. Однако врач один из бригады, самый молодой и любопытный, верно, к голове Денискиной прибор какой–то подсоединил. И заметил на экране слабые импульсы. Ну и что, если разобраться, вопрос–то вроде решенный. Однако сдавать тело в морг, коль формальные признаки жизни обнаружились, врачи уже не имели права. Матюкнули ретивого коллегу молодого, развернулись и — в травматологию.
Оживив каким–то чудом сердце электрошоком, шестнадцать часов собирали, сшивали хирурги тело Денискино. Заведомо зная, что в лучшем случае обречен мой сын на растительное существование. Овощами называют таких в домах инвалидов. В череп–то глубоко лезть им нельзя было, потому что не имелось у хирургов для этого достаточной квалификации, а также по причине того, что в областной больнице отсутствовали необходимые инструменты и оборудование. Но все равно я молила Бога, чтобы тот оставил Дениске жизнь. Любую, хотя бы растительную. Единственным ведь он у меня ребенком был, вообще на свете единственным — муж к другой еще по молодости сбег. Умри тогда Дениска — не выдержала б, наложила руки.
Петр Олегович повел себя так, будто это не водитель его в аварию попал, а сын родной. Даже в больнице возле Дениски как–то ночь просидел… Около месяца пролежал Дениска в реанимации, и только тогда ясно стало всем — выживет, определенно выкарабкался он! Только действительно, никогда не сможет самостоятельно даже нужду справить. Ну и ладно, сказала себе. Главное, не покинул меня сын, остался. Однако Петр Олегович с вердиктом врачей не смирился. И созвонился с лучшим в Европе нейрохирургическим центром в Майнце. Он оплатил Дениске и операцию, и три месяца лечения в реабилитационном центре, и последующие Денискины поездки в Германию на консультации. Благодаря Петру Олеговичу Дениске в конце концов даже инвалидность сняли. В городе теперь живет. Нормальная семья, двое детей…
— Знаете… я почему–то и ожидал услышать нечто подобное, — неосторожно вырвалось у Прищепкина.
— Ну да, понятно, — обиделась за шефа Родионова. — Вам, как журналисту, — только жареное подай… Мотивы убийства пытаетесь нащупать?.. Так вам тогда не ко мне нужно было ехать, а на завод.
— Извините, не хотел вас обидеть. Продолжайте. Только, пожалуй, перейдем к бытовой конкретике. Мне интересно все. Чем Петр Олегович питался, с кем водился, какие читал книги, наконец, не злоупотреблял ли дегустациями продукции родного завода?
Родионова задумалась. И неожиданно — надолго.
— А знаете, я только сейчас поняла, каким закрытым человеком был Петр Олегович. Ведь мне больше и рассказать о нем нечего. Хотя, конечно, это объяснимо тем, что непосредственно соприкасалась с ним довольно редко. Готовил Петру Олеговичу на даче сторож–охранник, кто туда к нему приезжал — не знаю, пьяным его никогда не видела… Тем не менее, будь он человеком менее скрытным, знала бы гораздо больше. Ведь о людях такого масштаба постоянно курсируют какие–то слухи. Да и сами эти люди любят быть на виду. И журналистов порой на содержание берут, и на телеэкран, верно, лезут.
— Лезут, — вздохнул Прищепкин. — Словно мухи на мед — прямо толпой прут. Однако правды о них из телепрограмм все равно не узнать. Над сказочками, которыми кормят обывателей, целые команды имиджмейкеров работают.
— Ну и пусть себе работают, настоящая рожа все равно вылезет. Ведь в конце концов появляется у всех ощущение, будто знают человека, о котором каждый день втирали им со всех сторон, как облупленного. А вот у меня сейчас в отношении Миронова ощущение–то совершенно обратное… Тем не менее это действительно человек высочайших душевных качеств.
— Кто ж сомневается, — опять вздохнул Прищепкин.
* * *
Из доклада Бухвоста и Комиссара Жюса.
Петра Олеговича с женой и Славой охраняло целое охранное агентство, которое давно потеряло самостоятельность и полностью перешло на службу к Миронову. Один охранник постоянно сопровождал Ольгу Генриховну, два — Петра Олеговича, еще по одному, совмещая охранные функции со сторожевыми, безвылазно торчали на дачах. Бывший директор агентства стал начальником охраны и также без дела не остался. Он то присоединялся к охраннику Ольги Генриховны, то к охранникам Петра Олеговича, то выполнял какие–то его поручения, словом, был каждой бочке затычкой. Ну, и отвечал за действия охраны в целом.
Таким образом, охранников на даче в то роковое утро было даже трое… Три человека, выходит, и исчезли. Вот как бывает: собаки в поисках того, дачного, все лапы до брюх истоптали, а про еще два исчезновения ни у кого и мысли не промелькнуло. Но ведь именно так все расследования, методом тыка и с бесконечными обломами, на самом деле и ведутся. Гладенькими они только в генеральских докладах выглядят. Любой сыскарь мог бы рассказать на эту тему столько, что слушатели дружно бы воскликнули: зачем нам такая милиция?! Чего только, например, стоит широко известная в сыскарских кругах история, в которой начальник следственной бригады при осмотре места убийства оставил свои отпечатки пальцев на орудии этого самого убийства, рукоятке ножа. Отпечатки внесли в дело и несколько месяцев сравнивали с отпечатками пальцев подозреваемых, среди которых был и настоящий убийца… Тем не менее нужна милиция, ну как же мы без пушистеньких. Только не стоит ее идеализировать, граждане хорошие. Давайте принимать милицию такой, какая она есть. Ведь ловит же иногда жулье и преступников? Да нормально, если разобраться, ловит. Процент раскрываемости такой же низкий, между прочим, как и в Штатах, признанном мировом оплоте законности и порядка.
Дачного сторожа–охранника звали Сергеем, фамилию он носил Тищенко. По свидетельству начальника охраны Андрея Андреевича Воропаева, был тот парнем тихим, надежным и напрочь лишенным какой–либо авантюрности. Потому что заикался сильно, а заикам и заслуженное достается с трудом — контакты–то у них с другими людьми напряженными, неустойчивыми получаются. Им хотя бы высказаться толком, где уж тут, чтобы словами делу способствовать, краснобайствовать, оттенками смысловыми жонглировать. Тем паче не свойственно заикам стремление кем–то манипулировать, кому–то втирать. Получается, честнейшие люди. И умнейшие, потому что по причине сокращения контактов с людьми в себя вынуждены уходить, читают много. Как правило еще, люди они с неудавшейся личной жизнью. Ведь любовь их и вовсе немыми делает, поэтому завязывают заики свои жизни не с любимыми, а с теми, кого удается своими костяными языками закадрить.
Сергей в детстве заикой стал — испугался чего–то там. В армию не взяли, работал на стройке каменщиком. Стихи по ночам писал, мечтал поступить на Высшие курсы сценаристов. В охранники попал только благодаря тому, что приходился Воропаеву каким–то дальним родственником. Никто б другой заику не взял, у охранника все должно быть тип–топ, верно? Но Воропаеву жалеть о решении пригреть родственника не пришлось. Сергей взялся сопровождать грузы в Киселевград из Москвы (в основном это была дорогая бытовая электроника) и ни разу не подвел воропаевских работодателей. Если вступать в противоборство с рэкетирами было бессмысленно, откупался по мизеру; если смысл имелся — боролся за видики–шмидики ако лев.
Когда Воропаев со всей командой подался к Миронову, Сергей сам напросился сторожить «объект». Личной жизни все равно не было — чего за город цепляться? Зато перед Сергеем забрезжила возможность регулярного занятия литературой, перехода от стихов к прозе. Так как Сергей любил и умел хорошо готовить, то за одобрением его кандидатуры дело не стало.
Личными охранниками Петра Олеговича считались Дмитрий Марецкий и Александр Егоров. Будучи мастерами спорта по академической гребле, в агентство Воропаева подались из милиции, но ни Тарасюк, ни Капинос таковых не знали, потому что служили бывшие спортсмены на участках Киселевградского района, да и совсем недолго. Это дало возможность навести справки о гребцах сразу в двух источниках, не считая воропаевского: родного ведомственного и спортивного.
Марецкий и Егоров в «двойке» выступали, рассказывал о них тренер Гамзат Сулейменович Тагиров, неоднократный чемпион мира и давнишней Мюнхенской олимпиады в гонках на каноэ. С юности были они друзьями, что называется, не разлей вода. В один год родились, в один — в секцию пришли, женились, по ребенку произвели, одновременно к кризису роста спортивного мастерства подгребли. А кому спортсмены без перспективы нужны, кто их содержать будет? И превратились Марецкий и Егоров в милиционеров. Только вряд ли из них какие–то особенные аниськины получились, потому что и в спорте были средненькими. Силой природной брали, а не упорством и характером. Себя жалели, чуть какая царапина — по фигу зачеты, соревнования. Зато если распределение — Марецкий и Егоров в очереди первыми. Вечно плакались — и в жилье, мол, нуждаются, и денег не хватает. Оно и верно, горисполком квартирами нас не баловал. Ну а чего, если разобраться, баловать? Спасибо хоть подбрасывали деньги для организации зимних месячных сборов в Сочи.
Не любили Марецкого и Егорова в сборной. Ни с кем не сходились близко, членами единой команды никто их всерьез не воспринимал и не чувствовал, в том числе, наверно, и они сами.
В общем, не испытывал к ним теплых чувств Тагиров. Это, конечно, не показатель, тренерам ведь перспективные, беспроблемные нужны. А Марецкий и Егоров… Еще и девчонку на сочинских сборах изнасиловали. Чуть замяли это дело.
Могли ли Марецкий с Егоровым стать соучастниками, а то и организаторами убийства шефа? Да запросто, лентяям ведь свойственно желание решать свои проблемы за счет других и как бы прорывами. Гамзат Сулейменович в качестве залога моральной чистоты и гражданской зрелости академической гребпары полушки б не оставил.
Нелестную характеристику дали Марецкому с Егоровым и менты, коллеги их бывшие.
Похоже, что ребята в милицию двинули служить с расчетом на перспективу некой халявы, рассказывал Капиносу бывший непосредственный начальник гребпары капитан Самсонов. Что дурака можно будет конкретно повалять, жилье тут сразу отвалят. Ну и… сидишь с ними и прям чувствуешь немой вопрос: капитан, где у вас взятки дают? Ублюдки журналисты сделали нас в глазах всего народа крохоборами. Я бы этих продажных писак… В общем, выперли их из рядов ровно через два месяца после принятия. Не мудрствуя лукаво, как–то прокатились Марецкий с Егоровым по деревням и всем тамошним бабкам–самогонщицам заявили, будто оброк устанавливают. Естественно, вечером о рейде был я уже в курсе. Шума устраивать не стал. Можно ведь было такое шоу устроить. Выдать бабкам меченые купюры, снять на видео. И впаяли б этим гребаным гребцам… Просто предложил сдать оружие и служебные удостоверения.
Эти показания настроили Капиноса и Тарасюка на самый лирический лад: да вот же они — убийцы–то! — академическая пара. Спешный их вывод подкрепило также и то обстоятельство, что Марецкий с Егоровым до сих пор так и не решили свои проблемы с жильем. Следовательно, вполне могли пуститься во все тяжкие.
Андрей Андреевич Воропаев, однако, уверенность их основательно поколебал. Да, согласился, в юности Марецкий с Егоровым не были образцами для подражания. А вы, посмотрел он в глаза Капиносу и Тарасюку, были? Капитаны смутились: какие уж там образцы. Еще и сейчас в характерах своих имеют они некоторые недостатки. Малюсенькие совсем. Борются, конечно, но…
В юности все ленивы, продолжал Андрей Андреевич, каждый не прочь и рыбку, как говорится, съесть, и пивком запить. Да, проходили ребята по делу об изнасиловании. Глупые потому что были, девки им и так на шеи вешались. Слишком легко парням все давалось — в отличие, скажем, от племянника моего. Потому и обурели настолько, что до большого спорта, до которого было только руки протянуть, не добрались. Но это же еще не повод… Квартиры ребятам обязался Миронов построить. Какой тем был резон против шефа что–то замышлять, в сговоре каком–то участвовать? Да они бы, прикрывая Миронова, не задумываясь, под пули встали… Нечто подобное, кстати, случилось и в жизни.
Миронов тогда начинал только, и против него организовали покушение. Кем организовано, так и не дознались. Мину с часовым механизмом Марецкий с Егоровым в его доме обнаружили и на пустырь собственноручно вынесли. Как потом выяснилось, за несколько минут до взрыва. Адская машина к раме оконной была прикреплена, тикала. Сколько уже оттикала, сколько тикать осталось — не разобрать. Ребята быстренько сняли раму с петель и — бегом из квартиры. Миронов не случайно личными охранниками Марецкого с Егоровым утвердил. Знал их еще с тех пор, когда спортивную секцию вел. Они ведь поначалу к нему пришли, а потом ребят Тагиров переманил. Чем под них копать, вы бы лучше к их женам сходили. Места ведь не находят.
Капинос с Тарасюком усовестились немного, но не настолько, чтобы полностью подозрения с гребцов снять. А также для того, чтобы отказаться от намерения снять показания с самого Воропаева.
Однако у Андрея Андреевича было надежное алиби. Которое тот, кое–куда мысленно послав Тарасюка с Капиносом, тут же предъявил. В пятницу на ночь он в Тамбов поездом выехал. К теще на юбилей. Только в воскресенье к обеду и вернулся. Вместе с ним были жена и два взрослых сына. Билеты даже сохранились. Между прочим, на плацкартные места — большого достатка в их семье никогда не было.
* * *
У Фоминцева, взявшего на себя «производственную» версию, задача была самая трудоемкая. Как тут во всех этих водочно–денежных отношениях разобраться, с чего начинать и куда лыжи вострить? Для начала решил разобраться с учредителями. Ведь это арифметика: когда количество учредителей уменьшается, доходы остальных увеличиваются. Может, кто из них жадный безмерно?
Таковых, однако, учредителей в смысле, вообще не обнаружилось. Миронов никого в долю не взял, администраторы служили ему за должностные оклады и квартальные премии. Спрашивается, как же он такую махину в одиночку поднял и раскрутил? Да черт знает, как поднял. В девяностых и не такие фокусы получались. Что же касается конкретно раскрутки новорожденной торговой водочной марки «Князь», то первая помощница в ней — наша национальная привычка к питию в качестве культурного досуга, второй помощник — предпринимательский талант Миронова, его способность отдаваться работе целиком, умение рисковать, маниакальная настойчивость в достижении выбранной цели.
Фоминцев направился в заводскую бухгалтерию.
Главный бухгалтер завода, Людмила Леонидовна Зайцева, ничуть его визиту не обрадовалась, так как поняла, что вслед за полковником непременно грянет ОБЭПовская проверка. Оно и понятно: разве редкость, когда лабазника убивают заворовавшиеся приказчики. Однако не суетилась, предложила Фоминцеву чашку кофе, а заодно угостила очередной историей из сериала о мироновских подвигах. Фоминцев и сам уйму серий знал, но прервать Людмилу Леонидовну не посмел. Из уважения к памяти покойного.
— Понимаю, почему вы именно с бухгалтерии обход начали, — с достоинством начала Людмила Леонидовна. — Но, поверите ли, я человек настолько Петру Олеговичу преданный… Он ведь мою дочь из голландского притона вытащил, оплатил лечение от наркомании. Сами небось знаете, сколько это стоит. С Леночкой моей ведь как все получилось. Закончила моя красавица институт — замуж пора. Но какие в Киселевграде женихи?.. Пьянь, шантрапа… Клюнула она на объявление международного агентства брачного. В нем свели Леночку с голландцем. Не совсем, правда, настоящим. Эмигрантом из Латвии. Игорьком звали; там ведь русскоязычных зажали. Даже и лучше, подумали. Голландцы–то баптисты в основном, то есть люди с большими странностями. Под гитару псалмы поют, марихуану курят. И, главное, с укоренившимися — даже на фольклорном уровне! — гомическими склонностями. Вы, наверно, знаете главный их литературный, с позволения сказать, «памятник»? Это когда мальчик один, лет триста назад, во время наводнения пальцем дырочку в плотине заткнул. И тем самым весь город спас. — Фоминцев фыркнул. — Вот и Леночка над моими страхами смеялась. Говорила, будто Голландия одна из самых цивилизованных стран мира. Ага, цивилизованная… Послушайте, что дальше было. Значит, влюбилась она в этого Игоря со львастым нидерландским паспортом. По переписке влюбилась, представляете?
— Легко, — серьезно ответил Фоминцев, который уже догадался, куда эта незатейливая история покатится дальше и чем закончится.
Людмила Леонидовна, разволновавшись, приготовила еще по чашке крепкого кофе. Фоминцев предложил ей сигарету.
— Через полгода интенсивной переписки и разговоров по телефону — по часу, по два болтали, не меньше — Игорь приехал в Киселевград и сделал Леночке официальное предложение. Я не возражала. Знаете, Игорь такой обходительный с нами был, слушать умел, о своем бизнесе много рассказывал. У него якобы собственное кафе в Амстердаме было. Зарегистрировались они здесь, ну и уехали. Все, ни одной весточки больше от Леночки мы не получили. Сами стали звонить, а по номеру, который Игорь дал, уже натуральный голландец сидел. Здесь, ответил, пансион. Ничего не знаю, люди приезжают, уезжают, надолго не задерживаются. Я — в осадок. Тут же, у телефона. Поняла: Леночка в большую беду попала. И куда только не обращались мы, в консульство ездили. Все без толку. Работа у меня из рук валится, хожу на завод никакая. И тогда Петр Олегович за меня взялся. Что и как выяснил. Взял свадебные фотографии Леночки с Игорем и откомандировал в Амстердам двух своих ребят знакомых, самбистов. Без Леночки, наказал, не возвращайтесь. Нам, признаться, показалось это чистым флером. Как можно найти следы спрятанного, возможно даже убитого, человека в чужой пятнадцатимиллионной стране?.. Можно, оказалось. Если знать, где искать. Ведь самбисты Олеговича ни в полицию, ни в Красный Крест обращаться не стали. А целенаправленно принялись прочесывать нелегальные бордели. В Голландии, как известно, проституция узаконена. Владельцы домов терпимости платят государству налоги, проститутки после выхода на заслуженный отдых получают пенсии. Однако некоторые дельцы не желают делиться доходами ни с государством, ни со своими «служащими». В погоне за сверхприбылью. Они сажают девушек на иглу, заставляют принимать мужчин по двадцать четыре часа в сутки. А потом, года через три, когда те превращаются в доходяг, переправляют куда–нибудь на Ближний Восток или Юго — Восточную Азию. Вот и Игорь оказался из таких. В первый же день пребывания в Амстердаме завел Леночку в какую–то забегаловку. Заказал «коктейли» и отлучился, якобы в туалет. Все, больше мужа дочка моя не видела. Леночке стало плохо, потеряла сознание. Ее избивали, посадили на наркотики. Так Леночка стала проституткой.
Чтобы забрать Лену оттуда, самбистам Петра Олеговича пришлось буквально разгромить заведение. Так как паспорта у нее не было, зато у ребят были основания ожидать ответного удара голландской мафии и не доверять полиции, то выбираться из страны им пришлось нелегально. Через Бельгию, Ирландию… Целая одиссея получилась, но это уже отдельная история… Два года нам пришлось отхаживать Леночку. Возить ее в Бишкек, на лечение в самую результативную наркологическую клинику… Если б не Петр Олегович…
Зайцева замолчала, Фоминцев смущенно теребил мочку уха.
— Вы уж, Людмила Леонидовна, не обессудьте, но…
— Проверочку все равно пришлете?
— Вынужден, — вздохнул Фоминцев. — А сейф и шкафы с документами мне придется прямо сейчас опечатать. С этой минуты я вычеркиваю вас из списка подозреваемых, но ведь у меня должно быть ясное представление о положении дел на заводе. Понимаете?
— Понимаю, — вздохнула Зайцева, пряча взгляд в пустую кофейную чашку.
* * *
Ночью с понедельника на вторник в областном Управлении внутренних дел случилось ЧП — пожар в дактилоскопической лаборатории. Пых — и одни головешки! А Ермилов, между прочим, так и не успел разобраться с отпечатками на мироновской даче. Сгорели образцы.
Некто пробрался в здание, отомкнул — «родными» ключами! — двери лаборатории, отключил сигнализацию, «родными», опять же, ключами отомкнул несгораемые шкафы и залил все бензином… Обильно так, не экономя… Чиркнул, поганец спичкой… И покинул здание незамеченным, когда поднялась суматоха.
Прилетевший на головешки Карнач был готов передушить дежуривших ночью на вахте сержантов. Оборудование в лаборатории было новехоньким, в помещении провели ремонт. Если б кто знал, сколько нервов стоили генералу и переоснащение лаборатории, и еврообои, и подвесные потолки! Нет, это не поджигатели — варвары, фашисты бессердечные! А дежурные — вороны! Таких на фронте к стенке ставили, потому что вороны в условиях войны приравнивались к дезертирам и вражеским диверсантам!
Генерала душила злоба на пернатых с лычками и перекрывала кислород расстройство на предмет нанесения пожаром материального и морального убытка.
— Григорий Калинович, — оправдывались дежурные, — да не мог никто мимо нас незамеченным через вертушку проскочить. Поджигатель, верно, днем еще, в рабочее время, проник. Ну, как свидетель, водопроводчик, электрик какой–нибудь…
— Значит, вы хотите сказать, что по коридорам Управления целый день проболтался фашист с канистрами бензина в руках и не привлек нашего внимания? — Карнач скривил губы в сардонической ухмылке. — Получается, вороны все Управление, да?! Я — ворона! Полковник Лысенков — ворона! Может, скажете еще, что и Михаил Високосный — ворона? — Генерал кивнул на портрет предательски убитого бандитами из–за угла дружбана Прищепкина. (Он бы еще на бюст Феликса Эдмундовича кивнул.)
— Товарищ генерал, мы отвечаем только за себя. И ручаться готовы, что поджигатель попал в здание не через проходную во время нашего дежурства.
— А как еще он мог проникнуть, через окно?
— Никак нет, товарищ генерал. Обошли все здание. Решетки на окнах не повреждены, сигнализация не нарушена.
Вне сомнения, дежурные на вахте были невиновны. Однако нельзя сказать, чтобы Карначу от этого стало легче: новехонькое оборудование, еврообои, подвесные потолки… Люди, ну хоть кого–нибудь задушить дайте!
— «Родными», говорите, двери лаборатории и шкафов отомкнуты?.. Ну–ка дайте мне журнал регистрации выдачи ключей.
Всего комплектов ключей от лаборатории было два. Первый хранился в сейфе коменданта знания, второй — на вахте. Оба комплекта находились на своих местах. Утром, согласно записям в журнале, ключи брала лаборантка Павлова, вечером их вернул на вахту сам Ермилов.
— Ну конечно! — восторжествовал генерал. — Так и знал: грубое нарушение инструкции! Если ключи берет Ермилов, то он же сдает обратно; если Павлова, то и принять их дежурный должен был от кого?
— От Павловой, товарищ генерал. Только не мы дежурили–то. Наше время с 20.00 до 8.00.
— Не вы… Благодарите бога, что не вы… Судя по записям в журнале, инструкция изначально не соблюдалась. А между прочим, нам ее из Москвы прислали. Министерство, сами понимаете, ерунду не пришлет. В министерстве лучшие люди правоохранительной системы сидят. Все предусмотрят! Ведь соблюдай дежурные инструкцию, никакого поджога бы не было! Ну, пораскиньте мозгами: если ключи утром взяла Павлова, а вечером сдал Ермилов, то разве можно гарантировать, что не побывали они в руках еще десятка человек? Вот если б один и тот же человек утром забирал ключи, а вечером отдавал, то возможные промежуточные звенья просто отпадали бы!
Фоминцев весть о поджоге воспринял совсем с другой стороны. Да не фашисты лабораторию подожгли, дабы уничтожить ценнейшее оборудование, а также немецкие обои в серебристый горошек и пластиковые потолки. Убийцы Миронова постарались. Значит, среди образцов, снятых на даче Ермиловым, были и отпечатки пальцев убийцы.
Но весь отпечатки можно было снять повторно.
Увы, мироновская дача этой же ночью сгорела с лабораторией за компанию.
Рядовой Малышев, там дежуривший, был оглушен, связан и перетащен в кирпичный гараж. Зарево пожара видели из Зубовки, однако телефонная связь в деревне отсутствовала. Терем сгорел дотла.
Генерал Карнач не придумал ничего лучшего, кроме как посадить Ермилова под домашний арест и назначить служебное расследование: не мог ли начлаб, получив тридцать сребреников, собственноручно спалить лабораторию? Не передавал ли он за мзду ключи поджигателю для снятия копий?
* * *
Из гостиницы Прищепкин перебрался в медвежью берлогу Капиноса — тот как раз был в разводе. Коль расследование затягивалось, чего лишние деньги тратить.
Капинос снимал времянку в частном секторе на Карпинке и уже успел основательно ее загадить. Ну, не сам, конечно, загадил; кот Дися, доставшийся Женьке после развода, постарался: все углы раз сто пометил, обои подрал. Однако времянку окружал дивный запущенный чеховский сад с романтичной трухлявой беседкой и будкой летнего душа. Учитывая сносный Женькин характер, жить, в целом, было можно. Георгия Ивановича раздражало разве что пивоманство капиносово.
В день Женька выдувал по две чешских нормы. Это в обычный рабочий день, на выходные он затоваривался двадцатилитровым бидоном.
И ведь даже рыбки солененькой под пивко Женьке не требовалось. «Чего себе позволяешь? — выговаривал дружбану Георгий Иванович. — Разве ты капитан правоохранительных органов?.. Нет, ты капитан тонущего в пивном море судна! Знаешь, как это называется?.. Алкоголизмом!» — «Хорошее для меня море придумал, — лыбился Капинос. — Где такое, в отпуск туда рвану. А насчет алконавтики — зря ты абсолютно. Водки–то я не пью почти. Нету потребности, какой же я без нее алкоголик?» — «Пивной! — отвечал Георгий Иванович. — Что, не слышал о таких?.. Немедленно кодируйся! У Куликовской! Сильная, говорят, женщина, лучшая из нынешних в городе!» — «Ага, сильная, — хмурился Женька, — уже половину мужиков киселевградских на тот свет отправила. И вообще, кодировка эта…» — «Я‑то, как видишь, живой», — не сдавался Прищепкин.
Жалко было дружбана. Классный ведь мужик, тенор замечательный.
Прищепкин еще перед выездом из Минска Капиноса жалеть начал. Припоминая виденную давным–давно сценку.
Возвращался он откуда–то домой через парк. Зимою, днем морозным. Сугробы кругом метровые, воробьи на теплых проводах гроздьями греются, рассеянное солнце по верхушкам елей скользит. Снег под сапогами этак крахмалисто скрип да скрип. Благодать земная, красотища поднебесная. И в эту пастораль… Женька, гад, скотина неромантичная… несчастный, больной человек.
Прищепкин с пивнарем поравнялся. Ну, очередь змеится, морды черные развеселые: какой–то урод полируется, какой–то лечится. Делом жизни, короче, заняты. Вдруг замечает Прищепкин Женьку. Шинель нараспашку, без ушанки. Кружки Женьке по змейке передают. А тот их одну за одной, одну за одной. Залпом! И возвращает пустые змейке обратно. Конвейер получился — с главной у стража правопорядка операцией. Гнусной, между прочим, и постыдной для серых офицерских погон.
Прищепкин — к нему. А Капинос, оказывается, не просто так, на рекорд пьет. «Двадцать вторая, двадцать третья…» — считали его черномордые соратники. От Женькиной головы — клубы пара, снег под сапогами до земли протаял — верно, совместное издевательство Природы и Космического Разума: точно так же снега плавились под босыми ступнями Порфирия Иванова. Чуть не заплакал тогда Георгий Иванович. От досады, боли духовной, смятения сердечного. И от жалости бабьей почти глубины: губит ведь себя Женька, гу–бит!
В общем, планерки группы Фоминцева из гостиничного номера Прищепкина переместились в трухлявую Женькину беседку.
— Ну что, братцы–менты, помянем душу раба Божьего Петра? — открыл вторничным вечером планерку Фоминцев, одновременно свинчивая башку очередной мироновской бутылке. — Завтра похороны.
Как тут за «душу» не выпить? И Прищепкин бы выпил, не будь на пятнадцать лет закодированным лжесыном Данченки, а также подшитый для верности в психушке. Женька так выпил, любовно поглядывая на бидон.
— Похороны, как вы понимаете, могут оказаться источником ценной информации. Поэтому завтра становимся операторами. Все четверо: чтобы из разных точек, разные ракурсы. Видеокамеры будут в спортивных сумках — ну зачем привлекать внимание, нам ведь не фильм с игрой на публику нужен — документ. Вопросы есть?. Ну, тогда давайте по второй. За упокой души раба Божьего Петра.
* * *
Таких похорон Киселевград еще не знал, не видывал и — после смерти Сталина — не переживал. По многочисленности участников процессии, количеству цветов и качеству слез, по помпезности, по беспросветности мрака, нагнетенного совместными усилиями музыкантов симфонического оркестра областной филармонии, исполнителей капеллы военного гарнизона и хора Святотроицкого монастыря.
Для прощания гроб с телом Петра Олеговича был установлен в центре прилегающей к его детищу — водочному заводу «Князь» — площади Парижской Коммуны. Нескончаемый людской поток с раннего утра и до обеда пересекал ее по скорбной асфальтовой диагонали, которая уже к одиннадцати часам потемнела от слез. Рыдали женщины, плакали дети, далеко не каждому удавалось сдерживаться из мужчин. Плакали даже некоторые лошади стоявшего в оцеплении подразделения конной милиции.
Сказать, будто Миронова в городе любили, почти то же самое, что заявить на ученом совете: огонь горячий, вода мокрая. Миронов был не просто киселевградцем, а являлся неотъемлемой частью самого города, его жизненно важным органом, возможно даже и сердцем.
Спецавиарейсом из Москвы прибыл на похороны самолет Администрации Президента России, доставивший в Киселевград отряд «чикагских мальчиков», то есть лидеров российской экономики первого эшелона, закончивших Чикагскую высшую школу бизнеса. Ничего американского в них, конечно, не было, обычные русские, еврейские и кавказские лица, строгие черные костюмы. Никаких распальцовок, цепей — пройденный этап. Элита предъявляла стране готовность «собирать камни». Группа Фоминцева, снимая на видео, покружила вокруг «американцев» пчелками.
Родственников же у Петра Олеговича оказалось маловато. Родители давно умерли, сестра умерла, детей не было, остались жена, великолепный Александр Генрихович, типичный дезодорированный американский студент племянник Слава (кролик в очках и джинсах) и его невеста толстушка Джулия, похожая на всех толстушек мирового пространства, которую считать родственницей было еще рановато.
И родственники, кроме мужественного Александра Генриховича, просто выпали в осадок. Включая Джулию, распухшую от слез, внезапно осознавшую, что страна, оказавшаяся способной породить такую человеческую глыбу, как Петр Олегович, не совсем пропащая. И даже не варварская… Вернее, все же варварская, но только снаружи, а изнутри… Впрочем, изнутри Россия тоже была варварской. Но… варварская, не варварская, какая разница? Глядя из Штатов, может, и варварская. Но если глядеть на Штаты из России, — непредвзято, без розовых очков… Джулия совсем запуталась. Так как почувствовала, что разлюбила Славу… Что она его никогда не любила. Что по–настоящему любит она…
Да, тех нескольких непродолжительных встреч с ним — невинных, всегда в компании со Славой — оказалось достаточно, чтобы проникнуться к Петру Олеговичу всем сердцем, раз и навсегда. В глазах Джулии Петр Олегович оказался единственным в мире настоящим мужчиной. Что же касается Славы… Так ведь он всего лишь слабая тень своего дяди, мальчик из Интернета. (Именно через Всемирную Паутину они и познакомились, хотя учились в параллельных группах.) Джулию поначалу привлекла в нем славянская экзотичность, но за год учебы та полностью растворилась в окружающем американском пейзаже. Верно, окажись Слава в Канаде, то вскоре превратился бы в типичного канадца; во Франции — во француза, что было бы, конечно, неплохо, только не совсем честно. Главное, не роково.
Зря все же писал Хемингуэй, будто в жилах американок вместо крови — краска. Вероятно, не попадались ему женщины из Айдахо.
Лицо Славы неподобающим мужчине образом распухло от слез настолько, что, казалось, выгнулись дужки очков. Оно и понятно. За спиной Петра Олеговича Слава чувствовал себя, как за каменной стеной. Дядя значил для него больше, чем мог бы значить отец. Потому что был племяннику еще и другом. Ведь циничный мудрец Петр Олегович никогда не читал ему нотаций, так как отчетливо понимал бессмысленность и неблагодарность этого занятия. И поэтому ощущался Славой почти ровесником.
Убитую горем, разом состарившуюся Ольгу Генриховну, еще неделю назад производившую впечатление цветущей красавицы с древней родословной, но без возраста, с одной стороны поддерживал врач, с другой брат. Стоит ли говорить, что и для нее Петр Олегович значил больше, чем может значить обычный муж. Ведь он был еще и человеком, горячо ею любимым.
По решению мэрии Миронова было решено похоронить на Аллее Героев Военного кладбища. Давно закрытого для обычных захоронений, но иногда приоткрывавшего свои врата для упокоения почетных граждан и заслуженных ветеранов Великой Отечественной войны. От площади Парижской Коммуны и до самой могилы, через всю цивильную часть города, гроб с телом Петра Олеговича пронесли на руках. Тяжелый, как броненосец, из ценного африканского дерева, гроб плыл по цветочному мареву, осиянный сполохами солнца, прорывающегося утешить людей сквозь плотные, низко нависшие над городом, набрякшие дождевой влагой тучи.
«Пчелки» Фоминцева все сняли, всех запечатлели, целая гора кассет получилась. Слезы мэра, побелевшие окаменевшие лики «чикагских мальчиков», очередной сердечный приступ Ольги Генриховны, стенания Джулии. И обморок Славы — совсем племяш в конце концов расклеился. Хотя это было уже и слишком, но по–человечески понятно и на сей раз — мальчишка ведь совсем. Щенок-с.
* * *
На следующий же после похорон день Прищепкин встретился с Аглаей Владимировной, домработницей Мироновых. В темном пустом сумрачном буфете завода «Вымпел». Приготовился выслушать очередную историю из жития Петра Олеговича и взял себе порцию морковки. Однако услышал такое, что, во–первых, вопрос канонизации Миронова отпал безвозвратно; во–вторых, то, что как бы изначально витало в воздухе, неизвестно как и откуда в нем очутившееся, но явное, хоть возьми да поверь, однако категорически и дружно отрицаемое как Фоминцевым, так и Александром Генриховичем.
— Петра Олеговича мог убить Самойлов. Я была нечаянным свидетелем их перепалки по телефону, — с горящими щеками, потупившись, сказала женщина. — Без всякой задней мысли подняла в соседней комнате параллельную трубку и…
— Кто такой Самойлов?
— Танцор из театра оперы и балета. Любовник Миронова.
— … … …
— Правда, начало разговора я не слышала. Но из того, что услышала… Самойлов явно приревновал Петра Олеговича к мальчишке из модельного агентства. Самойлов все пытался вытянуть из Миронова подтверждение, что мальчишку тот давно, еще до знакомства с ним, и ныне параллельно «использует».
— Вы хотите сказать, что…
— Понимаете, Ольга Генриховна больна хронически, — уж кто ее только не лечил, куда только не ездила. По–женски больна, понимаете? Ольга Генриховна не могла быть близка с Петром Олеговичем физически. А тот не мог изменять жене, потому что благоговел перед ней… любил безмерно… Они познакомились молодыми, но пожениться не успели. Ольга Генриховна ждала возвращения Петра Олеговича из тюрьмы, отказывала всем претендентам на руку и сердце. Представляете, сколько тех было?..
— Ну, коль больная…
— Не всегда же была больная… Дождалась, поженились.
— В общем, Петр Олегович невольно вспомнил свою паханскую привычку?
Аглая Владимировна кивнула.
— Мужчина во цвете лет, в отличной спортивной форме…
— Самойлов грозил убить Миронова?
— Да у Самойлова язык бы, наверно, не повернулся. Грозил самоубийством. Но Самойлов–то жив, а Петр Олегович…
— Петр Олегович оправдывался?
— Еще чего?! — Аглая Владимировна за хозяина даже обиделась. — Станет Петр Олегович перед каким–то педером оправдываться. Сказал, будто отчитываться Самойлову не должен, клятву верности ему не давал. Что если тому вздумается наложить на себя руки, то это его личное дело. Издевательски этак сказал. И бросил трубку.
— Все правильно, — констатировал Георгий Иванович, в задумчивости разглядывая витрину буфета с зачерствевшими бутербродами. — Именно так и должен был ответить авторитет, привыкший использовать педеров, но не считавший их за людей. — Как фамилия мальчишки?
— Бурмистров, — ответила Аглая Владимирона, — редкостный красавчик. Да его все по рекламе майонеза «Сальве» знают. И в бульонных кубиках вроде снимался, и в шампуне — забыла каком. Фактура–то идеальная: рослый, в меру подкачанный, шея толстая, а голова, словно у динозавра, маленькая. Ну и волосы, конечно, завитые. До плеч. Обнять и плакать, короче.
— Скажите, — Прищепкин, застеснявшись собственной подозрительности, отвел взгляд и ковырнул вилкой морковную струганину, — вы действительно сняли параллельную трубку совершенно случайно?
Аглая Владимировна, слегка зардевшись, кивнула:
— Разумеется.
— Пыль нужно было стереть?
— Нет, — невозмутимо ответила Аглая. — Я просто заметила, что трубка криво лежала на прерывателях. И хотела поправить.
— Ладно, проехали… Расскажите мне, пожалуйста, о бытовых привычках четы Мироновых, образе жизни. Вообще как можно больше. Я ведь еще несколько дней назад не знал об их существовании. И вот пытаюсь разобраться в мотивах убийства.
— Петр Олегович все время пропадал на заводе и возвращался домой поздно вечером. Но по нескольку раз на день звонил Ольге Генриховне, часто дарил цветы. Жили они очень замкнуто, никто у них не бывал. Петр Олегович общался со своими людьми вне семьи, вне дома, а Ольга Генриховна в общении с посторонними никакой потребности не испытывала, ей хватало мужа. Она очень необычный, яркий, талантливый и возвышенный, можно сказать, набожный человек.
— В церковь на все службы ходила, по монастырям ездила?
— Нет, Ольге Генриховне для веры не нужны ни храмы, ни посредники. Говорит, будто Бога в сердце носит. И молится по–своему, молитвами, пришедшими во сне или во время медитаций. Две висящие в спальне картины Николая Рериха с гималайскими пейзажами — ее иконы, книги по агни–йоге — Библия. Так что набожна Ольга Генриховна не в общепринятом смысле, а в теологическом. Родилась такой, необычайно близкой Небу своей оторванностью от Земли, добротой, тонкостью чувств, интеллигентностью. Вот не позовешь Ольгу Генриховну к обеду, о еде и не вспомнит, не подашь платье — может проходить весь день в ночной рубашке. Зато выучила пять языков, классическую музыку знает и чувствует на уровне профессора консерватории, фанат поэзии Серебряного века. Свалившееся ей на голову богатство этому отрыву существенно поспособствовало. Ведь с бытом стала сражаться за нее прислуга. И даже обязанность следить за своим гардеробом, за рубашками, носками Петра Олеговича она полностью возложила на меня. В обиде я не осталась, так как получаю приличную зарплату, но все мои обязанности в доме невозможно и перечислить. В общем, я и домработница, и экономка, в моем подчинении повар, водитель и горничная. Работы по горло получается, начать с того, что Петр Олегович был мясоедом, а Ольга Генриховна — вегетарианка. Значит, нужно два отдельных меню составить, согласовать, закупить продукты. Плюс каждодневная уборка, стирка и еще сто текущих мелких дел. Мне даже приходится ездить на примерки к портнихе Ольги Генриховны. Хотя и размеры носим мы разные и ростом повыше я, но портниха как–то приноровилась. А за Петра Олеговича к портному охранник Деменков ездил. Мироновы для своего положения люди крайне непривередливые, к потребительству равнодушные.
— Зачем тогда, спрашивается, понадобилось Петру Олеговичу к этому положению стремиться, с производством водки, извиняюсь, связываться?
— Петр Олегович был большим патриотом страны и надеялся в ближайшем будущем подняться на такие высоты, с которых сумеет как–то влиять на российскую внешнюю и внутреннюю политику.
— Водочку–то хоть употреблял?
— Разумеется, но опять же исключительно вне дома, Ольга Генриховна спиртное и на дух не переносила. И табак, кстати, тоже. Петру Олеговичу пришлось бросить курить.
— Интересно, знает ли Ольга Генриховна о его главном пороке?
— Вряд ли, — ответила Аглая Владимировна. — При всем уме Ольги Генриховны трудно представить, чтобы такая мысль могла прийти ей в голову. А если даже и приходила, ну, ненароком, нечаянно как–нибудь, то Ольга Генриховна волевым усилием бы ее оттуда все равно выкинула. Она приучилась контролировать мысли. Никакого негатива, чтобы не спровоцировать осуждение, только позитив.
— Лично я бы так не смог, — независтливо отметил Прищепкин. — Профессия не позволяет. Ладно, расскажите–ка мне теперь о Славе.
— Хороший парнишка, все при нем — голова, сердце. Однако слабовольный, без характера. В последнем, одиннадцатом классе гимназии в девочку одну влюбился. А та профурой оказалась, подучила Славку, чтобы деньги из дома приемных родителей таскал. Славка корысть видел, ведь неглупый был. Но чтобы добиться благосклонности, осыпал ее просто — та и в руках столько денег не держала. Я к Петру Олеговичу: так, мол, и так. Петр Олегович ничего племяннику говорить не стал, а дал Марецкому задание: сопливку ту где–нибудь закадрить и на себя переключить. А Марецкий за такое дело и безо всякого б задания взялся — не кирпичи таскать. Великолепно справился, сопливка потом, любовь выклянчивая, с полгода на пятки ему наступала. Учился Слава просто блестяще, как говорится, на лету все схватывал. В этом плане у Мироновых с ним никаких проблем не было. С животными любил возиться. Петр Олегович только поощрял. И террариум у Славы был — ну, с гадами который ползучими, и собаки, коты, попугаи. Вот только занятий спортом Слава чурался. Петр Олегович пытался и на бокс засунуть, и на самбо свое. Чтобы мужчиной рос. Слава недели две с энтузиазмом походит, а потом увиливать начинает. И в боях все до одного поединка проигрывал, хотя и технику на тренировках вроде исправно брал. Но это уже из–за характера. Вернее, по причине его отсутствия. Зато уж на олимпиадах среди школьников по всем предметам сверкал. Грамот натаскал — не сосчитать. Что еще можно о Славе рассказать? Ну, разве еще о том, что водки пить не может. Просто ни грамма организм его не приемлет, чумной сразу делается. Уж Петр Олегович бился с ним, бился, пытаясь научить выпивать так, чтоб мозги не терял. Без толку! Ведь он же Славу в крупных бизнесменах видел. А как тот сможет заниматься бизнесом в России, будучи абсолютным трезвенником? Очень домашним рос Слава мальчиком, замкнутым, стеснительным. Друзей близких никогда не было. Все книжки читал. Отношения между ним с четой Мироновых всегда ровными были, без срывов. Любил их Слава.
— А что расскажете про Александра Генриховича?
— Разными брат с сестрой получились, кровь–то одна, но между душами — ничего общего. Ольга Генриховна — человек, живущий насыщенной внутренней жизнью, брат — он на поверхности весь. Щеголь, жуир, бабник. Мы, то есть челядь мироновская, между собой гусаром его прозвали. Бывая в Киселевграде, Александр Генрихович непременно все городские казино, известные рестораны обходил.
— Азартный игрок? — оживился Прищепкин.
— Да нет, насколько мне известно, в казино скорее порисоваться ходил, дабы выкурить там с выражением значимости на челе сигару, продемонстрировать девицам роскошные свои усы и очередной дорогой костюм. Мелочь проигрывал, мелочь выигрывал.
— Чем Александр Генрихович занимается? Бизнесом?
Аглая Викторовна хмыкнула:
— Да уж, бизнесмен… Бизнесмена из себя корчит. На выезде. Парикмахер он. В дорогом московском салоне работает. Деньги водятся. Семьи–то у него нет, поэтому на костюмы, сигары, девиц и провинциальные рестораны денег хватает.
Прищепкин пятерней потянулся к затылку: надо ж было купиться так. Столько лет меж людей трусь, а парикмахера с бизнесменом перепутал.
— Коль Александр Генрихович на мишуру падок, то ведь вполне мог завидовать Миронову черной завистью, правда?
— Неправда, — категорически возразила Аглая Владимировна. — Александр Генрихович по–своему очень порядочный человек. Относится к тем редким людям, которые безмерную любовь к самим себе вполне удачно совмещают с любовью к близким. Он преклонялся перед Петром Олеговичем, рядом с ним видя себя со стороны. Несмотря на свой мужественный, даже воинственный вид, Александр Генрихович на удивление добродушный, безобидный человек. И благородный. Ему абсолютно несвойственны зависть, недоброжелательство. На него всегда можно положиться. Да, он идеально пустой внутри, тем не менее это респектабельный, безукоризненный джентльмен. Не ошибусь, если скажу, что и к сестре он относился гораздо лучше, чем та к нему. Ольга Генриховна, когда брата не видела, то вообще, кажется, забывала о его существовании. Мне постоянно приходилось напоминать ей о днях рождения Александра Генриховича, и каждый раз она недоумевала: надо же, совсем выскочило. Идут годы–то, летят прямо.
— Ладно, оставим Александра Генриховича в покое. Расскажите о Деменкове, водителе, горничной и поваре.
— Павлик Деменков самбист, бывший воспитанник Петра Олеговича. Вернулся из армии и долго не мог работу подходящую найти. Торговать не умел, а устраиваться куда–нибудь на завод не видел смысла. Сунулся к Воропаеву. Это Деменков его с Петром Олеговичем свел, тем самым все агентство охранное сосватал. Павлик парень спокойный, рассудительный и выдержанный. Полностью предсказуемый, главное. Звезд с неба не хватает, но Петр Олегович ему больше всех доверял, поэтому и приставил к жене — главной своей ценности.
Водителем у нас Симчук Коля, мужик солидный, семейный, насквозь положительный и невыразительный. Этакий, знаете, пузанчик с пшеничными усами и с шуточками простонародными. За машиной как за собственным ребенком следит, водит аккуратно. Проработал всего три месяца, Петр Олегович по рекомендации его взял.
Горничной у нас Гуля, Гульнара то есть, чистюля–татарочка. Отмалчивается все, зато на улыбку щедрая. Зубы белые, ровные, один к одному. Павлушина жена, лучшей для него и не придумаешь. Ни минуты без дела не сидит, так и порхает по комнатам, а сама как куколка.
Повар, наконец, старый черт Угольников. За семьдесят уже, добрые пятьдесят за плитой, величайший спец. Корабельным коком начинал, потом по экспедициям мотался.
— А почему вы его чертом назвали? — перебил Прищепкин, надеясь получить от Аглаи Владимировны зацепочку хоть на престарелого повара.
— Да потому что Угольников на черта из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» похож. И на артиста Милляра тоже. Поэтому с таким же успехом Угольникова можно было и Бабой Ягой назвать, и Кащеем Бессмертным. Зубы Угольников на какой–то полярной станции потерял, кончик длинного носа от водки вечно красный — его ведь и из питерской «Астории» за пьянку выгнали, и из московского «Арагви». Четыреста соусов зато может приготовить Угольников, пятьсот муссов. Да он из опилок, наверно, кашу такую сварганит, что и губернаторам–сенаторам не стыдно скормить. Там же, на кухне, и живет, домишко–то свой внучке отдал, а другого имущества не нажил. Тюфяк, смена одежды… Но ведь и не нужно Угольникову больше ничего. Сыт, пьян и нос в табаке, на большее не претендует. Из квартиры Угольников практически не выходит, телевизор не смотрит, газет не читает, приемник не слушает. Врут, мол, все. Он и зарплату–то через раз берет. Куда, говорит, дену. Как ни заглянешь на кухню, Угольников над плитой колдует, папиросу потухшую деснами жует да в творческом экстазе похрюкивает. Колпак на лысине грязный, из мешка с картошкой горлышко бутылочное торчит. Черт и есть.
* * *
— Вот ведь как бывает, а! — Карнач возбужденно расхаживал по своему кабинету, размахивая в ритм шагов какой–то папкой. Фоминцев сидел с обратной стороны генеральского стола и холодно наблюдал за поведением шефа. — Ваша необразованность послужила неким указующим перстом! Ведь если б вы сразу халат тот дурацкий распознали, то за какую версию первым делом ухватились? «Японистую», верно? И куда бы она увела? Да хрен знает, в Нагасаку какую–нибудь! Однако вы в протоколе осмотра зафиксировали, будто халат женский. А меч самурайский — ха–ха! — определили дефективным. Тем не менее — кто бы мог подумать! — вас же подспудно вела профессиональная интуиция! В общем, как и Прищепкин твой вынюхал, извращенцем Миронов оказался. И убил его кто–то из бывших любовников! Сто процентов гарантии! Так что, Гунар Петрович, не ходи больше на завод этот, прошу тебя. Не трепи нервы людям проверкой! Не трать свое и государственное бесценное время понапрасну!
— Григорий Калинович, а вам не кажется подозрительным, что любовник–убийца уж больно крутым оказался? Троих охранников убрал, лабораторию спалил. Я еще допускаю мысль, что кто–то из любовников Миронова, тот же Самойлов, мог на Петра Олеговича руку поднять. Из ревности или, например, со злости, что подарки, деньги за услуги по другому адресу пошли. Но… Это же почерк профессиональных бандитов, готовых ради сокрытия следов преступления на все. Только профессионалы знают, что следы нужно уничтожать любой ценой. А то… танцоришка какой–то…
— Танцоришка, говоришь! — Карнач злобно выпучился на Фоминцева. — А если представить, что этому танцоришке Петр Олегович ни за что ни про что вынес смертный приговор? А танцоришка решил за это Петру Олеговичу секир–башка сделать! Что он горел желанием отомстить и другим людям, которые, возможно, также участвовали в вынесении приговора, и для этого хотел во что бы то ни стало избежать ареста? Почему бы танцоришке в таком случае не замочить охранников, не спалить бесценную лабораторию? Ненависть способна и самых обыкновенных людей превращать в сильных, изворотливых и беспредельно жестоких. Тебе ли, Фоминцев, не знать?
— Ну и чем же Петр Олегович мог возбудить такую патологическую ненависть у Самойлова?
— А вот чем. Полюбуйся! — Карнач с торжествующей миной швырнул папку, которой досель размахивал, на стол перед Фоминцевым.
— Что это?
— Заключение патологоанатома.
«Смерть наступила в результате отделения черепно–мозговой части тела от тканно–скелетного туловища…» — забубнил Фоминцев. (Ментояз! Автору «1984» для стилизации оного попросту не хватило б фантазии.)
— Ты снизу читать начинай, — перебил Карнач. — Про «отделение» я без заключения догадался.
— Что?! — воскликнул обычно невозмутимый Фоминцев, последовавший совету генерала.
— А то, ёшкин кот! Миронов был ВИЧ-инфицирован. А из этого следует, что мог инфицировать Самойлова, соображаешь?
— Но Самойлова мог также инфицировать и кто–нибудь другой. Наконец, еще нужно разобраться, кто кого инфицировал. Вполне может оказаться, что Самойлов — Миронова.
— Может. Однако похоже на то, что Миронов даже не догадывался, что инфицирован, а у Самойлова, сделавшего анализ, поехала крыша, и он задумал во что бы то ни стало наказать переносчика. Так как точно не знал, кто его «наградил», то в помутнении рассудка решил убивать всех, с кем вступал в половой контакт. Не единичный, кстати, случай… Не понимаю таких людей, — вздохнул Карнач. — Ну, подцепил заразу — будь человеком, сдохни достойно. Нет, норовят счеты свести. Бывает и похуже, когда ВИЧ-инфицированные ставят перед собой цель утянуть за собой в могилу как можно больше людей и умышленно инфицируют еще сотни людей. Впрочем, это характерней для ВИЧ-инфицированных проституток, которые из нимфоманок превращаются в мужененавистниц.
— Вы хотите сказать, что Самойлов убил кого–то еще?
— Похоже на то, — уже спокойно ответил Карнач, отмыкая сейф и вынимая початую бутылку коньяку. — Если учесть, что до Миронова в Киселевграде был убит еще один ВИЧ-инфицированный гражданин. Этак аккуратно, без следов убит. Не столь, правда, заметный.
— Некто Яновский?.. Помнится, был такой гражданин. Все верно — инфицированный.
— Он самый. Между прочим, тоже танцор театра оперы и балета. Ведь явная цепочка прорисовалась: Яновский — Самойлов — Миронов. Все трое извращенцы. Двое из них однозначно ВИЧ-инфицированны, что подтверждено заключением медэкспертизы, третий, Самойлов, тоже инфицирован, ясно как божий день. Наличие цепочки у тебя вызывает сомнения?
— Да вроде нет, — вяло согласился Фоминцев.
— Двое из них убиты. Какой вывод из этого следует?
— Что Самойлов мог стать убийцей и Яновского, и Миронова… — задумчиво констатировал Фоминцев. — Ведь действительно — схема. На первый взгляд кажется притянутой за уши, однако если вспомнить, какие страсти загораются в среде ВИЧ-инфицированных… Схема и есть, — вздохнул Фоминцев так, словно что–то проиграл.
Генерал располовинил коньяк на два емких фужера.
— Извини, Гунар, погорячился, наорал.
— Ну что вы, Григорий Калинович. Понимаю — нервы.
— Если бы этот гад хоть лабораторию не трогал, — взгрустнул генерал. — В общем, плюнь ты на завод. Ну, химичили там, понятно. Водка левая, водка правая — обычная система. Как это у Твардовского?.. А, фиг с ним, с Теркиным. Займемся заводом еще. Как–нибудь в другой раз займемся, хорошо? А сейчас давай не распыляться, а. Слови ты мне этого фашиста–поджигателя, убийцу, короче, зараженного. Да и закроем дело. Если справишься до конца недели, я уж Ольге Генриховне намекну. Ну, сам понимаешь. Ты ведь хотел квартиру купить.
— Понимаю, Григорий Калинович. Спасибо.
— Ладно, будем здоровы… Потом, после закрытия дела чокнемся.
* * *
Прищепкин, Капинос и Тарасюк слушали Фоминцева разинув варежки.
Надо же, как дело–то повернулось! Водочного барона за ВИЧ- инфицирование замочили!
— Ну что, братцы–менты, делать будем?
— Полагаю, прав Григорий Калинович, — поспешил высказаться Тарасюк. — В редкий раз прав. Надо нам бросить все да искать Самойлова. Бурмистрова заодно предупредить, чтобы сник на время.
— Вот именно, — согласился Капинос. — Ведь если будем отвлекаться на другие версии, а тем самым не остановим свихнувшегося на почве мести инфицированного убийцу, в деле могут появиться еще трупы.
— Ну тогда, как говорится, по коням! — провозгласил Прищепкин.
— Между прочим, братцы–менты, ночь на дворе, — поморщился Фоминцев, у которого версия генерала ну никак не хотела вызывать доверие. На логическом уровне, уровне подчинительском, если можно так выразиться, он ее принимал. Куда деваться? Вынужден оказался принять… На каком–то другом уровне — сознательном, подсознательном — ну никак принять не мог. Некую искусственность ее чувствовал, литературность, что ли. Ведь он слишком хорошо знал Миронова, Карнача изучил основательно. Кроме того, знал и кое–что такое, о чем предпочел не распространяться даже в кругу друзей.
— Потом отоспимся, — беспечно махнул рукой «атомоход» Тарасюк.
— Ребята, а помните ли вы историю с убийством правдоискателя генерала Кохлина? Ну, которого как бы жена в результате ссоры застрелила, — не без ехидства спросил Фоминцев.
— Как же не помнить. Очень подозрительная история.
— Вот и мне эта версия Карнача кажется очень подозрительной… Ладно, не буду мутить. По коням!
Самойлов жил в центре, в старом кирпичном трехэтажном доме. Капинос, Прищепкин и Фоминцев, держа оружие на изготовку, поднялись на третий этаж. Тарасюка оставили снаружи — наблюдать за балконом и окнами.
На настойчивый звонок в дверь — ноль ответных реакций, ни шороха. Капинос выразительно посмотрел на Фоминцева: ломать? Фоминцев кивнул. Ну какая дверь устоит против пивной бочки? Капинос был мастером по вышибанию дверей. Разгонялся и — плечом, всей массой! Свой коронный маневр Женька повторил и на сей раз. И буквально влетел в квартиру. Дверь–то оказалась совсем слабенькой, словно ее вышибали уже тысячу раз. Прищепкин и Фоминцев ворвались в зал и остолбенели. Потому что на крючке для люстры висел, покачиваясь на веревке, мужчина с посиневшим уже лицом.
Прищепкин выхватил из кармана мобильник, но Фоминцев жестом остановил.
— Сами сначала разберемся, — почему–то прошептал он, зло прищурившись. — Глянь–ка, и предсмертную записку Самойлов оставил.
«Миронов или Яновский должны были понести наказание — и понесли оба. Пришлось убить также ни в чем не виновных охранников. Прошу прощения у их близких и родственников. Жить дальше, чтобы умереть в ближайшем будущем от СПИДа, не вижу смысла».
— Ну что, шеф, дело Миронова закрыто? — спросил Женька, потирая ушибленное плечо. — Звоним в оперативную часть и отправляемся на водохранилище травить рыбу?
— Уж больно все ловко получается, прям как по сценарию. Вот что подозрительно. Ведь стоило только вычислить убийцу, как он тут же, дабы не подвергнуть версию генерала проверке, берет да вешается, — пробормотал Фоминцев, закатывая рукав на рубашке висельника. — Ну, конечно, без наркоты не обошлось! — воскликнул он, указывая на свежий след укола в вену на локтевом сгибе. — Вот сдохнуть мне сейчас на месте, но гарантию даю — Самойлов не повесился! Верите моей интуиции, братцы–менты? Его накачали наркотиками, заставили написать записку и повесили!.. Обратите внимание, все буквы в записке прыгают. Невменяемый писал… Грубо сработано, наспех — лоханулся Карнач. Оно и понятно, убирать Самойлова нужно было срочно. А для устройства какой–нибудь автокатастрофы необходимо время.
Прищепкин и Капинос Фоминцеву возразили, мол, без данных экспертизы окончательное заключение выносить рановато. Кто даст гарантию, что Самойлов не был наркоманом да не повесился в дурманном кураже сам.
— Соврала уже разок экспертиза следствию, — мрачно сказал Фоминцев. — По заказу вышестоящего начальства соврала. Насчет ВИЧ-инфицированности Миронова. Что же касается вопроса, был ли Самойлов наркоманом и не сделал ли себе инъекцию «на посошок» сам?.. Хороший вопрос. Давайте–ка внимательно осмотрим тело.
Висельника пришлось раздеть. Самойлов обладал прекрасной фигурой легкоатлета. Рельефные сухие мышцы под тонкой чистой кожей, узкие бедра, широкие плечи.
Более следов уколов не обнаружилось. Зато на сорочке не доставало трех пуговиц. Понятно, что пришивать пуговицы перед самоубийством могло быть и лень. Но неужели у Самойлова не было другой сорочки? Такой, извините, торжественный случай… Несколько обнаруженных синяков на теле наводили на мысль, что уколу предшествовала неравная схватка: Самойлова сбили с ног, наверно, прижали к полу. Вот во время схватки сорочка части пуговиц–то и лишилась.
— Это не наркоман, — сказал Капинос. — Насмотрелся я в анатомичке на трупы наркоманов. Как правило, у них атрофированные мышцы, дряблая кожа, угревая сыпь — потому что выделительная система, даже стопроцентно здоровая, не в состоянии выводить все токсины из организмов. А токсинов у наркоманов раз в десять больше, чем у нормальных людей. Следовательно, через кожу прут, отсюда и сыпь. Если принять во внимание синяки, пуговицы — прав Гунар Петрович, нарисованная им сценка вполне реальна.
— Похоже на то, что нас и впрямь расчетливо ввели в заблуждение и относительно извращенчества Миронова, и относительно его инфицированности, — констатировал Прищепкин.
— Наконец и ты въехал, — вдохновился Фоминцев. — А с домработницей предварительно Карнач поработал, так я считаю. Ну не мог я в Миронове до такой степени ошибиться. Понимаете, не мог! Это меня и вело, подталкивало, подталкивало. Ведь я столько лет его лично знал. Почти как тебя, Женька, тебя, Жора! Поэтому все время не мог отделаться от ощущения, будто нас пытаются водить за нос, но окончательно в этом убедился только сейчас, буквально сию минуту. Дурацкую, кстати, версию нам Карнач подсунул. Верно, пришлось на ходу придумать.
— Ну, не такая она уже и дурацкая, — подумав, возразил Прищепкин. — Хотя бы потому, что должна была увести нас в направление противоположное, от коммерческой деятельности Петра Олеговича. В область личной жизни Миронова. А так как слухи о женских болезнях Ольги Генриховны, как и о нежнейшей между супругами любви, по городу ходили, с женой Петр Олегович физических контактов вероятнее всего действительно не имел, а мужиком был еще не старым, физически крепким, то более удачной, правдоподобной версии придумать было просто невозможно. А если еще учесть, что на Управлении висело нераскрытое дело об убийстве ВИЧ-инфицированного Яновского, которое Карначу тоже нужно было куда–то вплести, то идея просто превосходна… Правда, понадобилось сделать жертвоприношение, то есть найти козла отпущения. Самойлов навлек на себя беду единственно тем, что работал в одном театре с ВИЧ-инфицированным Яновским. Карнач взял список работников театра, полистал анкетные данные… Бедный Самойлов… Кстати, был бы он женат, то на роль убийцы утвердили б кого–нибудь другого. В общем, получилось так, что один только факт инфицированности Яновского и породил всю эту свистопляску с извращенчеством и СПИДом, послужил первоосновой для официальной версии.
В жизни еще не видел неудачников уровня Самойлова. Карнач поставил ему клеймо ВИЧ-инфицированного извращенца, свалил на него убийство Миронова, троих ребят–охранников, Яновского, поджог лаборатории… Во, сколько собак навесил на совершенно случайного, ничего не подозревавшего человека! А затем еще его и убил! Ну Карнач и сволочь!
— Что сволочь редкостная, давно известно, — сказал Капинос. — Только, по–моему, чтобы наворотить столько, одного желания иметь красивую статистику маловато.
— Разумеется, — зло ухмыльнулся Прищепкин. — Не то уже время, чтобы так за цифирь бороться. Поэтому «производственная» версия с этой минуты становится для нас даже не приоритетной, а стратегической!
Фоминцев смерил Прищепкина сверху донизу внимательным взглядом. Словно видел его впервые, вот что для Георгия Ивановича было обидно.
— А ведь молодец! В корень зришь!.. Ладно, давайте думать, как нам дальше быть? Сделать вид, будто на уловку попались, дать себя обмануть?.. Между прочим, мне Карнач за завершение дела в нужном для него ракурсе квартиру обещал. Не удивлюсь, если старый лис рассчитывает содрать деньги с Ольги Генриховны за обещание скрыть от общественности «информацию» о ВИЧ-инфицированности и порочности мужа. Могу с вами честно бабками поделиться. Женя, сбегай вниз за Тарасюком, пусть и он в обсуждении поучаствует.
— Какие могут быть обсуждения, Гунар?! Неужели ты возьмешь из рук Карнача эти грязные деньги? — вспылил Георгий Иванович.
— Может и возьму! — Глаза Фоминцева превратились в две узенькие стальные щелочки. — Ты потом отсюда умотаешь, а мы, между прочим, останемся. Ладно только со службы полетим. Если водочник Миронов убит по заказу такого же водочника, а Карнач того прикрывает, то следующими кандидатами на «ВИЧ-инфекцию» будем мы! Хоть это понимаешь?
— Я… — от волнения и переполнившей обиды Прищепкин не находил слов, лицо его исказилось гримасой. — Как ты мог подумать, что я, как ты выразился, «умотаю»? Не дождешься! Вот не уеду из Киселевграда до тех пор, пока на запястьях убийцы Миронова и Карнача не защелкнутся наручники! Из принципа не уеду!
— Смотри, чтобы на твоих сначала не защелкнулись, — прошипел Фоминцев. — Уж тебе ли не знать Карнача.
— Пусть защелкиваются, — спокойно и решительно ответил Прищепкин. — Я только хотел сказать, что если вас попытаются убить, буду драться плечом к плечу с вами до конца. Насчет денег только — против решительно. Тем не менее от решения по вопросу продолжать или нет расследование — отстраняюсь. Такая вот у меня двойная получилась позиция… Но я исхожу из того, что у тебя жена, дети. У Тарасюка тоже семья. У Женьки дочь где–то растет. Мне же по фигу. Я никому не нужен.
— Сбежала, — неожиданно рассмеялся Фоминцев.
Интересный переход в настроении полковника получился. Ощущение такое, будто для себя он что–то вдруг решил, причем решил правильно, и тем самым сбросил с плеч некий тяжеленный груз. Ну и захохотал в качестве разрядки.
— Кто сбежал? — растерялся от такого поворота хода дискуссии Прищепкин.
— Жена от нашего Комиссара Жюса сбежала, — расхохотался уже во всю глотку Фоминцев.
— Она что, чемпионка по бегу? — захохотал и Прищепкин.
Перед взорами Капиноса и Тарасюка предстало фантасмагорическое зрелище: согнувшиеся от хохота милицейский полковник и частный детектив на фоне задумчиво висевшего на крюке для люстры голого неудачника Самойлова.
— Гунар Петрович, Жора, вы чего, белены объелись?
— Валера, вот о чем хочу тебя спросить, — справился со смехом Фоминцев. — Что тебе больше по вкусу: пуля из–за угла или майорское звание?
— Разумеется, я за то, чтобы мочить старого лиса Карнача! Это ведь он мне майора зажал. Ну и заодно, конечно, чтобы найти убийцу Миронова. А уж кто кого первым подстрелит — мы еще посмотрим, — ни секунды не колебался Тарасюк.
— А ты, Женька?
— Мне тоже давно майора получать пора. Я тридцать кружек пива за двадцать восемь секунд выпиваю.
— В таком случае и я за продолжение расследования, — торжественно провозгласил Фоминцев. — Нельзя сказать, чтобы Миронов был моим близким другом. Но зато мировым мужиком — факт. Чем не аргумент в пользу риска?
— Вот это уже по–нашенски! — прошептал Прищепкин в совершенном умилении невероятной красотой сцены, которую даже Самойлов не портил, скорее усиливал. — Ладно, займемся конкретикой. Наши действия?
— Тут и думать нечего, — сказал Фоминцев. — Карначу нужно втереть, будто мы приняли уловку за чистую монету. А сами будем дорабатывать «производственную» версию. Завтра же с утра на заводе начнется проверка ОБЭПа, будем надеяться, что она высветит имя человека, которому смерть Миронова была выгодна.
— Так ведь Карнач сразу же попытается отстранить тебя от дела и свернуть проверку.
— Дурачка включу, — ухмыльнулся Фоминцев. — Скажу, команду не успел отменить. По инерции покатила. Сейчас же, мол, отмашку проверке дам. А сам договорюсь с начальником ОБЭПа, у меня с Уваровым отношения дружеские, чтобы у него как бы связь прервалась, найти его нигде не могли, а между тем довели проверку до конца. Конечно, на тотальную проверку и двух недель мало, но чтобы извлечь некоторые сведения из горы документов — восьми часов окажется вполне достаточно.
— Сильный ход! — заключили Прищепкин с Капиносом, а Тарасюк тем временем с грустным, отсутствующим видом ковырялся в планшетке. Наверно, жену сбежавшую вспоминал.
— А что с Бурмистровым? С ним еще не разобрались, роль не выяснили, — задал однако вопрос Женька по существу.
— Да Бурмистрова Карнач просто так к версии прицепил, чтобы туманец в ней хоть какой–то присутствовал, как в любой дееспособной, — подумав, сказал Фоминцев. — Ну, видели наверно Миронова с Бурмистровым вместе, что с того. Пусть спокойно майонезы славит, никто его трогать не будет. Гарантию даю. И мы в свою очередь напрягать, пугать понапрасну Бурмистрова не станем.
* * *
Как и предполагал Фоминцев, ОБЭПовская проверка на водочном заводе уже к обеду накопала столько, что если б Петр Олегович был жив, его пришлось бы сажать. Впрочем, при живом Миронове такой проверки и быть не могло, он бы ее ближе чем за версту к заводским воротам не подпустил.
Разумеется, бухгалтерий у Зайцевой оказалось две: белая и черная. Четкая безупречная туфта для инспекций, и соответствующая истине для собственного, так сказать, пользования. Никак не менее пятидесяти процентов выпускаемой на заводе водки уходило на реализацию неучтенной. С поддельными акцизными марками. Коммивояжеры Миронова распихивали левак по московским и питерским магазинам, охватили Карелию, Вологодчину, срединный, крепко пьющий Урал.
Каждый работник завода, включая последнюю уборщицу, получал по две зарплаты: правую маленькую, потому что как бы честную, левую большую, от реализации неучтенки. И триста пятьдесят человек коллектива годами держали языки за зубами! Ведь все знали, откуда берутся «премиальные», и хоть бы кто стукнул. Просто так, чтоб гадость миллионеру сделать. Или со злости за увольнение. Хотя текучесть кадров на заводе была минимальной — люди за работу зубами держались, но ведь раздолбаи–то, которым лишь бы сегодня напиться, а завтра хоть трава не расти, все равно водились! (Как же мы без них!) Вот что значит для наших людей уважение, благодарность, а заодно и страх перед неминуемым возмездием уголовного авторитета! И работать добросовестно могут, и даже за ляпой следят.
Завод строил для работников жилье, имел собственный детский садик, в профкоме всегда был выбор путевок в санатории, профилактории и дома отдыха — девяносто процентов стоимости которых оплачивал сам профком и только десять работник. На заводе имелись приличная столовая и оздоровительный комплекс, медпункт с опытным терапевтом и набором необходимых лекарств. Все как при ненавистном СэСэСээРе, разве что без бюста Ильича в заводском дворике и партийных собраний.
Кругом чистота, сосредоточенные люди в синих халатах. По конвейеру лебедями плыли водочные бутылки, одни умные машины заливали в них живительную влагу, другие, не менее умные, закручивали пробки, третьи — самые, наверно, умные — клеили этикетки и поддельные акцизные марки. Фоминцеву на глаза не попалось ни одной похмельной рожи. Нет, это уже не СэСэСээР. Но еще и не Финляндия.
Стоп, на заводе ведь оборачиваются огромные суммы наличных денег… Уж не стал ли Миронов жертвой банального ограбления?
Прижав мироновского зама по производству в теплом месте к холодной стенке, Фоминцев узнал от него все подробности нального оборота. Конечно, под честное офицерское слово не давать ходу дела и не фиксировать свидетельские показания. Фоминцев занимался расследованием убийства, и ОБЭП в первую очередь — тем же, полковник свое слово сдержит.
Ага, размечтался. Разумеется, что Миронов этих денег и не касался, в погреб на даче не складывал. Деньги с нального оборота стекались в сейф бухгалтерии. Сейчас их там, правда, не было, вопросы к Зайцевой.
Бедная Зайцева, вчера ее полдня пришлось отпаивать сердечными. А ведь это только начало. Не ходите, девки, в бухгалтера, тем более не устраивайтесь на водочные заводы! В шахидках, наверно, безопаснее. Ходишь себе по Москве с полосатой китайской сумкой и спрашиваешь: где Дум, чего к «Метрополь» посылаешь, как к Дум пройти?
Накануне убийства, в пятницу, на заводе были «ответственные по сбыту неучтенки». Три человека. Сдали деньги Зайцевой да и уехали. Уж не на дачу ли к Миронову? Этого зам по производству не знал, как не знал он и фамилий этих «ответственных». Только в лицо. Естественно, меньше знаешь — дольше живешь.
Неучтенная водка вывозилась с завода самими «дилерами»? Ну да, конечно, заводским автотранспортом водка развозилась только в пределах города. Такой порядок и на молокозаводах заведен. Вся же неучтенка реализовывалась за пределами Киселевграда. Номера фур? Проскуров не помнил. Не беда, в папках черной бухгалтерии пороемся. Выписывались же какие–нибудь ТэТээНки. Далеко ведь без них не уедешь, до первого поста разве. Найдем «дилеров», из–под земли милых выкопаем!
Настроение у Фоминцева поднялось до самой высокой отметки — авантюра явно вытанцовывалось, Карнач не трогал — о проверке пока не знал. Подозреваемых скоро наберется столько, что лишних только карандашиком вычеркивай. Для этого лишь понадобится как следует допросить «ответственных по сбыту неучтенки». Уж эти–то все знают. И конкурентов Миронова, и врагов. Пусть заодно и сами алиби представят, сумеют, каждый по отдельности, убедить Фоминцева, что не имели резона убирать хозяина.
* * *
«Где Капинос заветный свой бидон «молочный» прячет?» — ломал голову Прищепкин, наводя, во время Женькиного отсутствия, во времянке и в саду большой шмон. Женька поклялся с пивом завязать, вынудил его таки дружбан старинный, но пару дней только и выдержал, втихаря, не выходя за калитку, где–то прикладывался и возвращался к Прищепкину уже веселеньким, пивом пышущим и с брюхом, словно барабан проглотивши. Прищепкин сам лет десять на пробке отсидел, все уловки алкашеские изнутри чувствовал, но… не было нигде «молочника». А ведь не иголка, между прочим.
Обливаясь потом, вечер задался душным, Прищепкин даже стволы вишневые обстучал. Что было, конечно, глупостью, потому что и самая толстая вишня заведомо тоньше бидона проклятого. Может, в туалетной будке прячет?.. Нет, там даже свинья не станет пойло хранить: вонизм, мухи роем.
Георгий Иванович пытался представить себя Женькой, а стул с милицейской фуражкой — Георгием Ивановичем. Ну, так куда бы я от мента закодированного, сыскаря с двадцатипятилетним стажем пойло–то спрятал?
Однако войти в образ полностью не получалось. Уж больно противен был Прищепкину воображаемый напиток вонючий. Перестарался урод Данченка.
Жара, жара… Хоть и вечер — никакого спасу! Даже мухи, над очком которые неутомимо кружились, все на доски посели. На Кисель–реку мотнуться?.. Нельзя, скоро ребята собираться начнут, мало ли что важное! В душе, может, освежиться?
Прищепкин развесил одежду на вбитых в доски гвоздях, поднял лицо к цинковой брызгалке и, зажмурившись, крутанул кран. Мать честная! Лучше бы на него хлынул поток мочи! Потому что вместо воды хлынуло… вонючее, мерзкое пиво! Прищепкину пришлось потом долго тереться мочалкой с мылом и омываться холоднючей водой из–под крана.
Вернулся к летнему душу с лестничкой. Ай да сукин сын, ай да кулибин! Женькин бидон «молочный», горловиной вниз, был установлен прямо в бочке. (Пустой, естественно.) Двухметровому Женьке было вполне удобно, сняв брызгалку, сосать пиво прямо из хвостовика крана. «Ну, клятвоотступник, погоди! Ужо залью туда уксусу», — успел только подумать Прищепкин, как услышал в саду чьи–то шаги.
То был Фоминцев, довольный как слон и с бутылкой «Князя» под мышкой.
— Слушай, — возмутился Прищепкин, — за упокой Миронова мы уже столько перепили. Давай хотя бы до его девяти дней продержимся.
— За успех выпьем, — смутился Фоминцев. — Кажется, мы сегодня здорово продвинулись. Ну и духота! В душе, что ли, ополоснуться?
— Ополоснись, ополоснись, — хмыкнул Прищепкин. — Мыло с мочалкой у плиты во времянке.
— Я так, — бросил Фоминцев, на ходу расстегивая пуговицы форменной рубашки. — Чисто освежиться.
Через минуту из душевой загремел полковничий хохот:
— Хороша водица! Жора, кинь мне воблу намылиться. Ты прав, водку сегодня можно не пить.
По садовой по дорожке застучали чьи–то ножки. Комиссар Жюс с завода примчался.
— Жора, где Фоминцев?
— В душе освежается.
— О, и я хочу. Духотища невозможная.
— Правильная мысль, — закричал из душевой Фоминцев. — Ходи сюды, не стесняйся, голых полковников, что ли, не видел. Только кружку с собой прихвати.
— Шутите все, Гунар Петрович. Интересно же на вас висельники действуют.
Тарасюк скрылся за брезентовым пологом. Взрыв хохота. Бульканье…
— Гунар Петрович, неужели мы весь бидон оприходовали? А что Капиносу скажем?
— Да так, скажем, и было. — Очередной взрыв хохота.
— Выдули?.. Ну, теперь я предлагаю залить в бидон уксус, Женька клятву нарушил.
— Да мы что, Жора, фашисты?! Лучше «Князя».
— Ладно, не хотите уксус, согласен на воду, — проворчал Прищепкин.
В бидон тут же кинули шланг.
В беседку просунулась широкая ряшка Капиноса. Глазки бегающие.
— Ох и запарился сегодня! Верите, аж портупея насквозь. Душ, может, принять?
— Не получится, Женя, некогда, выезжаем на поимку убийцы Миронова, — с самым серьезным видом сказал Фоминцев.
— Что, прямо сию минуту и выезжаем? — уныло спросил Капинос.
— Вот именно, товарищ капитан, — официозно подтвердил Фоминцев.
— Товарищ полковник, ну хоть на секундочку в душ. Говорю же — портупея насквозь.
— Ладно, товарищ капитан, одна нога здесь, другая там. Быстро!
— Гады!!! — завопил Женька из душевой. — Весь день ждал этого момента!
Менты грохнули так, что с вишен посыпались сухие листья. Зазвонил мобильный Фоминцева.
— Это Карнач, — сказал тот, сосредоточиваясь.
— Бу–бу, бу–бу, бу–бу! Бу–бу!!! Бу–бу, бу–бу–бу, бууууу!!!
— Какая проверка, товарищ генерал?.. Да они там сбрендели, наверное!
— Бу–бу–бу! Бу–бу–бу! Бу-у! Бах–бах–бах!!!
— Товарищ генерал, моя–то в чем вина?
— Бууууууу!
— Так я, получается, виноват, если у начальника ОБЭПа своей головы на плечах нет? Ну чего, спрашивается, приперся на завод, если был в курсе про самоубийство Самойлова?
— Бу–бу–бу-бу, бу–бу–бу–бу, бу–бу–бу–бу!
— Как это «связи нет»? Мы что, в каменном веке живем?
— Бууууу!!!.. Бу–бу–бу-бу, бу–бу–бу!
— А кто ответственность на себя возьмет, Пушкин?
— Бу!!!
— Есть, товарищ генерал! Все понял: достаю Уварова из–под земли, уничтожаю акты проверки, провожу беседу с личным составом ОБЭПа!
— Бу–бу–бу! Бу–бу–бу!
— Есть, товарищ генерал! Служу России! Спокойной вам ночи, Григорий Калинович!
— Да пошел ты… — Это Фоминцев догадался наконец тиснуть кнопку «громкой связи».
— Гунар Петрович, — смутился Капинос, — выходит, мы и Уварова подставили?
— Пришлось, — пожал плечами Фоминцев. — Если семьи на кон поставили, то разве можем позволить себе роскошь выбирать средства для достижения победы?
— Уваров хоть в курсе нашего плана? — спросил Прищепкин.
— Нет, Жора, пришлось ввести его в заблуждение. Ребята, ну не уболтал бы я Уварова иначе, понимаете?
— Понимаем, — дружно кивнули Тарасюк и Капинос. А Прищепкин отвернулся.
— Теперь мы обязаны — кровь из носу, мозги на асфальт! — мы просто должны, должны и все тут — довести расследование до конца! — пафосно, адресуя менее сознательным соратникам, заявил он.
— Ежу понятно, — холодно сказал Фоминцев.
— Шеф, наши действия? — спросил Тарасюк, любовно поглаживая кобуру.
— Снимаем показания у троицы замов по сбыту. Ну, тех, которые приезжали с отчетом на дачу к Миронову. Местные мужики, киселевградские. Дома сейчас, наверное, спят. Тарасюк с Капиносом поедут в гости к Богданову — он из троицы самый матерый. Я — к Маргеляну. Жора — к Филиппову. Пусть представят алиби. У кого нет — в принципе, имеем право на задержание. Вызывайте дежурку без всяких чиканий.
— Дежурные в курсе?
— Естественно, — ухмыльнулся Фоминцев.
— И в дежурной части лапши успел навешать? — Такую дерзость по отношению к полковнику мог себе позволить только Прищепкин.
— Пропадать так с музыкой! — отмахнулся Фоминцев. — Учтите еще и такой момент: показания начинаем снимать синхронно. Нельзя допускать, чтобы подозреваемые перезванивались. При необходимости применяйте оружие. В общем, ровно в 23.00 каждый из нас уже должен находиться в квартире у подозреваемого.
— Гунар Петрович, а ведь после 22.00 жилище неприкосновенно, — напомнил Тарасюк.
— Можем, конечно, отложить до утра, но никаких свидетельских показаний тогда не получим. Потому что в 8.10 нам дадут ознакомиться с приказом Карнача об отстранении. Все понятно?
— Тогда разъезжаемся.
Что угодно ожидал Прищепкин от своего позднего визита к Филиппову, вплоть до кровопролития. Вранья был готов наслушаться, угроз. Однако меньше всего, что его накормят наваристым борщом, что «снятие показаний» с Филиппова превратится в задушевную с ним беседу. О чем? Ну о чем могут говорить без бутылки (а еще душевнее с нею) среди ночи на кухне два симпатизирующих друг другу русских человека, если не о судьбе своей любимой до ненависти России? Только о ней, о холодной, злой и несчастной родной земле. О земле пропитой, оплеванной, одураченной, земле обворованной на сотни лет вперед. О Родине, давшей им счастье–несчастье жизни, но определенно угробившей их отцов и дедов, вся беда которых заключалась в том, что они тоже не знали, счастье или несчастье сама жизнь.
— Ну нельзя так рассуждать, счастье или несчастье. Нужно просто постановить для себя — счастье! И строить, делать это счастье своими руками день за днем сотню лет до тех пор, пока жизнь действительно не станет сносной. А если будем и дальше ныть да при этом гадить под себя, то Бог отнимет у нас право на эту землю, вообще на существование! — горячо говорил Филиппов, размахивая ложкой.
— Для меня жизнь — счастье, для тебя — счастье. Почему другие люди какие–то неприкаянные?
— А просто масть такая пошла — чувствовать себя несчастными, поток общий хлынул. И чтобы вырваться из потока к ощущению собственной самодостаточности, нужно прилагать усилия, всем назло жить своим умом, наконец, чем–то пожертвовать. Тебе пришлось жертвовать?
— Семьей, — мрачно ответил Георгий Иванович. — А тебе?
— Мы потеряли лидера — Петра Олеговича. Без Миронова наше движение «Возрождение России» зайдет в тупик. (Сколько уже было создано подобных движений! Как красиво они начинали!) Мы лишились материальной базы, остались без генератора идей. Но все равно хоть успели понять, как жить дальше, и поэтому будем счастливыми вопреки всему!
Опять разговорчики ночные возобновились на русских кухнях. Возрождение этой традиции стало непреложной истиной. Поэтому нет нужды воспроизводить весь разговор между Прищепкиным и Филипповым на бумаге, все и так смогут его представить. Будем по существу.
Все три «зама по реализации неучтенки» — бывшие воспитанники самбистской секции Миронова, люди беспредельно ему преданные, ближайшие его соратники по руководству общественной организации, вернее даже партии, которую Петр Олегович планировал в самое ближайшее время зарегистрировать и вывести на российскую политическую орбиту. Да, это дорогое удовольствие — собственная партия, поэтому пришлось идти на прямое нарушение законов, создание прямо–таки мафиозной структуры с привлечением Управления МВД, в первую очередь Карнача… Кто–то из милицейских чинов согласился закрыть глаза на нелегальную часть бизнеса Миронова «по долгу совести», кто–то — за деньги. Григорий Калинович, к сожалению, политических взглядов Миронова не разделял и брал за содействие баксами. Да, это Карнач был четвертым гостем Миронова на даче. С ним нужно было согласовать передвижение по дорогам области фур с левой водкой и пароли для ГИБДДэшников.
— Алиби?
— Ну, для порядка, — смутился Прищепкин. — Фоминцев просил.
— Во сколько совершено убийство?
— Примерно в пять утра… Если, конечно, верить заключению патологоанатома, человеку Карнача.
— Мы уехали от Миронова около одиннадцати вечера. А в час ночи уже вылетели в Москву.
— Все трое?
Филиппов кивнул.
— Карнач после вашего отъезда в аэропорт остался у Петра Олеговича?
— Нет, уехал еще раньше. Где–то в около девяти.
— Охранники в тот вечер были на даче?
— Разумеется. Ведь и должны находиться при хозяине неотлучно.
— И последний вопрос. Может, Миронова все же заказал кто–то из конкурентов? Были у него враги?
— Конкурентов — воз с тележкой. Но Петр Олегович обладал талантом подбирать ключ к любому человеку и превращать врагов в друзей. Он умел договариваться, находить компромиссные решения. Так что враги были у него только в самом начале бизнеса, когда его таланты еще мало что значили и пока не встал на ноги.
Прищепкин связался с Фоминцевым.
— Что там у тебя?
— То же, что и у тебя, — нервно буркнул Фоминцев. — Сейчас еду к губернатору.
— В три часа ночи! С ума сошел? Да он тебя на порог не пустит!
— Если не удастся пробиться прямо сейчас к губернатору и не нарисовать картину того, что делается у него под носом, то…
— Что «то»?
— До утра можем не дожить… Не удивлюсь, если квартиры наших свидетелей прослушивают. Все, еду! Некогда тут…
* * *
Григорию Калиновичу, чтобы уснуть после известия о проверке на заводе, пришлось принять несколько таблеток снотворного. Поэтому, когда наконец сумел разлепить веки и поднять трезвонившую не менее получаса телефонную трубку, долго не мог сообразить, чего он него хотят на другом конце провода. А когда все же сообразил, чуть трубку не выронил: «Гребаный Фоминцев!»
— Перехватить гада!.. Что не ясно?.. Огонь на поражение!
Но было поздно, Фоминцев в этот момент уже сидел на кухне у заспанного губернатора, прихлебывал кофе и вводил, вводил, бедненького, в курс дела.
…Занималось утро. Григорий Калинович поливал из лейки огурцы в парнике и перебирал события своей жизни, жадно вдыхая запахи огуречной пыльцы и влажного чернозема. У Григория Калиновича не было блата, каких–то влиятельных родственников, поэтому все, чего он добился в жизни — генеральского звания, материального благополучия — добился сам. И служил Григорий Калинович стране верой и правдой довольно долго, примерно до майора. А потом начал приглядываться: как начальство–то служит? И обнаружил, что на идеалы, защищая которые Григорий Калинович под пули лез, большинству из них глубоко наплевать. Что за место у кормушки, допуск к распределителю, импортную кофту для жены или любовницы, джинсы для сына и приличное место на кладбище для тещи они не то чтобы народ и партию, мать родную продадут. Переварив сей факт, пришел Григорий Калинович к неутешительному выводу, что рьяные, вроде него, служаки номенклатуре не нужны. Поэтому выше он по службе не продвинется, будут каждый раз задвигать назад. Чтобы под ногами не путался, не мешал номенклатуре делать лично для себя светлое настоящее.
И Григорий Калинович, которому в послевоенном деревенском детстве и голодать приходилось, и на лесосеках, выдавая «кубы» нормы, надрываться, что называется, решительно перековался, пустился во все тяжкие. Уж больно его жизнь в свое время помытарила, захотелось хоть вторую половину ее как–то сбалансировать — чтобы в целом нормальной, человеческой получилась. И ведь как по маслу сразу пошло все: звания, должности, награды! Много мерзостей пришлось совершить, основательно испачкался. Но особенно низко пал он — ниже еще не приходилось — в первую очередь перед самим собой, в глазах собственной совести пал, в деле Миронова. Надо ж было тому случиться, что какая–то падла порешила водочника через несколько часов (генерал действительно представления не имел, кто убил Петра Олеговича, охранников) после «мафиозной планерки», на которой присутствовал и он, начальник Управления внутренних дел области! Да если б ему еще несколько лет назад кто–нибудь сказал, что для уничтожения следов участия в подобной сходке он, Григорий Калинович Карнач, окажется способным оклеветать и отдать приказ на убийство совершенно случайного человека (Самойлова), на поджог дактилоскопической лаборатории, которой отдал столько сил и энергии… Застрелился бы сразу.
Приходится стреляться теперь, когда эти фокусы вылезли наружу. Сейчас все равно ничего другого не остается. Что ж, за все приходится рассчитываться. За джип, за коттедж, деньги. Главное, за погоны.
Григорий Калинович полил еще и перчики. Молодцы, много завязей дали! Вдосталь будет перца осенью! Проблема в одном — сумеет ли жена правильно засолить?
Григорий Калинович хотел запечатлеть рецепт засолки в предсмертной записке, но потом решил, что этак не успеет застрелиться. Ведь с минуты на минуту на даче должен появиться гребаный Фоминцев, которого, конечно же, в самое ближайшее время представят к генералу и предложат возглавить Его Управление, появится собственной персоной губернатор, возможно, прокурор… Что самое унизительное, вместе с ними будет и пара рядовых ментов с автоматами для конвоя. Нет уж, фигу, умру до ареста.
Григорий Калинович скоренько помылся в душе, надел новое белье и парадный генеральский мундир с орденами. Родина, между прочим, наградила! Не вы, шакалы!
Горло пересохло. Оно и понятно, не каждый день стреляться приходится. Коньяку?.. Нельзя! По пьянке, скажут, стрелялся. Обойдусь водичкой.
Он загнал в ствол патрон, залпом выпил стакан воды и тут же, недрогнувшей рукой, приставил дуло к сердцу и нажал на курок.
* * *
— Ну что, братцы–менты, есть у вас версии? — уныло обратился Фоминцев к поисковой группе, скручивая жестяную пробку с очередной «мироновки».
— Нету, Гунар, версий, — столь же уныло подытожил Прищепкин и за себя, и за Тарасюка с Капиносом.
— Хоть возьми и застрелись. За компанию с Григорием Калиновичем, — сказал Капинос, который вторые сутки мучился от «пивной жажды».
— Пусть с ним за компанию патологоанатом стреляется, — пробурчал злопамятный Фоминцев. — Однако давайте ближе к делу. Несмотря ни на что, я все же думаю, что прорабатываемые нами версии — «производственная» и «бытовая, личная» — так и остаются единственно перспективными. Наша беда в том, что в силу обстоятельств мы оказались вынужденными скакать по этим версиям галопом. И поэтому наверняка пропустили те самые узелки, зацепки, которые могли бы направить расследование в нужное русло. Например, нам так и не удалось снять показания с Александра Генриховича и Ольги Генриховны, как следует допросить Аглаю Владимировну, которую можно и нужно как следует разговорить тем, что припугнуть статьей за соучастие. Кроме того, мы до сих пор не сняли показания с мироновской «челяди»: ни с охранника Деменкова, ни с жены его Гули, ни с водителя Симчука, ни с черта–повара Угольникова. Разве что на похоронах зрели мы племянника Петра Олеговича Славу и его невесту Джулию. Наконец, мы не проверили пока ни одного алиби. Действительно ли начальник охраны Воропаев ездил в Тамбов на юбилей к теще? Что, если никуда он по купленным билетам не ездил, и никакой тещи в Тамбове у него отродясь не было? То же самое и в отношении мироновских соратников по партии. Проходили данные товарищи регистрацию на ночной рейс в Москву?.. А вот и неизвестно, нет у нас такой информации. Край непочатый также для нас в исследовании коммерческой деятельности Петра Олеговича. Нам ведь так ничего и не известно о происхождении его «стартового капитала». В общем, давайте все начинать заново. Кто возьмет на себя общение с мироновской прислугой?
Тарасюк с Капиносом переглянулись.
— Мы возьмем. Работали с охранниками, следовательно, Деменков по нашей линии приходится. Заодно скрупулезно проверим алиби Воропаева, встретимся со лжесвидетельницей Аглаей Владимировной, Гульнарой, Симчуком да чертом–поваром.
— Хорошо, в таком случае я опять займусь «производственной» версией, а заодно проверю алиби соратников, — сказал Фоминцев.
— Мне остаются домочадцы Миронова, — констатировал Прищепкин.
Фоминцев разлил водку по стопарям.
— Уже и не знаю, за чей упокой пить? Столько трупов… За всех сразу, что ли?
— За упокой Карнача, извините, пить не буду, — заявил Тарасюк.
— Не по–христиански получается, — заметил Капинос, готовый выпить и за упокой генерала, да только пива.
— Давайте лучше за упокой несчастного Самойлова, — предложил Прищепкин. — Мне кажется, что в этой истории он более других покоя заслуживает.
— Мда, жил человек, никому не мешал. Спартака плясал, этого… Жизеля… Взяли, козлы, да повесили. За упокой Самойлова, — сказал Фоминцев, опрокидывая стопку.
— Обратите, братцы–менты, внимание на такую деталь. Получается, как был у нас обыватель беззащитным перед произволом властей, так и остался, — грустно заметил Прищепкин.
— Ничего подобного, — возразил Фоминцев. — Привожу слова губернатора: «Исполнители воли Карнача должны быть найдены и примерно наказаны. Хватит милиции быть пугалом для народа». Я уже примерно догадываюсь, чья это работа. Как только закроем дело Миронова, раскручу по полной программе. Что, братцы–менты, по второй?
* * *
— Ольга Генриховна при всем желании не может дать показания. Она в психиатрической лечебнице: нервный кризис, — поведал Прищепкину великолепный Александр Генрихович. — По мнению психиатра, в лучшем случае будет вменяема только через неделю. Славы с Джулией дома нет. Чтобы как–то переключиться от переживаний, поехали в Воронеж, навестить знакомого. Будут завтра утром, тогда и договоритесь о встрече. Что же касается меня, то я уже собрался в лечебницу к Ольге. Может, и со мной встретитесь завтра?
Что оставалось ответить Прищепкину? Только согласиться с вариантом, предложенным Александром Генриховичем.
Между прочим, у следственной группы так и не получилось просмотреть на видео снятую похоронную процессию. Урывками, между распитием несчетных заупокойных стопарей, просмотрели лишь несколько разрозненных отрывков. И Прищепкин решил восполнить образовавшийся пробел, тем более что до завтрашней встречи с Александром Генриховичем оказался свободным.
…Гроб, венки, венки, венки. Играющая на солнце медь оркестра военного гарнизона. Плачущая лошадиная морда крупным планом. Ну, это можно было не снимать, подумал Георгий Иванович. Бизнесмены, политики, кому–то оживленно вещающий лапшу на уши Жороновский: «И Лифляндию — на колени перед русским солдатом, и Чухну эту злобную! А Америка, помяните мое слово, таки допросится от исламистов применения оружия массового поражения. На своей территории… Водка для ветеранов войны и труда будет бесплатной — заслужили! Коммунисты эту водку зажали, сами, небось, выжирали, а мы — вернем. Однозначно!»
Рыдающие работницы завода, суровые лица работников. Ага, вот и Филиппов: черты лица искажены, горе неподдельно. Кто это рядом с ним такой несчастный? Маргелян, наверно. А Богданов явно выпивший. Оно и понятно — стресс.
Ага, родственники. Несчастная–несчастная Ольга Генриховна, вид такой, что и ее хоть в гроб клади. Даже Александр Генрихович на похоронах был не столь великолепен, как обычно. Кстати, кто эта толстушка и почему с такой ненавистью и презрением смотрит на Славу? Елки зеленые, да это ведь Джулия!.. Презрение, впрочем, вполне объяснимо. Женщины имеют глупую привычку сравнивать своих мужчин с теми, кому лично и на фиг не нужны: рядом с Петром Олеговичем Слава казался блеклым папоротником на фоне дуба. Однако стоит ли ненавидеть папоротник только за то, что не родился дубом?..
Прищепкин просмотрел эти кадры еще раз, затем еще… Интересно, подумал он, никому даже в голову не пришла мысль, что и алиби Славы также нуждается в проверке. Вот решили проверить соратников: действительно улетели из Киселевграда ночным рейсом? Будем проверять Воропаева: ездил ли с семьей в Тамбов? Славино же алиби приняли как нечто, не подлежащее сомнению.
По свидетельству Александра Генриховича, Слава должен был прилететь из Штатов только к похоронам… Ну да, зачем было вылетать раньше? Позвонил Александр Генрихович, сообщил об убийстве — Слава в своем Лос — Анджелесе связался с представительством «Дельты» и купил билеты. Какие варианты, что не нравится? Прищепкину не понравился взгляд Джулии, который почему–то не вписывался в составленную модель: позвонил Александр Генрихович — Слава связался… А не мог ли Слава связаться с «Дельтой» раньше, еще до известия о гибели дяди? В принципе, что могло помешать ему вылететь в Россию раньше? Почему у Славы не могло возникнуть такого желания? Каждое лето прилетал домой на каникулы, а этим летом, получается, решил повременить до получения известия о смерти?.. В каких числах июня он прилетал в прошлом году, в позапрошлом? Кого бы спросить?.. Разумеется, «должницу» Аглаю Владимировну, подумал Прищепкин, набирая номер квартиры Мироновых.
— Обычно Слава прилетал в самых первых числах месяца. Но в этом году почему–то задержался, — ответила Аглая Владимировна с суетливой готовностью.
— Он предупреждал о приезде заранее?
— Нет, эта хорошая манера у Славы почему–то отсутствовала.
Не рассуждая более, движимый чувством, подобное которому испытывает почуявшая дичь охотничья собака, Прищепкин набрал справочную Шереметьева‑2 и попросил номер пограничного контроля.
Вячеслав Миронов прибыл рейсом из Лос — Анджелеса третьего июня, ответили пограничники.
Между прочим, Миронов был убит четвертого, похоронен седьмого. Что хочешь, блин, то и думай!
Утром Прищепкин первым делом позвонил Славе, чтобы договориться о встрече после обеда. И как бы без всякой задней мысли напомнил прихватить паспорт.
— Зачем? — весьма правдоподобно удивился Слава.
— Должен же я занести в протокол паспортные данные.
— Наизусть помню, так продиктую.
— Потеряли неужто?
— Засунул куда–то. Понимаете, тут такое творилось.
— Ладно, обойдемся без паспорта, — как можно небрежней ответил Прищепкин, чтобы Слава ничего не заподозрил.
Разумеется, Славе никак нельзя было показывать паспорт, ведь в штампе о прохождении пограничного и таможенного досмотра была проставлена и дата. Связался с Фоминцевым.
— Ждать до обеда? Да знаешь, где он через три часа будет? У монгольской границы. Ищи потом ветра в поле. Берем прямо сейчас! — сказал Фоминцев.
— А что с Джулией?
— И ее возьмем! Подумаешь, американская подданная. Кто–нибудь да расколется: почему делали вид, будто прилетели только к похоронам? Чем занимались в ночь убийства?
Колоть, впрочем, не пришлось. Слава был умным мальчиком и понял, что на крючке, сразу после звонка Прищепкина. Но драпать, кажется, и не собирался. Попросил оформить чистосердечное признание… Вся следственная группа испытала такой каскад ощущений… Словно за шиворот им вылили по ковшу ледяной воды, будто стали свидетелями приземления на заводском дворе «Вымпела» НЛО, познакомились с говорящей собакой, распевающим попсовые шлягеры филином. Искали, блин, искали, на чеченцев уж собрались бочку катить. Шутка ли — гора убитых, самоубийство генерала, превращенная в головешки дактилоскопическая лаборатория, загубленная на корню свежая политическая партия — и все из под «легкой» руки–лапки какого–то, извините, кролика!!! Субтильного интеллектуала–очкарика, которого никак нельзя причислить ни к врагам Петра Олеговича, ни к его конкурентам… Более того, близкого родственника Петра Олеговича, кровного, любимого родственника!!! Бред, бред и еще раз бред! Однако бред, оказавшийся чистейшей правдой!
— Четырех человек, считая охранников, грохнул, так или иначе пожизненное дадут, — криво ухмыльнулся, пришедший в себя первым, Фоминцев.
— Я совершил страшный грех, убил человека, заменившего мне отца, которого искренне любил больше всех в жизни. Убил охранников. В этом и хочу чистосердечно признаться. А наказание меня уже не пугает…
Как и в прежние годы, Слава хотел сделать сюрприз приемным родителям и нагрянуть без предупреждения. Он знал, что с пятницы на субботу Петр Олегович будет на даче с ближайшими компаньонами по бизнесу, соратниками по создаваемой партии. (Честно говоря, Ольгу Генриховну он тоже любил, но гораздо меньше, поэтому сюрприз готовил для приемного отца.) Джулия любила Петра Олеговича гораздо больше, глубоко и страстно, однако Слава почему–то считал — по наивности, книжник ведь, — что исключительно как родственника, ни в коей мере как мужчину своей мечты. Однако по дороге из Москвы в Киселевград Джулия призналась Славе в своих чувствах. По этой причине сильно повздорили, и Джулия сказала Славе все, что о нем думала. До Киселевграда добрались поздно вечером, Слава отказался брать с собой Джулию на дачу к Петру Олеговичу и снял ей номер в гостинице.
Пустое занятие — попробовать передать на бумаге все те чувства, которые переживал Слава по дороге на дачу. Ведь как только Джулия его не обзывала! Слизняк, бросила в лицо, ничтожество! Слава любил Джулию, ведь та была коренной американкой, а страна, способная объявить импичмент президенту за такую ерунду, как измена жене, внушала ему священный трепет. Это великая страна, абсолютно здоровая и морально, и физически! В конце концов Штаты проглотят весь мир, и у них есть на то священное право! В общем, Слава полюбил Джулию такой любовью, какая иногда воспламеняет папуаса по отношению к белой женщине. Как любят двуногих человеческих особей, надеясь получить покровительство, бездомные собаки. Слава сгорал от ревности, Слава спешил к дядюшке, чтобы получить уверение, что между ним и Джулией ничего не было. Он жаждал также получить толкование возникшей ситуации, каковой бы та ни оказалась, то есть при любом раскладе, получить разумный совет, как вести себя по отношению к Джулии впредь. Разумеется, Славе также не терпелось припасть к широкой груди Петра Олеговича, крепко его обнять. Да, припасть и обнять, он не оговорился. Ревность ревностью, но любовь к приемному отцу, преклонение перед ним остались незыблемыми.
Слава подъехал к даче. Светилось только одно окно — спальни Петра Олеговича. Ну конечно, охранников отправил спать, сам корпит над документами.
Слава знал на даче все ходы и выходы, отлично ориентировался в темноте. Взял лестницу, которая, как обычно, стояла прислоненная к стене бани, понес к дому.
— Стоять на месте! — вдруг услышал окрик за спиной.
— Свои, — ответил Слава, узнав голос Сереги Тищенко. «Бдит, молодец!» — подумал Слава, решив замолвить за него словечко дядюшке.
Они обнялись, Слава сунул Сереге специально привезенный для него «Паркер». Поэт!
— А где машина?
— Оставил на дороге, чтобы шумом мотора не выдала. Хочу сделать Петру Олеговичу сюрприз.
— Давай–давай, как раз тебя вечером вспоминал.
Сергей отступил в темноту двора, Слава полез верх по ступенькам.
Родственники долго тискали друг друга в объятиях. Петр Олегович воспользовался ситуацией и налил племяннику «мироновки». Неужели за встречу выпить откажется? Не имеет права! Выпили. Всего–то по стопочке, но для Славы стопочка — все равно что другому литр.
— Ну, теперь рассказывай, как ты там жил? Как развиваются отношения с Джулией? Уже познакомился с ее родителями? Согласятся на переезд дочери в Россию?
И Слава, не кривя, душой рассказал все, что думает относительно Штатов, перспектив России. Признался, что решил–таки отказываться от российского гражданства. И Джулия здесь ни при чем. Из принципа откажется, потому что ненавидит эту страну, — можно ведь и двойное гражданство иметь. Рассказал и о резко переменившемся к нему отношении Джулии, о своих подозрениях в измене.
— Дурак! Молокосос! — вскипел Петр Олегович. — Что мешает тебе жить в России достойно?! Чего тебе не хватает, цивилизованности власти?.. Какое тебе дело до власти? За собой следи! Однако правильно Джулия определила: ты не человек, а слизняк и ничтожество! Решил, будто из–за того сказала, что я с ней трахаюсь?! Вот в этом–то умозаключении твое ничтожество на все сто и раскрывается! — И Петр Олегович отвесил племяннику такую затрещину, которую тот заслуживал. Обессилено опустился в кресло — не ожидал такое услышать от племянника.
В Славу словно бес вселился, кровь и водка — несчастный разъединый стопарь! — ударили в мозг ослепляющим жаром. Не в состоянии отдавать себе отчет, Слава бросился к стене, выхватил из ножен самурайский меч. Размахнулся и изо всей силы рубанул Петра Олеговича по шее. Меч оказался острым — сработал будто гильотина, голова Петра Олеговича отлетела в сторону. Из шеи фонтаном хлынула горячая алая кровь. И крикнуть не успел. Тем не менее туловище Петра Олеговича поднялось, совершило несколько неуверенных шагов в сторону распахнутого окна и только затем рухнуло.
Слава знал, что в столе у Петра Олеговича хранился пистолет. Оказался на месте. «Весьма кстати, — мелькнула мысль, — ведь придется убить и Сергея». В душе его вдруг установилось железное спокойствие. Откуда оно взялось? Да ведь так и должно быть — состояние аффекта исчисляется секундами. А затем ослепляющий жар сменяется ледяным холодом. Слава протер салфеткой рукоятку, а заодно и лезвие меча. Спустился во двор и даже отнес лестницу на место. Полез через забор.
— Ты куда? — опять возник за спиной Сергей.
— За машиной, — ровным голосом ответил Слава, сжимая рукоятку пистолета.
Но Сергей не слышал перепалки, ничего не заподозрил.
— Пойду отрывать большие ворота, — только и сказал охранник.
Пока дошел до оставленной на дороге машины, в голове у Славы уже возник план убийства Сергея. «Я вам сейчас покажу сопляка и ничтожество», — прошептали его губы.
Чтобы выстрелы не разбудили Марецкого и Егорова, отогнал машину от дачи еще километра на два. И осторожно съехал с дороги в заросшее осокой мелкое озерцо. Набрал мобильник Сергея.
— Слушай, я тут с поворотом не справился. Слетел в какое–то болото да завяз по ступицу. Приезжай вытаскивать.
— Хорошо, только ребят разбужу.
— Не надо никого будить. Сами справимся, — запротестовал Сергей.
— А если не справимся? — возразил Сергей. — Прихвачу на всякий случай.
— Ладно, приезжайте, — пришлось ответить Славе.
Улучив момент, когда охранники, взявшись за раму, пытались приподнять машину, чтобы можно было забрасывать под колеса коряги и ветки, Слава хладнокровно расстрелял охранников. Затем на первой передаче таки выбрался на дорогу — джип, триста лошадей под капотом! Загрузил трупы в «опель» охраны и на буксире допер до моста через Кисель–реку. Столкнул «опель» вместе с трупами в реку.
К утру был уже в гостинице и вместе с Джулией отправился в Воронеж, в котором жил старинный его приятель. И доехать–то не успели, как позвонил Александр Генрихович. Как было тому разобрать, что звонит он Славе не в другой конец света, а в соседнюю область?
Слава с Джулией протянули в Воронеже резину два дня и вернулись в Киселевград аккурат к похоронам.
— Джулия ничего не заподозрила? — спросил Фоминцев.
— Догадалась, ведь я так и не сумел убедительно мотивировать необходимость поездки в Воронеж, проволочку с возвращением в Киселевград.
— Не грозила сдать с потрохами?
— Еще как грозила, но удалось ее запугать. Джулия поняла, что если я сумел убить четырех человек, то запросто убью и пятого.
— Слава, скажи честно, совесть не мучит? — конечно же, это спросил Прищепкин.
— Мне кажется, что еще с недельку б помучился и во всем признался… Жалко, что в России ввели мораторий на смертную казнь. Заслуживаю. Тем более что убийство Петра Олеговича и охранников повлекло за собой некую цепную реакцию.
— Между прочим, подобные цепные реакции возникают довольно часто после убийства людей масштаба Миронова, — тоном знатока промолвил Фоминцев.
Славу отправили в камеру и неожиданно обнаружили, что за окнами дежурной части глубокая ночь.
— Ну что, братцы–менты, по домам и храповицкого?
— Глаза на ширине плеч и на рыбалку! — взял инициативу Комиссар Жюс. — На водохранилище под кусточками подрыхнете. Но сначала заедем в дежурную аптеку.
— За марлей и борной кислотой?
— Именно!
Сопротивляться Тарасюку просто не было сил.
— Ладно, хрен с тобой, поедем. Только «мироновки» побольше прихватим.
— И пивка бы, ящичек, — робко вставил Капинос.
* * *
А наутро, когда Фоминцев, Прищепкин и Капинос кое–как продрали глаза, то обнаружили, что Тарасюк за ночь успел не только натравить рыбы, но и сварил уху.
— Чур, мне юшки побольше, — просипел Фоминцев, морщась от головной боли и величайшей во рту сухости.
И уха получилась, и утро занялось славное. Начало лета — самая распрекрасная пора среднерусской полосы. Эй, гражданин Тургенев, кончайте пялиться на портрет гражданки Виардо в прозрачном ночном пеньюаре, пожалуйте к нашему столу!
— Знаете, ребята, что мне пришло в голову? — спросил друзей Прищепкин, выудив ложкой кусок горячей разварной рыбешки.
— Знаем, хе–хе, раскодироваться!
— Одно у вас на уме, — поморщился Прищепкин. — Между прочим, и без водки на седьмом небе себя чувствую. А подумал я о том, что сегодня мы закончили расследование чисто русского убийства.
— Это почему же не французского, немецкого, румынского?
— Потому что только у нас, русских, такое убийство и возможно. Ведь во всем мире убивают в первую очередь по корысти.
— Слава–то из–за ревности. Для Латинской Америки, например, обычное дело. Так чем русская ревность выделяется на фоне бразильской или, например, мексиканской?
— Да не из–за ревности ведь Слава убил. Петр Олегович успел тому убедительно доказать, что ревновать племянник не имел никаких оснований.
— Здрасьте, а из–за чего же тогда?
— Убил, да и все. Вспышка эмоций — и один человек беспричинно убивает другого, «которого любил больше всех на свете». То есть, больше Джулии, какой–то Америки. Обратите внимание, именно самого близкого убивает, самого любимого. Как хотите, но, на мой взгляд, это и есть чисто русское убийство.
— Может, ты и прав, — задумчиво сказал Фоминцев. — Большинство убийств в России происходит именно «на бытовой почве». Уж сколько их через мои руки прошло — не перечесть. Это когда, например, мужик, поссорившись с женой из–за недожаренного омлета, войдя в раж, сбрасывает с балкона грудного ребенка, своего собственного сына. Брат из–за косого взгляда убивает брата. Жена убивает мужа, муж жену. Как правило, это происходит на фоне неумеренного потребления горячительных напитков. Однако в последнее время мы все чаще и чаще распускаем руки в ясном уме и трезвой памяти. Иной раз, допрашивая подобного убийцу, просто оторопь берет. Да зверь на это не способен, ты же человек, мать твою! Хочется крикнуть ему в лицо. В общем, на Западе убивают из–за бабок, на Востоке и Юге опять же из–за бабок и по ревности. Мы же, русские, мазохисты верно изрядные, шизофреники, алкоголики конченные: убиваем самых нужных, самых близких себе людей почти просто так, без причины и без повода. Немножко обидимся и — хряпс любимого топориком. Зато уж с врагами, кстати, обходительны. Вспоминаем какую–то Женевскую конвенцию, принципы политкорректности. Бог знает, какую еще муру вспоминаем, только не хребетную заповедь христианства: люби ближнего своего.
* * *
Фоминцеву присвоили–таки генерала, Тарасюку и Капиносу дали майоров, но это случилось не сразу, ближе к осени. А вот Прищепкина, через денек после заключительной травли рыбы, подбросили на железнодорожный вокзал на губернаторском «шестисотом». Уважили, короче.
— Поезд со второго путя отправляется на Воркутя. Граждане, будьте внимательны и осторожны. Железнодорожные путя — место опасностя.
Игорь Томаш (Тумаш)
220141, Беларусь, г. Минск, Т. 8–375 — (017) — 2–60–39–67, моб. 8–375 — (017) — 0296–428–610
Е-mail: tumach_igor@rambler.ru





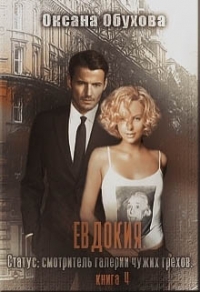



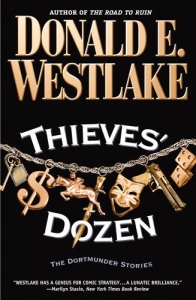

Комментарии к книге «Чисто русское убийство», Игорь Тумаш
Всего 0 комментариев