Александра Стрельникова ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО, ТО РУССКОМУ СМЕРТЬ
«Жаль, что в рай надо ехать на катафалке!»
Станислав Ежи ЛецГлава 1
От отца-немца мне досталась только фамилия. Льняных волос истинного арийца не перепало. Я рыжая. Не конопатая, но в детстве меня все равно дразнили: «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой…»
Зато фамилия, что называется, «с историей» — Унгерн.
Правда, мама говорит, что отец мой происходит из других Унгернов. Не из тех, что дали миру легендарного барона — ярого монархиста, кровавого садиста и мистика, человека, которого монголы и тибетцы за беспримерную, совершенно безбашенную храбрость почитали как «бога войны». Семья моего отца — типичные добропорядочные бюргеры, которые в дикой России никогда не живали и от баронства далеки, как свиньи от апельсинов. Наверно, они как раз из тех, про кого на Руси уже давно сочинили присказку: «Что русскому хорошо, то немцу — смерть».
Мама их терпеть не может, потому как считает, что именно они лишили меня отца, а ее — законного мужа. Хотя я уверена, что на самом деле все совсем не так. Думаю, они о нас и слыхом не слыхали. Разве уважающий себя мужчина станет рассказывать близким обо всех девицах, с которыми ему довелось переспать?..
Я появилась на свет 1 апреля 1981 года, подшутив тем самым над мамой так крепко, как только могла. Она ведь была уверена, что будет мальчик! Мое рождение ничем особым не ознаменовалось. Отец, несмотря на письма, которыми его забрасывала мать, в Советском Союзе так и не появился. «Да и зачем?» — иногда думаю про себя я. Ну приехал парень как-то в Страну Советов на Олимпийские игры в составе немецкой делегации. Ну познакомился с восторженной и глупой от юных лет студенткой Института иностранных языков, которая была приставлена к нему комсомольской организацией как гид и переводчица. Ну трахнул ее в гостиничном номере. И что? Кто ж виноват, что девица после этого залетела, а потом зачем-то решила рожать?
Он не стал отказываться от содеянного. Прислал открытку с поздравлением по поводу моего появления на свет и даже официально, на бумаге, признал свое отцовство, но на этом его участие в моей и маминой судьбе закончилось раз и навсегда. Мама искренне полагала, что помешали их счастью советская власть с ее «железным занавесом» (хотя отец был ГДР-овским, а значит, «нашим» немцем, с которым не желательно, но можно). А кроме того родственники и я… Ну кто меня просил рождаться девочкой?! Был бы сын, он бы тогда может быть… А так…
Правда девочка из меня вышла — так себе. По некоторым девчушкам уже с первых жизненных шагов видно — мужикам на погибель растет. В первый раз они пробуют свои женские чары уже в песочнице, потом с успехом оттачивают их в детском саду и в начальных классах школы, и к ее окончанию уже становятся юными, но совершенно уверенными в себе женщинами. Я называю их «принцесски».
Другие (те, что вроде меня) растут несчастными созданиями, практически лишенными пола. Типаж — «свой парень». Они лазают вместе с мальчишками по деревьям и заборам, потом неумело курят в подворотнях вместе с товарищами по шалостям, а потом остаются одни. Они не понимают, что когда маленькие мальчики не берут таких вот маленьких девочек играть с ними в войну — это знак! Жизнь подсказывает дурехам, что те занимаются не своим делом и идут не по тому пути. Но они упорствуют. И некоторым даже удается доказать, что и в высоком искусстве игры в немцев и партизан они ничуть не хуже «пацанов». Они поражают воображение мальчишек трюками на велосипедах или роликах. Они ходят со сбитыми коленками и ободранными локтями, в раззявленных кроссовках и драных, но удобных джинсах. Им кажется, что они с парнями, с которыми выросли бок о бок — команда, что они едины, что они друзья. И даже первые ростки любви проклевываются в душах таких вот девчонок из этой старой, ещё детской дружбы.
А потом рядом появляется «прицесска»… И неожиданно парень, которого ты знаешь с пеленок, который совсем свой и наверно даже любимый (хотя сознаваться в этом сты-ы-ы-ыдно), вдруг отворачивается от тебя, как от фонарного столба и перестает видеть вокруг себя кого бы то ни было, кроме нее.
Сначала ты удивляешься — она же дура, и это так очевидно! После очередного ее особо «талантливого» высказывания ты даже поворачиваешься к нему, чтобы вместе посмеяться над ее глупостью и необразованностью… И понимаешь, что воспринимаете вы ее, скажем так, по-разному. Ну то есть совсем! Ты говоришь — она дура, он — она, конечно, наивна, но это так мило! Ты считаешь, что она им вертит, он — что она его так любит. Ты — что она расфуфыренная и раскрашенная кукла, у которой в голове одни шмотки и тусовки, он же уверен, что она — настоящая женщина. Бам-м-м! А я? Я что ль не настоящая?!! Искусственная что ль?!!
А потом он уходит вслед за ней, а она, мстительно усмехаясь и щуря подведенные глаза, оборачивается и бросает через плечо: «Еврейская морда!» Ну, Унгерн ведь! Типично еврейская фамилия… Это было бы смешно, если бы не было так грустно… Барон бы такого не спустил, но я же из других Унгернов!
Я ещё подросток, когда мой лже-предок становится вдруг невероятно популярен. В Интернете в изобилии появляются его биографии разных годов написания, полные мистических откровений и жестоких подробностей. Дальше всех в обличениях «кровавого борона», на мой взгляд, идет некто Цибиков. Автор очень подробно описывает расправы над евреями, красочно рисует картины того, как солдаты Туземной дивизии Унгерна, беря за ноги, разрывали детей на две половинки, а сам барон лично пытал, медленно сжигая на костре, пойманного на дороге случайного путника с целью выведать у него, где хранятся какие-то непонятные деньги.
Монография Цибикова написана в 1947 году, в ту пору, когда Советский Союз ещё слишком хорошо помнит зверства фашистов. А потому Унгерн у Цибикова выведен не просто «кровавым маньяком», но предтечей фашистской идеологии.
Правда, при всей идиотичности этой «общей мысли», в фальсификациях Цибикова обвинить сложно: вся использованная им информация о действиях Унгерна взята из прессы двадцатых годов с конкретными ссылками на издания. Другое дело, что коммунистическая пресса тех лет сама вряд ли была объективна в отношении идеологического врага.
Авторы более поздних по дате написания опусов уже перестают сравнивать Унгерна с идейным отцом Адольфа Гитлера, их тексты становятся более сдержанными и взвешенными, они отдают дань таким чертам характера барона, как аскетизм, храбрость, верность идеям, но все равно сходятся на том, что он был человеком, скажем так, малоприятным. Автор монографии «Политическая история Монголии» некто Рощин, например, пишет, что Унгерн был «тиран, маньяк, мистик, человек жестокий, замкнутый, пьяница (в молодости)». С учетом того, что генерал-лейтенанта Унгерна казнили в 1921, когда ему было тридцать шесть, это «в молодости» звучит особенно весомо…
Как бы то ни было, барон Унгерн — один из немногих крупных деятелей белого движения, который из-за своей жестокости так и не был реабилитирован. Даже в лихие девяностые, когда от общей ненависти к КΓБ, и в целом к советскому строю реабилитировали всех поголовно. И все же загадка его личности не могла не манить. Особенно в свете повального увлечения населения нашей страны Тибетом и его мистическими тайнами.
С ростом популярности «бога войны» и «борца за веру» (так Унгерна называл сам Далай-лама и речь, естественно, шла о вере буддистской) на мою «еврейскую» фамилию начинают обращать повышенное внимание. Первыми на горизонте возникают какие-то странные дяденьки и тетеньки. Глаза у них почему-то вечно горят нездоровым огнем, волосы дурно промыты, а ногти кривые, битые грибком и давно не стриженные. Зато им периодически открываются какие-то «тайные знания предков», они что-то там такое «видят» и усиленно «работают» в каком-то очередном отделении Фонда Рерихов. Мне они активно не нравятся, зато с ними почему-то находит общий язык мама. Так что мне не удается избавиться от них раз и навсегда.
— Анна, как ты себя ведешь? — говорит мама. — Это интеллигентнейшие, высокообразованные люди, и если некоторые их идеи тебе не нравятся, то это не значит…
Она не понимает. Идеи здесь не при чем, я не могу смотреть на их ногти.
Когда же в 1996 выходит пелевинская «Чапаев и Пустота», где барон выведен в качестве одного из героев, возле меня начинают притормаживать и увлеченные мистикой молодые мечтатели. Эти мне (несмотря на их идеи) нравятся значительно больше. Особенно активным процесс становится, когда я поступаю в университет (естественно на истфак — куда ещё с такой фамилией?). Наверно в среде моих новых приятелей это звучит круто: «Мы тут вчера с Анькой Унгерн…»
— «С Унгерн?» — «Ну да. Ты не знаком? Это правнучка Черного барона»…
Умники! Если уж интересуются историей, могли бы знать, что Черным бароном — тем самым, про которого пели: «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон…», был не Унгерн, а Врангель. И получил он эту «кликуху» не за бесовскую черноту души, а за форму, которую неизменно носил с 1918 года — черную казачью черкеску с газырями.
Роднят этих двух людей лишь преданность павшей монархии и немецкие корни…
Я отбрыкиваюсь как могу, уверяя всех, что к барону отношения не имею, но никто на это не обращает внимания. Тем более, что однажды судьба сводит меня с парнем, который в ответ на мои попискивания: «Не из тех мы Унгернов!» молча запускает свой компьютер, недолго колдует над ним, разворачивает ко мне монитор, а после читает целую лекцию.
Он рассказывает мне, что Унгерны происходят из старинного немецко-остзейского графского и баронского рода, включенного в дворянские матрикулы всех трех российских прибалтийских губерний. В жилах предков барона, говорит он, текла кровь гуннов, германцев и венгров. Это был очень воинственный род рыцарей, склонных к мистике и аскетизму. К примеру, один из Унгернов упоминается в летописях среди тех, кто погиб под стенами Иерусалима, сражаясь под знаменем Ричарда Львиное Сердце.
С жизнью многих людей из этой семьи связано немало совершенно диких историй. Иногда они полны мистики, иногда какого-то откровенного маньячества. Думаю, это потому, что история в первую очередь сохраняла жизнеописания тех Унгернов, которым удавалось как-то особо «отличиться». Хороший пример: один из них поплатился жизнью за то, что был большой любитель пошутить. Ну так, как это понимал он сам. Жил он на острове Даго, дом его стоял на самом берегу Финского залива. При доме он построил высокую башню, круглый застекленный бельведер которой отвел под свой кабинет. Ночами это помещение освещалось так ярко, что издалека башню можно было принять за маяк… Это и была основа его «шутки». Ну нравилось человеку, что о скалы у подножия его дома регулярно разбиваются корабли… Тем более, что потом можно было выловить из моря спасшихся в катастрофе моряков, отправить их в подвал дома, а там уже со вкусом, с толком, с расстановкой запытать их до смерти…
Адольф де Кюстин в своей книге «Россия в 1839 году» пишет, что «все это барон творил из чистой любви к злу, из бескорыстной тяги к разрушению».
Император Павел, которому донесли о преступлениях этого истинного маньяка, велел арестовать его. В Петербурге барона судили и приговорили к пожизненной каторге. Умер он где-то в Сибири.
Таких историй в семье барона Унгерна фон Штернберга немало. Собственно, большинство из них я знаю, но мой новый знакомый в основном толкует мне не об этом. Тыкая пальцем в раскинувшееся на экране компьютера генеалогическое древо, он наглядно объясняет, как я не права. Оказывается, семья моего отца состоит-таки в прямом родстве с теми самыми Унгернами, на баронском гербе которых лилии и звезды увенчаны девизом: «Звезда их не знает заката».
Не могу сказать, что новость эта оставляет меня совершенно равнодушной. Все-таки приятно знать, что корни твоего рода теряются в веках, а имена твоих предков прописаны в летописях и древних манускриптах. Но для моей сегодняшней жизни все это не имеет никакого значения. Старинный баронский род в моем лице захирел, сменил шелка и бархат на дешевые джинсы и пересел с боевого коня на троллейбус.
Маме всегда было тяжело кормить нас двоих на зарплату школьного учителя немецкого языка. При этом она категорически настаивала на том, что мне надо учиться, учиться и ещё раз учиться. И завещание великого Ленина тут совершенно не при чем, это ее личная, но совершенно непоколебимая идея — ее дочь должна стать ученым.
Желательно великим. В любой области. Историком? Ну хорошо, пусть историком… Конечно, ещё будучи студенткой, а потом аспиранткой, я пыталась, когда подворачивался такой шанс, сшибить какую-нибудь трудовую копеечку в дополнение к нашему семейному бюджету, но это, как правило, были именно копеечки.
Сейчас, когда я начала работать, ситуация изменилась в лучшую сторону, но все равно до баронского шика нам с мамой далеко. Ведь тружусь я не в банке, а в научном институте. Если в первом деньги в прямом смысле этого слова живут и работают, то во второй даже не заходят. Ну не любят у нас деньги науку, не любят читать, не любят копаться в истории, из которой явственно следует, откуда они произошли. Деньгам, как и людям, нравится знать о своем достойном происхождении, но совсем не «прикольно» (как говорят мои студенты) слышать о том, что родились они не в благородном семействе со строгими моральными устоями, а в бандитском вертепе…
Так что большие деньги я вижу только издалека, когда любуюсь проезжающими мимо дорогими лимузинами. «В них женщины проносятся с горящими глазами, с холодными сердцами, с золотыми волосами». Про сердца сказано, конечно, сильно, но иногда мне очень жаль сознавать, что я — не одна из них. Деньги не важны, когда они есть. А когда их категорически нет…
Когда-то мама надеялась, что я выйду замуж за немца (видимо переносила на меня свои девические мечтания), и это сразу решит все наши финансовые и любые другие проблемы. Но мне уже за тридцать, а желающего взять меня в жены немца, как впрочем, француза, испанца, русского или даже таджика на горизонте не наблюдается. Впрочем, за таджика я, наверно, все-таки и сама бы не пошла. Как-то, в отличие от моего предка, на Восток меня не тянет…
Не могу сказать, что я вообще не пользуюсь успехом. Мои рыжие волосы оказывают на некоторых мужчин такое же действие, как валерьянка на котов — они возбуждаются и норовят об меня потереться. Но почему-то каждый раз получается так, что данный конкретный желающий насладиться моим обществом индивид, мне самой не нравится ну никак. Не нравятся их куриные шейки, их потные ладошки, их ранние лысины на умных головах…
— Какой культурный и интеллигентный юноша! Из прекрасной высокообразованной семьи, — говорит мама, когда в очередной раз знакомит меня с новым «молодым человеком».
«Молодого человека» кавычу, потому как все они, на мой взгляд, совсем не первой молодости. И выглядят так, словно долго хранились в шкафу без должной обработки нафталином. Про такие вещи (если речь идет о вещах) говорят — битые молью. И где только мама берет этих «юношей» — культурных и интеллигентных? Все как из одного инкубатора. Разве что разной степени откормленности… Со многими из них действительно интересно общаться. Но выходить замуж?.. В таком деле ведь одной болтовней ограничиться не удастся, с ними ведь ещё и спать иногда придется…
Мама говорит: «Тебе не угодишь!» И наверно она права.
Даже в ранней юности ни о какой взаимной любви речь не шла ни разу. Вечно я влюблялась в тех, кто в мою сторону даже не смотрел. Вроде того самого, первого, который ушел с «прицесской». О да, он потом вернулся и как в старые добрые времена ночи напролет просиживал на моей кухне, и даже соглашался с тем, что его теперь уже бывшая зазноба, которая обозвала меня «еврейской мордой», была-таки дурой и крашеной куклой, как я и говорила. Я оттаяла, снова стала питать надежды и даже позволила ему кое-что (если мама узнает!..), но счастье мое было недолгим. То есть совсем коротким. Через месяц он исчез, чтобы ещё через неделю появиться в нашей общей компании под ручку уже с новой «прицесской»…
* * *
Иду по коридору родного института. Под ногами поскрипывает натертый мастикой паркет, который явно видел лучшие дни.
Когда-то, в советские времена, по нему ходили уверенные в себе и своем будущем представители научной интеллигенции. В совдепии ведь и без того тонкая и ненадежная с политической точки зрения интеллигентская прослойка ещё и делилась на отдельные подпрослойки: с разбега могу вспомнить творческую интеллигенцию, техническую и научную. А! Еще и сельская была!
А теперь вот по этому заслуженному половому покрытию иду я. Путь мой лежит в архив. Мне надо сдать гору толстенных папок с документами, с которыми работал наш отдел последние дни. Я самая молодая в своем подразделении, а может и во всем институте. Не удивительно, что таскать тяжести — моя работа. Завтра начинаются майские праздники. В отделе только и говорят о рассаде помидоров и тыкв, цветочках и прочих дачных делах. У нас с мамой дачи нет. Так что все это мне не интересно. Зато у меня накопились отгулы, которые начальство благосклонно позволило мне присовокупить к праздникам. В результате чего и появилась перспектива не появляться в этих унылых коридорах целых две недели! Она кажется мне такой фееричной, что хочется закрыть глаза от счастья. Я начинаю безотчетно улыбаться и с этой дурацкой улыбкой, балансируя высоченной стопкой архивных папок, вваливаюсь к Марье Петровне.
Наша главная архивная мышь сидит за своей конторкой и вид имеет встревоженный. Я сразу понимаю почему. В архиве помимо нее трое. Устроились за дальним столом и увлеченно изучают какие-то бумаги. Точнее изучают двое, третий в этом процессе не участвует. Сидит, вытянув в проход длиннющие ноги и тоскливо смотрит в окошко.
Волнение Марьи Петровны понять не сложно. Эти трое и в особенности тот, скучающий, который теперь отвлекся от окна и с проснувшимся интересом уставился на меня, кажутся здесь, в затхлом, пропахшем старой желтеющей бумагой и пылью помещении чем-то настолько инородным, что не могут не нервировать здешних постоянных обитателей.
Пытаюсь пристроить гору своих папок на стол перед конторкой Марьи Петровны. Но я была бы не я, если хоть что-то могла проделать более или менее гладко. Мама всегда мне об этом говорит. Папки было замирают в неустойчивом равновесии, а потом (че-е-е-ерт!) едут на пол. Я кидаюсь вперед, чтобы хоть частично предотвратить катастрофу. Марья Петровна ахает так, словно я уронила не папки, а ее саму. Те трое, что работают в архиве, поднимают головы и с любопытством смотрят на развал, который я устроила.
Злюсь. Ну что пялятся? Что им тут цирк? Сегодня на арене Анна Унгерн и ее недрессированные, ну то есть совершенно дикие папки! Присаживаюсь и начинаю под причитанья Марьи Петровны собирать упавшее. Это не так просто, как кажется.
Из папок естественно выехали, а частично даже разлетелись листы. Вернуть их на место можно — каждый лист у нас подписан так, что в маркировке есть и номер папки, в которой он хранится, и номер самого документа в общем порядке листов. Но все равно возня.
Пропади оно все!
Ковыряюсь. На троицу стараюсь не смотреть, тем более, что они снова вернулись к прерванной работе. Злобно сопя раскладываю бумажки по своим местам и выкладываю папки по порядку на столе. Внезапно перед собой вижу здоровенную лапищу, в которой зажато несколько листов из числа тех, что улетели как раз в тот угол, где сидит троица. Ах как мне не хотелось лезть туда за ними! Я слишком зримо представляла себе, как это будет выглядеть: растрепанная девица в сером халате, который я надеваю всегда, когда тащу папки в архив или из него, чтобы не перепачкать пылью свою одежду, на четвереньках лазает под ногами у троих мужиков. «Простите, вы не могли бы немного передвинуть ногу, чтобы я дотянулась во-о-он до того листочка. Спасибо…» Теперь, слава богу, хотя бы этим заниматься не придется. Кто-то из них сжалился надо мной и подобрал бумажки.
Поднимаю глаза. Ну понятно, это тот, который и без того скучал. Так что моя эпопея для него стала настоящим подарком. И развлекся зрелищем и даже получил возможность проявить галантность — помочь бедной девушке. На физиономии широченная улыбка, башка бритая и какая-то… чугунная. Словно ему привычнее ей не думать, а, скажем, кирпичи разбивать. Пальцы короткие, совсем не интеллигентные. Так и норовят привычно согнуться в пудовые кулачищи. Здоровенный тупой бугай с накачанными мускулами. Уверена, у него на животе такие маленькие валики мышц, которые лично у меня почему-то вызывают стойкую ассоциацию со стиральной доской, но которыми он сам, наверняка, страшно гордится.
И что он тут делает? Он же небось и читает-то с трудом… Может он просто на работе? Охранник одного из тех, что по-прежнему сидят, уткнувшись носами в архивные папки.
Охранников этих у нас нынче развелось, как грязи. Тысячи здоровенных мужиков, на которых пахать можно, со значительными лицами ходят за разного рода «бизнесменами» или как собаки сидят в будках у шлагбаумов. Что бы ни охранять, лишь бы не работать! Терпеть их не могу. Вечно важные, полные осознания собственного величия. «Синдром уборщицы» уже давно следует переименовать в «синдром охранника».
Значит этот в архиве тоже из их числа? Да нет. Вряд ли. Не похоже, что кому-то из его товарищей нужен охранник. Какие-то они… несолидные. Да и этот тип одет слишком вольно для человека «при исполнении». Джинсы, белая майка, рукава которой так натянулись на его здоровенных ручищах, что того гляди лопнут. На ногах — кроссовки.
Мне он не нравится.
Нет, не правда. Он мне как раз так нравится, что у меня, как говорит мама про подобные ситуации, «аж в зобу дыханье сперло». Но при этом он настолько чужероден, настолько не из моей жизни, настолько далек от всего того, чем она обычно наполнена, настолько недостижим, что вызывает лишь жестокое раздражение. А потому спрашиваю голосом таким противным, что потом самой будет стыдно:
— Я вам могу чем-то помочь?
— Да это вроде я вам помог.
Голос низкий, вполне подходящий такой махине. Это меня злит ещё больше. Нет чтоб писклей какой оказался. Или бы хоть пришепетывал…
— Спасибо, — шиплю я.
— Кондрат, оставь девушку в покое.
Это на нас обращает свое внимание один из тех, с кем он пришел: длинноволосый, весь в наколках. Имидж и прикид такой, словно ему лет двадцать, а башка с сединой и глаза усталые. Нехорошие глаза. Не хотела бы встать на пути у человека с такими глазами.
А вот и третий подключается:
— Ты бы, Федя, совесть-то имел. Мы тут сидим — уж все глаза сломали, а ты вместо того чтобы помочь, вокруг девиц каких-то непонятных увиваешься.
Значит я — «какая-то непонятная». Вот ведь! Засранец! Волосенки блондинистые («Крашеные», — решаю я мстительно), физиономия гладкая, смазливая. Улыбка гаденькая. Тьфу!
Торопливо рассовываю принесенные здоровяком листы и иду к Марье Петровне — оформить сдачу папок назад в архив.
Сидит. Губки как куриная гузка. Поджаты презрительно. Не любит она меня. Впрочем, я не знаю ни одного человека, который у нее вызывал бы положительные эмоции. Заполняю формуляры, а потом, демонстративно не глядя на троицу в углу, ухожу прочь. Ничего! Скоро конец моему рабочему дню, а там майские. Погода отличная. Мы с моими друзьями договорились ехать на дачу. У родителей одного из них ещё с советских времен есть шестисоточный участочек с домиком шесть на шесть и отдельно стоящей кухонькой. Участок у них крайний. За забором — большое бесхозное поле. И это для нас очень удобно.
Толпа к Сашке обычно собирается немаленькая. Человек двадцать. Приезжаем с палатками. Ставим их как раз на том поле, что за забором его дачи. Вроде и родителям его не очень мешаем, а вроде и цивилизация рядом — электричество, плита, чтобы пожрать приготовить, летний душ, туалет «типа сортир». Ничего нового меня не ждет. Готовка на огромную толпу вместе с парой других девчонок. Потом вечер у костерка, под гитару. Охота за майскими жуками, которые станут слетаться на огонь. Потом ночь в палатке. У меня она старенькая, маленькая, но зато отдельная. Никто не будет пихаться под боком и сопеть в ухо.
* * *
Сижу за своим рабочим столом и мечтаю. Мыслями я уже давно там, на поляне возле Сашкиной дачи, а потому не сразу реагирую на то, что начинает происходить в моей рабочей комнате. Настолько, что шефу, который, видно, уже давно торчит в дверях, приходится гаркнуть уже в полный голос:
— Анна Фридриховна!!!
— А?
— Бе!.. — необидно дразнит он и манит за собой.
Выхожу в коридор и нос к носу сталкиваюсь с той самой троицей, что давеча сидела в архиве. Мой шеф вокруг них так и вьется. Такая реакция у него бывает только по одному поводу: если появляется возможность получить немного денег. Мы уже давно поставили на поток самые разнообразные услуги: платные консультации, справки, выписки, составление генеалогических древ для озабоченных свой «породистостью» граждан. Когда наших специалистов приглашают для интервью на телевидение или в газету, то это тоже только за деньги. А что делать? Рыночная экономика… Как потопаешь, так и полопаешь.
Троица смотрит на меня подозрительно. А шеф просто-таки соловьем заливается:
— Анна Фридриховна у нас — ведущий специалист в интересующей вас области. Ее консультация будет стоит недешево, конечно (Конечно!!!), но зато она вам сможет дать все, что вас интересует…
— Спасибо, — тот, что в наколках, перебивает шефа вежливо, но твердо. — Где мы могли бы побеседовать? Так, чтобы мы никому не помешали?
Талантливо формулирует! Не грубо: чтобы НАМ никто не помешал, а с максимальной вежливостью: чтобы МЫ никому не помешали. Дипломат, однако…
Шеф выхватывает здоровенную связку ключей, торопливо перебирает их, а потом отмыкает одну из дверей по соседству. Здесь никто не сидит. Наш отдел уже давно не так многолюден, как при советской власти… Часть помещений сдается разным мелким конторам, но свободные комнаты все равно всегда есть. Заходим. Шеф ещё какое-то время вертится рядом, а потом оставляет нас наедине. Молчим. Тот, который миловидный блондинчик, заговаривает первым:
— А я-то думал это уборщица какая-то…
«Это» — по всей видимости я. Улыбаюсь неприятно.
— Никто, знаете ли, не виноват, что наука у нас в таком загоне, что доктор наук зарабатывает столько же, сколько уборщица… И выглядит соответственно.
— А вы доктор наук? — это уже здоровяк. Говорит, и вид у него при этом… испуганный.
С трепетом относится к носителям научных званий? Моя месть мелка, но приятна:
— Доктор наук и профессор.
Теперь смотрит как первокурсник физмата на Ландау. Мой жизненный тонус при этом заметно повышается. Знай наших! И у нас ещё есть порох в пороховницах и даже ягоды в ягодицах…
— Значит я вам все-таки чем-то могу помочь?
— Да. И мы вам заранее благодарны за эту помощь.
Это уже третий член их коллектива — тот, что с наколками. Впервые слышу в его речи акцент. Мягкий, вроде бы южный. Но при этом явно какой-то «не наш». Иностранец? Но в таком случае он русским владеет в совершенстве. Может здоровяк все-таки его охранник, а блондинчик — гид и этакий «решалкин» в тяжелых условиях России?.. Вон он какой: по физиономии видно, что без мыла в любое место влезет. Снова перевожу взгляд на татуированного.
— Анна Фридриховна, позвольте представиться и представить вам моих друзей.
Точно иностранец. Воспитанный. Я киваю.
— Меня зовут Серджо Ванцетти. (Угадала, итальянец!) Это (указывает на блондинчика) Егор Стрельцов. А это (здоровяк) Федор Кондратьев. Поговорим о деле, которое нас сюда привело?
Пожимаю плечами — чего ж не поговорить? Почему-то не удивляюсь, когда понимаю, что их интересует история рода Унгернов и, в частности, сам мятежный барон. Еще через какое-то время с известной толикой уважения думаю, что троица копает глубоко. Мне не приходится читать «популярную лекцию», чтобы ознакомить их с основными (и общеизвестными, как мне кажется) этапами жизненного пути своего предка. Они спрашивают у меня об очень конкретных вещах, интересуются точными датами и максимально выверенными местами дислокации Туземной дивизии Унгерна, его личными перемещениями в Забайкалье и Монголии.
— Кладоискательством занимаетесь?
Переглядываются.
— Много таких встречается?
— Много.
— Разочарую, если скажу, что мы не из них?
— Все так говорят. Хотя вы от большинства действительно отличаетесь.
— Чем же, если не секрет?
— Вы прекрасно подготовились. Не думаю, что смогу многим вам помочь. Ваши знания по интересующему вас вопросу и так очень глубоки.
— Вы правы, мы перелопатили горы документов. В том числе и архивы белого движения за границей. (Мечта! Я вот, наверно, никогда туда не попаду.) Я привык подходить к вопросу системно. Дело в том, что у меня большая туристическая компания. Я организую для желающих индивидуальные или групповые туры. Необычные туры, близкие к тому, что называют экстремальным туризмом. Вот, родилась идея разработать маршрут по следам барона Унгерна и его Туземной дивизии. Поиск клада — как дополнительный бонус, заманушка.
Переглядывается с друзьями и смеется. Качаю головой. Идея в свете немеркнущей популярности барона среди людей определенного рода действительно неплоха. Но признать это вслух, особенно памятуя о том позоре с упавшими папками, который я недавно пережила у них на глазах, сложно.
— А по следам Ивана Сусанина было бы, пожалуй, экстремальнее…
Опять смеется.
— В этой области вы тоже специалист?
— Сусанина — моя вторая фамилия.
— Будем помнить. Но пока что фамилия Унгерн для моего иностранного слуха звучит более привлекательно. Да, вы правы, мы многое знаем по интересующему нас вопросу. Но все же мнение специалиста всегда ценно. В первую очередь потому, что вы, занимаясь бароном Унгерном долгие годы, видите всю картину в целом, лучше понимаете мотивы, которые двигали им, чувствуете скрытую суть его поступков.
— Вряд ли. Он был и остается весьма малопонятным человеком. Иногда ему приходили в голову удивительные чудачества. Например, когда его турнули из Амурского казачьего полка за дуэль, он почти год провел в тайге и в степях Приамурья и Маньчжурии. Один в компании с охотничьей собакой. Охотился. Убитую дичь продавал. Тем и жил. И это аристократ, барон бог знает в каком поколении!
— Чудик, короче говоря…
— Скажем так — оригинал.
Итальянец возвращает меня к проблемам сегодняшнего дня.
— Анна Фридриховна, вы позволите в случае чего звонить вам с вопросами?
— Если не в семь утра и не в двенадцать ночи — пожалуйста.
Даю им свой телефон, прощаемся. Они уходят, оживленно переговариваясь. А я плетусь назад в свою комнату. Внезапно понимаю, что завидую им. Даже если они про турфирму врут, все равно (и даже тем более!) кладоискательство — штука романтическая. Для любого, кто вырос на «Индиане Джонсе», эстафету которого подхватила «Лара Крофт», одно только слово «клад» звучит так же маняще, как слово сыр для каждой уважающей себя мыши. Я не раз мечтала об этом — в конце концов клады борона Унгерна уже многие годы ищут все, кому не лень. Но для меня это всегда оставалось абстрактными мечтаниями.
А вот они, эти трое, я уверена, когда сочтут, что узнали все важное, на самом деле закинут на плечо рюкзачки, возьмут металлоискатели (или уж что там они с собой берут?) и двинут куда-нибудь в монгольские степи. Лошади, сухой ветер в лицо, одинокий костерок в ночи и бесконечные звезды в черном глубоком небе… Эх… После таких мыслей мой рабочий стол выглядит как-то особенно мерзко. Ну да ладно! Скоро, уже через какие-нибудь пару часов, сяду на электричку и двину в сторону Сашкиной дачи. И там тоже будут костерок и звезды…
Глава 2
Сашка встречает нашу шумную компанию на платформе. От нее до его дачи можно ехать автобусом, а можно пешочком через перелесок и поле. Нам так нравится больше — считай целый поход получается. Но в этот раз все иначе. Спускаемся с платформы и обнаруживаем, что Сашка прибыл не один. С ним ещё двое незнакомых мне парней на двух машинах. Я удивлена — машины явно не из дешевых да ещё и джипы. Кладем в них рюкзаки с палатками и прочим походным скарбом. В первую машину садится один из парней и Сашка, во второй переднее пассажирское место остается свободным. Как вдруг Сашка высовывается и кричит мне:
— Ань, садись с Пашкой. Он хотел глянуть на монастырь, а ты и дорогу покажешь и расскажешь все лучше всех нас.
Почему нет? Места здешние я действительно люблю и про местную достопримечательность — Иосифо-Волоцкий монастырь знаю много интересного. Да и парень симпатичный — моего возраста, с веселым открытым лицом. Сашка вновь раздает указания:
— Только не задерживайтесь, а то у вас полна машина палаток, а их ещё ставить надо.
— Это уж как пойдет, — весело кричит Павел и подмигивает мне.
Машины разъезжаются в разные стороны, пешая толпа моих друзей-приятелей сворачивает на тропинку к лесу, чтобы уже налегке добраться до места.
Иосифо-Волоцкий монастырь в стороне от больших дорог. Состояние его далеко от идеала. Золоченые купола местами облупились, не все башни крепких крепостных стен отремонтированы. Денег на восстановление богатейшая в нашем государстве бизнес-корпорация, известная под названием Российская православная церковь, как видно, дает не так много. Зато здесь все какое-то честное, избыточной золоченой помпезности нет. Беленые стены, красные окантовки окон и венцов башни, которая стоит над воротами в монастырь. Центральный храм опять-таки беленый, украшенный цветными изразцами. А внутри-и-и… Такая красота! Росписи на стенах и потолке сохранились исключительно хорошо и поражают насыщенностью красок.
Основан он был в 1479-ом. Потом при большевиках, естественно закрылся. Монахов разогнали, а монастырь отдали под детский дом. Тоже дело богоугодное. Даже если при этом в божьем доме детей учат, что Бога нет… Бог-то в отличие от некоторых его служителей все видит, все понимает и не страдает мелочной мстительностью…
С конца века двадцатого, а точнее с 1989 года обитель снова в действии. Потрясающее место. Входишь внутрь и понимаешь, что это… дом. Причем в первую очередь не дом Бога, а уютный и обихоженный дом для людей, которые решили посвятить себя служению ему. Никогда нигде ничего подобного в ближнем Подмосковье не видела. Внутри монастырских стен ухоженный яблоневый сад. Небольшие деревья видимо карликовых пород ближе к осени все усыпаны яблоками так, что ветви клонит к земле. А в двадцати метрах от главного собора — масштабный огород. Тщательно выполотые от сорняков грядки с капустой, свеклой, морковью. Вдалеке у беленой стены теплицы. Для посетителей туда вход закрыт, а вот идущие мимо монахи нет-нет да заскочат под растяжку с запрещающей надписью, подберут с земли несколько упавших яблочек, рассуют их по карманам сутаны и дальше идут, бодро похрустывая сладкой свежей мякотью.
— Совершенно фантастическое место, — оценивает Павел, выходя из машины.
Не могу не согласиться с ним. Идем внутрь. К посещению монастыря была совсем не готова — в поход ведь шла. Но в воротах мне с улыбкой выдают что-то вроде юбки с запахом и платок. Юбку наматываю поверх джинсов. Платок — на голову. Теперь все правила соблюдены. Ценю такой подход. Помню в плавившемся от жары Иерусалиме, куда я попала совершенно случайно и за гос. счет (летала на конференцию), на меня в храме непонятно кричал какой-то поп. Потому, что мое платье было без рукавов. Длинное, с закрытыми плечами, но без рукавов. Настроение было испорчено совершенно. А куда проще вот так — на пороге всем одетым «не по правилам» выдавать какие-то платки…
Хотя и это мне не понятно. Что Бог нас голыми не видел?..
Видел. Тем более, что создал он нас по своему образу и подобию. Разве нагота ребенка оскорбляет взор матери или отца?.. Нет. Так с чего вдруг Бога — моего создателя, должны смутить или оскорбить мои голые руки или даже (о ужас!) ноги? Если же они смущают или оскорбляют священнослужителей, то мне на это, извините, наплевать. Я в храм не к ним пришла, а к Богу… Собственно, именно из-за того, что мной периодически принимаются нахально командовать самозванные и непрошенные посредники — церковнослужители, а то и вовсе какие-то непонятные и вечно скандальные старушки, которые при входе торгуют свечками, в церковь я хожу редко.
Принимаюсь рассказывать Павлу историю монастыря. Он слушает, качает головой, в нужных местах ахает, в нужных улыбается и все это время не сводит с меня сосредоточенных и каких-то жадных глаз. Так обычно маленький сын одной моей подруги наблюдают за тем, как на праздник режут большой сладкий пирог, испеченный его мамой. Но я-то не пирог, да и меня вроде бы пока что никто не режет.
Заканчиваем экскурсию — уже вечереет, и правда пора везти палатки к Сашкиному дому. В темнотище возиться с ними удовольствия мало. Обратной дорогой Павел заговаривает со мной о моей «еврейской» фамилии. Удивлена, что он знает ее, но он поясняет — Сашка похвастался. Верю, может. Любит он это — похвастаться. Разговор опять-таки сворачивает на клады. Обычное дело. Мало кто интересуется внутренним миром, убеждениями или идеями моего предка, зато всех увлекают мысли о награбленном им золоте…
Болтаем. Он лезет куда-то назад и достает бутылку кока-колы. Предлагает мне. Пить действительно очень хочется. Делаю несколько жадных глотков, передаю бутылку ему, но он жестом отказывается:
— Пей, вижу же, что хочешь. А я до лагеря потерплю.
Улыбаюсь:
— Спасибо.
К тому моменту, когда он паркует свой джип у забора сашкиной дачи, бутылка уже пуста. Не люблю кока-колу, вечно у меня от нее какой-то металлический привкус во рту и вообще противная она, слишком сладкая. На даче запиваю ее обычной колодезной водой. Так намного лучше.
Ставим палатки, разводим костер. Сегодня в планах шашлыки (обожаю!), куча зелени (матушка Сашки сажает раннюю зелень в их здоровенный парник, и к майским на столе уже свой лук, укроп, салатик и редиска) и, на выбор пиво, водка или вино из картонных трехлитровых коробок. Но вот ведь странная история! Почему-то чертовски хочется спать.
Сначала борюсь с тем, что глаза слипаются, а тело так и норовит прилечь в первом попавшемся месте. Надо мной смеются, но поделать я с собой ничего не могу.
Переработалась что ли? В последнее время и правда дел было много. Заканчивала очередную статью для журнала. Кроме того работа в институте, лекции… Дело кончается тем, что Павел под шуточки моих друзей-приятелей практически относит меня в мою потрепанную мини-палатку и устраивает баиньки. Вырубаюсь тут же. Что значит свежий воздух!
* * *
Думала, что утром проснусь ни свет, ни заря. Ан нет — даже позже многих. А ведь они сидели чуть ли не до утра! Голова гудит, во рту как кошки нагадили и тошни-и-и-ит. Невольно вспоминаю старый анекдот про пьянство в разном возрасте. В молодости: всю ночь пил, гулял, безобразия безобразил — с утра как огурец. В среднем возрасте: пил, гулял, безобразия безобразил — с утра и выглядишь соответственно. В пожилом возрасте: всю ночь спал, не пил, не гулял, а выглядишь утром так, словно только этим всем и занимался. Это что ж получается? Я уже из среднего возраста в пожилой переместилась, не заметив когда и как?
Иду на участок к Сашке, чтобы принять душ. Может, думаю, взбодрит? Начинаю стаскивать с себя одежду и морщусь, почувствовав непонятную боль с внутренней стороны руки.
Как раз там, куда втыкают иголки, когда внутривенные вливания делают. Изучаю. Не может быть! На сгибе действительно есть след от укола и даже синячок растекается… Эт-то еще что?!
Однако сколько ни гадаю, ни к какому выводу прийти не могу. Позже тихонько спрашиваю Сашку: не пали ли мы вчера так низко, что начали ширяться? Смотрит с изумлением, разве только пальцем у виска не крутит. И действительно: чем-чем, а такой ерундой никто из моих друзей не страдал никогда.
Наркотики — развлечение не для бедных. Но тогда как все это понять?
День проходит как всегда. Парни гоняют футбол.
Немногочисленные девчонки (в нашей компании их почему-то мало) заняты сначала мытьем посуды, потом готовкой обеда.
Все это, естественно, под треп. Шашлыки я вчера как дура проспала. Сегодня придется довольствоваться макаронами по-флотски.
Ко мне подходит Павел. Они с приятелем собрались уезжать.
Жалеет, что я вчера так рано отрубилась — толком и не раззнакомились. Просит у меня телефончик. Даю. Чего ж не дать хорошему человеку? Но почему-то уверена, что он не позвонит. В первую очередь потому, что мне этого хочется. Все как всегда. Тем, кто интересен мне, нет до меня никакого дела. И наоборот. Вот, к примеру, та давешняя троица мне ну никак ни к чему не нужна, а вот вам — звонят.
Собственно, звонит итальянец с татуировками. Извиняется за то, что беспокоит в праздник, и задает очередной уточняющий вопрос. Отвечаю. Работать с ним приятно, мужик действительно доискивается до самой основы. Как ученый ценю такой подход. Заканчивая разговор, видимо из вежливости, спрашивает, как провожу выходные. Рассказываю и неожиданно для себя делюсь собственным изумлением — откуда на моей руке мог взяться след от укола? Внезапно понимаю, что повисла тишина. Шокирован тем, что я разоткровенничалась с посторонним человеком? Или?.. Слышу приглушенные переговоры на той стороне «телефонной линии». Серджо что-то бубнит с сомнением, кто-то другой напротив настаивает. Внезапно:
— Скоро к вам подъедет Федор. Дождитесь его, пожалуйста, Анна Фридриховна.
— Это ещё зачем?
— Надеюсь, что незачем, но Федор прав — проверить это будет полезно. Спасибо.
Через пять минут, когда удивление еще не до конца покинуло меня, звонит Федор и скупо уточняет, где именно меня следует искать. Чудеса да и только! Все то время, которое у меня есть до его приезда, пребываю в некоторой растерянности, а когда вижу его лицо, начинаю внезапно и очень сильно волноваться. Мужик, которого я приняла за охранника итальянского гостя, сосредоточен и собран. Слишком сосредоточен и слишком собран. Будто не цветущая дача вокруг, а поле сражения. И откуда эта дурацкая военная ассоциация, применительно к подобному типу?
Он осматривает мою руку, крепко ухватив ее своими короткими, но очень сильными и удивительно горячими, как мне кажется, пальцами. Потом практически в приказном порядке велит мне сесть в его машину и ехать с ним в Москву.
— К вечеру мы вернемся. Если ваши друзья не планируют никуда отсюда уезжать в ближайшие дни, то с вашими вещами ничего не случится.
Прощаюсь с приятелями, которые высыпали из дачной калитки и с удивлением смотрят то на бритоголового парня, приехавшего за мной, то на его машину. Ничего в них не понимаю, но выглядит она дорого. И сиденья кожаные.
Сажусь, стараясь ничего не испачкать грязными кроссовками. Он галантно захлопывает за мной дверцу, обходит машину, садится сам. Железный монстр при этом как-то проседает.
Здоров он все-таки, этот Федор по прозвищу Кондрат.
— Зачем нам в Москву, господин Кондратьев? Морщится.
— Анна Фридриховна, а можно просто Федор? Меня «господином» только на службе зовут. И то с недавних пор. Непривычно до чертиков и как-то… против шерсти что ли. Какой из меня господин? Я — человек простой, незатейливый.
Улыбается, обращая ко мне свое широкоскулое лицо с крупными, точно рублеными топором чертами лица. Мама про такого обязательно сказала бы что-то вроде: «Анна, но он же тебе совсем не пара. Я, конечно, все понимаю, из народа, даже из крестьян вышли многие великие умы, но…» Мама почему-то искренне полагает, что мы-то с ней точно не «из народа», хотя на чем основана эта ее убежденность, лично мне понять трудно. На этой волне соглашаюсь звать его просто Федором при условии, что и он забудет о Фридриховне.
Анной Фридриховной меня тоже только некоторые коллеги по работе зовут. И еще студенты… Так, скажите, Федор, зачем мне все-таки в Москву? И куда именно вы меня везете?
— Подъедем в одно местечко. Там у вас кровь на анализ возьмут. А потом нам все про вас, Анна, расскажут…
Дорогой он принимается задавать вопросы, раз за разом уточняя те или иные детали. Про Павла, про нашу поездку в монастырь, про мое внезапное и острое желание спать… Про кока-колу… Неужели и правда чем-то подпоили? Видимо осознав это, меняюсь в лице, потому как он тут же начинает меня успокаивать.
— Не волнуйтесь вы так. Разберемся. Если анализ что-то выявит, и Пашу вашего из-под земли достанем и вопросы ему с пристрастием зададим. Да и остальным вашим друзьям-приятелям тоже. Если я спрашиваю, мне люди, как правило, предпочитают не врать.
Кто же он такой, черт побери?
В Москве он действительно привозит меня в какое-то вполне солидное медицинское учреждение. Кажется что-то вроде госпиталя. То ли военного, то ли что-то вроде того — среди посетителей много людей в форме. У меня берут кровь из вены и из пальца. Потом заставляют пописать в баночку, а потом чуть ли не под лупой осматривают то место, куда мне был сделан укол. Ждем.
Ожидание изматывает. Нервничаю все больше. Даже слезы на глаза наворачиваются. Что покажет анализ?
— Эй, рыжуха!
Сидящий рядом Федор пихает меня в плечо своим плечом и заглядывает мне в лицо, но я ещё дальше отворачиваюсь. Ну не хочу я, чтобы он видел, как я реву.
— Не надо, — его голос нежен, и это меня доканывает. Слезы брыжут из моих глаз как из брансбойта.
— А вдруг мне какую-то дрянь вкололи, и теперь я?..
— Из умной рыжухи превратишься в глупую блондинку?
Смеюсь сквозь слезы. А он внезапно обнимает меня и прижимает к своему плечу. Так оказывается приятно спрятать лицо на такой широкой и надежной груди…
— Кондратик… А с кем это ты тут обнимаешься?
Женский голос за мой спиной полон откровенной враждебности. Я тут же отстраняюсь и сбрасываю с себя руку Кондрата. Рядом с нами стоит высокая красивая девица в несколько вызывающей одежде — кожаные штаны в обтяжку, майка со смелым вырезом на груди.
— Ба! А девушка у нас оказывается плачет!
Переводит прищуренный взгляд на дверь, у которой мы сидим. Читает табличку — «Лаборатория».
— Что, дорогуша, анализ показал, что теперь придется бежать и делать аборт? Наш Кондратик в своем репертуаре: трахнуть — трахнул, а жениться отказывается?
— Не отказываюсь, — цедит Федер сквозь зубы и резко встает.
Остальной их разговор не слышу, потому как Кондратьев подхватывает барышню под локоток и решительно уводит в сторону. Вижу только, что она продолжает что-то гневно спрашивать, он отвечает достаточно резко. Потом на ее лице наигранную веселость сменяет мгновенная вспышка отчаяния. Наконец, девица удаляется, а хмурый Кондрат опять усаживается радом со мной.
— Это… ваша девушка?
Смотрит с достаточно неприятной усмешкой. Ощущение, что на лбу у него словно бы четкая надпись проявилась: «Не лезь не в свое дело!» Думаю, что даже отвечать не станет, но он неохотно цедит:
— Вроде того.
Наконец из кабинета выходит лаборант. Обращается почему-то не ко мне, а к Федору. Причем с удивлением вижу, что докладывая (именно докладывая!) так и норовит вытянуться в струнку.
— Господин майор…
Вот это да! Федя-то оказывается в чинах. Даже странно. На военного он совсем не похож. Те как-то более линейны что ли… А этот… Вот вроде прямой и конкретный, как топор, а глянешь искоса и с удивлением видишь: на отливающем синей сталью лезвии какие-то тени, да неясные, но до крайности необычные отражения то появляются, то пропадают… Так что одназночным я бы его точно не назвала. Скорее, скрытным и непростым.
— Господин майор! Взятые на анализ кровь и моча содержат остаточное количество снотворного. Что касается повреждения на руке, то тут что-то сказать сложно, кроме того, что укол явно делал кто-то, кто большой практики в этом деле не имеет. В вену попал не с первого раза. Отсюда боль и синяк.
— Ей что-то ввели?
— Не могу сказать.
— Раз след от укола появился после того, как она заснула, значит, о том, что через вену вводили снотворное говорить глупо. Тогда что?
— Более никаких посторонних ингредиентов у госпожи Унгерн в крови нет.
— Госпожи… кто?!
Ну вот. Неужели еще один фанат барона? Хотя чему удивляться? Не случайно же они в институте именно им интересовались. Стою, молчу. Чего поперек батьки в пекло лезть? Несколько растерянный медик смотрит в бумагу, которая зажата в его руке. Пожимает плечами:
— Унгерн…
Федор всем телом поворачивается ко мне и даже как-то нависает.
— Ваша фамилия Унгерн?
В его голосе такое потрясение, что я даже улыбаюсь:
— Ну да. Анна Фридриховна Унгерн. Вам что, в институте не сказали?
— Нет, блин! Ничего-то нам в этом вашем… — явно давит готовое вырваться ругательство, — институте не сказали!
Быстро расплачивается с парнем из лаборатории — успеваю заметить, как мелькает довольно крупная по моим понятиям купюра, — что-то шепчет ему, теперь уже нависая над ним, а потом хватает меня за руку и стремительно тащит вдаль по коридору. То, что я пытаюсь упираться, он, похоже, просто не замечает. Мы, прямо скажем, в разных весовых категориях. Что там значат мои пятьдесят с хвостиком против его ста с небольшим?
Федор (господин майор, да-с!) запихивает меня в свою машину, плюхается на сиденье сам и, ничего не говоря, выруливает со стоянки. Общаться со мной ему некогда. Одной рукой рулит, другой выдергивает из кармана мобильник.
— Серег!.. Да, да, свозил. Серег… Да подожди ты, блин, указания раздавать! Ее фамилия Унгерн! Ун-герн!.. Что слышал, твою мать!.. Ага! И я про то же подумал… Ну да, я уже еду. Жди. Стрелку позвонишь? ОК.
Это «ОК» он произносит странно. Не «о'кей», как принято, а просто две русские буквы: «О» и «К». Но ещё страннее все остальное.
— Куда вы везете меня, и вообще что все это значит?
Понимаю, насколько сильно волнуюсь, только теперь. По собственному голосу, который вдруг становится визгливым и противным. Быстро скашивает на меня глаза, потом снова уставляется на дорогу. И то верно — отвлекаться ему нельзя, летим мы как на пожар. Стрелка спидометра в его машине уже давно и плотно приклеилась к указателю сто тридцать.
Конечно день праздничный, город пуст, но все-таки… Впрочем, это оказываются только цветочки. Когда мы вырываемся на какую-то широкую трассу, господин майор разгоняется ещё больше. Сто шестьдесят, сто восемьдесят. Я зажмуриваюсь.
Останавливаемся только один раз. Рьяный гаишник кидается почти что наперерез. Я жду долгих разборок, но Федор лишь предъявляет какое-то удостоверение, и через десяток-другой секунд мы уже снова мчимся в прежнем темпе. Как ни странно успокаиваюсь. Видимо волнение по поводу его рискованного вождения наложилось на прежнее. Минус на минус дал плюс.
— Так куда мы едем, Федор?
— К Сереге… Ну то есть к Серджо Ванцетти. Будем там минут через тридцать. Не волнуйтесь, Анна. Мы вам точно не враги.
— А кто враги?
— Вот и покумекаем…
Задумчиво прикусывает губу и вновь целиком концентрируется исключительно на езде. Сворачиваем с трассы на более узкую дорогу, которая вскоре втекает в обычную деревенскую улицу. Здесь Федор уже едет не торопясь. Привычная взору каждого деревня (покосившиеся заборчики из штакетника, домики с резьбой вокруг окон и кривенькими мезонинами) кончается, начинаются типичные новорусские коттеджи. В основном — грубые кирпичные коробки. Здоровенные и незатейливые, как их хозяева. Даже красный кирпич — как намек на малиновый пиджак… Минуем и эту запечатленную в архитектуре эпоху уже постсоветской истории и въезжаем в коттеджную застройку совсем иного уровня. Здесь дома уже не нависают один над другим, подавляя авторитетом, как у новорусских братков из девяностых.
Участки здоровущие, заросшие вековыми деревьями. И дома более архитектуристые. Возле одного такого и тормозим.
Огромный. Я такие только в кино видела. Теплый желтый кирпич, натуральный камень, широкие окна, каминные трубы, увенчанные причудливыми колпаками. Гараж на три машины выходит своими автоматическими воротами прямо на улицу.
Федор паркуется рядом, поперек ворот. Выбираюсь из его машины. Оглядываюсь. Хорошо живут итальянцы в России! Мой провожатый тем временем уже звонит в домофон.
Короткий вопрос, столь же короткий ответ, калитка щелкает и открывается. Хозяин встречает нас на пороге дома. У него на руках совсем маленький ребенок. Девочка, судя по розовой кофточке.
— Тихо, Кондрат. Разбудишь мне ее своим ревом, сам угоманивать будешь.
— А Ксюха где? — послушно шепчет Федор.
Итальянец, на чьих изрисованных татуировками руках так безмятежно спит малышка, только раздраженно дергает головой. Все ясно — то место, где пребывает неизвестная мне Ксюха (жена?) ему активно не нравится, как не нравится и сам факт ее отсутствия. Сатрап и самодур.
Проходим вслед за ним в дом. Шепчет:
— Сейчас я ее уложу.
Он уходит наверх, бесшумно шагая босыми ногами по янтарному дереву ступенек. Меня же Кондратьев проводит в гостиную. По размерам она напоминает футбольное поле.
Правда очень уютное. Мягкие кресла и диваны, низкие столики, камин, изобилие цветов на подоконниках. И, главное, яркие цветные игрушки в большом детском манеже. Мечта… Неужели люди и правда так живут? Причем не какие-то выдуманные из мыльных опер и голливудских мелодрам, а вполне реальные.
Возвращается хозяин. Ставит на каминную полку какую-то белую штучку с антенной и втыкает провод от нее в розетку. Догадываюсь, что это и есть радио-няня, про которую мне все уши прожужжала одна из сотрудниц на работе. Какой, однако, заботливый папаша. И повезло ж его жене с таким мужем.
Итальянец, о котором я думаю все это время с таким придыханием, поворачивается. Смотрит мне в глаза, и я тут же меняю свое мнение. Да не дай бог! Как можно жить с человеком, у которого такие вот глаза?.. Глаза, которые, кажется, видели все подлости и гадости, вообще все зло мира. И смотрит он так, что хочется как минимум зажмуриться, а как максимум спрятаться за то самое кресло в котором я сейчас сижу. Правда, может быть на жену он смотрит как-то иначе?.. Кстати, интересно, кто у него жена? И почему он ей позволяет шляться неизвестно где и бросать на него ребенка? Мама наверняка осудила бы эту незнакомую мне женщину.
Понимаю, что все это время, занимая себя такого рода рассуждениями, прячусь от собственных проблем и необходимости проговаривать их с посторонними людьми. Уверена, что ничего хорошего из этого не выйдет. И точно:
— Какого лешего вы не сказали нам, что ваша фамилия Унгерн?
— А какого лешего я должна была это делать? Да и потом я была уверена, что мой шеф вам ее называл… И… И вообще — какая разница, что у меня за фамилия?!
— Придется рассказать, — это он Федору. Тот кивает со вздохом.
— Придется.
Их прерывает дверной звонок. Итальянец идет открывать, а Кондратьев направляется в соседнее с гостиной помещение.
— Анна, что-нибудь выпьете?
— А что есть?
Хмыкает, крутнув бритой башкой.
— Здесь, как в пещере Али-Бабы, есть все.
— Тогда-а-а-а… — закатываю глаза и судорожно соображаю, что бы попросить такое, чего бы точно не оказалось, и ему пришлось бы признать, что даже в этом чудо-доме есть все-таки не все. Познания мои не велики. По большей части книжные. Но все-таки… — Абсент. Желательно семидесятиградусный.
Вытаращивает глаза, но молча идет, куда шел. Когда дверь открывается, вижу, что там, за дверью, библиотека — стены комнаты от пола до потолка уставлены шкафами с книгами. Однако Федор возвращается оттуда не с книгой, а с бутылкой, в которой плещется изумрудно-зеленая жидкость.
— Есть только девяностоградусный. Пойдет?
Я стараюсь не дать изумлению отразиться на лице и с облегчением отрицательно качаю головой.
— Нет, девяностоградусный не люблю. (Можно подумать, я его, как, впрочем, и семидесятиградусный, когда-нибудь пила!)
— Тогда что?
— Не знаю, — на этот раз честно отвечаю я.
— На мое усмотрение?
Киваю. Даже интересно, что принесет даме господин майор.
Это оказывается пузатый хрустальный бокал на короткой устойчивой ножке. Внутри где-то на пару пальцев жидкости цвета темного янтаря. Коньяк, наверняка.
— Пятидесятилетний арманьяк, — поясняет Федор, плюхаясь в кресло напротив. — Сереге подарила бабушка жены. А она дама с хорошим вкусом к жизни.
— Тогда наверно неудобно…
— Она, зная его, подарила ящик.
— «ПрЭлЭстно», — как говорит самая заслуженная и самая пожилая дама в нашем рабочем историческом коллективе. Не даром мне с первого взгляда, сразу показалось, что все они — и бритоголовый Федор, и его приятель блондинчик (вот он, кстати, идет вместе с хозяином из прихожей), и сам итальянскоподданый — все они настолько не из моей жизни, что хоть плачь. Стрелок — я помню, что его фамилия Стрельцов и потому «кликухе» не удивляюсь — усмехается с веселой издевкой.
— Что? Опять пьете?
— Почему опять? — законно возмущаюсь я. Веселится ещё больше.
— К вам, Анна Фридриховна, мое критическое замечание отношение имеет опосредованное. Я все больше о вашем визави, господине Кондратьеве. Это он тут вчера душу отводил, на жизнь жаловался… Одолели его дамы сердца. Много их слишком…
— Заткнись, Стрелок, а то в морду дам, — цедит сквозь зубы упомянутый господин.
Но тот только хихикает.
— Хватит его колупать, Стрелок, — это уже хозяин дома. Все-таки как хорошо он владеет русским! И сленг, и построение фраз. Только все тот же мягкий акцент. Даже не акцент — некая картавость, странность в произнесении твердых звуков, говорит о том, что язык для него все-таки не родной.
Стрелок скучнеет лицом и плюхается в кресло. Федор предлагает выпить и ему, но Егор отказывается.
— У меня, в отличие от тебя, ксив на все случаи жизни нету, а мне ещё домой ехать. И, опять-таки в отличие от тебя, я человек женатый. Проблема выбора вроде твоей, Кондрат, меня не мучит. А Машка — женщина хоть и тихая, но решительная. Если я не явлюсь на ночевку, уволит меня из мужей за непосещаемость, и вся недолга. Лучше говорите толком — в чем дело?
— В ней, — кивает на меня Φедор.
— Это я уже понял, но что такого…
— Ее фамилия Унгерн.
Глава 3
Стрельцов затыкается с полуслова. Ленивая улыбка слетает с его лица, которое мгновенно серьезнеет и как-то внутренне подбирается. Какие интересные все-таки ребята…
— И что?
— А то, что кто-то уже знает то же, что и мы. И этот кто-то в отличие от нас начал действовать. Причем грубо, в лоб.
Итальянец — Серджо, кажется? — кратко пересказывает Стрельцову мою эпопею со снотворным и уколом. Тот становится еще более сосредоточенным.
— Орлы! Сообразили, что чем таскать за собой живого человека, куда как удобнее запастись пробиркой с его кровью. Молодца-а! Что и говорить!
— Это вы о чем?
Переглядываются. И уже собираются наконец-таки заговорить, как вдруг дверь из прихожей распахивается, и в гостиную вплывает девица в длинном вечернем платье. По тому, как тщательно выверены все ее движения, тут же становится понятно, что она здорово навеселе. Итальянец смотрит на нее хмуро, его резкие брови сходятся на переносице. Стрельцов ржет:
— Пьяница мать — горе в семье.
И только Федор поднимается, быстро чмокает девицу в щеку и провожает ее до кресла.
— Ксюх, ты чего так набралась? Особо «весело» что ль было?
Ага! Та самая Ксюха пожаловала. И как в таком виде сюда добиралась? Неужели за рулем? Девица делает страдальческое лицо, подтверждая — там, где она была, скукота оказалась страшная. Мне бы ее проблемы! Явно с какого-то приема или великосветского раута. Мне она активно не нравится. Всем. И тем, как держит себя, и смазливой внешностью и дорогой одеждой… Одно слово — «прицесска». И дура наверняка! Муж ее, которому Ксюха в настоящий момент тоже явно не нравится, кривится ещё больше.
— Завтра ведь умирать будешь.
— Да нет, Сереж. Все не так плохо. Я больше придуриваюсь.
Ну да, как же! Хотя… Речь ее действительно звучит четко и совершенно трезво. И движения становятся другими… Как-то она моментально берет себя в руки, видя мужнино недовольство. О как! Дрессировка на высшем уровне. Ее реакцию подмечает и Кондратьев и тут же встает на защиту.
— Да ладно тебе, Серег, Ксюху прессовать. Сегодня по чесноку ее очередь была отрываться. Так что, как говорится, завидуй молча. Итальянец, которого приятели почему-то упорно зовут на русский манер Серегой, начинает что-то отвечать довольно резко, но девица прекращает затеявшееся было препирательство одним великолепным жестом.
— Лучше познакомили бы с гостьей.
Мужики спохватываются, меня представляют — мол, Анна Фридриховна Унгерн, и девица тут же уставляется на меня своими потрясающе синими глазами. У меня вот какая-то размытая, почти прозрачная голубизна, а этой создатель краски не пожалел… Она продолжает смотреть на меня и тогда, когда ее итальянец быстро пересказывает то, что со мной произошло. Причем я вижу, как глаза ее с развитием рассказа все темнеют и темнеют. Словно на небеса набежала туча.
— Ее придется охранять.
Ну вот! Теперь еще какие-то там «прицесски» будут распоряжаться моей жизнью!
— Почему это?
— Потому что та кровь, которую они у нее взяли, не сработает. Они это поймут и очень быстро вернутся за Анной.
Ничего не понимаю. Остальные, все кроме Ксюхи, видимо тоже. Ей приходится объяснять.
— Идея у тех парней, конечно, хороша, но требует очень быстрой реализации. Кровь без изменений химического состава может хранится совсем не долго. В холодильнике с соблюдением очень точного температурного режима — до тридцати пяти дней, но при этом к концу хранения она уже, скажем, не совсем та. А так — три-пять дней, а дальше надо замораживать. Что, они потащат с собой морозильник? И генератор к нему?
— Все-то ты, Ксюх, знаешь. Хоть и баба.
Это Стрельцов. Девица на его выпад не реагирует совершенно. Привыкла что ли? Остальные молчат, обдумывают. И очень быстро приходят к тому же выводу, что и «прицесска»:
— Придется охранять.
— И как вы это себе представляете?
Действительно, как они себе это представляют? Заговаривает Φедор:
— Ну это, положим, я возьму на себя. У нас впереди праздники. На работу Анне ходить не надо будет, насколько я успел понять. Но вы тоже должны будете помочь. Надо будет потрясти ее приятелей, прижать этого Павла, когда выйдем на него.
Стрельцов:
— Кондрат, ну ты прям странный какой-то. Конечно поможем. Тебе девицу. Еще одну, до кучи. Нам сложности. Все по-честному.
Я встаю и молча иду к выходу. Надоело. Надоело сидеть идиоткой, про которую в ее присутствии все больше говорят в третьем лице, которая ничего не понимает и за которую все всё решили и не подумав посоветоваться с ней самой. Охранять они меня будут! Ну да! Маму инфаркт от такого хватит…
Кстати о маме. Помяни человека, и он тут как тут: телефон в кармане взревывает идиотской песенкой, которую я скачала когда-то в интернете: «Это я, твоя мама звоню, вся, блин, извелася ну прямо на корню. Как ты там, мой ребенок дорогой, там-парам, тир-тира тура-пура блюм бой-бой…» Мне почему-то становится дико стыдно, хотя обычно песенка эта очень нравится. Просто потому, что совершенно не сочетается с личностью моей мамы, а потому звучит неким вызовом.
Выхватываю телефон, но он, подлый, выворачивается из пальцев и падает. К счастью на коврик у дверей. Не разбивается, но зато продолжает завывать дегенеративным голосом. Наконец я его настигаю и нажимаю кнопку, отвечая на звонок. Из динамика на меня выплескивается звук такой интенсивности, что приходится отставить телефон от уха.
— Анна! Слава богу! Я ничего не понимаю! Мне позвонил Александр (болтун чертов!) и сказал, что ты уехала с каким-то незнакомым типом бандитской внешности. Где ты? Уж ночь на дворе. Я волнуюсь…
— Мам, мне тридцать два года, неужели я не могу?..
— Анна, не смей разговаривать со мной в таком тоне! Я ведь переживаю за тебя, а ты позволяешь себе мало того, что оставлять меня в неведении касательно своих перемещений и своих новых знакомых, так ещё и…
Ну все. Пошло-поехало. Теперь это надолго. Стою, слушаю, изредка подаю реплики. В какой-то момент вижу, что все четверо моих новых знакомых столпились в дверях, ведущих в гостиную (благо они двустворчатые) и с интересом слушают мои переговоры. Демонстративно поворачиваюсь к ним спиной и прилагаю массу усилий, что бы закончить разговор как можно скорее. Стыдоба-то какая!
Засовываю телефон обратно в карман и неуверенно берусь за ручку входной двери.
— Вы куда?
Вопрос резонный. Тянет ответить: «На площадь труда», как это обычно делает мой сосед по лестничной клетке, когда сбегает от жены к приятелям, а та вопит ему вслед: «Ты это, алкаш несчастный, куда намылился?» Но мама с самого раннего детства вбивала в меня, что говорить в любой ситуации следует вежливо, что такие вот «простонародные», а значит априори грубые выражения не могут быть использованы хорошо воспитанными людьми, а тем более девочкой моего «социального статуса».
В итоге я ничего не говорю и только дергаю дверь, которая, естественно, оказывается заперта. Тьфу ты! Ну что ж у меня все всегда именно так?!! Поворачиваюсь к своим мучителям.
Смотрят на меня с интересом. Вот ведь… Очередное шоу. На ковре опять-таки Анна Унгерн, и неуправляемая дверь.
Оставляю ее в покое. Мстительно пихнув плечом Стрельцова, который на свою беду оказался на моей дороге, возвращаюсь в гостиную и плюхаюсь обратно в кресло. «Цыганочка с выходом» не удалась. То есть «цыганочка»-то получилась, а вот с выходом — проблема.
Те четверо тоже возвращаются. Девица подсаживается ко мне и смотрит участливо. Только этого мне не хватало!
— Ань, вы не переживайте. Они всегда такие, а потом ничего… Сейчас они перестанут Ваньку валять и изображать из себя крутых мачо, все вам объяснят, и мы все вместе решим, как нам правильно будет поступить.
И меня-то она совершенно верно просчитала, и мужиков своих, как видно, отлично знает. Все-таки не дура, хоть и «прицесска». Страшное сочетание. Просто-таки убойное.
Внезапно из радио-няни доносятся какие-то похрюкивания, переходящие в повизгивания. Девица вскакивает, подбирает свою длинную вечернюю юбку и стремительно удаляется наверх. Я остаюсь наедине с мужиками. Смотрим друг на друга. Молчим. Заговаривает Стрельцов. Он у них вообще самый общительный. Итальянец говорит только по делу, а Федор так и вовсе предпочитает молчать.
— Ань, а давайте мы все хором перейдем на «ты»?
— Давайте. Только вы уж не побрезгуйте, объясните, из-за чего все, и по какой такой причине мне требуется охрана…
И они наконец-то объясняют. Корень всего свалившегося на меня зла, как выясняется, в прошлом. Среди увлеченных кладоискателей уже давно бытует легенда, что клады барона Унгерна — заговоренные. В руки не даются. Прячутся и ускользают. Это я знала и без них, а вот остальное оказывается для меня новостью. В неких заграничных архивах не так давно находится документик. Из него явствует, что еще далекие предки легендарного барона славились тем, что все свои схроны, все свои подвалы и лари заговаривали… на собственную кровь. Или, если вернее — на кровь рода, так что в случае гибели одного из семьи Унгернов, другой вполне мог, произведя несложные манипуляции, а именно — сбрызнув своей кровью известное место схрона, или окропив заветную дверь, «расколдовать» их и завладеть тем, что спрятал родственник. Что-то типа современной проверки идентичности по рисунку сетчатки, или по отпечатку пальца.
Какому-то мудрецу из современных кладоискателей тут же приходит в голову очевидное: а что как барон Унгерн, пряча свое золото, использовал ту же методу? Все бросаются искать прямых потомков некогда великого рода… И обнаруживают, что их по сути и не осталось.
— Всего несколько человек по всей Европе. У нас в России и вовсе один. Как я понимаю теперь — ты.
— Так значит все это со мной затевалось только ради того, чтобы заиметь мою кровь?
— Именно. И поэтому тебя придется охранять. Они ведь не успокоятся.
— И сколько вы сможете меня охранять?
— Будем надеяться недолго. Прижмем этого твоего Павла, и все будем знать точно. Большинство-то кладоискателей люди, хоть и двинутые на своем деле, но нормальные. Ну будут терроризировать тебя по телефону и канючить по почте, но чтобы вот так… Это просто отморозки, блин, какие-то! Их надо найти… Ну и объяснить, как они неправы. А как найдешь-то? Да и когда?..
На этот мой вопрос отвечает уже не балагур Стрельцов и даже не итальянец, а молчавший до сих пор Кондратьев. И ответ его краток:
— Завтра.
* * *
Ночевать остаюсь здесь. Мне отводят отдельную спальню с личной ванной. Хозяйка большого дома Ксения Ванцетти, уложив ребенка, лично приносит мне зубную щетку в упаковке, полотенца, одноразовые тапки в пакетике и даже чистый хлопковый халат.
— «Какой Версаль!»
— Чувствуйте себя как дома. В этом крыле Викусю не должно быть сильно слышно, так что выспитесь и отдохнете, а то на вас лица нет.
— Давайте тоже на «ты», а то как-то мужчины ваши мне «тыкать» будут, а вы…
— Давай. «Ты» сближает, — улыбается. — Да и из всех мужчин в этом доме мой — только один. Егор — Машкин, а Кондрат у нас — ничейный. Кот, который гуляет сам по себе.
— Я слышала, как к нему обращались «майор».
— Да, он у нас мальчик серьезный. Спецназ. СОБР.
Я не знаю, что такое СОБР и честно признаюсь в этом.
Ксения смеется и объясняет: контора солидная, в отличие от ОМОНа операций по разгону митингов и вообще наведению порядка не ведет. То есть против мирных граждан не воюет. Специализируется на борьбе с организованной преступностью во всех ее проявлениях. Отбор в состав подразделения строг и включает множество этапов. Среди требований к претендентам: каждый должен иметь определенные достижения в том или ином виде спорта (понятно, что в первую очередь приветствуются не пинг-понг или спортивные танцы), отслужить в армии и, как ни странно это слышать мне, решившей было, что Федор и читает-то с трудом, получить высшее образование. Кроме того важны и психологические качества кандидата. Служат в СОБРе только офицеры. И Федя среди них — далеко не последний человек.
— И очень надежный.
Ксения улыбается еще шире. Я думаю о своем: мама, если узнает, кто именно меня увез от Сашки, будет в шоке. Мало того, что она терпеть не может военных, так ещё и глубоко презирает тех, кто зарабатывает себе на жизнь, как она говорит, «тем, что кулаками машет». Последняя надежда:
— А какой институт Федор заканчивал?
— Не знаю. Он никогда особо об этом не говорил, а мне как-то и в голову не пришло интересоваться. Он и сейчас где-то учится…
«Прицесска» — одно слово. В голову ей, видите ли не пришло.
— А чего вы вообще ввязались в эту историю с кладами?
Присаживается на кровать и как-то смущенно трет нос. Как кошка лапой.
— Да ты понимаешь, Ань… Нам-то с мужем уже и не надо вроде ничего. Острых ощущений на всю жизнь обоим хватит. (Это каких же это интересно? Что-то не верится…) А вот Стрелок с Кондратом заскучали что-то. Раньше-то у них жизнь куда интенсивнее в смысле разных перипетий была… Вот и решили придумать для них какое-нибудь необычное дело, развлечь их как-то, а может, если повезет и денег на этом заработать. Стрелок, как и мой муж, туристическим бизнесом занят, но по старой памяти любит… тряхнуть стариной. А Кондрат… Ему, по-моему, вся эта история с кладом просто интересна. Как ребенку волшебное приключение. Не знаю. Мне о нем судить трудно. Хочешь, спроси его обо всем этом сама.
— Его спросишь…
— Да, Кондрат у нас молчун. На службе, видно, выговаривается. И вообще, при всем своем этаком внешнем простецком панибратстве, человек непростой. Снаружи — вот он я такой, весь из себя свой в доску, открытый как банка с тушенкой в руках голодного туриста, а на деле — вещь в себе… Зато никогда ни словом не обидит, как Стрелок, ни делом, как… — Прикусывает губу, отворачивается, потом встает и уходит. Видно вспомнила о чем-то малоприятном. Про мужа?.. Выходит, «прицесски» тоже плачут?
* * *
Долго воюю с душевой кабиной, которая больше всего похожа на какой-то космический зонд, а не на устройство, созданное для того, чтобы просто поливать человека струйками водички. Но зато, когда мне наконец-то удается разобраться, удовольствие получаю потрясающее. А ведь они такое себе каждый день могут позволить! Но мне все равно лучше. Они, небось, уже и не ценят, а я просто-таки тащусь.
Кровать удобная, одеяло невесомое, подушки мягкие и пахнут чистотой. Я проваливаюсь в сон мгновенно, как в какую-то яму. Снится мне почему-то мама, которая танцует с майором Кондратьевым какой-то сложный танец. Потом к ним подходит одетый во фрак и джинсы с кедами Стрельцов, чопорно кланяется и спрашивает: «Позволите разбить вашу пару?» Танцующие соглашаются, мама поворачивается к новому партнеру, но тот почему-то вместо нее обнимает за талию здоровенного Кондратьева и начинает кружиться с ним. При этом мама моя так обижена, что начинает плакать.
Звуки, которые она издает, будят меня. Какое-то время лежу, осознавая себя в этом мире. Темно, непривычно, не сразу вспоминаю, что я в гостях, в доме, в котором раньше никогда не была.
Потом до меня доходит, что звуки, которые мне вроде как снились, уши мои слышат на самом деле. Викуся что ли проснулась? Читала, что проводили тест — какие звуки будят человека быстрее всего. Оказалось, что мужчин тут же ставит в строй звук сработавшей автомобильной сигнализации, а женщины реагируют в первую очередь на детский плач. Даже те, у кого еще нет своего ребенка. Природа, против нее не попрешь…
Прислушиваюсь. Нет, это не Викуся… Встаю, открываю дверь своей комнаты… И вдруг меня бросает в жар.
Неожиданно понимаю, что это. Вернее кто это: Ксения и ее итальянский муж. Не то что они выставляют свои эмоции напоказ, но в тихом доме звуки разносятся очень хорошо.
Догадываюсь, почему. Викуся у них спит в отдельной комнате. И ночью, что бы услышать, если она проснется и заплачет, Ксения оставляет двери в детскую и в свою спальню приоткрытой…
Я замираю, невольно трепеща и вся обратившись в слух.
Наверно это какая-то форма вуайеризма. Только не зрительная, а слуховая. Наверно так, потому что перестать подслушивать я просто не в силах. Вот они стихают… Я даже перестаю дышать и на самой грани слуха все-таки улавливаю:
— И что ты, Ксюх, во мне нашла?
И столько всепоглощающей нежности, столько тепла в словах мужчины, который показался мне совсем не годным для любви (с такими глазами, как у него, нельзя кого-то любить, только ненавидеть!), что я в очередной раз понимаю: всем моим абстрактным умствованиям и логическим построениям — грош цена. И если обычно, когда речь идет о рабочих вопросах, эта мысль меня раздражает и расстраивает, то теперь все наоборот. Она теплым пушистым комком, словно котенок, сворачивается у меня в груди. Тихонько прикрываю дверь, возвращаюсь в кровать и через пять минут уже снова сплю…
* * *
Просыпаюсь поздно, а когда иду в сторону гостиной, слышу внизу голоса. Довольно громкие. Я бы даже сказала, что там скандал. Вхожу и столбенею. Стрелок и итальянец развалились на диванчике, вальяжно закинув руки за голову — как перед телевизором. Отдельно от них в кресле сидит какая-то рыжеволосая девица. Невозмутимая Ксения деловито возится на кухне. А посреди гостиной… Кошмар!
Кондрат сидит на перевернутом спинкой вперед стуле, как лихой ковбой на верном скакуне. А перед ним, вытянувшись по стойке смирно стоит… Сашка. Мой Сашка, с дачи которого меня вчера и увезли. Нос у него разбит, и он периодически хлюпает им, подтягивая вытекающую кровь.
Меня не замечают. Все увлечены делом — Егор и Серджо созерцают, Кондрат ведет неторопливую беседу:
— Я тебя душевно и в последний раз прошу, скажи мне, откуда взялся этот самый Павел, и как его найти, и можешь катиться на все четыре стороны. Ты пойми: если и дальше продолжишь играться в партизан и фрицев, я ведь тоже детство вспомню. А оно у меня, в отличие от твоего, непростое было, с периодической поножовщиной и регулярным мордобоем. Так что я и заиграться могу. Усек? Кивни, если усек, орел ты наш бескрылый!
Сашка торопливо кивает, и мне становится жаль его. Если только мама узнает… Ну вот! Она! Мой телефон взрывается все той же гнусавой песенкой: «Это я твоя мама звоню…» Все поворачивают ко мне головы, а мама из телефона тут же доводит до моего сведения, что она уже все знает.
— Что именно? — тоскливо интересуюсь я.
— Что ты провела ночь неизвестно где и неизвестно с кем, дочь моя! А сегодня утром тот бандит, с которым ты вчера уехала, вернулся, избил нескольких твоих друзей и увез куда-то Сашу. Его мама уже звонила в милицию… То есть в полицию… Анна, скажи мне честно, с кем ты связалась? Что происходит?
— Все в порядке, мам. И с Сашей (тот возмущенно вздергивает вверх и без того нахохленные плечики), и со мной.
— Немедленно, слышишь? Немедленно возвращайся домой.
— Я пока что не могу, мам.
— Что значит не могу?!
— У меня дела. Давай, я перезвоню тебе попозже?
— Но…
Я нажимаю кнопку отбоя и смущенно смотрю на присутствующих.
— Мама волнуется? — осклабляется Стрельцов.
— Да, — отрубаю я и иду к Сашке. — Что это у вас тут творится?
— Ань, ты им скажи…
— Нет, дружище, это ты нам скажи. И поедешь назад к маме и к твоим друзьям-приятелям. Заодно передашь им привет и скажешь, что я их уважаю за проявленный героизм. Защищали они тебя отчаянно, хоть и неумело.
— Гад!
— Это я пока не гад, братишка, это я пока что терплю. Но ей богу, вот еще немного…
— Прекратите.
Обвожу взглядом собравшуюся гоп-компанию и смотрю на Сашку.
— Почему ты не хочешь сказать, Саш? Этот парень… Откуда он взялся? Он тебя как-то запугал, угрожал чем-то? Иначе я не понимаю, зачем тебе скрывать его координаты.
— Никто мне не угрожал, кроме этих твоих… — злобно косится на Кондратьева и с независимым видом опять подтягивает кровавую соплю.
— А раз не угрожал, в чем дело?
— А ни в чем! Не скажу я этим типам ничего и все тут. Из принципа. Можете бить сколько угодно.
Взбешенный Кондрат начинает подниматься. Стрелок и итальянец оживляются — сейчас что-то будет. Рыжеволосая вскакивает и идет на кухню к Ксении, явно не собираясь вмешиваться в то, что творят мужики. Но ничего не происходит. Из-за меня. Видимо, я в душе пацифистка, хоть сейчас самой хочется дать Сашке подзатыльник, как нашкодившему сорванцу. Из принципа он, видите ли!
— Саш! Не городи чушь. Никто тебя бить и не подумает, а вот я позвоню твоей маме и расскажу ей о том, что ты до сих пор не женился не потому, что девушки подходящей нет, а совсем по иной причине.
Истории этой уже лет пять. Тогда были очередные майские праздники, и мы традиционно собрались нашей большой компанией у Сашки на даче. Родителей его в тот раз не было — Сашкиному отцу дали какую-то путевку то ли в санаторий, то ли в пансионат, и они с супругой уехали. Поэтому сам Сашка и один из его гостей — новичок в нашей тусовке — остались ночевать не в палатке, а в доме. Среди ночи я проснулась, крутилась-крутилась и решила, что будет разумным, раз уж все равно не сплю, сходить в туалет. Пошла. В одной из комнат Сашкиного дома горел свет. Я, дура любопытная, заглянула, когда мимо шла и остолбенела. Помню шок у меня был такой качественный, что я как ногу для следующего шага занесла, так и осталась стоять на одной, разинув рот и вытаращив глаза.
Собственно, до порнухи у них дело еще не дошло, пока была только эротика. Но мне и ее хватило. Никогда в жизни не видела двух целующихся мужиков. А они целовались по-настоящему, с чувством. При этом руки их тоже не скучали.
Сашка гладил своему приятелю грудь под расстегнутой до пояса рубашкой, а тот мял Сашкины ягодицы. Я убежала после того, как тот второй парень развернул Сашку к себе спиной и принялся стаскивать с него тренировочные штаны, а сам Сашка в этот самый момент случайно глянул в окно…
Утром смотрел он на меня тревожно и со скрытым вопросом, но я к этому моменту уже пришла в себя и решила, что оба — мальчики взрослые и вполне в состоянии решить, что им в этой жизни любо. Поняв, что я его не осуждаю и языком трепать не собираюсь, Сашка успокоился. А после несколько раз даже болтал со мной, советуясь в вопросах любви и дружбы. Причем как-то чисто по-женски…
И вот теперь я дала ему понять, что вполне могу воспользоваться своими знаниями против него.
Вижу, как он на глазах сереет лицом, судорожно сглатывает и торопливо смотрит на мужиков — поняли или нет? Те синхронно делают вид, что заняты чем угодно, но только не нашим с Сашкой разговором. Умные и соображают быстро.
После того как Сашка понимает, что я настроена предельно серьезно, дожать его не составляет труда. Вскоре он уже рассказывает все.
Оказывается, с Павлом и вторым парнем, который вчера был с ним, Сашка познакомился совсем недавно. Причем повод был совершенно конкретным — я. Парни подошли к Сашке, когда он выходил с работы. По его словам, сначала он даже испугался, но потом понял, что те — отличные ребята. Они пригласили его посидеть в соседнем кафе, где не стали долго ходить вокруг да около, а сразу перешли к делу. Сказали, что слышали, как он, Сашка, рассказывал: знаком я, мол, с девушкой по фамилии Унгерн, а она — самая что ни на есть прямая наследница знаменитого барона.
Сашка сей факт подтвердил. И тогда парни слезно начали просить его познакомить их со мной. Сашка не увидел в этой просьбе ничего странного, и вскоре они уже обо всем договорились. Так парни и возникли вчера на станции.
Кондрат записал телефон Павла и, как и обещал, отпустил горе-партизана на все четыре стороны, дав ему даже денег на проезд.
— Молодчина ты, Ань. Так не хотелось этого дурачка на самом деле бить…
— Да не молодец я, а наоборот — дрянь, — мне действительно не по себе. Оказывается шантажировать человека, совсем не такое приятное занятие, как думают многие. — Никакой особой заслуги в том, что я сделала нет. Он мне доверял, и в итоге я знала, чем сильнее всего могу его зацепить… Получается: для того, что бы сделать человеку по-настоящему больно, его нужно хорошо знать, а может и любить…
Странно, но все замолкают и опускают глаза. Каждый вспомнил что-то, о чем обычно вспоминать не хочется? Один Кондрат смотрит открыто и сочувственно.
— Не переживай, голуба-душа. Перемелется, мука будет.
— Мама говорит, что ты там на даче целый погром устроил. Зачем?
— И ничего и не погром. Жертв и разрушений нет. Да и виноват не я, а твой этот Сашка. Придурок, прости господи! Вместо того, чтобы просто ответить на вопрос, полез в драку. На меня!
В голосе Кондрата звучит искреннее недоумение. Сейчас он больше всего похож на слона, который только что вернулся с улиц, где его «водили», и теперь рассказывает дружбанам в слоновнике, о том как всю дорогу у него под ногами путалась какая-то мелкая собачонка. И раздавить эту Моську — сраму не оберешься, и терпеть невмоготу.
Я смеюсь. И он тоже улыбается мне в ответ. Стрельцов же подбородком указывает на бумажку, на которой записаны координаты Павла.
— И что теперь?
— Ну, мы можем…
Я перебиваю:
— Все просто. Павел делал вид, что был сильно расстроен: мол, мы мало вместе времени провели. Намекал на желательность дальнейшего общения. Теперь я сделаю вид, что поверила в это. И более того, хочу продолжить наше знакомство. Позвоню, скажу, что телефон узнала у Сашки и приглашу на свидание.
— А если он откажется? — недоверчиво осматривая меня цедит Стрельцов.
Ну не сволочь ли? Так и хочется дать по башке, причем желательно не рукой, а как минимум стулом. Но мое дурацкое воспитание не позволяет. Стоим. Злобно смотрим друг на друга.
— Кхм, — демонстративно произносит Серджо и складывает руки на груди.
Он прав. Не время для баталий. Беру свой телефон, сверяясь по бумажке набираю номер. Не отвечают довольно долго, но после того, как Павел все-таки подходит к телефону, все налаживается. Он говорит, что рад моему звонку и тут же соглашается встретиться. Нажимаю отбой и незамедлительно показываю Стрельцову язык. Что, съел? Но он лишь ухмыляется. Ну что за человек такой? Ведь все свои гадости нарочно говорит, откровенно провоцирует. Знаешь это, а все равно ведешься.
С Павлом мы договорились вместе пообедать. Так что сразу начинаем собираться в Москву. Серджо и Ксения остаются дома. Тем более, что как раз проснулась и потребовала внимания маленькая Викуся. Стрельцов отбывает один — ему, как он говорит, надо изучить диспозицию. Кондратьев везет в город и меня, и Стрельцовскую жену Машку — ту самую, рыжую, которую я застала в гостиной утром. Всю дорогу они весело трещат, а я, сидя на заднем сиденье, угрюмо молчу. И, честно говоря, нервничаю. Все-таки «на дело» мне приходится идти в первый раз.
Машку завозим в какой-то супермаркет. Ей нужно за покупками. Сами едем дальше. Встречаемся мы с Павлом на Маяковке, а Федор высаживает меня у Белорусской. Чтобы, стало быть, замести следы. Ведь будет странно, если я, всю жизнь передвигавшаяся исключительно на метро и троллейбусе, неожиданно появлюсь на шикарном джипе.
Так что я пойду в метро, а он продолжит движение по Тверской. Напутствует меня бодро:
— Не волнуйся, душа-девица, я буду у тебя за спиной. Даже если не видишь меня, в этом не сомневайся. Да и Стрелок будет вертеться поблизости. А он у нас дела делает так же лихо, как языком молотит.
Смеюсь и захлопываю дверцу. Забавный он парень, уютный какой-то, хоть и майор спецназа. Поболтаешь с ним, и как-то на душе теплее становится. Мастер подобрать слова и интонацию… Может, мама не будет так уж против?.. Обрываю себя. Ишь разогналась куда! Все это слишком хорошо знакомо: взлечу на крыльях своих собственных чувств, а потом, как Икар с небес на землю — шмяк! И только мокрое место от Анны Унгерн… Как от жучка на лобовом стекле…
Глава 4
Выхожу из метро у театра Сатиры. Мы договорились встретиться с Павлом у памятника Маяковскому, а потом пойти в какое-нибудь близлежащее кафе. Надеюсь, ему будет чем заплатить, потому как у меня — ни копейки. Только на проезд. Я традиционно сдаю всю свою зарплату маме.
Оставляю себе только на проездной и чуть-чуть на карманные расходы. Столовой у нас в институте нет, обеды все из дома в судочках носят. Но в этом месяце я приличную для меня сумму — по сути все свои карманные деньги — сдала в общий котел, когда собиралась все праздники провести у Сашки и там же, соответственно, питаться. Так что теперь мне разве только лапу сосать.
Павел, как ни странно, уже здесь. Редкий случай. Мало кто в нашем безумном городе забивает себе голову такой глупостью, как пунктуальность. Здороваемся, немного мнемся неловко, а потом идем в «Пилзнер Урквел». Хотя что мне там делать — непонятно. Пиво я не пью. Γорькое оно. Вообще не понимаю, как оно может нравиться. Да и мама говорит, что пиво пьют «одни гегемоны». Но я ведь иду не пиво пить, а «на дело», так что…
Время обеденное, в «Пилзнере» довольно людно. Причем «гегемонов» в мамином понимании этого слова что-то не наблюдается. «Белые воротнички» из соседних офисов пришли перекусить и поговорить в свое удовольствие. Чувствую себя до крайности неловко. Во-первых, потому что в таких местах не бываю практически никогда. Во-вторых, и, наверно, все-таки в главных, из-за того, что на мне все не мое. В драном дачном прикиде идти на свидание было нельзя, заезжать домой некогда. Так что пришлось ограбить Стрельцовскую жену — одежда высоченной Ксении оказалась мне совсем не в пору.
Маша, конечно, упиралась, но деваться ей было некуда. Так что она отбыла из дома Ванцетти в моих джинсах и моих же кроссовках. Ксения ей выдала только майку чистую и носки. Я же отправилась на встречу с Павлом в ее чудном летнем платьице и в босоножках. Мы с Машей оказались не только одинаково рыжеволосы, но и практически идентичны габаритами, даже размер ноги совпал.
Платье мне идет. Об этом Павел сообщает первым делом. Еще бы! Небось не на китайском рынке куплено, где обычно одеваются российские научные работники, а в каком-нибудь бутике. Павел заказывает нам обоим сок (ему ведь ещё за руль!) и какую-то еду по его выбору. Сижу, смотрю на него — ну никак парень не тянет на Доктора Зло. Открытый, общительный. Ошибаюсь? Подводит меня моя интуиция?
С Кондратьевым и Стрельцовым мы договорились так: я отсиживаю с Павлом положенное время в кафе, прощаюсь и иду в сторону метро. Кондрат меня подхватит или по пути, или, если не успеет — на Белорусской в условленном месте. Стрельцов же, которого никто из моих знакомых (кроме моего шефа на работе) не видел рядом со мной, проследит Павла до его дома. Или того места, куда ему придет в голову отправиться. В таком русле все поначалу и движется. Но ничего не могу поделать с собой. Словно кто-то тянет меня за язык:
— Паш, а зачем тебе моя кровь понадобилась?
Спрашиваю, наклонившись вперед, негромко и доверительно, и вижу, как тот меняется в лице. Точнее не так: лицо остается тем же — открытым и улыбчивым, а вот глаза… Ох какое неприятное выражение в них появляется. Опасное выражение. Значит, интуиция все-таки подвела? И что теперь? Егор и Федор где-то поблизости, но не рядом. Так что придется расхлебывать последствия собственной ошибки самой.
— Как догадалась, что именно это мне нужно было?
— Умные люди подсказали.
Вот как… Размышляет, в черепушке мысли ворочаются так интенсивно, что мне кажется их шевеление даже невооруженным глазом заметно. А потом:
— Ань, а сведи меня с ними. Понимаю, как это звучит после всего, но… В общем в какой-то заднице я оказался. Настолько, что вообще не знаю, что делать.
Вот это да! Ясно, что сводить его с кем бы то ни было без их согласия нельзя ни в коем случае. Но все та же интуиция подсказывает мне, что это знакомство будет делом правильным. Решаю ничего с разбегу не предпринимать. Пусть все идет, как договорились. Стрельцов проследит за ним, чуть больше о парне узнает, а уж потом…
Обещаю Павлу переговорить с «противной стороной» — не мне ж решать захотят они «сводится» или нет. Выходим из «Пилзнера» на Тверскую, стоим прощаемся. Павел настойчиво просит меня уговорить своих «умных людей» встретиться с ним — очень надо. Я повторяю, что должна прежде переговорить…
Я еще продолжаю что-то объяснять ему, когда парень вдруг прыгает на меня и, сделав классическую подсечку, валит на асфальт. Прикладываюсь так основательно, что даже звон в голове. Не сразу понимаю, что на самом деле звук этот не внутри моей черепной коробки, а снаружи. И не звон, а визг. Визжат женщины. Становится страшно. Начинаю выдираться из-под придавившего меня Павла, и он неожиданно отпускает меня. Приподнимаюсь на локте и вижу, что на улице откровенная паника — люди бегут в разные стороны. А над нами с Павлом в полный рост стоит Федор Кондратьев. И в руке у него пистолет… И он, и Павел смотрят куда-то в сторону Пушкинской. У обоих на лицах одинаковое выражение: досада, смешанная со злостью. И тут…
И тут у меня начинает звонить телефон: «Это я твоя мама звоню, вся, блин, извелася ну прямо на корню…» Отвечаю практически на автомате, пребывая все в том же обалдении. Анна, где ты? Почему ты мне никогда сама не звонишь? Я же волнуюсь за тебя. А тебя уже второй день нет дома. Ты знаешь, Саша вернулся. Его мама в шоке — мальчик совсем ничего не хочет рассказывать…
— Мальчику на пять лет больше, чем мне, — рассеянно поясняю я.
— Что? Тебя очень плохо слышно. Там у тебя кто-то кричит? Где ты?
— На Тверской. Здесь… шумно. Мам, а можно я тебе потом перезвоню?
— Ты уже это говорила, но я твоего звонка так и не дождалась. Ночь не спала, все думала…
— Мама! Я. Тебе. Перезвоню. Позже.
Яростно нажимаю кнопку отбоя и свирепо смотрю на мужиков, которые колоннами возвышаются надо мной лежащей. Кондратьев укоризненно качает головой, а потом одним решительным рывком ставит на ноги.
— Ты маме не хами, голуба-душа, она у тебя одна. Больше не будет.
Какая прелесть! Самое время заняться моим воспитанием!
— Ты как? Цела? Что таращишься? Цела, говорю?
— Да, — с некоторым сомнением говорю я и на всякий случай ощупываю себя.
— А ты?
Это Φедор уже спрашивает Павла. Тот только отмахивается.
— Царапина. До свадьбы заживет.
Его рука в крови и только тут я понимаю, что его наскок на меня и наше падение на асфальт было совсем не беспричинным.
— Ты молодец. И спасибо, что Анну прикрыл. Во-время среагировал.
— Ждал. Вот и вертел головой.
— А чего ждал?
— Так того и ждал…
Исчерпывающе. Мужики стоят и через мою голову смотрят друг на друга.
— Я тебя знаю, — говорит вдруг Павел.
— И я тебя, — подтверждает Кондрат. — Вместе за краповым беретом на зубах ползли.
— Точно.
Мужики медлят еще мгновение и жмут друг другу руки. Как у них все просто! За каким-то там беретом вместе где-то ползали и все — друзья. Что это, кстати, за берет такой и почему за ним «на зубах» ползают? Надо будет дома в интернете посмотреть… Эх, далека я все-таки от народа! Совсем в своих исторических эмпиреях залеталась… Даже одичала.
— Господа, — дергаю обоих за рукава. — Господа, обратите на меня свои мужественные взгляды. Я все ещё тут, чуть ниже ваших подбородков. И ничегошеньки не понимаю.
— Да что тут, Ань, понимать? — это Кондратьев. — Стреляли…
Ну да. Стреляли. Сразу вспоминается «Белое солнце пустыни» и Спартак Мишулин в роли Саида. Интересуюсь осторожно:
— А кто?
— Да хрен его знает кто, — отрубает решительно Кондратьев. — Был бы он на машине — выцепили бы его в пробке. Но дураков нет. На мотоцикле, сволочь, прикатил. Усвистал между рядами — поминай, как звали.
— Нам бы поговорить, ребята, — твердо произносит Павел, и мы с Кондратом уставляемся на него. — Но только не здесь, если не хотим на весь день в ментовке с объяснениями застрять.
Кондрат кивает, соглашаясь, и мы перемещаемся в его джип, припаркованный неподалеку, прямо под знаком «Остановка запрещена». Кондрат первым делом лезет под сиденье и бросает Павлу на колени какой-то пакет. Как выясняется с бинтами и всякой там перекисью с йодом.
— Сам справишься или помочь?
— Нормально. Справлюсь.
Павел начинает заниматься своей «царапиной», которая мне кажется ужасной кровавой раной. Пока бинтует нет-нет да посматривает на Кондратьева:
— Ань, это ведь и есть твои «умные люди», ведь так?
Киваю настороженно.
— Честно говоря, не ждал от тебя. Думал — мышь канцелярская, учителка какая-то… Ошибочка вышла.
Хорошо его понимаю. Сама от себя такого не ждала! Опять звонит телефон. На этот раз у Кондратьева. Это Стрельцов.
Вскоре он присоединяется к нам и занимает свободное место сзади. Еще раз уже для него пересказываю ситуацию.
Стрельцов ориентируется тут же. Поворачивается к Павлу:
— Сегодняшние пострелушки — часть той самой задницы, в которой ты оказался?
— Наверняка. Или уж совсем дикое совпадение, в которое верить — себя не уважать.
— Тогда рассказывай по порядку.
И Павел рассказывает. Начинает он с того, что морщась сознается — всему виной деньги. И немалые. Заработать их показалось ему задачей несложной и не сильно обременяющей совесть. Ну подсыпать какой-то девице снотворное, ну выкачать потом из нее шприц крови… Все живы, никаких серьезных последствий ни для кого.
— Мне б тогда и задуматься — если все так просто, за что такие большие деньги обещают? Так ведь нет! Все жадность! Взял с собой за компанию приятеля. Колька и не знал ничего ни про снотворное, ни про кровь. Думал, что на самом деле с потомком барона Унгерна познакомиться хочу. Это ж теперь модно… Все прошло, как я и задумывал. На следующий день мы с Колькой разъехались. Он домой, я же решил подстраховаться и поехал в банк, снял там ячейку и спрятал туда тот самый шприц с кровью Ани.
— А эти, которые тебе всю эту котовасию заказали, что-то говорили о том, зачем она им — ее кровь-то?
— Нет, конечно. Да и я не спрашивал. На фиг мне лишнее знать?
— Резонно. И что дальше?
— Вышел из банка, тут Колька звонит. И голос у него какой-то странный. Спрашивает: где я, что делаю? Думаю: ерунда какая-то, только что ведь расстались. На всякий случай вру — перекусить заезжал, а теперь домой еду. Минут через пятнадцать буду. А что, мол? «Да ничего», — говорит.
— Простились, а у меня на душе как-то скверно, неспокойно. Было действительно поехал в сторону дома — невмоготу! — Развернулся и к Кольке. Поднимаюсь на этаж, дверь в его квартиру приоткрыта. Толкнул ее осторожненько и прямо от порога увидел… Пуля в груди и контрольный в голову.
Кондрат коротко ругается себе под нос, Стрельцов запускает руку в свои блондинистые кудри на затылке.
— А он ведь даже ничего не знал… Так, за компанию со мной поехал…
Повисает тяжелое молчание, которое прерывает опять-таки Павел.
— Ну, ушел, естественно. Не ждать же ментов. От них потом не отбрешешься. Домой, конечно, не поехал. Был уверен, что уж ждут меня там. Ночь кое-как в машине перекантовался. Все думал, как быть. А тут как раз Анна позвонила. И я, грешным делом, подумал, а может она что-то знает? Может она мне сможет объяснить, кому и с какой целью могла понадобиться ее кровь, и кто меня теперь из-за нее хлопнуть хочет? Вот и приперся.
— И хвост за собой привел, — голос у Кондрата неприязненный.
— Привел, — Павел сутулится на своем месте. — Так ведь сам не пойму как. Говорю же: как у Кольки побывал, больше нигде в таких местах, где меня засечь могли, и не появлялся. Да и вообще… Я ведь сделал все, что было заказано. Чисто сделал. И вместо денег чуть не получил пулю.
— А заказчик тебе после звонил?
— Звонил. Хотел назначить встречу, что бы обменять бабки на шприц. Да только я не поехал. Что я дурак что ли добровольно под пули подставляться?
— Какая-то фигня, — резюмирует Стрельцов.
— И что теперь делать? — тихонько интересуюсь я.
— Снимать штаны и бегать, — раздраженно отмахивается Егор.
Ну что за человек-то? И как его жена терпит? Федор выходит из машины и принимается кому-то названивать. Я подозреваю, что итальянцу. Уже в первую встречу стало ясно, что именно он у них — мозговой центр. Потом заглядывает в машину:
— По какому адресу твой Коля жил?
Павел называет. И Кондратьев снова захлопывает дверцу. После чего делает еще пару звонков. Когда вновь садится в машину, полон новостей.
— Человека, который твоего Николая убил, не видел никто. Твой приход, к счастью, тоже прошляпили. Так что по крайней мере в этом деле ты, Паш, вне подозрения. У ментов, я имею в виду. Уголовное дело завели, но почти наверняка — глухарь. — Сегодняшняя стрельба на Тверской скорее всего тоже. Опрашивают свидетелей, а толку-то? Что еще? Вроде все. Но сейчас, Паш, придется тебе немного прокатиться.
Стрельцов:
— Серега в гости зовет?
— Ага.
— Я не поеду. Ничего нового все равно не услышу, а я Машке обещал кое с чем помочь. Ежли что новенькое — звоните.
Стрельцов вылезает из машины Кондратьева. Федор заводится и начинает выбираться со двора. Про меня словно забыли. Возят за собой словно мешок со старым тряпьем.
— Я тоже не поеду. Мне домой надо. Переодеться хоть, да и мама…
— Что мама?
— Волнуется.
— Думаешь, она будет волноваться меньше, если тебя подстрелят как вальдшнепа?!!
— Почему это меня должны?..
— А потому, голуба-душа. Мы вот тут все вроде прикинули, во всем вроде разобрались, а на самом-то деле — что?
— Что?
— На самом деле никто не знает, в кого сегодня стреляли. В Павла или в тебя.
* * *
Шок от его слов проходит у меня только после того, как мы выбираемся за пределы МКАД, и Кондратьев привычно вдавливает педаль газа в пол. Странный он все-таки парень. Только что кидался под пули, что бы прикрыть меня и Павла. А теперь мчится по этой проклятой дороге так, что того гляди нас всех собственными руками к праотцам отправит. При этом на лице выраженье полного счастья. Адреналиновый наркоман? Я — точно нет. Это наверно про таких как я придумали анекдот. Ну тот, что про человека, впервые в жизни прыгнувшего с парашютом: «Теперь я знаю, откуда у людей выделяется адреналин».
Звонит мама и мрачным голосом интересуется, когда же меня все-таки ждать домой. Кондратьев косит на меня хитрым глазом. Злюсь на него. Злюсь на маму. Злюсь на себя. Чудесное платье Маши, в котором я ходила «на дело», безнадежно испачкано после моего падения на асфальт. Причем не только обычной московской грязью, но и кровью с руки Павла. В чем мне теперь ходить — вообще не понятно. О чем и сообщаю в тоске.
Мужики переглядываются и вдруг принимаются ржать. Чего я смешного-то сказала?
— Ну бабы! Ей чуть башку не отстрелили, а она по тряпкам плачет.
Это Павел. Кондратьев же просто обещает, что Ксюха мне обязательно что-нибудь подберет. А потом явно не удержавшись подмигивает:
— Хотя, если ты, рыжуха, будешь ходить и вовсе без ничего, вряд ли кто-то расстроится. Даром, что доктор наук и профессор.
Смотрю на него удивленно, ощущая, как щеки начинают наливаться румянцем. Это что — комплимент такой? Я в комплиментах вообще-то толк знаю, но как правило они в устах моих кавалеров звучат как-то более возвышенно: ну там, про глаза красивые; духи, которые дивно хороши; наряд, который именно сегодня как-то особенно к лицу. А тут… Нет, все-таки, наверно, права мама, когда рассуждает о несовместимости людей из «разных социальных слоев».
Кстати, как на такую, с позволения сказать, откровенность, реагировать? Мама бы отвесила пощечину. Вот только вряд ли это будет удачной мыслью, с учетом того, что мы летим с самолетной скоростью.
Кондратьев снова скашивает на меня глаза. Они смеются.
Теперь я поняла: он издевается! А я-то было подумала… Дура. И когда молодая была, знала, что фигурой меня бог обидел.
Как сказала мне одна из «принцесок» — очередная зазноба того самого парня, что почти что стал моей «первой настоящей любовью»: «Мужик не собака, костей не любит». Ну не любит и не любит, а издеваться-то зачем? Отворачиваюсь. Щеки так и горят. Он молчит. Причем как-то растерянно. Чего-то другого ждал? Не дождется!
* * *
В деревню, где стоит дом Серджо Ванцетти, приезжаем довольно быстро — все ещё праздники, дороги пусты. Вот только добравшись до места мы почему-то не идем в уже знакомый мне особняк, а загоняем машину в гараж того дома, что стоит напротив. Хотя при этом встречает нас все тот же Серджо. Видя мое недоумение поясняет:
— Это дом моей жены. Она его продавать не хочет. Так и стоит по большей части пустой. Проходите.
Тут просторно и как-то чувствуется, что люди здесь постоянно не живут.
— Через неделю Викусе полгодика, приедет Ксюхина бабушка. А пока он в полном твоем распоряжении, Паш. Для того, что бы спрятаться и переждать — самое то. Тебе, Ань, я думаю, будет удобнее у нас.
Павел усмехается:
— Не доверяешь?
Серджо в ответ лишь вежливо улыбается. Так вежливо, что холодно как-то становится. Пашина улыбка вянет.
— Ну что? С этим разобрались? Тогда давайте сядем и помозгуем. Паш, расскажи, пожалуйста, все с самого начала.
Павел приступает. Серджо периодически прерывает его краткими вопросами. В том числе уточняет, когда ему звонил заказчик — до убийства Коли или после него. Выясняется, что звонил он два раза. Первый раз — до. И Павел сразу согласился на встречу, но не пошел — обнаружил труп приятеля. Потом тот человек позвонил второй раз, но тут уж наш новый знакомец от встречи отказался категорически. Итальянец и сосредоточенно грызущий ноготь Кондратьев переглядываются.
— Прав был Стрелок — какая-то фигня. Такое ощущение, что левая рука не знает, что делает правая. Зачем убивать Николая, зачем палить в Павла, если шприц с кровью ещё у него в руках? Какой-то бред. Куда как логичнее сначала получить кровь, а уж потом, если есть такая нужда, ликвидировать тех, кто ее добыл. Тогда есть только два варианта. Первый, — итальянец поднимает кулак и отгибает один палец. (Что значит иностранец — даже жесты другие. У нас ведь обычно при перечислении пальцы загибают). — Твои заказчики, Паш, идиоты.
— Отпадает.
— Ну тогда остается только второй. Вокруг вас с Анной орудует не одна, а как минимум две группы. И если первая пытается добиться своего более или менее мирным путем — например, подсылает тебя, чтобы по-тихому добыть у Анны кровь. То вторая — какие-то запредельщики. Устроить стрельбу в самом центре Москвы, прямо на Тверской — это сильно даже для этого безумного города и этой вашей сумасшедшей страны.
Кондратьев молча грозит итальянцу кулаком. Тот в ответ лишь усмехается со значением. Вот и поговорили… В том, что это был разговор, причем понятный только им двоим, сомнений нет.
— Но зачем вообще стрелять?..
— Опять-таки возможны варианты. Кто-то хочет убрать Павла и тем самым избавиться от человека, который знает того, кому понадобилась твоя, Ань, кровь. Вариант второй: стреляли не в него, а в тебя. И тогда выходит, что кто-то очень не хочет, чтобы с твоей помощью пресловутый клад барона Унгерна был найден.
— Стоп-стоп-стоп! — взмахивает руками Павел. — Отсюда поподробнее. Это про какой-такой клад речь?
Но поподробнее не получается. Дверь в гостиную, в которой мы сидим, отворяется, и на пороге возникает бледная до синевы Ксения с зажатым в руке телефоном.
— Егор звонил — Машка пропала.
* * *
Жену Стрельцова похитили, что называется, прямо на глазах у изумленной публики: на выходе из супермаркета, возле которого ее высадил Кондратьев. Действо это даже попало на записи с видеокамер. Вот только ничего не прояснило — у похитителей на голове были черные вязаные чулки с прорезями для глаз и рта, которые теперь используют все, кому не лень, а номера на машине замазаны грязью.
Это очень быстро по своим каналам выясняет Федор. Все то время, пока он звонит, Ксения отчаянно рыдает на груди у мужа. Успокоить ее никак не получается. Такая сильная истероидная реакция мне не понятна. Так может убиваться мать по похищенному ребенку, но никак не одна подруга о другой.
Чуть позже, правда, все разъясняется. Федор успевает быстро шепнуть мне, что Ксюха в свое время тоже попала в серьезный переплет. И только чудом осталась жива. Вот ведь! А я-то ещё думала — про какие-такие «острые ощущения», которых им с мужем хватит по гроб жизни, она тогда говорила?.. Думала, что уж у них-то — таких благополучных, ничего подобного и быть не может…
Звонит мама. Выхожу в коридор, что бы поговорить с ней.
Она сообщает мне, что Сашка уложил в рюкзак мою палатку и вещи, и если я захочу их забрать, то они — под лестницей, в дачном доме его родителей. Благодарю.
— Послушай, Анна, я тут подумала: а в чем ты там, где бы ты не была, ходишь, если все твое — вплоть до чистых трусов и носков, осталось на даче у Саши?
Уже открываю рот, чтобы сказать, что тут, где я есть, где бы это не было, кроме меня ещё есть девушки. Вот они-то мне и ссудили… И вдруг меня как током ударяет. Отключаю телефон с мамой внутри и почти бегом мчусь обратно в гостиную.
— Послушайте! Я только сейчас все поняла! Машу со мной перепутали, потому и похитили. Она ведь в моей одежде была. А цвет волос и комплекция у нас почти одинаковые. Немая сцена. Но уж что-что, а соображают они действительно быстро. Взвесили, обдумали, пришли к определенным выводам. Их доводит до общего сведения Серджо.
— Тогда ее скоро отпустят, если похищение организовали «мирные» — те, что нанимали Павла добыть Анину кровь. Или так же скоро убьют, если за ее похищением стоят запредельщики.
— П-почему убьют? — губы перестают меня слушаться. Ксения же внезапно перестает рыдать, отрывается от мужа, обводит мужиков диким взглядом и требует перестать «плющить жопы» (так и говорит! Мама была бы шокирована!) и сделать хоть что-нибудь. Увещевать ее принимается опять-таки Серджо.
— Ксюх, да что мы еще-то можем? Кондрат обзвонил всех, кого мог. Полиция поставлена на уши. Дороги перекрыты. Пытаются отследить ее мобильный телефон. От того, что мы сейчас сядем в машины и помчимся, куда глаза глядят, мало что изменится. Лучше успокойся. Скоро Викуся проснется, тебе надо к этому моменту быть бодрой и свежей, как огурец.
Серджо снова обнимает свою Ксюху, Кондратьев смотрит на них с умилением. Павел в смущении даже отворачивается.
Идиллия. Только про меня и мои переживания опять забыли все, кроме мамы. Снова звонит. Конечно — трубку-то я просто бросила! Пока она мне промывает мозги, думаю о другом.
Неужели я права, и Машу действительно похитили перепутав со мной? Из-за меня… Зажмуриваюсь изо всех сил. «Ладно, погоди, о ней станем переживать, когда на то будет более серьезный повод. Пока ведь есть надежда, что ее просто отпустят».
Мама всегда говорит, что все вокруг только и делают, что думают о себе. Может и мне пора тоже?.. Хоть немного.
Например, о том, что раз Машу захватили вместо меня, то и меня саму в любой момент может ждать похищение. И как мне теперь жить дальше? Бросить работу и запереться дома? И сколько я так просижу? Пока волосы мои не отрастут настолько, что я смогу сбрасывать их вниз со своего третьего этажа, как девица-краса со странным именем Рапунцель?
Может тогда и какой-нибудь завалящий принц мне перепадет?
Мама в трубке молчит, молчу и я, не зная, что сказать.
— Ты вообще хоть что-нибудь слышала из того, что я только что тебе говорила?
О господи!
Глава 5
Вечер проходит весь на нервах. Ксения уходит домой к Викусе. Ее муж и Кондратьев сидят на террасе и негромко разговаривают. А ко мне подбирается Павел и начинает расспрашивать о кладе барона Унгерна. Я даже благодарна ему. Разговор на привычную мне историческую тему невольно успокаивает.
— Клад вполне реален. Барон любил не только путешествовать, но и воевать налегке. И вообще был большим оригиналом. Только такому человеку могло прийти в голову с отрядом в несколько сотен сабель штурмовать Ургу, в которой в тот момент находилось не меньше восьми тысяч китайских солдат.
— Ургу?
— Такое имя тогда носила столица Монголии. Унгерн в этой стране и сегодня — национальный герой. Ведь только благодаря ему Монголия в конце концов стала независимым государством.
— И что там с Ургой было?
Под рукой барона на тот момент было 800 конников и шесть пушек. Свою операцию по освобождению Урги от оккупантов Унгерн начал с того, что направил письмо свергнутому китайцами монгольскому правителю Богдо-гэгену. Написал: «Я, барон Унгерн фон Штернберг, родственник русского царя, ставлю целью, исходя из традиционной дружбы России и Монголии, оказать помощь Богдо-Хану в освобождении Монголии от китайского ига и восстановлении прежней власти. Прошу согласия на вступление моих войск в Ургу». Богдо-гэген — наверняка изумленный до крайности — отвечает согласием, и, Туземная дивизия Унгерна начинает стремительное наступление на город. По пути к ней присоединяются части монгольских князей и добровольцев. Но все равно общий состав его войска — не больше тысячи человек. Вечером 27 октября 1920 года барон подходит к пригороду Урги Маймачену и следующим же утром в одиночку приезжает в город на разведку.
— Рисковый был мужик!
Только после этой реплики Кондратьева замечаю, что оба — и Федор, и Серджо, вернулись с террасы и теперь сидят и слушают меня. Немного смущаюсь, но преподавательский опыт берет свое. Профессор я хоть и не так давно, но все же… Продолжаю.
— Этот «визит» Унгерна стал сильным ударом по боевому духу «гаминов»… Ну, то есть китайцев. Представьте себе ситуацию: к дому китайского губернатора Чен И подъезжает какой-то тип. Причем европеец, что в тогдашней Монголии явление, скажет так, не частое. Он спокоен и безоружен — с одной только камышовой тростью в руках. Визитер спешивается и нахально приказывает одному из слуг принять повод его коня. И его слушаются! Унгерн тогда обошёл и тщательно осмотрел двор, потом, действуя все так же невозмутимо, подтянул подпруги, устроился в седле и неспешно выехал за ворота. Тем не менее никакой погони китайцы организовать так и не смогли, а сам визит барона посчитали знамением и чудом.
— И что? Все и на самом деле было именно так?
— Остались многочисленные воспоминания. В том числе и с китайской стороны.
— Офигеть. И правда совершенно безбашенный был мужик.
Улыбаюсь и продолжаю:
— Утром Унгерн обходит Ургу с северо-востока и идет на штурм. Он отбит, но на следующий день конники барона спешившись снова идут в атаку. Казаки шли тогда прямо на ряды окопавшихся китайцев, которые стреляли по ним не переставая. Мертвые и раненые падали, остальные откатывались назад, но раз за разом вставали и вновь шли в очередную атаку. По воспоминаниям современников, в этом было что-то демоническое. В итоге китайская пехота была выбита с позиций и отступила к храмам монастыря Да-Хуре. Однако тут к китайцем подошло свежее подкрепление.
— Азиатская дивизия, потерявшая половину своего состава и все пушки, кроме одной, была вынуждена отступить от Урги. Но с этой поры китайцы стали считать Унгерна если и не богом войны, то уж каким-то демоном точно. Их моральный дух, и без того подорванный беспримерной храбростью казаков Унгерна, окончательно сник после того, как отступившие от Угры сотни барона разбили лагерь возле священной горы Богдо-ула. Она находится к югу от монгольской столицы и была прекрасно видна из города. Каждую ночь казаки Унгерна разжигали на ее вершине гигантские костры. И каждую ночь китайские солдаты смотрели на них, полагая, что там приносятся жертвы могущественным духам. Смотрели и боялись. В свою очередь ламы и лазутчики из лагеря барона распространяли по городу выгодные для него слухи. Один ужасней другого. Дело кончилось тем, что китайский генерал Го Сунлин бежал из осажденной Урги, уведя с собой наиболее боеспособную часть гарнизона — трехтысячный отборный кавалерийский корпус. И это еще не все! После того, как Туземная дивизия Унгерна была вынуждена отступить из Урги, китайцы арестовали Богдо-гэгена. А стоит учитывать, что он являлся не только формальным правителем Монголии, но и главой ламаистской церкви в этой стране — «живым Буддой». Тогда барон объявляет освободительную войну против интервентов — войной религиозной, за защиту веры. И разрабатывает диверсионный план похищения Богдо-гэгена из надежно охраняемого Зеленого дворца в Урге. В конце января 1921 года под видом паломников добровольцы из Тибетской сотни Азиатской дивизии Унгерна проникают во дворец и вырезают всю охрану. Никто и пикнуть не успел. Ждавшая сигнала ударная группа казаков бросается к дворцу и, окружив «живого Будду» вместе с женой, защищая его своими телами, двигается на выход. Смертники-тибетцы, отвлекая опомнившихся китайцев, завязывают у стен дворца бой. Практически все гибнут, но своего добиваются — «живой Будда» вывезен из Угры и оказывается на свободе. После этого китайский гарнизон города окончательно впадает в мистическое отчаяние. Иначе их состояние и не охарактеризуешь. Китайцы не знали, что в частях барона почти не оставалось продовольствия, кончалась соль, почти все бойцы были обморожены, а вместо нормальной, теплой одежды на плечах их болтались лохмотья… Впрочем, не это было определяющим. Определяла все решимость победить. Во что бы то ни стало. И вот на рассвете 2 февраля 1921 года Туземная дивизия Унгерна пошла в очередную атаку. На следующий день Урга пала.
Я заканчиваю и перевожу дыхание. Мужики молчат. Что ж, многие деяния барона Унгерна достойны хотя бы этого — уважительного молчания.
Наконец Кондратьев качает головой:
— Лютый был мужик. Воевать под началом такого командира — честь. Вот помню в Цхинвале…
Но договорить ему не дает Павел. Этот все о своем:
— А клад? Что с кладом-то?
— А что с ним? В принципе понять, в какой именно момент и, соответственно, в каком месте барон мог захоронить награбленное, не сложно. К примеру все та же Урга. Мог он перед таким серьезным делом решиться закопать золото? Мог. Готовился он к походу на Ургу основательно, даже расторг свой брак с молодой женой — манчжурской принцессой из древней династии Цинь. Сказал: «Не хочу, что бы она оставалась вдовой». Раз уж так, золото закопать сам бог велел. Ну что ж. Мы знаем, где располагался его лагерь.
— Так значит клад где-то рядом со ставкой барона возле Урги?
— Кто ж это может знать точно? Может там, может где-то еще. Барон воевал долго и не раз совершал деяния, перед которыми русские солдаты традиционно одевают все чистое и молятся истово, готовясь к смерти в бою. Но, повторюсь, каждое такое событие в его биографии известно, место дислокации Туземной дивизии на тот момент тоже с большой вероятностью можно вычислить. Поднять архивы, перетрясти мемуары участников тех событий и вычислить. А потом планомерно проверять. Искать.
— Так ведь это сколько времени уйдет?
— Годы. По крайней мере именно столько увлеченные люди клады барона Унгерна и ищут. Подсказка какая-то нужна. Без нее — практически нереально.
— Поня-я-ятно…
Павел встает и отходит, а Кондратьев напротив делает шажок ко мне и прижимает кулак к груди.
— Ань, спасибо тебе. Так рассказываешь — душу свою вот здесь чувствовать начинаешь. И вспоминается многое…
Сказать, что я растрогана, значит не сказать ничего. Улыбаюсь смущенно. Он в ответ тоже. А потом вдруг протягивает свою здоровенную лапищу, ухватывает неловко мою руку и целует… И что там мама говорила про «несовместимость» представителей «разных социальных групп»?
* * *
На дворе уже глубокая ночь, когда приезжает Стрельцов. У меня мелькает надежда, что Машу выпустили, но это не так. Замогильным голосом Егор сообщает, что ему позвонили…
Ситуация проста. Те, что похитили Машу, требуют обменять ее на меня. В противном случае обещают начать присылать «запчасти» от пленницы: пальцы, уши, дальше как пойдет… Вот тебе и два варианта: или отпустят, или убьют. Оказывается находится и третий. Меня начинает мелко колотить. Федор, заметив это, присаживается рядом и кладет свою пудовую ручищу мне на плечи. Страшно-то как! И соглашаться на предложение страшно, и не соглашаться тоже. Как жить потом, если Машку сначала похитили из-за меня, а теперь будут из-за меня же медленно убивать?
Взвешиваю все. Ее, если я не соглашусь на обмен, точно убьют, а меня может и оставят в живых. Хотя бы на время, пока буду им нужна. Ребята что-то смогут за это время придумать…
Эту свою незатейливую мысль и довожу до их сведения.
Стрельцов подходит и присаживается передо мной на корточки. Вижу близко его глаза. Мне кажется, или там действительно слезы?
— Ань, ты, блин, Человек!
Так и произносит, словно с большой буквы. Сжимает благодарно мою руку и отходит в дальний угол. Наедине всегда проще справиться с эмоциями. Павел смотрит недоверчиво:
— Правда что ль пойдешь? Сама? Добровольно?
Страшно, но других вариантов просто не вижу. Киваю.
Кондратьев, который сидел рядом все это время, встает.
— Ну, значит, так и решим. Мне потребуется некоторое время на разработку операции. Менты а, главное, мои орлы будут готовы быстро. Когда тебе, Егор, снова позвонят, ты скажешь, что привезешь Анну. Договоритесь о месте. Постарайся оттянуть момент встречи на сколько сможешь, чтобы ребятки мои к местечку успели приглядеться и освоиться там. Ну и будем работать.
Потом все закручивается вокруг меня как в каком-то калейдоскопе. Кондрат уезжает, но все время звонит — держит руку на пульсе, как он говорит. «Спецы» пытаются «пробить» номер, с которого Стрельцову звонили, но ничего из этого не выходит. Звонок совершен через крупную АТС, которая установлена в большом офисном здании. Так что выяснить, с какого номера, из какой комнаты, а главное кто именно звонил, по сути дела нереально.
В следующий раз Кондрат не звонит, а заявляется лично и вносит новые коррективы в план. Во-первых, привозит для меня тонкий бронежилет, а во-вторых, заявляет, что Стрельцов повезет меня связанной. По крайней мере выглядеть это будет именно так.
— Зачем? — робко интересуюсь я.
— На всякий случай. Они увидят, что ты стреножена и перестанут ждать от тебя проблем, не будут обращать на тебя повышенное внимание. У тебя появится лишний козырь. Да и у нас тоже. Естественно, на самом деле веревки завязаны будут так, что ты освободишься в любой момент.
— А если не освобожусь?
— Не бзди, душа-девица. Тебе Серега все расскажет и может быть даже что-нибудь покажет. Если Ксюха его за это, конечно, не убьет.
Хихикает. Спошлил и теперь хихикает. Но сердится на него не могу. Понимаю, что это он в первую очередь для того, чтобы меня отвлечь. Перед самым отъездом вдруг хлопает себя по лбу, возвращается ко мне, стаскивает с себя какой-то кулон на цепочке и нацепляет его мне на шею.
— На счастье. Ну и вообще, так мне спокойнее будет.
Убегает, а я так и остаюсь стоять, зажав его подарок в кулаке.
Седжо действительно оказывается спецом по части разных узлов. И где набрался? В своем этом экстремальном туризме? Я надеваю под одежду бронежилет, и он ловко проверяет, все ли я сделала так, как надо. Потом разбираемся с узлами и веревками. Это что-то вроде тренировки, как я понимаю.
Наконец Стрельцову звонят. Он подтверждает, что привезет меня в условленное место — мол, за жену на все готов.
Начинаются переговоры. Собеседник Стрельцова настаивает на людном месте в центре. Стрельцов возражает, упирая на то, что я не больно-то стремлюсь попасть в руки похитителей и в данный момент лежу связанная и с кляпом во рту. В таком виде в «людном месте в центре» я могу произвести ненужный фурор…
Тот, кто звонит, и Егор ещё какое-то время торгуются и наконец приходят к согласию. Меня будут менять на Машу в одном из чудо-строений под названием «Народный гараж». Предлагает это «противная сторона». Стрельцов еще какое-то время спорит, а потом, делая вид, что недоволен до крайности, соглашается. Но на самом деле выглядит удовлетворенным.
— Знаю это место. Уже хорошо.
Звонит Кондратьеву и очень подробно описывает ситуацию.
Из их переговоров понимаю, что унылый бетонный остов «народного гаража» в районе метро Ботанический Сад уже давно сдан в эксплуатацию, но жители соседних домов вовсе не торопятся «заселять» его своими автомобилями. В первую очередь потому, что вокруг промзона, соответственно этих самых «соседних жилых домов» просто нет. До ближайшего — минут двадцать ходу. Сначала вдоль заборчика районного психдиспансера и только потом по улице уже вдоль заводских заборов. Не всякий решится на такое путешествие да ещё в темноте, вечером. В итоге гараж стоит практически пустым.
С «противной стороны» будут двое (кроме Маши естественно), так что Стрельцов выторговывает и себе присутствие друга. Аргументирует это так:
— Нужно же, чтобы кто-нибудь за этой дурой присмотрел, пока я рулить буду.
Собеседник соглашается. Видимо перед лицом такого ужаса как «бабья дурость» все мужчины становятся едины. Встреча состоится отнюдь не под покровом ночи, а среди бела дня.
Собственно, нам уже пора ехать. Серджо деловито связывает мне руки, потом пристраивает мне на лицо повязку, которая призвана изображать кляп. И надо сказать у нее это отлично получается! Могу только мычать.
— Ты извини, Ань, но тебе придется ехать так. Вполне возможно, что когда похищали Машку, то ее проследили прямо отсюда. Главная ошибка — недооценивать противника. Будем лучше думать, что они хорошо подготовлены, скорее всего ожидают увидеть на встрече не только нас, но и ментов, а раз так — имеют туз в рукаве.
Потом он коротко прощается с женой. Будто в соседний магазин за хлебом собирается. Да и она не виснет с рыданьями у него на шее. Только, глядя ему вслед, крепче прижимает к груди Викусю. Пять минут, и мы уже в гараже. Меня осторожненько, придерживая за голову, как это делают полицейские в американских кинофильмах, усаживают на заднее сиденье. Рядом садится Серджо. Стрельцов — за руль.
Дорогой итальянец связывает мне еще и ноги.
Через полтора часа уже сворачиваем с узкой улицы на разбитую дорогу, ведущую к «народному гаражу». Во всю зыркаю по сторонам, стараясь углядеть непонятно что-то ли торчащее из-за угла дуло, то ли бронетранспортер вместо рояля в кустах. Ничего такого нет. Вокруг тишь, гладь и психдиспансер. Он остается слева, и мы подкатываем к шлагбауму гаража. Он поднят.
— Нас ждут.
Поднимаемся по пандусу на второй этаж, здесь всего-то машины три. На третьем оживленнее — целых пять. Возле одной из них, привалившись к багажнику, стоит какой-то человек. Стрельцов паркуется напротив и тоже выходит из машины. Мужчины обмениваться буквально парой слов. Егор делает знак нам с Серджо. Тот, другой, кому-то в своей машине. Сержо уже без всякого пиетета вытаскивает с сиденья меня. Из машины напротив так же грубо вынимают Машу. Вид у нее растрепанный, но кажется заметных повреждений нет. Увидев Стрельцова было кидается к нему, но ее рывком останавливают и возвращают на место. Смотрят на меня.
— Снимите с нее повязку. Надо убедиться, что на этот раз она — это она.
Серджо сдергивает с меня тряпку.
— Ну ты, ведьма рыжая, ты правда Унгерн?
Ответить не успеваю. Стрельцов делает шаг вперед и протягивает этим мой паспорт, как я понимаю позднее.
— Вот, чтобы не сомневались.
Сличение фотографии и моей физиономии не занимает много времени. Тот, кто изучал документ, кивает. Второй толкает вперед Машу. Серджо меня. Вот только ноги у меня связаны, а потому от его толчка я тут же мешком падаю на бетон, здорово приложившись плечом. Наверно, мое падение было спланировано, потому как сразу после того, как я растягиваюсь на полу, у меня над головой раздаются выстрелы. Краем глаза вижу, как Стрельцов тащит за машину Машу.
Причем как-то так, что сам оказывается между ней и теми, кто стреляет.
А я? А как же я? Мне кажется, что палят отовсюду и как раз туда, где посреди серого бетонного пространства связанная как рождественский гусь лежу я. Тут только вспоминаю, что могу развязаться, но успеваю только выпутать руки. Кто-то темный и громоздкий из-за бронежилета и черного шлема на голове подхватывает меня на руки и тащит прочь.
Слава богу! Мне кажется, что все самое страшное уже позади, как вдруг мой спаситель глухо вскрикивает и валится на бок.
Убит! Боже мой, он убит. Из-за меня! Все опять из-за меня! Торопливо распутываю веревки на ногах, хватаю парня за амуницию и тащу… Ну да! Скорее пытаюсь тащить. Господи! И как во время войны медсестрички выносили раненых с поля боя? Как вообще можно сдвинуть с места такого здоровяка?!!
Не-е-ет, только не это! До меня только сейчас доходит. Это же не просто здоровяк! Это Федор! Кто ж еще мог так вот под пули из-за меня, недотепы?.. С новой силой вцепляюсь ему в бронежилет и тащу прочь. И в этот момент он, слава богу, начинает подавать признаки жизни.
— Федя. Федь, слышишь меня? Федь, ты как, жив вообще? Или умер?
— Пациент скорее жив, чем мертв, — неожиданно возвещает он и вдруг, оттолкнув меня в щель между колонной и пандусом, перекатывается на спину.
В следующую секунду я уже не геройствую, а сижу, зажмурив глаза и зажав уши — Федор, едва заняв удобную позицию для стрельбы, тут же начинает стрелять с двух рук по припаркованным машинам. По-моему, это называется «по-македонски». Даже читала как-то, что такая стрельба с двух рук — высший пилотаж. Особенно, если стреляющий попадает, куда целит. А он, черт побери, попадает. Я это вижу, когда набираюсь храбрости и чуть-чуть приоткрываю один глаз.
Вскоре все кончено. Наши, судя по всему, победили. У врага несколько убитых и двое раненых. У нас пострадал только Федор, который кинулся вытаскивать меня из-под пуль. Мне говорят, что ранен он «всего лишь» в бедро. Но когда я хочу поехать с ним на скорой, меня не пускают.
Убитых и раненых увозят. Меня и Машу забирают Стрельцов и Серджо. Отпускают нас нехотя — полицейским до смерти охота тут же провести допрос. Но они входят в наше положение, видя, что Маша впала в некий ступор и молчит, плотно сомкнув губы, а я напротив реву белугой. Так что толку от нас на допросе не будет никакого.
Уже дорогой Стрельцов объясняет мне, почему вышла такая «котовасия». Оказалось, что на встречу с нами приехали не только те двое, которых я видела в самом начале. В припаркованных машинах, как этажом ниже, так и на нашем этаже, были ещё люди.
— Мы-то с Серегой думали, положим этих двух, тебя подберем, а тут уж кондратовские орлы подоспеют и нас прикроют. А эти типы как поперли изо всех щелей! Короче, с боевым крещением тебя, Ань. И спасибо. За себя и за Машку. Блин! По гроб жизни твой верный раб. И слышь, это не пустые слова. Если что — только свистни.
Он полон эмоций. А мне неловко. Не привыкла я к тому, что бы меня вот так благодарили. И приятно вроде, и в то же время хочется, что бы все это поскорее закончилось. Перебиваю, шмыгая носом:
— Надо узнать, куда Федю увезли.
— Узнаем, не переживай. Сегодня его повидать все равно не дадут — пока пулю выковыривать станут, пока зашивать, пока от наркоза отойдет. А завтра утречком как раз и поедем к герою нашему в гости. Лады? И не волнуйся. У него таких дырок за всю его военную карьеру столько было, что если бы он, к примеру из алюминия был, через него уже лапшу можно было бы откидывать.
Невольно смеюсь, потом негодую.
— Егор, ну что ты несешь?
— Это я так. От нервов. Ох и напьюсь же я сегодня.
— И я, — неожиданно пищит рядом со мной Маша. — Надо будет картошечки сварить и селедочки почистить. Слышь, Серег, у вас селедка есть? А то заехать бы купить…
Стрельцов внезапно протягивает назад руку, не глядя хватает Машку за шею, притягивает ее вперед, к себе, в просвет между передними сиденьями, и громко чмокает куда-то в волосы.
— Не жена, а золото! Только-только из-под пуль каким-то чудом выскочила, а уже по хозяйству хлопочет.
Машка вырывается и откидывается назад. Вид у нее довольный до крайности. К счастью все с ней действительно в порядке. Обошлось. Уже рассказала, что обращались с ней нормально. Садистов среди похитителей не было. Скорее профессионалы. Меня это успокаивает — не пришлось ей лишнего хлебнуть, а вот Стрельцова и Серджо наоборот беспокоит: раз профессионалы, значит их кто-то нанял. А раз нанял один раз, значит и перед вторым не остановится.
Нас встречает Ксюха с Викусей на руках. Павла нет — куда-то усвистал. Мужикам явно не до него. Да и то верно — не маленький мальчик, пусть сам решает, как ему быть. Я тут же бегу к своему мобильнику, который оставляла здесь. Точно!
Шестнадцать неотвеченных звонков. Мама. Отзваниваться ей даже страшно — что сейчас буде-е-ет?.. Но все же набираюсь смелости.
— Анна! Слава богу! Я уж не знала, что мне думать. Почему ты так со мной поступаешь? Да еще в новостях какие-то ужасы показывают. Сплошные перестрелки с жертвами. Они называют это операцией по освобождению заложников! Еще, небось, и ордена за нее получат. А ведь на самом деле одни бандиты стреляли в других. Просто у одних на плечах погоны, а у других нет.
Мне становится жестоко обидно за ребят из СОБРа, которые рисковали собой ради нас с Машей, за Серджо и Егора, которые и без погон, совсем не по служебному долгу, но тоже лезли под пули, за Федю, который спасая меня подставился сам и теперь лежит где-то в больничке, приходя в себя после операции.
— Мам, ты же ничего не знаешь. Ты не имеешь ничего общего…
— И горжусь этим! Слава богу люди моего круга…
Ну да. Дальше все, что она скажет, слышано мной уже не раз.
Она всегда, сколько я ее помню, отличалась этим непонятно откуда взявшимся снобизмом. Ее отношение к «простым» подчас коробило. Но все было в рамках. А потом я с дуру сказала ей, что Унгерны, из которых происхожу и я, и мой отец — не однофамильцы, а самые что ни на есть прямые потомки легендарного баронского рода. Тут-то у нее в мозгах что-то «повернулось» окончательно. Причем если сразу после того, как она узнала о моем «баронстве», больше всего ее заботило то, что бы я соответствовала этому высокому статусу, то потом, как-то незаметно, она убедила себя в том, что и она сама — практически баронесса. Это было бы смешно, если бы не было так грустно…
Заверяю ее, что со мной все в порядке. Я у своих новых друзей. В большом двухэтажном (статусном!) особняке, а отнюдь не среди наркоманов и пьяниц. Прощаюсь, возвращаюсь в гостиную… и обнаруживаю всю нашу гоп-компанию с рюмками в руках. Стрельцов, у которого рот в этот момент занят селедкой с черным хлебом и луком энергично машет мне рукой — мол, присоединяйся. А я ведь только что убеждала маму, что пьяниц среди моих друзей нет…
Не пьет только Ксюха, на руках у которой радостно улыбаясь и периодически брыкая ножками восседает Викуся. У Ксении с Серджо, как я понимаю, строгий уговор — когда выпивает один, другой — ни-ни. Понятно, что из-за ребенка. Сегодня очередь итальянца — в конце концов именно он совсем недавно лазал под пулями.
Я водку терпеть не могу. Но, похоже, выбора у меня нет — Стрельцов уже наполнил стопочку и теперь настойчиво пододвигает ее ко мне. Машка тут же сооружает импровизированное канапе: квадратик черного хлеба, кусок селедки, луковое колечко и веточка укропа сверху.
Поскольку ничего не ела, считай, целый день, пьянею тут же, с первой рюмки. В голове расслабляется какая-то туго сжатая пружина, руки и ноги, которые мерзли у меня все это время, несмотря на месяц май на дворе, тут же согреваются, в животе тоже разливается тепло.
Махнув первые три рюмки, Стрельцов садится за телефон и вскоре уже знает, куда увезли на скорой Федора, и как у него дела. Пулю из ноги ему вытащили, теперь пациент спит.
Состояние стабильное, а перспективы самые что ни на есть обнадеживающие.
— Какое-то время, конечно, походит как дедушка, опираясь на палочку, но потом все будет ОК.
Забавно. Он тоже произносит не «о'кей», а также как Федор — просто две русские буквы «О» и «К». Уточняю, когда именно его можно будет навестить.
— Завтра. Расслабься, Ань, все с ним хорошо.
И я действительно пытаюсь расслабиться. Только хватает меня не на долго. Не умею я пить. Как известно: что русскому хорошо, то немцу — смерть. Так что в этот вечер Ксюхе приходится укладывать в кроватку не только Викусю, но и меня…
Глава 6
Утром всей компанией едем к Φедору. Он вполне бодр, хоть и потерял много крови — оказался задет какой-то серьезный сосуд… Или вена? Не понимаю в этом ничего. Мама хотела, чтобы я врачом стала, но я уперлась намертво. С детства вида крови боюсь. Даже когда просто рассказывают о каких-то ранах — в глазах темнеет и дурнота накатывает.
Федька непривычно бледен, на щеках — колючая однодневная щетина. Смешной. Теперь у него практически одинаковый по калибру волосяной покров — что на голове, что на щеках. В палате он не один. На нашу шумную компанию со своих коек с любопытством посматривают еще три мужика. Один молодой и два возраста моей мамы.
Федин лечащий врач выпроваживает нас довольно быстро.
Но я прошу разрешения побыть еще буквально пять минут. Хочу остаться с Федором если и не наедине, то без заинтересованного внимания его друзей. Кажется, все понимают меня. Пытаюсь вернуть ему кулон, который он дал мне на счастье, но он не разрешает.
— Оставь себе, Ань. Мне приятно знать, что он в надежном месте.
Косится куда-то в район моего бюста, и я смущаюсь ещё больше.
— Федь. Ты даже не представляешь…
Слова даются трудно, но не могу их не сказать.
— Ты… В общем, спасибо тебе. И не вздумай говорить какие-то там глупости вроде того, что это твоя работа — людям жизни спасать.
— Это, Ань, не глупости.
— Ну пусть так. Ну согласна, извини. Но только я — не все. Для меня то, что ты сделал… В общем, Егор мне сказал, что он мой должник по гроб жизни. Так вот я — твой должник. И тоже до конца жизни.
— То есть, когда я стану старым одышливым пердуном, ты в случае чего всегда подашь мне выпавшую вставную челюсть?
Смеюсь сквозь слезы и киваю.
— Ну тогда все в порядке, Ань.
Не могу больше сдерживаться, утыкаюсь носом ему в шею и плачу. Его рука осторожно придерживает мой затылок. А потом он целует меня. Сначала в висок, после собирает губами с моих ресниц слезы, которые катятся одна за другой, как я не зажмуриваю глаза, а потом я чувствую его губы на своих губах…
* * *
Весь последующий день я витаю в облаках, не замечаю ничего вокруг и с трудом воспринимаю то, что мне говорит мама.
Могу думать только о Феде и о том, как я снова пойду к нему в больницу. Делаю все, что бы попасть к Федьке не со всей толпой его обычных посетителей, а одна… Болтаем, смеемся. Боюсь и жду того момента, когда начну прощаться, и он… Поцелует он меня снова? Или тот раз приключился только потому, что я плакала, а он хотел меня успокоить? Поцелует? Нет? Помню в детстве у нас была такая считалочка: «Любит — не любит. Плюнет — поцелует». Так поцелует или… плюнет?
Целует…
Губы опытные, настойчивые. И руки такие горячие, что, кажется, жгутся через ткань… Отрывается, рассматривает мое перепуганно-счастливое лицо. Проводит пальцем по линии щеки, по вспухшим от его же поцелуев губам. Улыбается.
— Беги домой, госпожа профессор. А то ведь я могу решить, что ты это всерьез…
Не понимаю, что он имеет в виду. Да и слышу его плохо. В голове какой-то шум и верчение… Кажется, это со мной произошло снова… Я ведь, похоже, влюбилась по-настоящему… Второй раз в жизни. Но о первом лучше не вспоминать. Да и зачем? Я так счастлива!
Стрельцов предлагает мне съездить к Сашке, что бы забрать с его дачи мои вещи. Естественно, едет и Машка. Мои друзья все еще гостят на привычном, давно обжитом нами поле — за забором пестрят палатки и раздаются голоса.
Идем туда. Я должна извиниться перед ними, а главное извиниться перед Сашкой. Все-таки мы дружим столько лет. Разговор получается муторным. Он жестоко обижен. И на меня за то, что я использовала, как он говорит, «запрещенный прием», и на Федора за тот удар, который тот нанес по его, Сашкиному, мужскому самолюбию. Приходится кое-что рассказать. И о том, кто такой Федя, и о том, что сейчас он лежит в больнице, и ему только что вырезали из ноги пулю, которая предназначалась мне…
— Только маме не говори, а то она тут же все моей выболтает.
— За кого ты меня принимаешь? Слушай, а в какой больнице он лежит? Я бы, может, навестил…
Диктую ему адрес, а сама внутренне потешаюсь — похоже героический Федя сам того не зная обрел новую «поклонницу»… Вот ему будет сюрприз! Но на самом деле сюрприз ждет меня. Стрельцов с Машкой довозят меня прямо до подъезда моего дома и тепло прощаются. Зато мама встречает мое появление великолепным молчанием. Какая «приятная» неожиданность! В этом смысле мы совершенно не похожи. Я предпочитаю сразу выговорить любую обиду, расставить все точки над «и», сказать все, что думаю и в конце концов помириться. Мама же, если всерьез обидится, может молчать днями. И в итоге мне, даже если я на самом деле ни в чем особо не виновата, приходится юлить и извиняться. А потом, уже после примирения, еще довольно долго вести себя так, словно хожу по минному полю.
Но не в этот раз. Обычно ее молчание меня страшно гнетет, теперь же я слишком поглощена мыслями о Федоре, чтобы замечать вокруг хоть что-нибудь. Мой внутренний Икар уже застегнул на груди кожаные ремешки, с помощью которых за его спиной закреплены крылья из воска и птичьих перьев, и устремился ввысь…
В итоге мама не выдерживает первой. По-моему, впервые за всю мою жизнь.
— Анна. Я должна серьезно с тобой поговорить… Выясняется, что Сашка то ли не сумел, то ли нарочно не стал держать рот на замке, и теперь моя мама в очередной раз «знает все». По крайней мере, она так считает. Хотя на самом деле знает она только то, что я сама же рассказала Сашке. В его интерпретации и с ее толкованием это «все» выглядит так: я связалась с уголовными элементами, в результате оказалась втянута в их криминальные разборки, чуть не погибла, но уму-разуму так и не набралась, раз до сих пор продолжаю общаться с ними. И даже навещаю одного из них в больнице.
— Мама, ты все путаешь. Он совсем не уголовный тип, а как раз наоборот — майор спецназа, служит в подразделении, которое занимается борьбой с организованной преступностью.
— Все они одним миром мазаны.
— Мама!
— Что мама? Если бы ты не крутила носом, а вышла замуж на Сашу…
Этого я вынести уже не могу и все-таки взрываюсь:
— О господи! Мама! Ну я ведь говорила тебе, что он голубой!
— Ну и что? Как это может помешать вашей семейной жизни?
Молчу, даже приоткрыв рот от изумления.
— В семье что главное? Взаимное уважение, чтобы супруги имели сходные взгляды на жизнь, общий круг общения, чтобы интересовались одним и тем же.
И ведь она искренне верит в это!
— Мне всегда казалось, что не менее важно и другое…
— Это ты про секс? — даже кривит губы от презрения. — Но вы же оба высокообразованные, культурные люди. Разве может эта животная возня стать для вас моментом определяющим?
Ксюха бы сейчас сказала: «Ёперный театр!» и несмотря на мое нетерпение к мату и его заменителям, не могу не признать, что была бы она совершенно права. Ухожу. Но успеваю услышать у себя за спиной глухое ворчание:
— От секса этого — одно зло.
И столько в этом коротком дурацком высказывании чувства, что я внезапно все понимаю. Это ведь ее прошлое, ее собственный трагический опыт в любви дает себя знать.
Травма, как видно, была так велика, так сильно ударил поступок отца и по ее женскому самолюбию, и по вере в людей, что она уже тогда окружила свою душу непроницаемым коконом. Не от черствости души, а как раз наоборот, из-за ее повышенной ранимости. Слишком страшно было вновь решиться на какие-то чувства, снова подпустить к себе близко чужого человека… Она так несчастна! Несчастна всю жизнь.
Возвращаюсь, обнимаю ее и извиняюсь до тех пор, пока она не начинает всхлипывать и причитать — простила. Слава богу! Но, как выясняется утром, вздохнула я с облегчением рано. Как только я собираюсь уходить из дома, чтобы идти в больницу к Федору, мама сует ноги в туфли, подхватывает сумочку и встает в дверях.
— Я пойду с тобой. Ты просто обязана познакомить меня с этим человеком. Раз уж ты говоришь, что он спас тебе жизнь, — легкое недоверчивое пожатие плечами.
У Федора уже сидят двое каких-то крепких парней. Наверно его ребята из СОБРа. Их простецкие широкоскулые и курносые физиономии явно производят на маму самое негативное впечатление. Когда же она переводит взгляд на бледного и небритого Федора, который уже зарос темной щетиной как какой-то абрек, ее лицо и вовсе принимает хорошо знакомое мне высокомерное выражение. Я представляю маме Федю, его товарищи называют свои имена сами, а потом, явно испытывая неловкость, комкано прощаются и уходят.
Мама молчит, Федор тоже. Одна я, как ковровый в цирке, заполняю повисшую паузу. Все как всегда. На арене Анна Унгерн. Без ансамбля. Сама…
— Как себя чувствуешь?
Федька смущенно улыбается.
— Да нормально, Ань. До свадьбы заживет.
Мама меняется в лице.
— Это о какой свадьбе речь, молодой человек? Надеюсь, вы не имеете в виду мою дочь?
Федя яростно краснеет, я, по-моему, тоже. По крайней мере щекам становится горячо.
— Мама, это просто выражение такое.
— Я знаю, но все же считаю своим долгом сразу расставить все точки над «и». Я, конечно, бесконечно благодарна вам, молодой человек, за ваш поступок, но вы должны понимать, что это не дает вам права рассчитывать…
Эту мучительную для меня сцену к моему величайшему счастью прерывают новые посетители. Это компания военных. Во главе ее — мужик лет 45. В форме и при орденах. Такой «иконостас», что даже мама почтительно смолкает. По тому, как Федька подбирается и даже пытается сесть, понимаю, что это его начальник. То есть — командир. У военных ведь не начальники, а командиры, кажется?
— Лежи, Кондратьев! Не на плацу.
— Здрасте, товарищ полковник. Тьфу ты! Господин полковник.
Мужик ржет и грозит пальцем.
— Тамбовский волк тебе товарищ, Кондратьев, а я тебе — отец родной и господин, твою мать, полковник. Гмм… Извиняюсь.
Это в сторону мамы, которая реагирует на его матюганье картинно вздрагивая.
— И я к тебе, Кондратьев, между прочим, не просто так. А с официальным сообщением. Видишь, даже висюльки нацепил ради торжественности случая. Ты свои давно надевал?
— Недавно. Вы ж помните.
— Скоро снова надевать придется. К Президенту нашему пойдешь за новой цацкой. Дело, понимаешь, это, с заложниками, резонансным получилось. Попал ты, Кондратьев, в телевизор, как кур во щи, твою мать. Гмм… Извиняюсь. Так что если раньше за тобой девки ротой ходили, то теперь целым полком будут. Ты уж не посрами честь офицера СОБРа.
Опять ржет. Мама смотрит на него с возмущением, я с легкой ненавистью. Девки ему все… Честь, понимаешь, офицера СОБРа… Полковник внезапно поворачивается ко мне.
— Рыжая… Та самая что ль, из-за которой ты пулю схлопотал?
Кондратьев неуверенно кивает, переводя взгляд с меня на командира. Тот делает шаг ко мне и протягивает руку.
— Ну здравствуй, рыжая. Как зовут-то?
Пожимаю ему руку в ответ. Непривычно. Со мной мужчины редко так здороваются.
— Анна.
— Ты, Анна, больше в такие истории не влипай. И Кондратьев целее будет, и маме твоей поспокойнее.
— Я постараюсь.
— Молодец, старайся. И за Федором тут присмотри. А то он у нас — сиротка. Больше некому проследить, чтобы, значит, он тут не расслаблялся, водку не пил, с девками глупостями не занимался, а лечился, как следует. И к сессии готовился. Понял меня, Кондратьев?
— Так точно, господин полковник.
— Ну все. Выздоравливай, майор.
Он крепко жмет Федору руку и уходит. Молчаливая свита проделывает то же: то есть пожимает Феде руку и тоже выкатывается в коридор.
— Это ваш начальник, Федор?
— Да, Маргарита Васильевна. Герой России полковник Приходченко.
— Вы где-то учитесь?
— Да. Второе образование.
— Второе?
— Да. Первое — военное, второе… Ну, гражданское, будем так считать.
— А почему полковник вас сиротой назвал? Это у него шутки такие?
— Не шутки.
Хмурится, молчит, явно ничего больше добавлять не собирается. Но от мамы так просто не уйдешь.
— Вы что же в детском доме росли?
— Рос.
Ответ ещё короче и еще однозначнее — человек вежливо дает понять, что разговор на эту тему ему до крайности неприятен. Даже до мамы наконец-то доходит. Она поднимается с табурета, на котором до сих пор сидела, чопорно прощается и идет из палаты, предварительно крепко ухватив меня за руку. Выдраться из ее «захвата» мне удается только в коридоре.
— Подожди меня, пожалуйста, я сейчас. Разворачиваюсь и бегу назад. В спину как выстрел:
— Анна!
Даже не притормаживаю, только голову в плечи втягиваю и кажется пригибаюсь. Федор лежит и смотрит в окно. Брови нахмурены, левый кулак — тот который я вижу от порога — крепко сжат. Сажусь рядом с ним на кровать. Смотрит на меня, молчит. Робея прикасаюсь к его стиснутой руке. Он перехватывает мою кисть, подносит к лицу, рассматривает пальцы. Потом прикладывает к моей ладони свою, сравнивает. Разница огромна: мое тонкое запястье, узкая ладонь, длинные пальцы человека, который родился в семье, где давно не зарабатывают на жизнь физическим трудом. И его мощная, широкая как лопата мужицкая рука…
— Вот так и мы с тобой…
Быстро прижимает мою ладонь к губам, а потом почти отбрасывает.
— Иди, Ань. И знаешь что? Не приходи больше. Ничего у нас не выйдет…
— Как… не выйдет?..
— А никак. Иди. А то вон — мама твоя волнуется.
Мама действительно уже стоит в дверях. Вид у нее недовольный. Встаю и как побитая собака иду к дверям палаты. На входе оборачиваюсь, но он уже отвернулся к окну, и его здоровенный кулак снова стиснут.
До дома едем молча. То есть не так — мама все время что-то говорит, но я ее не слышу. В голове гул какой-то и уши как ватой набиты. Обедать отказываюсь. Ухожу в свою комнату и сижу, забравшись с ногами на кровать.
За что? Мамочка моя, ну за что мне это? Впервые за много лет что-то случилось со мной, и я снова начала заново учиться летать. Смогла чувствовать. Полюбила… И тут же получила от судьбы наотмашь.
Но может ещё не все потеряно? Может, если поговорить с ним… Ведь он что-то такое, какую-то глупость про то, что у нас ничего не получится, вбил себе в голову после того, как поговорил с мамой. Это для меня ее рулады на тему «социального неравенства» — не новость. Для Феди же… Вдруг, я отступила слишком быстро? Я всю жизнь отступала, всю жизнь предпочитала промолчать, перетерпеть, не показывать виду… И что в результате имею? Больше так нельзя. Нельзя и все тут!
Засыпаю с этой мыслью. С нею же встаю и, наскоро собравшись, еду к Федору в больницу. В курилке на лестнице встречаю всех трех мужиков из Фединой палаты. Почему-то они провожают меня какими-то странными взглядами. Ерунда! Просто я слишком сильно волнуюсь перед разговором с Федором, вот и мнится всякое. Иду. Дверь в его палату приоткрыта. Я уже берусь за ручку, чтобы распахнуть ее шире. И только тут понимаю, почему мужики на лестнице глядели на меня столь жалостливо. Федор не один.
На краю его кровати, там где совсем недавно сидела я, устроилась та самая девица, с которой мы с Федором как-то столкнулись в госпитале, где я сдавала кровь на анализ.
Короткая юбка открывает безупречные ноги, яркая кофточка натянута роскошным бюстом. Она наклоняется, что-то шепчет Феде на ухо, и я вижу, как ее левая рука ныряет ему под простыню как раз в районе бедер…
Больше смотреть не могу. Разворачиваюсь и торопливо иду назад по коридору. Ничего перед собой не вижу. Дура! Какая же я все-таки дура! Внезапно чьи-то руки подхватывают меня и игриво кружат.
— Анька, ты куда так летишь? А мы тоже к Федору. Погоди уходить. Посиди у него ещё вместе с нами.
Господи! Это Стрельцов, а с ним и все остальные — Ксения, Серджо с Викусей на руках, Машка — улыбка до ушей.
— Пойдем.
Он тянет меня за собой, и я упираюсь изо всех сил.
— Я не могу, Егор. Я уже была… И… И он там занят.
— Подумаешь, занят! Для нас Кондрат всегда свободен.
— Для вас — может быть. Но не для меня.
Вырываю руку из его пальцев и бегу прочь по коридору. Слезы уже так близко, что ещё немного и брызнут из глаз. Вылетаю на лестничную клетку и, не ожидая лифта, несусь вниз по ступенькам. Мужики провожают меня все теми же жалостливыми взглядами.
Телефонный звонок застает меня уже на выходе из больницы.
Это Стрельцов. Не могу сейчас говорить с ним. Они все наверняка видели то же, что видела в палате Кондратьева и я. Видели и все правильно поняли.
Выхожу из больничных ворот и нос к носу сталкиваюсь с Павлом. Он как всегда оживлен и улыбчив.
— Анька! Привет! Ты от Федора? А я как раз к нему думал… Как он там?
Скриплю:
— Лучше всех.
— Ты чего это такая?
— Да так, Паш. Не хочу об этом говорить.
— Ну ладно. Тогда я пошел.
— Иди.
Но он никуда не идет, стоит, как-то мнется. А мне звонит мама. Вынимаю телефон, смотрю на окошко, в котором высветился ее номер, и ничего не делаю.
— Не будешь отвечать? — спрашивает Павел.
— Нет.
— Что так? Мама ведь…
— Вот потому и не буду.
— Поругались?
— Нет пока что. Паш, можно я… об этом тоже не буду говорить?
— Да ладно, конечно. А ты… Что-то ты мне не нравишься, Ань. Может, тебя проводить?
— Не стоит.
— Да ладно! Давай куда-нибудь хоть довезу что ли?
Соглашаюсь. Прошу отвезти меня домой. Нет сил трястись в метро на виду у всех. Забираюсь на сиденье и утыкаюсь лбом в боковое стекло. Тошно-то как… Павел трогается и все — и больница, и Федор со своей девицей и мои надежды — остаются позади. Высаживает меня у подъезда, потом даже провожает до дверей. Не хочу, чтобы мама накинулась ещё и на него, а потому прощаюсь с ним здесь же, на лестничной клетке.
Мама… Ведь она меня любит. Так почему тогда поступает так, как поступает?! Если б мне было куда пойти кроме как домой, я бы пошла. Но таких подруг или друзей, у которых я могла бы перекантоваться, переждать самый острый, самый болезненный момент, у меня нет. Так, приятели, вроде Сашки, готовые заложить меня в любую минуту.
Дома никого. Господи, спасибо тебе хоть за это. Иду к себе в комнату и бухаюсь на кровать. Снова звонит телефон. Опять Стрельцов. Не хочу. Трезвонит долго. Лежу и смотрю, как аппарат, вибрируя припадочно, ползет по полу куда-то под кровать. Но скрыться под ней все-таки не успевает — Стрельцов нажимает отбой. Все. Теперь уже наверно все…
Мама возвращается к вечеру. Она бодра и полна энтузиазма.
— Ты чего сидишь в темноте?
— Сплю.
— Ты не беременна? Еще не хватало залететь от какого-то…
Встаю и молча захлопываю дверь у нее перед носом. Слава богу, завтра уже на работу.
* * *
В моем институте за майские праздники ничего не изменилось.
Разве что сократилось количество рассады на окнах — наши огородницы частично вывезли ее на свои дачи. Сидят, делятся впечатлениями об открытии дачного сезона. Хорошо им.
Вечером мне еще и в другой институт идти, туда, где я лекции студентам читаю. До летней сессии всего ничего осталось, а у них в головах, по-моему, как не было ничего, так и нет…
Шеф приводит очередного денежного посетителя, готового заплатить за мою консультацию. Представляется он кратко: Гюнтер. Это молодой немец, которого, как ни странно, тоже интересует барон Унгерн. Рада обновить свой немецкий.
Болтаем долго и расстаемся вполне довольные друг другом. В один из дней, когда образуется свободное время, лезу в интернет, чтобы почитать про краповые береты. Сама себе говорю, что просто ради информации, но на самом деле конечно из-за Феди. Статьи достаточно сухи. Факты из истории возникновения традиции, описание экзамена на получение берета. Больше всего впечатляет такое: только двадцать, может, тридцать процентов тех, кто был допущен к испытанию, доходят не то что до конца, а до второго или третьего тура. Причем организаторы осознанно не дают пройти испытание всем. Двенадцатикилометровый марш-бросок может стать пятнадцатикилометровым и так далее. И это будет продолжаться до тех пор, пока слабейшие все-таки не отсеются.
Нахожу ссылку на фильм. Одеваю наушники и смотрю онлайн. И только тогда понимаю, что на самом деле стоит за сухими строчками описания в той же Википедии. Нет, все-таки никогда не пойму я мужчин. К чему это все? Кому они, доводя себя до ручки через нереальные физические усилия, хотят что-то доказать? Товарищам? Себе? По мне так какое-то детство.
Кто в песочнице круче. Или я не понимаю чего-то важного, того ради чего молодые мужики вроде Федора и Павла все-таки идут на такое?..
* * *
В пятницу вечером на выходе с работы меня подкарауливает Ксения. Я все думала — появится ли кто-то из них, и если да, то кто это будет? Думала — Стрельцов. Ошиблась. Ксюха роскошна до такой степени, что на нее смотрит по-моему вся улица. В прелестном летнем платьице, на высоченных тонюсеньких шпильках, да ещё небрежно присела на крыло дорогой и очень стильной машины.
— Надо поговорить.
Пожимаю плечами.
— Говори.
— Та девка — его бывшая. Все никак не успокоится.
— Да, я видела.
— Да что там увидеть-то можно было? Больница ведь.
— Достаточно.
— Целовались что ли?
— Нет. Она… Ну она его… В общем сунула руку под простыню и…
— Ёперный театр! Ань! Ну схватила она его за член, ну что с того? Не он ведь ее схватил, а наоборот. Да и не больно-то он этим процессом увлекся. Когда мы вошли, она уже на ногах была, уходить собиралась. Стрельцов, идиот, еще с порога: «А-а-а… Вот с кем ты тут занят. То-то Анька бежала отсюда как фриц из-под Москвы».
Не могу удержаться:
— А он?
— А что он? Говорит: «Чего врешь-то? Не было ее тут». Тот: «Как не было, если мы ее только что в коридоре встретили?» Смотрю, Федька челюсти сжал, а у девицы у этой такой вид сделался, словно у кошки, которая ворованной сметаны нажралась. Ну до Стрельцова тут наконец-то дошло. Он в коридор — тебе звонить. А ты — все, в тинку зарылась.
Стою, молчу. Но я же не мама, не могу все держать в себе. Должна выговориться!
— Ксень, вот ты мне объясни, ты здесь зачем?
— Помирить вас.
— А господин майор что? Дара речи лишился? Или может мобилу свою случайно в туалет уронил? Сам-то он что же позвонить и поговорить со мной не может?
— Отводит глаза. Вздыхает. Уперся он роговым отсеком, Ань. Как боевой единорог, блин. Лежит, весь из себя несчастный, страдает, но ни в чем таком не сознается и звонить тебе отказывается. Что у вас на самом деле случилось-то?
— А послал он меня. Еще когда у него в прошлый раз была. Сказал: иди-ка ты, Анна, лесом и больше ко мне не приходи никогда.
— Что, правда что ли?
— Правда. Решила вот ещё раз к нему сходить. Подумала, может что-то изменилось, может смогу переубедить… Пришла, и тут же стало понятно, что, в отличие от меня, его наше расставание не тревожит вовсе.
— Ничего не понимаю. А суть-то этого вашего расставания в чем? Из-за чего такая чудо-идея ему в голову-то вбилась?
— Он не рассказывал.
— Ань, ну не ерунди. Знаешь ведь.
— Догадываюсь.
— Ну?
— Не пара мы с ним. Я — белая кость, голубая кровь, а он — парень с рабочей окраины, да еще и детдомовский. Мезальянс, однако. Неразрешимый социальный конфликт.
— Ерунда какая…
Вижу, что не удивлена. Раздражена, но удивления нет и в помине. Видно, Федька о чем-то подобном с друзьями уже говорил. Ксюха еще раз качает головой, потом машет рукой, словно отметая нарисовавшуюся проблему:
— Ладно… Потом обдумаем. Я ведь не только за этим к тебе. Федька со своими вывертами пусть сам пока что разбирается, в больнице как раз самое место самокопанием заниматься. По себе знаю. А ты вот что — нас-то не кидай. Мы-то не Федька, нам твой «высокий» социальный статус — до звезды. А ты в подполье совсем ушла. На звонки не отвечаешь. К нам в деревню нос не кажешь. А мы вроде как друзья… Друзья ведь?
Киваю уныло. Она в ответ энергично.
— Друзья. Да ещё к тому же и боевые. Так что давай в гости.
— Как-нибудь обязательно.
— Не пойдет. Давай, залезай в машину. А то знаю я вас с этим «как-нибудь потом». Маме по дороге позвонишь. Чтобы не волновалась.
Пытаюсь отказываться — не тут-то было. Ну не драться же мне с ней посреди улицы, прямо напротив моего сильно научного института? Так и оказываюсь в салоне ее машины. Водит она так, что Федор с его быстрой, как мне казалось, ездой — детсадовец на педальной машине против Шумахера на Феррари. Мало того, что летит как истребитель, так еще и трещит как ни в чем не бывало.
— Викуське как раз завтра полгодика. Ко мне бабушка приехала. Рассказали ей твою эпопею. Спрашивает — где ж она, эта самая Анна Унгерн? А ее и след простыл.
— Нашли чем старушку развлекать — историей с убийством.
Смеется.
— Для нее — самое оно. Сегодня большого съезда гостей не предвидится. Бабуля с Шарлем. А завтра генералы так и попрут.
— Ничего не понимаю. Какой Шарль? Какие генералы?
Но Ксения не поясняет и я тоже молчу. Звонит телефон. Мама.
— Анна, мне позвонила Марья Петровна из вашего архива. (Вот ведь сука старая, прости господи!) С кем это ты уехала?
— С Ксенией. Мам, я погощу у них на этих выходных? У Ксении дочке полгодика, они праздновать будут.
— А Марья Петровна сказала — какая-то проститутка.
— Мама!
— Она из твоих новых друзей? Вроде этого Федора?
— Да.
Динамик у меня громкий, подозреваю, что Ксюха все слышит. Неловко — страсть. Перекладываю телефон к другому уху — подальше от водительского места.
— Анна, ну сколько раз можно повторять: надо быть разборчивей в своих знакомствах.
— Да, я помню.
Заканчиваю разговор и кошусь на Ксению. Слышала? Как пить дать да. Вон лицо какое. Молчит, рулит. Потом:
— Надо твою маму с моей познакомить. Это будет феерия.
Позже узнаю, что она имела в виду. Ксюхина мать — свернута на политике. Все время в каких-то митингах и акциях участвует, отстаивает права трудового народа. В общем, случай не менее тяжелый, чем мой…
Γлава 7
К дому Ванцетти несмотря на пробки подъезжаем засветло. Ксюха ловко загоняет машину в гараж, и тащит меня в гостиную. Ожидаю увидеть здесь старушку в крашеных синими чернилами кудельках и в бесформенном немарком наряде. Но вместо этого обнаруживаю посреди комнаты изящную женщину во всем французском (это, согласитесь, заметно). Ее все еще густые, но уже совершенно белые волосы коротко и модно острижены. На ногах — туфли на каблуке. Такие же ярко-синие, как у Ксении, глаза смотрят весело и бесконечно приветливо. Ксюха тут же выталкивает меня вперед:
— Бабуля, я ее пленила, а потом похитила. Ее мама в шоке. Какая-то кикимора, которая видела, как я Аньку увозила, уже настучала ей и назвала меня проституткой.
— Я всегда говорила, Ксюш, что без этих твоих джинсов и маек ты выглядишь на все сто! Женская зависть — лучшее тому доказательство.
Переводит глаза на меня, рассматривает с улыбкой, а потом делает шаг и неожиданно обнимает.
— Рада познакомиться с вами, Анечка. Вам кто-нибудь говорил, что у вас совершенно фантастический цвет волос? Если бы Шарль не был столь консервативен, обязательно бы перекрасилась в такой.
Тут замечаю и Шарля. Он смеется.
— Виви! (Виви?!) Ты можешь красить себе в зелений, только иди уже мне замуж.
Его ломаный русский странен, но все-таки совершенно понятен. Перевожу изумленный взгляд на Ксению.
— Бедный Шарль вот уже два года пытается уговорить бабулю сочетаться законным браком, но она не хочет ни в какую.
— Потому что я, в отличие от Шарля, совсем не консервативна.
— Оставьте Викторию Прокопьевну в покое, — в гостиной появляется Серджо с Викусей на руках. — Ну не хочет человек вешать себе на шею такое ярмо, как брак. Я вот попался, и что же? Был тут же превращен в няньку.
— Не хочешь, не надо. Давай Викусю сюда.
— Не дам. Ты ее плохому научишь.
Серджо и Ксения улыбаются друг другу. Бабушка взирает на них благосклонно. Шарль на заднем плане уныло вздыхает.
— ПрЭлЭстно. У меня звонит телефон: «Это я твоя мама…» Нет, все-таки надо сегодня же поменять эту чертову мелодию.
Ухожу в прихожую, чтобы поговорить без помех.
— Ты уже добралась? Тогда почему не звонишь? Я же волнуюсь.
— Мам, все в порядке.
— Гостей много?
— Гости будут завтра. Сегодня здесь только бабушка Ксении и ее… будущий муж.
— Ты шутишь.
— Почему? Нет.
— Бабушка Ксении собирается замуж?
— Шарль зовет ее, но она пока окончательно не решила.
— Ну и нравы. Вместо того, чтобы уже о душе своей подумать…
— Мама!
— А что мама? Я вот, когда стало ясно, что твой отец не хочет брать на себя ответственность за нас с тобой, решила целиком посвятить себя твоему воспитанию. Мне предлагали замужество, но я посчитала, что это будет неправильно. Новый человек в доме, а тем более мужчина, мог плохо повлиять на твою неокрепшую психику.
Я не раз думала об этом. Думала, что если бы мама в свое время вышла замуж, вполне возможно она сейчас была бы совсем другой. И мне было бы жить… легче. И уж точно вольнее. Но, как известно, история не имеет сослагательного наклонения. Что было, то было. Уже не изменить.
Возвращаюсь в гостиную. Викуся теперь на руках у бабушки.
С опозданием понимаю, в чью честь чета Ванцетти назвала своего ребенка. Вечер проходит совершенно по-семейному. Я по большей части молчу и наблюдаю. Эти люди, их взаимоотношения так не похожи на то, к чему я привыкла.
Многое удивляет, но… Но, черт побери, как же с ними рядом тепло и уютно.
Виктория Прокопьевна расспрашивает о Стрельцовых — их она оказывается тоже прекрасно знает. Потом разговор заходит о Федоре. Ксения рапортует о его здоровье — отдельно о физическом (все ОК!), и отдельно об умственном (совсем крышу снесло!). Бабушка слушает, выгнув прекрасно сформированную бровь, посматривает на меня, сидящую с независимым видом в самой глубине кресла, и заявляет, что навестит «мальчика» завтра же.
Спать нас всех — то есть Шарля, Викторию Прокопьевну и меня — отправляют через улицу, в дом Ксении. Сна нет ни в одном глазу. Чаю что ль попить? Иду вниз и застаю на кухне Викторию Прокопьевну, которая как раз занята тем, что наливает чайник.
— Не спится, Анечка? Мне вот тоже. В Париже я ложусь спать довольно поздно, а там сейчас еще ранний вечер.
— В Париже?
— Да. Я там живу уж лет пятнадцать.
— А как получилось? По работе?
— Нет. Я замуж вышла. Замечательный был человек. Скупой, правда, как все французы. Но зато любовник — от бога.
— Скупой — это плохо. Мама говорит…
— Мама твоя, я так поняла, вообще много говорит.
— Ей одиноко…
— Пусть купит себе собаку. А тебя, девочка, ей давно пора оставить в покое.
Я стою разинув рот. Никто ещё не высказывался о моей маме так резко.
— Я не обидела тебя?
— Н-нет.
— Просто не люблю я таких людей. Которые и сами не живут, и другим не дают. Ведь, если я правильно понимаю, то, что произошло между тобой и Федором, — это тоже в какой-то степени результат его общения с твоей матушкой?
— Скорее всего…
— И так у мальчика судьба непростая… Ну да не буду уподобляться старым сплетницам. Захочешь, сама все у него узнаешь.
— Захочешь… Мало ли чего я там захочу, если он…
— Дурочка ты все-таки, Ань. Уж девочка-то взрослая. Сколько тебе. Лет двадцать пять?
— Тридцать два.
— Ух ты! Правду говорят — маленькая собачка всегда щенок. Тридцать два… Ну так тем более должна знать, что все в этом мире зависит только от нас самих. Если ты действительно чего-то по-настоящему захочешь, ты этого добьешься. А тут вообще — дело плевое. Всего-то и надо убедить и без того влюбленного мужика в том, что тебе важен он, а не его чертов социальный статус. Что ты любишь его таким, какой он есть. Ты ведь его любишь?
— Люблю, — почти шепчу, уткнув глаза в пол.
— И это главное. Заруби себе это на носу. Ты ведь понимаешь, почему он сказал тебе то, что сказал?
— Думаю, да.
— Простила ему то, что он с той девкой миловался?
— Да.
— Балда! Вот этого как раз ни в коем случае нельзя прощать. И отомстить нужно достойно. Мы еще с тобой подумаем как.
Утром несмотря на то, что легли мы очень поздно, встаю чуть свет. Мной владеет все та же нервозность, но теперь она со знаком плюс. После ночного разговора с бабушкой Ксюхи мне все видится в совсем ином виде. Теперь мне кажется, что все у меня будет хорошо, и что мы «победим на этой барахолке», как выражается все та же Виктория Прокопьевна.
Принимаю душ, привожу себя в порядок. И вдруг решаю ехать в больницу к Федору. Авось не прогонит, а я уж сумею ему как-нибудь вправить мозги! Дом еще тих. И Шарль, и Виктория Прокопьевна спят. Когда мы с Ксюхой проезжали через деревню, видела автобусный круг и остановку на нем. Иду туда. О! И расписание есть. Первый автобус через пятнадцать минут. Сажусь на древнюю лавочку, готовлюсь ждать и вдруг вижу знакомый джип. Это Павел.
— Ты что здесь делаешь? — кажется вопрос этот задаем друг другу хором.
Отвечаю первая.
— Да я вот в больницу к Федору собралась.
— Пешкодралом?
— Не графья чай.
— Да ну! Что ты в такую даль попрешься на перекладных? Садись уж, довезу.
— Ты мой спаситель!
— Эт точно.
Забираюсь на переднее сиденье, устраиваюсь. И в этот момент у меня в кармане начинает звонить телефон. Странно, но судя по мелодии звонка, это не мама. Смотрю и расплываюсь в широчайшей улыбке. Федька! Неужели и он тоже не смог больше и решил?..
Додумать не удается. Краем глаза замечаю движение — Павел протягивает ко мне руку. Не пугаюсь. Просто не понимаю — для чего? Чувствую, как он прикасается к моей шее, успеваю бросить на него удивленный взгляд, но в тот же миг он нажимает сильнее, и я погружаюсь в черноту беспамятства.
Видимо отключка моя оказывается недолгой. Прихожу в себя, когда он заканчивает связывать мне ноги. В отличие от того раза, когда меня связывал Серджо — узлы крепкие, надежные, не распутаешь.
— Паш, ты чего?
Короткий взгляд на меня — холодный, рассудочный.
— Деньги, Ань. Все зло от них.
— И что это значит?
— Да, понимаешь, решил я все-таки свою выгоду не упускать. Раз ты так кому-то нужна, прямой смысл доставить тебя этим людям и получить с них соответствующую плату.
— И как же ты собираешься искать этих людей?
— А чего их искать-то, Ань? Я их уже нашел. Пришлось немного поторговаться, чтобы они в обмен на тебя денежками поделились. Но они оказались сговорчивыми. Забавные ребята… Скоро и ты с ними познакомишься.
— И это после того, как они пытались тебя пристрелить?
— Нет, Ань. Это ведь действительно в тебя тогда стреляли, не в меня.
— А как же твой Коля? Его тоже вместо меня убили? Ну перепутали так.
Молчит, усмехается, продолжая свое дело. Мне становится так страшно, что кожа покрывается мурашками. Это ведь он сам его… Но за что? Спрашивать глупо — вряд ли скажет.
Наверно, раз деньги всему виной, просто делиться не захотел. Павел заканчивает связывать меня, потом уверенным движением набрасывает мне на голову какой-то мешок.
— Будешь бузить, заткну рот.
Слышу как шуршит над головой шторка, которая закрывает в его джипе внутренности багажника, потом он подпихивает мои ноги, видимо, чтобы не мешались и, наконец, захлопывает дверь. Темно и душно. Могу только слышать, что происходит.
Вот он садится в машину, вот заводит мотор. Поехали.
Ёперный театр, как сказала бы Ксения. Так все скверно, что даже смеяться хочется. Это ж надо, чтобы вся эта дрянь происходила с одним человеком? Это ж какой степенью везучести нужно обладать, чтобы все вот так? И с Федькой я так и не поговорила…
Колесим мы долго. Так что я успеваю и пореветь, и успокоиться. Потом машина все-таки останавливается, двигатель, правда, продолжает работать, но хлопает дверца и вскоре раздаются голоса. Переговоры недолги. Открывается дверь багажника. Меня вытаскивают на божий свет и как куль муки перемещают по всей видимости в какой-то другой багажник. Кто-то склоняется надо мной.
— Ну прощевай, Ань. Ты хорошая девка. Когда ты добровольно поперлась менять себя на эту курицу… Как ее? Маша? Я, честно тебе скажу, офигел. Думал, таких как ты уж не осталось… В общем, мне жаль, что так получилось. Но бизнес, есть бизнес.
Значит Павел решил напоследок поболтать.
— И ты прощай, Паш. А на счет бизнеса… На счет бизнеса это ты другим ребятам, которые, как и ты, краповый берет в свое время заслужили, расскажи. Но ведь не станешь. Как потом живется тем, кого лишили права носить его? А? Не знаешь? Есть шанс узнать. Я, если доживу, обязательно расскажу о твоих подвигах.
Молчание. Тяжелое, как гранит. А потом просто-таки рык:
— Не доживешь…
И хлопок закрывшегося багажника. Как крышку гроба опустили.
Опять долго колесим. Слез уже не осталось. Накатило какое-то тупое оцепенение. Утешаю себя только одним: Машка ведь говорила, что обращались с ней нормально. Если, конечно, меня похитили те же, что и ее… Наконец, видимо, добираемся до места. Меня вынимают из багажника и переправляют в какое-то помещение. Пахнет затхлым. Кто-то разрезает мне веревки сначала на ногах, потом на руках и сильно толкает в спину. Я делаю несколько торопливых шагов вперед, автоматически выставив перед собой руки, и слышу, как дверь у меня за спиной захлопывается. Все, прибыли.
Стаскиваю с головы мешок.
Подвал или цокольный этаж. Серые стены. Небольшое зарешеченное окошко у потолка. Оглядываюсь — даже какая-то мебель есть. Кровать, стул. И грязный унитаз в углу. Первым делом подтаскиваю стул к окну. Однако, даже встав ни цыпочки вижу только кусочек неба и верхушки какой-то зелени. Да и то: вряд ли там, за окошком специально для меня установлен транспарант с точными координатами места, где я нахожусь.
Усаживаюсь на кровать. Было б у меня хоть какое-то занятие… А так просто сидеть и ждать мучительно. Вскакиваю и начинаю ходить из угла в угол. Интересно, мое исчезновение уже заметили? Спохватились? Начали что-то делать? А что?
Что вообще можно сделать? Никто не знает, что я села в машину к Павлу. И уж тем более никто не видел, как меня передавали с рук на руки, а потом водворяли сюда. Надежды нет. Надеяться можно только на себя. А на себя-то как раз надежды у меня всегда мало. Не боец я…
Проходит, как мне кажется, несколько часов, когда за дверью в свой каземат слышу какое-то шевеление. Она открывается, входят двое мужчин в черных вязаных шапках-масках. Самая распространенная нынче одежда, как я погляжу. И не жарко им? Лето ведь… Один наставляет на меня ствол, другой коротко приказывает:
— Лечь лицом вниз.
Как-то спорить желания нет совсем. Ложусь на кровать, повернув голову так, чтобы видеть их.
— Лицом вниз, я сказал!
Утыкаюсь физиономией в вонючий матрац. Шаги. Сводит мои руки за спиной и ловко связывает их.
— Сесть.
Сажусь. Разговаривают, блин, как с собакой дрессированной.
— Открыть рот.
Это ещё зачем, господи? Заталкивает мне в рот носовой платок. Надеюсь, чистый. Затем крепко привязывает кляп к моему лицу полосой материи. Вот интересно, а если бы у меня был насморк, что бы я делала?
— Встать.
Подхватывает меня под локоток и выводит прочь.
Поднимаемся по лестнице вверх в какую-то довольно просторную комнату. Здесь уже есть окна, но на них жалюзи. Посреди комнаты — большой деревянный ящик. Крышка лежит в стороне.
— Залезай.
Вот значит как они меня транспортировать дальше собрались! А если я в неподходящее время и в неподходящем месте колотиться внутри начну? Залезаю. Спорить не имею физической возможности, сопротивляться — смешно. С моими-то силенками да против них двоих… Устраиваюсь максимально удобно. Надо мной склоняется один из этих типов. В руках шприц.
Боль от укола. В голове сразу начинает плыть. Последнее, что я слышу:
— Спокойной ночи, красавица.
Прихожу в себя в багажнике машины. Меня трясет и бросает из стороны в сторону так, что становится ясно — мы едем по бездорожью. Хотя есть вариант: мы на дороге, но эта дорога в России. Во рту режущая сухость, язык словно чужой, челюсти свело. Больно. Выпихнуть бы тряпку изо рта, но повязка, которая ее крепит, на то и придумана, чтобы мне это не удалось. Шевелю пальцами связанных рук, тоже больно. Все тело затекло и одеревенело. Да еще и не имею возможности держаться на ухабах и с отвратительной регулярностью раз за разом прикладываюсь головой о что-то жесткое.
За окном машины ночь. И тишина. Встречного движения не слышно. Куда ж они меня затащили? Машина притормаживает, слышу, как где-то по соседству начинают лаять собаки. Какой-то населенный пункт? Машина останавливается. Кто-то вылезает из нее и вскоре раздается протяжный скрежет и скрип. Открывают ворота? Наверно да, потому как машина вновь трогается, тут же останавливается, и я вновь слышу те же звуки — ворота теперь закрыты.
Вытаскивать меня не торопятся. Мои мучители уходят, видимо, в дом. Только минут через тридцать дверь багажника (а меня везли опять-таки в джипе) открывается и передо мной возникает… Глазам не верю! Тот самый милейший молодой немец, который приходил к нам в институт и чуть смущаясь представился как Гюнтер. Этот-то каким боком?!
— Фройляйн Унгерн…
Он делает знак двум типам, которые стоят у него за спиной. Один из них занят — держит фонарь, зато второй берет меня за шиворот и особо не церемонясь вытаскивает наружу. Ноги мои тут же подламываются, и я кулем валюсь на землю.
— Шайзе! — отчетливо выговаривает немец.
Что ж, кто-кто, а я с ним спорить не стала бы, даже если бы и могла: действительно ситуация — полное дерьмо. Меня вновь ставят на ноги, но теперь придерживают так, что я болтаюсь в чьих-то руках, как тряпичная кукла. Разве что куклам не связывают руки и не затыкают рты. Держит, видимо тот, что с фонарем, потому как второй маячит у меня перед носом. Лицо неприятное, все какое-то битое, сплошные ямки да бугры. В юности прыщами страдал?
— Будешь вести себя тихо, дам напиться.
Я начинаю кивать так энергично, что все смеются. Даже немчик. Тот, что с оспинами на лице (для краткости буду называть его просто Оспа) принимается развязывать мой кляп, потом матюгается и одним слитным, привычным движением выхватывает нож. Я невольно шарахаюсь, кося в испуге глазами, он хмыкает, перехватывает меня половчее и вспарывает материю. Потом выдергивает изо рта платок. Я вскрикиваю — такое ощущение, что выдрал он его вместе с кожей с неба и языка. Но потом забываю обо всем — перед моим лицом возникает железная походная кружка с водой. Он поит меня. Причем оказывается достаточно терпелив и дает мне выхлебать все. До дна.
Немчик было начинает торопить его, знакомым каждому русскому: «Шнель, шнель». Но тот лишь дергает щекой, а в глазах его появляется нехорошая усмешка. Я вижу это совершенно точно, потому как его лицо, освещенное фонарем, у меня прямо перед глазами. Уже кое-что понятно. Немчик считает себя главным, но Оспа в этом вопросе с ним не согласен. Слушается до поры до времени, пока интересы совпадают, а потом… Иначе его реакцию на «шнель» немчика истолковать сложно.
— Ты пей, не торопись. И на нашего немецкого друга внимания пока что не обращай. Ему, небось, никогда не приходилось валяться с кляпом во рту несколько часов к ряду. А я, что это такое, знаю. Так что пей, фройляйн Унгерн.
— Меня Анна зовут. И не фройляйн я вовсе.
— Да я знаю.
— А вас как зовут?
— Умная девочка. Нас так и учили: если попал в плен, первое дело попытаться установить личный, человеческий контакт с захватившими. Им тогда тебя пытать и убить психологически сложнее будет. Но со мной не сработает.
— Тогда буду звать тебя Оспа. Твоего приятеля Фонарь. А немчик пусть так в немчиках и ходит.
Задеть его не удается. Лишь смеется, а потом волочет меня в дом. Успеваю увидеть, что это одноэтажное строение, но не изба, а скорее городская усадьба. Каменный цоколь, деревянный верх. Такие стоят, неизменно выходя фасадами на улицу, в маленьких провинциальных городках, куда ещё не добралась и, надеюсь, никогда не доберется «цивилизация» с ее квадратно-гнездовой панельной застройкой.
В горнице толкает меня за стол. Фонарь тем временем идет куда-то в другую комнату и возвращается с глубокой тарелкой. Помню, нам такие в детском лагере отдыха давали — белая, а по ободу мелкие синенькие цветочки. И краешек немного отбит… В тарелке картошка в мундире, а сбоку горка квашеной капусты. Рот у меня наполняется предательской слюной, я сглатываю, и он усмехается. В руках Оспы опять появляется нож. Он срезает веревки с моих рук. Но вместо того, чтобы слушаться меня, они плетьми падают вдоль тела. Совсем одеревенели. С тоской смотрю на своих мучителей. Фонарь молча разворачивается и снова скрывается где-то во внутренних помещениях дома, так что откликается на мой немой призыв опять-таки Оспа.
— Ничего, скоро отойдут. А ты пока с нашим иностранным гостем поговоришь. А то беседовать с набитым ртом — та-акой моветон!
Закатывает глаза и посмеиваясь отходит в сторону. Окликаю его:
— Оспа! А у тебя тоже краповый берет есть?
— Почему тоже?
— У того парня, что меня похитил, есть.
— У меня нету. Этой фигней спецназ страдает. У нас были… свои игрушки.
— А вот если к примеру вы с тем парнем в краповом берете схлестнетесь, кто победит?
На его лице появляется выражение презрительного превосходства, он уже открывает рот… И вдруг захлопывает его, разве что зубами не клацнув. Молчит несколько секунд, а потом качает головой.
— Втянула-таки в личный разговор. Зацепила за мужские понты. Молоде-е-ец. Только зря ты ко мне клеишься. Лучше, вон, на немчике практикуйся.
— Он — лох. Ты — профи. Если кто-то в конечном итоге и будет решать мою судьбу, то точно не он.
Отходит, усмехаясь. В дверях оборачивается. Читаю по его улыбающимся губам: «Умная девочка…»
Пока мы с Оспой болтали, руки мои действительно отошли. Сначала колоть в них стало так, что терпежу не было — даже раскачивалась, сцепив зубы, чтобы не заорать, а потом ничего. По крайней мере картошка из пальцев перестала выпадать.
Вилки-то и ножа мне, естественно, никто и не подумал давать.
Немчик появляется в горнице, когда мое пиршество в самом разгаре. Присаживается напротив. Следит за мной с таким выраженьем, с каким английский джентльмен по фамилии Киплинг следил бы за ужином индийского мальчика Маугли. Мне внезапно становится смешно. Гюнтер этот неуловимо похож на мою маму — в первую очередь, естественно, выражением острого снобизма на лице.
Смотрю на него, ни на минуту не прекращая двигать челюстями. Обычный парень, стройный, лет тридцати. Симпатичный. Волосы темные, как практически у пятидесяти процентов немцев (то, что все они голубоглазые блондины — чистой воды миф!). Личико чистенькое, руки явно не испорченные тяжелым физическим трудом. Решаю, раз уж сидим за одним столом, завязать светскую беседу.
— Увлекаетесь кладоискательством?
— Нет. Совсем нет. Отец вот увлекался. А я предпочитаю не искать, а находить.
— И как, получается?
— Возникли, знаете ли, непредвиденные трудности.
— Поделитесь?
— Чуть позже, быть может.
— Где мы сейчас?
Пожимает плечами и делает широкий жест рукой:
— В Забайкалье.
Мягко говоря — сюрприз…
— Как вам удалось меня сюда дотащить?..
— Частный самолет до Читы. Дорого, но надежно. Потом, как вы должно быть успели заметить, машиной.
— И как вы собираетесь переправлять меня через границу?
— Зачем это?
— Кровь без холодильника портится и перестает работать.
Сидит, жует губу, меряет меня суровым взглядом. Что съел? Знай, что твой секрет — это секрет Полишенеля.
— И все-таки не пойму, при чем здесь граница?
— Внешняя Монголия…
— Как и Внутренняя, меня совершенно не интересуют. Там пусть ищут клад барона дураки и романтики. Я не из их числа. Скажу вам больше: в моем распоряжении оказались кое-какие документы, которые недвусмысленно говорят о том, что он совсем не в монгольских степях.
Призадумываюсь. В том, что барон Унгерн зарыл свое золото где-то в Монголии — в так называемой Внешней или Северной ее части, той, что расположена между российской территорией и Китаем, не сомневается почти никто. Именно здесь он провел основную часть своего послереволюционного времени, именно здесь состоялись самые знаменитые бои его Туземной дивизии. Именно здесь он в конечном итоге попал в плен к красным. Некоторые, особо смелые говорят о том, что стоит поискать и во Внутренней Монголии, которая как отдельная автономия и сегодня входит в состав Китайской народной республики. Но там искать сложнее. Китай с его системой строжайшего контроля всего на свете — это вам не глухая безлюдная Монголия, в которой всем все пофигу.
А в России?.. В России, пожалуй, никто и не искал. В последние годы по крайней мере точно. Как-то было решено, что на широких просторах Забайкалья выгребли все ещё в ту пору, пока был поголовный бум поисков Золотого запаса Царской России, отправленного Колчаком в Сибирь и здесь же благополучно канувшего… А там, в отличие от такой мелочи, как клад барона Унгерна, поживиться, прямо скажем, было чем.
В соответствии с данными, опубликованными в последнее время, золотой запас Российской Империи в 1914 году оценивался в 3 млрд 604,2 млн золотых рублей и был самым крупным в мире. В пересчете на привычные нам сегодня доллары, но по тогдашнему курсу это было 5 млрд 626 млн долларов США. И по весу немало — 3600 тонн чистого золота. И ничего не нашли!
Но если речь идет не о Золотом Запасе целой огромной и богатейшей Империи, который везли отдельным составом по железной дороге сначала до Омска, а потом до станции Манчжурия, а всего лишь о золоте барона Унгерна, то вероятнее всего мы…
— Мы в Даурии?
— Вы действительно прекрасный специалист, фройляйн Унгерн.
Судорожно роюсь в памяти. Даурия… Огромный кусок территории Забайкальского края и Приамурья, расположенный на границе с Монголией. Между Яблоневым хребтом и рекой Аргунь. Именно здесь, в Даурии, куда Унгерн был направлен атаманом Семеновым, он провел почти два года. Здесь формировалась его Азиатская (или как ее иначе называют — Туземная) дивизия. Основой ее стала дружина монгольского князя Фушенги, который служил атаману Семенову. Его отряд состоял из харачинов — самого дикого и воинственного из племен Внутренней Монголии. Затем к этим конникам присоединились представители многих других народов, населявших Сибирь, Монголию и Китай — казаки, буряты, тибетцы, монголы, башкиры, корейцы.
В Даурии Унгерн установил настоящий феодальный режим с собой в виде единоличного управителя. Им же была введена здесь система жестоких наказаний и казней. Причем за явные или мнимые провинности казнили всех, независимо от рода и звания. Как результат в Даурии об Унгерне воспоминания остались самые мрачные. Печально известная Долина Смерти неподалеку от станции, которая и сегодня носит названия Даурия, буквально засыпана стреляными гильзами. Правда, справедливости ради, стоит сказать, что здесь приводил в исполнение приговоры не один только Унгерн. В 1937-38 годах тут немало поработали сталинские заплечных дел мастера…
При Унгерне соваться в Даурию со своими порядками не рисковал даже сам Семенов — тоже человек абсолютно безбашенный и жестокий до маньячества. Эта территория была отгорожена от остального мира барьером суеверного, почти мистического страха перед её хозяином — «диким бароном».
Его боялись красные, его боялись белые, его боялись и свои, и чужие. Но и уважали.
В августе 1919-го, во время очередного приезда в Харбин, даурский барон женился на маньчжурской принцессе. Это был чистой воды «династический брак». Принцесса со сложным китайским именем, которая после крещения стала зваться Еленой Павловной, была родственницей свергнутых императоров из величайшей на Востоке династии Цинь. После подобного «породнения» авторитет Унгерна в глазах азиатов возрос необычайно. Монгольская аристократия даже поднесла ему титул «вана» — князя второй ступени. С осени того же, 1919, года барон начал готовить поход на Ургу…
Что ж, логично было бы закопать золото именно здесь, в Даурии. Очень логично. Особенно, если учитывать, что в ту пору Унгерн и Семенов как никогда идейно близки. А по воспоминаниям, которые оставил после себя начальник тыла колчаковской армии генерал Петров, именно атаман Семенов остановил состав с Золотым Запасом на перегоне между Иркутском и Читой. И именно с Семеновым генерал Петров, сопровождавший царскую казну, расплатился за возможность двигаться дальше 30-ю ящиками золота… Так что быть может здесь, в Даурии, Унгерн запечатал фамильным заговором «на кровь» не только то, что награбил сам, но и то, что передал ему на хранение Семенов?..
Однако…
Продолжаю жевать картошку с капусткой и думать. Но если в Даурии, то где именно? На территории Забайкальского края легко поместится не одно европейское государство. Да и Даурия в отдельности — территория, прямо скажем, не маленькая. Наобум плескать моей кровишкой, которой во мне всего-то пять-шесть литров, как минимум глупо. Значит надо более или менее точно знать, где…
Поразмыслим. (Как же, оказывается хорошо думается от страха!) В Даурии жизнь барона была спокойной и привольной. Здесь он — царь, бог и воинский начальник. В самом прямом смысле этого слова. А раз так, закапывать золото вроде бы причин нет. Когда же все изменилось? В тот момент, когда Унгерн, не сдержав себя, сцепился с красными, и те разбили его Азиатскую дивизию в пух и прах, вынудив барона с остатками войска скрыться в монгольских степях.
Скрыться налегке… Ага…
— Акша?
Смотрю на немчика и внутренне аплодирую себе. Аж позеленел родимый. Значит точно — Акша. При царе-батюшке — уездный город, где, кстати, находился в ссылке ещё один немец — декабрист и друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер. После Октябрьской революции Акша свой городской статус утратила. Сегодня это крупное село, где живет около четырех тысяч человек… Именно сюда Унгерн стянул части своей Азиатской дивизии перед тем, как двинуться на Ургу. И именно здесь этот идейный монархист сорвавшись начал заведомо обреченные на провал боевые действия против войск советской Дальневосточной республики…
— Как, Гюнтер, вам удалось выйти на это место? Вы ведь уверены, что клад именно здесь?
Сидит, барабанит пальцами по столешнице. Смотрит неуверенно и тревожно. В этот самый момент в комнату неслышно ступая входит Оспа и усаживается в уголочке. Немчик смотрит и на него, словно испрашивая совета, потом отворачивается и машет рукой.
— Теперь скрывать смысла нет. В любом случае я не собирался оставлять вас в живых…
— Что так?
— Сейчас объясню.
Глава 8
Немчик оглаживает волосы:
— Я, наверно, должен все-таки представиться вам. Я имею в виду по-настоящему.
Привстает, и даже делает что-то вроде микро-поклона в мою сторону. «Какой воспитанный мальчик!» — сказала бы мама…
— Меня зовут Гюнтер Унгерн и формально я являюсь вашим сводным братом. Ваш отец после возвращения с Олимпийских игр в Москве, и уже, соответственно, после того, как были зачаты вы, женился на моей матери. Вскоре после этого на свет появился я…
— Ничего не понимаю. В таком случае зачем вам я? Или вы боитесь вида собственной крови? Ну уж за несколько килограммов золота (или сколько там его?) можно и потерпеть.
— Как я уже вам говорил — возникла неожиданная проблема. Иного рода. Моя кровь не работает. А Φридрих Унгерн своей кровью уже никому не сможет помочь.
Он как-то странно дергает кадыком, то ли сглатывает, то ли давит рвотный позыв. Смотрю ему в лицо зачарованным взглядом. Кто бы мог подумать, что моя немецкая семья, столь нелюбимая мамой, даст о себе знать таким вот престранным образом?
— Ваш отец… отказывается ссужать вас своей кровью? И, кстати, почему не работает ваша?
— А он ублюдок, как выяснилось, — Оспа из своего угла мило улыбается.
Делаю сразу два вывода: Оспа немецким владеет уверенно, а вот Гюнтер русским — нет. Вон как крутит башкой и хмурит брови, глядя на Оспу, который внезапно заговорил со мной на родном языке. Даже переспрашивает:
— Что такое ублюдок?
— Бастард. Незаконнорожденный, — поясняю я невинным тоном.
Гюнтер разве что зубами не скрипит, но что поделать — таковы факты.
— А как все-таки вскрылся факт грехопадения вашей матушки?
— Пентаграмма, черт побери.
Немчик отворачивается, переживая в очередной раз свой позор и свою неудачу, а Оспа поясняет. Опять-таки по-русски.
— Ваш отец, когда рассказал своему мнимому сыну о том, что Унгерны были большими мастерами прятать добро, заговаривая его на свою кровь, продемонстрировал кое-что. У него имелась золотая табличка с выгравированной на ней пентаграммой. Такой своеобразный экспресс-тест. Уколол себе палец, капнул, и сразу понятно — Унгерн ты или так, погулять вышел. Только наш умник, прежде чем свою кровь проверить, успел ещё тех дел наворотить. Еще бы. Он ведь не сомневался в том, что уж он-то — истинный Унгерн, потомок древнего рода и практически барон в каком-то там лохматом поколении. А оказалось — фальшивка.
— Но зачем ему я? Зачем эта морока с похищением? Ведь он мог попросить отца…
— Неа. Не мог. Те самые бумаги, которые нас сюда и привели, он у отца-то и выкрал, а потом старикана просто грохнул. Отравил чем-то. По-бабски. Убить как мужчина, глядя в глаза, он, по-моему, просто не в состоянии. Идиот!
— Представляю, как он бесился, когда понял все…
— Это точно. Бесился преизрядно. После того, как выяснилось, что с помощью его крови схрон не вскрыть, он сделал генетический анализ. Сдал образец волос Φридриха Унгерна и клочок шерсти со своего чубчика. Так вот — ничего общего. Тогда-то и выяснилось окончательно, то мамашка нагуляла парня где-то на стороне. Поняв это, он и решил найти тебя. Но чтобы снова не лохануться, поначалу нанял парня, чтобы он добыл ему какое-то количество твоей крови. Пентаграмма показала — ты истинная Унгерн. Так что золотишко мы все равно найдем…
Гюнтер уже какое-то время что-то гневно говорит, но только теперь я обращаю на него внимание. До этого рассказ Оспы мне казалось более важным.
— Я настаиваю на том, чтобы в моем присутствии вы говорили по-немецки!
— Яволь, босс! — ухмыляясь отзывается Оспа.
— А что за бумаги, которые привели вас сюда? Откуда они взялись у отца? — я тоже перехожу на немецкий.
— О! Об этом он рассказывать любил.
Если кратко, то рассказ Гюнтера таков: отец моего отца, соответственно мой дед, Генрих Унгерн, оказывается, как и я был историком и имел доступ к самым разным архивам. В сорок пятом, когда советские войска крошили остатки фашистской армии в Берлине, он, как видно, не растерялся и притаранил домой несколько ящиков с интереснейшими, как он сказал, семейными документами. Помимо той самой пластины с пентаграммой, рассказов о Крестовых походах и прочего, там нашлись и письма барона Романа Федоровича Унгерна фон Штернберга к немецкой родне (в России ему, как видно, писать было некому, революция раскидала или просто пожрала всех). Из них-то много лет спустя мой отец, Фридрих Унгерн, и узнал о том, что где-то на просторах огромной России у него есть не только дочь, но и хранится «фамильное золото» запечатанное фирменным унгеровским заговором «на кровь». На свою голову как-то за бутылочкой шнапса он не удержался и об этом своем открытии рассказал подросшему и возмужавшему сыну… Хорошо же он его воспитал!
— Но почему, если эти бумаги просто лежали в архиве, ими не заинтересовался кто-то раньше? Как получилось, что тот же мой дед не стал искать клад?
— Ань, — это уже Оспа. — Ну мозг-то включи. Кто бы позволил иностранцу что-то там такое искать на широких просторах СССР? Отсюда до Монгольской границы всего пятьдесят км. А в приграничные зоны, насколько я знаю, иностранцам вообще ход заказан был. Сунулся бы, его бы замели на счет раз!
Киваю. Прав. Потом, в девяностых, уже можно было и искать что угодно, и вывозить что хочешь, но дед умер, или уже не в силах был кладоискательством страдать, а Фридрих Унгерн, надо полагать, в ту пору семейной историей интересовался мало. Зачем история молодым? Вот когда начала подступать старость, сел разбирать бумаги, оставленные ему отцом. Сел и на свою беду нашел…
С этим понятно. Ясно и с Павлом, и с первой попыткой похитить меня, когда в заложницах по ошибке оказалась Маша. Но зачем было стрелять в меня на Тверской, возле «Пилзнер Урквела»? Об этом и спрашиваю. Гюнтер только таращит на меня глаза.
— Это вы что-то перепутали. Может не в вас, а в кого-то другого стреляли?
— Странно… Какая-то ерунда получается…
Оспа тоже недоумевает, причем опять по-русски:
— А ты что ль подумала, что это немчик твой? Не-е-ет. Как бы он без твоей особы до золотишка бы тогда добрался?
— А где, кстати, все?
— Здесь, неподалеку. Подобраться, правда сложновато. В том доме, где был штаб Унгерна, и в подвале которого он и соорудил тайник, теперь сельское отделение полиции располагается.
Начинаю смеяться. Оба смотрят на меня довольно-таки злобно. Гюнтер потому, что опять ничего не понимает, Оспа по другой причине. Но по-моему это великолепная шутка судьбы. Из разряда — близок локоть, а не укусишь.
— Ну и что вы в связи с этим предполагаете делать?
— Уже делаем, и ты нам в этих наших делах прекрасненько поможешь.
Понимаю, что он имеет в виду, довольно быстро.
Оказывается, дом в котором мы сейчас сидим, и который принадлежит глухонемому Фонарю, — расположен наискосок от бывшего штаба Унгерна, а нынешнего полицейского участка. Только улицу перейти. Или прокопать…
Объясняет Оспа это мне дорогой. А путь наш из сухой и уютной горницы лежит в подвал, в одном из помещений которого берет свое начало довольно-таки широкий подземный ход. Сделан он по всем правилам шахтерского искусства — потолок грамотно подперт деревянными столбами и досками в распор. Вот только ход этот пока что никуда не ведет.
— Еще метров десять копать. Ты этим и займешься. Не будешь копать — не будем кормить. Будешь копать плохо, и есть тоже будешь плохо. За ударный труд — десерт. Все поняла? Приступишь прямо с утра, а то я себе уже все руки сбил, блин!
На ночь меня запирают в какой-то задней комнате, в которой окна снаружи забиты досками крест-накрест. Здесь есть кровать, покрытая битым молью шерстяным солдатским одеялом. Подушка выглядит так, что я ее отправляю в угол комнатенки. На ней не то что спать, сидеть и то противно.
Матрац, правда, не лучше… Пропади оно все!
Утром невыспавшаяся и злая приступаю к трудам своим неправедным. И уже через полчаса выбиваюсь из сил. Это вам не на даче у Сашки вскопать грядочку, которую рыхлят и холят ежегодно. Здесь земля спекшаяся, глинистая. Лопата от нее так и отскакивает, откалывая какие-то жалкие кусочки. Может пусть уж лучше сразу убьют?.. Фонарь некоторое время следит за моими действиями, потом уходит и приводит за собой Оспу. Теперь и он имеет возможность полюбоваться на то, как «легко» у меня продвигается дело.
— Тьфу ты!
Отталкивает меня и сам берется за лопату.
— С такими темпами мы до осени копать будем. Ладно. Будешь тачку с землей возить. А потом пойдешь нам жрать приготовишь. Все поняла, фройляйн Унгерн?
— А что герр Унгерн в раскопках не участвует? Белы ручки боится ободрать?
В ответ только смотрит злобно. Значит угадала. Мой сводный братец (формально-то все так и есть!) предпочитает использовать наемный труд. Какое-то время действительно занимаюсь тем, что вожу туда-сюда тачку с землей, которую удается отколупать Оспе. Отвожу ее к небольшому подъемнику, за которым работает Фонарь. Куда уж он потом выкопанный грунт девает — непонятно. Может, на зло соседям ночами сельский колодец засыпает? Или делает каменистую горку для редких альпийских растений? Тогда, правда, получится не горка, а целый Эверест. Точнее Монблан, раз уж речь зашла об Альпах.
Впрочем и эти мои упражнения с тачкой сегодня не надолго. Вскоре Оспа отправляет меня готовить жратву под присмотром моего лже-родственника. В холодильнике — вселенская пустота. Но на полках в кладовке нахожу тушенку. Уже дело.
Картошка с тушенкой — что может быть лучше? Готовлю, как мне кажется, так, чтобы хватило и на обед, и на ужин. Но уработавшиеся Фонарь и Оспа, при уверенной поддержке хорошо отдохнувшего Гюнтера, уминают все за раз… Да-а… Вот что значит отсутствие опыта. В нашей с мамой семье мужчин ведь никогда не водилось. Даже и предположить не могла, что они столько едят!
После обеда все возвращаются на круги своя: Гюнтер — на диванчик, Оспа — к лопате, Фонарь — к подъемнику, я — к тачке. Заодно сообщаю Оспе, что жрать мне скоро будет нечего вне зависимости от качества моей работы. Продуктов-то в доме — тю-тю. Обещает, как только появится такая возможность, отправить в магазин Φонаря и просит составить списочек, что купить.
Как все по-домашнему, семейно…
Зато вечером мне уже без разницы, есть ли у меня подушка или ее нет, и как выглядит то место на матрасе, куда я кладу свое лицо. Я засыпаю как только тело принимает горизонтальное положение. Снится мне как обычно какая-то ерунда. Что Оспа лопатой откалывает от глиняной стены в тупике подземного хода комья земли, а когда я высыпаю их из тачки в подъемник-то это вроде бы уже и не земля, а золотые самородки. А потом золотой становится тачка. Я протягиваю руку, прикасаюсь к стене и из-под моих пальцев в глине начинают разбегаться золотые жилы. Царь Мидас отдыхает! Во сне вспоминаю, что он, к чему бы не прикасался, превращал это в золото, причем дело кончилось тем, что он дотронулся до самого себя и тоже стал золотой статуей. Всерьез (сон же!) размышляю как мне применить новообретенные способности, после чего целеустремленно пробираюсь назад по подземному ходу, чтобы как следует пощупать Оспу, но — увы! — просыпаюсь…
Будит меня Фонарь. Просто трясет за плечо и делает жест рукой — мол, поднимайся. Встаю и тут же валюсь обратно. Мое тело. Мое бедное непривычное к физическому труду тело. Мне кажется после вчерашнего у меня болит каждая мышца, каждая косточка и каждый сустав. Но разозленный Оспа, который вваливается в мою каморку, когда я долго не появляюсь на кухне, и слышать ничего не хочет.
— Скоро привыкнешь!
И ведь прав — через неделю полный рабочий день с тачкой в руках меня уже не убивает, а просто очень сильно утомляет.
Странное все-таки существо человек. Или это странная я? Знаю ведь, что после того, как ход будет прорыт, мы доберемся до тайника и воспользуемся моей кровью, как ключом, меня просто грохнут и оставят валяться в этом самом подземном коридоре, чтобы не копать еще и могилку. Знаю, и продолжаю день за днем помогать своим мучителям приближать момент моей же собственной кончины.
Но что я могу поделать? Саботажем мне никто заниматься не позволит, сбежать не удастся, убить или хотя бы оглушить троих здоровых мужиков я не смогу. Отравить? Я бы не побрезговала тем, что это по-бабски, мне не до понтов «настоящих мужчин». Да вот беда — и отравить-то нечем.
Что, интересно, сейчас творится в Москве? Мама, наверняка, в ужасном состоянии. Как бы в больницу не слегла, у нее ведь слабое сердце. На работе только и сплетен о моем исчезновении. Федор… Не знаю, что думает или делает Федор. Иногда позволяю себе помечтать. Представляю, как внезапно распахивается дверь, и в дом, в котором меня держат, врываются с оружием наперевес ребята в черных бронежилетах и шлемах. И Федька среди них. Это, конечно, полная ерунда.
Ему сейчас не до военных действий, небось ещё только-только с больничной койки вставать начал. Но я ведь мечтаю! Могу же я позволить себе хотя бы в собственных мечтах, чтобы все было как надо, как хочется.
Никогда не прощу Павлу, что он мне не дал с Федей поговорить. Ведь он тогда позвонил мне… Если и есть какие-то причины, чтобы души человеческие не улетали на небеса, а оставались на земле в виде привидений — это точно одна из них. Хоть после смерти, а отомщу этому гаду! Начинаю представлять себе, как я — вся полупрозрачная, но обязательно с длинными острыми зубами — проникаю через стену в квартиру Павла, он просыпается, видит меня и начинает орать.
Нечеловечески.
Как сладок мне этот воображаемый звук. Я вообще в последнее время слишком много фантазирую. Что делать? Телевизора-то нет. И книг нет. Только моя непутевая, набитая тоннами ненужных знаний голова всегда со мной. Точнее так: пока что со мной. Кстати, если убивая меня они снесут мне голову, к Павлу буду являться как всадник без головы или черный дембель из «ДМБ» — с собственной башкой подмышкой. Или в «ДМБ» она была на блюде?
Мама, помнится, посмотрела этот фильм и сказала: «Какой кошмар! Как низко пали…» Ну и что-то там в том же роде продолжила. А мне кино понравилось, смешное. Я его иногда тайком от мамы пересматриваю. Она же смотрит только что-то вроде Кустурицы или Формана. Из «попсы» только Тарантино. И то — слава богу.
Фантастические сны, в которых я обращаю все в золото одним только прикосновением, мне сниться перестают. Зато все чаще ночью мне является Роман Федорович Унгерн. Во сне естественно, я все-таки еще не выжила из ума, чтобы наяву подобное видеть. Сны очень похожи. Барон молчит, изредка оглаживает свою клиновидную рыжеватую бородку и смотрит на меня. Пристально, очень серьезно. Он сидит в позе лотоса прямо на письменном столе. Справа — чернильница, слева какие-то толстые замурзанные книги. Одет он в монгольский халат. К нему пришиты погоны, приколоты ордена — Георгиевский крест, ещё какие-то. Выглядит это как минимум чудно, но я знаю, что именно так он в последние годы своей жизни и одевался. Говорил: бойцам моей Азиатской дивизии приятно видеть, что командир носит их национальную одежду.
Удивительная все-таки судьба у этого человека! Европеец до мозга костей, потомок рыцарей, которые некогда ходили в Крестовые походы во имя веры христианской, он заявил о себе, как о буддисте в третьем поколении и всеми силами стремился целиком окунуться в жизнь и верования Востока. В августе 1913-го барон даже решился на откровенную эскападу: вышел в отставку и уехал в Западную Монголию, где действовали отряды легендарного разбойника и странствующего монаха, знатока тантрической магии Тибета Джа-ламы. Под его освященными ритуальной человеческой кровью знаменами Унгерн сражался с войсками китайской республиканской армии за город Кобдо.
Лишь через полгода он вернулся на родину и вновь поступил на службу в русскую армию. Но и здесь не перестал пропагандировать свои идеи. Унгерн мечтал организовать свой «крестовый поход». Но на этот раз против Запада, который барон считал источником революций. И деяние это должно было свершиться силами «жёлтых», азиатских, народов, не утративших, подобно народам белым, своих вековых устоев. Унгерн был убежден: только после утверждения на всем Евразийском континенте «жёлтой» культуры и «жёлтой» веры — а именно буддизма ламаистского толка, удастся духовно обновить Старый Свет.
Проводником «желтой» идеи на Запад по замыслу Унгерна должна была стать вновь созданная держава, в которой объединятся все кочевники Востока — от берегов Индийского и Тихого океанов до Казани и Астрахани. Сердцем будущей супер-державы должна была стать Монголия, опорой и «центром тяжести» — Китай, правящей династией — великая династия Цинь, которая была отстранена от власти в результате Синьхайской революции 1911-1913-го годов.
Собственно, ради того, чтобы породниться с будущими правителями задуманной им державы, Унгерн и женился на своей манчжурской принцессе…
Бред буйнопомешанного? Как ни странно — нет. Совсем уж фантастическими эти проекты Унгерна с точки зрения мировой геополитики не являлись: после того как в ходе революций и войн практически одновременно рухнули Китайская и Российская империи, ситуация на Востоке стала такова, что здесь можно было реализовать самые невероятные геополитические прожекты.
В одном только Унгерн ошибся совершенно. Идея его была хороша, вот только реализовывать ее по большому счету было некому. Ни монголы, ни другие «желтые» народы становиться спасителями «прогнившего Запада» не желали. Даже в среде военной и политической элиты Востока идеи Унгерна о воссоздании империи Чингисхана и воцарении буддизма во всей Европе не встретили по сути дела никакой поддержки. Не удивительно: идея барона была доктриной, которую придумал человек белой расы и с целью глобального возвышения именно её представителей.
По всей видимости эту несправедливость в отношении себя чувствовали даже безмерно преданные Унгерну бойцы его Туземной дивизии. Они уважали его, они его боялись, искренне считая барона живым воплощением бога войны, но идти под знаменами его идеи дальше, они не хотели. И скоро показали это барону более чем наглядно.
После того, как Красная армия, к которой присоединились революционные монгольские части, разбив отряды белых, занимает Ургу и другие важные пункты на территории Северной Монголии, Унгерн решает уйти в Тибет. Это место для барона — сакральное. Здесь хранятся тайные знания древних, здесь прячется мистическая и легендарная Шамбала, здесь под тибетскими горами в «подземном королевстве» Агарти живут древние маги, которые из своих пещер незаметно, но совершенно реально правят миром. Но Унгерн — человек дела, а не мечтатель. Искать Шамбалу или входы в Агарти он не собирается. Его цель — вместе со своим войском поступить на службу к Далай-Ламе.
Однако, как выясняется вскоре, никто из его сподвижников следовать за ним не желает. Вспыхивает заговор, организованный группой офицеров Азиатской дивизии.
Унгерну удается спастись, но власть над своими полками он теряет. Барон в сопровождении немногих верных ему монголов уходит в степи. Но дни его уже сочтены. Те самые телохранители-монголы, в преданности которых барон не сомневался ни минуты, нападают на него. Они не решаются поднять руку на своего бога войны — «Цаган-Бурхана». Убить живое божество — слишком страшно. Ведь он может потом вернуться и отомстить. Так что монголы просто обезоруживают Унгерна, крепко вяжут по рукам и ногам, отдают поклоны и уносятся в степь, оставив беспомощного барона в юрте. Он мог бы умереть от голода и жажды. Но судьба распорядилась иначе. 22 августа Унгерна обнаруживает красный разъезд. Думаю, когда красноармейцы убедились в том, что перед ними действительно неуловимый дьявол, бог войны, властитель Даурии и монгольский диктатор, благословенный тибетским Далай-Ламой, революционные солдаты мягко говоря обалдели. Поверить в такое действительно было нелегко. Унгерна доставили в штаб советского Экспедиционного корпуса, а затем перевезли на российскую территорию. Путь мятежного барона закончился в тогдашней столице Сибири — городе Новониколаевске. Здесь, при огромном стечении народа, 15 сентября 1921 года состоялся суд. Барон был признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорён к смерти. Вечером того же дня расстрельный взвод привел приговор в исполнение…
Но не зря на древнем гербе его рода было начертано: «Звезда их не знает заката». Имя барона не забыто.
А жаль.
Если бы не эта долгая народная память, сидела бы я сейчас себе за своим рабочим столом в институте и размышляла лишь о том, чего бы вечером купить к ужину… Если бы мне повезло, очень сильно повезло, после работы меня бы встретил Федор… Впрочем, о чем это я? Ведь только из-за проклятого барона мы и познакомились, его имя нас и свело. Если бы не Унгерн и его мифические клады, никак, никоим образом я бы не познакомилась ни с Федькой, ни с его друзьями.
Странная штука — судьба. Барон, кстати, был известен своим фатализмом. Его нерушимая вера в предначертанность, неизменную предопределенность судьбы и делала его безбашенным смельчаком. Смысл бояться, если все равно произойдет то, что должно произойти? Смысл прятаться и беречься, если тебе прописано судьбой в этот раз быть убитым? Или напротив остаться без единой царапины, хоть прямо на пулемет иди?
А вот интересно я сама — фаталист? Или нет? Судя по тому, как я веду себя последние дни — точно фаталист. Только приверженец идеи Фатума может с таким спокойствием день за днем рыть себе могилу…
* * *
Счет времени я потеряла. Сначала была в таком состоянии, что о том, чтобы хоть засечки какие-нибудь делать, и мыслей не было. А потом уж и смысла не осталось — все равно ничего уже не сосчитаешь. Каждый новый день ничем не отличается от предыдущего. Гюнтер сидит читает или болтает с кем-то по телефону. Мы горбатимся в подвале. Один только Фонарь изредка выбирается на улицу — в основном за продуктами.
Редкий случай: немцу — хорошо, а русским как-то не очень. Меня же в расчет никто вообще не берет — ни русские, ни немцы… Трупы, как известно, вполне интернациональны. Хотя бы потому, что червякам все равно кого жрать — немца или русского.
Дни идут, и неизбежно наступает момент, когда лопата Оспы скребет по камню… Вскоре становится понятно, что это фундамент дома. Видимо того самого, к которому мы стремились все это время. Оспа на пару с Фонарем ставят последние столбы и укрепляют потолок вырытого нами прохода. Вниз спускается даже Гюнтер.
— И что теперь? — спрашиваю я его, пряча за наигранной бодростью дикий страх.
Я как увидела каменную кладку, которую планомерно расчищал Оспа, у меня сердце куда-то прыгнуло, и там сжалось. Даже больно в груди стало. Каждый камешек этой самой чертовой кладки выглядит для меня так, словно на всех на них имеется четкая надпись: «Анна Унгерн. Родилась 1 апреля 1981. Умерла какого-то там июня (или уже июля?) 2012. Покойся с миром».
Гюнтер же, глядя на открывшуюся стену, улыбается во весь рот.
— Теперь нам просто понадобится немного вашей крови.
— А с чего вы взяли, что схрон вот точнехонько здесь?
— Такой уверенности нет, так что придется еще немного покопать. Думаю левее. Если расчеты верны, мы должны были выйти как раз где-то возле левого угла здания, обращенного в сторону улицы. Судя по письмам, свой тайник барон устроил как раз в этом углу… Как только станет ясно, что мы в нужном месте… Ну, вы все понимаете, фройляйн Унгерн.
Значит у меня еще пара, от силы тройка дней… Может кинуться на него с ножом? Ведь выдают его мне на время готовки. Вот буду сегодня сидеть, чистить картошку и можно попробовать. Терять-то все равно нечего. Но Оспа — действительно прекрасно подготовленный профессионал.
Просчитывает ситуацию он на раз. Если раньше я была смирной, потому как все ещё думала, что время у меня есть и быть может меня найдут и спасут, то теперь надеяться мне не на что. А раз так — могу дел наделать. Короче говоря, больше меня к столовым приборам не подпускают. И вообще следят за мной куда пристальней, чем раньше. Думаю, для того, чтобы я из вредности, чтобы хоть как-то насолить своим мучителям, руки на себя не наложила и не лишила бы их источника своей «фамильной» крови.
* * *
Проходят два дня и наконец в моей каморке появляется Оспа. В руке у него жгут и шприц. Кошкой отпрыгиваю от него в дальний угол. Он только смеется.
— Не суетись. В случае чего просто отключу тебя и все равно крови твоей попью.
Опять смеется. Уже не моим прыжкам, а своей вампирской шуточке.
— Да и вообще, рано тебе суетится. Убивать я тебя прямо сейчас не стану. Вдруг да опять какая-нибудь лажа выйдет? Я же не этот немецкий идиот, чтобы сначала убивать, а уж потом думать. Так что давай, садись и ручку мне свою протяни.
Но просто я ему все равно не даюсь. Царапаюсь, лягаюсь, норовлю укусить. Однако справляется он со мной быстро. Так, как Павел некоторое время назад. Ухватывает меня половчее, чтобы я до него зубами не добралась, потом нажимает на какую-то точку на шее — и привет. Да что же это такое? Зачем их всех учат такому? Почему мы люди так ловко осваиваем убийства и всякие там калечащие методы, вместо того чтобы научиться вот так же одним нажатием лечить, например, рак? Ну ладно, не рак. Но хоть бы несварение желудка что ли… Так ведь нет! Легко только гадости можем делать: нажал как на кнопку и имеет безгласное и покорное тело на руках. Хоть милосердно — мог бы ведь просто по башке дать…
Прихожу в себя, когда он свое черное дело уже сделал. Жгут смотан, шприца не видно. Небось в карман спрятал. Сам сидит и придерживает мою руку в согнутом состоянии, чтобы ватка не выпала и кровь из проколотой вены быстрее остановилась. Заботливый какой. Но вторая его рука тут же доказывает мне, что всей его заботливости — грош цена. Этот подлец самозабвенно лапает меня за грудь и в штанах у него при этом все так и топорщится! Шиплю:
— Убери лапы, урод.
Улыбается иронично, но руку все-таки убирает. И даже выдает что-то вроде извинения.
— Ты, фройляйн Унгерн, не обижайся. Давно тут как сычи сидим. Без бабы уж не знамо сколько обходиться приходится. Мы ведь с тобой по-человечески? По-человечески. Со всем уважением. А могли бы трахать в хвост и в гриву…
— Спасибо.
— Да не за что. Обращайся, если что. Я — завсегда готов.
Демонстративно оглаживает свой пах. Потом встает и уходит. Сука. Кожа, где он прикасался, даже мурашками покрылась от отвращения. Но следует признать, что он прав. Ни он, ни его «подельники» и правда ни разу не посягнули на мою «девичью честь», а ведь действительно могли бы… Поначалу я этого очень боялась. Но потом как-то успокоилась. Подумала, что я, как потенциальный труп, их просто не возбуждаю. А оказалось, что цела до сих пор по причине их повышенной мужской порядочности. Оказывается бывает и такое. У Ильфа и Петрова был стеснительный воришка, а тут нравственные убийцы.
Оспа возвращается. Уже без жгута и видимо без шприца.
— Велено тебя доставить. Пойдем, посмотришь хоть на золотишко.
Не хочу я на него смотреть, но выбора у меня нет.
Спускаемся в подвал. Здесь уже и Фонарь и, естественно Гюнтер. Яркая, стоваттная лампочка, свисающая с потолка, дает возможность рассмотреть широкий проем у кладки, разрытый Оспой в последние дни. Теперь видно, что это действительно угол здания. Немчик заметно нервничает. Рука его с зажатым в ней шприцем дрожит. Вот он делает от угла дома широкий шаг, отмеряя приблизительно метр, потом останавливается, поворачивается к стене и снимает с иглы колпачок… Струйка моей крови под давлением поршня весело орошает старые грязные камни. Тишина повисает такая, что я отчетливо слышу дыхание стоящего рядом Оспы.
Ничего не происходит.
— Может быть все-таки проход в схрон только с одной стороны… — начинаю я, но в этот момент кладка перед моими глазами как-то мутнеет, словно зрение у меня резко расфокусируется. Я встряхиваю головой и вижу, что теперь в камнях явственно проступает контур двери…
Немчик переводит дыхание так отчаянно, что у него изо рта даже брызги летят. Он подносит ладонь к краю проема и толкает… Ничего. Быстро взглядывает на нас. Толкает с другой стороны — дверь ведь может открываться как слева, так и справа.
— Отойди, блин!
Оспа решительно отстраняет немчика и пихает вплотную к двери меня.
— Давай ты, фройляйн Унгерн, попробуй.
Толкаю и сразу чувствую, как кладка под моей ладонью поддается…
— Едрить тя в рот! — выдает потрясенно Оспа. — Ну? Чего ждешь? Толкай дальше!
Я и толкаю. Каменная дверь открывается чуть шире, потом еще… А потом нашему взору открывается довольно просторное помещение.
Пустое.
Немая сцена, которую талантливо, уже не первый век играют на сцене многочисленных театров в конце гоголевского «Ревизора» — ничто по сравнению с той, что приключается в наших рядах тут же, в подземном коридоре, рядом с разграбленным схроном барона Унгерна.
Зато потом… Потом пространство вокруг меня внезапно наполняется диким ревом и грохотом, разрывающим барабанные перепонки, и в тот же миг я слепну от ярчайшей вспышки. Это потом мне объяснят, что сработала свето-шумовая граната под названием «Заря» (интересно о чем думал ее создатель, придумывая это романическое и отчасти революционное название своему адскому изобретению?). Но там, в подкопе, я этого еще не знаю, и в тот момент, когда она взрывается, мне кажется, что наступил конец. Всем нам. Что сработала какая-то бомба, заложенная теми, кто побывал в схроне Унгерна до нас. Что сейчас всех нас посечет осколками, а обвалившийся потолок подземного хода погребет наши тела под толщей земли. Но вместо этого чувствую, что меня, слепую и полностью оглохшую, куда-то энергично волокут. Видимо на улицу. Потому что, когда зрение возвращается ко мне, я обнаруживаю себя стоящей посреди незнакомого мне двора.
Подозреваю, что это двор того самого дома, где меня держали все это время, но я ведь его никогда толком не видела…
Квадратный мужик в бронежилете и шлеме (мечты сбываются!) что-то спрашивает меня, но я ничегошеньки не слышу. Улыбаюсь неуверенно и указываю ему на свои уши. Он смеется и машет рукой. А потом неожиданно треплет меня по спутанной шевелюре. Федька? Нет, не он. Но этот — тоже свой, почти родной, спаситель. Он усаживает меня на лавочку рядом с колодцем, и убегает назад в дом. Через несколько минут вижу, как из дверей такие же ребята в черных брониках и шлемах выводят немчика и Фонаря. Оспу несут следом. И по тому, как его несут, понимаю, что он мертв…
Не смог он просто сдаться. Да еще тем, кого считал ниже себя по мастерству. Мужские понты… Пожимаю плечами и отворачиваюсь. Сил смотреть на него у меня нет.
Когда освободившие меня ребята поднимают забрала на своих шлемах, принимаюсь искать среди них знакомые лица. Но их нет. Потом понимаю почему — это местный спецназ, из Читы.
Дорогой, когда слух ко мне отчасти возвращается, мне объясняют:
— Лезли сюда ваши москвичи, но наше начальство добро им не дало. Сказало: наша операция.
— А как узнали, где искать-то меня?
— Так у тебя на шее радиомаяк.
Улыбаюсь недоверчиво.
— Ты что ж не знала? Ну даешь. В кулоне на шее. Зона покрытия у него правда небольшая, так что пришлось побегать. Но потом запеленговали четко.
То-то Федька сказал тогда — если он у тебя останется, мне спокойнее будет… Позвонить! Мне срочно надо позвонить. Прошу мобильник у парня, который сидит рядом со мной, развлекая разговорами. Мнется.
— Ты ж, небось, в Москву звонить будешь? Значит по межгороду. А у меня на счету денег — раз, два и обчелся. У нас-то тут люди живут не так, как вы там в столице.
Морщусь. Уж это мне отношение к москвичам. И почему все так уверены, что мы в золоте буквально купаемся? Кстати о золоте! Взглянуть бы хоть полглазиком на все то богачество, из-за которого меня чуть жизни не лишили. Спрашиваю. Парень смотрит удивленно.
— Так там же пусто было…
Вот те на! Я-то думала, что это полицейские до схрона добрались каким-то образом, а оказывается — ничего подобного. Уплыло золотишко. Правду говорят — заговоренное, в руки не дается…
Глава 9
Меня везут в Читу, для начала в какую-то больничку. Здесь мне дают возможность принять душ — надо полагать несет от меня знатно после стольких-то дней. После врачебный осмотр. Тем временем сердобольные сестрички находят мне какую-то одежку. Объясняют, что она из забытых выписавшимися больными вещей. Вид у нее соответственный. Зато все это — и штаны в обтягон (типа леггинсов) и большая мужская рубашка в клеточку — чистое. Не то что мое — вывоженное глиной и пропахшее потом. Только кроссовки на ногах остаются те же.
В больничных тапочках по улице разгуливать — это уж слишком.
Позвонить в Москву по-прежнему не удается. Вот ведь тоже проблема! Были бы у меня деньги, заплатила бы, а так ведь ни копья. Ни документов, ни денег, только вещи с чужого плеча. Красота!
После больницы меня все тем же способом — в полицейском газике, переправляют в какое-то другое, куда более солидное по сравнению с больницей здание. Вскоре понимаю, что это полицейское управление. Или как оно теперь после переименования милиционеров в полицейские называется?
Здесь с меня снимают допрос по всей форме и наконец-то дают позвонить. Какая жалось, что я до такой степени не дружу с цифрами! Больше всего хочется позвонить Федьке, но я, как ни стараюсь, не могу вспомнить его номер, которым и пользовалась-то всего от силы пару раз. Так что звоню маме.
— Анна! Анна, с тобой все в порядке?
— Да, мам, все хорошо.
— Ты где, дорогая моя?
— Мам, я в Чите.
— Это я знаю, мне так и сказали, но где именно?
— В полиции. Вот дали позвонить…
— Ты… Ты здорова?
— Да, мам, со мной нормально обращались. Я… Я потом все расскажу. Не по телефону.
— Да, да конечно. Ты… Тебя в Москву когда отпустят?
Этого я не знаю, о чем и сообщаю обеспокоенной родительнице. Вообще не знаю, как со мной дальше будут поступать. Отправят поездом за госсчет? По этапу? Денег-то на билет у меня нету. И на еду нету, и на гостиницу… И паспорта нет… Получается, что я — натуральный БОМЖ?
Делюсь своими проблемами с пожилым полицейским, которого приставили ко мне в качестве няньки — чаем поить и нервы мне успокаивать, пока остальные более серьезные проблемы решают.
— Да вы не волнуйтесь! На счет паспорта — справочку вам временную выдадим. Это дело нехитрое. А потом домой вернетесь, заявите об утере. Или, может, найдется еще. Он у вас в сумочке был?
— Нет, дома.
— Ну так вообще нечего переживать!
— Но как же я до Москвы-то доберусь? Без копейки денег?
— Так заберут вас в лучшем виде. Звонили. Сказали, что человек уже вылетел.
Сердце сбивается с ритма. Федор? Сама себя обрываю: да не он! Он же наверно еще в больнице. Но оказывается все равно в глубине души надеюсь. Потому как испытываю глубочайшее разочарование, когда вижу перед собой Стрельцова.
— Здорово, подруга. Прикольно выглядишь! Где прикид такой рванула?
— Где-где… В Караганде!
— Крутое местечко, должно быть. Готова отправляться домой? Тебя уж там заждались.
Он забирает меня из полиции и первым делом ведет в ближайший торговый центр, где, несмотря на мое вялое сопротивление, покупает мне белье, джинсы, футболку и новые кроссовки. Все надетое на мне до этого тут же отправляется в помойку. Потом он критически оглядывает мою голову и стремительно тащит меня в парикмахерскую. Дородная мастерица только презрительно губы оттопыривает?
— Вы, девушка, чем голову бжддааа моете?
Чем-чем? Чем было, тем и мыла. А было в той больничке только мыло отечественного производства с земляничным запахом. Хорошо хоть не хозяйственное…
Но настоящий шок ждет маникюршу.
— Вы что землю ногтями рыли? Киваю смирно. Ведь правда рыла.
— Ну совсем женщины с ума с этими дачами посходили! Руки-то беречь надо, руки — это ваше лицо (никогда бы не подумала!), а вам даже перчатки садовые лень надеть.
Честно сообщаю ей, что мне такой вариант просто не предлагали, а то бы я обязательно согласилась. После парикмахерской Стрельцов оглядывает меня критически и удовлетворенно кивает.
— Ну вот, хоть на человека похожа стала. Так хоть есть гарантия, что тебя с твоей бомжацкой справкой вместо паспорта в самолет пустят.
Он оказывается прав. В самолет нас действительно пускают. Дорогой Егор рассказывает мне о том, что Ксюхина бабушка все ещё в Москве. Шарль улетел — у него дела, а она осталась. Сказала: «Пока Аню не найдете, буду вам лично мозги компостировать и на совесть давить». Федя уже не в больнице, а дома. Сильно хромает и ходит пока что опираясь на палочку.
— Хорошо хоть нога левая. Машину водить может без проблем. Коробка-то, слава богу, автоматическая…
Еще сообщает, что моя «сумасшедшая мамаша» (так и говорит) всех затерроризировала настолько, что люди вздрагивают, когда звонит телефон.
— Ты ее, Ань, уйми. Ты к ней привычная, а нормальные люди в депрессию впадают.
Я может тоже впадаю, да только кого это интересует? В аэропорту на парковке нас ждет его машина, так что через час я уже оказываюсь возле своего дома. Прощаемся. Он уезжает, и только тут я соображаю, что забыла спросить у него Федин телефон. Мой-то мобильник пропал вместе с сумочкой. А с ним — и все номера канули в лету…
Может мама даст мне немного денег, чтобы я могла купить себе какой-нибудь дешевый аппарат? Симку-то мне бесплатно новую выдадут, но ее ведь еще куда-то вставить надо…
Мама то плачет, то смеется, то принимается поить меня чаем по двадцатому разу. Потом вдруг спохватывается:
— Ты же устала, наверно, очень…
Да, правда, чувствую себя совершенно разбитой. Но прежде чем забраться в свою такую уютную, такую привычную, такую родную кровать, все-таки заставляю себя сходить в ванну.
Смыть с себя все — подвал, читинскую больницу и читинскую же парикмахерскую, самолет и мамины слезы.
* * *
Утром встаю по будильнику. Надо на работу, но как представлю себе, во что превратится мой первый рабочий день, так тошно становится. Работа института просто встанет! Каждый придет ко мне, чтобы задать одни и те же вопросы. Но что делать? Вариантов-то нет… Хорошо, хоть во втором моем институте студенты уже на каникулы разбежались. Теперь мне там до сентября по идее можно не появляться.
Беру у мамы в долг на телефон. В обеденный перерыв схожу куплю себе аппарат и получу новую симку. Но едва появляюсь в институте, как мне на рабочий номер звонит следователь.
Вежливо, но очень настойчиво он вызывает меня на допрос — мол, начальник ваш уже в курсе, согласие дал.
Приезжаю. Заново пересказываю все то, что уже имела честь сообщить господам полицейским в Чите. Как-то между делом узнаю, что мой сводный брат Гюнтер Унгерн покончил с собой. Прислушиваюсь к себе, пытаясь почувствовать в связи с этим хоть что-то, но нет — ничего. Странно, но из всей троицы моих похитителей в живых теперь остался только молчаливый Фонарь. Правду говорят — молчание золото… Хотя ведь есть еще Павел. Тот самый человек, которому я собиралась мстить даже с того света. Спрашиваю о нем. Мой визави кивает и принимается листать толстенное дело, что лежит перед ним.
Если оно такое уже сейчас, когда все только началось, каким же оно станет после окончания следствия?
Из подколотого файла следователь достает фотографию.
— Он?
Киваю. Хотя тут Павел много моложе, узнать его не трудно — то же улыбчивое и открытое лицо. На голове краповый берет.
— Павел Михайлович Коротченко. Бывший спецназовец. Вышел в отставку по состоянию здоровья. Хотя на самом деле турнули, просто решили это сделать по-тихому, не вынося сор из избы. Зато права ношения крапового берета лишили…
Вот как. То-то он так взбеленился, когда я его про такую перспективу спрашивать стала.
— Ну что ещё о нем? Ищем. В федеральный розыск объявлен.
На выходе из полицейского участка (или все-таки отделения?) вижу картину, к которой мне, по всей видимости, уже пора начать привыкать: все та же девица, на этот раз одетая в полицейскую форму, которая обтягивает ее совсем не по-уставному, обнимает моего Федю. За член она его, правда, не хватает, вокруг слишком людно, зато целует с увлечением. И не могу сказать, что он этим фактом сильно возмущен! Однако я уже так давно хотела его увидеть, что даже висящая у него на шее дама не может мне испортить момент встречи.
Подхожу и решительно дергаю его за рукав. Оборачивается. И тут же, в одно мгновение, разом делается густо-малиновым. Даже не предполагала, что взрослые мужики способны так краснеть.
— Ань, я…
Девица меряет меня ироничным, самоуверенным взглядом и, чмокнув Федьку на прощание в щеку, идет прочь. При этом походка ее такова, что какой-то мужичок, заглядевшись, спотыкается и чуть не падает.
— Ань…
Поворачиваюсь к этому коту блудливому (предупреждали ведь меня, что гуляет он исключительно сам по себе!), вынимаю из сумки носовой платок, решительно вытираю ему физиономию, перепачканную красной вампирской помадой «прицесски», а потом целую его сама. Всерьез, без шуток. А что такое? Если всем остальным можно, почему же мне одной нельзя?
По-моему у него шок. Стоит прямой и деревянный, как палка, на которую опирается. Отстраняюсь. Повторяю свой маневр с платком. Ну вот! Теперь готов к следующему использованию.
ПрЭлЭстно. Разворачиваюсь и ухожу.
— Ань!
Торопливо хромает следом.
— Ань, погоди. Постой, пожалуйста. Ань!
Но я только ускоряю шаги, а потом и вовсе запрыгиваю в троллейбус. Он остается стоять на тротуаре. Растерянный и одинокий. Ну и черт с ним! Из-за него вот теперь еду неизвестно куда. Даже на номер этого проклятого троллейбуса и то не взглянула!
В итоге телефон себе так и не покупаю. И пусть! Мама, если захочет, вполне может мне на работу позвонить. А никто другой зато меня тревожить не станет. То есть это я так думаю. На деле же все заканчивается тем, что на следующий же день на выходе с работы попадаю в теплые, но непримиримые объятия Ксении. Я и забыла, что она звонить не любит, зато приехать и подкараулить для нее — раз плюнуть.
— Ты куда пропала-то? По домашнему тебя мама к телефону звать отказывается (Вот это новость!), мобильный — вне зоны доступа, а на работе тебя просто не поймать. То вышла, то еще не вошла, блин. Садись давай!
Понимаю, что спорить с ней — себе дороже. Сажусь. Дорогой все-таки заезжаем за мобильным телефоном и симкой.
— Мама ведь будет волноваться, — ерничая говорит при этом Ксения.
Еще через час мы уже входим в дом Ванцетти. Здесь Серджо, Виктория Прокопьевна и Викуся, которая бодро осваивает просторы детского манежа. Еще через полчаса подтягивается Стрельцов с Машкой. А потом прибывает и Федор.
Посматривает на меня воровато. Зато по крайней мере физиономия не в помаде. Уже достижение!
Звонит мама. Телефон новый и на нем, слава богу, нет той дурацкой мелодии.
— Телефон купила?
— Наверно да, раз ты разговариваешь со мной.
Выпад игнорирует. Верный признак — очень сильно озабочена чем-то другим.
— Анна! Мне только что звонил из Германии адвокат. Сказал, что занимается наследственным делом твоего отца и твоего сводного брата. Просил тебя связаться с ним.
— Зачем?
— Ну как зачем? Наверно теперь ты единственная наследница. Короче говоря, запиши телефон и обязательно, после того как переговоришь с ним, набери мне.
Мама бодра и, судя по всему, полна самых блистательных надежд, а мне почему-то становится тошно. Не нужно мне это наследство, каким бы оно не было. Уж больно тяжелое оно и досталось так, что никому не пожелаешь… Так что адвокату этому звонить не собираюсь. Но он проявляется сам. Упускаю из виду, что мама наверняка продиктовала ему мой номер. И зачем я только купила себе новый мобильник?
Он представляется как герр Вебер и принимается обстоятельно докладывать мне, по какому поводу звонит. Все так, как и думала мама: жена моего отца, мать Γюнтера умерла уже давно. Теперь на тот свет по очереди отправились мой отец и мой сводный брат. Кроме меня наследников нет. Так что теперь, ну, конечно, после того, как я должным образом оформлю все документы, в моем распоряжении окажется квартира в Берлине, две машины и счет в банке.
— Не могу сказать, что очень весомый. За последнее время герр Унгерн, ваш брат, его довольно сильно опустошил, но все же…
Понимаю, что если откажусь, мама мне этого не простит никогда. Мы долгие годы жили бедно, как церковные мыши, так что все перечисленное адвокатом для нас — просто дар небес. Одно «но»: для того, чтобы оформить бумаги, придется ехать в Германию, а денег на это у нас просто нет… Значит нужно будет брать кредит… Эх!
Возвращаюсь в гостиную. Федор тут же отводит глаза. Зато Виктория Прокопьевна сияет мне навстречу улыбкой.
— Опять мама? Она нас тут всех буквально затерроризировала.
Не имея возможности позвонить тебе, звонила всем по очереди. Егор ей с дуру свой телефон и телефон Ксении дал.
Киваю:
— Да, это мама. Но и не только. На меня внезапно наследство упало. От моих немецких родственников.
— Так ты что же теперь мало того что доктор наук и профессор, так ещё и богатая наследница?
Опять киваю, неловко улыбаясь.
— Пропала девка! Теперь вокруг тебя одно дерьмо будет.
— В каком смысле?
— А в таком. Ни один «нормальный» (она выделяет иронию, которую вкладывает в это слово, интонацией) мужик к тебе подступиться не рискнет — куда ж, если у жены мозгов столько, что до профессорства достукалась. Зато всякие альфонсики валом валить будут. Им наличие или отсутствие у тебя мозгов — без разницы, зато денежки очень даже к месту придутся. А ты у нас девица неопытная. Сразу попадешься такому вот козлу.
— Бабушка, ну что ты такое говоришь? — почти шипит Ксения, указывая глазами на Федора, который с каменным лицом отвернулся куда-то в угол.
Но Виктория Прокопьевна предпочитает ее знаки не замечать.
— Так что придется тебя взять под мое крылышко. Буду лично фильтровать всех тех, кто возле тебя вертеться станет.
— Некому вертеться-то, Виктория Прокопьевна.
— Это пока что некому. Я тобой займусь, так и знай. А то ходишь черт знает в чем. Лицо такое, как будто лимонов килограмм съела. Не-ет! Так дальше дело не пойдет! Завтра же поедем в магазин, накупим тебе разной бабской ерунды, к парикмахеру тебя своему свожу. Ну а потом… Есть у меня на примете один молодой и успешный мужчина. Всего сорок, а уже полковник. И не как наш Федя, кулаками по подворотням не машет, а сидит в штабе на отличной перспективной должности. Он для тебя будет достойным кавалером. И по социальному статусу и вообще. А не понравится — другого найдем.
Федор, который с непроницаемым лицом слушает все это сообщение, явно пущенное подобно камню из пращи в его адрес, молча встает и выходит вон. Палка его остается стоять, прислоненная к подлокотнику кресла. Но при этом он, видимо, пребывает в таком бешенстве, что даже почти не хромает.
— Бабушка, — уже в голос кричит Ксения и начинает вставать, норовя мчаться за Федором. Причем я готова бежать впереди нее.
— А ну сидеть! — рявкает Виктория Прокопьевна, и мы с Ксюхой припадаем на задние лапы как собаки на тренировочной площадке. Разве что испуганно хвостиками не крутим. По причине отсутствия.
— Куда помчались, козочки вы мои безмозглые? Догонять и утешать? Ничего глупее придумать не могли?
— Но ведь…
— Сергей, вот объясните вашей жене, надо ей догонять Федора и приниматься утешать его? Правильно это будет?
Серджо встает и, загадочно улыбаясь, удаляется куда-то вглубь дома. Стрельцов явно хочет того же, но просто уйти следом, видно, воспитание не позволяет. Бабушка провожает Серджо благосклонным взглядом.
— Исключительно умный человек твой муж. Даром, что иностранец.
Теперь Виктория Прокопьевна переводит взгляд на Егора.
— Иди уж. Дамам и правда надо поговорить наедине. Так, чтобы не ранить нежные мужские души.
Стрельцов вскакивает и трусцой бежит в том же направлении, куда удалился Серджо. В дверях поворачивается, отвешивает поясной поклон и исчезает.
— Фигляр, — по-прежнему благосклонно улыбаясь заключает Ксюхина бабушка.
— И все-таки Федьку жалко, — говорит притихшая Маша.
— Жалко ей. Нечего было этому вашему Федьке себе в голову глупости всякие вбивать. А теперь ещё и это наследство. Вот, Ань, ну кто тебя за язык-то тянул? Неужели не могла потом как-нибудь, уже после свадьбы про него рассказать? И так у этого дуралея в голове смещения и разрушения, а тут ещё и это — богатая наследница, черт побери!
— Не подумала.
— Не под-у-у-мала!
Взрываюсь:
— Да мне этот ваш Федор сто лет не нужен. Я ещё его нежные чувства беречь должна! Я там в подвале сидела, а он тут с девками… Вот скажи, Ксень, тебе был бы нужен мужик, на котором девки как шарики на новогодней елке висят? Пошла б ты за своего Серджо, если бы на него чуть что с поцелуями со всех сторон кидались?
— Ну, на Серегу и сейчас кидаются. Приходится обтрясать периодически. Я думала об этом, Ань. И пришла к выводу, что мне мужик, на которого никто не зарится, и самой на фиг не нужен. Вот если за него драться готовы, а он только твой — это кайф! Дуры мы, бабы, да, бабуль?
— Дуры вне всякого сомнения. Но ведь и мужики такие же.
— Только добытое в бою, во время охоты — значимо. То, что само на шею вешается не ценится. Так что действуем по плану. Конечно, никакого молодого и перспективного полковника у меня в кармане нет, врала я, но это — дело наживное.
Ксения вдруг придвигается ко мне и шепчет:
— Но вообще-то, Ань, Федька, когда ты пропала, ничего такого… Ну в смысле баб. Он знаешь, как переживал, что сам не может тебя спасать мчаться? В больнице же… Куда ему с такой ногой? Так изводился, смотреть больно было.
Если и так, то приходится признать: изводится он и переживает по моему поводу только тогда, когда меня рядом нет. Как только я оказываюсь поблизости, он эти свои переживания до изумления успешно скрывает. Например, при помощи той девицы, что шарила у него под простыней…
Утром встаю ни свет, ни заря. Надо на работу. Ксюха отвозит меня, по-моему не то что толком не проснувшись, но даже не открывая глаз. Такой ранний подъем для нее — смерти подобен. Но выбора у нее нет, сама меня вчера вывезла из Москвы практически насильно.
Сегодня у меня в планах начать готовить документы для получения шенгенской визы. Всегда мечтала побывать в Германии, даже паспорт заграничный сделала, но все как-то не складывалось. Да и деньги… А так, бывало, частенько представляла себе, как приеду в Берлин, найду, сверяясь по бумажке, адрес моего отца и возникну у него на пороге… Теперь вот если только на кладбище навестить.
Звонит мама и некоторое время воспитывает меня. Только отключаюсь, как телефон снова начинает названивать. Это Виктория Прокопьевна. Воспитательная порция, полученная от нее, куда более воздушна, но не менее калорийна. Обещает быть у меня возле института через час и забрать меня с собой в поход по магазинам.
— У меня нет денег, — пищу в отчаянии я.
— У меня займешь. Большой процент не возьму, не бойся.
— Но как же моя работа?..
— А что такое с твоей работой?
— Ну-у-у, — даже теряюсь от такого вопроса. — Ну-у-у. Она есть. Ее не может не быть.
— Конечно, если так… — туманно заявляет Виктория Прокопьевна и отключается.
Через пятнадцать минут к моему столу подруливает шеф. И почему-то заговаривает со мной таким угодливым тоном, словно я собираюсь оплатить из своего кармана всю работу нашего отдела на месяц вперед. Из его лепетанья понимаю, что Виктория Прокопьевна позвонила ему и отпросила меня от дальнейшего просиживания штанов в офисе.
— Подумать только, — закатывая глаза лепечет шеф. — Сама Виктория Соболева! Какая женщина! Какая женщина…
Соболева? Соболева… Что-то ведь знакомое. Пока есть время, лезу в интернет. И первой же мне выбрасывает ссылку на страницу в Википедии. Читаю. Убиться! Выходит меня скоро повезет за покупками вдова одного из крупнейших партийных чиновников советской поры и нынешняя маркиза де Ментенон?
«Мама умрет от зависти», — думаю я и в очередной раз ошибаюсь.
Когда я возвращаюсь, увешанная покупками, она сначала впадает в шок — сколько денег потрачено! А потом, по мере извлечения купленных мне Викторией де Ментенон вещей, шок проходит, и мама заявляет: все, что я приобрела, дикое дурновкусие. И кто тебе только посоветовал все это купить? Эти твои новые друзья? Так и знала, что моя дочь сама до такого никогда бы не опустилась. Анна, ты ведь должна понимать, что такое носят одни проститутки!
Платье, которым она сейчас трясет, стоит мою месячную зарплату вместе с надбавкой за звание доктора наук, так что даже высокооплачиваемая проститутка, мне кажется, вряд ли сможет позволить себе купить его. Молчу, любуюсь новыми вещами. Хороши! Нет, просто великолепны! У меня ничего подобного — смелого, легкого, французского — не было никогда. Так приятно будет почувствовать себя по-настоящему притягательной, даже немного развратной женщиной, на которую заглядываются на улице так, что даже падают. Как тот дядечка, который пялился на бедра «прицесски», что целовалась с Φедькой.
Это воспоминание все еще мучительно для меня, и я его решительно прогоняю. Хотя Виктория Прокопьевна сказала, что я тогда повела себя просто гениально. Лучше не придумаешь. А это, по ее мнению, значит, что я ещё не окончательно потеряна, и если надо мной немного поработать, из меня может выйти толк.
Вот и работаем. Сначала смущаюсь — Ксенина бабушка тратит на меня и время, и, главное, деньги. Но потом понимаю, что ей самой это все страшно нравится. Ксения пристроена, больше у Виктории Прокопьевны никого нет. А тут ей под руку подворачиваюсь я — каракатица и дуреха, да еще и несчастно влюбленная. Какой простор для творчества! Ничего не хочу сказать о ней плохого. Она чудесная и искренне увлечена своим новым творческим проектом под названием «Анна Унгерн», но иногда мне становится грустно. Слишком уж все у нее… технологично что ли? А как же чувства?
Спрашиваю ее как-то об этом. Она только всплескивает ухоженными руками.
— Ань, ну что городишь? Технологично — нет ли. Это нельзя противопоставлять. Тебе кажется, что как только возникает какая-то технология, то нет места честным и открытым чувствам? Это мнение чистого гуманитария. И женщины без должного опыта. Не обижайся. Это правда. И потом подумай-ка. Если эти самые технологии дадут тебе главное: бабника Федьку Кондратьева на блюдечке с голубой каемочкой и с цветочком в руке, разве это плохие технологии?
Смеюсь, представив себе огромного Кондратьева на блюдечке и с понурой ромашкой в лапище. Картина мне эта нравится, и я веселею. Виктория Прокопьевна тут же подмигивает. «Мы победим на этой барахолке!»
На работе в своих новых нарядах я произвожу фурор. В транспорте на меня действительно начинают заглядываться мужики. Вот только Федьки среди них как не было, так и нет. Обиделся он тогда круто. Даже за палкой своей позабытой так и не приехал. Ну и что мне в таком случае дает разработанная Викторией Прокопьевной технология, если Федор о ней ничего не знает и меня — нарядную и с новой прической, так и не видит? Уже начинаю подумывать о том, чтобы сложить свои новые платья и юбки в шкаф, до каких-нибудь лучших времен, которые когда-нибудь обязательно настанут, но Виктория Прокопьевна запрещает мне это категорически.
— Вот представь: ты снова влезешь в свои тряпки и по закону подлости в тот же момент встретишь Кондратьева. Ты ж на себе все волосы потом с досады выдерешь. Да и потом покупала я их тебе не на лучшие времена, а на сейчас. На лучшие времена ты себе сама потом купишь.
Из Германии приходит приглашение. Остальные документы у меня уже готовы, и вскоре в моем ещё ни разу не использованном заграничном паспорте появляется новенькая шенгенская виза. Смотрится она просто офигительно. Даже на фотографии в ней я себе нравлюсь, а это уж вообще редкий случай. Теперь остается купить билеты. Виктория Прокопьевна тут же рекомендует мне перевозчика: «Никаких Аэрофлотов дорогая. Только Люфтганза». А потом глаза ее внезапно начинают блестеть, и она заявляет, что давно не была в Берлине и с удовольствием навестит там друзей.
— В одиночестве мне лететь уже страшновато — стара я стала (Кокетка!), а с тобой мне будет просто здорово.
В итоге билеты на рейс до Берлина нам привозят прямо домой. В смысле в дом Ксюхи и Серджо. В аэропорт меня провожает мама. С некоторой неловкостью жду момента, когда мама столкнется с Викторией Прокопьевной. Сразу вижу, что Ксюшина бабушка на маму впечатление произвела. Да и как не произвести — шляпка, туфельки, летний костюм, все сдержанное, очень простое, но говорящее каждому — очень дорого, очень стильно. Виктория Прокопьевна появляется со свитой. И это не испещренный наколками Серждо с Ксенией в ее вечных джинсах. Это два генерала. Хотя нет, один, кажется генерал, а другой все-таки полковник.
Узнаю его. Тот самый полковник Приходченко — командир Федора. Он тоже узнает и меня, и маму.
— Ну привет, рыжая. Похорошела. Молодец. Только за Кондратьевым совсем не приглядываешь.
— А что? Пьет и с девками глупостями занимается?
— Сессию провалил, дубина.
— А где, кстати, молодой человек учится? — тут же встревает мама.
— В МГУ, на психологическом факультете.
Похоже мама обалдевает. Я, впрочем, тоже.
— Он у меня — лучший переговорщик.
— Это что значит?
Мама голливудских фильмов не смотрит, так что таких терминов не знает. Но полковник милостив и готов объяснить:
— Если преступник заложника захватывает и требуется убедить его отказаться от своих намерений, снизить накал страстей, выиграть время, начинает работать переговорщик. Забалтывает преступника, пытается выторговать какие-то уступки. У майора Кондратьева это прекрасно получается. Последний раз, когда такое было, он на себя всех детей и их мамаш в том банке чертовом сменял. Они вышли, а он туда, внутрь пошел. И уболтал-таки этого наркошу. Отпустил он всех и сам медикам сдался. Так что Кондратьеву психология нужна. А он, болван стоеросовый, сессию провалил. Из-за тебя, рыжая?
— Из-за себя.
Смотрит испытующе, задумчиво прикусив губу.
— Ну-ну. Тебе виднее. Только если ты просто по бабьей дурости хвостом крутишь — бросай. Он парень хороший. С ним так не надо поступать.
— Простите за прямоту, господин полковник, но кто вам дал право совать нос, куда не просят?
— Друг он мне.
Отворачивается и отходит. Но тут же попадает в цепкие лапки Виктории Прокопьевны. До самого отлета они прогуливаются под руку и беседуют. Почему-то уверена, что говорят обо мне и Федоре.
— Какая… стильная женщина, — с придыханием говорит мама. — Вот что значит порода, моя дорогая. То, о чем я всегда тебе говорила. Мы — совсем другой социальный слой.
Мне нравится это «мы»!
— Вообще-то госпожа Виктория Соболева, маркиза де Метенон (мама хватается за сердце и закатывает глаза) родилась в дремучей Сибирской деревеньке в семье местного плотника. У нее было пятеро братьев и сестер, но все они умерли во младенчестве — жили очень бедно, да и врачей вокруг не наблюдалось. Она — типичный образчик человека, который целиком сделал себя сам, мама. Порода и социальный статус семьи здесь совершенно не при чем. Лишь природный вкус, ум, упорство и желание всему научиться.
Маме нечего ответить. Пожалуй впервые в жизни.
Глава 10
Объявляют посадку на наш самолет. Я и раньше летала, но за границу всего один раз и, естественно, не первым классом.
Полный восторг!
В Берлине солнечно и жарко. На такси добираемся до гостиницы, которую забронировала для нас через интернет Ксюха. Уже из номера звоню в офис адвоката Вебера. Одну к нему меня Виктория Прокопьевна не отпускает. Так что опять такси до места. Адвокат приветствует меня легким поклоном, маркизе же целует ручку. Она усаживается, изящно скрестив безупречные щиколотки, и начинает забрасывать его вопросами. Заданы они совершенно светским тоном, но явственно дают понять, что дама в финансах и бизнесе разбирается получше некоторых мужчин.
Вскоре картина с моим наследством полностью ясна. Мне совершенно не нужны машины, которые остались от моего отца и брата, и адвокат предлагает свои услуги по их продаже. Не нужна мне и квартира — совершенно не знаю, что с ней делать. За нее же и платить что-то наверно надо? Квартплата, налоги… И в то же время продавать ее жаль. Фамильное гнездо все-таки. Даже если я сама выпала из этого гнезда практически сразу.
Виктория Прокопьевна и этот вопрос решает поразительно быстро. Вскоре я уже подписываю несложный контракт с адвокатской конторой все того же Вебера, которая обязуется следить за состоянием моей недвижимости, своевременно уплачивать коммунальные расходы и совершать прочие необходимые действия. Сумма, которую мне предстоит платить ежегодно за их услуги, кажется мне достаточно крупной, но Виктория Прокопьевна уверяет меня, что это на самом деле очень дешево.
— Зато у тебя будет свое гнездышко в Европе. Приедешь сюда в отпуск, разберешь все в квартире по своему вкусу… Подумай: своя собственная, отдельная квартира! Может когда-нибудь надумаешь переехать сюда жить. Писать твои научные труды в Берлине можно ничуть не хуже, чем в Москве. И мама редко звонить будет — звонок международный, дорого. Только за немца замуж не выходи. Они жуткие скопидомы. Хуже их только французы.
При этом она обворожительно улыбается Веберу, и тот, ничего не понимая, потому как говорит она по-русски, тоже радостно улыбается ей в ответ. Приходится отворачиваться, чтобы скрыть усмешку. Нам предстоит оформить еще кучу бумаг, чтобы недвижимость и деньги стали моими не только фактически, но и юридически. Однако это не мешает Веберу сразу вручить мне ключи от квартиры.
В нее Виктория Прокопьевна со мной не идет — у нее встреча.
Но подозреваю, что делает она это просто потому, что понимает — сюда, в дом моего отца я должна прийти одна.
Как мечтала когда-то, сверяясь по бумажке, нахожу дом, поднимаюсь на нужный этаж, вкладываю ключ в замок… И вот я уже внутри. Здесь ничего нет от Гюнтера. Видимо он, став взрослым, жил где-то еще, скорее всего снимал жилье. Это же квартира пожилого человека, который был увлечен книгами, историей, архивами… Большая библиотека, удобные кожаные кресла. Старинный резной буфет на кухне. Мебель тяжеловесная, добротная. Но не лишенная своей прелести.
Понимаю, что для того, чтобы мне здесь было хорошо и комфортно, достаточно будет сделать генеральную уборку, сменить портьеры на более веселые, выкинуть протертые ковры и перетянуть обветшалое покрытие на диване. И конечно, сменить кровать в спальне. На том же самом ложе, где, возможно, провел последние часы своей жизни Фридрих Унгерн, я спать не смогу.
Делюсь своими замыслами с Викторией Прокопьевной. Она в восторге и тут же приезжает. Не проходит и часа, как в моей квартире появляется замерщик из мебельной мастерской, который ощупывает и придирчиво изучает диван. Следом за ним появляются грузчики, которые выносят из квартиры неугодную мне кровать и ковры. Потом на пороге возникают две девушки из мастерской по пошиву штор. У них все с собой. Образцы тканей, тесьма, украшения. Вскоре выбран и цвет, и фасон.
— Великолепно!
Теперь остается выбрать и купить кровать. Этому мы и посвящаем остаток дня. Вечер же проводим на уютном балкончике моей новой квартиры за бутылочкой вина. Мама не звонит, да и не будет — для нас это действительно слишком дорого. По крайней мере, пока я не вступлю в права наследства. Адвокат сказал мне, что денег на счету «не так много», но когда я вижу цифру, то понимаю, что у нас разные представления о том, что такое много, и что такое мало. После продажи обеих машин, мой счет вполне можно будет назвать кругленьким. Маме так и скажу. За то, что я не стала продавать квартиру, она меня, конечно, отругает, но ее ведь после того, как я окончательно разберусь в ней, можно будет сдавать…
Интересно, а где живет Федор? И как? Холостяцкий «флет» — запущенный и грязный? Или у него периодически наводят порядок ночующие дамы? Про дам думать не хочу. Про Федю тоже, но все равно, как я не сдерживаюсь, разговор таки сворачивает на него. Пытаюсь подбить Викторию Прокопьевну рассказать мне о нем побольше, но она — кремень. Все сказанное ей без права передачи, действительно умирает в ее душе.
Ночевать едем в гостиницу. Но на следующий день я снова на пороге квартиры отца. Меня влечет его архив. Он у него в таком порядке, что невольно вспоминаешь о немецкой точности. Больше всего действительно о роде Унгернов. Писем барона по поводу клада нет. Да я и не рассчитывала их найти, ведь мне было ясно сказано, что Гюнтер выкрал их. Зато находится много другого, не менее интересного. В основном мелочи, но кое-что из этого становится новостью даже для меня.
Например узнаю, что один их моих предков — барон Халза Унгерн фон Штернберг был одним из основателей хорошо известного на Руси Тевтонского ордена…
* * *
К тому моменту, когда мы с Викторией Прокопьевной собираемся улетать — я обратно в Москву, она в Париж к своему Шарлю, который уже оборвал ей весь телефон, квартира моя «готова к употреблению». Диван перетянут, шторы сшиты и заняли свое законное место, в спальне стоит новая кровать, а все старое шмотье уносят какие-то деловые дамы из благотворительного фонда. Мое новое жилище теперь даже пахнет иначе. И как же здесь просторно! А какой тут кабинет и библиотека! Как подумаю о своей крохотной комнатенке в нашей с мамой квартире, даже тоскливо становится.
Оказывается, правду говорят, что к хорошему привыкаешь быстро.
Обратно лечу опять-таки первым классом. Мое кресло — у окна. Когда подхожу к нему, на соседнем, у прохода уже сидит какой-то человек. Светло-розовая рубашка, темно-розовый галстук с причудливыми узорами на нем. Модник, однако.
Темная стильно стриженная голова склонена над газетой. Останавливаюсь рядом.
— Простите…
Вскидывает голову, несколько мгновений смотрит, явно не понимая — видимо, читал что-то интересное и совершенно отвлекся от реальности. Потом резко вскакивает, чтобы пропустить. В итоге его розовая грудь оказывается в каком-то сантиметре от моего носа. Пахнет от него замечательно. И тоже, наверняка, очень модно. Вот только нюхать его не хочу совершенно. Просто-таки не могу. Потому что ровно в тот момент, когда он вскидывает голову и смотрит на меня, я его узнаю.
Это Илья Черненко. Мы в нашей детской, а потом подростковой компании звали его Черный — в том числе и из-за брюнетистой шевелюры. «Прицесска», которая увела его у меня, называла Черного «Илью-ю-юшенька». На этом самом «ю-ю-ю» губки у нее выпячивались вперед так, словно она тянулась поцеловать его, и я в этот момент ненавидела ее отчаянно.
Забавно. Он меня, похоже, не узнал. А ведь когда-то я с ним даже переспала, решив, что он ко мне вернулся, бросив свою «принцесску», и все теперь у нас будет отлично…
Илья пропускает меня на мое место. Садится сам, вновь деловито застегивает у себя на бедрах ремень безопасности и утыкается в газету. Смотрю на него искоса, возясь со своим ремнем — до меня в кресле сидел человек с просто-таки грандиозным пузом. По-прежнему хорош… Читает, но вижу, что уже не так внимательно, как раньше, между бровями появляется морщинка, он закусывает губу (как, оказывается, хорошо я помню эту его манеру!) и тоже бросает на меня косой взгляд из-под черных ресниц.
Наши взгляды встречаются…
— Ань?.. — столько недоверия в голосе, что даже странно. — Неужели это ты? Ты… как здесь? — и он обводит жестом салон первого класса.
А-а-а… Вот в чем истинная причина неузнавания. Дело не в моей дивно изменившейся при помощи Виктории Прокопьевны внешности. Дело в том, что Илья никак не ожидает увидеть «беднячку» Аньку Унгерн, дочку матери-одиночки, которая тянула семью на учительскую зарплату, сидящей на месте, предназначенном для богатеньких и состоявшихся. Таких, как он.
— Ты здорово выглядишь. Замуж вышла?
По-прежнему не верит, что на первый класс я заработала сама. Типичный пример мужского шовинизма: если женщина на дорогой машине, значит «отсосала» на нее, если в салоне первого класса — муж купил…
— Здравствуй, Илья. Нет, замуж я еще не вышла.
— Слушай… А сколько ж это мы с тобой не виделись?
— Тринадцать лет.
— Обалдеть… Чем занимаешься? — быстро оглядывает меня (сумочка, прическа, одежда, колени, обтянутые тонкой лайкрой). — Работаешь?
Меня забавляет сомнение в его голосе. Киваю, сдерживая смех.
— А ты?
— Ну естественно! Я, знаешь ли, за эти тринадцать лет кое-чего достиг. Теперь вот возглавляю отдел продаж крупной американской компании. Точнее ее филиала в Москве. В Германию на конференцию летал. Сейчас…
Отстегивается и идет по проходу куда-то. Вскоре понимаю, что к шкафу, в котором на плечиках висит его пиджак.
Возвращается с визиткой в руках и дает ее мне. Читаю его имя, написанное золотом, должность. Название компании и правда известное. Киваю, выражая лицом свое почтение. Он усмехается снисходительно.
— Надо расти. Вот подумываю кандидатскую диссертацию защитить. Это вам, хорошеньким женщинам, об этом заботиться не надо.
Хвастается так нахально, что не могу удержаться и не щелкнуть его по носу. Благо, сам подставился, и тем более, что по правилам бизнес-этикета ответить я должна именно так.
Лезу в сумочку и вынимаю свою визитку. Шеф отпечатал мне их за счет института после того, как я стала регулярно давать консультации и интервью. Золотом она не блещет — черное на белом. Но и там все солидно — и название института и то, что значится ниже фамилии.
— Доктор наук и профессор?
Глаза у него так и лезут на лоб. Испытываю ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Только ради одного этого мгновения стоило столько лет корпеть сначала в институте, затем в аспирантуре, а потом за рабочим столом. Но удовлетворение мое быстро гаснет после того, как вижу — а парень-то скис! Даже на коленки не смотрит. Какие там могут быть коленки у профессоров?
— А что в Берлине делала? Какой-нибудь научный слет?
— Да нет. У меня тут квартира…
— Да ты что? Не знал, что научные работники у нас столько зарабатывают…
— Зарабатывают они по-прежнему мало, но на некоторых из них, случается, сваливается такая штука как наследство.
— А-а-а… Понятно. А то я подумал…
Что уж он там подумал, я не знаю, но вижу, что мое сообщение о полученном наследстве тут же возвращает ему прекрасное настроение, а мне — его повышенное мужское внимание. Как же Виктория Прокопьевна хорошо знает людей…
Болтаем всю дорогу. Вспоминаем общих друзей, которые остались там, в нашем детстве. Он много рассказывает о себе. Был женат. Есть дочь. «Но что-то не срослось». Теперь вот снова в поиске своей «счастливой половины».
— Но вокруг вьется так много меркантильных баб, а хочется чего-то настоящего, подлинного…
Как я его хорошо понимаю!
Когда прощаемся в аэропорту, он просит дать ему номер моего мобильного телефона, но я лишь улыбаюсь в ответ. Получает он отказ и на свое предложение подвезти меня до дома. Илья расстроен, угрожает, что все равно отыщет меня — «мамин-то домашний телефон, небось, не изменился», и, наконец, скрывается в толпе. А что если он и правда позвонит? Наверно… Наверно это будет мне приятно, даже несмотря на то, что он неправильно среагировал по всем пунктам — сделался грустен, услышав о моей ученой степени, и заметно повеселел, когда узнал о том, что я богатая наследница.
И потом мне совершенно необязательно влюбляться в него вновь! Я вполне могла бы использовать его просто… для секса. В тот первый раз, когда я торжественно преподнесла ему свою девственность, ничего путного у нас в постели не вышло. Мне было больно, он то ли был недостаточно умел, чтобы как-то сгладить этот момент, то ли просто не очень старался. Но ведь с тех пор мы оба изменились…
Нет. Не выйдет, наверно. Жаль, что я не умею «просто для секса»… Мне, видишь ли, любовь подавай! А иначе — никак. В итоге и получается один сплошной «никак».
Иду в сторону аэроэкспресса и внезапно в толпе замечаю… Нет, это совершенно точно Павел! Пробирается через толпу, прочь от меня. Потом, словно почувствовав на себе мой взгляд, останавливается, начинает вертеть головой. Заметит? Конечно заметил. Стоит, смотрит усмехаясь. Потом выставляет на меня указательный палец на правой руке так, словно это пистолет и изображает выстрел… От ужаса, который наваливается на меня мгновенно, даже зажмуриваюсь. А когда нахожу в себе силы открыть глаза, его уже нет. Кидаюсь в ту сторону, где он стоял, цепляя сумкой на колесиках за чемоданы других людей и, соответственно, выслушивая их брань… Нет. Никого похожего. Но мне ведь не примерещилось!
Хватаюсь за телефон и звоню Стрельцову.
— Егор.
— Что Ань?
— Ты, помнишь, говорил что если только я свистну…
Мгновенно становится серьезным.
— А ты свистишь?
— Свистю. То есть свищу… Мне страшно, Егор.
— Бля-я-я, Ань, тебя там что ли снова похитили в этой твоей Германии?
— Нет. Я не в Германии, я в Москве, и ты знаешь, мне кажется я только что видела в толпе Павла…
Он приезжает очень быстро. Даже удивительно быстро для вечно забитой Ленинградки. Оказывается ехал с другой стороны — с Новой Риги, от Серджо и Ксюхи. Какие-то у них с Серджо постоянные дела. Туристические, наверно, бизнес-то схожий… Рассказываю ему о том, как вышла из самолета, как шла в сторону аэроэкспресса, как увидела Павла, бросилась за ним, но его и след простыл. Благодарна Егору, что он не начинает спрашивать дурацким тоном: не примерещилось ли мне — у страха-то глаза велики. Но на всякий случай поясняю.
— Это точно был он. Понимаешь, я его ни с кем не перепутаю.
— Он тебя видел?
— Да. И даже делал так, — изображаю пантомиму, которую мне продемонстрировал Павел.
— Вот сука…
— Ничего не понимаю! Он же в федеральном розыске, а свободно разгуливает, где хочет.
Улыбается так, что я тут же понимаю, что сморозила глупость.
— Документики он себе новые наверняка уже выправил, а там достаточно, например, усы отрастить и волосы сбрить — и все. Узнать тебя уже очень трудно. Особенно по фотографии, которую по отделениям и опорным пунктам рассылают. Это ты его хорошо знаешь. Помнишь, как он двигается, походку, манеру голову поворачивать, наконец, а посторонний человек (машет рукой) — без сиропа. Тем более в большом городе, когда глаз замыливается за день так, что маму родную не узнаешь, не то что преступника какого-то.
Потом подпихивает меня локтем в бок и хитро интересуется:
— А ты этого Пашу случаем не выдумала, чтобы я тебя в аэропорту встретил и до дома с комфортом довез?
— Вот ведь!
Отскакивает смеясь:
— Не бейте меня по голове, фройляйн, я в нее ем!
Дурачится, развлекает меня, а сам по толпе так глазами и рыщет. Все-таки как хорошо, что судьба свела меня с такими ребятами. Без них бы я давно пропала. Выходим из порта, и я понимаю, почему Стрельцов прибыл так быстро — за рулем сидит Ксюха.
— Ты-то зачем приехала?
— А вариантов не было, Ань. Они ж с Серегой к тому моменту, как ты позвонила, уже по паре бутылочек пива на грудь приняли.
— У нас традиция, — с заднего сиденья возвещает Егор. — Каждую субботу мы с друзьями ходим в баню.
— Вот именно, — ворчит Ксюха и давит на газ. — Ты Ань только имей в виду, что в Москву я тебя не повезу. Домой поеду, к Викусе. А завтра этот вот оболтус, что сидит сейчас на заднем сиденье, протрезвеет, в столицу поедет и тебя заодно забросит. Ладно?
Я соглашаюсь с легким сердцем. С мамой я не созванивалась, так что она не знает точно, когда я прилечу. А в доме Ванцетти после неприятной встречи в порту мне точно будет спокойнее. Когда подкатываем, вижу, что поперек гаражных ворот припаркован джип Федора.
— Ксень…
— Он сегодня не собирался, Ань. Я не нарочно. Не хочешь видеться с ним? Я тебе тот дом отопру. Там ночуй.
Из гордости отказываюсь. И зря. Оказывается Федор приехал не один. И девица эта мне хорошо знакома. Да и дислокация привычная. Кондратьев сидит — в одной простыне, расслабленный. Она у него под боком — пальчики интимно поглаживают его влажную грудь. Одно хорошо: если я в полной боевой выкладке — платье, туфли на каблуке, прическа и макияж, то она — пятнистая после бани и с влажными волосами, прилипшими к голове. Но ее самомнение явно выше этих мелочей.
Раздосадованная вконец Ксения фальшивым голосом интересуется у меня:
— Ань, ты наверно устала с дороги?
Но не в том я настроении, чтобы бесславно бежать с поля ещё не начавшегося сражения. Усаживаюсь в кресло — ногу на ногу, и лучезарно улыбаюсь.
— Наверно я бы чего-нибудь выпила. Чтобы потом крепче спалось. Тот чудный арманьяк, которым меня кто-то не помню уже кто (косой взгляд в сторону Федьки) здесь угощал, еще остался?
Стрельцов отчетливо крякает у меня за спиной и идет наливать. Я сижу, покачиваю ногой в новой туфле (как права была Виктория Прокопьевна, когда запрещала мне раньше времени менять мои новые шмотки на старые джинсы!) и улыбаюсь прежней светской, ни к кому конкретно не обращенной улыбкой.
Со стороны бани, которая в доме Ванцетти расположена в пристройке, появляется замотанный в простыню Серджо.
Впервые вижу его с голым торсом. Оказывается татуировки у него не только на руках, но и на груди и на спине. Да и ноги по-моему тоже… Одно слово — иностранец. Сколько ж он, интересно, на создание этой красоты времени потратил? Наколки, кстати, потрясающие — словно живые, перетекают одна в другую. Забавный психологический эффект. Когда его наколки видны, все время ловлю себя на том, что смотрю только на них. Даже неприлично — нет чтобы, как вежливые люди, смотреть собеседнику в лицо…
— Как съездила? — интересуется Серджо, усаживаясь и отхлебывая пиво прямо из запотевшей бутылки. — Бабуля тебя не укатала, как Сивку крутые горки?
— Нет, что ты. Она у вас — просто чудо. Шарлю дико повезло, что ему досталась такая женщина.
— Дела все сделать успела?
— Нет, конечно. Оформление недвижимости — вопрос не быстрый. Но основное сделано. Ваша бабуля очень помогла.
Звонит мой телефон. Мама? Нет, не она. Номер незнакомый.
Отвечаю и слышу удовлетворенный голос:
— Я же сказал, что найду тебя, Ань!
Вот это да! Неужели Илья?
— Маме звонил?
Смеется.
— Загадка должна быть не только в женщине, но и в мужчине. А вообще — ну, конечно, ей. Ты знаешь, она мне обрадовалась. Все расспрашивала — как я, где я. Хвалила…
Кто б сомневался! Еще какое-то время болтаем, а потом договариваемся встретиться завтра, чтобы пообедать вместе. Наверно, моя реакция на его звонок могла бы быть совсем иной, если бы не сидящая напротив девица. А она играет.
Причем явно на публику в моем лице. Что-то интимно шепчет Федьке, периодически касаясь мочки его уха языком, а затем и вовсе прикусывает ее… Ему неловко, он то и дело уклоняется и раздраженно встряхивает своей лобастой башкой. Я наблюдаю за его реакцией, не отводя взгляда, и улыбаюсь. От этого ему и вовсе становится худо. Он резко встает и удаляется в сторону парилки.
Получи, фашист, гранату от советского бойца! Виктория Прокопьевна была бы мной довольна.
Ночевать Федор и его девица не остаются. Слава богу. Я бы не перенесла, если бы они в соседней комнате… Одно дело подслушивать Ксюху с ее итальянцем, и совсем другое Федора… Короче говоря, они уезжают, а весь боевой задор улетучивается из меня, как воздух из проколотого шарика.
Со свистом.
Сразу наваливается все: и эта баба, которая так привычно и уверенно гладила Федькину голую грудь, и Павел, и просто усталость. Хочу уже идти и действительно лечь в постель, когда начинает гудеть дверной звонок. Хозяева удивленно переглядываются — они явно больше никого не ждут. Серджо идет открывать, а Стрельцов, как-то незаметно подобравшись ближе, тут же занимает такую позицию… В общем, даже мне понятно, что если кто-то нападет на Серджо в дверях, Стрельцов сумеет в нужный момент вмешаться. Но это оказывается Федор. Хромая входит в гостиную, обводит ее мрачным взглядом и плюхается на диван. Стрельцов окидывает его ироничным взглядом:
— Куда это ты свою девицу-красу дел? Убил и съел?
— Почему это?
— Смотришь как людоед.
— Она решила ехать на электричке.
— Ну да. На электричке-то оно конечно намного ловчее.
— Слышь, Стрелок? Отстань.
Стрельцов тут же демонстративно отступает в сторону, выставляя перед собой ладони и цитирует Кузнечика из фильма «В бой идут одни старики»:
— Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу.
— Трепло ты, Стрелок.
— Не самый худший человеческий порок.
— Ты это на что намекаешь?
— Я? Боже упаси.
— Все. Брек, — с кухни приходит Ксения. — Чем оттачивать друг на друге свое спорное остроумие, лучше подумайте, что может означать сегодняшняя Анина встреча в аэропорту.
— Как, еще одна встреча? — Федор выгибает бровь. — О той, что состоится завтра, я наслышан…
— Брек, я сказала.
— Анька сегодня в Шереметьево Павла видела.
— Пить в самолете надо было меньше.
Вздыхаю.
— Федь, ты зачем сюда вернулся? С девушкой со своей поссорился, по темноте на электричке ее отправил… Зачем? Чтобы гадости теперь мне говорить?
— Ничего я не говорил, просто предположил…
— У тебя отлично получилось.
Ухожу. Не могу больше. Я не железная Виктория Прокопьевна. Когда он вернулся, я, дура, даже на что-то в очередной раз надеяться начала. На что, интересно?
Ксюха молча провожает меня в мою обычную комнату.
— Спи. Обещаю, что никто тебе не помешает.
Она что думает, Кондратьев будет ко мне ночью ломиться? Даже не смешно. Я оказываюсь права. Никто не мешает мне крутиться от бессонницы и думать невесть о чем. Уже далеко за полночь слышу тяжелые, прихрамывающие шаги, которые затихают у меня под дверью. Даже дышать перестаю, прислушиваясь. Какое-то шуршание. Все. Шаги удаляются по направлению к лестнице, а потом под окнами взревывает двигатель автомашины. Вскакиваю и бегу к дверям — точно, в щель подсунут сложенный лист бумаги. Включаю лампу у изголовья. Читаю: «Прости».
В растерянности даже переворачиваю лист другой стороной, рассчитывая прочесть еще хоть что-то. Но нет — всего одно слово… Кондратьев верен себе.
Глава 11
Утром Стрельцов вывозит меня в Москву. Мамы уже нет — ушла на работу. Хорошо. Не смогла бы сейчас весело трещать, рассказывая о своей поездке. Принимаю душ, переодеваюсь и навожу марафет. Смотрю на себя. Виктория Прокопьевна про такой вариант говорит: «В таком виде только к врагам ходить. Чтобы сдохли от зависти!» Ну и отлично. В конце концов, в обед у меня свидание.
Илья заезжает за мной вовремя. Машина у него дорогущая, сам он свежевыбрит, с изяществом носит костюм, что на самом деле умеют делать далеко не все мужчины, и благоухает вкусным одеколоном. Не кавалер — мечта.
Илья везет меня не в соседнее кафе, а, как говорит, в свое любимое. В пиццу на углу Страстного бульвара и улицы Чехова. Белые скатерти, вышколенные официанты. Очень много иностранцев. Наверно ещё и кормят хорошо. На цены в меню стараюсь не смотреть.
Рекомендует мне какую-то особую пиццу, приготовленную с пармской ветчиной и без томатной пасты, только с помидорами. Вкусно. Когда заканчиваем обедать, Илья, умильно глядя на меня, интересуется, произвел ли он достойное впечатление на этом нашем «можно сказать первом свидании» и может ли рассчитывать на снисхождение, а как следствие — на продолжение общения.
— У меня на завтра два билета в театр есть…
Ну точно мечта. Просто мечта мечтовская. Аж нереально. На выходе придерживает мне дверь, подает руку, помогая спуститься по ступенькам. И все это естественно, привычно. И точно — другой уровень, иной социальный слой. Улыбаюсь, одновременно поворачиваясь к нему лицом и тут же чувствую, как что-то резко ударяет меня в плечо и в бок. Даже не понимаю, почему вдруг начинаю падать, что за грохот слышу мгновением позже, из-за чего начинают визжать женщины вокруг, а Илья вдруг приседает, испуганно прикрывая руками голову.
Уже врач в скорой, которая приехала поразительно быстро, объясняет мне, что в меня стреляли. И на этот раз попали.
Потом хирург говорит, что мне повезло. Я повернулась к выстрелу правым боком. Пуля попала сначала в руку, раздробив кость, а потом ударилась о ребро. Оно, бедное, сломалось, но не пустило кусок смертоносного железа дальше.
Прибывший еще позже полицейский рассказывает, что по словам моего спутника, Ильи Черненко, в меня стрелял мотоциклист, который потом благополучно скрылся в потоке машин. Вяло (лекарствами меня накачали преизрядно) соображаю, что нечто подобное со мной уже когда-то было. Но тогда все решили, что стреляли в Павла, а не в меня. Значит, все-таки ошиблись?
Господи! Да когда же это кончится? Тридцать с гаком лет сидела как мышь норная, ничего со мной не происходило.
Самой большой травмой был сломанный ноготь. А теперь как плотину прорвало! И ведь я была совершенно уверена, что с того момента, как меня освободили из подвала в Акше, мне больше ничего не грозит. Все осталось позади. Нет?
Если вспомнить пантомиму, которую мне продемонстрировал Павел, то сомневаться в том, что стрелял в меня именно он, не приходится. Да и мотив у него есть.
Хлипкий, но все же. Я ведь по незнанию его тогда сильно зацепила… Когда в момент похищения заговорила с ним о тех, кто носит краповый берет и о тех, кого такой чести лишили.
Он тогда действительно взбесился так, что аж рычал. А после совершенно ясно дал понять, что я на белом свете не жилец. Думал, меня убьют Гюнтер на пару с Оспой, а я вдруг выбралась… Решил довести не доделанное ими до конца?
Делюсь своими мыслями со следователем. Он все тщательно записывает, но потом только вздыхает. Пуля, застрявшая во мне, была выпущена из обычного «Макарова». Таких в ходу — тысячи. Табельное оружие, как ни крути. Так что вполне может быть, что стрелял и не Павел. Но я почему-то в это не верю.
С другой стороны сегодняшнее происшествие вполне может быть продолжением той самой истории у «Пилзнера», когда точно так же в меня стрелял мотоциклист. Вот только если с Павлом все очевидно, то что это за история — непонятно совсем. Может тот эпизод все-таки случайность? Или Павел соврал, когда говорил, что стреляли в меня, а не в него?.. Одни вопросы и никаких ответов.
Когда ко мне начинают пускать посетителей, становится веселее и не так страшно. Лежать наедине со своими мыслями совсем скверно. Приходит мама, которая тут же доводит до моего сведения, что все мои неприятности — следствие того, что я связалась не с теми людьми.
— А я ведь говорила тебе! Вот Илья Черненко недавно твой номер телефона узнавал. Такой успешный молодой человек, культурный. А ты все с какими-то…
Илья с шикарным букетом цветов появляется в моей палате, когда мама еще не ушла. С ним она добра и любезна, не то что с Федькой. Со значением смотрит на меня и оставляет нас одних. Пытаюсь убедить Илью, что ему оставаться рядом со мной элементарно небезопасно — совершенно непонятно, что происходит. Он негодует:
— Кто-то же должен тебя защитить, если наши правоохранительные органы не способны вообще ни на что.
Γерой… Штаны с дырой. Знаю: все, что он говорит — это просто слова, но слышать их все равно приятно. Мы, женщины, слишком часто выбираем, как позднее оказывается, «не тех» в первую очередь потому, что предпочитаем таких, которые умеют красиво говорить, и не замечаем тех, кто просто молча делает…
Следом за Ильей как обычно без предварительного звонка приезжает Ксюха. Потом появляется Стрельцов, который страшно ругается на меня по непонятно какому поводу. Кричит про то, что все бабы — дуры и все такое прочее. Оказывается я виновата в том, что не смотрю вокруг себя, хожу по всяким непонятным ресторанам с непонятными типами, которые тоже не смотрят вокруг себя, а потом, когда уже все равно поздно, даже не тружусь сообщить друзьям, что попала в больницу.
— Если бы твоя мама не позвонила, чтобы в очередной раз из меня душу вытрясти, я бы ни о чем и не знал!
В палате помимо меня ещё три молодые, веселые и совершенно озверевшие от больничной скуки бабы. Повезло — ни одной лежачей и храпучей старушки в маразме. После каждого появления в палате очередного мужика возникает стихийное обсуждение. Про Илью:
— Твой кавалер? Классный. Такой букет дорогущий. И часы у него, я такие на картинке в одном журнале видела… И вообще… Классный.
По поводу Стрельцова:
— А этот? Тоже твой кавалер? Женатый? Ну и что? Все они одним миром мазаны — так и норовят налево сходить. Не кавалер? Жаль. Хорошенький како-ой… Девчонки, а как он на Есенина похож! Да нет, не похож, Есенин наркоман был, а этот вон какой, плечистый и в штанах у него-о-о… О-о-о… У меня был один. Такой у него здоровенный был, что я в первый раз даже перепугалась. Говорю: «Давай я тебе лучше отсосу». А он: «Отсосать я себе и сам могу. Мне бы потрахаться…»
Ржут. Начинают по очереди вспоминать про то, «какой» был у того или иного мужчины, которые встречались им в жизни. Наконец, одна встает, сует ноги в тапочки и, подхватив из угла трехлитровую банку, уходит. Когда возвращается, понимаю что она хочет поставить в воду мои цветы.
— Спасибо.
— Да не за что, подружка. Помочь тебе чем? А то помню, когда правую руку сломала, вся жизнь кончилась. Ничего левой делать не могу. А у тебя ж тоже правая…
Улыбаюсь и отрицательно качаю головой. Пока действительно ничего не надо. Появляется Сашка. Этот даже особого обсуждения не удостаивается. Бабоньки инстинктивно чувствуют в нем «конкурентку» и награждают его презрительным молчанием. Зато Серджо, который завозит мне кое-какие вещи, о которых я просила Ксюху, опять производит фурор.
— Итальянец? Настоящий? Бли-и-ин… Никогда вживую не видела. Твой кавалер? Ах муж той, что недавно заезжала?
— Красивая пара. Только зачем же он так расписался-то? Руки аж синие… Модно? Ну не знаю… Слушай, Ань, а у него татуировки только на руках? Или где-то еще? На груди есть? А ниже, прямо там? Я в одной порнушке видела… Нет, понятно, что он муж подруги, но вдруг… А смотрит-то как! Чистый волк. Хищник. Я бы с таки-им… А то мой — тютя-тютей. Мешок с соломой. Слушай, Ань, а правда говорят, что с итальянцем в постели совсем не так как с нашим?.. Ну да, ну да, муж подруги, как же, помню…
Следом жду Федора. Ведь должен же он меня навестить! Но вместо него неожиданно появляется Γерой России полковник Приходченко. В своем краповом берете и форме он даже без орденов выглядит более чем внушительно.
— Ну привет, рыжая. Виктория Прокопьевна просила меня к тебе заглянуть при случае и развлечь в меру сил. На самом деле, думаю, хочет, чтобы я тебя успокоил. Но я этим, рыжая, заниматься не стану. Того, кто стрелял, не нашли, и думаю, не найдут. А это значит, что жить тебе теперь как на пороховой бочке. В пору бронежилет начинать носить вместо лифчика. Пока лежишь тут, думай, кто к тебе такие претензии иметь может. Кроме тебя, рыжая, никто это лучше не сообразит. Кому ты дорогу перешла?
— Никому.
— Никому. Ты, твою мать… Гмм… Извиняюсь. Ты, в общем, так сразу не отмахивайся. А то какая-то фигня, понимаешь. То ее похищают, то в нее палят, как в зайца в тире… Сильно болит? — вдруг спрашивает участливо.
— Не очень. Лекарств разных много дают.
— Пока да. Потом весело станет, когда их тебе сокращать начнут, чтобы не привыкала. А так повезло тебе. Повернулась ты под выстрел очень удачно. Так бы пуля-то как раз в сердце и вошла…
— Это вы меня так развлекаете или успокаиваете?
— А что? Правда ведь повезло… Ну ты тут давай, не хандри. Цветочки вон у тебя… Кондратьев приходил?
— Нет.
Молчит, отведя глаза. Вздыхает.
— Вцепилась в него, понимаешь, Маринка эта…
— Все-то вы, господин полковник, про всех знаете.
— Не про всех, а только про своих. Хороший же был бы из меня командир, если бы я не знал.
— Но в эти-то дела зачем вам?..
— Нос совать? Как раз в такие и надо. Не понимаешь ничего. А как боец в операции участвовать будет, как он воевать станет, если у него на душе пакостно и в семье, например, проблемы? У него мать в больнице, он, раз, и пулю глупую схлопотал, потому что не о том думал. У другого жена ушла, и он вместо того, чтобы просто вырубить там гада одного, взял и шлепнул его. Так что знать надо…
Расстаемся мы почти друзьями. Больше он на меня не рычит и во всех смертных грехах не обвиняет. Видимо, Виктория Прокопьевна тогда в аэропорту кое-что ему объяснила…
— Какой мужчина, — тут же, как только за Приходченко закрывается дверь, начинают стонать мои товарки по палате. — Ну настоящий полковник… А я люблю военных красивых, здоровенных… Нет, военные они незатейливые и прямые как шпала… А я очень даже люблю, чтобы как шпала, а то все больше как сосиска переваренная…
Вот ведь дурочки какие! Как сказал бы Стрельцов: «Кто про что, а вшивый про баньку».
Федька все-таки приходит, но уже совсем ближе к вечеру, незадолго до конца того времени, когда посетителей в больницу перестают пускать. Он тоже в форме, уже без палочки. Вернулся что ли на службу? Не рано ли? Как и полковник до него, интересуется не болит ли рана, а потом, выслушав ответ, почти слово в слово обещает, что дальше будет только хуже. Зато потом все очень быстро на поправку пойдет.
— Через месяц уже будешь как новая.
— Если меня за этот месяц все-таки не отправят на тот свет…
— Глупости не говори.
— Да не глупости это. Твой вон Приходченко велел мне бронежилет носить…
— Полковник был здесь? — удивление не помещается у него на физиономии.
— Был. И всячески пугал перспективами отправиться на тот свет раньше времени.
— Кто же это может быть, Ань? Думаю, вряд ли Павел. Смысла ему нет в тебя стрелять, только лишний раз светиться.
— А кто кроме него?
Говорим еще какое-то время в том же ключе — исключительно по поводу последнего инцидента. Очень деловой у нас разговор. Оба словно за щитом прячемся за ним. Возвращаю ему кулон с радиомаяком. Он было упирается, но все же берет его и вешает на свою бычью шею, а потом, собрав цепочку в горсть, забрасывает себе за ворот. Начинает прощаться. Повисает пауза. Сидит, мнется. Даже вижу, как он делает какой-то микро-рывок в мою сторону, но останавливает себя. В итоге так и не решается наклониться и поцеловать.
— Можно я ещё завтра приду? Не помешаю?
Указывает глазами на букет, который принес мне Илья. Мог бы, кстати, и сам не полениться и какие-нибудь лютики-цветочки подарить…
— Приходи. Не помешаешь.
— Ань. Я это… — косится на моих товарок по палате. — В общем, потом, ладно?
Забыв о своей ране пожимаю плечами и тут же начинаю шипеть сквозь стиснутые зубы. Больно. Он смотрит обеспокоено. Потом берет мою руку в свою лапищу и сидит так какое-то время. Наконец встает. Здоровенный, плечищи квадратные, башка уже не бритая «под ноль», а вроде даже какая-то стрижка на ней имеется. Очень короткая, но все же… Маринке что ли так больше нравится?..
Едва дверь за ним закрывается, мои больничные подружки начинают голосить чуть ли не хором.
— А чёй-то он хромает? Ранен был? Тебя от пули прикрыл? Кру-у-уто. Потом-то переспали? Нет? Ну и дура. Я бы… С таким… Эх-х-х… Слышь, Ань, ты это… Делиться надо. Всех классных мужиков себе к рукам прибрала, а мы тут как лохушки фиг знает с кем… Ты уж давай, по-соседски, отстегни хоть парочку-троечку… Тогда я чур того татуированного беру… А мне полковника, со шпалой который… А я этого последнего, плечищи у него-о-о…
Вздыхаю. Этого, последнего, и так уже забрали…
Лечение мое продвигается так, как и предсказывали опытные в таких делах Приходченко и Кондратьев. Как только мне начинают сокращать количество лекарств, ночи, да и дни становятся у меня… разнообразными. Зато уже не лежу, а хожу. Сначала по палате, потом по коридору.
Федька навещает меня нечасто и каждый раз старательно «держит дистанцию». Зато Илья эту самую дистанцию все больше сокращает. Как-то Φедор даже застает его целующим меня. Взглядами они меряются такими, что в пору их вместо рапир использовать. Поначалу, глядя на Φедькино лицо, думаю, что он вытрясет Илью из его дорогого костюма как мелочь из кошелька — со звоном. Но ничего, сдерживается.
Какие же они все-таки разные. И в повадках, и в манере держать себя, и даже в одежде…
Знакомлю их.
Илью представляю, как своего друга детства. По-моему, он такой характеристикой недоволен, но мне плевать. Федор проходит по графе «новые друзья». Илья не теряет возможности «укусить» соперника.
— Те самые, о которых твоя мама мне все уши прожужжала?
Ну… Неподходящие по ее мнению…
В результате визит Кондратьева в этот раз особенно краток.
Ну вот что с ним делать? Вижу ведь, что по-прежнему он ко мне неровно дышит (так характеризуют это мои товарки по палате), но пробить его решимость не иметь со мной ничего общего не удается ничем. Да и меня мучает обида. Как подумаю о его Маринке — так больно становится. Больнее, чем в раненом плече.
* * *
Из больницы меня выписывают довольно быстро. Федька со своей ногой лежал дольше. Да и то: мне ведь мои ранения передвигаться не мешают. Мама окружает меня всяческой заботой: ведет душеспасительные беседы и кормит как на убой. Благо деньги у нас теперь есть. Пока я валялась в больнице, герр Вебер, которому я дала на это доверенность, закончил оформление всех моих наследственных дел. Так что теперь у меня даже есть личный банковский счет. И ещё один отдельный — к которому прилагается пластиковая карта. С ума сойти!
Ксюха подбивает меня купить машину и пойти на курсы вождения. Но во-первых, все ещё очень сильно болит рука. А во-вторых, глядя на то, как с машиной управляется сама Ксения, отчетливо понимаю, что я так не смогу никогда. Не мое это. Рука у меня ещё на перевязи, как у раненого бойца, но сидеть дома уже больше не могу и выхожу на работу. Первое мое появление на улице оказывается очень непростым. Я все время боюсь. Где-то между лопаток постоянно ощущаю чей-то недобрый взгляд, наверно именно поэтому там все время мокро от пота. Но когда резко оборачиваюсь, пугая прохожих, никого у себя за спиной не обнаруживаю. Кстати, я в бронежилете. Лето кончилось, сентябрь уж на дворе и довольно прохладно, но все равно под ним кожа потеет, зудит и чешется. Впрочем, прав Федор, который и притаскивает эту, уже знакомую мне штуку — тонкую, но выдерживающую попадание из оружия серьезного калибра — уж лучше чесаться, чем валяться с пулей в сердце.
Федор по-прежнему появляется рядом со мной не часто. Но все же появляется. Как-то раз прикатил к институту, в котором я читаю лекции студентам-вечерникам, практически одновременно с Ильей. Момент для меня был крайне неприятным. Вышла… И тут же оказалась перед выбором: две прекрасно знакомые машины припаркованы на расстоянии нескольких метров друг от друга… Илья выскакивает из своей и идет мне навстречу, а Федор… Федор просто сдает назад и уезжает.
Зато неожиданно обнаруживаю, что ему каким-то чудом удалось наладить контакт с моей мамой. Началось все с того, что у нас потек кран, а в ЖЭКе мне заявили, что сантехник ушел в запой. Причина, понятно, уважительная. Посмеялась. В шутку же о таком раскладе сил рассказала по телефону Федьке. Потом уже у мамы узнала, что было дальше. Сказала:
— Приходил твой здоровенный приятель. Тот, который хромой. Починил все. Рукастый… Еще вон, полку мне подвесил…
Таким образом майор Кондратьев признан существом хоть и низшего сорта, но в хозяйстве весьма полезным. Нет, не зря Приходченко называл его лучшим переговорщиком. Если уж он с моей мамой нашел общий язык — он и правда гений. Теперь Федор и с мамой и, что самое печальное, со мной «дружит». Когда в очередной раз звонит Виктория Прокопьевна и интересуется «сводкой с фронтов» (это она так формулирует), то реакция ее на мой рассказ нерадостная:
«Тяжелый случай!»
— Слушай, Ань, а может тебе его просто соблазнить? Подпоить, и в постельку?
— Не умею я это, Виктория Прокопьевна. Да и нечестно так…
— Тьфу на тебя три раза, — маркиза де Ментенон плюет в сердцах и вешает трубку.
С Ильей мы ходим в кино, в театры и на выставки. Он провожает меня до дома. Он уже выиграл у Федора «тендер» на то, чтобы встречать меня после лекций, теперь же приезжает еще и к моему НИИ. В эти дни, когда лекций у меня нет, мы и идем «на культурку». Так он посмеиваясь определяет наши культпоходы. Заканчиваются наши встречи всегда одинаково: по-пионерски. Мы сидим в его машине, целуемся. Иногда он даже позволяет себе забраться рукой мне за вырез или немного продвинуть ее под юбку. Но я это не поощряю, и он отступает.
Понимаю, что до бесконечности так продолжаться не может. Он нормальный молодой мужик, у которого имеются вполне понятные «потребности»…
Неужели я когда-то мечтала о нем? Неужели чуть не наложила на себя руки, когда он бросил меня уже во второй раз, предварительно походя переспав со мной?
Кстати, о потребностях… Вскоре становится совершенно очевидно, что они есть и у меня… Сны, которые мне теперь снятся все чаще, побили бы все рекорды популярности на любом порно-сайте. Но почему-то ни в одном из них со мной рядом не наблюдается Ильи. Только проклятущий Кондратьев. Может все-таки последовать совету Виктории Прокопьевны и соблазнить его? Подпоить… Только не его, а меня, чтобы обрести раскованность и удаль, про которую в народе говорят «пьяному и море по колено», и… И что-то такое сделать.
Но как только представлю себе, что висну на нем, подобно этой его Маринке, оглаживая и хватая за выступающие части тела, так стыдно становится, что прячу горящие щеки в ладонях. Особенно если такие мысли накрывают меня где-то в общественном месте. Понимаю, что на это не пойду никогда. Да и мамин опыт, вдолбленный ей в меня намертво, дает себя знать. А из него следует простое — нет ничего унизительней и страшнее оказаться отвергнутой. Как я переживу, если кинусь к Федору с объятиями, а он меня оттолкнет?
Но наверно, все-таки пора принимать решение. Нельзя вечно хвататься за то, что твоим быть не хочет. Надо перестать мучить неопределенностью Илью, а Федору сказать, чтобы катился ко всем чертям со своими комплексами и своей Маринкой…
Случай окончательно определиться представляется довольно скоро. Ксюха приглашает нас всех на свой день рождения. Из Парижа по такому случаю прилетает Виктория Прокопьевна. Кроме нее и Серджо за праздничным столом Ксенькина подруга Ирка с мужем и детьми; Стрельцов со своей Машкой; и мы с Федором. Каждый сам по себе.
Собственно, меня звали с Ильей, а Федьку, как я предполагаю, с Мариной. Но… Короче говоря мы оба, видимо, принимаем одинаковое решение и приезжаем в одиночестве.
Когда Ирка с семейством, а следом за ними и Стрельцовы отбывают, мы с Ксюхой остаемся вдвоем на кухне. Убираем со стола, прячем остатки пиршества в холодильник, набиваем освободившейся посудой посудомоечную машину, болтаем ни о чем… Обычные бабские дела.
Думаю, что Серджо ушел проводить Φедора, (повода задерживаться тут дальше у него ведь и правда нет — я его, как стало совершенно очевидно, перестала интересовать окончательно) а Виктория Прокопьевна занимается с внучкой. Однако вскоре выясняется, что я ошибаюсь. Ксюхина бабушка появляется в гостиной, забирает две рюмки, початую бутылку водки и удаляется через двери террасы куда-то в сад. Знаю, что там есть маленький финский домик. Специальная конструкция с мангалом посередине и лавками вокруг, чтобы даже зимой можно было сидеть в комфорте и жарить шашлыки или ещё что-то. Почему-то уверена, что там с Викторией Прокопьевной не Серджо, а Федор, и что говорить они будут «за жизнь», а значит и обо мне…
Любопытство, как известно, не порок. Стараясь действовать незаметно, накидываю на себя пальто и тоже прокрадываюсь в сад. Чтобы Ксюха меня не засекла, выхожу через дверь в котельной. Точно! В финском домике видны отсветы огня в растопленном мангале. Подбираюсь ближе. Голоса слышу, но суть разговора совершенно не улавливаю. Жаль. И тут Виктория Прокопьевна приоткрывает дверь.
— Что-то жарко совсем стало. Не против, если я проветрю, не замерзнешь?
— Да что вы, Виктория Прокопьевна! Я вообще не мерзну. Как-то пришлось нам с моими ребятками почти сутки по шею в ледяной воде просидеть. Под обстрел попали. Спирт правда у нас во фляжке имелся… Хлебнешь из фляжки и водой из речки, в которой мы и сидели, запиваешь… И ничего! Даже насморка потом не было.
— Да, Федя, парень ты здоровый. Но глупый.
— Ну Виктория Прокопьевна, не начинайте сначала.
— А я и не начинаю, я продолжаю. Ты ведь ее любишь… Любишь! И не крути своей башкой чугунной. Все равно не поверю, что это не так. Так к чему все эти коленца?! И девку мучаешь…
— Да не больно-то она, как я посмотрю, мучается! Каждый день цветочки, поцелуйчики, в машине по часу возле ее дома сидят… Об искусстве, думаете, беседуют?
Как мило! Он что же за мной следит?
— А ты со своей шалавой, которая тебе в штаны разве только на людях не лезет, что по ночам исключительно гравюры рассматриваешь? Не знаю… Может Ане и правда будет лучше с этим Ильей…
Вскипает:
— Да если он только ей под юбку залезет, я его…
Больше терпеть не могу. От бешенства даже мышцы на лице сводит. Распахиваю дверь и вхожу.
— Ты его — что? Убьешь? То есть тебе под юбку к Маринке лезть можно, а мне надо сидеть как монашке в красном углу под иконой и иметь лицо постное, но возвышенное, так? Да пропади ты, Федь! И имей в виду: ВСЁ! На этот раз действительно всё. Теперь я тебе скажу то же, что ты мне тогда в больнице: не появляйся возле меня больше! Никогда! Хватит рубить хвост собаке по частям. Больно же, черт бы тебя побрал! И в моем дворе тоже не появляйся! Потому что когда тебе придет фантазия следить за мной и за Ильей в следующий раз, ты увидишь, что мы в машине сидеть не останемся. Мы пойдем ко мне, в мою кровать. Или в его. Какая ближе окажется. Усек?!
Только прекратив орать, переведя дыхание и оглядевшись, я понимаю, что Виктория Прокопьевна сбежала. Да и кому охота быть свидетелем такой, скажем прямо, отвратительной сцены? Федор сидит белый. Челюсти сжаты так, что желваки надулись. В глазах бешенство. Но и я бешусь не меньше его.
Ярость моя требует еще какого-то действия, хочет как-то выплеснуться физически, не только в громком крике. И я делаю то, что не делала никогда: со смаком отвешиваю ему пощечину, а потом ещё и вытягиваю перед собой руку и сую ему в отбитое лицо кулак с оттопыренным средним пальцем. Похоже, это его доканывает. Федор хватает мою выставленную руку и одним движением заламывает мне ее за спину. Больно! Зараза! Это ж раненая рука!
— Отпусти меня, ты, дубина стоеросовая!
Но он явно не помнит себя от злости и только «наддает», заводя мою бедную конечность еще круче.
— Отпущу, сейчас так отпущу, что мало не покажется!
— Маринку свою хватай, ей, может, такое нравится.
— А вот мы сейчас как раз и узнаем, что нравится тебе. Давно хотела? Ну сейчас получишь!
Уже реву, руку рвет болью, из глаз не то что слезы — искры летят.
— Рука!
— Будет тебе и рука, и нога и все остальное прочее.
— Это у тебя, дебил, нога, а у меня рука. И бок. Больно же!
Только тут до него доходит. Отпускает мгновенно. Я валюсь на лавку, прижимая к себе свою несчастную конечность и шиплю сквозь стиснутые зубы. Как же больно! Он робко прикасается к моему плечу.
— Ань… Ань, я это… Забыл я…
Яростно дернув плечом вырываюсь и со всех ног бегу в большой дом. Уже на лестнице на второй этаж натыкаюсь на Серджо. Смотрит удивленно.
— Что это с тобой, Ань?
— Кондрат, чтоб ему, обнял!
Бегу дальше, в комнату, которую мне традиционно выделила Ксюха. Не могу никого видеть. И рука… Как же она, черт побери, болит! Хоть вой. Да я и вою. Тихо, да еще и пустив воду в ванну, чтобы этот мой вой не слышал никто. Мне их жалость не нужна. Сейчас она меня просто убьет.
Сижу на бортике в ванной, раскачиваюсь, чтобы убаюкать боль. Странно, никогда не понимала, почему так, но от этого движения действительно всегда становится легче. Может память самого раннего детства, когда мать укачивает ребенка, чтобы успокоить? Материнские руки, размеренное движение, тепло, защищенность, любовь — все это сливается в общий сильный, почти гипнотический фон и продолжает действовать на уже взрослого человека так же благотворно, как и на ребенка?
Вдруг слышу, как в мою комнату кто-то входит. Да что там входит? Врывается. С боем. Слышу топот и какую-то возню. Потом сдавленный рев Феди:
— Серег, уйди от греха. Отцепись, богом прошу. Оставь меня. Слышишь, твою мать? Отвали!!!
Видимо, итальянец пытается не пустить Федьку ко мне. Но это все равно что попробовать остановить танк, накинув ему на дуло бечевку. Последний рывок Федор совершает уже в дверях ванной, стряхнув с себя хозяина дома, как медведь назойливую лайку. Я даже сделать ничего не успеваю — ни встать, ни пискнуть. Он уже рядом со мной, а потом как подрубленный валится на колени, обхватывает меня за ноги руками и утыкается в колени лицом. Из-за этого голос звучит глухо.
— Ань, прости меня, идиота. Не хотел я ничего такого… С катушек слетел и вот… Люблю ведь я тебя… А тут…
Слова вырываются из него рвано, натужно, какими-то тяжелыми комьями. Серджо смотрит на нас, явно не зная, что предпринять. Тут за его спиной неслышно возникает Ксения, одним взглядом оценивает ситуацию и уводит мужа прочь. Я прикрываю глаза. И что теперь делать?
— Ты меня измучил, Федор. Ты причиняешь мне такую боль…
— Ань, я не хотел. Забыл, правда, схватил и даже не подумал…
— Да не про то я, Федь! Не про то…
Поднимает голову, смотрит. Глаза такие… И не объяснить.
— А про что?
— А то сам не знаешь. Тоже ведь люблю тебя, идиота, а ты… И не отпускаешь, и не берешь. Не могу я так больше, Φедь. Решай. Вот прямо сейчас и решай.
— Что решать? — почти шепчет.
— Берешь или отпускаешь.
— Не могу я тебя отпустить, Ань. Я пробовал. Не получается. И взять боюсь… Представляешь? Тебе не стыдно сказать: боюсь. Маму твою боюсь до икоты. И вообще…
Больше говорить ему не даю. Понимаю, что нельзя — ещё договорится до какой-нибудь очередной чудо-идеи. Беру его лицо в ладони и целую. Я не очень хорошо умею целоваться, хотя за последнее время в результате общения с Ильей практики у меня, конечно, прибавилось. Но я стараюсь. И кажется у меня получается. Потому как Федька, видимо, наконец-то принимает решение.
Глава 12
Пока он несет меня в комнату и выпутывает нас из одежды, глаза открыть так и не решаюсь. Мне так неловко! Но так восхитительно! Мне кажется, я не лежу на кровати, а парю над ней, столь мощные чувства меня переполняют. Как же я его люблю! Всего! И какой он, оказывается, восхитительный!
Широкий, мощный, под бархатистой на ощупь кожей так и перекатываются упругие жгуты мышц. Когда же я все-таки решаюсь открыть глаза, все становится еще лучше. Кто решил, что венец природы — женщина? Что именно красота женского тела — предел совершенства? Гляжу на Федьку и отчетливо понимаю, что никого красивее в своей жизни не видела. Меня восхищает в нем все. Лицо — жесткое, волевое, рельеф груди и рук, темные овальные соски — такие нежные, чуть солоноватые на вкус, упругая задница, за которую так здорово его ухватить и притянуть к себе поближе, мягкая, чувствительная кожа на сгибе колена, форма ступней… Да и все остальное, о чем порядочные девушки, по мнению мамы, не то что говорить, но даже думать не должны, мне так нравится, что даже дыхание перехватывает, а в голове становится темно и жарко. Моя кожа рядом с его кажется совсем белой, почти прозрачной. Мы действительно такие разные и, господи боже, как же это прекрасно!
Вдруг чувствую, как он замирает. Мышцы каменеют, руки прекращают свой восхитительный танец по моему телу.
— Чч-ч-черт…
О господи, что случилось-то? Он вспомнил, что ему срочно нужно уходить по делам?!!
— Ань, у меня резинки с собой нет…
— Какой… резинки?..
Поднимает голову и во все глаза смотрит на меня, как на заморскую диковину. Потом крутит головой и смеется.
— И остались же такие!.. У вас, у докторов наук, это презервативом называется.
— А…
— Бе!
Целует меня в нос, потом в шею туда, где колотится пульс.
— И что теперь?
— Теперь ты должна сказать мне либо так: иди-ка ты, Федя, на фиг, я за безопасный секс. Либо так: да черт с ним, с презервативом, все равно когда-то придется начинать делать детей, а чем сегодняшний случай хуже любого другого? Второй вариант ответа мне, естественно, нравится значи-и-ительно больше.
— А что, у нас все так серьезно? Чтобы уже и о детях?..
— У нас, Ань, серьезнее не придумаешь. Так серьезно, что я сам себе не верю. Что бы я, да так!..
Толкаю его кулаком в бок.
— Так что там на счет варианта с безопасным сексом?
Он тут же делается смирным и угодливым. Впрочем очень скоро нам обоим уже не до разговоров. Никогда и ни с кем не испытывала ничего подобного. Даже не знаю в чем причина. То ли в том, что умению его и опыту Казанова позавидует, то ли просто люблю я его так, что дышать не могу, сердце бьется где-то в горле, а в животе какие-то мышцы, о существовании которых я и не догадывалась, начинают сладко сжиматься и дрожать…
Потом лежим, смотрим в потолок и дышим так, словно пробежали километров десять. Сипит:
— Сестра, воды!
— Ты перепутал, сейчас моя очередь быть раненым бойцом.
Резко поднимается на локте и осматривает мои раны.
Выглядят они не очень, и я натягиваю одеяло.
— Доктор говорит — потом пластику сделать можно будет. Чтобы шрамы убрать.
— Если ты так хочешь, Ань. Тебе, наверно, и правда не стоит щеголять с такими отметинами, если есть возможность их спрятать. А то ты у меня девушка нежная, вобьешь себе в голову какую-нибудь чушь про то, что это тебя как-то портит, комплексовать начнешь.
— Это ты у нас мастер по части вбивания себе в голову чуши.
— Вот скажи мне, сильно тебе мешал твой социальный статус пять минут назад?
— Пять минут назад — нет. А теперь вот снова тревожить начинает.
Смотрю на него возмущенно — ну что еще выдумал? И тут же понимаю, что это он так пошлит, паршивец. Физиономия довольная, хватает мою руку и подносит к своему… статусу. И правда, будь такое у меня между ног, меня бы это тоже тревожило.
Когда уже опять лежим, хватая ртами сухой воздух и торгуемся, кому все-таки идти за водой, решаюсь спросить. Вопрос этот интересует меня с детства:
— Федь, а все это, ну хозяйство ваше мужское, ходить не мешает? Мне кажется за него все время ноги задевать должны… И вообще неудобно — болтается что-то, прищемишь еще…
Он принимается так ржать, что мне приходится кинуться на него и заткнуть его пасть рукой — весь дом ведь перебудим!
— Ну ты, Ань, как спросишь!
— Федь, ну я ведь серьезно. Мне правда интересно.
Отвечает очень обстоятельно:
— Не мешает ничего. Иначе давно перетерлось бы и отвалилось. Сидеть только, как вы, воспитанные девицы, любите — коленочки сжав, ну… неудобно.
Потом снова начинает хихикать.
— Забавная ты. Я таким лет в пятнадцать был… Тоже интересовался — а каково это, когда у тебя на груди две таких штуки подпрыгивают при каждом движении.
— У меня не больно-то подпрыгивают. Количество не подпрыгивательное.
— У тебя офигительное количество. И качество тоже — высшее. Это я так… Молодость свою бурную вспомнил. У моей первой женщины, с которой я девственности лишился, был размер внушительный… У нее даже на плечах такие вмятинки с годами появились — от бретелек лифчика. Завидовала она очень тем женщинам, которым не приходится такой вес ежедневно перед собой таскать…
— А я так наоборот всегда о чем-то более выразительном в районе бюста мечтала.
— Балда.
— И ничего и не балда. Ты-то вот на ту женщину внимание обратил, выбрал ее.
— Да нет, Ань, все наоборот. Мне тогда 15 было, ей тридцать… Как думаешь, кто кого выбирал?
— И как же она тебя… выбрала?
Смеется.
— Как щенка поначалу приманивала. Едой. Я расти как раз начал. В рост пер, на мышцы запасов стратегических у организма не хватало. Не стану врать, не голодали мы. Государство нас, детдомовских, хорошо кормило, сытно. Но просто. Без затей. Какие уж затеи для детей, от которых даже их родители отказались? А так хотелось! Особенно сладкого. Теперь-то понимаю, глюкозы организму остро не хватало, а тогда за конфету родину продал бы. А тут торт! Она такие вкусные пекла! До сих пор ничего вкуснее не ел. Или просто сравнивать было тогда не с чем, вот и казалось… Короче, начала она меня откармливать.
— Ей удалось, — глажу его по широченному, выпуклому плечу.
— Это меня уже в армии до товарного вида довели. А тогда, как она ни старалась, все равно тощий был. Здоровый, кости широкие, но мяса на этих костях считай и не было. Она все переживала по этому поводу. Но спуску все равно мне не давала.
— В смысле?.. — мне становится вдруг дурно. Что эта баба с ним тогда делала, что хотела от ребенка?
Опять смеется, гладит нежно по щеке.
— В смысле учебы, Ань. Ты не волнуйся, никаких ужасов в этой истории не будет. И растлением малолетних то, что было между нами, я и в страшном сне не назову. Ни один человек на земле не сделал для меня столько, сколько эта женщина. Я ж как волчонок был. Здоровенный, но глупый. Она меня и вилкой с ножом пользоваться научила, и читать приохотила. И как женщине сделать так, чтобы хорошо ей было… Да и я ей жизнь скрасил. До сих пор понять не могу, как она ко мне относилась-то. И как к сыну, и в то же время как к любимому мужчине. Да и не важно мне это по большому счету. Благодарен я ей. По гроб жизни благодарен. В церковь иду, ей первой за здравие свечку ставлю.
— Долго вы с ней?..
— А пока в армию не ушел. Туда уже написала, сказала, что все. Не хочу, мол, тебе жизнь ломать. Разбегаемся. Каждый своей дорогой теперь идет. Я переживал страшно. Но командир мне хороший попался. Повезло. Поговорил со мной по душам, выслушал и сказал, что золотая она у меня баба и все правильно сделала. Сказал: не цепляйся. А то и тебе, и ей счастья не будет. А она еще женщина молодая, может, найдет мужика, замуж выйдет, деток родит. Уговорил. Очень хороший был человек. Собственно, из-за него по военной части и двинул. Хотел стать таким же как он — командиром, отцом родным для своих солдат.
— А она? Так больше и не виделись?
— Нет, не виделись. Я даже возвращаться туда, в городок, в котором детский дом был, не стал. Служил я здесь, в Подмосковье. Тут и осел. Командир мой мне койку в общежитии выбил. А после и комнату в коммуналке. И опять мне повезло. Такая соседка у меня оказалась — мировецкая бабка. Сначала думал — того, с приветом. С книжкой даже в туалет ходила. Сидит там, читает и спорит с написанным вслух. Ну точно — ку-ку. А потом оказалась вот как ты — доктор наук и профессор. В институте преподавала. Померла уж… Но пока жива была, мне тоже спуску не давала. Спелась с моим командиром, и они меня на пару. И в хвост, и в гриву. Чуть не на пинках меня в военное училище загнали. Командир мне рекомендацию написал, она подготовила к экзаменам. Сначала учился из-под палки. Потом уж втянулся, вкус почуял. Спортом опять же заниматься продолжил…
— Каким?
— Самбо. В чемпионы не попал — больно поздно начал, только в армии, но поскольку силой бог не обидел, валял всех неплохо. Правда, как-то раз пришел к нам старичок. Сухонький такой, невысокий, но подтянутый. Смотрю, тренер мой ему разве что не в ножки кланяется. Думаю, что за фигня? Тренер говорит: «Ну, кто спарринг с нашим гостем показательный проведет?» Говорю: «Ну, я!» Молодой, самоуверенный.
— Дурень, короче говоря. Как начал меня этот дед валять. Только хруст стоял. И никакая сила мне не помогла. Он, блин, на одной только технике, на мастерстве меня как салажонка мокрохвостого уделал. Очень меня многому общение с ним научило. Не только в самбо, а вообще по жизни. Тоже эта встреча — поворотный такой момент. Передумал я тогда в военные идти. Заразил он меня спецназом. Сам там служил, такие истории рассказывал…
— Расскажешь? — спрашиваю я, и прячу зевок у него подмышкой.
— Спишь уже… Черт, Ань! Времени-то уж сколько! Ну мы и заболтались! — вдруг замирает, протягивает руку и касается моей щеки. Заговаривает уже совсем другим тоном — задумчиво, тихо. — Значит вот оно как…
— Что оно?
— Ты. И я. Мне та моя первая любовь, Зоя ее зовут, так и говорила: как встретишь женщину, с которой в постели тебе будет хотеться не только трахаться, но и говорить, значит твоя она, значит встретил ты свою половинку, свое счастье. Я какое-то время вспоминал про эти ее слова, а потом и забыл. Чего болтать-то если другие занятия есть? А оно оказывается вот как все получается: рядом красавица такая, что дух захватывает, голая и жаркая, а ты вместо того, чтобы ей вдуть… То есть… Ну, Ань, блин, короче говорить с тобой так же хорошо, как… не говорить. Вот. Ты не спи, блин! Я тут ей душу открываю, а она мне подмышку сопит уже!
— Я не соплю, я дышу.
— Ну да! И при этом похрапываешь.
— Врунишка! Я не храплю!
— Давай проверим?
И мы проверяем. Первый раз сплю с мужчиной. Засыпаю сразу, в кольце его сильных рук, прижавшись попкой к его расслабленному паху. Но просыпаюсь, когда ещё за окном темно, и после заснуть не могу никак, хотя Федька как раз совсем не храпит. Но мешает, отвлекает от сна даже его дыхание, которое щекочет мне волосы на шее. Отстраняюсь, выбираясь из его объятий. Он что-то недовольно ворчит во сне, одним собственническим движением притягивает меня обратно, удовлетворенно трется носом о мое плечо и тут же снова крепко засыпает. Я же считаю овец еще довольно долго. Отключаюсь только под утро, а потому просыпаюсь поздно и одна. Федора ни в моей кровати, ни в моей комнате нет. Как, оказывается, неприятно просыпаться в одиночестве, если заснула с мужчиной. Тем более, если этот мужчина любимый, достался с таким трудом и еще не совсем твой. Не проверенный. Сразу вихрь мыслей в голове — одна другой неприятнее. Самая первая: «Ему было плохо со мной, вот он и сбежал? Не захотел видеть мою утреннюю помятую физиономию?»
Уже собираюсь выбираться из кровати, чтобы пойти его искать, как он возникает в дверях сам. Прыгает на меня чуть не с порога. Через одеяло чувствую причину.
— Я соскучился…
Я тоже, хоть все с непривычки тянет и кажется даже болит… Теперь понимаю, почему на него бабы так и вешаются. Этот конь… в смысле жеребец — воистину неутомим! И тактико-технические характеристики такие, что на зависть нашей отечественной чудо-технике под названием «Булава».
Боже! А мама предлагала мне выйти замуж за Сашку… Когда мы наконец-то спускаемся вниз, то застаем в гостиной Викторию Прокопьевну. Сама она сидит в кресле, а на стеклянном столике перед ней лежит замызганный топор, которым Серджо рубит дрова для камина. Наблюдала как-то за ним и только диву давалась: итальянец ведь, а так ловко топором орудует, как будто всю жизнь в российской деревне прожил. Когда делюсь этими своими впечатлениями с Ксенией, она лишь пожимает плечами со странным выраженьем на лице. Чудные они все-таки ребята…
Виктория Прокопьевна тоже смотрит на нас странно. На лице вроде вина, а в глазах чертики так и прыгают. Потом наклоняет голову, открывая шею, и энергически восклицает:
— Государь мой и государыня, не велите казнить, велите миловать. Повинную голову ведь топор не сечет!
— О чем это вы, Виктория Прокопьевна? — весело спрашивает Федор, а я уже догадалась.
Вот ведь, прости господи, старушка — божий одуванчик! Макиавелли в юбке! Нарочно ведь она тогда мне показалась — взяла на моих глазах водку и две рюмки, а потом так же нарочно дверь в финский домик приоткрыла — чтобы слышала я все. Не сомневалась, что я, дура любопытная, поволокусь за ней следом, как мышь за сырным духом. И Федьку она нарочно разговорами раззадорила. Только надо ли ей в этом сознаваться теперь? Отступаю чуть назад, Федьке за спину, и прикладываю палец к губам. Она понимает тут же.
— Это я тренируюсь. К одной неприятной беседе готовлюсь. Достаточно жалобно получается?
— Еще как! — Федька смеется.
Завтракаем. На нас с Федей посматривают, но стараются сделать это так, чтобы мы их весьма красноречивые взгляды не заметили. Вид у всех довольный и умиротворенный. Как у людей, которые только-только завершили трудное дело и получившимся результатом до крайности довольны. Звонит мой телефон. Мама. Интересуется, как все прошло. Я ей честно отвечаю, глядя на Федю: «Потрясающе».
— Федор тоже был?
— Он и сейчас здесь…
Говорю и невольно затаиваю дыхание. С чего этот интерес? Что сейчас выдаст? И вдруг доброжелательное:
— Передавай ему привет.
Передаю, не скрывая своего удивления. Федька усмехается. Теперь звонит его телефон. Разговор короткий: «Да… Есть». После чего он встает, очень быстро со всеми прощается, целует меня и убегает, толком ничего не объяснив.
— На службу вызвали, — поясняет Ксюха.
А я вдруг соображаю, что работа его — это борьба с преступностью, и сейчас его, скорее всего, вызвали «на событие». А это значит, что приехав на свою «работу», он, вполне возможно, проверит оружие, напялит бронежилет и шлем и отправится в кого-то стрелять… Или от кого-то отстреливаться. А главное, его в любой момент на этой его «работе» могут убить. Короткая локальная война закончится, враг будет повержен, а мой Федор, мой мужчина, моя любовь, моя жизнь останется лежать неподвижно на загаженном асфальте, раскинув в стороны неживые, но все ещё теплые руки и уставив в небо широко раскрытые серые глаза…
Осознаю это все как-то сразу, каким-то единым невероятно ярким образом. Становится страшно. Даже совершаю бессознательное движение — подбираюсь, чтобы мчаться вслед за ним, с ним… Зачем? Остановить? Защитить? Но это его РАБОТА.
— Придется привыкать, — говорит Ксения, которая читает все эти мысли, все эмоции на моем лице, как в открытой книге.
Права как всегда. Придется. Звонит Илья. Выхожу в прихожую. Разговор предстоит непростой, но откладывать его я не собираюсь. Интересно, а Федор со своей Маринкой уже поговорил?..
В Москву меня отвозит все та же Ксюха. Всю дорогу держу в кулаке телефон. А вдруг Федька позвонит, а я не услышу? Но он не звонит. Да и вообще может сегодня и не позвонить. От того, что мы с ним переспали, мы ведь сиамскими близнецами не сделалась. Жизнь у каждого по-прежнему отдельная… Только я своей без него теперь уже окончательно не мыслю.
А он так и не звонит…
Убеждаю себя, что это — совершенно нормально. С ним все в порядке. И с нашими только-только зародившимися «отношениями» тоже все по-прежнему. То есть — хорошо. Но иногда вдруг становится так страшно!..
Утром встаю по будильнику. Мама возится на кухне. Когда я вхожу, приостанавливается, осматривает критически:
— Что это с тобой? Какая-то ты… не такая.
Тянет ответить честно: «Я переспала с Федором». Но воздерживаюсь. Просто говорю:
— Выспалась хорошо.
Хотя как раз это далеко от истины. Спала я плохо, все думала о том, как там дела у вышедшего на тропу войны майора Кондратьева. Смотрю на часы. Пора на работу. Начала писать большую статью о бароне Унгерне и его кладе. Вместо научного труда получается какой-то приключенческий роман. Но никогда еще я не работала с таким удовольствием.
Недавно только узнала, что Ксюха, та самая безалаберная матерщинница и Шумахер в юбке, о которой я все время думала как о неглупой, но все-таки «прицесске», оказалась известной сценаристкой, чьи фильмы регулярно идут по телику. Кто бы мог подумать? Решаю, что обязательно дам ей прочесть свою статью перед тем, как отправлять ее в редакцию.
Спускаюсь вниз. Бр-р-р! Какое все-таки короткое у нас лето.
И тут же улыбаюсь, вспомнив анекдот про негра, который вернувшись из России, рассказывает своим: «Зеленая зима там ещё ничего, а вот белая!» Пока что на улице зима грязно-серая. Погода мерзопакостная. Дождь и ветер. Одно утешает: по такой погоде никаких мотоциклистов с пистолетами возле меня точно крутиться не будет.
До института добираюсь продрогшая так основательно, что первым делом включаю чайник. Сижу, долблю по клавишам, изредка поглядывая в монитор. Куда чаще скашиваю глаза на лежащий передом мной телефон. Федор не звонит.
Ближе к обеду проявляется удрученный Илья и предлагает встретиться и ещё раз все обсудить. Я отказываюсь. Мягко, но со всей возможной категоричностью. А Федор все молчит.
Самой что ль набрать? Но будет ли это правильно? Вдруг решит, что я посягаю на его мужскую свободу? Кто их, мужиков знает? А я не посягаю. Я просто волнуюсь очень.
Наконец не выдерживаю и ближе к вечеру все-таки звоню. Трубку берет сразу, слышу фоном веселые голоса и какой-то достаточно громкий шум.
— Ань, ну у тебя и чутье! Я буквально пять минут назад освободился. Только собрался тебе звонить, а ты — вот она, тут как тут.
— Я только хотела узнать, как у тебя дела.
— Все ОК. Слушай, я сейчас много говорить не могу. Давай я на работу за тобой заеду, куда-нибудь сходим? Или у тебя другие планы?
Никаких планов у меня, естественно, нет, и я с радостью соглашаюсь.
— Тогда пока, целую.
— И я тебя, — почти шепчу я и чувствую, что краснею.
— Нежно?
— Очень.
— А куда?
— А куда хочешь?
— Хочу в губы, а потом ниже, ниже, ещё ниже и… вот туда.
— В пупок что ли? — интересуюсь вредным голосом, потому как чувствую себя центром вселенского внимания. Мне кажется весь отдел, затаив дыхание, следит за нитью моего разговора. Федор в ответ довольно ржет.
— И в пупок тоже. Но вообще-то я имел в виду не впадину, а выпуклость.
— И как это я не догадалась?
— Это потому, что ты у меня недога-адливая. Все, пока, Ань, мне тут ещё кое-что сделать надо. Чуть позже увидимся. Я тебя люблю.
— Я тебя тоже, — говорю я, но понимаю, что общаюсь уже с мировым эфиром. Φедор отключился.
До конца рабочего времени — всего ничего. Мои коллеги начинают собираться по домам. Кто-то губы красит, кто-то пересчитывает деньги в кошельке и добавляет что-то к списку необходимых покупок, кто-то принимается звонить домой и раздавать указания. Я жду Федора. Ведь он обещал за мной заехать. Или спуститься и подождать его у входа? На месте мне не сидится, а потому за десять минут до конца рабочего дня я уже сбегаю по лестнице вниз.
Наш старичок-охранник Висиль Петрович на своем боевом посту, а перед ним, опершись локтями на его видавшую виды конторку стоит какая-то девица. Одета она стильно. Короткая курточка до талии, узкие джинсы, на ногах сапоги вроде тех, что носят жокеи — с высокими прямыми голенищами. Хочу пройти мимо, но в этот самый момент Петрович поднимает на меня свои подслеповатые глаза и радостно возвещает:
— Так вот и она сама. На ловца и зверь бежит.
Девица оборачивается… И я с неприятной дрожью где-то в районе того места, которое ведает у меня в организме дурными предчувствиями, узнаю в ней Маринку. Бывшую (как я надеюсь) зазнобу майора Кондратьева… И что ей, интересно, здесь надо? Сцену закатывать будет с разбором полетов? Она, я чувствую, может. Тем более, если Федька уже успел поговорить с ней.
Маринкино лицо расплывается в недоброй улыбке.
— Ну здравствуй, разлучница.
— Марин, давайте мы с вами оставим этот мелодраматический бред. Никого я ни с кем не разлучала. Все мы взрослые люди и способны сами принимать решения.
— Думаешь, умная очень? И образованная?
— Думаю да, а что?
— Пойдем-ка, поговорим.
Тоскливо оглядываюсь на Петровича, но он уже снова погрузился в разгадывание кроссворда. А Маринка тем временем уверенно тянет меня на улицу, а потом за угол здания. Здесь у нас небольшой садик, в который бегают курить те сотрудники, которые все еще позволяют себе эту по нашим зарплатам в общем-то недешевую привычку. В самом институте курить категорически запретили пожарники. Все-таки у нас здесь на хранении огромное количество ценнейших документов. Их гибель в огне пожара, который вполне может вспыхнуть из-за не затушенного бычка, станет невосполнимой потерей для исторической науки.
Сейчас в садике никого нет. Во-первых, здесь темно — свет фонарей с улицы не добивает. Во-вторых, рабочий день подошел к концу, и все курильщики отправились по домам. А в-третьих, погода ну совсем не способствует прогулкам на свежем воздухе.
— Замечательно, — говорит Маринка и неожиданно с разворота бьет меня кулаком по физиономии.
Кулем валюсь на пожухлую траву возле дорожки, а Маринка тут же оказывается рядом и вцепляется мне в волосы, неудобно вздергивая мою голову вверх. А я-то, дурочка, думала, что мне лишь неприятная беседа предстоит… Шиплю от боли и ярости, но ничего сделать не могу. Очень ловко она меня держит.
Может, тоже самбо занимается? Или дзюдо. Дзюдо нынче в фаворе…
— Ну что, сучка драная? Думала, зацапала чужого мужика, и все это тебе просто так с рук сойдет?
— Я не зацапывала, он сам…
— Ну конечно! Сам! А то я не видела, как ты возле него отиралась всячески, в больничку все к нему бегала, с поцелуйчиками приставала.
Что-то я не пойму — это она обо мне или о себе? Неужели и мои действия со стороны казались такими же глупыми и пошлыми, как ее? Как, должно быть, все это отвратительно выглядит — две бабы дерутся потому, что не поделили мужика. Приз достанется сильнейшей? Тогда мне уже сейчас можно «паковать вещички». Я с ней ни за что не справлюсь. Да и рука… Словно подумав о том же, Маринка мстительно двигает коленом в мое простреленное плечо. Аж искры из глаз.
Вскрикиваю так, что по-моему сразу же срываю голос и начинаю кашлять. Она же приближает ко мне свое лицо и шипит, брызгая слюной:
— Ничего у тебя не выйдет. Не отдам. Он мой, слышишь, крыса ученая, мой!
— Марин, ну что вы несете?
Что делать-то? Никогда ни с чем подобным не сталкивалась.
Ни в школе, ни в институте, ни тем более на работе. Может все-таки права мама с ее разговорами о неравенстве разных групп населения, вызванном их социальным статусом?
Маринка вот точно — девочка с рабочей окраины, выросшая во дворе, по дворовым законам и привыкшая решать свои проблемы таким вот варварским способом. Так что же выходит? Гегемоны опять побеждают нашего брата хлипкого интеллигентика?!! Точнее нашу сестру, то есть меня… Да ни за что! Это не только русские не сдаются. Немцы тоже! Недаром испокон веков во всем мире самыми сильными и стойкими считались солдаты двух армий: русской и немецкой.
Изворачиваюсь и тоже вцепляюсь ей в волосы. Она визжит и коротко бьет меня в ухо так, что в голове звон идет. Да, стойкость духа — дело хорошее, но и подготовка важна.
Маринка драться явно умеет, может и вполне профессионально — видела же я ее в милицейской форме, а вот я — нет.
Не выпуская моих волос, Маринка встает на ноги. Это движение автоматически вздергивает меня вверх. Ее волосы мне приходится тут же выпустить. Руки нужны для другого — теперь я вынуждена быстро-быстро переставлять их по земле. Маринка за волосы тащит меня за собой, а я на четвереньках следую за ней. Едва мы оказываемся за кустами, девица отпускает меня и тут же бьет ногой в живот. Когда перестаю хватать ртом воздух, встаю на колени и пытаюсь снова вступить в переговоры:
— Марин, ну хватит уже. Вы мне все наглядно показали: вы сильнее и вы всегда можете меня побить. Но что это вам даст? Любовь Φедора? Что-то сомневаюсь я, что он вернется к вам просто потому, что впечатлится вашими ратными подвигами.
— Думаешь, я совсем дура?
Киваю — уж очень злюсь. И она тут же опять бьет меня. На этот раз целит ногой в голову, но я успеваю частично уклониться и прикрыться руками. Попадает в плечо. К счастью в здоровое — левое.
— Нет, дорогуша, я далеко не дура, чтобы рассчитывать на подобное. Зацепила ты его, сучка, я же вижу, что зацепила. Меня трахал, а любил-то тебя. Ну ничего…
— Марин, ну зачем вам так унижаться-то? Вы же красивая. У вас, небось, от кавалеров отбою нету. Найдете другого, который будет вас не только трахать, но и любить.
— Нет, тварюга. Другой мне не нужен. И он будет мой, вот только с тобой разберусь…
Она лезет под куртку и достает… Наверно это и есть «Макаров» — то самое оружие, про которое следователь сказал мне, что их в ходу тысячи, табельное ведь. У Маринки он тоже наверняка табельный. И что же получается?.. Да не может этого быть!
— На этот раз не промахнусь, — яростно щерясь заявляет она, и все мои сомнения улетучиваются. И возле «Пилзнера», и возле той пиццы на Страстном бульваре стреляла в меня именно она.
Это ж надо, чтобы у бабы на почве любви так крышу снесло!
Думала, только в романах дамы из-за мужчин под поезд кидаются, топятся или вот, например, в соперниц стреляют. Оказывается — ничего подобного. В жизни все то же самое бывает.
— Вставай давай, иди вон туда.
Дулом указывает мне в глубину сада. Оглядываюсь в тоске. Тихо, пусто, темно. Октябрь. Дни уже короткие… Интересно, если я сейчас кинусь бежать, петляя как заяц, она меня сразу подстрелит, или я успею все-таки добраться до людей? И где, черт побери, Федор? Где-то чуть в отдалении начинает звонить мой телефон. Он в сумке, которую я выронила после того, как Маринка в первый раз съездила мне по физиономии. Обе смотрим туда. Я с надеждой, Маринка подозрительно.
— Не надейся, никто тебе не поможет. И бежать не вздумай. Никуда ты от меня не денешься. Давай, давай, двигай, куда сказано. Будешь тянуть — только дольше промучаешься. Убью не сразу, дам почувствовать вкус собственной крови.
Господи, какой низкосортный пафосный бред! За кустами опять звонит мой телефон, а потом кто-то кричит:
— Анна! Анна! Ты где?
Это не Федор. Но тогда кто?.. Из-за поворота дорожки к нам выходит Илья. Он близорук, а потому не сразу видит всю прелесть открывшейся ему картины — меня грязную и избитую и Маринку с пистолетом в руке.
— Здравствуйте!
Вежливый, блин! Мама бы сказала: «Какой культурный, высокообразованный человек!» Кричу:
— Беги! Беги отсюда!
Он столбенеет, совершенно растерявшись. А Маринка… Маринка переводит свой пистолет с меня на него и нажимает на курок. Наверно, то, что я делаю дальше — ужасно. Но это единственный мой выход. Еще когда она меня волокла за волосы, а я поспешала за ней на четвереньках, мне под руку подвернулся обломок кирпича. Довольно крупный. Теперь, вооруженная таким образом, кидаюсь на Маринку. Как Матросов на немецкий пулемет. Разве что «Ура!» не кричу.
Глупо? Но делать-то нечего. Не хочу, чтобы было все как в той поговорке: что русскому хорошо, то немцу — смерть. Хочу, чтобы мне было хорошо, а не наоборот. Если уж приходится выбирать, то пусть сейчас немцу будет хорошо, а русскому (точнее русской!) — смерть.
Глава 13
Маринка начинает разворачиваться мне навстречу, одновременно поднимая руку с оружием, но я уже слишком близко к ней. Зажатым в руке кирпичом со всей силы бью ее по голове, потом ещё раз, а после отшвыриваю его в сторону и с криком несусь прочь.
Выскакиваю на улицу и ничего не видя перед собой мчусь к проходной родного института. И со всего маху влетаю в объятия Федора. Он весел.
— О! А я как раз набрать тебе собирался…
И только тут он замечает, в каком я виде.
— Что за?..
— Федь! Федька! Там в садике два трупа! Мой Илья и твоя Маринка.
— Они что коллективно покончили с собой в порыве отчаяния? Тогда почему ты такая грязная и под глазом вроде бланш наливается?..
— Нет, Федь, Маринку твою я убила. Кирпичом.
— О как!
— А она Илью!
— До того, как ты ее кокнула, или уже после?
— Федор!
— Ань, ты какую-то такую странную штуку мне рассказываешь! Я что-то никак включиться не могу.
— А ты просто пойди и посмотри! Только… Только вдруг я ее не убила? А у нее пистолет.
Почему-то только сообщение о пистолете действует на него.
Федор серьезнеет и идет к садику. Я, естественно, как привязанная следую за ним.
— Куда идти-то?
— Туда, — киваю на кусты.
Идем. И находим. Обоих. Маринка лежит, уткнувшись лицом в глину. Хорошо, что темно, и я не вижу кровь у нее на разбитой (мной разбитой!) голове. Илья громко стонет и внятно ругается. Слава богу! Жив! Федор сначала идет к Маринке. Садится рядом на корточки, быстро щупает пульс у нее на шее, потом аккуратно, натянув на пальцы рукав своего свитера, вынимает из ее расслабленной руки пистолет и отбрасывает его в сторону.
— Трупов не наблюдается. Эта жива. Ну и тот, я слышу тоже. Ты бы, Ань, ментов что ли вызвала и скорую тоже. И мне рассказала коротенько, что тут у вас…
Он не договаривает, потому как именно в этот момент Маринка приходит в себя и неожиданно кидается на Федора. Тот по-прежнему сидит неудобно, на корточках, а потому теряет равновесие и падает. Маринка оказывается сверху и с диким визгом вцепляется ему ногтями в лицо. Самбо или дзюдо позабыты. Взяли свое инстинкты. Но Φедор не я, пережив краткий шок от внезапного нападения, он ловко и как-то очень буднично скручивает Маринку и прижимает ее к земле своим здоровенным коленом.
— Ань, звони, блин! Или ты продолжения представления ждешь? Так его не будет. Я тебе обещаю.
Кидаюсь искать свою сумку. В темноте — дело непростое.
Наконец нахожу ее. Звоню в службу спасения. А потом трусцой возвращаюсь к Федору.
— Ань, аккуратненько расстегни мне на штанах ремень. Таращусь изумленно. Это еще зачем?
— Связать эту девицу-красу надо. А то прыткая очень. А ты что подумала?
Улыбается от уха до уха. Вот ведь! Расстегиваю его ремень, вытаскиваю из джинсов. Он ловко скручивает им Маринке руки за спиной, потом требует, чтобы я сняла ремень и с Ильи. Проделываю и это, попутно успокаивая раненого и заверяя его, что скорая и врачи на подходе и ничего страшного с ним уже не случится. Вторым ремнем Федька связывает Маринке ноги. Она рычит и брыкается. Господи! Совсем ума девка лишилась. В таком бешенстве, что аж глаза в темноте святятся. По крайней мере, мне так кажется.
— Так, с этой разобрались. Теперь на твоего ухажёра посмотрим.
Идет к Илье. Опять присаживается на корточки.
— Куда тебя?
— Вроде в ногу. Вот здесь, кажется…
— Точно, здесь… Ничего, жить будешь. И даже ходить не только под себя. Бинтика бы… Ань, на ключи, сбегай в мою машину, принеси из-под переднего пассажирского сиденья аптечку.
Бегу. Прохожие на улице от меня шарахаются. Видок-то у меня ещё тот, надо полагать!
Получив аптечку, Федор начинает обрабатывать рану Ильи.
Слежу за его действиями. Спокоен, движения уверенные, точно знает, что делает… Сколько раз ему приходилось после боя бинтовать своих товарищей? Или себя?
— Ну вот, доктора тебя еще чуть-чуть починят и будешь как новенький. Только ты уж с Анной рядом не трись, брат. Она для мужиков как черная метка. Только связался с ней, сразу раз — и пуля в ноге. По себе знаю.
— Да я только хотел…
Федор неожиданно меняет свой тон с шутливого на предельно серьезный. Теперь его слова звучат жестко. Даже грубо.
— А не важно мне, что ты там хотел. Только если дальше за ней таскаться будешь, не посмотрю, что ты боец раненный, так отметелю, что мало не покажется. Усек?
Илья несколько оторопело кивает.
— Молодец. А теперь расскажите мне все-таки, что же здесь, твою мать, произошло?
Подхожу поближе, указываю на извивающуюся в своих путах Маринку.
— Это она.
— Вижу, что не он.
— Федь!
— Ладно-ладно. Говори.
Поднимается в полный рост и неожиданно притягивает меня к себе.
— Рассказывай, чем вы тут в кустиках занимались. И почему у тебя фонарь под глазом и губа расквашена.
— По той же причине, по которой у тебя вся физиономия расцарапана.
Хватается за лицо.
— Сильно?
— Изрядно.
— Эх и крутая мы с тобой будем парочка, Ань. В приличном обществе не покажешься, решат, что это мы с тобой так друг другу в любви объяснялись — я тебе фингалов понаставил, а ты мне морду разодрала.
Представляю себе это очень наглядно и впадаю в ужас: что мама скажет?!! Федор тормошит:
— Ну так из-за чего все?
— Это ведь она в меня оба раза стреляла. И у «Пилзнера» и на Страстном.
— Да пиз… То есть, я хотел сказать — врешь!
— Нет, Федь. Я все на Павла думала, а это она. Сама мне сказала. Если бы Илья не появился, а я кирпич в траве не нашла, она б меня сегодня точно убила. А все из-за тебя, стрекозла!
— Чегой-то стрекозла-то?
— А тогой-то! От великой любви к тебе все. Или от ревности, тут уж как взглянуть. Она у нас девушка современная, голливудских блокбастеров насмотрелась. Вот и думала: убьет меня, и ты целиком и уже окончательно и бесповоротно принадлежать ей будешь. Одного не пойму, чего она тогда, у «Пилзнера» в меня палить стала? Мы ж тогда с тобой даже и знакомы-то толком не были.
Внезапно отводит глаза и ругается, как сапожник. Смотрю вопросительно, вскинув бровь. Вздыхает и принимается рассказывать:
— Это я, Ань, виноват. Помнишь, тогда мы с ней в госпитале случайно встретились? Она тогда еще всякие гадости про тебя говорила — мол, что ты беременная, а я жениться не хочу и тебе аборт делать придется.
Киваю. Было такое. Хотя, кажется, что так давно!
— Так вот, я ей тогда, чтобы отвязаться от нее, и сказал, что ты действительно беременна, и я собираюсь-таки на тебе жениться. Мол, прости, Марин, видишь, какие обстоятельства. Думал, теперь-то оставит меня в покое. А то она ж как клещ в меня…
— Не больно-то ты против был!
— Ну не ворчи. Виноват, знаю. Больше не повторится.
— Если повторится, Федор, то ты тоже вот что знай: не посмотрю, что ты раненый боец и майор спецназа, отметелю так, что мало не покажется.
Илья, все ещё сидящий на земле, неожиданно начинает смеяться. Федор же с интересом рассматривает меня, явно оценивая мои физические данные.
— А сдюжишь?
— Увидишь!
Смотрит мне в глаза, а потом улыбается широченной улыбкой и качает головой:
— А ведь верю…
Обнимает крепко, так что кажется косточки мои хрустят.
— Но проверять не стану. Не нужен мне никто, кроме тебя, Ань. Господи, она ведь все время была рядом, на глазах, но мне и в голову не приходило, что ей до такой степени крышу снесло, что это она на тебя покушалась. А ведь должен был если и не догадаться, то хотя бы подумать. Знал, ведь, что у нее мотоцикл есть. Ладно, что теперь говорить. Слава богу, все закончилось.
— Да, слава богу.
— В церкви давно не был, кстати. Надо сходить. Пойдешь со мной?
— Да я как-то…
— Даже венчаться?
— Ну и ну. Это что же предложение?
— Не смотри так. Самому страшно. Но знаю — это будет правильно. И хрен с ним, с этим твоим профессорством, с мамашей твоей и всем прочим.
— А как же твой социальный статус?
— Статус-то?.. — ухмыляется. — Кажется, опять начинает тревожить.
Смеюсь, и он целует меня.
— Сука! — воет связанная Маринка.
— Горько! — с издевкой кричит с земли Илья.
— Совет да любовь! — возвещает появившийся из кустов полицейский, за которым следуют медики с носилками. — А чёй-то вы тут делаете все?
ПрЭлЭстно.
* * *
После того, как врачи увозят Илью, а менты — Маринку (мой боевой кирпич, как выяснилось, особого вреда ей не причинил), Федор везет меня к себе. Живет он черт знает где, в поселке Северный.
— Зато не комната в коммуналке, а отдельный флэт. Цени!
Ценю. Просторно, чисто и очень как-то по-казарменному, я бы сказала. Не интересует Федора такое понятие, как домашний уют. Или просто не умеет он его создать. Зато кровать у него — лучше не бывает. Мечта нимфоманки или нимфомана… Э-э-э… То, что есть такое понятие, как «нимфоманка», это точно. А нимфоманы? Они есть? Это как в том анекдоте, который вырос из рекламного ролика: «Пап, а инопланетяне есть? — Нет, сынок, это фантастика. — А педерасты? Есть, сынок, это — фантастика!» Вот и тут: «А нимфоманы есть?..»
Смотрю на Федора и понимаю — точно есть и это точно фантастика!
Кровать у этого засранца огромная, низкая, в меру мягкая, в меру жесткая… Сразу понятно, где хозяин квартиры проводит больше всего времени, находясь в этих стенах. На перекладинах в изголовье болтаются наручники. Взвешиваю ближайшую пару в руке. Федор смущается и кидается их снимать, но я останавливаю его.
— Может пригодятся…
Смех-смехом, но мы и правда придумываем им применение… Никогда не подозревала о существовании скрытых садистских наклонностей у себя, но вид огромного Федора, прикованного к собственной кровати за обе руки и потому совершенно беспомощного, мне так нравится, что просто жуть. И сколько неожиданных возможностей открывается! Ведь теперь он может только решительно возражать, нервно хихикать и безуспешно пытаться увернуться. Вот только ничего у него с этим не получается. «Ань, прекрати. Ань, ты это, пальцы-то свои оттуда… Ань, где ты всему этому научилась?!! О господи, Ань! Анька… Ох-х-х…»
Утром нас будит мамин звонок. Она в очередной раз потеряла меня, хоть вчера я ей звонила и предупредила, что ночевать не приду.
— Мам, все в порядке. Спасибо, что разбудила, на работу собираться уж пора.
— Смотри не опаздывай. Культурные люди никогда не опаздывают.
Бегу в ванну. Федор уже здесь, мрачно рассматривает свою украшенную глубокими царапинами физиономию. Встаю рядом с ним и… О Господи! За ночь синяк под глазом налился победной синевой, разбитая губа распухла и тоже как-то побурела. В самый раз под венец, и жених соответствующий.
Принимаюсь хохотать. Потом икая и подвсхлипывая обрисовываю возникшую перед моим внутренним взором картинку Федору: он в смокинге, я в белом свадебном платье, а лица у нас — ну вот какие есть, такие и лица.
— Балда, — говорит он нежно и целует, стараясь не зацепить опухоль на губе. Странно, вчера, когда целовались, ни о каких моих ранах не думали, и ведь не больно было!
Продолжаю критически изучать себя. Нет, в таком виде идти на работу точно нельзя.
— Федь, а когда это сойдет?
— Ну-у-у… Недели через две…
— Да ты что!
— Наверно через неделю уже гримом ситуацию можно будет подправить.
— И что мне делать?
— Умываться и одеваться, — говорит Φедор и идет открывать входную дверь, в которую уже давно кто-то звонит.
Оказывается, что это Серджо и Стрельцов.
— Здорово, Кондрат… О! Анна! Че-е-е-ерт! А что это с тобой?.. Да и с тобой, Федь… Вы что дрались?!!
Перебивая друг друга, пересказываем вчерашние события, но по-моему эти двое так до конца нам и не верят.
Переглядываются подозрительно и все время косят по сторонам — ищут, видимо, сломанную мебель и разбитую посуду. Но ничего подозрительного, кроме наручников на кровати нет, а их из кухни, где мы сидим, не видно.
* * *
Свадьбу решаем сыграть, как только у меня подживут отметины на лице. Мама неожиданно для меня этим решением совсем не шокирована.
— Ничего. Он парень толковый, хоть и спецназовец. Да и в наше неспокойное время иметь в семье представителя силовых ведомств — полезно… Этого самого Павла ведь так и не поймали.
Права. Не поймали. И, думаю, не поймают. Я его по-прежнему очень боюсь. Хоть и выяснилось, что стрелял в меня не он, но как вспомню тот его жест, которым он меня испугал до колик в Шереметьево, так в животе аж леденеет. Тем более, что он, как выясняется, меня тоже не забыл. По телевизору пересказывают очередной эпизод из боевой и трудовой жизни героического Федора Кондратьева — дескать, вновь отличился бравый майор, уже награжденный в этом году за другой свой подвиг орденом. На этот раз спас от убийцы свою любимую девушку. Сюжет проходит вечером, а утром следующего дня Павел звонит мне.
— Привет, узнала?
Молчу. Решаю — прямо сейчас трубку бросить или…
— Я ведь опять перезвоню или подъеду. Проще поговорить и отделаться.
Зараза! Неужели я со всеми своими эмоциями настолько предсказуема?
— Говори.
— Молодец. Собственно, я только хотел тебя поздравить. Все-таки ты поразительно везучая девка. Мне бы твою везучесть, я бы горы свернул.
— Каждому воздается по делам его.
— Ты что в религию на почве всего этого ударилась? Как этот твой…
— Нет, не ударилась. Просто, всякий раз общаясь с тобой, невольно начинаю думать о вечном. Ведь ты тогда меня на верную смерть отправил. Своими руками. Чего теперь-то любезничать тянет? Совесть нечистая мучит?
— Может и так. Может и мучит. Только очень уж мне тогда деньги были нужны.
— Ну да. Сейчас еще расскажешь мне душещипательную историю про любимую бабушку, которой срочно требовалась операция…
— Не расскажу. Все равно ведь не поверишь.
— Не поверю. Я тогда твои глаза видела, Паш. Люди с таким взглядом редко знают о том, что такое угрызения совести.
— Не боишься так со мной говорить?
— Боюсь. Но я как-нибудь с этим справлюсь.
— Да. Наверно, справишься… Если бы все у нас с тобой иначе сложилось, я бы — ух!
Отключаюсь решительно. Ух. Аж передергиваюсь от этого «ух». Так, что тут же начинает болеть и рука, и ребро. Интересно у меня эти мои боевые ранения теперь всегда о себе давать знать будут? «Ноют на погоду старые раны…» У моего злосчастного предка, барона Унгерна на голове был шрам от сабельного удара, который он по молодости и неопытности схлопотал на дуэли. Потом остаток жизни у него временами дико болела голова. Многие исследователи указывают на то, что эти боли не могли не повлиять на его психику. Интересно, а мои раны повлияли на мою психику?..
Сижу смотрю на молчащий телефон. Γосподи! Ну сделай так, чтобы Павел навсегда исчез из моей жизни. Когда-то в том доме в Акше я клялась, что отомщу ему (именно ему!) любой ценой. Но теперь хочу лишь одного — больше не слышать его голос, не вспоминать лицо, не думать о том, что пережила во многом из-за него. Просто потому, что Павлу тогда нужны были деньги…
* * *
Я разрываюсь между мамой, Федькой, работой, ателье, где мне срочно шьют свадебное платье и допросами в полиции.
Следователь рад до невозможности, что еще одно глухое дело раскрылось само собой и при этом все даже обошлось без трупов. Неприятно, конечно, что арестованная за тройную попытку совершить убийство Маринка — своя, тоже работает в полиции. Но тут внезапно выясняется, что еще за два дня до того, как она решила меня пристрелить в третий раз (про первые два, видно, не придумали как отмазаться!), ее уволили из рядов по состоянию здоровья.
Впрочем, здоровье у нее и правда не очень. Из СИЗО ее уже перевезли в психиатрическую клинику. Врачи обследуют ее и вынесут свой вердикт, но следователь уже сейчас убежден, что в тюрьму она не сядет.
— Психушка по ней плачет натуральным образом. Крышак так капитально снесло, что родных не узнает. Да ещё все время кусаться и драться норовит. Вот ведь как с людьми-то бывает…
Мне Маринку отчасти жаль. Все-таки, как ни крути, не из каких-то низменных чувств она на убийство решилась. Любила ведь. Правда как-то по-своему, но все же любила. Неприятно думать, что в ее судьбе я сыграла не самую благовидную роль. Роль той самой «прицесски»… Но теперь я старше и понимаю, что никакая даже самая распрекрасная «прицесска» не сможет увести у тебя мужчину, если он сам этого не хочет…
Ладно. Не будем о грустном. В конце концов скоро моя свадьба! Сначала загс. Потом венчание. Виктория Прокопьевна, прикладывает к глазам кружевной платочек и в поисках моральной поддержки сжимает руку Шарля.
— Детки, а вы знаете, что это теперь навсегда? Теперь ваш союз закреплен на небесах и только бог может развести вас, забрав к себе одного или другого.
— Мы, Виктория Прокопьевна, пока к богу в гости не собираемся. Так что пусть потерпит немного с разводом.
— Дурачина здоровенный. Я ему о высоком, о душе, а он…
Федор смеется и целует Ксениной бабушке ухоженную ручку.
— Где будете жить? — деловито интересуется полковник Приходченко во время торжественного ужина. — Я вас, конечно, поставлю на очередь, как молодую семью, да еще семью военного, но вы, боюсь, состаритесь, пока эта самая очередь подойдет.
— У меня, наверно, если Аня согласна, — басит Федор и посматривает вопросительно то на меня, то на мою маму.
Мама возражает:
— Нет, лучше я к Феде съеду. У нас с Аней все-таки двухкомнатная, просторнее для двоих-то. Тем более, что у вас может скоро и ребятишки заведутся. Уж и не чаяла, что внуков понянчу.
— Мама! — целую ее, и она молодеет и хорошеет на глазах.
Свадебное застолье устраиваем в доме Ванцетти. В их совмещенной с кухней гостиной можно принять огромную толпу гостей. А народу набралось изрядно. Одних только Федькиных сослуживцев — человек двадцать. А некоторые из них ведь еще и с женами!
Ноги гудят от танцев, губы от поцелуев. «Горько» кричали столько раз, что мама была вынуждена вмешаться, сказав:
— Ироды. Дайте им хоть немного поесть!
— Да! — поддерживает ее Виктория Прокопьевна. — Вы-то сейчас домой вернетесь и спать завалитесь, а им ещё всю ночь тр… Как бы это по-русски?.. Трудиться. Вот.
Разъезжаются все далеко за полночь. Основную толпу увозит специально нанятый автобус. Остальные решают проблему транспортировки своих подвыпивших тел с помощью услуги «трезвый водитель». Их жены, которые и осуществляют развоз, этим крепко недовольны, но деваться им некуда. Наконец остаемся только мы с Федькой, моя мама, Виктория Прокопьевна с Шарлем, Стрельцовы и, естественно, Ванцетти.
Хотим с Федькой уже идти в кроватку. Просто-таки очень хотим. Но нас не пускают. Стрельцов и Серджо, переглядываясь и возбужденно смеясь, заявляют, что еще не подарили нам главный подарок.
— Что это вы затеяли? — подозрительно спрашивает Федор. На что Серджо встает и с неким полупоклоном вручает Федору конверт. Еще деньги? Нам и так надарили какое-то нереальное количество. Никто толком не знал, что нам дарить из вещей, вот и отделались конвертиками. Но в конверте, который передает моему мужу (как приятно это звучит!) Серджо, не деньги, а бумаги. Много.
— Эт-то что ещё такое?
Федор недоуменно просматривает документы. Все они очень официального вида, но на иностранном языке. Вернее, на языках.
— Дай-ка.
Виктория Прокопьевна забирает у Федора бумаги и быстро просматривает их. В какой-то момент руки ее опускаются, бумаги с шелестом падают на пол. Стрельцов и Серджо, чуть не стукаясь лбами, кидаются их подбирать.
— Это… откуда? — бабушка Ксении откашливается и произносит уже увереннее. — На какие шиши, детки мои, вы все это скупили? Вы ограбили Центробанк? Или сперли Стабилизационный фонд России?
— Там все сперли до нас.
Стрельцов выбирается из-под стола, аккуратно складывает бумаги обратно в конверт и на этот раз передает его мне.
— Держи. У тебя целее будет.
— А что это такое?
— Акции, дорогая, — Виктория Прокопьевна все ещё недоверчиво качает головой. — Акции ведущих корпораций мира. На сумму… Можно я не буду ее оглашать? А то мне что-то нехорошо от этой цифры становится. Записаны на ваше с Федором имя. Поверить не могу…
Оборачивается к Серджо и смотрит на него, прищурившись.
— Так как вы все это добыли?
Приятели переглядываются и начинают. Рассказывает, естественно Стрельцов, а Серджо периодически только кое-что уточняет.
— Ты понимаешь, Ань, когда тебя похитили, а Федька рассказал о том, что повесил тебе на шею радиомаяк, мы, естественно, стали тебя искать, уж извини, как черный ящик — по пеленгу. Прочесали Москву, Подмосковье — нет тебя. Сразу было понятно, что похищение напрямую связано с поисками клада барона Унгерна. А где его искать? Вывод очевиден — в Китае, в Монголии или в Даурии. Решили начать с России. Все-таки переправить человека через границу — штука проблематичная. Но на всякий случай монгольским спецслужбам тоже сообщили. А сами в Забайкалье подались. Подключили местных ребят. Федька вон обзванивал, в ножки кланялся.
— Да ладно вам. Чем я еще-то, лежа на больничной койке, помочь мог?
— Чем мог, тем и помог. Ребята взялись всерьез, и вскоре мы уже знали, в каком селе, и в каком именно доме тебя держат. Я поехал поразведать, своим глазом на все взглянуть, а Серега за свои записи засел. Сидел, сидел и высидел. Тоже примчался, клювом поводил и говорит: «Все ясно!» Я ему: «Да что тебе, морда итальянская, ясно?» Он: «Все!» И назад в Москву укатил. Вернулся через день. А в руках такая автомобильная сумка-холодильник.
Начинаю кое-что понимать.
— Моя кровь?
— Точно. Соображаешь! После того, как тебя Павел снотворным накормил, в госпитале ты ведь в том числе и из вены кровь сдавала. Часть на анализ ушло, а часть, причем большая, осталась. Федька тогда ещё попросил ее сохранить, заморозить на всякий случай, и мы с Серджо об этом знали.
Кошусь на мужа негодующе. Он в ответ только пожимает пудовыми плечищами.
— Случаи-то бывают разными.
— Вот именно, — Стрельцов воздевает палец вверх. — Пока ребята из Читы разрабатывали операцию по твоему освобождению, мы работали над своей. Тем более, что они нас в упор видеть не хотели, на пушечный выстрел к планам своим не подпускали, все мечтали москвичам нос утереть. Ну мы особо и не настаивали. В конце концов — ребята профессионалы. Короче говоря…
— Короче говоря, клад барона Унгерна мы к рукам прибрали.
— Ка-а-ак?
— А так. Когда поняли, что ты в Акше, дом с кладом вычислить труда не составило. Ты же нам сама и говорила, где именно в этом городишке у барона штаб был. А потом нам просто повезло. Естественно, первым делом познакомились с начальником местной ментовки. Ну, чтобы пути-дорожки в его тесную обитель себе проложить. Много тогда выпили, до сих пор страшно вспоминать сколько. Но я не об этом. Пили-пили, а он возьми и расскажи, что в подвале этой его ментовки есть заколдованное место. Мы ему: «Да пиз… Ну в смысле — врешь ты все». А он: «Бля буду». Серега ему: «Покажи!» Ну и повел он нас. Приходим, тычет пальцем в стену и говорит, что за ней на простук выходит пустота, но пробиться к ней стена не позволяет. Как в сказке — инструмент ломается, людям как-то хреново становится, в общем жопа какая-то. Пошли пить дальше. Ну и вскоре хозяин наш отрубился. Мы-то все это время таблетки антиопьянительные жрали, а он-то по-честному водку хлебал… Ну мы, естественно, его уложили спать-почивать на стульчики сдвинутые, а сами пошли ещё раз ту стенку осмотрели, простукали — и правда пустота за ней.
Думаем: как быть? Придумали. Я в окно его кабинета вылез и дунул в гостиницу нашу. Принес Сереге холодильник этот переносной с твоей, Ань кровью. Пошли снова в подвал. Серега немного крови твоей на стену брызнул. Сначала ничего, а потом пришлось нам обоим глаза протирать — не сразу поняли, что произошло. Все вдруг каким-то нерезким стало, а потом, когда зрение восстановилось, смотрим — а перед нами контур двери. Стали толкать ее — ни в какую. Тут Серега сообразил — остатки крови твоей себе по руке размазал, к двери этой в каменной стене прикоснулся, и она, родимая, как миленькая распахнулась. А там! Мама моя! Помню в детстве смотрел фильм про Али-Бабу и сорок разбойников. Очень впечатляюще было, когда Али-баба в первый раз в пещеру попал. Сим-Сим откройся, и все такое… А тут ведь не кино, тут ведь на самом деле!!! Всю ночь горбатились, перетаскивали ящики через окно кабинета подпоенного нами мента в машину. Позаимствовали, естественно не объясняя причин, у местных читинских ребят Газель, которую они гоняли по улицам Акши, когда пытались запеленговать радиосигнал с твоего маяка, Ань. К утру набили ее под завязку — еле влезло все. Дверь в тот схрон закрыли, и — опа! — как будто ее тут и не было никогда. А сами в Газель и в Читу. Там уже все просто. Наняли грузовой самолет. Загнали в него Газель целиком и домой. Ящики с золотом, понятно, у Сереги в подвале спрятали. Газель в овраге спалили…
— И вы все это время молчали? — Виктория Прокопьевна потрясенно качает головой. — И даже ты, Ксень?
— Они с меня клятву страшную взяли, — Ксюха неловко улыбается.
— Уж мне-то могли бы и сказать, — ворчит Машка и с негодованием смотрит на мужа.
Чувствую, дома ему за такую скрытность достанется. Федька же, как оказывается, думает совсем о другом:
— Ну вы даете! А еще называются друзья. Анька там с этими придурками сидела, в любой момент ее убить могли, а они в кладоискателей поиграть решили.
Φедор только потрясенно качает головой. Егор и Серджо начинают ерзать. Обоим как-то неловко, хотя, вроде, и вины за ними никакой реальной нет.
— Так сюрприз же мы хотели сделать, не понимаешь что ли? Да и Ане мы помочь никак не могли. Говорил же — нас и близко к операции местные не подпускали. А потом, мы ещё как думали? Если утащим все золото, может, ей и жизнь спасем. Эти типы найдут пустую комнату, подумают, что ошиблись с местом тайника. Ну не в этом схроне барон добро спрятал! А раз так, Анька им живая нужна будет. Вместе с ее кровью. Чтобы, может, в другом месте, попробовать.
— Ну? А дальше-то что? — это уже мне не терпится услышать продолжение рассказа.
— Да, — говорит мама и неуверенно обводит всех взглядом. — Что же дальше-то будет?
Вид у нее донельзя растерянный. И если я просто хочу узнать, что же предприняли Серджо и Егор в Москве, то мама явно мыслит куда шире… И заранее боится. Она всегда у меня боится перемен… Но Егор этого не знает, а потому улавливает в ее словах только то, что на поверхности, и продолжает свой рассказ.
— Дальше? Я думал — всё. Основное сделали. Теперь тебя, Ань, ребята читинские вытащат, и заживем мы… Да не тут-то было. Я-то по глупости считал, что все просто будет загнать, а Серега-то мне объяснил, как я ошибаюсь. Если сразу все на продажу вывалить — обрушим весь золотой рынок и рынок драгоценных камней заодно. Там ведь не только золото было… В итоге дело кончится тем, что нас вычислят и тупо грохнут. Начали продавать понемножку, в разных местах, через подставных лиц. В общем гимор был страшный. Но мы справились, да Серег?
— А чего ж нам не справиться-то? Мы ребята ушлые. Думали — женится Федька на Аньке, а мы им подарок к свадьбе царский. В прямом смысле этого слова.
Егор хихикает.
— А вы, дураки, чуть нам всю малину не изгадили. Уже акции на руках, бабки в банке, а вы только ругаетесь вместо того, чтобы жениться. Федька тут, у Сереги все сидел, в жилетку ему плакал, рассказывал как он тебя любит, но до какой степени не достоин — кому, мол, нужен голодранец с детдомовским прошлым и неясным будущим головореза на службе у отечества? А мы только с Серегой переглядываемся и репу чешем. Сказать — фигово, весь наш коварный супер-план коту под хвост, не сказать — тоже не здорово. Но тут вы, слава богу, поумнели. Так что вот, пользуйтесь, живите в свое удовольствие, детишек рожайте. Тут на несколько поколений транжир хватит.
— Но почему все нам-то?
— Потому, что это ты — Унгерн, и потому, что тебе из-за этого клада досталось больше всего. Да и потом… Если, честно, это не все, — сдержанно сообщает Серджо и переглядывается со Стрельцовым. — Кое-что, где-то четверть, мы с Егором себе оставили. Так сказать, комиссионные. За труды.
— Покажем, Серег?
Тот кивает, а потом ведет нас всех в подвал собственного дома. Никогда здесь не была. Поразительное место. Чем-то напоминает Форт Нокс, судя по тому, как его описывают. Стальные двери с «рулями» в середке, цифровые замки, видеокамеры. Федька осматривается и уважительно кивает.
— Здорово ты тут все переделал. И ради чего, Серег?
— Смотри, — говорит тот, распахивает очередную, на этот раз относительно небольшую дверцу вмурованного в бетон сейфа и широко улыбается…
И только глядя на эту четвертую, как говорят Стрельцов и Серджо, часть найденного клада, которая все еще пребывает в своем натуральном виде — как золотые слитки с выбитым на них двуглавым орлом и ярко сверкающие в свете ламп драгоценные камни, — мы с Федькой понимаем, сколько могут стоить бумаги в том конверте, который я так небрежно бросила наверху в гостиной, на стеклянном журнальном столике…
В ту же ночь, когда я залюбленная Федькой до консистенции подтаявшего сливочного мороженного наконец-то засыпаю, мне опять (кстати, в первый раз после того, как меня освободили из того дома в Акше!) снится барон Унгерн. Он по-прежнему одет в монгольский халат с русскими орденами на груди и все так же сидит в позе лотоса на письменном столе.
Сидит, курит и щурится сквозь дым… Он не говорит и не улыбается, но я почему-то убеждена, что этот странный человек доволен.



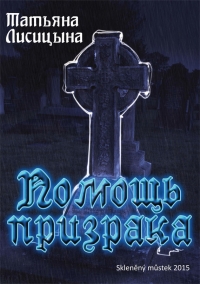






![Современный чехословацкий детектив [Антология. 1982 г.]](https://www.4italka.su/images/articles/462371/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Что немцу хорошо, то русскому смерть (СИ)», Александра Стрельникова
Всего 0 комментариев