Виктор Николаевич Кустов По метеоусловиям Таймыра
© Кустов В.Н., 2019
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства
По метеоусловиям Таймыра
Как ни молился в душе Антипин, ничего не помогло – над аэропортом висели тяжёлые облака, из которых лениво сыпался мокрый снег, и «аннушки» ровной шеренгой стояли на приколе. Но он всё-таки пошёл к справочной. Молоденькая дежурная оторвалась от журнала, привычно произнесла:
– По метеоусловиям все местные авиалинии закрыты.
– Надолго? – спросил он, хотя прекрасно знал, что на этот вопрос ему никто не сможет ответить, и, постояв, вернулся к рабочим.
– Загораем, – понятливо встретил его Харитонов. – Работа стоит, деньги идут… Так мы, с твоего позволения, начальник, отметим перелёт полярного круга…
Антипин обвёл взглядом рабочих, стоящих за спиной у Харитонова, буркнул:
– Только не до вытрезвителя.
– Обижаешь!.. – Харитонов прищурился. – Мы как миллионеры, в банке много, в кармане – шиш.
Он повернулся, вразвалку пошёл через зал на яркий указатель «Ресторан», и следом послушно потянулись остальные.
«Золотоискатели, так вас и растак», – уныло подумал Антипин, провожая взглядом сутулые спины в одинаковых, защитного цвета телогрейках. Крикнул вслед:
– Харитонов! В шесть у справочной жду!
– Замётано.
Антипин вышел на улицу.
Снег падал ещё гуще, не оставляя надежд пассажирам на скорый вылет. На горизонте смутно серели унылые пятиэтажки Алыкели и два виднеющихся вагона ждущей электрички. Махнуть бы в город к приятелям – и ожидания бы не заметил, помечтал он и с раздражением подумал о своей команде: накуролесят без него, за всё лето не расхлебаешь. Потом, с таким же раздражением, вспомнил начальство, оттянувшее вылет на два дня, а эти два дня – вот они и обернулись теперь июньской метелью.
Он курил, стоя под козырьком аэровокзала, провожая спешащих на электричку неулетевших отпускников. И завидовал им: пусть через день, два, неделю, но всё равно улетят они в свой длинный отпуск, на морские пляжи, под жаркое солнце, а у него пятый год лето проходит в тундре, пятый год купаться и загорать будет в бане да под кварцевыми лампами.
– Бородатенький, – потянула его за рукав намалёванная красавица в дублёнке. – Будь любезен, разреши сигаретку?..
Он вытащил из пачки две.
– Зачем? – Она скользнула пальцами по его руке. – Я сама могу тебя угостить…
Он оглядел когда-то красивое, а теперь уже помятое усталое лицо, стараясь поймать взгляд, но женщина отводила глаза и, кривя губы, шумно выпускала дым.
– Так я ведь, миленькая, ещё только туда, а не оттуда, так что… – он похлопал по планшету, – пустой ещё.
Она прищурилась, жеманно оттопыривая пальцы с зажатой сигаретой, постучала носком сапога по мокрому бетону; он усмехнулся – точь-в-точь, как скаковая лошадь.
– Ты мне нравишься. Когда обратно ждать?
– Когда пухлый станет, – он опять похлопал по планшету.
Женщина натянуто засмеялась, но не уходила, и Антипин спросил:
– Может, три рубля дать? Авансом.
– Я о таком мальчике всю жизнь мечтала.
– Помечтай ещё, девочка…
Он пошёл в зал, с горечью думая, что вот и здесь, у чёрта на куличках, появились ждущие девочки, с услужливым телом и цепкими пальчиками…
На выдаче багажа остались только его ящики, и дежурный, недовольно ворча, придирчиво сверил номера и вытолкнул их за перегородку. Антипин хотел попросить его помочь отнести багаж в камеру хранения, но передумал, стал таскать сам.
Потом опять вышел на улицу, хотя и так было видно, что снег не только не убавился, а повалил ещё пуще – ночь в аэропорту им была гарантирована. И хорошо, если только одна.
В маленькой гостинице мест не было, в ожидании, что кто-то вдруг съедет, в фойе томилась сонная очередь, и Антипин пошёл в комнату дежурного милиционера. Белёсому сержанту сказал, что по делу к старшему, и тот неохотно пропустил его к лейтенанту, пристроившемуся в маленьком закутке между камерой предварительного заключения и столом дежурного милиционера.
– Слушаю, – сказал лейтенант, отводя взгляд от окна.
Антипин протянул свои документы, потом пачку паспортов рабочих и, не ожидая приглашения, присел на стул. Тот полистал документы, недоуменно вскинул глаза.
– Так в чём дело?
– Контингент у меня, сами понимаете, – неторопливо начал Антипин. – И из мест заключения, и такие, что чудом там не побывали, а тут вот нелётная погода. В гостиницу их устраивать опасаюсь, да и мест нет, ну а в зале, сами понимаете, всё может случиться… Помогли бы с ночлегом, у вас вот свободно…
Лейтенант пристально посмотрел на Антипина, не шутит ли, но лицо у того было серьёзным, и произнёс:
– Попрошу ещё документы.
Антипин опять вывалил всё на стол. На этот раз лейтенант листал их гораздо дольше.
– Ладно, – возвращая паспорта, сказал он. – Учтём. Если часиков до двенадцати никого не посадим, переночуете в капэзэ, устраивает?
– Их всё устраивает.
– А вас?
– Меня тем более… Благодарю.
До шести часов Антипин побродил по залам, прочитал с первой до последней строчки трёхдневной давности «Известия». В шесть вечера у справочной никого не нашёл и поднялся в ресторан.
Рабочих он увидел в дальнем углу, в дымном тумане, и, пока пробирался к ним между тесно стоящими столиками, заметил и давешнюю «девочку». Она что-то нашёптывала заросшему грязной щетиной мужичку, ласково поглаживая обмороженные, со слезшими ногтями, пальцы. «Мальчик» пьяно улыбался.
– А, начальник… – поднялся навстречу Харитонов. – Садись, не побрезгуй.
Антипин придвинул свободный стул, выпил протянутую Харитоновым рюмку, закусил балыком.
– Красиво гуляете, – сказал он, оглядывая стол с початыми бутылками коньяка, водки, дорогими закусками.
– Напоследок… – ткнулся через стол пьяный Сёмушкин.
Харитонов положил ему на плечо руку:
– Отдыхай, Семён, отдыхай… Познакомься, начальник.
Антипин кивнул. Он уже давно разглядывал краснощёкого вербовщика, сидящего рядом с Харитоновым.
– Ну, как положено, за знакомство, – потянулся тот с рюмкой через стол, и Антипин чокнулся.
– Угощаем, значит, – сказал он вербовщику, и тот, нагло усмехнувшись, кивнул: «Угощаем».
«Знаем твоё угощение», – безмолвно продолжил Антипин, и тот так же безмолвно ответил: «а как же иначе?» И по тому, как блеснули его глаза, Антипин понял, что дело своё вербовщик считает сделанным и его, Антипина, совсем не боится.
Он положил на планшет руку, и вербовщик его понял.
– Ну всё, мужики, – сказал он. – Вы сидите, а у меня дела…
И покатил между столами, поблёскивая вытертым костюмом.
– Допьёте, найдёте меня в зале, – поднялся Антипин.
– Сделаем, начальник, будь спок.
Он вышел из ресторана, обошёл зал, но вербовщика и след простыл.
Понятливый, подумал Антипин, и без особой надежды, но всё же помолился на хорошую погоду. Больше он ничего сделать не мог…
В полночь КПЗ осталась свободной, и пьяных, но ещё держащихся на ногах рабочих Антипин разместил на ночлег.
– С вас бы не только за удобства, за вытрезвление брать деньги надо, – сказал лейтенант.
– У них в карманах дырки, брать нечего, – трезво объяснил Антипин. – Ничего, они спокойно спят.
– А вы здесь можете переночевать, – посочувствовал лейтенант, кивая на свой угол. – На стульях. Жёстко, конечно, но выспаться можно.
– Да я уж с ними, за компанию.
Антипин, подвинув храпящего Харитонова, опустился на пол у двери, снял куртку, бросил под голову планшет, хотел сдать на хранение лейтенанту наган, но передумал, сунул его туда же, под голову, и с наслаждением вытянулся, всем телом чувствуя неодолимую усталость.
…Проснулся Антипин от криков, причитаний и громких голосов. В КПЗ никого не было. Натянул сапоги, подхватил свои вещи и вышел на свет. Перед лейтенантом, размазывая слезы, сидел вчерашний «мальчик». Из расстёгнутого ворота рубашки выглядывали седые, мокрые от слёз волосы.
– Проснулись? – повернулся лейтенант. – А ваши недавно пошли завтракать.
– Стер-р-ва, – канючил мужчина. – Паскуда…
– Ну-ка, не выражайся! – прикрикнул лейтенант и, повернувшись к Антипину, пояснил: – Пять тысяч, говорит, спёрла. А кто – не помнит.
– Спасибо за ночлег, лейтенант.
Ресторан был закрыт.
В буфете рабочих не оказалось. Антипин выпил кофе и пошёл к справочной. Уже другая дежурная, ещё более юная, чем вчерашняя, сообщила, что вроде скоро должно распогодиться. Антипин потолкался у регистрационной стойки. Длинная очередь упорно дремала на ногах, и он тоже решил далеко не отходить. Только вышел на крыльцо, посмотреть погоду.
Снег действительно поредел, и тучи вроде бы поднялись повыше, отодвинулся горизонт – он теперь опирался на белую полоску тундры и последний вагон электрички.
Вернувшись, увидел спресованную толпу у стойки. Дежурная, возвышающаяся над ней, хрипло кричала:
– На Хантайское озеро за вчерашнее число. Только за вчерашнее!..
– Есть за вчерашнее! – крикнул Антипин и врезался в толпу, поднимая над головой планшет. – Вот здесь, девушка…
– Что вы мне суете?! – прокричала дежурная.
– Да не граната же, билеты там, документы…
Проклиная запропавших куда-то рабочих, Антипин пробился к стойке, расстегнул планшет.
– Сейчас, девушка, сейчас, – вытащил свои документы и снова приподнял крышку планшета, уже догадываясь, но ещё не веря в случившееся.
– Есть на Хантайское озеро за вчерашнее число?! – кричала дежурная. – Где ваши билеты?
– Простите, – сказал Антипин. – У нас на завтра, я ошибся. – И стал выбираться из толпы.
«Ах, золотой ты мой, понятливый, – думал он. – Ах ты, девочка моя лысая. Как ещё наган не унесли, а то так бы в камере и прописался. Ну, душенька, чтоб тебе намучиться с моими рабочими, чтоб тебя начальство поскорее вытурило за такую работу».
И ему казалось, что его искренние пожелания должны были дойти до ловкого вербовщика и сильно ему икалось.
Но он всё-таки заглянул к лейтенанту. Тот уже передавал дела такому же неторопливому, но строгому коллеге, и на вопрос Антипина, радуясь предстоящему отдыху, бросил:
– Не было, не было твоих, как ушли с утра, так и всё. – И насторожился: – Случилось что?
– Всё нормально, – успокоил его Антипин.
Он нашёл в зале пустое кресло и просидел в нём, оценивая ситуацию, до тех пор, пока не услышал произнесённую по динамику свою фамилию.
– Антипин Павел Сергеевич, вас просят подойти к справочной… Антипин Павел Сергеевич, вас ожидают у справочного бюро.
«Кто меня может ожидать, кроме моих болот?» – подумал Антипин, но всё же пошёл.
Сначала он решил, что в телогрейке защитного цвета стоит у окошка Сёмушкин. Но похожий на Сёмушкина обернулся и оказался незнакомым парнем.
– Я Антипин, – сказал он в окошко. – Кто меня ждёт?
– Вот этот товарищ, – высунулась дежурная, показывая на парня.
– Вы Антипин? – обрадовался тот. – Я – Жигайло, Вадим Жигайло, слава богу, догнал вас, а то боялся, придётся в тундре искать.
– Догнали, – протягивая руку, согласился Антипин. – Только зачем?
– Я – практикант, меня к вам направили.
– Прекрасно. Только вас?
– Да, сказали, что у вас рабочие есть, я буду техником.
– Правильно сказали. Ну, идём…
Антипин повёл Жигайло в ресторан.
Смотрел, как изголодавшийся практикант ест, внимал его восторгам от Заполярья, куда тот попал впервые, и думал.
– Нет у меня рабочих, Вадим, – сказал он наконец. – Сбежали. Так что пока нас двое.
Он не стал объяснять, что произошло, начальственным тоном произнёс:
– Вот здесь, в аэропорту, мы должны найти с тобой двух рабочих. И улететь сегодня. Задача ясна?
– Не совсем.
– Значит, ясна. Встречаемся возле кабинета начальника аэропорта. Чтобы один рабочий с тобой был.
…Жигайло привёл Манохина, а Антипин нашёл Сердюка. Манохин Антипину не понравился. Он смотрел исподлобья и всё время руки держал в карманах нового ватника. Сердюк же был здоровый, широкоплечий флегматик с простецким, даже несколько глуповатым лицом.
– Согласен? – спросил Антипин Манохина.
– Всё одно.
– Ну, давай паспорт.
– А это не подходяще?
Манохин протянул справку, и Антипин понял, что первое впечатленине его не обмануло. Он посмотрел Манохину в глаза и пошёл к начальнику аэропорта добывать билеты.
– Не брешет? – спросил Сердюк у Вадима Жигайло, кивая в сторону двери. – Говорит, за месяц больше чем по пятьсот чистыми будет?
– Точно, – ответил за него Манохин. – А то и вся тыща, готовь мешок.
– Зачем мешок? У меня сберкнижка есть, я деньги туда…
– Ну-ну…
…Антипин вышел из кабинета красный и злой, но с билетами.
Через толпу к стойке его протолкнул Сердюк. Дежурная сказала, что самолёт уже переполнен, но Антипин раскрыл планшет, дал взглянуть ей на воронёный наган и сказал, что везёт спешный и важный груз.
Пока они таскали ящики, пассажиры мёрзли в неотапливаемом салоне самолёта, а лётчик многозначительно стучал по часам. Потом, когда самолёт поднялся, Антипин зашёл в кабину и оставил пилотам вторую флягу со спиртом из своего «энзэ».
– Геолог? – наклонился второй пилот, засовывая флягу в карман меховой кожанки.
– Вроде… За поле, на удачу.
– Как положено… А то пусть до обратной тропы полежит, вместе и отметим… – Пилот широко улыбался, зная, что никак фляжка не долежит до возвращения Антипина и что тот понимает это, и Антипин улыбнулся:
– Тогда другая будет.
Самолёт начало бросать, и лётчикам стало не до него.
Он вернулся на свои ящики. Под крылом тянулась тундра, которая, пожалуй, не приелась ещё только Жигайло, прилипшему к иллюминатору. Тундра тянулась бесконечной и безмолвной пятнистой гладью, и Антипин удивился, что даже сейчас он не ненавидит её…
Евсеич, председатель рыболовецкого колхоза, словно ждал его, и Антипина это растрогало, хотя он знал, что так встречают здесь каждый самолёт. Они обнялись, похлопали друг друга по спинам. Евсеич увёл его к себе, велев накормить и позаботиться об остальных. Скоротали вечерок, повспоминали, но второпях, как, впрочем, всегда бывало в первый день.
Ночевали в доме правления, который Евсеич с удовольствием уступал всем приезжим. Поздно вечером, покуривая на крылечке правления, они предварительно, вчерновую обговорили маршрут, разделили участки и рабочих, а наутро вышли на маршрут.
Сердюка Антипин отправил с практикантом. Сердюк был ему ясен: трудяга-старатель, одержимый мечтой побольше накопить да побыстрее вернуться к себе в деревню, где и мамка с батькой живут, и ядрёная девка ждёт не дождётся… Манохин больше молчал, деньгами не интересовался, посмеивался над Сердюком. Но в этом молчании была какая-то опасность, в которой Антипин никак не мог разобраться. Из-за Манохина он был сердит на практиканта, который привёл того.
Антипин показал по карте маршруты, сообщил сроки, сказал, что так как они будут брать пробы двумя, а не тремя парами, а сроки жёсткие, придётся работать от темна до темна.
– Которого здесь не бывает, – с иронией заметил Манохин.
Антипин пропустил это мимо ушей: пусть считает, что он новичок в тундре, если ему хочется; но сделал вывод, что срок Манохин отбывал в этих краях. Сердюка длина рабочего дня не интересовала, по четыре часа спать, так по четыре, только бы деньги платили.
– Так каждый за полторых будет работать? – спросил он. – А заработок?
– Тоже за полторых, – кивнул Антипин. И чтобы Сердюк не мучился, добавил: – Почти тысяча получится.
Теперь он был уверен, что тот будет работать на совесть. Манохин отнёсся к сказанному вроде бы равнодушно.
Перед выходом Антипин выдал каждому по водозащитному костюму, комплекту «энзэ», распределил по рюкзакам продукты и бензин для примуса. Карабин отдал Жигайло. Он планировал в две недели закончить одно большое кольцо к северу от озера, затем, забрав в посёлке оставшиеся продукты, – второе, поменьше.
Сразу за посёлком разделились, разошлись вдоль разных речушек. Замеряя показания, занося всё новые и новые данные в блокнот, Антипин иногда ловил себя на мысли, что всего лишь месяц – и кончится его пятилетняя бродяжья жизнь, кончится, закроется тема в его институте и подойдёт к концу его кандидатская. Нет, он хотел вернуться в тундру, хотел, но только после длинного жаркого лета, после тёплого моря, и наконец-то без цели, без вечной гонки, спешки, без рюкзака, пригибающего к земле. Приехать туристом, пощёлкать фотоаппаратом, полюбоваться экзотикой, попить чайку недалеко от посёлка, но в настоящей тундре, и вернуться на комфортабельный пароход с уютной каютой, душем, унитазом…
Манохин послушно, но без энтузиазма выполнял всё, что Антипин приказывал: таскал рюкзак, брал пробы, но если выдавалась свободная минута, садился и тусклым взглядом озирал тундру, блюдца озёр, болота и Антипина. По вечерам, почти не ошибаясь, кто раньше, кто позже, обе пары выходили на место ночёвки. Если рядом оказывались чахлые деревца, разжигали костёр, если нет – кипятили на примусе чай и ужинали консервами. Консервы и концентраты – это всё, что несли они на себе, остальное давала тундра. Больше всех везло Сердюку. И рыба ему попадалась крупнее, и утки чаще вылетали на него. К концу недели карабин перекочевал к нему, и Жигайло, постигший правоту пословицы, что в походе и иголка тяжела, был этому только рад.
Первый маршрут сделали в планируемые две недели. Председатель колхоза приготовил им сюрприз: протопил баньку. После баньки Антипин распечатал припрятанную именно для такого случая бутылку спирта.
– Ну, Евсеич, за очередное лето. – И повторил, что говорил при каждой встречи за пять лет: – За богатую тундру.
– За тундру, Сергеич…
Жигайло опьянел сразу. Это было неудивительно после двухнедельного недосыпания, после почти двухсоткилометрового маршрута по болотам и кочкам, и, слушая его пьяные, но не лишённые мысли разлагольствования, Антипин подумал, что Вадим практику выдержал. И не только производственную… А может, даже не столько производственную…
– Давай ещё смажем, – сказал Евсеич и достал свою, припрятанную тоже для такого случая, бутылку.
– Что, скрипят? – спросил Антипин.
– Скрипят, – поморщился председатель и потёр припухшие колени.
– На грязи тебе надо да на горячий песочек, – в который раз повторил Антипин говоренное и прошлым, и позапрошлым летом.
– Я уж и так в непогодь в море не хожу.
– А вы что, всё время здесь живёте? – спросил Сердюк.
– Так и этак, считай, лет двадцать, – отозвался Евсеич.
И охотно стал рассказывать, о чём Антипин хорошо знал. Как не по своей воле попал Евсеич в Норильск, отработал положенное, вернулся в родной провинциальный городок в центре России и не застал в живых ни мать, ни отца. Не дождалась его и жена, уехала с новым милым на целину. Ехал домой, а оказалось, что нет у него никого и ничего. И от такой тоски и одиночества развернулся Евсеич опять и полетел на Север. Тут его один приятель и подбил в рыболовецкую бригаду махнуть.
– Помянем, – сказал Евсеич, и все выпили, хотя только один Антипин знал, кого помянули. Приятель Евсеича лет десять назад утонул в озере. Его не нашли, но Евсеич соорудил памятник: на скале, нависшей над озером, поставил плоский, окатанный холодной водой камень и каждый год подновлял на нём надпись. Надпись эту Антипин хорошо помнил: «Не отцу, не брату, не другу, самому себе, каким был, каким стал и каким умру. Скорблю и внемлю. Здесь похоронен Сидор Макухин – человек».
– А как вы с местными живёте, нормально? – спросил Сердюк. – Ничего народ?
– Народ хороший, работящий.
– Так вы и по-ихнему говорите?
– За двадцать лет я уж многому научился, – усмехнулся Евсеич.
Сердюк расспрашивал о заработках.
Жигайло спал, по-детски пуская слюни.
Манохин вертел в руках кружку и, всё краснея, не спускал глаз с Евсеича. Вдруг спросил:
– Доволен?
– Живу, – ответил Евсеич.
– Денег, наверное, мешок скопил?
– Деньги-то есть, тратить здесь их некуда. Могилки родительские в порядок привёл, главное сделал…
– Да не счастлив ты, притворяешься! – с нескрываемой злобой перебил Манохин. – Гниёшь тут, а довольного жизнью корчишь, для простачков.
– Манохин… – предупреждающе произнёс Антипин.
– Что Манохин? Говорю, что думаю, запретишь?.. Запрещать все любят.
– Пусть, – вступился Евсеич. – Человеку выговориться надо, пусть.
– Ладно, этот, деревня, – кивнул Манохин на Сердюка, – он хоть не скрывает, что деньги любит, а то – «народ хороший, привык, дело делать надо»… Кому надо? Жизнь – это когда всё есть, когда что хочешь, то и делаешь, что хочешь – покупаешь, куда хочешь – едешь. Да если б ты, старик, волен был, ты в этой дыре часу лишнего не высидел бы, а начальник, тот никогда б на Севере и не побывал… Честно надо: жить не умеете! Сил нет на настоящую жизнь. Притворяетесь…
– А ты? – спросил Антипин.
– Я?.. – Манохин медленно допил спирт. – У меня сила есть. Только не дают всякие-разные… А каждый в жизни о себе думать должен. Ты для меня пальцем не пошевелишь, и я для тебя. Своя шкура – главное.
– Он прав. – Евсеич потёр коленки. – Ломит… Прав он, Сергеич, каждый о себе должен думать, только не по тому кодексу, через который и я прошёл, а по человеческому, общему… Как Сидор, который на перевёрнутый баркас всех разместил, а самому места не хватило.
Манохин заскрежетал зубами и вышел.
– Ничего, – повернулся к Антипину Евсеич. – Правильно сделал, что с собой взял. Раз заговорил, значит, сомневается.
– Нервный он, – добродушно произнёс Сердюк. – А если за деньги, плохо разве?.. Я ж не краду, своими руками, вот. – Он вытянул широкие мозолистые ладони. – А если кому надо помочь, я и за так, просто, что Сердюк – не человек?..
Он вышел за Манохиным. Поднялся было и Антипин, но Евсеич придержал:
– Сами разберутся, ничего… Так обратно ждать в срок?
– Думаю, успеем, – кивнул Антипин.
За стеной бубнили.
Он прислушивался к интонациям, но разговор, похоже, шёл мирный.
Первым вернулся Манохин, молча завалился спать.
Поёживаясь вошёл Сердюк, принеся с собой прохладный, пахнущий рыбой воздух. Помог Антипину уложить уснувшего за столом практиканта. Прихрамывая то на одну, то на другую ногу, пошёл к двери Евсеич. Антипин вышел с ним на крыльцо. Там уже ждал молодой эвенк Алексей, который называл Евсеича отцом. Он подставил плечо, и Евсеич, опершись на него, спустился и медленно, держась за Алексея, побрёл в сторону своего дома.
…На третью неделю пригрело солнышко. Белые шапки снега на северных склонах недалёких гор посерели, стали на глазах уменьшаться. Тундра оживала. Откровеннее всех стремительному наступлению заполярного лета радовался Жигайло. Радовался и поражался, как некогда поражался Антипин, прежде чем поверил в своеобразную, суровую жизнь в этих, безжизненных на первый взглдяд, безлюдных просторах. Поверил и принял.
Хозяйственный Сердюк досаждал вопросами о ягодах, дичи, куда сбывать добычу и почём, да и Манохин вроде разошёлся, не так уныло стал оглядывать болота, оживившиеся длинноногими шустрыми куликами и суетливыми утками. И всё-таки нет-нет да ловил на себе Антипин его изучающий взгляд.
Как ни торопились, но к намеченному сроку уложиться не успевали. Поползли наледи, вскрылись болота, и прочерченный на карте маршрут приходилось постоянно корректировать.
Антипин решил не делать больше совместных ночёвок; договорившись с Жигайло встретиться через три дня, они разошлись. После первой ночёвки он понял, что сделал это напрасно, потому что проснулся разбитый, с ломотой во всём теле. Понял, что заболел, но, преодолевая слабость, уложил рюкзак, нацепил планшет.
К обеду он почувствовал себя хуже, но не подал виду. Велел Манохину открыть консервы. Начал спускаться к речушке, возле которой остановились, но каждый шаг отзывался тупой болью, и Антипин вернулся, впервые нарушив им самим заведённый порядок.
– Я открою, – забрал у Манохина банку. – Возьми пробы.
Манохин ничего не сказал, но всё так же продолжал сидеть на подсохшем мху прогретого пригорка. Чувствуя, как наливаются свинцовой тяжестью ноги, Антипин спустился к воде сам, сначала бросил в рот пару таблеток, потом набрал пробирки. Повернулся и растерянно замер.
Манохин стоял на пригорке, и в его вытянутой руке чернел наган. Антипин сунул руку в карман куртки, но Манохин хрипло сказал:
– Твой наган, не ищи.
– Выпал, значит.
– Не выпал, начальник. – Манохин обхватил рукоятку двумя руками, и Антипин увидел чёрный маленький круг, направленный в его переносицу. Глаза у Манохина были белыми и невидящими, и Антипин почувствовал, как по лопаткам, позвоночнику прокатилась горячая волна.
– Страшно? – скривил тонкие губы Манохин.
– Страшно, – хрипло ответил он. – Только зачем тебе? Денег у меня – двести рублей на обратную дорогу. Да и не уйдёшь отсюда, только на озеро…
– Страшно всё-таки. А я думал, что не испугаешься. – Манохин опустил левую руку. – Возьми.
Антипин качнулся и медленно пошёл к нему, стараясь не смотреть в это притягивающее отверстие, физически ощущая, как «отпечатывается» оно то в одном, то в другом месте его тела.
– Эх, начальник… – срывающимся голосом произнёс Манохин. – Жизнь моя и так загубленная…
И выстрелил.
Антипин пригнулся, уже не в силах не смотреть на покачивающийся ствол и пуля прожужжала над его головой.
Манохин опустил руку, разжал ладонь и носком сапога толкнул упавший наган к Антипину:
– А если ты меня убьёшь, пойдёшь ведь со смягчающими, в целях самозащиты…
– Как убийца.
Антипин поднял наган, прокрутил барабан, выбрасывая патроны в болото и, разрядив, рукояткой вниз засунул его в рюкзак. Опустился на мягкий мох, переждал черноту в глазах, стал записывать показания приборов.
Манохин молча постоял над ним, потом с пробирками спустился к речке.
…На следующий день Антипин почувствовал себя совсем худо. Его знобило, на шеё зловеще набухал фурункул. Он прикинул по карте, где могут быть Жигайло с Сердюком, и весь день они шли с Манохиным, как туристы на экскурсии, не делая замеров. Антипин, тяжело дыша – впереди, преодолевая всё усиливающуюся слабость. Манохин молча шёл следом, иногда что-то насвистывая или отбегая в сторону, чтобы спугнуть увлёкшихся поединком драчливых петухов. Всё чаще Антипин ложился отдыхать. Лежал, хватая ртом колючий воздух. И Манохин ложился, лениво жуя вытаявшую из-под снега морошку…
После обеда они наткнулись на следы, и Антипин отправил Манохина догонять мужиков, а сам побрёл следом. Одному идти было легче, он не тянулся из последних сил, чаще останавливался, ожидая, пока успокоится колотящееся в груди сердце. Ему было уже безразлично, закончит он в этом году диссертацию или нет. Ему был безразличен Манохин. Ему было безразлично всё, кроме упругой, кочковатой, покрытой мхами, остатками снега и водными зеркалами тундры. Так он шёл, наверное, долго, потому что сухость во рту стала обжигающей – ведь когда Манохин уходил, он совсем не хотел пить. Антипин думал, как хорошо в пустыне, как жарко, как приятно это, когда жарко, когда прожигает насквозь…
Сначала он увидел Сердюка, стоящего на самом краю горизонта, и только потом Манохина. Сердюк был далеко и где-то вверху, а Манохин рядом и внизу, были видны только его плечи и руки, вскинутые кверху и судорожно цепляющиеся за воздух. Манохин молча скрёб пальцами по скользящему во льду мху и, увидев Антипина, сдавленно прохрипел:
– Всё. Хана мне…
И тогда Антипин догадался, что того засасывает болото, что Манохин не отдыхает, как он думал секунду назад, а медленно уходит в тягучую жижу.
– Держись! – прохрипел Антипин и, сбрасывая рюкзак, стал искать глазами хоть какой-нибудь кустик. Но вокруг безбрежным полем стлался мох.
Антипин лёг на край болота, но не достал ищущих рук Манохина. И тогда он стащил болотные сапоги с длинными отворотами, двумя чёрными лыжами бросил их в трясину, сорвал куртку, накинул сверху, лёг на неё, чувствуя, как медленно проваливается вниз, но всё же успев втолкнуть руку в цепкие пальцы Манохина.
– Ногами не шевели, – прохрипел, сплёвывая холодную коричневую жижу, заползающую в рот, и тянул, тянул Манохина, проваливаясь сам всё больше и больше.
Лицо Манохина приближалось, и глядя в его глаза, Антипин подумал, что если и есть в человеке душа, то душа Манохина сейчас в этих огромных глазах…
Потом Манохин сумел ухватиться одной рукой за кочку и, плеснув в лицо Антипину сгусток грязи, пополз к берегу, а Антипин поехал на куртке в другую сторону – туда, где только что был Манохин. Он уже весь был в коричневой жиже, только пальцы ног всё ещё чувствовали мокрый мох и руки упирались в податливую ткань куртки там, под грязью, и их можно было выдернуть. Он их выдернул и почувствовал, как потянула его к себе ненасытная и бездушная глубь, подумал, что дело дрянь, но тут кто-то сильно дёрнул его за ноги и он окунулся в вязкую жижу…
Антипин пришёл в себя от тепла, расходящегося по телу. Жигайло прижимал к его губам фляжку, и он, ещё раз глотнув, спросил:
– Манохину дали?
– Дали, – сказал Жигайло. – Вон он, сушится.
Манохин сидел между маленьким костерком и гудящим примусом и смотрел на Антипина.
– Ну как? – спросил Жигайло.
– Нормально, – кивнул Антипин.
– Тогда я пойду, помогу Сердюку, он там в километре отсюда сушняк нашёл.
– Иди.
Антипин лежал и смотрел на солнце. Красный шар скользил по горизонту, и Антипин подумал, что сейчас по метеоусловиям Таймыра все маленькие и большие порты и днём, и светлой ночью будут бесперебойно принимать борта.
Манохин перетащил его вместе со спальным мешком к костру, поставил рядом примус и сел, плотно прижавшись к его спине.
– Скажи, зачем ты полез ко мне? – хрипло спросил он.
Антипин помолчал, всё ещё думая о лётной погоде, потом ответил:
– От страха… Страшно, когда рядом кто-то умирает. Страшно…
…К следующему вечеру Сердюк и Манохин вынесли его к посёлку. Жигайло связался по рации с Норильском, самолёт обещали прислать утром. Евсеич натопил баньку, и вдвоём с Алексеем они пропарили Антипина, закутали в оленьи шкуры, и ему снилось, что он лежит на огромном раскалённом пляже и самое живительное тепло – тепло земли – множеством игл пронизывает его тело…
К самолёту он хотел идти сам, но его уложили на носилки, и Манохин с Сердюком осторожно поставили их возле кабины. Жигайло сел рядом. Рабочие всё ещё стояли, и Антипин попытался пошутить:
– Так стоя и полетите?..
– Останемся мы, – отозвался Сердюк. – Я там Вадиму всё записал, пусть деньги перечислит на книжку. С Евсеичем мы… Порыбачим… Выздоравливайте, на следующее лето прилетайте.
– Дождёшься?
– Дождусь, – твёрдо пообещал Сердюк.
Он загремел сапожищами, а Манохин задержался, поглядывая на Жигайло, и Антипин сказал:
– Где там Евсеич? Взгляни, Вадим.
Жигайло понятливо оставил их одних.
– Ну что, Манохин, и ты остаёшься?
– Не говори, что запомнишь, – сказал Манохин. – Я тоже постараюсь скорей всё забыть. Неприятное надо забывать. Если милиции понадоблюсь, зимой здесь найти смогут.
– Живи, Манохин, – сказал Антипин. – Никому ты не нужен. Вот только если Евсеичу…
Он протянул руку, и Манохин, помедлив, протянул свою. Его ладонь, крепко сжимавшая антипинскую, подрагивала.
Поднялся в самолёт Евсеич, поставил в угол мешок вяленой рыбы, перекрестил Антипина.
– Не верующий, но на всякий случай.
Глаза у него заблестели, и Антипин подумал, что на следующее лето он обязательно увезёт Евсеича с собой в отпуск, на лечебные грязи.
Зашли лётчики, отобедовшие в колхозной столовой, зашумели, погнали прочь провожающих, и командир спросил Антипина:
– Ну как, летим?
– Летим, – сказал Антипин. – Как там, по метеоусловиям?
– Всё нормально, – ответил тот. – Круглые сутки солнце. Лето.
Антипин приподнялся на носилках, Вадим Жигайло подложил ему под спину рюкзак, и он увидел в иллюминаторе тёмную рябь озера, покачивающиеся баркасы и фигурки людей. Он увидел тундру, освещённую ярким солнцем, с блестящими зеркалами нерастаявших снегов…
Пять дней в сентябре
5 сентября. Ночь
Проснулся Коробов от тишины. Она была так обманчиво похожа на другую тишину, что он воочию увидел остывающие угли, белеющие линии удилищ, спохватился, что надо бы разжечь костёр, вскипятить чай, а то можно и так, не сдерживая нетерпения, рвануть к перекату, закинуть удочку под первый, облюбованный издали камень, в пенный круговорот подвести мушку.
Обойдусь без чая, решил он, и вдруг что-то в этой тишине показалось ему странным. Он открыл глаза.
Над головой матово отсвечивал потолок вагончика, свет от лампочки, висевшей на столбе за окном, пронизывал красновато-жёлтым лучом.
Почему тихо, подумал он, и, словно подслушав его мысли, забубнил один дизель, потом другой…
Коробов повернулся на бок, упёрся коленками в холодящую стену, собравшись вернуться в приятный сон, но что-то в звуке работающих дизелей его насторожило.
Он сел. Нащупал сапоги, портянки. Намотал их, всунул ноги в холодную кирзу.
На верхней полке зашевелился студент, свесил голову:
– Что, пора уже?
– Спи, – сказал Коробов. – Ещё рано.
Студент облегчённо вздохнул, отвернулся к стене, задышал ровно и глубоко.
Коробов вышел на улицу.
Вышка светилась в ночи праздничным треугольником, и отсюда, от вагончиков, казалось, что там всё спокойно. Глядя на вышку, на бледнеющие звёзды, он достал папиросы, прикурил. Смотрел и курил. Хотелось верить в лучшее, но дробящийся звук, застывший элеватор оставляли всё меньше и меньше надежд. Он уже не сомневался, что Ляхов тянет на пределе. Стоит, упёршись ногами в дрожащий металлический пол, немеющими руками сжимая рукоятку тормоза лебёдки, не сводя глаз с дёргающейся стрелки. Деление – тонна. Одна, вторая, третья…
Дизели взревели и смолкли. Ровно постукивал только один из них, дающий свет и тепло.
В проёме буровой показался Ляхов.
Он начал спускаться по лесенке, но на середине остановился, и Коробов увидел, как от крайнего вагончика отделилась сутулая фигура мастера. Петухов шёл не спеша, словно ничего не случилось, шёл так, как всегда ходил по площадке: не поднимая от земли глаз и при этом умудряясь всё видеть. Он поднялся на помост, остановился, и Ляхов стал объяснять, как случился прихват, на каких режимах работал. Коробов знал, что сейчас Ляхов воздаст и ему за то, что не поменяли днём канат, хотя менять надо было позарез, да уж так шло долото, набирая метры проходки, что не удержался он, опустил инструмент в забой на старом канате.
Обозлился на Ляхова, понимая, что злиться надо на себя, и направился к вышке. Сначала он шёл быстрым шагом, потом поубавил, рассудив, что Ляхов ещё долго не стихнет, а слушать его сочные многоэтажные матюки желания не было. Тем более сейчас, когда между ними чёрная кошка пробежала. И повздорили-то из-за пустяка, практиканта. Студент был сначала в вахте Ляхова. Видел Коробов, как тот почём зря гоняет практиканта, учит уму-разуму. Бог с ним, пусть бы учил, порой это на пользу, а то ведь такие инженеры вылупляются, с какого бока к буровой подойти, не знают, так что в принципе Коробов был не против учения, но только не такого. Вот и не выдержал.
Остановил парня, когда тот бежал в вагончик за папиросой (Ляхов наказывал приносить только по одной папиросе, не больше, чтобы не сырели на буровой), и повёл к Петухову.
– Пусть у меня работает в вахте, – сказал он.
Мастер оторвался от рации, помолчал, разглядывая покрасневшего практиканта, перевёл взгляд на Коробова, буркнул:
– Обратно отправить захочешь – не разрешу.
– Ладно, – подтолкнул парня в спину Коробов. И выйдя следом, приказал: – Переодевайся, отдыхай. Пойдёшь в нашу смену.
– А как же… – Тот замялся.
– Я сам скажу Ляхову.
– Тут ещё папироса… – Студент протянул «беломорину».
– Выбрось, – сказал Коробов и пошёл на буровую…
Ляхов выслушал Коробова улыбаясь. Потом сплюнул, выдернул из замусоленной пачки Цыганка папиросу.
– Больно ты того, образованный стал, – гоняя папиросу во рту из угла в угол, прогремел он. – Сам учить хочешь?.. Ну, учи-учи, педагог… Соплишки ему высмаркивай, а он тебе через два года на шею сядет, отыграется. Чо жалеть-то?.. Пока ты сверху – пользуйся. Точно, Цыганок, а?
Цыганок рассеянно улыбнулся, махнул рукой:
– Я это, поглядеть надо, что-то стучит там… – И побежал к дизелям.
– Ну ладно, – зло сказал Ляхов. – Бери сопляка, мне легче будет, а то вроде и есть помбур, и нет его. Законного требовать буду. Но учти, друг, мне это не ндра-вит-ся, – по слогам выговорил он.
– А мне твоё «ндравится – не ндравится» знаешь до чего?.. – Коробов еле сдерживал себя. – Вот так-то, друг…
Студент стал работать в вахте Коробова. Был он парнем неплохим, бойким, схватывал всё на лету. Ляхов презрительно поглядывал, но молчал. Может быть, со временем эта ссора забылась бы, если б не мешала память о давнем разговоре. Тогда Ляхов только появился на буровой. В первую заездку показывал «фирменный» класс работы, после чего Коробову пришлось раньше срока менять канат. А по дороге домой Ляхов заявил, что в Якутии, где он до этого «трубил», он «делал деньгу», а вот тут пришла пора орден «заиметь».
– Моё слово, получу!.. А ты что, бурило, ещё не повесил на грудь, зажимают?
– Зачем он мне. – сказал Коробов. – Разве это главное в работе, в жизни?..
– Чудила ты… А что ж, по-твоему, главное?.. На этом да на вот этом, – Ляхов пощёлкал пальцами, – мир стоит. За последнее всё что захочешь иметь будешь, а почёт тебя над людьми поднимет. Это немаловажно, где ты: выше или ниже. Ты со мной не темни, я говорю откровенно… Ты ведь думаешь так же, только боишься вслух сказать.
– Брось трепаться. На поезд опоздаем…
Ляхов пытался ещё что-то рассказать, но Коробов не слушал. Ему было неприятно. И почему-то стыдно…
Три года Ляхов «давал» метры. Ордена он, правда, не заработал, но из передовиков не выходил. На Доску почёта управления портрет повесили, премии получал исправно, в президиум выбирался. Но только с того вечера старался Коробов с ним меньше встречаться. Видел, как делались эти рекордные метры. Даже на другую буровую уходить собирался, да Петухов уговорил подождать…
Ляхов, кажется, успокоился, затопал вслед за мастером.
Тот постоял перед приборами, обошёл ротор, махнул рукой Цыганку и взялся за рычаг тормоза лебёдки. Цыганок включил дизели, тишина разорвалась, унеслась в распадок. Коробов присел на сложенные рядом с помостом трубы, поглядывая то на поднимающееся солнце, то на налёгшего на рычаг Петухова. Элеватор дрожал, как пуговица на резиновой нити. У младшего Коробова теперь такая игра: резинку в дырочки пуговицы пропускает, потянет за концы, а пуговка бесится…
– А вот и виновник торжества. – Ляхов чертыхнулся. – Из-за него прихватило. Не канат, я бы в три счёта вырвал…
– Ладно, кончай митинговать, – остановил его Петухов. – Кто виноват, с того спрошу сам. Сколько времени-то? – Он вскинул руку. – Ого, шестой. Что ж ты не спишь, Васильич? Ещё час законный… А ты, Виктор, не гоношись, не пугай дичь, и так всю распугали. Пойди-ка проверь ёмкости, задвижки, сдашь вахту в таком виде, чтобы после замены каната промывочную жидкость готовить начал.
Петухов повернулся, словно не замечая недовольства Ляхова, пошёл в дизельную. Помедлив, следом шагнул Коробов. Ляхов сплюнул, проводил взглядом его спину.
…В Якутии первым учителем Ляхова, тогда ещё салажонка, был Крутов. Мужик крепкий, ладный, всегда чисто выбритый и улыбающийся, он никак не походил на уголовника, но на буровую пришёл, отсидев шесть лет за какие-то махинации. Работать Крутов умел, начальству нравился, и Ляхов тогда привязался к нему. Научился так же энергично рубить слова, обещать твёрдым голосом, глядя прямо в глаза. Научился, если что надо, доставать из-под земли, не брезгуя ни уговорами, ни взятками, ни угрозами. Одним словом, школу он, как потом понял, прошёл неплохую. Пригодилась она ему в армии, где через два месяца он умудрился перейти в офицерскую столовую на раздачу. Там и прослужил два года. Вернулся на буровую и без угрызений совести оттеснил Крутова, вывел свою вахту в передовые, стал гнать бешеный процент. Даже Крутов сначала не мог его раскусить, а когда наконец понял и пришлось с ним делиться, Ляхов переехал на новое место…
– Устин! – крикнул Ляхов.
Из дизельной вышел первый помбур. Прошёл к лебедке, снял с кожуха верхонки, посмотрел на Ляхова.
– Чо смотришь? – сорвался Ляхов. – Чо ты как рак вылупился?.. Опять грелся, опять поясница ноет, а я тут за всех вкалывай! Где верховой?
– Наверху, – спокойно сказал Устин. – Спит, поди.
– Так буди его! И уберите всё лишнее возле лебёдки, сменщик канат менять будет.
Устин стал подниматься наверх, а Ляхов пошёл к емкостям. Длинной рейкой тыкал в маслянистую жидкость, скрежетал зубами. Было ясно, что их вахте придётся готовить раствор, таскать мешки, бегать по этим чёртовым емкостям, а Коробов только канат сменит. Чистоплюй… Ляхов выругался. Но вдруг вспомнил, что ещё два месяца – и всё останется в прошлом. И что не Коробов, а именно он, Ляхов, едет работать в Сирию. Сколько желающих было, а вот утвердили его. Ляхов это сознавал, он ценил оказанное доверие и радовался, представляя, как будет возвращаться через два года обратно на «Волге»… Ту самую малость, которой не хватает, там и доберёт. А то, гляди, ещё и орден заработает… От этих мыслей он повеселел. Стоя на металлическом мостике, перекинутом через ванну, представил, как проедет по Сосновке, загорелый, приодетый, поблёскивая новенькой «Волгой» и новеньким орденом: знайте Ляхова и уважайте.
Только размечтался, как увидел подходившего верхового.
– Выспался, – многозначительно произнёс он. – Бурило вкалывает, а верховой дрыхнет на потолке, совести ни на грамм.
– А ты не шуми. – Женька Зотов потянулся, зевнул. – Каждому своё. Тебе вот ругаться нравится, мне – спать…
Так хотелось Ляхову осадить верхового, но, встретив взгляд наглых Женькиных глаз, побоялся. Однажды он уже пытался проучить того по своему разумению, а вечером, возвращаясь с реки, где проверял «морды», столкнулся с Зотовым на тропе. Тот стоял на дороге, сжимая в руках мелкашку. Ляхов остановился, что-то не понравилось ему в позе верхового. Он вспомнил, что Женька недавно вернулся из лагеря, где отсидел срок немаленький. Верховой вскинул винтовку, пуля ударила в пень рядом с Ляховым.
– Ставь коробок, – хрипло сказал Зотов. – Ставь коробок на пень, кому говорю…
– Ты чо, паря? – сделал шаг вперёд Ляхов, и вторая пуля взбила фонтанчик пыли перед ним.
– Ну…
Трясущимися руками Ляхов поставил на пень коробок и не успел отойти, как раздался сухой щелчок выстрела и коробок отлетел в сторону.
– Запомни, бурило, – не опуская винтовки, произнёс Зотов. – Запомни на всю жизнь: Женьку обижать нельзя. Обидишь – предупреждать больше не стану…
Ляхов ещё раз оглядел жилистую фигуру верхового, выражавшую полнейшее равнодушие.
– Ладно, мы с тобой ещё поговорим. – Он бросил рейку. – Иди буровую помой…
Женька облокотился на поручни, уставился на гладкую поверхность раствора, застывшего в ваннах.
Оставшись один, он долгим взглядом проводил уходящего Ляхова, и шрам на его лице от подбородка к нижней губе подрагивал, выдавая напряжение.
Ляхов спустился с буровой, зашагал к вагончику мастера, но потом круто развернулся и вошёл в столовую.
Женька ещё раз потянулся, крикнул Устина. За полчаса, оставшиеся до конца смены, надо было привести буровую в порядок.
5 сентября. День
Петухов и Коробов доедали рожки с мясом, когда в столовую вошёл Ляхов. Прошёл в угол, сел за отдельно стоящий столик, на который обычно составляли грязную посуду.
Петухов отодвинул тарелку, постучал пальцами по столу. Повариха подала компот.
– Спасибо, Татьяна. А Ляхова кормить не собираешься?
– Сейчас, Петрович, накормлю.
– А что ты обо мне, Иван Петрович, беспокоишься? – не оборачиваясь, бросил Ляхов. – Я ведь не девка.
– Да и я не парень, – отрезал Петухов. – Всё сделал?
– Как всегда.
– Вот и ладненько… Пойдём, Фёдор Васильевич, поглядим.
Хлопнула дверь, и Ляхов круто повернулся. Татьяна покачала головой, поставила перед ним большую тарелку с рожками.
– И ты меня не уважаешь? – спросил Ляхов, придержав её за руку. – Как что, так Ляхов вперёд, а как правду говорит, так неугоден.
– Что же ты такого сказал? – Она поглядела в окно.
– А сказал мастеру, что Коробова гнать надо.
– И он с тобой согласился?
– Куда там. Они же приятели. Я, говорит, за Коробова двух Ляховых отдам. Видала? Ляхов – передовик, гордость экспедиции – его не устраивает, а какой-то там средний бурильщик устраивает.
– Пусти, – сказала Татьяна, убирая руку. – Устин идёт.
Она быстро прошла к плите, наложила новую порцию и, когда Устин вошёл, уже ставила тарелку на стол, за которым до этого сидели Петухов с Коробовым. Устин кивнул, молча стал есть, аккуратно поддевая на вилку рожки.
Нависло тягостное молчание.
Татьяна достала тарелку из кастрюли с горячей водой, стала протирать. Тарелка выскользнула, разбилась. Ляхов ногой отодвинул осколок.
– На счастье.
Татьяна подобрала осколки.
Принесла Устину компот.
– Добавить? – Присела рядом с ним.
– Не за что ему, – с раздражением произнёс Ляхов. – Не заработал твой муженёк. – Он поднялся. – Чо молчишь, Устин? Опять спишь, чо ли?
Устин обхватил мозолистыми ладонями кружку с компотом.
– Иди отдыхай, – сказал он Ляхову. – Иди, не порть людям настроение.
– Я-то пойду. – Ляхов остановился на пороге. – Терпеть не могу молчунов…
Дверь распахнулась, и в столовую вбежал студент. За ним вошёл Лёша.
– Куда прёшь, – Ляхов стал у него на пути. – Ты бы, Правдоискатель, научил будущего инженера культуре, чтоб не налетал на людей.
– Злой ты человек, Ляхов. – Лёша отодвинул его плечом, повернулся к студенту: – Проходи, Анатолий.
И этот тоже, зло подумал Ляхов, и этот чокнутый на Ляхова замахивается.
Он окинул крепкую Лёшину фигуру, плечи, натренированные многолетней работой: нешуточное дело каждую смену ворочать двухсоткилограммовые «свечи».
Выходя, Ляхов поймал напряжённый взгляд Устина. Положив на стол серые от раствора руки, тот глядел ему вслед узкими, словно бойницы, глазами. Ляхов хлопнул дверью, отсекая этот взгляд и стараясь забыть его, понимая, что в таком настроении ему лучше всего сейчас завалиться спать, но ноги сами тянули на буровую, он хотел высказать Коробову всё, что говорил утром Петухову. Стал подниматься на помост, но увидел мастера у лебёдки и передумал, пошёл отсыпаться…
Устин подвинулся, Лёша и Анатолий сели с ним рядом.
– Прихват? – спросил Лёша.
Устин кивнул.
Вошёл Женька, сел за соседний стол.
– Татьяна Львовна, двойную, соответственно комплекции…
– Ляхову тогда четыре порции есть надо, – заметил Лёша. – По комплекции, но не по справедливости…
– Только не философствуй, Лёша, погоди, – поморщился Женька, – аппетит перебьёшь.
Лёша не обиделся. Он ни на кого не обижался. И хотя давно уже вышел из того возраста, когда называют только по имени, гладкое лицо, круглые глаза, выражение доверчивого внимания мешали определить его возраст. Он относился к той категории людей, которые всё делают невпопад, не понимая этого, удивляя наивностью, и к которым, как правило, обращаются либо по имени, либо по прозвищу. Чудачеством выглядела и его неразборчивая отзывчивость. Он вечно ходил к начальнику экспедиции. чтобы похлопотать за кого-нибудь насчёт квартиры, детского садика или талона на дефицитные товары. Сначала его выставляли из кабинетов, потом просто перестали впускать, но это его нисколько не огорчало и желания помочь другим не убавляло. Правда, раскусив, что Лёша не тот таран, которым пробивают двери, многие перестали к нему обращаться, и всё же на каждом отчётно-выборном профсоюзном собрании кто-нибудь из новичков обязательно предлагал его в состав комитета, но при голосовании Лёша никак не попадал в выборные органы и нисколько от этого не расстраивался.
– Татьяна Львовна, компотик двойной. – Женька довольно откинулся. – Вот теперь можно и потрепаться. Как, инженер, а?..
– Спасибо, Татьяна Львовна, – сказал Анатолий.
– На здоровье, Толя, поправляйся.
– О, поправляйся… Жалеют тебя… А через два года станешь мастером или помощником мастера и начнёшь дрова ломать… – не отставал Женька.
– Это ты так считаешь, – вступился Лёша.
– Из опыта исхожу… Ты, студент, у Петуха учись. У него никаких институтов, семь классов да курилка на курсах повышения квалификации, но он главного инженера за пояс заткнёт.
– Что же он тогда, чуть какая авария, мастера или инженера вызывает?
– Э-э, студент, чему вас только учат… Петух – мужик хитрый, тёртый, битый. Устин, подтверди.
Устин кивнул.
– Петух не дурак шишки получать. Он начальство вызовет, будет советоваться да своё втихаря отстаивать, и так это подаст, что те за своё примут – и, если что не так получится, неожиданности разные, с них спрос…
– А как же совесть?
– Ребёнок. – Женька усмехнулся. – Начальство только так и надо учить. Теория – это блеф, студент, соль – в практике. У нас в зоне мужик сидел, золотые руки. Он тебе чо хочешь сделает, ручку, ножичек с пружинкой, часики, игрушку заводную… Между прочим, замки для начальства всякие разные делал, на гаражи, на дачи… Пять классов и три десятка сейфов – вся школа…
– Удивил. Если б он самолёт построил…
– Фантазёр ты, студент…
– А инженеры, между прочим, строят.
– Эти инженеры – не вам чета…
– Толик прав, – сказал Лёша. – И ты, Жень, по-своему прав. Оба… Вот в этом парадокс…
– Кстати, о парадоксах… Совсем забыл, Коробов просил вас поторопить.
– Что же молчал? – Анатолий пошёл к выходу. – Специально? Так Коробову и доложим.
– Давай. Чужое начальство мне что белый медведь айсбергу. Можешь так и передать.
…Обойдя буровую ещё раз и посмотрев, как Коробов с помбурами меняет канат, Петухов вернулся в вагончик. Развернул на столе схему разреза скважины. Вздохнул: тяжёлая скважина, лет семь таких не было. Взглянул на часы, включил рацию.
– База, база, я ЭР-7. ЭР-7 вызывает базу.
Он отпустил клавишу. После шуршания и свиста в трубке наконец щёлкнуло, и усталым голосом главного инженера Безбородько она сообщила:
– ЭР-7, вы сегодня первые. Давайте с вас и начнём. Чем порадуете?
– Скорее огорчу, Владимир Владимирович. Прихват на три двести сорок два метра.
В трубке стало тихо.
Петухов слышал, как кому-то там, у себя в кабинете, главный инженер говорил скороговоркой: «идии-идии», а может, что-нибудь другое, потому что он слышал только это многократное «и».
– База, – сказал он.
– Слышу я, слышу, – отозвался главный. – Вот так всегда, если с утра хорошее настроение, спешат испортить, плохое – хуже сделать. Ну что ещё скажешь? Мёртво?
– На полметра ходит.
– Давно?
– Часа четыре.
– Спишь там, что ли, мастер?
Главный заводился. Петухов знал, что в таких случаях перечить и обижаться не следует. Переждав, пока тот изольёт душу в крепких выражениях, он врезался в паузу и, не останавливаясь, начал перечислять, что сделано.
– Прихват в смену Ляхова. Пытался вырвать, но ничего не получилось. На канате износ… – Он помолчал, износ был на пятнадцать процентов, и скажи об этом главному, выговором не отделаешься. – Износ семь процентов, нагрузку большую давать нельзя. Меняем канат, готовим раствор и ванну.
– Всё у тебя?
– Всё.
– Ждёшь, пока прилечу?.. Ладно, Петухов, ты без надобности ничего не придумывай, мне вашей самодеятельности и так хватает. Тут вот на пятнадцатой умудрились алмазное долото в скважину упустить, сегодня к ним полечу, а завтра к вам. Только гляди, чтоб без инициативы, сам знаешь, какая у тебя вышка.
– Укрепили же, Владимир Владимирович…
– Ты мне про ходули эти и не напоминай, – закричал Безбородько. – Ты этими спичками комиссии вводи в заблуждение, а я знаю, на что они годны. Понял?.. Запомни, Петухов, вышку завалишь – под суд пойдёшь, всё. Я тебе тянуть запрещаю.
– Понял, Владимир Владимирович. До связи.
– И ещё, – трубка пошипела помехами, потом заговорила усталым голосом главного. – Если там вдруг неожиданно отклеится, ты сразу сообщи, я инженера у рации посажу. До связи.
Хитёр старик, выключая рацию, подумал Петухов. Вроде бы и запретил крепко-накрепко, а и намекнул, что жду, чтобы сами выкрутились.
Он прилёг на кровать, положив ноги в грязных сапогах на ящик, стоящий у рации, закрыл глаза. Полжизни эта ЭР-7 у него забрала. На двухсотом метре – водоприлив бешеный, пять дней задавливали, на девятисотом – поглощение. На полутора тысячах – кварцы. Потом прихваты пошли… Восемь месяцев уже сидят на одном месте. На две девятьсот – газ, ну, думал, всё, кончились мучения. Геофизики забегали, начальство прилетело, превентера проверили, а через полметра всё кончилось. Прибыл спец по нефти из НИИ. Походил, понюхал, будет, говорит, нефть, но на три четыреста. А вышка-то на три тысячи рассчитана, вот и приделали ей ходули, чтобы крепче стояла…
Коробов, конечно, виноват: поменял бы канат, Ляхов рванул посильнее, глядишь, и не было бы прихвата…
Но и Ляхова поддерживать он не хотел. Считай, полжизни люди на буровой проводят, тут все как на ладони, и плохо, когда не ладят друг с другом…
Ничего, пару месяцев осталось потерпеть, уедет Ляхов в Сирию, а он бурильщиком Устина поставит. Давно присматривается. Молчит тот, молчит, а дело знает.
– Товарищ мастер, пошёл! – ворвался в вагончик студент.
– Кто пошёл?
– Инструмент.
– Сменили канат?
– Сменили. Фёдор Васильевич потянул, и он пошёл.
– Хорошо.
Анатолий убежал.
Петухов включил рацию. Подержал в руке трубку, положил на место. Лучше подождать, нежели поспешить – это правило, которое не стоит нарушать. Он вышел из вагончика.
Солнце уже поднялось довольно высоко, небо было чистым, без облачка. Стоял один из последних тёплых дней бабьего лета здесь, на Севере. Воздух был прозрачным, и тайга прозрачной, в ржавых пятнах редких оставшихся листьев, в ней хорошо сейчас охотиться на боровую дичь. Да вот только времени за последний месяц у него совсем не было, хотя охотиться любил и, если не удавалось отвести душу, тосковал и томился этой тоской по охотничьим тропам.
Пока он шёл к буровой, серая от промывочной жидкости колонна труб медленно ползла вверх. Петухов видел, как Лёша Правдоискатель метнул в сторону свечу, и элеватор ухнул вниз, замерев лишь у самого пола: над лебёдкой поднялось облако дыма. «Спешит Коробов», – подумал он.
Коробов потянул вверх новую свечу, она вибрировала, шла неохотно, и Петухов понял: правило железное – не торопиться… Когда он поднялся на буровую, свеча уже не шла.
– Сколько протащили? – спросил Петухов.
– Метров двадцать пять.
– А давал?
– В полтора раза.
– Сто тридцать тонн… До ста пятидесяти, пожалуй, можно… Гони всех с буровой, – сказал он. – И сам тоже иди…
– Не дури, Петрович, – сказал Коробов, когда возле лебёдки они остались вдвоём. – Я глядел эти подпорки, швы слабые…
– Знаю. Все ушли?
– Да.
– Дизели?
– В норме. За канат ручаюсь.
– А ты на всякий случай не ручайся.
– Иван, сколько мы с тобой аварий перевидали?
– Не задавай пустых вопросов. – Петухов окинул взглядом приборы, включил лебёдку, сжал рукоятку тормоза. – Давай, Федя, скажи мужикам, пусть подальше отойдут, не в цирке. И стань в проёме, чтоб я тебя видел. Глаз не спускай с подпорок, понял? Если что, дай знать.
Коробов пошёл к лестнице.
Петухов прав, думал он, рисковать порой надо, но рисковать имеет право каждый только собой, и нет ничего, что можно было бы противопоставить цене человеческой жизни. Её одной не стоят ни тысячи, ни миллионы рублей, вложенных в эту буровую, на риск нельзя провоцировать, но иногда человеку самому необходимо проверить себя, пойти на риск, очиститься им, и в эту минуту он верит только в успех, в своё бессмертие…
Коробов тоже когда-то рисковал. Было это лет двадцать назад. При монтаже стала заваливаться чуть приподнятая вышка, все бросились врассыпную, а он вскочил в кабину трактора, полез под падающую громадину, натягивая тросы, задержал это падение, которое могло быть последним, что он видел бы в этой жизни. О нём написали в газете, его поздравляли, расспрашивали, что заставило так поступить, тем самым склоняя заглянуть в себя, задуматься, а что же заставило… И оказалось, что ничего из того, о чём часто пишут. Он не думал о людях, которые могут погибнуть, не думал о тысячах рублей, выброшенных на ветер, не думал о том, что пропадёт вложенный в буровую труд многих людей. Просто показалось, что если рвануть трактор, то вышка не упадёт, это было как в азартной игре, и это толкнуло его в кабину…
– Отойдём подальше, – сказал он Анатолию и Лёше Правдоискателю.
– Фёдор Васильевич, это опасно? – Студент смотрел на него, не ожидая никакого ответа, кроме одного, и, чуть улыбнувшись, Коробов кивнул.
Он поднялся на помост, где лежали запасные свечи, встал так, чтобы его видел Петухов, поднял руку, показывая, что готов, и стал смотреть на одну ногу, ту, где шов, соединяющий её и подпорку, порвался.
Петухов включил лебёдку, но дизели не взвыли, и Коробов понял, что мастер попробует погонять инструмент по скважине, раскачать его, прежде чем тянуть.
Элеватор пошёл вверх, потом вниз, снова вверх. Он напоминал огромный неповоротливый челнок, с каждым разом вытягивающий серую от стекающего раствора колонну труб на несколько сантиметров больше, потом вдруг наткнулся на что-то и задрожал. Коробов, забыв о вышке, отметил: элеватор разорвал неяркое осеннее солнце, превратив его в два раскалённых слитка, и тут взвыли дизели; он опустил глаза, но в них плыли тёмные круги, и ничего не было видно. Коробов испугался, потому что сейчас невольно мог стать убийцей. Он испугался и собрался закричать, предупредить остальных, но тут чернота рассеялась, и он увидел дрожащую металлическую колонну. Петухов держал рукоятку тормоза вверху, и Коробов знал, что сейчас всё, с самого верха, с крон-балки, до самого низа, до того места, где земля всасывает в себя металл, пронизано невообразимым напряжением, всё вытягивается, болезненно стонет, рвётся…
Он взглянул вверх – колонна ползла, но порадоваться не успел, потому что в следующее мгновение увидел, как медленно стала выгибаться подпорка, и вскинул руки. Тут же завизжали тормоза, исчезла в дыму фигура Петухова, дизели стихли.
Он поднялся на буровую.
Петухов сидел на перевёрнутом ведре из-под графитной смазки и мял в руках папиросу, не замечая, что несколько изломанных папирос уже лежат на полу, наконец поломал и эту, выругался. Коробов достал «беломорину», прикурил и отдал Петухову.
– Тяжело… – хрипло сказал мастер. – С непривычки рычаг как двухпудовка.
Замолчал.
Коробов тоже закурил и почувствовал, что напряжение Петухова передалось и ему. Мелкой дрожью оно осело где-то внутри. Он глотал горький дым в надежде, что этим избавится от дрожи.
– Пошла? – тихо спросил Анатолий, не спуская глаз с Петухова, и Правдоискатель, закончивший осмотр буровой, ни к кому не обращаясь, произнёс:
– Однако, Петрович, тонн сто шестьдесят выжал…
– Сто пятьдесят восемь, – отозвался Петухов, поднимаясь. – Будем делать ванну. Пошли, Федя, посмотрим, что там у тебя…
Подпорка выгнулась, отошла от ноги на несколько сантиметров, и Петухов с тоской подумал, что опять надо будет говорить с базой, просить трубу, сварщика – и всё это надо делать сегодня, и теперь уже не обойтись без длинного разноса.
– В печёнках у меня эта седьмая, – не выдержал он. – Когда ещё площадку делали, чувствовал, что-то не то, чертовщина здесь какая-то.
– А ты не сообщай на базу, – сказал Коробов. – Я видел трубу подходящего диаметра у тебя возле конторы, а сварить я могу, всё-таки пятый разряд.
Петухов помолчал, потом согласился:
– Давай так и сделаем, ругани ещё впереди с лихвой хватит.
6 сентября. Ночь
Ляхов заступил на смену в отвратительном настроении. От Татьяны он узнал, что днём Коробов протащил инструмент, пытался ликвидировать аварию и Петухов, но ничего не получилось, так что теперь без аварийных работ никак не обойтись. И тут он закусил удила. Если бы попытки закончились удачей, победителей он бы судить не осмелился, но теперь выходило, что ему придётся вкалывать, а Коробов только и сделал, что заменил канат да усугубил прихват. Эта очевидная несправедливость бесила его. Кроме того, после дневного сна голова была тяжёлой, тело вялым, так бывало всегда, но когда шла работа на метры, на ощутимый результат, прогрессивку, Ляхов этого не замечал. Устин ушёл принимать смену, а он всё сидел за столом, опустив голову на руки, и не мог справиться с охватившей его ненавистью к Коробову. Очнулся от прикосновения горячей руки Татьяны.
– Ну что ты раскис, – тихо сказала она и погладила его по голове.
От этой руки и голоса Ляхову вдруг стало жалко себя, впору расплакаться и уткнуться в пахнущую жаром печи женскую грудь, но он удержался. Встал, обхватил Татьяну за плечи, впился губами в её губы и долго не отпускал.
– Не надо, – наконец вырвалась она. – Устин и так что-то подозревает.
– Чёрт с ним, с твоим Устином, – как можно ласковее произнёс он. – Два года, а потом всё будет по-новому, всё, понимаешь… Уедем подальше, где никто нас не знает…
– Ладно, ладно, – грустно улыбнулась Татьяна. На щеках у неё появились ямочки, делавшие её похожей на девочку-десятиклассницу.
Ляхов почувствовал прилив нежности.
– За что это Устину такое богатство? – подумал он вслух.
– Не надо… Не говори о нём плохо.
– Да он у меня уже знаешь где?.. Не могу рядом с тобой его видеть, понимаешь, не могу!
– Он не виноват.
– Оставим этот разговор, – чувствуя, как опять возвращается злость, сказал Ляхов. – Пошёл я…
– Иди.
Поднявшись на буровую, Ляхов был неприятно удивлён: Коробов не только заменил канат, но и успел вычистить все ёмкости. Но винить себя за давешние мысли он не стал, увидя в этом негласный вызов ему, Ляхову.
Устина и Женьку он нашёл под навесом, где лежали мешки с солью, каустической содой для промывочной жидкости. Женька, забравшись на верхний ряд, дремал. Устин сидел внизу, привалившись спиной к мешкам, и, закрыв глаза, о чём-то думал.
– Лежишь? – Ляхов толкнул Женьку. – Не належался за день… Работать надо.
– Мы уж вроде начали, да бурилы всё нет и нет, затосковали без его командирского голоса, как кавалерийские кони…
Ляхов выжал из мужиков всё, сам вымотался до предела, но через четыре часа ванны были заполнены. Петухов, в очередной раз поднявшийся на буровую, только хмыкнул:
– Опасный ты человек, Ляхов, – то ли с неодобрением, то ли с завистью сказал он. – Когда захочешь, чёрт-те что можешь сделать…
– А ты не знал?.. Между прочим, я у тебя уже четвёртый год работаю.
– Знать-то знаю, да вот привыкнуть никак не могу.
– К тому, как я работаю?
– К тебе… Поужинайте, и пусть мужики отдохнут. Потом, пока светло, подчисти в тёмных углах, завтра начальство приезжает, а Коробов ночью, где посветлее, марафет наведёт. И подёргивай иногда, вдруг отлипнет, только не лихачь, видел ногу?
– Коробов варил?
– А что?
– Тогда не буду, жить хочу.
– Ну и договорились.
…После ужина Ляхов полчаса подёргал инструмент, но прихват был жёсткий, трубы поднимались сантиметров на двадцать, и, потеряв всякую надежду вырвать колонну, опасаясь тянуть посильнее – не веря ни в вышку, ни в канат, ни во всю эту железную оснастку – Ляхов подозвал Устина.
– Верховой где?
– Наверху был.
– Чо его на крыши тянет, вроде осень, не весна. – Попытался пошутить Ляхов. – Нечего ему там прохлаждаться, зови вниз и по очереди погоняйте, а я к мастеру схожу.
Устин покричал Женьку, но тот не отзывался, и Ляхов, уже спустившийся с буровой, полез наверх сам.
Женька спал, завернувшись в телогрейку.
Ляхов ткнул его сапогом, закипая злобой к человеку, которого он не смел тронуть, и не только не смел – боялся, а это было унизительно для него, Ляхова.
Женька вскочил на ноги, словно и не спал, полоснул Ляхова злым взглядом, но Ляхов уже не мог сдержаться, рванул его за плечо, пригнул к настилу.
– Ты, – задыхаясь от ненависти, прошипел он, – ты, сопляк… Думаешь, забыл я, как тогда на тропе, думаешь, простил…
Он гнул Женьку всё ниже и ниже, чувствуя, как тот сопротивляется, и испытывая удовольствие от того, как это непокорное тело всё же подчиняется ему; он мог сделать сейчас с ним всё, что угодно, и сделал, если бы не увидел потемневшие глаза верхового и не прочитал в них силу, которую он не мог преодолеть. Руки вдруг ослабли. Он выпрямился, пошёл к лестнице, слыша тихий Женькин голос:
– Запомни, бурила, не жить нам с тобой на одной земле. Запомни…
Хотел вернуться и выбить из Женьки то, что он сказал, но не чувствовал в своём теле давешней силы, она ушла куда-то, растворилась, стекла по металлическим трубам в землю. Ляхов засмеялся, тонко, затаённо, удивляясь своему смеху, и не в силах его сдержать.
Он прошёл мимо Устина, потом мимо конторы мастера, столовой, направляясь к стоящему на отшибе вагончику, где жили поварихи, заезжавшие на буровую корректоры да геофизички.
Стоя на верхней площадке лестничного марша, Женька смотрел ему вслед, всё ещё продолжая что-то шептать побелевшими губами, без слёз плача от унижения, от своего бессилия, одиночества, ненавидя тот час, когда согласился пойти в вахту Ляхова, и понимая, что теперь уже нет выбора и он ничего не в состоянии остановить: будет так, как будет. Он видел, как Ляхов исчез в дверях вагончика, и, кусая губы, стал спускаться вниз.
Стоящий у лебедки Устин окликнул его:
– Что вы там опять, значит, не поладили?
– Да так, поговорили… – отозвался он.
– Дерьмо, а не человек, – бросил Устин, и Женька понял, о ком это сказано, ему стало немного легче. – Иди погуляй часок, я постою, потом сменишь…
…Перед самым концом смены Ляхов зашёл к Петухову.
Мастер сидел за столом, наклонив настольную лампу так, чтобы яркий круг света падал на схему разреза скважины, разложенную на столе.
– Что тебе? – недружелюбно спросил он.
– Да я ненадолго, не помешаю, – непривычно тихим голосом произнёс Ляхов. – Так что потерпи немного.
– Не крути, – поморщился Петухов. – По делу?
– Поговорить с тобой хочу, мастер. Начистоту.
– Давай.
– Не то у меня на душе, надо поговорить, – будто не слыша, продолжал Ляхов. – Решил вот с тобой без свидетелей…
– Короче можешь?
– А короче не надо, – обиделся тот. – Или слушать не хочешь?.. Но я всё равно скажу. Всё скажу. Принципиальный ты, конечно, мужик, я это понял. Хотел тебя в друзья-товарищи взять, а ты всё, как налим, ускользаешь. Будто ничего не понимаешь… А всё ты понимал, всё… Даже молчал, если выгодно было и с меня же кое-что имел, правда?..
– Что ты несёшь?
– Уеду я скоро, вот и решил всё сказать, больше ведь никто не осмелится, особенно Коробов, дружок твой, а я скажу, все твои махинации у меня вот где, – он постучал по лбу. – А память у меня – не жалуюсь… Обижал я многих, грубый, невыдержанный – знаю, но не просто так, мастер, людей я не люблю, непросто. И твоя принципиальность чего стоит?.. Слышал, ты собираешься бумагу на меня накатать, чтобы за границу не выпустили? Не делай этого, мастер, давай по-доброму разойдёмся…
– По-доброму? – Петухов повернул плафон лампы так, чтобы видеть лицо Ляхова. – Доброты чужой захотелось тебе, Ляхов, вот оно что… Доброты… А ты сам был когда-нибудь добрым?
– Идейного из себя не строй. – Ляхов отвернул плафон. – Я тебя как облупленного знаю. И как ловчишь, начальство вокруг пальца водишь, знаю, и как с метрами крутишь…
– Уходи, – выпрямился Петухов. – Думал, в тебе хоть мало-мальски человеческого осталось, да, видно, одно дерьмо…
– Не оскорбляй, мастер, у меня ведь память хорошая… На этот раз прощаю. – Ляхов сжал зубы.
Петухов наклонился к нему.
– А ты не пугай, пугали меня, Ляхов. Жалею только, что метры перетаскивал из разных месяцев, жалею, потому что и ты ведь премию получал, и ты благодаря этому в передовики выбился… А теперь иди…
– Не пиши, мастер, так будет лучше и для меня, и для тебя… А чтобы не напоминать о себе, утром я уеду на попутном лесовозе в посёлок, скажешь завтра начальству, что, дескать, заболел. И больше на буровую не выйду, у меня отпуск за два года не использован, вот и возьму, погуляю перед заграницей. Договорились, мастер?
Ляхов постоял, ожидая ответа, но Петухов наклонился над разрезом. Он потоптался и вышел.
6 сентября. Ночь
Смену Коробов принял у Устина. Отсутствие Ляхова его нисколько не удивило: и прежде случалось, что тот уходил раньше, оставляя помбуров управляться одних. Не любил Ляхов буровую, не любил то, что так нравилось Коробову: равномерный говор дизелей, запах промывочной жидкости, ручейком бегущей по желобам, ночную стылость металла, гул медленно вгрызающегося далеко внизу в забое долота и одиночество у рычага лебёдки, когда шло бурение. В такие часы Коробов отправлял мужиков с буровой, а если отдавал рычаг, то с жалостью. Ляхов же сам уходил в вагончик, и бурил в основном Устин. «Мужское дело – подъём-спуск, – говорил Ляхов. – Тут мастерство своё и показывай, а на забое стоять любой сможет». Может, от этой нелюбви, если выпадало ему бурить, и проходка была значительно ниже, чем у Устина, непросто это – чувствовать далёкий забой. Порой Коробову казалось, что, не будь у Ляхова такого помощника, не было бы и сверхплановых метров проходки, не было бы и премий…
Погоняв инструмент, он выключил лебёдку, помог Анатолию и Лёше убрать буровую, отправил их в дизельную, где сейчас было тепло и нешумно. Оставшись один, обтёр кожухи, ополоснул металлический пол у ротора, обошёл ванны с промывочной жидкостью. Вроде всё было в порядке. Зашёл в дизельную, постоял возле дремлющих в тепле мужиков. Потом толкнул Лёшу.
– Хватит клевать, идите поспите в вагончике… Идите, идите, всё одно делать нечего.
– Приказано – исполняй, – поднялся Лёша и позвал студента. – Пошли, Толя, спать.
Пока шли до вагончика, сон пропал.
Ночь была звёздная, со слабым осенним морозцем, похрустывающей под сапогами подмёрзшей грязью, пахнущая арбузом, и, не доходя до вагончика, Лёша свернул в сторону, поднялся по подъездному пути к дороге, разбитой лесовозами, возившими хлысты с делянок леспромхоза, присел на ствол корявой березы. Подошёл Анатолий, сел рядом.
– Замёрз? – спросил Леша.
– Нет.
– Спать хочешь?
– Уже не хочу.
– Тогда посидим, я люблю ночь слушать. Только на буровой не слышно ничего, а тут – пожалуйста…
Анатолий прислушался. Скоро тишина и вправду наполнилась звуками. Где-то далеко шла машина, и её гул, плутая по распадкам, то усиливался, то исчезал совсем. Иногда щёлкал ледок под чьими-то осторожными шагами, а может, от крепнущего морозца. Посвистывал, путаясь в ветвях, ночной ветерок.
– Слышишь? – вдруг прошептал Леша. – Сохатый пошёл…
Анатолий ничего не слышал.
– Да как же, валежины трещали… – В Лёшином голосе прозвенело удивление.
– А может, кто другой? – виновато спросил студент.
– Нет, сохатый… Шаг уверенный. – Лёша подумал. – А может, кто другой… Интересно, мы здесь сидим, а вокруг всё живёт своей жизнью…
Анатолий вздохнул.
Он думал о другом.
О последнем вечере в посёлке перед очередной заездкой на вахту, когда выпал первый в этом году снег и они с Любой гуляли в белой ночи. Казалось, что и не ночь вовсе, так много высыпало на улицы людей: они играли в снежки, лепили снеговиков… А они с Любой целовались…
Анатолий снова и снова вспоминал полураскрытые ожидающие губы, искорки снежинок на русых волосах, глаза, любящие, ждущие и вновь переживал то, что чувствовал тогда.
В ту ночь и сейчас он любил её, Любу.
Но тем не менее каждую неделю продолжал писать и получал письма из города, начинавшиеся словами: «Милый мой…»
И не мог разобраться в себе самом.
Не мог понять, где же настоящая любовь.
– Ты не заснул? – прервал его мысли Лёша.
– Нет, я слушаю.
– А я маму вспомнил… Мы ведь без отца выросли, считай… Двенадцать нас было, я старший. Батя в леспромхозе работал. Когда Санька, двенадцатый, родился, лесиной отца прибило. Я семь классов закончил и пошёл работать, сначала на базу слесарем, потом на буровую… Деревня наша маленькая, среди тайги стоит, вот я и считал, что все люди одинаковые. Думают одинаково, говорят одинаково, живут одинаково. Долго верил в это. А на буровую пришёл, и оказалось, что всё не так. Первый мастер, Жуков был такой, меня своей правде учил: ты, говорит, живи для себя и на всех чихай. Без рубля – пальцем не пошевели, цени свой труд! Уважать будут тогда больше… Женился, жинка с тёщей по-своему учить стали, чтоб дом – полная чаша… Чувствую, запутался вконец, стал газеты читать, самообразовываться, общую правду выискивать. Но газеты одно, с ними не поспоришь. Ты вот грамотный, поэтому мне с тобой поговорить приятно, только, наверное, и ты про меня думаешь разное. Коробов вот умный человек, а тоже… Странный ты, говорит, Алексей, скоро сорок, а всё чего-то ищешь. А я так понимаю, если человек перестаёт искать, так он уже и не человек… Я в газету писал, ответ получил, длинно пишут, сложно, одно понял – правда у нас одна. А я другое вижу…
– Наверное, ты не совсем понял, что тебе написали, – боясь обидеть, осторожно сказал Анатолий.
– Может быть… Грамотёшки-то у меня… Я ведь в школе плохо учился… Ночь-то какая… А только по-разному мы с тобой её слышим… Парадокс…
– Иначе и быть не может… Я – это я, у меня свои мысли, ощущения, у тебя – свои. К тому же надо прежде в терминах определиться, что ты имеешь в виду под понятием «правда»?
– Я понимаю, ты не думай. Хоть и учился мало, а читал много. И про истину, и про индивидуальность. Больше в газетах, конечно. Только иногда путаться начинаю. Помню, читал, хвалили тех, кто тайгу корчует, а теперь вот ругают. Или раньше хорошо писали о начальниках, которые в трудные моменты вместе с рабочими были, пример показывали. Потом тех хвалили, которые в кабинете сидят. Может, через десять лет и мне скажут: не так, не по правде ты жил, Алексей, не о том думал, не так делал…
– Брось ты, Лёша, никто так не скажет, о тебе ведь в газетах не пишут, – улыбнулся Анатолий. – Ну а ругать нас за наши дела, может, и будут. Новое время – новые проблемы…
– И нашу жизнь, выходит, перечеркнут… Как мы – дела тех, кто до нас тайгу покорял?
– Никто не перечёркивает их дела. Мы просто говорим, что теперь этого не нужно делать. А тогда это было правильно.
– Тогда правильно, сейчас неправильно, запутал ты меня… Я хочу, чтобы всегда ясность была. Чтобы всегда правильно всё делать…
Лёша замолчал.
Анатолий хотел что-то сказать, но тут далеко в ночи послышался то ли крик, то ли плач.
– Что это? – шёпотом спросил он.
– Птица, наверное. – Лёша встал. – Филин. А то заяц… Может, спать пойдём?
– Расхотелось уже, погреться лучше.
– Тогда на буровую.
До буровой дошли, думая каждый о своём.
Лёша – о сыне, которого, если бы тот был, он очень любил и с которым можно было бы поговорить, поделиться своими мыслями, сомнениями…
Анатолий поёживался, не в силах забыть странный крик и думая о леших и всякой нечисти, которой, конечно нет, но которая вполне может и быть под этим небом, как живёт под ним всё остальное…
Коробов удивился их приходу, но ничего не сказал.
Они сели в дизельной на лавку возле стены, блаженствуя в тепле, лениво разговаривая и незаметно проваливаясь в сон и возвращаясь обратно…
…Под утро заглянул на буровую Устин. Был он в рабочей одежде. Пожаловался на бессонницу, оттого и пришёл так рано, присел рядом с Коробовым.
Прислушался к разговору.
Говорил Лёша.
– Книжки взять, к примеру… Которые в прошлом веке написаны были. Умные герои в этих книжках. О чём только не разговаривают. Порой даже обидно станет: жили раньше, а говорили лучше. Выходит, прогресс никак на мне не сказался?.. С жинкой начну беседовать на всякие такие темы, например, почему религия опиум для народа или как будут люди в двухтысячном году жить, а она отмахивается. Женщина, говорю, что же это получается, сто лет прошло, а где твоя высокая ступень культуры по сравнению с Анной Карениной?
Мужики засмеялись.
– А она что? – спросил Коробов.
– А она, ясное дело, возьму сковороду, говорит, да опущу тебе на голову, чтобы спать не мешал. Ты, говорит, только меня знаешь, а Анну Каренину и в глаза не знал, мало ли что понапишут в книжках, а насчёт её любви, так я и почище могу.
– Не баба у тебя, а бритва опасная.
– Я ведь понимаю насчёт женского ума. Он как был ограничен природными факторами, так и остался. Баба только в молодости вперёд бежать хочет, а потом к месту прирастает.
– Не скажи, – вмешался Устин, – не всякая баба.
– По своей сужу. – Лёша вздохнул. – Конечно, грамотёшки мне не хватает, а может даже, не столь знаний, в газетах обо всём пишут, а системы… Вот мозг – безграничный ряд ячеек… как соты, и в каждую что-нибудь откладывается. Отложится и лежит, пока не потревожишь, пока импульс не подашь. Так вот, я понимаю, если, к примеру, в мой мозг подать этот самый импульс, во мне такие знания поднимутся…
– Информация. – Анатолий зевнул. – Информация, Лёша, у тебя в ячейках, а это только основа для знаний, которые, в свою очередь, только база для рождения собственной мысли…
– Видишь, что образование значит, – после паузы произнёс Лёша. – Всё по полочкам… и понятно стало.
– Ни черта тебе не понятно, – засмеялся Коробов. – Что ты всё время чужой жизнью жить пытаешься – живи своей. Своими мыслями, своей головой. То правду ищешь, то систему какую-то…
– Газеты, Васильич, читаю, а там пишут, что жизнь – это вечный поиск.
– Мало ли чего там понапишут.
– А про счастье что пишут? – неожиданно спросил Устин.
– Про счастье?.. Что-то не помню. Да я и сам знаю.
– Что же?
Лёша оглядел мужиков, стараясь понять, смеются они или всерьёз спрашивают, и, решив, что всерьёз, ответил:
– Я по-простому понимаю, счастье – это и есть жизнь.
– Силён ты, – после паузы сказал Коробов. – Ну, прямо философ. А ты, Устин, как считаешь?
Устин растерянно взглянул на Коробова, поднялся:
– Спать хочется. Пойду посплю, вот и счастлив буду…
– Квелый он, – сказал Лёша, когда Устин ушёл. – Совсем молчуном стал.
– С женой у них неладно. – Коробов примял сапогом окурок, тоже поднялся. – Погоняю ещё, рассветёт скоро. А вы по свету вокруг буровой пройдите, лишний мусор с глаз долой, начальство сегодня будет…
6 сентября. День
Начальство прилетело раньше, чем ожидал Петухов. Сквозь сон он услышал шум вертолёта и, на ходу одеваясь, выскочил из вагончика.
Солнце ещё только-только показалось над верхушками деревьев, высветив половину вышки. На буровой, запрокинув голову, стоял Коробов и глядел на делающий круг вертолёт.
Тот прострекотал над деревьями и исчез; площадка была отсыпана в стороне, рядом с дорогой.
Петухов заскочил в столовую, мельком отметил заплаканное лицо поварихи, поморщился, но разговаривать было некогда, и он только бросил:
– Татьяна, ты бы себя в порядок привела. И сделай порций пять лишних.
Та кивнула, склонилась над плитой.
…Вместе с главным инженером прилетел мастер по аварийным работам Тихонов. Усмехнувшись над этой страстью Безбородько перестраховываться, Петухов поздоровался, подолгу задерживая ладони, чтобы сразу почувствовать, с каким настроением прибыло начальство и как лучше поступить, чтобы его не прогневить. Судя по насупленным выражениям лиц, с неприятностями лучше было выждать, и Петухов повёл всех в столовую.
Завтракала вахта Ляхова.
Женька и Устин ели молча, а Цыганок гремел ложкой и сопел от удовольствия: на завтрак был плов, который он любил.
Безбородько и Тихонов сели за столик в углу.
Петухов принёс наполненные с верхом тарелки.
– Как в санатории живёшь, – поворачивая ложкой дымящийся плов, сказал Безбородько. – Ешь хорошо, а метры не даёшь.
– Метры будут, – буркнул Петухов, пристраивая табурет рядом. – Своё наверстаем.
– Ну-ну… А где Ляхов, что-то я не вижу, его же вахта?
– Ляхов? – Мастер оглянулся, выразительно посмотрел на Устина: он не любил, когда рабочие видят, как начальство его допекает.
Устин поднялся, поставил тарелку, вышел, подталкивая впереди себя Женьку и недовольного Цыганка.
Татьяна Львовна вышла следом.
– А плов, мастер, отменный, повариха у тебя хорошая… Чего ты её выпроводил?
– По делам пошла.
– Так где, ты сказал, Ляхов? Спит?.. А ты сейчас выгораживать его станешь.
– Чего мне выгораживать. – Петухов помедлил. – Отпустил я его.
– Куда?
– В посёлок.
– Ты что это своевольничаешь? – Безбородько положил ложку. – Ты что?.. На буровой авария, а он, понимаете ли, бурильщика отпускает!
Хотел закончить длинной тирадой о безответственности и её последствиях, но плов сделал своё дело, желания длинно говорить не было, и он обошёлся одной фразой:
– Сам встанешь к лебёдке… Давай, что там есть погорячее, раз хозяйку выслал.
«Пронесло, – подумал Петухов, разливая по кружкам крепкий чай. – Одно пронесло, теперь подпорка. Но о ней пока говорить нельзя».
После завтрака пошли на буровую. Главный инженер делал мелкие замечания, интересовался больше внешним видом, а Тихонов сразу отошёл, и как Петухов ни крутил головой, так и не смог уследить за ним. Это его обеспокоило, он знал Тихонова давно. Старший сын Петухова и дочь Тихонова учились в одном классе. Петухов знал, что за двадцать лет работы мастер по ликвидации аварий научился видеть не только всё на поверхности, но и, как шутили буровики, на пятьсот метров в глубину. Если Безбородько можно было показать, что выгодно, то Тихонов с провожатыми никогда не ходил и видел всегда гораздо больше.
Испортит обедню, тосковал в душе Петухов, стараясь подгадатъ минуту, когда можно будет самому рассказать о прогнувшейся подпорке, но такой минуты всё не выпадало. Тихонов попросил потянуть на сто тридцать тонн. Увидев, как вибрирует инструмент, главный инженер совсем расстроился, и Петухов понял, что день этот ничем хорошим не кончится.
– Ну, мастер, пойдём к тебе, покумекаем, что делать…
Было время связи, и Безбородько сел за рацию.
Дежурного инженера он заставил пересказать, как обстоят дела на других буровых, накричал на всех сразу и послал к праотцам вертолётчиков, которые никак не могут завезти долота на самую отдалённую буровую и та уже третий день простаивает.
Когда, наконец, главный инженер положил трубку, Тихонов уже исписал расчётами пару листов большого знаменитого блокнота, в котором, по слухам, были описаны все аварии, случившиеся за двадцать лет.
– Эх, продашь ты нас когда-нибудь, Станислав Иванович, с потрохами, – дежурно пошутил главный инженер, с явной опаской кивая на этот блокнот. – Ну, с кого начнём, с мастера?
– Пожалуй, лучше я начну, – предложил Тихонов. – А Иван Петрович поправит, если в чём ошибусь.
Петухов бросил на Тихонова быстрый взгляд, который должен был означать одно: хитёр ты, брат. «Что поделаешь, – прочитал он в ответ. – Одному тебе с Безбородько не справиться, а он рисковать не любит». Заметил, догадался Петухов, вот чёрт лысый, всё заметил.
– Давайте, Станислав Иванович, – разрешил главный.
– Прихват большой, жёсткий, на пуп не возьмёшь. Вот здесь, – он развернул схему разреза и ткнул карандашом, – доломитовая линза. Мощность её невелика, но, если она обвалилась, инструмент мы не поднимем… Надо пробовать нефтяную ванну. Не поможет – кислотную. Потом поднять инструмент, техническую колонну цементировать и бурить новый ствол.
– А ванны не помогут?.. – Безбородько повернулся к Петухову. – Будем отрывать, деньги выбрасывать… – Главный инженер встал, заходил по вагончику, натыкаясь то на стол, то на ящик, то на кровать. – Чёрт, что у тебя тут за ящики, – выругался он. – Как в сарае, а не в жилом помещении… Или забуриться не сможем новым стволом – и скважину закрывай, выбрасывай миллион…
Последние слова никому не адресовывались. Они повторялись на каждой буровой, где случалась авария.
– Чего молчишь, мастер? Тебе вопрос, твоя скважина, ты допустил до аварии…
– До аварии не допускают, Владимир Владимирович, сами знаете, от нас не зависит то, что произошло, – тихо сказал Петухов, подумав, что о канате с дефектом он и не заикнётся.
– Зависит! На буровой всё от мастера зависит, – не терпящим возражений тоном отрубил Безбородько. – Да, Станислав Иванович, что-то ты умолчал о реальных шансах вырвать инструмент?
– Я говорил, Владимир Владимирович, прихват жёсткий, и к тому же, – Тихонов посмотрел в сторону насторожившегося Петухова, извиняюще развёл руками: надо, мол, куда денешься, – не знаю, когда Петрович заметил, но решение он принял правильное, укрепил прогнувшуюся подпорку. Метров на сто её ещё хватит, а там надо будет что-то решать.
– Какую подпорку? – круто повернулся Безбородько. – Почему не доложил?
– Не успел, Владимир Владимирович. Днём вчера перед прихватом обходил буровую, ну и заметил, что прогнулась… Труба подходящая была, Коробов приварил, а доложить не успел, забегался, сами понимаете…
– Я понимаю… Да я понимать ничего не хочу! – закричал Безбородько. – Ну, погоди, разделаемся с аварией, за всё у меня ответишь.
Выкарабкаешься из неё благополучно – сойдёт, а не выкарабкаешься – всё припомню… Так понял эту фразу Петухов.
Он согласно кивнул.
– Станислав Иванович, сколько ты там нефти насчитал на ванны?
– Кубов десять.
– Есть у вас? – сердито спросил главный инженер Петухова.
– Найдётся.
– Так чего стоишь? Давай, командуй, ты же мастер здесь…
Оставшись вдвоём с Тихоновым, Безбородько ещё раз посмотрел схему разреза, провёл ладонью по красному одутловатому лицу, вздохнул:
– Ну и подарочек сделал Петухов, – пожаловался он. – Лучший мастер, можно сказать, и словно подменили на этой седьмой. С подпоркой явно что-то темнит, бурильщика отпустил, когда в каждой вахте людей не хватает… Как думаешь, Станислав Иванович, спасём скважину?
– Гадать не умею, Владимир Владимирович. Хотелось бы, всё-таки за три тысячи ушли.
– С дочкой поладили? – перевёл разговор Безбородько, зная, что шестнадцатилетняя дочь Тихонова собралась замуж за студента-практиканта. И, не дождавшись ответа, сказал: – Дети сейчас взрослее нас, палец в рот не клади. Ума нет, а всё по-своему норовят… Ничего, образуется, я с этим донжуаном как следует поговорил… Тут вот тоже практикант – с дочкой мастера Сорокина гуляет, а ему чуть не каждый день от городской крали письма приходят. И она знает, а всё-таки ходит… Да «ходит» – не то слово, прилипла… Никакой гордости…
– Влюбилась, наверное, – провёл ладонью по лысине Тихонов.
– Влюбилась… Так меня ведь просят и тут вмешаться… На пенсию спокойно не уйдёшь… Загубим скважину, такой почёт мне будет, такие проводы, помереть захочется, – поделился своими опасениями Безбородько.
Он ждал, что Тихонов успокоит его, пожалеет, но тот молчал, и Безбородько сказал:
– Пошли, посмотрим, как там дела…
Вечером главный инженер опять вышел на связь с базой. Сказывалась многолетняя привычка быть постоянно в курсе всех дел, и даже сейчас он не хотел воспользоваться коротенькой передышкой, отдохнуть от неурядиц, нерешённых вопросов. Он уставал, жаловался, порой ненавидел свою работу, но привычка неизменно брала верх, она была как болезнь и как лекарство одновременно.
Не услышав никаких радостных новостей, Безбородько отругал начальника производственного отдела и приказал срочно выслать на буровую машины-цементаторы. Всё было готово для аварийных работ. Закачанная в скважину нефть должна была просочиться между трубами и породой, смазать, разжать каменные тиски. Должна, но могла и не справиться с этим, и Тихонов по рации отдал распоряжение приготовить кислоту и утром отправить. В свою смену Коробов подготовил для цементаторов площадку, сделал настил, чтобы удобнее было подносить цемент.
Ночью Безбородько разрешил заступившей вахте Ляхова спать: если придётся цементировать, работы хватит на всех, остался дежурить только Цыганок, он первым и встретил прибывшие из посёлка цементаторы. Разбудил Петухова, а вместе с ним и начальство. Тихонов заснул только под утро, всё не шла из головы дочь с её любовью… Хотя какая любовь в шестнадцать лет?.. А Джульетта?.. Классику Тихонов помнил, но одно дело – Джульетта, совсем другое – его Верка… Он не выспался, был раздражён.
Безбородько проснулся в распрекрасном настроении, но стоило ему увидеть застывшую в непривычной неподвижности буровую, как настроение испортилось. Не выправил его даже вкусный завтрак.
У Петухова настроение и не могло быть хорошим, поэтому все трое появились на буровой мрачнее тучи.
Пока Петухов и главный инженер расставляли цементаторы, Тихонов спустился к устью скважины, зачерпнул в ладони немного промывочной жидкости, понюхал, что-то ему не понравилось, и он стал ещё угрюмее.
«С таким настроением только покойника хоронят», – глядя на них, подумал Коробов, сжимая в нетерпении рукоятку тормоза лебёдки.
– Начнём? – не выдержал он, и Безбородько посмотрел на него так, что пропало желание разряжать обстановку.
– Не обращай внимания, – успокоил его Лёша. – Начальство всегда пасмурное, это так заведено. Плохо что-нибудь – пасмурное, хорошо – чуть посветлее, но всё равно с облачностью.
Студент улыбнулся.
– И я таким буду?
– А то как же, – не сомневаясь, сказал Лёша. – Как только станешь начальником, сразу и маску наденешь соответствующую. Я книжку такую читал, «Социальная психология», там написано, что на каждом месте своя маска. Человек пришёл на работу – вроде надел её на лицо, пошёл в кино – другую, домой – третью…
– Готовы?! – крикнул Безбородько. – Хватит болтать!
Коробов включил лебёдку, насосы, посмотрел на стоящего рядом Тихонова. Тот покачал головой: не спеши, нагнулся над отверстием в полу, что-то высматривая в вытекающей из скважины промывочной жидкости с маслянистыми пятнами нефти, потом махнул рукой, и Коробов отпустил тормоз. Дизели загрохотали, стрелка побежала по диску, отбивая всё новые и новые деления и приближаясь к предельной, выступающей среди других, чёрточке.
«Надо было всех увести с буровой», – запоздало подумал Коробов. Бросил взгляд на стоящих неподалёку Петухова и Безбородько, а за ними всё время видел большие глаза Анатолия и спокойное лицо Лёши-Правдоискателя.
Стрелка вплотную подошла к черте, а инструмент всё так же стоял неподвижно.
– Выключай! – прокричал на ухо Тихонов.
Коробов выключил лебёдку.
Стало тихо.
Упала вниз стрелка.
Он хотел повернуться, спросить, что делать, понимая, что надо пытаться ещё, не медлить, но Тихонов опередил его:
– Давай, быстро!
Снова взревели дизели, и теперь стрелка ещё быстрее добежала до предельной черты, до ста пятидесяти тонн, которые ещё могла выдержать погнутая и наскоро приваренная им ещё одна подпорка. Может быть, не хватало одной-единственной чёрточки, так заманчиво было переступить порожек, понадеяться, рискнуть, поддаться азарту, но этого нельзя было делать, и Коробов знал, что именно об этом сейчас думает каждый из стоящих на буровой.
– Пошла, – услышал он тихий голос Тихонова и в следующее мгновение увидел, как линия, проведённая графитной смазкой на трубе, медленно, миллиметрами, поползла вверх, вытаскивая трёхкилометровую колонну, и уже грохотала лестница под Лёшиными сапогами, стоял с крюком наготове Анатолий, и Петухов натягивал верхонки, примеряясь, как ловчее зацепить ключ, развернуть муфту. Свеча пошла в дальний угол, щёлкнул замок элеватора, и Коробов закинул ручку тормоза до предела вверх. Элеватор со свистом полетел вниз, Петухов поймал его, почти на лету застегнул на новой свече, и Коробов подумал, что не мешало бы этого мужика взять к себе в вахту, потом вспомнил, что это мастер, и расхохотался.
– Ты что?! – подскочив, закричал Петухов. – Тяни, Федя, тяни, друг!
Одна за другой, позванивая, вставали в магазин свечи, мутными струйками стекала по ним промывочная жидкость, и всё больше начинал верить Коробов, что удалось вырваться. Но только подняв инструмент в техническую колонну, спрятав его за металлическими стенами, он сбавил темп, жалея Лёшу, давно уже мокрого от пота. И Петухов скинул верхонки, махнул рукой – перекур, стёр пот грязным рукавом своей недавно чистой штормовки, показал в дизельную – глуши.
И, запрокинув голову, крикнул Лёше:
– Эй, чёрт верховой, слазь, отдохни!
Коробов прислонился к горячему кожуху лебёдки, вдыхая гарь тормозов, разогретого железа, и тут только заметил, что на буровой тесно от людей.
Поодаль, забыв о варившемся обеде, стояла Татьяна Львовна.
– Ничего мы её, – сказал он, ни к кому не обращаясь, но его услышали, заулыбались.
Вытащили папиросы, пачка пошла по рукам. Дружно задымили. Даже некурящий студент, неловко зажимая папиросу, втягивал горький дым.
– Устин, вставай на моё место, помоги подъём сделать, – после паузы сказал Петухов. – Ваша смена будет цементировать. Поднимем, зацементируем – и баста, отсыпайтесь, а завтра новая заездка забуриваться будет.
– Ты их не расхолаживай, – остановил его главный инженер. – Ещё посмотрим, как цементирование пройдёт.
– Ничего, у меня мужики что надо, – сказал Петухов. – Пойдёмте вертолёт вызывать…
7 сентября. День
Цементирование прошло без осложнений. После обеда цементаторы уже выруливали на дорогу, а мужики сидели за большим столом возле вагончиков, отдыхали после позднего обеда. Дымили папиросами, лениво переговариваясь. Солнце перед долгой зимой припекало почти по-летнему, и Женька первым скинул рубаху, подставил солнечным лучам загорелую спину, поёжился:
– Ловите, братцы, зима длинная…
Разделся Анатолий, потом Правдоискатель. Подумав, решил погреться на солнышке и Коробов. Скоро забелели за столом непрогревшиеся за короткое сибирское лето мужские спины, наслаждаясь коротким теплом и таким же коротким неожиданным отдыхом.
Но долго так не усидели, не привыкли.
– Толя, сходи за фотоаппаратом, – вдруг попросил Лёша. – На память нас всех запечатли…
– Тогда надо одеться, а то что это за предбанник, – сказал Коробов.
– Фёдор Васильевич прав, память ведь, на всю жизнь.
Все зашевелились, оделись, по рукам пошла расчёска, и скоро мужики сидели чинно, положив на стол тяжёлые, почерневшие, оббитые руки…
После фотографирования вспомнили, как Коробов цепенел за рычагом лебёдки, когда тянул инструмент, потом помянули Ляхова, который поступил, прямо сказать, не по-мужски. Забеспокоились, что не фотографировался Устин, но кто-то вспомнил, что видел, как тот заходил в женский вагончик.
– Не зови, может, не вовремя, дело семейное, серьёзное, – остановил Коробов собравшегося сбегать за ним студента.
Цыганок пошёл к вагончикам.
Вышел с мелкашкой.
– Далеко?
– Пройдусь, может, рябчиков принесу, – ответил Цыганок. – Желающих со мной нет?
Желающих не нашлось.
Мужики ещё посидели, покурили, разошлись по вагончикам добирать недоспанное.
Сначала Цыганок шёл споро, потом шаги замедлил, взял винтовку в руку, осторожно, прислушиваясь, перешагивал сухие сучья и нерастаявший в тени хрусткий ледок. Скоро он поднял семейство рябчиков, долго выслеживал, истратил несколько патронов, но так и не попал. Разуверившись в свой меткости и везучести, потерял интерес к охоте. Закинул винтовку за плечо и пошёл по тайге не спеша, наслаждаясь холодящим чистым воздухом, потерявшим уже летние душные запахи и вобравшим другие, менее назойливые – уходящего лета и подступающей зимы. Возвращаться не хотелось. Он любил тайгу и от одиночества не страдал.
Пересекая поляну, выстеленную черничником с едва держащимися, уже прихваченными морозцем ягодами, Цыганок вспомнил, как бежал из детского дома и впервые остался в тайге ночью. Сжавшись в комочек под развесистой ёлкой, трясся от страха, размазывал слёзы по грязным щекам, потом увидел огоньки среди деревьев, понял, что это волки, и их было так много, что он даже не испугался, только не мог отвести взгляда от этих огоньков, а когда те приблизились, закрыл глаза. «Цыганок! – вдруг услышал он. – Цыганок!» И, не открывая глаз, пополз на четвереньках из-под колючих веток. Кто-то подхватил его на руки, кто-то заплакал, и это было так чудесно, что Цыганку захотелось, чтобы плач этот никогда не кончался…
Почти из-под самых ног его выпорхнул тетерев, шелестя вихрастым хвостом, тяжело полетел между деревьями. Цыганок сдёрнул с плеча мелкашку, постоял, наблюдая, куда сядет птица, но тетерев улетал всё дальше и дальше, скоро его совсем не стало видно, и, вздохнув, он закинул винтовку за спину.
Наступили сумерки, на удачу можно было уже не надеяться, и Цыганок быстро пошёл к буровой. Спустился к маленькому ручейку, извивающемуся между густыми зарослями кустарника, долго искал, где удобнее перепрыгнуть, наконец, выбрал место поуже, разбежался, но в последнее мгновение сапоги заскользили по глине, и он съехал вниз. Ключевая вода мигом пропитала свитер и брюки.
Чертыхаясь от боли и холода, он полез по склону, ухватился за свесившийся куст, рванулся вверх и снова скатился в ручей. Не замечая, как вода заполняет сапоги, перехватил крепче винтовку, загнал в ствол патрон, полез наискосок, одной рукой цепляясь за кустарник, другой крепко сжимая мелкашку. Выполз на склон, замер, до боли вглядываясь во что-то изломанное, чернеющее среди зарослей. Потом, вытягивая винтовку впереди себя, сделал несколько шагов…
Безбородько и Тихонов сидели в вагончике мастера в ожидании вертолёта. Полчаса назад им передали с базы, что тот заправляется и до темноты вполне успеет за ними, лёту от базы до буровой не более двадцати минут, и Безбородько, беспрестанно поглядывающий на часы, начинал нервничать. Он расхаживал по вагончику и давал наставления Петухову. Тот невпопад кивал, мечтая только об одном: завалиться и выспаться за все эти дни. Наконец послышалось далёкое тарахтение. Петухов распахнул дверь, чтобы услышали этот звук остальные.
Безбородько накинул брезентовый плащ, в котором уже лет двадцать выезжал на буровые, вышёл первым и быстро зашагал к вертолётной площадке.
Они подходили к деревянному настилу, когда вертолёт завис над ним и медленно, словно проваливаясь в перину, стал опускаться.
Петухов присел на вывороченную лиственницу, закурил.
Безбородько оглянулся:
– Чтоб порядок был…
Петухов кивнул.
– Ох, Петрович, фортуна за тебя, – строго, словно в чём-то его обвиняя, добавил главный инженер и пошёл к вертолёту.
Петухов сидел, глядя на опускающееся на настил шасси, когда кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел Цыганка. Тот был с ног до головы перемазан в глине, с мелкашкой в руках, и Петухов подумал: только бы Безбородько не обернулся.
– Потом! – прокричал он Цыганку.
Цыганок уцепился за плечо Петухова и, наклонившись к самому уху, прокричал:
– Никак нельзя потом, я Ляхова мёртвого нашёл!
В первое мгновение Петухов не понял, о чём это говорит Цыганок. Он глядел, как, широко шагая, приближался к вертолёту Безбородько, и пытался уловить смысл услышанного.
– Ляхов там, возле ручья, лежит! – частил Цыганок, и Петухов наконец понял, потоптался на месте, потом рванулся к вертолёту, задержал закрывающуюся дверь и, ухватив наклонившегося Безбородько за полу плаща, передал ему, что сказал Цыганок.
– Да вы что, белены объелись?! – взвился главный инженер, не поняв до конца, о чём идёт речь, и хотел закрыть дверь, но Петухов держал крепко.
– Заглуши ты своего зверя! – крикнул выглядывающему из кабины вертолётчику Безбородько. – Погоди пять минут…
Стало тихо.
– Ну, говори, только покороче.
– Цыганок! – позвал Петухов.
Цыганок подошёл к вертолёту, сказал не глядя:
– Ляхова я нашёл в ручье… Мёртвый он…
– А он у тебя не того?.. – спросил Безбородько мастера.
– Зачем вы так, – не обижаясь, сказал Цыганок. – Тут недалеко… Я проведу…
– Ночь скоро, каждая минута на счету! – крикнул вертолётчик.
– Погоди.
Безбородько махнул рукой:
– Пошли.
…Возвращались они, не глядя друг на друга. Только у самого вертолёта Безбородько сказал Петухову.
– Чтобы никто ничего не знал. Я сообщу, а завтра к вам кто-нибудь прилетит. Всё. – И добавил, громыхая сапогами по дну вертолёта: – Ну, Петухов…
Что этим хотел сказать главный инженер, Петухов так и не понял, да сейчас его это и не интересовало: перед глазами всё ещё было скорчившееся, с прижатыми к груди руками большое тело и гримаса испуга, перекосившая лицо Ляхова.
8 сентября. День
На следующее утро на буровую прилетел следователь. Это был молодой парень с университетским значком на кителе, с запоминающейся фамилией Крюк. Анатолий Иванович Крюк.
Первым делом следователь изучил место происшествия. Стареньким ФЭДом, без всякой надежды на удачу, он, как и положено по криминальной практике, сфотографировал труп с разных сторон. Затем тщательно, шаг за шагом, осмотрел склоны ручья. На это он затратил три часа, но был вознаграждён – на склоне ручья, напротив трупа, он вытащил из глины гильзу от мелкокалиберного ружья. Этот склон и дно ручья были истоптаны следами, но, как ни старался Крюк, он не смог обнаружить ни одного, отличного от следа, оставленного сапогами обнаружившего труп, а именно гражданина Цыганка Ивана Ивановича. Тем не менее, закончив осмотр и описав место преступления, следователь Крюк не разрешил трогать труп до вечера, боясь сделать что-нибудь не так и решив посоветоваться со своим начальством.
После обеда начальство, исходя из двух обстоятельств: во-первых, из того, что, кроме Крюка, лететь на буровую, то есть на место преступления, было больше некому, а во-вторых, что ближайшая лаборатория находилась за пятьсот километров и не могла быстро определить, из какой именно винтовки и когда был произведён выстрел, ставший причиной смерти гражданина Ляхова, рекомендовало Крюку форсировать следствие, провести допросы, снять показания свидетелей и, выявив убийцу или убийц, задержать, не ожидая данных медицинской и баллистической экспертиз.
Следователь Крюк тяжело вздохнул, подумав, что в университете задач с такими условиями решать не приходилось, и, повернувшись к Петухову, сказал:
– Можете убрать труп, для следствия он больше не нужен.
Петухов вышел, и скоро Крюк увидел, как четверо мужчин пошли к ручью, неся с собой кусок брезента. Он хотел подсказать, что до прибытия вертолёта лучше всего хранить труп в холодном месте, где-нибудь под откосом того же ручья, но догадался, что это, по-видимому, знают и без него.
Он поставил стол в угол вагончика так, чтобы свет из окна падал на стоящий против стола стул, то есть на допрашиваемого, приготовил стопку чистой бумаги, которую прихватил с собой, несколько шариковых ручек и стал ждать, когда вернётся мастер.
Поглядывая в окно, он обдумывал свои вопросы, ответы допрашиваемых и никак не мог избавиться от мысли, что убил гражданина Ляхова Цыганок. И сделал вид, что нашёл труп. В этом хитрость преступника. Таким образом он старается составить о себе ложное мнение и запутать следствие.
Потом Крюк стал думать о других мужиках, с которыми его уже познакомил Петухов, и растерялся, потому что никого отбросить он не мог, ни у кого не было алиби, а его не было, потому что время убийства, которое должна была определить судебно-медицинская экспертиза, ему было неизвестно, если примерно, то с двенадцати часов ночи, когда Ляхова последний раз видел Петухов, и до момента обнаружения трупа…
Так, глядя в маленькое грязное оконце вагончика, следователь Крюк всё более холодел от сложности первого преступления, которое выпало ему расследовать, пока не увидел автобус, спустившийся с дороги к буровой. Из автобуса стали выпрыгивать люди, и Крюк удивлённо оглянулся, но мастера не было видно.
Он вышел из вагончика.
Идущие от автобуса мужики были веселы:
– Глядите-ка, да у нас на буровой милиционер появился, – остановился напротив него мужчина с красным крупным лицом и длинными руками.
– Всё, Свиридов, специально ради тебя мастер пригласил, – подтолкнул его в спину шедший позади коренастый седой мужик.
– А ты меня не толкай, – отмахнулся Свиридов. – Тут дело сурьёзное, милиция, братцы, это не шутка… Товарищ лейтенант, это как, положено теперь на буровую по милиционеру?
Ожидая ответа, остановились и остальные, оглядывая Крюка в его новенькой форме с новенькими погонами, на которых светилось по две звёздочки.
Никогда больше на следствие в мундире не выеду, поклялся себе Крюк, ненавидя в эту минуту парадный свой вид, хотя несколько часов назад в вертолёте чувствовал себя отменно и даже радовался, что не послушал товарищей и не стал маскироваться в гражданскую одежду.
Так он стоял в кругу приехавших буровиков, не зная, что им ответить, но тут сзади раздался усталый голос мастера:
– Что к человеку пристали?..
Стало тихо. Мужики посерьёзнели, почувствовав настроение мастера и догадываясь, что всё это неспроста: необычная тишина на буровой, безлюдье, милиционер…
– Дело такое, – помолчав, сказал Петухов. – Прихват мы ликвидировали, наверное, уже слыхали. Свиридов, сейчас на вахту, делай спуск и забуривайся. Остальные – отдыхать. И… и если вертолёт будет, поможете погрузить… – Петухов помолчал, не зная, как лучше сказать, что погрузить, потом произнёс: – Тело Ляхова… – Посмотрел на следователя, добавил: – Дело это такое, вот товарищ следователь прилетел, будет разбираться, так он просит, чтобы вы пока помалкивали и не трепались по рации, если кто доберётся, так как Ляхова кто-то застрелил…
– Шутишь, – улыбаясь, сказал Свиридов. – Ну, мастер…
– Какие шутки! – взорвался Петухов. – Какие шутки… Ну, чего стоите, расходитесь…
Мужики стали неохотно расходиться, а Крюк, наклонившись к Петухову, спросил:
– Это что, новая заездка?
– Да.
– А кто был, тех куда?
– Домой им надо ехать, – устало произнёс Петухов. – Домой.
– Нельзя, товарищ Петухов, – твёрдо сказал Крюк. – Ни одному человеку я не разрешаю покидать буровую до полного выяснения обстоятельств убийства.
– А что делать прикажете? У людей законный отдых, да и места на буровой всем не хватит, продуктов в обрез…
– И всё же я приказываю всем остаться. – Крюк покраснел. – Нужно всех задержать… Хотя бы на день. Это… это приказ.
Петухов вздохнул.
Договорившись, что на ночь новая заездка потеснится, разместят мужиков, часть переночует в автобусе, и решив вопрос с питанием, Петухов вызвал базу и сообщил Безбородько о приказе следователя. Безбородько долго раздумывал, потом, вздохнув так же тяжело, как вздыхал Петухов, слыша просьбу-приказ следователя, сказал:
– Ничего не поделаешь, надо – значит, надо… – добавил: – Нет там рядышком этого лейтенанта?
– Вышел.
– Что он, в посёлке не может допрашивать?
– Не знаю, Владимир Владимирович.
Главный инженер помолчал.
И Петухов помолчал.
– Что-нибудь проясняется? – наконец спросил Безбородько.
И Петухов понял, что хотел услышать он в ответ, но только выдохнул в трубку:
– Говорит, что всех подозревать можно, даже меня.
– Тебя?.. Ну, держись там, Петрович. Слышь, так ты скажи ему, что всё время с нами был…
– Вы утром прилетели, а ночью?..
– Ах да, я и забыл… Ладно, до связи. А мужикам передай, пусть не волнуются, я прикажу поставить семьи в известность… в связи с производственной необходимостью…
– До связи.
Петухов положил трубку.
Он сидел, глядя на синий огонёк рации, и никак не мог осмыслить всего, что произошло за эти дни. Прислушиваясь к себе, он отмечал, что тяжесть, которая преследовала его в последний месяц, вдруг отступила куда-то, и суеверно обрадовался этому: может, теперь-то всё закончится и образуется… Но тут вспомнил, что Ляхова убили, у-би-ли, а значит, где-то рядом, среди тех, с кем он делил не раз и радость, и горе, – убийца. И это было непостижимо его уму и сердцу: нет, не мог никто убить, нет у него в бригаде убийц, может, Ляхов сам… Скорее всего, сам и застрелился… Но где же тогда винтовка, из которой он застрелился, задал себе вопрос Петухов и не смог на него ответить.
Вернулся с улицы следователь. Походил по вагончику, греясь, потом снял с рации настольную лампу, поставил на угол стола, сел, положив руки на листы бумаги, повертел ручку с обкусанным колпачком, сказал:
– Ну что, Иван Петрович, начнём с вас… Расскажите, когда произошла ваша последняя встреча с Ляховым?
– …Пришёл он ко мне. Время было позднее, где-то около двенадцати, я кумекал над разрезом, думал, как лучше аварию ликвидировать, вот он и зашёл в это время. Сказал, что плохо себя чувствует и хочет уехать домой.
– Это было ночью, как же он мог добраться домой?
– Утром хотел. По дороге лесовозы ходят, с ними можно до станции, а там на товарняках и до посёлка…
– Продолжайте, пожалуйста…
– А я, собственно, уже всё рассказал. Он отпросился, я отпустил. Честно говоря, не хотел, но Ляхов такой человек, если что вбил в голову, не переубедишь. Поэтому задерживать его я не стал.
– Вы не заметили, в каком состоянии он находился?.. Только не спешите, подумайте.
– Вообще он всю заездку как-то странно себя вёл: ругался с мужиками, всё время злой ходил… Правда, в его смену авария случилась, может, поэтому?
– А какие отношения у него были с окружающими?
– Вы знаете, товарищ следователь, неважные отношения. Тяжёлый он человек был по характеру, недобрый, хотя о покойниках не принято плохое говорить, но вот не могу не сказать. Со мной ругался, слишком уж он хватким, что ли, мужиком был…
– Говорите так, как думаете, это очень важно.
– Хорошо. Так вот, рвач он был, хотя и в передовиках ходил. Всё в жизни у него на деньгах держалось. По деньгам и людей мерил. Вот по этой причине и столкновения бывали у меня с ним и у Коробова, бурильщика другой вахты…
– Какие столкновения?
– Они с самого начала что-то не поделили, не разговаривали, друг друга не замечали. Ляхов, если какие-нибудь производственные промахи видел, всегда доносил…
– Докладывал.
– Доносил… Я ведь понимаю: надо говорить, как думаю. Так вот с Коробовым они вроде в окопной войне были. Со своим помбуром, Устином Мокиным, без конфликтов жили, но особой близости я не замечал, а вот с верховым – Евгений Зотов у него верховой – конфликтовал всё время. Почему, не знаю, но смотрели друг на друга косо… Я ведь понимаю, вас прежде всего интересует, кто убить его мог, так прямо скажу, многих он чем-то обидел. Такой человек был…
– Что вы делали после того, как Ляхов ушёл?
– Над разрезом покумекал, хотя настроения уже не было… Вышел на улицу покурить. Вот здесь, под окошечком, встал и стоял. Я видел, товарищ следователь, как Ляхов к дороге пошёл. Ушёл и обратно не возвращался. А потом его смена кончилась, Коробов со своими заступил. Устин с Зотовым в столовую пошли перекусить. Устин ещё что-то там уронил, мы ночью повариху не тревожим, сами обслуживаем себя, а Зотов засмеялся…
– О чём они говорили, вы не слышали?
– Да мы частенько говорим друг другу всякую всячину, и мне бы не хотелось, чтобы мои слова навели вас на неправильный путь… Слышал я, как Зотов сказал Устину, что поругался с бурильщиком и не простит ему этого, а Мокин стал говорить, что на него не стоит обращать внимания… Ладно, чего уж там, – махнул рукой Петухов. – Возвращался ещё Ляхов, часа в два ночи меня поднял. Извинился и сказал, что останется на буровой. Ну а я сказал, что на буровой он не нужен, может уходить, как и собирался, в посёлок. Он пригрозил, что я пожалею об этом, и ушёл.
– Пошёл к себе в вагончик?
– Не знаю. Я наружу больше не выходил до утра. Только давайте я заявление сделаю, или как там полагается, вот пусть с меня как хотят спросят, если я лгу: я лично никакого отношения к убийству не имею.
– Утром что вы делали?
– Утром начальство прилетело, и всё остальное время с ними был…
– Распишитесь, пожалуйста, вот здесь…
9 сентября. Ночь
– Присаживайтесь, Фёдор Васильевич, извините, что среди ночи вас вызвал.
– Какое там извинение, что я, не понимаю? Да и ночь на ночь не похожа, никто не спит.
Коробов подхватил стул за спинку, хотел поставить в сторонке, поближе к двери, но Крюк перехватил его руку, мягко, но настойчиво забрал стул, вернул на старое место, в светлый круг, падающий от настольной лампы.
– Присаживайтесь, – официальным, холодным голосом повторил он.
Коробов сел, огляделся.
Хотя он часто бывал в вагончике мастера, сейчас ему казалось, что попал в совершенно незнакомое помещение. Стояли те же рация, и кровать, и стол, но всё же всё неуловимо изменилось. Не было и Петухова, без которого вагончик совсем утратил своё назначение и название. Петухов сейчас курил на улице или ушёл на буровую, придётся ему теперь гулять целую ночь, потому что следователь решил всю ночь разговаривать без свидетелей.
– Вы знаете, зачем я вас пригласил?
Коробов кивнул. Петухов, провожая его до дверей конторы, посоветовал:
– Ты сразу всё выкладывай, молодой, но цепкий лейтенантик, под стать фамилии. – И после паузы спросил: – Как ты думаешь, кто его?..
Коробов пожал плечами.
– Неприятно это всё, – сказал Петухов. – Я детективы люблю, так там в такие минуты все начинают меняться, всякая дрянь наружу лезет…
– Фёдор Васильевич, почему вы не ладили с Ляховым?
Следователь подвинул ближе лист бумаги, отпил глоток холодного крепкого чая. Коробов подумал, что тот, наверное, очень устал и что он молод, как ему объяснить то, что самому ему непонятно, как рассказать, почему он не любил Ляхова…
– Не ладили мы, – сказал он. – Причин вроде бы не было, но знаете, бывает иногда так, не нравится человек – и всё…
Коробов улыбнулся и подумал, что улыбка эта сейчас не к месту.
– Угрожал он вам?
– Нет, этого не было.
– Что вы знаете о его отношениях с другими, например… – Крюк заглянул в лист, лежащий в стороне, – с помощником бурильщика Устином Мокиным?
– Вроде бы нормально жили, ничего не замечал… Вот только недели три как… да, точно, пару заездок назад, зашёл я в вагончик, они вдвоём там были, и похоже, ругались.
– Почему вы так думаете?
– Я вошёл, Ляхов стоял ко мне спиной, а Устин, то есть Мокин, возле окна, и глаза у него такие были… знаете, злые… Ляхов обернулся и крикнул что-то вроде того, чтобы не мешали, потом увидел, что это я – а мне Устин нужен был, насос мы тогда ремонтировали, а ключи он куда-то спрятал, – увидел меня и сам вышел из вагончика.
– И вы не знаете, что произошло между ними?
Коробов покачал головой.
Крюк отпил ещё глоток из закопчённой кружки, служившей Петухову не на одной рыбалке и охоте, поморщился от горечи, разлившейся во рту. Может быть, всё бросить, думал он, не зная, о чём ещё спрашивать, не видя ни одного факта, за который можно было бы зацепиться.
Несколько часов назад казалось, что всё будет просто, нужно только найти человека, с которым Ляхов был в плохих отношениях, но выяснилось, что проще было бы найти человека, у которого отношения с убитым были хорошие.
И вдруг он поймал себя на мысли, которая отбирала последнюю надежду: а если Ляхова убил кто-то, не имеющий никакого отношения к буровой? Дорога рядом, лесовозы…
– Может, кто приходил к Ляхову? Были в эти дни на буровой посторонние?
– Нет, не видел. Не было точно, иначе ребята сказали бы, тут ведь все на виду, тем более новый человек.
– Лесовозы часто ходят по дороге?
– Сейчас нечасто, машин пять – семь в день. Ночью пореже. – И, догадываясь, что интересует следователя, Коробов добавил: – Но они к нам на буровую обычно не заходят, мимо гонят, спешат. Если только кто поломается или что-нибудь понадобится… Только такого давно не случалось.
Коробов молчал.
Молчал и Крюк. Он не знал, о чём ещё спросить бурильщика, в то время как Коробова так и подмывало рассказать о том, что он знал. Но Петухов прав, надо ли ворошить весь мусор, кому от этого будет лучше. Ну, найдут убийцу, им окажется кто-нибудь из тех, с кем проработал плечом к плечу не один год, кого знаешь до кончиков ногтей, и уверен, что не из подлости и корысти поднял тот руку, не звериная это натура продиктовала… Вот почему ему, Коробову, совсем не жалко Ляхова. Вернее, жалко, но как-то легко, больше от странности, что того больше нет, вообще нет такого человека. Сам факт небытия его, в то время как ты живёшь, вызывает жалость к погибшему…
Хотя, какая ерунда приходит в голову, человека-то нет…
– Товарищ следователь, может, это никакого отношения не имеет, но последнее время не совсем ладно было между Ляховым и Мокиным. Утверждать не могу, но вроде жена Мокина к Ляхову что-то испытывала…
– Они были близки?
– Этого не знаю. Может, зря сказал, но вот сказал уж…
– Я вас понял, товарищ Коробов, – сказал Крюк, делая пометку на листе. – Спасибо. И пригласите ко мне, пожалуйста, вашего верхового…
Допрос Лёши Правдоискателя и студента ничего нового не дал.
Оставшись один, Крюк набросал на листке схему своей версии. Получалось, что, если отбросить возможность убийства посторонним человеком, наиболее подозрительны две фигуры: Устин Мокин, который мог столкнуться с Ляховым из-за жены, хотя, кроме Коробова, никто этого не подтвердил и неясно было, как и когда могли встретиться Мокин и Ляхов, если первый был всё время на буровой и даже ночью заходил в дизельное помещение, а второй ушёл до конца смены. Петухов говорит, что он возвращался в два часа ночи. Мокин поднимался на буровую под утро. Где он был эти два часа, нужно было выяснить.
Вторым подозреваемым был Зотов. Бывший уголовник, вспыльчив, частенько сталкивался с Ляховым. Запрос на него Крюк уже заготовил и собирался передать утром по рации.
И ещё Цыганок.
Если убийство произошло ночью, то у Цыганка полнейшее алиби, а если нет, то он тоже попадал в число подозреваемых. Но его Крюк решил пока не допрашивать.
Не стал он вызывать и жену Мокина, попросил Петухова осторожно выяснить, ночевал ли в ту ночь у неё муж, и вызвал на допрос Мокина.
Мокин вошёл, поздоровался, подождав приглашения, опустился на стул. Некоторое время Крюк молчал, разглядывая его. Был Мокин широк в плечах, флегматичен. Тяжеловатое лицо казалось длинным из-за глубоких складок. Кожа коричневатого цвета, обычно такой она бывает у людей, много времени проводящих на улице. Глаза тёмные, цепкие. Крюк перевёл взгляд на руки: они спокойно лежали на коленях, крупные, согнутые в пальцах руки с пятнышками несмываемой металлической пыли.
– Что вы делали в ту ночь, когда Ляхов ушёл с буровой? – задал первый вопрос Крюк.
Мокин помолчал, медленно, взвешивая каждое слово, начал рассказывать.
– Когда Ляхов, значит, ушёл, мы сдали смену с верховым и пошли в столовую. Там перекусили, потом пошли отдыхать.
Он выжидательно посмотрел на следователя, дескать, что ещё интересует, и Крюк отвернулся к окну, собираясь с мыслями: судя по всему, Мокин сам много говорить не будет.
– Ваша жена работает здесь поварихой?
– Да.
– Вы в ту ночь пошли к ней в вагончик?
– Сначала, значит, я к ней зашёл, ну а потом к себе…
– Долго были у жены?
– Нет, недолго.
– А сколько, не помните?
– Думаю, с полчаса…
– Хорошо, а дальше?
– Пришёл к себе, лёг спать.
– И сразу уснули?
– Нет, не сразу. Сосед мой, Зотов, проснулся, стал курить. Потом, значит, на улицу пошёл. Я уснул, а он вернулся, мелкашку ещё уронил, она загремела, я, значит, проснулся. А потом уже не спалось, пошёл на буровую.
– А Зотов, когда выходил, одевался?
– Не помню… Кажется, сапоги надел и телогрейку, сентябрь же, холодно…
– И долго его не было?
– Этого не могу сказать, уснул, а долго спал или нет, не знаю.
– И на часы не посмотрели?
– А зачем? До утра было ещё далеко, на смену не опаздывал.
– Скажите, Мокин, между вашей женой и Ляховым…
Мокин опустил глаза, на скулах у него заходили желваки, сказал:
– Может, что и было, но это дело уж наше, семейное, мы сами, значит, и разберёмся.
– Дело-то семейное. Только вот Ляхова убили, и может, это сделали именно вы…
– Может, и я, – спокойно согласился Мокин. – А может, кто другой.
– А если вы, напоминаю: чистосердечное признание облегчит наказание…
– Не в чем признаваться, – сказал Мокин.
– Хорошо, – после паузы произнёс Крюк. – Значит, Зотов ночью выходил и некоторое время отсутствовал. Мелкокалиберную винтовку он брал с собой?
– Откуда я знаю? Винтовка его, он и распоряжается.
– И вы не видели?
– Не видел.
– А как относился Зотов к Ляхову?
– Плохо… Не любили они, значит, друг друга. А почему, не могу сказать, не знаю, не интересовался.
– А что произошло вечером?
– Вечером?.. А что произошло?
– Что вам сказал Зотов в столовой?
– А, в столовой… Поругались они в тот вечер с Ляховым, вот Зотов и сказал об этом.
Мокин помолчал, потом добавил:
– А ещё он сгоряча сказал, что не жить кому-то из них.
– Именно так и сказал?
– Да.
Крюк вспомнил, что ему говорил Правдоискатель о ночном крике, и неожиданно для самого себя спросил:
– Мокин, а почему ваша жена ночью плакала?
Мокин поднял на следователя глаза, Крюку показалось, что тот улыбается.
– Семейное это дело… Ударил я её тогда. Баба есть баба, поучил малость.
– За что же?
– Так за что мужик бабу учит… Ужин не понравился, значит, или обхождение, или глянет не так… Это, товарищ следователь, самое сложное, значит, дело, семейная жизнь. Тут всякое бывает… Вот вы говорили, что моя жена вроде с Ляховым… А теперь, значит, представьте себя на моём месте, что бы вы сделали?.. Я вот бабу побил. Чтобы разговоров таких не было. Может, и не виновата, а разговоры, значит, идут, надо что-то делать…
– А Ляхова не убивали?
– Что мне грех на душу брать…
– Идите.
Мокин вышел.
В окне мелькнул Петухов, постучал.
– Можно, – улыбнулся Крюк. – Хозяину всегда можно, что вы так робко, Иван Петрович.
– Да вас разве поймёшь, то одно, то другое… У Мокиной я был. Заходил к ней Устин, ненадолго. Плачет баба, бил он её…
– Может, вызвать, допросить? – неожиданно для себя спросил Крюк.
– Сейчас не надо, – покачал головой Петухов. – Истерика у неё. Пускай успокоится. Да и вам отдохнуть надо, вон уже ночь на излёте, солнце поднимается.
Крюк посмотрел в окно: действительно, уже начинался серый рассвет. Он выключил лампу, потянулся.
– Может, вздремнёте часик? – пожалел его Петухов.
– Надо ещё Зотова допросить, а потом уже передохну…
– Ну как? – полюбопытствовал Петухов.
Крюк опять улыбнулся, так наивно прозвучал вопрос мастера, покачал головой.
– Да, это дело такое, – задумчиво произнёс Петухов. – Я вот и так и сяк кручу. Женька вот мог убить, были у них всякие вопросы. У Устина с жинкой не всё ясно. Коробов, тот не мог… хотя и мог… Студент вот, и тот мог бы, да пацан ещё…
– Ну, вы мне сейчас наговорите, что я совсем запутаюсь, – засмеялся Крюк. – Давайте лучше Зотова ко мне…
– Что вы делали ночью, когда ушёл с буровой Ляхов?
– Что я делал, гражданин следователь? Ночью спят обычно, я вот тоже это делал.
– Я спрашиваю, Зотов, вы ночью выходили на улицу?
– Выходил?.. Ну, если и выходил, так по нужде, больше мне незачем.
– Странная ночь у вас была, не правда ли… Сначала Мокин гуляет, потом вы, затем опять Мокин…
– У каждого свои дела, начальник, Мокин к жене ходил, а вот во второй раз чтобы он выходил, я не помню, говорить не буду, так и запишите, а то ведь так человека и под срок подведу. Я ваши вопросики знаю, гражданин следователь, они всегда со смыслом. Не видел я, чтобы выходил Мокин, точка.
– А вы куда выходили?
– Я уже говорил, по нужде выходил, по большой, недалеко от вагончика, знаете, где у нас сортир?..
– Вы мне про сортир не рассказывайте, я спрашиваю, Зотов, зачем вы винтовочку с собой взяли, между прочим, не зарегистрированную, которую я у вас и конфискую, да ещё, если желаете, срок выпишу…
– Ах, вот оно что… Выходит, всё знает гражданин следователь. Всё про всех. Я вот в который раз с вашим братом встречаюсь, а удивляться не перестаю, вроде такие же люди, как и все, а ведь в такие дыры нос засунут… Нет, вы не примите это на свой счет, это я образно, у меня к вашей должности особое почтение. Так вот по существу: было дело, проснулся я ночью оттого, что приснилось, будто глухарь на сосне, что возле сортира, сидит. Нелепый сон, конечно, но вот как живой сидит и глазами вращает… Вот я и проснулся от такой наглости. Проснулся и думаю, а вдруг сон в руку, прихватил мелкашку да и вышел. И, между прочим, эту самую мелкашку я нашёл… В тайге кто-то потерял…
– И был глухарь?
– Не было… Не было, гражданин начальник, обманул сон.
– Не было… И про винтовку складно… Может, что-нибудь ещё расскажете… из серии снов?
– Да уж что рассказывать… Я ведь знаю, что с вами шутить нельзя, догадываюсь – дело шьёте, начальник, в тяжеловесы пишете: винтовка моя, ночью выходил, знаете, что вечером с Ляховым поругался, угрожал ему… Знаю, гражданин следователь, вашу логику и что за штука неопровержимость фактов, знаю, учёный… Так я вам так скажу, Ляхова мог убить и я, паскуда он, а не человек, мог, но не успел.
– А всё-таки могли, Зотов. И как язык поворачивается сознаваться в этом…
– Так люди-то разные, гражданин начальник. Такого, как Ляхов был, не жалко. Вы вот тут день всего и думаете: вам все всё рассказывают. Как бы не так. Никому не хочется душу перед милицией распахивать. Я лично к вам за защитой не пойду.
– А вы за всех не говорите.
– Ладно, не за всех, за себя только. Так вот, сказал вам Устин, как зубами по ночам скрипит и не знает, что делать: жена его глаз с Ляхова не спускает. А им, между прочим, каждую вахту вместе на буровой быть приходится. Да я бы на его месте давно уже что-нибудь Ляхову на голову опустил… Или тот же Коробов. Мужик правильный вроде, а вот есть в нём червоточинка, по-вашему если говорить, а такие в одной стае вдвоём не летают, не могут… Правдоискатель – праведник у нас, да и тот порой так на Ляхова глядел, что впору было дуэльные пистолеты подавать…
– Грамотный ты, Зотов, слушаю тебя и удивляюсь: работаешь помбуром, а говоришь, словно вуз гуманитарный закончил…
– Чего не было, того не было. Только я ведь, гражданин начальник, отдыхал долго, там и почитал книжек.
– Знаю, что за отдых был. Но давай ближе, по существу. Значит, Ляхова ты не убивал?
– Нет.
– Вот видишь как, Зотов. По-твоему, все люди честные, правильные, кроме Ляхова, а его вот убили, и никто не сознаётся. Почему бы не признаться, не облегчить свою участь?
– Э, гражданин начальник, как все вы… Да я, например, не пришёл бы к вам. Ждал, не убегал бы никуда, но не пришёл. И знаете почему?.. А я так бы думал: убил-то я подлеца, значит, не убил, а наказал, а если так, то от людей должно быть мне вознаграждение, а не наказание, зачем же я голову в петлю сам совать стану, подожду, авось Бог поможет…
– Ты же в бога не веришь, Зотов?
– Так я образно, в данном случае я судьбу имел в виду… Ну, ладно, что мы разговоры разговариваем, вон уже утро, спать хочется, сегодня, поди, нас отпустите домой…
– Что ещё ты можешь сказать по существу?
– Да ничего, кроме того, что зря дело мне вяжешь, начальник. А винтовочку найденную забирай.
– Мудр ты, Зотов, как старик. Или как актёр.
– Так я в зоне в художественной самодеятельности был.
– Иди, – оборвал его Крюк. – А винтовочку… Ты вот что, сам её повезёшь, со мной…
9 сентября. День
Утро уже набирало силу, когда следователь Крюк вышел на улицу.
Покрытая изморозью стена вагончика под солнечными лучами из седой становилась серой, потом чёрной, обманывая своим весенним таянием, но, стоило поднять голову, взглянуть на обнажившуюся тайгу, чтобы избавиться от иллюзии. Только гул дизелей да неустанное движение металлических труб в решётке буровой вышки не были иллюзией, и Крюк подумал, что в его работе трудно порой увидеть даже вот такое большое, как эта вышка, а принимаешь за истинное тающую осеннюю изморозь. И не чувствовал себя Крюк сейчас борцом за справедливость.
Это настроение было недолгим, он быстро справился с ним, но всё-таки оно было, недопустимое настроение его неправомочности судить любого из этих людей. Он влезал в их судьбы, непрошеный, незваный, оценивал, пытался разрубить завязанные не им узлы.
А гуманно ли то, что он делает, не насилие ли это?
Да, насилие, подумал он, но как же иначе наказывать?
Да, пусть Ляхов был негодяем, он приносил горе, был источником эпидемии озлобленности, гораздо более опасной, чем эпидемия гриппа, пусть так, но ведь он был человеком. И подняли руку на жизнь человека…
Гуманно ли это?
Но ведь тогда получается, что и он не вправе распоряжаться чьей-либо жизнью…
Действительно, запутаешься.
Но что его, собственно, занесло туда, куда не надо. Он – слуга закона. Закон охраняет в данном случае личность. Вот всё и встало на свои места: он защищает личность, а она была уничтожена. Значит, следует возмездие, вполне справедливое наказание. Меру вины определит суд, другие люди, его дело – найти убийцу и представить все доказательства. И надо делать своё дело, а о гуманизме думать в нерабочее время…
Так кто же убил Ляхова?
Мокин или Зотов?.. Зотов или Мокин… Больше он никого не видит…
Но кто же из них?..
Крюк поднялся на буровую. У лебёдки стоял вчерашний длиннорукий мужчина. «Свиридов», вспомнил его фамилию Крюк. Тот подмигнул следователю, не поднимая глаз на спускающуюся свечу, бросил рычаг тормоза вниз, когда, казалось, элеватор расплющится о металлический круг ротора, бросил ловко, отточенным движением и снова подмигнул, пока помбур отцеплял элеватор, потом откинул рычаг и, выставив вперёд правую ногу, крикнул:
– Лейтенант, на-ко, подержи, может, пригодится…
Крюк не нашёлся, что ответить, улыбнулся и медленно спустился вниз.
Мокин или Зотов, думал он и никак не мог решить, кто же убил Ляхова.
Он вспомнил, как сидели перед ним тот и другой. Спокойствие Мокина и нервозность Зотова. Немногословность и многословие.
И первое и второе могло свидетельствовать о волнении.
Вообще-то убийца спокойным не бывает, этому Крюка в университете учили. На этом строится множество вариантов обнаружения.
Значит, классическая схема.
В крайнем случае, если я не прав, скажу, что проверка, подумал он.
Мысль была нечестная, нехорошая, недопустимая для человека, служащего закону, но Крюк постарался отмахнуться от неё, уйдя в технику проведения следственного эксперимента, обдумывая детали. Так он дошёл до конторы и встретил осунувшегося, ещё более ссутулившегося мастера. Тот стоял у двери и так жалобно смотрел на Крюка, что он невольно похлопал Петухова по плечу, хотя это выглядело нелепо: Петухов был старше его вдвое, – и сказал:
– Зовите ко мне Зотова. С вещами. А остальные могут ехать домой.
– Зотов? – удивился Петухов. – Зотов… Ну что ж…
– Да, как там с вертолётом? – крикнул вдогонку следователь.
– Обещали после девяти.
– Хорошо. На вертолёте отправите тело Ляхова и меня с Зотовым.
Через несколько минут в вагончик вошёл Зотов, бросил в угол тощий рюкзак, посмотрел на Крюка долгим и, как тому показалось, сонным взглядом.
– Эх, начальник, – вздохнул он. – Верить бы надо. Я не говорил, что убил, а сказал только, что не успел. За это, я знаю, срока не дают.
– А ты, я вижу, Зотов, неплохо себя чувствуешь.
– Что мне расстраиваться, вы молодой, опыта мало, а дело, видать, первое, да поскорее раскрыть хочется, но там ведь в вашей конторе и другие сидят. А потом суд, а суду подавай неопровержимые доказательства, их-то у вас и нет. Так что посижу. Обидно, конечно.
– Зотов, скоро вертолёт будет, на нём и полетим. А пока можешь всё написать. Чистосердечное признание…
– Нечего писать, начальник, нечего, – сказал Зотов и закрыл глаза.
Крюк постоял над ним, потом сел за стол и стал смотреть в окно на буровую, падающие вниз трубы и поднимающиеся облачка дыма над лебёдкой. Он увидел, как на буровую поднялся Мокин, прошёл к лебёдке, Свиридов вышел в проём, прикуривая папиросу, а у рычага остался Мокин, опустил пару свечей, лихо, со свистом, потом спустился и пошёл в сторону конторы. И чем ближе он подходил, тем яснее Крюк понимал, зачем он сюда идёт, и всё поднимался и поднимался над столом, забыв, что Мокин тоже его видит, видит его глаза, и, когда Устин подошёл к окну, Крюк рванулся к двери, распахнул её, как гостеприимный хозяин перед долгожданным гостем.
– Ждали, – выдохнул Мокин. – Пусть Женька идёт, там автобус ждёт, значит, ехать ребятам надо.
– Иди, Зотов, – сказал Крюк, хотя этого делать не полагалось, не он подчинялся этому человеку, а этот человек ему и даже не подчинялся, это был его враг, убийца, его соперник, которого он обыграл.
– Мокин, – сказал, выходя, Женька. – Устин… Зря ты…
Что зря, он не договорил, махнул рукой, пошёл, размахивая рюкзаком, и вышедший следом Крюк видел, как у автобуса его окружили мужики, заговорили о чём-то, покуривая и поглядывая в его сторону. Он понял, что они ждут чего-то от него. Вернулся в вагончик, оглядел Мокина. Тот был спокоен так же, как ночью.
– Садитесь сюда, – сказал он, показывая место за столом. Поправил стопку чистых листов, положил ручку. – Пишите, как всё было. Пишите, Мокин. А я пойду с вашей женой поговорю.
– С женой не надо бы, значит, – просяще произнёс тот.
– Не могу, – развёл руками Крюк. – Обязан, гражданин Мокин, поговорить.
Мокин сел за стол и, опустив голову, начал писать.
Стараясь не замечать ждущих глаз мужиков, следователь Крюк прошёл к женскому вагончику.
Татьяна Львовна лежала на своей постели, закутавшись в одеяло и невидящим взглядом упираясь в стену. Она не заметила прихода следователя, не ответила на его «здравствуйте» и никак не отреагировала на то, что он опустился около неё. И только когда Крюк после долгого молчания решил было выйти, подозревая, что с женщиной что-то произошло, она повернула голову и тихо сказала:
– Спрашивайте.
– Ваш муж там пишет, как всё случилось.
Татьяна Львовна кивнула, словно так же хорошо знала, что делает её муж, как и Крюк.
– Он убил его, – сказала она.
– Он убил Ляхова? – переспросил Крюк.
– Его никто не понимал, его никто не знал, не хотели понять, считали злым, чёрствым, а я… я его любила… Он не такой был, понимаете, не такой, как перед всеми. Он просто уже не мог с ними иначе…
– Успокойтесь, – погладил её Крюк по руке, которую она тут же спрятала под одеяло.
Он подумал, что Татьяна Львовна намного моложе своего мужа. Её лицо не утратило ещё девичьей свежести, и только черты его несколько покрупнели.
– Не надо меня трогать, не надо… Я всё сама расскажу… Я никогда не любила мужа. Мы из одной деревни, жили через несколько дворов. Он старше на одиннадцать лет. Первая жена его бросила, сбежала, а через два года, я только школу закончила, меня сосватали. Не пьёт, не курит, мама уговорила, как за каменной стеной будешь, зачем тебе на судьбу гадать да какого-нибудь пьяницу кормить, иди… Я и пошла, не знала, что такое любовь-то… Только вот с Витей… Он такой был, потому что не любил себя… И людей не любил… Он мне такого порассказывал про всех, а сам мучился… Сказал, что не может больше на буровой, что боится сорваться, что-нибудь натворить, подраться. Что возьмёт отпуск, а потом он должен был за границу ехать. Договорились, что через неделю мы встретимся, он обещал отвезти меня к своей матери, оставить там, ехать за границу с законной женой, а вернувшись, развестись. Говорил, что мать поймёт нас и поможет мне… Я… я плакала, когда он ушёл, тяжело было… А потом пришёл Устин. Сдёрнул меня с постели, ударил… Я закричала, а он сел вот так же, как вы, и сказал, что ненавидит меня, что всю жизнь я ему сломала. И ушёл.
– Больше он к вам не заходил?
– Нет… Но я слышала, как он ходил возле вагончика.
– Татьяна Львовна, а когда вы узнали, что он…
– Я чувствовала, что-то случилось, но поняла до конца, когда нашли… Виктора.
Она уткнулась в одеяло, сдерживая плач, её грудь то поднималась, то опускалась, и Крюку стало неудобно сидеть, задавать вопросы этой женщине.
Он хотел сопоставить то, что услышал сейчас о Ляхове, с уже известным и не мог: так это запутывало такое простое поначалу дело, и он понимал, что если попытается докопаться до истины, то потеряется в этих поисках…
– Виктор хотел извиниться перед всеми, начать жить иначе, – сказала Татьяна Львовна после паузы. – Он хотел признаться в своих махинациях и мастера. Говорил, что не тот опасен, кто грешит на виду, а тот, кто втайне и кто, осуждая грех, постоянно соблазняется им. Он Коробова называл лжеправедником. Он не любил студента за его послушность…
– А Зотова – за непокорность, – вставил Крюк и пожалел об этом.
– Вы не поймёте, – сказала Татьяна Львовна с болью в голосе. – Его никто не хочет понять…
– Я понимаю, Татьяна Львовна, вам тяжело сейчас: Ляхов, муж…
– Муж?.. У меня нет мужа.
– Сколько вам лет? – неожиданно спросил Крюк.
– Двадцать четыре.
– Татьяна Львовна, сейчас вертолёт будет, если хотите, вы можете попрощаться с мужем.
– Нет, – твёрдо сказала она. – Если вы хотите мне сделать добро, разрешите увидеть Виктора…
– Хорошо.
С тяжёлым сердцем возвращался к Мокину следователь Крюк.
С какой-то непонятной для самого себя виной перед этой женщиной.
Из объяснения Мокина Устина Евсеевича, 1945 года рождения: «Я узнал о своей жене и Ляхове несколько недель назад. Ляхова ненавидел, но не думал, что убью его. Сначала я хотел уйти от жены, но не смог. Я узнал о Ляхове, потому что она называла его имя во сне. С Ляховым больше работать не мог, хотел уйти с буровой, но решил подождать, пока он уедет в Сирию, так как я привык к бригаде. Перед отъездом хотел поговорить с ним, предупредить, чтобы не вздумал возвращаться… В тот вечер я видел, как Ляхов пошёл к моей жене. И до конца смены думал лишь об одном, чтобы он никуда не ушёл, чтобы я встретил его у жены… Когда освободился, пошёл туда, но Ляхова не застал. Ударил жену. Пошёл к себе в вагончик, лёг, но спать не мог. Проснулся Зотов, стал рассказывать про свой сон, глухаря, которого он увидел во сне, взял винтовку и вышел. Скоро вернулся, сказал, что никакого глухаря не оказалось, заснул. Я оделся, прихватил винтовку… Я не собирался убивать Ляхова и объяснить, почему взял винтовку, не могу. Я шёл по тайге, было темно, я шёл и никого не думал встретить. Одному мне было легче, чем в вагончике и на людях. Несколько раз обошёл вышку и вдруг увидел Ляхова. Он выходил из конторы. Петухов ему что-то сказал, и Ляхов стал ругаться. Я стоял и думал, что если Ляхов пойдёт в мою сторону, я изобью его. Но он обошёл буровую и стал подниматься на дорогу. Я пошёл к ручью. Сел на берег, сполоснул лицо, попил воды и увидел Ляхова. Он шёл в мою сторону. Я видел, как он нагнулся, долго пил. Я сидел рядом, метрах в пяти, но он не видел меня. Напившись, поднялся, пошёл вдоль ручья, перепрыгнул его и исчез, я пошёл следом и вдруг увидел его снова. И он тоже увидел. Я вскинул винтовку. “Женька!” – крикнул он. Я выстрелил и промазал, хотя было очень близко. “Не надо!” – крикнул он, но я выстрелил второй раз, и он упал, пополз ко мне, шепча: “Не надо”, – потом сорвался со склона… Когда я подошёл, он был мёртв. Вернулся на буровую, зашёл к ребятам. Хотел сразу сказать, что убил, но никто не спросил, что со мной случилось. Я не стал говорить. Потом ждал, когда его найдут, мне нужно было успеть поговорить с женой… Я многое понял, главное, что она меня никогда не полюбит… Записано с моих слов девятого сентября и мною подписано. Устин Евсеевич Мокин».
Автобус выбрался на грунтовку, когда над буровой появился вертолёт. Коробов подумал, что сейчас тот заберёт Устина, лейтенанта, труп Ляхова, понесёт свой груз в посёлок, с каждым мгновением удаляясь не только в пространстве, но и во времени, и каждое это мгновение будет постепенно отдалять пережитое, стирать в памяти неприятное, излечивать от непонятных угрызений совести, и скоро исчезнет и эта непонятная вина за равнодушие к живому и мёртвому…
Он посмотрел на Татьяну.
Та сидела, прижавшись лицом к стеклу, неподвижными глазами вглядываясь в осеннюю тайгу.
Студент завертел головой, толкнул сидящего рядом Лёшу Правдоискателя, прошептал:
– Надо было остаться…
– Без нас справятся, – так же тихо ответил Правдоискатель. – Там Петухов, мужики… По-людски-то надо бы…
Анатолий отвернулся, искоса взглянул на Татьяну Львовну. Он жалел её и не понимал.
Устина ему тоже было жалко.
И Ляхова.
Выходило, что всех ему жалко, и он понимал, что это неправильно, но ничего не мог с собой поделать.
Так, молча, думая каждый о своём, проехали полдороги. Поднялись на крутой изгиб, разрезающий скалу. Отсюда было видно далеко-далеко. Была видна тайга, широкая лента Ангары и дальняя сопка, за которую уходила железная дорога и где был их посёлок, их дом. И опять увидели вертолёт, беззвучно улетавший к сопке.
Коробов прошёл вперёд к двери, достал папиросы. Закурили и остальные, разгоняя дым рукой, поглядывая на Татьяну Львовну…
На станции сбросили рюкзаки в угол, до поезда оставалось два часа, и все молча пошли в ресторан. Лишь Татьяна Львовна с автобуса не пошла со всеми, а по деревянным тротуарам стала спускаться от станции в ту сторону, где виднелась река. Каждый проводил её взглядом, и каждый подумал одно и то же. И только Коробов, ни к кому не обращаясь, произнёс:
– Надо было бы приглядеть за ней, мало ли…
И Лёша Правдоискатель, ни слова не говоря, пошёл следом.
…Лёши не было долго. Стали собираться уже к поезду, когда наконец он пришёл.
– Нет её нигде, – сказал он. – Значит, так и надо, значит, зачем же мешать…
– Иди ты… со своей философией, – не выдержал Коробов, и Цыганок тоже покачал головой:
– Не прав ты, Алексей, может, ей помочь нужно было. В горе человеку человек нужен…
Правдоискатель обиделся:
– Я, что ли, не понимаю… Только некоторым в одиночестве лучше…
Не сговариваясь прошли в ресторан, заказали по сто граммов.
Выпили молча, не чокаясь.
За помин одной и за спасение другой души.
…На полустанке Сосновка было пустынно. Светились несколько далёких окон да фонари на главной улице. На перроне кроме дежурного виднелась тонкая девичья фигурка.
– Люба! – крикнул Анатолий, спускаясь по ступенькам.
Он помахал рукой, и девушка в ответ помахала и пошла вслед за вагоном.
Не ожидая, пока поезд остановится, Анатолий спрыгнул на перрон, обнял худенькие плечи, вдохнул пряный запах волос.
– Я по тебе соскучился, – прошептал он.
Не стесняясь подходивших мужиков, она обняла его за шею, поцеловала, и, взявшись за руки, они побежали вперёд.
– Я тебя каждый день ждала, – прошептала она…
– Нас-то уже отвстречались, – сказал Лёша, глядя им вслед.
Пройдя площадку перед переездом, стали расходиться.
Махнул рукой Женька, подался к себе в общежитие.
Потом свернул Цыганок. Стукнул в маленькое окно покосившегося белёного домика, куда четыре года назад попросился на ночлег, да так и остался. В окне показалось женское лицо и исчезло, звякнул крючок, и Цыганок вошёл в настоявшееся тепло.
– Не ждали, – широко улыбаясь, сказал он, сбрасывая рюкзак и стягивая грязные сапоги.
– Ждала, Ванечка. Умывайся, я тебе сейчас щей налью…
Правдоискателя его дом встретил тёмными окнами. Прежде чем подняться на крыльцо, он обошёл его, поправил выпавшую из отверстия в завалинке тряпку, потом стукнул петлёй по скобе. В доме было тихо, и он стукнул посильнее. Послышались шаги, завизжала дверь в сени, потом звонкий голос жены спросил:
– Кто там?
– Это я, – буркнул Леша.
– Алексей?
– Я.
Что-то загремело в сенях, жена зачертыхалась:
– Подожди, сейчас.
Он сел на крыльцо. В доме скрипели двери, визжали половицы, а он сидел на крыльце, смотрел на звёзды и ничего этого не слышал. Он думал, что, может быть, где-то там, далеко, всё же встречаются души тех людей, которые умирают, и, может быть, сейчас туда добирается душа Ляхова. Он представил, какой долгий и трудный путь это, и пожалел идущих по нему.
…В это время подходил к своему дому Коробов. Около ярко горящего окнами дома Ляхова он замедлил шаги. Там слышались голоса и надрывный женский плач, и он, опустив голову, прошёл мимо.
Возле своего дома опустился на скамейку, достал папиросу.
Где-то играл баян. Тоскливая тягучая мелодия плыла по сонной улице, и Коробов подумал, что вот отчего-то и баянисту не спится, тоскует его душа, ищет выхода, рассказывает об одиночестве. Ему захотелось узнать, кто это играет, увидеть этого баяниста, поговорить с ним, может быть, рассказать многое из того, о чём он никогда никому не говорил и, наверное, не скажет… Но тут вспыхнул свет на веранде, вышла жена.
– Я думала, сегодня не приедешь, – сказала она.
– Как пацаны?
– Спят, что им сделается. Выбегались за день.
Ждали – нет, хотел спросить Коробов, но только вздохнул и пошёл следом за женой…
Охота в Путоранах
Глава 1
С утра туман, висевший над рекой, стал подниматься. Скоро он закрыл взлётную полосу, укутал дома нижней части посёлка. Молочная завеса густела на глазах. Стоя у окна, Солонецкий подумал, что встречать Ладова сегодня не придётся. Нажал клавишу селектора.
– Вера Сергеевна, передайте главному инженеру, чтобы в котлован ехал один. И соедините меня с Пискуновым.
Опустился в кресло, подписал бумаги, вспомнил телефонный разговор с заместителем начальника главка. Слышимость была отвратительной, голос Ладова еле прорывался сквозь помехи, и всё же Солонецкий понял, что тот чем-то недоволен. «Надолго ли к нам?» – осторожно выпытывал Солонецкий, а Ладов, словно не слыша, повторял, чтобы он никуда не улетал, ждал его. И лишь в конце разговора бросил: «Надолго, Юра. Приеду надолго, наговоримся».
Как ни крутил ни вертел Солонецкий, так и не понял, зачем летит Ладов. Но если едет начальство, надо встречать, готовиться, наводить лоск, даже если хозяйство в порядке; надо создать хотя бы видимость приготовлений – что там ни говори, но не видел ещё Солонецкий проверяющего, которому эта суета не была бы по душе. И машину надо подать к самому трапу, и обязательно самому, только самому встретить, и об ужине позаботиться, гостинице…
С Ладовым, конечно, проще – старый знакомый. И останавливается всегда у него. В прежние приезды Солонецкий за бытовые вопросы и не волновался: жена понимала толк во встречах…
Как всё нелепо. Живёшь-живёшь будущим и вдруг понимаешь, что всё осталось в прошлом. В прошлом – радость, счастье, иллюзии, здоровье, желания… На старости лет остаться одному в пустой квартире – такого и врагу не пожелаешь…
Голос секретарши прервал размышления Солонецкого. Он поднял трубку.
– Слушаю, Юрий Иванович, – дрожал на другом конце провода далёкий голос начальника аэродрома.
– Ты что это делаешь? Нарочно туман напустил?
– Что вы, – опасливо отозвался Пискунов, не найдя, как уместнее ответить на шутку начальника строительства. – Туман, дьявол ему в шасси…
– К обеду рассеется, нет?
– Непохоже, Юрий Иванович. Обложило так, что фонарей не видать.
– Плохо работаешь.
– Так ведь погода, Юрий Иванович, стихия, так сказать, она не подчиняется…
– Ладно, – оборвал Солонецкий. – Если борт будет, сразу же доложи.
– Так точно.
Солонецкий переключился на внутреннюю связь.
– Главный инженер выехал?
– У себя.
– Пусть зайдёт.
Посмотрел в окно.
Туман стал плотнее. Уже ничего не было видно, кроме его серой сырой завесы, и казалось, весь мир сжался до пределов кабинета.
Вошёл Кузьмин.
Молча отодвинул кресло, сел.
– Поезжай без меня, Геннадий Макарович, – с трудом уходя из-под гипнотического воздействия тумана, произнёс Солонецкий. – Пусть сегодня займутся марафетом, а то чёрт ногу сломит… Чтобы все ограждения, лестницы, полки в порядок привели. Досадные неожиданности нам сейчас совсем ни к чему… И ещё, Геннадий Макарович, у меня к тебе личная просьба.
Он помолчал, рассеянно оглядывая стоящие на низком столике телефонные аппараты: красный – прямая связь с главком в столице; чёрный – с перевалочной базой в краевом центре, и цвета слоновой кости – местный.
– Я прошу свои проекты заместителю начальника главка пока не показывать.
Кузьмин помедлил и только уже у двери кивнул.
Оставшись один, Солонецкий выдвинул нижний ящик стола, положил перед собой красную папку, туго стянутую завязками, но развязывать так и не стал. То ли от неопределённого разговора с Ладовым, то ли под воздействием тумана, он никак не мог войти в обычный рабочий ритм, когда любое дело кажется самым важным и решается быстро и уверенно, а принятое решение не оставляет сомнений в правильности. Подумал, что выбил его из колеи, скорее всего, телефонный разговор.
Его всегда обижала тайна инспекций. Оскорбляла его, Солонецкого, человеческое достоинство, хотя для начальника строительства инспекция – дело привычное. Проверяющие приезжали и уезжали, а он опять оставался один на один с проблемами, с ежедневными большими и малыми сбоями стройки. И вспоминал о визитёрах, лишь оказавшись в коридорах главка, – по оттенкам настроения, с которыми его принимали. Как правило, каждый проверяющий привозил в главк мнение, не лишённое субъективной окраски. Солонецкий когда-то игнорировал такие мелочи, как хлопоты вокруг того или иного ревизора. За что бывал бит сам, да и дело страдало. С годами набрался ума-разума, научился разбираться в желаниях проверяющих и предугадывать их…
Последний раз Ладов был в Снежном пять лет назад. Тогда он только что защитил кандидатскую, стал заместителем начальника главка. Неделю жил у Солонецкого, днём читая детективы, ночами выезжая на лов осётра… Пять лет назад Ладов был таким, каким Солонецкий знал его ещё в институте. Но когда перевалит за сорок, пять лет – это много. Он судил по себе.
– Юрий Иванович, к вам Илья Герасимович, – вернул его к действительности голос секретарши.
– Пусть войдёт.
Костюков вошёл как всегда стремительно, отмахивая шаг правой рукой и прижимая левой папку с бумагами. И в который раз Солонецкий отметил его моложавость. Стройный не по летам, пятьдесят за плечами, а в любой компании молодых обойдёт: и на гитаре играет, и стихи пишет, и ухаживает так, как редко кто умеет сегодня…
Жестом фокусника, уверенного в успехе номера, раскрыл папку, пододвинул начальнику строительства.
Солонецкий пробежал глазами колонки цифр.
– Что предлагаешь?
– Воспользоваться приездом Ладова…
То есть в благоприятную минуту подсунуть бумаги, убедить в необходимости дополнительного финансирования, надавать кучу обещаний, которые явно будут не по силам, заранее зная, что не выполнив эти, придётся давать новые…
Солонецкий вздохнул: сколько он уже пораздавал подобных обещаний в разных кабинетах.
– Хорошо. Обоснуйте только как следует. – Он прошёл к шкафу, стал одеваться. – Завидую вашей бодрости, Илья Герасимович. Поделились бы секретом, что ли?
– Охотно. Живу по совету моей бабушки: никогда не расстраиваться по пустякам…
– Немудрено, но оптимистично.
Солонецкий пропустил Костюкова вперёд, задержался в приёмной.
– Вера Сергеевна, если самолёт будет, разыщите по рации.
Туман был всё так же плотен, однако Солонецкий решил объехать некоторые объекты.
– Давай-ка, Расторгуев, мы с тобой по посёлку покатаемся, – сказал он шофёру. – Поглядим, как там наш жилотдел порядок навёл… И рацию включи.
Водитель щёлкнул тумблером, повернул ключ зажигания, ворчливо произнёс:
– В такой туман, Юрий Иванович, в кабинетах лучше сидеть… Чаёк попивать.
– Ты меня не учи, – поморщился Солонецкий. – Поворачивай к школе…
В выстуженном пустынном коридоре сантехники лениво покуривали в ожидании отопительных батарей. Директриса, пряча замёрзшее лицо в пушистый воротник, то жалуясь, то требуя, перечислила претензии к строителям, напомнила, что уже сентябрь, а занятия так и не начинались, и наконец, выведенная из себя непробиваемым молчанием начальника строительства, вдруг топнула ногой:
– Да что же вы ходите тут без толку!
И тут же покраснела, смутилась, отчего стала похожа на школьницу, но глаз не опустила.
– Сегодня же сделают, я вам обещаю, – неожиданно виноватым голосом отозвался Солонецкий и, круто повернувшись, вышел.
Начальника жилотдела он нашёл в конторе. Ничего не объясняя, посадил в машину, привёз в школу, оставил возле крыльца, пообещав уволить, если утром в школе не будет тепла.
Потом поехал на строительство телевышки и после обеда – на склады, почти к устью реки.
В управление строительства вернулся поздно вечером.
Зашёл в кабинет. Не раздеваясь, посидел, полистал папку с проектами Кузьмина, взвешивая все «за» и «против». Обижало, что Кузьмин считает его консерватором. Откуда тому знать, сколько шишек набил начальник строительства, прежде чем научился разбираться в непростом клубке отношений с субподрядчиками, заказчиками, проектировщиками, поставщиками… Любая реорганизация – это деньги. И ещё – это риск. Кузьмин – талантливый инженер, но он молод. И мысль, что новое, более совершенное может быть кому-то невыгодным, кажется ему абсурдной. И он ещё имеет право на ошибку, а Солонецкий – уже нет…
Положил папку на место.
Вышел на улицу.
Туман разошёлся, ощутимо похолодало. Освещённый фонарями посёлок казался уютным. Солонецкий пошёл через березовую рощицу, вдыхая запах опавшей листвы. Домой идти не хотелось, он не торопился, но через полчаса уже подходил к коттеджу.
Включил в прихожей свет, неторопливо разделся.
Прошёлся по пустым комнатам.
Есть не хотелось, но всё-таки разбил на сковороду пару яиц. В эту минуту и зазвонил телефон. Отставив недожаренную яичницу, Солонецкий поднял трубку.
– Слушаю.
– Недоволен, – услышал он. – Хозяин сердится, и можно попасть под горячую руку.
Это был голос Ладова.
Но откуда он мог звонить?
Из главка?
Или из Турильска?.. Сидит там в ожидании лётной погоды и сейчас воздаст ему за синоптиков.
– Так-то ты гостей встречаешь… – весело произнёс Ладов.
– Встретил бы, да туман висит… – в тон отозвался Солонецкий. – Где застрял, в Турильске?
– Да нет, ближе.
Борт был, догадался Солонецкий.
– С аэродрома звонишь?
– Проспали твои дозорные, проспали, – поддел Ладов; настроение у него было весёлое. – В гостинице. Грязь дорожную смыл, отдыхаю.
– Что же ты так, – обиженно произнёс Солонецкий. – Дозорным я вкачу, но вот гостиницу не прощу.
– Ты тут «и бог, и царь»… Как на острове в океане живёшь – ни дорог, ни гостей, ни властей.
Трудно было понять, осуждает Ладов или одобряет.
– У меня яичница подгорает, давай я сейчас машину пошлю, – нажал Солонецкий.
– Какую машину, – опять засмеялся Ладов. – Пока ты своего шофёра раскачаешь, я ехать к тебе передумаю… Ладно, иду.
Солонецкий постучал по рычажкам, набрал номер Пискунова. Начал грозно выговаривать, и Пискунов поддакивал, соглашался. Солонецкий представил, как тот сейчас вытягивается по стойке «смирно», прищёлкивая домашними тапочками и хлопая пижамными брюками.
«Я ему сейчас наряд выдам!» – раздалось в трубке, и Солонецкий запоздало пожалел диспетчера, которому отставной майор выговор влепит обязательно.
Не снимая руки с телефона, вдруг с болью подумал о Ирине. Будь она здесь, в доме сейчас начался бы праздник. Подумал, что теперь никто не будет незаметно от других предупреждающе ловить его взгляд, если он скажет что-то не то, никто не поможет в трудную минуту, не развеет сомнения, если они возникнут…
В этом настроении он и встретил Ладова.
– Ну, здравствуй, – бодро сказал тот, подавая холодную руку, и Солонецкий подумал, что можно было бы и иначе, обнять, что ли, но сам не решился, пожал руку в ответ и стал помогать снимать пальто.
А Ладов, скидывая ботинки и надевая подставленные тапочки, говорил и говорил, и сверху Солонецкий видел, как багровела от напряжения его потолстевшая шея, стянутая тугим воротом рубашки.
– Нашёл стрелочника, Юрий Иванович?.. Ох уж эта славянская привычка искать стрелочника по любому неприятному поводу. Никак от неё не избавимся, никак не изживём…
– Изживём – ты же первым взвоешь.
– Ладно, брось такие разговоры, я с дороги, о делах поговорить ещё будет время.
– Проходи. Я один, так что…
Ладов прошёл в комнату, огляделся, провёл рукой по корешкам книг на полке, посмотрел на Солонецкого.
– Там у тебя что-то горит, – прищурившись, сказал он.
– Уже нет. Яичницу будешь?
– Давай.
Солонецкий ушёл на кухню, а Ладов сел за стол. Поёжился, физически ощущая холостяцкий неуют.
Солонецкий принёс яичницу, достал рюмки.
– Так ты надолго? – спросил он.
– Ты словно гостю не рад, – обидчиво произнёс Ладов. – Он только на порог, а ты уже на выход показываешь.
– Гостям мы рады, это ты зря. – Солонецкий поднял рюмку. – Давай за приезд, за всё хорошее…
– Чисто символически. – Ладов отпил глоток. – Вижу, до твоей берлоги ещё не докатились веяния: пора на чай переходить.
– Почему же, наслышаны. – Он усмехнулся. – Газеты с опозданием, но читаем. Только ведь привычки ломать трудно. – Солонецкий отставил рюмку. – Да ещё при наших морозах.
– Мой тебе совет, захочется выпить, пей один. – Ладов подцепил кусочек яичницы. – Давно не виделись… Как живёшь?
– Давно, – согласился Солонецкий. – Живу, как видишь. – Он обвёл руками комнату. – Сам оценивай.
– Заходил я к твоим недели две назад, – после паузы сказал Ладов. – Ира работает в институте. Наташка по твоим стопам пошла…
– Дочка пишет, – кивнул Солонецкий. – Редко, но пишет.
– Мы стареем, а дочки уже невесты. И заметить не успели, а? – Ладов закурил, поискал глазами пепельницу. Солонецкий пододвинул тарелку. – Спасибо… Если откровенно, Юра, я тебя не понимаю. Винить не хочу, но… Мог ведь и должностью поплатиться.
Солонецкий промолчал.
Глядя на Ладова, он подумал, как тот изменился. И не только внешне. Внешне даже не так, чуточку: в меру располнел, но это ему шло, как шла лёгкая седина и высокий лоб с залысинами. В институте Ладову прочили лысину к тридцати, но вот уже за сорок, кандидатская за плечами, а залысины всё те же, с одной лишь разницей: двадцать лет назад они старили, а теперь молодят.
– О чём молчишь? – спросил Ладов.
– О пустяках… Если б человек знал, что его ждёт, то совершал бы он ошибки, как считаешь?
– Я философский минимум пятнадцать лет назад сдал, – сказал Ладов. – Это у тебя от одиночества.
– И всё-таки?
– Думаю, совершал бы…
– Даже зная, что будет?
– Может быть… Так что у вас случилось? – спросил Ладов. – Я вам, конечно, не судья…
– И не берись судить, мы уж сами.
Солонецкий задел локтем рюмку, та упала на пол и разбилась. Ладов стал помогать собирать осколки.
– Ты ревнивый, нет? – спросил Солонецкий.
– Некогда, работы много, – отшутился Ладов.
– А тебе не кажется, что мы работоманами становимся? – Солонецкий сложил стёкла на тарелку. – Я вот в выходные места себе не нахожу. Указ антиалкогольный вышел, признаться первым делом подумал: а чем же мои мужики свободное время заполнят? Театра у нас нет, гастролирующие знаменитости – редкость. Чем заменить питейную компанию? Ведь у неё своеобразная, но специфика, что ли… Пусть пьяное, но общение. Впрочем, я не силён в этом. И тем не менее… Клубы сословные отменены. Ответственные за культуру у меня не культурнее вахтёра… Работать мы научились, а вот отдыхать – нет.
Ладов поднялся, включил телевизор.
– Вот, пожалуйста, целый мир на дому. Только рябит…
– Телецентр нужен, – сказал Солонецкии и взглянул на Ладова, но тот не отреагировал.
Солонецкий предположил, что слухи о подпольной стройке ещё не докатились до главка.
– Уж не новые веянья ли командировали? – вопросительно произнёс он.
– Мы в них ещё сами до конца не разобрались.
Откровенничать Ладов не хотел.
Прошёлся по комнате, кинул взгляд на настенные часы и заторопился.
– Пора отдыхать…
– Оставайся у меня, – предложил Солонецкий. – Места, сам видишь…
– Я уже устроился… Да и лучше так будет…
Он явно что-то недоговаривал.
Солонецкий понял это и настаивать не стал.
Проводил гостя, сухо попрощался.
Спать не хотелось, и он ещё долго лежал в темноте, но так и не нашёл ответа на вопрос о цели командировки заместителя начальника главка.
Заснул с назойливой и раздражающей головной болью.
Глава 2
Ладов не любил гостиниц. Ни столичных, фешенебельных, блестящих и продезинфицированных, ни провинциальных – звонких и студёных, с тусклым светом от маленькой лампочки под потолком и грязными пятнами на стенах. Его раздражали не столько неудобства, сколько гостиничное сиротливое настроение. Обижало, что он приходит в комнату, в которой до него жил кто-то и после него тоже кто-то займёт эту постель, включит эту настольную лампу. В гостинице Ладов становился брезглив, беспрестанно мыл руки, с опаской ложился на, как ему казалось, не совсем свежие простыни. Он не терпел соседей, обычно людей словоохотливых, нестеснительных, и, если не оказывалось одноместного номера, допоздна бродил по улицам и приходил, падая от усталости, раздевался и сразу же засыпал.
Вернувшись от Солонецкого в свой почти что люкс с двумя маленькими комнатками, телевизором и холодильником, он впервые почувствовал себя почти как дома. Для двухэтажной деревянной гостиницы это был действительно самый лучший номер. Освещённая сумеречным светом настольной лампы, гостиничная комната, по сравнению с холостяцкой квартирой Солонецкого, показалась Ладову уютной. Было на удивление тихо. Никто не хлопал дверьми, не ругался, не пытался петь или выяснять отношения. Батареи грели отменно, хотя начало сентября и по здешним меркам была хоть и поздняя, но всё же осень. И дежурная оказалась приятной женщиной.
– А нет ли у вас чаю? – забирая ключ, неожиданно для самого себя спросил он. И тут же добавил: – Хотя, впрочем, я не большой любитель…
– Я сейчас заварю.
Дежурная улыбнулась, и Ладову стало легко. Он закивал, заторопился в свой номер. Достал из чемодана коньяк, пару плиток шоколада, лимон, направил лампу в угол, так что в комнате стало романтически сумрачно, пододвинул к столу кресло и, довольный, пошёл к дежурной. Та, помедлив, всё же согласилась составить ему компанию, а увидев накрытый стол, не застеснялась.
– Волчье состояние, – сказал он и торопливо пояснил: – Это мы как-то зимой на волков охотились, обложили стаю, пятерых сразу взяли, а шестого никак. Ждали, замёрзли. Вечер уже, луна. И тут вой… Этот последний на пригорке сидит, на луну воет, а перед ним остатки зайца. Вот иногда почему-то вспоминаю. Когда одиноким себя чувствую… Простите, вас зовут…
– Ольга Павловна.
– А меня…
– Я знаю, Александр Иванович.
– Ах да, анкета проживающего. Вы давно в Снежном?
– Скоро год… А ведь волк всё же съел зайца, – заметила Ольга Павловна.
– Да, действительно, – с удивлением отозвался Ладов. – А я об этом как-то не думал, больше о луне…
Ольга Павловна рассмеялась.
– Да вы не смущайтесь, – сказала она. – Хотите, скажу, о чём вы сейчас думаете? О том, что обычно на такой работе, как моя, сидят либо вышколенные заурядности, либо смазливые дурочки, не так ли?
– Ну, не совсем… – И признался: – Хотя что-то в этом роде.
– А сейчас вам хочется сказать мне комплимент.
– Вы правы.
Игривое настроение покидало его. Невеликий арсенал обольщений становился не нужен, а лёгкий вечер с красивой женщиной превращался в сухой и скучный, как формула, разговор.
– А сейчас вы думаете…
– Нет, – поспешно перебил Ладов. – Увольте, это опасная игра. Я чувствую себя зайцем. К тому же ничего не знаю о вас…
– Вы быстро сдаётесь… Я была замужем. Это интересно знать всем мужчинам. – Ладов протестующе поднял руку, но она продолжала: – Но это не драма, не трагедия – мы просто не любили друг друга. А сюда я приехала не за деньгами и не прятаться от горя. Вы угадали, здесь я случайно и ненадолго. Просто сейчас эта работа меня устраивает… Вам это хотелось узнать?
– Я слушаю. – Ладов откинулся на стуле. – Внимательно и с интересом слушаю.
– По профессии – художник. Думаю, что для мимолётной встречи этого даже много…
– У вас здесь родные, знакомые?
Она покачала головой:
– Приходите в гости, прекрасная комнатка в общежитии на двоих.
– Вы живёте в общежитии? Но это же неудобно?..
– У меня хорошая соседка.
– Хотите, я вам помогу. – К Ладову возвращалась уверенность. – Это же непорядок, честное слово, единственный художник на стройке и без мастерской… Завтра же скажу начальнику строительства.
– Вот этого, пожалуйста, не делайте. – Ольга Павловна положила на его руку свою тёплую узкую ладонь, и он напрягся, боясь неосторожным движением спугнуть её. – Я очень боюсь альтруистов. Они приносят несчастье.
Ладов промолчал.
– А теперь извините, Александр Иванович, мне пора на своё рабочее место.
– А как же чай? – приподнялся Ладов.
– В другой раз. – И опять на её губах появилась обворожительная улыбка. – Спокойной ночи.
Он проводил её, вернулся в номер. Нервно засмеялся: вот тебе и пофлиртовал. «Уж не экстрасенс ли она? – подумал Ладов. – Развелось нынче всяких…»
Укладываясь, вспомнил Солонецкого.
За годы, что не виделись, тот явно сдал.
С тайным удовлетворением подумал, что теперь годы стали его союзником: слишком долго Солонецкий опережал его. Начиная с того вечера, когда увёл Ирину…
Потом стал думать об Ольге Павловне и незаметно уснул.
Снилось ему что-то приятное, но что, он так и не смог потом вспомнить.
…Проснулся утром с юношеским настроением ожидания чего-то радостного. Прихватил шоколадку, приготовил улыбку, но Ольги Павловны на месте не оказалось.
Тем не менее в кабинет начальника строительства он вошёл в прекрасном настроении.
Солонецкий перелистывал какие-то бумаги.
Ладов разделся, энергично потёр руки.
– Слушай, неплохая у тебя гостиница.
Опустился в кресло.
– Позавтракал? – поинтересовался Солонецкий.
– Ты можешь на пятнадцать минут оторваться от всего этого? – Ладов вспомнил о цели своей командировки.
– Просьба начальника – приказ для подчинённого… – Солонецкий откинулся в кресле.
Ладов подошёл к селектору, подождал, пока секретарша ответит и приказал:
– Никаких посетителей, никаких звонков.
– Поняла, – неуверенно отозвалась та, не узнавая голос своего шефа.
Ладов вытащил из «дипломата» прозрачную папку, достал конверт, протянул начальнику строительства.
Пока Солонецкий читал, он разглядывал кабинет.
В прошлый его приезд этого здания ещё не было и начальник строительства ютился в вагончике. Когда на планёрку набивался народ, ведущие специалисты тесно стояли возле стен, даже в коридорчике. Производственное совещание напоминало революционный митинг. Правда, и время было горячее, самое начало стройки. Теперь кабинет был настоящий: в деревянных панелях, с длинным столом и встроенными шкафами. Пожалуй, даже просторнее и светлее, чем у него в главке. Но если бы хозяином стал он, пришлось бы многое менять… И прежде всего этот вытертый ковёр и допотопную мебель.
Солонецкий брезгливо отбросил листок.
– Будешь проверять?
Ладов аккуратно вложил листок в конверт, положил его в папку, развёл руками.
– А вы, Юрий Иванович, поступили бы иначе?
– Извини. – Солонецкий резким движением отодвинул документы, и те посыпались на пол.
Он нагнулся, неторопливо собрал.
Выпрямился:
– Вот уж не думал, что цель твоей командировки – проверять сплетни.
– Ты невнимательно читал. Там речь идёт и о нарушениях финансовой дисциплины.
– Саша, Саша…
Солонецкий поднялся, подошёл к окну.
От вчерашнего тумана не осталось и следа. На горизонте алела полоска рассвета, и он подумал, что это, может быть, последний солнечный рассвет перед долгой заполярной зимой… Кому это нужно было, кто написал всю эту чепуху?.. Нарушения финансовой дисциплины. Да у кого их не бывает, как им не быть, если всюду жёсткие рамки инструкций и головотяпство. Если обещанного ждут три года, а самое часто употребляемое слово среди строителей – «выколачивать». Если нет такой бригады, где всего было бы в достатке: только вкалывай, как говорят мужики, без остановки… Нет, такого он не помнит и, насколько знает, в других управлениях этого тоже нет. Есть простои, авралы, сверхурочные и перерасход фонда заработной платы. Есть толкачи, умеющие обойти, подкупить, вырвать у другого из глотки… И вот эта неприкрытая клевета…
– Не раскисай, – бодренько произнёс Ладов. – Если всё чисто, чего тебе бояться.
– А ты допускаешь, что не всё?
– Давай закончим этот разговор. – Ладов наклонился к селектору: – Пригласите главного инженера и заместителей. – Повернулся к Солонецкому: – Кузьмин справляется?
– Справляется, – неохотно ответил тот.
В кабинете повисла напряжённая пауза.
Солонецкий сердито барабанил пальцами по столу.
Ладов прохаживался, разглядывая развешанные на стенах схемы будущей гидроэлектростанции.
Вошёл Кузьмин, поздоровался, присел с торца длинного стола.
За ним появился Костюков с неизменной папкой, шумно занял своё место, вздохнул:
– Совещание?
Не дождавшись ответа, уткнулся в папку.
Друг за другом вошли флегматичный Смирнов и белый как мел хронический почечник Шипицын. В который раз Солонецкий подумал, что надо бы подыскать ему место полегче, но не ниже. Понижения Шипицын не заслужил.
– Вас пригласил Александр Иванович, – сказал Солонецкий и отошёл к окну, показывая, что то, о чём пойдёт речь, его совершенно не касается.
– Я буду краток, – начал Ладов, делая вид, что не замечает поведения начальника строительства. – Вы лучше меня знаете, в каком положении находится стройка. Скоро заканчивается год, в главке серьёзно озабочены положением дел. Квартальный план не выполнен, тематические задачи не решены… В чём причины? Хотелось бы услышать ваше мнение. Завтра в десять я жду вас, Геннадий Макарович, со своими соображениями. Затем остальных… Юрий Иванович, вы ничего не хотите добавить?
– У вас всё?
– Если вопросов нет…
Солонецкий вернулся к столу, оглядел присутствующих.
– Ну что ж, давайте работать, товарищи.
Подождал, пока закроется дверь за выходящими, с усмешкой произнёс:
– Не считай других глупее себя…
– Что ты имеешь в виду?
Солонецкий промолчал.
– Хотел на них посмотреть… – Миролюбиво признался Ладов. – Среди приближённых сто предателей на одного друга – кажется, такую арифметику вывел какой-то из императоров. Конфликтуете с главным инженером?
– Он – толковый инженер. Не думаю, что он писал… Ошибусь – в сторожа пойду.
Ладов снисходительно улыбнулся, но начальник строительства этого не заметил.
Солонецкий вспомнил приезд Кузьмина.
Когда тот впервые вошёл в кабинет, он принял его за студента-старшекурсника. Удружили, разочарованно подумал тогда. Хвалили-расхваливали, а на самом деле опять чей-нибудь сыночек или племянничек… За три года от инженера производственного отдела до начальника строительно-монтажного управления взлететь не просто. Тут хоть семи пядей, а без покровителей никак…
Но через несколько недель он убедился, что главный инженер далеко не дилетант в своих вопросах. И подумал, что в жизни что-то меняется. Когда Солонецкий начинал, сама идея поставить на такую должность молодого инженера была крамольной. Даже если были очевидны и талант, и хватка. Правилом считалось выдерживать положенный срок на каждой ступеньке служебной лестницы…
– Я тебе нужен?.. – повернулся он к Ладову.
– Да уж постараюсь не досаждать мелочами. – Тот обвёл взглядом кабинет. – Уступи на время своё рабочее место. Надо же мне где-то беседовать…
– А если откажу?
– Не нравится мне этот разговор.
– А мне цель твоей командировки.
– А вот это не в нашей с тобой компетенции, – сухо произнёс Ладов. – Займёмся лучше каждый своим делом.
…Неделю заместитель начальника главка изучал документы, беседовал со специалистами, исподволь задавая вопросы, касающиеся личной жизни начальника строительства, и это скоро стало известно всему посёлку. Поползли слухи о том, что Солонецкого будут снимать за большие грехи. Несколько раз Ладову звонили не называвшие себя люди, просили «вывести на чистую воду» всю верхушку.
На третий день пришла председатель поселкового совета Галина Кирилловна Ленцова, напористая, с зычным мужским голосом и строгим, не умеющим улыбаться лицом. Пять лет назад она была начальником строительного участка, и Ладов запомнил её мужские манеры, неожиданный для женщины голос. Ленцова поинтересовалась, каким находит посёлок заместитель начальника главка, как устроился в гостинице, доволен ли обслуживанием, и, наконец, перешла к главному.
– В какой-то мере и меня это касается. Как депутатом Юрием Ивановичем я довольна: нужды наши понимает, помогает… Не замечала ничего за ним. Свой карман с государственным не путает. – И грубовато добавила: – Слухи бы пресечь надо, товарищ Ладов. Посёлок у нас маленький, общественное мнение создать легко…
– Не по адресу претензии, Галина Кирилловна, – официальным тоном произнёс Ладов. – Не Солонецкий вас прислал случайно?
– Люди прислали, – жёстко ответила Ленцова. – Совесть. Оболгать человека просто – имя честное восставить труднее.
– Вот этим я и занимаюсь. – Ладов встал, давая понять, что разговор окончен.
– Так вы разберитесь побыстрее, – сказала Ленцова.
Ладов промолчал.
Визит Ленцовой ему не понравился. Он не мог избавиться от мысли, что пришла она по наущению Солонецкого. Хотел позвонить тому в управление основных сооружений, куда перебрался начальник строительства, но передумал: если бы хотел, сам мог давно выйти на откровенный разговор. А если не выходит, может быть, и есть грехи… Правда, пока что факты, изложенные в анонимке, не подтверждались.
В середине этой нелёгкой недели у Ладова намечался приятный вечер: дежурила Ольга Павловна. Они долго разговаривали. Спросил он её и о Солонецком.
– Это не праздное любопытство, – догадалась Ольга Павловна. – Вы ведь были друзьями?
– Почему же были? – удивился Ладов.
– А вы считаете иначе?
Она пристально посмотрела на него, и он не выдержал – отвёл взгляд.
– Вы ведь приехали по анонимке, – продолжила Ольга Павловна. – И проверять её вам не неприятно.
– Ерунда, – разозлился Ладов. – Кто вам наплёл эту чушь? Действительно, письмо есть, но копаться в этой истории мне не доставляет никакого удовольствия. И поверьте, уж лучше это сделает друг, чем недруг…
Он перевёл разговор на темы более безобидные. Удивил Ольгу Павловну, попросив показать свои картины.
– Вы уже всё обо мне знаете…
– Ну, не всё, конечно, – с улыбкой произнёс Ладов. – Так пригласите в гости? Вы ведь обещали.
– Приглашу, но не сейчас, – сказала она. – Сегодня я ненавижу всё, что сделала.
– А когда же вы будете любить?
– Может быть, никогда.
Ольга Павловна скользнула по нему равнодушным взглядом, и Ладов понял, что приглашение так и останется приглашением.
– Почему вы заступаетесь за Солонецкого? Только давайте откровенно.
– Сегодня у вас охотничье настроение. – Ольга Павловна поправила ворот кофточки. Она с трудом скрывала волнение. – Азарт… Я не люблю охоту: обнажаются низменные страсти, отсутствует человеколюбие. И нет места объективности…Так что разговора не получится…
С этой минуты между ними появилась стена отчуждения.
…К концу недели Ладов понял, что ничего серьёзного не найдёт. Нарушения были, но если подходить неформально, то начальник строительства просто обходил нелепые и давно устаревшие положения и нормы. Причём поразительно точно угадывая, куда эффективнее вложить деньги. Единственное обвинение, которое мог предъявить Ладов и цена которому – выговор, было нарушение делопроизводства.
В пятницу он позвонил в котлован. Солонецкого не было, и Ладов попросил, чтобы его разыскали.
Появился тот в конце дня.
– Ну, принимай свои апартаменты, – бодро встретил Солонецкого Ладов. – Продолжай властвовать… – И, словно не замечая осунувшегося лица того, добавил: – Обижаться ты на меня можешь, если хочешь, а охоту всё-таки организуй.
– Не боишься? – Солонецкий бросил пальто на спинку стула, сел напротив. – Вон сколько грехов на мне, а ты хочешь со мной в тундру, на охоту…
– Давай начистоту, без обид. Что, всё у тебя так-таки гладко? Сам знаешь, не всё. И самое главное – написал ведь кто-то! Понимаешь, написал! – Ладов хлопнул кипой бумаг по столу. – Вон сколько объяснительных пришлось собрать. Против одной… А ты не знаешь, кто. Ты начальник строительства или вахтёр? Выгнать давно надо этого доносчика к чёртовой матери, а ты его вычислить не можешь… Так будет охота?
– Ладно, – облегчённо вздохнул Солонецкий. – Что мы действительно как малые дети… – И виновато добавил: – Устал я что-то. – И, словно стряхивая заботы, бодро добавил: – А поохотимся обязательно, только…
– Что только?
– Да так, подумал, вернёшься, а следом анонимка: пил, охотился, надо бы проверить… – Солонецкий прищурился.
Ладов подумал, что ведь действительно может быть и так. Мелькнула мысль, не отказаться ли, обернув просьбу в шутку, но, взглянув на Солонецкого, понял, что тот догадается.
Догадается и никогда не простит.
– Пусть пишет, – сказал Ладов. – Тогда узнаем, кто у тебя такой щелкопёр…
Глава 3
Вездеход, мотаясь из стороны в сторону по разбитой, напоминающей скорее борозду, чем дорогу, лэповской трассе, наконец упёрся в обложенное топкими мхами озеро. С трудом распрямляя занемевшее тело, Ладов спрыгнул вниз…
– Всё? – спросил он, глядя на расстилающуюся впереди тундру. – Приехали?
Солонецкий вытащил рюкзаки, ружья, махнул водителю, и тот потянул рычаги. Чёрный дым очередью вылетел из выхлопной трубы, и вездеход попятился назад.
– Так теперь до посёлка и поедет? – спросил Ладов, провожая взглядом тягач.
– Пошире колея будет – развернётся. Бери рюкзак, нам ещё идти…
Ладов суетливо надел рюкзак.
Переломив ружье, вогнал в стволы патроны и нетерпеливо оглядел озеро.
Солонецкий снисходительно улыбнулся:
– Здесь пусто. Распугали. Ты-то не новичок у нас, а всё ещё веришь, что на севере рыба на берег сама выпрыгивает, утки тучами летают… – Он говорил на ходу, безошибочно выбирая путь среди болотных окон. – Было так, было. Когда только сюда высадились. А теперь всё разогнали… И перелёт уже закончился.
Скоро вышли к другому маленькому озеру, уже наполовину затянутому льдом.
День начинался неуверенно, похожий на многие осенние дни, когда небо спускается ниже и ниже и наконец превращается в завесу дождя или мокрого, лениво падающего снега.
Между двух чахлых ёлок наскоро соорудили скрадок и стали ждать.
Сначала в нетерпении, до боли вглядываясь в горизонт. Потом уже с сомнением, но ещё надеясь.
Наконец Солонецкий шумно поднялся, помахал руками, согреваясь.
– Нет фарта. – Прошёл по мокрому лишайнику к берегу. – Слышь, Саш, может, домой?
Ладов вздохнул.
– А может, ещё будут?
– Тогда пошли сами искать.
Миновали ещё два озерка и вышли на болото, уходящее к отрогам дальних гор, через которые каждую осень летели на юг птицы. Что манило их туда, к теплу, к солнцу, Солонецкий мог понять. Но вот что заставляло весной возвращаться и лететь ещё дальше на север, где ничего не было, где тундра с каждым километром становилась всё злее и холоднее и, наконец, упиралась в горы Путораны с их плоскими снежными вершинами, а, перевалив их, совсем уже серая и безжизненная, сползала в океан, этого он понять не мог. Да что птицы, он себя не мог понять. Ведь предлагали же ему хорошее место на юге…
А сколько знакомых и незнакомых ему людей, заработав и на квартиру, и на машину, уезжают, чтобы через полгода снова просить вызов и лететь в неуютный, необжитый край, который один только и оказывается впору: не тесен и не просторен. А потом сидеть на маленьких северных аэродромах в ожидании лётной погоды и, доканчивая с приятелями пиво, так и не довезённое домой с «материка», жаловаться: «Масштабы, брат, не те там, не те…» Но разъяснится небо, закачается «аннушка» под облаками, и сладко защемит сердце отпускника от знакомого пятнистого пейзажа, от грубоватого: «Что, нагулялся?»
Солонецкий считал, что в сущности человеческой заложен альтруизм. И здесь, на Севере, всё способствует тому, чтобы он проявился. Именно здесь условия жизни диктуют непреложность законов взаимопомощи, единожды вкусив которые человек не может без них дальше жить…
Выбрав холмик посреди необъятного болота, они натаскали веток, на которых и решили ждать уток. Так и отсидели на мокрых ветках до сумерек. Солонецкий убил двух вальдшнепов, Ладов совсем ничего. Он не скрывал своего огорчения, и Солонецкий предложил вернуться к озерку.
– Может, там фарт будет. Не возражаешь?
Ладов устало кивнул.
Взламывая сапогами звонкую корку вечернего льда, Солонецкий шёл впереди. Позади, тяжело дыша, плёлся Ладов. Солонецкий вспомнил, что целый день над ними висел козодой, а эту птицу он не любил и даже суеверно побаивался.
– Чепуха, – словно подслушав его мысли, сказал Ладов. – Перелёт кончился, какая охота… Но ты меня пойми, не мог я не сходить на охоту. И самому хотелось, и рассказывать по возвращении надо что-то…
– Служить бы рад – прислуживаться тошно, – вдруг вырвалось у Солонецкого.
Ладов помолчал, словно обдумывая эту фразу. Наконец с обидой произнёс:
– А ты изменился. Зазнался, что ли… Не стоит забывать, что вокруг тебя люди. И люди разные, с различными взглядами, причудами, пусть даже для тебя совершенно неприемлемыми…
– Я понимаю. – Солонецкий остановился. – Ты не обижайся, выскочило. Нервы сдают.
Ладов примирительно кивнул.
Теперь они шли молча, думая о своём, ставшие чужими друг другу, и каждому было нехорошо от этой разобщённости.
Вдруг Солонецкий остановился, и Ладов, уткнувшись в его спину, задел прикладом котелок.
Раздался близкий гусиный крик, удары тяжёлых крыльев по воде. Солонецкий упал, и Ладов увидел, как от болота отрывается белоснежный гусь. Вот так, подумал он, пытаясь удержать это мгновение, но тут грохнул выстрел, потом второй… Белая птица качнулась, начала снижаться. Стыдясь своей поспешности, Ладов поймал на мушку чёрную полоску между крыльями и спустил оба курка.
– Оглушил, – поднимаясь, пробурчал Солонецкий. – Стволы не разорвало?
– Да, крепковато, – потирая плечо, сказал Ладов. – Но я его добил.
Они сделали несколько шагов и услышали звуки, напоминающие отрывистый стон. Заваливаясь и, казалось, отталкиваясь крыльями от снежных застругов, гусь медленно летел к лесу.
– Варвары мы, – после паузы произнёс Ладов, вспомнив разговор с Ольгой Павловной. – Дай попить – в горле пересохло.
– Держи, – Солонецкий протянул флягу.
Затем сделал несколько глотков сам и пошёл вперёд.
– Обществу всегда нужны отдушины, какая-нибудь глобальная забота, отвлекающая от более мелких. Раньше мы считали, что мало берём от природы, теперь – что много, – на ходу говорил Ладов. – Со временем всё встанет на свои места без наших воплей, но иногда думаешь: может, действительно не прав ты, человек, может, надо с самого начала не так жить… Может, цивилизация, прогресс – это путь к самоуничтожению?.. Нина кактусы завела три года назад. Мексиканские. Модно… Всё маленькие были, а незаметно вымахали по метру. Попросил выбросить, а она говорит – не могу, живые. Так и стоят, колются…
Выбрались на пригорок.
Обернувшись, Ладов окинул болото взглядом и ощутил беспричинный страх.
Он торопливо нагнал Солонецкого и пошёл след в след, успокаиваясь и думая, что похвастаться по возвращении будет нечем, целый день Солонецкий таскает его по тундре, а в рюкзаке пара вальдшнепов.
– Пришли, – прервал его мысли Солонецкий. – Костёр разожги, я пройдусь, посмотрю…
…Вернулся он минут через двадцать.
Молча подсел к костру, снял сапоги, вылил из них воду.
– В промоину заскочил. Завари-ка, Саша, чайку покрепче.
Ладов высыпал в котелок остатки чая, разлил тёмно-золотистый напиток в кружки. Чай был горьким, вяжущим, но с каждым глотком бодрящее тепло расходилось по телу.
– Совсем забыл, – хлопнул Ладов себя по лбу, – Нина тебе подарок передала…
– Как она?
– Ничего, нормально.
– Неделю ты здесь, а мы всё не поговорим как следует.
– Миссия у меня, сам понимаешь…
– Бог с ней, с миссией. Что там слышно, урежут нам на будущий год финансирование?
– Давай не будем о делах, – поморщился Ладов, и Солонецкий понял: тот что-то скрывает.
– Уехать отсюда не хочешь? – после затянувшейся паузы спросил Ладов и пожалел о сказанном.
Солонецкий понял его вопрос так, как надо.
– Я человек подневольный. Снимут и здесь оставят – буду работать. Переведут – тоже буду работать.
Ладов поворошил прутиком угли, предложил:
– Давай я с Ирой поговорю, всё-таки вы столько лет…
Солонецкий перебил.
Быстро, напористо заговорил о нуждах стройки, о том, что не хватает техники, денег, надо людей увольнять, а это не материк, где на каждом углу объявления «требуется», здесь своя специфика, свой мир, в котором одна фирма, одна работа, остаться без дела – значит, уезжать, покидать привычное, необходимое, об этом, кстати, ни в каких перспективных планах ни слова.
Ладов не слушал.
– Я здесь женщину встретил, – вдруг сказал он. Поспешно пояснил: – Приятная собеседница. Ленинградка, профессиональный художник, а сидит у тебя дежурной в гостинице. Живёт в общежитии… Юра, а ведь художников у тебя на стройке нет. Не используешь ты творческих работников… Доска почёта тусклая, фотопортреты, словно лубочные картинки, не поймёшь, жив этот человек или уже почил. Закажи-ка ты ей портреты…
– Некогда, – недовольно отозвался Солонецкий. – В целлофан заворачивать, бантики завязывать не умею.
– Об этом молчать надо, а ты гордишься. Настроения не чувствуешь, от требований времени отстаешь.
– Устарел, – согласился Солнецкий и вздохнул. – Устарел я, только вот начальство меня всё больше за новшества бьёт, в нетерпеливых держит… Что у вас там, свежим ветром подуло?
Солонецкий угадал. Месяц назад в главк пришёл новый начальник и перевернул всё с ног на голову. То, за что прежде били, снимали, понижали, растаптывали, стало прогрессивным, свидетельствовало о самостоятельности, умении мыслить. Неукоснительное соблюдение инструкций – дурным тоном. Только благодаря своей гибкости Ладов сумел сориентироваться и удержаться на месте – единственный из замов, остальных проводили на пенсию или в низовые управления. На их места пришли уверенные, довольно молодые люди. Брались за дело они цепко, с улыбкой обходя запретное. Сама атмосфера в главке изменилась, стала динамичной и улыбчивой.
Перед отъездом у него состоялся неприятный разговор с начальником главка. Тот был недоволен и не скрывал этого. И только кандидатская степень Ладова оттягивала понижение или полное изгнание. На всякий случай Ладов присмотрел себе место в НИИ, переход был бы безболезненным, но всё же он уходить не хотел. Вот поэтому он должен был не только разобраться в ситуации на стройке и высказать своё мнение, но почувствовать все оттенки отношения нового начальства к Соловецкому, догадаться, куда его прочит начальник главка – в устаревшие и несправившиеся или в современые и нужные. Догадаться и попасть точно в «яблочко». Промаха ему не простят.
Но об этом говорить нельзя, и Ладов сделал вид, что не расслышал вопроса.
– Солонецкий, – сказал он, – помоги хорошему человеку. Зовут её – Ольга Павловна…
– Ладно, поинтересуюсь твоей протеже. А теперь давай отдохнём, завтра на зорьке вставать.
Солонецкий раскинул возле костра спальный мешок, подложил под голову рюкзак и лёг.
Ладов посидел, пока костёр не прогорел, потом последовал его примеру.
Сон не шёл.
Солонецкий думал о тундре.
Он думал о ней, как о живом существе, и, глядя на звёзды, обращался к ней и просил дать им дело, дать им охоту, чтобы разговор их не зашёл слишком далеко, не развёл бы их окончательно.
Ладов думал о жене Солонецкого, Ирочке Игнатьевой, и о том, что было давным-давно, когда они все учились на третьем курсе, жили с Солонецким в одной комнате в общежитии, и с Ирой познакомился Солонецкий на институтском вечере. К нему она и приходила, но говорила, улыбалась и не сводила глаз с него, Ладова. И всё же на пятом курсе свадьба была не у него, а у Солонецкого, а он был свидетелем и ставил свою подпись под актом о регистрации их брака. А через месяц сам стал женихом и рядом стояла Ниночка, которая ревела в день свадьбы Солонецкого…
После института они долго не встречались. Старались не встречаться. Не складывалось у Ладова в их семейной с Ниночкой жизни, и он с головой ушёл в работу, незаметно успокоился, а скоро успокоилась и жена, и, хотя не без мелких ссор, жили они неплохо. Но последние месяцы он всё чаще вспоминал Ирину…
Очнулся Ладов от голоса Солонецкого: «Пора».
Вылез из спальника, попрыгал, помахал руками, разгоняя кровь, и первым пошёл к скрадку. Скоро рядом с ним пристроился Солонецкий.
Помолчали, глядя на спокойную гладь озера, проявляющуюся в рассветных лучах.
Солонецкий вспомнил дочь, такой, как на фотографии двухлетней давности: угловатый подросток с большими синими глазами…
Ладов мысленно вернулся в утро, когда он собирался на самолёт. Жена ходила по комнате заспанная, растрёпанная и всё пыталась всунуть ему пару импортных галстуков «в подарок Юре». В конце концов она куда-то их затолкала. Он хотел спросить, носит ли Солонецкий теперь галстуки, все эти дни тот ходил в свитере, но не успел, Солонецкий вскинул ружьё и выстрелил.
– Собирать потом будем, – сказал он, перезаряжая ружьё. – Не спи, Саша.
Над озером, шелестя крыльями, заходила новая пара уток.
А дальше Ладов стрелял, уже ни о чём не думая, лишь остро сожалея, когда не попадал…
Это была последняя и очень уставшая стая, но об этом они догадались гораздо позже, а тогда торопливо стреляли, опьянённые азартом…
– Ну что, доволен охотой? – спросил Солонецкий, собирая добычу. – Кто-то из нас фартовый. Скорей всего, не я… А может, всё-таки я?.. Нет, пожалуй, я, – сказал он, в упор глядя на Ладова. И добавил: – А гусь выживет. Если на крыло встал – не пропадёт.
Глава 4
Вездеход ждал их на просеке.
Солонецкий забросил рюкзаки, устроился на сиденье, толкнул дремлющего водителя в плечо.
– Горазд же ты спать, Расторгуев. Так всё проспишь…
– Не, не просплю, – возразил тот и рванул с места.
Двигатель надсадно ревел, вездеход бросало от одной обочины к другой. Ладов, крепко вцепившись в сиденье, ждал, когда эта дорога закончится. Солонецкий смотрел вперёд, не обращая внимания на тряску и думая о том, что пришла пора принимать решения. Он уже не сомневался, что Ладов приехал проверять не только анонимку, целью его командировки было нечто иное, о чём по каким-то причинам тот не захотел говорить.
Пора самому переходить в нападение, решил Солонецкий и, когда вездеход выехал на дорогу, ведущую в посёлок, бросил Расторгуеву:
– Ко мне домой.
Поднимая снежные вихри, вездеход проскочил к коттеджам, остановился возле дома начальника строительства.
Солонецкий спрыгнул, подхватил рюкзаки.
Неторопливо вылез разбитый Ладов.
– Может, у тебя на сегодня другие планы? – для приличия, поинтересовался Солонецкий, стягивая в прихожей сапоги.
– Не лицемерь, – сказал Ладов. – Или всё ещё обижаешься?.. Устал я зверски.
– Чего же обижаться, из обиды шубу не сошьёшь.
– Тем паче…
Ладов устало опустился в кресло, закрыл глаза.
«Неужели Солонецкий догадывается? – думал он. – И вправе ли он сообщить о другой, главной цели командировки? Вверху вдруг усомнились в нужности строительства здесь, за полярным кругом, и он, Ладов, должен был внести ясность, на месте оценив состояние дел. Начальник главка, напутствуя Ладова, сказал о том, надо ли ставить Солонецкого в известность или нет, неопределённо. Но добавил, что утечка информации о возможной консервации стройки нежелательна… Хотя, с другой стороны, Солонецкий всё же начальник строительства… Вот и решай…»
Солонецкий вытряхнул из рюкзака уток, оценивающе окинул их взглядом.
– Вдвоём не справимся? – вопросительно произнёс он.
Ладов усмехнулся, потому что понял: тот давно уже всё решил и лишь предлагает ему принять участие в собственной инсценировке.
– Не справимся, – согласился он и пошёл в ванную.
Солонецкий набрал номер Турова.
– Сергей, твоя помощь нужна.
– Что стряслось? – заволновался тот.
– Полдюжины уток. Гость мой, сам знаешь, перья выдёргивать не умеет. Зайди к Кузьмину по дороге и Илью Герасимовича прихвати. Скажи, что у меня день ангела…
– А серьёзно?
– Могу я себе позволить быть несерьёзным?
– Хорошо, – после паузы сказал Туров.
– Дай что-нибудь надеть, – выходя из ванной, попросил Ладов.
Облачившись в большие для него брюки и рубашку Солонецкого, он принялся чистить ружья, а Солонецкий пошёл на кухню ощипывать уток.
…Туров пришёл минут через пятнадцать.
Кузьмин и Костюков обещали подойти позже.
Вдвоём быстро управились с утками, и через полчаса по кухне поплыл терпкий аромат.
Ладов предложил Турову, пока готовится ужин, сыграть партию в шахматы.
Солонецкий наконец-то забрался в ванну.
Кузьмин и Костюков появились в разгар шахматного сражения.
Туров выигрывал, и Ладов, поздоровавшись, шутливо пожаловался:
– Никакого уважения к начальству. Обыгрывает меня подчинённый…
Кузьмин промолчал, а Костюков, хмыкнув, съязвил:
– Привыкли, Александр Иванович, выигрывать…
– Привык, – согласился Ладов.
Прерванную игру продолжили.
Кузьмин отошёл к книжному шкафу, игра его не интересовала.
– А вот что я сделаю… – Ладов предпринял контратаку, искоса наблюдая за главным инженером. – А вы, Геннадий Макарович, в шахматы играете? – спросил он.
– Играл, – неохотно отозвался тот.
– Победа за вами, Александр Иванович, – уверенно произнёс Костюков, вкладывая в эту фразу, как показалось Ладову, нечто большее, чем итог шахматной партии.
– А главный инженер как считает?
– Я плохо играл в шахматы.
Вышел из ванной Солонецкий, расслабленно опустился в кресло.
– Ну, кто проигрывает? – спросил он.
– Илья Герасимович обнадёжил, надеюсь выиграть, – отозвался Ладов.
– Илье Герасимовичу верь, он у нас пессимист, редко обещает приятное.
– Кстати, о приятном. – Костюков вышел и вернулся с ярко-жёлтой, блестящей балалайкой. – С днём ангела, Юрий Иванович. От верноподданных…
– Авансом. – Солонецкий тронул струны. – Вот теперь и поиграть можно.
– Шах, – сказал Туров и, довольно потирая руки, взглянул на Ладова.
Солонецкий привстал, бросил взгляд на доску, прищурился, взглянул на Ладова, словно говоря: «Нет, брат, не так-то мы просты, как кажется, и проигрывать не собираемся».
«Да я и не настаиваю», – ответил взглядом Ладов и поднял руки.
– Сдаюсь, невзирая на предсказание Ильи Герасимовича.
В ожидании ужина заговорили об охоте.
Рассказывал Солонецкий. Рассказывал неторопливо, обстоятельно, с такими подробностями, о которых Ладов уже забыл. Слушая, он втайне позавидовал этой способности Солонецкого всегда и во всём подмечать самое интересное, важное, собирать всё по крупицам, а потом удивить цельной и ясной картиной, выводом, мыслью… И всё-таки анонимку написал кто-то из его окружения, подумал он вдруг, значит, не на всех действует обаяние начальника стройки.
Обвёл взглядом собравшихся.
Туров, похоже, был Солонецкому предан. Даже сейчас, в пустом разговоре, они с полуслова понимали друг друга.
Слушал и не слышал Солонецкого Костюков, но догадаться о его отношении к кому-либо или ко всем вместе было невозможно.
Кузьмин откровенно скучал.
– А вот Геннадий Макарович охоту не уважает, – сказал Ладов и выжидательно посмотрел на главного инженера. – И в шахматы не играет. Чем же он в свободное время занимается?
Кузьмин окинул Ладова взглядом и отвернулся, словно речь шла не о нём.
– Насчёт охоты ты, Александр Иванович, угадал, – негромко сказал Солонецкий. – А вот насчёт шахмат… Это как смотреть…
Ладов видел: он тоже ждал ответа Кузьмина.
Но тот молчал.
Затянувшуюся паузу прервал Туров.
– Самое время по стопарику.
– Увы, – развёл руками Солонецкий. – Пора привыкать отдыхать безалкогольно.
– Между прочим, для здоровья очень полезно, – назидательно произнёс Костюков. – Я лично, когда создадим общество борьбы за трезвость, буду самым активным членом.
– А вы смелый человек, Илья Герасимович, – сказал Солонецкий. – Душа компании – и такой шаг.
– Ничего… Будем в шахматы играть.
– Шахматы, клеточки, игроки… Правила… – Ладов попытался продолжить разговор, догадываясь, что неожиданно для себя самого столкнул главного инженера и начальника строительства. – Интересная параллель, вам не кажется, Геннадий Макарович?
– Я эзопов язык не люблю. И не понимаю, – Кузьмин поднялся. – Извините, но я бы хотел уйти.
– Что так? – недовольно спросил Солонецкий. – Обиделись, что мой день ангела впереди?
– Я человек не компанейский. Илья Герасимович ввёл меня в заблуждение, сказал, что по делу…
Костюков хмыкнул, но промолчал.
– Ну что ж, если вам с нами неинтересно… – Солонецкий медленно поднялся.
– До свидания.
Кузьмин наклонил голову, словно приготовился брать невидимое препятствие, и быстро вышел.
Хлопнула дверь, прохрустели под окнами шаги.
– Манеры… – прервал молчание Костюков. – Изъяны интеллигенции первого поколения.
– Ты, Илья Герасимович, оптом это поколение не клейми, – негромко произнёс Солонецкий. – Скучно ему со стариками, и скрывать этого не хочет. В бой рвётся. Этим по молодости все болеют.
– Ну, вам лучше знать, – манерно вскинул руки Костюков. – Только оправданий грубости быть не может. Мало ли что я думаю, чего хочу…
– А ты скажи, – предложил Солонецкий.
– Мы будем наконец жаркое есть? – вмешался Туров.
Принёс кастрюлю с утками, стал раскладывать куски по тарелкам:
– Ты бы пока сыграл что-нибудь, Юрий Иванович, проверил инструмент?
– Действительно, – поддержал Ладов. – Я ведь даже не знал, что ты балалаечник.
– Соловья баснями не кормят, какая тут музыка. – Солонецкий наклонился над тарелкой. – Запашище… Всё, садимся сибаритствовать. – Глянул на Ладова. – Хорошо бы по рюмочке.
Тот покачал головой.
– Но в связи с новыми веяниями, обойдёмся…
Проголодавшиеся Солонецкий с Ладовым ели не деликатничая, Туров и Костюков явно голодными не были.
Костюков отложил обглоданную косточку, повернулся к Ладову.
– Понравилось вам у нас, Александр Иванович?
– Вы как сговорились… Начальнику строительства не терпится меня проводить, вам тоже? – прищурился Ладов.
– Мне?.. Нет, – возразил Костюков.
– А ты, Илья Герасимович, воспользуйся случаем, – посоветовал Солонецкий. – Пожалуйся на начальство, на отсутствие фондов, не мне тебя учить…
– Пожаловался бы, да настроение не хочется гостю портить.
– Почему же?.. Вкусная еда располагает к дипломатическим беседам. После такого ужина настроение трудно испортить. – сказал Ладов.
– Извините, – поднялся Туров, – внуки без меня спать не ложатся, а я дед дисциплинированный. Обещал быстро вернуться, надо слово держать.
– Полине кланяйся, как-нибудь заскочу, – произнёс Солонецкий.
– Хорошей вам беседы.
Солонецкий вышел в прихожую вместе с ним. Вернувшись, констатировал:
– Самые стойкие остались… Надо было всё-таки по рюмочке…
– Давай, Юра, сыграй нам… – не поддержал его Ладов. – А то что скажу, балалайку видел, а игры не слышал?
– Пальцы… гнуться не хотят. – уклончиво произнёс Солонецкий. Повернулся к Костюкову: – Илья Герасимович, ты про анонимку знаешь? – спросил лениво, словно о ничего не значащем пустяке.
– Весь посёлок знает.
– Давно?
– Да как сказать… А это важно?
– Надо же мне знать собственного биографа… Хотя бы и самозванного…
– Уж не меня ли подозреваете? – Костюков улыбнулся уголками губ.
– Нашли тему, – вмешался Ладов. – Илья Герасимович не из тех, кто прячется. Подписал бы.
Костюков промолчал.
– Не обижайся, Герасимович. – Солонецкий зевнул. – Это я оттого желчен, что не выспался.
Костюков взглянул на часы, встал.
– Действительно, и мне пора… Спасибо за ужин. Жаль, балалайка не пригодилась. За вами должок, Юрий Иванович, сольный концерт.
Солонецкий вяло кивнул.
– Илья Герасимович, меня подождите, – остановил Костюкова Ладов. – Нам по пути.
Солонецкий молча смотрел, как гости одеваются, ощущая неожиданно накатившуюся привычную боль.
– А охота получилась, – сказал Ладов на пороге. – Будет что рассказать. – И задержавшись, негромко добавил: – Не остаться бы тебе совсем одному, если только… – Хотел сказать: «Если не законсервируют стройку», но вовремя остановился. – Если только не поймут тебя.
– До завтра. – Солонецкий протянул руку. – Провожать не буду, сил нет.
Оставшись один, устало опустился в кресло, закрыл глаза.
Подумал, что напрасно, наверное, всё это затеял, показав Ладову непростые отношения со своими заместителями. И всё-таки в глубине души он верил, что тот поможет ему найти анонимного автора.
Только вот зачем это ему нужно?
Солонецкий вздохнул. И сам себе ответил:
– Чтобы не опасаться предательства.
Глава 5
«Стой! – Кузьмин бежал за ним в больших пушистых унтах, проваливаясь в снегу, и Солонецкому казалось, что расстояние между ними сокращается. Он размашистее заскользил на лыжах, вместо палок ещё крепче обхватив портфель. – Стой, сволочь!..»
Обернувшись, Солонецкий отметил, что Кузьмину велика для его маленького узкогрудого тела шуба. Сделав по инерции ещё несколько шагов, он остановился и крикнул Кузьмину, медленно выдыхая слова, падающие тут же под ноги звонкими льдинками: «Ну что? Тяжела шапка Мономаха?»
«Я тебя застрелю», – произнёс Кузьмин, и Солонецкий увидел в его руках карабин.
Он прикинул расстояние до края плато, оглядел равнодушные Путораны, сплюнул.
«Зачем?» – спросил он, не в силах понять, зачем Кузьмину нужно его убивать.
«Зачем? – В голосе Кузьмина он услышал то же недоумение. – Всё равно…»
В следующее мгновение Солонецкий уже летел вниз по склону к извилистой, вымороженной до дна речке. Кузьмин бесследно исчез, но Солонецкий вдруг почувствовал, что в руках у него ничего нет. Как только понял это, увидел лицо Кузьмина с белыми пятнами обмороженных щёк и красными воспалёнными глазами. Тот что-то сказал и провёл шершавой рукавицей по его лицу…
Солонецкий проснулся.
Он лежал, уткнувшись в подушку лицом, и острые пёрышки кололи щёку. Сукин сын, подумал он, не открывая глаза и до конца не сбросив сонную одурь, всё ещё помня взгляд Кузьмина, наполненный усталостью и ненавистью.
Застрелил бы, пришёл к выводу Солонецкий и почувствовал облегчение, словно решил трудную задачу.
Только зачем?
Пошарил рукой по тумбочке, поднёс к глазам будильник. Пора. Выходит, разбудил Кузьмин его в самый раз.
…За ночь осень сменилась зимой – столбик ртути в термометре на стене дома упал до цифры двадцать и последние лужи промёрзли до дна. Солонецкий прибавил шаг, чувствуя, как холод забирается под пальто.
В управлении стояла тишина, но ключа от кабинета на вахте не было. Он поднялся на второй этаж, открыл дверь и увидел склонившегося над бумагами Ладова, а рядом – удобно устроившегося в кресле Костюкова.
Костюков сдержанно поздоровался.
Ладов кивнул.
– Не помешаю? – с вызовом спросил Солонецкий.
– Честно? – вскинул глаза Ладов. – Честно, помешаешь…
– Извини, Александр Иванович, но сегодня мне необходимо поработать на своём месте, – сказал Солонецкий, решительно снимая пальто. – Я прошу вас перейти в кабинет главного инженера.
Он повесил пальто в шкаф, причесался возле зеркала и только тогда посмотрел на Ладова.
Тот неторопливо собирал в портфель бумаги. Костюков помогал ему. Потом они молча вышли в приёмную. Солонецкий слышал, как они подёргали закрытую дверь кабинета главного инженера и Костюков пошёл на вахту за ключом.
Солонецкий ждал.
Через минуту раздался телефонный звонок, и старческим дрожащим голосом, заикаясь, вахтёр стал путано объяснять, что «товарищ проверяющий просит выдать ключ от кабинета главного инженера…».
– Не разрешаю, – перебил он. – Не разрешаю никому, никаким проверяющим, придёт Геннадий Макарович, лично ему и отдадите ключ.
Он опустился в кресло, достал сигареты, которые на всякий случай, хотя давно уже не курил, держал в столе.
В этот момент вошёл Ладов.
– Прикажи вахтёру принести ключ, – приказным тоном произнёс он.
– Видите ли, Александр Иванович, – медленно начал Солонецкий. – Я не могу приказать выдать ключ постороннему. Придёт главный инженер, он откроет… Или идите к Илье Герасимовичу…
– Ты же знаешь, он в кабинете не один…
Ладов помолчал, глядя на Солонецкого, и вдруг расхохотался. Потому что решил наконец задачу, мучавшую его эти дни: он напишет в докладной всё как есть, без всякого снисхождения к бывшему другу.
Солонецкий с удивлением смотрел на него.
– Ну что ж, подождём хозяина кабинета, – отсмеявшись, весело сказал Ладов и, улыбаясь, вышел.
Солонецкий погасиил сигарету. Раскрыл папку с бумагами на подпись. Сводки, сметы, планы, графики, заявления.
Он читал, подписывал, откладывал в сторону, не особо вдумываясь, как всегда надеясь на специалистов, подготовивших эти документы, и чего-то ожидая.
Оторвал его от этого занятия голос секретарши.
– К вам Геннадий Макарович.
– Пусть войдёт.
Кузьмин плотно прикрыл за собой дверь, остановился у торца длинного стола.
– Как спалось, Геннадий Макарович? – опередил его Солонецкий. – Мне дурно, честное слово. – Он откинулся на спинку кресла. – Нелепый сон, настоящий детектив… Хотя я и люблю их читать, но одно дело, когда кого-то убивают, к тому же в книжках, другое, когда тебя. Пусть во сне, всё равно плохо.
– Я по делу, – перебил Кузьмин.
– А вы не торопитесь, Геннадий Макарович. Это ведь вы убивали меня во сне… И сами не знали, зачем. Вроде из-за какого-то портфеля.
– Боитесь, что подсижу? – Кузьмин усмехнулся.
– Вы уверены, что я дорожу этим креслом? – Солонецкий вышел из-за стола. – Ну а если вы знаете больше меня, разбираетесь лучше, объясните, что это за сплетни, слухи, анонимка или что там ещё… Растолкуйте своему, отставшему от жизни, начальнику, увидьте во мне не только начальника, но и человека, с нервами, сердцем…
Кузьмин побледнел.
– Если бы вы действительно хотели разобраться… Только не в сплетнях, я ими не интересуюсь, а в делах, – после паузы произнёс он.
– Вот как? – Солонецкий молча достал из стола красную папку. – Забирайте. И поступайте, как знаете. – Отвернулся, давая понять, что разговор окончен.
Кузьмин помедлил, потом взял папку и молча вышел.
Подрагивающими пальцами Солонецкий выловил таблетку нитроглицерина, бросил её под язык. Прошёл в комнатку для отдыха. Лёг на диван, распустил узел галстука.
Через несколько минут боль, сжавшая грудь, стала слабее.
Он достал сигарету, помял в пальцах и положил обратно в пачку. Вернулся в кабинет.
Зима, думал он, глядя на неторопливо падающий снег. Вот и начинается долгая-долгая зима. Четырнадцатая его зима в Заполярье. Годика не хватает, чтобы льготная пенсия вышла…
Надо же, о пенсии уже думает…
Всё равно работать будет, пока силы есть.
Только хватило бы этих сил надолго…
Но, похоже, кое-кто готов отправить его на пенсию уже сейчас… Не надо только ждать, пока его пригласят в главк и сообщат о новом назначении – в сторону или вниз, а надо самому опередить события, сослаться на здоровье, выбрать стройку потеплее и полегче.
Бежать?..
Спрятаться?..
А кто сказал, что рисковать жизнью правильнее? Ведь при его сердце каждое волнение может стать последним. И что значат все эти условности в сравнении с жизнью…
Но что-то мешало ему согласиться с этими доводами. Что-то, не зависящее от его служебного положения, от его отношения к условностям. Заложенное в нём – человеке по фамилии Солонецкий. Не в начальнике строительства, а в простом смертном…
И понимая, какие переживания ждут впереди (выдержит ли их сердце?), один Солонецкий, которого он любил и уважал больше, отмахнулся от другого, трезвомыслящего.
Он оделся.
В приёмной, пристроившись на уголке стола секретарши, Кузьмин что-то писал. Солонецкий постоял рядом, потом не терпящим возражения голосом сказал:
– Идите в мой кабинет, Геннадий Макарович, что вы здесь бедным родственником… Я в котлован. – И уже выходя, спросил: – Где, кстати, Костюков? Ему бы тоже полезно в котловане развеяться.
– Илья Герасимович в моём кабинете с Ладовым.
– А, ну да…
В машине Солонецкому опять напомнило о себе сердце.
Водитель достал папиросу, но Солонецкий, хотя никогда прежде этого не делал, попросил:
– Не кури.
Расторгуев обернулся, удивился страдальческому выражению лица шефа, предложил:
– Может, в больницу заедем?
– Положат, не поедем, – не согласился Солонецкий.
– А мы, Юрий Иванович, к врачам не пойдём, я вас к моей жинке по блату. Она у меня медсестра, уколы ставит…
– Мудрый ты, Расторгуев, – через силу улыбнулся Солонецкий. Боль не утихала, и он решился: – Давай, вези, будь по-твоему, кольнёмся…
Пока Расторгуев бегал договариваться со своей женой, Солонецкий, закрыв глаза, ждал в машине. Он отодвинулся в глубь салона, чтобы не здороваться со знакомыми врачами, пробегавшими из одного корпуса в другой.
Не дай бог, ещё заведующий выйдет, подумал он. Опять про переходы вспомнит между корпусами, скажет, что врачи от этого болеют.
А может, и правда, и от этого тоже?
Он проводил взглядом молоденькую голоногую врачиху, перепорхнувшую с одного крыльца на другое.
Хорошо, что сейчас ещё не холодно, а когда сорок с гаком?..
Построю, решил он. Сегодня же прикажу…
– Пойдёмте, Юрий Иванович, – прибежал запыхавшийся Расторгуев. – Договорился. Сейчас там как раз никого.
Жена Расторгуева оказалась строгой высокой женщиной с полными крепкими руками.
– Стенокардия, – утвердительно произнесла она. – Выше закатайте рукав.
Она вонзила иглу в мышцу, и тонкая струйка невидимо стала рвать волокна.
Солонецкий представил, как они не выдерживают и, растянувшись до предела, лопаются. Так лопались тросы, когда в первую зиму здесь, среди вьюги и заносов, тракторным караваном пробивались они к зимним складам в устье реки, выдёргивая из ям один трактор за другим, проходя в сутки не больше километра. И всё же прошли…
– Спасибо, сестричка. Только договоримся, никому…
– Не скажет, – заверил Расторгуев. – Она у меня не говорливая.
…Турова в конторе не было.
После укола Солонецкому стало легче, сердце больше не давило, не напоминало о себе, и он спустился в котлован.
Он шёл среди сверкающих точек сварки, гудящих машин, звенящих кранов впервые один. Никто не освобождал дорогу, не отвлекал разговорами и никому не было дела до высокой, плотной, сутуловатой фигуры, неторопливо пересекающей гудящее, наполненное людьми маленькое пространство между скальными уступами. Его узнавали, но здесь был другой ритм, другая, нежели в его кабинете, атмосфера, и никто не спешил выказать ему своё чинопочитание.
Здесь были другие люди.
В который раз отмечал это Солонецкий, делал зарубку на память, чтобы на досуге подумать, осмыслить этот парадокс, но возвращался в каждодневную суету и забывал.
Проскочил мимо Матюшин, старый прораб, прошедший огонь и воду, строящий четвёртую гидростанцию. Проскочил, чуть кивнув, приветствуя начальство. А ведь доведись им встретиться в управлении – Матюшин другой: мнущийся, краснеющий, неловкий.
– Здравствуй, Юрий Иванович, – вывернулся откуда-то сбоку Туров.
– Ты уже по-зимнему, – отметил Солонецкий чёрный овчинный полушубок на нём.
– Здесь холоднее, чем в посёлке. Я ещё неделю назад распорядился на зимнее обмундирование всем перейти.
– А что у тебя марш весь ходуном ходит… Бульдозер стоит возле вагончика, не нужен он тебе?
Не хотел об этом говорить Солонецкий, но сказалась привычка. Много лет назад, когда ему дали маленькое строительное управление, он решил, что с первых же дней должен показать свою внимательность и, выезжая в подразделения, всё время помнил о своей задаче: увидеть всё до мельчайших подробностей. О замеченном он не говорил сразу, а растягивал на несколько дней. Вскользь на очередной планёрке вспоминал о неубранной куче гравия, о просевшей плите или валявшемся под ногами рулоне рубероида. Словно между делом, интересовался, убрали, исправили?.. И если начальник подразделения начинал мяться в нерешительности, обещал: «Проверю». Скоро его подчинённые знали, что он всё видит, ничего не упускает и не забывает.
Через год, выезжая на объекты, Солонецкий отметил, что каждый его визит стал почище инспекторской проверки, и, уезжая, был уверен: через пару дней всё им замеченное, а порой и незамеченное, будет исправлено.
Со временем и с новыми должностями такая необходимость отпала, но привычка подмечать всё, даже мелочи, стала уже неодолимой. Он реже теперь бывал на объектах – не хватало времени на такие вот прогулки, но по-прежнему умел цепко ухватить всю картину строительства, словно сфотографировать в памяти, и затем долго возвращаться к ней мысленно.
– Плотники внизу опалубку закончат, подлатают марш. А на бульдозере насос полетел, я на своей машине послал бульдозериста на склад.
– Что, такой мелочи у тебя не нашлось?
Туров развёл руками.
Они прошли по котловану, послушали жалобы начальника участка гидромонтажа на нехватку металла.
Потом от бетонщиков уже привычное, но режущее скрытым упрёком: «Когда же работа будет?»
– Будет, – пообещал Солонецкий.
А что ещё скажешь. Как объяснить, что неожиданно урезано финансирование…
– К Гриневскому не бегут? – повернулся он к Турову.
– Отбегались. Укомплектовался он.
– А после моего приказа было?
Туров помолчал, потом кивнул:
– Было.
– Ну и жук.
– А что ему делать, – вступился Туров. – Люди нужны, заработок сейчас только у него, идут сами, не на аркане тащит.
– Ты добренький, – раздражённо бросил Солонецкий. – Ох, ты добренький! А для тебя на материке вербовщики пластаются, обольщают, – для тебя, ведь у тебя людей не хватает.
Он замолчал, потому что вспомнил, что не нужны сейчас на стройке люди.
– Судя по всему, нам хватит и тех, кто есть, – тихо произнёс Туров.
– Судя по чему?
– По приметам…
– Так не делись своими приметами с другими… – посоветовал Солонецкий.
Туров стал подниматься по лестнице из котлована, и Солонецкий пошёл за ним, сначала прислушиваясь к сердцу, а потом вновь поверив в его крепость.
Направляясь к машине, он отметил, что бульдозерист склонился над открытым двигателем, значит, привёз насос, и, усаживаясь в машину, повторил:
– Ты, Сергей, этими приметами не делись. Когда прижимать тебя работяги будут – ссылайся на меня, пусть ко мне приходят, там и потолкуем.
Он расстегнул пальто, устроился на сиденье.
– Спасибо, Расторгуев, твоей жене-медсестре. Теперь к Гриневскому.
Метров через триста он вспомнил о больнице.
– Давай назад, – приказал шоферу. – Турову посигналь.
Расторгуев подкатил к спускающемуся вниз Турову. Приоткрыв дверцу, Солонецкий сказал:
– Отправь бригаду на больницу. Сделай за недельку переходы, а то и впрямь без врачей останемся… Чертежи у Смирнова. Работы там на пару недель, не больше, так что пошли таких мужиков, чтобы в неделю управились.
– Хорошо, – кивнул Туров. – Сделаю.
Расторгуев включил скорость, и машина медленно поползла вверх по серпантину из котлована.
Глава 6
Перебравшись в кабинет начальника строительства, Кузьмин ещё раз внимательно просмотрел чертежи и расчёты из красной папки. Это был итог его трёхмесячных вечерних размышлений над тем, что он хотел увидеть на стройке. Это были конкретные предложения, которые должны были придать всем работам ускорение…
Когда-то в институте он изучал самые современные машины и механизмы и самые современные методы управления. С той поры прошло немного времени, но эти знания ему почти не пригодились. Они были бесполезны в реальных условиях, когда приходилось постоянно затыкать дыры, устранять простои и авралить. Сначала он впал в апатию от необходимости корректировки планов, целевых заданий различных органов. Потом приноровился, стал работать и жить решением сиюминутных задач. Научился уговаривать, выбивать, обосновывать неудачи. Но вот здесь, на строительстве заполярной гидростанции, он решил наконец-то сделать всё так, как должно быть, как требовало время.
Начало было в этой папке.
Но со стороны начальника строительства, человека, которого Кузьмин считал грамотным и толковым руководителем, поддержки не последовало.
И он теперь имел полное право передать папку Ладову.
Утром заместитель начальника главка первым начал разговор, попросив объективно оценить положение дел на строительстве. Кузьмин вспомнил просьбу начальника строительства и ответил уклончиво…
– Геннадий Макарович, – заглянул в кабинет Костюков, – вас Александр Иванович приглашает.
– Хорошо, сейчас подойду.
Кузьмин неторопливо завязал папку с расчётами, всё ещё не зная, какое решение принять.
Нет, он не хотел и не мог терять такого союзника, как Солонецкий. Потому что не был уверен, что в главке поддержат его, а не начальника строительства: одно дело говорить о необходимости модернизации производства, другое – делать…
Но папку всё-таки с собой прихватил.
…Ладов оторвался от разложенных документов, устало разгладил ладонью лицо.
– Выжил я вас из привычной обстановки, – произнёс он, обводя рукой небольшой со спартанской обстановкой кабинет.
– Ничего, я всё равно больше на объектах…
– У меня к вам всего один вопрос, Геннадий Макарович. – Ладов вытащил из-под кипы бумаг конверт, протянул Кузьмину. – Прочтите это.
Пока Кузьмин читал, Ладов стоял у окна, искоса наблюдая за ним. Лицо главного инженера по мере чтения вытягивалось, губы складывались в презрительную гримасу, наконец, он так же, как Солонецкий, не скрывая брезгливости, отбросил листок.
– Это ложь.
– И что, никаких нарушений нет?
– Нарушения есть, но…
– Вот видите, – торжествующе вырвалось у Ладова, и главный инженер с удивлением посмотрел на него: он был уверен, что Солонецкий и Ладов – давние друзья. – Я и сам кое-что уже увидел… Действительно, это совсем не то, что пишет этот… – Он потряс письмом.
– Такие нарушения на каждой стройке, – сказал Кузьмин. – Инструкции устарели, их надо менять, а не втискивать действительность в рамки…
– Спасибо, Геннадий Макарович, больше вас не задерживаю, – не стал вступать в дебаты Ладов и вновь вернулся к бумагам, разложенным по всему столу.
Кузьмин помедлил, потом решительно взял папку, которую перед этим положил на край стола, и вышел.
Вернувшись в кабинет начальника строительства, он постоял у окна, потом положил папку в нижний ящик стола и вышел на улицу.
От управления до центральной площади посёлка протянулась короткая бетонная, не гравийная, как все остальные, дорога. Построили её летом бойцы студенческого строительного отряда. Что было под гравием остальных дорог, Кузьмин не знал. Но хорошо помнил, сколько кубов камня ушло в болото под этим бетоном.
Идти по ней было приятно, но уже сейчас из ровной и гладкой ленты она превратилась в волнистую, пошла трещинами, не в силах противостоять вечной мерзлоте. И всё-таки ей радовались, этой короткой главной магистрали. По ней гуляли по вечерам парочки, молодые мамы вывозили коляски.
Заканчивалась она небольшой площадью, к которой примыкали клуб, школа и ресторан, в котором Кузьмин обедал.
Он сел на своё обычное место, за угловой столик рядом с эстрадой. Днём сидеть здесь было приятно. Вечером же гремевшая музыка утомляла его и нервировала. Менять место ему не хотелось, и через месяц он отказался от ужинов.
Спустя неделю после этого к нему пришёл неожиданный гость. Долго обстукивал каблуки на крыльце, потом коротко позвонил, и Кузьмин, уже давно слышавший шаги, открыл и удивился. Перед ним стояла официантка из ресторана, двумя руками с трудом удерживая тарелки.
– Здравствуйте, – нисколько не смущаясь произнесла она. – Разрешите войти?
– Что это?
– Ваш ужин.
Он растерянно пропустил девушку в комнату.
– Меня зовут Валентиной, – произнесла она и, улыбнувшись, быстро расставила тарелки на столе. – Да вы садитесь.
Кузьмин оглядел стол.
– Новый вид услуг?
– Вы уже неделю не ужинаете…
– Разве?.. Хотя, наверное, так.
– Вы ешьте, ешьте. – Она присела на диван. – Не обращайте на меня внимания, я подожду. Книг у вас много…
– Это технические, по специальности, – пояснил Кузьмин. Непосредственность гостьи его обезоружила. – Вы теперь каждый вечер будете меня кормить?
– А вы не хотите?
– Неудобно как-то… Давайте тогда хотя бы чередовать.
– Ладно. Только вы приходите, а то совсем отощаете, – заботливо произнесла она, окидывая взглядом его тонкую фигуру.
…После этого вечера Валентина ещё несколько раз приносила ему ужин, а потом он стал по вечерам садиться подальше от музыкантов. И столик, за который он садился теперь, всегда обслуживала она.
А потом вдруг исчезла, и он не видел её уже больше месяца.
Но сегодня она стояла перед барной стойкой, глядя в почти пустой зал.
Увидев его, подошла к столу.
На этот раз улыбки на её лице не было.
– У вас неприятности? – спросила, расставляя прибор. – Хотите пива?
Пиво в посёлке было редкостью. Его завозили к праздникам или по спецзаказу. До праздников было далеко, значит, у кого-то намечалось торжество.
– Нет, – ответил он.
Ожидая, пока борщ остынет, Кузьмин наблюдал за ней.
Валентина напоминала ему жену. Такие же короткие светлые волосы, скользящая походка, маленькие, выдающиеся немного вперёд плечи. И сейчас это сходство было особенно разительным: жена, обидевшись, так же надувала губы и движения её становились такими же резкими.
Вот уже второй месяц от жены не было писем. В последнем обещала приехать, но, наверное, опять вмешалась тёща. Зять в её глазах – неудачник, не сумевший устроиться в хорошем месте и сосланный на край света…
Увидев, что главный инженер поел, Валентина вновь подошла.
– Спасибо, всё было вкусно, – сказал Кузьмин, однако не торопился вставать.
– На здоровье.
– Я давно вас не видел. Отдыхали?
– Уезжала. Насовсем.
И круто повернувшись, Валентина понесла на кухню посуду.
Кузьмин подождал, но она не появлялась.
Он положил деньги на стол и вышел.
Диспетчер управления вызвал машину, и он поехал в туннель.
…Гриневский издали заметил машину главного инженера. Он стоял у вагончика-диспетчерской участка и разносил мастера Зиновьева. Разносил на чём свет стоит, не подбирая выражений и не снижая своего басистого голоса.
– Ты что же это! – рокотал он. – Какого… Ты мне не говори, что воздуха нет, ты работай!
Зиновьев, только этим летом приехавший по распределению после института, молчал, потупясь, краснел и бросал взгляды на проходящих мимо рабочих. Мысленно он наверняка отвечал Гриневскому не менее крепкими выражениями, но вслух не решался.
– Чему тебя учили? Деньги государственные проедать, штаны батькины просиживать? Чего стоишь? Чтобы одна нога здесь, другая – там, где надо, и через полчаса доложишь, что «полный порядок», – торопливо закончил Гриневский, когда машина главного инженера поравнялась с ним. – Давай, с глаз долой, – подтолкнул он Зиновьева и пошёл навстречу Кузьмину.
Зиновьев нерешительно поверулся и скрылся в туннеле.
– Стоишь, – утвердительно произнёс Кузьмин, пожимая руку.
– Да вот, работнички…
– Ты начальник участка, тебя спрашиваю, на других не кивай.
– Ну да, как же, – неожиданно завёлся Гриневский. – Спрашивающих развелось, как… Сначала начальник строительства спрашивал, теперь вы. А Гриневский знай шею подставляй. – Он постучал ребром ладони по своей короткой шее. – Я отвечу, а с кого мне спросить за перерезанный воздухопровод?
– Давно перерезали?
– Да как перерезали, сразу шуметь стал, а толку…
Кузьмин прошёл в вагончик, приказал, не глядя на дежурного диспетчера.
– Сорокина…
Тот крутанул ручку телефонного аппарата: сквозь шипение прорезался голос сначала секретарши, потом самого Сорокина.
– Здравствуйте, Пётр Фёдорович, что же вы детей обижаете? – ласково начал Кузьмин. – Каких детей?.. Да вот рядом со мной стоит, жалуется Гриневский… Ах, в курсе… Этот бульдозерист у вас инструктаж проходил?.. Так в чём дело? Почему к работе его допустили?.. Гриневский своё получит, вы за себя отвечайте… Это не копеечное дело! – повысил он голос. – У нас нет копеечных дел, как нет и лишних шлангов. И если вы никак не можете этого понять, значит, вы не руководитель… Ищите, где хотите. Всё.
Он опустился на лавку.
Устало произнёс:
– Когда кончится это барство?
Гриневский бросил взгляд на диспетчера, и тот поспешно вышел.
– Когда мы научимся беречь государственное как своё? Вот ты когда это поймёшь?
– Геннадий Макарович…
– Что вы всё делите, что у вас – разные государства? Только и занимаетесь тем, чтобы найти виновного… Работать надо, Гриневский, работать, помогая друг другу, а не вырывая один у другого. Ты вот людей у него переманил…
– Помогать… А шланги где брать? – опять взвился тот. – Людей у него увёл… Да Сорокин мне скоростную проходку погубил! Мужики полмесяца вкалывали, а теперь загорать будут, пот – насмарку, энтузиазм – псу под хвост, зарплата – курам на смех…
– Сам бульдозеристов контролируй, твои отвалы они разгребают. Наконец, заинтересуй их чем-нибудь.
– Чем?.. Были бы свои, они б у меня летали, паутинки не задели…
Кузьмин не дослушал, вышел из вагончика и, размашисто шагая, исчез в чёрном зеве туннеля.
Гриневский помедлил, потом сорвался с места, нагнал:
– Какой чёрт тут бригадный подряд! Всё это возня пустая…
Кузьмин промолчал.
Он знал, что Гриневский что-нибудь придумает. Ради заработка и премиальных сделает всё, чтобы досрочно, как и обещал, туннель пробить. Сделает это, нарушая всевозможные инструкции. Как, впрочем, делал и раньше. И пока это ему сходит с рук. Он делал конкретное дело и считал, что его туннель важнее котлована, отмахиваясь от доводов, что машинный зал будет нужен лишь тогда, когда встанет плотина.
Кузьмин вспомнил о докладной двухгодичной давности, на которую случайно наткнулся, разбирая бумаги своего предшественника. В ней Гриневский обосновывал возможность сдачи машинного зала на полгода раньше срока. Но ходу бумаге (и инициативе Гриневского) не дали: отставали основные сооружения…
А теперь он, главный инженер, должен замедлить проходку ещё больше.
– Станок оставь на забое один и больших денег не обещай, – сказал Кузьмин.
– Геннадий Макарович…
– Так нужно, – прервал он.
Подошли к забою.
На отбитой, но ещё не вывезенной породе сидели проходчики.
– Только развернулись, – крикнул, наклоняясь к нему, Гриневский. – Мужики поверили – и опять всё по-старому…
– Сам знаешь, финасирование урезали, – неохотно отозвался Кузьмин.
– Дело сделаем и деньги найдутся?
Кузьмин не ответил.
Остановился напротив проходчиков.
Те неторопливо поднялись.
– Стожаров, лучший бригадир, – представил Гриневский седоусого крепкого мужика лет пятидесяти. – С такими вулканы можно проходить.
– С инспекцией, товарищ инженер? – Стожаров достал папиросу. – Или помогать?
– А что, сами не справляетесь?
– Смотря с кем…
– Вот-вот, – обрадованно пробасил Гриневский. – Скалу берём, а мне ласково советуете с Сорокиным…
– Брось ты, Петрович, на Сорокина валить. Не сегодня угробили, так завтра бы, – сказал Стожаров.
– Почему? – спросил Кузьмин.
– Гнали без передышки, вот и не уложили к стене. А бульдозеристу откуда знать, вот и зацепил…
– Ты… ты слова-то подбирай, – растерялся, явно не ожидавший таких слов Гриневский. – Я тебя тут как орденоносца, понимаешь, а ты несёшь…
– Курица яйца несёт, а я говорю, как думаю. Не готовы мы к скоростям, тылы слабоваты.
– А если подтянуть тылы? – спросил Кузьмин.
– Вот тогда и погоним без остановки, – сказал кто-то из проходчиков.
– Ясно.
Кузьмин повернулся, пошёл на светлое пятно уходящего дня.
– Не зайдёте? – спросил Гриневский, догоняя и кивая в сторону конторы: там, в рубленой избушке, у него сидела беленькая секретарша и стоял густой запах кофе.
– Ты своих бригадиров слушаешь?
– А как же, советуюсь…
– Оно и видно… Пока порядок у себя не наведёшь, о скоростной проходке не заикайся. И на Сорокина свои промахи не вешай. У него своих хватает.
Машина главного инженера скрылась за поворотом.
Гриневский шумно выдохнул воздух, помахал руками и, пританцовывая, побежал к конторе…
…По дороге в управление механизированных работ Кузьмин думал о Гриневском. Он знал, что тот любит деньги, всяческие отличия, и отними всё это, Гриневского не будет. Он превратится в отбывающего службу заурядного инженера, которого интересует всё что угодно, только не работа. Но, с другой стороны, у него энергии на двоих, а хватки – на семерых. Дай только ему увидеть выгоду для себя – сделает невозможное. И пока такой Гриневский нужнее семерых болтунов, говорящих правильные слова, но не умеющих делать дело…
Уже закончился короткий осенний день, но от снега ночь была светлой, как летом, и он, заметив это, удивился. В сумерках дорога казалась чище и ровнее, тонкие ели по сторонам стояли гуще, дома были выше и красивее.
Если жена приедет зимой, подумал он, здесь ей понравится.
Стало темно, и шофёр включил фары.
Это вернуло Кузьмина в действительность, в которой предстоял нелицеприятный разговор с начальником управления механизации.
В дверях двухэтажного здания он столкнулся с секретаршей Сорокина.
– Ой, товарищ главный инженер… – смутилась она. – А шефа нет.
– Где же он?
– На ЛЭП уехал. Сегодня уже не будет.
– В котлован, – бросил Кузьмин, забираясь на заднее сиденье.
Шофёр недовольно вздохнул, помедлил, разглядывая циферблат часов. Но Кузьмин этого не замечал.
Глава 7
Не дождавшись ни главного инженера, ни начальника строительства, Ладов закрыл кабинет и пошёл в гостиницу.
Командировка его близилась к концу, ещё пару дней – и он может лететь обратно. От этого ощущения завершённости и от того, что ещё утром задумал провести этот вечер с Ольгой Павловной и даже через секретаршу Солонецкого достал коробку хороших конфет, у него было прекрасное настроение.
По дороге он купил сыра, колбасы, сухого вина.
Ольги Павловны на месте не оказалось, она размещала каких-то залётных артистов. Он навёл в номере порядок, пристроил на подоконник, за шторой, лампу, тонкими кружками нарезал колбасу, треугольными кусочками – сыр, заварил свежего чаю, раскрыл коробку конфет, водрузил в центр бутылку вина. Полюбовался сотворённой сервировкой и остался доволен. Только собрался идти за Ольгой Павловной, как в дверь постучали.
– Войдите, – поспешно сказал он, не сомневаясь, что это она.
Дверь приоткрылась, и вошёл невысокий широкоплечий мужчина в распахнутом полушубке, меховой шапке, натянутой по самые брови.
– Добрый вечер, – неожиданно тонким голосом сказал он. – Не помешал?.. Сорокин я, начальник управления механизации. Мы с вами пока не встречались, хотя я часто бываю в главке: то вы в командировке, то заняты, то я в бегах…
– У вас ко мне дело?
Сорокин все ещё стоял на пороге, держа обеими руками объёмистый портфель, но было видно, что быстро уходить он не собирается, и Ладов неохотно предложил:
– Проходите.
– Вы гостей ждёте, а тут я нагрянул. Но ничего, я ненадолго, – говорил Сорокин, снимая полушубок и аккуратно вешая его в шифоньер. – И стол ваш я разрушать не буду, я ведь понимаю. – Он по-приятельски подмигнул, но тут же лицо его вновь стало серьёзным. – Я кое-что с собой прихватил…
Он достал из портфеля бутылку коньяка, аккуратно выложил на стол три янтарных груши.
– Это мне отпускник, бульдозерист один презентовал, с юга вернулся. Но фрукты, – он огляделся и отложил их в сторону, – мы оставим вашей даме.
– А кто вам сказал о даме? – недовольно спросил Ладов.
– Никто, – прищурился Сорокин. – Это я к слову. Фрукты всегда для дам…
Ладов оглядел Сорокина.
Был тот поразительно кругл: с круглым лицом, круглыми плечами и туловищем, лоснящимися щеками и лоснящимися же лацканами пиджака. А когда Сорокин наклонился, Ладов отметил, что и брюки у него тоже лоснятся.
Сорокин продолжал доставать из портфеля нарезанный ломтиками балык, баночку икры, лимон, две плитки шоколада.
– Как там наш самый большой начальник, товарищ Киреев поживает?.. Мы ведь с ним, Феликсом Петровичем, можно сказать, в какой-то мере братья… По альма-матер. Да-да, под одной крышей гранит науки грызли, – говорил он. – Да вы садитесь, Александр Иванович, я быстренько, по-походному соображу. Разольём, поговорим, а потом я побегу… Всё никак не могу вырваться, поздравить Феликса с повышением. Всё-таки в его годы и начальник главка – это хорошая карьера… А я его в первый раз на приёмных экзаменах увидел. Я тогда, после четвёртого курса, в комиссии сидел, активист был, а он документы сдавал. Подходит такой телёночек, с ноги на ногу переминается… Так я ему говорю: смелее, абитура, не дрейфь, ну и помог ему дрожь-то унять. Потом встречались, опекал, так сказать, по старшинству, туговато ему было, все после лекций гулять, а он в библиотеку. После первой сессии выгонять собирались, два экзамена завалил. Но пересдал, характер проявил да я чуток помог… Вот никак не могу вырваться, дел невпроворот. Где у вас стаканчики?
Ладов подал стаканы, и Сорокин плеснул в них коньяку. Поднял, приглашая поддержать, и Ладов с удивлением отметил, что глаза у него умные и острые.
– Вы извините, Александр Иванович, за вторжение и панибратский тон, – уже другим голосом произнёс он. – Я в студенчестве сценой увлекался, вот и представил вам образ… Извините, бога ради.
Ладов с любопытством глядел на него.
Это был уже не тот человек, который только что беспардонно распоряжался в его номере и которого он собирался выставить за дверь.
– Как вам наш посёлок, изменился? Впрочем, что я по-английски, с погоды, время у вас отнимаю. – Сорокин поставил стакан. – Не хочу кривить душой, пришёл потому, что не мог не прийти. Я знаю о вашей дружбе с Солонецким, однако вы принципиальны, честны и, как говорится, разделяете правило: дружба дружбой, а служба службой. Днём и вы, и я заняты, вот и решился в нерабочее время… Я о письме знаю. Нетрудно догадаться, что вам говорили. И правду, и полуправду, и ложь. Но лгали скорее от незнания, чем от желания опорочить человека… Там речь идёт о нарушениях финансовой дисциплины, это, конечно, чепуха. За такие нарушения если снимать, никого не останется. Я чем угодно поклясться могу: Солонецкий в свой карман никогда не клал. А вот о личной, так сказать, жизни… Тем более сейчас, когда без семьи… Бывало и раньше. На охоту улетит дней на десять на базу охотничью, есть у него такая на притоке, зимовьё там, банька. Так вот там и женщины… охотились. Рыбу солили, дичь разделывали – он в детский сад обычно отдавал, только ведь день днём, а ночь ночью… Ну а когда жена уехала, тут уж и вовсе Юрий Иванович с горя загулял. Я знаю, о чём в письме написано, сказали мне. Так вот, непристойного не было. И пьяным Солонецкого никто в посёлке не видел. Но точно знаю, что Вера Сергеевна, секретарша его, у которой, между прочим, сын-десятиклассник, к нему захаживала. Хорошо, муж у неё – мягкий мужик, эксцессов никаких не было. Или вот дежурная здешняя…
– Это вас Костюков надоумил ко мне прийти? – перебил Ладов.
– Я сегодня Илью Герасимовича не видел, но вы угадали, о цели вашей командировки от него знаю. Мы ведь с ним тоже сокурсники. – Сорокин усмехнулся. – А студенческое братство – на всю жизнь.
– У вас всё?
Сорокин встал и неторопливо прошёл к шифоньеру.
– Я вижу, вы меня неверно поняли. Склочником я никогда не был и не собираюсь им прослыть. Подумайте, мне-то какая выгода от того, останется Солонецкий или его снимут? Но сейчас требования к руководителю, сами знаете, не то что прежде… Моральный облик, он ведь тоже людей мобилизует…
– Вы всё это письменно изложите. И завтра занесите мне, – сказал Ладов.
Сорокин окинул его долгим взглядом, снял с плечиков полушубок.
– Кстати, и главного инженера он, так сказать, сбил с праведного пути…
– Кузьмин тоже охотник?
Сорокин понимающе улыбнулся.
– В каком-то смысле… Юрий Иванович проявил заботу, по вечерам отправляет к нему официантку из ресторана. С ужином.
– А откуда вам это известно?
Сорокин осуждающе покачал головой:
– Александр Иванович…
– Ну хорошо. Об этом тоже напишите.
Сорокин шагнул к двери, но вдруг обернулся и вкрадчиво произнёс:
– Запаздывает ваша гостья, Александр Иванович…
И Ладов не нашёлся, что ответить.
– Передайте поклон Феликсу Петровичу…
– А вы черканите ему пару строк.
– Действительно, так и сделаю… если не заверчусь.
Ладов закрыл за ним дверь.
Прошёлся по комнате, скользнул взглядом по разложенным свёрткам. Хотел вернуть Сорокина, но в коридоре было уже пусто.
Прошёл к столику дежурной, облокотился на стойку, подождал, пока Ольга Павловна поднимет глаза.
– Скрасьте мой одинокий печальный вечер…
– Волчье состояние? – В её голосе прозвучала ирония.
– А вы запомнили.
– Меня всегда интересовали принципы сильных мужчин.
– Увы, даже самый сильный мужчина всегда слабее самой слабой женщины.
– О, это я знаю! – Она усмехнулась. – И всё же ничем не могу вам помочь.
– У вас изменилось отношение ко мне?
– Изменилось.
Ладов помолчал.
– Я огорчён, – признался он. – Мне сегодня очень хотелось с вами поговорить.
…Он вернулся в номер.
Сел за стол, выпил коньяку. Пододвинул телефон, но позвонить Соловецкому не успел. В дверь негромко постучали, и он раздражённо бросил:
– Войдите!
Вошла Ольга Павловна. Словно не замечая его растерянности, присела на диван.
– Что же вы не угощаете? – произнесла она.
– Простите…
Ладов засуетился, налил вина, стал предлагать разложенные на столе деликатесы.
Ольга Павловна с улыбкой наблюдала за ним.
– Вы единственный человек, с которым я хотел бы быть откровенным, – сказал Ладов. Пересел в кресло напротив неё. – Давайте поговорим с вами о любви, а не о делах.
– Значит, вам дорого не моё отношение к вам, а ваше ко мне.
Эта женщина была умна, и Ладов не стал продолжать игру.
– Вы меня волнуете как женщина.
– Цинично, но честно. – Ольга Павловна усмехнулась. – И мне можно откровенно?
– Как хотите… Но прежде давайте выпьем…
– Я на работе, – сказала она. – А вы выпейте.
– А мне можно, я закончил свою работу… За вас…
Ладов выпил.
Ольга Павловна улыбнулась:
– Откровенность отталкивает только нечестных людей. Честным она не мешает… Но ведь вы не хотите моей откровенности…
– Вот как?.. Почему вы так думаете?
– Потому что я скажу вам неприятное…
– Какая интересная беседа… – Ладова обидели её слова, настроение испортилось, он начинал разочаровываться в Ольге Павловне. – Хорошо, я буду откровенен. Вы пришли сейчас, потому что вас послал начальник строительства?
Она удивлённо посмотрела на него.
– При чём здесь он?
– Но ведь вы с ним… Вы ведь знакомы и довольно близко…
Он ожидал, что она сейчас произнесёт «нет» и всё встанет на свои места. Но Ольга Павловна поймала его взгляд, долго смотрела с какой-то потаённой печалью, и он не выдержал, отвёл свой.
– Я надеялась, что вы не скажете этого… Но вы сказали… Именно поэтому изменилось моё отношение к вам… Не жалеете теперь, что объяснялись в любви?
– В любви?.. Ну что вы. – Ладов медленно развернул шоколадку. Надежды на приятный вечер не оправдались, и теперь ему хотелось обидеть, даже унизить сидящую напротив женщину. – В симпатии, только в симпатии… Вам к лицу злость, хотя она делает вас некрасивой и отталкивает… Такой вы, наверное, нравитесь только Солонецкому.
Ольга Павловна поднялась, окинула Ладова снисходительным взглядом.
– Вам это важно знать?
– Значит, вы его любовница, – со вздохом сожаления констатировал Ладов. – Вот так Солонецкий, – хихикнул вдруг он. – То-то Ирина…
Он запнулся.
– Я люблю его, – сказала Ольга Павловна. – Но думаю, вы этого не поймёте…
И вышла.
Затихли её шаги, а Ладов всё стоял посреди комнаты, приходя в себя от услышанного.
Глава 8
Ночью началась метель – первая весть длинной северной зимы. За несколько часов она набросала сугробы, перемела дороги. Запланированная Кузьминым поездка по трассе ЛЭП срывалась. Но утром по рации с ЛЭП передали, что кончилось горючее, а бензовоз из-за заносов не может выехать в посёлок. Надо было отправлять вездеход, и Кузьмин воспользовался оказией.
Расторгуев, пересевший на вездеход вместо заболевшего водителя, к десяти часам уже загрузился и заехал за главным инженером. На выезде из посёлка в стелющемся над землей снежном тумане он чуть не наехал на человека в малице и оленьих унтах, с охотничьими, обитыми камусом лыжами на плече. Ни рычащий вездеход, ни ругань Расторгуева, казалось, он не заметил, только взглянул через стекло на водителя и неторопливо пошёл дальше.
– Так это ты, что ли?! – растерянно крикнул ему вслед Расторгуев, примолкший под этим взглядом. И виновато добавил: – Не видно же ни черта…
– Знакомый? – спросил Кузьмин.
– Да чудик один, – неохотно отозвался водитель, – Аввакум. – И помолчав, объяснил: – Прежде у нас работал, а теперь охотой промышляет. Вроде учёным был раньше, потом в отшельники подался.
– В отшельники?! В наш век?
– Года три уже в тундре живёт. Только за продуктами и приходит, когда «кусать» нечего. А так – в Путоранах пропадает. – Расторгуев махнул рукой в сторону невидимых гор.
Помолчав, добавил, словно оправдываясь за свою растерянность:
– Личность тёмная… Только Юрий Иванович благоволит, разрешает ему и в гостинице без паспорта останавливаться. А вы что, не видели его раньше?
– Не приходилось.
– Вот же что делается… – ругнул Расторгуев ветер, взбивший плотный столб снежной пыли. – Однако не засесть бы нам…
Он приник к ветровому стеклу, бросая вездеход по неширокой просеке ЛЭП…
Вагончики лэповцев стояли километрах в двух от места, где заканчивалась просека. Недалеко от них грязным пятном среди белой равнины застыл застрявший бензовоз. Расторгуев попытался его объехать, но вездеход зарылся в снег по самое стекло, и он решительно заглушил двигатель.
– Всё, приехали. Дальше никак.
Достал из-под сиденья ракетницу, выпустил пару красных ракет в сторону вагончиков, и оттуда, склоняясь под порывами ветра, к ним двинулось несколько человек.
Кузьмин выпрыгнул из кабины и, проваливаясь в снег, пошёл им навстречу.
На полдороге его встретил начальник участка Божко. Махнул своим людям, те потащили к вездеходу наспех сооружённую волокушу.
– В гости к нам! – прокричал Божко и пошёл впереди главного инженера. – А мы тут маху дали, утром выслали машину, а она застряла. Ни одного бульдозера на ходу, всю горючку съели.
– На будущее учтите! – прокричал Кузьмин. – Запас должен быть!
– Да это понятно, – закивал Божко, оправдываясь. – Кто ж знал, что так рано запуржит…
Он открыл дверь вагончика.
Кузьмин вошёл в пахучее помещение. Расстегнул шубу, но снимать не стал, сел за стол, наслаждаясь терпким теплом.
– А что Сорокин не позаботился?
Божко махнул рукой.
– Мы для него пасынки. Он тут с лета не был.
– Вчера же собирался, – усмехнулся Кузьмин.
Сорокин и прежде обманывал его, но не так откровенно.
Он скинул шубу.
– Вызови-ка его мне.
Пока Божко дозванивался до начальника управления механизации, Кузьмин разглядывал схему трассы. Был пройден всего лишь маленький отрезок и, пожалуй, самый лёгкий. Впереди раскинулись болота, лишайниковая тундра. Он вспомнил цифры сметной стоимости строительства ЛЭП и свои расчёты из красной папки. В записке он предлагал отказаться от прокладки трассы, а ставить опоры десантным способом, с вертолёта, на станционарную, монтируемую на базе подушку. Он вычертил это основание похожим на щётку, с зубьями-трубами, уходящими в скважины. Это было дороже применявшегося метода, если жить сегодняшним днём: один час вертолётного времени чего стоит, но это сокращало сроки строительства. И в конечном счёте это было гораздо выгоднее, но требовало средств именно сегодня. И немалых.
– На месте.
Божко протянул трубку.
Сквозь треск и шипение Кузьмин услышал далёкий и тихий голос Сорокина.
– Пётр Фёдорович, – не отвечая на приветствие, начал он. – Я вот тут сейчас у Божко… Вы вчера, как мне доложили, выезжали сюда?!
Сорокин помолчал, потом стал говорить, что главного инженера неправильно информировали, он вчера не был на трассе, а искал шланг для воздухопровода. И нашёл.
– Так вы кто, начальник управления или кладовщик?.. Вы знаете, в чём сегодня здесь люди нуждаются?
Сорокин помолчал.
Потом устало произнёс:
– У меня управление, Геннадий Макарович, а не участок. Вы меня путаете с Божко.
– Пожалуй, путаю, – согласился Кузьмин и положил трубку.
Повернулся к Божко.
– Сколько здесь работаете?
– Я?! Второй год.
– А до этого?
– Два года мастером на базе.
На улице зачастил, потом взревел двигатель, и вагончик задрожал.
– На сваях стоим, – пояснил Божко. – Когда бульдозер работает, всё трясётся.
Они вышли на улицу.
Бульдозер, опустив отвал, медленно продвигался к застрявшему бензовозу. Стоявшие наготове рабочие накинули тросы, и так же медленно бульдозер пополз назад, приминая гусеницами маленькие сугробы, уже наметённые на расчищенную им полосу. Следом за вытащенным бензовозом подкатил и Расторгуев.
– Дальше сможем проехать? – спросил Кузьмин, показывая в конец трассы.
Расторгуев сбил на затылок шапку, вздохнул:
– Попробуем, если очень надо.
– Садись, – кивнул Кузьмин начальнику участка.
Проехали до конца трассы, заваливаясь и с трудом выбираясь из топких под снегом ям, остановились перед ровной поверхностью болота, в которое упиралась просека.
Вышли.
– Как асфальт! – перекричал ветер Божко, топая по уже приличному льду. – Так и хочется поехать. А мы тут не меньше двух месяцев просидим, пока закидаем породой.
– Где следующую опору ставить?
– Почти посерёдке, на самом гиблом месте. Два метра отсыпки по проекту и бетонная подушка.
– А геологи что говорят?
– Сорок сантиметров – и вечная мерзлота.
Расторгуев стал разворачивать вездеход.
Он крутился на пятачке, стараясь не отъезжать далеко от колеи, но всё же заскочил в яму: вездеход завалился набок и крепко засел.
– Всё-таки допрыгались, – сказал он сам себе и стал смотреть через стёкло на стоящих на ветру Кузьмина и Божко.
Всё суетится начальство, мечется, лениво думал он. И надо же было главному ехать сюда, можно ведь было чем-нибудь другим заняться. Нет, поехал. Расторгуев уже пять лет возил Солонецкого и был убеждён, что только начальник строительства делает именно то, что необходимо, и с ним, днём или ночью, когда угодно, ездил он с удовольствием, иногда из-за этого даже ругаясь с женой…
– Застрял? – улыбаясь, прокричал Божко, приоткрыв дверцу.
– Загораем, – недовольно буркнул Расторгуев.
– А мы давай-ка пройдёмся, – предложил Кузьмин и, не дожидаясь ответа, пошёл к вагончикам по колее, оставшейся от гусениц.
– Ничего, сейчас мои орлы выдернут, – сказал Божко и, наклонившись под ветром, зашагал вслед за Кузьминым.
Молча дошли до вагончика.
Кузьмин остановился.
– Управление потянешь? – прокричал, отворачиваясь от ветра.
Божко понял вопрос, но ответил не сразу:
– Думаю, да.
Из вагончика выглянул рабочий:
– Товарищ главный инженер, вас начальник строительства разыскивает. Приказывает срочно прибыть в управление.
– Спасибо… – Кузьмин повернулся к Божко: – Уверен, значит… Это хорошо.
– Но я бы многое поменял…
– И это хорошо, – бросил Кузьмин, усаживаясь в кабину подъехавшего вездехода…
…В приёмной он столкнулся с Аввакумом. Тот выходил из кабинета Солонецкого. Посторонился, отметив, как пахнуло от отшельника запахом дыма. Придерживая дверь, оглянулся, провожая взглядом колоритную фигуру.
Солонецкий курил, откинувшись в кресле. Рядом стояло второе кресло.
– Что, гость мой заинтересовал? – спросил он.
Кузьмин опустился в кресло, в котором только что сидел Аввакум, пожал плечами.
– Историю его слышали?
– Я не любопытен.
– Это я знаю, – миролюбиво произнёс Солонецкий. – Но я всё же расскажу. В порядке байки. Мы с ним в один день сюда приехали. Правда, я на вертолёте прилетел, а он на последнем пароходе в числе вербованных. Плотничал, жил в палаточном городке в компании с любопытной личностью – был у нас в посёлке такой, по прозвищу Какаду. Из мелких негодяев, но главарь, предводитель. До приезда Аввакума покоя от него не было, а потом – как подменили. Наш участковый даже заволновался. А оказалось, Аввакум на него повлиял. Кстати, Аввакумом его Какаду и прозвал. Что-то слышал о «Житие протопопа Аввакума», вот и окрестил. А фамилия у Аввакума – Новиков. Алексей Новиков – это в миру, так сказать… Зиму он у нас на стройке отработал, потом уехал на озеро к рыбакам. О нём там легенды ходят. И лечить, мол, умеет, и заговаривать, и живёт без корысти, прямо святой.
– Сомнительная репутация, – сказал Кузьмин. – Человек должен пользу приносить обществу, а не бегать от него.
– Резонно… Только представьте, как скучен окажется мир, в котором все будут похожи один на другого… – Солонецкий погасил сигарету. – Вот, опять закурил… Я вас почему искал: завтра Ладов улетает.
Кузьмин кивнул. Он знал, что начальник строительства ждёт конкретного ответа, но после паузы сказал о другом:
– Я предлагаю заменить Сорокина.
Солонецкий задумался.
– У вас есть основания?.. Кандидатура?
Кузьмин кивнул.
– Тогда подготовьте докладную.
Распахнулась дверь, в кабинет вошёл Ладов.
Поздоровался.
– Оба здесь, это хорошо. – Он выдержал паузу. – Хочу проинформировать вас о предварительных итогах проверки.
Солонецкий прикурил новую сигарету, щурясь от дыма, кивнул.
– Мы слушаем.
– Если коротко, выводы таковы. Часть средств, отпущенная на основные сооружения, истрачена не по назначению. Нет разрешения на строительство телевизионной вышки, которая тем не менее почти построена. Не было предусмотрено в этом году и строительство молокозавода. Я понимаю, и телевидение, и молоко посёлку необходимы, но, товарищи руководители, есть же утверждённые главком планы, которые никому не позволено нарушать. Надо было добиваться, доказывать, но не заниматься самодеятельностью. Или вы считаете, что в главке ваших проблем не знают, вашими бедами не болеют? Ваше своеволие…
– Скорее предприимчивость, – перебил Кузьмин и торопливо добавил: – Беда в том, что думать начинают только с поста начальника главка, а то и выше… Ниже – исполняют. Культ исполнителей. И чем бездумнее, тем похвальнее… Но ведь вроде бы сейчас подул другой ветер…
– Финансовую дисциплину никто не отменял. Подумайте, что вы говорите, Геннадий Макарович? Выходит, что в министерстве, в главке сидят люди, ничего не смыслящие, и только один вы всё видите, всё понимаете и способны заменить и Госплан, и отделы главка, и проектные организации… Кстати, так вы и сделали, с нарушением проекта построив дизельную…
– Если бы строили по проекту, давно бы развалилась, – не выдержал Солонецкий. – Но это к слову, а так мы действительно виноваты, чего уж там…
– Юрий Иванович, – официальным тоном начал Ладов. – Я ведь вижу, какое настроение у ваших подчинённых. Дескать, главк далеко, у них своё, а у нас своё… государство, – последнее слово он произнёс с явной иронией.
– А что, мы и есть государство, – задумчиво произнёс Солонецкий. – Мы – его голова и его винтики. И от нас, не от вас и не от кого-то ещё, а в первую очередь от нас зависит, процветающим или нищенствующим оно будет, наше маленькое государство, которое является частью большого… Но и от вас, конечно, – вздохнул. – От того, насколько вы будете нам помогать.
Солонецкий встал, прошёлся по кабинету.
– Конечно, всё это желаемое, товарищ заместитель начальника главка. Пуповина нас с вами крепко связывает, без неё мы не сможем существовать. Но именно она-то иногда мешает. И давай говорить начистоту. Ты, я и он, – Солонецкий кивнул в сторону главного инженера, – прекрасно всё понимаем. И что нам грозит, и что можно спрятать, что от тебя зависит, а что нет… Перестройка идёт, ориентация на новое, а вот в твоих словах я этого пока не вижу. – Он прикурил новую сигарету. – Дорвался, теперь накурюсь до чёртиков… Пять лет держался.
– Не надо путать общее с частным, – возразил Ладов. – Самостоятельность – насущное требование дня, но в вашей самостоятельности, – он выделил голосом «в вашей», – я вижу анархию.
– Жаль, что ты видишь не то, что есть на самом деле, – сказал Солонецкий и сел за стол. – А факты действительно имели место… Но мы считаем, что поступали верно и с пользой для государства, не так ли, Геннадий Макарович?
Кузьмин кивнул.
– У меня нет ни желания, ни времени дебатировать. – Ладов пристально посмотрел на Кузьмина. – Геннадий Макарович, оставьте нас, пожалуйста, вдвоём.
Кузьмин вышел.
– Ты всё искренне говорил? – после паузы спросил Ладов.
– Да.
– Ну что же… Время рассудит, кто из нас прав. Что же касается вашей личной жизни… Изложенное в письме не подтвердилось. Но мой совет, не давай поводов для сплетен. Охотничья база на притоке, любовница…
– Базу срубили сами в законные отпуска, – сказал Солонецкий. – И охотимся там не в рабочее время. Если, конечно, мои слова имеют в данный момент вес… А любовницы у меня нет.
Их взгляды встретились.
– А Ольга Павловна?
Солонецкий пристально посмотрел на него.
– Я тебя не узнаю, Саша. Помнится, ты ничего не боялся, воевал за новое, набивал шишки… И никогда не путал личные дела со служебными. Зачем тебе знать о моих отношениях с Ольгой Павловной? Это касается только нас, понимаешь, только нас… Я прошу, если тебе так уж нужно опорочить меня, выбери что-нибудь другое, только не копайся в том, в чём ничего не сможешь понять…
– Ка-а-ак ты меня, – Ладов поджал губы. – А что же сразу не сказал, что знакомы, когда я за неё… Ну хорошо, а ваших отношений с секретаршей тоже не касаться?
Солонецкий усмехнулся.
– Действительно, гнать меня пора, если таких плохих осведомителей рядом терплю… Нет ничего между нами. И никогда не было. А верить мне или нет, твоё дело.
Солонецкий отвернулся и стал смотреть в окно.
Ладов помедлил, потом направился к двери. и уже в приёмной услышал голос Солонецкого:
– Вера Сергеевна, меня ни для кого нет.
Глава 9
Наутро Ладов улетал.
Накануне он попросил Костюкова позаботиться о машине, чтобы доехать до аэродрома, и ждал в гостинице.
Вечером же Солонецкий заказал спецрейс.
К девяти часам утра самолёт уже подлетал к Снежному.
Солонецкий позвонил в гостиницу, узнал, что Ладов в номере, и поехал за ним. Из машины выходить не стал, отправил за Ладовым шофёра.
– Давно бы так, – буркнул тот, нисколько не удивившись появлению Расторгуева.
Солонецкий, закрыв глаза, сидел на заднем сиденье. Он кивнул на приветствие Ладова и вновь закрылся воротником пальто.
По сторонам тянулись редкие деревья, болотца, прибранные снегом; пейзаж, от которого Ладов уже немножко устал и хотел скорее увидеть солнце, окунуться в суматоху городских улиц, ощутить уют домашних стен.
Когда впереди завиднелись строения аэродрома, Ладов вспомнил о билете. Хотел спросить Солонецкого, но передумал. О таких мелочах не стоило беспокоиться, кому-кому, а ему дежурных табличек в гостиницах и отрицательных ответов в кассах аэропортов давно уже не приходилось видеть и слышать.
Ладов обернулся, взглянул на молчавшего Солонецкого – тот сидел с закрытыми глазами.
Напишу в докладной всё как есть, решил он.
Сунул руку в карман и наткнулся на галстуки для Солонецкого. Рука уже потянулась вверх, когда он раздумал и ещё глубже затолкал их в карман.
Машина остановилась.
На взлётной полосе, гудя винтами, стоял грузовой самолет.
– Иди, – произнёс позади Солонецкий. – Тебя ждут.
– Бывай, – отозвался Ладов и, не оборачиваясь, добавил: – Служба службой, а дружба дружбой. Не хотел бы я попасть на место твоих подчинённых – заставишь под свою дудку плясать.
Это было предложение о примирении.
– На то и поставлен, – буркнул Солонецкий.
– Ты вот что, – придержав дверцу, сказал Ладов, – Костюкова и Сорокина гони…
И рысцой побежал к самолёту.
Люк за ним захлопнулся, самолёт покатил по взлётной полосе.
Солонецкий опустил воротник, с облегчением вздохнул.
– Ну вот и слава богу, – сказал он. – Теперь, Расторгуев, берёмся за работу.
– Утомило начальство?
– А когда оно в радость. – Солонецкий проводил взглядом уменьшающуюся точку и сел на переднее сиденье. – Поднажми, Миша, опаздываем…
Начальники подразделений уже сновали по коридорам, решая до планёрки свои вопросы с отделами управления, и Солонецкий изменил привычке, не переговорил с замами, какие вопросы станут главными, не наметил, на чём сделать упор. Разделся, хлопнул крышкой карманных часов с гравировкой: «Любимому папочке от его непослушной дочери», распахнул дверь.
– Приглашайте, Вера Сергеевна.
В кабинет входили начальники и главные инженеры подразделений, на ходу докуривая, обрывая разговоры. Сразу стало тесно и шумно.
Солонецкий здоровался с входящими. С теми, кого давно знал, – за руку. С недавно приехавшими на строительство – кивком головы. Подчинённые знали эту особенность начальника: его рукопожатие было равносильно признанию.
Последним вошёл главный инженер. Прошёл на своё обычное место справа от Солонецкого.
– Начинайте, – кивнул начальник строительства.
Кузьмин сделал подробный разбор работы подразделений за неделю.
Потом начальники подразделений стали согласовывать свои действия, а Солонецкий, закрыв локтем листок бумаги, написал три фамилии и стал проставлять напротив каждой плюсы и минусы.
От этого занятия его оторвал голос Кузьмина.
– Я могу понять и объяснить многие просчёты, но когда руководитель лжёт, прикрывает своё нежелание или неумение работать громкими словами, когда он знает меньше начальника участка, не правильнее ли будет поменять их местами. Моё мнение, Сорокин, однозначно: вы не соответствуете своей должности.
Забившийся в дальний угол Сорокин сжался ещё больше под взглядами повернувшихся к нему. Он только что подал совсем безобидную реплику, не ожидая такой реакции, и теперь никак не мог сообразить, что ответить главному инженеру.
Его выручил Костюков.
– Геннадий Макарович несколько предвзято относится к начальнику управления механизации. Я понимаю, что все мы люди-человеки, но вам, как главному инженеру, надо уметь быть объективным. Иначе, – он развёл руками, – мы с вами тоже не имеем права руководить людьми. Легче всего вот так огульно оговорить человека. Такие же грехи, как у Сорокина, можно найти у каждого из сидящих здесь. Да и вы, Геннадий Макарович, не безгрешны…
– О чём речь? – приподнимаясь, пробасил Гриневский. – О какой такой необъективности – Сорокин мне рекорд угробил, моих мужиков премиальных лишил! Бульдозер две недели ремонтирует, я его обещаниями за два года уже во как сыт, – он рубанул ладонью по шее. – Все задержки по его вине. Правильно говорит главный, не тянешь – уступи место!
– Разрешите мне, – поднялся Смирнов, заместитель по общим вопросам и секретарь партийной организации. Неторопливо поправил очки, ровным тихим голосом произнёс: – Разве эти вопросы нельзя решить в рабочем порядке? Кадровая политика – это компетенция начальника строительства. Что же касается Сорокина, то понижать его за эти промахи не стоит, но предупредить надо. И дать время на исправление недостатков.
– Чтобы он завалил до конца то, что ещё не успел, – вполголоса произнёс Кузьмин.
Но Сорокин услышал.
Распаренный, красный от волнения, он вскочил с места, протиснулся между сидящими, вышел на середину.
– Ну что ж, Геннадий Макарович, вы начали этот разговор, так теперь выслушайте и меня. Вы заявили, что я плохой руководитель. А может, не в этом дело? Что же вы умолчали о том, что Сорокин слишком много о вас знает? Что вы видите себя уже в кресле начальника строительства? Гриневский вас устраивает, даже когда план валит, он ваш, он за вас, о нём вы ничего плохого не скажете, а если понадобится, то и защитите. Прикроете. И Божко ваш… Вы только и ждёте удобного случая, чтобы устранить неугодных вам, честных и принципиальных людей. А начальник строительства добрый, он – извините меня, Юрий Иванович, – близорукий добряк и никак не может раскусить вас… Нет, Сорокин за двадцать лет работы никогда не уступал карьеристам. Сорокин всегда боролся с ними, а сейчас тем более будет бороться. И если не поймёт этого Юрий Иванович, я полечу в главк, в министерство: вы, а не я, не соответствуете своей должности, вы, с вашим голым администрированием и нравственной нечистоплотностью…
– Довольно! – Солонецкий грохнул кулаком по столу. – Хватит, Сорокин! – Лицо его побелело, руки подрагивали. – У нас производственное совещание, а не профсоюзное собрание. Договорились чёрт знает до чего… Выйдите в приёмную, остыньте, потом зайдёте и доложите, что собираетесь предпринять, чтобы выправить положение.
Сорокин постоял, растерянно глядя на Солонецкого, потом медленно пошёл к выходу.
– Человек взволнован, не сдержался, но выгонять – это, простите, барские замашки, – нарушил тягостную тишину Костюков.
– Я готов вас выслушать после планёрки, – жёстко сказал Солонецкий. Повернулся к Кузьмину: – Продолжайте, Геннадий Макарович…
Но деловой настрой был утрачен, и Солонецкий скоро подвёл черту, пообещав в течение недели объехать все подразделения и разобраться, кто как работает.
Выходили из кабинета молча, не глядя друг на друга, но в коридоре загудели, заспорили, и Солонецкий попросил Кузьмина:
– Прикройте дверь, Геннадий Макарович, мне с вами нужно поговорить. – Подождал, пока тот вернётся на место, спросил: – Зачем вы подняли вопрос о Сорокине? Надеялись, что я поддержу? Так ведь не делается. Это люди. Кто теперь объяснит ваше поведение этим… – Он обвёл рукой пустые стулья. – Кто их убедит в вашей правоте?
– Я никого не собираюсь убеждать, – на скулах Кузьмина заходили желваки. – Всё очевидно.
– Для вас. – Солонецкий погладил занывшее плечо. – А для остальных не совсем… С Сорокиным я поговорю, но вы подумайте, что сейчас произошло. Иногда стоит не только по одним делам судить, кто на что способен.
– Я изложу своё мнение в докладной.
– Ничего ты не понял, – устало сказал Солонецкий. – Идите, товарищ главный инженер.
Поднял трубку красного аппарата, но в ней почему-то была тишина, и он раздражённо закрутил диск местного телефона.
– Почему связи с главком нет?! – кричал он, не замечая, что кричит. – Какое повреждение?.. Исправляйте!
Налил в стакан воды, выпил, стараясь не смотреть на дрожащие руки.
Бросил под язык таблетку.
Подождал, пока она растает, вызвал секретаршу.
– Вера Сергеевна, я тут нагрубил телефонисткам, – не поднимая головы, сказал он, – позвоните им… И передайте мою просьбу, чтобы связь наладили побыстрее.
– Вас Пискунов искал.
– Что у него?
– Говорил, что срочно нужны.
– Соедините.
Пискунов, срывающимся от старания голосом, стал докладывать, что самолёт с товарищем Ладовым на борту благополучно приземлился в Турильске.
– А что у вас там, диверсанты есть? – относя трубку подальше от уха, спросил Солонецкий.
– Диверсанты?! – встревоженно прокричал Пискунов. – Никак нет, товарищ начальник строительства, пока не замечалось… Но я прикажу…
– И пассажиров давно пора всех обыскивать, – морщась, продолжал Солонецкий.
– Так точно, с сегодняшнего дня.
– Что с сегодняшнего дня?
– Начнём обыскивать.
– Вы что, Пискунов, шуток не понимаете?
В трубке затаённо задышали, и Солонецкий пожалел отставного майора.
– Отставить обыскивать. Ждите моего распоряжения на этот счёт. – Подумал: услышь эту фразу автор анонимки, чёрт знает что мог бы по ней накрутить, и добавил: – Но это будет не скоро, не раньше, чем когда заместитель начальника главка прилетит к нам в следующий раз.
Положил трубку.
– Туров к вам, – заглянула в кабинет Вера Сергеевна.
Туров ввалился в шубе, в шапке, молча достал из шифоньера пальто Солонецкого, распахнул.
– Одевайся… Вчера на рыбалку ездил.
– Ну и как?
Солонецкий послушно оделся.
– Вот такие, – Туров развёл два пальца на руке. – Но клевали зверски.
– Хоть бы душу не травил… Куда ты меня?
– Пошли.
Подталкивая в спину, он провёл Солонецкого по коридорам.
Вышли на улицу.
Солонецкий направился к машине.
– Пешком дойдём, – придержал его Туров.
– Куда ты меня ведёшь?
– Недалеко.
Они вошли в реденькую берёзовую рощу, которую когда-то Туров отвоевал у самого же начальника строительства, собиравшегося на этом месте поставить спецгараж. Вышли к коттеджам. На крыльце долго оббивали снег, шумели, чтобы в коттедже догадались, что идут гости. В большом доме Туровых сразу зашлёпало множество ног, в коридоре завозились, детские голоса заспорили приглушённо, наконец раздался окрик Галины, дочери Турова, и дверь открылась.
– Ну, бандиты, как жизнь? – подмигнул Солонецкий спрятавшимся за косяками внукам Турова. – Ух, догоню…
– Поля! – крикнул Туров. – Задание выполнено, – доставил, как обещал…
Вышла Полина Львовна, всплеснула руками.
– Совсем, совсем дошёл… Кожа да кости. Нет, придётся мне всё-таки написать Ирине, пусть прилетит, посмотрит.
– Пусть, – согласился Солонецкий, приседая на корточки перед мальчишками. – Кто сегодня из вас самый смелый? – И усадив каждого на руку, стал приподымать их к потолку.
– Страшно?.. Нестрашно?.. Сейчас будет стра-а-ашно…
Мальчишки визжали от восторга.
Солонецкий любил этот дом.
Любил приходить сюда длинными зимними вечерами. Пока они с Туровым играли в шахматы, внуки успевали запрятать куда-нибудь его унты, навязать сзади к подтяжкам бумажек или наложить в карманы всякой всячины. Туров добродушно ворчал, а Солонецкий с радостью играл с ними и всё оттягивал возвращение в свой пустой дом.
Вышла из своей комнаты Галина.
– Не надоели хулиганы мои?
– Ну что ты, они меня спасают.
– Своих пора уже иметь! – крикнула с кухни Полина Львовна.
– Жду, Полечка, жду.
Солонецкий подбросил вверх младшего, за ним старшего.
– Ух!
Близняшки смеялись и просили ещё.
Галина, скрестив руки на груди, с улыбкой наблюдала за ними.
– Батя им нужен, – отдуваясь, прошептал ей на ухо Солонецкий. – Сосватать?
– Нет, хватит, был уже, – махнула рукой Галина.
Год назад она вернулась к родителям. Муж, работавший ведущим специалистом на комбинате в Турильске, дал согласие на развод, и она опять стала носить свою девичью фамилию, а внуки стали туровчатами, чему несказанно радовался их дед.
– Серёжа, Юра, в комнату, не мешайте взрослым, – строго сказала она.
Мальчишки неохотно повиновались.
– Ну что ты скажешь? – опускаясь за шахматный столик, спросил Солонецкий.
– Расставляй, расставляй… Что я скажу, ты сам знаешь. Белыми сегодня твоя очередь играть.
Солонецкий двинул пешку.
– Стандартное начало…
– Да нет, пожалуй, это уже середина, – задумчиво произнёс Туров, и Солонецкий его понял.
– Главное, не эндшпиль, есть шанс…
– Мне тоже кажется, что Ладов подлец не до конца.
– Это ты сильно. – Солонецкий поморщился. – Ты его не знаешь. Я сам виноват, хитрить что-то разонравилось. Перетрудился.
– Тебе бы действительно отдохнуть…
– Несомненно отдохнуть, и без разговоров, – входя строгим голосом сказала Полина Львовна. – Каюсь, написала я Иришке письмо, Юра, написала.
– И что же она советует?
– Недавно написала, не дошло ещё. Но ты послушай женщину, слетай-ка сам. Слетай, от этого гордости не убудет.
– Послушай женщину и сделай наоборот…
– Она права, – вступился Туров. – На этот раз женщина права.
– Как всегда. – Полина Львовна многозначительно посмотрела на мужа. – А теперь шахматы свои в сторону и за стол…
…После ужина мальчишки натащили книжек, заставили Солонецкого читать. Прижавшись к нему с двух сторон, они не дыша слушали сказки, и Солонецкий читал, пока не охрип.
– Всё, спать! – хлопнула в ладоши Галина. – Совсем деда Юру замучили, видите, голос из-за вас потерял.
Галина воевала с сыновьями, Туров смотрел телевизор, а Полина Львовна присела рядом с Солонецким.
– Слушай, Юр, возьми обратно на работу, выматываюсь дома.
– Не пойдёшь.
– Пожаловаться хочет, – не оборачиваясь, сказал Туров. – Не обращай внимания.
– Что значит «не обращай»? Да вы, мужики, как в раю живёте, а тут от кастрюль в глазах летающие тарелки мелькают… Ну как, надумал слетать? – спросила она.
– Пока не могу.
– Работа?
– Работа.
– Уважительная причина?.. Вот и он, – кивнула на Турова, – комплименты не мне, а какому-то Киселёву говорит.
– Хороший бригадир, – повернулся Туров.
– Все вы такие. – Полина Львовна вздохнула. – Но нас-то, баб, хоть иногда замечайте, мы ведь от этого красивее становимся. И добрее…
…Домой Солонецкий вернулся поздно. И у Туровых – с той самой минуты, как Полина Львовна посоветовала лететь к жене, и дома он никак не мог избавиться от острого желания увидеть Ирину, Танюшу. Он тосковал об уже забытом ощущении крепости своего дома, в котором отступали все невзгоды, трудности уже не казались трудностями, неприятности забывались и жизнь становилась полной и радостной. Но не был уверен до конца, что последует совету Полины Львовны…
Глава 10
В октябре наступила настоящая зима.
Последнее время Солонецкий физически ощущал, какие они долгие, холодные и тёмные, эти заполярные зимы. Дома он теперь старался бывать меньше, с утра до вечера колесил по стройке и приходил только ночевать.
Прошло две недели после отъезда Ладова, но никаких известий из главка не приходило. А их с нетерпением ждали многие. Солонецкий с мрачной убеждённостью в грядущих неприятностях. Костюков и Сорокин – с нетерпением.
Ждал их и Кузьмин. Но ждал лишь потому, что начальник строительства обещал, когда прояснится обстановка, назначить Божко начальником управления механизации.
– Боюсь, что со многими придётся проститься, – вскользь поделился он своими опасениями. – Так что подождём…
В четверг Солонецкий позвонил в главк, по своим каналам пытаясь выяснить, что и как. Ему ответили, что Ладов, вернувшись из командировки, попал в больницу: подхватил воспаление лёгких.
Солонецкий перезвонил вечером на квартиру Ладова, подбодрил Нину. Говорил о пустяках, каждую минуту ожидая услышать намёк на то, что грозит ему и стройке, но, судя по всему, та ничего не знала.
…В конце октября морозным утром за ним заехал Кузьмин. С вечера уговора не было, и Солонецкий насторожился, но главный инженер, горя красным от мороза лицом, торопливо сказал:
– Хочу вас свозить на экскурсию.
– Не люблю я экскурсий, – буркнул Солонецкий, одеваясь.
Сидя рядом с шофёром и поглядывая в зеркальце на недовольное лицо начальника строительства, Кузьмин раздумывал, сказать тому, куда они едут, или нет, и уже собрался было раскрыть секрет, но Солонецкий опередил:
– Ладно, не говори, сам всё увижу.
На развилке машина свернула к туннелю. Нырнула в чёрную дыру – и в лучах фар заблестела инеем скала. Солонецкий молчал, внешне не проявляя никакого интереса, но внутренне подобравшись. Вот уже полмесяца скалу долбили дедовским способом, клиньями: жила рыхлого известняка прорезала твёрдую породу и геологи не разрешали взрывать, опасаясь, что та выходит на поверхность под зданием будущей станции. Давно уже Гриневский сидел на планёрках молча, спрятавшись в дальний угол.
Лучи фар потонули в пыльном облаке.
Машина ещё немного проехала и остановилась.
Снопы света упёрлись в завал.
– Приехали, – сказал Кузьмин.
Торопливо пошёл к забою, полез по груде к своду, к застывшей там фигуре.
Солонецкий полез следом.
В человеке, старательно изучающем свод, он узнал старшего геолога Кузнецова.
– Не завидую я вам, Юрий Иванович, – прокричал тот на ухо Солонецкому, когда начальник строительства забрался к нему. – Самоуверен и азартен ваш главный инженер. Хорошо всё обошлось, но ведь могло быть иначе.
– На вашем месте я бы позавидовал. Особенно сейчас, – делая ударение на слове «вашем», ответил Солонецкий. – Теперь взрывать можно?
– Можно.
– Ну так пошли, пусть люди работают…
Когда вынырнули из полумрака туннеля в сумеречный, но всё же день, Солонецкий сказал Кузьмину:
– Записку и расчёты занесите мне сейчас. Официальное заключение геологов – как только будет готово. Ну а за то, что без моего согласия, за спиной – выговор. Устный…
Расчёты главного инженера он проверять не стал. Разложив их на столе, стал ждать заключения геологов. Наконец не выдержал, позвонил сам. Кузнецов сообщил, что трещин монолитная порода не дала, только жила и рухнула.
– Как я вам и говорил. Но, Юрий Иванович, нехорошо так, за нашей спиной…
– Перестраховываться не будете. Дерзать надо, дорогой, дерзать, время такое…
Подошёл к окну.
Разглядывая слой льда, наросший между рамами, стал думать о главном инженере. За эти месяцы они так и не нашли общего языка. Вот и этот эксперимент Кузьмин провёл без его согласия. Боялся, что не поддержит? А действительно, если бы знал, дал бы добро?.. Сейчас ему казалось, что дал бы, но это сейчас, а перед взрывом? Неужели он уже чего-то не понимает, отстал от времени? Или им, как двум медведям, в одной берлоге…
Чушь, без него Кузьмин слаб, он прекрасный инженер, но никудышний руководитель. Без него он…
Щёлкнул селектор.
– Юрий Иванович, к вам Туров.
– Пусть войдёт.
Лицо Турова было хмурым.
– Жаловаться пришёл.
Туров бросил шапку на стол, с грохотом отодвинул стул, сел.
– Ты – и жаловаться? – Солонецкий не сдержал улыбки. – Ну, это, брат, событие.
– Сам удивляюсь… А вот допёк Геннадий Макарович. Вчера, понимаешь, был он в котловане. А там отсыпку на правом берегу делали. Матюшин руководил, ну – не доглядел старик, туда КрАЗы мелочи сыпанули. А тут главный. Разносить его стал при всех, кричать. Тот ему в отцы годится – хоть к возрасту уважение иметь надо… А сегодня Матюшин на работу не вышел, ночью на «скорой» увезли – сердце.
Солонецкий прошёл к селектору, нажал на клавишу.
– Геннадий Макарович, зайдите.
– Я понимаю, всякое бывает, – устало произнёс Туров. – И накричишь порой, и обидишь, но зачем же на людях? Матюшин двадцать пять лет по стройкам…
Вошёл Кузьмин.
Солонецкий кивнул ему, приглашая присесть.
И, словно продолжая прерванный разговор, повернулся к Турову:
– Ты вот рассказывал, а я цитату вспомнил. Откуда – не скажу, не запоминаю авторов. Там что-то про русскую душу, которая любит три состояния. Вот их я запомнил точно: одиночество, мученичество, непонимание… Хлебом не корми, но дай русскому интеллигенту почувствовать себя революционером, дай ему непонимание, и он будет счастлив. Но это так, присказка… Геннадий Макарович, что у вас с Матюшиным произошло?
Кузьмин задумался.
– Не помню… Матюшин?
– Не помните, кого вы вчера в котловане обругали?.. Что же вы? Как опалубка смонтирована, как бетон уложен, как скала отсыпана – помните, а вот людей, которые всё это делают, не помните. – Солонецкий вздохнул. – Главное ведь дело, да? За дело хвалят, за дело награды дают. А за отношение к людям?.. Ничего. Даже в отчётах такой графы нет. Вы уж меня выслушайте, – предупредил он реакцию главного инженера. – Это не личное дело, далеко не личное, и я вам сейчас не нотацию читаю, а делаю замечание как начальник строительства подчинённому по существу нашей с вами работы. Мне не нравится в вас, Геннадий Макарович, этакое стремление мир по-своему перевернуть. Перевернуть – и всё, невзирая на то что люди-то все разные. Я понимаю ваши бескорыстные помыслы, ваше желание всем сделать хорошо, но ведь это утопия. Вы тоже понимаете, что для всех хорошим не будешь, и делаете скидку на пять или десять процентов несогласных с вами. И с ними, с этими процентами, вы в этом убеждены, считаться вовсе не обязательно… Вахтёр с таким отношением к людям уже опасен, а вы руководитель. Если станете министром, во что тогда превратятся эти пять процентов, а?.. Мир надо принимать таким, как он есть, и делать лучше, но не забывать, что главная ценность в этом мире – люди.
К концу монолога лицо Кузьмина стало непроницаемым. Молча выслушал, подчёркнуто официально спросил:
– Я могу идти?
– Если ничего не хотите сказать.
Главный инженер вышел.
– Машина, – вздохнул Солонецкий. – Что это, порождение научно-технической революции или новые веяния?.. Мы ведь не были такими… умными и бессердечными. Зайди к Матюшину, Сергей, и извинись от моего имени.
– Ладно, улажу… В отпуск сходил бы ты, что ли… Полина говорит, на глазах сдаёшь.
– Да уж пора, – невесело усмехнулся Солонецкий, имея в виду и отпуск, и приближающуюся старость.
– Может, не зря болтают, что он на твоё место метит?
– Не было у меня никогда такого главного…
– Ладно, разбирайся сам. – Туров поднялся. – Приходи вечерком, разыграем партию.
Солонецкий кивнул.
Оставшись один, он придвинул папки. Дел скопилось немало, и он не заметил, как пролетел обеденный перерыв. Оторвала его от работы Вера Сергеевна. Тихо вошла в кабинет, поставила на стол стакан крепкого чая, тарелку с ломтиками сыра и тоненькими кусочками хлеба. Он удивлённо поднял глаза.
– Ещё чего-нибудь, Юрий Иванович? – спросила она. – Девчата ещё не ушли, я принесу.
– Не ушли? – Солонецкий взглянул на часы. – О, так уже дело к вечеру. – Он вдруг почувствовал голод и оценивающим взглядом окинул тарелку. – Пожалуй, принесите, Вера Сергеевна. Что-нибудь поплотнее. Мяса побольше…
Но только принялся за еду, вошёл Сорокин. Помедлил на пороге:
– Можно?
– Да уж вошёл. – Солонецкий отставил стакан.
– Я всего несколько слов, – цепким взглядом окидывая стол, произнёс тот.
– Что так спешишь? – усмехнулся Солонецкий, заметив этот взгляд. – Подожди, секретарша сейчас мяса принесёт, вместе и пообедаем.
Сорокин иронию уловил, но виду не подал.
– Только что… Сыт…
– Ну тогда излагай…
После перепалки на планёрке Солонецкий стал относиться к Сорокину с настороженностью, хотя прежде их отношения можно было назвать даже дружескими. Сорокин был страстным рыбаком, и не единожды начальник строительства выезжал с ним на большой лов на Енисей. Позапрошлой осенью на них выскочил катер рыбнадзора и считаные минуты решили дело. Хотя Солонецкий не очень-то боялся, но всё-таки, прикрываясь тогда от луча прожектора, он подумал, что неприятности нежелательны. И в эти минуты Сорокин вдруг преобразился. Непостижимо быстро он пролетел с кормы в рубку, рванул ручку на полный ход и, оставив за кормой сети, их катер в пенных валах прыгнул в темноту. Потом была долгая гонка по протокам, которые Сорокин, оказывается, знал как свои пять пальцев, воспринятая Солонецким как волнующая игра. Сорокин оказался хитрее, обманул-таки рыбнадзор. До утра отстоялись в тихой протоке. Сорокин расхвастался, водил всех в машинное отделение, хлопал по железным бокам мотор, рассказывал, как ставил его, намного мощнее проектного, на это утловатое судёнышко, и вот теперь все видели, какую службу тот сослужил… Чьё было судно, инспектор всё-таки разглядел. Но Сорокин сказал, что вот уже две недели катер его управления стоит на ремонте, а команда в голос подтвердила это. Дело обошлось тем, что рыбнадзорское начальство указало Солонецкому на возможное использование катера в браконьерских целях.
– Так что за дело? – повторил он.
– Аппетит перебивать не хочу.
– Уже перебил, давай выкладывай.
– Юрий Иванович, вы знаете, что главный инженер разрешил Гриневскому вести скоростную проходку?
Надо же, с горечью подумал он, в иные времена за это хвалил бы, а тут наказывать придётся… Мальчишеская тактика у главного, всё думает, что делом потрясет и мигом всё докажет. В генералы метит, а мыслит как взводный.
Ну ладно, думал он, эти деньги я выбью, но откуда мне их дадут? Из фондов будущего года? А что в будущем году тогда делать, если уж грозятся дать меньше, чем в этом?.. Веянья такие, что и предвидеть трудно, как дело повернётся. Главк пока молчит, но если по газетам судить, никто в стороне не останется от кардинальных перемен…
– И это всё, что хотел сказать?
– Всё, – неуверенно подтвердил Сорокин.
– Я знаю об этом.
– А как же… Есть же сведения, что законсервируют нас…
– Да ты что? – нарочито удивился Солонецкий. – То-то я гляжу, ты план перестал выполнять. Откуда знаешь?..
Из стопки сводок он достал отчёт управления механизации.
– Слухи ходят, – растерянно ответил тот.
– А не поговаривают, что скоро за невыполнение плана премию давать будут, а не наоборот?
– Объективные причины… – начал оправдываться Сорокин.
– Я тебя не узнаю, – оборвал Солонецкий. – Распускаешь какие-то слухи, скандалишь, доносы пишешь…
– Какие доносы?.. Это уж, Юрий Иванович, слишком…
– Слишком… Я тоже так думаю. Вот мне и кажется, что главный инженер прав, не справляешься ты со своими обязанностями, некогда тебе.
– Жаль, Юрий Иванович, не поняли мы друг друга, – многозначительно произнёс Сорокин. – Я ведь так просто не уйду, мне есть что вспомнить, о чём рассказать…
Солонецкий даже не нашёл сразу что сказать. Он уставился на Сорокина и вдруг выпалил:
– Вон отсюда!
Тот оторопело посмотрел на него, потом медленно попятился к выходу и исчез за дверью.
Солонецкий залпом выпил остывший чай. Обхватил голову руками.
Что происходит, думал он, откуда это всё вылезло?
Или было, а он просто не замечал?..
Или это привёз Ладов?
С кастрюлей, обёрнутой полотенцем, вошла Вера Сергеевна, поставила её на краешек стола, постояла и вышла.
Он поднял телефонную трубку, набрал номер.
– Ольга Павловна? Оля, зайди сегодня вечером ко мне…
Глава 11
Из всех обвинений, которые выложил ему Ладов, Солонецкого более всего поразило упоминание о его отношениях с Ольгой Павловной. Он был уверен, что эти отношения никому не известны. И он испугался. Испугался, что вот так нелепо, не желая того, может навлечь неприятности на человека, которого уважал и который был ему дорог.
Он познакомился с Ольгой Павловной полгода назад в конце весны, когда летал в Ленинград защищать изменения, внесённые в проект. Он был тогда подавлен, угнетён одиночеством, и город – этот большой величественный город, в который он был влюблён и куда непременно раз в три года заглядывал без дел, чтобы побродить по улицам, – на этот раз показался ему серым и сумрачным. Солонецкий задыхался в нём, не чаял, как поскорее закончить дела и вырваться, но проектанты тянули с экспертизой, и он вынужден был ждать.
Стояли знаменитые белые ночи, правда, они казались бледными, ненастоящими после белых ночей Снежного. По набережным кружила молодёжь, казалось, весь город наводнен влюблёнными. От этого своё одиночество он ощущал ещё острее.
Он встретил Ольгу Павловну, когда возвращался в гостиницу после очередного визита в институт. В парке обогнал медленно идущую женщину. Его почему-то поразило это: неторопливость её и одиночество. Обгоняя, он оглянулся, встретился с её взглядом, а потом, пройдя несколько метров, опустился на ближайшую скамью, чтобы ещё раз взглянуть в её лицо. И она присела на краешек той же скамьи, стала смотреть сквозь листву перед собой так пристально, словно хотела разглядеть что-то очень важное. Он произнёс несколько фраз о быстротечности жизни и о ненужной суетности. Сказал голосом уставшего человека так, как говорят ещё не верящие в свою старость, ещё уверенные в себе мужчины молоденьким и глупеньким девочкам. Она разгадала фальшь, снисходительно улыбнулась, а ему вдруг захотелось выговориться и, не обращая внимания на эту улыбку, он стал рассказывать о себе, о жене, дочери, без которых он не может жить, но вот так нелепо сложилось, что он остался один. О том, что, может быть, серьёзно болен – обычное дело, сердце, – и если трезво смотреть на вещи, то ему осталось жить не так уж много.
– И самое страшное, я не знаю, как нужно прожить эти последние годы, – сказал он. – Я умею жить только так, как живу. Знаю, что можно лучше и, пожалуй, даже знаю, как, но мне этого не хочется, а значит, я не знаю… Конечно, человек живёт надеждой, до последней минуты, до соприкосновения с небытием, до полного ухода туда, в неведомый загробный мир, но ведь что-то должно меняться, когда он начинает понимать, что его дни сочтены. Должно… Но вот у меня ничего не меняется.
– Значит, вы не собираетесь умирать, – холодно сказала она.
Он обиделся и замолчал, решив, что больше не произнесёт ни слова, но уйдёт только после того, как уйдёт женщина. А она продолжала сидеть и смотреть в сгущающиеся сумерки, совсем забыв о нём.
Наконец он не выдержал и спросил, что она там видит.
– То же, что и вы, – ответила она и помолчав, добавила: – Хотите, я вас провожу?..
– Провожать всё-таки должен мужчина, – растерялся он от неожиданного предложения.
Они пошли к Ольге Павловне.
Была добрая старушка, Олина бабушка, и домашняя стряпня к чаю. Был полумрак маленькой Олиной комнаты и белая ночь, которую они проговорили. Вернее, больше говорил Солонецкий, и только когда за окном пробежали первые троллейбусы, он спохватился, попросил рассказать о себе.
Она неохотно сказала, что родилась, выросла и всю жизнь живёт здесь, отец погиб в море, а мать умерла, когда она училась в восьмом классе. Потом художественное училище, недолгое замужество, – оказались слишком разными людьми…
Утром бабушка накормила их бутербродами с тоненьким слоем масла и ломтиками ветчины, нисколько не осуждая ни свою внучку, ни его, седеющего солидного мужчину, и он, наверное, до конца дней своих будет помнить эту старушку, сумевшую понять их…
Так в туманные дни вплёлся один ослепительно-яркий, оставивший в душе на многие месяцы след…
А потом он неожиданно столкнулся с Ольгой Павловной в Снежном. Сначала не поверил, что это она, поразился редкому сходству, но обернувшись и встретившись с её взглядом, узнал.
Вечером они долго сидели в его кабинете. Солонецкий рассказывал о посёлке, о стройке, потом пригласил её к себе, но она отказалась. Он проводил её до общежития, нисколько не думая о том, что их видят и невесть что могут подумать.
Несколько дней он ждал её звонка, потом завертелся в делах, но как-то, когда ему опять стало тошно от одиночества, он позвал её. И она пришла. Он вёл себя как последний ловелас, а она молча слушала его болтовню, словно видела впервые, и наконец сказала:
– А я ведь вас любила в ту ночь… и потом.
– А сейчас? – спросил он.
– Теперь нет.
Сказала и ушла.
Он решил не искать её больше и постарался забыть.
…Сейчас Ольга Павловна была ему очень нужна.
Он ждал её, прислушиваясь к хрустящим шагам под окнами.
Кто-то затопал на крыльце, оббивая снег.
Солонецкий торопливо прошёл в прихожую, открыл дверь. Это была Полина Львовна.
– Студёно, – поёжилась она. – Не иначе кого ждал?
– Кого мне ждать. – Солонецкий помог снять шубу. – Шаги услышал. Сергея дома оставила?
– С внуками сидит. Галина на концерт ушла, а я вот к тебе в гости.
– Проходи.
– Да-а, без женщин вы пропадёте, – с явной гордостью за всех предствительниц своего пола произнесла Полина Львовна, придирчиво оглядывая комнату. – Паутина в углах завелась. Субботник, что ли, организовал бы.
– Паутину не трогаю. Пауки письма носят.
– Я тут постряпала немного. – Она развернула сверток. – Пирожки с капустой, творогом, мясом…
– Балуешь ты меня.
– Не обольщайся, просто похвастаться захотелось, мой Туров заелся, не ценит.
Полина Львовна села в кресло, взяла книгу, которую читал Солонецкий.
– «Организация и управление». – Вздохнула. – Все мужики одинаковы: если не рыбалка, то работа, больше ничего вас не интересует. Ты по вечерам лучше телевизор смотри, художественную литературу читай.
– Это тоже надо. Насущная необходимость.
– Нет, верить вам нельзя… У своего спрашиваю, как там Юра живёт? А он: хорошо, говорит. Вижу я, как хорошо… Галина мне взять шефство над тобой советует. Ира тоже пишет, чтобы приглядела.
Полина Львовна помедлила, потом достала письмо.
– Почитать или оставить?.. Правда, тут наши бабьи секреты.
– Ну, если секреты…
Письмо было длинным, со всеми подробностями жизни жены и дочери, с переживаниями за Танюшку, совсем переставшую слушаться мать, – завела себе ухажёра, тот длинный и глупый, но как это объяснить дочери? Мужское влияние нужно. И хотя Ирина только в самом конце спрашивала, как здоровье Солонецкого, во всём письме чувствовалось, что оно адресовано именно ему.
– Я ещё не ответила, – сказала Полина Львовна. Положила письмо на книжный шкаф. – Соберёшься лететь – к нам зайди, кое-что передам Ирише, и для Танечки у меня подарок давно лежит…
– Сама раньше слетаешь.
– Пошла я, – словно не слыша, сказала Полина Львовна. – А то мой дед там паникует, наверное…Так не забудь, зайди перед отьездом.
Солонецкий промолчал.
Оставшись один, он ещё раз перечитал письмо, жадно вникая в то, что не было написано, но что неизменно содержит любое письмо: в нём была тоска, он не мог ошибиться. Что там за длинный оболтус? – подумал он о Танином ухажёре. Подумал неприязненно, разделяя настроение жены. И слушаться перестала, от рук отбилась… И тут же ревниво признался, что рано или поздно, не этот, так другой оболтус, которому будет всё равно, сколько дней и ночей просидели они с женой над её кроваткой, сколько пережили радости и горя, уведёт Татьяну, и ни он, ни Ирина не смогут этому воспрепятствовать. Да и не должны этого делать. Они должны теперь ждать внуков. Сентиментально подумал, что у него обязательно будут внук и внучка.
Коротко пропел звонок.
Солонецкий неторопливо положил письмо, пошёл открывать.
Ольга Павловна стояла спиной к двери, облокотившись на перильца.
– Входи, – пригласил он.
Не оборачиваясь, она покачала головой, и Солонецкий поспешно накинул шубу, сунул ноги в унты и вышел на улицу.
Он догнал Ольгу Павловну, молча пошёл рядом.
На улице было пустынно, лёгкий ветерок гнал позёмку, холодным светом всё сильнее, к морозу, наливались звезды. На горизонте слабо полыхало синеватыми лентами северное сияние.
– Я первый раз вижу северное сияние, – сказала Ольга Павловна.
– Это разве сияние? Обожди, через месяц настоящее увидишь, – бодро отозвался он.
– Я не могу так планировать, – усмехнувшись, произнесла она. – Я не администратор, Солонецкий, я – художник.
– Прости, а я и забыл.
Он обиделся.
– Между администратором и художником вся разница только в том, что первый планирует на годы и месяцы, а второй – на дни и часы, – помолчав, отпарировал он.
Ольга Павловна остановилась.
– Солонецкий, я тебе не нужна сегодня?
– Нужна, – признался он. – Очень нужна, Оля.
И стал рассказывать о письме жены, словно ещё тогда, когда звонил, именно это и хотел сказать, именно ради этого и звал её. Он говорил и всё более понимал свою жестокость. Ольга Павловна ускоряла и ускоряла шаг, она почти бежала, словно от ударов, пряча голову в пушистый воротник. Он опомнился, остановил её, прижал к себе, коснулся губами её холодных губ и не отпускал, пока она не перестала его отталкивать.
– Прости, – тихо сказал он. – Прости, пожалуйста, Оля. Прости. Ты – единственный человек, с кем я могу быть откровенным до конца… Мне нужно слетать, – вдруг сказал он. – Я слетаю, и всё станет ясно, понимаешь…
– Солонецкий, я тоже люблю тебя.
– Ты поймёшь, я знаю… Вот здесь, – он приложил к груди её руку. – Здесь ещё не всё принадлежит мне одному.
– Я не хочу быть больше гордой. – Ольга Павловна уткнулась ему в плечо. – Это стыдно, наверное, да?.. Я всегда ставила независимость выше всего, но сейчас я не хочу быть гордой, хочу быть рядом с тобой. Она, если любит, прилетела бы, как я…
– Так просто бывает только в юности, – Солонецкий печально улыбнулся. – Вся жизнь впереди, а разлука страшна. Потом жизни остаётся чуть-чуть, но на обиды больше времени уходит. В юности он и она как два облачка: дунь ветерок – и могут разлететься, а с годами – как две горы…
– Красиво, – сквозь слёзы улыбнулась Ольга Павловна. – Не провожай меня дальше, Солонецкий, не надо. Я не уеду, я подожду вас. Можно?
– Оля…
Солонецкий коснулся ладонью её лица и долго стоял, боясь опустить руку.
…Утром по дороге в управление он заскочил к Туровым. Полина Львовна нисколько не удивилась раннему визиту, поставила перед ним тарелку с горячими, только со сковороды блинами, пожаловалась на мужа, убежавшего ни свет ни заря, заставила всё съесть, выпить кофе, ни о чём не спрашивая, и, когда Солонецкий одевался, вынесла перевязанную тяжёлую сумку.
– Только не бросай, – сказала она. – Там стекло есть.
Солонецкий, кряхтя, поднял сумку.
– Не повезу.
– Только попробуй.
– Ладно, Расторгуева пришлю.
– Не пришлёшь, позвоню Пискунову и так его напугаю, что он ни один борт не примет, – пригрозила Полина Львовна.
– Пришлю, пришлю.
В управлении первым делом разобрал бумаги, подписал что необходимо, написал приказ, что во время его отсутствия обязанности начальника строительства исполняет Кузьмин, и вызвал главного инженера к себе в кабинет.
– Срочно вылетаю, – сказал он. – Недели на две. В главк я зайду сам, но на всякий случай позвоните, что по семейным обстоятельствам. И ещё… – Он пристально посмотрел на Кузьмина, перешёл на ты. – В твоих руках, Геннадий Макарович, строительство. На целых две недели ты хозяин. Если веришь в себя, в свои силы, пробуй. Получится – будем работать, а нет… – Он развёл руками.
Кузьмин посмотрел на начальника строительства, и в его глазах Солонецкий прочёл много неприятного для себя. Но объяснять ничего не стал, показал, что разговор окончен…
…В последнюю минуту вспомнил и чуть не с полдороги вернулся за посылкой Полины Львовны и только в самолёте, поглядывая на белые просторы внизу, запоздало подумал, что этот самовольный отпуск может многое изменить в его жизни…
Глава 12
После северных морозов, полярной ночи и тишины Солонецкий, вдохнув тёплый воздух материка и окунувшись в городской шум, неожиданно почувствовал, как тело его наполнилось пьянящей молодостью. Многолюдье, зелёные огоньки такси, музыка, волнами наплывающая сквозь стеклянные стены ресторана «Аэрофлот», – всё это, казалось, было забыто, но сейчас он чувствовал: с толчками сердца убегали назад годы.
Это был город его юности.
Он пошёл пешком, перекидывая сумку из руки в руку, узнавая и не узнавая улицы, выученные назубок памятью, и шёл так долго, пока не устал, и только тогда остановил такси.
– Домой, – бросил по привычке и, поймав удивлённый взгляд шофёра, поправился: – В центр, по улице Маркса. Скажу, где остановить.
Мимо мелькали огни витрин, шуршали машины, перемигивались фонари – всё это возбуждало его.
…По лестнице он поднялся быстро. Даже не заметил, как проскочил десять пролётов. Поднёс было руку к кнопке звонка, но, помедлив, опустил. В правом кармане шубы, нагретый ладонью, лежал ключ. Солонецкий достал его, вставил в замочную скважину.
Замок мягко щёлкнул.
Однако что-то остановило его, и после паузы, заполненной гулкой тишиной подъезда и потрескиванием батарей отопления, Солонецкий вновь повернул ключ, положил его в карман и надавил кнопку звонка.
Открыла Ирина.
Замерла с так и не заданным вопросом на губах, растерянно произнесла:
– Проходи.
В полутёмном коридорчике он снял унты, поставил сумку, разделся. Этот вариант встречи он тоже предполагал, но когда увидел Ирину – красивую и непривычно чужую, захотелось, чтобы она встретила его так, как встречала после командировок, с радостным восклицанием, заботливыми вопросами о здоровье…
Огляделся, прошёл в комнату.
За столом сидел Ладов. Он, улыбаясь, поднялся, шагнул навстречу.
– Бог гидростроения… Надумал всё-таки прилететь…
Получилось неловко, это Ладов увидел по лицу Солонецкого, но продолжал стоять с распростёртыми объятиями.
Солонецкий молча обошёл его, сел в кресло, по-хозяйски вытянул ноги в белых шерстяных носках.
– Не помешал? – спросил, окидывая взглядом стол, на котором среди тарелок возвышалась начатая бутылка коньяка.
Ирина опустилась напротив, не сводя с Солонецкого глаз.
Паузу прервал Ладов.
– Знаешь, какой скандал Нина устроила, когда я привёз галстуки обратно? – весело начал он. – Ты уж не подведи, я на тебя сослался, мол, отказался, не носит…
Ладов предлагал забыть обо всём, что произошло между ними.
– Коньяк армянский где достаёшь? – спросил Солонецкий, наливая в рюмку. – По знакомству, не иначе. Не боишься?
– Боюсь?.. Чего?.. А, ну да… Это он мне не может простить анонимку, – повернулся Ладов к Ирине, – словно я её сам написал.
– А я слышал, ты заболел.
– Вчера только эскулапы выпустили, вот зашёл о тебе рассказать.
– Как ты живёшь? – негромко спросила Ирина.
– А вот он всё и расскажет…
– Я же тебя спрашиваю.
Солонецкий взглянул на часы.
– Боюсь не успею, самолёт скоро.
– Какой самолёт? – В её голосе он услышал недоумение.
– Я проездом. В командировку.
– В командировку? – удивился Ладов. – А я и не слышал.
– Не успел. Ничего, скажут…
– Далеко?
Солонецкий не ответил, отпил коньяка.
– Татьяна где?
– На даче у подружки, – торопливо ответила Ирина. – День рождения отмечают.
Солонецкий поднялся.
Прошёл по комнате, разглядывая расставленные портреты его взрослой дочери. Сердце уже не металось в груди, а неслышно, хотя и болезненно, исполняло свою работу. И даже мысль о том, что Ирина, скорее всего, не ждала его и, может быть, даже стала любовницей Ладова, не сводила с ума, как это было только что. Он почему-то был уверен, что в этом доме он всегда будет хозяином, как до конца своей жизни он будет иметь полное право являться сюда в любой час к своей дочери. Даже если этого не захочет Ирина.
– Далеко дача? – спросил он.
– На электричке больше часа. – Ирина не спускала с него глаз.
Ладов неприкаянно листал книгу.
И то, что он не уходил, укрепило подозрения Солонецкого.
– Да-а… Печальная история, – невпопад произнёс он, рассеянно оглядывая комнату. – Нежданная встреча, тяжёлое свидание…
– Может, завтра улетишь? – Ирина поймала его взгляд.
– Мне пора, – поднялся Ладов. – Нина уже волнуется, загостился я…
– Погоди, – остановил его Солонецкий. – Я всё-таки думаю, что ты не такая дрянь, чтобы спать с моей женой и пить со мной коньяк… Молчи. Может, я не прав, но уж говорю то, что думаю. Я мог бы остаться. – Он бросил взгляд на Ирину. – Мог бы, но тогда это был бы не я… – Он понимал, что эти слова обидны для Ирины, что она не простит их ему, но он говорил, и спадала тяжесть с сердца – свою боль он перекладывал на неё. – Скрывать не стану, – поймал он взгляд жены, – летел я к тебе и к дочери. Знаешь, о чём мечтал? Чтобы дверь открыла и обняла… Остаться могу, но мучиться буду, потому что не верю… Ладов знает, наверное, прав я или нет.
Одеваясь, он старался не смотреть на Ирину.
Ладов вышел в прихожую, стал тоже одеваться, что-то наговаривая тихим голосом, словно врач, успокаивающий больного.
Ирина молча смотрела на Солонецкого.
Потом, когда он уже поднял руку, прощаясь, она сказала устало и так уверенно, что Солонецкому стало страшно за всё, что он сейчас наговорил и что делает.
– В следующий раз, Юра, открывай дверь своим ключом.
Он не нашёлся, что сказать в ответ, и торопливо сбежал по лестнице.
– Подожди! – догнал его Ладов. – Морду тебе набить надо, самодур. Погоди, говорю!
У подъезда Солонецкий остановился, глубоко вздохнул, бросил под язык таблетку нитроглицерина и ещё раз вдохнул городской воздух, пахнущий выхлопными газами и заводским дымом.
– Что ты делаешь?! – кричал Ладов. – Иди сейчас же обратно, слышишь! Ну я – ладно, я в твоих глазах подлец, но она-то при чём?.. В конце концов, что ты знаешь и обо мне, что?! Кто ты, царь? Бог? Все вокруг виноваты, только ты всегда прав, только ты святой… Я-то знаю…
– Что ты знаешь? – Солонецкий поддел Ладова за отвороты пальто, подтянул к себе. – Что ты знаешь? Да, у меня есть любовница! Если ещё не донёс, доноси!
– Сволочь ты, – спокойно сказал Ладов.
Солонецкий заскрежетал зубами, отпустил Ладова и равнодушно произнёс:
– Одного не пойму, как ты можешь жить… без хребта…
Он побрёл по улице.
Ладов шёл следом, останавливая такси. Наконец одна машина притормозила. Он указал шофёру на Солонецкого, отдал деньги и пошёл в другую сторону.
Ничего не замечая вокруг, чувствуя только болезненную тяжесть в левой части груди, Солонецкий шёл, пока обогнавший его таксист не догадался выйти из машины и открыть перед ним дверцу. Он долго добивался от пассажира, куда ехать, и не добившись, начал волноваться, пока Солонецкий не протянул ему четвертную. Они заколесили по городу, и таксист уже почтительно поглядывал на чудака.
Пассажир начал вроде заговариваться, но таксист знал, что такое бывает с людьми с перепою, и не волновался.
– Паскудная это привычка, понимаешь, паскудная, – говорил шёпотом Солонецкий, пытаясь забыть о боли в сердце. – Не надо ничего планировать, где начало, где конец, никто не знает… Просто жизнь, просто жизнь… Паскудная привычка, всё сначала.
Мимо проносились разноцветные огни машин и яркие окна домов. И вдруг Солонецкий отчётливо понял, что боль пройдёт только там, в Снежном, и заторопился.
– Гони! – приказал он шоферу.
И тот, удивившись его ясному и трезвому голосу, повернул к аэропорту.
И с удивлением проводил взглядом взбегающего по бетонным ступеням пассажира.
Когда таксист сдавал смену, зевая и предвкушая вкус законных ста граммов и тепло постели, его пассажир уже подлетал к Полярному кругу. Съёжившись в холодном транспортном самолёте, согреваясь глотками кофе, предложенного пилотами, Солонецкий не смыкал глаз до этой границы дня и ночи и только потом спокойно, с улыбкой, заснул.
Глава 13
Разрубая винтами звонкий промороженный воздух, вертолёт взял курс на белые вершины Путоран. На развороте мелькнул под шасси занесённый снегом посёлок с чёрными пятнами свежих отвалов и исчез. Внизу до самого горизонта раскинулась тундра, сверкающая льдом озёр, болот и разбитая редкими островками деревьев. А потом и перелески остались позади, только голая пятнистая пустыня поплыла в иллюминаторе. И вот внизу белоснежное горное плато.
Вертолёт круто накренился, юркнул между двумя голыми вершинами, полетел вдоль узкой, зажатой между скалами, реки. Через несколько минут впереди, посреди островка низкорослых деревьев, показалась избушка.
Солонецкий прикинул рюкзак на вес, взял в руки ружьё.
Подняв снежную бурю, вертолёт коснулся колёсами наста.
Из кабины спустился пилот, распахнул люк, прокричал:
– Когда за вами прилететь, Юрий Иванович?
– Через недельку, – ответил Солонецкий и спрыгнул в неожиданно глубокий снег.
Пилот протянул лыжи. Он положил их перед собой, с трудом вытаскивая из снега ноги, встал на них и тут увидел возле зимовья человека. Махнул пилоту, чтобы тот нагнулся, спросил:
– Спирт есть?
Тот кивнул.
– Тащи, Аввакум здесь.
Потом кинул в рюкзак поданную флягу, подождал, пока утихнет ветер от поднимающегося вертолёта, и заскользил на лыжах к избушке.
Когда он вошёл в протопленное, пахнущее сосновой смолой, раскалённым металлом, сопревшей кожей жильё, вертолёта уже не было видно.
– Есть будешь? – спросил Аввакум, освобождая угол на полатях.
– Сыт. Там спирт во фляге, возьми.
Солонецкий скинул шубу, оставшись в толстом свитере, меховых штанах и оленьих унтах. Прошёлся по зимовью, глянул в заиндевевшее окошко.
– Давно тут не был. А я думал, ты по дороге на материк к нам заглядывал…
– Собирался.
– И что же?
– Рано. Зимы не хватило.
Для чего не хватило зимы, Аввакум объяснять не стал. Он вышел на улицу, в зимовьё долетели хлёсткие выстрелы раскалываемых поленьев.
Солонецкий развязал рюкзак и стал выставлять на стол консервные банки. Достал из кармана шубы оленёнка, вырезанного из моржового клыка, который вёз в подарок дочери, положил на стол, потом передумал, повесил как медальон под свитер. Подумал, что всё складывается как нельзя лучше, и туман, накрывший Снежный, надо хвалить, а не ругать. Напрасно он сердился на лётчиков, завёзших его на Диксон. Оттуда он хотел лететь домой, но, сидя в аэропорту, вспомнил о последнем разговоре с главным инженером. Договорился с вертолётчиками, позвонил Турову, тот передал ему всё необходимое для охоты – и вот он сидит в избушке в отрогах Путоран.
Вернулся Аввакум, распахнул дверцу металлической печки, подбросил дров. Пламя жадно загудело, и Солонецкий с удовольствием прислушался к этому неудержимому гуду.
– Не одичал ещё? – спросил он. – Хотя, что я говорю, ведь недавно тебя видел…
– Ну да, месяц назад.
– А у меня такое ощущение, что по меньшей мере полгода пролетело…
Аввакум достал из ящика, прибитого над полатями, ещё одну кружку, налил в неё спирту, подовинул Солонецкому. Себе налил чаю, плеснул в него немного спирта.
Солонецкий открыл банку тушёнки.
– Давай за встречу.
Отпили по глотку.
Аввакум пожевал немного тушёнки, Солонецкий есть не стал, закурил сигарету. Он попросил её у вертолётчиков, чтобы выкурить, когда разожжёт огонь в печи. Не думал, что неделю, которую собрался провести здесь, будет не один. Теперь, глядя в спокойное лицо Аввакума, ощущая уют и защищённость здесь и неуютность холодного мира за стеной, радовался, что одиночества не будет.
Докурив сигарету до фильтра, спросил:
– Фартит?
– Немножко есть.
– Другой бы на твоём месте давно мешок денег заработал, а ты вот никак…
– Мы с тобой уже говорили об этом.
– Счастливый ты человек, – вздохнул Солонецкий. – Запросы у тебя маленькие.
Аввакум промолчал.
Принёс в котелке снега, поставил на печку. Стекающие капли шипели, жемчужными шариками катались по раскалённой поверхности и таяли на глазах.
– На что же тебе зимы не хватило? – полюбопытствовал Солонецкий.
– Книгу пишу.
Аввакум глядел в приоткрытую дверцу.
– Ну-ну… – неопределённо произнёс Солонецкий, ожидая, что Аввакум расскажет, о чём же он пишет. Но тот молчал.
– А у меня вот главный инженер новый, слыхал?
– Сам же и говорил, – улыбнулся Аввакум.
– Склероз. – Солонецкий поудобнее устроился на полатях. В тепле его разморило и хотелось говорить. – Молодой, из революционеров. Ты вот в созерцание ударился, а он – другой породы. Об этом я тебе не говорил… Одногодки вы, между прочим… Слушай, ты в снах разбираешься? Сон мне снился. Глупый, конечно, сон. Будто гнался он за мной, убить хотел. К чему бы это, а?..
– Плохие сны, говорят, к добру.
– Оптимист, – вздохнул Солонецкий. – Или меня успокаиваешь? – Скинул унты, пролез в угол полатей, раскинулся на спине. – Я у тебя недельку погощу, не возражаешь?
– Радуюсь.
– То-то я гляжу, говорить скоро разучишься… Там главный инженер за меня остался, он мужик отчаянный, справится… Слушай, а у тебя рации случайно нет?
– Нет.
– А как же ты без рации… Вдруг заболеешь, или на охоте что случится…
– Не думал об этом.
– Здоровый, значит. Ну ладно, вздремну я, пожалуй.
Солонецкий отвернулся к прокопчённой стене, закрыл глаза и провалился в сон.
…На следующий день они поднялись вверх по речке до пустынных плоских вершин Путоран. Здесь у Аввакума стояли ловушки на песца, и в двух были замёрзшие зверьки. По пути, пряча улыбку в русой бороде, Аввакум несколько раз указывал Солонецкому на куропаток. Тот с азартом разряжал оба ствола, и вскоре его ягдташ внушительно оттопыривался.
Двухчасового декабрьского света только и хватило, чтобы подняться вверх и вернуться обратно. К зимовью вышли уже в темноте. Солонецкий, довольный охотой, был возбуждён и говорлив. Пока он колол промёрзшие поленья, Аввакум ощипал куропаток. Печка накалилась быстро, от её зардевшихся стенок в зимовье висел колеблющийся полумрак.
– Я бы, пожалуй, тоже книжку написал за зиму, – сказал Солонецкий. – В такой тишине да одиночестве хочешь не хочешь философствовать начнёшь. Только вот какая получилась бы, не знаю…
Аввакум пожал плечами.
– У каждого своя. Как жизнь.
– Да, – глубокомысленно согласился Солонецкий. – Всяк по-своему думает… После института меня на три месяца на военные сборы забрали. От молодой жены, из города в голую степь. На пятьдесят верст вокруг ничего. А посередине – несколько сот мужиков. От тоски да желаний взвоешь. Сначала так и было, а потом привык, даже нравиться стали построения, переклички, форма, разносы комбата… Прощались со слезой. Теперь вот вспоминаю эти три месяца – непонятно что, а волнует. Хотя я человек сугубо цивильный…
– Любая организация сначала отталкивает подавлением воли, а затем привлекает возможностью исполнять приказы, не думая.
– Это ты загнул, – не согласился Солонецкий. – Может, винтиком ты и становишься, но не бездумным. Я даже так мыслю, что в армии ты постоянно сопротивляешься насилию, и это сопротивление тебе потом и приятно. Ощущение своей крепости. И ещё: там женщин нет и все связанные с ними эмоции атрофируются. А освободившаяся энергия расходуется на другое…
– Может быть, – равнодушно согласился Аввакум.
– Ты ведь не служил?
– Нет.
– Оно и видно, – удовлетворённо произнёс Солонецкий. – Я и охоту люблю за мужскую фантазию. Деньков десять охоты – на год воспоминаний… Слышь, Аввакум, а у тебя жена есть?
– Может и есть.
– Давно не виделись?
– Как сюда уехал.
– И не пишет?
– Нет.
– А ты?
– Высылаю деньги, когда есть.
– Не возвращаются?
– Нет.
– А ты её любишь?
Аввакум молча помешал угли в печке.
– А я ведь о тебе ничего не знаю, – задумчиво сказал Солонецкий. – Да и ты обо мне… Встретились, спим рядом, едим за одним столом, мёрзнем вместе, а что было до этого у каждого – не знаем… Так что прости уж, если излишне любопытен.
– Я понимаю… Только порой ненужное знание тяготит…
– Это нам не грозит… Это среди идеалистов бывает, а мы – материалисты.
Аввакум промолчал.
Раскинул шубу на полатях, лёг.
– Давай спать.
Через минуту он уже спал, а Солонецкий долго лежал, прислушиваясь к ночным таинственным звукам и пытаясь представить Аввакума в другой обстановке. Например, на берегу тёплого моря, под жарким солнцем. И ничего не получалось.
…Утром потянул ветерок с Ледовитого океана. Его остроту Солонецкий и Аввакум почувствовали, только уже поднявшись на перевал. Поглядывая на снежную дымку, завихрившуюся у краёв плато и над хребтом, Аввакум остановился.
– Пурга идёт, – сказал он. – Надо возвращаться.
Солонецкий приложил к глазам бинокль. Укороченное линзами расстояние уничтожило всю загадочность задымившихся гор. Он хотел возразить, но одумался, понимая, что Аввакум прав.
Вдруг взгляд споткнулся: на оббитом ветрами склоне – казалось, рукой подать – стоял снежный баран.
Солонецкий замер, боясь пошевелиться, потом опомнился, чертыхнувшись, подал бинокль Аввакуму:
– Раз в жизни бывает такая охота! – сказал Солонецкий, вкладывая в эту фразу всю охотничью страсть.
Аввакум поднёс к глазам бинокль, оглядел горизонт, взглянул на Солонецкого и махнул рукой.
– Ладно, рискнём!
Солонецкий с трудом поспевал за ним, хотя шёл по проторенной лыжне. Кроме спины Аввлкума и снега, он ничего не видел. Но Аввакум вдруг повернулся, показал рукой вправо, и он, сразу утонув в снегу чуть не по колено, стал по дуге обходить выступ скалы, не спуская глаз с видневшихся над ним рогов и боясь только одного – как бы не опередил его Аввакум. Вдруг рога дёрнулись, донёсся звук выстрела, и в нескольких метрах от Солонецкого пролетело выгнутое стремительное тело. Он выпалил из двух стволов. Сбоку рванул порыв ветра, закрыв всё снежной пеленой.
Шумно дыша, пробежал мимо Аввакум.
Снова они увидели барана на другом склоне.
Тот неподвижно стоял и смотрел в сторону невидимого океана. Теперь уже горизонт не был так далёк, как раньше, тёмно-серая мгла висела над вершинами.
– Хоть посмотрели, – вздохнул Солонецкий, понимая, что больше медлить нельзя, но желая ещё догонять, скрадывать, стрелять…
Снежный баран поднял голову и исчез за скалой…
Пурга застала их на склоне. Сразу стало шумно и темно. Всё вокруг задвигалось, закрутилось. Аввакум, протянув Солонецкому конец шнура, бежал ещё несколько минут, угадывая лыжню, потом пошёл медленнее, останавливаясь, вертя головой во все стороны, словно что-то вынюхивая.
На деревья, росшие вдоль реки, они наткнулись, когда Солонецкий уже был уверен, что они заблудились. Но, сидя под обрывом в затишье, Аввакум, улыбаясь в промёрзшую бороду, поднял руку, давая понять, что всё хорошо, и не спеша двинулся по распадку…
Ночью, слушая ровный голос гудящей печки и взвизгивание пурги за стеной зимовья, разомлевший от тепла, Солонецкий сказал:
– С собаками бы взяли.
– Отдал я их, – вздохнул Аввакум. – Уезжать собирался.
– А может, это и лучше. И так мы с тобой чуть браконьерами не стали, снежный баран – редкость, на него охота запрещена.
– Неужели тебя мучают угрызения совести? Ты же здесь бог и царь, – с иронией произнёс Аввакум.
Но Солонецкий не обиделся.
– Потому и мучают, что хозяин я в здешней округе. К тому же ты явно отстал от жизни, – поддел он в отместку. – Теперь премиальные не за шкурки, а за упущенное зверьё дают. И матушку-природу мы больше не покоряем, мы к ней подлизываемся.
– Ну, ты-то уж не подлизываешься…
– А я что… Воюют два лагеря, – почти засыпая, говорил Солонецкий. – И пусть себе воюют, у них там действительно, сплошной асфальт и смог… А мы вот сидим с тобой в зимовье, у чёрта на куличках, дичи поели… Рассуждаем. Для нас с тобой сейчас проблемы защиты природы не существует, потому что кругом на сотни вёрст – снежная пустыня. И покорять вроде нечего, и защищать… А вот выживать надо каждый день. У нас другие проблемы… Может, эта и придёт позже… А пока вот я думаю, если эта пурга надолго, то дело дрянь… Аввакум, у меня там стройка, люди… Аввакум, я для них эту ГЭС строю…
– Спи.
– Устал я действительно…
Солонецкий отвернулся к стене.
Аввакум подбросил дров в печку, накрыл Солонецкого шубой, сел перед приоткрытой дверкой.
Наверное, это хорошо – знать без сомнений, для чего живёшь, подумал он.
А для чего живёшь ты, Алексей Новиков, тридцати лет от роду, сбежавший от проблем мира?
Чтобы постичь истину.
И это для тебя важнее всего. Ибо что значит – жить для людей? Кто знает ответ на этот вопрос? Нужно ли им то, что делает Солонецкий? А если и нужно сегодня, то нужно ли будет завтра?..
А истина нужна всегда.
И жизни человеческой хватает лишь на один шаг вперёд, к истине… И это – счастье.
Он, Алексей Новиков, иначе Аввакум, сделает этот шаг. Не для людей, для себя.
Но кто знает, может быть, знания об этом шаге будут людям гораздо нужнее всех гидростанций, построенных Солонецким.
Но об этом думать нельзя, ибо это – уход от истины…
Аввакум лёг рядом с Солонецким и стал наблюдать за отсветами на стенах, похожими на огненных неведомых зверей…
Глава 14
На следующий день после отъезда Солонецкого Кузьмин подписал приказ об отстранении Сорокина и назначении вместо него Божко начальником управления механизации. Ждал, что Сорокин придёт к нему для объяснений, но тот не появился ни в этот, ни на следующий день. И только когда Божко, сдав участок, пошёл принимать дела, оказалось, что кабинет Сорокина закрыт и ключей нет. Не зная, что делать, Божко позвонил главному инженеру.
– Ломайте, – приказал тот.
– Но как же так…
– Это не квартира, это служебный кабинет начальника управления, которым назначены вы. И больше по пустякам мне не звоните, принимайте решения самостоятельно.
Кузьмин опустил трубку.
Посидел, упёршись ладонями в стол, отбрасывая всё второстепенное и определяя главное, что нужно сделать за эти две недели.
Это был его час. Час, которого он так долго ждал…
Со студенческой скамьи, с первых студенческих практик, сталкиваясь с косностью, неверием, консерватизмом, видя, как пылится на складах новое оборудование, как от безделья перемывают косточки друг другу сослуживцы в отделах, он накапливал злость. Сначала критиковал, выступая на производственных совещаниях и конференциях, по-максималистски веря, что и словом можно изменить положение, но скоро понял: доказывать нужно делом. Своими предложениями по усовершенствованию работы засыпал вышестоящие инстанции. Его хвалили. Его идеям удивлялись. Брались внедрять, но шло время и находилось множество причин, мешающих это сделать. И тогда он пришёл к выводу: для того, чтобы доказать делом, нужно иметь власть и относительную свободу. Он отказался от аспирантуры, удивив этим знакомых, ибо отказывался от благополучия, а это привилегия людей неразумных: прослыл бескорыстным, подвижником, хотя никогда не относил себя к этой категории людей…
И вот наконец пришёл его час.
Он приказал поставить на забой в тоннеле новые буровые станки, которые Солонецкий берёг как резерв. Ввёл четырёхсменную работу в котловане. Выделил новый участок комплектации материалов на основных сооружениях, который должен был снять проблему с неритмичностью работы. И это было только начало задуманных перемен.
Кузьмин спешил, понимая, что начальник строительства дал ему шанс, исходя из каких-то своих соображений. Он знал об угрозе консервации, догадывался, что Солонецкий ведёт свою, непонятную ему, но, несомненно, направленную против этого решения борьбу, в которой любой промах может быть использован сторонниками консервации, поэтому медлить не мог. И верил, что победителей не судят.
Стремительность решений главного инженера ошарашила всех. Безмолвное ожидание их последствий готово было вот-вот взорваться какой-нибудь неожиданностью. Все ждали возвращения Солонецкого. Но природа стала союзницей Кузьмина. Чёрная пурга, гостья в этом году ранняя, отрезала посёлок от мира, и уже никто не мог ему помешать. Главного инженера видели в котловане, в машинном зале, на порталах, в тоннеле. Казалось, он был везде.
Он ещё больше похудел, почернел и охрип.
Вьюжным вечером, когда он сидел в кабинете, один-единственный на всё управление, в коридоре раздались гулкие шаги и вошёл Костюков. Отряхнул снег, поёжился, удивляясь погоде и, раздевшись, присел к столу.
– Отдохнуть вам надо, Геннадий Макарович, – сказал он, показывая, что настроен на долгий разговор. – Совсем вымотаетесь, пока Солонецкий вернётся. – Выжидающе посмотрел на Кузьмина и продолжил: – Впрочем, вы ещё молоды, здоровья у вас хватит… А вот наш бог, наш царь Солонецкий уже сдаёт. Сердце, знаете ли… Какие его годы, а вот пожалуйста, надорвался. Ему бы в тихое место, на спокойную работу. Моя бы воля, я вообще на ответственные посты больных людей не назначал. И для человека лучше, и для государства… Но наш Юрий Иванович доброй волей, конечно, не уйдёт, привык к власти… Считай, двадцать лет всё по медвежьим углам, где выше него никого не было. Гости да проверяющие приедут и уедут, а он остаётся. Он всё решает, кого повысить, кого понизить, кому оклад побольше, кому поменьше, кому помочь, а кому и наоборот…
Кузьмин потёр лоб ладонью. У него разламывалась голова, и он с трудом понимал Костюкова.
– Может, таблетку? – участливо подался тот вперёд. – Давайте ко мне в гости, у меня чудодейственные есть…
– Спасибо, Илья Герасимович, у меня сейчас не гостевое настроение.
– Ну, как знаете.
Костюков помолчал, пытаясь догадаться, как воспринимает его визит Кузьмин. Он не хотел рисковать.
– Ничего, если я закурю? – достал он сигарету.
– Курите.
Костюков собирался с мыслями.
Вступаться за Сорокина – глупо, прикидывал он. Сейчас нужно думать о себе. Солонецкий ему не помощник, в этом он уже убедился, и этот мальчишка тоже ничем пока не поможет. Но если дело выгорит – не сносить Солонецкому головы. Не сносить, твёрдо решил он. И тогда мальчишка вполне может стать начальником строительства. Он молод, у него хорошее серое вещество, и он далеко пойдёт.
– Вы не находите, что ваши – я совершенно искренне говорю – очень грамотные начинания столкнутся с сопротивлением по причинам, не зависящим от нас с вами? – спросил он.
– О чём вы? – буркнул Кузьмин, и Костюков понял, что тот не хочет говорить на эту тему.
– Да, действительно, вы и так устали, – поспешно перевёл он разговор. – Гулял по улице, я, знаете, метель люблю, ветер… Смотрю, светится окно, вот и заглянул… Солонецкий так поздно не задерживается, он считает, что нужно всё успевать делать в рабочее время. Правда, это не соответствует истине. Он многое не успевает делать. Ни в рабочее время, ни после… Не удивляйтесь, что я всё о нём и о нём, вам же нужно отдохнуть, вот я и говорю, что на ум придёт… Женщин он любит… Но это мелочи, конечно, мы все их любим… – Костюков улыбнулся. – Главное, выдохся старик. Да тут ещё этот сыр-бор…
Чем дольше он говорил, тем мрачнее становился Кузьмин.
Костюков чётко уловил перемену настроения, оборвал фразу, так и не закончив, поднялся:
– Не буду больше отвлекать. Мне пора.
И не одеваясь, держа шубу в руках, вышел.
Костюков, несомненно, прав в одном, подумал Кузьмин. Он прав в том, что возраст надо учитывать. И хотя начальник строительства прежде не казался ему стариком, он подумал, что, может быть, именно консервативность, инертность возраста мешают Солонецкому понять его.
Оделся, вышел на улицу.
Ветер с размаху швырнул в лицо снег. Он переждал порыв, отдышался, нахлобучил шапку, поднял воротник и, преодолевая упругую снежную стену, двинулся вперёд.
Качались уличные фонари, расплывчатыми тусклыми пятнами виднелись окна домов. Он шёл и думал о Божко. Вроде неплохо тот начал, энергично, но не бывает же так, чтобы всё хорошо. Вот и вчера два бульдозера, чистившие дороги, вышли из строя, через полчаса их замело и движение прервалось. Прибежал Гриневский, проклиная связистов, механизаторов, пургу, всех скопом, и Кузьмин поддался его настроению, выговорил Божко.
Сегодня он узнал, что тот всю ночь сам помогал ремонтникам. К утру дорогу расчистили, вытащили заметённые машины, а сразу после планёрки Божко на аэросанях выехал на ЛЭП… Не жёстко ли он поступил? Надо ведь было учесть, что тот только приступил к новым для него обязанностям… И тут же возразил себе: Божко молод, не надо ему давать привыкать к послаблениям, к ссылкам на объективные причины, непредвиденные и неучтённые обстоятельства.
В своё время Кузьмин был поражён неожиданным своим открытием: большинство руководителей, которых ему приходилось видеть, без стеснения ссылались на непредвиденные обстоятельства, тем самым признавая свою низкую квалификацию – ведь руководитель должен уметь предвидеть и устранять эти самые обстоятельства… Нет, он прав, пусть Божко сразу привыкает работать так, как того требует время…
Он вошёл в ресторан, сел за свой столик, отодвинул табличку «служебный» и стал постукивать по бокалу.
– Я жутко голоден, – сказал он подошедшей Валентине.
В ресторане было занято всего несколько столиков.
Его узнавали, издали кивали головой, отводили взгляды.
Он пересел на другой стул, спиной к залу. Теперь взгляд упирался в стену с неестественно синими пингвинами, прохаживающимися среди торчащих льдин – полотно самодеятельного художника.
За окном что-то ярко вспыхнуло, затрещало, и свет в зале погас.
– Ой! – раздался в темноте голос Валентины.
– Идите сюда, – позвал Кузьмин и, шагнув вперёд, упёрся в поднос. Он не видел Валентину, но слышал её дыхание, как ему казалось, испуганное и, забирая поднос, коснулся её горячих рук.
– Я принесу свечку, – сказала она.
Кузьмин поставил поднос на стол и вслед за возбуждённо переговаривающимися посетителями вышел на крыльцо.
В ближайшем доме окна светились.
– Коротнуло где-то, – раздался чей-то голос.
Потоптавшись, все опять вернулись в ресторан. Кузьмин прихватил снег с перил, попытался слепить снежок, но снег хрустел и рассыпался. Он несколько раз глубоко вдохнул холодный воздух и пошёл следом.
В зале уже горели свечи, гул голосов стал громче, выдавая возбуждение от происшествия и неожиданной экзотики. Звонче стучали бокалы.
Кузьмин подвинул тарелку, но есть так и не стал.
Подошла Валентина.
– Что-нибудь нужно? – спросила она.
– Знаете что, Валечка, – сказал он, – я очень хочу есть, но здесь мне неуютно, дома одному тоже. Я хотел бы пригласить вас в гости…
– Меня не отпустят, – растерянно произнесла она.
– Я попрошу. – Кузьмин встал.
– Нет-нет, не нужно. Я сама… Только я позже, хорошо?..
Дома он наскоро навёл порядок, сложил в стопку разбросанные по комнате книги, поставил чай. Он волновался, хотя не мог понять, почему. И зачем пригласил Валентину, тоже не знал, просто захотелось с кем-нибудь поделиться тем, что его волнует…
Раскрасневшаяся Валентина напомнила ему Снегурочку. И он сказал ей об этом.
– Вы любите метель? – спросил он, помогая снять пальто.
Она покачала головой, и Кузьмин искренне удивился.
– Как можно, это же сила, энергия… Вы где родились, Валя?
– Здесь, в Сибири, под Красноярском.
– А я в Смоленской области. Есть такая река там, Западная Двина, слышали?
– Нет.
– А Даугава?
– В Риге протекает, я была там.
– Так это и есть Западная Двина. В Латвии её Даугавой называют. У нас прекрасные зимы, Валечка, солнечные, снежные. И метели… За ночь такие сугробы наметает, ого-го…
– Больше чем здесь?
– Тогда больше были, – улыбнулся он и спохватился: – Заговорил вас, проходите.
Он чувствовал себя неловко, боялся, что Валентина по-своему истолкует этот вечер, его приглашение. Да, она ему нравилась, но не больше многих других женщин. Сейчас ему хотелось просто разрушить тишину и пустоту своего дома, и Валентина была единственным человеком, которому он мог бы высказать все свои мысли… Нет, была ещё жена… Но так далеко.
– Я сухарь, да, и вдруг такое… – неуверенно произнёс он.
Валентина подняла глаза, казалось, с укоризной посмотрела на него.
– Простите, я сегодня делаю глупости, это всё пурга…
– Пурга – это плохо.
– Почему?
– Почты нет, – сказала она. – Кто-то ждёт очень важных писем, а они будут неделями лежать и стареть.
Он прочёл в её глазах то, о чём она не сказала.
– Давайте не будем сегодня о почте. У меня была трудная неделя, и я хочу просто поболтать.
– В посёлке только и говорят о вас.
– И что же говорят?
– Разное.
– Мне интересно, – произнёс Кузьмин, не сумев скрыть раздражения. И повторил: – Мне очень интересно…
– Я пойду?
– Я не хотел вас обидеть, – он взял её за руку. – Но я терпеть не могу сплетен, а здесь все этим только и занимаются.
– Вы жестокий человек.
– Почему?
– Вы плохо думаете о людях.
– Вот как?.. Хотя вы, наверное, правы. – Кузьмин нервно прошёлся по комнате. – Я плохо думаю о некоторых из них, потому что прожил и видел больше… Только я прошу вас, не обижайтесь… Мы живём в этом мире ради дела, я уверен в этом. Ради большого или маленького, но дела. Остальное – приложение к делу. Но за свои тридцать с лишним лет мне не приходилось встречать человека, который понимал бы это так, как я. Вот и вы, я вижу, не согласны со мной. Не согласны, что по своей сути люди ленивы. Они ловчат, мечтают об одном: чтобы меньше делать и больше иметь. Вы скажете, что не все так думают? Может быть, но примитивных больше, чем хотелось бы. Нет, я не против материальной заинтересованности, пусть зарабатывают, пусть копят, но и пусть дело делают. Честно, на совесть…
Валентина взглянула на него. Она надеялась увидеть в его глазах интерес к ней, понимание, как он ей дорог, но он продолжал говорить, не замечая её взгляда.
– Вы любите жену? – вдруг перебила она.
Он растерянно замолчал.
– Зачем вы позвали меня?.. Вам нужно было поднять настроение, чтобы завтра вы смогли хорошо делать своё дело? Вам понадобилась влюблённая дурочка, которая готова пойти за вами куда угодно, ничего не требуя, ни на что не претендуя? Которая даже не смогла уехать от вас. А что у этой дурочки есть сердце, что она живая, об этом вы не подумали?.. Пустите! – почти плача, крикнула она.
– Я не держу, – растерялся Кузьмин.
– Пустите! – повторила Валентина и, закрывая лицо ладонями, быстро пошла к двери.
– Вы не так меня поняли, – бормотал он. – Я не думал об этом, я…
Валентина подхватила пальто и, не одеваясь, выбежала на улицу.
Кузьмин потёр виски.
Голова раскалывалась.
Вышел на крыльцо, не зная, что он должен делать.
Постоял, вглядываясь в снежную круговерть, пока не почувствовал, что промёрз, и вернулся в дом.
Глава 15
Больше всех проклинал пургу Сорокин. Каждый день промедления играл против него, мучая сомнениями в правильности того, что он сделал.
Сразу после приказа об отстранении от должности он встретился с Костюковым. Разговор его огорчил. Костюков юлил, советовал не торопиться, не рубить сгоряча все концы. Сорокин понял, что тот заботится о собственной шкуре и надеяться на помощь не стоит. Он знал, что у Костюкова наверху есть поддержка, и если Солонецкий не устоит, начальником строительства может стать именно он. У Сорокина такой всемогущей руки не было. Всё, чего он добился в жизни, было собственной заслугой. Правда, если быть искренним до конца, то немалую роль в этом сыграло его умение хорошо организовывать охоту или рыбалку для наезжавшего начальства. Солонецкий тоже не отказывался от его услуг, но и после вечеров, проведённых вместе у костра, не делал на работе никаких скидок. Обманчивая, на первый взгляд, податливость начальника строительства оказалась на самом деле умением делить отношения на чисто человеческие и служебные. На главного инженера Сорокин никогда ставки не делал, не верил он в Кузьмина и сейчас. И всё же к концу недели он пожалел, что не сдал как положено управление Божко и тихо-мирно не дождался Солонецкого, показывая тем самым своё послушание и своё понимание неразумности произошедшего. Но сделанного не воротишь, оставалось только ждать. Ждать и надеяться, что Кузьмин наделает глупостей.
Пурга не стихала.
В воскресенье Кузьмин выехал на основные сооружения. Встречные машины вырывались из белого месива перед самыми фарами и, поравнявшись, вновь исчезали. По крутой спирали, держась подальше от поднимающихся МАЗов, машина главного инженера спустилась вниз. Закрывая лицо от ветра, Кузьмин прошел в котлован. Здесь было потише, лучи прожекторов разбивали полумрак зимнего дня, но не было ни одного рабочего. Он дошёл до левой врезки, никого не нашёл и там. Чувствуя, как закипает раздражение, направился к прорабской будке.
В прорабской стояла тишина. Ленивое тепло обволокло Кузьмина белым облаком. За столом, склонившись над шахматной доской, сидели прораб Матюшин и Туров.
– В чём дело? – с порога спросил Кузьмин. – Где люди?
– Отдыхают. – Туров переставил ладью. – Отпустили людей, актировка.
– Кто разрешил?
– Я разрешил, – поднялся Матюшин. – С утра пришли бригадиры, я их отпустил. Ведь метёт же, не видно ничего…
– Вы?.. Вы не прораб, ваше место в бригаде.
– Геннадий Макарович. – Туров неторопливо принялся расставлять фигуры. – Отойдите в сторону, слоник у вас под ногами…
– Какой слоник?! Да вы что тут?.. – Кузьмин растерялся. – Кто перед вами?!
– Вижу, что вы. – Туров продолжал расставлять фигуры. – Может, присядете, спокойно во всём разберёмся.
– В чём? В вашем самоуправстве? – Губы Кузьмина подрагивали, но он сдержал себя и, круто повернувшись, вышел из прорабской.
Он шёл по дороге, не замечая встречных машин, не слыша шума едущего позади «уазика», шёл, подставляя лицо колючему снегу и не чувствуя его уколов. Только сейчас он понял, как устал за последние дни, и только сейчас задумался, почему не находит поддержки Турова, о котором Солонецкий сказал, знакомя их, как о своём желаемом заместителе. Тогда Туров повторил, специально для главного инженера, неоднократно говоренное:
– Ты знаешь, Юрий Иванович, как я отношусь к этому. Философски. А философия пусть примитивная, но своя: лучше быть маленьким начальником, но первым, чем большим, но вторым.
– Ох, прибедняешься, – усмехнулся тогда Солонецкий, а потом рассказал Кузьмину о Турове.
Четвёртую стройку начинал тот с нуля и всегда приходил с первым десантом. Был бригадиром десантников, потом мастером, начальником участка, а вот сюда уже высаживался начальником управления строительства. И пока Солонецкий зачищал огрехи предыдущей стройки, посёлок на новом месте строил Туров.
– Подозреваю, привык он быть хозяином, – хитро прищурившись, сказал тогда Солонецкий. – Не любит за чужие просчёты отвечать…
…На верху серпантина шофёр нагнал Кузьмина, открыл дверцу.
– Геннадий Макарович, садитесь, а то сзади машины задерживаем. Дорога узкая, не объедут.
Кузьмин сел в кабину.
Привык хозяином быть, подумал о Турове.
Солонецкий тоже считает себя хозяином. Но ни он, ни Туров не думают о том, какие они хозяева – хорошие или плохие…
Но сможет ли он один осуществить задуманное? Как бы ни хороша была идея, как ни велик замысел, без поддержки людей всё: идея, замысел, будущее воплощение могут умереть, так и не родившись.
– Останови.
Шофер бросил недовольный взгляд, но свернул к обочине.
Кузьмин шагнул в пургу.
Утопая в снегу, побрёл по обочине назад к обрывистому берегу, с которого в ясную погоду хорошо был виден котлован. Сейчас на том месте, где он должен был быть, мутнели пятна прожекторов.
«Почему я один?» – думал он.
Перебирая имена, он выбрасывал тех, кого ненавидел, но почему-то запомнил тех, кого не считал что-либо значащим и, наконец, опять вернулся к Солонецкому и Турову. Они должны были его поддержать, должны. Ведь они, как и Кузьмин, хотели одного: чтобы стройка жила, чтобы она набирала силы. Чтобы здесь, среди тундры, остался после них живой, дышащий, тёплый посёлок и – главное – ГЭС.
Он смотрел вниз, туда, где остался Туров, к которому надо было бы пойти, поговорить, убедить, сделать своим единомышленником… Но пойти он не мог.
А Гриневский?
Нет, для того главное – деньги. Только ради щедрой оплаты он не вылезает из туннеля…
Божко. Вот кто бескорыстен, кто похож на него самого.
Кузьмин засмеялся, почувствовав облегчение: их двое, а это уже немало…
– Едем, – решительно сказал шоферу, садясь в машину.
…В этот вечер он не стал задерживаться в кабинете, впервые за последние дни пришёл домой, как все люди. Вместе с ними он толкался в магазине, охотно кивая знакомым, покупал продукты и чувствовал себя частицей большой силы.
Не раздеваясь, выложил покупки на столик в прихожей, позвонил в ресторан, попросил пригласить к телефону Валентину. Пьяный женский голос долго допытывался, кто звонит и зачем такому приятному баритону какая-то Валентина, пусть он скажет адрес – и придёт она, он нисколько не разочаруется. И даже наоборот…
– Прекратите, – оборвал он. – С вами говорит начальник строительства.
И голос увял, стал извиняться, многословно объясняя, что его перепутали с другим человеком.
«Прости меня», – повторял он про себя первую фразу, которую скажет Валентине. «Прости и пойми».
Но вот на том конце он услышал сдерживаемое дыхание, «слушаю» и сказал:
– Добрый вечер. Вы не могли бы сделать мне одолжение, принести чего-нибудь на ужин?
– У меня сегодня много работы, – услышал он чужой голос Валентины. – Но я попрошу кого-нибудь.
– Нет, спасибо.
Надавил на рычаг.
– Спасибо, – произнёс вслух и прошёлся по комнате.
Спасибо…
За что спасибо?
За непонимание?
Смешно и грустно… Вернулся к телефону, набрал номер Божко. Долго никто не подходил, потом женский голос шёпотом спросил:
– Кто?
И он улыбнулся: так обычно спрашивают через дверь.
– А мужа вашего я не могу услышать? Это говорит Кузьмин.
– Его нет, – так же шёпотом ответила женщина, и он поинтересовался:
– Вы простыли?
– Нет, просто сын только что уснул… Мужа нет, он уехал на ЛЭП. Что-нибудь передать, когда он вернётся?
– Нет, ничего. Извините.
Он прошёл в спальню и не раздеваясь лёг на кровать.
Закрыл глаза. Против воли он представил себе тот маленький рай, в котором живёт Божко, где его ждут жена и сынишка, куда он возвращается уставший и обессиленный и откуда черпает новые силы…
Поднялся, прошёл в комнату, взял с полки книгу, положил на неё лист бумаги и стал писать письмо.
Первые фразы легли быстро и легко, передавая всё то, что он сейчас чувствовал. Он не оглядывался назад и не смотрел на себя со стороны, понимая, что этого не надо делать, что, может быть, именно такого, каким он предстанет перед женой в этом письме, она его и любит, что, может, именно это письмо заставит её прилететь к нему сразу, сейчас же, без колебаний и трезвых оценок, отдавшись неудержимому женскому инстинкту принести себя в жертву, спасти…
Но потом он стал перечитывать написанное и увидел жалкие, молящие фразы. Презирая себя, смял письмо, бросил на пол, но и там оно напоминало о себе. И он, сжав хрустящий комочек, пошёл на кухню, долго смотрел, как, показывая то одно, то другое слово, сгорает бумага.
Вернувшись, разделся, выключил свет, лёг и стал прикидывать, что ему необходимо сделать завтра.
За окнами бушевала пурга – его единственная союзница и помощница.
Глава 16
К концу недели Солонецкий захандрил. Безделье, которое вначале нравилось и казалось прекрасным отдыхом, стало ему в тягость, а однообразие мелких забот вызывало раздражение. Он физически ощущал, как не хватает ему постоянной занятости, мелких и крупных вопросов, в которых он растворялся и жил.
Проснувшись и ещё не открыв глаза, по гулу ветра за стеной он понял, что пурга так и не пошла на убыль, хотя вечером, засыпая, загадал, что сегодня она должна стихнуть. И ему стало тоскливо и обидно.
Аввакум уже хозяйничал у печки, пышущей красными боками. Горка пригоревших лепёшек лежала на столе. Лепёшки Аввакум пёк прямо на печи, в первый день они Солонецкому понравились – пахли дымком и хрустели на зубах, но сейчас он не хотел думать о еде.
– Тебе тут одному страшно не бывает? – спросил он.
– Страшно, когда помнишь о страхе. – Аввакум выложил консервы в миску. – Ещё дня три – и пурга кончится.
– Дня три… А если не кончится, то у нас есть шанс сохранить свои тела для далёких потомков. – Солонецкий вздохнул. – Сожрём последние консервы и будем потихоньку отдавать богу душу. Ты знаешь, о чём я думаю? – Он помолчал. – Отдавать-то мы её будем с одинаковой неохотой, а вот хоронить нас будут по-разному. И людей придёт неодинаково, и речей разное количество будет, хотя оба в конечном итоге в одну землю попадём…
– Надо дверь открыть, – не отвечая на его слова, сказал Аввакум.
– Потом и откроют…
Аввакум пригладил гребешком бороду, снял готовые лепёшки, перекидывая с руки на руку, донёс до миски.
– Боишься смерти?
– А кто ж ей радуется, собственной-то.
– Ты поешь, – он подставил Солонецкому миску. – Я уже перекусил.
Солонецкий усмехнулся над примитивной хитростью Аввакума. Вчера они проверяли свои запасы: хватить их без охотничьих трофеев могло не больше, чем на неделю.
– Обижаешь… Я ведь маленько пожил.
Аввакум промолчал, загасил свечу. В избушке стало сумрачно. Завозился около двери. Дверь открывалась внутрь, поставленная опытным таёжником, понимающим, что такое снежные тундровые бури. От этого порой зависит жизнь.
Аввакум открыл дверь.
Сверху сполз снег, выпавший этой ночью.
Аввакум начал копать сверху, аккуратно накладывая снег в котелок и ведро, стоящие на печи. Капли падали на горячий металл, трещали, и этот треск напоминал Солонецкому звуки котлована.
Он нехотя слез с полатей.
– Стихнет, тогда и откопаемся, – сказал он. Провёл рукой по снежной стене. – Хорошо прессует… А с удобствами ты ловко придумал, как в городской квартире живёшь, – намекнул он на отделённый в углу избушки закуток, заменявший Аввакуму санузел и словно специально построенный вот для такой пурги или морозов, когда слюна замерзает на лету.
– Отойди-ка, Юрий Иваныч, – отодвинул его Аввакум. – Снегу намело, скоро трубу забьёт, так что ждать нельзя. На следующее лето повыше подниму.
– Ты же летом уезжаешь?
– Кто-нибудь другой жить будет.
– Ну-ну…
Солонецкий постоял, сминая снег в кулаке, но тот рассыпался холодящей мукой, и он отряхнул его на печь, сердито зафыркавшую. Забрался на полати, стал наблюдать за Аввакумом.
– Ты ничего мужик, – немного погодя, сказал он. – О тебе какая-нибудь ядрёная девка сохнет, а ты здесь… Так и просидишь всю жизнь.
– А жизнь – это не только девки.
– Так ведь у тебя и другого ничего нет.
Аввакум не ответил.
Стал на горку снега, выросшую у порога, пробил отверстие. Полез в него, но ничего не получилось и он стал расширять наметившийся лаз.
Вместе с тусклым дневным светом в избушку белым облаком потянул свежий воздух. Теперь Аввакум отрубал куски снега и выталкивал их наружу. Скоро снежный коридор стал шире, он всё глубже и глубже уходил в него, пока не исчез совсем. Солонецкий услышал его шаги над самой головой.
Ветер швырял снег, доставая до полатей, печка уже не шипела, её стенки остыли, но ему не хотелось вставать, и он только накинул шубу.
– Сухостоина тут недалеко, – сказал, появляясь в проёме, Аввакум. – Надо будет завтра свалить.
– Свалим, – согласился Солонецкий. – А ты тоже боишься смерти…
– Может быть. – Аввакум подкинул в печку поленьев. – Дров-то я заготовил, да снегом всё завалило.
– Живы будем, я тебе бочку солярки дам и котёл, – пообещал Солонецкий. – Вертолётчики забросят.
Аввакум присел на полати, пожевал лепёшку. И Солонецкий пожевал, хотя есть совсем не хотелось. Он подумал, что так же безвкусно и тихо отживает человек свои последние дни…
– Когда-то я боялся смерти, – после паузы заговорил Аввакум. – Так-то ничего, а вот в самолёт сяду – и мысли сразу прощальные. В реку зайду, махну два раза руками, только дно из-под ног уйдёт – я уже пугаюсь, хотя плаваю неплохо. А потом надоело бояться. Что же это, думаю, всю жизнь она меня пугать будет? Неужели не справлюсь со страхом, который ведь не извне – изнутри рождается. Во мне сидит. И боится он веры в бессмертие человеческое… Понимаешь, о чём я?
– Валяй… Нет, действительно, мне интересно. – Солонецкий сел удобнее. – Хотя я атеист, но верующих уважаю.
– Судьба – это языческое понятие, Бог – более конкретное, мыслящее. К тому же, судьба – бесчувственность, попробуй её умолить. Как начертано, так и будет. А Бога умолить можно. Судьба не оставляет надежды на изменение приговора, Бог же оставляет…
– Ну а так как ты культовые отправления не совершаешь, значит, твой Бог в тебе самом, – перебил Солонецкий. – Модное веяние…
– В истории всё повторяется. Меняется только обстановка, привычки и законы общежития, человек же и природа вечны. Вечен и тот стержень, на котором держится жизнь.
– А вот это уже материализм. – Солонецкий поднял указательный палец, поучительно добавил: – Чувствую, Маркса почитывал…
– Суетное деление. Материализм, идеализм… А истина закрыта. И мир понятнее не становится. Лишь суесловие…
– Материалист, материалист… – Солонецкий оживился. – По нутру ты материалист, только сам понять этого не можешь, упёрся во что-то – и тпру, приехали… Насчёт страха ты верно подметил, я тоже в самолёт сажусь – трясусь маленько, не на земле всё-таки, непривычно. Но только дальше повернул так, словно карты передёрнул. Бог-то мне зачем, если я сам могу со своим сознанием без потусторонней силы справиться? Эй, скажу себе, приятель, да ты никак испугался? Да ты посмотри, какая это машина, посмотри, какие спокойные люди вокруг тебя сидят, а пилоты – они ведь тоже смертные, а летают каждый день, и ничего…
– Можно и так, – усмехнулся в бороду Аввакум.
– И нужно. Честнее уж так, чем утешаться обманом.
– Обман ради счастья – не обман, а истина.
– И книгу об этом пишешь?
– И об этом тоже.
– Не нравится она мне. – Солонецкий помолчал. Азарт спора, который он ощутил вначале, погас, появилось желание переубедить Аввакума, потерявшегося в поисках истины. – Я не читал её, понятное дело, если её ещё нет, но ведь в ней, я так понял, ты агитируешь за Бога в себе… И за перерождение. Это сейчас модно стало – верить, что все мы не единожды плутаем по этому свету. Так?
– Не совсем. – Аввакум нисколько не обиделся на его слова. – Что касается Бога в себе, я действительно верю в духовное начало в человеке. А вот на реинкарнацию, то есть перерождение, пока не претендую. Однако расширяю понятие реальности…Ты родителей своих помнишь?.. Их нет в теперешней жизни, но в твоей памяти они живы, а значит, они живы по сути…
– Реинкарнация говоришь… Что-то не совсем я тебя понял. А как с прадедами быть, если я их вовсе не видел?
– Ты их не видел, но их помнили деды, дедов – родители, а значит, и ты их тоже помнишь, только не конкретно – сознанием, а воплощёнными в образы дедов и прадедов… И наша душа – такой же реальный мир, но мы ещё не поняли этот мир, не отточили чувств, чтобы постичь его.
– Да-а… – протянул Солонецкий. – Однако опасная у тебя философия. Этак все не вперёд, в будущее, а назад смотреть станут. По твоей философии жить бы нам да жить ещё в каменном веке.
– Я не отрицаю прогресс.
– Ладно, я, может, твою философию не до конца понял, не люблю абстракций, но ведь жить-то ты по ней должен. А если по ней ты сейчас здесь, значит, сбежал ты от мира. Выходит – не нужна она людям.
– Общество должно созреть для восприятия новой идеи.
– Но если ты уверен, что прав, не прячься, доказывай!
– Я не одобряю борьбы между себе подобными.
– А без борьбы победы не бывает, без победы – счастья… В мире зла немало, так что есть с кем воевать. А ты и тебе подобные, выходит, дезертиры…
Аввакум вздохнул:
– Мы не поймём друг друга.
– Ещё бы! – с иронией произнёс Солонецкий. – Потому что я презираю людей, живущих для себя. Я ненавижу равнодушных, разносчиков зла. А ты вот не одобряешь борьбы… Значит, ты и похожие на тебя, сверхдобрые, злу не сопротивляетесь…
– Зло и так уничтожит самоё себя.
– Да ты сам до этого вымрешь в своём добровольном изгнании. Или одичаешь… Нет, мой бог – общество. И я хочу, чтобы оно соответствовало идеалу. Хочу сотворить этого бога справедливым и знаю, что моя борьба во имя будущего нужна всем. Да, люди непохожи друг на друга, но ведь есть общее, что объединяет всех. Общее стремление выжить и обрести счастье. И в нашем обществе, смотри, сколько развелось и дряни, и негодяев, и паразитов, но хороших людей больше, гораздо больше. А вот такие как ты – какая от вас польза?
Аввакум пожал плечами:
– Не нам с тобой судить.
– Ну да, конечно… Мы бьёмся, кладём животы, – после паузы продолжил Солонецкий. – Мы отдаём свои жизни и за тебя тоже, и за твоих родных… Легче всего отсидеться вот здесь, спрятаться от всех проблем. Тут даже мировую войну пересидеть можно. Какой же к черту гуманизм в твоей философии, какая польза человеку?
– Гуманизм – это моё отношение к тебе. А вот твоё усреднение интересов, твоё обоществление общества – антигуманно.
– Общество антигуманно? – искренне удивился Солонецкий. – Я вот возьму, пристрелю тебя, а меня расстреляют. Даже не учтут мою нужость обществу и твою ненужность ему.
– Любое общество по отношению к человеку антигуманно, – повторил Аввакум. – Сегодня это особенно видно. Ракеты направлены не друг на друга, а на мирные города. Двести лет назад на поле боя выходили только воины. Остальные жили, растили хлеб, рожали детей, а воевали правители и воины. Так кто же держит мир на грани катастрофы, человек или общество? Ведь каждый человек выше всего ценит собственную жизнь…
Солонецкий пристально посмотрел на Аввакума.
Ещё несколько минут назад ему казалось, что он знает этого человека – оригинала, чудика, которыми земля всегда была полна и которые, наверное, для чего-то всё-таки нужны, для какого-то баланса, что ли… Этакий безобидный современный блаженный… Но сейчас в словах Аввакума была незнакомая и неприятная ему твёрдость.
– Быть недовольным – удобная позиция, – сказал Солонецкий. – Неопасная. Сидишь этак на неприступном утёсе и плюёшь на проезжающих мимо. Только ведь порой и хлеб у тех же проезжающих просить приходится…
– Я не плюю, – возразил Аввакум. – И ты это знаешь, Юрий Иванович. Мы не на диспуте и полемические приёмы неуместны. Ты спросил – я ответил. Я ведь не навязываю тебе свои убеждения. Зачем же ты делаешь это?
– Потому что мне жалко тебя.
– А мне тебя.
– Я вызываю жалость? – поразился Солонецкий.
– Твоя позиция.
– Твоя тем более. Но всё-таки чего же ты хочешь?
Аввакум поднял на Солонецкого глаза. В них действительно была жалость.
– Я уже сказал: постичь истину… Мы думаем, что, родившись, действительно рождаемся, а со смертью – перестаём существовать. Но жизнь бесконечна. Существование конкретного человека – только крохотный отрезок вечности. И понимание этого – первый шаг к истине. Да, каждый человек мечтает о счастье. Но что это – счастье? Ты вот проповедуешь некий всеобщий фетиш – счастье для всех. А это абсурд. Счастье общее невозможно, как невозможно существование индивидуума с тысячью голов. Счастье может дать только вера. Но во что верить? В загробную жизнь? В рай на земле? Это самый сложный вопрос, и ответить на него – значит постичь истину. Да, живя в обществе, каждый человек вынужден подчиняться его порядкам и законам. Не приемля одно, он должен согласиться с другим или третьим. А значит, всё равно подчиниться или проявить насилие. Насилие над другими – зло, поэтому, как выход, остаётся только насилие над собой… Но это не ведёт к постижению истины… Укротить в себе раздирающие душу страсти, достичь тем самым чистоты – вот путь, который приведёт к естественным отношениям с миром, природой, людьми. Когда большинство поймёт это, общество само придёт к гармонии, избавившись по пути от зла и насилия…
– И как скоро наступит эта пора всеобщего благоденствия? После третьей мировой войны?
– Может быть, и тогда. Когда насилие предстанет перед миром во всём своём уничтожающем величии…
– Получается, что тебе нужно насилие, ты его ждёшь?
– Нет.
– Но как же твоя теория, она ведь нуждается в этом?
– Она подчиняется естественным законам развития. Моё желание не отождествляется с этими законами.
– И всё же, если тебя выпустить на амвон, ты начнёшь читать свои проповеди, призывая к смирению и ожиданию катастрофы?
– Я не собираюсь читать проповеди.
– Но ты бы хотел, чтобы у тебя были единомышленники?
– Нет.
– Нет?
– Постижение – вот главное в моей философии. Но не действие.
– Ах да, я выпустил это из виду… Но это в конечном счете неважно, будешь ли ты призывать или будешь ожидать, что твою истину поймут другие. И в ней больше насилия, чем в моей, ибо она гуманна только по отношению к тебе самому. А я вот – за борьбу, за активную перестройку этого мира и в итоге тоже за гармонию общества. Но я не отрицаю насилия, хотя не хочу ни одной смерти. Я тоже верю в вечную жизнь, потому что знаю: мои дети, внуки, правнуки будут жить после меня. И я не хочу, понимаешь, не хочу, чтобы они погибли в угоду какому бы то ни было закону. Я человек, и я вправе сделать свою жизнь лучше. Ты говоришь – не может быть всеобщего счастья, а я говорю – может. Ты говоришь – нельзя предотвратить катастрофу, я говорю – можно. Можно. Потому что мир, человечество – это миллиарды таких же, как я, человеков, с такими же болячками, проблемами, чувствами, заботами. И всегда было, есть и будет нечто общее, что связывает нас всех, объединяет. О чём мы можем договориться без слов. Это жизнь, мир, хлеб.
– Я не спорю с тобой.
– Почему?
– Я не отношусь к числу тех миллиардов, которые так похожи на тебя…
Аввакум встал с полатей и стал подбрасывать в печку дрова. Всполохи метались по его лицу, и Солонецкому показалось, что он беззвучно смеётся. Ему расхотелось спорить. Видеть Аввакума было неприятно, и он, накинув шубу, выбрался на улицу.
Ветер успел уже замести следы Аввакума. Он всё так же крутил снежную карусель. И всё было незнакомо вокруг. Солонецкому даже показалось, что и его, и Аввакума, и избушку перенесло неведомо куда. И Аввакум пришёл именно из этого незнакомого ему мира.
Ему стало не по себе от этой мысли. Он вернулся в избушку, уставился на печь, сваренную из кусков листового железа, на полати, сколоченные из смолистых досок, на покосившийся остаток свечи и долго-долго смотрел пока не возвратился в мыслях к реальности бытия.
– Хорошо бы сейчас очутиться в посёлке, в котловане, среди мужиков… – вырвалось у него.
Аввакум, взглянул на него, достал флягу.
– Выпей.
И Солонецкий послушно выпил, ощущая реальную до ожога силу спирта.
Аввакум спрятал фляжку.
– А теперь тебе надо поспать.
Солонецкий забрался на полати, укрылся шубой, пахнущей овчиной и дымом, закрыл глаза. Сон наваливался тяжёлый и в то же время какой-то асслабляющий. Уже в полузабытьи он почувствовал прикосновение холодной руки к своему лбу, и от этого осторожного прикосновения, словно получив разрешение забыться, заснул.
Глава 17
Проснулся Солонецкий от боли в груди. Болело сердце, как оно болело и прежде, и эта знакомая боль приносила вместе с собой страх. И этот парализующий страх тоже был ему знаком, он даже научился с ним справляться, убегая от него к людям. Но сейчас, слушая завывание ветра и вглядываясь в черноту ночи, он отступал перед двойным натиском боли и страха. Пошевелил онемевшими руками и легонько стал вытаскивать их из-под шубы наверх.
Заворочался рядом Аввакум, приподнялся. на локте, склонился над ним, чуть не касаясь бородой лица, спросил:
– Не спишь?
– В кармане, – прошептал Солонецкий.
Аввакум понял, достал нитроглицерин, выкатил на ладонь таблетку, поднёс к губам Солонецкого, и тот слизнул её, ощущая шершавость ладони Аввакума. Нитроглицерин таял, боль становилась всё глуше, отчего Солонецкому хотелось улыбнуться и сказать об этом Аввакуму. Но он не спешил, боясь ослабеть от слов.
Аввакум встал, подбросил на рдеющие угли сухих щепок. В печи затрещало, вспыхнуло пламя, и в избушке стало светлее.
– Вот так, брат. Предупреждает меня мой бог, – тихо произнёс Солонецкий.
– Ничего, попей – и всё пройдёт.
Аввакум протянул кружку.
Солонецкий отпил пару глотков.
– Что это?
– Травка разная… Поможет, не сомневайся.
– Я и не знал, что ты ещё и знахарством занимаешься. – Солонецкий хотел сказать это повеселее, но получилось жалобно. Поспешно добавил: – Дело стоящее…
– Жизнь заставила. Всё время один, и болеть тоже приходится.
– Я думал, ты железный…
Аввакум не ответил, приоткрыл дверцу. Оттуда вырвался жар, заметался всполохами по стенам.
– Полегчало?
– Ничего, пронесёт. Я сам себе нагадал, когда срок выйдет, а сегодня время ещё не пришло.
– Ты ещё молодой, – сказал Аввакум. – Лет двадцать Бог тебе ещё отпустит.
– Бог не знаю как, а я лично думаю дотянуть.
– Ну вот, – Аввакум погладил бороду. – Значит, посветлеет, пойдём на охоту. Добудем пару куропаток для хорошего супа.
– Метёт…
– Теперь можно, стихает. Ещё пару дней – и дома будешь.
Солонецкий помолчал.
– Я тебе рацию пришлю, – после паузы сказал он. – Рацию и котёл. Мало ли, все мы не вечны, случится что, дашь SOS… Как это, по твоей теории? Человек должен добро делать и не ставить себе это в заслугу.
На печке забулькал котелок. Аввакум бросил в него чая, трав, разлил по кружкам.
Пили молча.
Солонецкий – сидя на полатях. Аввакум – пристроившись на чурбачке у его ног.
Пили, шумно отхлебывая и думая друг о друге.
Былой злости на Аввакума у Солонецкого уже не осталось. И их спор, и идейные разногласия, казались ему сейчас глупыми и мелкими по сравнению вот с этим молчаливым чаепитием.
После чая Аввакум стал собирать рюкзак, проверил ружья.
Неторопливо, всё ещё прислушиваясь к сердцу, Солонецкий начал надевать штаны, унты, шубу. Наконец вышел из зимовья.
Ветер действительно утих, поубавил злость.
Аввакум стал на лыжи.
Осторожничая, но уже чувствуя, как вместе с холодным воздухом возвращается сила и уверенность, надел лыжи Солонецкий.
– Не заблудимся? – спросил зачем-то он.
– А мы недалеко. У них тут рядом хоронка. Только гляди внимательнее.
Аввакум заскользил вниз по склону к кустарнику на дне распадка. Солонецкий пошёл следом, не глядя по сторонам, ему казалось, что не ради куропаток вытащил его Аввакум, никаких куропаток они, конечно, не увидят, те сидят себе под снегом, ожидая, когда кончится пурга.
Но Аввакум вдруг остановился, вскинул ружьё, выстрелил.
Солонецкий увидел, как над кустарником поднялись белые птицы. Он обошёл Аввакума, мельком заметил подстреленную куропатку, побежал к месту, где исчезла стая. Последние шаги сделал осторожно, вглядываясь в сугробы, наконец разглядел комочек с чёрными бусинками глаз, рядом второй и не дыша поймал на мушку один, нажал на курок, дёрнув стволом в сторону второго комочка, снова нажал. Быстро заскользил вперёд и, подбежав, обрадовался: обе куропатки остались лежать на снегу.
– Ловко, – похвалил подошедший Аввакум.
– Повезло…
– Ещё пройдём?
Солонецкий кивнул, приторачивая тёплые тушки к поясу.
Спустились ещё ниже, перешли речушку, промороженную до дна и заметённую снегом так, что нельзя было даже догадаться, где проходит русло, облазили противоположный склон, но больше удачи не было. Солонецкий остыл, растерял охотничий азарт, почувствовал усталость. Ему хотелось скорее вернуться в зимовье, выпить горячего чаю, поговорить о том, что его сейчас беспокоило.
Ему хотелось на стройку.
– Я думаю, на обед хватит, – крикнул он, останавливаясь.
Аввакум молча повернул к зимовью.
– Как ты моего главного инженера находишь? – спросил Солонецкий, когда тот поравнялся.
– Я его не знаю.
– Любопытный мужик, – не столько для Аввакума, сколько для себя произнёс Солонецкий. – Есть в нём стержень, а я люблю людей со стержнем… Я тебе так скажу, если без меня справится, подам в отставку.
– Не отпустят, – обронил на ходу Аввакум.
– Отпустят. Незаменимых людей, увы, нет. Ну, конечно, для порядка поговорят, поубеждают, на это у меня масса аргументов: и сердчишко не того, и пора на материк дочку воспитывать… – Солонецкий помолчал. – Одним словом, спросят, кого, мол, предлагаешь на своё место, и пойдут навстречу. Дадут где-нибудь управленьице, построю домик, огород заведу, буду овощи-фрукты выращивать… Не веришь? Напрасно. Я это искренне. Так до пенсии и дотяну.
– Мечтаешь… Для тебя жизнь – это стройка, и ты это знаешь.
Солонецкий подумал: наверное, он прав, уехать можно, но куда и зачем?.. Всё уже, одежка примерена. Одна, менять поздно, видно, в ней до конца, сколь суждено.
– Жаль, что тебе Кузьмин не нравится.
Солонецкий замолчал и молчал до самой избушки. Глядя на мерно покачивающуюся спину впереди себя, думал о том, что не время ему было уезжать со стройки. Поддавшись настроению, он сморозил глупость. Именно сейчас, когда вставал вопрос о консервации строительства, его отъезд походил на бегство. Он признался себе: ведь и эта мысль, что всё само собой перемелется в его отсутствие, тоже была, когда он решил спрятаться здесь, среди отрогов Путоран.
– Ты меньше об этом думай, – словно подслушав его мысли, сказал Аввакум, снимая лыжи. – Завтра-послезавтра распогодится, и вернёшься к привычному. И если не обидишься, прими, Иваныч, совет: не заталкивай людей в приготовленные матрицы, принимай их такими, какие они есть…
– Угу, – буркнул Солонецкий. – Может, ты и прав. Хорошо, если твой Бог поможет нам с погодой…
Глава 18
На планёрке Кузьмин отстранил Турова от работы.
Сергей Иванович тяжело поднялся, ни слова не говоря, прошёл к выходу. Пока он шёл, в кабинете висела напряжённая тишина. У двери Туров повернулся и ровным голосом произнёс:
– Дело, Геннадий Макарович, люди делают. Смертные, с грехами. А ты за делом ничего не видишь…
После того как он вышел, поднялся Гриневский, повёл широченными плечами, басисто протрубил:
– Полетели, к дьяволу, новые станки. Вторую смену вокруг них мужики крутятся, ничего сделать не могут. И проходки нет.
Кузьмин оглядел крупное, с тяжёлым подбородком лицо Гриневского, его большую фигуру.
– Очень плохо, что вы, начальник участка, знаете меньше, чем ваши рабочие. Завтра к утру станки должны работать.
Гриневский хотел возразить, но только махнул рукой и сел.
Ведя планерку, Кузьмин нет-нет да поглядывал на осунувшегося Божко. Тот сидел в самом углу, прислонившись к стене, и временами голова его падала на грудь. Кузьмин повышал голос, и тот испуганно вскидывал голову, смотрел в его сторону удивлёнными большими глазами.
Нет, Божко сейчас не помощник, думал Кузьмин. Он хороший исполнитель, честный человек и, наверное, его очень любит жена. Но по этому о человеке не судят. Ведь никого не интересует его, Кузьмина, личная жизнь. И сейчас все они, сидящие перед ним, воспринимают его не как человека, с достоинствами и слабостями, а как руководителя, который отчитывает их – по дури ли своей или просто по должности. Сегодня он, завтра – другой, так, наверное, думает каждый. И понимая это, Кузьмин говорил всё жёстче, требуя не понимания и поддержки, а повиновения и исполнения.
– Божко! Идите выспитесь, – наконец не выдержал он, когда тот заснул в очередной раз.
Божко вскочил, виновато замер, вытянувшись, как провинившийся школьник.
– Идите, идите, – повторил Кузьмин. Продолжил, окидывая взглядом сидящих: – Невозможного я не требую, я требую вашего соответствия занимаемым должностям…
В кабинете зависла пауза, которую прервал Костюков.
– Мы понимаем, Геннадий Макарович, – вкрадчиво начал он. – Но и вы нас поймите, нельзя же сразу всё перестроить. И потом, вернётся Юрий Иванович, не пришлось бы всё возвращать…
«И по шапке тебя, по шапке», – услышал Кузьмин и усмехнулся.
– Вам, Костюков, не придётся, – многозначительно произнёс он.
– Если я правильно понял…
– Совершенно правильно. А пока занимайтесь своим делом. Насколько мне известно, ваши обязанности нисколько не изменились.
– Мы с Юрием Ивановичем обговаривали вопросы необходимости реорганизации… – неожиданно поддержал Кузьмина Смирнов. – Дело это назревшее, вот только, может быть, сейчас рановато?
Кузьмин с интересом взглянул на него.
Смирнов был обычно тих и неприметен. Он был столь незаметен, что Кузьмин почти не помнил его. Не помнил, как он вдруг сейчас понял, ещё и потому, что никогда главному инженеру не приходилось решать вопросов Смирнова, дела у того, незаметно и тихо, шли довольно неплохо.
– Каждому овощу свой срок, – буркнул кто-то.
– А вы не дом мне строите, – как можно спокойнее сказал Кузьмин. – И энергия этой ГЭС не для моей люстры нужна. Нужна металлургам, городу, людям… И её нужно дать быстрее. Поэтому работать мы должны по-настоящему. Можем и должны… Я правильно говорю, Гриневский?
– Само собой… в общем, – пробасил тот.
– И в частностях тоже. Что же касается моего стиля руководства… – Кузьмин помолчал. – Я нахожу его верным. Так что, давайте работать.
Когда дверь закрылась за последним выходившим, он опустил голову на руки и сидел так минут пять, мысленно возвращаясь к произошедшему.
Нет, он был прав, тысячу раз прав. Это они отставали от него, не могли и не хотели понять, что на производстве все они, и он сам, только части сложного механизма. И эти части должны вертеться, двигаться, перемещаться так, чтобы в целом механизм гудел от энергии. Даже то, что оставалось после строительства: города, заводы, электростанции – то, чем гордится большинство, – не вызывало в Кузьмине никакого чувства. Только сам процесс работы, каждодневной занятости и нужности рождал в нём энергию и силу.
И вот он сидел за столом, опустив голову, впервые почувствовав усталость от работы, впервые без желания представляя, как выйдет сейчас на улицу, сядет в машину, поедет по объектам…
Встал, подошёл к окну.
Пурга кончалась.
Огромные валы снега, прижатые ножами бульдозеров к обочинам и похожие на массивные стены, обрамляли улицы.
Спешили по своим делам люди. Пробегали, не глядя в его сторону, им не было до него дела. Они спешили в тёплые дома, кого-то любили, ждали, радовались, но чему-то своему, личному. И он был уверен – своему больше и искренней, чем общему…
Он вспомнил жену, её лицо, руки, голос… Вспомнил, но ничего не почувствовал.
Опять мысленно вернулся к только что отшумевшей планерке.
Нет, они поймут со временем, подумал он. Поймут и пойдут за ним, потому что он прав…
– Геннадий Макарович! – в кабинет ввалился взволнованный Гриневский. – Перемычку пробило, котлован заливает!
– Когда? – отрывисто спросил Кузьмин, окидывая взглядом покрытую замёрзшими каплями шубу Гриневского.
– Только что, я сразу сюда…
– А там?.. Всё бросил?!
Кузьмин подхватил шубу и выбежал из кабинета. Гриневский, торопясь следом, оправдывался:
– Не сообразил позвонить… Но там Божко, он ничего мужик, продержится… И Туров… Вот сюда, я на машине…
Кузьмин приказал водителю:
– Давай, быстро!
Гриневский никак не мог захлопнуть дверку, и морозный воздух валами накатывался сзади, холодя затылок. Наконец он совладал с ней, навалился сзади на кресло, шумно дыша, стал рассказывать, как всё произошло.
Слушая его, водитель сильнее давил на газ. Несколько раз машину заносило, она ударялась в снежные стены и снова выскакивала из белой пыли. Наконец подъехали к котловану.
Заваленная, пересыпанная река, ушедшая под метровый лёд, скованная так, что не было слышно её голоса, вдруг нашла узкую щель, много дней и ночей точила её, наконец, выбежала студеным ручейком, набирая голос и силу. Сейчас она уже потоком падала в котлован, разливаясь на дне парящим тёмным блюдцем. Рабочие в заледеневших телогрейках устанавливали вторую помпу, подтаскивали к месту прорыва деревянные щиты.
Кузьмин увидел подле прорана Турова, в белом, покрытом коркой льда полушубке, ещё какую-то мешковатую фигуру, пытающуюся что-то затолкать в поток. Он увидел всё сразу, отмечая, как лениво и медленно расширяется русло этой пугающей силы.
– Взрывников сюда, мигом! – крикнул он Гриневскому. – Чтобы немедля, с зарядами!..
И как утром на планёрке, Гриневский хотел что-то возразить, но только махнул рукой и побежал к машине.
Сверху Кузьмин видел, как Туров и подскочивший Божко с рабочими обхватили деревянный щит, занесли его над прораном, исчезли во взлетевшем фонтане и вновь появились, прилипшие к обледеневшему щиту, сдерживающему поток. Машинально он засёк время. Внизу суетились, закладывая щит всем, что попадёт под руки, подогнали бульдозер, прижали отвалом, но Кузьмин сверху хорошо видел, как побежали выше щита трещины и тонкие струйки бьющей оттуда воды становились всё толще и тяжелее.
Приехали взрывники: машина с красной полосой проскочила к прорану, и Кузьмин отметил, что в пять минут Гриневский не уложился. Божко полез было в кабину бульдозера, но Гриневский что-то сказал ему, и они стали отгонять от прорана людей. Только Туров всё ещё стоял подле щита, наконец, оглядываясь, медленно стал подниматься.
Потом из-под щита вырвался водопад, взрывников не стало видно, но через несколько минут они побежали вокруг озерца, упали, прикрыв головы руками.
Ударил глухой взрыв, деревянный щит взлетел, дробясь в воздухе на куски, и утрамбованная перемычка засияла свежей заплатой.
Глава 19
Солонецкий прилетел во вторник. Узнав от вертолётчиков, что произошло без него, он, не заходя домой, поехал в котлован.
Озерца уже не было. Оставшийся по краям лёд рабочие разбивали ломами.
Он прошёл по плотине, спустился к рабочим, спросил, перепугались ли они, когда стало заливать котлован. Двое, признав начальника строительства, вытащили папиросы и молча задымили, неловко зажимая их меховыми рукавицами, третий, с сухощавым, обмороженным лицом опёрся на лом, хрипло сказал:
– А чего ж пугаться, всяко бывает…
– Начальство поди виновато? – спросил Солонецкий.
Сухощавый ответил с вызовом:
– А то кто же. Надо было глядеть, вон их сколько бегает, спецов всяких, чего им делать… А мы тут ломом теперь ковыряй.
– Ну-ну, – помрачнел Солонецкий. – Учтём критику.
И полез на насыпь.
Турова он нашёл на перемычке. Тот следил, как разравнивает насыпь бульдозер. Солонецкий поздоровался, постоял рядом. Потом сказал:
– Зайди ко мне через часик.
И уехал.
В туннеле он пробыл минут двадцать. Велел вытащить из забоя экспериментальные станки с лопнувшими гидрошлангами, поставить старые.
В приёмной, словно не замечая радостного лица секретарши, бросил:
– Все приказы Кузьмина мне… И чаю покрепче.
Не раздеваясь, пробежал глазами принесённые приказы. Отложил папку в сторону.
Кузьмин сделал то, что в принципе действительно нужно было сделать. В каждом приказе была реальная основа. Спору нет, главный инженер видел будущее… Но только будущее, которое сегодня было ещё невозможно. Не слишком ли затянувшийся, не слишком ли опасный для руководителя юношеский максимализм? Или – это уже бездушие?..
…Вернулся к столу, отложил в сторону последний приказ – об отстранении Турова, усмехнулся. Если опять же принципиально, то и тут Кузьмин прав. Туров работает так, как привык за эти годы. Не каждому понравится его неспешность, спокойствие. Но Солонецкий знал Турова и другим: на Мамаканской ГЭС тот сел в кабину горящего МАЗа и сбросил машину в реку. И когда уже здесь в водоприемник вдруг прорвало воду и рабочие ринулись к выходу, в испуге забыв включить аварийные насосы, Туров полез вниз, по пояс в ледяной воде прошёл к пультам, включил, и через восемь часов брешь зацементировали.
И если отстал от жизни Туров, то, значит, отстал и он, Солонецкий…
Вера Сергеевна принесла чай. Он попросил поставить две чашки. Спросил:
– Ну, как вы без меня?
– Соскучились, – ответила она, и Солонецкий смутился, пробубнил: – Ну-ну… – И добавил: – Идите-ка вы домой, Вера Сергеевна, уже поздно…
Только налил себе чаю, вошёл Туров.
– Вовремя, раздевайся.
Подвинул чашку. Стал рассказывать о снежном баране, пурге, куропатках и о том, как выхаживал его Аввакум.
Рассказ прервала уже одетая Вера Сергеевна.
– Юрий Иванович, главный инженер просит принять его.
– Просит? – Солонецкий откинулся в кресле. – А что же он не входит… – Потянулся к пачке за рафинадом. – Пусть войдёт.
Кузьмин остановился перед Солонецким.
– Садись, Геннадий Макарович, – кивнул, ослабляя рукой высокий ворот свитера. – Вот, ёлки, щетина как колется, побриться не успел…
Кузьмин помедлил, отодвинул стул, сел.
– Давай сегодня в баньку сходим, – прервал паузу Туров. – У меня венички остались, попаримся…
– Дело, – согласился Солонецкий. – Баня – это рай, да ещё если с веничком… Жаль только, пивка нет. Пиво на материке.
– На материке, – в тон ему отозвался Туров, отпивая чаю.
– Пиво у меня есть, – вдруг сказал Кузьмин. – Японское, в банках, с водителем передам.
– О! – удивился Солонецкий. – Я думал, у меня главный инженер непьющий, а он втихаря пиво цедит…
– Я не пью, – не поддержал шутливый тон Кузьмин. – Это подарок.
Снова зависла пауза.
Солонецкий отодвинул чашку, уже серьёзно продолжил:
– Ну так что, Геннадий Макарович… Получилось, как считаешь?
Он смотрел Кузьмину в глаза, и тот не отводил взгляда. В глазах главного инженера была непоколебимая решительность. И Солонецкий не выдержал, первым отвёл свои.
– Рановато… – произнёс наконец Кузьмин.
– Ну вот, – с облегчением сказал Солонецкий. – Слава богу, наконец-то ты понял, что рановато… Нужно сначала людей, людей настроить, а потом уже техника, технологии…
– Рановато вы приехали, – перебил его Кузьмин.
– Да-а?.. – Солонецкий растерялся. Поднял чайник. – А может, вы с нами, Геннадий Макарович, чайку?
– Спасибо, не хочу.
– Ну что ж, неволить не стану. – Переводя взгляд с Кузьмина на Турова продолжил: – Гонора-то не поубавилось… Н-да… – И уже глядя только на Кузьмина. – Вы толковый инженер, Геннадий Макарович, но чтобы работать вместе, мы должны понимать друг друга. Я попытался вас понять… Вы считаете, что вам времени не хватило… наломать дров. А я – что его было чересчур много. И теперь ошибки, которые вы наделали, будем исправлять вместе…
Кузьмин медленно поднялся, достал из кармана пиджака сложенный листок, вырванный из школьной тетради, положил перед Солонецким и молча вышел.
– У него дети есть? – прервал тягостную паузу Туров, разглядывая разлинованный в клеточку лист.
– Нет вроде… Жена в столице осталась. Серёжа, первый раз у меня такой инженер… был.
– Задержи.
– Пишет: по семейным обстоятельствам… Недопонял я чего-то в нём, недопонял…
– Главк не отпустит.
– Он своего добьётся.
Солонецкий замолчал.
Опять защемило сердце, но трудно было понять: это физическая боль изношенной мышцы или нечто другое, чему нет названия в медицинских справочниках.
Он допил остывший чай.
– Ничего, Серёжа, мы-то с тобой ещё здесь, мы-то вместе…
Он хотел произнести эти слова тоном бодрячка, но получилось грустно.
Туров принёс из приёмной шубу Солонецкого.
– Пошли, дружище, за вениками – и в баньку. К народу. К крепкому голому люду, – говорил он, помогая Солонецкому одеться. – Попаримся, мужиков послушаем. Чайку попьём с моими внуками, а то они по тебе соскучились.
У выхода они столкнулись с шофёром Кузьмина. Тот протянул четыре банки пива.
– Геннадий Макарович передал.
– Спасибо, – растерянно поблагодарил Солонецкий, забирая холодные яркие жестянки. – Спасибо, обязательно передай…
Он посмотрел на Турова.
Тот кивнул головой, и Солонецкий кивнул, словно соглашаясь, что, дескать, мужик-то Кузьмин ничего, да вот пойми его попробуй, и они вышли на улицу.
Глава 20
За всю дорогу от аэродрома до посёлка Солонецкий не проронил ни слова. Разговорившийся было Расторгуев скоро обиженно замолчал и перестал поглядывать в зеркальце. А Солонецкий, откинувшись на заднем сиденье и даже не расстегнув шубы, хотя в машине было тепло, вновь и вновь возвращался к тому, что произошло за прошедшую неделю.
…Он знал, что рано или поздно его вызовут в главк. И даже догадывался, как именно будут обосновывать необходимость консервации стройки. Какие варианты предложат, чтобы смягчить удар для тех, кто пришёл на эти неуютные берега, пережил первую зиму в палатках, построил первый дом. И всё-таки, какие б варианты не были предложены, консервация – это тысячи разочарованных людей. Это нереализованные надежды. И именно ему, а не начальнику главка придётся выслушивать всё, что захотят высказать эти люди. Именно он должен будет обосновывать целесообразность консервации.
Но сейчас он возвращался с маленькой надеждой, которая пришла с совершенно неожиданной стороны…
На этот раз Солонецкий жил в гостинице. Пару раз позвонил домой. Оба раза брала трубку дочь, и он знал от неё, что у них всё в порядке. Дочь не удивилась, что он предпочёл гостиницу дому, наверное, они с матерью обсудили это. С Ириной он говорить не стал, а с Татьяной, хотя и собирался, встретиться не получилось: то она была занята, то он. Ему осталось только по телефонным разговорам представить, какой она стала повзрослевшей и немножко чужой.
Несколько раз в коридорах главка и потом, на совещании, он сталкивался с Ладовым. Тот пытался заговорить, но Солонецкий, делая вид, что не замечает его, проходил мимо. А после выступления Ладова на совещании, вывод которого о нецелесообразности продолжения строительства стал для Солонецкого полной неожиданностью, он перестал считать того другом. И только докладная записка Кузьмина о состоянии и перспективах стройки, которую тот оставил перед отъездом на новое место работы, приостановила решение о консервации…
В последний вечер его вызвал начальник главка. Долго не начинал разговор, который тоже, как догадывался Солонецкий, должен был состояться обязательно, ибо здесь, в длинных коридорах набитого людьми учреждения, он столкнулся и с Сорокиным – было похоже, что тот не так уж плохо устроился и, совсем не жалел, что пусть не по доброй воле, но наконец-то перебрался на материк.
– Сплетен терпеть не могу, – помолчав и выкурив наполовину сигарету, заметил начальник главка. – Но одно дело сплетни, а другое – сигналы. Так вот, Юрий Иванович, не нам с тобой в кошки-мышки играть, а знать правду я должен.
Он говорил это в своей обычной манере, грубовато, не церемонясь, без дальних подступов. И хотя начало разговора и эта табачная пауза свидетельствовали, что начальник главка расположен к неспешной беседе, Солонецкий не стал тянуть, вложив в несколько фраз ответы на все, как ему казалось, интересующие Киреева вопросы.
– С женой не разошёлся, но не живём. Любовниц нет, старею. Пить сердце не позволяет…
Помолчали.
Киреев достал бутылку боржоми, два стакана.
Налил.
– Что у вас там с Кузьминым произошло?
– Сам до конца не понял. – Солонецкий повертел в руках стакан с пузырящейся водой. – Пожалуй, я виноват…
– А как тебе нынешние требования к руководителям?
Вопрос был не случаен.
– Надеюсь, справлюсь, – сказал он. – Если почувствую, что не тяну, сам скажу.
– Я тебе, Юрий Иванович, тёплого места подыскивать не стану, – подвёл итог Киреев. – Ну, если остановим строительство – тут уж никуда не деться, другой северной стройки пока не будет. А если всё же в министерстве решат продолжать строительство – не взыщи, тяни до конца.
– У каждого свой крест.
– Что-то не в твоём духе изречение.
– Знакомый у меня есть верующий, – не вдаваясь в подробности, сказал Солонецкий.
– Ну, крест так крест, пусть будет так… Не мне тебя учить, но разберись там со своими доброжелателями.
Солонецкий поднялся, начальник главка не стал его задерживать, только когда тот уже выходил, спросил:
– Ладова к себе главным возьмёшь?
– Нет.
– А Кузьмина обратно?
– Кузьмина взял бы. Но вряд ли он вернётся…
Многое, что произошло за эту неделю, уже забылось, но голос Танюшки, докладная записка Кузьмина и вот этот разговор не выходили из головы. И сейчас, сидя в машине, Солонецкий по очереди возвращался то к одному, то к другому, то к третьему.
Надо разобраться, подумал он. Надо во всём разобраться – и точка.
– Какие новости? – спросил наконец Расторгуева.
И тот, для порядка выдержав паузу, стал перечислять, что произошло за неделю отсутствия Солонецкого.
Смирнов, исполнявший обязанности начальника строительства, вёл себя хорошо. Расторгуев так и сказал: «Вёл себя хорошо». И Солонецкий усмехнулся – так не подходило это определение к Смирнову, у которого уже внуки в школу ходят… Расторгуев не стал расшифровывать, что это значило, а Солонецкий не стал расспрашивать, он слушал, не особо вникая в смысл.
Слушал о первой двойне, которая родилась на этой неделе.
О заезжем, редком и, как обычно, халтурном ансамбле.
Об открытии сезона подлёдного лова…
– Да, вот потеха, – хохотнул Расторгуев. – Тут в ресторане такая баталия приключилась, официантка одна, может, помните, такая худая, белокурая баба, Валентиной зовут, одного тракториста побила.
– Это как?
– Сначала кулаками, а потом подносом по голове – цирк…
– Приставал?
– Да в том то и дело, что нет. – Расторгуев оживился и, поглядывая в зеркальце, стал расписывать в красках, как всё происходило, и, при всём нежелании знать эти подробности, Солонецкий вынужден был следить за его рассказом. В конце Расторгуев, выдержав паузу, выдал: – Оказывается, он ей сказал, что, мол, одним дураком на стройке меньше стало. Это он о Геннадии Макаровиче так…
– А она, значит, его подносом?.. Молодец баба.
– Оно-то так, – многозначительно произнёс Расторгуев и замолчал, словно взвешивая, можно это говорить начальнику или нельзя. Потом всё-таки решил, что можно, и продолжил: – Только говорят, что она любовницей главного инженера была…
– И ты так считаешь?
– Так ведь люди говорят.
– Ну и дурак, – буркнул Солонецкий. – Скоро тебе скажут, что я с твоей женой сплю.
– Что вы, – повернулся улыбающийся, словно от хорошей шутки, Расторгуев. – Такого не скажут.
– Смотри-ка, цепями её приковал, что ли?
– Так вам же нельзя… Да и человек вы такой… – растерялся Расторгуев.
– Все мы люди… Поезжай к управлению.
– А может, домой?
– Говоришь много.
…Вера Сергеевна поднялась ему навстречу и, войдя следом в кабинет, ждала, пока он разденется.
– Как долетели? – негромко спросила.
– Всё нормально, Вера Сергеевна, нормально, – ответил он и дружески приобнял её за плечи.
Она помедлила, потом вышла.
Он сел за стол, поправил телефоны, непривычно безжизненные, и стал оглядывать кабинет, словно прошли долгие годы и он вернулся в родной дом.
Что ж, это действительно был его дом, а тот, другой, куда он ходил ночевать, уже давно был чем-то вроде необходимого прибежища.
Там он ничего не знал.
А здесь знал всё.
Телефон вдруг звякнул, резко, неожиданно, так что Солонецкий дёрнулся и торопливо поднял трубку.
– Здравствуйте, Юрий Иванович.
– Здравствуйте… – В первое мгновение он не догадался, кто это, а узнав, не сдерживаясь, почти закричал: – Ольга Павловна! Оля!.. Как я рад тебя слышать!
Он хотел объяснить, почему рад, но вместо этого понёс какую-то белиберду о доме, который ему вовсе и не дом, а пристанище, о кабинете, который его помнил и ждал, и Ольга Павловна засмеялась.
– Нет, это не ты, Солонецкий. Это приехал новый начальник строительства. Молодой и интересный. И чуточку глуповатый…
– А ты ждёшь молодого и интересного? – ревниво спросил он.
– Я жду Солонецкого…
– Оля, я очень хочу тебя видеть.
– Мы встретимся у гостиницы?
– Нет, приходи сюда.
– Я на работе.
– Я позвоню твоему начальству…
– Не нужно. Я приду… Через полчаса…
Через полчаса Вера Сергеевна доложила о посетительнице, и он торопливо вышел навстречу Ольге Павловне, любуясь её раскрасневшимся лицом, весёлыми искорками в зелёных глазах, обмётанными инеем прядями волос, выбившимися из-под пушистой шапки.
– Вера Сергеевна, вы можете идти домой, – сказал он, помогая Ольге Павловне раздеться и стараясь не замечать вопрошающие глаза секретарши. – Идите, идите…
Ольга Павловна опустилась в кресло, стоящее возле журнального столика.
Солонецкий сел напротив и стал смотреть на неё, словно играл в давно забытую молчанку.
И она не отводила глаз.
– Даже домой не заскочил, совсем замотался в главке… Дочку не видел, – наконец произнёс он. И после паузы продолжил: – И не хотел, собственно, домой… Не хотел.
– Солонецкий, – сказала она, – я узлов не вяжу.
– Прости.
Он обнял, коснулся губами её губ, и Ольга Павловна ответила.
– Я не думал, что так буду скучать по тебе.
Она перехватила его взгляд.
– С тобой что-то произошло…
– Да, – сказал он. – Сейчас я не могу без тебя.
Он сказал «сейчас», потому что не знал, сохранится ли это опьяняющее чувство, нахлынувшее на него. Сказал и испугался, что она спросит, надолго ли. Но она не спросила.
…В этот вечер Ольга Павловна перешла к нему, попросив не отдавать пока никому её комнату в общежитии и оставив там свои вещи. Она забрала с собой только этюдник, краски и пару картин, которые совершенно неожиданно для Солонецкого сделали его большой и пустой дом обжитым и радостным.
Глава 21
Давно Солонецкий не чувствовал себя таким счастливым, как в эти дни. Даже угроза консервации стройки не казалась ему такой уж страшной и неизбежной бедой. Он был весел и оживлён, на планерках шутил и старался помирить ссорившихся начальников подразделений. По вечерам не задерживался, как прежде, в кабинете, а спешил домой.
Шумно врывался в свой дом и обнимал ожидающую его Ольгу Павловну. Каждый вечер они накрывали стол и устраивали маленький праздник для двоих. И он не был тем Солонецким, каким его знали Вера Сергеевна, Туров, Смирнов, Расторгуев. Он был другим – настоящим Солонецким, которого знала раньше только Ирина…
Но в одно ещё по-зимнему морозное утро вся глыба проблем стройки навалилась на него, и он стал прежним Солонецким.
Запершись с утра в кабинете, он отменил планёрку и стал разбираться в бумагах, что скопились на рабочем столе.
Дольше всего сидел над выкладками бухгалтерии.
Потом вызвал главного бухгалтера.
Савельев вошёл, как всегда сердито пыхтя, опустился в заскрипевшее под его весом кресло, молча стал барабанить толстыми пальцами по столу.
– Алексей Алексеевич, бог ты наш, не могу разобраться. – Солонецкий легонько отодвинул от себя бумаги, исписанные аккуратными цифрами, свидетельствующими о том, что за три месяца допущен значительный перерасход фонда заработной платы.
– Там всё ясно изложено, – буркнул Савельев, не принимая предлагаемую игру.
– Изложено-то изложено, да вот не пойму никак, это что, экономия у нас? – ткнул карандашом Солонецкий.
– Была… В мечтах… – отпарировал Савельев.
– Ох, чёрт, – делано удивился Солонецкий. – А я-то думал, вот премиальные сейчас подпишу, этак по окладу…
– Ну да, размечтались, – опять буркнул Савельев, но барабанить по столу перестал, подался вперёд. – А вот это что? – строго спросил он.
– Где? – удивился Солонецкий, делая вид, что усиленно разглядывает место, куда упёрся палец Савельева. – А-а, это… Так вот и я о том же…
– Юрий Иванович, – затянул Савельев, – целый год одна и та же песня, ну нет у меня денег, нет, и вы прекрасно это знаете. И понимать я вас не стану. Не стану, потому что банк меня не понимает. – Савельев начинал нервничать. – Дайте хоть до пенсии доработать спокойно, – неожиданно жалобно закончил он.
– До пенсии у нас с тобой дистанция одинаковая, – подвинул к себе бумаги Солонецкий. – А цифири для людей, а не наоборот.
– Не могу, – отрубил Савельев. – Хоть что делайте, не могу и не буду. С кого спросят? С бухгалтера. С вас как с гуся вода, а меня и под суд могут…
– Меня тоже могут, только волков бояться…
– Банка, банка надо бояться, а не волков.
– Алексей Алексеевич, – зашёл с другого бока Соловецкий. – А я ведь не зря в главк летал…
Савельев насторожился.
– Я ведь кой-чего привёз, – многозначительно произнёс Солонецкий. – Так что скоро все проблемы твои снимутся, и будешь ты опять миллионером, а не скрягой…
– Ох, сколько раз я это уже слышал, – вздохнул Савельев.
– Теперь уж точно. Так что давай-ка мы решим этот вопрос полюбовно.
– Не могу.
– Да нет, мы уж решим, – нажал Солонецкий.
Савельев упрямо покачал головой.
– Найдём деньги, найдём, – твёрдо сказал Солонецкий. – И рабочим заплатим.
– Только по вашему приказу.
– Хитёр, Алексеич, хитёр… Ты же знаешь, что мой приказ ничего не значит…
Солонецкий прищурился и не отводил взгляда до тех пор, пока наконец Савельев не сдался.
– Вот за что я тебя, Алексеич, и на пенсию не отпущу, будешь со мной до последнего дня ездить, – подсластил он, и главбух, так и не высказав свой последний и самый главный довод, молча вышел из кабинета.
Оставшись один, Солонецкий порадовался своей победе, но радость была короткой, надежда на то, что в ближайшее время отношение к стройке изменится и всё пойдёт так, как идёт в самый накал строительства, когда деньги текут рекой, мелькнула и ушла. И чтобы сбылось то, в чём он только что заверял главбуха, надо было готовить обстоятельную толковую записку, против которой не выстоят в министерстве, в Госплане. Надо было доказать целесообразность продолжения строительства. Но какой должна была быть эта записка, чтобы отмести все доводы Ладова, Солонецкий пока не представлял.
– К вам Костюков, – доложила секретарша.
– Пусть войдёт.
Костюкова после приезда он видел только на планёрках и не форсировал разговор, который был неизбежен. Начальник главка намекнул о Костюкове. Рано или поздно с ним надо было поговорить начистоту, но лучше бы не сейчас.
– Что у тебя? – спросил он, давая понять, что на длинный разговор не настроен.
Костюков сел, вытянул ноги, помолчал, словно сказанное не имело к нему никакого отношения.
– Мы с вами и парой слов не успели перекинуться, – начал он. – А положение серьёзное, Юрий Иванович. Главного инженера нет, надо что-то предпринимать…
– Есть предложение?
– Предложения, собственно, нет, но, как ваш заместитель, я обеспокоен сложившейся ситуацией.
– Главный инженер – это моя прерогатива…
– Совершенно верно, но мы делаем одно дело.
– Это верно, одно. Только по-разному… Кстати, как вы, мой заместитель, относитесь к моему… аморальному поведению? – серьёзно спросил Солонецкий.
Костюков помедлил. Он искал единственно верный ответ и после паузы произнёс:
– Не одобряю.
– Лаконичная формулировка.
– Формулировка – это дело десятое, главное – факт, говоря словами нашего бывшего главного инженера.
– А вы записываете цитаты?
– Боже упаси, у меня хорошая память…
– У вас ведь и выговоров нет?
– В послужном списке – одни благодарности.
– Вот я и думаю. – Солонецкий вздохнул. – Как же нам с вами разойтись?.. Но тут – как в дешёвой мелодраме: я к вам симпатий не питаю, а вот вы, наоборот…
– Да нет, в принципе я тоже… Только расходиться мне действительно не к спеху. Вот если бы с вашей помощью да куда мне хочется…
Солонецкий усмехнулся. Вот и поговорили искренне. Костюков из тех, кто и на понижении поднимается вверх.
– И всё-таки уйти вам придётся без моей помощи, – сказал он. – Со своими обязанностями вы справляетесь, но от руководителя, особенно сегодня, требуется не только это, не так ли?.. И мой совет: надумаете жаловаться, не пишите заведомо неверных фактов, нынче это чревато наказанием… Обыгрывайте всё тоньше.
– Я ведь могу в суд подать.
– А разве я вас оскорбил?
Костюков долгим взглядом посмотрел на Солонецкого.
Начальник строительства улыбался, и он растерялся: неужели отношение к Солонецкому в главке изменилось?
Только вчера ему звонил Сорокин, но ничего определённого не сказал. И теперь Костюков сделал вывод, что начальник строительства вернулся со щитом…
– Я надеюсь, месяц вы мне отпустите на решение этого вопроса? – как можно спокойнее произнёс он.
– Ну что ж, месяц – это по-божески.
Костюков подчёркнуто церемонно раскланялся и уже у самой двери, словно забыв, о чём шла речь, сказал:
– А главный инженер нам непременно нужен. Мне кажется, Туров вполне справится.
– Спасибо, Илья Герасимович, в этом, пожалуй, я вас поддержу.
– Всего хорошего.
…Вместо ожидаемой тяжести разговор этот принёс Солонецкому облегчение, хотя он и понимал, что Костюков не такой человек, чтобы вот так, по-джентльменски, покидать поле боя – теперь ждать да ждать какой-нибудь неприятности.
Впрочем, не только разговор с Костюковым был причиной хорошего настроения: после затяжной полосы неурядиц всё вдруг вновь пошло так, как хотелось. Он ощутил наконец свою власть над событиями, вернулась уверенность, и каждодневные заботы уже не казались однообразными и ненужными.
И всё-таки на объектах, решая оперативные вопросы, он всё больше и больше убеждался в необходимости скорейшего назначения главного инженера. На центральных складах управления материально-технического снабжения стояли новые станки и механизмы. Солонецкий помнил, сколько вечеров просидел Кузьмин над проспектами, сколько времени провёл в подразделениях, пока доказывал необходимость их приобретения. И вот они стоят невостребованные.
Только народного контроля и не хватает, подумал он, отрывая упаковку на одном из станков. Блеснула оранжевая, новенькая, покрытая масляной плёнкой панель.
– Навесом хоть прикрой, – сказал он начальнику управления снабжения. – Что, не берут?
– Не берут, – покачал головой тот. – Геннадий Макарович сам заезжал, давил… А после того, как экспериментальные полетели, даже Гриневский упирается.
– Вот тебе и ускорение. На словах все за него, а как до дела, так то смелости, то ума не хватает, – словно оправдываясь, произнёс Солонецкий.
Да, с главным инженером надо было решать, и решать незамедлительно.
Из разговора с начальником главка Солонецкий понял, что одним из аргументов против консервации стройки будет и то, как гидростроители поработают в ближайшие месяцы, создадут ли базу, чтобы в будущем году освоить в три раза больший объём.
Сейчас каждый день стоил двух.
И Солонецкий физически ощутил, как бежит время.
Расторгуев, уже привыкший, что шеф теперь на работе не задерживается, подвёз его к дому. Солонецкий хотел было поворчать на него, заставить везти в управление, но, глядя на ярко горевшие окна, распахнул дверцу.
Только и сказал:
– Ох, Расторгуев…
– Работа не волк, – хитро улыбнулся тот, – а женщинам внимание требуется…
– Ну, ты уж знаток, – ехидно заметил Солонецкий. – Завтра с восьми будь на месте.
И пошёл по дорожке, прокопанной в снегу, ловя себя на радостном волнении.
На крыльце обмёл снег, надавил кнопку звонка и не отпускал, пока не услышал голос Ольги Павловны:
– Сейчас, сейчас…
Дверь открылась.
Ольга Павловна стояла на пороге в его клетчатой рубашке с завёрнутыми рукавами, с кистью в одной и палитрой в другой руке, и Солонецкий, настроившийся было обнять её, замялся.
– А я работаю. Но сейчас всё брошу.
Приподнявшись на цыпочках, она поцеловала его в щёку и исчезла.
Он разделся. Ловя себя на детском любопытстве, которого давно уже не испытывал, крадучись прошёл по коридору, заглянул в комнату. Возле окна на этюднике стоял натянутый холст, на котором уже отчётливо было видно чем-то знакомое и одновременно незнакомое лицо.
– Я сейчас, – не оборачиваясь, повторила Ольга Павловна, касаясь кистью лица на холсте…
От него живого она была сейчас далеко…
Он ушёл на кухню, поставил на плиту суп, стал накрывать на стол, пытаясь найти объяснение неожиданной ревности.
– Ну вот и я, – вошла Ольга Павловна. – Голодный? – Обняла его. – Тебе не понравился портрет?
– Нет, ничего. Довольно прилично…
– Что: портрет или натура?
– И то, и другое, – дипломатично ответил Солонецкий, касаясь губами шеи Ольги Павловны.
– Я хочу, чтобы это была моя лучшая картина…
– Мне кажется, портрет нравится тебе больше, чем я.
– Ты ревнуешь? – она всплеснула руками. – Ревнуешь к себе самому?
– Нет, конечно, – возразил он. – Просто… Мне нравится, только не изменяй мне с ним, – шутливо произнёс он. – И поужинай со мной…
Ольга Павловна ласково, как маленького, погладила его по голове.
…Лёжа в постели, ощущая плечом горячее плечо Ольги Павловны, Солонецкий вдруг представил Танюшку, когда та перед сном ходила в цветастой пижаме по комнатам – его дочь, такая уже большая и красивая, немножко стесняющаяся его, шушукающая по вечерам с матерью, капризно выгибающая губу. Он вспомнил её протяжное «па-ап», выражающее неодобрение или недовольство. Вспомнил её беды и радости, о которых ему не положено было знать, только матери. Но Ирина по ночам тихонько выбалтывала их, и они вдвоём решали, что и как лучше посоветовать дочери, чтобы было ненавязчиво, необидно, но правильно. И сложнее всего было давать советы, когда дело касалось отношений его дочери и мальчиков.
Он вдруг вспомнил всё это отчётливо и остро.
И спросил:
– Ир, а ты меня не разлюбила?
И хотя оговорка получилась неожиданной, он спрашивал именно Ольгу Павловну, именно от неё ждал ответа, имя жены перечеркнуло и важность самого вопроса, и ту близость, которая только что объединяла их.
Ольга Павловна молчала.
Потом поднялась.
В темноте Солонецкий еле различал её тело, чуть белеющее, размытое, он его скорее чувствовал, чем видел.
Она прошла к окну, отдёрнула шторы, и теперь в свете фонаря на улице он видел её хорошо.
– Ты красивая, – тихо сказал он. – Красивая и молодая.
– Не надо, – не оборачиваясь, произнесла она. – Ты прекрасно знаешь, что не в этом дело. Не надо, Юра. Я баба, а у баб хорошая интуиция. Если хочешь, инстинкт…
Она замолчала.
И он молчал. Мысли его дробились, и ему казалось, что это жена стоит у окна. Что там, за стеной, спит его взрослая дочь, которая уже давно знает, откуда берутся дети и почему папа с мамой спят в одной постели. И что Ирина сейчас вернётся к нему, приложит палец к губам, тихо пристроится на плече и шёпотом, с трудом сдерживая смех, скажет: «Ну, старички, разыгрались…»
– Ты умный, ты добрый, ты трезвый, но всё-таки не знаешь и никогда не узнаешь себя, – сказала Ольга Павловна. – Бежишь от себя и прячешься от себя, а самое сложное и самое важное – это понять себя. Понять, почувствовать, поверить, не обмануться…
– Я люблю тебя, – сказал Солонецкий.
Ольга Павловна легла рядом, положила голову ему на грудь. И он стал гладить её волосы, лицо. Она доверчиво приникла к нему, и Солонецкий ощутил жалость и любовь.
Обнимая её, он словно преодолевал своё и её настроение, и они уснули, забыв о неприятном и трудном для них разговоре.
Глава 22
То, что чувствовала Ольга Павловна, но во что не хотела верить, надеясь, что женское чутье её обманывает, в эту ночь стало очевидным. Она поняла, что Солонецкий всё так же любит свою жену. Но боли не было – была определённость в осознании краткости этих дней или месяцев, отпущенных на её долю. Теперь, когда она была уверена, что их совместная жизнь не сможет продолжаться долго, она спешила отдать ему всю свою любовь, пережить сладость и боль этих дней, словно предугадывая, что никогда больше так любить не сможет.
И это понимание она вкладывала в портрет. На нём Солонецкий получился таким, каким знала его только она…
Голубоглазая Василиса, её соседка по общежитию, с грубоватой простотой посоветовала ей скорее тянуть Солонецкого в ЗАГС, «пока не очухался». Её обидел этот совет, но переубедить Василису в том, что счастье бывает и таким, не скреплённым никакими бумагами, она не смогла.
Ольга Павловна вспомнила тех, кто любил её и кого, как ей казалось, любила она в школе, училище.
Вспомнила бывшего мужа. Он обожал шумные компании, пустые разговоры, проповедовал любовь – свободную, без условностей. Иннокентий был известным художником, преподавал у них в училище. Когда предложил ей руку и сердце, а она согласилась, знакомые зашептали, что она оказалась удачливее многих студенток, которые уже жили до этого с Иннокентием Степановичем, но так и не вынудили того пойти под венец.
Она вспомнила ночь после свадьбы и удивлённый шёпот Иннокентия: «У тебя что же, никого не было?» и его странный смешок. И поспешное объяснение, как ей показалось, виноватое и грустное: «Я ведь уже немолод, Олюша, не надеялся на любовь девочки». Но уже через три месяца она застала в своей постели сокурсницу, и Иннокентий нисколько не смущаясь, заметил, что собирается писать грузинскую царицу, а её подруга – подходящая натура. А бывшая подруга, томно потягиваясь, не стесняясь ни её, ни безмятежно покуривающего Иннокентия, с превосходством смотрела на неё.
Тогда было больно, обидно. Тогда она пережила крушение любви. Чудом пережила – не отравилась, не бросилась в Неву, но вышла из этого состояния уже не жизнерадостной девчонкой, а умудрённой жизнью и осторожной женщиной.
И вдруг случайная встреча с Солонецким. И неожиданная любовь, заставившая приехать сюда, к нему…
Сейчас она не заглядывала вперёд, не строила планов, как будет жить дальше одна, она просто наслаждалась своим сегодняшним счастьем и думала о ребёнке…
Солонецкий закрутился в водовороте дел.
Туров, назначенный исполняющим обязанности главного инженера, по вечерам засиживался в кабинете, с головой окунувшись в новые для него проблемы и заботы.
Через неделю он зашёл к начальнику строительства и сказал, что главным инженером быть ему уже поздно.
– Думаешь, мне начальником быть не поздно? – спросил его Солонецкий. – Сам знаешь, не железный, а вот сижу, руковожу…
– Не лукавь, – устало произнёс Туров. – Ты привык уже на этом месте. А я там, в своём управлении. Я там все задворки знаю, мне двух часов в день хватало, чтобы всё крутилось. Приходил по вечерам, внуков тискал. А сейчас валюсь замертво…
– Привыкнешь, – неуверенно пообещал Солонецкий.
Туров покачал головой.
– Кузьмина я не заменю. Не получится, Юра, при всём желании.
Солонецкий вздохнул.
– Некому, кроме тебя, – честно сказал он. – Некому, Сергей, а потому – тяни.
– Но надолго меня не хватит. – Туров покрутил в руках авторучку. – Ищи замену, Юрий Иванович, ищи, пока всё не завалил.
И, словно кто подслушал их разговор, на следующий день пришло толстое, отпечатанное на машинке письмо Ладова.
Он писал, что дела его идут неплохо, что по вечерам он сидит на работе, просчитывает стройку и уже нашёл веские доводы за продолжение строительства, против которых никто не устоит, а значит, и консервации не будет.
Какие именно доводы, он не уточнял, и, читая это место, Солонецкий усмехнулся.
Ещё Ладов писал, что засиделся в главке, хочет живой интересной работы, затосковал по Северу, по коллегам-гидростроителям. Одним словом, совсем не против приехать на стройку работать. И в главке в принципе не возражают, а начальник главка намекнул, что всё дело теперь за Солонецким.
«Мы с тобой друг друга давно знаем, – писал Ладов. – И то, что случилось – такая нелепица, которой и объяснения-то не найдёшь. Я нисколько не выгораживаю себя, вёл себя отвратительно, но в своих подозрениях насчёт Ирины ты не прав. И вообще, надо сказать, что ты плохо знаешь свою жену и своих друзей…»
В конце Ладов писал о слухах, которые якобы расползлись уже по всему главку о его связи с Ольгой Павловной. По-дружески пожурил и в то же время похвалил, лестно отозвавшись об этой «умной и красивой» женщине. Писал, что лично его это не касается, но он решил поставить в известность, ибо слухи есть и не каждый воспримет их так, как подобает.
Письмо было витиеватое, большое, с отступлениями и ответвлениями, с намёками и недомолвками. И только в конце Ладов несколько приоткрыл карты, словно бы вскользь обмолвившись о том, что вопрос о его переводе в Снежный фактически решён.
Солонецкий показал письмо Турову, и тот искренне обрадовался:
– Слава богу. Так-то оно лучше. Вернусь в своё управление и заберу к себе Божко главным инженером. На пенсию пойду – вот и замена.
– Это мы ещё посмотрим… Божко и сейчас на своём месте, а потом – не считай, что твоё управление слишком уж заманчивая для него перспектива.
– Тогда к себе замом бери, – серьёзно посоветовал Туров. – На место Костюкова. Не прогадаешь.
– А это уж я сам как-нибудь, – сердито сказал Солонецкий. – Советы ты мастер давать, а сам в кусты.
Туров не обиделся:
– Всё равно послушаешься. Глаз у тебя хороший…
– Только вот в отношении тебя промахнулся.
– Бывает и на старуху проруха.
– Мне твоё настроение не нравится, – сказал Солонецкий. – Мы с тобой друг друга уже, наверное, четверть века знаем, так что давай без выкрутасов…
– И мы с тобой вроде всегда говорили друг другу всё честно, так?
– Так, – растерянно согласился Солонецкий, не понимая, к чему тот клонит.
– А теперь я не хочу, чтобы говорили, дескать, Солонецкий друзей пристраивает. Больше того, я дружбы нашей терять не хочу…
– Ну, это ты слишком.
– Да нет, Юра, в самую точку. Уважение – оно ведь на деле строится. А человек редко объективен бывает, оценивая близких или друзей. Начнутся разговоры, пересуды… Не подумай только, что боюсь. – Туров усмехнулся. – Просто силён был Кузьмин. После него я как пигмей после великана…
– Не прибедняйся.
– Говорю так, потому что знаю, на что способен. Такого начальника на основные сооружения, как я, тебе долго искать придётся в случае чего… И вот что я тебе ещё посоветовал бы, – после паузы негромко добавил Туров. – Кузьмина надо возвращать…
– Как? Упасть на колени, умолять?
– Зачем же. Ты прекрасно знаешь, как это сделать. Я уверен, он уже жалеет, что погорячился. И потом, ведь вы с ним ни разу по-человечески не поговорили. Ты обвиняешь Кузьмина в бездушии, в том, что железки и дело для него превыше всего, что он за ними людей не видит. А сам-то знаешь, что у него на душе, чем живёт?.. Нет. Ведь ни разу не поговорили, чтоб не о делах. Водки вместе не выпили.
– Он не пьёт, – буркнул Солонецкий. – Да и нельзя нынче. С пьянством боремся.
– Ты же понимаешь, о чём я…
– Ладно, давай закроем эту тему. Ну а насчёт тебя я подумаю.
– Вот и думай. – Туров встал. – Засиделись мы с тобой.
Солонецкий взглянул на часы:
– Действительно.
– Одевайся, я тебя подожду.
…В холодном воздухе необычно ярко горели фонари. Торопливо пробегали прохожие.
– Морозец, – крякнул Туров, поднимая воротник. – Когда к нам вдвоём заглянете?
Солонецкий не сразу понял, кого он имеет в виду, а когда понял, неожидано огорчился. Втайне он побаивался встречи с Полиной Львовной – он был уверен, что она выразит ему своё презрение, может быть, даже не захочет разговаривать. Но оказывается, Туровы ждут не только его.
– Может быть, и заглянем, – неуверенно пообещал он. – А вообще, Серёга, если по-мужски…
Недоговорил, сдержал себя на полуслове, испугавшись, что сейчас скажет что-нибудь обидное и глупое об Ольге Павловне. Скажет то, что потом себе никогда не простит.
– Не до этого сейчас, – выкрутился он.
– Ну смотри, как будет время… Полина познакомиться хотела.
– Угу, – промычал Солонецкий.
Попрощавшись, он прошёл ещё несколько шагов и вдруг повернул в сторону от дома. Там его ждали теперь и беспокоились, но почему-то вернулось забытое нежелание возвращаться домой.
Он шёл по кромке укатанной дороги, отступая в сторону, когда мимо проносились тяжёлые КрАЗы, и думал о Кузьмине. Было непонятно и странно, что Кузьмин – не как специалист, а как человек, которого он не принимал, которого, если честно говорить, даже опасался – вдруг оказался ему необходим. Вернее, он был необходим производству, стройке. Но ведь Кузьмин человек, а не машина, и его нужность Солонецкому и в целом обществу предполагала не только исправное служение делу, но и образ мышления, его отношение к жизни…
И в этом они не были похожи.
Солонецкого, как он сам считал, можно было отнести к идеалистам.
Кузьмин же был технократ.
«Похоже, их время пришло», – подумал он.
И мысль эта испугала.
Кто они, фанатично преданные делу и видящие в людях лишь исполнителей? Жёсткие прагматики, для которых главное – дело?.. Куда они поведут общество?
К бездушию?..
Но он вспоминал вечные пробивания, проталкивания, уговаривания и стал убеждать себя, что приход нового поколения, людей, похожих на Кузьмина, обществу необходим. Дальше всё так, как шло, идти уже не может. На примере своей, уже четвёртой, стройки он видел, что экономика трещит по швам. Масса сил тратилась и тратится на заведение отношений, приятельств и знакомств. А дело помимо воли катится на старых, невесть когда нажитых методах управления. Сколько раз он сам удивлялся абсурдности приказов и решений, приходящих сверху. Сколько раз скрипел зубами, но – исправно впрягался в лямку заведомо бесперспективной идеи.
Но не пересилит ли рациональное бездушие Кузьмина те человеческие отношения, на которых всё держится в этом мире? И не отринет ли он и ему подобные то, что делали до них, то как жили до них….
Страшно узнать вдруг, что всю жизнь ты жил не так. И думал не так. И делал не то. И в результате не способствовал, а тормозил естественный ход истории…
Обойдя посёлок, Солонецкий вновь вернулся к дому. К его удивлению, в окнах было темно.
Открыв дверь своим ключом и не зажигая свет, он снял шубу и унты. В темноте на ощупь нашёл на плите тёплую кастрюлю, съел пару ложек борща и прошёл в спальню.
Он раздевался не видя, но ощущая притихшую Ольгу Павловну, боясь, что она сейчас что-нибудь скажет, спросит о чём-то – может быть, о самом главном. И он солжёт.
Но Ольга Павловна молчала.
Осторожно прилёг на краешек постели.
Ольга Павловна спала.
Она лежала, свернувшись клубочком поверх одеяла, укутавшись в покрывало, ровно дыша, ему показалось, что он даже разглядел на её губах улыбку.
Он наклонился к ней, погладил по голове – легонько, чтобы не разбудить, потом обнял и стал засыпать, забывая свои нерадостные мысли и тоску…
Глава 23
Две недели Солонецкий пытался разобраться в бумагах Кузьмина. Он решил сделать это сам, не обращаясь ни к кому за помощью, и долго не хотел признаться, что в инженерных вопросах знает гораздо меньше своего бывшего главного инженера. А ведь было время, и не так уж давно, когда он мог поставить на место любого специалиста. Когда ни в одном вопросе никто не мог его провести. Да и сейчас не было на стройке человека, который мог бы сказать, что начальник строительства чего-то не знает.
Но расчёты и обоснования Кузьмина он до конца не понимал.
Он попросил Веру Сергеевну принести из библиотеки книги, список которых получился довольно длинным, ещё три дня не выходил из кабинета. И чем больше вникал в проекты Кузьмина, которые в своё время, пролистав, отложил в сторону, тем больше сознавал, как далеко вперёд заглядывал их автор. Его замыслы одновременно захватывали и пугали. Они требовали огромной энергии, которой Солонецкий в себе не чувствовал.
Он разозлился, забросил папку в ящик стола и несколько дней подряд не вылезал из котлована, машинного зала будущей станции, побывал на ЛЭП. Сгоряча отчитал Божко, хотя видел, что после Сорокина многое в управлении механизации изменилось в лучшую сторону. По заслугам и не выбирая выражений разнёс Гриневского, исправно гнавшего метры и как всегда перевыполнявшего план, – за несоблюдение техники безопасности.
В конце этой недели ему стало казаться, что теперь и без революций всё сдвинется, покатится дальше с ещё большим ускорением. И в это время пришла бумага из главка. Ещё особо не вникая в объёмистый приказ, подписанный Киреевым, прочтя только первые строки, Солонецкий вспомнил письмо Ладова, на которое он так и не ответил, и запоздало пожалел об этом.
Это была ошибка, которую при его опыте допускать было непростительно.
Это была инерция тех добрых отношений, которые всегда расслабляют, всегда обманывают, и теперь он расплачивался за неё.
Приказ в категоричной форме, если не считать неким послаблением срок в один месяц, обязывал свернуть основные работы и представить в главк план ведения работ в новом году с учётом снижения темпов строительства более чем в два раза.
Это было начало консервации.
Это было последнее киреевское проявление личного расположения к Солонецкому – месяц на ответный ход.
Это был последний шанс выстоять против Ладова. А то, что в издании этого приказа не последнюю роль сыграл именно Ладов, Солонецкий понял из пояснительной записки. Читая её, он удивлялся умению Ладова так убедительно выстраивать аргументы под желаемый вывод. Всё было подогнано, сшито так, что ни белых ни чёрных ниток заметить было нельзя. И теперь письмо Ладова, которое показалось Солонецкому просительным, высвечивалось иначе. Это было письмо-предупреждение, письмо с предложением выхода.
Это была защита, которую скорее можно было бы назвать нападением.
Солонецкий откинулся в кресле и вдруг вспомнил давний сон, преследовавшего его человека, чёрный зрачок направленного на него ружья. Нет, сниться тогда должен был не Кузьмин. Человеком, безжалостно догоняющим его в тундре, был Ладов.
Правда, не укладывалось в голове, почему заместителю начальника главка так хотелось сменить свой уютный кабинет в городе на прозябание среди тундры. Здесь были мотивы, о которых Солонецкий не знал и мог только догадываться. По доходившим до него слухам, которым он в своё время не придал значения, Киреев был недоволен своим заместителем и не прочь был его заменить. И если это так, то всё раскладывалось по полочкам. Добровольно попроситься на гиблую стройку, а именно такой Ладов представил её, вернувшись в главк, чтобы якобы навести порядок, доказав своё умение, а потом использовать её как трамплин, как веский довод против того же Киреева… Ну и заодно показать, на сколько голов он выше Солонецкого…
– Нет уж, друг ситный, мы ещё поборемся, – нажав на кнопку звонка, вслух сказал Солонецкий.
Вошла Вера Сергеевна.
– Кофе, Вера Сергеевна, да покрепче…
По-разному принимал Солонецкий решения.
В молодости – лихо, сразу, не всегда потом сознаваясь в их неверности.
С годами научился не спешить, потом – не медлить, но взвешивать все «за» и «против» в те считанные минуты, пока подчинённые выясняли отношения на планёрках.
Но принимать решение вот так сразу, не просчитав все варианты, давно уже не приходилось…
Вера Сергеевна принесла кофе.
Размешивая ложечкой сахар, попросил заказать главк, позвонить в любой отдел и узнать телефон их бывшего главного инженера.
Через час телефонистка соединила его с подмосковной стройкой. Солонецкий вспомнил, что уже поздно, вряд ли Кузьмин на месте. Но в трубке раздался еле слышный голос Кузьмина: «Я вас слушаю». Он прозвучал так неожиданно, что Солонецкий в растерянности брякнул:
– Я уже не надеялся, допоздна засиживаетесь…
– Простите, не понял?
– Это Солонецкий.
Он выждал.
После паузы Кузьмин ровным голосом сказал:
– У нас с вами разница на четыре часа.
– Вот дьявол, совсем забыл, – искренне удивился Солонецкий и снова помолчал.
Потом стал расспрашивать о погоде, здоровье, словно ради этого только и звонил. И Кузьмин неожиданно охотно стал рассказывать, какой снежок сыплет за окном и что зима здесь не то, что в Снежном, беднее и на мороз, и на снег, говорил так, словно никуда не спешил, и это было непохоже на него.
И Солонецкий решился:
– Я вот по какому поводу звоню, Геннадий Макарович, – он переждал шипение. – Хочу попросить прощения за свою бестактность…
– Ну что вы, – отозвался тот. – Скорее уж мне надо это делать.
– Это делают не по возрасту или чину… В общем так… В конце концов, выбор за вами, а выводы наши. – Это прозвучало со скрытым вызовом, но Солонецкий об этом не подумал. – Стройку нашу с вами предлагают законсервировать уже в приказном порядке. Срок на возможную апелляцию – месяц. Выводы главка не в нашу пользу, главного инженера у меня нет, а один я, похоже, не отстою… Так что всё зависит от вас. С Киреевым вопрос принципиально решён, против вашего возвращения он не возражает.
Кузьмин молчал.
Солонецкий ждал.
Он мог бы сказать, что предоставит Кузьмину свободу, примет все его условия, но не делал этого.
– Я подумаю, – наконец услышал он далёкий голос.
Солонецкий торопливо произнёс:
– Только недолго, Геннадий Макарович, времени в обрез.
– Я понял.
Кузьмин положил трубку.
Опустошение и растерянность вдруг навалились на Солонецкого. Сдавило грудь, и он неподвижно застыл, боясь пошевелиться. Нет, иначе поступить он не мог. То, что сделал, было единственно правильным.
Когда сердце отпустило, оделся и вышел на улицу.
Ночь стояла морозная и тихая. Прохожие прятали лицо в воротники, кутались в шарфы, и Солонецкий удивился, что не чувствует холода. И только на середине дороги, когда стало пощипывать нос и щёки, он вспомнил, что с утра было около тридцати градусов.
Вдруг ночь стала светлеть. В мягком синеватом полумраке померк свет уличных фонарей, и на звёздном небосводе он увидел сиреневую, плывущую к посёлку ленту. Переливаясь, она приближалась, словно выплясывала странный, вызывающий оторопь танец, и Солонецкий стал глядеть на неё, запрокинув голову и придерживая рукой шапку.
И ощутил прилив необъяснимого веселья.
– Красиво! – сказал остановившейся рядом парочке.
Девушка, прижимаясь к парню, отозвалась:
– Почему-то страшно…
– Не трусь, я с тобой. – Парень обнял её за плечи, и они ушли от Солонецкого.
Северное сияние охватило уже всё небо. Казалось, весь посёлок высыпал на улицы. Молодёжь дурачилась, резвилась в голубом свете, старики перебрасывались скупыми фразами, вспоминая, каким оно было в прошлом году.
Солонецкий неторопливо брёл по улице.
На площади перед домом культуры он увидел Ольгу Павловну. Её и Василису окружили парни. Они о чём-то оживлённо беседовали. Солонецкий догадался, что те пытаются познакомиться и удивился, как она ещё молода…
Ольга Павловна вдруг резко оттолкнула стоящего перед ней парня, торопливо пошла в сторону Солонецкого.
– Ну что ты совсем распахнулся, холодно же. – Она заботливо поправила ему шарф, застегнула пуговицы, и Солонецкий не стал сопротивляться.
Василиса вместе с парнями весёлой гурьбой вошли в клуб.
– Пошли домой, хороший мой.
Ольга Павловна подхватила его под руку. Они пошли по улице, и она всё что-то говорила и говорила, и он очень любил её в этот момент.
Дома Ольга Павловна раздела его, накормила, уложила в постель. Легла рядом, крепко обняв, и только тогда сказала:
– Я закончила, Юра… Я закончила портрет.
– Ты рада?
Она не ответила, стала гладить его грудь. Её волосы, пахнущие цветущей степью, вызывали неясные и волнующие воспоминания и помимо воли он видел лицо Ирины…
– Ты всё понимаешь, – сказал он.
– Да, я всё понимаю, – после паузы отозвалась Ольга Павловна и ещё крепче обняла его. И он не стал говорить то, что собирался сказать.
– Расскажи мне о своей жене, – вдруг попросила она, всё так же прижимаясь к нему, и Солонецкий с удивлением отметил, что так, наверное, до самой смерти и не поймёт женщин.
Он стал рассказывать об Ирине, Танюшке и всё боялся, что она отодвинется, расплачется, уйдёт, но она крепко обнимала его, а потом, словно прочтя его мысли, сказала:
– Ты не переживай, я очень счастлива…
Солонецкий не уловил ни фальши, ни обиды, ни ревности, а оттого ему стало легко и радостно. И с мыслью, что всё обязательно будет хорошо, он уснул.
Он не слышал, как тихо встала Ольга Павловна. Заботливо поправив на нём одеяло, ушла, в ванную и там, закрывшись, прижимая к лицу полотенце, долго плакала…
Он проснулся утром бодрый и совершенно здоровый. Съел приготовленный Ольгой Павловной завтрак, поцеловал её и пошёл в управление.
Глава 24
Кузьмин прилетел в начале следующей недели, не звоня и не давая телеграммы. О его прилёте Солонецкий узнал от бдительного Пискунова, в разгар планерки доложившего: «Из самолёта вышел бывший товарищ Кузьмин и теперь сидит в вагончике, в общем зале, и ждёт оказию». Солонецкий приказал Пискунову во что бы то ни стало, хоть силком, провести Кузьмина в свой кабинет, напоить кофе или чёрт знает чем, чего тот захочет, и, пока не придёт машина, развлекать во всю мочь.
– А главное, – не замечая, что кричит, наставлял Солонецкий, – отправляй к чёртовой бабушке побыстрей борт! И чтоб никаких самолётов до того, как я подъеду.
Пискунов растерянно замялся, но Солонецкий положил трубку и наскоро свернул планёрку.
Уже возле машины его нагнал Костюков.
– Не затруднит вас меня подвезти?
– На аэродром? Вам-то что там делать?
– Расписание хочу посмотреть…
Солонецкий взглянул на улыбающегося Костюкова, неохотно сказал:
– Садитесь.
Когда машина тронулась, Костюков спросил:
– Кузьмина встречать едете?
– Откуда всё знаешь, Илья Герасимович, поделись? – обернулся Солонецкий.
– Дедукция… Конан Дойля люблю перечитывать.
– Ну, тогда и гадать нечего, устраивайся в Скотленд-Ярд.
– Время покажет, – скрывая обиду, уклончиво произнёс Костюков.
На аэродроме Солонецкий быстро прошёл в здание аэропорта – три состыкованных вагончика. Кузьмин сидел на скамейке, кутаясь в шубу, придерживая рукой пухлый коричневый портфель.
– Ну, здравствуй, Геннадий Макарович, – протянул Солонецкий руку и так посмотрел на суетящегося подле Пискунова, что тот невольно вытянулся, бросив руки по швам. – Как долетел?
– Нормально.
Кузьмин подхватил портфель и пошёл вперёд, а Солонецкий, поискав глазами, что бы ещё могло принадлежать главному инженеру, и не увидев багажа, вышел следом.
Перед машиной Кузьмин остановился.
Расторгуев распахнул заднюю дверку, и, положив на сиденье портфель, Кузьмин сел.
– Поехали, – сказал Солонецкий, устраиваясь впереди.
– А Илью Герасимовича? – негромко спросил Расторгуев.
– Поехали, – повторил Солонецкий и повернулся к Кузьмину. – Давно из дома?
– Вчера вечером.
– Повезло с погодой.
– Повезло. – Кузьмин помолчал. – Выводы Ладова – ошибочны…
– О делах потом, Геннадий Макарович. Сейчас поедем ко мне, отдохнёшь, пока твою квартиру в порядок приведут, а уж потом поговорим.
– Давайте сразу домой.
Их взгляды встретились, и Солонецкий отметил синеву, кольцами охватывающую глаза главного инженера.
– А ваши как? Семья? – спросил он.
– Семья? – задумчиво переспросил Кузьмин. – Один я, Юрий Иванович.
Кляня себя за бестактность, Солонецкий отвернулся.
Догадливый Расторгуев включил приёмник, завертел ручку, разыскивая станцию, которая лучше всех пробивалась сквозь разряды.
– Вот уж эти магнитные бури, – бодро вступил он в разговор. – У жены по утрам волосы дыбом встают от них…
– А может, не от того? – поддел Солонецкий. – Ты это выясни.
– А чего выяснять, всё и так ясно, – подыграл Расторгуев. – Как с вечера ко мне примастится, так до утра…
Солонецкий улыбнулся, поглядывая в зеркальце на Кузьмина, и ему показалось, что и тот улыбнулся.
– Дипломат ты, батенька, – сказал он Расторгуеву. – Давай-ка, вези нас ко мне. – И, повернувшись к Кузьмину, добавил: – Ольга Павловна нас накормит, а потом уж и домой тебя отведу.
Кузьмин промолчал, и Расторгуев свернул к коттеджу начальника строительства.
…Поглядывая через стекло машины на знакомые улицы, занесённые до самых окон дома, Кузьмин ловил себя на ощущении, что он вернулся из командировки. За эти недели на новом месте он не смог привыкнуть ни к мелким масштабам новой стройки, ни к её размеренному неспешному ритму, в котором не было места для новшеств. Новая работа не требовала его ума, его деловых качеств, она превратила его всего лишь в передаточное колёсико в исправном механизме. Теперь же он вернулся к своему делу.
С порога Солонецкий крикнул, что он не один, предупреждая Ольгу Павловну.
Та вышла в коридор в фартуке, покрытом пятнами краски, извинилась за свой рабочий вид. И всё это было сказано так естественно и буднично, что напряжение, которое не покидало Солонецкого, исчезло: он уже не боялся, что Кузьмину здесь не понравится.
Скинул пиджак, растегнул ворот рубашки, вошёл на кухню, сказав Ольге Павловне, что гостя передаёт в полное её распоряжение, пока он чего-нибудь приготовит. Но та пришла следом:
– У меня это привычнее получится.
Солонецкий подумал, что она умница.
Умница, потому что пришла к нему. Умница, потому что не задаёт вопросов, на которые он сейчас не хотел, да и не мог бы ответить.
– Вот так мы и живём, – входя в комнату, произнёс он. Кивнул в сторону закрытого тканью этюдника: – Не показывает… А любопытно чертовски.
– Я тоже увлекался. – Вдруг сказал Кузьмин. – В изостудию ходил, горшочки рисовал. Но таланта нет.
– У каждого свой, – отозвался Солонецкий и присел на диван рядом с ним. – Да, вроде мало времени прошло, а сколько всего произошло… – после паузы продолжил он, понимая, что отодвигавшийся разговор всё же должен произойти сейчас. – Записка Ладова действительно не имеет под собой почвы?
– Абсолютно. Хотя обвинить Ладова в предвзятости довольно трудно. Другое дело – в недостаточной компетентности.
Солонецкому казалось, что выводы Ладова неуязвимы. Было учтено всё: и уже вложенные деньги, и сроки, и предполагаемые потери квалифицированных кадров. И эти потери были всё-таки ниже тех, которые понесло бы государство, если стройку довести до конца: она-де не закроет нужды заполярного города в электроэнергии, поэтому лучше строить ГРЭС…
– Нефти и газа рядом, по прогнозам, не так уж много. Угля тем более, и выигрыш в два-три года обернётся проигрышем, – сказал Кузьмин. – Легко сосчитать, сколько мы потеряем только на перевозках сырья… К тому же с пуском всех агрегатов ГЭС почти закроет нужды. Экономичнее будет уже сейчас предусмотреть более мощные турбины. Время на их изготовление есть.
– А я даже не поинтересовался данными геологов, – признался Солонецкий.
Кузьмин промолчал.
– Что нового на строительстве? – спросил он после паузы.
– С Сорокиным расстались да Илья Герасимович собирается уходить…
Солонецкий посмотрел на Кузьмина.
Тот одобрительно кивнул.
Ольга Павловна позвала их к столу. Кузьмин ел с апетитом, нахваливая, а после обеда заговорил с Ольгой Павловной о современных художниках. Та оживилась, достала альбомы репродукций, разговор их стал Солонецкому неинтересен. Наблюдая за ними, он думал, как всё-таки люди ограничены служебными отношениями. Как много теряют, отказывая друг другу вот в таких, без подчинения и приказаний, вечерах. И оттого, что Кузьмин вдруг стал ему понятнее и ближе, Солонецкий поверил, что всё образуется. Будет ГЭС, будет посёлок – может быть, последнее его дело на земле. И ничего зазорного в том, что построить всё это Солонецкому поможет молодой главный инженер, с которым он во многом не согласен…
– Вы очень хорошо чувствуете живопись! – услышал он голос Ольги Павловны и вернулся в действительность.
– Хотел рисовать. Даже учился, – сказал Кузьмин, и неожиданно мягкая, почти детская улыбка преобразила его всегда строгое лицо.
– И что же вам помешало? – спросила Ольга Павловна.
– Как-нибудь потом расскажу, а сейчас извините. – Кузьмин поднялся. – Я с дороги…
– Действительно, – заторопился Солонецкий. – Я провожу.
Уже стоя у двери, Кузьмин попросил:
– Подарите мне какую-нибудь из ваших работ…
Ольга Павловна принесла небольшой этюд: маленький домик-времянка, по крышу занесённый снегом, приткнувшийся к одинокой берёзе. Протянула Кузьмину. Тот неожиданно наклонился, поцеловал ей руку и вышел.
Солонецкий набросил шубу и вышел за ним.
Снег задорно хрустел под ногами, унося звук шагов в тундру.
– Холодно после материка-то? – спросил Солонецкий.
– Не очень. – Кузьмин остановился. – Давайте внесём ясность, Юрий Иванович. Я буду работать, но только так, как я могу и хочу. Попробуйте меня понять.
– Чего уж там, – вздохнул Солонецкий и сбил шапку на затылок. – Прогорать так прогорать, кое-чему и я научился… А если выиграем, победителей не судят. Вот моя рука.
Кузьмин протянул свою.
…Солонецкий застал Ольгу Павловну задумчиво сидящей за столом. Положил холодную ладонь ей на плечо, она поёжилась, но не убрала, прижалась горячей щекой.
– Он женат? – спросила она задумчиво.
– Похоже, что неудачно.
– У него душа холодная, замороженная. Это женщина её заморозила… Такая же, как я.
– О чём ты говоришь? – Солонецкий поцеловал её. – Ты, наоборот, даришь весну и тепло.
– Это сначала, а потом… – Она прикусила губу, чтобы не заплакать. – Не смотри на меня, просто я устала от того, что не хочу любить тебя обыденно.
– Ты у меня совсем девчонка. – Солонецкий опустился перед ней на колени, провёл мизинцем под глазами, останавливая слезинки. – И большая умница.
– Это ты мальчишка, а думаешь, что очень мудрый старик, – улыбнулась она.
…В управление строительства Солонецкий пришёл наутро первым. Дверь в приёмную оставил открытой и, поглядывая на часы, стал ждать Турова. Но раньше пришёл Кузьмин. Поздоровался, повернул к своему кабинету.
– Геннадий Макарович, – окликнул его Солонецкий. – Зайдите ко мне… Я вот тут документы подобрал, папку вашу. – Он разложил всё на столе, развернул кресло. – Садитесь, работайте, а я по делам отлучусь.
Вышел в приёмную, плотно прикрыл за собой дверь. В коридоре столкнулся с Туровым.
Подождал, пока тот открыл кабинет главного инженера, вошёл следом, спросил, не давая Турову начать разговор:
– Внуки как?
– Внуки? – Туров усмехнулся. – Нормально, растут… Да я знаю, Юра.
– Донесли? Когда только успели…
– Почему донесли? Хорошая новость не донос. Думаешь: как, чтобы не обидеть, указать давнему другу его место? Не мучайся. Вот, гляди, – Туров выдвинул ящики стола, распахнул створки книжного шкафа. – Всё как при Кузьмине. Я ведь тебе говорил: поздно мне перестраиваться, переучиваться. Поздно, да и не смогу, внуков растить надо.
– Опять завёл… – поморщился Солонецкий. – Замом ко мне пойдёшь.
– Нет уж, уволь. Своё место я лучше тебя знаю.
– Все всё лучше меня знают! – вспылил Солонецкий. Он уже расхаживал по кабинету. – Так на кой ляд вам тогда нужен начальник строительства? За что ему зарплату платят? Видите ли, он лучше меня видел, будущее как гадалка, на два месяца вперёд рассчитал!.. Да я и сейчас не верю, что Кузьмин останется, ещё неизвестно, как к этому в главке отнесутся, в министерстве…
– Веришь, – не согласился Туров. – И Киреева ты убедишь, и Кузьмин работать будет. И я – начальником своего управления.
– И ты – моим заместителем.
– Спорить будем?
– Нет, я приказ подготовил.
– За моей спиной, без согласия?
– Производственная необходимость.
– Так, значит… – Туров помолчал. – А скажи, дружище, как главный я тянул?
Вопрос был прямой, и Солонецкий растерялся.
– Ну… Не совсем.
– И ты думаешь, это ты один видел? Моя бабка и та заметила, испилила, зачем, говорит, на старости лет позоришься. Нет, Юра, я себя знаю, силы свои знаю, здоровье. Новое мне не по плечу. А кресло? Кресло я никогда в своей жизни задом не грел.
– Я, пожалуй, так бы не смог, – неожиданно признался Солонецкий. – Догадывался бы, мучился, но молчал…
– Да брось ты кокетничать. И ты такой же, только тебе стройка по плечу, а мне – управление. Всё, Юрий Иванович, обижайся не обижайся, а это наши с тобой потолки.
– Даже так… И в министрах меня не видишь?
– Не вижу.
– А Кузьмина?
– Кузьмина вижу. Фора у него большая.
– Это какая же фора, умнее, что ли?
– Может быть, умнее и ненамного, зато молод.
– За одного битого…
Туров вдруг расхохотался, и Солонецкий захохотал, поняв, как нелеп его обиженный тон.
– Договорились, – поднялся он.
– Договорились. На старое место, – поставил точку Туров.
– Ну и чёрт с тобой, – махнул рукой Солонецкий. – Иди.
…Кузьмин, скинув пиджак, что-то писал. Бумаги лежали по всему длинному столу и, отрываясь, он просматривал то одну, то другую и снова склонялся над листком. Солонецкий в раздумье постоял на пороге, но всё-таки решился оторвать его.
– Уже работаете, Геннадий Макарович?
– Готов мой кабинет?
– Можете принимать, – неловко пошутил Солонецкий.
– Хорошо… Юрий Иванович, там я взял отпуск за свой счёт на неделю. Вам хватит этого времени?
Знает, подумал Солонецкий. Знает, что не звонил, что никакого согласия на его возвращение не получал.
– Вполне.
Он нажал клавишу селектора.
– Вера Сергеевна, помогите Геннадию Макаровичу перенести все бумаги в его кабинет и соедините меня с главком…
Глава 25
Всё дольше задерживалось на горизонте солнце. И хотя до настоящей весны было ещё далеко, с каждым днём отступала зима. Временами обрушивалась метелями, словно желая спрятать посёлок под снегом, но приходили и редкие оттепели, когда навстречу обманчивому теплу доверчиво распахивались форточки, а шубы сменялись пальто и куртками. Правда, Солонецкий замечал всё это мимоходом.
Уже через неделю после возвращения Кузьмина он почувствовал его грамотную и крепкую руку. На планёрках начальники подразделений теперь отмалчивались, не зная, что возразить на конкретные замечания главного инженера, завертелись снабженцы, которые в последнее время – с молчаливого согласия Костюкова – целыми днями гоняли чаи, появилась творческая группа в самом управлении строительства и по вечерам в кабинете главного инженера шли ожесточённые споры. Даже спокойный и, казалось, отстранённый от всего кроме своих обязанностей Смирнов признался Солонецкому, что с главным инженером работать непросто – себя не щадит и никому пощады не даёт.
За новым назначением улетел в Москву Костюков. Улетел тихо, впрочем, так же, как за спиной Солонецкого устраивал это своё новое назначение на строительство дальневосточной электростанции. Когда пришёл запрос из министерства, начальник главка позвонил Солонецкому:
– Не возражаешь против перевода своего заместителя? – спросил он.
– Не возражаю, – коротко ответил Солонецкий.
– Спихнул и доволен, – констатировал начальник главка. – Ну и кого ты прочишь в замы?
Солонецкий помедлил, поняв этот дипломатичный вопрос Киреева, и ответил так, как должен был ответить:
– Пока не вижу.
– Добро, подумаем…
В пятницу в посёлке появился Аввакум.
В малице, шапке с длинными ушами-завязками, с широкими лыжами на плече, он подошёл к управлению строительства в окружении толпы галдящих мальчишек, когда Солонецкий собирался ехать в котлован. Блестя замёрзшими на бороде сосульками, широко улыбаясь, крепко пожал руку Солонецкому.
– Ну, чистый абориген, – почему-то чувствуя неловкость, хлопнул его по плечу Солонецкий. – Ни дать ни взять – герой Джека Лондона… Надолго?
– Мука кончилась.
– Ты вот что, – сказал Солонецкий. – Устраивай свои дела и вечерком ко мне. Только обязательно, я буду ждать.
Аввакум кивнул:
– Зайду.
…По дороге Солонецкий вспомнил зимовьё, пургу, отрезавшую их от мира, и, казалось, канувший в прошлое спор. Сейчас его тогдашний страх и согласие с некоторыми словами Аввакума казались нелепыми. Жизнь клокотала вокруг страстями, воздвигалась делами, определялась борьбой, и ему было жалко Аввакума, не понимающего этого.
– Как самочувствие? – неожиданно спросил Расторгуев.
– С чего ты вдруг?
– Да вот жена интересуется, говорит, весна – период опасный…
– Кому как, мне, наоборот, весна на пользу.
Расторгуев помолчал, но не осилил любопытства, спросил:
– Юрий Иванович, а чего вы с этим чудаком разговариваете?
– То есть как? – не понял Солонецкий.
– Ну, здоровкаетесь с ним, знаетесь… Он же трутень.
– Разве?.. Да нет вроде. Ведь сам себя кормит, человек интересный.
– Не, – покачал головой шофер. – Интересный – это не аргумент. У меня сосед от водки сгорел, тоже интересный был…
Солонецкий хмыкнул.
– У твоего соседа интерес был примитивный, на уровне обезьяны, а у Аввакума – на уровне бога.
– А-а… – протянул Расторгуев. – Верующий, значит. Тут уж, конечно, не исправишь. С детства надо было, в школе…
Он удовлетворил любопытство, сделал свои выводы, и Солонецкий не стал его разубеждать, тем более, впереди показалось здание управления основных сооружений.
В котловане Солонецкий пробыл до обеда.
Пообедал с Туровым в рабочей столовой. Поворчав для порядка на его несговорчивость, посетовал на ещё неизвестного, но уже явно не ахти зама, которого главк скоро пришлёт на место Костюкова. Прощаясь, сказал:
– Забирай вечером всех своих, вместе с внуками, и приходи сегодня в гости.
– Праздник какой? – спросил тот.
– Праздник. Людей хороших жду.
– Зайдём, – принял приглашение Туров. – Полина письмо получила…
– Что пишет? – помедлив, спросил Солонецкий, не называя имя жены.
– Спрашивает, как у тебя дела, здоров ли.
Солонецкий представил, как жена писала письмо – аккуратно выводя буквы, обдумывая каждое слово. Она всегда ругала его за непонятный почерк, в котором, как она считала, виноваты лень и неуважение к адресату. Она любила писать и получать письма, но им писали редко. Сразу после института связи с сокурсниками, друзьями и подругами как-то ещё поддерживались, но с каждым годом у него всё меньше и меньше оставалось времени на неважные, второстепенные, как ему казалось, дела, и скоро канули в безвестность многие из тех, кого когда-то он считал близкими ему людьми. Порой ему остро хотелось увидеть их, прикоснуться памятью к ушедшей молодости, но обступали дела…
После обеда Солонецкий осмотрел перемычку, заглянул на водомерный пост, поинтересовался, каким ожидается паводок.
Вернулся в управление строительства он удовлетворённый, заряженный радостью, что увидел много нового на всех участках. И теперь нелепым ему казалось противостояние, возникшее прежде у них с Кузьминым. Правда, другим вернулся и Кузьмин. Он, словно змея кожу, сбросил юношеский максимализм и за новое брался без прежней торопливости. Но если брался, то уверенно доводил до конца. И Солонецкий теперь неизменно поддерживал главного инженера.
Из кабинета позвонил Ольге Павловне, предупредил, что вечером будут гости.
– Не возражаешь, Оленька? Только ради бога, не затевай там ничего…
– А по какому поводу, если не секрет? – поинтересовалась она.
– Повод? Сегодня – вечер единомышленников.
– Вот как? Тогда действительно не стоит заботиться о пище физической…
– Ты недовольна мной?
– Не говори глупостей, Юра.
Пока Расторгуев ездил за продуктами, Солонецкий зашёл к Кузьмину. Тот обещал вечером прийти.
…Дома Солонецкий застал Аввакума.
– Гость пришёл, а хозяина всё нет и нет, – встретил его тот.
Солонецкий глянул на часы.
– По пути на телевышку заскочил, – стал оправдываться он, но Ольга Павловна перебила:
– Ничего, мы не скучали.
– Вот и правильно. – Солонецкий разделся, занёс на кухню продукты.
Пока Ольга Павловна хлопотала на кухне, они с Аввакумом сервировали стол, говоря о пустяках.
Первым пришёл Кузьмин.
Краснея, протянул Ольге Павловне, вышедшей его встречать, коробку конфет:
– Это вам.
– Мои любимые! – искренне удивилась она. – Как вы угадали?
– Наверное, случайно…
Она многозначительно посмотрела на Солонецкого:
– Спасибо.
Солонецкий ревниво поджал губы, удивленно произнёс:
– Ну-ну…
И тут же, боясь сказать что-либо невпопад, перевёл разговор:
– А теперь, Геннадий Макарович, я хочу вас познакомить с личностью легендарной. – Повернулся в сторону Аввакума. – Алексей Сергеевич Новиков, иначе – Аввакум. Тот самый отшельник из Путоран. А это…
– Я догадался, – Аввакум пожал протянутую руку Кузьмина.
– Вот и прекрасно…
Громко оббив на крыльце снег, вошёл Туров.
– А твои где? – спросил Солонецкий.
– Полина приболела, – пряча глаза, ответил тот.
– Приболела? – Солонецкий прищурился. – Ну что ж… Олюша, Оленька! Ты у нас сегодня главная, командуй!
Прошёл на кухню, обнял Ольгу Павловну за плечи, прошептал:
– Оля, я прошу…
Она поняла, улыбнулась, пытаясь справиться с настроением, сказала:
– Всё будет хорошо. – И громко добавила: – Три минуты – и всё будет готово…
Солонецкий вернулся в комнату. Гости вели неторопливую беседу, и он облегчённо вздохнул. Выходит, не такие уж они и разные люди, если нашли общую тему.
Потом вышел в прихожую.
Ольга Павловна стояла у телефонного аппарата и разглядывала себя в зеркале.
– Что с тобой, Олюша? – Солонецкий приобнял её за плечи, глядя на отражение.
– Тебе не кажется, что меня никто из твоих единомышленников не любит?..
– Наоборот, ты очень всем понравилась…
– Ты же понимаешь, о чём я…
– Это несерьёзно, Оля. Не выдумывай…
– Хорошо, не буду. – Она улыбнулась. – А теперь иди, мне нужно позвонить…
Солонецкий хотел спросить, кому, но Ольга Павловна, отвернувшись, уже набирала номер, и он вернулся в комнату.
Туров рассказывал анекдот о попугае, который подрёмывал на верхушке дерева и был разбужен зайцем.
– Заяц снизу спрашивает: «Ты что тут делаешь?» – «Ничего не делаю», – отвечает попугай. «Как так ничего?» – «А вот так, ничего и всё». Заяц почесал между ушей: «А мне можно ничего не делать?» – «Можно», – милостиво разрешает попугай. Залез заяц на дерево, сел пониже. Бежит лиса – тот же диалог, потом волк… А следом к дереву подходит охотник. Ну и, естественно, перестрелял зверей. Только попугай и остался. Глянул он этак презрительно вниз с самой верхотуры и говорит: «Эх вы, глупые, чтобы ничего не делать, надо высоко-о сидеть…»
– На что намекаешь? – сказал Солонецкий.
– Это мне за шахматами вчера соперник рассказал. Неделю как с материка приехал, вот и угостил свеженьким.
– Да уж, похоже, не такой и свеженький…
Кто-то позвонил в дверь. Солонецкий рванулся было в прихожую, но его опередила Ольга Павловна. Она махнула ему, и он вернулся к гостям. Из коридора донёсся голос Полины Львовны. Солонецкий взглянул на Турова, тот удивлённо пожал плечами. Через минуту женщины вошли в комнату.
– Здравствуйте, мужички, – поздоровалась Полина Львовна. – Грустите тут без нас, красавиц?
– Грустим без… – Солонецкий показал на стол. – А у вас похоже заговор, – взглянул на Ольгу Павловну.
– А как без этого, – сказала Полина Львовна. – Женщины без секретов не могут.
– Только вот за своими секретами нас забываете.
– Ну, это ты уж напрасно на нас. Сейчас мы вас накормим нашим блюдом, а не вашими полуфабрикатами, Юрий Иванович…
Ольга Павловна ушла на кухню и вернулась с большим блюдом жаркого.
– Ну, такой секрет нас устраивает. – довольно произнёс Солонецкий – А теперь за стол… – И наклонившись к уху Ольги Павловны, спросил: – Ты Полине звонила?
Та кивнула.
Солонецкий незаметно взял её руку в свою, благодарно сжал, и Ольга Павловна игриво подмигнула: цени, мол, Солонецкий, цени…
Полина Львовна незаметно перехватила у Ольги Павловны хозяйские полномочия и теперь уверенно руководила застольем.
Солонецкий хитро поглядывал на Кузьмина и Аввакума наконец выбрал паузу перед чаем, пригласил мужчин перекурить.
– Идите, идите, – поддержала Полина Львовна. – Дайте нам посплетничать.
Мужчины прошли в кабинет, когда-то бывший комнатой Татьяны.
– Алексей Сергеевич, как твой труд? – спросил, закуривая, Солонецкий.
– Тебе же он неинтересен, Юрий Иванович.
– Почему же?
– А разве не так?..
– А как охота?
– Неплохо.
– Если я правильно догадываюсь, труд – это сочинение? – вмешался в разговор Кузьмин. – О чём, если, конечно, не секрет?
– Сложно сказать. – Аввакум погладил бороду, раздумывая. – Надо читать… А в целом – о себе.
– Философский трактат, – сказал Солонецкий. – Может, когда и понадобится людям.
– Никто не знает, что и когда понадобится людям. И ты, Юрий Иванович, знаешь, что я этим не озабочен.
– Удовлетворение потребности самовыражения, – произнёс Туров. – Это сегодня модно.
– Мы все ищем возможность самовыразиться, – сказал Кузьмин. – Но не у всех это получается…
– Совершенно верно, – кивнул Аввакум и окинул Кузьмина оценивающим взглядом. – А я, признаться, думал, что нам с вами трудно будет найти общий язык. Судя по словам Юрия Ивановича, вы – человек дела, а я – нет. Вы – тактик, если позволите такое сравнение, я – стратег….
– То есть моё видение на несколько лет вперёд, ваше – на века, – нисколько не обидевшись, продолжил Кузьмин.
– Таков удел практиков.
– Ну да, конечно, – с улыбкой подтвердил Кузьмин.
– Общество само придёт к гармонии лишь тогда, когда большинство постигнет истину, – вспомнил Солонецкий слова Аввакума. – Не подвела меня память?
– Мне это знакомо, не только из книг. Когда-то я тоже уповал на глобальную эпидемию взаимопонимания и отрицал необходимость борьбы, – сказал Кузьмин. – А отрицать то, что лежит в основе любого движения, – заблуждение…
Солонецкий с интересом взглянул на него. Казалось, в этот вечер главный инженер решил его удивлять…
– В борьбе нет места человеческому «я». Есть только масса, общество – и нет человека, – возразил Аввакум.
– А как иначе? – удивился Кузьмин. – Не так уж часто мы любим ближнего своего… И потом, не всегда эта любовь идёт на пользу этому ближнему. От большой любви к каждому встречному легко растеряться, от желания помочь – разорваться, не в силах помочь всем сразу. Или так и застрять на перекрёстке, переводя слепых, помогая глухим, подсказывая растерявшимся, поднимая упавших… только в мыслях. Грош цена такой любви к ближнему. Мне кажется, вы избрали именно такой путь. Во всяком случае, судя по вашему образу жизни. Удрали в тундру, спрятались от проблем и теперь из своей норы благостно умиляетесь своей отстранённостью от жестокой жизни, своим человеколюбием…
Солонецкий взглянул на Турова, внимательно слушавшего этот диалог, незаметно кивнул в сторону разгорячённого спором главного инженера. Наклонился, негромко сказал:
– А ведь мы действительно его не знаем…
И Туров согласно кивнул.
– У нас разные методы, – спокойно возразил Аввакум. – И я не хотел бы говорить о серьёзных вещах походя. – Повернулся к Солонецкому: – Юрий Иванович, с вашего позволения, мы перенесём наш спор на некоторое время.
– Тайм-аут! – Солонецкий поднялся. – Пасуешь, Алексей Сергеевич?
– Нет. Товарищ обрисовал иждивенцев общества, но не меня. Я не стою на перекрёстке, я делаю то, что могу делать в этом мире. И не толпе служу, и не идее. Я помогаю тому, кому могу помочь. Для этого не обязательно переводить их через дорогу.
– В чём конкретно выражается ваша помощь? – спросил Кузьмин.
– Я помогаю сомнением, – серьёзно ответил Аввакум.
– Считаете, что это важно и нужно?
– Важно, что я не добавляю зла в этом мире.
– Не добавить – не значит уменьшить…
– Я уже потерял нить вашего спора, – вмешался Солонецкий. – А давайте вернёмся к нему лет этак через десять, а?.. Думаю, жизнь нас кое в чём рассудит.
– Я не возражаю, – усмехнулся Аввакум.
– Было бы любопытно, – сказал Кузьмин. – Но я люблю конкретность, давайте сразу определим год.
Дверь приоткрылась, заглянула Ольга Павловна.
– Юра, тут к тебе…
– И к вам, Ольга Павловна, к вам тоже, – раздался знакомый голос, и не веря, но уже догадываясь, Солонецкий вышел в прихожую.
Это был Ладов.
– Это вам, – протянул он Ольге Павловне три ярко-красных гвоздики.
– Вы – волшебник, – не сдержала она восторга. – Откуда же это чудо?
– О, Ольга Павловна, если мужчина захочет…
– Проходи, – сухо сказал Солонецкий.
– Спасибо.
Ладов, раздеваясь, рассказывал:
– Повезло. Сегодня утром из дома, а вечером уже здесь. Даже в гостиницу не устроился, сразу сюда… У вас гости?
И, словно не замечая натянутости, поздоровался с Туровым, сказал пару комплиментов Полине Львовне, крепко потряс руку Аввакуму и пожал Кузьмину.
– Как прежде, в том же составе, – многозначительно произнёс он. – Только вот утятины нет и Ильи Герасимовича, но зато хозяйки – красавицы…
Полина Львовна поставила новый прибор.
– Садись, Александр Иванович. – Солонецкий отодвинул стул.
– Благодарю.
Ладов вдруг задумался, словно что-то вспомнив, щёлкнул пальцами.
– Юра, на минутку. Тет-а-тет.
И прошёл на кухню.
– У твоих был, – негромко сказал он. – Ира ждёт тебя… Хотя уже знает, что ты не один.
– Ты с проверкой? – не скрывая неприязни, спросил Солонецкий.
– Нет, Юрий Иванович, работать.
– На место Костюкова?
– Совершенно верно. Приказ показать?
– Не надо. Пошли за стол.
Словно не замечая напряженности, Ладов стал рассказывать новости о перестройке, которая наконец-то докатилась и до них, о том, что теперь придётся работать по-новому, по-настоящему.
– Главное, избавиться от межведомственных барьеров, – говорил он. – Вот лозунг дня. И больше обращать внимания на человека, лучше использовать творческий потенциал… Геннадий Макарович, – он повернулся к Кузьмину. – Ваша докладная заставила меня на многое взглянуть другими глазами. Впору отказываться от своего учёного звания… Нет, я серьёзно. – Он обвёл взглядом всех присутствующих. – Стыдно признаться, но должен: не разобрался…
– Чего уж вспоминать, – буркнул Солонецкий. – Давай вперёд глядеть.
– Большое спасибо за ужин, – поднялся из-за стола Кузьмин. Повернулся к Аввакуму: – Спор наш, думаю, мы разрешим скоро, лет через пять… Мне пора.
– Мы тоже идём, – дёрнула Полина Львовна за рукав Турова.
Солонецкий пошёл их провожать.
Постоял на крыльце, ощущая, как с каждой минутой злее пробирает мороз, озябнув, вернулся в дом.
Ладов, жуя, что-то рассказывал Ольге Павловне и Аввакуму.
Солонецкий сел рядом с Ольгой Павловной, обнял её за плечи. Ладов поперхнулся. Откашлявшись, попытался пошутить:
– Кто-то пожалел.
И тут же, словно мстя за этот вызывающий жест Солонецкого, добавил:
– Да, Юра, дочь не звонила?.. В гости собиралась прилететь.
Ольга Павловна осторожно убрала руку Солонецкого.
– Алексей Сергеевич, не будем мешать встрече двух давних друзей, – сказала она. – Пойдёмте, я вам свои работы покажу.
Солонецкий с Ладовым остались вдвоём.
Несколько минут Солонецкий разглядывал нового зама, не скрывая своего недовольства.
– Думаешь, как тяжело нам вместе будет работать? – первым прервал молчание Ладов. – Да, после всего, что произошло, непросто… Ну так давай сразу расставим точки над i. Я начну… Первый вопрос, который ты хочешь задать, почему я напросился к тебе замом? Я подчёркиваю – сам напросился, и поверь, не кривлю душой… Потому что в главке у меня не будет ни времени, ни материала, чтобы написать докторскую. Второй вопрос: почему я выбрал стройку, которая на грани консервации? Потому что это опять же нужно для диссертации. И третий вопрос, который тебе не терпится задать. Почему я был за консервацию? Подчёркиваю, был… Я ошибался. Если коротко… Не веришь? Твоё право. И последний, надеюсь, вопрос. Как я собираюсь жить с тобой и Кузьминым? Не так ли?
Загадочно улыбаясь, он принёс из прихожей портфель, вытащил пухлую папку.
– Взгляни.
Солонецкий раскрыл папку. Не особо вникая в смысл, стал перелистывать, слыша, как Ольга Павловна в соседней комнате показывает Аввакуму картины, периодически вопрошая: «Нравится?» Аввакум скупо бросал в ответ: «Недурно» или: «Очень нравится». Но потом его внимание полностью приковали к себе выкладки Ладова. И чем больше он в них вникал, тем всё более склонялся, что с такими доводами консервации удастся избежать… Умён, подумал он о Ладове, но, закрыв папку, со скучающим видом крикнул:
– Оля! Ольга Павловна, ты не утомила гостя?
– Мы уже давно ждём, когда закончится ваш деловой разговор, – вошла Ольга Павловна. – Мои картины способны вызывать только скуку.
– Это неправда, – возразил Аввакум, – мне понравились. – Он повернулся к Ольге Павловне: – Прилетайте с Солонецким ко мне, когда потеплеет. Не пожалеете.
– Приглашаете?.. Обязательно прилечу. И сразу же ставлю условие: вы будете мне позировать. И чтобы обязательно была удачная охота.
Она взглянула на Солонецкого и задержала свой взгляд, в котором он прочёл и любовь, и тоску, и какую-то растерянность, и даже отчуждённость…
– Охоту я устрою, – пообещал он вместо Аввакума. – Жди, Алексей Сергеевич, налетим как саранча, ещё не рад будешь.
– И меня прихватите, вместе с Кузьминым, – сказал Ладов. – Впрочем, мы с товарищем Аввакумом всё по пути в гостиницу обговорим.
– Но прежде тебе, как моему заместителю, лететь вместе с Кузьминым исправлять содеянное… – сказал Солонецкий.
Глава 26
Так и не дождавшись реакции Солонецого на назначение Ладова, позвонил начальник главка.
Начал с вопроса, как идут дела, поинтересовался, не разочаровался ли в Кузьмине, а то если вдруг опять на попятную, будет поздно.
– Поздно, – согласился Солонецкий. – Уже поздно.
– Ну и добре.
Киреев медлил, словно ждал вопроса, и Солонецкий догадывался, какого именно, но тоже не спешил.
– Молчишь, Юрий Иванович? – наконец не выдержал начальник главка. – А знаешь ведь, о чём хочу спросить.
– Знаю.
– Недоволен?
– Как сказать.
– Недоволен, по голосу слышу… А я вот тут поразмыслил и решил, что ничего, кроме пользы, от этого не будет. Специалист он в общем-то неплохой, к тому же со степенью…
– Поживём – увидим.
– Хитришь, Юрий Иванович. – Киреев явно был в хорошем настроении. – А ведь понимаешь, что благодарить меня должен. Ладов как союзник, лучше, чем как противник…
– Вы знакомились с его расчётами?
– Что у тебя с банком? – словно не слыша вопроса, спросил Киреев. – Жалуются на тебя.
– Повинную голову не секут.
– Учти, в последний раз беру на себя.
– Феликс Петрович, – решился Солонецкий. – Надо, чтобы в министерство Кузьмин и Ладов пошли вдвоём…
Киреев помолчал, коротко сказал «добре» и положил трубку.
В курсе, догадался Солонецкий.
И расчёты Ладова видел, и дело, похоже, выгорит, коль не заставляет его самого лететь.
И теперь, когда всё вновь вставало на накатанные рельсы, он подумал об Ольге Павловне.
И должен был признаться, что за это время они так и не стали ближе. Для него Ольга Павловна оставалась всё такой же получужой-полутаинственной женщиной. Он чувствовал, что даже в минуты физической близости она полностью не принадлежит ему. Порой ему казалось, что она лишь терпеливо сносит его ласки, и тогда он ощущал свою старость, молча обижался.
– Может, ты устала? – опросил однажды. – Хочешь, слетай, отдохни…
Приподнялся на локте, откровенно любуясь её телом.
Она замкнула руки на голове, вздохнула.
Грудь высоко поднялась – и он не сдержался, коснулся её губами.
– Я слишком стар для тебя.
– Женщинам не нравятся комплексующие мужчины, – произнесла она. – Почему ты считаешь, что мне нужно уехать?
– Ты не так поняла, я думаю, что ты устала.
Она обняла Солонецкого.
– Что-то не так у нас, да, Юра? – неуверенно спросила, касаясь ладонью его груди и, не дождавшись ответа, уже уверенно произнесла: – Что-то не так. Может быть, потому, что мы люди разного круга?
– Чепуха. – Он обнял её. – Мужчина и женщина не должны иметь ничего общего, кроме любви. Остальное всё че-пу-ха…
Она отрицательно покачала головой, но он догадался, о чём она хотела спросить, и неожиданно грубо сказал:
– Да, меня с моей женой связывала только постель.
Понял, что это цинично и неверно, но ничего объяснять не стал.
…После этого ночного разговора они отдалились ещё больше.
Солонецкого снова не тянуло домой, а Ольга Павловна не задавала вопросов, когда он поздно приходил. Она начала писать портрет Аввакума, но скоро отставила. Сложила этюдник, повернула лицом к стене картины, и теперь Солонецкий чаще всего заставал её за чтением.
– Невезучая я, – сказала она как-то, когда Солонецкий вдруг выплеснул ей всё, что скопилось за прошедшие дни и попросил совета. – Без меня у тебя всё получалось, а со мной – нет…
– И без тебя всякое бывало… Знаешь, мне кажется, ты сама комплексуешь.
– Мне простительно, я женщина. Но давай договоримся не жалеть друг друга, ладно?
– А почему ты вдруг об этом?
– Когда любовь уходит, жалость остаётся…
– Ты меня разлюбила?
– Когда это случится, я скажу. И ты тоже, ладно?
– Хорошо, – после паузы согласился он.
Несколько раз к ним заходил Кузьмин. Он показал Ольге Павловне свои акварели. Солонецкий нашёл, что они очень уж старательные и оттого безжизненные, но вслух выразил своё удивление.
Ольга Павловна посоветовала Кузьмину забыть всё, чему его учили в студии, и писать так, как диктует душа. Он взял у Ольги Павловны несколько альбомов репродукций, и они долго говорили о вещах малопонятных и неинтересных Солонецкому. И он с удивлением отметил, что главный инженер не такой уж и законченный технократ, как ему казалось. А когда Ольга Павловна показала удачный, на её взгляд, карандашный женский портрет, сделанный Кузьминым (он сразу узнал официантку из ресторана), Солонецкий только хмыкнул:
– Полгода ключик к нему подобрать не мог, а тебе он сам в руки дался.
– А я такая, – прищурилась Ольга Павловна. – И твой ключик у меня. Ревнуешь, Солонецкий, а?
– Ну уж, это слишком…Дальше портрета у вас дело не зайдёт.
– Как знать, – поддразнила она. – Плохо ты души чувствуешь…
– Да есть ли у него душа? – вырвалось у Солонецкого. – Хотя есть, конечно, только… машинная… Какая-то непонятная…
– Душа во все времена одна.
В тот вечер они поспорили. И впервые Солонецкий видел Ольгу Павловну неуступчивой, впервые оценил по-настоящему её ум и эрудицию. И неожиданно признался, что ревнует её к Кузьмину.
Ольга Павловна не засмеялась, не свела сказанное к шутке. Поймала его взгляд и, прикрыв глаза, приблизила лицо. Они стояли и целовались посреди комнаты, когда раздался долгий нахальный звонок в дверь.
– Не вовремя, – прошептал Солонецкий. – Нам всегда кто-то мешает. Но я его сейчас…
Он быстро прошёл к двери.
На крыльце стоял Ладов.
– Пляши! – прокричал он. – Ольга Павловна, пусть этот белый медведь пляшет, иначе не скажу!
Они переглянулись.
Таким Ладова видеть не приходилось. Он был незаметен на планёрках, незаметен и в работе.
– Ну и не говори, – сказал Солонецкий.
– Зря… У меня две прекрасные новости… Ну ладно, не хочешь плясать, угощай коньяком.
– А вот чего нет, того нет.
– Ну, тогда будем пить мой. – Ладов достал из портфеля бутылку, передал Ольге Павловне. Повесил шубу, прошёл в комнату, не ожидая приглашения хозяев. – По такому поводу можно…
Налил в поданные Ольгой Павловной рюмки, поднял.
– Итак, новость номер один: я и вы, Ольга Павловна, сегодня впервые пьём с новым заместителем министра.
Солонецкий поставил рюмку.
– Не веришь?.. Только что звонил Киреев, у тебя что-то с телефоном. – Ладов прошёл в прихожую, поднял трубку. – Точно, не работает. Иди, убедись.
Солонецкий послушно поднёс трубку к уху.
В ней была тишина.
– Так вот, он велел передать, – Ладов взял из рук Солонецкого трубку, положил на место, – чтобы ты завтра же вылетел в Москву.
– Поздравляю, – грустно произнесла Ольга Павловна.
– А почему так печально? – повернулся Ладов. – Да об этом мечтать только можно.
– Ну а вторая новость? – спросил Солонецкий.
– А вторая пришла в письме. У твоей дочери – свадьба.
– Когда?
– Пока не знаю. Нина пишет, что заявление они уже подали и собираются к тебе прилететь.
– Собираются… Ну что ж, за это давай выпьем.
Ладов выпил и стал собираться:
– Не буду мешать… Рад за тебя, Юра, за вас, честно, искренне рад…
Проводив Ладова, Солонецкий прошёл на кухню, достал тайную пачку сигарет, закурил.
Слышал, как Ольга Павловна прибрала в комнате, ушла в спальню.
Прикурил новую сигарету, думая о только что услышанном…
На следующий день он позвонил Кирееву. Того на месте не оказалось, и Солонецкий продиктовал секретарше телефонограмму, что по состоянию здоровья в настоящее время вылететь не может. Потом заказал домашний телефон, услышал радостные взвизгивания дочери и её захлёбывающийся голос:
– Папочка, папуля! Слышишь меня? Мы с Серёжей обязательно прилетим, жди обязательно. Холодно у вас, как одеться? Пришли ему унты, он у меня мерзляк. А вообще не надо, пусть закаляется… Мы прилетим.
– Погоди, – наконец прервал её Солонецкий. – Как у вас дела? Как здоровье мамы?
– Всё о'кей, не волнуйся. Мамуля тебя очень ждёт и любит.
– Прекрати разговаривать таким тоном!
– А ты не повышай голос на взрослую женщину… Между прочим, я сказала правду.
– Хорошо… Прилетайте… со своим Серёжей, – сказал он. – И маме… Маму поцелуй за меня.
Глава 27
В конце марта после долгих баталий в Москве вернулись Кузьмин и Ладов.
Встречал их Солонецкий.
Насупившись, спрятавшись в поднятый воротник шубы, он ждал самолёт, сидя в «Волге», на которой ездил редко: не для дорог Снежного эта машина.
Расторгуев помалкивал, чувствуя настроение шефа, и даже не включал свою аппаратуру. Сунулся было к машине Пискунов, но вовремя понял, что сейчас лучше на глаза начальнику стройки не попадаться и поспешно ретировался – на всякий случай наводить порядок в аэропорту.
К самолёту Солонецкий не вышел, отправил водителя встречать прибывших. Из машины он внимательно смотрел, как они пересекали лётное поле, но так и не смог понять, с какими же результатами вернулись.
Кузьмин молча сел на заднее сиденье.
Ладов, широко улыбаясь и подмигивая то Расторгуеву, то Солонецкому, бодро поздоровался и плюхнулся рядом с главным инженером. И когда машина тронулась, не выдержал:
– Трепещешь, Юрий Иванович?
– Жду, – коротко отозвался Солонецкий. – Отчёта жду, а вы, похоже, перегуляли в столице…
– Всё нормально, – сказал Кузьмин. – По порядку доложить?
– Подробности потом, Геннадий Макарович. – Солонецкий глубоко вздохнул и, улыбаясь, обернулся. – Ну, мужики, за мной охота…
И Расторгуев расплылся в улыбке, включил магнитофон. Забилась в салоне ритмичная музыка, которую Солонецкий не любил, но водителю шагать в ногу с музыкальной модой не запрещал.
– Геннадий Макарович, вы к своим заходили? – спросил Солонецкий.
– Да, – отозвался Кузьмин. – И хочу отпроситься через пару недель дня на три…
– По делам?
– За семьёй.
Солонецкий обернулся.
– Всё в порядке, Юра, – не удержался Ладов. – У Геннадия замечательная жена, просто он никак не мог ей толком всё объяснить.
– Ну вот и слава богу, – сказал Солонецкий и подумал, что теперь их связывает нечто большее, чем одно дело. Он знал, что впереди будет немало споров, конфликтов, но то, что родилось сейчас – чувство причастности каждого к жизни другого, – останется…
– Завтра же летим к Аввакуму, – сказал он. – Молитесь на погоду.
Он развёз Кузьмина и Ладова по домам отсыпаться после дороги и пришёл домой в приподнятом настроении.
Не снимал пальца с кнопки звонка, пока дверь не открылась.
– А вот и я!
Подхватил Ольгу Павловну, закружил по комнате, забыв и про годы, и про больное сердце – ему хотелось петь, шалить, как когда-то в юности.
– Победа, Олечка, победа!.. Завтра летим к Аввакуму в гости.
– Разденься… Похоже, что ты готов лететь уже сейчас.
– А я и летаю, – раздеваясь, говорил Солонецкий. – Я выстоял! Я выиграл бой, и пусть не я один и никакой не бой, но всё-таки правота была за мной, понимаешь? Это как в твоих картинах, – он сделал движение рукой, словно обводя невидимые полотна. – Одному нравится одно, другому – другое. А кто прав? Время судит. И оно присудило мне будущее. Где мой портрет?
Он быстро прошёл в комнату и замер. Вдоль стен были расставлены все картины Ольги Павловны.
– Вернисаж? И я первый посетитель?
– Ты – главный судья. Ты ведь ладишь с самим временем…
В её голосе проскользнула ирония, но Солонецкий не обратил на это внимания.
Он прошёлся вдоль полотен: семейный портрет Туровых (когда только она успела их нарисовать?) – спокойный, чинный. Портрет Кузьмина – весь изломанный, заставляющий остановиться и вглядеться в волевое болезненное лицо.
Чаша котлована, затянутая линиями арматуры, словно рыбацкой сетью…
Уходящая в бесконечность белая тундра…
Его портрет…
Знакомый и одновременно незнакомый ему человек – в расстёгнутой белой рубашке: на портрете Солонецкий, грустно улыбаясь, смотрел куда-то вдаль. И трудно было понять, радуется или печалится он в этой жизни, заглядывает в будущее или оглядывается в прошлое…
– Молодой… – неуверенно произнёс он.
– Таким я тебя знаю.
Ольга Павловна, прислонившись к косяку, смотрела на Солонецкого. Сейчас, сравнивая портрет и его, во плоти, она вдруг остро ощутила чувство неудовлетворённости.
Живой Солонецкий был другим.
Он не был романтиком, каким она его написала.
Он был, как сам хвастался, хитроватым мужичком, деревенской тверской закваски. И отец у него был крестьянин, и дед, вот только его занесло невесть куда. Но ничего этого в портрете не было.
Ольга Павловна повернула холст лицом к стене.
– Всё, больше не покажу.
Он обнял её, коснулся губами мочки уха, прошептал:
– А ведь ты угадала. Я хотел таким быть. Я помню себя таким – и это самый светлый период моей жизни…
– Не льсти.
– Ну вот ещё, – он сделал вид, что обиделся. – Выходит, моё мнение для тебя ничего не значит?
Ольга Павловна увернулась из-под его руки, нервно прошлась по комнате.
– От твоих слов мне легче не станет. Я чувствую, что не так, не то…
– Моя мятущаяся Оленька, моя талантливая, упрямая…
Он вновь попытался обнять её, но Ольга Павловна отстранилась. Она не могла справиться с подступившими слезами.
Всего несколько минут назад ей казалось, что всё, написанное за это время в Снежном, удачно. Она радовалась в ожидании Солонецкого, представляя, как он разделит её удовлетворение, её успех…
Но он не был потрясён увиденным.
– Ты что-то говорил об Аввакуме? – перевела она разговор.
– Да, завтра летим к нему. Все вместе.
– И теперь ты достроишь свою северную ГЭС.
– Обязательно, Оленька, обязательно. Я ещё такого натворю, прежде чем соглашусь уйти в замминистры… Два дня для сбрасывания старой шкуры – и вперёд…
– Жаль, я не могу лететь с вами.
Он растерянно замер.
– Что случилось? Почему?
– Нездоровится.
– А как же портрет Аввакума?
– Я напишу его позже.
– Может, всё же полетишь?
Ольга Павловна отрицательно качнула головой:
– И вам будет свободнее без меня. Иди отдыхай, я соберу тебя.
– Да, надо выспаться, – Солонецкий на пороге спальни обернулся. – Только ты побыстрее, я без тебя не засну.
Но он уснул, как только коснулся головой подушки.
А среди ночи проснулся от тяжёлого сна.
Снилось ему, что из вершины горы, возле которой они видели снежного барана, вдруг вырвался столб огня, окрашивая снег в зловещий, кровавый цвет, и жаркая всепоглощающая лава поползла вниз по склону, приближаясь к избушке Аввакума. Он знает, что надо бежать, и кричит всем, чтобы убегали, но никого уже нет, он один, и вдруг он понимает, что где-то рядом ждут его помощи Ира и Танюша, бросается вправо-влево, а ноги уже охватывает лава, она обтекает его, почему-то холодная, но красная, и он уже не может вырваться из неё…
И от своего бессилия и страха Солонецкий проснулся.
Долго не мог сообразить, всё ещё различая в черноте ночи красноватый оттенок, что всего-навсего видел сон, потом облегчённо вздохнул, повернулся к стене и опять заснул.
И теперь снилось ему лето, река, брызги и серебристые хариусы…
А Ольга Павловна долго ещё не спала, слушая ровное дыхание Солонецкого и запоминая его лицо…
Глава 28
С утра зависший над посёлком туман чуть было не сорвал задуманную охоту.
Вертолёт ожидали в кабинете Солонецкого.
Ладов, облачённый по-походному, с новеньким пятизарядным ружьём, не мог скрыть своего огорчения и без устали рассказывал охотничьи были и небылицы.
Кузьмин, не выказывающий ни особого удовольствия, ни огорчения, послушав немного, пошёл к себе. К охоте он не готовился, пришёл так, как всегда ходил на работу: в пальто и полусапожках, и Солонецкий отправил Расторгуева за унтами, полушубком, ружьём и лыжами к Турову. Тот всё передал, пожелал удачной охоты, пожалев, что не может лететь с ними: уже две недели он бюллетенил, подскочило давление.
Позвонил Гриневский, решил посоветоваться, что делать с новыми станками, которые главный инженер велел опять поставить на забой.
– Ну а мне чего звонишь? – перебил его Солонецкий. – Приказ дан – выполняй. – И, бросив трубку, сказал: – Только перестраховщиков нам не хватало.
– Гриневский? – усмехнулся Ладов. – Хваткий мужик, а чего-то засуетился.
– Довольно о работе, два дня как-нибудь без нас…
– Тебе бы отдохнуть, – осторожно посоветовал Ладов.
– Успеем, трави дальше.
И от этого «трави дальше» им стало легче, проще, как было много лет назад.
Ладов стал травить дальше, а Солонецкий, поглядывая на часы, мысленно клял ни в чём не повинного Пискунова, которого он почему-то всегда вспоминал в плохую погоду.
Наконец задребезжал телефон, и начальник аэродрома торжествующим голосом доложил, что туман рассеивается и вертолёт уже подлетает.
Стали суетливо собираться.
Ладов сходил за Кузьминым, тот долго и не особенно охотно облачался в охотничьи доспехи, но ружьё осмотрел с видом знатока.
– Охотился? – спросил Солонецкий.
– Давно.
– Значит, всё-таки нашего роду…
Расторгуев первым выскочил на улицу, распахнул в машине все дверки, широко улыбаясь и явно подсмеиваясь над нелепыми нарядами начальства.
– Не лыбься, а гони, – бросил Солонецкий, когда разместились в машине.
– Ну, ни пуха, – поспешил тот, с завистью оглядывая и тульскую двустволку Солонецкого, и пятизарядку Ладова.
– К чёрту…
Ехали молча, только на полдороге Кузьмин сказал, что Божко всё ещё живёт в малосемейке, ему надо бы квартиру.
– Справляется? – не оборачиваясь, спросил Солонецкий.
– Думаю его замом к себе взять.
Солонецкий кивнул:
– Квартиру выделим.
Вертолёт стоял на площадке. Быстро загрузились.
Остался позади посёлок, огни сварки в котловане, ушла влево заметённая, в синеватых торосах лента реки. Всё чётче проявлялись впереди горы, местами, словно шарфом, укутанные шлейфом низких застывших облаков.
На горизонте заалело солнце, лучи которого ещё не доставали до земли, но здесь, над ней, зайчиками метались по вертолёту. Каждый заметил это и улыбнулся, а Солонецкий украдкой даже пощупал тёплое осязаемое пятно света.
– Весна! – прокричал он на ухо Кузьмину.
Тот кивнул, тоже коснулся пальцами яркого пятнышка.
Какой же он к чёрту прагматик, подумал Солонецкий.
Ладов что-то напевал. И Солонецкий неожиданно для себя тоже стал напевать слова из песни, которую последнее время крутил Расторгуев: «…вот новый поворот, и мотор ревёт, что он нам несёт, пропасть или брод, омут или взлёт, и не разберёшь, пока не повернёшь за поворот…»
Горы вырастали тяжёлыми белыми глыбами, и если бы не тёмные пятна деревьев, их вполне можно было бы принять за кладбище айсбергов.
Вертолёт накренился, пошёл на снижение. Сделал разворот, стал опускаться рядом с занесённой снегом избушкой.
– Хозяин-то не встречает! – крикнул Ладов.
– Охотится… Давай! – Солонецкий шагнул к люку и первым спрыгнул в снег.
Отворачиваясь от воздушного вихря, стал принимать вещи.
Вывалился Ладов.
Легко спрыгнул Кузьмин.
Переждали, пока вертолёт поднялся, и медленно пошли к зимовью.
Зимовьё было протоплено, в кастрюле на печке Солонецкий нашёл пару отваренных куропаток.
– Располагайтесь, – скинул он шубу. – Перекусим и, пока светло, пробежимся.
Он не мог скрыть охотничий азарт. По-хозяйски оглядел жильё – всё здесь осталось таким, как он помнил. Сказал Ладову:
– Слышь, Саш, напомни мне, я Аввакуму рацию обещал.
– Напомню, – рассеянно отозвался тот, с любопытством оглядывая печку, стол, сооружённый из тонких стволов берёзы, полати…
– Как здесь жить можно? – ни к кому не обращаясь, сказал он. – Неделю-две, но не больше…
– Он пишет, – сказал Кузьмин, перебирая аккуратной стопочкой сложенные в углу полатей тетради. – А когда дело есть, жить можно.
Он раскрыл наугад одну из тетрадок. Неровные карандашные строки густо покрывали страницу с обеих сторон. Поддавшись любопытству, Кузьмин пробежал несколько строк («…так и большинство людей пытается сиюминутное, суетное выдать за истинное, вечное, им кажется, что они счастливы, но такое счастье – призрачно, оно подобно безумию пьяного, оно не оставляет ничего, кроме болезненного осадка, оно не облегчает, а утяжеляет душу и ведёт к лжежизни…») и захлопнул тетрадь.
– Что-нибудь любопытное? – заглянул через плечо Ладов. – Гениальный проект освоения этой глуши?.. А что, – он повернулся к Солонецкому. – Вполне допускаю явление в лице Аввакума нового Циолковского.
Он произнёс это без иронии, и все промолчали. Тут же решительно добавил:
– Пора. Хоть пару куропаток возьмём.
Первым, согнувшись, вышел из зимовья, вдохнул холодный, но уже пахнущий весной воздух.
Следом вышел Солонецкий. Оглядел знакомые склоны, и они уже не показались ему столь угрюмыми, как в первую минуту, когда навалились воспоминания…
– Давай, Геннадий Макарович, – наклонился он к двери. – По коням!
Привязал лыжи, подвигал ими, привыкая и разряжая нетерпение: сам удивлялся сегодняшнему азарту.
Рядом так же поспешно надевал лыжи Ладов.
Высоко вскидывая ноги, Солонецкий оббежал зимовье. Отметил, что Аввакум очистил поленницу, уложил дрова на крышу. Совсем близко заметил узоры куропаточих лапок, но отвлекаться не стал.
– Пошли, – махнул он рукой и заскользил к виднеющемуся голому, обвешанному снежными карнизами склону.
Скоро вышли на лыжню Аввакума.
– Ну, легче стало? – обернулся Солонецкий, на ходу расстёгивая ворот. – Похоже, по кольцу идёт Аввакум, капканы проверяет.
Ему не ответили.
Ладов шёл, перехватив ружьё наперевес.
Кузьмин, словно на лыжной прогулке, ничего не замечая вокруг, методично размахивал руками в больших меховых рукавицах.
– Как, мужики, хорошо? – крикнул Солонецкий, и эхо утвердительно ударило в распадке.
– Да, места первозданные, – отозвался Ладов, громко дыша. – Только не пойму я, куда мы спешим…
Солонецкий хотел сказать о снежном баране, но передумал.
Подъём стал круче, пошли медленнее и вышли на склон, когда день уже перевалил за середину. Отсюда лыжня Аввакума уходила к реке.
Ладов пропустил Кузьмина, взял горсть снега, обтёр вспотевшее лицо. Не мальчик, чтобы дядю догонять, подумал он и решительно свернул к низким берёзкам на берегу реки. Не успел сделать и несколько шагов, как в воздух с сухим шелестом поднялись куропатки. Он вскинул ружьё, но не выстрелил – куропатки всё-таки были далеко. Проследил, где они сели. Вернулся к лыжне, пробежал немного по ней, потом пошёл напрямую, проваливаясь по колено, задыхаясь, наконец, дошёл до намеченной позиции. Вскинул ружьё, несколько раз глубоко вдохнул…
Услышав выстрел, Солонецкий и Кузьмин остановились.
Ладов поднял убитую куропатку, победно потряс ею.
– Я догоню!
– А ты, Геннадий, со мной или с ним? – спросил Солонецкий.
– Я? – Кузьмин огляделся. – Пожалуй, с вами.
…Первым снежного барана увидел Кузьмин. Он замер от неожиданности, что-то пробормотав. Солонецкий не разобрал.
Он тоже увидел барана и узнал старого знакомого.
Хозяин Путоран стоял на снежном карнизе, с любопытством и превосходством разглядывая их.
– Не суетись, – прошептал Солонецкий. – Видишь ту кромку справа?.. Держи на неё.
Он уступал Кузьмину наиболее вероятный маршрут бегства снежного красавца, сам подставлял под чужой выстрел свою добычу, как когда-то уступил ему Аввакум. И только сейчас Солонецкий понял, что и Аввакум тогда тоже не хотел стрелять…
Он стал подходить к барану.
– Ну что же ты стоишь? – нашёптывал он, с каждым шагом всё лучше видя гордую голову. Наконец поднял ружьё. – Я ведь неплохо стреляю, – говорил он. – И Кузьмин, наверное, тоже…
Баран неторопливо пошёл по склону. Он шёл навстречу Кузьмину, и Солонецкий опустил ружьё. Если погибнешь – значит, действительно я стар, внезапно подумал он.
Баран медленно, словно не чувствуя опасности, приближался к притаившемуся Кузьмину.
Солонецкий опустился на снег. Он вдруг ясно понял, зачем летел в Путораны. Он хотел, чтобы и Кузьмин, и Ладов прикоснулись к тундре, поняли в ней что-то, без чего не дано полюбить Север.
Прогремел выстрел, короткий и сухой, словно удар бича в руках опытного пастуха. За ним следом – второй и третий, но уже поглуше, где-то далеко.
Солонецкий поднялся и заскользил вниз.
Кузьмин сидел на брошенном ружье и слизывал с ладони снег.
– Ушёл.
Рука у него подрагивала.
Солонецкому стало радостно и легко. Он набрал в лёгкие побольше обжигающего морозного воздуха и закричал:
– О-го-го-го-го!..
И далеко снизу донёсся слабый голос:
– А-а-а…
Потом выстрел, и ещё…
– Браконьерничает, – улыбнулся Солонецкий. – Дорвался… Между прочим, это был мой крестник… Пусть живёт. Красивый, чёрт…
– Давно не охотился. – Кузьмин встал. – Может, следом пройдём?
– Поздно уже. Теперь его не взять.
Развернувшись, Солонецкий покатил к реке, слыша за спиной громкое дыхание Кузьмина.
И было это, как в том, давнем сне, только сейчас, наяву, это его не пугало.
Они уже вышли на лыжню Ладова, когда вновь услышали долгое «а-а-а…»
– Кажется, «сюда» кричит, – сказал Кузьмин.
– Трофеи не увезёт, – усмехнулся Солонецкий. – Ладно, поможем, мы не гордые.
Он вскинул ружьё, выстрелил. Ладов ответил, и они пошли напрямую по нетронутому снегу.
Увидели Ладова минут через десять. Выскочили на крутой берег речушки, когда рядом раздался выстрел.
– Вот он, – сказал Кузьмин, махнул рукой – и Солонецкий тоже увидел Ладова. Тот стоял без лыж по пояс в снегу под склоном, рядом с ним что-то чернело, и что это, первым разглядел Кузьмин.
– Медведь, – растерянно произнёс он.
– Медведь?! Шатуна Сашка уложил?..
Солонецкий поискал спуск и, чертыхнувшись, покатил наугад.
С разгона ударился в заметённый обломок скалы, свалился набок. Пока поднимался, откапывал лыжи, Кузьмин уже спустился к Ладову.
– Быстрее! – крикнул Ладов, и в его голосе Солонецкий услышал тревогу.
Торопясь, он надел лыжи, покатил по лыжне Кузьмина, всё чётче различая тушу лежащего шатуна: с обвисшей кожей, свалявшейся шерстью…
И – лицо Аввакума с закрытыми глазами, виднеющееся из-под неё.
Густая окладистая борода казалась угольно-чёрной, на белом как снег лице краснела застывшая кровь.
– Скорей, – торопил Ладов. – Давай вытаскивать. Гена, приподнимай…
Барахтаясь в снегу, они с трудом приподняли тушу медведя, оттащили в сторону.
Из живота шатуна торчал нож.
Рука Аввакума была неестественно вывернута.
Ладов раздвинул клочья разорванной малицы, приложил ухо…
– Дышит…
Кузьмин подсунул лыжи под Аввакума, скинул полушубок.
Солонецкий выдернул из ружья ремень.
– Держи.
Аввакума привязали к лыжам, в постромки впряглись Ладов и Кузьмин, которому Солонецкий отдал свои лыжи.
– Вы меня не ждите, – сказал он. – Разотрите снегом и спирту влейте…
Посмотрел, как они поднялись по склону, вытащил из-под медведя обломки лыж Аввакума, пристроил их на ноги, поднял ружьё Аввакума, огляделся, пытаясь представить, что здесь произошло. Скорее всего, шатун ждал Аввакума в засаде. Тот выстрелил и ранил… Хорошо, что успел достать нож….
Проваливаясь в снег, поочередно поправляя слетающие с ног обломки лыж, Солонецкий заспешил к зимовью…
– Живой, – выбежал ему навстречу Ладов. – Без сознания, рука переломана, ключица и… в общем, без хирурга никак.
Солонецкий вытер потное лицо.
– Очнулся?
– Нет. Но дышит…
Солонецкий вошёл в избушку.
Со света долго не мог разглядеть лежащего на полатях Аввакума.
– Спирту давали? – спросил он, разглядывая незнакомое сейчас лицо Аввакума, с острым подбородком и ввалившимися глазами.
– Не глотает, – сказал Кузьмин.
Солонецкий коснулся ладонью лба, с трудом улавливая жизнь в слабом теле.
– Флягу подай… Нет, лучше сам влей.
С трудом, но разжал ножом зубы Аввакума.
– Лей.
Спирт струйками стекал по уголкам губ, подбородку, жилистой шее, и вдруг кадык дёрнулся. Но сделать глоток Аввакум так и не смог.
– Жив, курилка… – Солонецкий убрал нож. – Вертолёт завтра к обеду будет, – ни к кому не обращаясь, произнёс он. И, помолчав, добавил: – Кто-нибудь в медицине разбирается?
– Без врача ничего не сделаем, – отозвался Кузьмин.
– Н-да… – Солонецкий взглянул на рваные раны на груди Аввакума. – Перевязать надо, обработать. Эх, жену Расторгуева бы сюда…
…Ночь они просидели рядом с неподвижным Аввакумом, по очереди подрёмывая.
На рассвете Солонецкий вышел из избушки, сняв шапку, прислушался, хотя раньше обеда вертолёта ждать было нечего. Посмотрел на чуть видимые верхушки Путоран и облегчённо вздохнул: плохих примет не было, день начинался хоть и пасмурный, но лётный. Расколол несколько чурбаков, недавно распиленной Аввакумом сухой лиственницы. Потом спохватился: для кого он это делает? И тут же со злостью набросился на следующий: для людей. Для себя, для Аввакума…
До обеда Кузьмин из лыж сбил некое подобие носилок.
Ладов собрал нехитрые пожитки Аввакума, из которых большую часть составляли тетради, книги и шкурки песцов. Готовить ничего не стали, перекусили консервами.
…Вертолёт прилетел после полудня. Радостные улыбки на лицах лётчиков пропали, как только они увидели носилки. Второй пилот выскочил из кабины, стал помогать, ничего не спрашивая.
По рации предупредили Снежный, неотложка уже ждала их на аэродроме. Молча и быстро санитары отнесли Аввакума в машину.
Солонецкий залез следом.
– Я с ним.
Машину кидало, присев на корточки, он всю дорогу придерживал бесчувственное тело Аввакума.
Когда того уже унесли в операционную, Солонецкий всё ещё не мог унять дрожь.
Он ходил по коридору и никак не мог избавиться от мысли, что виноват перед Аввакумом. Но не мог понять, в чём же эта неосознанная вина.
В окне замаячил Ладов.
Солонецкий вышел на улицу.
– Ну как? – спросил Кузьмин.
– Не говорят… А вы чего здесь? Работать надо, стройка без головы… – И, повернувшись, хлопнул дверью.
Наконец в коридор вышел главврач. Прикурил у Солонецкого.
– Сделали всё, что в наших силах, – сказал он. – Но гарантий дать не могу. У нас не те условия.
– А если на материк?
– Шансов больше.
– Ясно. Вызывайте самолёт… как это у вас делается? Или лучше я сам. Готовьте его к отправке.
Его подбросили на «скорой» до управления. Как был, в меховых брюках, старом полушубке, не отвечая на приветствия, прошёл в кабинет.
Вызвал по срочной связи Турильск, коротко сообщил о случившемся.
Положив трубку, устало опустился в кресло.
Он томился ожиданием, как никогда прежде ощущая колотящееся, словно торопящее время сердце. Положил под язык таблетку, немножко успокоился.
Он не мог понять, почему ему так дорог Аввакум. И не пытался найти этому разумное объяснение. Твёрдо знал одно: он должен сделать всё, чтобы этот чудак выжил, чтобы он дописал свою, даже если она никому не нужна, книгу.
Прошёл в кабинет главного инженера.
Кузьмин что-то чертил: сломанные карандаши были разбросанны по всему столу.
– Вера Сергеевна! – приоткрыл дверь Солонецкий. – Заточите Геннадию Макаровичу карандаши.
Подождал, пока она собрала их и унесла с собой.
Постоял молча рядом, пытаясь понять, что на чертеже. Спросил:
– Проблемы в туннеле?
– Мы закончим туннель в этом году, а не в следующем… В этом! – Кузьмин ударил карандашом по столу. Графитовый обломок заскользил по гладкой поверхности стола.
– Я полечу с Аввакумом сам, – сказал Солонецкий.
Кузьмин кивнул.
И снова опустил глаза на чертёж.
Солонецкий вышел.
Вызвал Расторгуева, решив заскочить домой, переодеться.
Открыв дверь, из прихожей позвал Ольгу Павловну, но она не отозвалась.
Прошёл в комнату, достал из шифоньера костюм, переоделся и только тогда заметил, что в квартире стало непривычно пусто. Исчезли картины. Распахнул створки шифоньера – не было её платьев. Только на полке лежал неподписанный конверт.
Не особенно понимая, что всё это значит, он сунул конверт в карман и торопливо вышел.
Сидя в машине, он вскрыл его.
«Нет ничего страшнее – мучить любимого человека, – писала Ольга Павловна. – Я думала, что принесу тебе счастье, а ты – мне. Но не получилось. Ты так же любишь свою жену, как любил её всегда. А я, похоже, не настолько сильна, чтобы смириться с этим. Прощай».
Он повертел записку, сложил по старым сгибам, опустил в карман, спросил Расторгуева:
– Ты Ольгу Павловну видел?
– Подвозил, – вздохнул тот. – Вчера вечером улетела. – Хотел что-то добавить, но, взглянув на Солонецкого, промолчал.
– Давай прямо к самолёту, – после паузы приказал тот.
Подъехали, когда носилки с Аввакумом уже висели в салоне на специальных ремнях и он сам, весь перепоясанный бинтами, неподвижно лежал в полотняном мешке. Рядом сидела девушка в белом халате, накинутом на пальто.
– А вы что здесь делаете? – грубовато спросил Солонецкий, забираясь по лесенке.
– Сопровождаю.
Она улыбнулась.
Солонецкий поглядел в юное лицо, еле скрывающее радость от предстоящего ей неведомого впереди, и сказал:
– Позвоните мне. Сразу же… И без него не возвращайтесь.
Быстро спустился вниз, прошёл к машине.
– Лишний я, – сказал Расторгуеву. – Там – лишний, здесь – нет.
Самолёт оторвался от взлётной полосы, стал набирать высоту.
– Домой, – сказал Солонецкий. – У тебя сигарет нет?.. Ах да, ты же бросил… Домой, в управление. Да не лихачь, нам ещё кое-что надо успеть сделать на этой земле.







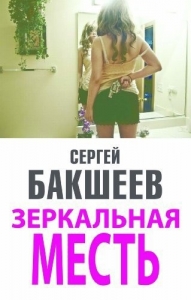

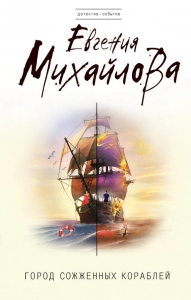


Комментарии к книге «По метеоусловиям Таймыра», Виктор Николаевич Кустов
Всего 0 комментариев