Инге Кристенс Руны смерти, руны любви
Автор выражает свою безмерную признательность тем, без чьей помощи эта книга никогда не была бы написана, а именно:
– инспектору Николасу Андерсену, любезно и терпеливо отвечавшему на мои многочисленные вопросы, касающиеся работы полиции Копенгагена;
– доктору Присцилле Сеестед, жизнерадостный характер которой, и готовность прийти на помощь совершенно не вязался с моим прежним представлениях о патологоанатомах;
– доктору Расмусу Брорсену, моему проводнику по загадочному миру человеческой психики;
– моему агенту Хельге Олесен, поддержка которой очень много для меня значила;
– профессору Лукасу Хейнесен-Шмидту, советы которого были поистине неоценимыми;
– куратору художественного музея Рибе Бьярне Могенсену, который знает ответы на все вопросы, касающиеся искусства и не только;
– Рамешу Премчанду, корифею художественной татуировки;
– и моему другу Карлу, который всегда меня понимает.
Abyssus abyssum invocat[1]
1
– Серийные убийцы не дураки, иначе им никогда не стать серийными убийцами. Иначе они попадутся на первом или на втором случае. На везение, знаете ли, уповать не стоит. Сегодня везет, а завтра может не повезти. Серийного убийцу не так-то просто вычислить, но мы делаем все, что в наших силах…
Для сорокадвухлетнего Якоба Йенсена должность комиссара полиции являлась не венцом карьеры, а всего лишь одной из ступенек – предпоследней – на пути к креслу министра юстиции. Йенсен не скрывал своих амбиций и, кажется, искренне верил в то, что его призвание – изменять мир к лучшему.
Сейчас он выглядел не самым лучшим образом. Журналисты, собравшиеся на очередную пресс-конференцию посвященную поимке Татуировщика, методично макали Йенсена в дерьмо, а он стоически ждал, пока они натешатся. Менее честолюбивый комиссар не стал бы прилюдно подставляться в качестве мальчика для битья, а спихнул бы эту неприятную миссию на кого-нибудь из подчиненных, хотя бы на своего заместителя Хеккерупа, который сейчас важно надувал щеки, сидя по правую руку от патрона. Хеккеруп осуществляет непосредственное руководство полицией Копенгагена, считается (только считается), что именно он руководит поисками Татуировщика, но разве комиссар Йенсен может позволить себе упустить хоть одну возможность покрасоваться перед камерами? Йенсен дальновиден, про таких ютландские рыбаки говорят «со своего порога заглядывает за горизонт», он понимает, что рано или поздно Татуировщик будет пойман и тогда наступят дни великого триумфа. Вся Дания будет восхищаться комиссаром Йенсеном, забыв о том, сколько бочек дерьма было вылито на его голову. К тому же, людям импонируют руководители, способные открыто говорить о проблемах своего ведомства и Йенсен умело играет на этой струне.
– Напомните, комиссар, сколько жертв на счету Татуировщика?
Вопрос можно было не задавать. Вся Дания знает, что двадцатилетняя Камилла Миккельсен стала тринадцатой жертвой Татуировщика. Камилла Миккельсен – красивое имя, имя, у которого есть ритм, шарм. У самой Камиллы, судя по прижизненным фотографиям, шарма тоже хватало. Татуировщик предпочитает иметь дело с молодыми и красивыми.
– Нам известно о тринадцати, – ответил Йенсен.
Хорошо ответил, правильно. Во-первых, формулировка правильная – «нам известно». Скажи он просто «тринадцать», сразу бы последовал уточняющий вопрос. Во-вторых, нахмурился и весь как-то помрачнел, показывая, как тяжело ему говорить о жертвах. Такие нюансы незамеченными не проходят. Сострадание ценится.
– Сейчас его спросят, почему Татуировщик делает жертвам татуировки, – сказал Оле Рийс.
Конференция была далеко не первой, а вопросы каждый раз задавались одни и те же и примерно в той же последовательности, так что никто не стал удивляться дару предсказания, внезапно прорезавшемуся у Оле.
– Есть ли у полиции новые версии, касающиеся татуировок, которые оставляет убийца?! – выкрикнула остролицая брюнетка с канала TV2[2].
– Пока нет, – Йенсен развел руками.
– Это какое-то послание или просто игра больного воображения?
– Не могу сказать ничего конкретного.
«Самовлюбленный павлин! – подумала Рикке, глядя на лощеную физиономию комиссара. – Ты вообще никогда не можешь сказать ничего конкретного. Сам не можешь, и другим не даешь!»
Она представила Йенсена в виде распустившего хвост павлина и закусила губу, чтобы не рассмеяться. Сдержать смех не удалось, потому что воображаемый Йенсен-павлин вдруг сменил свое оперение на розовый костюм из латекса, а роскошный хвост опал и превратился в конский хвост, приделанный к анальной пробке.
Рикке не имела ничего против латекса и анальных пробок. Только неделю назад спустила недельную зарплату на умопомрачительное латексное бюстье с подвязками и три пары чулок к нему. Бюстье выглядело обольстительно даже на манекене, а уж когда Рикке натянула его на себя, то поняла, что не ошиблась с выбором. Грудь в нем казалась больше, а стоило чуть наклониться, как зад оголялся так соблазнительно… Это ведь две соврешенно разные вещи – просто голый зад и соблазнительно оголенный зад, огромная пропасть лежит между ними. Просто голый зад может возбуждать похоть, а соблазнительно оголенный вдобавок будоражит воображение, очаровывает, придает наслаждению утонченную пикантность. Кому-то, может, все едино, но эстетика – удел избранных, тех, кто способен понимать прекрасное и наслаждаться им.
Комиссар Йенсен склонялся к версии, согласно которой Татуировщик был иммигрантом, занимавшимся у себя на родине татуажем. Версия опиралась на странный рисунок татуировок, отдаленно напоминавший китайские иероглифы и комиссарскую интуицию. Йенсен умел окружать себя единомышленниками («подобострастными дураками» по классификации Рикке), поэтому его версии считались в столичной полиции основными, практически – единственно верными. Рикке пыталась высказать свое мнение, однажды даже сделала это в присутствии Хеккерупа, но тот отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. Отмахнулся в прямом смысле этого слова – скривился, будто лимон лизнул и пренебрежительно махнул рукой. Чего еще можно ожидать от сына лавочника из Асаа? Человек не в силах постоянно скрывать свою внутреннюю сущность, она то и дело проглядывает сквозь тонкий слой искусственного и наносного. Рикке так и подмывало в ответ показать Хеккерупу язык, но она сдержалась. Не стоит опускаться до уровня сыновей лавочников, да еще чего доброго Хеккеруп решит, что Рикке с ним заигрывает. Интересно, а он в таком случае сможет обвинить ее в харрасменте? Есть ли судебные прецеденты, когда в харрасменте обвиняли женщин? Надо бы уточнить, а то ведь кое-кто может отыграться за подмигивания.
– Господин комиссар, когда же, наконец, жительницы Копенгагена смогут спать спокойно? – спросила корреспондентка Politiken[3]
Она могла спать спокойно уже сейчас – с таким некрасивым лицом, да еще украшенным россыпью прыщей на лбу, практически нет шансов угодить в жертвы к Татуировщику. Бедная, хоть бы челку отрастила…
– Мы делаем все возможное, – сухо ответил Йенсен.
– Вы делаете это уже третий год! – напомнил долговязый корреспондент DR1[4].
– Наш противник изобретателен и непредсказуем, – вяло парировал Йенсен. – Смею вас заверить, что мы не сидим сложа руки. Мы значительно продвинулись в своей работе…
– А Татуировщик продвинулся еще больше – уже тринадцать человек убил! – выкрикнули кто-то из последнего ряда.
Некоторые из присутствовавших на конференции журналистов позволили себе сдержанные улыбки.
– Убийце недолго осталось гулять на свободе, – уверенно заявил Йенсен. – Скоро он будет пойман. Точные сроки я назвать не могу, но…
Оле взял валявшийся на соседнем кресле пульт и выключил телевизор.
– Вечером можно ждать очередной истерики Малыша Угле[5], – сказал он.
Малышом Угле за внешнее сходство с филином за глаза и втихаря звали Хеккерупа. Оле мог позволить себе высказывать подобное во всеуслышание, потому что его контракт истекал в будущем году, а на продление надеяться не приходилось. Пару месяцев назад Оле начал осторожно прощупывать почву, но ему недвусмысленно заявили, что пожилой возраст и отсутствие каких-либо значимых служебных достижений делают его дальнейшее пребывание в рядах полиции невозможным. Отсутствие достижений? Какие могут быть достижения у рядового детектива? Рядовым детективам традиционно достаются только пинки да окрики, а все лавры присваивает себе руководство. Если завтра Оле схватит за шкирку Татуировщика, то героями дня станут Йенсен с Хеккерупом. «Отсутствие каких-либо значимых служебных достижений» это всего лишь предлог для того, чтобы избавиться от неудобного сотрудника старой закалки, не склонного к лести и вылизыванию начальственных задниц. Ну и проблемы с алкоголем не добавляют Оле плюсов, скорее наоборот. Оле не напивается до бесчувствия по выходным, как это делает большинство. Он равномерно распределяет норм выходного дня на всю неделю, в результате чего от него постоянно попахивает спиртным. Попахивает, но этого уже достаточно для косых взглядов. Центральное управление полиции Копенгагена это не какое-нибудь сельское отделение, да и год сейчас не 1988-й, а 2012-ый.
Рикке нравился Оле Рийс. И она ему тоже нравилась. Мир так устроен, что парии тянутся друг к другу. Их сближает как неприязнь со стороны окружающих, так и неприязнь, которую они испытывают в ответ. Кроме того, Оле был одинок и, подобно большинству одиноких людей, испытывал неосознанную потребность заботиться о ком-либо, а взбалмошная, непутевая и неприкаянная Рикке как нельзя лучше подходила ему в качестве объекта. Сама же Рикке всегда мечтала о таком отце, как Оле – все понимающем и снисходительном. Одно только несоответствие – в мечтах Рикке отец (которого она, кстати говоря, ни разу не видела) представлялся влиятельным, обеспеченным мужчиной, легко решающим любые проблемы… Но годам к двадцати Рикке научилась решать все проблемы самостоятельно, не рассчитывая на чью-то помощь. Сама в шутку говорила, что во всех сферах жизни, кроме сексуальной, привыкла рассчитывать только на себя. В сексе же наличие хотя бы одного партнера обязательно. Мастурбация годится, как вынужденная мера, при помощи которой можно снять напряжение, не более того. Душу мастурбацией не порадуешь, тем более что для души Рикке много чего требовалось. Во-первых, партнер должен нравиться. Нравиться по-настоящему, настолько, чтобы при одном лишь воспоминании о нем тело охватывала приятная истома, чтобы ждать часа свидания с нетерпением, с нетерпеливым предвкушением щедрой порции радости. Во-вторых, партнер должен чувствовать настроение Рикке и она должна чувствовать его настроение. В определенных случаях, когда один повелевает, а другой подчиняется, это очень важно. Подобно любому творческому процессу, секс немыслим без импровизации и очень важно импровизировать так, чтобы партнеру твоя импровизация была в радость. Невозможно оговаривать каждое действие, немыслимо всякий раз испрашивать позволения, прежде чем сделать, потому что при таком подходе таинство превращается в спектакль, некое отрепетированное действие, в целом приятное, но лишенное тех искорок, изюминок и особенностей, которые дарят настоящее наслаждение. Однажды Рикке чуть не умерла со смеху, когда партнер (впрочем, до «партнерства» с ним так и не дошло), раздев ее и раздевшись сам, поинтересовался: «Милая, можно я надену на тебя наручники?». Рикке смеялась ему в лицо, смеялась громко, бесстыдно, невежливо, понимала, что поступает нехорошо, но остановиться не могла. А когда отсмеялась, то объяснила, что настоящий господин никогда не спрашивает позволения у рабыни, а грубо заламывает ей руки и приковывает к чему надо. Это БДСМ, детка, здесь все по-взрослому. Или играй по правилам или не играй вообще.
Дружно проигнорировав реплику относительно Малыша Угле, сотрудники встали и гуськом покинули комнату релаксации. Каждый из них мог наблюдать за пресс-конференцией на экране своего рабочего компьютера, но датчане никогда не упустят возможности лишний раз собраться вместе. Собраться вместе и продолжать замыкаться в себе. Нация эгоцентричных индивидуалистов, одержимых стадным чувством.
Рикке осталась сидеть где сидела, только изменила позу – подняла ноги на кресло и крепко обхватила их руками, словно боялась, что ноги могут убежать. Оле, выходивший последним, обернулся с порога, но ничего не сказал, понял, что сейчас Рикке не до него. И не только не до него, а вообще ни до кого.
Рикке предавалась своему любимому занятию – смотрела в потолок. На самом деле она не просто смотрела, а думала, просто ей удобнее было думать, глядя в потолок. Лучше когда на потолке есть трещинки или пятна, любого размера, лишь бы глазом зацепиться. Гладкие потолки, такой вот, как сейчас, Рикке любила меньше, но ничего, сойдет и такой, главное, что вокруг нет никого и дверь (спасибо заботливому Оле) плотно закрыта. Можно расслабиться и подумать.
О ком?
Странный вопрос. Конечно же, о Татуировщике! Об этом эстетствующем серийном убийце, орудующем в Копенгагене уже два года и три месяца. Сексуальное насилие с использованием не только собственного естества, но и разных подручных предметов, удушение проволокой (возможно, что фортепианной струной) и посмертная татуировка на теле жертвы – вот почерк Татуировщика. Некоторых он еще и связывал напоследок в стиле сибари.[6] Уже после того, как заканчивал татуировку. Связывал обычной капроновой веревкой, а не натуральными, пеньковыми или, скажем, льняными, которые обычно используют любители этого искусства. Капроновая веревка – это плохо. Продается во всех магазинах, по всей Дании, по всей Европе, по всему миру… Невозможно выйти на покупателя по образцу. Пеньковая, продающаяся в специальных салонах, куда перспективнее в плане поиска. Наверное, потому-то Татуировщик ее и не использует. Умен, мерзавец. В эротическом связывании жесткие капроновые веревки стараются не использовать, потому что они причиняют лишнюю боль и могут испортить все удовольствие. У боли, как, например, и у лекарств, существует своя дозировка.
Обнаженные тела своих жертв, аккуратно упакованные в черную полиэтиленовую пленку и перетянутые поверху скотчем, Татуировщик оставлял в разных местах, у которых было одно общее качество – отсутствие камер наблюдения. Первый татуированный труп был найден в центре, на Готерсгэд, возле ограды Ботанического сада. Последний – возле мусорного бака на одной из тихих улочек респектабельного Херсхольма[7]. Прислуга-филиппинка пошла рано утром выбрасывать мусор, надорвала из любопытства упаковку и разбудила своим визгом всю округу. Татуировщик не сильно стягивал пленку на концах, поэтому труп было принять за ковер или рулон чего-нибудь.
Первой жертве Татуировщика было двадцать два года, последней – двадцать лет. Самой старшей, уборщице из «Иллума»[8] – двадцать шесть. Самой младшей – семнадцать. Уборщица, которую звали Моника Блажевич и менеджер строительной компании «М+М» Катрин Зельден были иностранками, одна приехала в Данию из Польши, другая из Германии. Все остальные жертвы были датчанками. У некоторых жертв на теле не было ни одной татуировки, у некоторых были, но живот у них оставался чистым. Татуировщик наносил свой рисунок на живот жертвы, немного выше пупка и строго по центру. Аккуратный такой рисунок, размером с сигаретную пачку или чуть больше. Аккуратный и непонятный.
После пятого убийства стало ясно, что Татуировщику нравятся хрупкие большеглазые блондинки, если не сногсшибательно красивые, то, во всяком случае, симпатичные. Рикки тоже была худенькой большеглазой блондинкой, только в глазах ее вместо кукольной непорочности плясали бесовские огоньки. Возможно, что эта схожесть с жертвами и побуждала Рикке уделять Татуировщику столько внимания. А может, главной причиной слала любовь к разгадыванию психологических загадок, познанию мотивов, управляющих людьми, иначе говоря – профессиональное любопытство психолога, специализирующегося на проблемах межличностного насилия. И не просто какого-то психолога, а штатного сотрудника Главного полицейского управления Копенгагена.
Даже самому тупому троллю было ясно, что Татуировщик не просто развлекается в силу своих пристрастий, а пытается что-то сказать миру, донести до окружающих какой-то мессидж. Иначе, зачем бы ему было раскладывать тела своих жертв по Копенгагену и его окрестностям? Что-что, а избавиться от мертвого тела в Копенгагене не проблема – море под боком. Поруби на куски, разложи по пакетам и побросай в воду. «Декстера»[9], кажется, все смотрели. Во всяком случае, любой уважающий себя серийный убийца (а эта публика себя уважает) просто обязан быть фанатом этого сериала.
Рикке считала, что полицейский психолог не вправе оставаться в стороне, когда полиция разыскивает серийного убийцу. Безуспешно, причем, разыскивает. Уже два года разыскивает и никак не может найти. Да что там найти – за эти два года никто так и не понял, что означают странные татуировки на телах жертв. Напоминает китайские иероглифы, но всего лишь напоминает. Авторитетные консультанты, знатоки китайского языка, не смогли расшифровать ни одну из татуировок. Сошлись на том, что стиль написания схож с принятым в китайской каллиграфии, а вот сами рисунки иероглифами не являются.
Одно тело – одна татуировка – один рисунок, похожий на иероглиф. Как быть? Как прочесть? Как все это понимать? Один рисунок несет в себе послание отдельное или для расшифровки надо собрать их вместе? Умные головы не могли сказать ничего определенного и умные компьютеры тоже. В результате все больше и больше народу склонялось к тому, что татуировки – это просто такие рисунки, плод больного воображения. Именно больного, ведь в здравом уме никто не станет развлекаться подобным образом. Любой серийный убийца социопат с кучей психических отклонений. С целой кучей, не с одним.
Почему некоторые тела удостаиваются «чести» быть связанными, а некоторые не удостаиваются? Какой посыл несут в себе веревки? Рикке, будучи довольно искушенной в связывании (хотя и никогда не фанатела от него), подозревала, что веревки призваны подчеркивать беспомощность жертвы. Мало Татуировщику чувства своего превосходства, нужен ему еще и этот штришок.
Как можно надеяться поймать Татуировщика, не прибегая к помощи психологов? К ней прибегали – два-три месяца после очередного убийства к Рикке шел поток подозреваемых. Она добросовестно беседовала с каждым, делала выводы, писала обстоятельные заключения… и все без толку. Но стоило ей однажды заикнуться о том, что она могла бы принять в поимке Татуировщика не пассивное, а активное участие, то есть не работать с теми, кто попал под подозрение, а непосредственно участвовать в поисках, возможно даже – определять их направление, как ее тут же подняли на смех.
– Рикке – ты сегодня в ударе!
– Рикке, ты решила переквалифицироваться в детективы?
– Метишь в министры юстиции, а Рикке?
Жирный боров Магнус Йоргенсен, насколько толстый, настолько и противный, высказал вслух предположение о том, что Рикке пора выйти замуж и посвятить себя семейным заботам. Пришлось объяснить дураку, до чего могут довести подобные сексистские замечания. Веселье мгновенно слетело с Йоргенсена, он долго извинялся и объяснял, что не имел в виду ничего такого, а просто ляпнул не подумав, но по глазам было видно, что именно так он и думает, просто не хочет нарваться на судебный иск и крупные неприятности по службе.
И все остальные думали так, даже женщины-полицейские. Все, кроме Оле. Кто такая эта Хаардер? Девчонка, психолог, в управлении без году неделя (Рикке перешла на работу в полицию полтора года назад), а вмешивается в святая святых – в розыск серийного убийцы. Сидела бы, молчала бы, набиралась бы ума…
Ума у Рикке было не занимать. Она видела, что поиски Татуировщика всякий раз заходят в тупик. Уже сложился некий стереотип – после каждого нового трупа полиция обходила все тату-салоны, перетрясала сквозь мелкое сито подозрительных иммигрантов, присматривалась к таксистам… Почему именно к таксистам? Да потому что поиски Татуировщика среди знакомых его жертв ничего не давали, вот и родилась версия о его случайном знакомстве с жертвами. А кому, если не таксисту, удобнее всего украсть человека в Копенгагене так, чтобы никто ничего не заметил?
Впрочем, присматривались не только к таксистам. Присматривались и к парамедикам, и к полицейским… Ко всем, кто может войти в доверие и заманить в ловушку. Ко всем, кто может, не привлекая особого внимания, похитить человека. Не остались без внимания клиенты психиатров, а также лица, чья склонность к насилию была известна. Подозреваемых находилось много, Татуировщик же был неуловим.
Маститые психологи в сотрудничестве с известными психиатрами участвовали в составлении психологических портретов убийцы. Портреты выходили расплывчатыми и практического значения не имели. Рикке не была маститым психологом, поэтому от нее отмахивались, словно от назойливой мухи. Прошло два года, но о Татуировщике ничего не было толком известно. Только предположительно.
Предположительно – мужчина.
Предположительно – в возрасте между тридцатью и сорока годами.
Предположительно – коммуникабелен.
Предположительно – силен физически…
И так далее.
Из всех этих «предположительно» Рикке признавала два. Татуировщик – определенно мужчина и он физически крепок. Ну то, что физически крепок ясно, хотя бы по тому, как он «разбрасывается» телами. Это же надо делать быстро и без посторонней помощи. Что же касается пола, то вывод о принадлежности Татуировщика к мужчинам был сделан на основании тщательного изучения того, что он проделывал со своими жертвами при жизни, то есть – как он их насиловал. Спермы и прочего чужеродного ДНК ни в трупах, ни на них обнаружено не было, но вот характер повреждений половых органов, говорил о том, что их нанес мужчина. К такому заключению пришли авторитетные эксперты, специалисты по отношениям между полами и причин не доверять им у Рикке не было. Да и сама она интуитивно чувствовала, что Татуировщик, которого никто не видел, мужчина. Этого не объяснить словами, это интуитивное. В воображении Рикке татуировщик представал мужчиной. Высоким, хорошо сложенным, энергичным мужчиной с размытым пятном на месте лица. Таким она его видела, таким он ей снился. Во сне он с машинкой в руке, склонялся над очередной своей жертвой и увлеченно работал, не обращая внимания на Рикке. А Рикке никак не могла ему помешать. Пыталась кричать, но из горла не вырывалось ни звука, пыталась дотянуться, но не могла, пыталась добежать, но ноги отказывались ей повиноваться. Татуировщик продолжал стрекотать машинкой (во сне она ужасно громко стрекотала) и, время от времени, издавал ехидный смешок, словно констатировал, что никому его не поймать.
Он думал, что поймать его невозможно, но на самом деле поймать – это очень просто. Если, конечно, хорошо представлять, кого надо ловить. Не зверя с татуировочной машинкой, а кого-то другого – преподавателя математики из колледжа, охранника, электрика, армейского капитана или, скажем, капитана рыболовецкого судна…
Или же надо четко представлять, где и когда окажется зверь, на которого идет охота.
Или же надо выманить зверя из логова. На приманку.
Только вот где ее разбросать эту приманку?
Рикке очень хотела вычислить Татуировщика. Причин у нее было много. Ей надо было постоянно доказывать себе, что она чего-то стоит. Ей хотелось утереть носы тем, кто смотрел на нее свысока. Ей надоело втягивать голову в плечи, заходя поздно ночью к себе в подъезд. Ей было жаль тех девушек, которых Татуировщик уже убил, и особенно остро тех, кого ему еще предстоит убить.
Оле Рийс хотел поймать Татуировщика. Скрутить, надеть браслеты и притащить в управление. Ну, может, врезать ему разок-другой по дороге, рука у Оле была тяжелая. Как настоящий полицейский, Оле не мог смириться с мыслью о том, что убийца разгуливает на свободе. Вдобавок, ему хотелось как можно громче хлопнуть дверью напоследок.
– Это же очень важно, как уйти, – не раз объяснял он Рикке. – Списанным за ненадобностью (иногда Оле говорил «за никчемностью») или победителем. Ты чувствуешь разницу, девочка? Впрочем, у тебя еще будет время, чтобы ее прочувствовать…
Рикке чувствовала разницу и прекрасно понимала, что испытывает человек, которому смачно плюнули в душу. Успела уже изучить на собственном опыте.
Недавно у Рикке появилась идея, которая очень скоро оформилась в план. Рикке, по обыкновению, попыталась донести эту идею до коллег-полицейских. Оскорбительного смеха и не менее оскорбительных замечаний на этот раз не услышала, но и понимания не встретила, хотя озвучила идею во время совещания. А для чего существуют совещания? Для того, чтобы люди обменивались мнениями. Но мнений может быть много, а правильная версия бывает только одна – та, которой придерживается руководство. Покойная Камилла Миккельсен, жертва номер тринадцать, некоторое время работала официанткой в ресторанчике, принадлежавшему одному боснийцу из Нёрребро[10] по имени Душко Балич. Родной брат Душко, Един Балич работал в тату-салоне на Тагенсвей. Един уже попадал в поле зрения полиции, вместе со всеми сотрудниками (и владельцами) многочисленных тату-салонов Копенгагена. Но раньше он был одним из многих, а теперь оказался косвенно связанным с последней жертвой Татуировщика и стал подозреваемым номер один. К тому же Един Балич превосходно укладывался в рамки версии о Татуировщике-иммигранте, которой придерживался сам комиссар Йенсен.
Пока «лучшие силы полиции» (одно из любимых выражений Йенсена) занимались боснийцами, мысли Рикке текли в другом направлении. Иногда она слегка уклонялась от темы и думала о том, что испытывали в последний час своей жизни жертвы Татуировщика.
Хорошо это или плохо, когда твой мир сужается до одного человека, во власти которого ты находишься? Хорошо это или плохо, когда боль, смешиваясь со страхом, взрывается и выжигает все внутри тебя? Есть ли в этом только ужас или же это есть наслаждение, испытав которое не жаль и умереть, потому что ничего лучше все равно не испытаешь? Каково это – знать, что все происходит на самом деле, что это не игра, которую можно прервать, произнеся «стоп-слово»? Принадлежать всецело означает отдать все, вплоть до права распоряжаться собственной жизнью? Отсутствие надежды на спасение обостряет чувства или наоборот – притупляет? Сознание того, что ты переживешь самое последнее впечатление в твоей жизни, усиливает испытываемое наслаждение или нет?
Интерес Рикке был не совсем праздным.
2
Начальник отдела убийств Мортенсен был копией матери Рикке. Не внешне, внешне между ними никакого сходства не было, а внутренне. Один и тот же характер, одна и та же манера поведения, одна и та же жизненная концепция. Мать искренне верила в то, что весь мир должен вращаться вокруг нее, и Мортенсен придерживался тех же взглядов. Мать требовала от окружающих (разумеется, от тех, от кого она могла требовать) безоговорочного повиновения, и Мортенсен требовал того же. Мать наслаждалась, унижая Рикке и Эмиля, и точно так же Мортенсен получал удовольствие, втаптывая в грязь кого-то из подчиненных. В такие минуты серое тусклое лицо Мортенсена становилось ярче, словно кто-то смахнул с него пыль, в глубоко посаженных глазах появлялось нечто вроде блеска, а уголки губ едва заметно растягивались, что означало улыбку. С таким характером противопоказано руководить людьми, но так думали те, кто подчинялся Мортенсену. Те, кому подчинялся Мортенсен, были им довольны. Знаток своего дела, требовательный к себе и к подчиненным, да еще и чутко держащий нос по ветру – да о таком подчиненном можно только мечтать! К тому же Мортенсену недавно исполнилось шестьдесят лет. Помимо права на досрочную пенсию, которым Мортенсен не воспользовался, этот возраст ставил крест на дальнейшем карьерном росте, что в глазах заместителя комиссара Хеккерупа было дополнительным преимуществом – можно было не опасаться конкуренции со стороны Мортенсена. На отношении руководства сказывалось и то, что шурин Мортенсена был депутатом парламента от Датской народной партии[11]. Не бог весть какая шишка, но все же при случае может доставить определенные неприятности, а при другом случае может быть полезным.
Незыблемую позицию Мортенсена не мог поколебать даже Татуировщик, за которым отдел убийств безуспешно охотился два с лишним года. Но не следовало думать, что Мортенсен относился к поиску Татуировщика спустя рукава. Мортенсен ничего не делал спустя рукава, а неуловимого Татуировщика считал не только самым опасным преступником в Дании, но и своим личным врагом. В узком кругу, то есть – наедине со своим заместителем Карлом Эккерсбергом, Мортенсен позволял себе весьма рискованные замечания, вроде того, что таких ублюдков как Татуировщик надо убивать прямо во время ареста. Заместитель Эккерсберг был настроен не столь радикально, ибо в глубине души он был больше юристом, законником, нежели полицейским, но, тем не менее, соглашался с Мортенсеном. Эккерсберг надеялся со временем пересесть в кресло начальника отдела убийств, и прекрасно понимал, что это в первую очередь будет зависеть от характеристики, которую даст ему босс. В управлении полиции было принято прислушиваться к мнению лиц, оставляющих тот или иной пост, в отношении их вероятных преемников. Особенно, если эти преемники, долгое время работали под руководством уходящего.
Приглашение на совещание в отдел убийств Рикке восприняла без особого энтузиазма, потому что знала – ей по обыкновению придется отвечать на вопросы, которые будут заданы, не более того. Высказывать свое мнение или делиться предположениями бесполезно. Мортенсен кивнет, давая понять, что принял сказанное к сведению, Эккерсберг вежливо улыбнется, жирный боров Йоргенсен улыбнется ехидно, а Оле ободряюще подмигнет и на этом все закончится. Если бы Рикке работала в какой-нибудь торговой или производственной компании, то могла бы просто посмеиваться над коллегами, считающими себя умнее Кнуда Великого.[12] Рано или поздно любой такой «умник» попадет в яму, которую сам себе вырыл. Но, что такое «поздно», когда речь идет о серийном убийце? Это чьи-то жизни. Это новые жертвы.
Коридоры в огромном здании столичного полицейского управления были длинными и канцелярски-унылыми. Суровый деловой стиль, место, где работают серьезные люди. Черный пол, белый потолок, тусклые стены, которые кажутся серыми, вне зависимости от того, в какой цвет они окрашены на самом деле. На взгляд Рикке, коридоры можно было бы «оживить», развесив по стенам картины или какие-нибудь постеры, но эту идею она предпочитала не озвучивать, чтобы не добавлять к репутации выскочки, сующей нос не в свои дела, репутацию полной идиотки. На ее рабочем месте с офисной тоской успешно боролся Снулле – лопоухий пес ярко-оранжевого цвета, купленный в «Фётексе»[13] и врученный в подарок самой себе. «Дорогая Рикке, пусть этот пес защищает тебя от врагов и неприятностей… Та-та-та-там!» Одно дело просто купить игрушку, и совсем другое торжественно подарить ее себе перед зеркалом, а затем не менее торжественно дать ей имя. «Нарекаю тебя Снулле в честь Скуби-Ду[14] и…» Ладно, дальше можно не вспоминать. Мужчина по прозвищу Нулле давно был вычеркнут из жизни, даже не вычеркнут, а выброшен и почти забыт. Можно считать, что «Снулле» это датский вариант имени «Скуби-Ду».
В большом кабинете Мортенсена тоже нашлось место личному – фотографии, на которой Мортенсен красовался в лыжном костюме и с палками в руках на фоне деревьев, обильно присыпанных снегом. Фотография висела на стене не просто так (Мортенсен вообще ничего не делал просто так), а со смыслом – показывала всем, что старина Ханс, несмотря на свои шестьдесят и нездоровый цвет лица, еще бодр и крепок. Рикке отдала бы треть своей месячной зарплаты за возможность оказаться на пять минут одной в кабинете Мортенсена и «доработать» его фотографию маркером. Вот бы смеху-то было! Но, увы, о таком можно было только мечтать. А как здорово смотрелся бы Мортенсен со слоновьими ушами и хоботом…
Рикке пришла последней и села в самом конце длинного стола, возле двери. Ее появления, казалось, никто не заметил. Мортенсен что-то говорил Эккерсбергу. Оле Рийс и Аре Беринг стояли за спиной у старшего инспектора Ханевольда и смотрели на экран его ноутбука. Йоргенсен, прикрыв рот рукой, шептал на ухо криминалисту Нансену очередной похабный анекдот (иначе зачем на ухо шептать?). Инспектор Франнсен, жена которого умирала от рака поджелудочной железы в хосписе Святого Луки в Хеллерупе,[15] сидел особняком, погруженный в невеселые думы.
Рикке открыла рабочий блокнот на чистой странице и положила его на стол. Она так привыкла повсюду ходить с блокнотом, что иногда прихватывала его с собой, когда шла в туалет. Самое смешное, что иногда случалось делать записи и в туалете – умные мысли приходят в голову и там. На память полагаться не стоит, лучше все записывать. Да и думать удобнее, когда в одной руке блокнот, а в другой ручка, причем блокнот не электронный, а бумажный. Бумажный блокнот гораздо удобнее – его можно отшвырнуть от себя, не опасаясь повредить, листы можно рвать на мелкие кусочки, а под настроение из вырванного листа можно сделать самолетик, нарисовать на крыльях веселые рожицы и запустить такой вот «воздушный комплимент» в окно. А еще бумажные блокноты не нуждаются в подзарядке. Рикке была уверена в том, что существует всемирный заговор девайсов иначе как можно объяснить то, что все они склонны разряжаться в самые неподходящие моменты.
Сигналом к началу совещания стало покашливание начальника отдела. Секунда-другая и разговоры прекратились. Рийс и Беринг сели на свободные стулья. Франнсен вернулся к действительности и тоже смотрел на Мортенсена.
– Вчера я имел несколько неприятных разговоров, – известил Мортенсен. – Самым неприятным был разговор с мэром. Он выразил огромное недоумение тем, что Татуировщик до сих пор не пойман. Что я мог сказать в ответ? Сослаться на то, что Убийцу с Грин-ривер[16] ловили более пятнадцати лет? Или признаться в том, что ни я, ни мои подчиненные не имеют в руках ни одной ниточки, которая могла бы привести к Татуировщику?
Старший инспектор Ханевольд многозначительно хмыкнул. Он мог позволить себе подобную вольность. Ханевольд начинал службу в полиции вместе с Мортенсеном, они считались если не друзьями, то хорошими приятелями.
– Фредрик! – поморщился Мортенсен, поняв, что хотел сказать Ханевольд. – Тысяча косвенных доказательств и десять тысяч подозрений не стоят одной веской улики. Един Балич пока что всего лишь объект для изучения.
– Перспективный объект! – вставил Ханевольд.
Йоргенсен покивал головой, выражая согласие с мнением старшего инспектора.
– Разговор закончился тем, что от меня потребовали действовать более активно, – тонкие губы Мортенсена на мгновение искривились в подобии улыбки. – От всех нас потребовали действовать более активно. Я понимаю нашего мэра. До выборов осталось не так уж и много, а Татуировщик может стать прекрасным козырем в руках любого противника.
– Может случиться так, что Татуировщик станет козырем в руках мэра, – заметил Оле.
Смысл его слов дошел не до всех, но Рикке поняла, что он имел в виду. И Мортенсен понял, потому что никак не отреагировал. Кто знает, что на уме у комиссара Йенсена? Может, он метит не в министры, а в мэры? Тоже ведь хороший пост.
– Включаем мозги и думаем! – для наглядности Мортенсен постучал себя пальцем по лбу (или он просто хотел уточнить, каким местом надо думать?). – Он же не призрак, значит должен оставлять какие-то следы. И к Баличу надо присмотреться как следует. Что там с Баличем Фредерик?
– Работает до позднего вечера, после работы едет домой. По вторникам и пятницам Балич ночует у своей любовницы Анесы Гардович на Наннасгате двенадцать. В другие дни Анеса обслуживает клиентов… Субботние вечера проводит в ресторане «Босанска куца» на пересечении Ягтвей и Фрейасгэд, это нечто вроде клуба для боснийцев. Добропорядочный обыватель, не замеченный ни в чем подозрительном и противозаконном, один штраф за превышение скорости не в счет. Макс убил кучу времени на выяснение подноготной семейства Баличей. Ничего настораживающего или привлекающего внимание не нашел. Обычные иммигранты. Хочешь что-то сказать, Макс?
Сказать «что-то» Франнсен не мог. Ему непременно нужно было начать с самого начала и дойти до конца. Подобная обстоятельность делала Франнсена незаменимым сборщиком информации и прекрасным аналитиком. Если расставить все по местам и уточнить все детали, то выводы напрашиваются сами собой.
Рикке не слушала Франнсена, а пыталась угадать, зачем ее сегодня пригласили на совещание в отдел убийств. Нужен психологический портрет Едина Балича? Изменилась концепция? У Мортенсена появились новые соображения? Или речь пойдет о другом убийстве и другом убийце. В конце концов, не один Татуировщик убивает в Копенгагене… С рабочих мыслей Рикке съехала на личные воспоминания и стала думать о матери. В присутствии Мортенсена так и подмывало думать о матери.
Ничего сентиментального в этих воспоминаниях не присутствовало – одна тоска, душевная боль. Когда-то была и физическая боль, в частые минуты гнева мать с великой охотой пускала в ход все, что попадалось ей под руку, а за неимением чего-то увлеченно действовала голыми руками. Пощечины у нее выходили хлесткими и оглушительно звучными. Закрываться и уворачиваться было нельзя. Попытки избежать наказания воспринимались как сопротивление и в результате мать еще сильнее выходила из себя. Лучше потерпеть, так гнев уляжется быстрее. Физическое насилие было неразрывно связано с духовным – сразу же после экзекуции полагалось долго унижаться, вымаливая у матери прощения. Можно было бы и не вымаливать, тем более что тяжесть наказания не соответствовала степени вины, а очень часто и вины никакой не было, просто мать пребывала не в лучшем расположении духа, вот и срывалась, но, не видя «раскаяния», мать могла разъяриться снова. И, соответственно, снова начать экзекуцию.
Мать умерла, когда Рикке было двадцать. За год до ее смерти ушел из дома старший брат Рикке Эмиль. Ушел после очередного скандала, наскоро собрав вещи и не сказав, куда он уходит не только матери (что было вполне естественно), но и Рикке. Правда от былой детской привязанности между братом и сестрой к тому времени не осталось и следа. Лет с четырнадцати они начали расходиться в разные стороны и, в итоге, разошлись окончательно. Брат пропал, как в воду канул. Сблизившись с Оле, Рикке попросила его поискать Эмиля через полицейскую базу данных, к которой у нее не было доступа. Оле поискал, но нужного человека среди жителей Дании по имени Эмиль и фамилии Хаардер не нашел. Дата рождения не совпадала и не было никакого сходства на фотографиях. «Наверное Эмиль перебрался в Швецию, а, может и в Англию, – решила Рикке, хорошо знавшая характер своего беспокойного братца, искренне верившего в то, что он – гениальный музыкант. Справедливости ради надо заметить, что на барабанах Эмиль отжигал довольно неплохо, но между неплохой игрой и гениальностью – целая пропасть.
– Я специально пригласил сюда госпожу Хаардер, чтобы проконсультироваться…
Услышав свою фамилию Рикке вздрогнула и перевела взгляд с девственно чистой страницы блокнота на Мортенсена.
– Считается, что серийным убийцам свойственно оставлять себе на память какие-то сувениры, напоминающие им об убийстве, – продолжал Морстен. – Это так, госпожа Хаардер?
Йоргенсен изобразил, как рассматривает что-то на свет. Не иначе, как вспомнил Декстера с его капельками крови на стекле. Рикке украдкой подмигнула ему. Йоргенсен нахмурился и раздул и без того толстые щеки. Весело поддразнивать тех, кто тотчас же реагирует. Вот невозмутимому Ханевольду Рикке никогда бы не стала подмигивать. Ему хоть подмигни, хоть обнаженную грудь покажи, хоть что другое – Фредерик даже бровью своей мохнатой не поведет. А Йоргенсен – как ребенок.
– Это не совсем так, то есть не каждому серийному убийце свойственно хранить трофеи, – начала Рикке. – Трофеи обычно хранят только серийные убийцы-гедонисты, то есть те, кто убивает ради наслаждения…
– А что – среди них есть и другие? – вслух удивился Йоргенсен.
– Есть. Серийного убийцу может побуждать к убийству некий руководящий им голос или же убийца может убивать, выполняя какую-то миссию. Типичный пример – убийство проституток ради очищения мира от скверны. Странно, что один из самых опытных сотрудников отдела убийств не знает элементарных вещей…
В словах «один из самых опытных сотрудников» так и звенел сарказм. Йоргенсен покраснел и запыхтел. Мортенсен слегка сдвинул брови на переносице – он не любил, когда кто-то со стороны критиковал или делал замечания его сотрудникам. Оле, не скрываясь, подмигнул Рикке – молодец, хорошо отбрила нашего бравого дурачка.
– В том случае, когда убийце нравится убивать, ему может захотеться оставить себе на память об убийстве какой-нибудь сувенир, чтобы рассматривая его впоследствии, или беря в руки, или нюхая или как-то еще взаимодействуя, освежать в памяти убийство и заново переживать сладостные для него моменты. Татуировщика, скорее всего, можно отнести к гедонистам, хотя бы по тому, что он насилует жертву перед тем, как ее убить. Кроме того, после убийства он производит с трупом ритуальную манипуляцию – наносит татуировку и оставляет тело там, где его легко найти. Девяносто девять и девять десятых за то, что Татуировщику нравится убивать.
– А одна десятая процента за то, что убивает один человек, а татуирует и подкладывает другой, – проворчал Ханевольд.
Такой версии Рикке еще не слышала, но всем остальным она явно была известна, потому что никто не оживился и не стал задавать вопросов. Убивает один, а татуирует и подкладывает другой? Братья? Один – убийца и насильник, а другой – эстет и шутник? Или, скажем, отец и сын? Папаша убивает девушек, а сын «украшает» их и выставляет на всеобщее обозрение? Навряд ли, хотя чего только не бывает…
– Скажите, госпожа Хаардер, а какие сувениры мог бы оставлять себе на память Татуировщик?
Рикке не имела ничего против обращения по имени, но Мортенсен неизменно называл ее госпожа Хаардер. Скорее всего, в его представлении, обращение по имени было знаком расположения. Так, например, Эккерсберга Ханевольда и Франнсена он называл по именам, а всех остальных своих сотрудников по должности и фамилиям – инспектор Йоргенсен, инспектор Рийс, инспектор Беринг. Криминалист Юхан Нансен стоял особняком, его Мортенсен называл «господином криминалистом». Явно не от большой любви, а, скорее, даже с оттенком иронического превосходства, но Нансена это нисколько не задевало. В управлении полиции Копенгагена пятидесятилетний Юхан Нансен считался образцом невозмутимости, воплощением спокойствия и эталоном флегматизма. «Мне б такие нервы, как у Нансена!» в сердцах восклицали сотрудники управления. Или: «Это только Нансен может вынести!». Остряки называли Нансена Бамсеном,[17] получалось не обидно, а как-то по-домашнему, тем более, что грузный и вечно лохматый Нансен чем-то напоминал медведя. Весельчак Аре Беринг частенько сетовал на то, что у Нансена добавок к двум сыновьям, нет дочери – ведь можно было только мечтать о такой спокойной жене. Нансен улыбался и советовал Аре жениться на надувной секс-кукле, уж спокойнее ее точно не найти.
– Трудно сказать… – призадумалась Рикке.
Жертвы Татуировщика были «одеты» только в упаковочную пленку. Их вещи бесследно исчезали. При таком раскладе убийца мог оставлять себе все, что угодно, но…
– …Я могу предположить, что он оставляет на память фотографии татуировок или тел перед упаковкой.
– А почему не украшения? – поинтересовался Ханевольд. – Он же снимает серьги и кольца с тел жертв.
Странно, удивительно, но до сих пор никто не интересовался сувенирами, то есть трофеями Татуировщика. Во всяком случае, Рикке подобных вопросов не задавали. Что произошло? Обнаружили у Едина Балича какую-то «коллекцию»? Или поиск пошел в новом направлении?
– Возможно, что он оставляет и украшения, – согласилась Рикке потому что, соглашаясь с оппонентом, ты получаешь возможность спокойно изложить свою точку зрения. – Но я склонна думать, что полное отсутствие одежды и украшений на телах жертв преследует другую цель. Таким образом, Татуировщик привлекает внимание к своим рисункам, подчеркивает их исключительную важность…
– А зачем связывать? – спросил Беринг. – И почему он связывает не всех, а только некоторых?
– Не знаю, – пожала плечами Рикке. – Но смысл в этом есть.
– Нет, не понимаю я этого! – воскликнул Йоргенсен. – Ну оставь ты записку, вырежи из газеты слова и наклей, если не хочешь, чтобы тебя опознали по почерку…
– И положи рядом визитную карточку, чтобы инспектор Йоргенсен смог тебя найти, – добавил Оле.
Все, кроме Мортенсена, Нансена и самого Йоргенсена отреагировали на шутку смешком или улыбкой. Йоргенсен так и пылал недовольством (кому приятно получить подряд два щелчка по самолюбию?), но в перепалку с Оле не полез, зная по горькому опыту, что на одно его слово у Оле найдется три, если не пять.
– Татуировки – неотъемлемая часть его ритуала, – продолжила Рикке, стараясь не смотреть на багровую физиономию Йоргенсена. – Они присутствуют на телах всех жертв, следовательно, имеют очень важное значение для Татуировщика, поэтому я и думаю, что в первую очередь он должен коллекционировать татуировки. То есть – их фотографии.
– Спасибо, госпожа Хаардер, – Мортенсен перевел взгляд на ерзающего на стуле Беринга. – У вас есть вопрос, инспектор Беринг?
Вот кому, скажите пожалуйста, нужны эти церемонии. Совещание – это обмен мнениями, зачем ждать разрешения начальника для того, чтобы задать вопрос? Затем, чтобы все лишний раз вспомнили, кто тут главный! Да разве ж это можно забыть! Рикке снова вспомнила свою мать и подумала, что Мортенсен вполне может оказаться ее родственником (святая Бригитта, храни от такой родни!) ибо уж больно его характер похож на матушкин. И взгляд тоже похож – колючий, холодный. Никогда не пошутит, а ведь шутки так помогают в работе, сразу какой-то другой настрой появляется.
– А как он может хранить фотографии? – спросил Беринг, глядя на Рикке. – Что предпочитает такая публика? Альбом или шкатулку с отпечатанными фотографиями или же папку с файлами на флешке?
– К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос, – кто ж его знает, этого Татуировщика? – Но осмелюсь предположить, что такой осторожный субъект не станет связываться с флешкой и, тем более, с альбомом. Скорее всего, он хранит фотографии где-то в интернете, под десятью паролями и добирается до них окольными путями, искусно заметая следы.
– Информацию в Сети нетрудно обнаружить, – подал голос Нансен.
– Совсем не так! – возразил Оле. – Смотря где спрятать. Флешку или конверт с фотографиями можно найти, если представляешь, где искать, но зашифрованную и запароленную информацию в интернете найти невозможно!
– Я не специалист, – спорить было не в обычае Нансена. – Но можно спросить у наших специалистов по информационным технологиям.
– Я спрошу, – пообещал Оле.
Рикке, вдохновленная тем, что сегодня с ее мнением, кажется, считаются, умильно посмотрела на начальника отдела убийств и спросила: – Господин Мортенсен, могу я высказать еще одно предположение?
– Да, конечно, – разрешил тот.
– Мне кажется, что Татуировщик имеет отношение к изобразительному искусству, – Рикке заговорила торопливо, потому что много надо было успеть сказать до тех пор, пока Мортенсен не кивнет головой, прося ее замолчать. – Характер его рисунков не лишен своеобразной эстетики, в них видна красота, виден стиль. Я провела небольшой анализ, опираясь на свои соображения…
– Благодарю вас, госпожа Хаардер, – перебил Мортенсен. – Вы уже высказывали это предположение.
– Но я бы хотела объяснить все подробно! – умоляющим тоном сказала Рикке. – Всего пять минут…
– Лучше изложите ваши соображения в письме и пришлите мне, – ответил Мортенсен. – Я непременно с ними ознакомлюсь.
«Как бы не так! – с досадой подумала Рикке. – Отправишь в корзину, не читая! Знаю я тебя!»
Что говорилось дальше, она не слушала. Зачем слушать тех, кто не хочет тебя слушать? Пусть доблестные сотрудники отдела убийств разрабатывают те версии, которые им больше нравятся. Ей никто не мешает посвятить свободное от работы время проверке своей собственной версии. Зато как вытянется физиономия Мортенсена, ели вдруг окажется, что Рикке была права в своих предположениях! Только ради этого можно попытаться!
«А письмо я непременно отправлю, – пообещала себе Рикке. – И сохраню у себя в папке. Чтобы потом Мортенсен не вздумал утверждать, что я ничего такого не говорила и не писала».
Мысли снова вернулись к матери. Рикке предпочла бы не вспоминать о ней вообще, но мать оставила дочери кое-что на память о себе, наследство от которого Рикке никак не могла избавиться.
А может, не хотела избавляться, а просто делала вид?
Когда-то давно Рикке решила заняться психологией, чтобы помочь самой себе. И специализироваться на проблемах межличностного насилия она стала не случайно. Но недаром же говорится, что чем глубже нырнешь, тем темнее вода. Помочь себе пока не очень-то получалось…
Чтобы немного отвлечься, Рикке порылась в памяти в поисках чего-то приятного. Почему-то вдруг, без всякой привязки к реальности, ей вспомнился Морти, будущий финансист и отчаянный выдумщик. Финансисту, впрочем, и положено быть выдумщиком, ведь баснословные состояния делаются на блестящих идеях. Скорее всего, Морти вспомнился к разговору о трофеях. Морти коллекционировал локоны своих возлюбленных – причуда на грани фетишизма – причем локон нельзя было просто срезать, получить в качестве подарка или же стянуть во время стрижки. Для того чтобы обрести коллекционную ценность локон должен был стать добычей, то есть Морти нужно было срезать его после длительной, упорной и в какой-то мере беспощадной борьбы. Секс с Морти вообще был беспощадным по сути, но, в то же время, очень красивым, вдохновенным и всегда разным. Они встречались по три-четыре раза в неделю в течение десяти месяцев, до тех пор, пока Морти не увлекся какой-то китаянкой с кукольным личиком и аристократическими манерами (убийственное, надо признать, сочетание), так вот за все это время Морти ни разу не повторился в своих постановках. А каждый прыжок в постель был именно постановкой, продуманной до мелочей и отлично срежиссерованной. Рикке была примой, суперзвездой, которой разрешалось импровизировать сколько угодно, но строжайше запрещалось выходить за рамки образа. Монахиня, которую насиловал грубиян-полицейский, могла кричать, стонать, царапаться, но про молитвы забывать не могла. Развратная медсестра не могла пренебречь медосмотром своего партнера, а доверчивой школьнице полагалось развлекать электрика-эротомана, чинившего проводку в школьном подвале, рассказами про учителей.
Локон полагалось срезать у прекрасной дикарки, которая бегает по джунглям от любвеобильного охотника. Охотник был одет в пробковый шлем и шорты, а дикарке полагалась набедренная повязка из свежесорванных листьев фикуса и гирлянда из бумажных цветов на шее. Джунглями стала квартирка-студия Морти, плотно заставленная всяким хламом. Сначала Морти бегал за уворачивающейся Рикке по джунглям, потом поймал, связал ей руки спереди, притянул их к крюку, на котором обычно висел боксерский мешок, так, что Рикке пришлось стоять на цыпочках и от души отхлестал обрывком веревки (хлыст, по мнению Морти, пешему охотнику не полагался, а вот без мотка доброй пеньковой веревки в джунгли и соваться нечего). Хлестал Морти умело, удары его были резки и отрывисты, но не настолько сильны, чтобы лишить боль сладости. Рикке стонала от наслаждения, время от времени перемежая стоны пронзительными призывами на помощь. Долго стоять на цыпочках это уже приятная мука, а если к одной приятности добавить другую, то получается совсем замечательно, особенно если охотник, не удовлетворившись поркой, еще и грубо овладеет своей добычей. Морти умел правильно кусаться, так, чтобы пробирало, не оставляя следов. Любимыми его местами для укусов были соски и мочки ушей. Готовясь укусить, он хищно клацал зубами – «бильд-блёд», «бильд-блёд»[18]…
Только после второго оргазма (первый пришел еще во время порки), Рикке согласилась отдать «своему господину» локон в знак вечной верности. Морти изобразил великую радость, а, получив вожделенный дар, смягчился и поблагодарил вздрагивающую от притворных рыданий Рикке чудным куннилингусом.
Три восхитительных по яркости и мощности оргазма – неплохая плата за клок волосков. Рикке с удовольствием сбыла бы все остальные волосы по такому прайсу, все равно ведь новые отрастут.
– Госпожа Хаардер, вы не научите нас сохранять прекрасное расположение духа в трудных ситуациях?
Голос Мортенсена вывел Рикке из задумчивости.
– Вы так улыбались, что я вам позавидовал, – продолжил начальник отдела убийств. – Я давно уже разучился улыбаться на этой проклятой работе…
– Научиться очень просто, – Рикке притворилась, что не уловила сарказма. – Подумайте о чем-то хорошем, и ваше настроение улучшится, каким бы плохим оно не было. Попутно позволю себе заметить, что если работа воспринимается как «проклятая», то ее лучше сменить. Это не мое частное мнение, а научное утверждение, одна из аксиом психологии.
Оле выразил свое восхищение взглядом. Его тусклые, вечно усталые глаза, обладали способностью мгновенно оживать, становясь весьма выразительными, и столь же быстро гаснуть.
– Благодарю вас, госпожа Хаардер, – проскрипел Мортенсен. – Я непременно подумаю о хорошем, когда мы поймаем Татуировщика.
3
Время близилось к полуночи. По коридору прошелся дежурный охранник. Заглянул к Рикке, напоролся на неприязненный взгляд человека, которого попусту отвлекли от работы и молча ушел, тихо закрыв за собой дверь.
Завтра Рикке начинала свое частное расследование. Начало – завтра, сегодня – подготовка, если можно назвать подготовкой, повторение много раз виденного, досконально изученного и хорошо знакомого. Но, как говорят ютландские рыбаки: «не ленись лишний раз забросить сеть – больше рыбы поймаешь». Иногда во время повторного знакомства с материалами можно обнаружить нечто важное, упущенное, ранее незамеченное. За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить декабрьское убийство в Кодбиене.[19] Просматривая в третий раз записи видеокамер с ближайших бензоколонок, Оле заинтересовался одной из машин, водитель которой проявлял несвойственную для ночного времени торопливость. Торопятся больше утром, когда спешат на работу. Чутье не подвело – торопыгой оказался убийца, правда то, что первым на него обратил внимание инспектор Оле Рийс впоследствии как-то забылось и все лавры достались старшему инспектору Ханевольду, который всего лишь руководил операцией по задержанию убийцы и пару раз выходил к журналистам. Antiquo more.[20]
Рассматривая бесчисленные фотографии жертв, Рикки пыталась постичь метод Татуировщика, нащупать какие-то закономерности, понять, что происходило до смерти жертвы, и что происходило потом. До того, как совершенно посторонние люди находили труп.
Следы от наручников на запястьях и лодыжках. Обычные наручники, никаких веревок, никакого скотча. Наручники просты и надежны.
Татуировки были у всех тринадцати жертв, а вот связанными оказались всего три жертвы – номер три Моника Блажевич, номер восемь, двадцатидвухлетняя студентка университета Берта Кристенсен, и номер одиннадцать, девятнадцатилетняя танцовщица из ночного клуба Эмма Расмуссен. Остальным веревок не досталось. Почему так? Что означают веревки? Это своеобразная награда «хорошим девочкам» или, напротив, наказание «плохих»? Или, если у Татуировщика времени было в обрез, то он обходился без веревок? Да нет, со временем у него всегда нормально – татуировки он, судя по всему, делает обстоятельно, не торопясь.
Не настолько понравились девушки, чтобы их связать? Связанные, в общем-то, ничем не отличаются от других жертв. Один стандарт, однотипная внешность. Различия, разумеется, есть, но не очень большие.
Все трое связаны в одном стиле. Руки за спиной, локти сведены вплотную, грудь обвязана, ноги не согнуты, все тело оплетено веревками так, что кажется упакованным в крупноячеистую сеть.
Больше всего «повезло» Монике Блажевич. Ей убийца обмотал веревками шею так, что странгуляционная борозда была не видна. Моника вела себя так, как надо? Заслужила отличие?
Материалы – фотографии, протоколы, заключения – разложены по папкам с именами жертв. Все эти папки находятся в папке «Nogen Tatovering»[21] на личной флешке Рикке.
«Сотрудникам категорически запрещается самовольное копирование любой служебной информации…»
Правила пишутся для того, чтобы их нарушали, не так ли? Разве господин Nogen Tatovering не знает, что убивать нехорошо? Знает, но не верит, то есть – уверен в обратном.
Интересно, когда он переживает свой «катарсис» – при удушении жертвы или во время нанесения татуировки? Скорее всего, в момент убийства. Все татуировки господин Nogen Tatovering делает твердой рукой. И вяжет веревками крепко-накрепко, натягивая веревки и затягивая узлы, что есть силы. «Так вяжут окорока для копчения, – сказал патологоанатом Квортруп. – Сразу видно, что парень никогда не вязал живых людей, только покойников». Квортруп не совсем прав – живых, то есть своих сексуальных партнерш, Татуировщик мог вязать иначе, щадяще. Жертва – это же не просто партнерша, это человек, над которым ты утверждаешь свою абсолютную власть, человек, которого ты лишаешь жизни. Святая Бригитта, как же все это ужасно…
Эксперты определили марку машинки, которой пользуется Татуировщик. С оговоркой «предположительно», но это такая традиционная оговорка экспертов. Предположительно это машинка «Papillon midi YT» китайского производства. Таких повсюду навалом, одна из самых распространенных марок. Недорогая машинка и дорогие, чуть ли не элитные, иглы марки «Odi» сечением 0,35 миллиметра. Иглы напаяны в круг. Контур рисунка Татуировщик наносит теми, что плотно сведены на конце в пучок, а закрашивает теми, что разведены пошире. Иглы «Odi» то ли покрыты слоем серебра, то ли содержат серебро, служащее якобы дополнительным дезинфицирующим фактором, и вдобавок они заточены каким-то невероятным образом. «Иглы «Odi» – боль уходи», как-то так звучит их рекламный слоган. В выборе крутых игл для посмертных татуировок, когда жертве уже глубоко безразличны болевые ощущения и возможность инфицирования, Рикке виделось изощренное глумление.
Татуировщик глумлив, что да, то – да. Но самому себе он должен казаться остроумным. Социопаты почти всегда в той или иной мере гордятся своим остроумием.
Фотографии фрагментов тел выглядели не очень впечатляюще, но вот тела, лежащие на металлическом столе патологоанатома, всякий раз заставляли Рикке содрогаться. Фрагменты – это не по-настоящему, это как кусочек пазла, а тело, вытянувшееся на столе – настоящее.
Смотри Рикке, белокурая куколка, это может случиться и с тобой!
Эй, Рикке! Посмотри на меня!
Рикке, я тоже когда-то верила, что ничего хуже незапланированной беременности со мной случиться не может!
Ни одна из жертв не успела испытать радости (или тягот) материнства. Жертва номер четыре Бертина Педерсен носила в матке четырехнедельный эмбрион. Рикке хотелось верить, что зародыш, находившийся в утробе матери, не почувствовал ничего ужасного.
Сломанный ноготь на торчащем кверху указательном пальце жертвы номер семь Катрин Зельден, казалось предостерегал Рикке, советуя ей держаться подальше от Татуировщика.
Мать тоже учила держаться подальше от дурных людей, сопровождая каждое слово оплеухой. «Сколько – шлеп! – раз – шлеп! – говорить – шлеп! – тебе – шлеп! – что – шлеп! – нельзя – шлеп! – водить – шлеп! – компанию – шлеп! – с кем попало – шлеп-шлеп!». Слова намертво вбивались в память, но «помнить» не означает «выполнять». В сомнительные компании Рикке тянуло магнитом.
Круги, сделанные маркерами разных цветов, выделяли на фотографиях то, к чему стоило присмотреться. Тело жертвы номер два двадцатитрехлетней Агнес Нильсен ивент-менеджера агентства «Добле-ОК» повернуто на бок, чтобы можно было рассмотреть родинку в области поясницы. Агнес – имя греческого происхождения, означающее Целомудренная. Ни хрена себе целомудрие…
Все жертвы похожи внешне друг на друга, но, в то же время, они такие разные… Но досталось им одинаково? Или нет? И рисунки на каждом теле разные.
Разные, и в то же время похожие друг на друга. Единый стиль…
Аре Беринг (никогда не поймешь, шутит ли он или говорит серьезно) утверждал, что рисунки Татуировщика есть ни что иное, как три башни[22], перечеркнутые несколько раз. Стилизованные, шаржированные, но – три башни.
– Татуировщик ненавидит Копенгаген! Ему доставляет удовольствие глумиться над нашими святынями! Я не удивлюсь, если в один прекрасный день он нарисует свой «иероглиф» на животе у Русалочки!
– Дай-то бог! – вздыхал Ханевольд. – Этот день станет последним, который он проведет на свободе.
Статуя Русалочки, известная едва ли не во всем мире, часто страдала от вандалов и поэтому с не очень давних пор ее взяли под усиленное наблюдение. Две камеры слежения круглые сутки следили за самой статуей и еще несколько за подходами и подъездами к ней. Вдобавок, проезжавшим мимо полицейским патрулям вменили в обязанность «обращать особое внимание» на Русалочку. Что такое «обращать особое внимание» Рикке разъяснил все тот же Оле.
– Если что случится там, где от тебя потребовали особого внимания, на дальнейшей карьере можно ставить крест и впредь считать себя кавалером Большого Черного креста.[23]
Начало нового дня Рикке встретила на рабочем месте. Такое случилось с нею впервые за все время работы в полицейском управлении Копенгагена. Обычно она, если и засиживалась по окончании рабочего дня, то не очень долго – максимум часов до восьми вечера.[24] Подавив очередной зевок, Рикке подумала, что пора бы уже оторвать свою задницу от стула и унести ее домой, но уходить, не закончив, было не в ее правилах. Осталось немного – пробежаться глазами по списку жертв и в сотый уже, наверное, раз попытаться вывести какую-то закономерность.
Анне Йохансен, двадцать два года. Первая жертва Татуировщика. Нигде не работала и не училась. Снимала вместе с такой же неработающей подругой крошечную квартирку в Вестербро[25] на Буструпгэд. По свидетельствам соседей, мужчины в эту самую квартирку шли косяком. Подруга Анне занятие проституцией отрицала.
Вторая жертва Татуировщика – Агнес Нильсен двадцать три года, ивент-менеджер агентства «Добле-ОК». Жила в чистеньком буржуазном Фредериксборге на съемной квартире, отдельно от родителей. Имела бойфренда, с которым вроде как собиралась вступить в брак. Бойфренд, адвокат по профессии, был на пять лет старше Агнес. После ее смерти он впал в глубокую депрессию, что на время сделало его главным подозреваемым. Депрессия – штука сложная, она может быть вызвана как горем, так и раскаянием. С Анне Йохансен ни Агнес, ни ее бойфренд никак связаны не были, но сотрудники полиции считали, что бойфренд мог намеренно «подделать почерк» убийцы Анне, чтобы отвести подозрения от себя. Убийство Анне Йохансен, благодаря своей необычности, наделало много шуму в прессе и на телевидении. Удобное прикрытие.
Третья жертва Татуировщика, Моника Блажевич, уборщица из «Иллума», двадцатишестилетняя иммигрантка из Польши жила в Рингстеде[26], где жилье стоило гораздо дешевле, чем в Копенгагене. Ездить, правда, далековато – шестьдесят-семьдесят километров в один конец, но, видимо, Монику это устраивало, тем более, что у нее и автомобиль имелся – Фольксваген Поло 1997-го года выпуска. Машину Моники нашли на уличной парковке недалеко от ее места работы. Получается, что она отработала смену, переставила машину со служебной парковки торгового центра в другое место и ушла (или уехала) с Татуировщиком? А может, отправилась к нему пешком или на транспорте? Зачем? С какой целью? Правда, непосредственная начальница убитой и трое из ее сослуживиц, подчеркнули нехарактерное для возраста простодушие Моники. Простодушие – это потенциально опасная черта характера.
Но вот четвертая жертва Татуировщика, двадцатипятилетняя банковская служащая Ингер Хансен была деловой и весьма хваткой женщиной. Ингер работала в кредитном отделе, делала стремительную карьеру, находилась в тщательно скрываемых (но, тем не менее, известных всем сотрудникам) отношениях с пятидесятидвухлетним вице-президентом банка… Такую особу вряд ли удастся обвести вокруг пальца, но… Но вот фотографии мертвой Ингер на металлическом столе. Черты красивого некогда лица заострились, на впалом животе рисунок… Кредитными досье ведает другая сотрудница, с вице-президентом спит другая женщина, в квартире на Ранцаусгэд живут другие люди… Ладно, отбросим эмоции, эмоции здесь не помогут.
Трудно найти какую-то связь между проституткой, менеджером, уборщицей и банковской служащей? Ничего общего? А если добавить к этому перечню горничную из отеля, номера в котором сдаются как на сутки, так и на час и практикантку-педагога? Так лучше? Так понятней?
Пятая жертва Татуировщика, двадцатичетырехлетняя Бертина Педерсен работала горничной и мечтала выиграть в «Лотто»[27]. Мужчины в ее жизни надолго не задерживались, потому что у Бертины был тяжелый характер. Нагрубить постояльцам было для нее нормой. От увольнения Бертину спасали два качества – она была работящей, сноровистой и довольствовалась скромной зарплатой в четырнадцать тысяч.[28]
Шестая жертва Татуировщика двадцатитрехлетняя Метте Андерсен проходила практику в муниципальной средней школе в качестве преподавательницы датского языка. Страдала сахарным диабетом, колола себе инсулин. Пела в хоре церкви Девы Марии.[29] Единственная дочь у родителей и единственная девственница, попавшая в руки Татуировщика. В воскресенье спела в церкви и ушла домой, но до дома не дошла…
Седьмая жертва Татуировщика – двадцатипятилетняя Катрин Зельден менеджер строительной компании «М+М» за два месяца до своей смерти приехала в Данию из немецкого городка Целле. Еще и освоиться толком-то не успела, наверное, и знакомствами обзавестись… А вот с Татуировщиком познакомилась. На свою беду. Обычно датчане уезжают работать в Германию, а Катрин – наоборот. Сидела бы лучше дома…
Восьмая жертва Татуировщика – Берта Кристенсен двадцать два года студентка университета. Изучала биологию. Любила веселиться, любила большие шумные компании, с легкостью заводила знакомства. Конфликтовала с отцом, которому не нравился образ жизни дочери. Обычная девушка, обычная жизнь, только вот смерть необычная. Со знакомыми Берты возились дольше, чем со знакомыми других жертв Татуировщика – так много их было. «Мне три раза казалось, что я схватил удачу за хвост, – признавался Оле, вспоминая отработку Бертиных контактов, – но она ускользала…»
Изучение контактов жертв вообще не давало ничего полезного – ни звонков неизвестному абоненту или от него, ни писем, ни какого-то общения в сети. Поначалу некоторые контакты казались подозрительными, но по мере их отработки становилось ясно – очередной пшик. И что самое главное – ни одного общего контакта у всех тринадцати! Тут уж действительно кроме как на таксистов не подумать…
Девятая жертва Татуировщика, двадцатидвухлетняя Пернилла Ларсен оказалась самой «резонансной». Журналисты, и без того пинавшие полицию за бездействие после каждого убийства, словно с цепи сорвались. Мортенсен, после особо резкого разговора с комиссаром Йенсеном, даже в больницу угодил ненадолго – подозревали инфаркт, но обошлось. Пернилла была очень заметной личностью, нацеленной на большую политическую карьеру. Активистка социал-демократического союза молодежи, борец за права сексуальных меньшинств, волонтер благотворительной организации «Фолькекиркенс Нодхяелп»… Раз в неделю Пернилла организовывала какую-нибудь акцию, раз в две недели ее показывали на DKNET TV, DR 1 или TV 2,[30] раз в месяц одна из ведущих газет публиковала интервью с ней. Будучи лесбиянкой, мужчинами Пернилла не интересовалась совершенно. Вот чем мог прельстить ее Татуировщик? Или же он все-таки не заманивает свои жертвы в ловушку, а похищает их? Какой же он, однако, удачливый похититель…
Удачливый, да. И, вдобавок, умный и осторожный. Зверь. Выждет, пока уляжется шум, вызванный предыдущим убийством, и подкидывает на улицы новый труп.
В последнее время шум и не «улегался». Полиция, хоть и вслепую, но искала серийного убийцу. Ей активно помогали граждане, особенно – пенсионеры. Пенсионеры любят наблюдать жизнь, в том числе наблюдают и за соседями. Ежедневно поступало не меньше двух-трех десятков тревожных звонков. «Наш сосед только что вошел в свой дом с худенькой блондинкой. Она совсем ну как те девушки…» «Из квартиры сверху доносятся женские крики…» «Сосед куда-то уезжал в половине четвертого утра, я ясно слышала шум его машины. Утром она стояла у дома, а на мой вопрос он ответил, что мне это приснилось. Но дело в том, что я не могла заснуть всю ночь, потому что думала о тех несчастных девушках…» «В час ночи мой сосед запихивал в багажник что-то тяжелое. Он бывший военный, служил в Сёварнет,[31] и вообще большой грубиян…»
Девушек, похожих на жертв Татуировщика призывали быть бдительными и избегать контактов с незнакомцами. Да и к знакомым призывали относиться настороженно. Полицейские патрули периодически задерживали мужчин, имевших неосторожность посадить в свой автомобиль молодую блондинку. Мэрия отпечатала плакаты, призывающие жителей Копенгагена активно включаться в работу системы коллективной безопасности… «Не хватает только оцепить Копенгаген войсками и ввести комендантский час», невесело шутил Оле. Уличные проститутки, быстро просекли новые тенденции и чуть ли не поголовно перекрасились в брюнеток – так и безопасней и работать проще, полиция меньше внимания обращает.
Но, несмотря на все принятые меры убийства продолжались. Десятой жертвой Татуировщика стала двадцатилетняя анархистка Ига Сёренсен, родом из Кертеминне[32], обитавшая в Христиании.[33] Одиннадцатая жертва Татуировщика, девятнадцатилетняя Эмма Расмуссен, студентка бизнес-колледжа, была объявлена в розыск еще до того, как ее нашли на мосту через железнодорожные пути в Вестербро. Обычно Татуировщик держал у себя жертвы около суток, но Эмма оставалась у него целых пять дней (во всяком случае именно столько прошло от момента ее исчезновения до обнаружения). В теле Эммы патологоанатомы нашли следы снотворных препаратов. По каким-то неведомым причинам Татуировщик пошел на риск – пять суток «общения» с жертвой увеличивают шансы попасться.
На шестидесятый день после обнаружения тела Эммы Расмуссен не где-нибудь, а на самой Фредериксгэд,[34] но в «слепом», не просматриваемом камерами участке, была найдена двенадцатая жертва Татуировщика Инга Йоргенсен, двадцатилетняя помощница режиссера из компании, снимавшей научно-популярные фильмы для телевидения. В отделе убийств воспрянули духом, посчитав, что Татуировщик наглеет (он бы еще к ратуше труп подложил) и теперь начнет допускать ошибки. Увы, тело тринадцатой жертвы двадцатилетней Камиллы Миккельсен Татуировщик оставил не возле ратуши, а на малолюдной даже днем улице в Херсхольме. Один труп в самом центре Копенгагена, другой – на окраине, по сути – в соседнем городе. В этом Рикке, да и не только она, видели своеобразную издевку, намек на неуязвимую вездесущность Татуировщика.
«Чувствую, что следующий труп Татуировщик подбросит в Лангелиние»,[35] – сказал Оле, вернувшись из Херсхольма. «А почему не к входу в парк Тиволи?»[36] – поинтересовалась Рикке.
Аре Беринг имел неосторожность предложить коллегам устроить нечто вроде подпольного тотализатора и делать ставки на место обнаружения следующей жертвы Татуировщика. Мортенсен, в ответ на это, пообещал вышвырнуть Аре из полиции и вдобавок пригрозил устроить так, что Аре даже в охранники никуда не возьмут. Не только в Копенгагене, но и в Эммерсбеке. Ютландский Эммерсбек был у Мортенсена синонимом края света, грандиозной задницы из которой никогда не выбраться. Неизвестно, как обстоят дела в Эммерсбеке, и есть ли там вообще что охранять, а вот осложнить уволенному сотруднику поиски новой работы в Копенгагене Мортенсен мог вполне. Аре прикусил свой длинный язык и попросил прощения за допущенную бестактность. Аре не глуп и не подл, у него просто язык очень часто срабатывает быстрее, чем мозг. Зато с ним весело.
Осознав, что вся она состоит из одного лишь желания спать, Рикке выключила компьютер и отправилась в туалет, чтобы умыться холодной водой. Эта процедура должна была прогнать сон настолько, чтобы Рикке успела доехать до дома. От управления полиции до Остербро[37] ехать недолго – меньше четверти часа. За это время отогнанный сон не успеет заново овладеть Рикки.
Рикке умывалась долго. Щедро брызгала в лицо водой и шумно отфыркивалась. По правилам «hygge»[38] все надо стараться делать с удовольствием. Затем посмотрела на себя в зеркало, ужаснулась немного, потому что выглядела на все тридцать пять, если не на сорок. Закономерно – ночные бдения не красят. Следует больше спать. Это красавицы могут позволить себе ночные бдения. Скарлетт Йоханссон даже с мешками под глазами будет выглядеть соблазнительно и стильно, а вот таким дурнушкам, как Рикке надо повнимательнее относиться к себе.
В минуты недовольства собой или окружающим миром Рикке называла себя дурнушкой, в минуты радости могла назвать красавицей, но на самом деле считала, что ее место где-то посередине. Датский стандарт – ничего выдающегося, но в целом хорошо.
Ощущения напрасно потраченного времени не было, только усталость. Пусть сегодня не новые идеи не спешили приходить в голову Рикке – ничего страшного, в скором будущем они непременно появятся. А пока что она освежила в памяти всю информацию по Татуировщику, «встряхнула» мозги и завтра начнет действовать.
Одну закономерность Рикке все же углядела – своеобразный стиль написания таинственных иероглифов-рисунков. Очень характерный стиль. Рикке не хватало профессиональных знаний, чтобы описать или как-то классифицировать его, потому что художницей она никогда не была. Но вот Татуировщик, как казалось Рикке, был художником – любителем или профессионалом. Уж очень искусными были его рисунки, сразу чувствовалась рука, привыкшая держать кисть или карандаш. Такое, во всяком случае, сложилось впечатление. Сложилось и быстро оформилось в версию, от которой в управлении полиции дружно отмахивались, как от надуманно-безосновательной.
Тонкое чутье Рикке видело в рисунках Татуировщика произведение искусства. Они выглядели не знаком, не иероглифом, не пиктограммой, а именно рисунком, творением. Разница бросалась в глаза, по мнению Рикке она была столь же заметной, как разница между логотипом «мерседеса» и Витрувианским человеком да Винчи[39]. Но тонкое чутье, острый глаз и умение понимать красоту даны далеко не всем. В управлении полиции только Оле понимал Рикке, причем сам он ничего высокохудожественного в татуировках серийного убийцы не замечал, но верил, что Рикке все это не выдумала.
Раз за разом прочесывать тату-салоны и трясти таксистов – это, почему-то, считается перспективным делом. А вот художниками никто не хочет заняться. Стереотипы. Непоколебимые стереотипы. Тяга к стереотипному мышлению – один из симптомов профессионального выгорания. Вот если бы убийца рисовал на животе жертв кистью, тогда кто-то бы мог подумать и о художниках. Лошадь – не корова, следовательно она не может давать молоко? Фу-у-у!
Рикке «вгляделась» в рисунки Татуировщика настолько, что надеялась узнать руку, рисовавшую их, по отдельным деталям картины или по подписи на ней.
Рука Татуировщика явно была опытной, стало быть, где-то уже успела «наследить», пока этого самого опыта набиралась.
Первым местом, которое собиралась посетить Рикке, была картинная галерея «Кнудсен галлери XXII». Галерея славилась своим демократизмом, что весьма импонировало Рикке, и обилием часто сменяющих друг друга выставок, что казалось перспективным с точки зрения Поиска. Вдобавок, о владельце галереи Хенрике Кнудсене отзывались, как о знатоке искусства и тонком его ценителе. Знаток и ценитель гораздо предпочтительнее денежного мешка, тешащего при помощи искусства свое гипертрофированное эго. Рикке предпочитала иметь дело с профессионалами. Для успеха ее миссии знатоки и ценители искусства были очень нужны, но естественность прежде всего. Все должно быть естественно и (храни святая Бригитта!) ни у кого не должно сложиться впечатления, что Рикке интересуется не картинами, а информацией. Стоит только людям понять, что ты хочешь у них что-нибудь выведать, как они сразу же закроют рот на замок. Но в дружеской, ни к чему не обязывающей, беседе выболтают все, что угодно, только запоминать успевай. Не факт еще, что удастся свести знакомство с Кнудсеном, но начать захотелось именно с его галереи.
А там, постепенно, можно и до национальной галереи дойти. Нет, к черту национальную галерею, ведь все, кто там выставляется, давно уже умерли. И в Ордрупгаарде[40] тоже делать нечего, начинающую коллекционерку Рикке Хаардер (такую «легенду» придумала себе Рикке – все объясняющую и ни к чему не обязывающую) интересует только современное искусство. Старина госпоже Хаардер не по карману, да и интереса к ней она не испытывает.
4
Идея отправиться в галерею на машине отпала сразу – чересчур рискованно. Рикке работала в полиции не очень давно, но уже прекрасно представляла, сколько всего интересного можно узнать о человеке, оттолкнувшись от номера его автомобиля. Разжиться всевозможными базами данных несложно, Интернет пестрит объявлениями, предлагающими конфиденциальную информацию подобного рода за относительно небольшую сумму (не больше трехсот-четырехсот крон). Кроме того, любой сайт можно взломать, получив доступ к его содержимому. Несмотря на то, что в полиции есть куча специальных сотрудников, в чьи обязанности входит борьба с хакерами и распространителями нелегальной информации, чувствовать себя информационно защищенной нельзя. С распространителями наркотиков борется куда больше народу, и, в то же время, разжиться наркотиками в Копенгагене не проблема. Для этого совсем не надо переться в Христианию или в Нёрребро. Можно купить любую отраву в двух шагах от управления полиции, на пересечении Амбросгэд с Пуггосгэд, возле угловатые стеклянных громад банка Никредит. Надо только зайти в нужную дверь и сказать, что тебе надо.
Открытость не входила в планы Рикке, поэтому в галерею она отправилась на транспорте. Велосипед совершенно не вязался с обликом скучающей любительницы изобразительного искусства, созданном воображении Рикке, да и вообще, велосипед – это дневной вид транспорта. К тому же, во время последней велопрогулки по городу Рикке засмотрелась на одного чересчур величественного кота и въехала передним колесом в дерево. Обошлось без травм, поскольку скорость была низкой, но колесо слегка деформировалось, настолько, что получилось доехать до дома, но без особого удовольствия. Рикке все собиралась дойти до ближайшей веломастерской, но как-то не получалось.
Лучше поехать на автобусе, тем более что возможно придется пить спиртное в каком-нибудь баре с компанией новых друзей или взять такси.
В том, что друзья не замедлят появиться, Рикке не сомневалась. Не очень-то общительная от природы, при желании она легко становилась не только приятной собеседницей, но и душой компании. Азы психологии – чтобы понравиться людям, внимательно их слушай и побольше ими восхищайся. Быть узнанной кем-то (миллионная «гавань торговцев»[41] весьма тесна и знакомых можно встретить где угодно) Рикке не опасалась. Она никогда не распространялась о месте своей нынешней работы, предпочитая конкретике уклончивое «консультирую в одной компании». Разве столичное управление полиции не компания? Копенгагенский филиал Dansk Rigspolitiet ApS.[42] Поэтому можно было не опасаться восклицаний вроде: «О, Рикке! Когда вы там, наконец, поймаете этого придурка, который душит девчонок и делает им уродские тату?». На кого-то из управления наткнуться не страшно, согласно корпоративной этике о чьей-то службе в полиции на людях распространяться не принято. Так что «Рикке, просто Рикке. Я – психолог, консультирую в одной компании. Люблю рассматривать картины». Ну, совсем как «My name is Bond, James Bond»[43] И «люблю рассматривать картины» – очень верно подобранная фраза. Декларирует интерес к искусству, создает некий ореол легкомысленности и вообще хорошо звучит.
Рикке немного подготовилась к своей новой роли. Узнала, что Блоха[44] современные живописцы считают чересчур скучным, а Менстеда[45] чересчур «аляповатым», и что людям с развитым вкусом полагается восхищаться (довольно сдержанно) фигуративистами[46]. Среди фигуративистов Рикке скоро обнаружила внук Зигмунда Фрейда по имени Люсьен[47] и решила, что станет восхищаться им. В крайнем случае, хоть фамилию не переврет и не забудет. «О, Фрейд, он замечательный! Я в восторге от его картин!». Достаточно для того, чтобы не просто поддержать разговор, но и прослыть знатоком. В случае чего можно будет перевести разговор с внука на дедушку, с творчеством которого Рикке как в силу своей профессии, так и благодаря своим БДСМ-предпочтениям, была знакома очень хорошо.
Зайдя на сайт «Кнудсен галлери XXII», Рикке узнала, что в первую половину июня в галерее проходят сразу две выставки – китайского абстракциониста Сюй Вэймина и норвежской пейзажистки Катрин Эстбю. Оба художника преподносились как «яркие и талантливые мастера современности, чья известность пока еще не доросла до уровня их мастерства». Любопытно, к тому же и интерес оправдывается – никому не известные начинающие коллекционеры должны интересоваться никому не известными художниками. Тоже ведь, наверное, увлекательное и азартное занятие это коллекционирование картин. Купишь за пятьсот крон чью-нибудь работу, а через двадцать лет, если художник прославится, продашь за пятьдесят миллионов. А если не прославится, можно подарить картину приюту при церкви святого Петра, там любят все, что хоть как-то оживляет казенную обстановку.
Цена билета на обе выставки оказалась удивительно высокой – целых триста пятьдесят крон! И это в то время, когда национальную галерею можно посетить за сумму, не дотягивающую до сотни, а билет в Николай-кунстхал[48] стоит двадцать крон.
Мужчина, как две капли воды похожий на Боба Марли[49], расплачивался наличными. Глядя на то, как его узловатые пальцы с желтыми ногтями отсчитывают банкноты, Рикке в которой уже раз подумала, что идея с мостами была неудачной. В Карле Нильсене больше датского, чем в мосте Лиллебельтсбро, и, вообще, изображения великих людей придают банкнотам своеобразный шарм. Спускаешь пятисотенную, а старина Нильс смотрит на тебя, удивленно приподняв бровь, словно спрашивает: «уж не слишком ли ты разошлась, безмозглая транжира?».[50] От моста подобного участия не дождешься.
За такие деньги (ох, недешево обходится приобщение к современному искусству!) Рикке ожидала увидеть внутри нечто необычное, но «Кнудсен галлери XXII» была оборудована в лучших традициях минимализма. Простые белые стены, серый пол, никакой мебели, простые светильники, спускающиеся на кронштейнах с потолка, разделенного проводами и трубами на прямоугольники разного размера. «Уж если драть за билет такие деньги, так на пару диванов можно расщедриться!», с досадой подумала Рикке. Сама, впрочем, виновата – не обратила внимания на цену билета, когда изучала сайт. Голова была занята совсем другим, тем более что согласно расхожему мнению, сходить в музей это все равно как выпить кружку пива. Это смотря куда сходить… Можно было бы начать поиски и с более дешевого места, далась ей эта «Кнудсен галлери XXII», тролль ее затопчи! Но и разворачиваться от дверей было бы неправильно, раз уж решила, так решила.
Диваны нужны были Рикке совсем не для того, чтобы отдыхать на них во время осмотра. Шесть небольших залов, два блока по три, соединенных между собой угловатым, нарочито изломанным переходом – вот и вся галерея, обойдешь и не устанешь. Но, сидя на диване, удобнее завязать разговор с другими посетителями.
Рикке неожиданно ощутила на собственной шкуре, как нелегок труд детектива. Полтора часа любования абстрактным буйством красок и унылыми блеклыми фьордами прошли впустую, несмотря на то, что посетителей в галерее хватало, все они были какими-то чересчур деловитыми – обходили залы быстрым шагом, а, если и задерживались возле какой картины, то совсем ненадолго. Потычут пальцем в экран айфона и топают дальше. Рикке, подолгу простаивающая возле каждой картины, явно выпадала из общего ритма. Вдобавок, иероглифы, которыми подписывал свои картины китайский абстракционист, не имели ничего общего с рисунками Татуировщика, а творения норвежской пейзажистки навевали тоску.
Рикке уже собиралась уходить, когда увидела высокого мужчину в темно-сером костюме. Немного вытянутое лицо его показалось Рикке слегка знакомым. «Слегка» означало, что знакомы они точно не были, но где-то Рикке его видела. Делая вид, что любуется картиной под названием «Вид на Большую пагоду диких гусей в лунную ночь» (немного серых пятен на темно-синем фоне), Рикке краем глаза наблюдала за мужчиной, пытаясь вспомнить, откуда ей знакомо его лицо. Видимо, она делала это столь неуклюже, что мужчина обратил на нее внимание. И не просто обратил, а улыбнулся во все тридцать два великолепных зуба (уже за одну такую улыбку, должно быть, можно получить главную роль в Голливуде) и направился к Рикке.
– Госпожа Вилюмгард[51] из «Зонтагсависен»?
Вопрос был задан в утвердительной интонации. Рикке так и подмывало кивнуть, потому что в тот момент, когда мужчина открыл рот, она узнала в нем виденного на фотографии владельца галереи Хенрика Кнудсена, но она благоразумно воздержалась и отрицательно покачала головой.
– Простите, – улыбка собеседника слегка потускнела, но оставалась все такой же радушной. – Не хотел вам мешать, но если уж так случилось, то позвольте представиться. Хенрик Кнудсен, владелец этого сарая.
– Рикке Юханссон, – ответила Рикке, подменив свою фамилию одной из самых распространенных.
– Вы художница?
– Нет, просто люблю живопись.
– Представьте себе – я тоже.
Кнудсену явно нечем было себя занять. Или тут принято знакомиться с посетителями? Обрадовавшись, что наконец-то ее дело сдвинулось с мертвой точки, да еще так удачно (от иероглифической подписи китайского художника можно невзначай, так, чтобы выглядело естественно, перекинуть мост к рисункам Татуировщика), Рикке забросила крючок.
– Но деньги вы явно любите больше, – уколола она. – Берете за вход сумасшедшие деньги, а на диванах экономите.
– Будь моя воля, то я бы пускал таких очаровательных женщин бесплатно и дарил бы им цветы, потому что они украшают мою галерею больше, чем вся эта мазня, – ответил Кнудсен, сопроводив свой комплимент церемонным полупоклоном.
– Кто же вам мешает? – задорно поинтересовалась Рикке. – Вы же здесь хозяин.
– Те, кому придется раскошелиться, затаскают меня по судам, – рассмеялся Кнудсен. – В современном обществе столько ограничений, что даже своей собственностью нельзя распоряжаться свободно, как захочется. Заяви я о чем-то подобном, как меня сразу же обвинят в дискриминации…
– Только это вас останавливает?
Так вот и стоит завязывать знакомства, посредством легкого, ни к чему не обязывающего, бессодержательного трепа. Лучший из методов.
– Только это, – подтвердил Кнудсен и посмотрел на часы. – Насколько я понимаю, мое сегодняшнее интервью не состоится, так что я могу восстановить справедливость… м-м… в частном порядке.
– Это как? – не поняла Рикке.
– Хенрик Кнудсен, свободный гражданин свободной страны, исправит ошибку владельца этой галереи. Я могу вернуть вам триста пятьдесят крон прямо сейчас или мы можем сообща пропить эти деньги в моем любимом баре. Что вы выбираете, госпожа Юханссон?
О, этот Кнудсен, оказывается, тонкий психолог! Изучал психологию или просто природный дар? Предложение было сформулировано по всем правилам психологии и на него просто невозможно было ответить отказом. При большом желании, конечно, возможно, но выглядело бы это довольно некрасиво. Да и зачем отказываться?
– Пропить сообща было бы правильнее, – сказала она, старательно имитируя колебание, – если только…
– Что «если только»?
– Если только не будет считаться, что я сама напросилась и чем-то вам обязана, – закончила Рикке.
– Ну что вы, госпожа Юханссон, – лицо Кнудсена потускнело от огорчения. – Я же сам пригласил вас и сделал это без всякой задней мысли…
Если уж говорить начистоту, то с Кнудсену Рикке могла бы и простить эти самые «задние мысли». Ей нравились высокие широкоплечие спортивные мужчины нордического типа, настоящие викинги. Ну а викинг с хорошими манерами и умными глазами – это настоящий подарок судьбы. Возможный подарок.
– Сколько вы еще планируете пробыть в галерее?
– Я уже собиралась уходить, – призналась Рикке.
– Любите абстрактную живопись? – Кнудсен окинул взглядом «Большую пагоду» так, словно видел ее впервые.
– Смотря какую, – уклончиво ответила Рикке. – В этой картине меня больше привлекает подпись художника.
– Подпись? – Кнудсен заинтересованно склонился над правым нижним углом картины. – А что с ней не так? Могу вас заверить, что это оригинал. Автор лично передал мне свои картины и принимал участие в оформлении выставки. Он сейчас в Копенгагене и…
– Нет-нет, – перебила Рикке. – У меня нет никаких сомнений в подлинности картины. Просто иероглифы напомнили мне те знаки, что наносит на мертвые тела маньяк…
– Ах, вот оно что! – Кнудсен выпрямился и внимательно посмотрел на Рикке. – Могу вас заверить, госпожа Юханссон, что господин Сюй здесь не при чем. Во-первых, он вегетарианец, убежденный противник любых убийств, а, во-вторых, он живет не в Копенгагене и, даже, не в Европе, а в китайском городе Сиань. Вы были когда-нибудь в Китае?
– Нет.
– Если соберетесь, то начинайте знакомство с Сианя, – посоветовал Кнудсен. – Уникальный город, буквально нафаршированный древностью. Я провел там одну из лучших недель своей жизни госпожа, Юханссон.
– Спасибо, господин Кнудсен, я непременно последую вашему совету, – церемонно ответила Рикке.
– Наверное, нам будет удобнее обращаться друг к другу по именам, – спохватился Кнудсен, уловив иронию. – Если вы, конечно, не против, Рикке.
– Я не против, Хенрик, – заверила Рикке. – Ведите меня в ваш любимый бар.
– Лучше поедем на такси. Он довольно далеко.
Любимым баром Кнудсена оказался многолюдный и шумный молодежный бар, расположенный в самом сердце Вестербро. Рикке ожидала чего-то другого, более чопорного, что ли, и, конечно же, менее шумного. Облик Кнудсена скорее ассоциировался в ее воображении с «Рояль-баром» в отеле «Рэдиссон» или с респектабельными заведениями на Строгет,[52] где порция выпивки стоила, как билет в его галерею.
– В моем сарае всегда так тихо, что для отдыха я предпочитаю шумные места, – прокомментировал Кнудсен, будто прочитав мысли Рикке. – Здесь мило, не правда ли?
– Мило, – согласилась Рикке, оглядывая битком набитый зал и прикидывая, найдется ли здесь свободное место.
Место нашлось и довольно уютное – в углу, отгороженное от прочей публики колонной. В представлении Рикке, весьма далекой от архитектуры, число колонн должно было быть четным, но проектировщик этого зала смело обошелся тремя, причем все они шли вдоль одной стены.
Под третью порцию пива Рикке осмелела настолько, что заговорила о живописи. Начала с Фрейда.
– Фрейд?! – оживился Хенрик. – Обожаю этого вредного чувака! Только он мог так стильно отомстить старухе Лиз[53] за отказ позировать столько, сколько нужно. Изобразил ее пучеглазой жабой! Но и старуха оказалась на высоте – дала ему орден. Изящно, а? У Виндзоров изящество в крови, это не наши Глюксбурги…[54] А кто еще из фигуративистов вам нравится, Рикке?
– Ну… наверное больше никто, – замялась Рикке и, чтобы не выглядеть полной дурой, начала критиковать пейзажи, выставленные в «Кнудсен галлери».
Критиковать всегда проще, чем хвалить, потому что в похвале изначально больше конкретики. А вот туманное «на мой взгляд, этим картинам не хватает экспрессии» можно смело вставлять в любой разговор об искусстве. Или же, пожимая плечами, сказать «мне кажется, что художник недостаточно искренен». Попробуй-ка с этим поспорь.
Хенрик внимательно слушал, кивал, поддакивал, отпускал уместные замечания, а когда в разговоре возникла пауза, внимательно и не без удивления, как показалось Рикке, посмотрел на нее и спросил:
– Кто вы, прелестная валькирия?
– Я?! – опешила Рикке, не ожидавшая подобного вопроса. – В каком смысле?
– В смысле – какую должность вы занимаете в полиции? – уточнил Хенрик.
– Ы-ы-м-у, – ответила Рикке, утратив дар связной речи.
Вообще-то она хотела спросить «с чего вы это взяли», но Хенрик прекрасно понял вопрос, да и о чем еще можно было спрашивать.
– Я обратил на вас внимание еще в галерее, – с улыбкой сказал он, – вы переходили из зала в зал и возле каждой картины простаивали одинаковое время. Создавалось впечатление, что вы ждете кого-то, вот я и принял вас за журналистку. Но стоило вам заговорить о монстре, который татуирует убитых им женщин, как я подумал, что вы, должно быть, из полиции. Ну а после разговора о живописи, в которой вы, Рикке, совершенно не сведущи, я окончательно убедился в этом. Только непонятно, чем я мог заинтересовать полицию и почему бы не задать вопросы открыто, тем более что я готов на них ответить. Давайте обойдемся без маскарада, тем более, что маски, кажется, сорваны. Или я ошибаюсь?
– Вы не ошибаетесь, Хенрик, – вынуждена была признать припертая к стене Рикке, – я действительно работаю в полиции Копенгагена, только не детективом, а психологом, и меня действительно интересует Татуировщик, только интерес этот скорее не служебный, а личный.
Брови Хенрика удивленно приподнялись.
– То есть, я ищу его не в рамках служебных обязанностей, а в свободное время, – пояснила Рикке.
– Зачем это вам, Рикке?
– Затем, что мне не нравятся его дела, Хенрик. Поэтому я и хочу…
– Мне они тоже не нравятся, – кивнул Кнудсен. – А вот вы, нравитесь. Поэтому я готов вам помочь. Если, конечно, смогу…
– Я вам нравлюсь? – иронично переспросила Рикке, хорошо знавшая цену таким вот скоропалительным признаниям. – Хенрик, уж не слишком ли вы торопитесь?
– Вы – сотрудник полиции, а полиции надо говорить правду, – невозмутимо ответил Хенрик. – Кроме того, вы психолог, значит должны разбираться в мотивах. Если бы вы мне не нравились, я не пригласил бы вас скоротать вечерок в этом благословенном месте. Но мое отношение, Рикке, ни к чему вас не обязывает. И помощь я вам предложил от чистого сердца.
Рикке показалось, что откуда-то сверху ей грозит пальцем святая Бригитта, словно говоря: «Я так старалась помочь тебе, девочка, а ты вот-вот все испортишь. Будь благоразумна, а то я больше не стану тебе помогать, у меня дел хватает…».
– Спасибо, Хенрик, – как можно приветливее, едва ли не ласково, сказала Рикке. – Это так здорово, что вы хотите мне помочь. Я иногда бываю колючей, но на это не стоит обращать внимания…
Рикке достала из сумки блокнот, где помимо прочего были и срисованные знаки Татуировщика, и под оглушающий грохот габбера ознакомила Хенрика со своей теорией. Немного волновалась, вдруг он, подобно многим, тоже ее не поймет. Но волнения оказались напрасными. Внимательно выслушав Рикке, Хенрик помолчал немного, рассматривая рисунки, а затем сказал:
– Вы правы, Рикке, стиль здесь чувствуется. И довольно своеобразный, то есть эту руку не так уж трудно узнать.
Рикке чуть не подпрыгнула на стуле от радости. Это надо же такому случиться – с ней согласился человек, который разбирается в живописи! И даже готов помочь в поисках! Значит это далеко не такая чушь, как считают некоторые, не видящие ничего дальше собственного носа!
Чем больше непонимания и насмешек достается от окружающих человеку, тем большую радость испытывает он, встретив единомышленника, или, хотя бы того, кто выслушает и поймет. К концу вечера отношение Рикке к Хенрику изменилось с нейтрально-любопытного на дружеское и, даже, более чем дружеское. Если бы вздумалось намекнуть на секс, он вряд ли бы встретил отказ. Но Хенрик и не думал намекать. Расплатившись по счету, он довез Рикке до дому, а на прощанье, в дополнение к своей визитной карточке, вручил ей пластиковый прямоугольник с логотипом своей галереи (черные буквы «К» и «Г» в черном же квадрате – строго и стильно).
– Это вечный входной билет, – сказал он. – Приходи, когда хочешь. А насчет диванов я подумаю. Главное подобрать такие, чтобы они не утяжеляли пространство. Ты права, в галерее должна быть возможность посидеть, полюбоваться, переварить впечатления. Спасибо за ценную мысль.
К тому времени они уже успели перейти на «ты».
– А тебе спасибо за приятный вечер, – ответила Рикке, озабоченно роясь в своей объемистой сумке.
Визитные карточки как сквозь землю провалились. Всегда так, стоит только полезть за ключами или за кошельком, как визитница трижды попадется тебе в руки. А когда она нужна, ее не доищешься. Пришлось написать номера телефонов на вырванном из блокнота листке.
– В пятницу вечером я тоже свободен, – как бы, между прочим, заметил Хенрик, аккуратно складывая листок и пряча его в бумажник. – И не исключено, что к тому времени у меня могут появиться кое-какие соображения… Меня сильно заинтересовала твоя идея. Не только как гражданина, обязанного помогать полиции, но и как художника. Я ведь художник, хоть и не пачкаю красками холсты…
– Позвони мне днем в пятницу, – ответила Рикке. – Надеюсь, что у нас не будет никакого форс-мажора.
Хенрик уехал не сразу – стоял и ждал, пока Рикке не войдет в подъезд. Рикке не хотелось думать о том, какое впечатление сложилось у Хенрика о ней при виде того, как она шарит рукой в сумке и истерично смеется. Виной тому была проклятая визитница, то и дело прыгавшая к ней в руку вместо вожделенных ключей.
5
Пятничный вечер, как и положено, начался со смёрребрёдов[55] и пива, пившегося под традиционное: «Bunden i vejret eller resten i haret!».[56]
Между делом Хенрик упомянул о том, что картины, которые ему действительно нравятся, висят не в «Кнудсен галлери», а у него дома. Рикке сразу же захотелось взглянуть на эти картины и она напросилась в гости. Долго напрашиваться не пришлось, Хенрик согласился показать картины сразу же, да вдобавок заметил, что дома у него много удобных кресел и диванов. В итоге оказалось, что всего удобнее огромная квадратная кровать, пять на пять альнов,[57] на которой Хенрик и Рикке очень приятно провели время.
Начали с поцелуев. Целуя, Хенрик не спешил просовывать свой язык в рот Рикке, а нежно касался им ее губ, словно спрашивая разрешения на большее. Уже от одних этих касаний у Рикке помутилось в голове. Она ответила на поцелуй со всей страстью, на которую только была способна. Сердце забилось так, словно хотело выпрыгнуть наружу, по телу разлилась жаркая истома, Рикке судорожно вздохнула и охватила Хенрика за шею так крепко, словно кто-то собрался его у нее отнять.
Девяносто девять мужчин из ста просто подтолкнули бы Рикке к кровати, но Хенрик подхватил ее на руки, поцеловал, очень интимно, доверительно, потерся щекой о ее щеку, шагнул вперед, поцеловал еще раз и бережно положил на шелковую простыню. Когда он успел сдернуть белоснежное покрывало, Рикке так и не поняла, да и до покрывала ли ей было…
С проворством, достойным восхищения, Хенрик освободил Рикке от одежды и начал целовать ее шею, спускаясь все ниже и ниже. Когда он дошел до сосков, Рикке почувствовала такой сильный прилив желания, какого давно уже не испытывала и призывно застонала, потому что говорить уже не могла. Хенрик не обратил никакого внимания на ее стон, продолжая свое неспешное путешествие к сокровенным местам, разве что поцелуи его стали жарче. С каждым мгновением желание становилось все сильнее. Рикке уже не контролировала себя, она растворилась в ласке и хотела только одного, того, чего Хенрик не спешил ей давать.
Это было настоящее волшебство, потому что Хенрик чувствовал Рикке лучше, чем сама она чувствовала себя. Рикке казалось, что прямо сейчас она взорвется, нет – умрет, будучи не в силах выносить томление, но Хенрик чувствовал, что она еще не дошла до наивысшего предела, и не торопился. То, что он делал, можно было назвать мучением, но это было самое сладостное из всех мучений, ожиданием чего-то сверхъестественного, невозможного, незабываемого. Рикке то запускала руки в волосы Хенрика, то исступленно стучала кулаками по кровати, стонала, выгибалась дугой, хрипела, возможно, даже, кричала во весь голос, был за ней такой грешок.
В самый нужный момент, тот самый, за которым оставалось или вознестись к небесам фонтаном наслаждения, или провалиться в бездонную пропасть, Хенрик вошел в Рикке, и сделал это так нежно, словно она была хрупкой фарфоровой статуэткой. Рикке едва не задохнулась от невероятного избытка эмоций. Она обняла Хенрика и это проявление любви стало той каплей, которая переполнила чашу желания. Рикке напряглась, как натянутая тетива, и забилась под Хенриком, словно выброшенная на берег рыба. Она успела услышать, как протяжно застонал Хенрик, но больше ничего уже не слышала и не видела. Многоцветные огни взрывались перед глазами, но весь этот невероятный фейерверк был совершенно бесшумным…
Рикке очнулась от нежного прикосновения губ Хенрика к ее плечу. Выражение его лица было совсем не таким, как обычно, а по-детски радостным и эта перемена, наложившись на переполнявший Рикке восторг, ознаменовала рождение сокровенной связи между ними, рождение чего-то интимного, нематериального, призрачного, но, в то же время невероятно сильного и невероятно важного. Рикке прикрыла глаза, чтобы полнее насладиться этим ощущением, и незаметно заснула.
Как и следовало ожидать, радушный хозяин проснулся первым, чтобы приготовить гостье завтрак и привезти его в спальню. Понятия о еде у Хенрика были правильными до неправильности, если можно так выразиться. Никаких обезжиренных йогуртов с овсяными хлопьями – тосты, сливочное масло, хаварти[58], яичница с беконом, ветчина, нежные ломтики лосося, салями, клубничный джем… Все три яруса сервировочного столика были уставлены сплошняком.
– Я должна все это съесть?! – притворно ужаснулась Рикке, хотя наутро после секса аппетит у нее был зверский.
– Я тебе помогу, – пообещал Хенрик и добросовестно умял две трети привезенного.
Выпив кофе, Рикке попросила еще, но пока Хенрик ходил на кухню, передумала и, сразу по возвращении, соблазнила его. Соблазнила, потому что просто невозможно было удержаться от того, чтобы не соблазнить. Любовником Хенрик оказался таким, как можно было предположить по впечатлению, сложившемуся в ходе общения – ласковым, нежным, чувственным, старательным, искушенным… Хенрик так трогательно заботился о том, чтобы Рикке получила свою порцию удовольствия, что за одно только это в него можно было влюбиться. Большинство мужчин Рикке были эгоистами не только в жизни (что вполне естественно), но и в сексе (что сильно портило впечатление). Некоторые еще и интересовались, насколько хорошо было Рикке с ними, хотя на самом деле думали только о собственном удовольствии. Это особенно раздражало. У каждого, разумеется, были какие-то достоинства, в определенной мере компенсировавшие это эгоистическое поведение, иначе бы Рикке с ними и не связывалась. Но секс, во время которого ты спешишь достичь наслаждения раньше, чем это сделает партнер, зная, что потом тебе ничего уже не обломится, нельзя назвать полноценным.
От Хенрика с его идеальной внешностью человека без недостатков (чуть удлиненная форма головы не в счет) и печатью буржуазной добропорядочности на лице можно было ожидать пресного секса. Сначала Рикке показалось, что Хенрик из тех, кто стрижет ногти исключительно по пятницам,[59] в Мартынов день[60] ищет, кому бы подать милостыню, а «Кама-сутру» воспринимает исключительно в качестве учебника по акробатике. Впрочем, так оно, наверное и правильнее. Был недолго в жизни Рикке один повернутый на Индии чувак, который чуть руку ей не вывихнул, следуя этой самой «Кама-сутре». Но, черт возьми, это было так увлекательно – забираться в постель, раскладывать перед собой потрепанную книгу и добросовестно пытаться повторить все эти «способы возлежания»…
К счастью, Рикке ошиблась насчет Хенрика. Неизвестно, читал ли он индийские трактаты или учился любви по наглядным пособиям (по производству этих самых пособий Дания стоит на втором месте в Европе, уступая лишь Венгрии), но науку любви он освоил хорошо. Даже очень хорошо. Секс с Хенриком оказался не просто любовной игрой, а чем-то вроде таинства. Хенрик не просто любил, он священнодействовал. И делал это очень красиво, даже утонченно.
– Satur libido parit, – сказал Хенрик, когда все закончилось и перевел, – сытость рождает похоть.
– Откуда ты знаешь латынь? – спросила Рикке, поднося к губам чашку с остывшим кофе. – Изучал право?
Столик они только чудом не опрокинули, потому что резвились на краю кровати.
– Разве я похож на законника? – удивился Хенрик, хотя как раз на законника он и был похож. – Я изучал историю искусств в Кембридже.
– Завидую тебе, – Рикке закатила глаза к потолку, – это, наверное, очень приятно, изучать историю искусств. Не учеба, а сплошное развлечение.
– В какой-то мере ты права, – согласился Хенрик. – Моим друзьям-математикам приходилось сложнее. Но зато один из них за пять лет сколотил себе состояние, играя на бирже, а другой стал директором департамента в Хьюлетт-Паккард и это еще не предел. А я…
– А ты владеешь картинной галереей, в которой так удобно заводить знакомства с женщинами! – подколола Рикке.
Удивительно, но, несмотря на то, что они были знакомы считанные дни, ей было очень легко с Хенриком. Легко и естественно, то есть – легко, потому что естественно. Не надо притворяться, не надо просчитывать свои действия наперед, можно быть самой собой. Этот феномен требовал обдумывания на досуге, потому что обычно Рикке трудно сходилась с людьми и даже постель не очень-то помогала ускорить сближение.
– Для этого я ее и держу! – рассмеялся Хенрик.
– Ну, не только для этого, – Рикке демонстративно оглядела спальню. – На жизнь тебе, как я вижу, хватает.
И на довольно неплохую, надо сказать, жизнь. Двухэтажный дом на Стокфлетсвей, рядом с госпиталем Фредериксберг, сам по себе стоит больших денег, потому что цены на недвижимость в центре Копенгагена поистине заоблачные. Да еще и «начинка» у дома дорогая – начиная с розового букового паркета и заканчивая техникой «Банг энд Олуфсен».[61] Огромный новехонький «мерседес» тоже подтверждает финансовую состоятельность владельца и склонность к транжирству. Одинокий горожанин может спокойно обойтись более дешевой и менее прожорливой моделью. Вряд ли в мире искусства о человеке судят по размеру его автомобиля. Впрочем, не стоит забывать и о постулате «большой автомобиль – большие комплексы». Интересно, какие комплексы у Хенрика?
– Хватает, – согласился Хенрик. – Но основной мой доход составляют комиссионные от продажи картин, а не выручка от билетов.
– Дались тебе эти билеты! – фыркнула Рикке. – А все-таки, почему они такие дорогие? Разве не выгоднее продавать большее количество дешевых билетов?
– Видишь ли, я ориентируюсь на людей с деньгами, – немного смущенно, будто признавался в чем-то постыдном, ответил Хенрик. – Моя цель – выгодно продать художника, а не заниматься просвещением масс. Толпы слоняющихся по галерее бездельников будут только мешать настоящим клиентам. Да, недорогие билеты продаются лучше и доход от них больше, но у меня билеты служат не для извлечения прибыли, а для фильтрации посетителей. «Кнудсен галлери» – место для избранных.
– Для толстосумов, – поддела Рикке.
– Не только. Одни толстосумы не создадут нужной атмосферы. Нужны знатоки, эксперты. Такие люди обычно получают карточки, вроде той, что у тебя, и ходят ко мне, как к себе домой. Кстати, некоторые в шутку называют меня не «господин Кнудсен», а «господин Кунстен»[62]
– Тогда уж Смуксен![63] – пошутила Рикке. – Ты ведь такой красавчик!
Людям нравятся комплименты. Хенрик заулыбался и предложил погулять по Ботаническому саду. Рикке отказалась, потому что ее ждали домашние дела, гора пустых пластиковых бутылок,[64] пустой холодильник и нуждавшийся в починке велосипед, и только сейчас вспомнила о деле. Она помнила о нем вчера, но начинать встречу с деловых разговоров не хотелось, а потом было так весело, что дело забылось само собой.
– Ты говорил, что к пятнице у тебя могут появиться кое-какие соображения, – напомнила она после того, как приняла душ, оделась и привела себя в порядок.
Вести деловые разговоры полуодетой или совсем не одетой – дурной тон. Да и на деловой лад не настроишься, будешь отвлекаться.
– Кое-что есть, – подтвердил Хенрик. – Но совсем мало… Успею рассказать по дороге.
Несмотря на вялые протесты Рикке он решил отвезти ее к полицейскому управлению, где на стоянке ждал свою хозяйку красный «опель корса».
– Я нашел в интернете все рисунки Татуировщика, изучил их и могу сказать, что подобная манера не свойственна никому из наших современных художников, а я знаю всех их…
Сердце Рикке замерло и провалилось куда-то вниз. Версия, казавшаяся такой перспективной, рассыпалась в прах.
– Более того, в Скандинавии, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Франции…
Название каждой страны воспринималось Рикке как очередной щелчок по носу.
– …я тоже не могу припомнить ничего похожего. Правда, там я знаю не всех, но многих…
Италия? Франция? Почему бы и нет? Но скорее всего, Татуировщик датчанин, живущий в Копенгагене или в его окрестностях. Или имеющий дом, логово где-то здесь. Похитил женщину, привез к себе, замучил-задушил, сделал татуировку… процесс долгий, нужно время и уединение. Не в «Фениксе»[65] же он этим занимался!
– Я бы поискал среди непризнанных гениев…
Сердце Рикке вернулось на место и забилось в обычном, ну, может, чуточку учащенном, ритме.
– Очень похоже, что твой убийца из тех, кому не досталось славы в обычной жизни, вот он и пытается обрести ее подобным путем. Все эти убийства могут быть не чем иным, как просто оформлением его картин, попыткой привлечь внимание.
– А как, в таком случае, объяснить один и тот же тип жертв? – Рикке не спрашивала, а думала вслух.
– Ему нравится этот тип женщин, – предположил Хенрик. – Или, наоборот, не нравится настолько, что их особенно приятно убивать. Твоя идея гениальна, милая, в поисках надо начинать с рисунка…
Версия восстановилась в своем первозданном блеске, а еще Рикке было очень приятно, что ее называют «милой». Точнее – что Хенрик так ее называет. Попробуй вякнуть нечто подобное Йоргенсен, Рикке подняла бы его на смех.
– Можно предположить, что твой убийца минималист. Минимализм – очень интересное направление. В нем не столько важны мастерство и талант, сколько везение, удачное стечение обстоятельств, правильное продвижение. Первую персональную выставку Ньюмена раскритиковали так, что он восемь лет носа никуда не высовывал, только творил и творил. А теперь все его знают…
Рикке знала только одного Ньюмена – американского актера[66], сыгравшего в ее любимой «Кошке на раскаленной крыше»,[67] но признаваться в этом не стала. Какое ей дело до какого-то там Ньюмена. Она же не книгу о минимализме пишет, а серийного убийцу пытается поймать. И, кажется, что-то начало складываться. Только бы не сглазить! Только бы не спугнуть удачу раньше времени!
– Я дам тебе несколько адресов, где тусуются непризнанные гении. Парочка баров, клуб и одна галерея возле Нового театра, в которой за свой счет может выставляться кто угодно…
– А у тебя разве не так? – поинтересовалась Рикке.
– Совсем не так, – усмехнулся Хенрик. – Я сам нахожу художников с определенным потенциалом и предлагаю им сотрудничество. А в «Сёддрём галлери»[68] можно прийти и купить место на стене на определенный срок. За очень небольшую сумму. И никого при этом не волнует, что там будет висеть – картина, фотография или трусы.
– «Сёддрём галлери» – интригующее название.
Сняв правую руку с руля, Хенрик изобразил будто смачно затягивается косячком. Изобразил довольно жизненно, со знанием дела, даже дыхание задержал на пару секунд. «А ты не такой уж и правильный», подумала Рикке, глядя на него, эта мысль почему-то была приятной.
– Только тебе придется бывать там без меня, – добавил Хенрик, возвращая руку на руль. – Я бы с удовольствием, но…
– Ну что ты! – перебила Рикке. – Это, в конце концов, мое дело…
– Суть не в этом. Просто стоит мне появиться в «Сёддрём галлери» или в баре «Фалернос», как все сразу же решат, что я присматриваю очередной талант для своей галереи. Не уверен, что тебе захочется находиться в центре внимания.
– Совсем наоборот, я должна привлекать как можно меньше внимания.
– Вот-вот. Кстати, в этих местах ты можешь спокойно вступать в беседы о живописи, не боясь быть выведенной на чистую воду. Тамошние завсегдатаи разбираются в искусстве еще хуже, чем ты, да и слушать привыкли только себя. Не скупись на похвалы и все охотно примутся знакомить тебя со своим творчеством. За месяц ты успеешь хорошо изучить этот мир и, если будешь внимательной…
– Буду! – пообещала Рикке.
– И осторожной, – воспользовавшись тем, что машина встала на светофоре, Хенрик положил правую руку на колено Рикке. – Этот тип очень опасен. Надеюсь, у тебя есть оружие?
Сквозь ткань джинсов Рикке чувствовала тепло его руки. Удивительно теплыми были руки Хенрика, теплыми, сильными и нежными.
– Есть! – кивнула Рикке и, чтобы не было сомнений в том, что она считает оружием, постучала себя пальцем по лбу.
– Я имел в виду пистолет, – уточнил Хенрик, убирая руку, потому что на светофоре зажегся зеленый свет.
– Пистолета у меня нет. Я же не детектив, а психолог. И потом я не собираюсь совершать опрометчивые поступки, принимать стрёмные предложения, таскаться по каким-то глухим местам. Я всего лишь интересуюсь живописью, потому что этот интерес приятно разнообразит мою жизнь. Скажу тебе больше – даже имея в руках пистолет, я не уверена, что смогу выстрелить из него в живую цель. Даже в целях самозащиты. Вот тебе приходилось когда-нибудь убивать?
– Нет! – Хенрика передернуло от такого вопроса. – Разве что только комаров.
– Представь, что ты должен выстрелить в человека и убить его…
– Амбросгэд! – тоном заправского таксиста, объявил Хенрик, останавливая машину возле серого здания полицейского управления. – С вас один поцелуй, фрёкен.[69]
Получив объявленную плату, Хенрик потребовал чаевые, но Рикке сочла, что с него хватит, записала в блокнот адреса тех мест, где ей предстояло вести поиск, и вышла из машины. Ничего такого, но целоваться напротив работы немного неуместно. Если увидит кто-то из знакомых (добрая треть управления работает и в выходные дни, такова специфика), то обернется это лишними упреками в легкомыслии. Легкомыслии? Они еще будут удивляться, восхищаться и завидовать…
Рикке не выдержала и прямо со стоянки позвонила Оле.
– Привет! – сказала она в ответ на короткое «Рийс», которым Оле обычно отвечал на звонки. – Ты уже проснулся?
– Я еще не ложился, – проворчал Оле. – На Ягтвей в кебабной курды ночью устроили перестрелку. В итоге мы имеем четыре трупа и кучу проблем. Рикке, ты случайно не говоришь по-курдски?
– Нет, не говорю. А что, твой английский они уже не понимают?
– Да все они понимают, только признаваться не хотят. У тебя что-то срочное?
– Нет, ничего, – Рикке стало стыдно за то, что она попусту отвлекает от дел уставшего Оле. – Просто подумала, что неплохо бы было вечерком выпить пива…
– Если я освобожусь до вечера, то позвоню, – ответил Оле и отключился.
«Ну и ладно, – подумала Рикке, разглядывая записные адреса. – Тогда я сегодня схожу одна в «Фалернос» и в галерею сладких снов. Нет, лучше не в «Фалернос», а в «Коп ог ундеркоп»,[70] он ближе к галерее, прямо напротив. «Ундеркоп» – это как раз про меня, я же не коп, а так себе, консультант без прав и полномочий.
Когда все складывается хорошо, можно уделить немного времени самоуничижению. Чисто в профилактических целях…
– Что за дыра? – Оле застрял на пороге бара. – Куда ты меня привела? С каких пор ты пьешь пиво в компании немытых бродяг?
Насчет бродяг он немного преувеличил, потому что некоторые из посетителей выглядели весьма пристойно, но в отношении немытых был прав. Судя по запаху, местная публика не часто развлекалась водными процедурами.
– Это очень хорошее место! – Рикке потянула Оле за руку. – Здесь просто здорово! Пошли!
Оле неохотно подчинился.
– Эй, детка! – крикнули от одного из столиков. – Бросай своего папика и вали к нам! С нами весело!
Не останавливаясь, Рикке показала крикуну высоко поднятый средний палец, а Оле грозно сверкнул глазами, давая понять, что с такими «папиками» как он, шутки плохи.
Здесь не было принято встречать гостей и усаживать за столик. Здесь, кажется, вообще не было принято обращать внимание на клиентов. Проходящая мимо официантка соизволила принять заказ лишь после того, как Рикке ухватила ее за замызганный клетчатый фартук.
Оле, явно чувствовавший себя не в своей тарелке, попросил баночного пива, не рискуя пробовать местное разливное. Рикке заказала разливной стаут и не прогадала, потому что пиво оказалось достойным.
– Что мы здесь забыли? – не унимался Оле. – Я, конечно, не сноб, но…
– Приложись к своей фляжке и расслабься, – посоветовала ему Рикке. – Мы здесь не просто так, а по делу.
– И то верно, – Оле достал из внутреннего кармана куртки плоскую хромированную фляжку и как следует отхлебнул из нее.
Злые языки утверждали, что фляжку Оле заколдовали ведьмы, потому что никто никогда не видел ее пустой.
– За последнюю неделю кое-что произошло…
Рикке рассказала историю своего знакомства с Хенриком, опустив только совсем интимное, о котором Оле знать не следовало.
– Я бы на твоем месте так не обольщался бы, – проворчал Оле, дослушав рассказ до конца. – Скорее всего, ты ему понравилась, поэтому он и начал морочить тебе голову минимализмом и прочей ерундой.
– Оле, ты – сексист! – припечатала Рикке. – Если я чего-то добиваюсь, так это только потому, что со мной хотят переспать, так? Стыдись, Оле! Я считала тебя приличным человеком…
– Не горячись, девочка…
– Я тебе не «девочка»! – отрезала Рикке.
Она разозлилась не на шутку. Не до такой степени, конечно, чтобы встать и уйти, бросив Оле одного в этом, столь не нравящемся ему месте, но сильно.
– Госпожа Хаардер, я не хотел вас обидеть, – елейным голосом, так не похожим на его обычный резковатый и сухой тон, сказал Оле. – Я всего лишь хотел вас предостеречь, ведь вы так юны и совсем ничего не знаете о коварстве мужчин.
– Спасибо, папочка, что открыл мне глаза, – тонюсеньким и очень противным голоском, пропищала Рикке.
Оле поморщился, давая понять, что с него довольно подколов. Некоторое время они молча потягивали пиво и разглядывали народ. Народ был разным, грязным и не очень, лохматым и не сильно, преобладала джинсовая одежда, но некоторые из мужчин были в костюмах и при галстуках. Один даже при бабочке, которая, если судить по степени обтрепанности ее краев, была как минимум вдвое старше своего владельца. Ни одного мольберта, ни одной палитры, ни одной кисти не увидела Рикке, и никто не был перепачкан красками. Короче говоря – не было никаких признаков того, что здесь собираются художники. К местной публике больше подходило нетолерантное и немодное слово «врёвл»,[71] которое в наше время употребляют только старики.
Оле был такого же мнения.
– Так руки и чешутся, забрать кого-нибудь с собой, – проворчал он. – Тут за каждым целая гирлянда грехов тянется, по рожам видно.
– Нам нужен один! – многозначительно сказала Рикке. – Тот самый, кого не могут найти уже третий год. Возможно, что он сейчас сидит за соседним столиком…
– Вот я и говорю, что хорошая полицейская облава здесь бы не помешала, – Оле немного оживился. – Ты тоже на это намекаешь?
– Толку-то от этих облав, – скривилась Рикке. – И потом Татуировщика в сеть не поймать, уйдет. Его надо ловить индивидуально, прицельно, не сетью, а сачком. Сегодня у нас день знакомства с новыми местами. Сейчас мы выпьем пиво и пойдем в картинную галерею, где будем громко рассуждать о минимализме.
– О чем?
– О минимализме. Это такое направление в живописи. В основном говорить буду я, а ты только хмыкай в своем репертуаре и качай головой. Возможно, что из этого выйдет толк…
– А, возможно, и нет, – Оле хмыкнул, как было велено, и покачал головой.
От внутреннего настроя зависит очень многое, недаром говорят, что домовые не любят помогать нытикам и букам, но охотно облегчают жизнь тем, кто весел и доброжелателен. Каждый получает от жизни то, чего он ждет. Оле был настроен пессимистично, поэтому им с Рикке не повезло – часовое сиденье в вонючем баре и часовое хождение по обшарпанному подвалу, гордо именующему себя «галереей», не принесло никакой пользы – не нашли чего-то похожего на манеру Татуировщика и ни с кем не познакомились. Оле нельзя было винить в меланхолии, потому что он был смертельно уставшим после полуторасуточной работы. Рикке и не винила, просто решила, что впредь будет приходить сюда одна, без Оле. Его черед наступит, когда понадобится проверить какую-нибудь информацию или кого-то официально допросить. Вообще-то, Рикке изначально не очень-то надеялась на Оле в качестве спутника, тем более, что наметанный глаз без труда узнал бы в нем полицейского, а то и кто-то из знакомых попался бы. Но Рикке хотела, чтобы Оле знал, где она будет искать нити, ведущие к Татуировщику. На всякий случай, мало ли что, вдруг Рикке (не оставь меня, святая Бригитта!) попадет в лапы к Татуировщику раньше, чем он к ней в сачок. Тогда у Оле хотя бы будет место, откуда можно начать поиски. Кроме того, Рикке решила завести особую папку на компьютере и записывать туда отчеты о своих поисках с указанием всех контактов. Невозможно представить, насколько бы облегчилась работа полиции, если бы все люди имели обыкновение хранить в своих компьютерах детальную информацию о своих контактах! Приведя Оле в «Коп ог ундеркоп» и в галерею, а так же показав ему «Фалернос» и ночной клуб «Вигго», о котором упомянул Хенрик, Рикке «подстраховалась» на случай своего возможного поражения. Поражения, о котором не хотелось думать, но которое нельзя было сбрасывать со счетов. У любого дела есть два исхода – плохой и хороший.
Кое-какую пользу из первого рейда по Вестербро Рикке извлекла. Прежде всего, она поняла, что одеваться надо как можно проще и что пара пятен на джинсах или сломанный язычок молнии на куртке придутся только кстати. А еще решила, что неплохо будет иметь при себе что-нибудь увесистое, чем можно отбиваться. Проклятые датские законы требуют специального разрешения почти на все средства самообороны, но про медные пестики от ступок в них, кажется, ничего не сказано, а пестиком можно так припечатать, что мало не покажется.
Но больше всего Рикке полагалась на свой ум. И немного на советы Хенрика, как человека сведущего и разделяющего ее взгляды. Хенрик звонил Рикке в воскресенье, интересовался, занят ли у нее вечер, явно хотел встретиться, но Рикке уже решила по новой наведаться в Вестербро, в более простецком виде и без спутников, поэтому попросила перенести встречу на вечер пятницы. Подумала при этом, что пятничные посиделки с Хенриком, кажется, становятся традицией. Хенрик не возражал, сказал только, что в следующее воскресенье он на неделю уедет в Лондон и очень надеется видеть Рикке до отъезда.
Хенрик нравился Рикке все больше и больше. Тем, что интересовался делами Рикке не для проформы, а искренне, тем, что не настаивал, а только надеялся и вообще нравился, потому что нравился. Потому что с ним было легко. Аура взаимопонимания трансформировалась в ощущение давнего знакомства и некоего душевного родства.
6
О воскресном вечере наутро думать совсем не хотелось, потому что голова раскалывалась, в ушах стучало, а желудок порывался вывернуться наизнанку, несмотря на то, что был совершенно пуст. И винить некого, кроме себя самой. Собственные силы надо рассчитывать правильно и, налегая на выпивку, нельзя забывать о еде.
Угнетало не только похмелье, но и ощущение того, что вчера она наелась дерьма. Профессиональному психологу таких ощущений испытывать не положено, это, по меньшей мере, непрофессионально, да и работа в полиции не способствует формированию карамельно-пряничного мнения о человечестве, но есть предел всему. Интервьюировать какого-нибудь социопата и составлять его психологический портрет – это одно. Общаться с социопатом и притворяться, что ты разделяешь его взгляды – другое. Теперь-то Рикке в полной мере поняла коллег, то и дело жалующихся на то, с какими ублюдками им приходится иметь дело.
В одиночку, без Оле, дело сразу пошло. Или просто день был такой, счастливый. Выглядев в круглом зале «Фалерноса» перспективную компанию, то есть большую, занимавшую три сдвинутых вместе стола, и очень шумную, Рикке присела неподалеку. А дальше просто – поймать взгляд, отсалютовать своим бокалом, выкрикнув: «Скол!»,[72] получить приглашение в виде взмаха рукой и пересесть на свободное место.
Компания оказалась именно такой, какая была нужна Рикке. Больше половины сидевших за сдвинутыми столами считали себя художниками. Разговоры вертелись вокруг современной живописи, тенденций, заказов. Бородатый парень в кожаном жилете с неимоверным количеством заклепок хвастался суммой, которую ему должны были заплатить за оформление ресторана. Две девицы с серовато-землистыми лицами и тусклыми глазами громко обсуждали, где лучше отдыхать – на Гоа или в Таиланде. На противоположном от Рикке конце стола жестикулировали глухонемые – парень и девушка… Никто не пил пиво молча – все оживленно общались. Просканировав компанию, Рикке пересела поближе к бородачу в жилете, потому что у него было больше всего собеседников – добрая половина стола, да и в разговор об интерьерах ресторанов легко было вклиниться. Для начала можно хотя бы отпустить какое-нибудь скептическое замечание по поводу того места, где они находились. Про стены из неоштукатуренного кирпича и тяжелую деревянную мебель всегда найдется что сказать.
Через пять минут Рикке стала своей настолько, что бородач, которого звали Лукас, поинтересовался, не хочет ли она прямо сегодня посмотреть на оформленный им ресторан. Речь шла не о посещении ресторана как такового, а об осмотре зала, в котором бригада поляков заканчивала отделочные работы, поэтому Рикке благоразумно отказалась. Лукас не обиделся и не настаивал. Видимо предлагал не столько потому, что захотел трахнуть Рикке, а для подтверждения репутации мачо, не пропускающего ни одной женщины.
Кто-то то и дело уходил, кто-то приходил, но Лукас, который был при деньгах, двое наркоманок, выбиравших между Гоа и Таиландом, и парочка глухонемых как сидели, так и продолжали сидеть. Никого из новых знакомых не интересовало, кто такая Рикке и чем она занимается, но, зато, каждый охотно рассказывал о себе. Хенрик был прав.
В середине вечера появился субъект, на которого Рикке сразу же обратила внимание, еще до того, как Лукас их познакомил. Почти двухметровый рост, атлетическая фигура, татуированные руки (в баре было жарко, куртки у всех висели на спинках стульев), агрессивно-настороженный взгляд. Социопата видно сразу.
– Рикке, знакомься, это Бьярне, один из лучших художников, которого я знаю и самый невезучий чувак в Дании, – сказал Лукас, хлопая атлета по плечу. – Бьярне, это Рикке, девушка, которая мне отказала.
Бьярне пробурчал себе под нос что-то невнятное и заказал тройную порцию аквавита, причем не обычного, а «линье».[73]
– Жизнь налаживается, дружище?! – Лукас с каждым глотком пива становился все более разговорчивым. – Ты нашел работу или ограбил банк?
– Работу! – проворчал Бьярне. – Разве ж здесь найдешь нормальную работу?
Принесенный аквавит он выпил залпом. Поморщился, порозовел, откинулся на спинку стула, но взгляд остался прежним, колючим.
Из рассказа словоохотливого Лукаса и реплик, которые вставлял Бьярне, Рикке узнала, что «один из лучших художников и самый невезучий чувак в Дании» приобщился к живописи через работу натурщиком в королевской академии изящных искусств. Через какое-то время Бьярне ощутил призвание к живописи. Призвание было настолько сильным, что он начал учиться в школе живописи при академии, но учеба быстро наскучила. Бьярне решил достичь славы и денег более коротким путем – нарисовал две дюжины картин и выставил их в галерее сладких снов.
– Бьярне – гениальный скупердяй, – сказал Лукас. – Ни одного лишнего штриха, ни одного ненужного взмаха кистью.
Рикке сообразила, что это, наверное, и есть минимализм.
Бьярне тяготел к мистике. Главная его картина изображала алтарь, на котором лежали четыре принесенных в жертву голубя с отрубленными головами. Журналистке из «Се ог хёр»,[74] которую удалось заполучить на открытие выставки, Бьярне рассказал о том, как собственноручно отрубал головы голубям и раскладывал их на камне, изображавшем алтарь.
– Я говорил о том, как создавал композицию, одновременно символизирующую красоту и обреченность, а эта дура написала только про то, как я рублю голубям головы! – Бьярне в сердцах стукнул кулаком по столу. – Чертова шлюха! Так бы ее и придушил, попадись она мне! В этой гребаной стране можно трахнуть голубя,[75] можно отрубить ему голову и зажарить, но нельзя отрубить голову, чтобы создать шедевр! Я, хоть и мистик, но реалист! Я предпочитаю видеть то, что я рисую!
Композицию, одновременно символизирующую красоту и обреченность? Так бы ее и придушил, попадись она мне? О, да этим типом явно стоит заняться. Запах удачи защекотал ноздри Рикке. Как только стул справа от Бьярне освободился, она поспешила занять его.
После публикации интервью защитники животных подняли вой. Недолгое время Бьярне купался в лучах столь неожиданно обрушившейся на него славы. При этом он делал направо и налево заявления, одно глупее и провокационнее другого, в результате чего прослыл психопатом с садистскими наклонностями, лишился работы в академии изящных искусств и больше нигде не выставлялся, потому что ни одна галерея, даже неразборчивая «Сёддрём галлери» дела с ним иметь не желала. Бьярне перебивался временными работами, не требующими квалификации, а иногда, как стало ясно из намеков Лукаса, ему удавалось «присосаться» к какой-нибудь обеспеченной даме, недобравшей тепла и ласки. Сейчас, судя по тому, как свободно Бьярне глушил дорогой аквавит, был как раз такой период.
Когда Лукас отвлекся на кого-то из только что пришедших, Рикке удалось немного разговорить Бьярне. Для этого пришлось поступиться собственными принципами, прикинуться чуть ли не сатанисткой и заявить, что «несколько сраных голубей» (прости, святая Бригитта, но чего только не сделаешь ради дела) совершенно не стоят того, чтобы портить из-за них жизнь хорошему парню. Ну и татуировками тоже пришлось повосхищаться, не без этого.
Бьярне уже не смотрел такой букой. Рикке попыталась вытянуть из него сведения, которые могли помочь в идентификации. Бьярне в Копенгагене сотни, и, вообще, для наведения справок о человеке одного имени мало.
– Я помню эту истерию с голубями, – сказала она, хотя на самом деле ничего такого не помнила. – Бьярне Хенриксен, верно?
– Хенриксен – это дед из телевизора,[76] – поправил Бьярне. – Моя фамилия Ворм и попрошу воздержаться от дурацких шуточек.[77]
Отлучившись в туалет, Рикке заодно зашла со смартфона в интернет и поискала. Да, действительно, Бьярне – это Бьярне Ворм, даже фотографии нашлись. Сейчас Бьярне стригся коротко, а три года назад, с длинными волосами, он был дивно как хорош. Харальд Прекрасноволосый…[78]
Три года?! Получается, что Татуировщик начал убивать вскоре после этой истории. Ого!
Вернувшись за стол, Рикке начала жаловаться на то, как часто приходится ей переезжать с места на место в поисках дешевого жилья. Проклятые домовладельцы только и знают, что поднимать арендную плату, а с деньгами у одинокой девушки туго. Уловка удалась – Барни проболтался, что он живет в Глострупе,[79] возле северной кольцевой дороги, а чуть позже добавил, что живет на первом этаже и когда теряет ключи, попадает домой через окно. Вполне достаточно сведений.
Кажется, Рикке удалось завоевать расположение Бьярне. Он даже предложил подбросить ее до дома на своем мотоцикле, если им по пути, но Рикке отказалась, соврав, что живет в противоположной стороне, в Торнбю, возле аэропорта. Еще чего не хватало – садиться на мотоцикл к вероятному серийному убийце, да еще и пьяному вдребадан. Велики шансы попасть не в Глоструп и не в Торнбю, а прямиком на небеса.
Домой Рикке ехала в полной уверенности насчет того, что Бьярне и есть Татуировщик, настолько удачно все складывалось – начиная с отвратительного впечатления, которое производил Бьярне, и, заканчивая временем, когда произошла вся эта история с голубями. Атлетическое телосложение, то есть – физическая сила, признаки социопатии, отрубленные голубиные головы, желание задушить журналистку из «Се ог хёр» (возможно это просто слова, а возможно и нет), татуировки… Даже то, что Бьярне время от времени находился на содержании у пожилых женщин, тоже не противоречило образу Татуировщика. Многие альфонсы склонны ненавидеть женщин, ибо вынуждены потакать их прихотям против своей воли. От этого до глобального женоненавистничества – один шаг. Но почему он не убивает пожилых дам? Потому что молодых ему убивать приятнее. И потом, молодые рано или поздно станут пожилыми (если, конечно, им повезет), так что возрасту можно не предавать особого значения. А все остальное очень даже подходит.
Рикке знала, что обычно то, что само плывет в руки во время расследования, оказывается дутым пузырем. Об этом не раз говорили полицейские инспектора, в том числе и Оле. Оле вообще не верил в удачу, а полагался на глаза, уши и ноги. Но тут был особый случай. Проклятого серийного убийцу ловили не первый год и Рикке выдвинула свою крепкую логичную версию, основываясь на том, что уже было сделано. Она внимательно изучила все пути, которые в конечном итоге приводили в тупик и нашла еще один путь. Это не удача, а плод вдумчивого анализа более чем двухлетней работы отдела убийств. Коллеги, если можно так выразиться, очистили плод от кожуры и в упор его не замечали, хоть он и лежал у них под самым носом. А Рикке увидела… Конечно, ей немножко повезло – она встретила Хенрика, который дал несколько полезных советов, но кто мешал Эккерсбергу, Ханевольду, Йоргенсену, Берингу или Оле пообщаться с Хенриком? Он бы и им сказал то же самое. Как говорят в Ютландии – тот, кто в правильное время вышел в море с крепкой сетью, без рыбы обратно не вернется. Рикке все сделала правильно и потому к концу первой недели поисков у нее появился подозреваемый. Хороший такой подозреваемый, явный кандидат в Татуировщики.
На работе Рикке почувствовала себя лучше. Гадкий осадок, вызванный общением с Бьярне, растворился в рабочей суете, а езда на отремонтированном велосипеде помогла организму восстановиться. Не до конца, потому что небольшая головная боль пока что давала о себе знать, но на нее можно было не обращать внимания.
Проклятый Оле с утра занимался своими курдами и явился в управление только в шестом часу вечера, когда большинство сотрудников разошлось по домам. Рикке некуда было торопиться, к тому же психологу всегда есть, чем заняться, потому что отчетов приходится составлять много, поэтому она задержалась. В щель между дверью кабинета Оле и косяком Рикке вставила сложенную вчетверо записку с просьбой немедленно ее найти.
– Что случилось? – Оле не сел, а упал на стул, приставленный к столу Рикке и пожаловался. – Мои ноги выворачиваются из задницы, а глотка пересохла от разговоров и от воздуха Сёборга.[80] Пришлось собрать последние силы, чтобы дойти до тебя…
Их кабинеты находились далеко друг от друга, в противоположных крыльях трапециевидного здания полицейского управления.
– Ты же потомок неутомимых викингов, Оле! – укорила Рикке. – Настоящий скандинав! А у скандинавов силы не заканчиваются никогда!
– О чем скандинавском вообще можно говорить в наше время?! – воскликнул Оле, заметно оживляясь. – Мы не сохранили даже наши руны, не говоря уже о традициях вообще. Смотреть сказки про викингов, читать адаптированную Эдду и глушить пиво – вот наши традиции! Спроси любого из настоящих датчан, что есть ад в его понимании и он ответит тебе: «ад – это пекло», хотя наши предки верили в то, что в аду царит вечный холод. Спроси любого из настоящих датчан, что есть смерть в его понимании и тебе наговорят самой разной белиберды. Но никто не вспомнит, что смерть есть ни что иное, как половой акт между умершим и хозяйкой загробного мира Хель!
– А если умирает женщина, Оле? – поддела Рикке, потому что просто невозможно было не поддеть внезапно разошедшегося Оле. – Что тогда? Или Хель бисексуальна?
– Любое божество бисексуально по своей природе! – Оле не шутил, а говорил серьезно. – С женщинами Хель поступает так же, как и с мужчинами – выпивает из них жизнь. Наши предки верили в то, что Хель способна внушать человеку самую сильную любовь, какую только он может испытывать… Ладно, хватит об этом. Я не старина Йокель,[81] чтобы разглагольствовать на потеху публике, – Оле сдулся, как мяч, из которого выпустили воздух. – Я просто хотел сказать, что если так пойдет и дальше, то через пару дней я прыгну с моста Лангебро. Да – прыгну! Кому нужна жизнь, полная мучений?
– Высказанная вслух или выраженная в какой-либо иной ясной форме мысль о суициде служит достаточным основанием для отстранения сотрудника полиции от работы и направления его на психиатрическое освидетельствование, – по памяти процитировала Рикке.
– Валяй, отстраняй, – согласился Оле, хорошо зная, что Рикке шутит. – Лучше я проваляюсь до окончания контракта в Вордингборге,[82] чем буду на старости лет носиться по Копенгагену и учить иностранные языки. Тем более что в деньгах я нисколько не потеряю.
– Отдых надо заслужить, – улыбнулась Рикке и протянула Оле два скрепленных вместе листа, на которых была распечатана информация по Бьярне Ворму. – Это мой новый знакомый.
– Оттуда? – уточнил Оле, переворачивая первый лист.
– Да, – подтвердила Рикке, поняв, что Оле имеет в виду. – Очень подозрительный субъект. Ты бы не хотел им заняться?
– Не хотел бы, но придется, – честно ответил Оле.
– Тогда, может, посмотришь прямо сейчас, что на него есть? – Рикке встала из-за стола и сделала приглашающий жест рукой.
Ее доступ к различным базам был весьма ограниченным, а Оле, как инспектор отдела убийств, имел практически неограниченные возможности.
– Я лучше у себя, – Оле встал. – Не люблю чужие компьютеры. Поезжай домой, если я найду что-то интересное, то сразу позвоню.
– Я пока еще поработаю полчасика, – ответила Рикке.
Особой нужды задерживаться не было, но не хотелось уезжать из управления до тех пор, пока Оле не пробьет Бьярне Ворма по всем базам. Вдруг придется писать служебную записку Мортенсену, чтобы Бьярне официально включили в число подозреваемых.
Оле позвонил очень скоро, не прошло и четверти часа с момента его ухода.
– Вынужден тебя огорчить, Рикке. В то время, когда были убиты Моника Блажевич и Ингер Хансен, Бьярне Ворм отбывал срок за драку в Вестре.[83]
– Он попал в Вестре за драку? – удивилась Рикке. – Там же обычно сидят те, у кого длинные сроки… Плохое поведение?
– Оно самое, – подтвердил Оле. – Я уже отправил письмо в Вестре, пусть проверят, не отпускали ли Ворма в те дни, но это навряд ли.
«Отпускали? – подумала Рикке. – Конечно же, отпускали! По какой-нибудь уважительной причине. Или, может, он в это время лежал в больнице, откуда легче уйти незамеченным».
А разве не мог Ворм договориться с каким-нибудь заключенным из тех, у кого было право на отлучку, и покинуть тюрьму под его именем? Теоретически, конечно, мог, но на деле, скорее всего нет. В Вестре не так уж много заключенных, около пяти сотен, охрана должна знать всех в лицо. Хотя, внешность у Бьярне самая обычная, если он еще и будет сутулиться, чтобы скрыть свой высокий рост…
– Да он это, он! – сказала Рикке. – Я чувствую…
– Первый подозреваемый – это как первая любовь, – съехидничал Оле. – Все основано на чувствах. Ты пока больше никому не хвастайся своими достижениями, ладно? А ответ из Вестре я сразу перешлю же тебе.
Остаток дня прошел в сомнениях. Он или не он, гадала Рикке. Но ведь так похож… Вдобавок – агрессивен, отбывал наказание за драку. Нет, даже если окажется, что Бьярне не Татуировщик (даже!), к нему все равно стоит присмотреться. У него глаза убийцы.
У тех убийц, с которыми Рикке приходилось беседовать по работе, глаза были тусклыми и ничего особенного не выражали. Но так и должно было быть, ведь Рикке общалась с уже пойманными убийцами, которые находились в заключении, и понимали, что впереди их ничего особо хорошего не ждет. Как бы министр юстиции не нахваливал датские тюрьмы, сравнивая их с отелями, но тюрьмы были и остаются тюрьмами. Комфортабельная или не очень, это, все же, несвобода, отсутствие возможности делать, что вздумается. Потому и глаза такие. Как у хищников в зоопарках. А у тех, кто на свободе взгляд другой, такой, как у Бьярне Ворма. От таких взглядов мороз по коже, колючие они и давят на тебя, словно пытаются лишить воли. Нет, с Бьярне явно что-то нечисто!
Спала Рикке плохо. Во сне она бродила по Вестербро в поисках Бьярне, который как сквозь землю провалился. На работе Рикке сидела как на иголках до тех пор, пока около полудня ей не пришло долгожданное письмо.
Увы, оказалось, что заключенный Бьярне Ворм за время своей отсидки не разу не покидал тюремных стен. Рикке сразу же перезвонила Оле и поделилась соображениями насчет отлучки под чужим именем. Оле заверил ее, что подобный вариант исключен.
– Возможно, что где-то в Албании так и бывает, – добавил он, – но не в Вестре.
Далекая Албания, в которой Оле, насколько знала Рикке, никогда не бывал, служила ему в качестве эталона отсутствия порядка.
– Но у тебя хорошая хватка, Рикке, – добряк Оле решил подсластить пилюлю. – Продолжай в том же духе и рано или поздно тебе повезет.
Рикке так и не поняла, шутит он или говорит серьезно. Тот факт, что Оле советовал продолжать поиски, еще ни о чем не говорил. Уж кто-кто, а Оле знал, насколько упряма Рикке и знал, что отговаривать ее бесполезно.
7
За две недели Рикке успела обзавестись множеством знакомых среди андеграундной богемы (выражение Хенрика) и теперь подозреваемых у нее было целых три – один весьма перспективный и два так себе.
Также за эти две недели Рикке дважды встречалась с Хенриком (до его отъезда в Лондон и после) и вроде бы у них все складывалось наилучшим образом. Наилучшим – это легко, непринужденно, радостно и с возможностью дальнейшего развития отношений. Рикке поостереглась бы назвать свое отношение к Хенрику «любовью», потому что любовь в ее представлении была очень сложным и многогранным чувством, которое не могло прийти так вот сразу, а формировалось с течением времени. Сразу могла возникнуть симпатия, сразу могло нагрянуть вожделение, сразу можно было почувствовать интерес, но любовь… Спроси кто Рикке о том, что она подразумевает под любовью, она бы не смогла ответить, потому что трудно сформулировать то, чего никогда еще не испытывала, но мечтаешь испытать.
Но что-то было, что-то определенно было. Желание было особенно жгучим, наслаждение особенно острым, а приязнь особенно глубокой. С Хенриком Рикке ощущала себя женщиной в полном смысле этого слова. Попроси кто-то объяснить почему ощущает или что означает «в полном смысле», Рикке затруднилась бы ответить. Много нежности? Особо деликатное отношение? Готовность помочь? Сознание защищенности, когда Хенрик рядом? Столько всего…
Когда-то Рикке думала, что любит свою мать. Впоследствии оказалось, что она ее ненавидит. Когда-то Рикке думала, что любит кое-кого из своих бойфрендов. Потом поняла, что они для нее ничего не значили, даже вспоминать лишний раз не хотелось. Случайные люди, если бы вместо них были бы другие, это ничего бы не изменило.
Хенрик? Хенрик ухитрился не разочаровать во время второго свидания и во время третьего тоже. Более того, он сразу же и как-то естественно вошел в жизнь Рикке и стал ее частью. Рикке обратила внимание на связь между их именами – со слога, которым заканчивалось имя Хенрика, начиналось ее имя и иногда, под настроение, повторяла про себя нараспев: «Хенрик и Рикке, Хенрик и Рикке, Хенрикке, Хенрикке, Хенрикке…» Имена сливались воедино точно так же, как сливались в одно целое их обладатели в любовном порыве. И потом, когда все заканчивалось, какая-то связь между ними все равно оставалась, так, во всяком случае, казалось Рикке. Взаимопонимание – это тоже связь.
Хенрик и Рикке, Хенрик и Рикке, Хенрикке, Хенрикке, Хенрикке… Смешно. И приятно.
Были у Хенрика и свои странности. Наутро после второй их ночи, он вдруг поинтересовался обстоятельствами, при которых Рикке потеряла невинность. Рикке удивилась, потому что никто ее об этом никогда не спрашивал. Даже с единственной подругой Лисси она не обсуждала подобные интимности. Но, тем не менее, рассказала, как парень, с которым они целовались около трех месяцев, привел ее в номер гостиницы, в которой работал администратором его старший брат. Гостиница была из тех, где номера сдаются по часам и номера эти, мягко говоря, не впечатлили Рикке нисколько. Кожаная мебель при ближайшем рассмотрении оказалась дерматиновой, потрескавшейся, да еще и в каких-то белесых потеках, в ванной под раковиной валялся презерватив, использованный, с содержимым, а из-под сбившейся простыни виднелся серый, в разводах, матрас. Но парень был настойчив и оба они были возбуждены, потому что перед тем битый час целовались в парке, поэтому Рикке отдалась ему на этом сером матрасе. Немножко больно, немножко интересно, немножко приятно – вот и все ее впечатления от первого в жизни секса по полной программе.
Рикке показалось, что Хенрик был немного разочарован ее рассказом. Наверное, он ожидал услышать романтическую историю или нечто страстное, но что было, то Рикке и рассказала. Интересоваться, как Хенрик стал мужчиной, она не стала, потому что ей это было безразлично. Психологи не копаются в прошлом без особой нужды, потому что иной раз оттуда можно невзначай вытянуть такое, что и рад не будешь. Позже, уже вернувшись домой, Рикке призадумалась над тем, почему Хенрик задал ей подобный вопрос, но к какому-то определенному мнению так и не пришла. Возможно, Хенрик хотел поговорить о сексе и не знал, с чего начать разговор. Некоторые мужчины не спрашивают в лоб: «Дорогая, тебе хорошо со мной?» и очень правильно делают, потому что велик риск нарваться на ответ, который, мягко говоря, не обрадует.
Узнав, про неудачу с Бьярне, Хенрик искренне огорчился. Когда Рикке сказала, что у нее есть другой подозрительный тип – заинтересовался и выпытал все подробности. Сразу чувствуется, когда человек искренне интересуется твоими делами. Это нельзя не оценить. Оле Рийсу Татуировщик был нужен куда больше, чем Хенрику (Хенрику он вообще не был нужен, если на то пошло), но глаза Оле не светились таким неподдельным интересом. «Сейчас проверю», флегматично говорил он, получая от Рикке данные очередного «Татуировщика» и так же флегматично сообщал результат. А вот когда речь заходила о футболе или о сравнительных достоинствах разных сортов виски, Оле преображался. Сбрасывал личину человека, которому все безразлично и который ото всего устал, сверкал глазами, горячился, спорил. Потому что это его интересовало по-настоящему. А Рикке он, кажется, просто не хотел расстраивать, вот и притворялся, что помогает.
Но если с Бьярне Оле действительно помог, то есть – в два счета доказал, что Бьярне не Татуировщик, то с тремя другими подозреваемыми дело обстояло сложнее. Никто из них никогда не имел проблем с законом и все они постоянно проживали в Копенгагене (разве что к теплым морям на отдых выезжали), то есть спокойно могли совершить все двенадцать убийств.
Когда Рикке заикнулась насчет слежки, Оле посмеялся и посоветовал ей набрать побольше оснований, потому что так вот, по первому подозрению, никто ни за кем никогда не следит.
– Тогда и оснований никаких не будет! – заявила Рикке.
– А ты присмотрись, – посоветовал Оле. – Ты же психолог. Ты можешь поговорить с человеком о том, какие цветы ему нравятся, и понять, есть у него склонность к убийству или нет.
Если бы все было так просто! Поговорить о цветочках и понять, что у человека на душе. Оле имел о работе Рикке примерно такое же представление, как и она о работе детектива. Конечно, существовали тесты, помогающие выявить склонность к насилию, но тестирование – это тестирование. Его не вплести в разговор как бы невзначай, толку не будет. И нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что Татуировщик может быть знаком с методами и приемами психологического исследования. Если действовать недостаточно осторожно, то можно спугнуть Татуировщика или стать его следующей жертвой.
Иногда Рикке задумывалась о том, что чувствовали все эти двенадцать несчастных женщин. Когда им было страшнее – в начале, когда до них доходило, в чьи руки они попали или в конце, когда они понимали, что сейчас умрут? Притупляется ли страх под конец или возрастает до невероятных пределов? Ответ на этот вопрос не мог помочь в поимке Татуировщика, это был профессиональный психологический интерес, не более того. Иногда Рикке казалось (просто казалось и се, без каких-либо объективных предпосылок), что кому-то из жертв Татуировщика чудом удалось спастись и сейчас напуганная до смерти женщина со сломленной навсегда волей прячется где-то, не столько от монстра, сколько от самой себя. Вот бы найти ее… «Фантазерка! – обрывала себя Рикке. – Думай о настоящем, а не выдумывай сказки!».
Думай о настоящем…
В настоящем у Рикке было три типа, любой из которых мог оказаться Татуровщиком – Оскар Йерихау, Нильс Лёвквист-Мортен и Йокум Эрландсен. Все трое рисовали картины, которые никто не хвалил, все трое были крепкими мужчинами, у всех троих имелось нечто, могущее вызвать обиду на мир, точнее – на женщин, все трое считали себя недооцененными и заявляли об этом вслух. То, что все они были одиноки, Рикке в расчет не брала, потому что Татуировщик, да и любой серийный убийца, вполне мог оказаться примерным семьянином, отцом большого дружного семейства. И никто в этом дружном семействе даже предположить бы не мог, чем на самом деле занимается папочка, когда уезжает якобы на рыбалку и возвращается с полным багажником рыбы. Классический пример – американец Деннис Рейдер, которого все считали примерным семьянином и религиозным человеком. Добропорядочный христианин совершил десять убийств, точнее – признался в десяти убийствах, а сколько их было на самом деле, только ему известно.
Оскар Йерихау тоже выглядел добропорядочным. Во всяком случае, в баре «Фалернос» он смотрелся белой вороной. Костюм, галстук, очки, чисто выбритое лицо, с которого не слезает вежливая улыбка. Но Лукас, со второй встречи начавший считать себя кем-то вроде старого друга Рикке, предупредил ее, чтобы она «не вздумала связываться» с Оскаром.
– Он ходит сюда исключительно ради таких цыпочек, как ты, – сказал Лукас, указав взглядом на Оскара, – иначе бы и ноги его не было в этой помойке. Осси мнит себя аристократом и утверждает, что происходит из известного старого семейства художников Йерихау, хотя на самом деле его папаша – мясник из Нюборга.[84] По мазне Осси, которую он гордо называет живописью, это сразу видно.
– А почему с ним нельзя иметь дело? – на взгляд Рикке Оскар выглядел довольно безопасно, не то, что Бьярне Ворм.
– Осси – садист, – Лукас наморщил нос и дернул верхней губой, выражая презрение, – он вытворяет такое, что ни одна из местных шлюх не соглашается обслуживать его даже за тройную плату. Вот и приходится искать себе доверчивых дурочек.
– «Такое» – это что? – Рикке хотелось подробностей.
– Кусает до крови, избивает, душит, мочится в рот… Я не очень-то знаю подробности, потому что не спал с Осси. Не люблю с мужиками.
– А пробовал? – заинтересовалась Рикке.
Вопрос был задан только для того, чтобы увести разговор в сторону. Что надо Рикке узнала, а создавать у Лукаса впечатление, что она интересуется садистами не стоило.
– Один раз, очень давно, – Лукас подмигнул Рикке, – только для того, чтобы окончательно понять, насколько сильно мне нравятся женщины.
После предупреждения, общаться с Оскаром на глазах у Лукаса было невозможно, поэтому знакомство пришлось отложить до другого раза. Да и вообще, следовало как-то продумать стратегию общения. Если Оскар приходит в «Фалерос» для того, чтобы найти женщину, то вскоре после знакомства последует предложение, которое ни в коем случае нельзя принимать. Рикке ко многому в сексе относилась без предубеждения. В том числе и к боли.
Вряд ли кто-то способен наслаждаться болью от рождения, этому надо учиться. По своей воле или нет – без разницы, но это умение приходит только с опытом. Изначально боль это только боль, всего лишь боль и ничего кроме боли, эмоциональная окраска происходит позже.
Боль бывает разной. Есть боль, которой ты боишься, боль, которая всякий раз оставляет в твоей душе новую царапину, боль, которой хочется избежать, боль, о которой вспоминаешь с содроганием… А есть боль, которая приносит удовольствие, боль, берет тебя в плен, подчиняет себе, но подчиняет не кнутом, а пряником, расширяя спектр твоих впечатлений, наполняя наслаждение новым содержанием. Образно говоря, если раньше в радуге твоих удовольствий было семь цветов, то теперь их семьдесят семь и ты знаешь, что это еще не предел.
Все наши привычки уходят корнями в детство, и Рикке, как психолог, знала это правило. Но разве существует правило, из которого не было бы исключений?
В детстве Рикке было много боли, но та боль была плохой – обидной и неприятной. Обидной потому что ее причиняла мать, самый близкий и родной человек. Нет, самым близким и родным всегда был брат Эмиль, а не мать, которая имела обыкновение плевать на пол и кричать, что этот плевок ей дороже Рикке. Или дороже Эмиля в зависимости от того, кто из детей подвергался экзекуции.
Искать защиты на стороне дети не пытались, потому что воля их была если не сломлена, то сильно подавлена. Они знали, они искренне верили в то, что мать наказывает их за дело, потому что не наказывать просто невозможно. Они стараются делать все по-своему, они не слушаются матери, они ненавидят мать… Ненавидеть человека, который произвел тебя на свет и заботится о тебе было очень ужасно. Рикке всячески пыталась избавиться от этого чувства, занималась чем-то вроде самовнушения, убеждала себя в том, что мама хорошая, просто она не любит, когда ей перечат. Рикке искренне старалась стать хорошей дочерью, такой, какой мать могла бы гордиться, но это ей никак не удавалось. Почему? Да потому что Рикке была плохой и с этим нельзя было ничего поделать. Бедная мама, она так старалась, чтобы из детей вышел хоть какой-нибудь толк…
В двенадцать лет не особенно задумываешься о причинах и следствиях, если, конечно, не подопрет так, что поневоле задумаешься. В двенадцать лет, да и в четырнадцать тоже, хочется верить в то, что окружающий мир, а вместе с ним и твоя жизнь, устроены логично и справедливость это не пустое слово. Во всяком случае, в это хочется верить. Иначе – зачем жить?
Если тебя постоянно наказывают, то, значит, так оно и должно быть, значит, ты этого заслуживаешь, думала Рикке. Видно же, как тяжело матери дается воспитание. Ей совсем не хочется бить детей, ей хочется их хвалить, хочется гордиться ими. Но увы, жизнь вносит свои коррективы в наши мечты. Хотелось бы похвалить, да не за что…
Это уже потом, много позже, семнадцатилетняя Рикке поняла, что если бы матери хотелось хвалить своих детей, то она бы их хвалила. Все мы стараемся поступать так, как нам хочется, а хвалить никто не мешал, так же, как не мешал и наказывать. Люди с небольшим достатком не склонны совать нос в чужие дела, им и своих проблем хватает, поэтому соседи никогда не вмешивались в то, что творилось дома у Рикке. Внешне их семья выглядела вполне достойно, потому что мать избегала оставлять следы побоев на открытых участках тела и требовала от детей принимать наказание молча. Или по возможности молча, без громких криков. Молчи – и получишь меньше, таков был ее принцип.
В один поистине прекрасный день с глаз Рикке спала пелена. Она поняла, что мать ее никакая не страдалица, положившая свою жизнь на то, чтобы вырастить достойными членами общества двух негодяев, которых ей «посчастливилось» произвести на свет (разумеется, мать утверждала, что все недостатки дети унаследовали от своего отца), а ограниченная неумная женщина с кучей комплексов. Пьедестал, на котором стояла мать, рассыпался в прах и образец недостижимого совершенства теперь уже не был таковым. На смену преклонению пришло мерзкое чувство недоумения. «Как я могла так обманываться? – ужасалась Рикке, глядя на мать. – Как я могла позволить ей унижать и мучить меня? Где был мой разум?». Невидимые нити, опутывавшие Рикке и, в то же время, привязывавшие ее к матери оборвались, а в душе поселилось восхитительное чувство свободы. Рикке стала по-настоящему взрослой, независимой, самостоятельной. Теперь мать могла проявлять свое недовольство только ворчанием, да и то Рикке частенько советовала ей заткнуться. Невероятно, но мать умолкала и выражала свое недовольство недобрым сверканием глаз. Не выражать недовольства совсем мать не могла, потому что недовольство миром было стержнем ее бытия, тем источником, из которого она черпала жизненную энергию.
Вырвавшись из-под материнского гнета, Рикке начала взрослеть. Взрослеть было трудно, но вся эта затея чего-то стоила, потому что взрослая жизнь была настоящей жизнью, изобилующей удовольствиями и радующей разнообразием. Один из партнеров оказался слишком грубым, но в его грубости сквозило столько мужественной силы и столько страсти, что Рикке получила огромное удовольствие от процесса, а в следующий раз намеренно раздразнила его настолько, что он превратился в настоящего зверя, дрессированного, сознающего пределы дозволенного, но зверя. Боль в сексе была настолько упоительной, что для нее хотелось придумать какое-то особенное слово, чтобы отделить от всей остальной боли, ненужной и нежеланной. В самом деле – не может же совершенно неприятное чувство, возникающее при ушибе или, скажем, при образовании полости в зубе называться так же, как и грандиозное наслаждение. Нового слова Рикке не придумала, а просто стала про себя называть боль, приносящую наслаждение, «радостью». Просыпалась, потягивалась лениво, словно сытая кошка, и думала «как радостно мне было». Или могла сказать партнеру: «славно ты меня порадовал».
Приобщившись к БДСМ-культуре, Рикке открыла в ней грандиозные возможности для наслаждения. Запретное, то есть то, что многие считают запретным, будоражило любопытство, манило изысканностью, а обладание многогранным опытом возвеличивало Рикке в собственных глазах, поднимая ее самооценку. Рикке хватало ума и чувства меры для того, что роль саба[85] не начала понемногу забирать ее в плен. Некоторые считают, что нельзя быть сабом только в постели, что саб – это жизненная позиция, но они ошибаются. Или им просто хочется проецировать роль в сексе на свою жизнь. Рикке в жизни стремилась доминировать, а не подчиняться, но это не мешало ей получать удовольствие от подчиненной роли в сексе. Такой вот психологический выверт, если точнее, то парадокс – сочетание противоположных взглядов в жизни и в сексе. Хорошая тема для серьезного научного исследования. Вполне возможно, что кто-то где-то этим занимается.
Отдаваться партнер целиком, без остатка, отдавать ему не только тело, но и волю, это же так приятно, при условии, что партнер этого достоин. Но с недостойными Рикке не связывалась, зачем? Получив желаемое, она стряхивала сладкие оковы подчинения до следующего погружения в БДСМ-культуру, великую в своем безграничном многообразии и тем привлекательную. Безграничное удовольствие, которое некоторые склонны считать излишеством. А что есть излишества, как не расширение рамок восприятия? Впрочем, в понимании Хенрика, доминация и подчинение наверное выглядят излишествами. Но Хенрик – это Хенрик, нежнейший из мужчин. В сексе с Хенриком доминирующая роль изначально отводится Рикке, Хенрик не просто любит, он поклоняется. В каждом касании его столько неизбывной нежности, в каждом взгляде столько восхищения, что порой поневоле начинаешь считать себя самой лучшей, самой красивой и самой любимой женщиной современности. Рикке объективно оценивала собственные достоинства (и недостатки тоже), поэтому к самым красивым себя никогда не относила. Но вот к самым любимым – можно. Вряд ли где-то кого-то любят так, как Хенрик любит Рикке. Наверное, первый раз в жизни Рикке не испытывала абсолютно никаких сомнений в чувствах своего мужчины. Да какие там могут быть сомнения? Достаточно услышать, как Хенрик произносит ее имя и все сомнения тотчас же улетучатся.
В роли строгого и требовательного господина Хенрик будет смешон. Он не сможет повелевать, не сможет наказывать и этим испортит всю игру, а вместе с ней и удовольствие. Ролевые игры требуют самоотдачи и полного соблюдения правил, иначе вся затея теряет свой смысл. Если Рикке настраивается на то, чтобы получить удовольствие (особенное, неповторимое и несхожее ни с чем удовольствие) от грубости партнера или власти партнера над ней, то она должна получить его в полной мере. Если наказывать благоговейно, против воли, наказывать, переступая через свою сущность, то наказание окажет желаемого эффекта. Если повелевать с нежностью в голосе, то лучше совсем не повелевать. Нет, эти забавы и Хенрик несовместимы так же, как огонь и вода.
Ради поимки Татуировщика можно было тряхнуть стариной, но «трясти стариной» с типом, который душит партнерш и мочится им в рот было просто невозможно. Существовали границы, которые Рикке не могла и не собиралась переходить, в конце концов все должно выглядеть элегантно. Но какие-то точки соприкосновения с Оскаром найти было нужно. Психологу, в отличие от ясновидца, надо пообщаться с объектом, для того, чтобы составить о нем мнение. Тем более, что заносчивый и непризнанный художник с садистскими наклонностями вполне мог оказаться Татуировщиком. С Оскаром надо было сблизиться настолько, чтобы получить возможность посмотреть на его, как выразился Луакас, «мазню» и не подставляться при этом в качестве саба.
Как это сделать? Трудная задача, но все трудные задачи кажутся таковыми до тех пор, пока не взглянешь на них с другой стороны. А лучше всего не только взглянуть с другой стороны, но и разложить трудную задачу на отдельные составные части. Так еще проще.
Кто может легко найти общий язык с садистом? Такой же садист.
Кто не станет заниматься сексом с мужчиной? Лесбиянка.
Следовательно, лесбиянка с садистскими наклонностями, интересующаяся живописью и восхищающаяся семейством Йерихау (знать бы вообще, кто это) имеет все шансы на то, чтобы познакомиться с Оскаром и вынудить его похвастаться своими картинами. Или, хотя бы, просто их показать. И желательно увидеть Оскара в тот день, когда в баре не будет торчать Лукас. Впрочем, Лукас уже жаловался на то, что денежки, полученные за оформление ресторана тают, как айсберг в тропиках, а новых заказов нет и не предвидится. Значит, он станет наведываться в «Фалернос» пореже, если вообще станет. Тем лучше.
Ни один из трех проживающих в Копенгагене Оскаров Йерихау не имел проблем с законом. Один из них, живущий в собственном доме на Нэсбихолмвей, родился в Нюборге. Дом был куплен четыре года назад в кредит. Оле даже узнал, Оскар из Нюборга работает страховым агентом в компании «Зербан форсикринг». Удобная профессия для серийного убийцы, разве не так?
8
Нильс Лёвквист-Мортен обратил на себя внимание Рикке в галерее сладких снов. Он стоял с двумя приятелями возле современной вариации жертвоприношения Авраама (новый Авраам сталкивал нового Исаака с крыши небоскреба) и громко рассуждал о человеческих жертвоприношениях в эпоху викингов, причем с явным одобрением.
– Нам не дано этого понять, потому что мы живем в другое время, но культ жертвоприношений неспроста присутствовал у всех древних цивилизаций. В этом есть какой-то глубинный смысл, который очень полезно было бы постичь и нам. Без жертвы нет блага, недаром же сам Один повесился на Иггдрасиле[86], чтобы узнать руны…
Глаза у него при этом горели, а ноздри тонкого породистого носа раздувались, как паруса под ветром. У Нильса было красивое лицо, которое нисколько не портил чересчур массивный подбородок. Слева и сбоку на шее, прямо над воротником джинсовой рубашки, был вытатуирован похожий на свастику символ Торсамар,[87] а на тыльной стороне правой ладони – замысловатая кельтская плетенка в виде шестиугольной звезды. Сразу видно настоящего скандинава.
– Чем крупнее просьба, тем дороже должна быть жертва. Сын или брат – что может быть дороже? Но сыновей и братьев мало, потом с ними жаль расставаться, поэтому у наших предков существовал очень интересный обряд, называемый «эрсатнин». Согласно этому обряду жертва усыновлялась и потом уже совершалось жертвоприношение…
Настоящий скандинав столь увлеченно развивал тему жертвоприношений, что Рикке заинтересовалась и, презрев общепринятые правила этикета (вернее, понадеявшись на то, что в этом мирке они не очень строги) влезла без приглашения в разговор незнакомых людей.
– Человек нигде и никогда не может обойтись без обмана, – громко сказала она. – Даже принося жертву богам надо словчить! Интересно, неужели наши предки надеялись на то, что боги не заметят их хитрости? Это всемогущие-то боги?
Приятели настоящего скандинава немного удивились, во взгляде одного даже мелькнуло что-то вроде осуждения, но сам скандинав расплылся в улыбке и возразил:
– Ну что вы, никакого обмана не было! Усыновление делалось по полному обряду со смешением крови в чаше и питьем из нее. После завершения обряда тот, кого приносили в жертву, считался настоящим сыном… Богов не принято обманывать.
– Все равно, что-то такое, «левое»[88] в этом есть, – улыбнулась Рикке. – А если надо было принести в жертву женщину, то ее официально брали в жены?
– Не только. Женщина становится женой после того, как ее… – настоящий скандинав не сразу нашел нужное слово, но в итоге выбрал вежливый библейский глагол, – познают.
До этого Рикке присматривалась к нему, а сейчас – заподозрила.
– Наверное, у наших предков был красивый обряд бракосочетания, – мечтательно сказала она, не давая разговору прерваться. – И очень сложный…
– До предела простой, – ответил настоящий скандинав. – Суть заключалась в обмене обручальными кольцами, подаваемыми друг другу на острие меча или кинжала.
Рикке представила его в роли Татуировщика. Приводит жертву в подвал, угрозами заставляет совершить бракосочетание по обряду викингов, насилует, то есть «познает» и душит – приносит жертву… А для чего татуировка?
Затрагивать тему татуировок прямо сейчас не стоило. Серийные убийцы постоянно начеку. Весь мир против них, то есть – они против мира. Одним неосторожным словом можно испортить все дело. Поэтому Рикке выдала самую обворожительную улыбку из своего арсенала и томным голосом проворковала:
– С вами так интересно! Вы так много знаете…
– Нильс Лёвквист-Мортен, художник, культуролог и любитель скальдической поэзии, – представился настоящий скандинав, выхватывая из нагрудного кармана рубашки визитную карточку. – А это мои друзья…
Имена спутников Нильса Рикке не запомнила, потому что они, будучи людьми деликатными и понятливыми, сразу же вспомнили о каких-то неотложных делах и оставили их вдвоем. По тому, как Нильс смотрел на Рикке, было видно, что она ему нравится, Рикке старательно изображала то же самое. Они походили немного по галерее, продолжая обсуждать древних скандинавов с их обычаями (обсуждение заключалось в том, что Нильс говорил, а Рикке слушала и восхищенно на него пялилась), а затем Нильс предложил поехать в ресторан «Коккериет». Заведение было не самым паршивым в Копенгагене – Нильс явно старался произвести впечатление. Поскольку располагалось оно на людной Кронпринцессгэд, недалеко от Новой королевской площади, Рикке приняла предложение без опаски. Только уточнила, что за себя заплатит сама, так как не собирается быть кому-то обязанной. Нильс воспринял это заявление без особого энтузиазма, но перечить не стал.
За четыре проведенных вместе часа, Рикке узнала об Нильсе много, потому что тот охотно рассказывал о себе. Когда-то серьезно занимался живописью, потом оставил, потому что понял – вторым Матиссом ему не быть. Сейчас зарабатывает на жизнь статьями об искусстве, сотрудничает с доброй дюжиной изданий, не бедствует. Живет в большом доме рядом с Дегнемосен-парком. Одинок, но мечтает встретить женщину, которая будет его понимать и так далее.
Попутно Нильс дважды сравнил себя с Локи, богом хитрости и обмана, сообщил, что ему несвойственно испытывать угрызения совести, что его редко посещают сомнения, и дал понять, что ему нравится манипулировать людьми. Вполне достаточно, чтобы Рикке смогла заподозрить в нем социопата. Особенно, с учетом интереса к жертвоприношениям и того, с каким вдохновением вещал о них Нильс в галерее.
Разговор о живописи сам собой перешел на Нильса. Рикке задала вопрос, Нильс, не без некоторого смущения, признался, что когда-то считал себя художником. Рикке заявила, что непременно хочет взглянуть на картины Нильса. Нильс ответил, что это, вообще-то, рисунки и пригласил ее к себе домой, но Рикке, разумеется, не собиралась туда ехать. Насчет того, что Нильс мог быть Татуировщиком, стопроцентной уверенности у нее не было, а вот в том, что дома он ее изнасилует, Рикке не сомневалась. Интуиция подсказывала.
Когда Нильс начал буквально исходить похотью (у него даже дыхание стало сбиваться) и рискнул погладить Рикке по колену, она поняла, что пора закругляться. «Вспомнила», что ей завтра надо проводить тестирование новых сотрудников (Нильсу Рикке представилась психологом из сети «Юск»[89]), а она еще не подготовилась. Договорились созвониться как-нибудь и встретиться снова. Продолжить знакомство с Нильсом Рикке определенно хотелось, только надо было получше продумать линию своего поведения и помнить о безопасности. Еще бы придумать, как можно взглянуть на картины, не посещая дом Нильса… Попросить сфотографировать самые удачные и прислать ей фотографии по почте? Неестественно, как-то. Нет, гораздо удобнее заехать на минуточку домой к Нильсу, и, не отпуская такси, быстро познакомиться с его творчеством. Для того, чтобы найти или не найти сходство с рисунками Татуировщика, много времени не надо, а при ждущем у дома таксисте Нильс не рискнет ни насиловать Рикке, ни, тем более, убивать ее. А подобную ситуацию смоделировать в реале не так уж и сложно.
В списке подозреваемых Нильсу достался второй номер. Первым был Оскар Йерихау, как наиболее подозрительный.
Номером третьим стал татуированный с головы до ног Йокум Эрландсен, бармен из «Коп ог ундеркоп». Ног Йокума Рикке не видела, но щеки, шея, корпус и руки его сплошь были покрыты тату. Йокум явно гордился своей разукрашенной шкурой, потому что стоял за стойкой в распахнутом кожаном жилете, под которым была надета майка в крупную-прекрупную сетку, не майка, а одно название. Такое впечатление, будто ее сшили из куска рыбацкой сети.
Разумеется, из-за одних татуировок, сколь обильны они не были, Рикке не стала бы записывать Йокума в подозреваемые. Методы работы полиции Копенгагена существенно отличались от методов гестапо. Но Йокум был барменом, а еще он был грубияном и довольно жестоким человеком.
Бармен – квинтэссенция коммуникабельности. Кто может похвастаться таким количеством знакомых, как бармен? Пусть большинство этих знакомств шапочные, но тем не менее. Вдобавок, знакомство с барменом обычно не приводит к обмену номерами телефонов, то есть этот вид контакта может не оставлять следов в записной книжке или на сотовой станции. Бармен продает выпивку и поэтому к нему формируется заведомо доброжелательное отношение. Если случайно встреченный знакомый бармен попросит подержать падающую крышку багажника, ему вряд ли откажут. А там уж недолго и в багажнике оказаться…
Йокум был хорошим, ловким барменом, а нарочитую грубость можно было бы счесть его фирменным стилем, если бы не одно «но». Рикке видела, как Йокум разнимал драку двух перепившихся девиц, по виду – школьниц старшеклассниц (в «Коп ог ундеркоп» наливали всем, у кого были деньги и документов, подтверждающих возраст, никогда не спрашивали). Одна из девиц все никак не унималась и Йокум отвесил ей две оплеухи. Отвешивать оплеухи можно по-разному. Йокум делал это размашисто, хлестко, с явным удовольствием и с улыбкой превосходства на небритом лице. А потом отшвырнул от себя девушку, хотя вполне мог усадить ее на стоявший рядом стул, демонстративно отряхнул ладони и вернулся за стойку. Вот это отряхивание ладоней перед публикой сказало о Йокуме больше, чем все остальное и побудило Рикке пересесть на высокий стул у барной стойки, чтобы познакомиться с Йокумом и просканировать его по мере возможности. Для психологического сканирования Рикке выбрала образ женщины с разбитым сердцем. Опрокинула стопочку аквавита, притворилась более пьяной, чем на самом деле и принялась сбивчиво рассказывать о том, как ее бросил бойфренд. Йокум слушал краем уха и иногда вставлял весьма интересные замечания. «А ты думала, что он с тебя вечно пылинки сдувать станет?» «Женщины любят, когда им врут» «Ты ему надоела, вот он тебя и бросил» Если бы Рикке нуждалась в сочувствии, она бы осталась недовольна. Изобразив, что ей надоело ныть, Рикке похвалила татуировки Йокума и поинтересовалась их значением. Нарисовано на Йокуме было много чего – дракон, рыба, кусающая себя за хвост, меч с кубком, узор из листьев, какие-то символы. Йокум ответил, что во время работы он о своих тату не разговаривает, но после работы Рикке может рассмотреть их поближе и, даже, потрогать. Рикке отшутилась тем, что не может пока думать о мужиках, но запомнила фамилию, которая была указана на бейдже Йокума, чтобы продолжить знакомство заочно. На вопрос о том, сам ли он рисует эскизы своих татуировок, Йокум ответил, что его привлекает только графитти. Тоже интересно, ведь между татуировками на трупах, которые лежат на улицах и рисунками на стенах есть нечто общее. И то, и другое – напоказ. Искусство для всех.
Рикке почему-то была уверена, что у Йокума окажется богатое уголовное прошлое, но Оле нашел только пару штрафов за неправильную парковку мотоцикла. Жил Йокум в Сидхавнене.[90]
– Я хорошо знаю эти места, – сказал Оле. – Деревня деревней и никому не до кого нет дела.
Деревня, где никому не до кого нет дела – разве может найтись лучшее место для Татуировщика?
В списке подозреваемых Йокум получил третий номер.
Hide and seek – we play together.
Hide and seek – whatever the weather.
One, two, tree – I’ll look for you and find![91]
Оскар, Нильс, Йокум… Кто из вас Татуировщик?
Хенрик, как оказалось, знал Йокума и Оскара. Услышав фамилию Нильса, он наморщил лоб и сказал, что Лёвквист-Мортен что-то ему напоминает, но не исключено, что он просто путает его с Торнинг-Шмитт.[92] Двойные фамилии кажутся такими похожими. Рикке посмеялась – да, конечно, что Лёвквист-Мортен, что Торнинг-Шмитт, что Крон-Дели,[93] все одно и то же.
Милый смешной Хенрик. Такой большой, такой солидный, а, в сущности, ребенок. Когда думает – морщит лоб, когда набирает на клавиатуре текст, подпирает щеку изнутри языком, когда Рикке шлепает его по чересчур проказливым рукам, обиженно выпячивает нижнюю губу. Он так трогательно заботится о Рикке, так славно любит ее, так мило поправляет сползающее одеяло, готовит такие вкусные завтраки, беспокоится…
Беспокойство Хенрик выражал всего один раз, но очень бурно. Рикке не ожидала такого всплеска эмоций. Вернувшись из Лондона, Хенрик первым делом поцеловал Рикке, затем вручил ей фарфоровую статуэтку шотландского гвардейца и поинтересовался, как идут дела. Рикке и рассказала. О том, кого она подозревает и о том, что собирается делать. Пока они сидели в ресторане и ужинали, Хенрик как-то сдерживался, только весь напрягся и желваки на скулах проступили. Рикке почему-то подумала, что у него живот заболел. Но стоило им выйти на улицу, как Хенрика прорвало:
– Рикке, ты с ума сошла! Какие общие интересы могут быть с этим ублюдком Йерихау?! Он же ненормальный, больной! Таких, как он, надо изолировать от общества! Он может сделать с тобой такое, от чего ты до конца жизни не оправишься! Если ты притворишься лесбиянкой, это его не остановит! А напрашиваться к нему домой, чтобы посмотреть на картины, это все равно, что совать голову в пасть льву! Знаешь, раньше в цирках был такой номер?
– Знаю, – кивнула Рикке.
Ей было немного странно видеть Хенрика таким возбужденным, и, в то же время, было приятно, что о ней так заботятся. Сразу ясно, что она небезразлична Хенрику. Это так здорово…
Хенрик и Рикке, Хенрик и Рикке, Хенрикке, Хенрикке, Хенрикке…
– Он до сих пор на свободе только благодаря своему везению! – бушевал Хенрик, размахивая руками. – И своей предусмотрительности! Он предпочитает не афишировать свои пристрастия, но о них знают все! А еще я слышал, что он регулярно ездит куда-то к славянам, не то в Чехию, не то в Украину, где отрывается на всю катушку! Как можно иметь с ним дело?! А вдруг он потеряет над собой контроль и набросится на тебя?!
– Я ходила на курсы самообороны! – гордо сказала Рикке.
– Все ходили на эти курсы, – проворчал Хенрик, немного успокаиваясь. – И те женщины, которые попадали к Татуировщику, тоже, наверное, ходили. Где они сейчас? Пойми, милая, это Осси Йерихау, а не какой-нибудь подросток, которому нужна от тебя сотня на пиво! Я очень удивлен тому, что у вас нет ничего на Осси. Ему давно пора за решетку…
– Что тогда делать? – Рикке взяла Хенрика под руку. – Мне надо взглянуть на его картины и хотя бы немного с ним пообщаться, чтобы я смогла составить впечатление… Судя по тому, что я слышала, Йерихау вполне может оказаться Татуировщиком.
– Не вполне, – возразил Хенрик. – Я припоминаю его картины. Какая-то очень неряшливая городская живопись, большие небрежные мазки и режущие глаз сочетания красок. Не помню, что именно он рисовал, но впечатление осталось такое, что его картины надо рассматривать издалека, чтобы понять, что на них изображено, и очень недолго, чтобы не ослепнуть. А Татуировщик рисует четкие, небольшие рисунки, по своему очень красивые. Никакого сравнения. И не кажется ли тебе, что это очень много для одного человека – быть одновременно Оскаром Йерихау, с которого проститутки запрашивают тройную плату, и Татуировщиком? Как-то слишком, не находишь? Я не хочу сказать, что он не опасен, нет, я просто говорю, что слишком уж все это явно. Режет глаз.
Рикке призадумалась.
– В полиции не принято просто так отбрасывать версии, – сказала она. – Если у тебя появились подозрения, то их надо или подтвердить или отмести в сторону. Это называется – профессионализм.
– Это называется – безрассудство, – проворчал Хенрик. – Но, я думаю, что смогу тебе помочь. Тебе нужно взглянуть на картины Йерихау и пообщаться с ним?
– Да.
– Тогда сделаем так – я попрошу разрешения взглянуть на его картины с целью возможного выставления их в галерее. Думаю, что это не вызовет подозрений, потому что все знают, как любит чокнутый Кнудсен искать жемчужины в навозных кучах. Мой интерес будет вполне естественным и вряд ли Йерихау откажет. Интерес владельцев галерей льстит всем художникам. Во всяком случае, исключения мне неведомы. А вместе со мной к нему может приехать очаровательная журналистка из какого-нибудь популярного издания. Если я правильно понимаю, суть твоей работы составляют интервью, не так ли?
– Так! – Рикке чуть не запрыгала от радости. – Хенрик, это было бы здорово! С тобой я готова отправиться хоть к Йерихау, хоть к Татуировщику! И роль корреспондентки – это то, что надо. Только…
– Что «только»?
– Только вдруг он привезет картины к тебе в галерею или просто пришлет фотографии. Это тоже будет хорошо, потому что я смогу оценить его стиль, но и пообщаться мне тоже бы хотелось…
– Во-первых, не принято возить картины без особой необходимости туда-сюда, – перебил ее Хенрик. – Картины смотрят там, где они находятся. Во-вторых, прислать мне фотографии в ответ на письмо с просьбой показать картины это все равно, что… это все равно, как если эта почтенная дама, что идет нам навстречу, сейчас спросит, как пройти к собору Девы Марии, а ты в ответ пошлешь ее в задницу и пнешь ее собачку. Я понятно объяснил?
– Понятно.
– Кстати, в Лондоне я видел таксу, одетую точь-в-точь, как ее хозяин! Сфотографировать постеснялся, а надо было. У них даже выражение лица совпадало, такое… снисходительное. Это, наверное, хорошо, когда можно снисходительно смотреть на мир. Мой отец, например, всегда смотрел настороженно, словно ожидал пинка или подзатыльника…
«Совсем, как моя мать», подумала Рикке.
– Извини, отвлекся. Можешь не сомневаться, Рикке, он пригласит меня смотреть картины, еще и на выпивку разорится, а ты придешь вместе со мной и станешь единственной женщиной в мире, которой удастся выпить за счет Осси Йерихау без последствий.
– Но тебе же придется выставлять его мазню! – обеспокоилась Рикке, зацепившись за слово «последствия». – Как это скажется на репутации твоей галереи.
– Не волнуйся, – улыбнулся Хенрик, – ничего мне не придется выставлять, кроме того, что я захочу выставить. Далеко не каждое знакомство с творчеством заканчивается выставкой, а примерно одно из тридцати. И потом я же чокнутый, не забывай! Мои планы меняются каждый час и это в порядке вещей.
– А ты не боишься, что Йерихау затаит зло и попытается тебе отомстить, если ты не устроишь ему выставку?
Хенрик посмотрел на Рикке столь недоуменно, что ей сразу стало ясно, что он не боится разных придурков. Ну, еще бы. Что этот Йерихау может сделать Хенрику? Укусить до крови? Лучше пусть не пытается. Хенрик он, конечно, милый, дружелюбный и хорошо воспитан, но силы у него много… При желании он из Йерихау одним ударом дух выбьет.
Рикке непроизвольно подняла руку повыше и пощупала каменный бицепс Хенрика.
– Да, вот еще, Рикке. Йокума, скорее всего, тоже придется сбросить со счетов, – сказал Хенрик.
– Его графитти не похожи по стилю на рисунки Татуировщика?
– Я не видел его графитти, – усмехнулся Хенрик. – Но есть два обстоятельства. Йокум – импотент и об этом известно всему Копенгагену. Ну, если не всему Копенгагену, то хотя бы всем завсегдатаям его бара…
– Ты что! – не поверила Рикке. – Он меня сразу начал клеить! Намекал на то, что я могу поближе рассмотреть его татуировки!
– Это он так просто… Поддерживает остатки репутации. Если бы ты согласилась, то он бы сразу пошел на попятный. Вспомнил бы о каких-то срочных делах или еще что-то в этом роде.
– Но Татуировщик может быть импотентом! Его сперму не нашли ни в одном из трупов! Не исключено, что он использует искусственные члены. Кроме того, он может быть импотентом в обычной жизни и очень бодрым самцом во время убийств, такое тоже случается. И нельзя исключить, что слухи о его импотенции он распространяет сам. Для маскировки. Ты, Хенрик, далек от криминала, и не знаешь всех тех уловок, на которые идут люди, чтобы отвести от себя подозрения!
– Д, я далек от криминала, – согласился Хенрик. – Максимум, на что я могу пойти, так это на какие-нибудь ухищрения, позволяющие снизить налоги, да и то при условии, что они не идут вразрез с законом. Так уж меня воспитали. Но, если ты помнишь, я сказал про два обстоятельства. Известно ли тебе, что Йокум не просто бармен, но и владелец «Коп ог унгеркоп»?
– Нет.
Так глубоко Оле не копал. Да и какая связь между баром и Татуировщиком. Никто не запрещает владельцу бара быть серийным убийцей и никто не утверждает, что серийные убийцы не могут владеть баром. Какая тут может быть связь?
– Дела в баре идут неплохо, как ты успела заметить, но Йокуму этого мало. Он экономит на всем и сам ежедневно стоит за стойкой. Другого бармена в «Коп ог ундеркоп» нет. Думаю, что и закупками занимается тоже Йокум. Он постоянно торчит в своем баре, который по будням открывается в полдень, а по выходным в десять часов утра и работает до двух часов ночи. А если бар открыт до двух часов ночи, то привести его в порядок получится не раньше четырех утра. И утром надо быть на месте задолго до открытия, чтобы принимать товары у поставщиков. Добавь к этому время на сон и ты поймешь, что Йокуму некогда выслеживать женщин, похищать их и вытворять все эти безобразия. Я не профессиональный детектив, но не думаю, что Татуировщик хватает первую встречную женщину. Он должен долго выслеживать жертву, изучать ее привычки, разрабатывать план, который не даст осечки. Для этого нужно много времени. Страховой агент Йерихау может это делать, потому что страховые агенты сами себе хозяева, а привязанный к своему бару Йокум – навряд ли.
– Но он же может просить кого-то подменить его! – не сдавалась Рикке, у которой из троих подозреваемых, похоже, оставался один.
– Что-то никогда я не видел там за стойкой кого-то другого, – усомнился Хенрик.
– Так ты все-таки там бываешь? В такой… клоаке?
– Редко. Если встреча с кем-то назначена. Мне не нравятся такие места, к тому же, как я говорил, мое появление там привлекает слишком много внимания. Но иногда, раз в два-три месяца приходится.
Рикке подумала, что Хенрик говорит дело. Скорее всего, Татуировщик неуловим благодаря тщательной разработке своих планов. Он, скорее всего, и убивает раз в два месяца, потому что около двух месяцев уходит у него на подбор новой жертвы и слежку за ней. А проверить, часто ли Йокум отлучается из бара довольно нетрудно. Оле справится с этой задачей за один вечер. Потолкается среди завсегдатаев, отпустит пару замечаний в адрес бармена и составит впечатление. Ему же не алиби подтверждать надо, а просто уяснить, насколько часто отлучается из бара Йокум и как надолго. Но пока что никого не стоит вычеркивать из списка. Картин Оскара Рикке еще не видела и своего мнения о нем не составила, а Йокум вполне может похищать, насиловать и убивать после закрытия бара. Может, у него в подвале оборудована тюрьма, кто его знает? Миккель Сторм, чиновник из ратуши, который в начале девяностых годов отжигал не хуже Татуировщика, держал похищенных им людей в тайном отсеке собственного подвала, там же убивал и разрубал на части. И ни жена, ни двое дочерей ничего не заподозрили. И замаскированной стеллажами двери в тайный отсек в гараже не замечали. Как минимум шесть лет не замечали. В баре и подавно никто ничего не заметит. Рабочих для устройства тайной тюрьмы найти нетрудно – можно из Германии привезти каких-нибудь нелегалов из Ближнего Востока или Восточной Европы, расплатиться с ними наличными и отвезти обратно в Германию. Они даже не поймут, в каком городе подвал оборудовали.
Поиск преступника – очень увлекательное дело. Знать бы еще, в каком направлении двигаться.
9
Вот насколько готов был помочь Хенрик, настолько же не был готов помочь Оле. Все-таки между другом и бойфрендом есть огромная разница, особенно если друг уже немолод и ворчлив. Но Хенрик еще не став бойфрендом предложил Рикке помощь, у него просто характер такой, благородный. О корнях Хенрика Рикке ничего толком не знала (парочка ироничных замечаний в адрес покойного отца не в счет), но в Хенрике чувствовалась порода, врожденный аристократизм, благородство. А в Оле Рийсе ничего такого не чувствовалось, он был просто хорошим человеком с организмом, изрядно подпорченным нервной работой и плохими привычками. Воспитание у Оле тоже было иным, в частности он не давал себе труда скрывать свое дурное настроение от окружающих. К чести Оле надо было сказать, что на Рикке и своего босса Мортенсена он огрызался одинаково. Мортенсену даже больше доставалось. Но Рикке от этого легче не было. Она пришла в кабинет Оле, чтобы поговорить про Йокума Эрландсена, а нарвалась на грубость. Да еще какую! Выслушав Рикке, Оле выложил на стол карточку-удостоверение и пушку, а затем встал и жестом пригласил Рикке сесть на его место.
– Ты чего, Оле? – недоуменно спросила Рикке.
– Садись и поработай! – раздраженно ответил Оле. – Побудь на моем месте хотя бы денек и тогда, может быть, перестанешь давать мне дурацкие поручения!
– Я пришла посоветоваться…
– Я целый день только и делаю, что советуюсь! – взорвался Оле. – Маленький инцидент между курдами раздулся в огромное дело, к которому подключились недоумки из ПЕТ,[94] а эти ребята не любят работать сами, но превосходно умеют заставлять других! В Фолкетс-парке нашли женщину с перерезанным горлом, а в Христиании кто-то застрелил торговца травкой! И все этим должен заниматься инспектор Рийс, потому что Франнсен хоронит жену, у Ханевольда некстати разыгрался геморрой, Йоргенсен в отпуске, Эккерсберга услали по каким-то делам в Стокгольм, а Мортенсен годится только на то, чтобы руководить!
– А Беринг? – зачем-то спросила Рикке.
– Берингу тоже дел хватает! – отрезал Оле, продолжая стоять у стола. – А ты приходишь и заводишь речь про какого-то татуированного педрилу!
– Я психолог, Оле, – ледяным голосом (лед лучше всего приводит в порядок горячие головы) напомнила Рикке. – Поэтому я хорошо понимаю тебя и понимаю, что твое раздражение вызвано обстоятельствами, а не отношением ко мне и не обижаюсь. Но, тем не менее, минут через пятнадцать после моего ухода, тебе станет неловко, и ты захочешь сгладить свою грубость…
– И не подумаю! – проворчал Оле, садясь за стол.
– На всякий случай учти, что свежая информация по этому, как ты выразился, татуированному педриле, полностью сгладит впечатление от твоей истерики, – таким же ледяным тоном отчеканила Рикке и ушла к себе.
Через двенадцать минут ей позвонил Оле.
– Я, наверное, загляну сегодня вечером в этот твой бар, – сообщил он, как ни в чем не бывало. – Заодно побываю в цветочном магазинчике напротив…
– Мне будет достаточно информации, Оле. Можешь не тратиться на цветы.
– Рикке, ты чего? – удивился Оле. – Такому старому хрычу как я не подобает дарить цветы юным красавицам! Просто хозяин магазина мне кое-чем обязан, а он работает допоздна, целыми днями пялится на вход в «Коп ог унгеркоп» и явно должен знать твоего педрилу. В Вестербро принято интересоваться соседями.
– Спасибо, Оле, – Рикке по достоинству оценила и тон Оле, и «юную красавицу», и то, как добросовестно Оле отнесся к ее просьбе. – Я знаю, что на тебя всегда можно рассчитывать.
– Все рассчитывают на Оле Рийса, – поняв, что Рикке не сердится, Оле мгновенно превратился в прежнего ворчуна, – только на кого может рассчитывать Оле Рийс?..
– Одно уточнение, Оле! – спохватилась Рикке. – Йокум Эрландсен не гомосексуалист. С чего ты это взял?
– А я разве говорил, что он гомосексуалист? – удивился Оле.
– А что означает слово «педрила»? – вопросом на вопрос ответила Рикке.
– Так это я по привычке.
– Вспомни Вигго Нордстрёма, – посоветовала Рикке.
Прокурор Вигго Нордстрём был вынужден срочно уйти в отставку после того, как выступая перед журналистами употребил выражение «найти кусок угля у в заднице у негра». Денек выдался трудный, журналисты рвали Вигго на части, а сам он, хоть и прокурору это не к лицу, любил оживить свою речь каким-нибудь ярким словцом. Вот и доигрался.
Рикке ждала информацию по Йокуму уже на следующий день, но Оле сказал, что ему нужно время, чтобы кое-что проверить и взял тайм-аут до понедельника. Оле не был склонен к напрасным трудам, он всегда сначала думал, а потом делал, поэтому Рикке поняла – что-то там с Йокумом неладно, то есть непросто…
Оскар Йерихау откликнулся на письмо Хенрика сразу же. «И полчаса не прошло, как я получил ответ», сказал Хенрик. Он любезно распечатал для Рикке письмо Йерихау, чтобы она могла его проанализировать. Но анализировать, собственно говоря, было нечего. «Уважаемый господин Кнудсен, – писал Йерихау. – Я польщен и, если честно, немного удивлен интересом, который вы проявляете к увлечению моей молодости. Рад буду видеть вас у себя в любое удобное вам время в субботу или воскресенье. Искренне ваш, Оскар Александер Йерихау».
– Я ответил, что мне было бы удобно в субботу в полдень. Мы встанем, позавтракаем и не спеша поедем смотреть картины. Про тебя я ничего не писал, поставим Оскара перед фактом. К бесцеремонности журналистов все давно привыкли. Ты поймала меня на пороге моего дома и увязалась за мной, а я не смог тебе отказать…
«Мы встанем, позавтракаем…», как о чем-то, само собой разумеющемся, говорил Хенрик и душа Рикке наполнялась теплом от этих слов. Уже невозможно было представить, как раньше она жила без Хенрика, без его любви, без пятничных вечеров, без страстных ночей, без субботних прогулок, без вечерних телефонных разговоров, без шутливой переписки в скайпе. Сидишь на работе, печатаешь какую-нибудь нудятину, за окном типичная копенгагенская серость и вдруг в оконце появляется смайлик и какая-нибудь веселая белиберда. Что есть счастье, если не это? И что есть любовь?
В то же время, Хенрик не стеснял и не отягощал Рикке, не вторгался в ее прайвеси. Его присутствие в жизни Рикке не ощущалось как нечто обременительное, несмотря на то, что с каждой неделей этого присутствия становилось все больше и больше. Деликатность и уважение, вот из чего был сделан Хенрик. «Ты такой хороший», говорила Рикке, касаясь Хенрика, словно проверяя, человек перед ней или бесплотный дух. В то, что на свете существуют мужчины, которых с небольшой натяжкой можно назвать идеальными, поверить было трудно, но вот он, Хенрик – только руку протяни.
Насчет халявной выпивки Хенрик ошибся – Йерихау предложил жасминовый чай. На середине круглого стола, накрытого красной скатертью, стояла маленькая вазочка с пеббером,[95] явно оставшимся от прошлого рождества. Рикке представила, как на этом столе, на этой же самой скатерти, Йерихау татуирует мертвых женщин и наотрез отказалась от чая. Глупость, конечно, разыгравшееся воображение, не более того.
Она немого изменила внешность. Скрутила обычный конский хвост в тугой узел, обвязала голову ярким бирюзово-золотистым платком на манер банданы, надела солнцезащитные очки с желтыми стеклами. Хенрик при виде этого маскарада хмыкнул и покачал головой. Рикке понадеялась, что это покачивание было одобрительным, но уточнять ничего не стала.
В баре Йерихау вел себя сдержанно, в чем-то, даже, скованно, а в роли гостеприимного хозяина суетился и болтал без умолку. У страхового агента язык должен быть хорошо подвешен, иначе он ничего не заработает. Судя по дому и обстановке, зарабатывал Йерихау неплохо. Никакой роскоши, но полный достаток. Угощение в виде старого печенья, да еще и в крошечном количестве, в таком доме смотрелось немного смешно. Но, недаром же говорят, что богат тот, кто мало тратит. Рикке поразила невероятная чистота жилища Йерихау, которую так и хотелось назвать стерильной. Ни пылинки, ни паутинки, ни пятнышка, ей такой чистоты никогда в жизни не добиться. Эпилептоид, привыкший заметать следы и прятать улики? Или просто эпилептоид?
Картин у Йерихау оказалось на удивление мало – всего двенадцать. Рикке почему-то казалось, что их должно быть много, не меньше тридцати-сорока. Небольшие такие картины, примерно шестьдесят на восемьдесят сантиметром или пятьдесят на семьдесят. Рисовал Йерихау маслом на холсте, тусклых красок не признавал, пропорции не соблюдал, детали не прорисовывал и потому без подписей Рикке ни за что бы не узнала, что именно нарисовано на картине – Мраморная церковь или, скажем, Круглая башня.[96]
Никакого сходства с рисунками Татуировщика. И подпись у Йерихау была непохожей на эти знаки. Подписывал он свои картины как школьник, выводя ровным аккуратным почерком имя, фамилию и дату создания картины. Совсем не то. Совсем-совсем не то.
Хенрик рассматривал картины долго, все то время, пока Рикке брала интервью у хозяина. Она представилась корреспонденткой газеты «Моргенавизен», которая делала материал про Хенрика Кнудсена и его галерею. Говорить, что какое-то издание заинтересовалось самим Йерихау, было бы неправильно – он бы в это не поверил. А так – вполне логично и есть повод задать несколько вопросов.
Вопросы Рикке составляла хитро – один по делу, другой для маскировки. С нормальным психологическим обследованием не сравнить, но общее впечатление составить все же можно. Хотя бы самое приблизительное.
Йерихау отвечал на вопросы пространно и охотно. Чувствовалось, что ему нравится быть в центре внимания. Позер.
По результатам общения у Рикке сложилось мнение, что Йерихау слабак. Натуральный слабак, ничтожество, сознающее свою слабость и пытающееся самоутвердиться путем доминирования в сексе. Нюанс заключался именно в сознании своей слабости. Серийный убийца Татуировщик был вершителем судеб, хозяином чужих жизней, а не слабаком. Серийные убийцы всегда считают себя выше, лучше, достойнее своих жертв. Они – львы, а все остальные люди в их глазах ни что иное, как покорное стадо, добыча. А Йерихау был не львом, а шакалом или гиеной. При первой встрече в баре Рикке ввела в заблуждение сдержанность Йерихау, которую она приняла за уверенность в себе. Ничего подобного – жалкий человечек отчаянно трусил и потому был скован. Львы не потирают потные ладони, не говорят о себе взахлеб, не заглядывают искательно в глаза. И еще львы не склонны распространяться на тему ничтожества окружающей их публики. Какой смысл говорить о том, что и так ясно, что не вызывает сомнений?
Можно было допустить, что Оскар был замечательным актером, но тогда ему еще надо было быть ясновидящим, чтобы догадаться об истинной цели визита Рикке.
Короче говоря – одним подозреваемым в списке стало меньше.
– На самом деле его картины не так уж и безнадежны, – сказал Хенрик, заводя машину. – Во всяком случае они гораздо лучше его чая. При случае их можно использовать как дополнение к основной выставке. Я – провокатор, люблю играть на контрастах. Не до такой степени, как Йерихау, но что-то сдержанно-блеклое его пейзажи вполне могут оттенить. Спасибо тебе, ты расширила мой кругозор.
– Не за что, – улыбнулась Рикке. – Всегда рада помочь. Так, со временем, наберусь опыта и открою свою галерею.
– Купи мою, – смеясь, предложил Хенрик. – Она уже раскручена, известна, а я по знакомству возьму с тебя недорого.
– Зачем тебе продавать такую милую галерею?
– Иногда так хочется почувствовать себя свободным… Я люблю искусство, но иногда мне хочется сбежать от него подальше. Валяться на пляже, рисовать пальцем на песке рожицы…
– Это тоже искусство! – поддела Рикке. – От которого ты якобы хочешь сбежать.
– Ты права, – уже серьезно ответил Хенрик. – От себя сбежать нельзя.
Оставив машину в гараже дома Хенрика, они отправились бродить по Копенгагену и бродили так качественно, что вернулись обратно лишь в три часа ночи. Есть люди, рядом с которыми забываешь о времени напрочь. Хенрик был из таких.
Понедельник начался с информации от Оле.
– Очень важно обращать внимание на мелочи, Рикке, – наставительно сказал он, присаживаясь на край стола Рикке. – Вот я, например, сразу понял, что господин Эрландсен вряд ли может быть Татуировщиком.
– Как, интересно, ты это понял и почему не сказал об этом мне? – Рикке стало обидно – они же вместе ведут расследование.
– На его имя не зарегистрировано ни одного автомобиля, только мотоцикл. Трудно представить, чтобы он развозил тела своих жертв на мотоцикле, а?
– В общем-то, да, – согласилась Рикке, досадуя на свою недогадливость и скрытность Оле. – Но он же мог брать машину напрокат.
– Мог, но вряд ли бы стал, слишком уж это бросается в глаза. Кстати, после каждого нового трупа мы интересуемся теми, кто брал машины напрокат в последние дни, так что мне даже бегать никуда не пришлось, я просто поднял данные и внимательно их изучил. Итог таков – у Эрландсена нет машины, он не брал машину напрокат перед убийствами, мой знакомый торговец цветами за все эти годы, что он там сидит, ни разу не видел нашего Йокума за рулем автомобиля, завсегдатаи бара, с которыми мне удалось потолковать, в один голос утверждали, что Йокум ездит только на мотоцикле и в его гараже нет автомобиля.
– Ты и в его гараже успел побывать? – удивилась Рикке.
– Заглянул в замочную скважину, – Оле лукаво улыбнулся.
– Оле! Ты же защищаешь закон! Какие замочные скважины могут быть в гараже?
– Вот такие, – Оле сложил большой и указательный пальцы в кольцо, чтобы продемонстрировать Рикке размер скважины. – И покажи мне в законах параграф, запрещающий заглядывать в замочные скважины.
– Про скважины там, может, и не сказано, но про неприкосновенность жилища…
– Какая ты зануда, – скривился Оле, – хуже Ханевольда и Мортенсена вместе взятых. Кстати, мы опять почти в полном составе, только Йоргенсен продолжает отдыхать…
– Это чувствуется по свежести воздуха в управлении, – пошутила Рикке.
– Ты бы это… – Оле мгновенно посерьезнел, – обратила бы внимание на Франнсена. Он что-то слишком подавлен. Мне, к счастью, никогда не приходилось хоронить жену, но мне кажется, что пока она болела, можно было бы привыкнуть.
– А, может, он не привыкал, а надеялся на чудо? – Рикке сделала пометку в блокноте, чтобы сказать про Франсена Иде Еппесен, руководителю службы по работе с сотрудниками, вдруг та ничего не знает. – Кстати, Оле, а что по поддельным документам нельзя взять машину напрокат?
– Попробуй, – посоветовал Оле. – Если не спалишься, когда будешь забирать, то при возвращении точно возникнут вопросы. Украсть чужие документы, переклеить фотографию и назвать си-пи[97] прежнего владельца теоретически возможно, но на деле это очень сложно. Татуировщик никогда не допустит подобной оплошности.
– А почему ты мне не сказал сразу? Я как-то упустила из виду отсутствие машины…
– Так надо же было проверить, – развел руками Оле, – вдруг он ездит на машине своей подружки или еще на чьей-то. Я не люблю трепать языком попусту. А как выяснил – сказал. Так что одним подозреваемым у нас с тобой, Рикке, стало меньше.
– Двумя, – поправила Рикке и рассказала Оле про свою поездку к Йерихау.
– Это самый лучший момент, когда у тебя остается один подозреваемый, – сказал Оле, выслушав Рикке. – Ты можешь направить на него все свои силы, всю энергию… Ты обрушиваешься на него, трепеща от вожделения и чувства скорой победы, но вместо победы приходят разочарование и досада. Таковы особенности нашего ремесла, девочка. За все годы моей работы только однажды убийца так растерялся, что обронил возле трупа бумажник с визитными карточками. Один случай из нескольких тысяч. Но сегодня ты можешь за меня порадоваться – в деле курдов обнаружилось что-то такое, что парни из ПЕТ забрали его себе целиком.
– Поздравляю! – сказала Рикке. – Но помни, что хороший горшок не остается надолго пустым.
– Я предпочитаю радоваться сегодняшнему дню и не думать о будущем, – отмахнулся Оле.
10
Если уж соваться в логово зверя, так с соблюдением необходимых предосторожностей.
Они сидели в ресторанчике, недалеко от церкви Святого Духа. Ресторанчик был крошечный и порции здесь подавались маленькие, но все это компенсировалось ценами. Рикке уже поняла, что Нильсу необходимо постоянно доказывать себе и окружающим свою состоятельность, поэтому он носил дорогую одежду, посещал дорогие рестораны, любил дорогие вещи… Рикке совершенно не укладывалась в эту логическую цепочку, потому что была слишком простой для Нильса, и это наводило на определенные мысли.
Нильс снова пригласил Рикке к себе, напомнив, что она интересовалась его творчеством. Если бы он сам не завел разговор на эту тему, то это пришлось бы сделать Рикке.
Демонстративно посмотрев на часы (дело было в четверг вечером), Рикке приняла приглашение. В такси она нарочно вела себя чересчур раскованно, хотя выпила всего-то бокал вина. Рассказала водителю, что ее друг – самый большой знаток искусства в Дании. «Вы, наверное, слышали – Нильс Лёвквист-Мортен. А я – Рикке, про меня вы ничего не слышали, потому что я ничем не знаменита». Затем Рикке спела несколько раз подряд две строчки из старинной бретонской песни «Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat, loñla, Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat…»,[98] а когда водитель поинтересовался, какой это язык, ответила, что японский. Песню любил петь один парень из Ренна, учившийся в университете вместе с Рикке. Затем Рикке попросила водителя, оказавшегося поляком спеть что-нибудь на своем языке, тот что-то спел, но перевести не успел, потому что они приехали.
Весь этот спектакль был разыгран ради одной-единственной цели – чтобы Нильс не замыслил плохого в отношении Рикке. Водитель стал ее своеобразной страховкой. Нильс должен понимать, что если с Рикке что-то случится и ее фотографии будут предъявлены общественности, водитель легко вспомнит ее и, если не имя ее спутника, то, хотя бы, адрес, по которому он их отвозил. Прямой след.
Кроме того, едва войдя в дом, Рикке «спохватилась», что сегодня должна была встретиться с подругой. Набрала номер Оле, назвала его Лисси и, не давая вставить ни слова, сообщила, что не сможет сегодня встретиться, потому что один знакомый («Его зовут Нильс, ты его не знаешь») пригласил ее в гости.
– Мне надо к тебе приехать? – спросил Оле.
– Нет, Лисси, никак не получится. Я на Арнесвей,[99] это так далеко от тебя.
– Так приезжать или нет? – повторил Оле.
– Нет, Лисси, нет! Увидимся завтра, – торопливо прощебетала Рикке и отключилась.
Пряча мобильник в сумку, она виновато улыбнулась Нильсу и сказала:
– Лисси расстроилась.
Нильс хмыкнул и повел Рикке показывать дом. Дом был одноэтажным, но большим и производил впечатление не худшее, чем дом Хенрика. Но если у Хенрика обстановка была респектабельно-строгой, то Нильс предпочитал кричащую роскошь. Позолоченные ручки, лепные украшения на потолке, огромный ковер на полу в спальне, кухня, напоминающая кабину корабля из «Звездных войн»… Рикке удивилась отсутствию картин на стенах, но сразу вспомнила, что у Нильса рисунки, а не картины.
Художником Нильс оказался оригинальным – он рисовал углем на бумаге.
– Работать углем и легко, и трудно, – пояснял он, раскладывая рисунки на столе в своем рабочем кабинете. – Богатство тонов при отсутствии красок, заставляет искать новые пути самовыражения…
Стол был огромным. Нильс с гордостью сообщил, что стол сделан во времена Кристиана Восьмого[100] и что приведение его в надлежащий вид обошлось вдвое дороже покупки.
– А, кроме того, это такое удовольствие – рисовать углем! Водишь им по бумаге и наслаждаешься тем, как мягко он на нее ложится. С карандашом или кистью ощущения совсем не такие…
«А с татуировальной машинкой?», так и подмывало спросить Рикке.
Все рисунки из папки не уместились на столе, несмотря на его внушительные размеры, поэтому пришлось задействовать диван, подоконник и стулья. Закончив выкладку, Нильс отошел к двери, предоставляя Рикке возможность без помех насладиться его творчеством.
Нильс не рисовал людей и животных – только предметы и природу. Початая бутылка вина на подоконнике, дом на морском берегу, городская улица, подвешенный к потолку велосипед… Отсутствие людей на картинах можно было связать с мизантропией, а то и счесть социопатической чертой, но Рикке давно отучилась спешить с выводами. Возможно, что Нильсу плохо удаются люди, вот он их и не рисует. Но и нельзя исключить того, что ему противно рисовать людей. Задавать вопросы Рикке не стала, вместо этого выразила восхищение:
– Ты замечательный художник! Такой необычный…
Нильс расплылся в улыбке.
Восхищение подразумевает долгое любование. Можно переходить от рисунка к рисунку, возвращаться к виденному, сравнивать, вникать. Рикке хотелось, чтобы ее интерес выглядел естественно.
На первый взгляд, между рисунками Нильса и загадочными символами Татуировщика не было ничего общего. Но, если присмотреться и оценить четкость линий, а также частые изменения их толщины (некоторые утолщались от начала к концу, другие, наоборот – утончались), то можно было бы сделать вывод о некотором сходстве. Если не самих рисунков, то манеры их исполнения.
– Какой милый дом! – Рикке остановилась около рисунка с домом на берегу. – Так и просится на заставку! Можно мне его сфотографировать?
Сказала и сразу же испугалась – а не оскорбительно ли для художника подобное желание, но Нильс отреагировал нормально.
– Дай мне адрес своей почты и я пришлю тебе фотографию, – сказал он. – Бумага недолговечна, поэтому я оцифровал свои творения. Тебе только этот рисунок?
– Если можно, то еще и вот этот, – Рикке указала на городскую улицу. – Я распечатаю его, вставлю в рамку и повешу дома. А что это за улица?
– Улица святого Петра, чуть дальше собора. Я рисовал ее по памяти, так что полного совпадения в деталях не обещаю.
Нильс приблизился к Рикке и вдруг обнял ее сзади. «Святая Бригитта, что он со мной делает?» – мысли в голове Рикке спутались в тугой узел и тут же начали раскручиваться со скоростью света. Это заигрывание или прелюдия к удушению? Интерес к рисункам выдал ее или же просто подстегнул решимость Нильса?
– Зачем? – невпопад выдохнула Рикке.
– Чему ты удивляешься, Рикке? – охрипшим от вожделения тоном спросил Нильс, кусая губами ее шею.
Рикке подумала, что Нильсу ничего не стоит перегрызть ей горло. У нее такое нежное и такое тонкое горлышко, а у него такие мощные челюсти с крупные крепкими зубами. Если бы Нильсу в тот момент вздумалось бы сотворить нечто подобное, Вряд ли Рикке могла бы сопротивляться, настолько обессиленной чувствовала она себя. Ноги подкашивались, голова кружилась, теплая волна поднималась снизу, от увлажнившегося лона. Нильс резко развернул Рикке к себе и теперь ее руки могли жадно блуждать по его спине и пытаться тянуть кверху его рубашку, то и дело выскальзывавшую из ослабевших пальцев. Рикке не притворялась, ею и в самом деле овладело желание.
Ласки Нильса становились все жаднее и жаднее. «Какой он грубый!» – с оттенком восхищения подумала Рикке. Вообще-то она считала, что ей не нравятся грубияны, и что мужчина непременно должен быть нежным. «Я люблю, чтобы на мне играли, как на рояле», говорила она тем, кто был недостаточно нежен и излишне тороплив. А, скорее всего, ей не нравились мужланы. Грубость утонченного Нильса, одетого в дорогие вещи, пахнущего дорогой парфюмерией и способного рассуждать о сравнительных достоинствах размеров скальдической поэзии, была Рикке по вкусу.
Утонченный и эрудированный грубиян этот Нильс и так не похож на других мужчин. Спроси обычного человека, Оле или, скажем, Эккерсберга, что он думает о хрюнхенте[101] и в ответ услышишь: «Это какой-то новый ресторан в Вестербро? Я там еще не был». А классическим образцом скальдической поэзии они, должно быть, считают «Der er et yndigt land».[102]
Нильс закончил также внезапно, как и начал. Деловито заправил рубашку в брюки, одернул пиджак, поправил воротник, улыбнулся Рикке и посмотрел на опущенную оконную штору, словно кто-то мог видеть их оттуда. При этом он мягко улыбался, давая понять, что ничего особенного не происходит.
Рикке решила, что если Нильс передумал, то она сама затащит его в постель. Прямо сегодня. Он разжег внутри ее пожар, пусть теперь тушит его.
– Прости, – наконец-то выдавил из себя Нильс. – Я не сдержался…
– Зверь! – ответила Рикке, протягивая к Нильсу руки.
«Это поможет мне лучше узнать его, это ради дела и вообще Хенрик – лучший», подумала она, пытаясь оправдать себя в своих собственных глазах, пока Нильс, обняв, вел ее в спальню.
На освобождение от одежды ушли считанные секунды. Затем Нильс повалил Рикке на кровать и обстоятельно, словно знакомясь, начал целовать, покусывать и зализывать укусы. Рикке стонала от удовольствия, вскрикивала от боли и подбадривала Нильса, повторяя «еще, еще, еще…»
Покусанные губы горели и их приходилось то и дело облизывать. Соски, горевшие еще сильнее губ, Рикке облизать не могла. Было такое чувство, словно на каждую грудь ей положили по раскаленному угольку. Когда Нильс вжимался в Рикке, угольки уходили куда-то вглубь и жгли сильнее.
– Ты очаровательна, – сказал Нильс, оседлав Рикке и застыв над ней. – Я медленно умираю от желания съесть тебя.
– А я думала, что ты меня уже съел.
Рикке подняла левую руку и прикоснулась к выпирающей ключице Нильса, удивляясь ее толщине. Раздевшись, Нильс из крупного мужчины превратился в мощного Геркулеса, одежда многое скрывала.
Нильс воспринял жест, как поощрительный, перехватил руку Рикке, с силой сжал, завел за ее голову и прижал к матрацу. Секундой позже рядом с левой рукой оказалась правая. Рикке попробовала высвободиться, но не смогла – куда ей было меряться силой с могучим мужчиной, тем более, что ее силы убывали на глазах. Нильс издал звук, отдаленно похожий на рычание хищного зверя, сильно сжал бедрами тело Рикке, и, не выпуская ее рук, припал губами к ее правой груди. Влажный поцелуй принес секундное облегчение, но затем Нильс снова пустил в ход зубы, причем на этот раз он не просто кусал сосок, а сжимал зубами и тянул на себя.
Боль из обжигающей стала пронзительно-рвущей, совершенно нестерпимой. Рикке могла только кричать, протестуя против такого зверского обращения, но Нильса ее крики только раззадорили. Отпрянув от правого соска, он тут же вцепился зубами в левый и сделал с ним то же самое. Рикке казалось, что ее действительно едят живьем, во всяком случае, когда Нильс тянул зубами сосок, создавалось впечатление, что он сейчас его оторвет и проглотит.
– Голова кружится, – зачем-то прошептала Рикке и прерывисто сглотнула.
– Сейчас ты улетишь на небеса, – снисходительно и, как показалось Рикке, надменно пообещал Нильс и вошел в нее мощным толчком, настолько мощным, что Рикке подбросило кверху.
От нахлынувших чувств впору было умереть, потому что главное наслаждение жизни изведано и ничего лучше уже не испытать. Все так неожиданно, необычно и сладостно…
Огненный смерч бушевал внутри Рикке, нет, она сама была этим смерчем, ей казалось, что она сейчас расплавится в объятьях Нильса от его мучительных ласк, полных животной ярости и неизбывной сладости. Боль, причиняемая Нильсом, порой становилась невыносимой, но Рикке не хотелось, чтобы все поскорее закончилось, ей хотелось еще, еще, еще… Обрушившийся на нее оргазм с лихвой окупил все страдания – он оказался настолько ярче и мощнее прежних оргазмов, насколько Эресуннский мост[103] больше Марморброена.[104] Оргазм был настолько силен и настолько приятен, что Рикке едва не потеряла сознание. Но разве можно было, говоря о пережитом Рикке впечатлении, употреблять слово «приятное»? Для того чтобы выразить все правильно, так, как было на самом деле, слово «приятное» надо было поставить в самую превосходную из всех превосходных степеней, но, к сожалению, датский язык еще не дошел в своем развитии до подобного совершенства. Боль и наслаждение слились воедино в сознании Рикке, одно влекло за собой другое, без боли не было наслаждения, а еще к этому примешивался стыд. Стыдилась она как того, что позволила Нильсу обращаться с собой подобным образом, полностью отдавшись в его руки, так и того, что получила небывалое по силе наслаждение от секса, который можно было бы назвать унизительным. Унизительным по содержанию и настроению, если можно так выразиться, потому что, утолив свою страсть (Рикке к этому времени успела пережить и второй оргазм, послабее первого) Нильс мгновенно отвалился в сторону. Он лежал на спине, раскинув руки в стороны, и шумно дышал.
Рикке почувствовала себя оскорбленной – она привыкла к каким-то нежностям напоследок, в виде благодарности за доставленное удовольствие, неважно длительными или короткими будут эти ласки, главное, чтобы они были. Пусть, даже, не поцелуи с поглаживаниями, а только слова, лишь бы не создавалось впечатления, что ею банально попользовались для утоления похоти и сразу же отложили, как только получили желаемое.
Чувствуя, как по внутренней стороне бедер стекает теплое и вязкое, Рикке одновременно приходила в себя, злилась и думала о том, что Нильс мог бы вспомнить и о презервативе. Стоило, хотя бы, поинтересоваться, можно ли ему излиться в Рикке, не будет ли она против подобной интимности. Хорошо, что Рикке была предусмотрительной и предохранялась при помощи спирали, но ведь Нильсу она об этом не рассказывала, не успела пока рассказать. Хенрик в их самый первый раз постеснялся спрашивать, но он извлек свой член перед тем, как извергнуть семя.
Нильс словно прочел мысли Рикке и попытался реабилитировался в ее глазах.
– Я восхищен, – сказал он, поворачиваясь на бок. – У меня не было женщины вкуснее тебя.
Рикке молчала, ожидая продолжения. Перемежая нашептывание нежных слов с поцелуями, Нильс осушил губами мокрые от слез глаза и щеки Рикке, а затем осторожно, едва касаясь, поцеловал каждое болевшее местечко на ее вздрагивающем теле.
– Ты красив настолько, насколько же груб и настолько же нежен, – восхищенно прошептала Рикке перед тем, как провалиться в сонное забытье.
Она предпочла бы не засыпать, а продлить удовольствие, но вязкая тьма навалилась на нее, унесла куда-то и Рикке не слышала, как Нильс сказал:
– Ты привыкнешь к грубости. Я научу тебя любить боль. Каждый раз ты будешь хотеть более острых ощущений до тех пор, пока можешь чего-то хотеть…
Вздрогнув, не то от страсти, не то от испуга, что сказал лишнее, Нильс умолк и принялся вылизывать пупок спящей Рикке, думая о том, как славно будет налить сюда немного меда или кленового сиропа. Горячего, но не настолько, чтобы вызвать ожог. Рикке никак не реагировала на эту запоздалую ласку и Нильс скоро оставил ее в покое…
Разбуженная вредным солнечным лучом, который настойчиво елозил по ее лицу, Рикке приподнялась на локте и посмотрела на тихо сопящего Нильса. Тот мгновенно повернулся со спины на бок, отворачиваясь от нее. Рикке показалось, что воздух в пространстве между их телами дрожит, наэлектризованный страстью и желанием.
Любовь, это когда ты, закрыв глаза, бросаешься в пропасть, летишь вниз головой и поешь от счастья. Любовь, это когда ты в уличном шуме слышишь волшебную музыку. Любовь, это когда два сердца бьются в едином ритме. Любовь, это когда ты на мгновение замираешь, стоит только ласковой руке коснуться тебя, а затем взлетаешь куда-то к звездам, окруженная облаком нежности. Любовь, это когда хочется собирать губами капли пота с тела любимого, дразнить языком его сокровенные места, изгибаться в его объятиях и чувствовать, как ваши горячие тела на самом деле сливаются в одно целое. Сливаются и медленно скользят в вечность…
С Нильсом все иначе. Никакой любви, никаких падений в пропасть и взлетов к звездам. Есть только грубая животная страсть, но как же она сильна и как она хороша! Стоило Рикке только подумать о том, как восхитительно груб Нильс, как ритм ее дыхания изменился, сердце забилось часто-часто, а от увлажнившегося лона, поползла по телу тягучая истома. Рикке потянулась, еще больше сминая сбившуюся под ней простыню, ощутила, как теплая волна похоти накрывает ее с головой и прильнула к мускулистой спине Нильса. Закрыв от удовольствия глаза, Рикке вдохнула горьковатый запах его кожи, ущипнула его за сосок и шепнула в ухо: «Просыпайся». Нильс промычал что-то невнятное, стряхивая с себя сонную пелену (Рикке хотелось верить, что это были ласковые слова, а не что-то другое) обернулся и деловито подмял ее под себя. На этот раз Нильс двигался плавно, зубы в ход не пускал, и вся грубость его проявлялась лишь в том, что временами он слишком сильно наваливался на Рикке, так, что она не могла дышать.
Кричать не было причин. Рикке слабо постанывала, отвечала на ласки, дышала запахом Нильса, и ей не верилось до конца, что все это происходит наяву, происходит с ней. О Хенрике она вспомнила только после душа, когда не вытирала, а осторожно промокала болевшее там и сям тело полотенцем. Странно, но от прикосновения полотенца боль была совсем не такой, как от прикосновений Нильса. Полотенце доставляло просто неприятное ощущение. Ничего сладкого, одна горечь.
– Не забудь прислать мне свои рисунки, – напомнила Рикке, поцеловав Нильса на прощанье. – Они станут напоминать мне о тебе.
– Через три минуты они будут в твоем почтовом ящике, – пообещал Нильс, закрывая дверь.
11
– Что за странные звонки? – вместо приветствия поинтересовался Оле, ставя свой поднос на стол, за которым сидела Рикке.
– Мне надо было создать впечатление, – проглотив то, что было у нее во рту, ответила Рикке. – Я была дома у одного подозрительного типа.
– Кандидат в Татуировщики? – понимающе усмехнулся Оле, садясь за стол. – Рикке, как ты можешь есть эту цветную капусту? Она же безвкусная!
Сам он взял телячий щницель с жареным картофелем.
– Кандидат, – кивнула Рикке. – В цветной капусте, Оле, есть свой вкус, только надо ее распробовать. А если выжать на нее половинку лимона…
– То она от этого лучше не станет, – докончил Оле. – Ладно, оставим еду в покое и поговорим о деле. У тебя появился подозреваемый?
Они говорили громко, в полный голос, потому что в столовой было шумно и за соседними столиками никто, даже при желании, не мог бы услышать их разговор.
– Не знаю, – Рикке пожала плечами. – Но он довольно брутальный мужчина с интересной манерой рисования. Мне надо провести профессиональную экспертизу его рисунков и тогда я смогу определиться. Кстати, Оле, а что там у вас с этим боснийцем, как его…
– Един Балич, – подсказал Оле.
– Да-да! Что-то удалось найти?
– После заочной проверки боснийцев оставили в покое, потому что не удалось найти ничего компрометирующего. Считается, что за ними приглядывает Йоргенсен, но реально все сводится тому, что при следующем убийстве алиби Едина Балича будет тщательно проверено. А меня и Аре Мортенсен гоняет проверять сигналы о подозрительных мужчинах, которые делают нечто подозрительное. Правда сейчас сигналы пошли на убыль. До следующего раза. Так и живем. И, наверное, нет такой экспертизы, которой не подвергли бы трупы, в поисках хоть какой-то зацепки. Но зацепка у нас всего лишь одна, та же, что и была – пленку, веревки и скотч он покупает в «Фётексе», а такая зацепка все равно, что ничего. Остается молиться, уповая на то, что в следующий раз он на чем-то проколется. Следующий раз будет тринадцатым по счету, несчастливое число.
Жутко было слышать, как обыденно Оле произносил «следующее убийство» и «до следующего раза».
«Профессиональную экспертизу» Рикке провела в тот же вечер. В качестве эксперта выступал Хенрик, а местом стало тихое кафе в Вестербро, неподалеку от того пятачка, где в последнее время постоянно тусовалась Рикке. Хенрик ожидал, что пятница пройдет по обычному сценарию, то есть поход по «злачным» местам плюс ночь любви, но Рикке пришлось его разочаровать, сославшись на ежемесячные женские обстоятельства. Точнее, не разочаровать, а обмануть, потому что «обстоятельства» еще не успели наступить, но тело после Нильса требовало передышки, да и не хотелось, чтобы Хенрик увидел следы от укусов.
А еще это была проверка на вшивость. Рикке предпочитала не иметь дела с мужчинами, которые в ответ на «мне сегодня нельзя» напоминали, что есть и другие «сладкие дырочки» или «горячие местечки». Такие получали отставку мгновенно и речи о возобновлении отношений быть не могло. Подруга Лисси, относившаяся ко всему на свете очень снисходительно, не скрывала, что считает Рикки чокнутой максималисткой, но это не мешало им поддерживать дружеские отношения. У Рикке с ее характером, наверное, могла быть только такая подруга, смотрящая на все просто, иногда – чересчур просто.
– Есть сходство, – подтвердил Хенрик, разглядывая распечатанные Рикке фотографии. – Но скажу честно, если бы ты не обратила бы мое внимание, сам бы я не догадался.
– Это закономерно, – улыбнулась Рикке. – Ты не изучил рисунки Татуировщика так, как изучила их я.
– Я бы предпочел их никогда не видеть. Тебя – видеть, а их – нет.
– Что поделать? Я появилась в твоей жизни с этими рисунками в руках и от этого никуда не деться.
– Теперь ты подключишь к проверке Нильса полицию? – Хенрик вернул фотографии Рикке.
– Нет, до этого еще далеко, – Рикке вложила фотографии в пластиковый конверт и убрала в сумку. – Надо присмотреться к нему получше, постараться побольше о нем узнать и тогда уже идти к моим коллегам.
Когда работаешь в полицейском управлении круг лиц, определяющийся словом «коллеги» существенно расширяется – начинаешь называть так не только психологов, но и всех полицейских сотрудников.
– И ты будешь снова с ним встречаться? – в голосе Хенрика Рикке послышались нотки ревности. – После того, как твои подозрения подтвердились? Ты что, не понимаешь, как это опасно? Опомнись, Рикке! Оставь своего Нильса в покое, пусть им займутся те, кому положено!
Приятно получать подтверждения того, что тебя любят и о тебе заботятся. Неприятно, когда кто-то, пусть, даже, и далеко небезразличный тебе человек, указывает, что ты должна делать.
– Позволь мне самой решать, – мягко сказала Рикке, накрывая руку Хенрика, лежавшую на столе, своей узкой ладонью. – Я давно уже взрослая девочка и способна сама разобраться в том, что мне можно делать и что нельзя.
– Я бы не стал вмешиваться, если бы ты была мне безразлична! – горячился Хенрик. – Но ты просто не представляешь, каким счастьем для меня стала встреча с тобой и как страшно мне думать о том, что я могу тебя потерять!
– Не думай об этом, – посоветовала Рикке.
– Как я могу не думать?! – Хенрик даже обиделся немного. – Ты же столько для меня значишь! С недавних пор пятница стала у меня любимым днем недели!
– Даже сегодняшняя? – улыбнулась Рикке.
– И сегодняшняя тоже, – недоуменно подтвердил Хенрик, не понимая, к чему она клонит. – А что в ней такого особенного?
– Ну… – замялась Рикке, – ведь, сегодня я не смогу остаться у тебя на ночь…
– И что это меняет? – теперь Хенрик, кажется, обиделся не на шутку. – Кажется, я никогда не говорил и не давал понять, что наши отношения – это только секс! Странно, что ты так говоришь, Рикке! Секс – это здорово, а с тобой это вообще что-то бесподобное и я, конечно же, испытываю к тебе влечение определенного рода, но… Черт! Совсем запутался!
– Я тебя прекрасно поняла, Хенрик. Прости, я сказала глупость.
Чтобы загладить свою вину, Рикке пересела на колени к Хенрику (все равно в кафе кроме них никого не было), обняла его и поцеловала в губы так, что он забыл про все обиды, да и вообще обо всем забыл. Почувствовав, что все в порядке, Рикке вернулась на свой стул и попросила официанта принести ей кофе.
Кофе пах ароматом Boss Number One, одеколона Хенрика, но Рикке этого не замечала. Ей было до невозможности приятно и немного совестно, ведь Хенрик, милый наивный Хенрик, и не подозревал, до чего дошла, то есть – до чего опустилась Рикке в своих детективных поисках. «Я скажу ему потом, – решила Рикке, наблюдая за тем, как обстоятельно Хенрик пьет свой кофе. – Сама скажу, не дожидаясь вопросов. Хенрик хороший. Он меня поймет». В этом «скажу ему потом» крылась маленькая хитрость, на которой Рикке старалась не заострять внимания. Она допускала, что в ее жизни еще будет секс с Нильсом и намеревалась покаяться Хенрику оптом, сразу во всех грехах. И разве не сказал коварный итальянец Никколо Макиавелли «Il fine giustifica i mezzi», что означает «цель оправдывает средства»? Если есть цель, то…
«А вот если бы Нильс был плешивым жирным стариканом, у которого трясутся руки и плохо пахнет из рта, ты точно так же думала бы, что цель оправдывает средства? – спросила совесть. – Или передала бы его Оле для изучения?» Совесть – она такая, знает, что ей ничего не грозит, вот и говори гадости, поэтому Рикке предпочла не обращать на нее внимания. Двенадцать молодых женщин, убитых Татуировщиком, где-то там, во мраке небытия, молили о возмездии и Рикке была единственной, кто слышал их голоса.
Да, единственной, потому что все остальные или ужасались, или не обращали внимания или искали Татуировщика, выполняя свои обязанности. Но никому, кроме Рикке этот проклятый убийца не отравлял жизнь в прямом смысле этого слова. По большому счету, дело было не в работе, не в отношении Хеккерупа и Мортенсена, и, даже, не в самоуважении, а в том, чтобы Татуировщик перестал убивать, чтобы ужас закончился, чтобы первые полосы газет были заняты чем-то другим, поприятнее.
– Skide![105] – вырвалось у Рикке.
– Что такое? – забеспокоился Хенрик. – Кофе невкусный?
– Кофе просто замечательный! – ответила Рикке. – Это я просто задумалась. Прости, Хенрик, я сегодня не в форме. Проклятый Татуировщик…
– Ты можешь думать, что хочешь, но я все-таки скажу то, что думаю! – начал Хенрик. – Сейчас всех интересует Татуировщик. Потом появится какой-нибудь другой серийный убийца – Парикмахер или, скажем, Таксист. И ты точно также будешь пытаться поймать его, а жизнь, тем временем, будет идти своим чередом и когда-нибудь ты поймешь, что всех поймать невозможно, что ты потратила жизнь непонятно на что, хотя могла поступить иначе…
– Иначе – это как? – ледяным тоном поинтересовалась Рикке, начиная раздражаться.
– Уйти из полицейского управления в другое место, выйти замуж за человека, который тебя любит, родить детей… Это, конечно, банально, но мне кажется, что истинное счастье именно в этом, а не в пойманных серийных убийцах.
– Откуда тебе знать? – улыбнулась Рикке, чувствуя, как раздражение покидает ее. – Ты ведь никогда не был замужем и не рожал детей.
– Я так чувствую, – серьезно ответил Хенрик. – Вот смотрю на тебя и понимаю, что все эти детективные игры не для тебя. Ты нежная, утонченная красавица, а настоящие детективы – это широкоплечие мужики с квадратными подбородками и тяжелыми кулаками. Когда они хотят поблагодарить, вместо «tak» у них получается «fuck»…
– Надо познакомить тебя с моим другом Оле Рийсом, – перебила Рикке. – Возможно, что он поможет тебе составить правильное впечатление о полицейских.
– Не надо, – покачал головой Хенрик. – Я не имею чести быть знакомым с этим достойным человеком, но чувствую наперед, что мы друг другу не понравимся.
– Но почему? – удивилась Рикке.
– Потому что у нас разные интересы, разные взгляды и разные приоритеты, – убежденно ответил Хенрик. – И, вообще, я не склонен выходить за рамки своего круга общения. Мне его вполне хватает.
Люди не любят полицию и полицейских. С этим ничего не поделать. Более того – сами полицейские не любят своих коллег. Действительно, как можно любить человека, который штрафует тебя, пристает к тебе с дурацкими вопросами или еще каким-то образом досаждает. Ну и насчет круга Хенрик тоже прав, ему комфортно в своем кругу, среди тех, кто его понимает и кого понимает он. С Оле они вряд ли найдут общий язык. Хенрику вряд ли будут интересны подробности какого-нибудь свежего убийства, а Оле – разговоры о живописи. Хенрик прав – нечего их знакомить.
Жесты очень хорошо помогают тогда, когда слова звучат фальшиво, неуместно или не очень убедительно. Обнять, привлечь к себе, зарыться носом в волосы, вдыхая чудесный запах, который вдруг стал таким родным…
Хенрик и Рикке, Хенрик и Рикке, Хенрикке, Хенрикке, Хенрикке…
Хенрик все понимает. Хенрику можно все рассказать. Жаль, что сам он не любит много рассказывать о себе. Хенрик из тех, кто живет настоящим. Прошлое для Хенрика не имеет значения, потому что его нельзя изменить, потому что его уже нет. Это психологи обожают копаться в прошлом, для них прошлое с его комплексами и обидами – самый лакомый кусочек. У Хенрика, наверное, и обид никаких нет, добрые люди не обижаются, а если и обижаются, то не помнят зла подолгу. Обида – это как непогашенные угли. Чуть поворошишь – разгораются снова и жгут тебя изнутри. Лучше не ворошить, не вспоминать, не придавать значения. Так скорее погаснет. Мать Рикке любила вспоминать обиды и упиваться своими страданиями. Помнила все-все-все, начиная с походов Гудфреда.[106] Каждая домашняя экзекуция заканчивалась сеансом воспоминаний. Какой в том смысл? Никакого.
Святая Бригитта! Спасибо тебе за Хенрика! Лучшего дара Рикке и ожидать не могла.
Все в жизни имеет смысл. Очень часто этот смысл непостижим и может показаться, что его вовсе нет, но он есть. Мы понимаем это позже или не понимаем никогда, но смысл все равно есть. Причина тянет за собой следствие, следствие, в свою очередь, становится причиной для другого следствия.
Иногда Рикке посещала ужасная мысль, настолько ужасная, что ее и всерьез воспринимать было нельзя, только как шутку из разряда «Ченый юмор». Если бы не Татуировщик, то Рикке, наверное, никогда бы не познакомилась с Хенриком, потому что им просто негде бы было пересечься. Люди, подобные Хенрику, не попадают в поле зрения полиции вообще и полицейских психологов в частности. А уж психологу, специализирующемуся на проблемах насилия, с Хенриком вообще нечего делать – он назойливую муху прихлопнуть не способен, будет выгонять ее в окно полчаса. И так забавно переживает по поводу того, что дважды пытался перейти на вегетарианское питание, но не смог выдержать долго без рыбы и мяса. Не для оздоровления хотел перейти и не по каким-нибудь религиозным соображениям, а из убеждений. Но любовь к бифштексам и копченой рыбе оказалась сильнее. Оказалась, и оказалась – против природы не попрешь, но Хенрик переживает. Рикке попробовала убедить его изменить отношение к тому, что он ест. Мясо, рыбу или туже курицу проще воспринимать как продукт, просто продукт, не более того, а не как часть живого существа, которое было убито ради того, чтобы попасть к тебе на стол. Продукт и только продукт. Ничего личного. Первая заповедь любого фермера – нельзя давать имена животным, которые предназначены на убой, они должны оставаться безликими.
И Рикке в галерею Хенрика никогда бы не пришла просто так, из интереса. Ее любовь к изобразительному искусству ограничивалась, то есть полностью удовлетворялась, творчеством уличных художников на Строгет и двумя посещениями Национальной галереи – один раз в школьные, другой раз в студенческие годы. Не более того.
Магазины, бары и рестораны они посещали разные, так что пересечься им было решительно невозможно. Разве что случайно столкнуться на улице, но Рикке не любила уличных знакомств, уж очень это стремно, а Хенрик, наверное, понятия об уличных знакомствах не имел. То есть знал, конечно, что такое случается, но на себя подобное не проецировал.
В богемных кругах Вестербро Рикке освоилась быстро. Там иначе и не получится. Два-три появления, две-три коротких беседы ни о чем, и ты уже своя – человек из тусовки. Рикке ничем не хвасталась, ни с кем не выясняла отношений, не ввязывалась ни в какие споры, старалась говорить людям приятные слова, короче говоря, усердно играла роль доброй королевы Дагмар.[107] Бармен из «Коп ог ундеркоп» Йокум, не догадывавшийся о том, что Рикке подозревала в нем Татуировщика, однажды угостил ее пивом, а когда Рикке в ответ угостила его, проникся к ней настолько, что дал координаты своего мастера тату. Клеиться он больше не клеился. В этом кругу настойчивость была не в почете, да и в юных девах недостатка не было, так что Рикке чувствовала себя спокойно и в относительной безопасности.
Смешно подумать – Рикке начала коллекционировать живопись. Пока что только в единственном количестве, но это была не какая-то там репродукция, а настоящая картина маслом на куске оргалита, размером тридцать на пятьдесят сантиметров. Картина представляла собой черные вихри на сине-сером фоне и, согласно надписи на обороте, называлась «Низвержение в Эресунн». Обошлась она в цену двух бокалов пива. Цену назвал художник, у которого не было денег, но была жажда и картина, которую хотелось продать. Рикке угостила его пивом просто так, из сострадания, уж очень несчастным он выглядел – бледный до прозрачности с печальными глазами и трогательным хохолком на макушке. Но художник настоял, чтобы он взяла картину. Уже потом Рикке догадалась, что ему на самом деле было нужно не пиво, он хотел сбыть картину, пусть даже и за столь символическую цену. Положить начало, сделать почин, перебить хребет неудаче.
С картиной в пластиковом пакете Рикке прямо из бара поехала к Хенрику хвастаться своим приобретением. Хенрик с полминуты разглядывал картину, а потом поинтересовался, сколько Рикке за нее заплатила. «Два бокала пива», ответила Рикке. «За депрессивную картину, глядя на которую хочется утопиться в Эресунне, это слишком дорого», пошутил Хенрик. Слишком дорого! Да он просто позавидовал! Рикке повесила картину над кроватью (очень милая, в сущности, картина, ничего депрессивного, просто именно такое настроение захотел передать художник). При каждом взгляде на картину, Рикке искренне желала Андерсу Бентсону (так звали художника) поскорее завоевать мировую известность. Почему бы не пожелать хорошего хорошему человеку, да и «Низвержение в Эресунн» тогда невероятно взлетит в цене. Тогда Рикке напомнит Хенрику его слова насчет того, что она переплатила за этот шедевр.
То, что Хенрик будет рядом, чтобы Рикке могла напомнить ему, почему-то не вызывало сомнений. Рикке не верила в это, не надеялась, а просто знала. И это было очень приятное знание, знание, которое согревало.
12
«It’s a lonely world»[108] было написано во всю стену черной краской. В углу кто-то наискось добавил красной – Lorteland.[109] Пространство у стены было огорожено полицейскими лентами. Из знакомых Рикке увидела только инспектора Беринга и криминалиста Нансена.
– Сегодня утром на Вигерслев-авеню нашли длинный сверток, упакованный в черную пленку и перевязанный скотчем, – корреспондент артикулировал с преувеличенной старательностью и зачем-то таращил глаза, – В свертке оказался не очередной труп, как того можно было ожидать, а манекен, на животе которого нарисован известный символ «лучезарная дельта» – треугольник, внутри которого находится открытый глаз…
Камера крупным планом показала рисунок. Ничего общего с обычными творениями Татуировщика, да и вообще все это выглядит как дурная шутка.
– Зло порождает зло, это так, но иногда зло вызывает желание посмеяться над ним. Или над обществом?..
Журналисты обожают вставлять в свою речь или в свои статьи подобные заезженные штампы. «Зло порождает зло» – кто бы этого не знал?
– Мы не располагаем полной информацией, но нам удалось узнать, что видеокамера, находившаяся вон там, – в кадре на секунду появилась уличная камера слежения, – зафиксировала злоумышленников и номер их машины. Мы будем информировать вас…
Вот за это в полиции ненавидят журналистов. Взял и выдал на всю Данию – «зафиксировала злоумышленников и номер их машины». Ясное дело – хочется выдать в эфир побольше новостей, но надо же иногда думать о том, что ты выдаешь. Рикке приглушила звук телевизора и позвонила Оле.
– Приветствую! – несмотря на воскресное утро, голос у Оле был совсем не сонный. – Смотришь телек?
– А тебя, как я поняла, уже разбудили?
– Три часа назад. Позвонил Ханевольд и велел срочно ехать на Вигерслев. Я уже садился в машину, когда он позвонил снова и дал отбой. А я-то еще удивлялся, пока брился – что-то наш Татуировщик рановато напомнил о себе. Так удивлялся, что даже порезался два раза. Оказалось же, что это два идиота, которым не спится по ночам.
– По телевизору сказали, что камера зафиксировала номер машины…
– Я думаю, что ее владелец уже приятно проводит время в комнате для допросов.
«Приятно – это самое неподходящее слово», – подумала Рикке. Комнаты для допросов были единственным местом в управлении, нагоняющим на нее тоску. Рикке, как психологу, иногда приходилось присутствовать на настоящих допросах. Она обычно сидела на стуле в углу, под укрепленной на потолке камерой, слушала, записывала и буквально физически ощущала весь негатив, который успел впитаться в светло-зеленые стены. У посетителей этих комнат положительных эмоций, пожалуй, и не возникало, откуда? Рикке искренне удивилась, когда узнала, что двое сотрудников управления, женщина из отдела по борьбе с распространением наркотиков и мужчина из дежурной службы, были уличены в том, что поздно вечером использовали комнату для допросов не по прямому назначению, а для интима. Какой может быть интим в столь омерзительном месте?
– А кто они?
– Я знаю не больше твоего, Рикке, но раз уж объявили, что камера засекла номер автомобиля, то я могу сделать определенные выводы. В управлении сейчас свирепствует Малыш Угле, которого ни свет, ни заря, выдернули из теплой постели, да еще и, как оказалось, не по делу. Вместо трупа – манекен! Надо же такое придумать! Погоди, сейчас начнется целая эпидемия подобных шуточек…
– А, может, это сам Татуировщик вынудил кого-то «пошутить» подобным образом, – предположила Рикке. – Знаешь, в глубине души, на бессознательном уровне, каждый серийный убийца хочет быть пойманным…
– Только не Татуировщик! – перебил Оле. – И я очень сомневаюсь, что у него есть душа. У него только первобытные инстинкты! Если бы он хотел быть пойманным, то оставил бы нам капельку своей слюны, а лучше – окурок или отпечаток пальца. О визитной карточке я даже мечтать не смею…
– Это на бессознательном уровне, Оле! – напомнила Рикке. – Он может сам не осознавать этого, но, тем не менее, хотеть! Осознает он наоборот – считает себя умным, неуловимым и ведет игру с обществом и полицией. Что есть татуировки, как не часть этой игры? Он думает, что забавляется, но на самом деле…
– Пощади! – взмолился Оле. – Ваши психологические выкладки слишком умны для моей седой головы! Не осознает, но хочет – такого, на мой взгляд, быть не может!
– Может! – разозлилась Рикке. – Очень даже может!
– У меня такого не бывает!
– Не бывает так, что не хочется пить, а рука сама тянется к бутылке?
Удар был ниже пояса и Рикке это прекрасно понимала, но эмоции брали свое и побуждали к подобным действиям.
– У меня не бывает так, чтобы мне не хотелось выпить, – нисколько не обидевшись, признался Оле. – Я засыпаю с этой мыслью и с ней же просыпаюсь. А того, что мне не хочется, я ни за что делать не стану! Вот хоть убей!
– Держи меня в курсе новостей, – попросила Рикке. – Не телевизионных, конечно.
– Учись отдыхать по выходным, – посоветовал Оле. – Завтра придешь на работу и узнаешь все новости.
Рикке подумала о том, что «шутка» с манекеном может побудить Татуировщика к новому убийству. Срочному. Внеочередному. Чтобы показать всем, кто в замке король. Это логично, ведь если для обычных людей манекен, упакованный в черную пленку, всего лишь дурацкая выходка каких-то идиотов, то для Татуировщика это нечто вроде пощечины, удара по самолюбию. Смотри, чувак, мы не просто копируем твой стиль, мы его высмеиваем! Кому такое может понравиться? А у Татуировщика куча комплексов, иначе бы он не занимался подобными делами, и самоутверждение – его кредо.
Или он сам организовал эту затею? Навряд ли. Обращаться к посторонним за содействием Татуировщик никогда не станет, особенно, к таким кретинам, которые выкладывают «труп» на виду у камер. Нет, «шутники» сами по себе, а Татуировщик сам по себе.
В голове начала созревать идея. Чтобы думалось лучше, Рикке соорудила себе смёрребрёд высотой с Краун Плазу,[110] на который ушла добрая половина того, что имелось в холодильнике. Откусить от такого кулинарного шедевра, не вывихнув челюсть, было невозможно. Разве что крокодил справился бы с подобной задачей. Но кто сказал, что от смёрребрёда непременно следует откусывать. Можно же поступить проще – снимать вилкой или руками то, что находится сверху, и отправлять в рот. И так до тех пор, пока не дойдешь до тоста, намазанного маслом. Уж от него-то совсем нетрудно откусывать.
Рикке неторопливо ела, наблюдала за тем, что творилось на экране телевизора, чтобы не пропустить очередной выпуск новостей и думала. После того, как бутерброд был съеден, она просидела около получаса над пустой тарелкой, а потом посмотрела на часы и позвонила Нильсу.
Нильс уже успел смыться из дома, потому что фон в трубке был уличным – шум автомобилей, детские крики, обрывки чужих разговоров. Узнал о происшествии на Вигерслев, возбудился и вышел на охоту. Или просто развлекается?
– Как ты вовремя позвонила! – радость в голосе Нильса вполне могла оказаться фальшивой. – Я вышел прогуляться после завтрака и как раз сейчас подумал о том, что неплохо бы было, если бы кто-то из друзей составил мне компанию.
– А ты где?
– Примерно посередине между Новой королевской площадью и ратушей. Присоединишься?
– Я только что проснулась, – соврала Рикке. – Но выспалась славно, на два дня вперед и готова развлекаться не только вечером, но и ночью.
Это был пробный мяч, который Нильс немедленно отбил.
– К сожалению, на вечер у меня запланировано написание двух статей, – сказал он, искусно дозируя свое сожаление, так, чтобы оно едва-едва проступало в голосе. – Срочная работа, ничего не поделаешь.
Если у людей есть срочная работа, то как-то логичнее сделать ее, а потом уже гулять по городу.
И где гулять? Жители Копенгагена предпочитают гулять в парках, а не в набитом туристами центре города. Что, так вот сразу, с утра пораньше, приспичило взглянуть на ратушу или полюбоваться собором Богоматери?.. Вряд ли. А вот туристы, точнее – туристки, молодые большеглазые блондинки, представляют определенный интерес.
Туристки! Они ничего не знают о Татуировщике. Они расслаблено-доверчивы, потому что у Копенгаген пользуется репутацией одной из самых безопасных и спокойных европейских столиц. Они легко идут на контакт.
Нильс действительно возбудился и вышел на охоту! Ему нужно срочно кого-то убить, чтобы «исправить впечатление»! А Рикке он пригласил для маскировки. Или же он уже нашел ту, с которой будет сегодня забавляться и теперь просто гуляет? В любом случае, это неспроста.
Рикке снова позвонила Оле.
– Я так соскучился, – сказал Оле. – Мы не общались целую вечность…
– Оле! – одернула его Рикке. – Я звоню по очень важному делу! Первое – воздержись сегодня от спиртного. Второе – в три часа дня мы с тобой встретимся и я тебе все расскажу. Третье – непременно прихвати с собой пистолет, термос с кофе и бутерброды. Впрочем, о кофе и бутербродах я и сама могу позаботиться…
– У меня сегодня выходной, девочка, – напомнил Оле. – И моего босса пока что зовут Ханс Мортенсен, а не Рикке Хаардер. К сожалению…
– Сожалеть ты будешь завтра, если не сделаешь так, как я прошу! – пообещала Рикке. – Речь идет о Татуировщике! О настоящем Татуировщике, а не о тех засранцах, которые подложили на улицу манекен.
– А это действительно настоящий Татуировщик? – осторожно уточнил Оле. – Или очередной парнишка из богемных кругов?
– Я думаю, что настоящий! – в ярости Рикке сорвалась на свистящий шепот. – И если ты думаешь…
– Термос с кофе и бутерброды предвещают бессонную ночь, – сколь иронично, а, порой, и пренебрежительно, не отзывался бы Оле о психологии, он сам тоже был неплохим психологом, понимал, что стоит ему заговорить о деле, как Рикке тут же сменит гнев на милость. – Я должен за кем-то следить?
– Да! И, скорее всего, придется его арестовывать, – во всяком случае Рикке очень на это надеялась. – Ты должен быть вооружен, Оле.
– Что за день! – проворчал Оле. – Правильно говорила моя бабка – как день начнется, так он и закончится! Одна суета! А я-то так надеялся, что смогу провести выходной в компании старой Марты…
– Оле! У тебя появилась подружка?! Это здорово! – Рикке искренне обрадовалась за Оле. – Прости, что обломала вам свидание, но…
– Ничего, Марта подождет, – Оле не любил извинений и оправданий. – Где мы встречаемся?
– Знаешь азиатский ресторан «Ичибан» на углу Саллингвей и Годхобсвей? – Рикке намеренно выбрала заведение, которое находилось недалеко от дома Нильса, чтобы Оле не пришлось зря мотаться туда-сюда. – Там еще заправка напротив?
– Не помню, но найду, – пообещал Оле. – В три, говоришь?
– В три, – подтвердила Рикке. – И прихвати, пожалуйста, фотографию Марты. Мне очень любопытно.
– В тех кругах, где я преимущественно вращаюсь, «старой Мартой» принято называть литровую бутылку аквавита, – Оле сдавленно хихикнул, явно сдерживая более бурное проявление эмоций. – Учи родной язык, девочка.
Рикке от души послала Оле в задницу и на том разговор закончился, чтобы продолжиться в то ли китайском, то ли вьетнамском, то ли еще каком, но точно не японском заведении на углу Саллингвей и Годхобсвей. Японцы не уезжают искать счастья в далеких краях, потому что им и дома неплохо живется.
Оба, и Оле, и Рикке, позаботились о кофе и бутербродах. Оле не придется страдать от жажды и голода этой ночью. Да ему вообще не придется страдать, ведь следить за вероятным убийцей это так увлекательно! Рикке непременно напросилась бы в компанию к Оле, если бы не была знакома с Нильсом.
Сам Оле, если судить по кислому выражению его лица, ничего интересного и привлекательного в предстоящем бдении не находил. Флегматично выслушал Рикке, записал адрес Нильса, почесал в затылке и спросил:
– Ты действительно надеешься на то, что он и есть Татуировщик?
– Я не надеюсь, а подозреваю, – поправила Рикке. – Неужели множество косвенных подозрений не стоят одной прямой улики? И как мы с тобой будем жить дальше, если сейчас ты поедешь домой, а завтра утром найдут тело тринадцатой жертвы?
– То, что я проторчу около этого дома, еще не означает, что убийство не произойдет где-то в другом месте.
– Но мы же что-то делаем! – возразила Рикке. – Делаем то, что считаем нужным! Мне не нравится твой настрой, Оле. Ты же детектив!
– Вот поэтому я сейчас сижу здесь с тобой, а не дома со старой Мартой, – улыбнулся Оле. – Только уговор – не звони мне попусту. Я сам тебе позвоню, когда что-то прояснится…
Я сам тебе позвоню… Ожидание – это мука из мук. Чтобы хоть как-то отвлечься, Рикке начала наводить дома порядок. Аккуратно развесила в шкафу валявшиеся по углам вещи, подмела пол на кухне, расставила по полкам книги, которые после прочтения оставались лежать на полу возле кровати. Заодно и мысли упорядочились – Рикке еще раз обдумала историю с манекеном и решила, что это хороший повод навести Нильса на разговор о Татуировщике. Запасной вариант, на случай, если сегодня Оле напрасно продежурит возле его дома. О манекене Нильс сможет говорить свободно, ведь это его впрямую не касается и ничем ему не грозит. Значит – больше шансов «поймать» его на какой-нибудь характерной оговорке и добавить в свою ментальную копилку еще одно косвенное доказательство… косвенное, да. Эх, если бы Оле мог устроить обыск у Нильса, не спрашивая ни у кого разрешения. Где-то там, в доме, хранятся инструменты – удавка и машинка для тату. Точнее – должны храниться, ведь всегда есть вероятность ошибки.
Про вероятность ошибки Рикке вспоминала только для порядка. Она уже неделю как перестала регулярно наведываться в Вестербро, потому что успела познакомиться со всеми тамошними завсегдатаями, присмотрелась к каждому, но больше никого в подозреваемые не записала. Не было оснований. Хенрик в шутку утверждал, что Рикке так сильно «запала» на Нильса, что больше никого подозревать уже не в состоянии. Но Хенрик путал причину со следствием. Рикке ни на кого не «западала», просто больше никто не вызывал подозрений. Оставалось одно – раз в десять дней посещать галерею сладких снов и интересоваться выставленными там картинами. На всякий случай, вдруг что попадется.
На Хенрика Рикке не обижалась, потому что он подшучивал над ней по-доброму и совсем необидно. Кроме того, пытался помочь. Недавно познакомил Рикке с творчеством одного авангардиста, который рисовал во весь холст дом с квадратиками окон, а в каждом окне изображал нечто символически-абстрактное. Отдаленное сходство с рисунками Татуировщика найти было можно, но с большой натяжкой. К тому же, при более близком знакомстве с биографией художника выяснилось, что тот совсем недавно вернулся из Непала, где в течение семи месяцев «постигал истину». Хенрик утверждал, что постижение истины сводится к курению всего, что только попадется под руку. Не исключено, что он говорил правду.
Закончив наводить порядок, а точнее, устав от этого унылого в своей бесперспективности занятия (ведь завтра вещи и книги снова расползутся по привычным местам), Рикке отправилась в интернет за самыми свежими новостями.
Полиция задержала двух студентов Академии Бизнеса, один из которых был датчанином, а другой норвежцем. К своей выходке парни подготовились основательно, даже записали видеоролик с заявлением, который уже висел на Ютубе и набирал по сотне просмотров за минуту.
– Мы решились на эту акцию, потому что хотели привлечь внимание общественности к бездействию полиции, – бубнил один из студентов, судя по акценту – норвежец. – Сколько так может продолжаться? Маньяк убил уже тринадцать женщин. Мы понимали, какой резонанс вызовет наша акция, понимали, что общественность отнесется к ней неоднозначно, но, тем не менее, мы решили провести ее…
– Умницы! – похвалила парней Рикке.
Похвалила за дело, без всякой задней мысли и без малейшей тени ехидства. Если хочется безнаказанно похулиганить (эта выходка есть чистейшей воды хулиганство, а никакая не акция), то правильнее всего будет подать свое хулиганство как мужественный гражданский поступок. И вместо подзатыльника получишь лавровый венок. Рикке представила, как бесятся сейчас сотрудники управления полиции, ведь после подобного заявления этих засранцев нельзя даже оштрафовать за оставление мусора в непредназначенном для этого месте, не говоря уже о чем-то большем. Все скажут, что полиция сводит счеты с честными гражданами, вместо того, чтобы искать серийного убийства. Того и гляди у парней появятся последователи и скоро весь Копенгаген будет по ночам заваливаться длинными черными свертками. Что тогда станет делать настоящий Татуировщик?
Оле позвонил в половине одиннадцатого.
– Твой объект уже четвертый час сидит дома и долбит по клавиатуре, – доложил он. – Я прекрасно вижу его в незанавешенное окно.
– А что-то еще происходит? – спросила Рикке, которой с трудом верилось в то, что Нильс сказал правду и действительно пишет статьи.
– В доме напротив недолго скандалили два шведа. Я слышал сплошные «kukjävel»[111] и «ta dig i häcken».[112] Сейчас они уже спят, тихо и свет везде погашен…
– Да зачем мне какие-то шведы! Нильс ничего больше не делал?
– Один раз вставал и выходил из комнаты на пару минут, должно быть отлить. Дважды говорил по телефону. Недолго, минуту-две. Я подожду до тех пор, пока он не ляжет спать, а потом уеду.
– Только не уезжай сразу же после того, как он погасит свет, подожди немного…
– Ты еще пальцем в носу ковырять не научилась, а я уже работал в полиции, – сварливо напомнил Оле. – Я выжду как минимум полчаса.
– Не сердись, пожалуйста, – попросила Рикке.
– Все нормально, – настроение Оле менялось так же быстро, как погода в марте. – Я рассматриваю это как подготовку к новой работе. Чем преимущественно занимаются частные детективы? Такой вот слежкой за чужими мужьями и женами…
После разговора с Оле, Рикке так и подмывало позвонить Нильсу. В конце концов, она не сдержалась и позвонила, притворившись немного пьяной и страдающей от безделья.
– Рикке?! – удивился Нильс. – Какие-то проблемы?
Закономерный вопрос – на часах было уже одиннадцать, а без особого повода после девяти часов вечера звонить уже не принято. Даже друзьям и сексуальным партнерам.
– Мне просто скучно, – по-пьяному растягивая гласные, сказала Рикке и оживилась, как будто вспомнила. – Такой ужас! Двое придурков подбросили на Вигерслев-авеню манекен, упакованный точно так же, как упаковывает тела своих жертв маньяк, который делает татуировки.
– Видел в новостях, – ответил Нильс. – Действительно придурки. Представляю, что испытали родные жертв маньяка, когда узнали об этом.
– Что творится в головах у людей? – Рикке по тону Нильса почувствовала, что он сейчас закончит разговор, и попыталась помешать этому, но безуспешно.
– Что творится, то и творится, – сухо ответил Нильс. – Извини, Рикке, у меня много работы. Я позвоню тебе на неделе.
– Pis mig i øret![113] – выругалась Рикке, закончив разговор.
«Представляю, что испытали родные жертв маньяка, когда узнали об этом». Если Нильс Лёвквист-Мортен серийный убийца, то он заслуживает высшего балла за умение притворяться. А если он не убийца, то… А если он не убийца, то чьи-то умственные способности оставляют желать лучшего. Кто-то непременно должен остаться в дураках – либо охотник, либо жертва.
Без десяти три пришло сообщение от Оле. Всего два слова: «Поехал домой».
Double bummer.[114]
13
– Я нарочно сказал не «perker», а «svartskalle»,[115] но откуда я мог знать, что эта обезьяна понимает по-шведски?!
Крупный мужчина с поросшим щетиной лицом, прихрамывая на левую ногу, спешил по коридору управления полиции за невысоким надменного вида толстяком с черным портфелем в руках, у которого на лбу была написана принадлежность к адвокатскому сословию.
– Раздувать из-за одного слова такую проблему! Мир сошел с ума! Куда мы катимся?
Толстяк покачивал лысой головой в такт шагам. Могло показаться, что он соглашается с краснолицым, но, судя по тому, как он морщил нос, согласием тут и не пахло. Да и когда это адвокаты выступали против раздувания проблем? Чем больше проблема, тем выше гонорар.
– Очередной «народник»,[116] – негромко прокомментировал Оле. – Тупой, как все националисты. Я бы на его месте не стал бы произносить слово «обезьяна» в стенах управления.
– Делаю вывод – он явно не из Нёрребро, – «блеснула» логикой Рикки.
Это была такая утонченная забава – делать в присутствии Оле очевидные выводы и изображать, что гордишься своим логическианалитическизашибенным умом.
– Скажу тебе откровенно, Рикке – самые противные люди живут не в Нёрребро, а в фешенебельных кварталах. Сливки общества – самая тухлая его часть. Недаром Ханевольд никогда не берется руководить расследованием убийства какой-нибудь шишки, а оставляет эту честь Мортенсену. Так и заявляет – моего ума тут мало, а на самом деле ума у него на двоих, хитрости на четырех, а вредности на восьмерых.
– Расследуешь очередное убийство в высшем обществе? – сочувственно поинтересовалась Рикке. – Кто на этот раз? Почему я ничего не знаю?
Скоропостижная смерть кого-то из известных или влиятельных персон всегда привлекают внимание журналистов, будь то убийство или несчастный случай. Принцесса Диана погибла пятнадцать лет назад, но ее смерть обсуждают до сих пор, а убийство Джона Кеннеди вспоминают практически при любом покушении в любой части света, вне зависимости от того, удалось оно или нет.
– Пока никто, это старые раны дают о себе знать. Погоди-ка, Рикке.
Если на полпути к столовой инспектору Рийсу приспичило посекретничать в укромном уголке, значит дело того стоит. Оле не из тех, кто делает тайну из пустяков.
– Тебя очень интересует этот Лёвквист-Мортен, Рикке?
– Очень, – Рикке нервно сглотнула. – Ты даже не представляешь, как он меня интересует.
– Тогда вот что… – Оле быстро, но без суеты, огляделся по сторонам. – Я бы мог осторожно осмотреть его дом. В его отсутствие, разумеется. И если я найду какой-нибудь атрибут… Ну, ты меня понимаешь, Рикке. Это уже будут настоящие улики. Я оставлю их там, где они лежали, и отправлюсь брать за жабры Мортенсена. У старины Ханса есть одно удобное качество – он не интересуется предпосылками, когда речь идет о стоящем результате.
– Но это же незаконно, Оле! И потом дома у Нильса явно установлена сигнализация! Ты не успеешь продвинуться дальше коридора, как тебя схватят!
– Ты думаешь, что такой старый лис, как я, не подумал о сигнализации? – усмехнулся Оле. – Плохого же ты обо мне мнения. Судя по наклейке на входной двери, его дом обслуживают парни из «Вард», а у меня там много знакомых. Мне достаточно просто попросить и они отключат на два-три часа систему в нужном доме…
– Так вот просто – попросил и отключили? – не поверила Рикке.
– Да, – как не в чем ни бывало, подтвердил Оле. – Это обычная практика – ты идешь навстречу мне, а я тебе. Мой наставник Ян Эрстед вдолбил в мою тупую башку одно правило – чем больше людей ходит у тебя в должниках, тем ты круче. Так и есть, чем больше людей чувствует себя обязанными мне, тем легче мне работается. И дело здесь не в том, что люди помнят добро. Добро и зло это вообще такие сложные и расплывчатые категории… Дело в другом, в том, что человек понимает – если я однажды оказался полезным, то могу оказаться полезным и в следующий раз. Стало быть, если я о чем-то прошу, то надо пойти мне навстречу…
– Это принцип мафии, Оле – обязать всех вокруг и использовать в своих целях! – поддела Рикке. – Твой наставник был мафиози?
– Он был лучшим полицейским из всех, кого я знал, – убежденно ответил Оле. – А насчет мафии ты неправа. Еще в Библии сказано – твори добро, и тебе воздастся.
– Но добро – это ведь такая сложная категория! – продолжала ехидничать Рикке.
– Тебя интересует Лёвквист-Мортен? – повторил Оле.
– Да, черт побери, интересует! – Рикке слегка повысила голос и Оле тут же предостерегающе сдвинул брови. – Но я не хочу вынуждать тебя…
Оле скорчил гримасу, давая понять, что все это такие пустяки, о которых совершенно не стоит беспокоиться.
– Я ж сам предложил тебе, – сказал он. – Мы иногда вынуждены прибегать к подобным методам, потому что проклятые законники с каждым годом все больше и больше связывают нам руки. Такова жизнь. Будем считать, что мы договорились, верно?
Рикке кивнула.
– Тогда вытаскивай его из дома часа на три, как минимум, чтобы я мог спокойно поработать.
Рикке снова кивнула.
– Он ничего не заметит, – улыбнулся Оле. – У него даже пыль останется лежать там, где лежала. И желательно, чтобы это случилось вечером буднего дня, а не в уикенд.
– Почему?
Рикке как раз казалось, что в уикенд проще надолго вытащить Нильса из дома.
– По выходным люди отдыхают, у них много свободного времени для того, чтобы понаблюдать за тем, что творится у соседей. По вечерам в будние дни все иначе. Ужин – сериал – кровать. Только предупреди меня хотя бы за три часа, чтобы я успел договориться насчет отключения сигнализации.
Увести Нильса из дома на три часа было несложно. Можно побродить с ним по галерее сладких снов, а потом посидеть в баре, можно пригласить его на прогулку в Кальвебод-Фэллед,[117] где можно гулять и до бесконечности любоваться морем… Но Нильс импульсивен и склонен на ходу менять решения. И в баре, и в парке он может возбудиться настолько, что предложит немедленно отправиться к нему домой. И что тогда? Не надо забывать, что подобные типы обладают звериной интуицией. Нильс легко может догадаться о том, что Рикке намеренно тянет время и… И лучше бы это случилось в баре, а не на пустынном морском берегу.
Нет, надо утащить Нильса подальше от дома, чтобы в случае чего у Оле было бы немного времени…
Утащить так, чтобы это не вызвало никаких подозрений…
Утащить туда, откуда внезапно уйти не получится…
Вариант с приглашением к себе домой и бурным сексом, переходящим в оргию, Рикке отвергла окончательно и бесповоротно. Это Хенрика можно приглашать домой безбоязненно, а вероятным серийным убийцам у нее дома делать нечего.
Рикке обратилась за помощью к поисковикам. Полчаса лихорадочных перескоков с сайта на сайт убедили ее в том, что нет ничего лучше выставки современного дизайна в Тострупе.[118] Во-первых, она проходит до пятницы, то есть – поездка в выходные отпадает, во-вторых, Нильс обожает потрепаться на тему искусства и дизайна в том числе, в-третьих, изображая восхищение, Рикке может задержаться на выставке до самого закрытия… Решено – надо ехать в Тоструп!
– А почему не в Эсбьерг?[119] – поинтересовался Нильс, в ответ на предложение «интересно провести время». – А можно махнуть в Гамбург…
– Потому что моя подруга Миа очень хвалила выставку в Тострупе, – пояснила Рикке.
Переложив телефон из правой руки в левую, она записала в блокноте «Миа – подруга – дизайн в Т.». Если уж придумываешь себе подруг, то путаться в них нельзя. Особенно в разговоре с Нильсом.
– Там интересно! Давай съездим прямо завтра! Я заберу тебя из дома после работы и привезу обратно…
Забрать Нильса из дома около половины шестого и привезти обратно не раньше девяти, а то и в половину десятого – это то, что надо. Оле хватит времени.
– Нет уж, я предпочитаю ездить далеко на своем автомобиле, – заявил Нильс.
Предпочитаешь – так предпочитай. Рикке немного расстроилась, что Оле не сможет познакомиться поближе с «туарегом» Нильса. Но вряд ли Нильс возит с собой что-то такое, что может его скомпрометировать. Главное, что он согласился.
Договорились на четверг. Нильс хотел забрать Рикке с работы, но это было невозможно, потому что она до сих пор не говорила ему о том, что работает в управлении полиции. Поэтому Рикке усомнилась (и совершенно резонно) в целесообразности делания крюка по центру Копенгагена в час пик и предложила Нильсу встретить ее в пять часов вечера возле станции метро Флинтхольм. Нильс согласился.
С Оле Рикке договорилась о том, что сев в машину Нильса отправит ему сообщение с одним восклицательным знаком (Нильс даже если и заметит краем глаза, то ничего не поймет), а если Нильс соберется вернуться домой раньше девяти, Рикке пришлет сигнал тревоги – три восклицательных знака. Если заранее забить сообщения в папку с черновиками, то их можно отправлять, не вынимая телефона из сумки. Оле, закончив обыск, напишет Рикке «Спокойной ночи», если ничего не найдет или «позвоню позже», если ему будет о чем рассказать. Только перезванивать станет не он, а Рикке.
На тот случай, если выставка по каким-то причинам окажется закрытой, Рикке приготовила запасной вариант – предложение поужинать в каком-нибудь тихом ресторанчике Тострупа. Жажда новых впечатлений, утомленность столичной суетой и все такое.
На взгляд Рикке выставка была никакой, то есть бестолковой. Современный дизайн – слишком широкая тема, чтобы представлять ее на двухстах квадратных метрах, не выделяя никаких направлений. Макеты домов с лужайками, настенные светильники, предметы декора, посуда… Какая-то пицца – всего понемногу, отовсюду по кусочку.
Но, зато, эта выставка как нельзя лучше подходила для долгого обсуждения, а стайка девиц, слушавшая Нильса чуть ли не с благоговением, побуждала его к длинным, пространным сентенциям с частым употреблением французских выражений вроде «Ça a ni queue ni tête».[120] Рикке требовалось немного – слушать, время от времени подогревать красноречие очередным вопросом, да поглядывать на часы.
Долгие речи возбуждают аппетит не хуже долгих прогулок, поэтому зайти куда-нибудь поужинать предложил Нильс, да еще добавил, что ужинать он намерен в Тострупе.
– Если потратился на бензин, то надо сэкономить на еде, – хохотнул он, намекая на относительную дешевизну местных заведений в сравнении со столичными.
Как и положено истинным скандинавам, Нильс экономил на всем, на чем только можно было сэкономить. Но при этом он ездил на чрезвычайно прожорливой машине. Зачем искусствоведу, живущему в Копенгагене, и большую часть времени разъезжающему на такси или на транспорте, огромный мощный внедорожник? Мальчик не наигрался с машинками в детстве? Или компенсирует таким образом чувство собственной неполноценности? Или же дело в том, что в багажнике «туарега» без проблем помещаются люди или трупы? Странный вы датчанин, господин Лёвквист-Мортен.
Рикке тоже была датчанкой. Чистокровной или не очень – неизвестно, потому что, не зная отца и его корней, утверждать подобное невозможно. Но судя по ее внешности, отец все же был потомком викингов, а не янычар. Мать Рикке приехала в Копенгаген из Еллинга,[121] этой легендарной колыбели датчан. Рикке была датчанкой до мозга костей, но не сильно жаловала своих соотечественников. Ей больше импонировали итальянцы, испанцы, латиноамериканцы – живые, раскрепощенные, естественные в проявлениях эмоций. Эмоции – одна из главных составляющих нашего «я». Нельзя постоянно их обуздывать, это чревато проблемами. Не обуздывать тоже нельзя, но не стоит впадать из одной крайности в другую, ибо все хорошо в меру.
Напротив галереи находилось заведение, обещавшее своим клиентам лучшие гамбугеры в Дании. Нильс не преминул сыронизировать насчет того, что великая культура смёрребрёдов, национальное, можно сказать, достояние, катится в пропасть, но, тем не менее, потащил Рикке пробовать гамбургеры.
Гамбургеры оказались если не самыми лучшими, то, во всяком случае, самыми крупными в Дании, потому что их края выступали за пределы немаленьких тарелок. Запивали их пивом. Нильс дисциплинированно заказал себе безалкогольное, проворчав, что его доблестные предки вели свои корабли в Северную Америку будучи сильно навеселе и ничего, доплывали, куда нужно. Рикке сказала, что тогда движение в Атлантическом океане было не таким интенсивным, как сейчас на дорогах, но Нильс возразил, что все дело не в движении, а в свободе.
– Свобода – это краеугольный камень нашего бытия, – завелся он. – И в то же время она – одна из величайших наших иллюзий…
Часы показывали без четверти девять. Оле еще не прислал сообщение, поэтому Рикке не оставалось ничего другого, как медленно есть и слушать своего собеседника. Нильс промочил горло и красноречие вернулось к нему.
Терпение Рикке было вознаграждено – от свободы вообще, Нильс перешел к свободе в сексе и разговор принял настолько интересный оборот, что Рикке даже не обратила внимания на то, как ровно в девять пискнул ее телефон, оповещая о новом сообщении.
– В постели свобода часто бывает лишней, она только мешает получать удовольствие. Только полностью подчинившись своему партнеру, можно наслаждаться тем, что он дает тебе, тем, что он с тобой делает…
«Тем, что он с тобой делает» звучит расплывчато. Мало ли что он захочет с тобой сделать. Рикке на секунду представила, как Нильс лежит связанный по рукам и ногам, а она засовывает ему в задний проход бутылку из-под вина. Сможет ли Нильс этим наслаждаться?
– Я вижу, что ты не понимаешь меня, – Нильс оборвал себя на полуслове и едва заметно улыбнулся. – Словами не все можно объяснить. Даже что такое кетчуп невозможно понять, пока не попробуешь. Тебя когда-нибудь связывали в постели?
Рот у Рикке был набит, поэтому она ограничилась тем, что отрицательно покачала головой. Слукавила, потому что не имела ничего против связывания, как элемента сексуальной игры, но хотелось послушать, что дальше скажет Нильс. И как он это скажет.
– Несвобода так обостряет чувственность! – Нильс закатил глаза. – У всех обостряет – и у того, кого связали, и у его партнера. Один упивается своей властью, другой – своей беспомощностью и это настолько восхитительно, что тебе стоит попробовать!
«Прямо вот сейчас!», подумала Рикке и спросила:
– Тебя часто связывают?
Нильс оскалил зубы и подмигнул ей, давая понять, что оценил ее шутку по достоинству.
– Я отношусь к тем, кто получает удовольствие от власти над партнером, – ответил он после недолгой паузы. – Это не означает, что я считаю себя лучше или выше других, просто я так устроен…
Если кто-то говорит, что «это не означает, что я считаю себя лучше или выше других», то именно так он и считает. В смысле, что он лучше и выше. Азы психологии. Мы есть то, от чего мы так рьяно открещиваемся, что так усердно отрицаем. Именно так и никак иначе.
– Природа позаботилась разбить людей на пары, – продолжал Нильс. – Вот тебе, насколько я заметил, нравится подчиняться…
Он говорил по обыкновению долго и пространно. До тех пор, пока не был прерван официантом, который подошел для того, чтобы уточнить – все ли в порядке с гамбургером Нильса.
– Все о-кей, – успокоил его Нильс. – Я просто жду, когда он остынет.
– Возможно, что ты прав, – ответила Рикке, когда официант отошел, – только мне не хочется, чтобы меня связывали. Меня никогда не привлекала эта идея.
На самом деле ее не привлекала идея быть связанной Татуировщиком. Вот уж радость, так радость!
– Почему? – заинтересовался Нильс. – Мы же не можем понять до тех пор, пока не попробуем.
На свой гамбургер он по прежнему не обращал внимания, только пиво прихлебывал по глоточку.
– Можем, – возразила Рикке. – Вынужденное положение тела – это неприятно. Веревки причиняют боль…
– Боль бывает разной и связать можно по разному или использовать специальные силиконовые наручники. У тебя немного… ограниченные понятия, Рикке. Если захочешь, я мог бы помочь тебе расширить кругозор.
Интересно, до каких пределов может дойти это самое расширение?
– Спасибо, но не стоит беспокоиться, – вежливо отказалась Рикке. – Я скорее склонна получать удовольствие от осознанного подчинения, а не от вынужденного. Если хочешь, мы можем поиграть в господина и рабыню, только без веревок и наручников. Мое кредо – дисциплина, а не бондаж…
Пока еще рано прекращать общение, тем более что ей нечего боятся – ее видели с Нильсом и в Копенгаене, и в Троступе, да и черный «туарег» – довольно приметная машина. К тому же Нильс так восхитительно груб, что ей будет его не хватать, когда… Почему до сих пор молчит Оле?
Рикке полезла за телефоном. «Спокойной ночи», написал Оле. Он ничего не нашел. Значит, она ошибалась в отношении Нильса… Ошиблась? О, стоит только послушать, как он разглагольствует о связывании и наслаждении для того, чтобы подозрения усилились. Уверенности нет, потому что главные улики не найдены. Но психологически этот одинокий мужчина со своими пристрастиями и своей манерой рисования, очень хорошо вписывается в образ Татуировщика. Можно предположить, что он устроил у себя дома очень искусный тайник, который Оле не смог найти.
Для того чтобы обвинить, нужны неопровержимые улики, абсолютная уверенность в виновности. Для того чтобы перестать подозревать нужна абсолютная уверенность в невиновности. Пока сомневаешься – продолжаешь подозревать.
«Объективна ли я?», подумала Рикке, слушая рассуждения Нильса о японском искусстве сибари.
– Женская грудь привлекает меня сама по себе, но если ее художественно обвязать веревками, то она превращается в нечто такое… – Нильс закатил глаза. – Это уже не объект вожделения, а нечто гораздо большее – шедевр, эталон! Грудь в веревочном обрамлении японцы поэтично называют «жемчужиной»…
Ой, как интересно! Татуировщик, если уж обвязывал кого из жертв, то непременно обрамлял грудь. А как японцы назвали труп с татуировкой на животе? Тоже, как-нибудь поэтично? Рикке попыталась придумать подходящее название в японском стиле, но ничего подходящего ей в голову так и не пришло. Но обсуждаемая тема, близость Нильса, его сочные губы, его сильные руки и весь исходящий от него животный магнетизм, сделали свое дело. С каждой минутой Рикке все больше и больше хотелось секса. Судя по плотоядному взгляду Нильса он тоже постепенно распалялся. Когда же он протянул через стол руку и погладил Рикке по щеке, она указала взглядом на его нетронутый гамбургер и сказала:
– Ешь быстрей!
– Да, в самом деле! – спохватился Нильс и в два счета умял все подчистую, даже капли кетчупа с тарелки собрал кусочком булки.
От предложенного официантом кофе, Нильс отказался, даже не спросив мнения Рикке.
– Гамбургер и хороший кофе несовместимы, – сказал он, будто извиняясь. – Кофе можно будет выпить у меня дома. И вообще – у какого-то народа на Ближнем Востоке, не помню только у какого, не принято пить кофе там же, где и ужинали.
– Только никакого связывания! – предупредила Рикке.
– Как хочешь, – ответил Нильс. – Но ты дашь мне возможность, почувствовать себя властелином, не прибегая к наручникам?
– Как будет угодно господину, – Рикке сложила ладони перед собой и, не вставая, изобразила нечто вроде поклона.
Это как игра со зверем, которого считаешь прирученным. Неизвестно, чем закончится, но играть приятно и ты надеешься на лучшее. Люди всегда надеются на лучшее.
На улице два подростка сосредоточенно выводили на стене дома мелками слово, в котором по трем первым буквам угадывалось «fisse».[122] Буквы были огромными, парни старались.
– Эй! – крикнул им Нильс, открыв дверь «туарега». – Попробуйте краску в баллончике – это быстрее и не смывается.
Подростки испугались и убежали куда-то за угол.
– Не люблю недоконченных слов, – прокомментировал Нильс, сев в машину. – Вообще не люблю ничего недоконченного. Прямо хоть вылезай и дописывай то, что они не дописали.
– Ты станешь легендой этого городка, – поддела Рикке. – Взрослый мужик, пишущий похабности мелом на стене – это круто! И непременно нарисуй рядом влагалище, ты же художник!
– Не соблазняй, – Нильс тронул машину с места. – А то я им весь квартал изрисую. Послушай, Рикке, у меня к тебе профессиональный вопрос. Можно?
– Можно, – разрешила Рикке, моментально напрягшись.
– Есть такой старый фильм: «Никогда не разговаривай с незнакомцами».[123] «Основной инстинкт»[124] помнят все, а эту картину – только единицы.
– В «Незнакомцах» нет ни одной звезды, разве что кроме Бандераса, но он тогда был не на пике славы, видимо поэтому их и не помнят. Но я ее помню.
– Возможно, – согласился Нильс. – Несправедливо, конечно. Но оставим в стороне звезд… Сюжет напомнить?
– Не надо, я пока что не жалуюсь на память.
– И что – так может быть на самом деле? Чтобы человек убил свою мать и не помнил об этом? Чтобы он преследовал себя сам и не понимал этого? Нет ли здесь художественного преувеличения? А может быть весь сюжет – выдумка сценариста, не слишком хорошо разбиравшегося в психологии?
– В кинобизнесе в психологии разбираются только продюсеры, – пошутила Рикке. – А если говорить серьезно, то такое вполне возможно. Могу ли я узнать, почему ты вдруг вспомнил про старые фильмы?
– Так, – Нильс пожал плечами. – Пересматривал недавно, вот и решил спросить.
В мысленном блокноте Рикке появился очередной знак вопроса. Почему решил спросить? Интересует тема или же от кого-то узнал, что Рикке работает в полиции и так вот издалека заводит разговор? А от кого мог узнать? Ведь кроме Хенрика в этих кругах никто не в курсе насчет места работы Рикке, а Хенрик не из болтливых, к тому же он понимает, почему Рикке вынуждена скрывать свою причастность к полицейскому управлению. Милый Хенрик. Хенрик и Рикке, Хенрик и Рикке, Хенрикке, Хенрикке, Хенрикке…
С фильмов Нильс вернулся к главной теме.
– Мне больше наслаждения приносит не столько покорность партнерши, сколько ее готовность выполнить любое мое желание. Эту готовность я должен видеть в глазах, чувствовать спинным мозгом, улавливать интуитивно. Не надо слов, достаточно взгляда. Глаза скажут все тому, кто понимает их безмолвный язык…
«Бинго!», чуть не вырвалось у Рикке. Вот что тебе надо – настоящая покорность, которую выражают взглядом. Связать, запугать, истязать, сломать волю, чтобы привести к полной покорности? Как это похоже на Татуировщика. Если подходить к делу серьезно, то подобные слова можно расценивать как улику, жаль, только, что Нильс говорит об этом наедине, с глазу на глаз.
Продолжая слушать Нильса, Рикке достала из сумки телефон и позвонила Оле.
– Привет Лисси! Я сегодня задержусь в гостях у Нильса! Ну ты помнишь, я о нем рассказывала!
– Не забывайте о презервативах! – тоненьким голоском пропищал Оле. – Я буду скучать без тебя!
– Ложись спать, не дожидаясь меня, только не закрывай дверь на засов, как в прошлый раз… Пока.
– Лисси поругалась со своим бойфрендом и теперь временно живет у меня, – пояснила она Нильсу. – Я стараюсь окружить ее заботой. Ей так тяжело.
– А она не хотела бы присоединиться к нам? – поинтересовался Нильс. – Втроем веселее.
– Мы с ней не настолько близки, – фыркнула Рикке, – потом она толстая и сильно потеет.
Настоящая Лисси была тонкой, как церковная свеча и кажется, никогда не потела.
– Скажи просто, что ты не хочешь делить меня ни с кем, – самодовольно ухмыльнулся Нильс.
«Немного терпения, – напомнила себе Рикке, которой Нильс сейчас напомнил Йоргенсена. – Немного терпения, Рикке, тем более, что в постели он чертовски хорош».
Теорию вывести нетрудно, было бы желание. Рикке, не получая никакого вознаграждения и не рассчитывая на него, ищет серийного убийцу. Если проведение послало ей нечто вроде компенсации в виде секса с основным подозреваемым, то что тут такого? Тем более что секс помогает сближению, а близость дает возможность заглянуть внутрь человека. Надо только соблюдать осторожность (а разве она не соблюдает) и понимать, что это всего лишь преходящее развлечение, которому очень скоро придет конец. Уважающая себя женщина не может изменять человеку, с которым ее связывают настоящие искренние чувства. Любовь отрицает измену, а измена отрицает любовь. После секса с Хенриком Рикке любила себя, после секса с Нильсом ей было неловко. Очень приятно, но неловко, стыдно перед Хенриком. А сегодня, кажется, будет стыдно еще больше. Но иногда так и подмывает наесться сладкого, острого, пряного… Рикке не просто так связалась с Нильсом, у нее есть цель. А Хенрику она потом все расскажет. Сама. Все, как было и почему оно было. Хенрик все поймет правильно, в этом сомневаться не стоит. Хенрик, милый Хенрик… Сердце Рикке принадлежит ему безраздельно. Если Нильс завтра исчезнет из жизни Рикке, то она переживет это спокойно. Про то, что провидение может отнять у нее Хенрика даже думать не хочется.
Рикке боялась. Несмотря на то, что подбадривала себя и приняла кое-какие меры предосторожности в виде звонка «подруге». Когда Нильс на правах господина, приказал Рикке раздеться, она дрожала не только от вожделения. Страх обострял чувственность и чувства, поэтому Рикке кричала громче обычного и испытывала более острое наслаждение. Она ждала чего-то особенного и внутренне готовилась к сопротивлению, но Нильс удовольствовался отдачей приказов, которые полностью совпадали с намерениями Рикке. Грубый тон его голоса полностью гармонировал с грубыми ласками. Все было очень гармонично, оба остались довольны.
Они закончили примерно в половине третьего ночи, но Нильс не оставил Рикке у себя до утра, сказав, что намерен выспаться как следует и не хочет, чтобы ему мешали. Тоже, в общем-то, гармонично – рабыня ублажила господина и должна убираться с глаз долой, поскольку в ее услугах больше не нуждаются.
А вот то, что Нильс не стал вызывать Рикке такси, а вывел машину из гаража и отвез ее домой, могло показаться немного странным, но к этому моменту секс уже закончился, а в остальное время Нильс был очень галантным мужчиной. И разница эта была настолько велика, что могло создаться впечатление, что в теле Нильса живут два разных человека.
И еще он ни с того, ни с сего завел разговор о фильме, герои которого страдали феноменом множественной личности.[125] С чего бы это?
Кто ты, Нильс Лёвквист-Мортен? Или тебе больше подходит фамилия Джекил-Хайд?[126] Эй, доктор Джекил, вы справляетесь с мистером Хайдом или он подчинил вас? Он так любит подчинять…
14
– Когда меня спрашивают, почему я не спешу жениться, я отвечаю вопросом на вопрос – а зачем мне лишняя заноза в заднице?
– Как поэтично! – Рикке закатила глаза в притворном восхищении. – Оле – ты классический пример того, как люди своими руками портят себе жизнь. Почему вдруг «заноза в заднице», а не «близкий любящий человек»?
– Потому что сначала ты думаешь, что обрел близкого любящего человека, а потом вдруг понимаешь, что это всего лишь заноза в заднице, которая засела так глубоко, что не вытащить!
– Откуда ты знаешь? – недоверчиво прищурилась Рикке. – Ты же никогда не был женат?
– У меня куча женатых приятелей и по работе я почти каждый день любуюсь на то, что называется «семейной жизнью». Нет, я лучше останусь холостяком… И, если мне не изменяет память, мы говорили о твоем Лёвквист-Мортене. Единственное, что мне не удалось, так это порыться в его компьютере. Подобрать пароль с наскоку не получилось, а хакер из меня никудышный. Я попробовал дату рождения в различных комбинациях, имя, фамилию, слова «Дания» и «Копенгаген»… Все без толку.
– А дом точно чист, Оле?
– Чист, как темечко Ханевольда. Жаль, конечно, что не удалось сунуть нос в машину…
– Но я все равно продолжаю его подозревать! – перебила Рикке, ибо Оле уже третий раз высказывал сожаление о том, что Нильс умотал из дому на машине. – Как психолог.
– Ну, вам только дай волю! – ухмыльнулся Оле.
– Не надо так говорить! – огрызнулась Рикке.
– Но он чист! От него ничем не пахнет.
– Non bene olet, qui bene semper olet.[127] Перевод нужен?
– Не нужен, – отмахнулся Оле и ушел к себе.
Провидение явно издевалось над Рикке и ее неуклюжей игрой в детектива. Оле не нашел никаких улик дома у Нильса, зато Нильс наговорил много интересного. Справа – минус, слева – плюс, а что в итоге? А в итоге ничего.
Минус и плюс, вода и огонь, жизнь и смерть, Эрос и Танатос. Кругом одни противоположности и противоречия. Но Эрос и Танатос – самая главная противоположность, та, что определяет все остальное. Сексуальные влечения и деструкция. Два первичных, изначальных, предопределенных, если можно так выразиться, инстинкта, свойственных любому человеку. Смерть – это тоже ведь своего рода инстинкт…
Блокнот покрывался узором из отдельных, несвязанных друг с другом рисунков. Когда Рикке думала, она рисовала машинально, без всякой цели, без связи. Правило было одно – переходить к следующему листу только тогда, когда на этом уже не останется места. Такой подход был отражением главного принципа мыслительного процесса – переходить к следующей идее или мысли только после того, как нынешняя будет всесторонне обдумана.
Но сейчас думалось плохо, а вот рисовалось активно. Рикке с удивлением обнаружила, что изображает знаки Татуировщика, перемежая их своими обычными рожицами. Надо же. Если кто-то увидит, то может заподозрить, что Рикке и есть Татуировщик. Почему бы не заподозрить, ведь сама она именно так и ищет – по рисункам.
Ищет по рисункам, а находит… Да ничего толком она не находит! Это так, развлечение, игра в приключение, чтобы на старости лет было что рассказать внукам. «А знаете ли вы, сорванцы, что когда-то ваша бабушка ловила настоящего убийцу?» «О, как круто! Рикке, ты супер! Расскажи!» И придется придумывать к бодрому началу счастливый конец, чтобы все было по правилам. А кое-кто будет ухмыляться в седые усы (седые усы невероятно идут пожилым джентльменам!) и намекать на то, что единственным, кого удалось поймать бабушке, да и то случайно, был он.
А ведь знаки – это все-таки творчество.
А творческая личность, кем бы она ни была, всегда тянется к себе подобным. Среди нетворческих личностей ей скучно.
Следовательно, Рикке права и двигается в правильном направлении. Но не ошиблась ли она в самом начале, когда сделала вывод о том, что Татуировщик должен быть лузером? А что, если он не лузер, а, напротив, признанный, известный художник, у которого в голове хаос? Он может дополнять свое официальное творчество татуировками на теле жертв или выражать нечто запретное, то, чего открыто не может выразить… Причин для анонимного самовыражения много и было бы неправильно сводить все предпосылки к комплексам хронического лузера. Это неправильно и непрофессионально и хорошо, что Рикке поняла свою ошибку не слишком поздно.
Не слишком поздно? Со дня последнего убийства прошло почти два месяца. Завтра, послезавтра, или через неделю (Татуировщик не слишком педантично относится к промежуткам между убийствами) можно ждать нового «сюрприза». Но лучше уж осознать свою ошибку сейчас, чем не осознать ее никогда!
Лузеры остаются в поле зрения. Рикке будет регулярно наведываться в «Сёддрём галлери» и бары в Вестербро, вдруг там «всплывет» новый кандидат в Татуировщики, но кроме этого она ознакомится с творчеством известных художников. При содействии Хенрика это будет несложно сделать. Возможно, он даже подскажет, с кого ей стоит начать.
Рикке вырвала из блокнота лист с копиями рисунков Татуировщика, порвала его и выбросила обрывки в мусорную корзину. Хотелось позвонить Хенрику и обсудить с ним новое направление поисков, но Рикке переборола себя – лучше сделать это вечером. Только она отложила телефон, как он завибрировал и на ожившем экране появилась фотография Хенрика.
– Я срочно уезжаю в Гетеборг на ужин, который нельзя пропустить. Заночую там и вернусь завтра ближе к вечеру. Надеюсь, что ты не станешь скучать без меня, Рикке.
– Если мне будет скучно, я тебе позвоню, – пообещала Рикке.
Это так грустно, когда Хенрика нет в Копенгагене. Даже если не планировали встречаться сегодня, то все равно грустно. Даже если Хенрик уезжает в Гетеборг, до которого рукой подать – три часа езды на автомобиле, то все равно грустно. Но, если он не зовет Рикке с собой, значит так надо.
– Звони, но не уверен, что буду на связи.
Как жаль, что деловые люди во время переговоров выключают телефоны! Все понятно – звонки отвлекают, но все равно жаль! Захочется перекинуться словечком, а Хенрик недоступен.
– Я решила не ограничивать свои поиски неудачниками. Теперь меня интересуют и состоявшиеся художники. С кого из них и с какой галереи ты бы посоветовал мне начать?
– С кого?.. – призадумался Хенрик. – Да вроде бы никто из известных мне художников современности не напоминает по манере пиктограммы твоего монстра. Впрочем, я не оценивал их творчество с этой точки зрения, поэтому точно утверждать не возьмусь. А начинать тебе лучше всего с тех фотографий, которые есть в моем амбаре. У меня скопилось очень много материала по современным художникам. Насколько я понимаю, тебя интересуют только жители Копенгагена и его окрестностей. Надо будет сделать тебе подборку, чтобы было чем скрасить длинные зимние вечера.
– Здорово! – обрадовалась Рикке. – Сделай и я тебе буду очень признательна, хотя дальше и так некуда! А я при следующей встрече оставлю тебе флешку.
– Накопитель емкостью в полтора терабайта будет уместнее, – Рикке представила, как Хенрик сейчас улыбается. – Фотографий много и, к тому же, каждая из них много весит. Картины принято фотографировать с большим разрешением. Только на это мне понадобится время. Дней через пять тебя устроит?
– Да, конечно, Хенрик, тебе не надо откладывать для этого какие-нибудь важные дела, – затараторила в трубку Рикке. – Сделаешь на досуге, когда будет время и желание.
– Желание уже есть, – ответил Хенрик. – Надо только вспомнить тех, кто живет в Копенгагене и порыться в моем амбаре. У меня папки лежат не по фамилиям, а по направлениям, что немного усложняет поиски, но это не так страшно. Заодно и систематизирую все, что набралось.
– Я могу тебе помочь! – предложила Рикке, хотя не очень-то понимала, в чем конкретно может выражаться ее помощь.
– Спасибо, не надо, – отказался Хенрик. – Невозможно заниматься такими нудными делами, как инвентаризация и систематизация, когда ты рядом. Мысли сразу же идут совсем в другом направлении…
– Это хорошо или плохо? – ехидно поинтересовалась Рикке.
– Это так хорошо, что лучше и быть не может, – убежденно ответил Хенрик. – До встречи, милая.
– До встречи, милый, – проворковала Рикке, удивляясь тому, сколько оттенков и значений может иметь слово «милая».
Вот сейчас оно было сказано «деловито». Сразу чувствуется, что Хенрику некогда. Но все равно приятно. «Что ты будешь заказывать, милая?» – совсем другое впечатление. «Осторожно, милая, тут ступеньки» – это так заботливо и ласково. Но ласковее всего, это когда после секса тебя обнимают, прижимают к себе и шепчут на ухо: «милая, мила Рикке». Как Рикке удается не растаять в такие моменты – непонятно.
Хенрик и Рикке, Хенрик и Рикке, Хенрикке, Хенрикке, Хенрикке…
«Впоследствии, когда все закончится, надо будет приложить кое-какие усилия для того, чтобы тень Татуировщика не находилась всю жизнь рядом с нами, – подумала Рикке. – Но ничего – мы справимся. Переживем – и отпустим».
Не забывать – отпускать. Как библейский хлеб по водам. С легким сердцем. И, чтобы, в отличие от хлеба, отпущенное не возвращалось. Плохое отпускать, а хорошее привязывать крепко-накрепко.
Рикке откинулась на спинку стула, закрыла глаза и погрузилась в воспоминания. Воспоминания были свежайшими, еще остыть не успели. Это были даже и не воспоминания, а ощущения, неимоверно приятное чувство довольства, наполненности и тепла, которое мгновенно разлилось по всему ее телу при воспоминании об их последней ночи с Хенриком.
Пылкие нежные ласки, еле слышный шепот (да и нужны ли слова, когда все ясно и так), биение двух сердец в едином ритме, тепло снаружи от горячего тела Хенрика и тепло внутри… Ощущение полноценного счастья, котрое не нуждается в каких-либо добавках, чувство слияния с любимым в единое целое, желание остановить время, чтобы смаковать блаженство можно было вечно… И над всем этим – уверенность в том, что так будет всегда. Иначе с Хенриком и быть не может…
Нильс позвонил в самом конце рабочего дня, когда Рикке обсуждала со Снулле свои планы на вечер. Снулле – лучший из собеседников, потому что никогда не спорит и никому не рассказывает о том, что узнал от Рикке. Верный, надежный Снулле. Друг.
– Мне хочется твоего общества, – заявил Нильс без каких-либо предисловий. – Приезжай…
Так вот Рикке бы и приехала по такому приглашению (она, в конце концов, не девушка по вызову), если бы не два обстоятельства. Первое – голос у Нильса был какой-то необычный. Трудно классифицировать, трудно объяснить, но у Рикке сложилось такое впечатление. То ли тон немного другой, то ли промежутки между словами сократились до минимума. Второе – Рикке хотелось заглянуть в ноутбук Нильса. Подсмотреть пароль и осторожно изучить содержимое, пока Нильс будет спать или попросить на десять минут компьютер, придумав срочную причину, а там как повезет… Причины были вескими и на полухамское приглашение, больше похожее на приказ, можно было не обращать внимания.
«Как только это закончится, – твердила себе Рикке, подразумевая под «это закончится» поимку Татуировщика, – я поставлю точку. Если выяснится, что я все же ошибалась (невероятно, но вдруг), я объясню Нильсу, что мы можем остаться в приятельских отношениях, но секса больше не будет. Нельзя ублажать тело и одновременно растравлять душу. Воспоминание о наслаждении должно приносить радость, а не стыд. И расскажу Хенрику. Это причинит ему боль, но он меня поймет. Не рассказать будет неправильно, тогда эта тайна разъест наши отношения, уничтожит их».
Как-то на досуге Рикке немного покопалась в себе, чего психологам делать категорически не рекомендуется. Есть проблемы – ходи на анализ к коллегам, которые смогут объективно разобраться в твоих проблемах. Сама себе не поможешь, потому что саму себя легче всего обмануть. Как не странно. Недаром же кто-то из светил сказал, что заниматься аутопсихоанализом это как самого себя за волосы из ямы вытаскивать – толку никакого.
– Что ты больше любишь, Рикке – дарить подарки или получать их? – едва открыв дверь, начал спрашивать Нильс. – Что лучше – отдавать или принимать? Отдавать, зная что не вернется – какой в том толк? Согласна ли ты с тем, что даря ближнему радость мы сами радуемся гораздо больше?
– Нильс! – только и сказала донельзя удивленная Рикке, глядя на его раскрасневшееся лицо и принюхиваясь к воздуху.
– Кем лучше быть – альтруистом или эгоистом? – Нильс был не так уж и пьян, как показалось ей сначала, скорее больше возбужден, нежели пьян. – Я эгоист, Рикке, я законченный эгоист, упивающийся своим эгоизмом, и мне это нравится! Но иногда я думаю – уж не обделил я себя чем? Я хочу подарить кому-то радость, ничего не ожидая взамен и почувствовать, каково это! Радость – это божественный дар, чудо, которое в силах повторить каждый из нас, потому что мы способны дарить радость друг другу! Хочешь, я подарю тебе бескорыстную радость?
– Какую, Нильс?
– Дам тысячу крон или залижу тебя до такого оргазма, который ты никогда не забудешь! Выбирай – и получишь то, что выбрала!
– Незабываемый оргазм стоит тысячи крон, – пошутила Рикке, вешая куртку на один бронзовый крюк у двери, а сумку на соседний. Рикке видела эти массивные крюки не первый раз, но только сейчас заметила, что они похожи на когти хищного зверя. Бессознательное реагирует на опасность. Ассоциации, какими бы необычными они не были, не случайны, их возникновение закономерно.
Рикке всего лишь пошутила, а не выбрала, тем более, что Нильс выглядел неаппетитно – потный, вонючий, да еще с парами аквавита, который он явно закусывал смёрребрёдами с чесночным маслом или с чесночной колбасой. Но Нильс ее не понял – схватил в охапку и потащил в спальню, невзирая на гневные протестующие крики. Швырнул на кровать, навалился сверху, рывком стащил джемпер (просторные вещи снимаются легко), освободил от бюстгальтера груди и начал жадно мять их, то и дело зажимая между пальцев соски. Хорошенькое начало!
Стыдно признаться, но подобное брутальное обращение сделало Рикке покладистой. Она завелась против своей воли, потому что это был не просто грубый секс, а нечто вроде изнасилования, и больше не сопротивлялась. Не отказала себе в удовольствии вонзить ногти в перекатывающиеся бугры на спине Нильса, но его такое обращение только раззадорило.
«Он наглеет, – думала Рикке. – Считает, что теперь моим мнением даже не нужно интересоваться». Тем не менее, получив от Нильса тысячу крон она, скорее всего, чувствовала бы себя обделенной.
Кто кому сделал подарок, в итоге оказалось невыясненным, потому что никакого бескорыстия в сексе Нильс не проявил. Начав, как и было обещано, с кунилингуса, он очень скоро (Рикке только-только ступила на дорожку, ведущую к блаженству) оставил это занятие и овладел ею в своей обычной манере. Сегодня Нильс не мог разрядиться особенно долго и Рикке начала беспокоиться, что он захочет анального секса, но в ее планы не входило подставлять свой зад такому грубияну, хватило с нее и одного раза. Анальный секс хорош только в том случае, когда твой партнер нежен и тонко улавливает твои желания, иначе это будет одна только боль, без малейших проблесков удовольствия. Вот Хенрика Рикке без опасений пустила бы в свой анус, но он не проявлял никакого интереса к этому месту, словно его и не было вовсе. Скорее всего, если бы Рикке сама предложила ему заняться анальным сексом, он бы это предложение не принял. Чтобы избежать ненужной боли, не дарующей наслаждения, Рикке попросила Нильса лечь на спину и при помощи языка, губ и рук довольно скоро довела его до оргазма. Нильс не был бы Нильсом, если бы не удерживал в самом конце ее голову обеими руками так, что она едва не задохнулась. Сверхценное отношение к собственной сперме свойственно всем мужчинам, это инстинкт.
Не тащи меня больше в постель, если я не хочу идти сама, – сказала Рикке, когда пришла пора одеваться. – Я не прочь получить удовольствие, но решение должно оставаться за мной.
Рикке не возражала против повелительного обращения с собой во время секса, но вот само начало, то есть – принуждение к сексу, ей категорически не понравилось.
– Не очень-то ты сопротивлялась, – ухмыльнулся Нильс. – А под конец чуть душу из меня не высосала…
– То было под конец, – напомнила Рикке, – а вот начал ты. И с юридической точки зрения это было изнасилование.
– Кто из нас юрист? – поинтересовался Нильс и игриво ткнул пальцем Рикке в бок, отчего она вскрикнула. – Рикке, какая муха тебя сегодня укусила?
Продолжать разговор Рикке не стала, но про себя решила, что вторая подобная выходка обойдется Нильсу очень дорого. Кроме принуждения, как такового, Рикке досадовала на то, что секс случился так рано – в десятом часу вечера. Она надеялась потянуть время за бутылкой вина и перейти к любовным играм не раньше полуночи, а то и позже, чтобы потом остаться до утра у Нильса, чтобы, когда он заснет, осторожно покопаться в его компьютере и его телефоне. Хенрику, который должен был вернуться из Лондона завтра, Рикке позвонила заранее и мимоходом упомянула, что этой ночью ляжет спать пораньше. Сослалась на усталость и на то, что плохо спала предыдущей ночью, потому что соседям какого-то черта вздумалось устроить вечеринку посреди недели. Хенрик поверил, посочувствовал и звонить до завтрашнего дня больше не станет. Милый Хенрик, который всякий раз перед тем, как заняться сексом, целует Рикке и заглядывает ей в глаза, чтобы понять, хочет она его сейчас или нет. Как хорошо, что Хенрик такой правильный и что они с Рикке прекрасно понимают друг друга. Люди, подобные Нильсу всего лишь служат приправой к основному блюду – настоящей любви. Нильса можно хотеть, но влюбиться в него невозможно, с таким же успехом можно волка в лесу полюбить – никакой взаимности не испытаешь. Но секс с ним имеет определенную ценность, да и собеседник он интересный. К тому же Рикке не просто так интересуется Нильсом… А ведь то, что случилось сегодня, является еще одним, пусть и косвенным доказательством того, что она идет по верному пути. Нильс привык руководствоваться только своими инстинктами.
Стоило только Рикке привести себя в порядок, как Нильс поспешил от нее избавиться. Не в прямом смысле, взял и выставил за порог, а спросил:
– Тебя отвезти?
– Ты не в таком состоянии, чтобы садиться за руль, – ответила Рикке. – Вызови мне такси, пожалуйста.
Утолив свою похоть, Нильс превращался в галантного кавалера. Пока такси ехало, он сварил кофе и рассказал парочку анекдотов. Расстался с Рикке не на пороге, а проводил ее до машины, дал водителю двести крон и поцеловал на прощанье Рикке в щеку. Все это выглядело так, словно Рикке была девушкой по вызову, которой довольный клиент решил оплатить такси до дома. Водитель, молодой брюнет с миндалевидными глазами, понимающе улыбнулся, пряча зеленую купюру в бумажник, а стоило им немного отъехать от дома Нильса, на ломаном датском начал отпускать Рикке комплименты. Рикке сразу же почувствовала, что вслед за комплиментами последует непристойное предложение, поэтому грубо оборвала водителя и всю оставшуюся дорогу они ехали молча. На карточке водителя было указано его имя Али Низамеддин и Рикке пыталась угадать из какой он страны, но так и не пришла к какому-то определенному выводу, потому что в салоне не было ни флажков, ни какой-то еще, напоминающей о родине атрибутики, которую так любят иммигранты. Однажды Рикке довелось прокатиться на такси, руль которого был обтянут каким-то мехом, передняя панель декорирована перламутром, с зеркала заднего вида свешивалась целая гроздь амулетов, один другого непонятнее, а на солнцезащитном козырьке был наклеен стикер с надписью: «East or West India is the Best!».[128] Никаких вопросов задавать не надо, потому что и так все ясно. А еще в салоне приятно пахло пряностями, Рикке еще подумала, что в отсутствие пассажиров водитель, должно быть, подрабатывает перевозкой грузов для своих земляков.
«Кто врет – тот беду накличет», утверждают ютландцы. Стоило Рикке соврать насчет вечеринки у соседей, как за стеной до поздней ночи длилось шумное веселье, на котором музыка перемежалась нестройным, но очень громким хоровым пением.
«Jag vet en dejlig rosa och vit som liljeblad När jag på henne tänker så görs mitt hjärta glad…»Одеваться и идти выяснять отношения не хотелось. Лень, да и трудное это дело – на трезвую голову общаться с шумной пьяной компанией. Рикке понадеялась на то, что весельчаков утихомирит кто-то другой. Видимо остальные соседи думали точно так же, потому что пение продолжалось.
«Dess stämma ger en hjärtans tröst Lik näktergalens blida röst Så fager och så ljuv»[129]– So f…ck and so loose! – передразнила певцов Рикке.
Совсем другой смысл, но звучит похоже.
Рикке хотелось вырвать все розы на свете и утопить в Эресунне всех любителей народных песен в Копенгагене, а то и по всей Дании. Вот почему Татуировщика не интересуют те, кто поет по ночам? Убивать надо с умом, как это делает Декстер Морган, чтобы в результате каждого убийства мир становился чуточку лучше. Хочется собраться – соберитесь, хочется напиться – напейтесь, хочется еще чего – так пожалуйста, но ради святых апостолов не пытайтесь переплюнуть Иду Корр и Трине Дюрхольм,[130] все равно ничего хорошего из этого не выйдет.
В конце концов, Рикке удалось заснуть, спрятав голову под подушку.
А на следующий день ее подозрения в отношении Нильса еще сильнее окрепли, окрепли окончательно, потому что на углу аллеи Брайд и Биркетингет нашли новый женский труп с татуировкой на животе. Черная упаковочная пленка, скотч, все, как положено. Татуировщик отвесил еще одну пощечину полиции Копенгагена.
Аннетт Мейснер, двадцать три года, студентка Фолкеуниверситета, которая никогда уже не станет политологом, потому что стала четырнадцатой жертвой Татуировщика. Тихая девочка из хорошей семьи. Отец – профессор-биолог, мать – чиновница с Родхуспладсен.[131]
Газета «Политикен» опубликовала интервью с отцом Аннет под заголовком: «Татуировщик должен убить принцессу, чтобы полиция начала искать его всерьез». Убитого горем отца можно было понять, журналистов тоже – им чем горячее, тем лучше. «Экстра бладет»[132] поместила на первой странице фотографии всех четырнадцати жертв Татуировщика, а в пятннадцатом, пустом, прямоугольнике было написано: «вклейте свою фотографию».
В управлении пошли слухи о том, что сегодня-завтра комиссар Йенсен и его заместитель Хеккеруп подадут в отставку. Поговаривали, что на место Йенсена придет кто-то из ПЕТ, потому что кадры столичной полиции полностью себя дискредитировали и нуждаются в серьезном обновлении. Управление начало лихорадить, большинство сотрудников не столько занимались работой, сколько оценкой своих перспектив. Разве что инспектор Рийс был спокоен, потому что ему терять было нечего.
– Угадай, за чей счет я пил вчера? – спросил Оле у Рикки во вторник.
– За счет Шарлотты Бернтсен, – не раздумывая, ответила Рикки.
Шарлотта Бернтсен руководила кадровой службой управления и славилась небывалой скупостью. Это надо уметь – прослыть скрягой среди датчан, нации, совершенно не склонной к транжирству. Но, тем не менее, у фру Бернтсен это получилось. Она экономила как свои деньги, так и казенные. Годами ходила на работу в одних и тех же костюмах – синем и коричневом и в неизменном черном пальто с большими квадратными пуговицами, экономила каждую скрепку и каждый лист бумаги. Все сотрудники, чьи кабинеты находились в одном крыле с кабинетом Йенсена, слышали, как бесновался тот, увидев на обороте служебной записки от Бернтсен копию своего собственного секретного распоряжения месячной давности. Оригиналы подобных документов полагалось хранить в особых папках, доступ к которым могли получить лишь избранные, а копии подлежали уничтожению. Кто мог вообразить, что экономная руководительница кадровой службы из экономии решит печатать второстепенные служебные документы на оборотной стороне старых. Йенсен обещал засунуть «эту тупую зеландскую корову» в шредер и еще обещал кое-что с ней сделать, но быстро остыл и ограничился словесным разносом. К дуракам комиссар относился снисходительно, это умным он не прощал ошибок, а что взять с дураков?
Оле скривился, давая понять, что за счет этой достойной дамы даже носа в пиве не смочить.
– Ну не за счет Мортенсена, я думаю, – съязвила Рикке и ошиблась.
– За его, – улыбнулся Оле.
– Врешь! – не поверила Рикке.
– Сам удивляюсь. Чтобы Мортенсен пригласил весь отдел в бар, причем не в пятницу, а в понедельник, да напоил всех нас на славу – этого быть не может. Но вчера это случилось. И кроме аквавита, каждому досталась порция комплиментов. Меня он назвал «человеком, на которого можно положиться в любой ситуации» и пил со мной на брудершафт. Так что я теперь могу называть его Ханси и хлопать по плечу, когда мне вздумается.
– Тебе недолго придется это делать, – улыбнулась Рикке. – На такой подвиг, как вчера, Мортенсен мог пойти только в предчувствии скорой отставки.
– Я тоже так думаю, только не пойму, чего он хотел – заручиться на всякий случай нашей поддержкой или исправить о себе впечатление напоследок?
15
– Что делать?! Что, черт побери, делать?! – Рикке сидела в кресле и держала в руке жесткий диск с фотографиями картин, но создавалось впечатление, что она хищной птицей набрасывается на Хенрика, причем набрасывается совершенно незаслуженно. – Чего мы добились всем нашим столичным управлением?! Чего добилась я? Татуировщик на свободе и продолжает убивать! Подскажи, если ты такой умный, как можно вывести Нильса на чистую воду! Я несколько раз встречалась с ним, – насколько интимными были эти встречи, Рикке не уточняла, – но ничем не смогла подтвердить свои подозрения. Подозреваю я его все сильнее, а доказательств по-прежнему никаких! Пора определяться – или вытаскивать на свет Нильса или начинать подозревать кого-то другого! То, что Оле не нашел ничего…
Тут Рикке прикусила язычок, но было уже поздно – Хенрик заинтересовался.
– Где он искал?
– Дома у Нильса, – призналась Рикке, – только это секрет всех секретов. Если Оле узнает, что я проболталась, то он меня убьет!
– Я уже забыл, – улыбнулся Хенрик.
Некоторое время оба молчали, слушая печальную музыку Грига, льющуюся из динамиков. Хенрик любил Грига и слушал его правильно, то есть – на малой громкости, отчего та ж песня Сольвейг[133] становилась еще пронзительнее. Негромкая музыка словно приходит к нам из космоса. Как будто она растворена в пространстве и кристаллизуется, когда ее хочется слушать.
– Рикке, а кто сказал, что Татуировщик – мужчина? – неожиданно спросил Хенрик. – Он же нигде не оставил вам ни капли спермы, ни другого биологического материала. Откуда такая уверенность? Разве он не может быть женщиной? Какой-нибудь свихнувшейся активной лесбиянкой, которая ненавидит женщин, всех, или именно такой тип, и мстит им? Или ей просто нравится убивать своих любовниц и украшать их напоследок татуировкой.
– Сама я к этому непричастна, потому что пришла на работу в полицейское управление позже, да и специализация у меня несколько иная, но несколько лампеховедов[134] от психологии и психиатрии, изучив материалы по двум первым убийствам, сошлись на том, что Татуировщик – мужчина. Так же считают и патологоанатомы, потому что некоторые следы в телах жертв были оставлены мужским членом. Следы остаются разные, если использовать член или дилдо.
– У вас такие продвинутые эксперты… – уголки губ Хенрика дрогнули, а в голосе зазвучала неприкрытая ирония. – В любом секс-шопе продаются фаллосы на любой вкус, некоторые на ощупь не отличить от настоящих.
– Ты интересуешься искусственными фаллосами? – удивилась Рикке. – Зачем они тебе?
– Иногда у меня бывают выставки, которые оформляются фаллосами, вагинами и надувными куклами. Ну и любопытство тоже играет свою роль. Разве ты никогда не была в секс-шопах и не интересовалась тем, что там продают?
– Была, но фаллосов, которые на ощупь неотличимы от настоящих, не встречала, – отшутилась Рикке.
– Просто не обращала внимания, – Хенрик не понял шутки. – А что касается ваших лампеховедов, то ведь они делают выводы не видя Татуировщика, не так ли?
– Так, – согласилась Рикке, не понимая, куда клонит Хенрик. – Но современный уровень развития науки позволяет делать подобные выводы.
– С этим я не спорю, Рикке. Но выводы делаются заочно и женщина, которая внутренне ощущает себя мужчиной, думает, как мужчина, поступает, как мужчина, может в таком случае сойти за мужчину. Ты согласна?
– Женщина?
– Да, женщина! – оживился Хенрик. – Снаружи она женщина, но внутри мужчина. Возможно, что она старается походить на мужчину и внешне, не в этом дело. Дело в том, что ваш серийный убийца на самом деле не Татуировщик, а Татуировщица! И если мы примем эту концепцию, то я попытаюсь объяснить, как происходит знакомство убийцы и жертвы. Не в деталях, конечно, а в общем.
– Я приняла эту концепцию, – в конце концов, концепция была ничем не хуже других, разве что необычной, но ведь и Рикке упрекали в том, что она придумывает ерундовые теории. – Объясни, как он, то есть она знакомится с будущими жертвами.
– Есть два варианта, – Хенрик даже немного раскраснелся от волнения, настолько был увлечен. – Первый – это просьба о помощи. Вот ты, Рикке, обычная, то есть ты, конечно же не обычная, совсем не обычная, но с точки зрения статистики…
– Мы говорим не обо мне, а о деле, – улыбнулась Рикке, давая понять, что не обиделась на слова Хенрика, а то ведь он мог оправдываться целых полчаса. – Продолжай, пожалуйста.
– Если к тебе на улице обратится незнакомая женщина с просьбой о помощи, то как ты отреагируешь?
– Зависит от того, какая будет просьба.
– Что-то небольшое, несложное, имеющее целью заманить тебя поближе к машине или вынудить в нее сесть. Например – ей внезапно стало плохо, закружилась голова и она просит тебя довести ее до машины, которая стоит недалеко. Я бы на месте убийцы притворился беременной. Беременная женщина – это же так безопасно, естественно и сразу хочется помочь. Вот ты бы отказалась довести до машины милую беременную женщину? По глазам вижу, что не отказалась бы, да еще бы и дверь придержала, пока она садилась в машину.
Да, так бы оно и было.
– А сев в машину, она мило улыбается, благодарит тебя и говорит, что работает менеджером в каком-нибудь косметическом салоне, или в бутике, короче говоря, в каком-то привлекательном для женщин месте и может дать тебе дисконтную карту или карту на бесплатное посещение, или еще что-то в этом роде и начинает рыться в сумке или в бардачке. Стоять слева неудобно, и женщина такая милая, она, извиняется, что никак не может найти то, что ищет и просит тебя сесть на минуточку в салон… Все же естественно и никакой опасности, разве не так?
– Опасности никакой, возможно, что я бы и села. Неудобно же стоять над душой у человека, словно фэрд.[135]
– Вот видишь, как все просто! А дальше ты получаешь укол в ногу или в шею и приходишь в себя уже в тайном логове убийцы. Это первый вариант, но у меня есть и второй. Что если все жертвы были бисексуалками и имели роман с убийцей? А, когда они ей надоедали, наступала развязка. Я понимаю, что полиция должна была проверять все контакты жертв и сравнивать их, в поисках общих знакомых, но уделялось ли должное внимание женщинам?
– Уделялось всем, даже подросткам, – уверенно ответила Рикке. – Контакты жертв изучали под микроскопом, интересовались не только самими контактами, но и их родственниками и друзьями. Знаешь, как это бывает: «О, привет, Кристен! Помнишь меня? Я – Петер, брат Луизы, мы познакомились на вечеринке…» Вроде бы, совсем незнакомый человек, но ты вспоминаешь, что видела его на вечеринке и…
– И что – ни одного совпадения?
– Кроме номера 112[136] – ни одного. Причем проверяли все контакты по нескольку раз разные люди. До определенного времени версия с общим знакомым была одной из основных.
– А какая сейчас основная версия?
– Взять цилиндр фокусника, запустить туда руку и попытаться нащупать ухо Татуировщика, – снова пошутила Рикке.
Когда человек пребывает в хорошем расположении духа, ему то и дело хочется шутить.
– Или Татуировщицы, – стоял на своем Хенрик.
– Навряд ли, – не очень уверенно сказала Рикке. – Если все эксперты единогласно решили, что Татуировщик мужчина, то я склонна им верить. Тебе, как человеку далекому от психологии и психиатрии, может показаться, что мы высасываем все наши суждения из пальца…
– Ну что ты, Рикке!
– Может. Психика – тонкая и невидимая материя, рукой ее не пощупать, вот и кажется иногда, что мы просто валяем дурака. Но на самом деле все системно и все научно. К тому же, эксперт никогда не делает необоснованных утверждений. Эксперт непременно должен объяснить, почему он пришел к такому выводу. Я хоть и не специалист в области гендерных различий, но ты раздразнил мое любопытство и мне хочется получше познакомиться с тем, что написали мои коллеги.
– Поделись потом информацией, – попросил Хенрик, – мне интересно.
– Поделюсь, – пообещала Рикке.
На следующий день Рикке постаралась побыстрее расправиться с текущими делами, чтобы изучить заключения по Татуировщику. Просмотр картин известных художников, Рикке пока отложила. В первую очередь надо заниматься тем, чем хочется заниматься в первую очередь.
Стыдно признаться, но заключения специалистов были составлены так заумно и изобиловали таким количеством оговорок, что Рикке мало что в них поняла. Но выводы были сформулированы с предельной четкостью, как того требовала юстиция. Да и обстоятельства косвенно подтверждали, что Татуировщик мужчина, причем – сильный, находящийся в прекрасной форме. Он никогда не тащил трупы волоком от автомобиля до того места, где они были найдены, а нес их на руках. Это совершенно точно, потому что отсутствовали следы волочения на асфальте и на пленке, в которую были упакованы тела. А ведь жертвы в среднем весили около шестидесяти килограмм. Сама Рикке не смогла бы достать из багажника свою подругу Лисси и отнести ее на руках за двадцать-тридцать метров. Сил не хватило бы. А ведь она была молода и находилась в довольно сносной, если не хорошей, физической форме. Да и задушить человека не так уж просто, нужна не только сноровка, но и сила. А сил у Татуировщика было столько, что его удавка глубоко впивалась в горло жертвы. Еще чуть-чуть и голову можно отрезать. Нет, Хенрик неправ, Татуировщик – мужчина. И не в авторитетных заключениях дело, Рикке сама это чувствует. Словами это не объяснить…
От изучения старых материалов Рикке вернулась к новым, к Аннетт Мейснер, четырнадцатой жертве Татуировщика. Раскрыла во весь экран фотографию рисунка на ее животе и в очередной раз попыталась понять, что он означает.
Косой крест, к которому слева пририсовали вертикальную черту и продублировали левую нижнюю. Похоже на недорисованный бант или недорисованную бабочку. Какой смысл в недорисованной бабочке?
В задумчивости Рикке машинально оттянула пальцем книзу и вбок левое нижнее веко и рисунок Татуировщика начал раздваиваться. Буквы «Р» и «Х»? Какой в них смысл? Пиксель? При чем тут пиксель?
Озарение обрушилось на Рикке, когда она уже отпустила веко и рисунок стал прежним. Это не буквы, а руны! Руна «Вуньо», символизирующая радость и руна «Гебо», символизирующая дар. Радость и дар. Дар радости. Радостный дар? Татуировщик дарит обществу очередной труп и радуется этому?
Сдвоенные руна – вот сущность его рисунков!
Рикке открыла все фотографии татуировок, начиная с самой первой, и принялась расшифровывать их.
Первая жертва Татуировщика, Анне Йохансен. Руна «Райдо» и руна «Манназ». Дорога и человек или дорога и мужчина. Путь мужчины? Путь убийцы? Вот мой путь? Таков мой путь, говорит Татуировщик?
Вторая жертва, Агнес Нильсен. Руна «Совило» и руна «Тейваз». Солнце и воин. Солнце освещает путь воину? Воин идет к солнцу?
Третья жертва, Моника Блажевич. Руна «Хагалаз» и руна «Феу». Гибель и благополучие. Жертва? Жертвоприношение?
Четвертая жертва, Ингер Хансен. Руна «Турисаз» и руна «Одал». Тролль и традиции, наследство. Наследство троллей? Намек на то, что тролли приносили жертвы?
Пятая жертва, Бертина Педерсен. Руна «Иса» и руна «Перт». Лед и тайна. Лед – это смерть?
Шеста жертва, Метте Андерсен. Руна «Альгиз» и руна «Йера». Защита и время или защита и возраст. Защита от чего? От смерти?
Седьмая жертва, Катрин Зельден. Руна «Дагаз» и руна «Наутиз». День и огонь. Или день и нужда, ведь «Наутиз» символизирует и нужду. День нужды? Какой?
Восьмая жертва, Берта Кристенсен. Руна «Уруз» и руна «Эйваз». Сила и устранение препятствий. Сила устраняет препятствия – логично.
Девятая жертва, Пернилла Ларсен. Руна «Ингуз» и руна «Эваз». Богатство и перемены. Кому это перемены сулят богатство?
Десятая жертва, Ига Сёренсен. Руна «Дагаз» и руна «Хагалаз». День и гибель. День гибели жертвы, наверное.
Одиннадцатая жертва, Эмма Расмуссен. Руна «Ансуз» и руна «Перт». Порядок и тайна. Порядок тайны? Пока сохранена тайна, все в порядке?
Двенадцатая жертва, Инга Йоргенсен. Руна «Хагалаз» и руна «Альгиз». Гибель и защита. Защита от гибели?
Тринадцатая жертва, Камилла Миккельсен. Снова руна «Халагаз» и руна «Одал». Гибель стала традицией?
И последняя, четырнадцатая жертва, Аннетт Мейснер. Руна «Вуньо» и руна «Гебо». Радость и дар.
«Где были раньше мои глаза? – удивлялась Рикке. – Это же так просто! Это же так ясно, само бросается в глаза».
Совсем как в картинке-загадке. Когда тебе покажут лису, спрятавшуюся в ветвях ели – удивляешься, как можно было не заметить ее. До тех пор, пока не покажут – не найдешь.
Но увидеть мало, надо еще и понять. А что тут понимать? Каждой паре рун можно подобрать подходящее толкование. В любом случае, это не какое-то конкретное послание, потому что прочтенные подряд руны сливались в полную белиберду, а некий утонченный философский посыл. Татуировщик – интеллектуал.
Интеллектуал и хитрец. Загадал всем загадку, которую бесполезно разгадывать, потому что разгадка не приносит никакой пользы. Проклятый Татуировщик не зашифровал рунами свое имя, свою фамилию и свой адрес! Это всего лишь игра больного ума – замучить молодую женщину, задушить ее и вытатуировать у нее на животе две слившиеся воедино руны. Лед и тайна? День и гибель? Путь человека? Человека ли?
Радость померкла. Да, Рикке завтра же утром расскажет Мортенсену о своем открытии. И что она услышит в ответ? Сакраментальное: «какую пользу из этого можно извлечь?». А можно ли извлечь пользу? Это же новая деталь…
Татуировщик сведущ в рунах… Как и большинство датчан. Датчане, пожалуй, самые скандинавистые из скандинавов, больше остальных гордятся своими корнями и своей историей. В частности – обожают напоминать норвежцам и шведам о том, что Кальмарской унией[137] правили датские короли. Датчанин может не знать имени первого датского короля и где находится Эльсинор, в котором Шекспир поселил Гамлета, но про Кальмарскую унию он будет знать непременно. Иначе он не датчанин.
Вот, если бы, Татуировщик орудовал в Шанхае или в Неаполе, то открытие Рикке могло бы оказаться ценным. Не так уж много скандинавов там живет… Но все же, «подвинутость» на рунах в какой-то мере сужает круг поисков. Например, можно было не тратить столько времени на боснийцев из Нёрребро, так как Един Балич и его брат вряд ли разбирались в рунах. И если в поле зрения полиции попадет какой-нибудь пакистанец или сомалиец, то не стоит уделять ему слишком много внимания, если, конечно, он не является профессором скандинавской истории Копенгагенского университета. Оле недаром повторяет, что один волосок с места убийства может рассказать в десять раз больше, чем все свидетели вместе взятые. Любая деталь полезна в конечном итоге. Кстати, а можно ли по рунам сделать вывод о том, как менялось настроение Татуировщика от убийства к убийству? Вот это могло бы оказаться полезным.
Путь мужчины. Солнце и воин, то есть воин идущий к свету. Гибель и благополучие как обозначение жертвоприношения. Традиции троллей. Все эти послания можно расценить как декларацию намерений. Вот мой путь, по которому я иду к свету (к какому, интересно, свету, к свету адского пламени, что ли?), чужая смерть приносит благополучие, иначе говоря – я приношу жертву, соблюдая традиции троллей, некоторые из которых были людоедами.
Начиная с пятой жертвы послания становятся более запутанными.
Лед и тайна. Защита и время. День огня или день нужды. Сила устраняет препятствия. Богатство и перемены. День гибели. Порядок и тайна. Защита от гибели. Радостный дар…
Скорее всего, Татуировщик выражает в своем творчестве те мысли, которые обуревают его в момент убийства или сразу после него. Так, наверное, делают все художники.
Радостный дар – это, конечно, чересчур. Никто из нормальных людей не может испытывать радость при виде трупа со следами истязаний. Поневоле начнешь проецировать ситуацию на себя, пусть, даже, и бессознательно ассоциировать себя с жертвой. Какая уж тут радость. Некоторые, конечно, станут ассоциировать себя с убийцей. Кстати, эти особенности довольно легко выявляются при тестировании.
Всего-то дел, фыркнула Рикке, взять да протестировать всех жителей Копенгагена, подходящих на роль Татуировщика. Сколько это будет человек? Если считать вместе с пригородами, то в Копенгагене живет более миллиона человек. Отбросим более для удобства, будем считать, что в это «более» вошли иммигранты, которые не имеют понятия о рунах. Делим пополам – получаем полмиллиона мужчин. Или немного меньше, потому что мужчин в целом меньше, чем женщин, но нечего придираться – полмиллиона, так полмиллиона. Если исключить стариков и детей, то останется тысяч триста. Далеко не все из них живут в собственных домах или удобных квартирах, в которых можно спокойно истязать и убивать и из которых можно вынести труп так, чтобы никто ничего не заметит. Рикке, например, и дохлую кошку не сможет пронести незаметно – кто-нибудь из пожилых соседок, целыми днями скучающих у окна, непременно увидит. Пусть будет не триста тысяч, а сто пятьдесят. Сто пятьдесят тысяч подозреваемых – всего то! И это при условии, что Татуировщик мужчина. А вдруг, несмотря ни на какие выводы, помноженные на интуицию Рикке, убийца все же женщина? Чего только не вытворяют ведьмы в ночь святого Ханса.[138]
Радостный дар. Четырнадцатая жертва, Аннетт Мейснер. Почему радуется Татуировщик? Только он может радоваться в подобной ситуации, жертве не до радости. Или Татуировщик считает, что дарит жертве радость? Как недавно сказал Нильс: «Радость – это божественный дар, чудо, которое в силах повторить каждый из нас, потому что мы способны дарить радость друг другу».
Нильс?
Нильс!
Нильс!!!
«Что ты больше любишь, Рикке – дарить подарки или получать их? Что лучше – отдавать или принимать? Отпускать хлеб по водам – какой в том толк? Согласна ли ты с тем, что даря другому радость мы сами радуемся гораздо больше? Кем лучше быть – альтруистом или эгоистом? Я эгоист, Рикке, я законченный эгоист, упивающийся своим эгоизмом, и мне это нравится! Но иногда я думаю – уж не обделил я себя чем? Я хочу подарить кому-то радость, ничего не ожидая взамен и почувствовать, каково это!»
Ни с того, ни с сего Нильс завелся на тему даров и радости. По своему собственному почину. Потом он овладел Рикке, невзирая на ее протесты, и поспешил поскорее выпроводить из дома. И рубашка на нем была вся мокрая от пота, а ведь это надо хорошо вспотеть, чтобы плотная джинсовая рубашка промокла насквозь. Что он такого делал?
Рикке ломала голову до тех пор, пока не пожалела о том, что в Дании запрещены пытки. Вот бы подвесить Нильса на крюке к потолку за вывернутые руки, да развести под ним огонь… Святая Бригитта, что за хрень лезет в голову! Нельзя уподобляться Татуировщику! Жестокость – это его метод, метод Рикке – логика.
Куда бы только этот метод приложить?
Оле иногда вскользь упоминал о том, как ему приходилось «поднажать» на кого-то или брать кого-то «за яйца». Рикке всякий раз смотрела на него осуждающе – нельзя же так, закон и права человека превыше всего. А теперь на своей шкуре испытала, как иногда хочется забыть о правах человека, конституции и прочих законах. Когда уверенность велика, а доказательств нет ни одного, так и тянет пойти на крайние меры. Эх, была бы под рукой пресловутая «сыворотка правды»…
16
Можно было рассказать Мортенсену о том, как Нильс Лёвквист-Мортен интересуется рунами и прочей скандинавской стариной и о том, как он груб в постели, а затем перейти к последнему убийству. Руна «Вуньо» и руна «Гебо» – радость и дар… Если намекнуть, что в случае непонимания она отправится прямиком к Хеккерупу, старина Ханс ее выслушает и, возможно, поручит кому-нибудь узнать побольше про Нильса, а то и приставит к нему хвост. На неделю, от силы на десять дней, не больше. Что это даст? Да ничего! Рикке гораздо лучше знакома с жизнью Нильса и то у нее нет ничего конкретного. Есть уверенность, а конкретных улик нет. «Из слов дома не построишь», скажет ей Мортенсен и на этом все закончится. До следующего убийства…
До следующего убийства так далеко… А если до него еще далеко, то орудие убийства и машинка для татуировки спрятаны в надежном месте, и это надежное место находится дома у Нильса. Тайник в одном из парков Копенгагена отпадает напрочь, потому что там велик риск нарваться если не на гуляющих, то на уборщиков. Возить в машине такую улику постоянно Нильс не станет – опасно. Машину могут угнать, может случиться авария… Банковская ячейка тоже не подходит, потому что в исключительных случаях она может быть вскрыта без ведома владельца. Аре Беринг, дядюшка которого был крупной шишкой в Сидбанке, однажды сказал, что все отделения банков имеют дубликаты клиентских ключей от ячеек, несмотря на то, что в один голос утверждают обратное. Когда один чокнутый сомалиец позвонил и сообщил, что террористы заложили сверхмощную бомбу в отделение банка на бульваре Андерсена, ячейки проверили за считанные минуты, даже владельцев беспокоить не понадобилось. Нет, свои инструменты Нильс хранит где-то дома. Или в гараже.
Дом казался предпочтительнее, потому что гараж Нильса был типичным гаражом белоручки, поднимающего крышку капота лишь для того, чтобы залить новую порцию жидкости в бачок стеклоочистителя. Небольшой стеллаж в углу, на котором кроме запасных канистр с омывающей жидкостью и флаконов со средством для протирки стекол ничего нет. У Хенрика и то гараж побогаче, он хранит там все инструменты, необходимые для мелких работ по дому, от набора отверток до перфоратора. А у Нильса, кажется, ничего такого и в помине нет, во всяком случае Рикке не видела у него никаких инструментов. Разве что он хранит их в подвале?
В отличие от Оле Рийса, у Рикке не было знакомых в охранной фирме, которые бы любезно отключили сигнализацию на время ее визита. Поэтому пришлось воспользоваться подсмотренным кодом и понадеяться на то, что Нильсу не приходят на телефон сообщения о том, что его дом поставлен на охрану или снят с нее. Многим такие сообщения кажутся лишними, потому что на первый взгляд толка в них никакого.
Время Рикке выбрала крайне удачное, такое, что удачнее и быть не могло. Футбольный клуб «Копенгаген» встречался на стадионе Паркен со своими вечными соперниками «Брондбю» из Брённбю. Нильс не мог пропустить такую игру и смотреть ее по телевизору ни за что бы не согласился, потому что для истинного болельщика очень важно находиться в компании единомышленников – если не на стадионе, то, хотя бы, в каком-нибудь баре с телевизором во всю стену. Но раз уж играют в Копенгагене, то Нильс непременно будет на стадионе, а после игры отправится праздновать победу или заливать горечь поражения. И то, и другое, процесс длительный, так что раньше полуночи Нильс домой не вернется. А то и позже, ведь ему рано утром не надо никуда торопиться.
Рикке рассчитывала управиться за два часа, ведь она не собиралась перетряхивать весь дом, как это делал Оле. Ее поиск планировался как интуитивный. Оле клялся, что в доме Нильса нет никаких тайников, а Рикке была уверена, что хоть один да есть и собиралась непременно его найти. Это же, в сущности, довольно просто, надо только спокойно оглядеться и неторопливо подумать. В присутствии Нильса оглядеться не получалось, потому что он отвлекал то разговорами, то сексом. К тому же Рикке предпочитала не вызывать подозрений. Хватит и того, что она работает в полиции, если она начнет слишком настойчиво шарить глазами по углам, Нильс непременно что-то заподозрит. А если он что-то заподозрит… страшно подумать, что тогда может случиться. Пока что Рикке может чувствовать себя в относительной безопасности, потому что Нильсу известно, где она работает и он знает, что она не скрывает своего знакомства с ним. Но, если он сочтет, что живая Рикке опаснее для него, чем мертвая, то ей несдобровать. Он не тот человек, с которым можно шутить, то есть пошутить с ним, конечно же, можно, только темы надо выбирать очень внимательно. А то запросто можно стать жертвой номер четырнадцать или жертвой без номера. Не исключено, что для удушения с последующим нанесением татуировки Нильсу нужны особые дни или особое настроение, а Рикке он задушит руками и утопит в море.
Невероятно, но даже будучи полностью уверенной в том, что Нильс – серийный убийца, Рикке испытывала возбуждение, думая о нем. До промокших насквозь трусиков дело не доходило, но приятная истома накатывала. Рикке не знала, за счет чего отнести это – то ли за счет собственной одержимости или за счет харизмы Нильса, но сильно стеснялась. Что ни говори, а это не совсем нормально. Надо держать себя в руках, а то можно быстро скатиться в пропасть, то есть – дойти до очень опасных крайностей. Не так давно в одном из офисных зданий на бульваре Амагер был найден труп пятидесятилетнего мужчины со спущенными штанами. Подозревали убийство на сексуальной почве, но быстро установили, что несчастный развлекался по вечерам в своем кабинете, вызывая оргазм не доведенным до конца самоповешением на брючном ремне. В тот вечер он переусердствовал (или сказалось выпитое перед сеансом спиртное) и потерял сознание, не успев вынуть голову из петли. Ноги подкосились, ремень, привязанный к штанге стеллажа для папок натянулся и из ложного повешение превратилось в настоящее. Жирный боров Йоргенсен долго изощрялся в «остроумии» по поводу погибшего, отпуская шуточки одна другой тупее. Интересно, чем он сам развлекается на досуге?
За десять минут до начала матча в доме Нильса не светилось ни одно окно. Машины возле дома тоже не было, но с машиной все ясно – она, должно быть, стоит в гараже. Нильс не поедет на футбольный матч на машине, потому что на обратном пути ему будет не до руля. Вдобавок, перед такой игрой возле стадиона может просто не остаться мест для парковки и есть риск, что после матча машина может пострадать от рук каких-то свихнувшихся фанатов. Копенгаген не Лондон и не Амстердам, но и не Сорё,[139] где неделями может не случаться ничего криминального, придурков в Копенгагене хватает.
Из конспирации Рикке попросила таксиста остановиться метров на сто пятьдесят дальше, расплатилась, вышла и стояла на тротуаре до тех пор, пока такси не скрылось из виду. Предосторожность была не такой уж и напрасной, потому что то, что собиралась сделать Рикке было преступлением, пусть и совершенным из благих побуждений. Кто знает, как обернется дело? Вдруг внезапно приедут сотрудники охранной фирмы и Рикке придется спасаться бегством. Кто-то из соседей запомнит номер машины, на которой она приехала, таксист скажет, что посадил ее около здания полицейского управления… Так вот и находят преступников.
Сумки у Рикке не было, ее роль играл замечательный жилет со множеством карманов, купленный в позапрошлом году на распродаже в торговом центре на Нюторв. Жилет покупался впрок и дождался своего часа. Поверх снаряженного жилета Рикке надела кожаную куртку. Получилось неплохо.
Войдя в дом, Рикке аккуратно заперла за собой дверь и подумала о том, что надо открыть одно из окон на первом этаже, чтобы, в случае чего, быстро и тихо вылезти наружу, но сразу же отказалась от этой мысли. Свет она включать не собиралась, надеясь обойтись фонариком, а распахнутое окно в темном доме может привлечь внимание. Да и чего ей бояться? Нильс сейчас сидит на стадионе и ни за то оттуда не уйдет до тех пор, пока не кончится игра…
Первым делом, Рикке натянула принесенные с собой резиновые перчатки и заглянула в гараж. Убедилась, что машина Нильса здесь, осмотрела стеллаж, прошлась вдоль стен. Пластиковые панели прилегали друг к другу плотно, беглое простукивание не выявило никаких пустот, поэтому с гаражом Рикке управилась меньше, чем за пять минут. Под черный «туарег» Рикке заглядывать не стала, потому что никто в здравом уме не станет устраивать тайник так, чтобы пришлось выводить машину из гаража для того, чтобы в него залезть.
Куда больше, чем гараж Рикке манил подвал, в котором ей не приходилось бывать. Она почему-то представляла, что подвал будет занимать все пространство под домом. Но оказалось, что подвал гораздо меньше и площадь его примерно равна площади кухни. Направо – помещение без двери с отопительным котлом, трубами, вентилями и датчиками, налево – дверь, ведущая в нечто вроде кладовой, где на стеллажах хранился запас продуктов и несколько бутылок со спиртным – Нильс не скрывал своей нелюбви к супермаркетам и предпочитал закупаться редко, но помногу.
«Здесь явно должна быть потайная дверь!», думала Рикке, водя фонариком из стороны в сторону.
Очень удобно искать тайник при помощи фонарика в темноте. Пятно света выхватывает небольшой участок и все внимание, не распыляясь, обращается на него. Главное, действовать последовательно и ничего не пропускать. Рикке очень старалась ничего не пропустить, в результате чего на осмотр стен и пола в подвале у нее ушло около сорока минут. Тщательно – это долго.
После подвала логично было заняться кухней, раз уж все равно лестница привела сюда. При полном неумении готовить и склонности к бутербродам и пицце, кухня у Нильса была оборудована на зависть многим профессиональным поварам. Куча самой разнообразной посуды, великое множество аксессуаров и, даже аппарат для низкотемпературной варки. То, что это именно такой аппарат, Рикке поняла только сейчас, до этого она принимала его за мини-коптильню. Осмотр кухня, несмотря на все старания Рикке, занял полчаса. Но зато Рикке могла покляться, что на кухне Нильс не ничего не прячет.
Со всем остальным домом она рассчитывала управиться за час с небольшим. Гостиную можно не осматривать, потому что в ней особо и прятать-то негде, комната, предназначенная для гостей, тоже не подходит для устройства тайника, вдруг кто-то из гостей случайно на него наткнется. Спальня и кабинет – вот где Нильс прячет свои инструменты. И Рикке их найдет…
В гостиную Рикке все же заглянула. Для того, чтобы пошарить рукой и кочергой в каминной трубе. Шарила больше для проформы, чем надеясь что-то найти, ведь, скорее всего, сильный нагрев будет вреден татуировальной машинке, поэтому Нильс не станет прятать ее в каминной трубе. Но в кино каминные трубы хранили в себе столько сокровищ и тайн, что проигнорировать камин было бы непрофессионально. Но можно было бы и проигнорировать, потому что в каминной трубе ничего, кроме сажи не было. Сажа особо не огорчила, потому что Рикке была в перчатках.
Рикке не услышала, как Нильс открыл калитку и прошел к дому. Она и лязгу замка входной двери не придала значения сразу, так как в этот момент была увлечена осмотром письменного стола. В далеком прошлом люди мало доверяли банковским ячейкам (а, может, тогда и ячеек не было), вот и прятали все ценное по укромным местам. Если сделать один из выдвижных ящиков короче остальных, то в высвободившемся пространстве можно устроить тайник, который никому из посторонних не бросится в глаза. Даже если выдвинуть ящики, ничего не заметишь.
Ящики-то и подвели Рикке. Точнее не все, а один из них, средний в левой тумбе. Рикке открывала его, чтобы ознакомиться с содержимым и при помощи растопыренных пальцев измерить длину (рулетки у нее с собой не было), когда до ушей ее донесся хлопок входной двери. Рикке вздрогнула, слишком сильно дернула за ящик и, в результате, уронила его себе на ногу. Мало шума наделал ящик, так еще и она вскрикнула от боли. Даже не столько от боли, сколько от страха.
Звук шагов в коридоре. Зажегся свет.
– Рикке?! – по лицу стоявшего на пороге Нильса было видно, что он крепко пьян, но не настолько, чтобы свалиться и заснуть. – Какого черта, Рикке?!
Надо было попытаться проскользнуть мимо него в коридор и убежать через входную дверь или открыть окно и вылезти в него. Надо было взять в руки что-то тяжелое для самообороны. Надо было спасаться, но спасения не было, потому что не проскользнуть, не убежать, не спасаться.
Страх и боль в ушибленной ноге вынуждали Рикке стоять на месте. Самым тяжелым предметом на столе был ноутбук Нильса. Она схватила его и выставила перед собой вместо щита.
– Положи на место! – рявкнул Нильс.
В общении он был вальяжным павлином, привыкшим распускать хвост, в сексе – грубым потомком викингов, а сейчас перед Рикке стоял зверь. Яростный, сильный, еще не до конца разобравшийся в ситуации, но уже начавший соображать что к чему.
Да и что там соображать? Сотрудница полиции копается в твоих вещах в твое отсутствие – какие могут быть варианты?
Ноутбук выпал из рук Рикке.
– Вонючая сука! – Нильс подскочил к Рикке и ударил ее по лицу.
Это была всего лишь пощечина, а не удар кулаком, но настолько сильная, что Рикке отшвырнуло к книжному шкафу. К боли в ноге добавилась боль в плече и обида. Вонючая сука? Ничего себе! Как будто сам не вылизывал Рикке во всех местах и не нахваливал ее запахи. Как же непостоянны мужчины!
– Кто тебя прислал?! – орал Нильс, брызгая слюной. – Что тебе надо, грязная тварь?! Так-то ты отплатила мне за все, что я тебе сделал?!
Способности удивляться Рикке не утратила. «Что ты мне сделал? – подумала она, стараясь не смотреть в налитые бешенством глаза Нильса. – Несколько раз трахнул по-зверски? Это благодеяние ты имеешь в виду? Но ты ведь и сам получал удовольствие…»
Рикке молчала, не зная, что сказать и потому что была занята делом – правой рукой она незаметно для Нильса достала из кармана жилета мобильный и вслепую, потому что смотреть вниз, на заслоненную телом от Нильса руку было нельзя, пыталась нажать кнопку быстрого вызова, на которую был забит «тревожный» номер. Задача осложнялась тем, что кнопка была не реальной, которую можно нащупать, а виртуальной и для того, чтобы найти ее вслепую, надо было в определенном порядке совершить определенные действия.
Оживить дисплей нажатием кнопки…
Ткнуть пальцем в левый нижний угол…
Теперь в левый верхний, чтобы вызвать на экран клавиатуру…
– Не молчи, когда я с тобой разговариваю! Отвечай!
Очередная оплеуха чуть не вышибла мозги из Рикке, но она все же сумела нажать нужную кнопку и отодвинуть телефон немного назад, из-под себя, чтобы лучше было слышно.
– Это Арнесвей пятьдесят шесть?! – громко спросила Рикке. – Ты хочешь меня убить, Нильс?! Убить здесь, на Арнесвей пятьдесят шесть, в своем доме?!
Нильса ее слова разозлили еще больше, чем молчание.
– Ты еще смеешься, тварь! – взревел он и ударил снова. – мне сейчас не до шуток!
Рикке на некоторое время провалилась в небытие и очнулась от удара о что-то твердое.
– Сейчас я просрусь и решу, что с тобой делать!
Пятно света исчезло вместе с силуэтом Нильса. Лязгнуло железо. Фонарик остался на письменном столе Нильса, мобильник – на полу его кабинета и Рикке нечем было осветить помещение, в котором она находилась. Двинувшись на ощупь, она через два шага наткнулась на какие-то полки, также на ощупь начала знакомиться с их содержимым и очень скоро поняла, что находится в подвальном «складе» Нильса.
Дверь, как и следовало ожидать, оказалась запертой на наружный засов. Замков здесь не было и запереть дверь можно только снаружи. Выключателя возле двери Рикке не нащупала, должно быть, он находился снаружи. Рикке немного поколотила в дверь кулаками, но быстро поняла, что на улице ее никто не услышит, так что не стоит тратить силы понапрасну.
Окон в помещении не было, только вентиляционный ход на потолке. Кричать бесполезно.
Рикке поняла, что жить ей осталось недолго и, чтобы как-то подбодрить себя, пошутила насчет того, что последними минутами жизни она обязана такому тривиальному обстоятельству, как расстройство пищеварения у Нильса. «Просрусь и решу, что с тобой делать», сказал он. Так вот почему он вернулся гораздо раньше ожидаемого… Смешно и грустно, синтез комического и трагического. Жизненно, что там.
Телефона нет, да отсюда он и не берет, блокнот в кармане, но обе ручки должно быть выпали, пока Нильс тащил ее сюда. Даже предсмертную записку не написать. Если вдруг полиция не приедет сейчас, по звонку, то никто никогда не узнает, что стало с Рикке Хаардер. Ее трупу не суждено будет красоваться с татуировкой на первых страницах газет и экранах телевизоров. Это будет слишком опасно для Нильса, ведь многие знали о том, что они знакомы… Нет, Нильс избавится от ее трупа по-тихому, а, может, выберет другой способ убийства. Перережет горло или свернет шею, а потом оставит тело где-нибудь в лесу или бросит в море.
Переборов усилием воли дрожь, которая от трясущейся нижней губы была готова распространиться по всему телу (губу при этом пришлось закусить до крови), Рикке приказала себе надеяться на лучшее. Приказать легко, выполнить приказ трудно. Но все-таки надеяться хотелось и, кроме того, хотелось подороже продать свою жизнь. Как можно дороже, чтобы у Нильса осталась памятка от Рикке Хаардер. Вдруг получится выбить ему глаз? А вдруг получится спастись?
Рикке вспомнила, что где-то здесь на одной из полок должны лежать в специальных ячейках бутылки вином и очень скоро нашла их. Взяла две и села в углу, не обращая внимания на холод, идущий от выложенного плиткой пола. Перед смертью не до таких мелочей. Даже если она что-нибудь себе застудит, то заболеть все равно не успеет.
«Бутылками можно ударить по голове, – в который уже раз прикидывала Рикке, нервно гладя дрожащими пальцами стеклянные горлышки. – Один раз, потом другой раз. Бутылки разобьются и в руках останутся два острых обломка. Один из них можно всадить Нильсу в живот, а другой – в лицо…»
Хороший план, очень хороший. При условии, что Нильс не будет мешать его осуществлению. Но хоть что-то… Рикке отчаянно боялась умирать, ей очень не хотелось умирать, все ее существо протестовало против столь ранней и столь жуткой смерти, но хуже всего было бы умереть покорно.
Чтобы подбодрить себя Рикке издала несколько громких воплей, которые начинались задорно и, даже, грозно, но в конце срывались на визг. Перевела дух, набрала в грудь побольше воздуху и повторила. Во второй раз получилось лучше, то есть громче, чем в первый. О, нет, Рикке будет сражаться до последнего вздоха! Помимо бутылок у нее есть зубы и ногти!
«Очень помогли тебе твои зубы, когда Нильс сбил тебя с ног?» спросил внутренний голос. Ответить Рикке не успела, потому что сверху донесся какой-то шум, словно что-то тяжелое упало на пол. Рикке завизжала так, что у нее заложило уши и приготовилась к худшему.
Худшее или лучшее – все равно. Лишь бы не сидеть и не ждать в этом темном подвале. Святая Бригитта! Помоги мне или сделай так, чтобы это закончилось быстро и не больно!
Слушая тревожное биение своего сердца, Рикке просидела сколько-то времени в состоянии крайнего нервного напряжения, готовая наброситься на Нильса сразу же, как только он откроет дверь. Вот ее слух уловил шаги на лестнице, вот лязгнул засов…
– Рикке ты здесь?! – спросил Хенрик, слегка приоткрыв дверь и не входя внутрь – как чувствовал, что может получить бутылкой по голове. – Это я Хенрик!
Если бы дверь открыла сама святая Бригитта, Рикке бы удивилась меньше. Появление святой заступницы в столь важный и нужный момент было бы вполне обоснованным, хоть и, вне всякого сомнения, чудесным. Но Хенрик? Какой тролль привел его сюда? Что он здесь делает?
Впору было решить, что мозг сжалился и послал Рикке напоследок приятную галлюцинацию – того, кого она больше всего хотела увидеть. Но это была не галлюцинация, потому что знакомый голос сопровождался знакомым ароматом одеколона Boss Number One. В открытую дверь потянуло сквознячком и запах наполнил все помещение.
– Я здесь, Хенрик! – воскликнула Рикке.
Вскочив на ноги, она бросилась к двери и повисла на шее у Хенрика. Истомившаяся душа требовала разрядки, которая не заставила себя ждать. Рикке рыдала взахлеб, размазывая слезы и сопли по дорогому костюму любимого мужчины и совершенно не задумывалась над тем, какое впечатление она сейчас производит. Добрый и все понимающий Хенрик гладил ее по спине, перемежая поглаживания с ободряющими похлопываниями и бубнил в ухо: «Все хорошо, милая Рикке, все хорошо».
Услышав наверху шаги, Рикке спохватилась и спросила:
– Где Нильс?
Вперемешку с рыданиями вышло невнятно, но Хенрик понял.
– Он наверху, Рикке. Кажется, я убил его. Пойдем, полиция приехала…
Рикке не ужаснулась, услышав такое, а обрадовалась. Прыгать от радости не стала, но с души будто камень свалился. К радости добавилось удивление – Хенрик и убил? Это Хенрик-то с его принципами? Невероятно!
Но все это было не так важно, как то, что Хенрик был здесь, а Нильс где-то там, наверху и вместо его разъяренного рева сверху послышалось:
– Полиция! Выходите с поднятыми руками!
Как же это приятно – выходить из темного подвала с поднятыми кверху руками. У Рикке было такое впечатление, словно она родилась заново. Серьезные деловитые сотрудники полиции из участка Беллахёй даже не подозревали, что выступают в роли акушеров, принимающих роды.
Мертвый Нильс оказался еще страшнее живого – глаза выпучены, физиономия перекошена, на волосах кровь. И пахло от него нехорошо, обделался напоследок. Плохо жил Нильс Лёвквист-Мортен и плохо умер.
– Это – Татуировщик, – сказала коллегам Рикке, кивая на распростертое на полу тело. – Татуировщик.
Кто-то удивленно присвистнул, кто-то недоверчиво покачал головой, кто-то прочувственно сказал: «Gedeknepper!».[140] Приехав на обычное бытовое убийство невозможно поверить, что убитый и есть тот самый неуловимый серийный убийца, которого мечтал поймать каждый полицейский в Копенгагене.
17
Непонятно, какие мотивы двигали Нильсом, когда он устроил тайник в одном из ящиков на колесиках, что стояли в его спальне под кроватью – беспечность или очень хитрый расчет, но этот расчет оправдался на все сто процентов. Действительно – ну кому может прийти в голову, что в ящике под кроватью серийный убийца спрячет орудия своего «труда»? От такого осторожного и хитрого типа, как Татуировщик, следовало ожидать больше изобретательности – какой-то хорошо замаскированной ниши в стене, тайного отсека в шкафу, ну, на худой конец можно было устроить тайник в корпусе старого пылесоса, что стоял на антресолях.
Но в кроватном ящике? Нонсес!
Однако этот «нонсенс» не смог найти при обыске такой хитрый лис, как Оле, опытный полицейский, сведущий в хитростях и уловках преступников и имеющий то, что называют интуицией или шестым чувством. Недаром кто-то из великих детективщиков советовал прятать предметы на самом видном месте – там их никогда не найдут.
О позоре Оле знали только он и Рикке, но бедному Оле от этого не было легче.
– Это невозможно, – начинал он, как только они с Рикке оставались наедине. Это просто невозможно! Я же выдвигал эти чертовы ящики! Там не было ни машинки, ни удавки!
Иногда вместо «эти чертовы ящики» Оле говорил слова покрепче.
Выдвинув ящик, орудий Татуировщика нельзя было заметить, потому что ящики сверху были закрыты крышками, да и лежали орудия не в открытом виде, а в нише, аккуратно устроенной среди постельного белья и сверху тоже были покрыты двумя простынями. Аккуратно сложенными. Подняв крышку, нельзя было предположить, что в ящике кроме простыней и наволочек есть еще что-то. Под верхней простыней, лежала вторая, сунув руку сбоку тоже нельзя было добраться до тайного содержимого. Нет, этот проклятый Нильс определенно понимал толк в тайниках! И ящиков было четыре, а не один. Человек не хочет загромождать пространство в своем чудесном доме лишними шкафами, вот и загромождает до предела то, что уже загромождено. Логично и естественно.
– Я же выдвигал каждый ящик и обшаривал его! Времени у меня было достаточно!
Как Оле обшаривал, Рикке прекрасно представляла. В спешке – это раз, что бы он там не говорил о времени. Когда проникаешь в чужой дом в отсутствие хозяина, не имея на то никаких законных оснований, то всегда торопишься. Да, Рикке страховала Оле, но случайности возможны всегда – предположим, что Нильс внезапно решил вернуться домой, а телефон Рикке разрядился или пришел в негодность от падения на пол, и она не может предупредить Оле. Это счастливые совпадения крайне редки, а несчастливые случаются сплошь и рядом. В конце концов, Оле рисковал не чем-нибудь, а своей карьерой и своей будущей пенсией. Вернись не вовремя Нильс, да еще с кем-то (лишний свидетель никогда не мешает), да вызови они полицию… Назавтра все газеты, как бумажные, так и сетевые, пестрели бы заголовками «Инспектор столичной полиции в свободное время обчищал дома датчан» или «Воровать – не убийц ловить». Нелегко бы пришлось инспектору Оле Рийсу. Бывшему инспектору Оле Рийсу. Комиссар Йенсен обожал показательные порки в своем ведомстве, потому что имидж неутомимого борца с недостатками способствует популярности и карьерному росту, в отличие от имиджа любителя скрывать эти недостатки. Исправление ошибок начинается с их признания. Датчане, подобно всему остальному человечеству, склонны врать на каждом шагу, но чужая честность им традиционно импонирует. «Он – честный датчанин» всегда было и до сих пор остается наивысшей похвалой. Йенсен вполне бы мог упечь Оле за решетку – смотрите, жители Копенгагена и прочие датчане, какой я объективный и строгий! Кто бы тогда поверил оправданиям Оле и свидетельству Рикке?
Так что Оле спешил, потому что не мог не спешить. И нервничал, потому что не мог не нервничать. Возможно, еще и злился, что дошел до спальни и ничего не нашел. Оле всегда обыскивал, как положено, начиная от входа, то есть к моменту осмотра ящиков он уже изрядно подустал. Рикке видела, как наяву – вот Оле становится на колени и заглядывает под кровать, вот он выдвигает ящик, одновременно продолжая прислушиваться, не подъехала ли к дому машина, вот он откидывает крышку, осторожно тычет рукой в содержимое (на то, чтобы выкладывать-перекладывать времени нет), закрывает крышку, задвигает ящик обратно и выдвигает следующий. Будет ли он слишком внимателен к этим ящикам? Навряд ли, тем более что никто не станет устраивать тайников у себя под кроватью. Это же смешно!
Это очень смешно, но, тем не менее, татуировальную машинку «Papillon midi YT» с новеньким комплектом игл марки «Odi» и самодельную гарроту (фортепианная струна, две деревянные ручки) нашли под кроватью Нильса. Нашли, потому что просто не могли не найти. Обыск проводился на законном основании, в нем участвовало несколько сотрудников полиции и хозяин никому не мог помешать, потому что совсем недавно его труп после завершения положенных процедур увезли в морг.
Проведенные экспертизы подтвердили, что это были те самые инструменты – та машинка и та удавка. Оказывается, татуировальные машинки тоже имеют свои индивидуальны особенности, правда эти особенности невооруженным глазом не разглядеть.
Дом Нильса разобрали буквально по кирпичику, по панельке. Даже плитку с дорожки, ведущей от ворот к двери сняли. Дом обыскивали по высшему разряду, потому что сюрпризов в нем могло быть очень много.
На самом деле сюрпризов оказалось всего два – тайник под кроватью и четыре внешних жестких диска по полтора терабайта каждый, забитых отборнейшей порнухой в жанре БДСМ. Шедеврами великого культурного значения это не назвал бы никто, так, самая обычная низкопробная продукция, скачанная с профильных сайтов. Но – шесть терабайт! Более двух тысяч фильмов в разных форматах! Причем, большинство фильмов относилось к жесткому садо-мазо, такому, где хлестали и кусали до крови, а прижигали до настоящих ожогов. Или, все-таки, не до настоящих? Синяки и укусы могут исчезнуть бесследно, а сигаретный ожог оставит о себе память на всю жизнь. Кто согласиться уродоваться таким образом на съемках? Но снято все было так натурально, что зрители могли почувствовать запах паленой плоти. Да, Нильсу определенно было, чем себя развлечь. Всю «коллекцию» Рикке, разумеется, не пересматривала, ткнула наугад в пару-тройку фильмов, чтобы составить представление и этого ей хватило.
Санкций за самовольное проникновение в дом Нильса Рикке не опасалась, потому что обрадованный комиссар Йенсен поспешил объявить поимку Татуировщика результатом «долгой и кропотливой работы» в которой «полиция опиралась не только на свои силы, но и на помощь общества в лице лучших его представителей». «Лучшим представителем» был Хенрик Кнудсен, которому сразу же дали понять, что предстоящее судебное заседание, на котором будут разбираться обстоятельства гибели Нильса Лёвквист-Мортена является формальностью, без которой невозможно обойтись и что все прекрасно понимают, что речь идет об адекватной самообороне. Адекватной во всех смыслах. «Live by the cleaver, die by the fire poker»,[141] сострил Аре Беринг.
– Я не мог не увидеть! Там ничего не было, кроме тряпок!
– Уймись, Оле! – рявкнула Рикке, когда ей надоело участливо кивать и успокаивать. – В жизни случается всякое и все мы делаем ошибки! Мне, если хочешь знать, еще тяжелее, чем тебе! Я подозревала Нильса, я общалась с Нильсом, даже спала с ним и не смогла разобраться в нем до тех пор, пока очередное убийство не навело меня на кое-какие мысли! А я, если ты не забыл, профессиональный психолог, Оле! Да, Татуировщик умел обводить вокруг пальца, этого у него не отнять! И потом, я вполне допускаю, что в тот вечер, когда ты нанес ему визит, инструменты Нильса были при нем. Может, он собирался кого-то убить, но в последний момент что-то сорвалось?! Может, до этого он хранил машинку с удавкой в гараже, а потом решил перепрятать?! Что ты причитаешь, как древняя старуха? Успокойся. Забудь. Все прошло! Все закончилось и закончилось благополучно, Оле! Я жива, а Татуировщик мертв!
– Да мне плевать на Татуировщика! – разозлился Оле. – Я просто люблю, чтобы все стояло на своих местах! Там ничего не было, там даже пустого места не было!
Рикке только сейчас догадалась об истинных причинах беспокойства Оле. Алкоголь – вот в чем дело! Оле боится провалов в памяти! Он думает, что видел инструменты Татуировщика, но забыл! Нет, для подобной амнезии надо напиться в стельку, а Оле во время обыска не мог этого сделать, он просто был навеселе… Он просто был навеселе и оттого проявил небрежность. Оле сознает, что оказался не на высоте из-за своего пагубного пристрастия и пытается убедить себя в обратном? Скорее всего так.
Сердце Рикке пронзила жалость. Бедный Оле Рийс, человек без близких, человек без будущего. Позади – не самая веселая жизнь, впереди – унылая старость, которую не скрасит работа в каком-нибудь захудалом детективном агентстве, специализирующемся на супружеской неверности. Вечера в компании с бутылкой, одинокие праздники, скучное Рождество без подарков или с одним-единственным подарком самому от себя… «Непременно подарю Оле на Рождество какую-нибудь веселую картину, – пообещала себе Рикке. – Попрошу Хенрика выбрать самую жизнерадостную картину в Дании, куплю ее, сколько бы она не стоила, и подарю Оле! А, может, ему лучше щенка подарить? Ладно, до рождества еще есть немного времени, успею определиться. А пока…»
– Оле, давай как-нибудь на днях посидим где-нибудь, – предложила Рикке. – Маленькой компанией, ты, я и Хенрик.
Хенрика она упомянула намеренно, потому что его присутствие было обязательным. Без Хенрика это будет вечер нытья, а вот с ним – нормальное дружеское общение. При Хенрике Оле не станет посыпать пеплом вины свою голову, в которой с каждым днем прибавляется седины, постесняется, а Хенрику Рикке намекнет, что лишний анекдот из жизни художников не помешает и вечер пройдет весело. Оле развеется, почувствует дружеское тепло и это несомненно пойдет ему навстречу.
Но, видимо, Рикке только что была чересчур резка, потому что Оле не принял предложения.
– Некогда мне прохлаждаться по злачным местам! – проворчал он в своей обычной манере. – У меня дел много!
– Как хочешь, – Рикке расстроилась, но постаралась не подавать виду.
Если Оле нравится жить так, как он живет, то с этим ничего не поделать.
Рикке мучила другая загадка – каким образом Нильс знакомился со своими жертвами? Нильс был достаточно осторожен для того, чтобы хранить что-то компрометирующее, кроме предметов, без которых он не мог обойтись. Никаких файлов, никаких записей, никаких фотографий, ничего наводящего на мысли в истории браузера… Настоящий серийный убийца, все просчитывающий и обо всем заботящийся заранее. Но как он с ними знакомился, тролль его затопчи?
Увы, эту тайну Нильс унес с собой в могилу. Он много чего унес с собой. Рикке оставалось только строить догадки. Брал харизмой? Ну не до такой же степени, чтобы едва познакомившись отправляться неизвестно куда неизвестно с кем? Придумывал какой-то срочный и очень выгодный для жертвы повод? Какой? Интриговал? Что-то обещал? Запугивал? В оживленном Копенгагене днем или вечером, а не глубокой ночью, запугать четырнадцать женщин настолько, чтобы ни одна не подняла шум, не позвала на помощь? Нереально.
Четырнадцать жертв хранили свою тайну и их убийца делал то же самое. Рикке предпочла бы, чтобы Хенрик не убивал Нильса, а только бы оглушил его. Так было бы лучше для всех. И для Хенрика в том числе. Человеку, которого специально не готовили к убийствам и которого не снедает внутренняя жажда убивать, то есть – самому обычному человеку, убивать очень трудно. А жить потом еще труднее.
В первые две недели после гибели Нильса, Хенрик внушал Рикке определенное беспокойство. Довольно сильное, потому что кому, как не психологу, знать о том, как тяжело переживается убийство и какие проблемы оно за собой влечет. К тому же бедному Хенрику ежедневно по нескольку раз приходилось рассказывать о том, как все произошло – полицейским, психологам, которые с ним работали, журналистам, которые подстерегали его у ворот дома и следовали по пятам, в надежде, что Хенрик расскажет им что-то новое, вспомнит какую-нибудь пикантную подробность.
Вспоминать Хенрику было нечего.
– Когда я понял, где Рикке и что с ней может произойти, то очень обеспокоился и поехал ее выручать. О том, что надо позвонить в полицию, я сообразил не сразу – беспокойство сказалось на моих мозгах. По телефону Рикке назвала адрес. Я без труда нашел нужный дом и только тогда понял, что нужно вызвать полицию. Я позвонил прямо из машины и, не дожидаясь, пока приедет патруль, вошел в дом, потому что понимал, что каждое мгновение может оказаться роковым…
Сухой, размеренный рассказ, но сколько всего за ним скрыто! Только Рикке могла понять, или, даже, не понять, а попытаться приблизительно представить, что испытывал Хенрик, когда ехал ее спасать. Чего ему стоило доехать без происшествий, как бился в груди его страх не успеть… Святая Бригитта, как же хорошо, что все уже позади! Только бы Хенрик пережил бы это без особых последствий! Какие-то последствия всегда будут, ничто не происходит и не проходит бесследно, но пусть Хенрик поскорее забудет весь этот кошмар.
– Входная дверь была закрыта, пришлось воспользоваться статуей садового гнома, чтобы разбить окно. Я влез в дом, услышал голос Рикке и еще какой-то шум. Я пошел на этот шум и дошел до гостиной. Там я увидел Нильса. В руке у него был кухонный топорик для рубки мяса. Большой такой, внушительный. Он выкрикнул что-то агрессивное и попытался ударить меня топориком. Никогда не забуду выражения его лица – оно было таким ужасным…
Рикке тоже ниогда не забудет выражения лица мертвого Нильса. Глаза выпучены, лицо искривлено в гримасе ярости, зубы оскалены…
– Я что-то крикнул в ответ, кажется это было «не надо!» и сумел увернуться от топорика. Выбежать обратно в коридор и попытаться захлопнуть дверь я не мог, потому что Нильс стоял между мною и выходом. Он снова замахнулся и в его глазах я прочитал свой смертный приговор. Это не преувеличение – я посмотрел ему в глаза и понял, что умру. Вот здесь и прямо сейчас. Мне стало страшно. Я отпрянул к стене и огляделся в поисках чего-то, чем мог защищаться. Я не думал о том, что надо убить Нильса, я вообще ни о чем тогда не думал. Я действовал инстинктивно. На глаза мне попалась каминная кочерга. Когда Нильс ударил снова, я прыгнул вправо, повернулся и ударил его кочергой по голове. Я хотел только оглушить Нильса, а не убивать, но его череп захрустел так ужасно… Эти каминные кочерги почему-то такие тяжелые. Когда Нильс упал, я отбросил кочергу и бросился к нему, пытаясь что-то для него сделать, но он издал хрип, которого я никогда не забуду, дернулся и умер. Я просидел над ним в прострации какое-то время, а потом пошел искать Рикке. Патруль приехал уже после того, как я ее нашел…
Две недели Рикке жила у Хенрика, потому что нельзя было оставлять его одного, да и саму ее одиночество пугало. Разговаривали они мало, слова как-то утратили свой сокровенный смысл и больше не служили для выражения чувств, только для обмена информацией. Рикке почему-то думала, что Хенрик будет искать утешения и успокоения в сексе, но целую неделю он обнимал ее, целовал в обнаженное плечо, в шею или в щеку и засыпал, не предпринимая никаких попыток к сближению. Рикке тоже воздерживалась от проявления инициативы, потому что чувствовала настроение Хенрика и понимала, что сейчас ему нужен не секс, а ее присутствие рядом. Не исключено, что Хенрик просто боялся потерпеть фиаско, огромное нервное напряжение вполне могло сказаться на эрекции. Когда же вместо одного поцелуя Рикке получила сразу три, да еще и рука Хенрика скользнула по ее бедру, она поняла, что время пришло. Уложив Хенрика на спину, Рикке села на него верхом, немного подразнила, проводя сосками по губам, но, не давая их поцеловать, затем подразнила языком, а когда сочла, что Хенрик возбудился достаточно, подарила ему самые нежные оральные ласки, на которые только была способна, стараясь растянуть это таинство как можно дольше и радуясь тому, что Хенрик находится в прекрасной форме. Рикке старалась так самозабвенно, что достигла оргазма одновременно с Хенриком. Почувствовала, как запульсировал его член, ощутила вкус спермы на языке и испытала оргазм. Впервые в жизни Рикке достигла удовлетворения без ласк лона.
Счастливый Хенрик лежал на спине, хлопал глазами и улыбался. Рикке поняла, что все хорошо (не в смысле доставленного удовольствия, а вообще), что самое страшное позади и что вместе они преодолеют случившееся, и все станет как раньше. Нет, не так, как раньше, а лучше, потому что ничто не сближает так, как совместно пережитое испытание.
Через несколько дней, окончательно убедившись в том, что с Хенриком (хвала святой Бригитте и всем остальным святым) все в порядке, Рикке переселилась домой, сказав, что, если понадобится, она готова примчаться по первому зову. Хенрик удивлялся и предлагал перевезти к нему вещи и отказаться от квартиры, но Рикке заявила, что это преждевременно и что она не хочет, чтобы Хенрик мог подумать, что она переселилась к нему, воспользовавшись сложной ситуацией. Хенрик понял, что Рикке имела в виду, потому что вдруг посмотрел на нее как-то особо и улыбнулся тоже особо, загадочно-интригующей улыбкой.
Если Хенрик и догадывался о том, насколько далеко зашли отношения Рикке и Нильса, то виду не подавал, и за это Рикке испытывала к нему отдельную, особую признательность. Будь Нильс жив она рано или поздно рассказала бы Хенрику правду, поскольку он всегда был откровенен с ней и имел полное право на взаимную откровенность. Но сейчас, когда Нильс мертв, все, что было между ним и Рикке, тоже умерло. Нет смысла обсуждать, особенно сейчас, особенно с учетом того, от чьей руки погиб Нильс.
Привычка вертеть любую проблему и так, и этак, выворачивать ее наизнанку, рассматривать со всех сторон в конце концов натолкнула Рикке на одну очень страшную мысль. Мысль, которой нельзя было поделиться ни с кем. Разве что с Хенриком, да и то не сразу.
Случается так, что придет в голову невероятная глупость. Отгонишь ее – вернется. Снова отгонишь – снова вернется. И с каждым разом будет казаться все менее глупой. И так до тех пор, пока ты не поймешь, что не глупость это была, а гениальная мысль, поначалу показавшаяся невероятной и, оттого, глупой.
Так было и с Рикке. «Оле мог не только искать в доме Нильса улики, но и подложить их, – подумала она. – Почему бы и нет?»
Мысль показалась настолько дурной, что ее срочно захотелось запить чашкой кофе. Пока кофе пился, мысль витала где-то далеко, но как только Рикке отставила в сторону опустевшую чашку, мысль вернулась и снова начала щекотать мозг. Чтобы мысль больше не возвращалась, Рикке начала думать о том, какой хороший человек Оле Рийс и насколько он отличается (в лучшую сторону) от других полицейских из отдела убийств. Попутно вспомнились биографии нескольких знаменитых серийных убийц. Все они до поры, до времени были, то есть – казались, добропорядочными обывателями.
Да ну, глупость какая…
Теоретически, конечно, можно предположить, но…
Все, что можно предположить теоретически, может случиться в реальности…
Зачем инспектору Рийсу подкладывать улики для того, чтобы их нашел кто-то другой? Не проще ли было «найти» их самому?
Инспектору Рийсу поступить так было бы проще, а вот Татуировщику нет. Слишком уж явная связь… Умный человек (а уж в том, что Татуировщик умен, сомневаться не приходится) скорей бы притворился, что «ничего не нашел», а честь найти подложенные им «улики» предоставил бы другим.
Оле Рийс – Татуировщик? Нет, это невозможно! Оле – полицейский… Одинокий полицейский-неудачник… А Нейлоновый убийца Тед Банди занимался политикой, что с того? Уж не потому ли Татуировщик неуловим, что он одновременно является и охотником и добычей? Серийный убийца – инспектор отдела убийств полиции Копенгагена? А кто сказал, что такого не может быть?
Оле типичный воин-одиночка. Вдобавок, он крепко недоволен жизнью. Из таких, как раз, и получаются серийные убийцы. И с женщинами Оле не очень-то везет…
Старина Оле – убийца? Почему ни разу не ёкнуло сердце? Почему интуиция ни разу не предупредила?
Потому что Татуировщик – гений маскировки. Он столь старательно прячет свою сущность… Но что бы стал делать Оле, если бы Нильс остался жив?
Остался жив при таких уликах, найденных в его доме? Да еще после того, как он спьяну запер Рикке в собственном подвале? Он бы провел за решеткой столько времени до тех пор, пока бы все стало на свои места… За это время Татуировщик мог бы спокойно замести все следы, выйти в отставку, переехать куда-нибудь… Рикке поймала себя на том, что уже начала отождествлять Оле Рийса с Татуировщиком без каких-либо оговорок, то есть – приняла это, поверила. Мысль, поначалу казавшаяся ерундовой, начала оформляться в стройную концепцию. Стоит только принять главное, и деталям-подтверждениям не будет конца.
Оле одинок и нелюдим.
Оле – алкоголик.
У Оле проблемы с отношениями. Женщин Оле заменяет бутылка.
Оле любит работать в одиночку.
Иногда Оле говорит весьма любопытные вещи. Вот, хотя бы, не так давно нес околесицу про древних скандинавов и богиню смерти Хель. А если это была не околесица, а нечто большее? Как он сказал «смерть есть ни что иное, как половой акт между умершим и хозяйкой загробного мира Хель»? А для некоторых смертью закончился половой акт с Татуировщиком…
Рикке думала два дня, два долгих дня. Старалась, чтобы никто, и в первую очередь сам Оле, ничего бы не заподозрил. Кажется, получилось. К причудам Рикке в полицейском управлении давно привыкли, считая ее нелюдимой букой. Чуть больше замкнута чем обычно? Святая Бригитта, да кто это может заметить?!
Раньше подозревать и строить теории получалось не в пример легче, потому что у Рикке был союзник в полицейском управлении, причем не где-то там, а в самом отделе убийств. А теперь Рикке подозревала этого союзника и не кому было ей помочь.
Можно было обсудить свои подозрения с Хенриком, что Рикке и сделала.
– Ну, ты и придумала! – покачал головой Хенрик. – Да быть такого не может! В то, что Татуировщиком был Нильс легко можно поверить, но чтобы этот старый сенбернар со снулыми глазами оказался серийным убийцей… Рикке, милая, по-моему, ты чрезмерно увлеклась этой детективной игрой. Убийца мертв, а игра тебя не отпускает, вот ты и выдумываешь всякую ерунду.
Старый сенбернар со снулыми глазами? А ведь верно – в Оле есть что-то от сенбернара, не сразу, но уловимое сходство. Глаза у него, правда, не снулые, это Хенрик преувеличивает. Скорее – уставшие, но нередко они бывают и живыми.
В последнее время, не иначе как от постоянного перенапряжения, умственные способности Рикке оставляли желать лучшего. Вот и сейчас она сначала поделилась с Хенриком своими сомнениями по поводу Оле и только потом поняла, какую непростительную ошибку совершила. И как психолог, и как любящая женщина. «Подставляя» Оле в Татуировщики она давала понять Хенрику, что он убил не серийного убийцу-маньяка, а обычного буйного во хмелю обывателя. Да, Нильс сам напросился, он первым набросился на Хенрика и не с пустыми руками набросился, но для человека, случайно убившего ближнего своего, гораздо комфортнее считать убитого монстром, нежели пьяным придурком. Совершенно иная психологическая окраска, совершенно иное восприятие. Хенрик держится молодцом, как и подобает настоящему мужчине, но он переживает в связи с убийством Нильса, не может не переживать. А Рикке, вместо того, чтобы помочь, к этому ее обязывает и человеческий и профессиональный долг, льет кипящее масло на свежие раны. Если бы не она, Хенрик не убил бы Нильса. Помни об этом, Рикке!
В ту же ночь Рикке попыталась искупить свою невольную вину старым, как мир, способом. Она не отдавалась Хенрику, а ублажала его, думая только о его удовольствии и совершенно пренебрегая своим. Хенрику, должно быть, нечасто доводилось оказываться в роли сосуда, в который неиссякаемой струей вливается наслаждение. Он обычно привык не только получать, но и дарить, и поэтому вначале выглядел немного ошарашенным. «Так, должно быть, ведут себя профессионалки», – думала Рикке, нежно водя губами по напрягшемуся естеству любовника и слушая его протяжное постанывание. Вначале действиями Рикке руководило раскаяние, но понемногу она вошла во вкус. Наслаждение, которым был переполнен Хенрик, не могло не передаться ей хотя бы частично. А еще, играя на Хенрике словно на музыкальном инструменте, Рикке испытала нечто вроде упоения властью. Музыкант же властвует над инструментом, разве не так? От его прикосновений зависит какой звук сейчас прозвучит…
– Рикке! – напрягшись всем телом, Хенрик хотел сказать, точнее – прохрипеть что-то еще, но захлебнулся и забился под Рикке в оргазме так мощно, что едва не сбросил ее на пол.
«Родео», отстраненно подумала Рикке, чувствуя, что вот-вот ее тоже унесет к облакам. Она склонилась над Хенриком так, чтобы левый сосок скользнул по его губам и, одновременно вжалась своим пышущим жаром лоном в его не менее горячее тело. Хенрик, все еще пребывавший на границе между мирами, вознамерился поймать дерзкий сосок губами, но промахнулся, то есть – слишком рьяно устремился в погоню и вместо губ на соске сомкнулись зубы. Сомкнулись всего на мгновение, причинив Рикке острую, но очень сладостную боль, которая стала последней ступенью на пути к оргазму, последней каплей возбуждения, за которой сразу же последовала разрядка. В результате Рикке все же свалилась на пол, а Хенрик, вместо того, чтобы поднять ее, всхлипывающую и дрожащую, скатился следом и жадно припал губами к ее влажному трепещущему лону. Не успев спуститься с небес на землю, Рикке взлетела еще выше и летала целую вечность, потому что полет незаметно перешел в сон. Усталость брала свое.
Подозрения в адрес Оле Рикке спрятала в самый дальний ящик, да еще для верности закрыла его на ключ. Эта проблема была из числа тех, которые надо решать очень осторожно. Малейшая оплошность и Рикке придется забыть про карьеру психолога (психологи, подкапывающиеся под инспекторов в полиции не задерживаются), а то и расстаться с жизнью. Самое трудное – продолжать общаться с Оле, как ни в чем не бывало. Но общаться надо, ибо у Рикке было только одно средство, одно оружие, которым она могла воспользоваться – знание человеческой психологии. Психологический поединок требовал общения с Оле. Рикке поклялась, что она выдержит и еще поклялась, что если ее подозрения не подтвердятся, то она сама расскажет о них Оле. Поставит ему выпивку и признается.
Вскоре она передумала. Решила, что выпивку поставит, а признаваться не станет, потому что это может сказаться на отношениях. Эти рассуждения были пустым кокетством, игрой в прятки с самой собой, средством, которое помогало скрывать свои подозрения. Возможно, Рикке выдала бы себя, если бы не была настолько занята Хенриком, что Оле, как вероятный Татуировщик, отошел на второй план. Немного раньше Рикке невозможно было даже представить, что что-то может быть для нее важнее поимки Татуировщика, гораздо важнее, несоизмеримо важнее… А теперь она не могла представить ничего более важного и значимого для себя, чем состояние Хенрика. Пусть у Хенрика будет все хорошо… Только бы у Хенрика было бы все хорошо… У Хенрика должно быть все хорошо…
Рикке не работала с Хенриком как профессиональный психолог, потому что это шло бы вразрез со всеми принятыми правилами, корпоративной этикой и здравым смыслом. Отношения между психологом и пациентом могут быть только рабочими и никаким больше. Но порекомендовать Хенрику хорошего специалиста-психоаналитика она могла и не преминула этого сделать. Порекомендовала даже двоих, на выбор – мужчину и женщину, но Хенрик ответил, что никакого особенного дискомфорта, во всяком случае, такого, чтобы ходить к психоаналитикам, он не испытывает. Жаль, конечно, что так все случилось, вспоминать об этом неприятно, но винить он себя не винит, потому что действовал ради спасения Рикке, а не Нильса убивать совсем не хотел.
– У меня сложилось впечатление, что плохое уходит, – сказал он. – С каждым днем его остается все меньше и меньше. Я справлюсь сам, милая. Вот увидишь.
Рикке поверила – Хенрик действительно выглядел неплохо и вел себя как обычно. Про дела тоже не забывал, выставил у себя какого-то декоративиста из Монголии, имя которого невозможно было произнести даже после тренировки. Рикке, как не пыталась, у нее ничего не вышло – одни согласные звуки, причем в очень непривычном сочетании. Наблюдая за ней, Хенрик признался, что сам тоже не в силах правильно выговорить имя и фамилию монгольского художника, но это не страшно, потому что тот, щадя неуклюжие европейские языки, представляется как Чо.
«Запустив» выставку, Хенрик сказал, что господин Чо прекрасно обойдется несколько дней без него, тем более что в Христиании у него обнаружились не то земляки, не то единоверцы, не то собратья по вдыханию дурманящего дыма. Рикке подумала, что речь идет об очередной деловой поездке, но ошиблась.
– У меня есть маленький, но очень уютный домик на Борнхольме,[142] – сказал Хенрик. – Прямо на берегу. Море видно из окна. Время от времени, когда меня все достает, я прячусь там на несколько дней. Борнхольм – идеальное место для отдыха, тихое, умиротворенное, красивое. Давай убежим туда вместе? Вот так, возьмем и убежим. Никому ничего не скажем, выключим телефоны, ноутбуки оставим дома и на пару дней постараемся забыть, что на свете есть Копенгаген, работа и разные неприятности. Как насчет ближайшего уикенда? Паром из Кёге[143] отправляется поздно вечером, рано утром в субботу мы будем на месте.
По тону голоса любимого, его взгляду и его улыбке Рикке почувствовала, что приглашение провести уикэнд вместе это не просто приглашение к приятному времяпрепровождению, а нечто большее. Нечто гораздо большее. Кажется, фрёкен Хаардер скоро превратится в фру[144] Кнудсен.
Фрёкен Хаардер не имела ничего против своего превращения в фру Кнудсен. Даже более того, это превращение полностью совпадало с ее надеждами. Впервые в жизни Рикке была не прочь выйти замуж. Еще совсем недавно при мыслях о замужестве ее охватывала тоска. Закономерно – тогда она не была влюблена, а замужество без любви и есть тоска.
Хенрик и Рикке, Хенрик и Рикке, Хенрикке, Хенрикке, Хенрикке…
18
Борнхольм, где Рикке до сих пор никогда бывать не доводилось, оказался чудным местом, а домик на побережье, как и было обещано – маленьким и уютным. Домик, именно домик, а не дом, копенгагенская квартира Хенрика по площади была больше. Маленький вестибюль, переходил в короткий и узкий коридорчик, направо – кухонька и душевая комната, совмещенная с туалетом, налево – спальня, прямо – гостиная с огромным диваном, занимавшая почти половину домика. В такой домик не приглашают посторонних, уж очень он приватный. В гостиной имелся камин, кроме того домик был оборудован системой электрического отопления, так что холодная ноябрьская сырость осталась за порогом.
Субботний день незаметно перешел в вечер. Чем ближе Рождество, тем короче дни. Погода не радовала, несмотря на утверждение о том, что на Брнхольме солнце светит почти всегда, но здесь было столько славных мест, в которые можно зайти и согреться, что в целом знакомство с островом оставило приятные впечатления. Рикке очень понравился местный символ тролль Крёлле-Бёлле, веселая рожица которого была повсюду – улыбалась с вывесок, выглядывала из кустов, подмигивала со стаканов и кружек, встречала возле торговых центров. Рикке не утерпела и купила себе и Хенрику по керамической пивной кружке с Крёлле-Бёлле и магнитик на холодильник с ним же.
– Я очень хочу, чтобы тебе здесь понравилось, – многозначительно сказал Хенрик, разжигая щепки в камине.
Рикке окончательно убедилась в том, что Хенрик намерен сделать ей предложение. Не только тон, с которым была сказана эта фраза, наводил на подобные мысли, но и все остальное. Хенрик смотрел на Рикке с особой нежностью, целовал ее чаще обычного, дважды усаживал к себе на колени, чего раньше никогда не делал, откупорил привезенную с собой бутылку вина, которое стоило крон семьсот, если не больше и, подняв бокал, вместо обычного своего «скол», торжественно провозгласил: «За нас! Пусть у нас все получится». И еще так улыбнулся при этом, что Рикке бросилась ему на шею, забыв поставить свой бокал на стол или на пол, и залила вином его белый свитер.
– Красное на белом – это так патриотично![145] – рассмеялся Хенрик.
Переодеваться он не стал – так и просидел весь вечер в пятнистом свитере.
Вино, на вкус такое мягкое, пившееся как сок, очень быстро ударило в голову. Рикке опрокинула одну из двух стоявших на столе свечей, смахнула на пол вазочку с коричным печеньем, а под конец едва не свалилась в горящий камин. Видимо, Хенрик решил, что Рикке сегодня не в лучшей форме, поэтому ожидаемого предложения Рикке не получила. А, может быть, он намеревался сделать его не вечером при свечах (это же, в сущности, так пошло и заезжено – романтический вечер при свечах и протянутая коробочка с обручальным кольцом), а днем, на скалистом берегу. Днем, на берегу, под шум волн гораздо лучше. Сразу напрашивается ассоциация с бурным житейским морем, которое им предстоит переплыть вместе, а Хенрик так любит увязывать одно с другим. Да и многие ли из женщин могут похвастаться предложением, сделанным в подобной обстановке? Агнес Букстехуде из архива муж сделал предложение в Хельсингёре, возле городского собора и об этом знает все полицейское управление Копенгагена. Вот и Рикке будет хвастаться чем-то таким, необычным. А, скорее всего, не будет, потому что в отличие от простушки Агнес, не склонна выставлять личное напоказ.
Вечер был необычно хорош, но ночь его переплюнула. По молчаливому уговору они не пошли в спальню, потому что не хотелось уходить от камина, а расположились в гостиной, на диване, который Хенрик накрыл большой белой простыней. Простыня оказалась не шелковой, а хлопковой, но шелковая в этой простой деревенской обстановке смотрелась бы немного неестественно.
Хенрик, и без того не склонный к коротким прелюдиям, сегодня растянул предварительные ласки до невозможности, словно собирался обойтись только ими. Рикке очень скоро вознеслась на вершину блаженства и уже не спускалась с нее, потому что Хенрик не давал ей спуститься. Его язык и губы были сегодня невероятно активными. Рикке ощущала телом крепость напрягшегося естества Хенрика, но совершенно не думала о том, когда он пустит его в дело, потому что и без того ей было так хорошо, как не бывает. Новое место явно располагало к новым ласкам и новым ощущениям. Собственно, ласки были не новыми, новым были ритм и продолжительность, но у Рикке просто дух захватывало от счастья. Она не успевала благодарить любимого за доставляемое удовольствие, а уж на то, чтобы удивляться перемене в его поведении, времени совершенно не оставалось. Рикке только успела подумать, что где-то здесь явно таится волшебство – то ли оно заключено в самом домике, то ли разлито во всем Борнхольме. Или это местный неспешный ритм жизни создает особую ауру, в которой люди раскрываются, подобно волшебным цветкам? Так, что хорошее становится самым лучшим. Или кто-то дает Рикке понять, что Хенрик самый лучший из лучших, что все остальные мужчины ему даже и в подметки не годятся? Возможно, что и так, ибо секс на Борнхольме не просто затмил все испытанное с Нильсом и теми, кто был раньше, он вытеснил эти воспоминания из памяти Рикке. Воспоминания нужны для того, чтобы сравнивать, но то, что Рикке сейчас пережила, сравнивать было не с чем. Это все равно, что сравнивать водопад с ручейками, океан с лужей или кильку с китом.
– Жаль, что сейчас не лето, – шепнул Хенрик, когда, обессиленные, они лежали обнявшись. – Здесь на берегу есть одно чудное местечко, которое летом выглядит бесподобно…
– Лето еще будет, – улыбнулась Рикке, слушая размеренное биение его сердца.
Все еще будет, и с каждым разом все будет лучше и лучше. Плохое осталось позади. Навсегда…
Так хорошо лежать рядом с любимым в уютном жилище. Угли в камине освещают потолок красным сиянием, от которого становится тепло не только телу, но и душе. Угли словно говорят: «Мы здесь, мы храним ваш покой и пусть вам не будет дела до непогоды, до проблем, до всего этого большого, несуразного и неуютного мира. Сейчас у вас есть только вы, и ничего больше».
Хенрик и Рикке, Хенрик и Рикке, Хенрикке, Хенрикке, Хенрикке…
Наконец феям, несущим сон, надоело бездельничать, и они взмахнули своими крыльями над Рикке. Увидев, что она заснула, Хенрик очень осторожно высвободил руку и встал, чтобы подложить дров в камин. Судя по выражению его лица и по тому, как деловито он начал одеваться, Хенрик собирался бодрствовать всю ночь.
Рикке проснулась от того, что у нее затекло тело. Еще не открывая глаза, она попыталась повернуться на бок, но почему-то не смогла и от удивления проснулась окончательно.
Окна наглухо закрыты деревянными ставнями, дрова в камине пылают вовсю, в комнате жарко, руки и ноги Рикке прикованы наручниками к каким-то цепям, которых вчера не было, а над ней стоит улыбающийся Хенрик.
«Святая Бригитта! – подумала Рикке, от изумления потеряв дар речи. – Хенрик ли это?! Вот уж неожиданность, так неожиданность…».
В груди заныло в ожидании чего-то удивительного и необычного.
– Доброе утро, милая, – сказал Хенрик.
Рикке не успела удивиться тому, что любимый мужчина одет в джинсы и футболку, как он склонился над ней и двумя пальцами зажал ей нос.
Получилось не эротично, а очень больно.
– Что за…
Договорить Рикке не удалось, потому что во рту у нее оказался пластиковый шар.
– Так будет лучше, милая, – Хенрик застегнул фиксирующий ремень.
Рикке попыталась выразить взглядом, что кляп это уже лишнее. Она не имела ничего против несвободы, делавшей получаемое удовольствие изысканно-острым, но кляп во рту ей не нравился. Во-первых, тем, что лишал возможности выражать словами свою радость от близости с Хенриком, а, во-вторых, тем, что не позволял сказать «стоп», если Хенрик зайдет слишком далеко.
Хенрик? Слишком далеко? Что происходит с ходячими воплощениями добропорядочности на острове Борнхольм? Уж не здесь ли некогда находился легендарный Льюсальвхейм?[146]
Сразу же вспомнилась песня любимой когда-то группы:
«The shining ones, the elves and the fairies, are beings ofenchanting beauty. They act as a thought or a fantasy Andit could be easy for you to be lead astray by their splendidlight. You may be lifted on their wings to the highest ofskies, but beware… In the next moment they may let you fall»[147]– Я не люблю, когда меня перебивают, – пояснил Хенрик, верно истолковав взгляд Рикке. – Ты же знаешь это. Если оставить твой рот свободным, ты непременно начнешь перебивать, а мне так хочется выговориться. Это такая же часть ритуала, как и татуировка.
«Что он несет?!» – удивилась Рикке, но удивление очень скоро сменилось ужасом, когда она увидела, как Хенрик садится за стол, на тот самый стул, на котором он сидел вчера и берет в руки нечто, весьма похожее на машинку для татуировки. Мозг, подстегнутый страхом, заработал быстро-быстро, складывая картину из разрозненных кусочков-пазлов.
Ужас прозрения нес в себе нотку разочарования в самой себе. «Как же я могла быть такой дурой?» – негодовала Рикке, одновременно пытаясь освободиться от своих оков. – «Спаситель! Мой мужчина! Воплощение датской добропорядочности!»
Замечать в прошлом было нечего, потому и упрекать себя было не в чем. А дергаться было незачем, ибо цепи, к которым были пристегнуты наручники, держались на совесть. Рикке дергалась, звенья туго натянутых оков позвякивали, дрова в камине потрескивали, а Хенрик что-то делал с машинкой и насвистывал себе под нос какой-то унылый мотивчик. Рикке в первый раз видела, то есть – слышала, чтобы Хенрик что-то насвистывал. Да и много чего еще она видела и слышала впервые. Со вчерашнего вечера в ее жизни началась эпоха великих открытий.[148] Своя, личная эпоха.
– Я быстро привыкаю к вещам и людям, – заговорил Хенрик, досвистев мелодию до конца. – Старая машинка была такой удобной, сама в руку ложилась. Мы с ней пережили вместе столько приятных минут, что сроднились, насколько может сродниться человек и аппарат для тату. Но, к сожалению, машинкой пришлось пожертвовать ради того, чтобы подставить Нильса.
Рикке вспомнила разъяренную физиономию Нильса.
– Оцени, как я быстро соображаю, а то мне и похвастаться некому. Твой неожиданный звонок застал меня врасплох, но я сразу же понял, как смогу использовать эту ситуацию. В крайнем случае, пришлось бы пожертвовать не только машинкой, но и тобой, милая Рикке. Но поверь, мне бы не хотелось душить тебя на скорую руку. Я люблю делать все по правилам, по порядку. Но свободу я люблю больше. Говорят, что наши тюрьмы чуть ли не самые комфортабельные на свете, но мне в тюрьму не хочется. Я не смогу спокойно жить на иждивении добрых датчан, которые исправно платят такие высокие налоги. Лучше я сам о себе позабочусь…
Особо яростным рывком Рикке выразила свое несогласие с тем, что Хенрик должен оставаться на свободе.
– И о тебе я тоже позабочусь, милая, – тон у Хенрика был ровным и дружелюбным. – Я испытываю по отношению к тебе самые нежные чувства и поэтому отнесусь к тебе с нежностью. Ты будешь задушена подушкой…
Рикке дернулась еще сильнее, так что в конечностях запульсировала боль. Или руки-ноги болели уже давно, просто Рикке не обращала на боль внимания, а сейчас, вот, обратила.
– Смерть от подушки куда приятнее, чем от удавки, – как ни в чем не бывало, продолжал Нильс. – Тем более, что новой удавкой я обзавестись не успел. Ты знаешь, Рикке, я давно подумывал о том, что татуировать живых интереснее и приятнее, чем мертвых и вот сейчас самое время попробовать. Новая машинка ознаменует начало нового стиля. Живой материал лучше чувствуешь, а для художника очень важно чувствовать материал.
Рикке издала протестующий стон.
– В мертвом материале есть своя прелесть, Рикке, – Хенрик отложил машинку в сторону и сцепил слегка подрагивающие пальцы рук в замок. – Тело, из которого только что ушла жизнь, привлекало меня своей покорностью. Оно было похоже на холст, натянутый на раму, только холст этот был теплым и меня с ним кое-что связывало. Холст – это просто холст, а тело, которое совсем недавно было живым, находилось и продолжает находиться в моей власти… Никто не обратил внимания на то, как бережно обращался я с моими избранницами. Ни одного синяка на теле, ни одной царапины, кроме следа на шее. Когда ода из них случайно сломала ноготь, я так жалел об этом…
«Могу себе представить», подумала Рикке.
– Настоящий художник не станет портить свой холст… Ты не думай, Рикке, я не тебе объясняю, ты все равно ничего не поймешь. Я, всего лишь разговариваю сам с собой, а ты всего лишь немая статистка. Твоя задача – лежать и напитываться страхом. Когда ты созреешь, я сделаю тебе тату, а потом мы сольемся в едином экстазе в последний раз в жизни. Я задушу тебя, когда ты будешь на вершине оргазма, Рикке. О такой смерти можно только мечтать.
Рикке издала короткий стон, похожий на хмыканье. Смысл был таков – если о такой смерти можно только мечтать, то давай поменяемся и я придушу тебя, когда ты начнешь извергать семя. На такую любезность я вполне способна.
Она и впрямь была способна убить Хенрика, чтобы спасти свою жизнь. Но одного желания мало, нужны еще и возможности, а с возможностями было плохо. На всякий случай, Рикке решила не тратить силы понапрасну и перестала дергаться, тем более что уже поняла – наручники и цепи крепкие, силой освободиться не удастся, если только хитростью. В глубине души Рикке, в самой-самой глубине, еще теплилась надежда на то, что Хенрик шутит. Рикке прекрасно понимала, что он не шутит, для этого было достаточно в глаза ему посмотреть, но надежда еще не исчезла окончательно.
– Я не убийца, Рикке и не маньяк. И уж тем более не монстр. Я всего лишь – коллекционер, только вместо картин, я коллекционирую женщин и связанные с ними впечатления. Для того чтобы женщина не просто стала моей, но и оставалась моей вечно, я должен стать ее последним мужчиной. Чтобы после меня она уже никому больше не принадлежала. Я, знаешь ли, не люблю, когда мне изменяют, Рикке. Помалкиваю до поры до времени, но… Впрочем, история с Нильсом говорит сама за себя и в комментариях не нуждается. Ты знаешь, я был так зол, что мог и тебя убить прямо там же, изобразив все так, словно ты погибла от рук Нильса, но тогда бы ты осталась его женщиной… И потом ты как нельзя лучше подходишь на роль первой леди, первой на новом этапе моего творчества. Можешь рассматривать это как мой прощальный подарок. Нет, прощальным подарком станет подушка, которую положу тебе на лицо. Никакого синтепона или холофайбера, Рикки, только натуральный гусиный пух. Местные аборигены выращивают чудных гусей, огромных как страусы и голубоглазых. А по углам своих подушек они вышивают затейливой вязью четыре буквы «д» и две буквы «с», что означает «во сне вы столь сладко мечтаете»![149] Я обожаю местных аборигенов. Жаль, что ты с ними не познакомишься и они с тобой тоже. Я больше не выставляю свои произведения на всеобщее обозрение. Во-первых, потому, что после смерти Нильса делать это было бы глупо, а, во-вторых, никто, кроме тебя, не смог проникнуть в смысл моих посланий. Или, вообще, не пытался. Ты должна понимать, как ранит художника безразличие толпы, ты ведь психолог, и вообще умница. Тебе должно быть знакомо такое понятие как сублимация?[150] Если знакомо, то закрой на секунду глаза.
Рикке послушалась. Монолог превращается в диалог и это уже кое-что, это дает шанс. Еще бы от кляпа избавиться и можно будет попытаться отговорить Хенрика или просто потянуть время… А зачем тянуть время? Кто сюда может прийти? Неужели Хенрик будет татуировать ее вживую? Это, наверное, так больно… А подушка на лице – так ужасно… И Хенрик еще говорит об оргазме? Какой может быть оргазм с такой перспективой?
– Давным-давно, когда мне было пятнадцать, я хотел сделать тату. Ничего вызывающего – всего-то руну «эйваз», знак защиты, но мой папаша, узнав об этом, строго-настрого запретил мне, как он выразился «уродовать себя». Надо было знать моего старика, так как знал его я, чтобы понимать, что мне грозит в случае непослушания. Его звали Леннарт, лев, и он был самым деспотичным деспотом, которого только можно было представить. Я отказался от своей идеи, а потом как-то перегорел. Но, настал день и меня снова потянуло к татуировкам, только теперь я понял, что рожден быть художником, а не холстом для чужих произведений. В роли холста есть что-то унизительное, подчиненное. Извини, Рикке, что я говорю об этом так прямо, тебе, наверное, неприятно это слышать, но так уж распорядилась судьба. Я – художник, а ты мой холст и ничего с этим не поделаешь, можно только смириться.
Рикке молчала. Смириться? Да разве это возможно?
Хенрик встал, подошел к камину, поворошил кочергой поленья, добавил к ним одно новое, и вернулся за стол.
– Для тебя лучше, Рикке, если здесь будет жарко. Тепло помогает обрести спокойствие. Тепло отгоняет страх, расслабляет не только члены, но и душу. А потом, когда части твоего тела отправятся на дно моря, тебе уже будет все равно.
Иллюзии и надежды исчезли, и причиной тому был обыденный, спокойный тон, которым Хенрик говорил столь ужасные вещи. Его спокойствие не оставляло Рикке шансов на спасение. Так спокойно говорят о страшном только те, чье желание убивать невозможно поколебать никакими доводами. От неудобного положения затекшее тело начало болеть и в покое.
– Наша с тобой тайна будет навечно скрыта в воде, поэтому я дам тебе руну «перт», символ тайны и руну «лагуз», символ воды. Вода и тайна, тайна и вода. Не волнуйся – прежде, чем мы приступим к заключительному акту нашей драмы, я дам тебе возможность полюбоваться на мое творение, насладиться экспрессией линий, их изяществом… Теперь у моих творений будет всего по одному зрителю, но я утешаюсь мыслью о том, что один неравнодушный зритель стоит миллиона равнодушных. Я отправил целых четырнадцать посланий и только ты смогла проникнуть в их суть! Рикке, я вижу, что ты начинаешь принимать правила нашей игры. Если я сниму кляп, ты не станешь кричать? Тебя никто не услышит, а вот я могу разозлиться.
Рикке помотала головой, давая понять, что кричать она не будет. Когда Хенрик снял кляп, она подавила желание обложить его самыми грязными словами, которые только знала, и задала вопрос, на который никто не мог найти ответа:
– Как ты находил женщин для своих нужд? Все эти четырнадцать женщин, как ты заманивал их к себе?
– Тридцать пять, – с горделивой улыбкой поправил Хенрик, присаживаясь на диван рядом с Рикке. – Тридцать пять. Не все экспонаты моей коллекции выставлялись на всеобщее обозрение. Истинным коллекционерам не свойственно хвастаться своими сокровищами.
– А ты хвастался, – вырвалось у Рикке.
Упрек – не упрек, укол – не укол, но хотелось хоть как-то досадить Хенрику.
– Я играл в увлекательную игру, – поправил Хенрик. – Забавлялся, можно сказать.
– Но как тебе удавалось…
– Все очень просто, проще и быть не может. Я находил подходящий объект, некоторое время наблюдал, а потом изображал случайную встречу, выражал свое восхищение, представлялся художником и просил разрешения написать портрет. Некоторые соглашались позировать сразу, а тех, кто отказывался, я уговаривал уделить мне немного времени, чтобы я мог сделать фотографии…
– Какие фотографии?
– Фотографии, по которым можно будет впоследствии написать портрет.
– И что – они так вот сразу соглашались ехать неведомо куда с незнакомым человеком? – не поверила Рикке.
– Так вот сразу ехать, как ты выражаешься, согласились всего трое, – усмехнулся Хенрик. – Я же не просто так просил, а предлагал весьма неплохие деньги. Одна полька, как услышала, сколько я плачу за сеанс, потеряла дар речи. Сказала, что готова ехать со мной прямо сейчас, только ей надо убрать машину со служебной стоянки. Я поехал за ней, так она оглядывалась буквально каждую секунду – боялась, что я отстану. Но фотографии или позирование были всего лишь предлогом для того, чтобы заманить глупую дурочку ко мне в машину. Вне зависимости от согласия или отказа, альбом с репродукциями моих работ хотели посмотреть все, женщины очень любопытны по своей природе. А альбом я сделал таким большим и тяжелым, чтобы рассматривать его стоя было неудобно. Они садились в мою машину без опаски, потому что я держался естественно и внушал доверие…
«Да, этого у тебя не отнять, – подумала Рикке, глядя на лоб Хенрика, покрытый мелкими капельками пота. – Доверие внушать ты умеешь».
Самой ей было совсем не жарко, даже наоборот, несмотря на то, что в комнате было хорошо натоплено при наглухо закрытых окнах.
– Главное – это восхищение, – пояснил Хенрик. – Я так искренне восхищался красотой моих избранниц, и вел себя так деликатно, даже робко, что ни одна из рыбок не сорвалась с крючка. А в машине все было просто – инъекция снотворного, плед сверху и тихая романтическая поездка по Копенгагену. Как говорят братья-норвежцы: «Ros ikke fisken før den er på kjele»[151]. Чудесный способ, причем совершенно безопасный, ибо не оставляет никаких следов в биографии жертвы. И, если бы даже, кто-то из них отказался посмотреть мои работы, то никогда бы не связал робкого чудаковатого любителя живописи с монстром по прозвищу Татуировщик. Знала бы ты, милая, с каким удовольствием я читал все, что обо мне писали. А уж как приятно мне было помогать тебе искать меня… Ты определенно родилась с серебряной ложкой во рту, Рикке. Ты получила ответ на все свои вопросы. Надеюсь, твое любопытство удовлетворено?
– А где ты делал это? У себя дома?
– Да, милая, на той самой постели, на которой мы так сладко любили друг друга, только застилал ее полиэтиленовой пленкой. Ты никогда не обращала внимания на кольца? Ну да, ты же никогда не заглядывала под кровать…
Хенрик встал. Рикке вспомнила, что она психолог и поторопилась сказать:
– Я понимаю тебя, Хенрик! Понимаю! Моя мать была таким же деспотом, как и твой отец! Мы с тобой – собратья по несчастью…
– Если бы ты понимала меня… – начал Хенрик, снова вставляя шар в рот Рикке.
Договаривать он не стал, вздохнул печально, погладил Рикке по щеке и вернулся к столу.
Вот теперь уже никакой надежды не осталось. Ни на то, что Хенрик шутит, ни на то, что его удастся переубедить. Добро пожаловать в Хельхейм,[152] Рикке! Будучи не в силах выносить весь этот ужас, Рикке впала в состояние, похожее на беспамятство. Все чувства притупились, окружающий мир заволокло вязким туманом, через который звуки доходили с трудом, четкие очертания предметов расплылись, тело больше не болело, озноб исчез, но и жарко не было желаний никаких не осталось, время, казалось, замерло. Рикке дышала, сердце ее билось, кровь бежала по сосудам, глаза видели какие-то пятна, до ушей доносились какие-то звуки, но это уже было не похоже на жизнь и еще не похоже на смерть…
Очнулась Рикке от острой, пронзительной боли в животе. Сразу же вспомнила, где она находится, поняла, что Хенрик начал делать татуировку, а еще поняла, что он оседлал ее бедра, придавил к дивану весом своего тела и дергаться и извиваться теперь не получается, разве что только головой можно двигать.
Хенрик успел раздеться. Багровый член его задорно торчал вверх, но сейчас это зрелище Рикке совершенно не вдохновляло. Она только с сожалением подумала о том, что Хенрик вряд ли даст ей пососать его. А то бы можно было бы сомкнуть зубы покрепче и постараться прихватить с собой в Хельхейм частичку Хенрика, а то и всего, ведь ранения пенисов сопровождаются большой кровопотерей. От боли Хенрик может потерять сознание и изойти кровью. Но Хенрик не дурак, поэтому умирать Рикке придется с этим проклятым шариком во рту.
– Рикке! – окрик Хенрика хлестнул, словно бич. – Лежи спокойно! Тебе же самой будет приятно, если татуировка получится красивой. Это же последнее украшение в твоей жизни.
Очень нужно Рикке такое «украшение»! Можно подумать, что она о нем просила.
– Рука у меня легкая, – глумился Хенрик. – До сих пор никто не жаловался. Ты будешь довольна.
Еще укол, еще, еще…
Наступил момент, когда новые порции боли перестали ощущаться, а немного позже по животу вместо боли начало разливаться тепло, обжигающее, но, в какой-то мере, приятное… Рикке почувствовала, что внизу стала мокрой. Хенрик тоже ощутил это, то ли задом почувствовал, то ли уловил своим хваленым обонянием хорошо известный ему запах соков Рикке.
– Я не ошибался на твой счет, милая, – хриплым от возбуждения голосом сказал он. – Ты умеешь находить наслаждение в боли.
Он прервал процесс и поочередно коснулся своей адской машинкой набухших сосков Рикке, нежная кожа которых еще не отошла после вчерашнего. Коснулся не для того, чтобы оставить отметину, а просто чтобы уколоть. Получилось так больно, так восхитительно больно, так замечательно больно, что кожа Рикке от наслаждения покрылась мурашками, глаза заволокло пеленой, а соки из лона хлынули просто ручьем. Иглы татуировальной машины превратились в тысячи иголочек, уколы которых ощущались не только на животе, но и по всему телу Рикке, а вздыбленное мужское достоинство Хенрика, которое еще больше увеличилось в размерах, стало таким желанным, как прежде. Рикке продолжала ненавидеть Хенрика, но боль и страх ушли, уступив место наслаждению, а ненависть придавала всему происходящему оттенок утонченно-порочной изысканности, новый, неизведанный еще оттенок. Хенрик продолжал свое дело, но по шумному тяжелому дыханию, блеску в глазах, раскрасневшемуся лицу и по тому, как то и дело ему приходилось облизывать пересохшие губы, чувствовалось, насколько он возбужден.
Для Рикке, подбрасываемой волнами наслаждения все выше и выше, желанное сплелось с действительным тогда, когда она вдруг ощутила трепещущую плоть Хенрика глубоко внутри себя, хотя, на самом деле, до этого было еще далеко, потому что Хенрик только-только заканчивал первую руну, руну «перт», символ тайны. Две симметричные ломаные горизонтальные линии, соединенные одной вертикальной. Исполнение Хенрика отличалось от канонических правил тем, что толщина линий менялась от начала к концу и ложились эти линии друг на друга внахлест.
Это так восхитительно, когда тебя одновременно пронзают и изнутри и извне. Тысячи сладостных уколов ласкали тело Рикке снаружи, мощные волны наслаждения, зародившись в лоне, пульсируя, распространялись по телу. Наслаждение, щедро приправленное ненавистью, оказалось необычайно мощным, оно не просто охватило Рикке, а поглотило ее целиком. Теперь Рикке сама превратилась в наслаждение, шестьдесят пять килограмм чистейшего наслаждения, прикованных и прижатых к дивану и, в тоже время, парящих в высоко-высоко небесах…
Мир вокруг размылся, засиял радужными всполохами и поспешил взорваться. До содрогавшейся в экстазе Рикке донесся какой-то шум, но как донесся, так и пронесся мимо. Рикке было не до шума и, вообще, ни до чего.
19
Местная полиция была явно самой неторопливой в Дании. Закономерно, наверное, ведь удаленность от столичного шума, пасторальная атмосфера и островная изолированность не располагают к суете. В ожидании приезда коллег, Рикке успела не только немного прийти в себя, но и расспросить своего спасителя.
Они расположились на кухне, оставив гостиную на растерзание экспертам в «первозданном», если так можно выразиться, виде. К тому же, в гостиной было чересчур жутко, чересчур жарко, чересчур душно, да и тело Хенрика, раскинувшееся между входом и камином, не добавляло приятности атмосфере. Кочерга, с которой Хенрик набросился на нежданного гостя, наполовину высовывалась из под трупа. Пуля остановила Хенрика в момент замаха. Он выронил кочергу, а потом, рухнул навзничь, забрызгав пол кровью и ошметками мозгов.
Хороший полицейский не доводит дело до стрельбы. Хороший полицейский старается стрелять не на поражение, а в воздух. Но если хороший полицейский намерен уложить своего противника, то он стреляет в голову. Рефлекторно стреляет в голову, даже если видно, что на противнике нет никакого бронежилета, потому что он так натренирован.
– Это мой второй покойник, – сказал Оле, помогая Рикке одеться.
Никакого смущения Рикке не испытывала. Опустошенные сосуды, которые по капельке начинают заново наполнять жизнью, не ведают стыда, смущения, стеснительности и прочей ерунды, неизвестно зачем придуманной людьми.
Второй, так второй. Копенгаген – не Нью-Йорк и не Марсель. Здесь не принято часто доставать пушку во время работы, не говоря уже о том, чтобы стрелять из нее. Но в Копенгагене не принято и набрасываться на сотрудников полиции с тяжелыми металлическими предметами в руках, недвусмысленно демонстрируя намерение размозжить им голову. Тут уж все доводы идут побоку и ситуацией управляет древнее, как мир правило – успеть первым.
Оле успел. Поэтому Рикке сидит сейчас на кухне с кружкой горячего чая, который по сладости приближается к недавно пережитому оргазму (столько сахара насыпал в кружку мудрый и добрый Оле) и таращит глаза на своего спасителя. Наверное, первым делом надо выразить ему признательность за спасение, но Рикке прежде всего не терпелось узнать, какой тролль зашвырнул Оле Рийса на Борнхольм, да еще так вовремя.
– Я старый полицейский пес, девочка, истоптал на этой службе столько пар башмаков, что уже и не сосчитать. Неужели ты думаешь, что старина Оле, делая обыск, может проглядеть такие важные улики, как машинка для тату и удавку? Проглядеть то, что он и ищет? Так может думать только кретин, вроде Йоргенсена. Сам он при свете дня не увидит белого голубя, севшего на плечо трубочисту, потому и о других думает точно так же.
Глаза Оле были полны горького недоумения. Или то было сострадание?
– Но я-то знаю, что не нашел машинку с удавкой только потому, что их там не было! Я очень добросовестно отношусь к работе, чтобы там про меня не болтали, и глаза у меня пока что хорошо видят, а голова – хорошо соображает. Когда я обыскивал берлогу Нильса, там не было ни машинки, ни удавки. И пусть меня разразит небесный гром, если это не так.
Рикке выглянула в окно. По низкому темному небу медленно плыли клочковатые серые облака. Никаких намеков на громы и молнии.
– Ребята не торопятся, – прокомментировал Оле, неверно истолковав ее поведение. – Но мы, ведь, никуда не торопимся, верно?
Рикке подумала, что она очень торопится убраться из этого чертова дома, подальше от этого чертова острова, куда ее больше никогда не заманят никакие черти, но вслух этого говорить не стала, потому что надо было дождаться полиции и пройти через все установленные процедуры.
– Нельзя было исключить, что Нильс в тот день, когда я без спросу нагрянул к нему в гости, носил свои «инструменты» с собой, но ни в тот день, ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, нового трупа не было. Не исключено, что Нильс мог взять инструменты, намереваясь их использовать, но нельзя было исключить и того, что их подбросил Хенрик. Вцепляться в одну версию, полностью пренебрегая другой – это, как ты знаешь, не в моих правилах…
От всего пережитого, да горячего сладчайшего чая впридачу, у Рикке кружилась голова, но она внимательно слушала Оле.
– Я начал осторожно прощупывать твоего Хенрика. Пошел со школы, ты же знаешь, что я люблю заходить издалека. В прошлом кроется столько всего интересного, надо только найти и связать с…
Издалека донесся звук полицейской сирены.
– Что ты откопал у Хенрика? – Рикке, торопящейся получить информацию, пришлось перебить Оле, чтобы тот не трепал языком зря, а говорил дело.
– Оплата за шестидесятичасовое обучение фирме под названием «Fünf Goldene Nadeln Tattoo Studio»[153] в Мюнхене. Вот зачем датчанину из Копенгагена учиться делать татуировки в Мюнхене, когда в Копенгагене салонов тату развелось больше, чем борделей?
– Как ты нашел меня здесь? – Рикке поставила на стол стакан с недопитым чаем.
– Сложил два и два, добавил немного интуиции и нашел. Ты как сквозь землю провалилась и не отвечала на звонки, Кнудсен тоже куда-то пропал, а в заднице моей свербело беспокойство…
Две белые полицейские машины, гудя сиренами и мигая мигалками, остановились у дома. Сирены умолкли, но мигалки продолжали мигать.
– Я уже знал, что у Кнудсена есть дом на острове Борнхольм и подумал, что вы вполне можете оказаться здесь, – успел сказать Оле, прежде чем выйти навстречу приехавшим коллегам…
Добрый Оле спас Рикке не только от Хенрика, но и от местного врача по имени Гюнтер, сорокалетнего толстяка с цыплячьим пушком на лысой голове и глазами обиженного ребенка. Гюнтер явно страдал от безделья, потому что никак не соглашался отпустить Рикке после того, как обработал все ее раны с синяками и накачал ее успокаивающим. Кончилось тем, что Оле увез Рикке под свою ответственность после того, как она в сто пятьдесят первый раз заявила, что чувствует себя хорошо и вполне способна перенести дорогу до Копенгагена в качестве пассажирки. Гюнтер поволновался насчет того, что Рикке может укачать на пароме, выдал ей в дорогу блистер с какими-то таблетками, которые Рикке сразу выбросила и, пожав губы, сказал, что если госпоже Хаардер хочется совершать рискованные поступки, то он не в силах ей этого запретить. Рикке рассмеялась ему в лицо. Это возвращение домой в компании Оле – рискованный поступок? Неужели! Вот приехать сюда с Хенриком было рискованно, даже очень рискованно, а со стариной Оле можно смело отправляться хоть куда. Потом, отдышавшись от неповторимого и непередаваемого больничного запаха, царившего во владениях Гюнтера, Рикке подумала о том, что всего лишь сутки назад точно так же рассмеялась бы в лицо тому, кто попробовал бы сказать что-то дурное о Хенрике.
Хенрик и Рикке, Хенрик и Рикке, Хенрикке… Бррр! Рикке поежилась от пробежавшего по спине холодка и свежая татуировка тотчас же откликнулась болью. Совсем несильной, ибо болевой порог Рикке от всего пережитого и обезболивающе-успокаивающих препаратов притупился. Тем не менее, сидеть Рикке не могла. Она или лежала на заднем сиденье «паджеро» Оле или стояла у перил, как сейчас, и любовалась морскими видами.
Любовалась, без какого-либо преувеличения или иронии. Если жизнь, с которой ты уже почти рассталась, дарится тебе во второй раз, то ты очень долго будешь замечать во всем, что тебя окружает, только хорошее. Свинцовое море сливается по цвету с небом, а ледяной ветер норовит отшвырнуть тебя подальше? Ничего страшного, все равно лучше, чем в Хельхейме, тем более, что в Хельхельме никто не принесет тебе горячего кофе и не капнет туда чего-то из своей фляжки. И как красиво вспениваются белые гребни волн, разбивающихся о борт парома! И вообще, это так здорово – стоять, вцепившись одной рукой в поручень, а другой в кофе, подставлять лицо ветру, посматривать на стоящего рядом Оле и понимать, что ты живешь. Живешь! Живешь! А тот, кто хотел отнять у тебя жизнь, сейчас, должно быть, греется в кипящих водах Флегетона.[154] Туда ему и дорога.
Образ Хенрика в сознании Рикке раскололся надвое. Один Хенрик был добропорядочным, надежным, безыскусным, как ломоть хлеба. Другой оказался очень интересным субъектом (словом «человек» называть его не хотелось) – лучшим из любовников в жизни Рикке и жестоким серийным убийцей. По идее, обоих бы полагалось поскорее забыть. Заново пережить еще несколько раз все случившееся, чтобы смогли «прогореть», скопившиеся эмоции, и забыть. Сказать себе самой, что прошлое не должно портить будущего, и забыть.
Забыть, забыть, забыть… Но Рикке понимала, что ничего она не забудет. Дело не в том, что она пережила, дело не в том, наступит ли окончательная эмоциональная разрядка или не наступит. Дело совсем в другом. Дело в том, что ей почему-то хочется помнить…
Пока хочется.
– Не могу простить себе, что так запоздал, – негромко, как бы про себя, сказал Оле, но шум ветра не помешал Рикке услышать его слова. – Сколько тебе пришлось пережить, девочка. И еще эта чертова отметина…
– Оле, ты успел тогда, когда должен был успеть, – сказала Рикке, вкладывая в свои слова ведомый лишь ей смысл. – Ты успел, когда нужно. И вообще, главное, что ты успел, все остальное ерунда. Когда мы спустимся вниз, я обниму тебя Оле и расцелую. Я бы сделала это сейчас, но боюсь отпустить поручень, чтобы меня не унесло в море. Я никогда не смогу забыть то, что ты для меня сделал и поэтому выбрось на ветер это свое «не могу простить себе». Прямо сейчас!
Оле отпустил поручень (он был куда тяжелее Рикке и потверже стоял на ногах, поэтому мог себе это позволить), изобразил, как кидает за борт нечто увесистое и улыбнулся.
– Малыш Угле и старина Ханс будут немного нервничать, – сказал он. – Конечно, поимка Татуировщика будет представлена налогоплательщикам, как итог кропотливой и слаженной работы полиции Копенгагена, но лишить меня моей доли славы они не смогут. Теперь я уйду с гордо поднятой головой и развернутым флагом. Поимка Татуировщика – достойное завершение карьеры.
– А, может, ты не уйдешь, а пересядешь в кресло Мортенсена, – предположила Рикке. – Ты же теперь – нечто вроде национального героя, а героев полагается поощрять.
– Кресло Мортенсена не для меня, – усмехнулся Оле. – Я, видишь ли, извращенец. Я с удовольствием вылижу аппетитную девичью попку, но, ни за какие блага этого мира, не стану лизать волосатую задницу Малыша Угле. Тем более, что Мортенсена есть кем заменить. Но я не останусь внакладе, потому что теперь мои шансы найти себе достойную работенку резко возросли. Кто откажется заполучить в свое агентство детектива, поймавшего самого Татуировщика?.. Рикке, ты спишь стоя?
– Нет, я просто задумалась о том, почему некоторые трупы были обвязаны веревками. Забыла спросить. Теперь никогда не узнаю…
– Радуйся, что тебя не обвязали, – грубовато посоветовал Оле.
Рикке пила кофе, любовалась морским видом, радовалась жизни, радовалась за себя, радовалась за Оле, и все никак не могла решить, что ей делать с татуировкой – свести или оставить. А, может, не просто оставить, а «дорисовать», чтобы татуировка стала симметричной? Оставить не как память о Хенрике, а как нечто, принадлежащее ей и только ей одной.
Руна «перт», символ тайны, символ того, что скрыто, но может открыться. А может и не открыться. Каждый человек – тайна. Жизненный путь – тайна. Судьба мира – тайна. Тайны окружают нас и каждый из нас тоже тайна и часть какой-то общей тайны. Стоит ли избавляться от руны «перт», да еще в таком оригинальном, можно сказать – уникальном исполнении. Пусть уж останется руна, чем шрам после ее удаления. Или если удалить сейчас, пока все свежо, никакого шрама не останется? Нет, лучше, все же, не удалять. Если Провидению было угодно «наградить» Рикке таким вот отличительным знаком, пусть и при весьма драматических обстоятельствах, то так уж тому и быть. Неспроста, ведь, наверное, Оле появился в тот момент, когда Хенрик закончил одну руну и еще не успел приняться за другую. В этом определенно есть смысл. Рикке не нужна руна «лагуз», руна воды, похожая на зеркальное отображение единицы. Оле избавил Рикке от мрачной перспективы быть утопленной в расчлененном виде в Балтийском море.
Рикке снова поежилась и снова в животе неприятно кольнуло. Словно татуировка просила не избавляться от нее, напоминая, что теперь она – часть тела Рикке. «Перт» – руна тайны, руна судьбы, руна возрождения. «Перт» – руна верховной богини Фригг, супруги самого Одина, покровительницы любви и домашнего очага, а также провидицы, которой ведомы судьбы всего сущего. Знак Фригг – не тот знак, от которого стоит избавляться. Рикке кое-что смыслила в рунах. Не столько, конечно, сколько покойный Нильс, а именно кое-что. В подростковом возрасте, подобно многим сверстникам, некоторое время увлекалась гаданием по рунам.
«Оставлю, как есть, – решила Рикке и, не будучи по природе любительницей наглухо запертых дверей, оставила себе маленькую лазейку. – Свести всегда успею, если надоест». Это была дипломатичная оговорка и ничего более, потому что память о небывалых по силе ощущениях и чудесном спасении, надоесть не может. Симметрия? Симметрия присутствует – если место для второй руны было оставлено, но там ничего не нарисовали, то можно считать, что там у тебя руна «вирд», руна пустоты, знак Одина, символ непостижимой неотвратимости высшего промысла. Все симметрично…
– Ты замерзнешь! Пошли вниз! – беспокоился Оле.
Рикке отвечала ему благодарной улыбкой, но не двигалась с места. Здесь, на ветру, над волнами, была настоящая жизнь. И кофе, в который Оле добавил добрую порцию коньяка, на ледяном ветру пьется с особым удовольствием. Допив кофе, Рикке опустила картонный стаканчик в висевшую на поручне урну, и, вместо того, чтобы взяться освободившейся рукой за поручень (двумя ведь держаться надежнее), сунула ее в карман куртки. Рука наткнулась на какую-то твердую кругляшку. Рикке вытащила ее, чтобы рассмотреть.
Кругляшкой оказался привет из прошлой жизни – магнитик с озорным троллем Крёлле-Бёлле. Рикке совсем забыла о нем, как и о купленных пивных кружках. Но черт с ними, с кружками, они покупались для нее и Хенрика, пара для пары (снова мороз по коже) и сейчас Рикке нет до них никакого дела. А магнитик она прицепит на холодильник. Если уж Крёлле-Бёлле увязался за ней, нельзя швырять его в воду. Тролли не прощают обид.
А люди? Люди прощают обиды?
– Ты можешь считать меня идиоткой, Оле, – вдруг сказала Рикке, пряча магнитик обратно в карман, а то еще Крёлле-Бёлле простудится на ветру, – но как-нибудь я выберусь на Борнхольм снова. Я его толком-то и не разглядела, сначала было не до того, а потом – тем более.
– Только подбери себе хорошую компанию, чтобы мне не пришлось снова бросать все дела и мчаться за тобой! – рассмеялся Оле. – И не забудь в Копенгагене поставить мне выпивку. По принципу «all you like».[155] Даром я, что ли, тебя спасал?
– Я поставлю тебе выпивку дважды, – сказала Рикке, вспомнив о своих подозрениях в отношении Оле. – По принципу «all you like». Только не спрашивай меня о том, за что ты получишь вторую выпивку.
– Зачем спрашивать? – пожал плечами Оле. – Я и так знаю – когда-то ты подозревала, что я и есть Татуировщик, и сейчас тебе немного неловко вспоминать об этом. Не забивай себе голову очередным комплексом – я бы и сам себя заподозрил. Одинокий неудачник-пьяница с гнусным характером, с опытом и возможностями детектива…
Поддавшись внезапному порыву, Рикке обняла Оле за шею, прижалась щекой к его мокрой куртке и разрыдалась. Одинокий неудачник-пьяница с гнусным характером гладил ее по голове шершавой ладонью и посторнний наблюдатель мог подумать, что это любящий отец утешает свою дочь.
Сноски
1
«Бездна взывает к бездне» – лат.
(обратно)2
Новостной канал датского теевидения.
(обратно)3
Politiken – датская ежедневная газета.
(обратно)4
Ведущий датский национальный телеканал.
(обратно)5
Ugle – филин (датск.)
(обратно)6
Сибари – японская техника эстетического бондажа с преимущественным использованием веревок, отличающаяся эстетичностью и повышенной сложностью обвязок.
(обратно)7
Херсхольм – город-спутник Большого Копенгагена.
(обратно)8
Торговый центр в Копенгагене.
(обратно)9
«Декстер» – американский телесериал канала Showtime рассказывающий о Декстере Моргане, серийном убийце, работающем экспертом по брызгам крови в полиции Майами. Декстер выбрасывает расчлененные тела своих жертв в воды Атлантического океана.
(обратно)10
Нёрребро – район на северо-востоке Копенгагена, один из 10 городских округов, преимущественно население составляют иммигранты-мусульмане – арабы, турки, пакистанцы, боснийцы, албанцы, сомалийцы.
(обратно)11
Национал-консервативная партия Дании, третья политическая партия по значимости в парламенте.
(обратно)12
Кнуд Великий или Кнуд Могучий (994/995–1035) – король Дании, Англии и Норвегии, славившийся своей мудростью.
(обратно)13
Торговая сеть.
(обратно)14
Пес из одноименного мультсериала.
(обратно)15
Пригород Копенгагена.
(обратно)16
Гэри Леон Риджуэй – американский серийный убийца, совершивший многочисленные убийства женщин в 1980-х и 1990-х годах.
(обратно)17
Игра слов от «bamse» – «медвежонок» датск.
(обратно)18
Игра слов, «blid» в переводе с датского означает «нежный, нежное», а blød «мягкий, мягкое», т. е. Рикке предвкушает, как ее сейчас укусят за нежное и мягкое место.
(обратно)19
Район Копенгагена.
(обратно)20
По старинному обычаю (лат.)
(обратно)21
Дословный перевод с датского «Некто Татуировщик» – похоже на скандинавские имя и фамилию.
(обратно)22
Три башни изображены на гербе Копенгагена.
(обратно)23
Намек на шведский Орден Полярной звезды, которым награждаются иностранные граждане за важный вклад в развитие связей со Швецией. Среди награжденных этим орденом много датчан. Орденский знак представляет собой мальтийский крест белой эмали.
(обратно)24
Рабочий день в Дании начинается в 7 – 8 часов утра.
(обратно)25
Район на западе Копенгагена (название переводится как «западный мост»), считающийся одним из самых криминогенных.
(обратно)26
Рингстед – город, расположенный неподалеку от Копенгагена.
(обратно)27
Lotto – датская лотерея.
(обратно)28
Курс датской кроны к рублю примерно 1 к 5,8.
(обратно)29
Одна из крупнейших церквей Копенгагена.
(обратно)30
Датские телеканалы.
(обратно)31
Søværnet – военно-морской флот Дании.
(обратно)32
Кертеминне – датская коммуна в составе области Южная Дания.
(обратно)33
Христиания (она же Свободный город Христиания или Вольный город Христиания) – частично самоуправляемое, неофициальное «государство в государстве», расположенное в районе Копенгагена Кристиансхавн.
(обратно)34
Улица в центре Копенгагена, соединяющая действующую резиденцию датской королевской семьи дворец Амалиенборг с церковью св. Фредерика, более известной как Мраморная церковь.
(обратно)35
Лангелиние – пристань и парк в центре Копенгагена. В нем расположена знаменитая Русалочка.
(обратно)36
Тиволи – знаменитый парк развлечений в центре Копенгагена.
(обратно)37
Район Копенгагена.
(обратно)38
Название концепции (образа жизни), в основу которой положено наслаждение бытием. Дословно переводится как «уют».
(обратно)39
Витрувианский человек – рисунок, нарисованный Леонардо да Винчи примерно в 1490-92 годах в качестве иллюстрации для книги, посвящённой трудам римского архитектора и механика Витрувия. На нём изображена фигура обнажённого мужчины в двух наложенных одна на другую позициях: вписанная в окружность с разведёнными в стороны руками и ногами и вписанная в квадрат с разведёнными руками и сведёнными вместе ногами.
(обратно)40
Ордрупгаард – музей искусств, где хранится обширное собрание французской и датской живописи рубежа 19 – 20 веков. Расположен в пригороде Копенгагена Шарлоттенлунде.
(обратно)41
«Køpmannæhafn» – «гавань торговцев» старинное название Копенгагена.
(обратно)42
«Dansk Rigspolitiet ApS» переводится как «ЗАО Датская полиция»
(обратно)43
«Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд»
(обратно)44
Карл Генрих Блох (Carl Heinrich Bloch, 23.05.1834-22.02.1890) – великий датский художник.
(обратно)45
Педер Морк Менстед (Peder Mork Monsted, 10.12.1859-20.06.1941) – мастер пейзажа, один из ярких представителей «золотого века» датской живописи.
(обратно)46
Фигуративизм – направление в изобразительном искусстве, акцентированное на изображении человеческой фигуры, реже – животных.
(обратно)47
Люсьен Фрейд (Lucian Michael Freud, 8.12.1922-20.07.2011) – известный английский художник.
(обратно)48
Nikolajkunsthal – крупный центр современного искусства в Копенгагене.
(обратно)49
Боб Марли (Bob Marley, полное имя Robert Nesta Marley, 1945 – 1981) – ямайский музыкант, гитарист, вокалист и композитор.
(обратно)50
С 2009 года Национальный банк Дании проводит замену серии банкнот 1997 года с изображениями знаменитых датчан на новую, темой которой являются мосты Дании. На старой банкноте номиналом в сто крон был изображен композитор и дирижер Карл Нильсен, а на новой – мост Лиллебельтсбро. На старой банкноте номиналом в пятьсот крон был изображен физик Нильс Бор, а на новой – мост королевы Александрины, называемый также Мост Мон.
(обратно)51
Sondagsavisen – популярный датский еженедельник.
(обратно)52
Пешеходная зона в центре Копенгагена.
(обратно)53
Речь идет о королеве Великобритании Елизавете II, относящейся к Виндзорской династии.
(обратно)54
Глюксбурги (полное название – Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург) – династия, к которой относится королева Дании Маргрете II.
(обратно)55
Smørrebrød (дословно «хлеб с маслом») – сложный датский бутерброд, обязательной частью которого является сливочное масло.
(обратно)56
«Пей до дна или остаток прольется на твои волосы!», распространенный датский тост.
(обратно)57
Альн («локоть») – старинная мера длины, принятая в Скандинавии. Датский альн равен 62,8 см.
(обратно)58
Havarti – сорт полутвердого датского сыра, изготовленного из пастеризованного коровьего молока и имеющего острый пикантный аромат.
(обратно)59
Согласно старинному датскому поверью, подстригать ногти в пятницу – к счастью.
(обратно)60
11 ноября католическая церковь чтит память Святого Мартина, архиепископа Турского, в этот день в 397 году состоялись его похороны. В честь святого в этот день принято подавать милостыню.
(обратно)61
Bang & Olufsen (B&O) – датская компания, производящая элитные аудио- и видеосистемы, а также телефоны класса Hi-End.
(обратно)62
Игра слов, kunst по-датски означает «искусство».
(обратно)63
От «smuk», что означает красивый.
(обратно)64
В Дании не выбрасывают пластиковые бутылки, а сдают в пункты приема, расположенные в супермаркетах.
(обратно)65
Роскошный отель в центре Копенгагена близ дворца Амалиенборг.
(обратно)66
Пол Ньюмен (род. в 1925 г.) – американский киноактер и режиссер.
(обратно)67
«Кошка на раскаленной крыше» – драматическая картина Ричарда Брукса, снятая в 1958 году по одноименной пьесе Теннесси Уильямса.
(обратно)68
Sød drøm – сладкий сон (датск.)
(обратно)69
Обращение к девушкам и незамужним женщинам в Дании.
(обратно)70
Kop og underkop – чашка и блюдце (датск.) Слово underkop (дословно – то, что под чашкой) можно перевести и как недокоп, т. е. недополицейский.
(обратно)71
Vrøvl – никчемные люди, отребье, быдло.
(обратно)72
Skål – традиционный датский (скандинавский) тост, дословно переводящийся как «ура».
(обратно)73
Аквавит – скандинавский алкогольный напиток, крепостью 38-50 % на основе спирта, полученного путем переработки картофеля. Название напитка происходит от латинского выражения aqua vitae, что переводится как «живая вода». «Линье» – дорогой сорт аквавита, выдержанный в бочках из дерева вишни на кораблях, которые плывут в южное полушарие и обратно. «Линье» – означает «линия экватора», которую дважды пересекают бочки. Считается, что качка на волнах, вызывающая постоянное движение содержимого бочки, способствует лучшему впитыванию аромата дерева.
(обратно)74
Se og Hør – популярный датский таблоид, название которого переводится как «видеть и слышать».
(обратно)75
В 2006 году Совет по этике в отношении животных при министерстве юстиции Дании постановил, что сексуальная связь человека с домашним животным не подлежит запрету и не может считаться жестоким обращением, за исключением случаев открытой демонстрации или порнографических съемок.
(обратно)76
Бьярне Хенриксен – популярный датский киноактер.
(обратно)77
Worm – червь (датск., англ., нем.)
(обратно)78
Харальд Прекрасноволосый (ок. 850 – ок. 933) – первый король Норвегии, родоначальник династической ветви Хорфагеров.
(обратно)79
Город близ Копенгагена.
(обратно)80
Промышленный район.
(обратно)81
Старина Йокель – прозвище датского комедийного актера Даниеля Якоба Хаугорда (Daniel Jacob Haugaard).
(обратно)82
В городе Вордингборг на юго-восточном побережье острова Зеландия находится крупная психиатрическая клиника в составе которой работает центр экспертизы.
(обратно)83
Закрытая мужская тюрьма неподалеку от Копенгагена.
(обратно)84
Нюборг – небольшой город и порт в Дании, на восточном берегу острова Фюн.
(обратно)85
Саб («sub» – сокращение от английского слова «submissive», означающего «покорный», «безропотный») – наименование подчиненного партнера.
(обратно)86
Согласно легенде верховный бог Один повесился на Мировом дереве Иггдрасиль и провисел на нем в течение девяти дней и девяти ночей, чтобы получить знание рун.
(обратно)87
Thorshamar (дословно «Молот Тора») – древний скандинавский символ силы.
(обратно)88
Намек на Либеральную партию Дании, самую крупную в стране, славящуюся различными хитрыми уловками на грани обмана. Сокращенное название партии – «Венстре», то есть «левая».
(обратно)89
JYSK – датская розничная сеть (мебель, декор и т. д)
(обратно)90
Окраинный район Копенгагена.
(обратно)91
В прятки мы играем вместе. В прятки мы играем в любую погоду. Раз, два, три – я стану искать вас и найду! (англ.)
(обратно)92
Хелле Торнинг-Шмитт – премьер-министр Дании, лидер Социал-демократической партии.
(обратно)93
Микаэль Крон-Дели – датский футболист, полузащитник национальной сборной Дании.
(обратно)94
PET (Politiets Efterretningstjeneste) – служба безопасности и разведки Дании.
(обратно)95
Pebber Nodder – датское рождественское печенье из песочного теста с ароматом корицы и кардамона.
(обратно)96
Круглая башня – одно из зданий Копенгагенского университета.
(обратно)97
Си-пи (CPR-nummer или personnummer) – национальный идентификационный номер гражданина Дании или временно проживающего лица.
(обратно)98
«Пей сидр, Лау, сидр хороший…».
(обратно)99
Улица в Копенгагене.
(обратно)100
Т.е. – первой половины 19-го века.
(обратно)101
Хрюнхент – стихотворный размер скальдической поэзии, обычно применявшийся в хвалебных песнях.
(обратно)102
«Der er et yndigt land» («Эта прекрасная земля») – национальный гимн Дании.
(обратно)103
Эресуннский мост – совмещённый мост-тоннель, включающий 2-путную железную дорогу и 4-полосную автомагистраль через пролив Эресунн, соединяющий Копенгаген и шведский город Мальмё. Общая длина 7845 метров.
(обратно)104
Марморброен («Мраморный мост») – небольшой мост в центре Копенгагена через канал Фредериксхолмс, построенный в первой половине 18-го века.
(обратно)105
Черт! (датск.)
(обратно)106
Выражение, аналогичное русскому «с незапамятных времен», «с самого начала». Гудфред – правитель Дании начала 9-го века.
(обратно)107
Образ королевы Дагмар (1186 – 1212) сохранился в народной памяти как идеал «доброй королевы».
(обратно)108
Это – одинокий мир / или мир одиноких (англ.)
(обратно)109
Дерьмовая страна (датск.)
(обратно)110
Башня отеля Crowne Plaza Copenhagen – одно из самых высоких зданий Копенгагена.
(обратно)111
Грубое шведское ругательство, дословно переводящееся как «чертов член». Примерно соответствует русскому «идиот».
(обратно)112
«Возьмись за задницу» (шведск.) Употребляется в значении «отстань от меня».
(обратно)113
«Отыметь меня в ухо!» (датск.)
(обратно)114
Двойной облом (англ.)
(обратно)115
«Svartskalle» дословно переводится со шведского, как ««черный череп». Употребляется в качестве оскорбительного названия иммигрантов из Южной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, и Латинской Америки. «Perker» – датский аналог «svartskalle».
(обратно)116
То есть, сторонник Народной партии Дании.
(обратно)117
Большой прибрежный парк в южной части Копенгагена.
(обратно)118
Город неподалеку от Копенгагена.
(обратно)119
Эсбьерг (Esbjerg) – город в Дании на западном побережье полуострова Ютландия.
(обратно)120
Не имеет ни хвоста, ни головы (франц.) – употребляется в значении «это ни на что не похоже».
(обратно)121
Еллинг – населённый пункт в Дании на полуострове Ютландия, в котором некогда царствовал и предположительно был похоронен датский король Горм Старый (Х век).
(обратно)122
Вагина (датск.)
(обратно)123
Оригинальное название «Never Talk To Strangers» – триллер 1995 года, снятый режиссером Питером Холлом.
(обратно)124
Оригинальное название «Basic Instinct» – эротический триллер 1992 года снятый режиссером Полом Верховеном. В главных ролях снялись Майкл Дуглас и Шэрон Стоун.
(обратно)125
Феномен множественной личности – раздвоение личности.
(обратно)126
Намек на фантастическую повесть британского писателя Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», посвященную теме двойников.
(обратно)127
Нехорошо пахнет тот, кто всегда хорошо пахнет (лат.)
(обратно)128
Индия – лучшая на востоке и на западе (англ.) – строка из популярной песни.
(обратно)129
Датская народная песня «Я знаю одну прекрасную розу»
«Я знаю одну прекрасную розу, чьи лепестки нежнее, чем у лилии, Когда я думаю о ней, мое сердце наполняется радостью. Ее голос – отрада для моего сердца. Он как нежные трели соловья, Такой милый и такой сладостный» (обратно)130
Популярные датские певицы.
(обратно)131
Родхуспладсен – площадь в центре Копенгагена на которой находится мэрия. В разговорной речи жителей Копенгагена слова «Родхуспладсен» или «ратуша» обозначают мэрию.
(обратно)132
«Ekstra Bladet» – «желтая» газета, одна из самых популярных в Дании.
(обратно)133
«Песня Сольвейг» – финальный эпизод Музыки к пьесе «Пер Гюнт» (соч. 23) норвежского композитора Эдварда Грига.
(обратно)134
Lampehoved – досл. «светлая голова», шутливое прозвище видных ученых и, вообще, людей, славящихся своим умом.
(обратно)135
Фэрд – прозвище дорожного полицейского в Дании (от «færdselspolitiet» – дорожная полиция)
(обратно)136
Номер 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб для всех стран Европейского союза.
(обратно)137
Кальмарская уния (Kalmarunionen) – объединение королевств Дании, Норвегии и Швеции под верховной властью датских королей (1397–1523).
(обратно)138
Датская поговорка аналогичная русскому «чем черт не шутит». Ночь святого Ханса – Иванов день.
(обратно)139
Небольшой город, расположенный в центре острова Зеландия.
(обратно)140
Грубое датское ругательство.
(обратно)141
Прим. перевод: «Поднявший тесак от кочерги погибнет». Намек на классическое библейское «Live by the sword, die by the sword», которое можно перевести как «взявший меч от меча и погибнет».
(обратно)142
Борнхольм (Bornholm) – небольшой датский остров в юго-западной части Балтийского моря.
(обратно)143
Кёге – город на восточном побережье острова Зеландия, недалеко от Копенгагена.
(обратно)144
Обращение к замужним женщинам в Дании.
(обратно)145
Флаг Дании представляет собой красный крест на белом фоне.
(обратно)146
Льюсальвхейм (Ljusalfheim) – в скандинавской мифологии родина светлых эльфов, прекрасный мир.
(обратно)147
Песня «Ljusalfheim» шведской симфоник-метал-группы Therion из альбома «Secret of the Runes» (2001)
Перевод:
«Сияющие эльфы и феи – существа неземной красоты. Они словно прекрасный образ, рожденный твоим воображением, Их мерцающий свет легко может увести тебя с пути, На их крыльях можно взлететь к небесам, но будь осторожен… В следующий момент они могут позволить тебе упасть» (обратно)148
Намек на Эпоху Великих географических открытий, длившуюся с конца XV до середины XVII в.в.
(обратно)149
В оригинале эта фраза выглядит как «Du drømme dig en Drøm saa sød!»
(обратно)150
Сублимация (от лат. sublimo – возвышаю) – перенаправление энергии с социально неприемлемых (низменных) целей и объектов на социально приемлемые (возвышенные).
(обратно)151
«Хвалите рыбу, пока она не попала в кастрюлю» (норвежск.)
(обратно)152
Хельхейм – в германо-скандинавской мифологии мир мертвых, один из девяти миров, холодное, темное и туманное место, окруженное непроходимой рекой Гьёлль.
(обратно)153
Студия тату «Пять золотых игл» (нем.)
(обратно)154
Флегетон – у древних греков река подземного царства, текущая огнем, вместо воды. В «Божественной комедии» Данте Флегетоном называется третья река Ада после Ахерона и Стикса. В этой реке, наполненной кипящей кровью, находятся убийцы.
(обратно)155
Все, что ты хочешь (англ.)
(обратно)




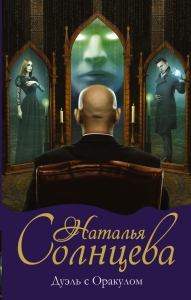

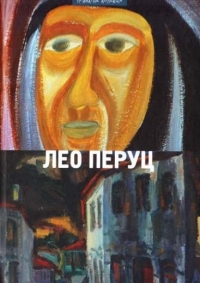






Комментарии к книге «Руны смерти, руны любви», Инге Кристенс
Всего 0 комментариев