Нина Соротокина Летний детектив
© Соротокина Н.М., 2018
© Оформление. ИПО «У Никитских ворот», 2018
Летний детектив
От автора – вместо предисловия
Роман «Летний детектив» написан очень давно, еще в конце 90 годов прошлого столетия. Место действия вполне реально, там живут мои друзья – это Калужская область, деревня Никола-Ленивец на реке Угре. Снеговики, бредущие по склону – тоже подлинные – художники пробовали свои силы в новом современном искусстве.
Беспечно сочиняя свой иронический детектив и размещая своих героев в Николе-Ленивце, я и представить не могла, что через двадцать лет это место приобретет мировую известность. Теперь там происходит международная выставка работ современных художников, скульпторов и архитекторов, под названием АРХСТОЯНИЕ. Не знаете про деревню Никола-Ленивец? – посмотрите в Интернете.
Теперь заявляю я со всей ответственностью, что кровавые события, происшедшие в моем романе – чистый вымысел, герои романа не имеют никакого отношения к реальности и прошу прощения у художников и жителей деревни, что воспользовалась для своих нужд местом их обитания.
1
Представьте себе огородную грядку после дождя. Морковная ботва плотная, грязная, кучерявая. И в этой ботве шерудит огромный короткошёрстный кот. Наконец Ворсик устал и промок, вылез на белый свет, посмотрел ошалело окрест и прыгнул на пень. Комель от старого погибшего от неведомой болезни вяза – его собственность. Ворсик замер, как египетское изваяние, обсох на солнышке и начал вылизываться. Без малого час он вылизывал лапы, бока, подхвостье, потом умылся лапкой, не забыв молодцевато пройтись по усам. Ещё посидел, вздохнул глубоко – и опять в морковь – надо!
За этой сценой из окна с умилением наблюдала чистенькая пенсионерка Марья Ивановна. Жила она в сельской местности, и жила безбедно, потому что получала воспоможествование от любимого племянника. Лёвушка был удачливым бизнесменом. Он, словно кипятильником, оттаивал ледяной поток бытия, и Марья Ивановна спокойно дрейфовала в этом Гольфстриме в неизвестном направлении. Впрочем, если задуматься – понятно куда: к чёрной дыре, – но думать об этом не хотелось, да и рано.
Марья Ивановна была женщиной с большим достоинством и уважением к себе. Хвалиться ей было особенно нечем – обычная трудовая жизнь, – но ума старушке было не занимать. Самоуважение к себе она подчёркивала тонкими рассуждениями. Человечество грубо делится на две части: собачников и кошатников. Если человек не держит ни собак, ни кошек, достаточно задать ему прямой вопрос: кого предпочитаешь? На этот вопрос люди обычно отвечают откровенно, не подозревая, что приоткрывают тайное тайных.
Кто такие собачники? Это, как правило, дисциплинированные, не злые, но безынициативные люди. На вид собачник, может, и крутой, но ему всегда в жизни нужен попутчик, необходимо, чтоб этот попутчик (собака или кто-то ещё) всё время выказывал ему свою любовь, преданность, и постоянно поощрял, подчёркивал, что идёшь ты в правильном направлении.
А хозяева кошек – совсем другие люди. Волей-неволей, но они похожи на своих животных свободолюбием и независимостью. Хозяева кошек гуляют сами по себе, и как бы они ни любили своих питомцев, ни в коем случае не ждут от них навязчивого изъявления своих чувств. Никакого виляния хвостом, никакого восторженного визга, подпрыгивания и желания лизнуть в щёку. Потрёшься вечером о ногу, я тебя поглажу, – впрочем, у тебя своя жизнь, у меня своя. И радикулит по ночам греть Ворсика тоже никто не заставляет.
Марья Ивановна была одинока. Правильнее сказать, что она была вдовой, но пенсионерка не любила этого слова. Брак её был столь короток и призрачен, что вспоминать о нём не хотелось. И детей Господь не послал. Поначалу жалела, а как стала старше да мудрее, так и порадовалась своей бобыльей судьбе. Посмотри внимательно вокруг – и ужаснёшься, – сколько женщин мучаются с мужьями-бабниками и пьяницами. Взять хотя бы контору, в которой Марья Ивановна мирно проработала тридцать лет. Зав. отделом Натан Григорьевич ушёл от третьей жены к четвёртой, главный инженер Ольга Петровна на репетитора для дочери садовый участок продала – и всё зря, Наталье Эдуардовне из сантехнического внуков подсунули непутёвые дети, Ираида Семёновна к знахаркам ходит, чтобы мужа от пьянства отлучить… Перечислять человеческие беды – пальцев на руках и на ногах не хватит. Ну их всех!
Марья Ивановна была кошатницей, и этим всё сказано. Это сейчас у неё один Ворсик, а в былые дни и по четыре кошечки зараз держала. При её чистоплотности это было иной раз и накладно. Но так уж получилось. В молодости одна мысль, что ещё слепых котят можно утопить, приводила её в ужас. А потом она успокоилась. И специальная женщина сыскалась, которая стала за малые деньги регулировать поголовье в её полосатом семействе. Жизнь кошачья короткая – иной сбежит, другой с крыши сиганёт, а то и машина его, сердешного, переедет. Марья Ивановна не понимала людей, которые, потеряв любимого кота, закатывали глаза к небу и говорили: «Ах, теперь я никогда не заведу себе ни кошки, ни собаки. Ещё одной смерти я не перенесу!» Глупости это! Жизни без смерти не бывает. Марья Ивановна придерживалась твёрдого правила: погиб любимый кот или кошка – неделю скорби, а там езжай на птичий рынок и покупай нового. Когда любимый Мурзик умер от старости, Марья Ивановна как раз собиралась это сделать, но судьба сама ей подсунула нового кота.
Ворсика она нашла на улице. В жуткую осеннюю стужу котёнок сидел на канализационном люке. Он уже не мяукал, потому что охрип и голос сорвал, он уже совершенно отчаялся и ни во что не верил. Марья Ивановна сделала из «Семи дней» кулёк, посадила туда несчастного и понесла домой. Вошли в подъезд. От сквозняка что-то зашелестело в тёмном углу – видимо, брошенный пакет пришёл в движение. В котёнке проснулся охотничий азарт, а может, чувство благодарности подтолкнуло его к подвигу. Во всяком случае он выпрыгнул из кулька и пошёл ловить, но после трёх шагов упал бездыханным – силы его оставили.
В тепле квартиры он, бедный, два дня спал, потом очухался, полакал молочка. Вид у него был очень дохленький. Марья Ивановна отнесла котёнка к ветеринару. При осмотре выяснилось, что у него грыжа, блохи и, кажется, стригущий лишай. Ветеринар уложил котёнка на операционный стол, рядом поставил нашатырь.
– Держите его за ножки, – сказал он Марье Ивановне. – Приступим.
– А зачем котёнку нашатырь?
– Это не котёнку. Это вам.
– Глупости! – возмутилась Марья Ивановна. – Я-то выдержу. А грыжу вправлять больно? Он совсем дохлый. И голый. Ворса совсем нет.
– Подкормите, и ворс появится.
Так определилось имя котёнка – Ворсик. После операции он принялся расти. По мере возмужания у кота менялся характер. Когда от былой дохл ости не осталось и следа, Ворсик превратился в задиру, хулигана и отчаянного смельчака. Он не боялся даже доберманов. Соседи увещевали:
– Следите за вашим котом! Он вчера моему Гамлету чуть глаза не выцарапал!
Кончилось дело тем, что собаки обходили места прогулок Ворсика стороной. Но по-настоящему его характер развернулся в деревне. Правда, дворовые собаки не такие трусы, как породистые. Блохастый Уголёк так ему поддал, что Ворсик полдня провалялся на диване. Но куры, утки, даже гуси-великаны при виде Ворсика спешили отойти на приличное расстояние. Местные коты тоже предпочитали не связываться. Фёдорову кошку, уродливую коротколапую Фросю, он так загонял, что она предпочитала днём отсиживаться в укромных местах на собственном дворе или в кроне старых деревьев. И главное – Ворсик всё понимал! Скажешь ему:
– Ну что ты так безобразничаешь? Лёва приедет, ему на тебя жаловаться будут. Стыдно ведь!
Кот на такие слова вздохнёт, отвернётся и станет смотреть на облака. Философ…
Я так подробно описываю незамысловатую и чистую жизнь Марьи Ивановны, чтобы пояснить, как сложно ей было пережить и осмыслить целую череду страшных и загадочных событий, свалившихся на её голову. Она стала не только свидетельницей этих событий, но и непосредственной их участницей. С Марьи Ивановны всё и началось.
Пятница, вторая половина дня. Настырный Фёдор уже три раза наведывался с вопросом – топить ли печи в банном доме или погодить? И все три раза Марья Ивановна неизменно отвечала:
– Как только Лёвушка или кто-нибудь из гостей приедет, тут же и топи.
– Так ведь не успеет истинный жар к сроку!
– А если они сегодня вообще не приедут?
– Лев Леонидович твёрдо сказали – будем. И чтоб всё было в аккурате.
И так этот Фёдор надоел, что в шесть вечера Марья Ивановна не выдержала:
– Топи! Если не приедет Лёвушка, то устроим всему поселку банный день!
Фёдор и затопил. Лёвушкин джип подъехал к банному дому, когда было уже совсем темно. С любимым племянником прибыла, как всегда, его секретарша Инна, особа вздорная и прилипчивая, как банный лист, и какой-то незнакомый мужчина. В темноте Марья Ивановна его плохо рассмотрела. Запомнила только, что он был странно одет. Понятное дело – лето, жарко, но ты подбери себе такую одежду, чтобы она на исподнее не была похожа. Нельзя же перед людьми появляться в белых кальсонах! Хотя чёрт их сейчас разберёт, если у дам белый бюстгальтер с панталонами называется вечерним костюмом. Право слово, замухрышку эту, Инку, именно в таком наряде и видела.
– Лёвушка, что ж ты так поздно? – запричитала Марья Ивановна, целуя племянника.
– Работа, тёть Маш.
– Я уже спать нацелилась.
– А ты ложись. Ещё Костик приедет с женой, а больше никого не будет.
– Какой Костик?
– Ты что, Константина Лифшица не помнишь? У него жена Лидия. Ты с ней ещё про Пикассо спорила.
Мария Ивановна помнила Лёвушкиного сотрудника – рыжего и ражего Константина по прозвищу Фальстаф. А Лидия запала ей в память вовсе не из-за Пикассо, а из-за текилы, до которой томная дама была большой охотницей.
– Кому где стелить?
– Если надо будет, мы сами на втором этаже постелим. Но, думаю, мы тебя не потревожим. Останемся все в бане ночевать. Места хватит.
– Так мне запирать дверь?
– Как хочешь. По-моему, гроза начинается, – добавил Лёвушка, оглядывая небо.
На этом и расстались. Марья Ивановна со спокойной совестью улеглась в кровать. Это одно название – «баня», а на самом деле – моющий комбинат, каприз миллионера с сауной, парилкой, небольшим бассейном и двумя спальнями. Соседствующий с баней дом, в котором летом жила тётка то ли сторожихой, то ли домоправительницей, был куда скромнее.
Марья Ивановна уже не слышала, когда приехала Костикова машина. Пенсионерка спала и видела сны. Рядом, уютно выпростав морду из-под одеяла, почивал Ворсик. Марья Ивановна легла на первом этаже в спальне, которая формально принадлежала племяннику, но он почти никогда в ней не ночевал. Вообще Лёвушка редко наведывался в своё загородное жильё, всего третий раз за лето прикатил. И в отпуск сюда не приедет. Понесёт его нечистая в какие-то Канары.
Широкая итальянская кровать была очень удобной. Отличная придумка человечества – противорадикулитный матрас: так тебя всю объемлет, словно на воде спишь. Спальня была нарядно обставлена: и шторы, и вазы, и трёхстворчатое трюмо – всё покупалось в дорогих магазинах. Импорт, одно слово, вот только была электропроводка своя, отечественная, а потому барахлила. Выключатель в спальне жил своей собственной жизнью. Щёлкнешь кнопкой, а свет не зажжётся. Потом подумает и спустя час вдруг и сработает, люстра вспыхнет, как иллюминация. Потом также по своему разумению, без всякого чужого вмешательства, свет погаснет. Давно починить пора, да всё как-то не собрались.
Первый раз Марью Ивановну разбудила гроза. Молнии за окном так и полыхали, дождь лил ливмя. Она закрыла окно, задвинула шторы. Проделывая эти нехитрые действа, она с раздражением думала, что второй раз вряд ли так легко заснёт. Помнится, она решила принять снотворное, которое лежало в ящике в трюмо. Вот тогда она машинально и щёлкнула выключателем. Свет, естественно, не загорелся, Марья Ивановна выругалась в сердцах и без всякого снотворного легла в постель.
И как отрубило. Она и не слышала, как отгремел последний гром, гроза ушла за Калугу. А под монотонный сон дождя спится, как в детстве.
2
Второй раз в эту проклятую ночь она проснулась от яркого света. Все пять итальянских плафонов вспыхнули разом, саморегулирующийся выключатель опять сработал в удобное для него время. Но не о выключателе подумала Марья Ивановна, открыв глаза. К своему ужасу, она увидела склонённую над ней фигуру в плаще… а может, не в плаще, а в балахоне или в блестящем чёрном дождевике, рукава раструбом. На голове – шляпа – чёрная, широкополая. Видение продолжалось миг, ну разве что чуть-чуть побольше – раз, два, три… и свет опять погас. Дождевик и шляпу Марья Ивановна заметила боковым зрением, а чётко она успела рассмотреть только руку с зажатым в ней пистолетом. Рука выпросталась из дождевика, запястье было крепким, пистолет – блестящим, лакированным, как рояль.
И всё… свет погас. Нет, не всё. Свет не погас, она просто закрыла глаза. Марья Ивановна закрыла глаза и почувствовала, как Ворсик выпрыгнул из-под одеяла. После этого раздался истошный крик, потом стук каблуков – незадачливый убийца стремительно мчался к выходу. Наконец стукнула входная дверь, и всё стихло. Когда она открыла глаза, в комнате было темно.
Матерь Божья, что это было? Первое, что сделала Марья Ивановна, вскочив с кровати – кинулась в прихожую и заперла входную дверь. Но что толку её запирать? У негодяя был ключ! Или не было? Бедная женщина никак не могла вспомнить, закрыла она дверь перед сном или оставила незапертой в ожидании Лёвушкиных гостей.
После этих стремительных телодвижений надо было сразу принять валидол. Но на это у неё не хватило сил. Марья Ивановна опустилась на лавку в прихожей, отдышалась и сразу стала воспроизводить в памяти происшедшее. Это было так же сложно, как вспомнить последовательность сна. И столько же, сколько в сновидении, было смысла в этой истории. Естественно, убийца покушался на Лёвушку. Не на неё же! И ведь точно знал, мерзавец, где находится спальня хозяина. Вывод напрашивался сам собой: это был кто-то из своих. Из дачников или аборигенов.
Ну, вспоминай же, трусиха, что успела увидеть за эти три секунды? Лучше всего ей запомнилась рука с пистолетом, его рука в перчатке. Или без перчаток? Но почему именно его рука? Может быть, это была женщина? Во всяком случае, шаги убийцы были лёгкими, поспешными… Мужики обычно так топают… И очень много волос на голове. Но пытайте её – Марья Ивановна не могла вспомнить, были ли это выпростанные из-под шляпы лохмы или попросту борода. Если борода, то наверняка накладная. Когда убийца идёт на дело, то лучшего маскарада, чем искусственная борода, не придумаешь. Но не исключено, что это никакая не борода, а просто шарф. Правда, убийца мог надеть маску, но, говорят, маска мешает зрению. А он целился прямо в лоб. Если лоб на расстоянии полуметра, здесь и в маске не промахнёшься.
Теперь… шляпа. Она могла быть как мужской, так и женской. С широких полей её капала вода. Почему она рассмотрела дождевые капли, но не запомнила лица, не удосужилась заглянуть убийце в глаза? Испугалась… да. Очень! Возникло подсознательное чувство, что если она взглянет ему в глаза, то он (или она) тут же выстрелит. Люди по-разному ведут себя при эмоциональном возбуждении. Это либо агрессия и крик, либо полное замирание, желание притвориться мёртвым. Марья Ивановна пошла по второму пути, она как бы притворилась мёртвой, потому и закрыла глаза.
Убийца испугался включённого света ещё больше, чем Марья Ивановна. Разумеется, он решил, что кто-то вошёл в комнату. Он же не мог предположить фокуса с выключателем. В ужасе он бросился бежать. Но почему он так истошно заорал?
У Марьи Ивановны мелькнула догадка. Она поспешила в спальную, зажгла настольную лампу. Так и есть. На кипенно-белом пододеяльнике виднелись бурые капли. Кровь! Верный Ворсик почувствовал опасность и в минуту эмоционального возбуждения пошёл по первому пути. Он выбрал агрессию и бросился на защиту хозяйки. Мария Ивановна знала, как ведёт себя её кот, если в нём пробуждается боевой дух. Анне Васильевне – левый последний дом – он вцепился в ногу, и даже носок не помешал прочертить на икре две страшные кровавые борозды. А только и дел было, что Анна Васильевна замахнулась на Ворсика шваброй. Кот пугал её кроликов, потому она и погнала его из сада. Ворсик не сразу стал отстаивать свои права на «гуляю, где хочу». Он выждал неделю, а потом и вцепился в беспечно вышагивающую ногу.
Скандал был страшный! Мария Ивановна потом наказала Лёвушке купить коробку хороших конфет. Анну Васильевну необходимо было задобрить, потому что именно у неё покупались молоко и сливки для этого полосатого поганца.
Мария Ивановна выглянула в окно. В бане шла своя жизнь, но свет в боковой спальне не горел. Видно, кто-то уже получил свою порцию пара и выпивки и теперь отправился на боковую. Часы показывали начало третьего.
Понимая, что не заснёт, Мария Ивановна всё равно легла в постель. Теперь её мучила другая мысль. А ну как убийца-неудачник пробрался в баню и сделал своё чёрное дело? Правда, она не слышала выстрела, но его и невозможно было услышать в эту грозу. Утешать себя можно было только тем, что убийца не посмеет стрелять из пистолета на глазах Лёвушкиных друзей. И потом – кто же убивает в бане? Нет. Это совершенно невозможно!
Когда начало светать, Мария Ивановна готова была вскочить и мчаться в баню, чтобы проверить – не пострадал ли любимый племянник. Но на этот раз её остановил уже не страх, а чувство неловкости. Люди молодые, парятся они всегда с большим количеством спиртного. Их теперь не добудишься. Но есть в компании и разумный человек. Инка, конечно, дрянь, но она никогда не оставит дверь нараспашку.
3
Предлагаемые читателю события развёртывались жарким летом в небольшом поселении, раскинувшемся на высоком берегу чистой и полноводной реки. Я употребляю термин «поселение», поскольку затрудняюсь назвать этот населённый пункт дачным посёлком, равно как и деревней. Это именно поселение – симбиоз, естественное слияние города с деревней.
На высоком берегу реки Угры произошло то, о чём мечтали большевики. А произошло это потому, что деревня к описываемому времени совершенно умерла. Остались только развалины когда-то гордого собора, обширное кладбище, которое неуклонно пополнялось новыми могилами – покойников сюда везли со всей округи, – и пять домов бывших колхозников. Вот к этим кривым, косым, щелястым домам и приткнулись горожане-москвичи.
Место это, называемое Верхним Станом, отличалось удивительной живописностью. Берег, который спускался к реке пологими уступами, зарос пахучими травами и удивительной крупноты ромашками. Подножье угора с одной стороны окаймлялось ручьём. Вдоль ручья раскинулись совершеннейшие джунгли, а выше, там, где обнажились рыжие валуны известняка, в каменистую почву вцепились корнями вековые сосны. В бору и по сию пору не вытоптаны разноцветные мхи, а маслят по хорошей погоде столько, что ногу негде поставить. По левую сторону угора тянутся вдоль реки дубовые и берёзовые рощи, перелески образуют круглые поляны, на вырубках тьма земляники. Рай, одним словом.
Обычно деревенские называют горожан, купивших у них жильё, дачниками, хоть те зачастую живут в крестьянских избах, держат кур и сажают огороды. В Стане горожан называли «художниками» – по профессиональной принадлежности жителей двух домов.
Лет пятнадцать назад, сплавляясь по Угре на байдарке, Флор Журавский, сейчас известный в Москве художник, а тогда недавний выпускник «Суриковки», заприметил старый собор и окрестную красоту. Флор и вбил здесь первый кол будущего посёлка. Но опять же – какой посёлок? Всего пять домов дачного типа, из которого пятый и вовсе был баней.
Однако вернёмся в ту сумасшедшую ночь, с которой мы начали наше повествование. Гроза не утратила силы, но отошла от Верхнего Стана, однако совершенно нельзя было понять – в какую сторону. Молнии вспыхивали и справа, и слева, и лишь южная часть неба (та, где по вечерам зависал над кладбищенской сиренью кровавый Марс) была глуха и темна. А север так и бесновался! Иной раз и яркого очерка молний не угадывалось, небо словно вспыхивало апельсиновым заревом, и сразу возникал злобный басовитый грохот грома. Зарницы высвечивали пойму реки, густые заросли Чёрного ручья, сосновый бор на том берегу и развалины церкви, конечно. Церковь парила здесь над всей округой.
Двое мужчин стояли на останках паперти, а потом, не сговариваясь, вошли под своды разрушенного храма. Можно описать их со стороны, но только описать, потому речь их, злобная и выразительная, заглушалась раскатами грома. Они были примерно одного роста, но один был худым, мосластым, и всё сутулился, словно пытался принять боксёрскую стойку, а второй – широкоплечий крепыш, по-бычьи наклонял голову. Круглая голова его была столь основательна, что вовсе не нуждалась в шее и держалась на могучем тулове исключительно под собственной тяжестью. Оба размахивали руками, били себя в грудь, что-то доказывая, словом, ругань шла на грани отчаяния. Мужчины уже вымокли до нитки, что, однако, никак не остужало их страстности.
Крича, круглоголовый наступал, а сутулый пятился в глубь церкви. Отдалённый гром заворчал и смолк, и тут же затеяли перекличку собаки. Оба скандалиста смолкли на минуту, озираясь и прислушиваясь, а потом с новым жаром возобновили спор. Речь сутулого выдавала в нём культурного человека, круглоголовый разнообразил свою речь ядрёным матерком. Хотя не исключено, что диплом о высшем образовании у него тоже имелся. Как говорится, высшее без среднего, кто их теперь разберёт?
– А я тебе говорю, что согласен, – твердил круглоголовый. – Нет у тебя всех денег – отдай те, которые есть.
– Да никаких у меня нет! Ты понимаешь человеческую речь? – отмахивался сутулый. – Я тебе внятно говорю, что всё сделаю сам.
– Уговор был? Был!
– Не нашёл я этих денег. Я тебе предлагал меньшую сумму, ты отказался.
– А теперь согласен. Только поторгуемся.
– Нет!
– Кусок!
– Пошёл к чёрту! – возопил сутулый.
– Но-но!.. В храме не сквернословить.
– Ты себя послушай!
– Я ЕГО не поминаю. Давай так: девять сотен, и по рукам.
– Нет у меня таких денег. Пустой я!
– Не ври. Я сам у тебя видел пачку зелёных.
– Истратил. Я покупку сделал. Важную.
– Что же это за покупка такая?
– Не твоего ума дело!
Пятясь назад, сутулый то и дело спотыкался. Когда-то мощёный церковный пол пришёл в полную негодность. Да и вся начинка храма рождала в голове опасные мысли. Идеальное место для убийства! Оконные проёмы напоминали пробитые снарядами дыры, кое-где сохранились косо висевшие решётки, и трудно было представить, какой мощностью обладал человек, выламывающий их и завязывающий прутья в узлы. В пределах сохранились фрагменты фресок, свет молний выхватывал из темноты лики святых. Роспись была поздней, для искусствоведов она не представляла ценности, и некому было защитить во времена оны несчастный храм. Удивительно, что сохранилась лестница, ведущая на хоры. Она была металлической. Деревянную лестницу окрестные пейзане давно бы растащили на дрова, а с металлической возни не оберёшься. Несколько ступенек, правда, удалось вырвать из своих гнёзд, – зачем-то они понадобились в хозяйстве.
Ругаясь, мужчины успели протопать через весь храм, не миновали и алтарь, из которого сутулый, сделав зигзаг, благополучно вышел. Разговор зашёл в тупик, и единственным желанием последнего было в этот момент допятиться до двери и дать стрекача. Но в запальчивости он потерял бдительность и ступил на нижнюю металлическую ступеньку лестницы. Может быть, им двигало желание возвыситься над круглоголовым, кто знает. Во всяком случае, этот шаг был ошибочным: сутулый попался, как в капкан. Теперь у него был только один путь – карабкаться вверх, пытаясь поймать рукой несуществующие перила. Не нащупав ногой очередную ступеньку, сутулый сел и взвыл плаксиво:
– Что ты ко мне привязался? Мы же обо всем договорились. Не сошлись в цене, а потому разбегаемся. Так поступают деловые люди.
– Скажите, какой бизнесмен! Ты из себя Гагарина не строй. Я уже на месте! Понял? И при оружии! Не отдашь деньги, так я тебя самого здесь прибью, бесплатно, – круглоголовый схватил сутулого за грудки.
– Пусти, идиот! Пока ты ещё никакого дела не сделал. А за обещание деньги не платят.
Сутулый неведомо как вырвался из крепких лап и довольно ловко побежал наверх. Круглоголовый загромыхал за ним.
– Дело сделать – что плюнуть, ты поклянись, что деньги сразу отдашь…
Их фигуры растворились в совершенной темноте второго этажа. Голосов тоже не было слышно, только скрипела, раскачиваемая ветром, висевшая на одном гвозде ржавая ставня.
4
Мария Ивановна так и просидела на кровати, не заснув до утра. На коленях её прикорнул беззаботный Ворсик. Он спал, а пенсионерка внимательно следила, как светлеет окно, и прикидывала, в какой час будет не стыдно и уместно разбудить Лёвушку, чтоб сообщить ему о ночном происшествии. Девять – рано, двенадцать – поздно, десять – самое то.
Однако до десяти часов утра Мария Ивановна столкнулась ещё с одной неожиданностью. Оказывается, ночь в доме она провела не одна. В спальне на втором этаже поперек кровати лежала Лидия, жена Константина. Длинные, ещё влажные волосы её свисали до пола. Она была завёрнута в банную, перепачканную зелёными травяными разводами простыню (понятное дело, вчера газон стригли). Из этого кулька торчали напедикюренные ноги с розовыми пятками.
Потом Мария Ивановна рассказывала Лёвушке: «Конечно, я закричала. Я ведь думала – труп. Вначале её застрелил, потом ко мне пожаловал! Я хотела немедленно бежать к людям!» Но любопытство пересилило. Марья Ивановна обошла кровать, склонилась над несчастной. Стоило пенсионерке почувствовать густой сивушный дух и дотронуться до сдобного тёплого плеча, как страхи её пропали. Жива, голубушка! К бледной щеке Лидии прилипли травинки и лепестки каких-то сорняковых цветков. Зная голубушкин характер, Марья Ивановна вполне могла предположить, что Лидия пришла в дом не своим ходом. Очевидно, её принес муж и сложил в спальне, как трофей. Угореть она не могла – в Лёвушкиной бане не угорали, – а просто перепилась, стала буянить и портить людям настроение. Правда, похоже, что Константин не на руках её нёс, а волочил по мокрой траве.
Всё это целиком меняло картину событий. Кто бы ни доставил в дом ночью Лидию, дверь он открыл Лёвушкиным ключом, а потом забыл запереть – это раз. Два – тоже обнадёживало. Не исключено, что мерзавец с пистолетом, явившись в дом, охотился вовсе не за Лёвушкой, а за этой голой мочалкой.
Население банного дома очухалось только к часу дня, и когда на открытой веранде все уселись пить кофе, Марья Ивановна отозвала племянника в сторону. Оказал ось, что её догадки насчёт Лидии верны: она ещё в машине прикладывалась к бутылке, а в парилке её совсем развезло. Лидию волокли в дом сам Константин-Фальстаф и гость по фамилии Пальцев, – тот самый, в исподнем.
Выяснив насчёт Лидии, Марья Ивановна приступила к главной части своего рассказа. Днём история с незнакомцем и пистолетом выглядела совсем не страшной, можно даже сказать – комичной, поэтому Марья Ивановна ждала, что племянник рассмеётся и скажет: вот, попугал кто-то пенсионерку шутки ради. А Лёвушка неожиданно стал серьёзен. Он выспросил у тётки все подробности. Особенно его интересовало, как выглядел ночной гость. А шут его знает, как выглядел! Пенсионерка повторила те невнятицы, которые успела запомнить: чёрный плащ, мокрая шляпа, волосы…
– Идиот! – бросил в сердцах Лёвушка и ушёл к гостям, поправляя на руке сбившийся бинт.
Марья Ивановна так и не поняла, себя он обругал или незнакомца с пистолетом. Она проводила племянника сочувствующим взглядом. Бедный мальчик, руку где-то поранил. Он и в детстве был такой – неспортивный, неповоротливый, только синяки да ссадины ловил на лету. Но голова при этом всегда была золотая. Сейчас говорят, – чтоб разбогатеть, надо быть бандитом. Неправда ваша! Лёвушка разбогател именно за счёт своих мозгов. Если человек талантлив, то он и в химии понимает, а именно – по неорганической химии мальчик защитил диссертацию (выговорить название темы Марья Ивановна была не в состоянии), а потом и финансистом стал блестящим. И как это горько, что её добрый удачливый Лёвушка боится ночного негодяя. А то, что он его испугался, Марья Ивановна поняла со всей очевидностью.
Здесь, как озарение, пришла в голову свежая мысль. Если в её дом наведался кто-то из своих, то его легко можно будет сыскать, потому что Ворсик оставил на нём свою метку. След от когтей долго заживает. Надо пройти по домам. Пожалуй, женщин из числа подозреваемых можно вычеркнуть. Деревенских она до времени тоже решила не учитывать. Сейчас суп заправит зеленью и пойдёт. Её визит никого не удивит – в одном доме соли попросит, в другом – секатор (свой куда-то подевала), в третьем спросит, как защитить от фитофторы помидоры, а сама тем временем пересмотрит все руки.
Идея понравилась Марье Ивановне не только тем, что она помогает племяннику, но и романтическим флёром, в которую были облачены её визиты. «Майскую ночь» читали? Да-да, Гоголя Николая Васильевича. Там панская дочь ударила саблей по лапе ведьму, оборотившуюся кошкой. А потом днём по перевязанной руке она её и угадала. Только неприятно, что ведьма оборотилась кошкой. Зачем Гоголь в своей байке очернил благородное животное?
Последняя мысль недолго занимала Марью Ивановну. Уже азарт жёг ей пятки. С кого начнём? С Флора, конечно. Флор меньше всего подходил на роль потенциального убийцы, но в его доме всегда было много гостей. С июня у него во времянке жили два молодых человека, художники. Это, конечно, уважаемая профессия, но и художник может быть убийцей и вором.
К разочарованию Марьи Ивановны, дом Флора был пуст. Он был уже в полях, где творил своё концептуальное доброе искусство. И помощники были при нём. Но не губить же в самом зародыше хорошую идею. Пенсионерка решила наведаться во второй дом, к скульптору Сидорову-Сикорскому, правой руке Флора. Если самого Сидорова дома нет, то Раиса наверняка на месте. По такой жаре она в лес за малиной не пойдёт, а земляника уже отошла.
Сидоров-Сикорский, старый, одышливый больной человек, тоже собирался в поля ваять какую-то неведомую конструкцию из дерева, лыка и сухих трав. Он растерянно кивнул гостье и потянулся к шляпе. Сидоров-Сикорский был вне подозрений, но Марья Ивановна успела взглянуть на его руки. Это были руки рабочего человека, ноготь большого пальца чернел от недавнего удара, гибкие пальцы уже тронул артрит, но кожа на запястье не имела никаких царапин.
Зато скисшая от жары и безделья Раиса отнеслась к появлению Марии Ивановны с полным восторгом и тут же принялась сооружать кофе из свежемолотых зёрен. Раиса была твёрдо убеждена, что растворимый кофе пьют одни плебеи. Пока эта немолодая женщина тарахтит мельницей, расскажем вкратце историю этой семьи. Право, она того заслуживает.
На долю Раисы выпали серьёзные испытания. О себе она не любила говорить, но муж был несчастлив, несправедливо обижен, унижен, потому и пил… сильно пил. И нигде ни малейшего просвета. Ну и ещё пытка бесквартирьем и безденежьем. Судя по виду этой немолодой женщины, горе совершенно сломило её дух, но это было неправдой. Раиса Станиславовна уже родилась с исплаканным лицом и брезгливой улыбкой, все удары судьбы принимались не столько с кротостью, сколько с твёрдым желанием укрепить дух, что обычно ей удавалось. И то сказать, для русской женщины Раисин венец мученичества так же привычен, как солдату каска.
Беда была в том, что Гоша (он же Геннадий Степанович) всегда ваял не то, чего ждало от него социалистическое общество. Кормился он преподавательской работой, но и в училище висел на волоске, потому что продолжал творить и предлагал выставочному комитету, ну… чёрт-те что, поверьте на слово. Потом подвернулся не просто выгодный заказ, а великолепный заказ – поясной портрет в бронзе, не большой, чтоб на стол поставить. Сидорову-Сикорскому позарез нужны были деньги, и он наступил на горло собственной песне.
Предварительно Геннадий Иванович сделал пять вариантов в гипсе. Человек он был талантливый, халтурить не умел, – натура в этих гипсах выглядела как живая. И все пять портретов худсовет забраковал. Геннадий Иванович вышел на улицу с авоськой в руках, в ней лежали злополучные гипсы. Настроение было отвратительным. Недрогнувшей рукой он высыпал все пять гипсов в урну, пошёл в ресторан и на последние деньги чудовищно напился.
Вы, наверное, поняли, что натурой для поясного портрета служил В. И. Ленин. Поднялся чудовищный вой: вождя пролетариата – в урну! Сидоров-Сикорский после этого случая уже не просыхал. Из пьянства его Раиса вытащила. Мало того, она все пороги обила и добилась-таки своего – через пять лет Геннадия Ивановича восстановили на преподавательской работе. При этом запретили преподавать скульптуру, поскольку он испоганил саму идею воплощения лица Великого, но доверили вести рисунок. Тогда-то и свела Сидорова-Сикорского судьба с Флором. Последний стал любимым и благодарным учеником.
А на старости лет судьба вдруг и улыбнулась, защитила от нищеты. Деньги на дом в Верхнем Стане дала дочь. Раиса очень гордилась дочерью и любила рассказывать про её успехи в бизнесе. В Верхнем Стане дочери их никто не видел, некоторые полагали, что это вообще миф.
– Вам со сливками?
– С молоком, если можно. Уже надо поберечь печень. И без сахара.
– Хотите мёд?
– Мёд – это другое дело. Сахар – это яд.
– А мёд – жизнь. Между прочим, Клим Климыч про вас спрашивал. Вы ему мёд заказывали?
– А что обо мне спрашивать? Мы так с ним и договаривались: как накачает мёд – принесёт.
– Он не любит к вам ходить, когда у вас гости. А с помидорами, Марья Ивановна, я вам ничем не могу помочь. Я ничего не понимаю в фитофторе, и книг по садоводству у меня нет. У меня вообще ничего не растёт. И тем более помидоры. Для этого вам, пожалуй, лучше пойти к Светочке…
Речь шла о третьем доме, в котором обитала семья бизнесмена и строителя Харитонова, которого все называли архитектором. Это он в своё время строил Лёвушке дом, а как почувствовал, что последний богатеет на глазах, уговорил ещё построить чудо-баню. Харитонов выписал из Москвы самых дорогих строителей: печников, кровельщиков, сантехников.
Марья Ивановна воздевала руки: Лёвушку грабили на глазах, а племянник только посмеивался. Но когда кончилось строительство, он разругался с Харитоновым в пух и прах. Из-за сметы и поругались. Потом как-то обошлось. О былой дружбе не было и речи, но браниться и угрожать друг другу перестали. Светлана Харитонова, худенькая дамочка в джинсах, продолжала как ни в чём ни бывало ходить к Лёве в дом и Марью Ивановну зазывала к себе в гости. Умная женщина всеми силами пыталась восстановить отношения мужа с богатым клиентом. У Харитоновым было двое мальчиков-близнецов. Редкий случай – они совершенно не были похожи. Один в отца – носатый и белобрысый, другой в мать – чернявый и хорошенький. Похожи они были только нравом – оба пронырливые и горластые.
– Но сегодня к Светочке лучше не ходить.
– Почему?
– Они уже с утра ссорились. И вечером тоже крик стоял, как на базаре. Харитонова шершень в голову укусил. Я его видела…
– Шершня?
– Нет, Харитонова. У него нет глаз. Совершенно заплыли – такой отёк. И он во всём винит Светочку: зачем она его заставила собирать смородину? Вы слышали, какая была ночью гроза?
– Да уж… А вы чужих сегодня никого не видели?.
– Что значит чужих? – удивилась Раиса.
– Ну… незнакомых, которые раньше сюда не приезжали.
– Марья Ивановна, что-то я вас не понимаю. Да здесь каждую субботу появляются новые гости, которые раньше сюда не приезжали. Случилось что-нибудь?
– Нет-нет… Так у вас нет секатора?
– Какого секатора?
– Раиса Станиславовна, я всё перепутала. Простите меня. У вас я должна была спросить про фитофтору…
Вид у Раисы был озабоченный: милейшая соседка явно заговаривалась. Марья Ивановна не стала её разубеждать. Визит не был совсем бесполезным. Во всяком случае, двух мужчин она с полным основанием может вычеркнуть из своего списка. Безглазый после укуса шершня архитектор не пойдет убивать или грабить дом.
5
Направляясь к пасечнику Клим Климычу, Марья Ивановна так и не решила: сразу выбросить его из списка подозреваемых или немного поиграть в детектива. Клим Климыч жил как раз на стыке города и деревни в купленной в незапамятные времена избе. Шестьдесят семь лет, бывший пожарник, работяга и труженик, но… Пасечника стоило проверить хотя бы потому, что он был неприятным человеком с двойным дном. Природа создала Клим Климыча вредным и завистливым, а потом в насмешку, а может быть, в назидание окружающим вдохнула в его глаза-щёлочки показное добродушие и также пририсовала клейкую, несмываемую улыбку.
На словах льёт елей, а на деле всех раздражает. Уж на что художники покладистый народ, но и их достал, заставляя пребывать в точке постоянного кипения. Клим Климыч был начисто лишён чувства красоты. В самых ответственных местах – там, где виды, панорамы и стартовые площадки для полёта воображения – он возводил отвратительного вида сараи из старой фанеры, гнилых досок, спинок кроватей и ржавых щитов. В сараях Клим Климыч держал инвентарь и старые, требующие починки ульи. Пчёлы его были кусачие, но мёд давали очень вкусный.
– А… пришла. Будешь своих волкодавов моим мёдом кормить?
– Клим, да что вы такое говорите? Почему волкодавов?
– Я правду говорю. Не волкодавы, так тунеядцы.
– Но уж моих домочадцев вы бездельниками никак не можете назвать. Они работают по двадцать часов в день. А здесь они отдыхают. Имеют право. Я вот что хочу спросить. Вы человек наблюдательный, – Марья Ивановна беззастенчиво льстила пасечнику. – Вы не заметили в деревне вчера подозрительных людей? Ну, в смысле, чужих…
Пасечник внимательно посмотрел на гостью.
– А тебе зачем? У Линды с утра дым из трубы идёт. Говорят, кто-то к ней в пятницу приехал.
Старуха Линда жила у кладбища, и деревня по старой памяти называла её сторожихой. Когда-то в церкви хранили зерно, Линда числилась тогда ночным сторожем. Сейчас она была стара, слепа, по виду совершеннейшая колдунья. И вообще Линда была Плохая Старуха. Сын её был не только пьяница и вор, но и сидел за тяжкое. Сама сторожиха варила недоброкачественный самогон, подворовывала цыплят, однажды даже у Анны Васильевны овцу увела, а всем сказала, что видела у колодца волка, де, он овцу и зарезал. Еще говорили, что у Линды плохой глаз, она умела портить коров и отнимала у людей спорость. Последние качества иные считали сомнительными, приборами спорость, то есть ловкость в делах, не измеришь и вообще на этот счет доказательств нет никаких. Но ведь люди зря говорить не будут. На всякий случай народ остерегался злить Линду. Мало ли что…
– А не вернулся ли часом её беспутный сын? – воскликнула Марья Ивановна.
– Не… тому долго сидеть. Но что Линда большую стряпню затеяла, это точно. Подожди, я тебе для мёда удобную сумку дам. Крышка и трёхлитровка за тобой. А то моду взяли – банки не возвращать!
Автор понимает, что все эти подробности замедляют сюжет. Если в романе появился пистолет, значит, будет убийство, а раз убийство – пиши по делу, не отвлекайся на пейзажи, пустые разговоры, описание характеров и судеб. Но ведь люди кругом, если подумать, каждый может быть задействован в сюжете. А если не думать, то при чтении выбрасывайте пустые, с вашей точки зрения, места, и дело с концом.
Лёвушка углядел тётку издали и сразу пригласил её на террасу. Теперь здесь пили пиво с воблой. Крупную, обезглавленную, очищенную, влажно блестевшую жирком воблу доставали из нарядной упаковки, раскладывали по тарелкам и резали на поперечные куски.
– Садитесь, тёть Маш. Вы такого пива и не пили никогда. Нектар! – Костя-Фальстаф суетливо пододвинул пенсионерке кресло.
Марья Ивановна скосила глаза на его руки – вне подозрений: ни царапин, ни синяков.
– Я не люблю пиво. А воблы вашей попробую.
– Тёть Мань, может, мартини? – спросила Инна, играя в доброжелательность. Мартини с воблой…смешно.
У Инны было узкое длинное лицо, острый нос, нежный подбородок был тоже сильно заужен, и вся она была узкая, томная и грациозная. Воблу держит двумя пальчиками и не жуёт, кажется, а чуть-чуть придавливает аккуратными, чистыми зубками. Не жуёшь, так выплюнь! Что добро переводить?
Про себя Инна говорила, что у неё фиалковые глаза. Было, было – при определённом освещении, и особенно если она в сиреневой кофте и в аметистовых серьгах, появлялся в её нахальных, широко распахнутых глазах чернильный отблеск.
Второй дивы – Лидии – за столом не было, – видимо, ещё дрыхла. В отличие от резкой Инны, Лидия была тихая скромница, глаза всегда долу, при этом здоровья ей было не занимать, румянец во всю щёку.
И при всём этом обе красавицы были очень похожи друг на друга – не внешностью, а недобрым, надменным выражением лица. Злющие, одним словом. Как им только удаётся поддерживать в течение всего дня имидж роковых женщин? Марья Ивановна понаблюдала и поняла, в чём дело. Взгляд, конечно, играет существенную роль, но главное, обе расслабляют мышцы лица: никакого тебе удивления – от этого напрягается кожа на лбу, ни при каких обстоятельствах не радоваться – от улыбок ранние морщины. Настоящей красавице к лицу полная безучастность, а счастья как не было, так и нет.
– Тётя не пьёт мартини, – заметил Лев и добавил, придав голосу несколько натужную легкомысленность: – Здесь у нас, тёть Мань, история удивительная приключилась. Не помню, я тебя вчера с Артуром познакомил?
– Это тот, который в белых трикотажных штанах?
– Да, Артур Пальцев… У него, оказывается, зажигалка в виде пистолета. Он нас этой зажигалкой очень вчера развлёк.
– Он меня напугал, – перебил Лёвушку Фальстаф. – Куришь – кури, но зачем зажигалку на людей направлять? И целился, паршивец, прямо в лоб. Неприятно, знаете… Сидим оба, как древние римляне, в простынях, а тут вдруг этот дурацкий пистолет…
– Подрались… – как бы между прочим добавил Лёвушка и рассмеялся беззлобно.
– А зачем он Лидку в дом потащил? Это моя жена! Ты вначале заведи себе такую, а потом распоряжайся…
– Ну, такую найти не проблема, – подала голос Инна, вытягивая ноги, длинные и грациозные.
Фальстаф посмотрел на неё внимательно, пытаясь поймать за хвостик какое-то явное оскорбление, но голова после вчерашнего трещала отчаянно, и он оставил попытку обидеться.
– Но ведь ты Лидию уронил, – опять вмешался Лёвушка. – Артур не пьянеет, ты знаешь. Артур был в порядке. Он тебе человеческим языком сказал – ты её не донесёшь.
– А зачем он в меня зажигалкой целился? Я Лидию не уронил. Я её просто на землю положил, чтоб этому умнику в рожу дать. И вообще, тебя там не было. Ты всё с чужих слов говоришь.
– Весело вы прожили ночь, ничего не скажешь, – укоризненно проговорила Марья Ивановна. – Я, пожалуй, попробую мартини. Раз дорогое вино, значит, вкусное.
– Костя жену на землю положил, а Артур подобрал, – томно сказала Инна. – Я видела. Подобрал и в дом отнёс. И помешать ему это сделать Костик был уже не в силах.
– Перепил?
– Перепарился, теть Маш. Перепарился… Там такая жарища была в парилке… Мы ведь не хотели Лидию к вам в дом нести. Ну, чтоб вас не будить. Главное, её надо было вынести на свежий воздух… А тут Артур суетится… Дождь льёт, как в душе. Мы все в простынях. Артур какой-то дурацкий плащ нашёл. Увязался за нами и всё торочит: «Дай мне. Ты её уронишь, дай мне…» А скользко, Лидка из рук выскальзывает. И абсолютно бесчувственная, как дохлая рыба.
– Фу, Константин…
– Инна, вечно ты со своим «фу»…
– Артур Лидию спас, в дом отнёс, а она ему за это рожу исцарапала, – досказал Лев.
– Защитила честь семьи, – закивал Костик.
– Да она просто тебя с Артуром перепутала, – Инна явно пыталась шутить, но шутку трудно представить без улыбки, а здесь на улыбку не было и намёка – одна голая правда.
– Ваш Пальцев – герой! Я всё поняла, – сказала Марья Ивановна, обращаясь к племяннику. – Ты хочешь сказать, что Артур ночью в моей комнате прикурить захотел? И для этого воспользовался своей зажигалкой?
– Предполагаю, – пожал плечами Лев.
Он явно давал тётке понять, что не хочет обсуждать в общей компании её рассказ про ночные страсти. Значит, Лёвушке зачем-то надо замять эту историю. Пусть так, Марья Ивановна не против.
– А где он сам – Артур? – спросила она кротко.
– Он в Москву уехал. По делам. Но завтра обещал вернуться.
– Рожу подлечит и вернётся, – хохотнул Костик и добавил, желая разрядить обстановку: – Ну какая всё-таки Лидка дрянь! Какая дрянь!
– В бессознательности была женщина. В полной отключке!
– Мы пробудем здесь до субботы, – сказал в довершение Лёвушка.
– Вот подарок так уж подарок, – обрадовалась Марья Ивановна.
– Теперь – купаться! А вечером – шашлык.
Путь от банной террасы до кухни в жилом доме был недлинным, но его оказалось достаточно, чтобы сомнения вновь овладели сердцем Марьи Ивановны. Лёвушка, добрая душа, просто хотел её успокоить, но не стыкуется его рассказ с произошедшим ночью.
Положим, Артур благополучно дотащил Лидию до второго этажа. Что-то у них там произошло, и она оцарапала ему лицо. Возбуждённый молодой человек вошёл в первую попавшуюся комнату и решил выкурить сигарету. Так? Пока так… Но зачем возбуждённому человеку склоняться над спящей пенсионеркой? Зачем, пусть даже играя, целиться зажигалкой в спящую? И потом, режьте её, жгите огнём, но она не понимает, как капля крови с оцарапанной щеки попала на её пододеяльник. Не могла его Лидия так сильно оцарапать, чтобы у него с лица капало! Кого Лёвушка хотел успокоить своим рассказом – себя или её, любимую тётку?
Марья Ивановна решила непременно поговорить с самой Лидией. Поговорить надо деликатно. Мало ли что произошло в доме, когда она спала. Но желанию пенсионерки не суждено было осуществиться. Она не только не уследила, когда Лидия поднялась, но пропустила сам отъезд дивы с дачи. Оказывается, та прямо из спальни пошла в машину, заявив мужу, что и минуты не задержится в этом доме и за стол ни с кем не сядет. По дороге, правда, прихватила две бутылки пива и бутербродов на закусь.
Когда Фальстаф с супругой отбыли в Москву, Инна так прокомментировала их отъезд:
– Уехали, и хорошо. Эта Лидка, право слово, пирог ни с чем. А гонору! Единственное, что она хорошо в жизни делает, так это глаза красит. Глаза у неё совсем невыразительные, а она так умеет тень положить, что прямо тебе Вера Холодная. А во всём прочем – дрянь!
6
А утром в воскресенье, когда по телевизору как раз шла передача «Пока все дома», в Верхнем Стане произошло событие совершенно непотребное и страшное. В крапиве около старого собора был обнаружен мертвец. Неизвестный мужчина лежал на боку, на лбу длинная ссадина, а грудь продырявлена ржавым штырём, торчащим из поверженной на землю конструкции. Конструкция представляла собой уголок карниза, который ранее удерживал массивный барабан с луковицей. Уголок лежал возле северной части церкви в густо поросшей крапивой низинке. За какой надобой незнакомец попёрся в крапиву, понять было нельзя. Кроме того, близнецы – а именно они нашли труп – уверяли, что крапива была не помята и не стоптана, а стояла свежей стеной. Свой поиск близнецы предприняли из-за найденной на кладбище одинокой кроссовки – кожаной, синей, почти новой. Принялись искать вторую. И нашли. Нога с этой кроссовкой торчала из крапивы пяткой вверх.
Далее всё понятно. Близнецы помчались к отцу. Архитектор с трудом разлепил отёчные веки, – опухоль от укуса страшного насекомого ещё не прошла. Вначале он просто не поверил сыновьям, но когда вместо воплей и криков они вдруг оба заревели в голос, он пошёл на кладбище. Убедившись, что близнецы не «выдумывали всякий вздор», а говорили истинную правду, Харитонов кинулся созывать мужское население Верхнего Стана.
Женская часть поселения явилась незваной. Вначале так и ринулись вперёд, чтоб рассмотреть получше, но потом поостыли. По всему было видно, что покойник не один час здесь лежит. И не два, и даже не десять, потому что жара уже дала о себе знать. Не иначе как в грозовую пятничную ночь нашёл он здесь смерть: вода оставила на майке кровавые разводы. Молодой, лет тридцать пять, не больше. На лбу шишка и кровоподтёк. Не скажешь, одет по-городскому, – сейчас деревня и город одинаково одеваются, и всё же видно – не местный, и даже не районный, а областной, может быть, даже столичный. К такому мнению подталкивала особая щеголеватость в одежде покойного. И джинсы, и майка – не самострок, а всё самого высшего качества. Да и стрижка модная.
Флор только мельком глянул на труп, и сразу прыгнул в свой драндулет – помчался в районное Кашино за фельдшером и милиционером, а это без малого тридцать километров. Народ остался стоять над несчастным, чесать в затылке и негромко переговариваться. Женщины, как особы наиболее чувствительные, ушли первыми. Участь неизвестного мужчины их потрясла. Кроме того, как бы ни были женщины осторожны, – крапива оставила на голых ногах и руках любопытствующих крупные волдыри. И ещё запах, и мухи на трупе… Очень неприятно, знаете.
Все женщины разошлись, и только Инна стояла на месте, вцепившись в руку Лёвушки, да Марья Ивановна никак не могла оставить место событий. Ей немалого труда стоило протолкнуться вперёд, чтобы взглянуть на руки мертвеца. Они были чистыми, никаких следов Ворсиковых когтей. Значит, не он… Пятясь, чтобы занять задние ряды любопытствующих, Марья Ивановна заодно разглядывала и их руки. В этой толпе ей было чем поживиться. У Фёдорова сына (учился в техникуме, к отцу приехал на каникулы) левая рука была заклеена пластырем, и как раз в нужном месте. Сам Фёдор тоже имел увечье. Его указательный палец, да и вся кисть, страшно распухли и были завязаны тёплой косынкой. «Змеюка куснула», – отвечал он на соболезнующие вопросы. Художник Игнат – из Флоровской команды – вообще прибежал к церкви в перчатках. Понятное дело, если ты в огороде сорняки рвёшь или занимаешься экологически чистым искусством – надевай перчатки, тебе никто слова не скажет. Но если ты с утра, словно денди какой, перчаточки в деревне надел, такой поступок требует внятного объяснения. Можно, конечно, крикнуть: «Люди, есть подозрение, что этот молодчик ко мне ночью с пистолетом в спальню залез. Есть доказательства, что его мой кот оцарапал. Надо бы проверить всем миром его руки! А то ведь этот террорист и к вам придёт!» Но надо быть полной дурой, чтоб такое прокричать. Во-первых, не место и не время. И потом – ведь доказательств никаких. И лицо у Игната симпатичное.
Но больше всего при осмотре рук Марью Ивановну потряс уже знакомый бинт, охватывающий руку любимого племянника. Она как-то совсем не рассматривала его раненую руку в этом контексте – как вещественное доказательство. Более того, бинт на руке Лёвушки и подал ей здравую мысль. Но это вздор! С чего бы вдруг Лёвушка вздумал целиться в любимую тётку? Он её позвал жить в новый дом, сам предложил хорошие деньги и при этом деликатно сказал:
– Рассматривайте эту сумму как хотите. Можете считать её заработной платой, вы ведёте у меня здесь хозяйство. Но если вас это оскорбляет, то будем считать эти деньги пособием. Ближе вас родни у меня нет.
В этом заявлении была некоторая натяжка: были у Лёвушки и более близкие родственники, но ведь это как посмотреть… Лёва для неё был благодетелем. Так зачем же ему в неё целиться? Если не предположить, что он её с кем-нибудь перепутал.
И не мешало бы вспомнить, с какой рукой Лёвушка приехал из Москвы – со здоровой или с забинтованной. Он тогда Марью Ивановну обнял, это точно. Обнял и сказал – иди спать, мы сами управимся.
Марья Ивановна подошла к Лёвушке поближе.
– Что у тебя с рукой?
– Какой рукой? Ой, тёть Маш, нашла время спрашивать… Обжёгся вчера в бане. Ты лучше помоги Инне дойти до дому. По-моему, ей плохо. Иннусь, да что с тобой? – воскликнул Лёвушка, подхватывая вдруг обмякшее тело секретарши.
– Уведите меня отсюда, – залепетала Инна, зубы её стучали, как от холода. – У меня голова закружилась.
На этом поиски пенсионерки кончились. Они с Инной побрели к дому, а Лёва остался в горячей точке. Мало ли как повернутся события… Может, по ходу дела понадобятся если не его мышцы, то хотя бы мозги.
В толпе меж тем высказывались предположения на тему – как мертвец сюда попал. Большинство ратовали за то, что мужика в кроссовке убили где-то в другом месте, а потом ночью привезли на кладбище и бросили. Чтоб хоронить сподручнее. Не хотелось жителям Стана думать, что именно на их территории произошло смертоубийство. Но нашлись и трезвые голоса.
– У него кровь на майке как раз в том месте, где в него штырь вошёл. Значит, он на него ещё живым напоролся.
– Может, его не до конца убили, а так только – по лбу трахнули в драке.
– Если ему лоб в драке рассекли, то на кой его на кладбище везти? Бросили бы там, где подрались.
– На кой? По злобе. Привезли сюда беспамятного и на штырь насадили.
– Что-то вы не то говорите, господа, такое только в кино бывает. И не днём же его сюда привезли. А ночью разве эту ржавую хреновину найдешь?
– А кровь на майке не заскорузлая, а размытая. После той грозы в пятницу дождя вроде не было. Либо он до грозы погиб, либо в ту самую грозовую ночь.
– А крапива-то нетоптаная… – заметил художник Игнат, тот самый – в перчатках.
– Вот именно! Как мы об этом забыли?
Харитонов тут же задрал голову вверх и стал внимательно изучать остатки карниза, барабан, поддерживающий луковицу церкви, и сияющую в нём пробоину. Выросшая рядом с пробоиной берёзка – и где только земля сыскалась на узком уступе – была сломана. Головы стоящих рядом тоже стали задираться вверх.
– Упал, – сказал наконец Лёвушка.
– Сорвался, – подтвердил Харитонов.
– А на кой хрен его туда понесло?
– А может, он не один в церкви был. Ведь не сам же себе он лоб раскроил.
– Это он и сам мог сделать. Звезданулся о балку в темноте.
– И вообще – кто он?
– И что он делал в нашей деревне?
7
В разгар горячих споров к толпе подбежал вредный пасечник. Он был донельзя возбуждён, одна его рука находилась в неуёмном движении, другая держалась за сердце. Обычную улыбочку пот смыл с лица. Клим Климыч всё порывался что-то сказать, но никак не мог справиться с одышкой. Наконец выкрикнул:
– «Запорожец» угнали!
Новость была не менее впечатляющей, чем обнаружение трупа. Верхний Стан находился в стороне от асфальта, только узкая посыпанная гравием дорога, ведущая к кладбищу, связывала деревню с большим миром, поэтому машин здесь никогда не крали. Но уж если появился злоумышленник, то на кой ему ляд старое корыто, купленное Клим Климычем по случаю за двадцать баксов, если в посёлке полно новеньких иномарок?
Кто именно совершил чёрное дело, долго выяснять не пришлось, потому что пасечник прямо назвал похитителей. Вся деревня видела, что в доме сторожихи весь субботний день имела место большая пьянка. Теперь уже все знают, откуда у сторожихи появилась покупная водка и куда исчезла пара уток у Анны Васильевны.
Оказывается, в грозовую ночь к сторожихе явились двое гостей с приветом от сына. Мы уже говорили, что сын коротал жизнь на нарах, а эти двое были из амнистированных. Возвращаясь к чистой жизни, они сделали большой крюк – доехали автобусом до Юхнова, от Юхнова опять же автобусом, что ходит раз в сутки, добрались до Кашино, далее попуткой до развилки, а там уже пешочком (час ходу) – к Линде. Не просыхали амнистированные весь день, а вечером в субботу стали приставать к пасечнику с вопросом – как им отсюда выбраться?
Клим Климыч вежливо отвечал: как пришли, так и уходите, это в том смысле, что той же тропой. Но амнистированные его не слушали, канючили своё, поглядывая на притаившийся за бузиной «запорожец». Дед понял их намёк, но вида не подал. Тогда они ему прямо сказали:
– Отвези в Калугу. Мы заплатим.
Знал Клим Климыч их плату. Из тюремного заработка только на пару бутылок и хватило, ну разве что батон колбасы прикупили. А это что значит? Он их повезёт, а как отъедет на приличное расстояние, то от них по башке и схлопочет. На «запорожце» эти двое мерзавцев вольные птицы, а бензин они в дороге украдут. Разговор кончился тем, что пасечник прогнал амнистированных от своей калитки палкой. Они, матерясь, ушли допивать самогон, а Клим Климыч завел мотор и перевёл «запорожец» поближе к дому в дровяной сарай.
Утром глянул на куст бузины – где авто? Вначале перепугался, а потом вспомнил и успокоился – он же сам перегнал машину в надёжное место. А что в это место надо заглянуть, проверить – ему и невдомёк. А тут с утра общий переполох – труп! Подумаешь, невидаль! Этих трупов сейчас полный телевизор. Клим Климыч не стал обсуждать, откуда появился незнакомый покойник, а отправился по делам. Здесь он и обнаружил пропажу «запорожца».
Он бросился к сторожихе, но гостей и след простыл.
– Когда уехали?
– Раненько. Я спала. Ещё козу не доила.
– Что же они так рано уехали?
– А я почём знаю? Мало ли какие у людей дела? Они свободу обрели. А мой Толенька скоро обретёт. Гости это твёрдо обещали.
– А знаешь ли ты, ведьма старая, что они у меня «запорожец» увели?
– О-о-й, люди! Посмотрите на этого недоумка! Да зачем им твоя гнилая рухлядь? Они люди значительные, ушлые. Они жизнь с изнанки знают.
– То-то и оно, что с изнанки, мать-перемать! – крикнул Клим Климыч и бросился к собору к ещё не рассосавшейся толпе. Ну, не толпе, конечно, но четыре-пять человек ещё стояли, смолили сигареты, – кто «Парламент», кто «Приму».
Поначалу к известию о хищении «запорожца» люди отнеслись с юмором. Это всё равно что старую телогрейку с забора украсть – кому она нужна-то? Но по мере проникновения в суть вопроса лица у мужчин серьёзнели. Амнистированные? Ага… У сторожихи пьянствовали? Понятно.
Тут выяснилось, что никто, кроме Клим Климыча, этих «обретших свободу» не видел. Пришли в ночь и исчезли спозаранку. Сколько их было-то? Двое… А может быть, трое? И почему не предположить, что они подались ночью в церковь и своего же «третьего» сбросили вниз, потом пьянствовали целый день и скрылись на чужом «запорожце»?
Игнат высказал робкую мысль: де, если они ночью человека убили, то законно предположить, что они бы сразу дёрнули в бега. Зачем ещё целый день пьянствовать в опасной близости от трупа? Но трезвый голос не был услышан, потому что «вы не знаете этих людей», «им человека убить – что цыплёнку голову свернуть», а также «пьянство у них на первом месте, и не захотят они после стольких лет заключения лишить себя законного удовольствия» – и так далее, и в том же духе.
Когда подкатила санитарная карета с фельдшером, а вслед за ней Фроловский драндулет с милиционером – первая версия была прорисована уже во всех подробностях. Врач Надежда Ивановна брезгливо осмотрела труп и засвидетельствовала смерть «вследствие падения с большой высоты и столкновения с неблагоприятным металлическим вертикально торчащим предметом».
Перед тем как увезти труп в кашинский морг, каждого жителя Верхнего Стана подвели к покойнику. Милиционер всем задавал один и тот же вопрос:
– Вы не узнаёте потерпевшего? Всмотритесь внимательнее. Может быть, где-нибудь встречались?
Все ответили отрицательно. Опер Зыкин был молод, застенчив и неуклюж. Что-то в нём было щенячье – то ли взгляд, то ли неуверенность в жесте. Хочет руку для убедительности вскинуть, уже начнёт движение, а на полпути вдруг и передумает. Так и стоит с оттопыренной рукой, ладонь открытая, словно монету просит. Потом спохватится, достанет из кармана карамельку и задумчиво сунет в рот. Народ знал, что таким способом опер борется с курением, но зачем же над трупом карамельки сосать? Мог бы и повременить!
Неубедительно выглядел и весь его опрос. У него даже не хватило ума скрыть радостного щенячьего возбуждения. Это же надо – какое интересное дело подвалило! Ему, вишь, надоело разбирать пьяные драки и искать пропавшие вёдра, бидоны, в крайнем случае велосипеды. За год ни одного приличного дела. А здесь, прямо как в столице – в центре богатого дачного посёлка (вон за деревом джип «чероки» стоит!) загадочное убийство неизвестного. Правда, тыкалась холодным носом в щёку простая мысль: несчастный случай. Почему не предположить, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения попёрся на крышу церкви да и сорвался? Но Зыкин гнал от себя пресные предположения. Здесь всё очень серьёзно. Не исключено, что это террористический акт, а может быть, месть по личным мотивам. А может быть… да всё что угодно может быть, господа хорошие!
Рвение застенчивого опера несколько остудил рассказ Клим Климыча про угнанный «запорожец».
– Для первой версии годится, – сказал Зыкин строго. – А пока попрошу всем задержаться в посёлке на два дня. И без моего разрешения никуда не уезжать. Мы будем прорабатывать разные линии.
Зыкин и не думал называть себя во множественном числе. Все знали, что он единственный опер на всю округу. Когда он сказал «будем», то имел в виду большую серьёзную работу, которую он будет вершить с соратниками, прибывшими из области. К сожалению, он не ошибся.
8
Да как же было Флору Журавскому не узнать мертвеца, если две недели назад он выиграл у него семьсот зелёных?
Вы бывали в казино? Если не были – считайте, жизнь для вас проходит мимо. Вот где истинные страсти, драмы, восхождения и падения. Коли боишься проиграться в пух, то играй по маленькой. Главное, наблюдать, как раскрывается личность человеческая. Зайдите в казино, господа!
Выбор, где играть, богатый. Вот, скажем, «Арбат», бывшая «Тропиканка». Сейчас он расширился. На первом этаже огромный зал с игральными столами, на втором – ресторан с яствами. Там же устраиваются блестящие шоу. Есть особый зал, где можете пощекотать себе нервы, наблюдая бой без правил. Это истинно мужское наслаждение, но и женщины заходят полюбоваться литыми телами бойцов. Да, кстати, бар там тоже отличный.
Не нравится «Арбат» – иди в «Корону». Там те же блага, а изюминка – трёхкарточный покер. Хотите роскоши, блеска, позолоты – езжайте на Ленинградский проспект. Рядом с Белорусским вокзалом есть обалденное казино – них пол прозрачный, пальмы по углам, люстры глаза слепят – фантастическая роскошь!
Но мы вам советуем – не уходите с Нового Арбата. Идите в «Метелицу» – самое старое и крепкое казино в этом районе. Уже в самом названии – игривом, истинно русском – чувствуется безудержное веселье. Пляшут снежинки, как ваши мечты, пьянят кровь, свежим озоновым духом обмывают лицо.
«Метелица» – рублёвое казино. Можно, конечно, и долларами пользоваться, но игра там идёт в родной валюте – очень удобно. Первый этаж – ресторан «Блек-Джек». Там по телевизору показывают бега, так что можно делать ставки. Но особая достопримечательность «Метелицы» – второй этаж: в нём зал для vip – особо важных персон. Закуски и напитки там бесплатные – хоть упейся, и играют здесь по-крупному.
Флор казино не любил, а попал туда потому, что Лёвка за руку привел. Конечно, в карты Флор играл, в преферанс по молодости просиживал иногда до утра. Покером не баловался, но правила, как интеллигентный человек, разумеется, знал. Вообще-то Флор был человеком азартным, – вопрос только, куда ты свой азарт направляешь.
А направлял его Флор на своё ремесло. Беда только в том, что в новую эпоху демократии, рынка и господства чистогана заниматься чистым искусством стало крайне невыгодно. Те, кто хотел покупать его пейзажи, не имели даже малых денег, а люди с мошной живописью не интересовались. Трудно сказать, чем они вообще интересовались. Похоже, что главное для них – вложить деньги в такое дело, чтобы прибыль потекла рекой уже на следующей неделе.
Но забросил Флор живопись вовсе не из-за её неокупаемости. Боже избавь! Просто почувствовал дыхание новых времён, в голове забрезжили другие мысли, другие размеры и задачи. Волновало слово «экология». Флор вдруг стал ощущать планету, как дом родной. Иногда даже казалось, что ночами, прижавшись спиной к матрасу, он ощущает, как шарик крутится и летит во вселенной неведомо куда. И сладко было понимать, что он на этом шарике полноправный хозяин и защитник. Ну, и сознаемся себе самому: концептуальное пространственное искусство во имя защиты живого сулило куда большие барыши, чем обрамлённые рамой заросшие пруды, туманы над заливными лугами и заснеженные еловые леса.
Заниматься концептуальным искусством Флора заставила сама жизнь. И не только потому, что краски и кисти стали безумно дороги, хотя это тоже играло свою роль. Иногда столько угрохаешь на полотно да на подрамник, на синь берлинскую и прочее, что цену покупателю боишься назвать. Как-то получается, что сама работа и не стоит ничего.
Все вокруг ищут спонсоров, и что удивительно – находят. Идея использовать в своём искусстве удивительную природную красоту, в которой он оказался, появилась сразу, как он осел в Верхнем Стане. Оставалось только создать пространственный объёмный пейзаж и при этом высказать свою концепцию. Планету Земля нужно было так показать, чтобы это выглядело как объяснение в любви и нежности. Природа должна радовать. Человек-сын имеет право украсить Землю, но именно украсить, а рвы, котлованы, бункеры и уродливые небоскрёбы прокопчённых городов ей ни к чему. Это преступление – уродовать чистый, по-детски ясный мир. Разумеется, вслух он эти мысли высказывать стеснялся. Вербально идея выглядела очень примитивно, наивно и не ко времени. Но Флор может разговаривать с человечеством на своём языке.
И всё как-то совпало разом. Бывший сокурсник предложил полиграфические мощности. Сам Флор фотографией не занимался, но знал хороших ребят в издательстве, где некогда сотрудничал. Твори, а мы не подвёдем, устроим акцию по всем правилам и международный резонанс организуем! Решено было также снять акцию полномасштабно и в деталях на видео.
А из чего творить? Материал для экологически чистого искусства должен быть простым, как мычание. Глина, песок, снег, дерево, солома, лыко, плоды огородов… – вот из чего следовало создавать «нетленку».
Идея пришла осенним стылым вечером. Уже декабрь был на подходе. Все горожане давно разъехались из Стана. Флор сидел с мольбертом на самой верхотуре под деревом и писал пойму реки с прилегающими лесами. Пальцы стыли ужасно. Ему очень хотелось поймать особую прозрачность в воздухе, особый настрой в природе – эдакую грусть в мироздании, – но не умирание, нет, а ожидание чуда. Русские, от щедрот им данных и привычке смотреть не окрест, а вглубь себя, даже не понимают, как им повезло. Им дано пережить все этапы в годовом цикле планеты. А кто замечает, какое это чудо – иней на чёрных ветках? Чёткая, прекрасная графика, безупречные формы и сдержанный благородный цвет – все оттенки синего, бирюзового, а оранжевая и алая аляповатость допустимы лишь в небе в вечерние и утренние часы.
Сидя на горочке, Флор вдруг вспомнил, что река, которую он переносил на полотно, когда-то служила границей между Литвой и Московской Русью. Где-то здесь рядом пятьсот лет назад состоялось Великое Стояние против татар. И пало иго… Представился вдруг отряд ратников, бредущий вверх по склону. А потом как-то само собой вспомнилось: «решай задачу по-детски», и Флор увидел, что к нему идут не ратники, а снеговики с носами из моркови и набекрень надетыми вёдрами.
И что вы думаете? Налепили целую армию снеговиков. Все окрестные мужики были задействованы. Четыреста тридцать две снежных бабы накатали в оттепель. Флор долго ломал голову, как их поставить. В конце концов остановился на том самом варианте, который причудился ему осенним стылым днем. Снеговики шествовали от прибрежного лозняка вверх к церкви. В нестройных рядах их заметна была не то чтобы усталость – нет, они просто никуда не торопились, и этим создавалась ощущение, что бредут они по склону – вечно. И в этом движении, как ни странно, чувствовалась надёжность. Словно сама природа выслала на защиту людей своих ледяных стражей.
Снеговиков фотографировали и снимали видеокамерой днём при радостном солнце, на закате, когда тела их казались розовыми, ночью при свете мощных прожекторов, фотографировали всем строем, а также штучно в профиль и фас. Потом дождались мартовской оттепели, когда снеговики стали оплывать и принимать новые формы. Последними фотографировали уже бесформенные холмики снега и юрких мышей, пытавшихся утащить в норки остатки морковных носов. Выставка имела оглушительный успех. Понаделали видеоматериалов, каталогов, открыток, календарей, украсили строем снеговиков майки и полотенца. Какой-то умник из Франции написал на тему выставки отнюдь не тонкую брошюру.
Окрылённый Флор уже придумал новый проект, Сидоров-Сикорский ему активно помогал. Как только в Верхнем Стане стаял снег, художники засучили рукава. Теперь, по их задумке, склон и церковь, река и окрестные луга должны были войти составляющей частью в экологически чистый языческий праздник.
К Ивану-Купале, понятное дело, не успеть, а к осени всё может получиться. Августовские краски, венки из рябины, калины, крушины, хмеля, ивы, сосны и подсолнухов. А по траве пусть скачут соломенные кони. Весь ромашковый склон решили выкосить особым рисунком – в виде некого древнего символа. Вместо стяга – огромное полотнище из неотбелённого льна. Идея снеговиков твёрдо запала в голову Флора, поэтому совсем отказаться от неё он не мог. Функцию бредущего вверх по склону воинства от природы взяли на себя снопы. В кульминацию праздника предполагалось устроить костёр до неба.
Подготовка шла полным ходом. Всё было: идеи, энтузиазм, рабочая сила, то есть окрестные мужики с косами, вилами и топорами, и погода удалась на славу. Не было только денег. Малую мзду Флор получил из Франции, но она таяла на глазах. Необходимо было искать отечественных спонсоров. Пришлось Флору ехать в Москву. Случилось это как раз за пол месяца до описываемых событий.
На первую акцию – снеговиков – деньги дал Лёвушка. Тогда ещё дом-баня не был построен, Лёвушка был весел и щедр. Обошлись малой суммой, – мужики лепили снежных баб, считай, бесплатно. Известное дело – зимой в деревне какая работа? Каждый за выпивку и закуску был рад поиграть в детство. Фотографы и полиграфы тоже трудились на голом энтузиазме. А сейчас запахло прибылью, и каждый азартно потирал руки: я – работаю, ты – плати. Да и работа была посложнее.
В Москве Флор обошёл трёх человек – бывших потенциальных покупателей. Раньше они обожали толпиться в мастерских у художников, случалось, и приобретали полотна. Теперь разбогатели, и у всех, как назло – полное безденежье. Один должен отдать кредит, другой всю наличность вбухал в выгодную сделку. Все твердили хором: «Старик, ты просишь слишком большую сумму. А совершенно неизвестно, окупит ли себя этот проект». Только четвёртый пообещал дать денег, но через месяц:
– Флор, это верняк! Я всегда любил твою живопись. Ты пока перехвати, а в начале августа ко мне наведайся.
«Перехватить» можно было только у Лёвушки. Не хотелось Флору к нему идти, но что делать. И ведь как в воду смотрел. Оказалось, что и у Льва непредвиденные трудности: товар задержали на таможне, взятку большую только что влил в одного туза из министерства, и всё такое прочее. Но потом Лёвушка словно обмяк и спросил, какая, собственно, сумма нужна. Требуемая сумма была совсем игрушечной – зарплату мужикам выдать, а там поступят обещанные деньги. Лёва вдруг развеселился:
– Флор, зачем тебе эти унижения? Такую сумму ты сам за вечер заработаешь! Пойдём в казино.
– Лев, ты что? У меня даже на входной билет денег нет, – испугался Флор.
– За вход я заплачу. И это будут твои первые фишки. С ними и начнёшь игру. Надо будет – я ещё тебе куплю. Но сдаётся мне, что ты и без меня обойдёшься. Ты никогда не играл. Новичкам всегда везёт. Кроме того, ты совершенно уверен, что не сможешь выиграть ни рубля. Казино таких дурачков обычно балует. Только пойдём в моё время, чтобы примету с панталыку не сбить.
– А какая у тебя примета?
– Ровно в двенадцать ночи открыть в казино дверь левой ногой. И… порядок!
– А если я проиграюсь? – с сомнением спросил Флор.
– Прощу проигрыш.
– А если выиграю, но мало? – продолжал упрямиться Флор.
– Тогда я доплачу тебе до требуемой суммы. Договорились? Ровно в половине двенадцатого ты у меня, – Лёва всё посмеивался, коньячок попивал. Испуг Флора явно его забавлял.
Так они очутились в «Метелице». В подражание приятелю Флор тоже придержал дверь левой ногой. В зале для оч-чень важных персон было полно народу. Стол выбрал сам Лев, усадил Флора за стол для блек-джека, горкой выложил перед ним коктейльные, полученные на входе фишки, а сам ушел в бар. Дерзай, мол! Не буду тебя смущать. Плата за вход в казино составляла две тысячи рублей. Можешь на эти деньги текилу и коньяк лакать, а можешь их сразу пустить в игру. С помощью этих двух тысяч Флор должен был найти обеспечение и соломенным коням, и боярышням из лыка, оплатить всех косцов, пока не побросали косы, и прочая, прочая…
Флор не остался за этим игровым столом. Блек-джек – это практически наше очко. Совсем полагаться на фортуну, исключая интеллект, не хотелось. Флор выбрал стол с покером. И тут же ему пришлось наблюдать удивительную сцену. Такое не каждый день увидишь. Мужик, одетый прилично, но не в смокинге, можно даже сказать, простецкий на вид, но бойкий и бесстрашный, выиграл за одну игру сто сорок тысяч зелёных. Что тут в зале началось! Аплодисменты, кто-то орёт, сам выигравший хохочет, как в детском саду на утреннике. У Флора даже шея вспотела. Стал вытирать – платок мокрый, хоть выжимай. Вот что значит – деньги! Если он из-за чужого выигрыша так разнервничался, то что же с ним будет, когда он сам вступит в игру?
– Да как же это у него получилось-то? – пролепетал Флор, ни к кому, впрочем, не обращаясь. Нашёлся доброжелатель, залепетал в ухо. Казалось, сам наэлектризованный воздух казино рождал эти звуки.
– Так ему «роял флеш» с подачи пришёл! Редкая, невозможная удача.
Флор повернул голову и увидел вдохновенное лицо соседа. Глаза того были полузакрыты, виски взмокли, на веки, словно ощутимая тяжесть, легла тень.
– И что – каждый «роял флеш» стоит сразу сто сорок тысяч? – не поверил Флор.
– Это как фишку поставить. Я вижу, вы новичок? Ставить надо с умом. Он, изволите видеть, – уважительно шептал сосед, – поставил на «ANTE». Посмотрел в карты – есть игра! И подтвердил. Поставил на «ВЕТ» – удвоил. Ещё «бонус» – тут он как бы подстраховался. А ему сдали «флеш роял» – с ума сойти.
Флору стало муторно, нехорошо. И выражение это дурацкое – «изволите видеть» – казалось здесь вполне уместным, что тоже было неприятно. Неужели он бы тоже мог так восхищаться чужой удачей и лебезить перед ней, и говорить незнакомому человеку – «изволите видеть»? Бред!
– Только ему всех денег не дадут, – продолжал шептать сосед. – Выплата бонуса делается в зависимости от комбинации. И потом, на этом столе наверняка имеются ограничения.
И действительно, на зелёном сукне откуда ни возьмись появилась табличка: «На этом столе максимальный выигрыш двадцать пять тысяч долларов».
– У, да здесь большая игра! – сказал Лёвушка, подходя к столу. – А ты всё смотришь. Садись, играй. Тебе тоже повезёт.
И Флор сел за стол. Не будем подробно описывать эти три часа, которые он провёл за игорным столом – часы опасные, обидные, грозные, уничижительные, когда желудок, а может, сердце проскальзывает куда-то вниз и летит промеж ног не просто на пол, но ниже, на первый этаж, и потом подпрыгивает, как мячик, и возвращается на место. Вот как!
Пил… Не то чтобы вино лилось рекой, но выпил больше обычного и, как ни странно, совершенно не опьянел. И выиграл, чёрт вас возьми всех! Не такую баснословную сумму, как Виктор, но столько Флору и не надо было. Он не хотел получать столь значимый подарок от судьбы именно в казино. Для этого были куда более важные и значимые места.
Разные карты были на руках: и пара, и две пары, и порядок, один раз даже «Four of a Kind» пришёл – редкая и выгодная комбинация, но «флеш роял» не было.
А напротив, слева от крупье, сидел этот самый тип, которого сегодня нашли в крапиве. Сидел и буравил Флора глазами, а потом сел рядом. Мужику явно не везло, и с горя он усердствовал с выпивкой. Он ненавидел весь мир, а заодно и Лёвушку, хоть тот и не принимал участия в игре. Он посматривал на него так, словно давно его знает, и он-то и есть его главный враг.
– Кто это? – спросил Флор тогда Лёву шёпотом.
– Не знаю. Какой-то псих. И, видно, он очень не любит проигрывать.
Потом Лёва куда-то делся, Флор опять остался за столом без присмотра и поддержки, а крапивный мужик – глаза от злости у него совершенно обесцветились – переключил свою неприязнь на него. Он вдруг задышал Флору в ухо и вначале негромко, а потом всё возвышая голос, стал бубнить:
– Ты увёл у меня семьсот баксов. Понял? А может быть, и восемьсот.
Флор вначале отмалчивался, а потом не выдержал:
– Как я у тебя могу что-то увести, если мы играем против дилера? Это у тебя казино деньги увело, а не я.
Незнакомец вскочил на ноги и громко крикнул, указывая на Флора:
– Он у меня смотрел в карты. Каждую игру он ночевал в моих картах. Это нарушение правил! Идём в покер-клуб, и там разберёмся, кто прав! Будем играть без всяких дилеров!
Потом пошла нецензурщина. Незнакомец был пьян. Естественно, его вывели из зала. Двигаясь к двери, он обернулся, смерил Флора ненавидящим взглядом и просипел:
– Я тебя ещё найду.
Когда Флор увидел труп в крапиве, он первым делом на Лёвушку посмотрел, но тот не ответил ему взглядом. Ладно, не до этого. Флор бросился в машину и помчался в Кашино, а когда вернулся назад с милиционером, то был совершенно уверен, что Лёва обнародовал свои знания о покойном, сказал всенародно – я, мол, там-то и тогда-то видел этого человека.
А Лёва промолчал. Более того, при опросе он твёрдо сказал милиционеру, что никогда не видел раньше покойного. Может быть, Лев его просто не узнал? Это очень вероятно, потому что в тот вечер Лёвушка вообще не играл, и держать в памяти всех психов, которые проигрываются, вообще невозможно. Конечно, Флор мог напомнить. И мог подробно рассказать милиционеру, при каких обстоятельствах и где видел убитого. Но он не стал этого делать. Всякому ясно, что опрос носил чисто формальный характер, потому что уже появилась версия об убийцах – двух амнистированных уголовниках. Зачем в таких обстоятельствах светиться?
Да и стыдно было рассказывать лопоухому Зыкину и всему честному народу, как Флор на искусство деньги зарабатывает! И почему бы милиционеру не предположить, что убитый явился в Верхний Стан деньги проигранные назад требовать? Дальше воображение легко дорисует картинку: гроза, дождь, как из ведра, Флор и потерпевший пошли для крупного разговора под кровлю собора, там разругались в дым, и один другого спихнул.
Нет, пусть лучше с амнистированными опер разбирается. И потом, задним числом Флор совершенно не уверен, что убитый смотрел на него и Лёвушку каким-то особенным взглядом. Убитый тогда проиграл, он был пьян, и решил сорвать зло на первом, кто подвернулся под руку.
И вообще… работы сверх головы, жара, всё растёт-колосится. Только бы успеть! А ввязываться в беседы с опером – это поставить под срыв всю работу.
9
Первое, что сказала Инна Лёвушке, когда после разговора с милиционером он явился в дом, было:
– Зачем ты сказал Марье про зажигалку в виде пистолета? Тётка твоя, конечно, дура, но не настолько, чтобы поверить в эту ложь.
Лев прямо опешил. Вчера ещё головой кивала, улыбалась сладко, когда он тётке про Артура рассказывал, а тут вдруг упреки, да ещё с такой раздражительностью… Ну, напугал тебя вид трупа – такое кого хочешь напугает, – но зачем же бочку катить?
– Где ты, собственно, увидела ложь? У Артура действительно есть такая зажигалка. И Лидия в самом деле исцарапала ему лицо. В чём, правда, не сознаётся.
– Она была пьяная в дым. Что она может помнить? – проворчала Инна. – А Марью ты своими рассказом только насторожил. Её без труда можно было уговорить, что весь этот бред с незнакомцем и пистолетом ей просто приснился. А ты признал, что веришь каждому её слову. Теперь она начнет копать, выспрашивать, наговорит с три короба всякой ерунды.
– Слушай, прекрати! Я еле на ногах держусь. Принеси что-нибудь холодненькое из холодильника. Только не пива.
Инна пошла на кухню и вернулась с яблочным соком. Наполняя стаканы, она хмурилась, морщилась, – словом, всем своим видом выражала крайнее недовольство.
Лев залпом выпил сок, отдышался, расслабился. Он не хотел ссориться, но оставить Иннины упрёки без ответа тоже не мог. Он знал, что она всё равно вернётся к этому разговору и поведёт его в ещё более драматических тонах. Инка – лучший в мире мастер устраивать истерики.
– Тётя Маша вовсе не болтлива, – сказал он, наливая себе ещё соку.
– Как бы не так, – тут же отозвалась Инна. – Она уже расспрашивала меня… Пристала как банный лист.
– О чём?
– Какие у Лёвушки враги? Требовала объяснений. Назови ей имена всех нехороших людей, которые могли бы Лёвушку ненавидеть. И не связан ли её драгоценный племянник с криминальным миром?
На щеках Льва заходили желваки.
– В нашей стране каждый бизнесмен в той или иной степени связан с криминальным миром. И я не понимаю, чем тебя так раздражают вопросы тёти Маши. Она меня любит и боится за меня. Между прочим, не без основания, и ты это знаешь.
Лёва вздохнул и с отвлечённым видом стал обозревать прекрасный открывающийся с террасы пейзаж. Он имел все основания беспокоиться. Зависло над его фирмой одно дельце трёхлетней давности. Лёвушка считал, что сполна расплатился за кредит, а на том конце вбили себе в голову, что с процентами произошла большая неувязка.
Никогда бы Лев не связался с чёрным налом и с этой чёрной публикой, если бы не полетело всё в тартарары в девяносто восьмом году. Тогда, в августе, у него выбора не было. Надо было спасать не только дело, но и собственную шкуру. Пришлось занять под баснословные проценты. А теперь эта публика считает, что можно до скончания века тянуть с него деньги. К угрозам Лев давно привык и научился не обращать на них внимания. Но теперь эта шпана от угроз перешла к делу. Какой-то отморозок безграмотный взрывчатку подкинул ему под дверь. Взрыв прогремел ночью. Разворотило потолок на лестничной клетке, все стёкла повышибало. Особенно жалко было цветные витражи. Но стальная дверь в его квартиру выдержала. Ясное дело, убить его не хотели, просто пугали. Но в этой компании недоумков много. Могут обидеться… А от обиды до выстрела у конкретных пацанов один вздох. Всё это Инна знала, и сейчас было самое время сосредоточиться и высказать конкретные предположения, – какой именно гад посмел нарушить в Верхнем Стане Лёвин покой, но вместо этого она вдруг резко крутанула головой, из-за чего волосы её, как в рекламе, рассыпались веером, потом, размазывая тушь, прижала безымянные пальцы к глазам и прокричала на истерической ноте, забыв, что её могут услышать:
– Мамочка моя родная! Опять ты о себе. Неужели ты не понял, что вся эта опереточная возня с пистолетом направлена против меня? А твоя тётка необдуманной болтовнёй только усугубляет ситуацию.
Лёва обиженно засопел. Он никак не ожидал такого поворота в разговоре. На его глазах происходила удивительная метаморфоза. Обычно Инна была упакована, застёгнута и защищена боевым косметическим окрасом так надёжно, что добраться до её сердцевины не представлялось возможным. Имидж, как со страниц глянцевого журнала, и разговор был таким же отлакированным. Она вела себя безукоризненно, умела вовремя дать дельный совет, всегда находила правильный тон в разговоре, не скупилась на сочувствие, если того требовала ситуация, и сочувствие её выглядело всегда искренним. И вдруг эта железная женщина ни с того ни с сего стала тащить одеяло на себя. Весь имидж, весь целенаправленно созданный образ – вдребезги!
– При чём здесь ты? – взорвался Лёвушка. – И почему ты употребляешь слово «оперетка»? Прости, но в этой ситуации это просто кощунственно.
– Убитый… ну, труп около церкви… Я его знаю. Очень близко знаю, – из-под Инниных пальцев выползли две мутные серые капли. – В общем… это… Андрей.
– Какой ещё Андрей?
– Мой муж.
Лёва умел держать удар. Профессия бизнесмена в эпоху перемен – это профессия риска, которая сродни водолазам, спелеологам, альпинистам, разведчикам и инкассаторам. Иногда такое приходится услышать! Но держал себя в руках. А здесь вдруг разозлился.
– Вот, значит, как нам довелось познакомиться! А ты, стало быть, в неутешном горе?
– При чём здесь мое горе? Он измучил меня, довёл до точки. Я видела его здесь ночью в пятницу. Мы разговаривали. Он поклялся, что уедет. Милиционер начнет копать, и подозрение падёт на меня в первую очередь.
– А во вторую – на меня! – крикнул Лёва.
Инкин муж давно был у него костью в горле. Лёва никогда его не видел и не так уж много о нём знал. Сведения были самые общие: негодяй, подлец, склочник и неудачник с садистскими наклонностями. Нет, кажется, не с садистскими, а с мазохистскими… А впрочем, один чёрт! В последнем определении Инка сама путалась. И возникал этот субъект всегда в таких ситуациях, когда его наличие на горизонте было особенно нежелательным.
Хотя кто рассудит? Сейчас можно сознаться себе, что этот садист-мазохист, сам того не ведая, спас Лёвушку, когда тот, влюблённый до обморока, решил пять лет назад непременно сочетаться с Инной браком. Лев тогда умолял: «Разведись!», а она твердила: «Нет, он не даст мне развода». Лёвушка возражал: «В наше время могут развести без согласия одного из супругов. В конце концов, судье можно заплатить», а Инна ломала пальцы: «Он без меня погибнет, он обещал наложить на себя руки». Ой, что-то не похоже. Синяки на теле Инны говорили о том, что этот страдалец ещё и руки распускал.
В конце концов Инна сбежала от Андрея, Лёвушка помог ей купить однокомнатную квартиру. Но Андрей и тут не оставил жену в покое. Он являлся в самое неподходящее время и требовал денег. И не тридцатку на водку, а приличную сумму в долларах. Это называлось у него «воспоможествованием». И подоплёка у этих поборов была: «Я делюсь с твоим банкиром женой, а он пусть поделится со мной капиталом». И удивительно, что Инна каждый раз безропотно давала ему деньги.
Всё это Лёвушка узнал позднее. Пока для «воспоможествования» мужу у Инны хватало собственной зарплаты, она ничего не рассказывала Льву. Но потом Андрей запросил слишком большую сумму денег, и Инне пришлось обратиться за помощью к шефу и любовнику. Лёва потребовал объяснений, а когда их получил, то пришёл в ужас. Никаких денег он не даст, он проломит неудачнику и садисту башку, а Инна немедленно подаст на развод!
Но именно в этот момент Андрей исчез из общения. Три года о нём не было ни слуху ни духу. Инна считала, что он уехал за границу. А теперь вдруг он опять объявился, и, как всегда, в самый неподходящий момент.
– О чём он разговаривал с тобой ночью?
– Как обычно, просил денег.
– И ты дала?
Инна промолчала.
– Как он вообще отыскал тебя в этой глухомани?
– Вычислил. Покойник был хитрец, каких мало.
– Это уже что-то новенькое в его характеристике. Раньше он числился под кличкой «неудачник, подлец, негодяй», но никак не «хитрец», а скорее «лох».
– А ты не остри!
– А я не острю. Давай подробности.
– Как я и думала, он был в Европе. Чем он там занимался – не знаю. Наверное, каким-нибудь мелким бизнесом. Потом вернулся домой. Вернулся, но мне даже не позвонил.
– Ты что, огорчена задним числом?
– Нет, Лёва, нет. Не надо со мной так. Если Андрей мне не позвонил, значит, дела его были не так уж плохи. Мы встретились случайно. Столкнулись нос к носу в казино.
– Я там тоже был в тот вечер?
– Да. Ты как раз играл. Андрей поманил меня пальцем, я и пошла на ватных ногах. Он мне и говорит: «А ты, благоверная, неплохо устроилась в жизни. В казино ходишь развлекаться». Я возразила – мол, ты тоже неплохо устроился, если я тебя здесь встретила. Он мне в ответ зло: «Я здесь не развлекаюсь. Я тут играю по маленькой, а чаще крохи собираю с чужих столов, чтобы не сдохнуть с голоду». А сам на дохлого совсем не похож. Одет великолепно и морда сытая.
– А дальше что?
– Всё как обычно. Стал требовать денег.
– И ты дала?
Инна кивнула.
– Почему ты даёшь ему деньги вместо того, чтоб послать его к чёрту? В конце концов, можно в милицию сообщить.
– Он шантажирует меня. Он мне угрожает.
– Чем тебя можно шантажировать?
– Каждого человека можно чем-нибудь шантажировать, – уклончиво ответила Инна. – Как он узнал про Верхний Стан, я не знаю. Мы только приехали, вещи выгрузили. Я пошла в банный дом. Вдруг меня кто-то за руку хвать! Темно было. Я обозлилась – что ещё за шутки! А это, оказывается, Андрей. И шепчет мне в самое ухо: «Приходи через полчаса на кладбище. Буду ждать тебя у входа в церковь, а не придёшь, я такой скандал учиню, что мало не покажется».
– И ты пошла.
– А что мне оставалось делать? Его надо было усмирить. Он же сумасшедший.
– Ещё одна характеристика. Раньше он был нормальным.
– Со мной он никогда не был нормальным! И я не удивлюсь, что он нарочно с крыши прыгнул, чтобы мне разом за всё отомстить.
– О чём вы говорили в церкви?
– Я умоляла его уехать. Денег немного дала. Но он меня не слышал, твердил, что у него здесь какое-то дело.
– Так ты думаешь, что к тёте Маше ночью наведывался он?
– А кто же ещё?
Лицо у Лёвы было такое, словно он сейчас набросится на Инну с кулаками.
– И ты молчала? Зачем он явился в мою спальню? Грабить? Тут нечего украсть. Цель у него могла быть одна.
– Но ведь все живы, – Инна опять принялась плакать. – Он ведь никого не убил, а сам, как последний дурак, упал с крыши. Андрей ведь тоже человек. Он раньше таким не был. Его жизнь изуродовала.
– Ладно. Успокойся, – Лёвушка оторвал её руки от зарёванного лица, вытер полотенцем ей глаза, потом подумал и поцеловал в лоб. – Раз мы ни в чём не виноваты, то и бояться нам нечего.
– Фальстаф с Лидией – вот они умные. Взяли и укатили в субботу. И все наши переживания их никак не касаются. Может, нам тоже сбежать?
– Нет, Иннусь. До субботы мне в Москву возвращаться негоже. А в субботу мы как раз визы получим и прямиком на Средиземное море.
– Конечно, здесь безопасно, – согласилась Инна. – Давай что-нибудь выпьем. Водки, например.
– Давай.
– А скажи, мой милый Лев, много ли найдётся в мире людей, которые не боялись бы, что их могут убить? И что самое удивительное – за дело.
10
В тот же день, то есть в воскресенье вечером, как и обещал, приехал Артур, привёз десять ящиков пива, батарею бутылок коньяка и водки, а также мартини и хванчкару для дам. Узнав, что Лидия уже отбыла в Москву, огорчился. Он, оказывается, собирался у неё прощения просить за то, что из лужи её поднял и до кровати доволок. Царапины на его лице были аккуратно замазаны и запудрены.
– С выпивкой ты переусердствовал, – сказал Лёвушка.
– Это ты скажешь в конце недели. Водки, сколько её ни купи, всегда мало, а относительно пива… Давно уже пора провести параллельно водопроводной ещё одну сеть, чтоб неиссякаемо… чтоб только кран открыть, и порядок!
– В пивопроводе все сорта перемешаются, – рассмеялся Лёва. – Но я думаю, производители на это пойдут…
– Ещё как пойдут. Бабки ведь тоже потекут рекой. Только счётчики надо поставить в каждую квартиру.
– А мы час назад решили вести здоровый образ жизни, – строго сказала Инна.
– С чего бы это?
– Здесь у нас такое произошло!
– Какое – такое?
Артур всё ещё пытался балагурить, хоть и не находил в друзьях поддержки. После душной Москвы, долгой дороги он мечтал об одном – выкупаться и засесть в уголке террасы с бутылкой холодненького. Настроение хозяев настораживало. Всем своим видом они давали понять, что у них на вечер заготовлен совсем другой сценарий. Артур только сигарету закурил, как они наперебой стали рассказывать про труп, найденный в крапиве. О том, кто убитый, не было сказано ни слова. Зато про похищение «запорожца» было рассказано во всех подробностях. Первая версия по поводу загадочного нахождения трупа обрастала подробностями.
Артур на рассказ отреагировал спокойно. Шутить перестал, но и ужасаться не захотел. Что он, трупов не видел? Их полна Москва, а в телевизионном ящике мертвецов всех мастей как шпрот в банке. Нет, ребятки, вы его мертвецом в крапиве не смутите. На террасе жарко, душно, всё тело липкое от пота. Семь часов вечера, а солнце так палит, что дышать нечем. Артур хотел пойти на реку и пойдёт. Лев вызвался его сопровождать. Инна на реку идти отказалась, сославшись на головную боль. Она лучше полежит.
Марья Ивановна спряталась от пекла в цветнике, в тенёчке. Мысли её были простые. Вишни надо собирать. А может, погодить? Ещё не вся покраснела до полной готовности. Уж больно жарко за ягодой тянуться. И мухи появились какие-то мерзкие. Так больно кусают, словно крапивой тебя хлестнули. А потом через сутки рука или нога в месте укуса так зудит, словно заморозка отходит. Но всё равно надо вишню собирать, а то воробьи её склюют, и ничего на варенье не останется. Завтра она этим и займётся.
Через березняк вышли к ручью, и сразу стало прохладно. Ручей бежал с угора через чащобы лозняка, чёрной ольхи, черёмухи, двухметровых зонтичных, переплетённых хмелём, через мёртвые стволы упавших ив, а потом, падая уступом, водопадом, выбирался на волю. Здесь он омывал старые корни дикой яблони, и та в благодарность кидала в его певучее каменное русло свои мелкие горьковатые плоды. Через ручей был перекинут хилый мосток с перильцами из слег.
– Красиво… – сказал Лёва.
– До одурения, – согласился Артур.
Лёва именно этот мостик назначил для приватного разговора, но потом передумал. Как-то не подходила благодатная тень для суетливых, заранее приготовленных фраз. Вот уже омоем распаренные тела в реке, тогда и начнём разводить турусы на колёсах.
Омыли. Вода у берега была совсем тёплой, но дальше, на быстротоке, можно было хорошо освежиться. Главное, не сопротивляться течению, которое волочит тебя к заросшему лозой островку. На камне с удочкой сидел Игнат.
– Клюет?
– Так себе.
– Приходите все вечером пиво пить. И этого приводите, толстого, как его… Сидорова-Сикорского.
Назад пошли той же дорогой. Не доходя до мостика, Лёвушка сказал:
– Здесь ещё было происшествие неприятное. Кто-то мою тётку ночью напугал. Для того чтобы её успокоить, я сказал, что это был ты. Прости, старик, но лучшего ничего в голову не пришло.
– Это был я? – переспросил Артур. – И что же я сделал?
– Ты ночью, когда от Лидии возвращался, малость заблудился и зашарашился в тёткину комнату.
– А где её комната?
– А ты не знаешь? Её комната – моя спальня. Она часто там ночует. Там матрас противорадикулитный. Ты туда и зашёл.
– Зачем?
– Откуда я знаю? Может, закурить хотел.
– Я что – со странностями?
– Артур, войди в моё положение. У тебя зажигалка в виде пистолета. Тётка утверждает, что злоумышленник в неё целился. В моей спальне выключатель барахлит и имеет обыкновение самостоятельно включаться. Вот он среди ночи и включился. И тётка увидела якобы убийцу. Понял?
Лёва настороженно посмотрел на Артура: смутился или нет? Не разберёшь, но разговор этот Артуру явно не нравился.
– Пусть это буду я, если тебе это надо, – ответил он наконец. – Но если зажёгся свет, то твоя тётя Маша должна была меня рассмотреть.
– Не рассмотрела. То ли свет её ослепил, то ли она со страху глаза закрыла. Теперь лепечет что-то про бороду и шляпу.
– Я был без шляпы, – быстро сказал Артур. – И с бородой у меня тоже нелады.
– Старик, ну какая разница. Главное, если что, сознайся, что это был ты.
– А что, будет разговор?
– Вдруг она решит с тобой объясниться.
– И как она будет со мной объясняться?
– Может быть, и не будет. Ладно. Забудем об этом.
– Хорошо, забудем, – пожал плечами Артур.
Солнце, косматое и страшное, наконец спряталось за верхушками ёлок на дальних горках. Небо полыхало самыми разнообразными красками. Здесь были и голубизна, и бирюза, и золотые каёмки на лёгких облачках. Флор прямо-таки облизывался, глядя на этот закат. Сидоров-Сикорский разжигал самовар. Артур притащил ящик пива. Явилась Инна и, таращась со сна, оглядывала всех с удивлением. Лёва шипел ей в ухо:
– Я всех позвал. Нельзя предаваться бесконечной мерехлюндии. Очнись, пожалуйста, и всем улыбайся.
– Я улыбаюсь, – шипела Инна сквозь зубы.
Последним пришёл Флор.
– А что Эрика не привёл? – спросил Лёва.
– Так он в Москве. Ещё в пятницу уехал.
– Забавный парень, флегматичный, – заметил Лёва.
– Это Эрик-то флегматичный? Да у него в душе всё так и бурлит, только пар наружу он порциями выпускает. Но снопы он вяжет отлично.
– А Игнат так и сидит с удочкой?
– Нет. Он себя туалетной водой полил и навострил лыжи к женскому полу. У него тут любовь.
– В деревне-то любовь? – осуждающе заметил одноглазый Харитонов; один глаз его был скрыт повязкой, а другой – узкая щёлочка в отёчных веках – смотрел на мир настороженно и осуждающе. – Не понимаю я наших молодых мужчин. За тридцать лет перевалило. А они всё «на выданье». Такая инфантильность! Или это наша национальная болезнь?
С этого невинного вопроса и зашёл разговор о менталитете разных народов. Тёплыми летними вечерами в Верхнем Стане любили потрепаться на отвлечённые темы. Лёвушка принимал в этом самое активное участие. Эти неторопливые пересыпанные остротами разговоры с внезапно вспыхивающими спорами под чаёк, кофеёк, водочку или, как сейчас, под пиво, напоминали ему давние кухонные беседы в Москве, когда он был ещё учёным и не помышлял о бизнесе. Сейчас по этой части тоскливо стало. Соберёшься со своими в клубе или в казино, сядут за стол. Выпивки до чёрта. И будут они тебе бескорыстно обсуждать чей-то менталитет? Да ни в коем случае! Каждый будет бубнить о насущном – обсуждать достоинства своей тачки. Один будет говорить, что у его «мерса» самая надёжная подвеска, другой – хвастаться металлическими прибамбасами на новом джипе «тойота-раннер», третий – гордо сообщать, что он отказался к свиньям от больших машин, купил «Опель», и теперь у него нет проблем с парковкой. Тут же все хором осудят Жорика, который приобрёл «линкольн» – немыслимой длины и роскошества средство передвижения: зачем оно ему, если он не Пугачёва и не Филипп, а скромный бизнесмен по производству оконных пакетов?
Было время в Верхнем Стане, когда по вечерам на террасе надрывались от политических споров. Года два или около того назад эти разговоры вспыхивали, как порох. И даже не споры это были, а грызня, потому что отношение к политике государства базировалось не на разумных доводах, а на чисто физиологическом посыле. «Я его ненавижу! Я рожу его не переношу!» – вот и весь сказ. Находились такие, которые не могли слушать по телику последние известия. На экране то и дело появлялись «рожи», вызывающие рвотный инстинкт. Приходилось немедленно бежать из комнаты, а сосед за столом сидел и думал про страдальца: «С ума он, что ли, сошёл? Лицо как лицо. И политика нормальная». А потом как-то вдруг разом договорились – политические темы закрыть. Тем более что в жизни всё как-то устроилось, и лодку перестали раскачивать, и появился намёк на стабильность. Оставим в покое президента, а вот менталитет каждой отдельно взятой нации… самое то, чтобы обсудить.
Артур выступил с полным знанием вопроса. Никто толком не знал, кто он по профессии. Знали только, что он каким-то боком сотрудничает с Лёвиной фирмой. Здесь, вечером на террасе, он и распустил хвост. Артур заявил, что у нас, при нашей невычесанной свободе, когда кажется, что всё, что хочешь, то и делай, в общественных науках вовсе не всем можно заниматься. Материться по телевизору – пожалуйста, паскудство показывать на экране – да сколько угодно, а вот взять, например, и с научной точки зрения обсудить психологию каждой нации, не только обычаи, но и генетические способности, скажем, к математике – вот здесь табу. И если ты за собственные деньги напечатаешь статью на эту тему, и общество начнет её обсуждать, то ты получишь дискуссию не на научную тему, а на политическую. И будешь ты враг современного гуманизма.
– Начнём с древней Греции, – продолжал Артур. – Аристотель делил весь мир на эллинов и варваров. Он утверждал, что варвар самой природой – формой носа, кистями рук и прочим – предназначен был для того, чтобы быть грубым завоевателем, а в результате рабом, потому что разумно мыслить он не в состоянии. А благородные эллины с их прямыми носами и высокими лбами природой предназначены для того, чтобы мыслить и руководить.
– Чушь, – сказал Сидоров-Сикорский.
– Не спорьте с Аристотелем.
– Я не Аристотелем спорю, а с расистами. Ненавижу расистов.
– Ну при чём здесь расизм?
– А как там на западе с их вычесанной свободой?
«Чуть что – начинают с Древней Греции, – подумала Марья Ивановна и пошла на кухню. – Под Древнюю Грецию всю красную рыбу сожрут! А балык я вам не дам! Обойдётесь воблой. А ещё лучше было бы кильки купить».
Она вернулась в террасу с воблой, которая тут же была разобрана.
– Нет, ты мне скажи, – настаивал Лёвушка, – убийца – понятие наследственное или приобретённое? Я помню, была теория про определённую форму черепа и всё такое прочее…
Артур уже рот открыл, но его перебил Сидоров-Сикорский.
– Нет, Лёвушка милый, здесь всё как-то не так, – сказал он, постукивая рыбиной по краю стола. – Дело не в том, что он – убийца, а в том, что по своему генетическому коду он может быть отличён от большинства людей его этноса. А потому он приобретает свою форму приспособления. Если у меня рост три метра вместо одного метра семидесяти, то, наверное, я изберу образ жизни не такой, как Пётр, Иван и Михаил. Я буду в баскетбол играть или работать дядей Стёпой-светофором. Наверное, так же обстоит дело с убийцами…
Дальше вопросы посыпались как горох из мешка:
– А слабый характер – это генетическая штука?
– Понятие силы и слабости – вещь генетическая. Равно как и ум.
– А что такое ум? Я думаю, что ум – инстинкт выживания рода.
– Ум – это характеристика вашего быстродействия и объём перерабатываемой информации, – сказал Артур. – Например, я как умный человек замечаю, что выпивки до чёрта, а закуска кончается.
– Тёть Маш, нарежь колбаски, – попросил Лёва. – И овощей, что ли, принеси.
Когда Марья Ивановна вернулась на террасу, слово держал Лев. Сколько она пробыла на кухне – минут пять, не больше, а они со своим трёпом уже во-о-о-на куда ускакали!
– Мы должны уповать на теорию конвергенции. К этому придёт и социалистическая система, и рыночная. Всё сойдётся в одной точке, и человечество вплывёт, если угодно, в своеобразный коммунизм. Конечная цель одна, и она вполне достижима. Когда мы придём к техническому социуму, то отпадёт необходимость в сознании реальных жизненных благ, необходимых нам для выживания. Так же как в Беловежской пуще зубры не понимают, откуда для них появляется холодной зимой корм, так и людям будет не обязательно знать, кто нас поит и кормит. Машины будут сами себя воспроизводить и нас обслуживать…
– Понятно, у них будет собственная жизнь, а люди как бы в заказнике…
Марья Ивановна тихо вышла из комнаты. Уж не до утра ли они вздумали здесь сидеть? Сейчас наша терраса – их заказник. Лёва ещё долго говорил.
– …У людей будет происходить своя полнокровная жизнь – любовь, искусство, всё что угодно. Жизнь Адама и Евы. Откуда ушли, туда и придём.
– А войны? Не может быть, чтоб человек по природе своей не стал воевать с той же машинерией.
– Технический социум будет регулировать быт, следить, чтобы не было войн, как мы сейчас регулируем стычки между кабанами и волками. Человек сам создаёт своего Бога – техническую цивилизацию. Тёть Маш, чайку бы сообразить… или кофейку.
Неслышными шагами на террасу пришла Марья Ивановна с огромным подносом, на котором уместились и чашки, и заварочный чайник, и початый торт в круглой коробке. Лёва прошипел сидящей рядом Инне:
– Помоги тётке. Она не обязана обслуживать всю эту кодлу. Она не служанка здесь.
Инна резво встала, слегка оттеснила от стола Марью Ивановну и попыталась взять у неё поднос. Та удивилась и не только не отдала, но вцепилась в ручки подноса, словно уверена была, что Инне не под силу удержать такую тяжесть. Со стороны это не было похоже на борьбу, они словно в вежливости состязались, как Манилов с Чичиковым. В конце концов Инна одолела пенсионерку. Марья Ивановна сделала шаг назад. В этот момент и раздался в темноте громкий хлопок. Никто вначале не понял, что это был выстрел. Лёва негромко ахнул и прижался к спинке кресла, держась за грудь.
– А-а-а! – закричала Марья Ивановна и кинулась к племяннику. – Я говорила. Я предупреждала!
Лёва сидел белый как мел, через пальцы его, прижатые к груди, сочилась кровь, а сам он вдруг начал медленно сползать с кресла.
– В него стреляли! – взвизгнула Инна, и поднос с грохотом полетел на пол.
– Меня убили, – повторил вслед за ней Лев и потерял сознание.
11
Фельдшера Макара Ивановича, которого все в округе называли «Ветеринар» – кличка у него была такая, – Флор привёз через час. Врача Надежду Ивановну на этот раз доставить в Верхний Стан не удалось. Вечером она праздновала своё сорокалетие и теперь находилась в полной отключке. На этом же банкете находилась в полном составе и кашинская милиция, поэтому заезжать за опером Зыкиным тоже не имело смысла.
Но если бы опер и не назюзюкался в стельку, ему всё равно было не суждено попасть в эту ночь в Верхний Стан, потому что Флор о нём просто не вспомнил. Не до того было. Одно дело, когда неведомый труп в деревне нашли, и совсем другое, когда Льва ранили в левую сторону груди. Там же сердце! Врач нужен, а не мент. Фрол даже мысленно запрещал себе говорить слово «убили», хотя на первый взгляд оно так и выходило. Удивительно, если он вообще ещё жив.
Лёвушка был не только жив, но и в сознании. Он сидел в том же кресле, прикрытый пледом. Голую грудь его стягивала повязка, через которую проступило кровавое пятно. Вид, конечно, ужасный. Не просто бледный, а серый, глаза испуганные, зрачки суженные, дрожит весь.
– Пуля навылет, – констатировал фельдшер, осмотрев раненого. – Повезло вам, молодой человек. Очень повезло, – и добавил загадочное слово: – Средостение.
– Какое ещё средостение? – переспросила Марья Ивановна. – И что значит повезло, если моего племянника чуть не убили?
– Вот именно – чуть. Несколько миллиметров в сторону, и пиши пропало. Стрелял опытный убийца, хороший стрелок. Метился он точно. Но у вашего племянника, при его неспортивном сложении, сердце несколько опущено, впрочем, как и все жизненно важные органы. Мышцы дряблые – понимаете?
Лёва тихо застонал.
– Больно? – обратился фельдшер к раненому.
– А вы как думаете? – Лёвины слова не были окрашены никаким эмоциональным оттенком: на злость и негодование у него просто не было сил.
– Плевра не задета, – ласково отозвался фельдшер. – Если бы плевра была задета, вы бы со мной не разговаривали. Вы бы от боли сознание потеряли.
– Он и терял! Только что в себя пришёл, – Инна опять начала плакать, вид у неё был совершенно потерянный.
– Да делайте что-нибудь, какого чёрта! – не выдержал Флор. – Что вы тут разговоры разговариваете?
– При бедности нашей лечебницы я могу сделать только обезболивающий укол анальгина, – спокойно ответил Ветеринар, раскрыл свой чемоданчик и начал готовить шприц. – Можно также сделать новокаин внутривенно, но при угрожающей бледности больного делать это я остерегусь, потому что может рухнуть давление.
Присутствующие с благоговейным вниманием следили, как фельдшер примеривался к Лёвиной ноге, выискивая удобное место для укола. Он всё пытался добраться до ягодиц, но боялся потревожить раненого. Наконец укол был сделан.
Укладывая шприц в металлический футляр, фельдшер похвалил всех присутствующих: де, всё они сделали правильно, не поволокли раненого в постель, а ведь могли и не знать, что в лежачем положении отёк поражённых тканей проявляется гораздо быстрее, чем в сидячем. Потом, всё так же невозмутимо глядя на Льва, он принялся рассуждать сам с собой:
– Похоже, что жизненно важные органы не задеты. Если бы пуля продырявила верхушку лёгких, то на губах появилась бы кровавая пена. А она не появляется. Хотя если задеты нижние участки лёгкого, пены может не быть, но будет внутреннее кровоизлияние, что очень нежелательно…
– Вы не можете все свои знания держать при себе? – взмолилась Марья Ивановна. – Я понимаю, что нам повезло, и мы вам очень благодарны, но слушать все эти подробности… Увольте!
Ветеринар вдруг посуровел и твёрдо сказал, что только рентген может внести ясность и показать, задеты или не задеты жизненно важные органы, а потому господина Шелихова Льва Леонидовича надо немедленно везти в районную больницу.
После обезболивающего укола Лёве заметно полегчало. Даже цвет лица изменился и страх прошёл. Ехать в райцентр он категорически отказался, заверив фельдшера, что в Москву уже позвонили, и скоро сюда явится его собственный врач. С ним они и решат, что делать дальше. Фельдшер смирился.
Тут неожиданно для всех проявил инициативу Артур, призвав мужчин прочесать сад. Флор и одноглазый Харитонов (Сидоров-Сикорский с Раисой уже отбыли домой, потому что у скульптора от переживаний поднялось давление) отнеслись к предложению Артура с сомнением, но и отказываться было как-то неловко. Инна направилась вместе со всеми.
– Убийцу мы, конечно, не найдём, но следы его пребывания, может быть, и обнаружим, – твердил Артур.
А как их найдёшь – следы, если темнота в саду – глаз выколи. На всю компанию два фонаря, а одним из двух завладела Инна, потому что ей надо под ноги светить, чтоб не упасть. Но даже с фонарём она не поспевала за мужчинами.
– Ну кто ночью по саду шастает на каблуках? – не выдержал Флор. – Идите домой, мы уж как-нибудь сами…
И не нашли бы ничего, если бы у Инны вдруг не погас фонарь. В обычной ситуации в первую очередь думаешь о севших батарейках и перегоревшей лампочке, а здесь вдруг в голову полезло чёрт-те что, декоративный валун обочь дорожки обернулся сгорбленным убийцей. Инна дико закричала, ломанулась прямо через кусты к дому и, конечно, упала. Подоспевшие мужчины принялись её поднимать.
– Подождите! Я сама. О, дьявол, коленку оцарапала! Камень острый! Нет, это не камень… Посвети сюда, – она неловко поднялась на ноги, разжала ладонь и взвизгнула: – Пуля!
– Гильза, – поправил её Артур. – Дай сюда.
Мужчины коротко крикнули «гип-гип-ура», но радовались они не столько находке, сколько возможности прекратить наконец нелепое блуждание по мокрой траве. Что они, мальчишки – в сыщиков играть? Другое дело – Артур. Он самым тщательным образом осмотрел гильзу, завернул в носовой платок и упрятал в карман шортов.
– Я её потом следователю отдам, – сказал он строго.
Все пошли на террасу, и только Артур, неутомимый следопыт, остался бродить по саду. Вернулся он спустя четверть часа.
– Нагулялся? – не удержалась от ехидного вопроса Инна.
– Я вообще-то думал – вдруг пистолет найду, – смущённо объяснил он. – Убийца часто с перепугу бросает оружие. А киллеры вообще так обычно поступают.
– Мог бы поиски отложить до утра, – проворчал Флор. – Гильзу-то случайно нашли. При свете дня искать как-то сподручнее.
– Он мог вернуться за пистолетом, – сказал Артур загадочную фразу, но уточнять не стал.
Часы показывали четыре, когда из Москвы прибыла целая бригада: Лёвушкин лечащий врач-терапевт, хирург, юрист Хазарский, представитель частного сыскного агентства Никсов и два шкафообразных телохранителя. Добрались в рекордно короткий срок. За два часа было покрыто сто семьдесят с гаком километров.
Врачи проявили фантастическую активность – всё бегом, быстро, слаженно. Фельдшер поспешал за врачами, скороговоркой объясняя суть дела. Прямо тебе американский сериал «Скорая помощь». Первым делом Лёву прямо в кресле перенесли в комнату, потому что «на террасе больному холодно», потом аккуратно перенесли на кровать и усадили, обложив подушками. Оба, и хирург, и терапевт, одновременно прослушивали лёгкие, считали пульс, нежно мяли больное Лёвушкино тело и негромко, коротко обменивались информацией:
– Жидкости в лёгких нет.
– Нет, но дышит плохо.
– Отёк. Лёгкие полностью не расправляются. Ты что взял? Полиглюкин?
– Да. И ещё гемодез.
– Что будем колоть? Морфин?
– Да, ему нужно поспать. Ставь капельницу.
Лёва услышал слово «морфин» и торопливо сказал:
– Не торопитесь. Мне нужно поговорить с Никсовым. И чем быстрее, тем лучше.
– Хорошо, Лев Леонидович, но не более десяти минут.
– Что вы собираетесь со мной делать?
– Сейчас вы будете спать. Потом мы повезём вас в Москву. Вот только ещё не решили – на реанимобиле или на вертолёте.
– Что??? – Лёва невольно дёрнулся и застонал.
– Осторожнее, – крикнул хирург. – Никаких резких движений!
– Вас не удивляет, – присоединился терапевт, – что мы сюда прибыли на обычной партикулярной машине? А у вас ведь страховка не где-нибудь, а в «Руксе» – хороший международный уровень. И вот наша замечательная «Рукса» заявила, что дальше, чем на сто километров от Москвы, не ездит. Спорить с ними нам было некогда, и мы взяли руки в ноги. Но сейчас мы уже можем спокойно с ними поговорить. Если реанимобиль для них гонять дорого, пусть присылают вертолёт.
– В этом нет необходимости.
– Нам лучше знать, есть в этом необходимость или нет. Пока ваше состояние неопасно, но ранение таково, что состояние это очень нестабильно.
– Средостение? – шёпотом спросила Марья Ивановна, – никто не заметил, как она зашла в спальню. – Мальчики, вы не объясните мне, что это такое?
– Объясню, – тут же отозвался терапевт, – подталкивая тётку к выходу. – Средостение – это место между сердцем, лёгкими, аортой и прочим… – раздалось за дверью.
– Всё, я вам делаю укол, – сказал хирург. – На разговор со следователем у вас десять минут. Потом вы просто отрубитесь.
В спальню был призван Никсов. Следователь не стал тратить время на наводящие вопросы.
– Лев Леонидович, у меня к вам один вопрос. Вы кого-нибудь подозреваете?
– Подозреваю. Но это именно подозрение и ничего больше. Понимаете, оно лишено здравого смысла. Артур искал убийцу в саду, даже в лес предлагал бежать, – он усмехнулся. – А я чувствую, что он находится рядом.
– Убийца?
– Ну, пока он никого не убил. Я говорю о том, кто меня ранил.
– Оружие нашли?
– Нет, только гильзу. Она у Артура. Заберите её у него сегодня же.
– И кого же вы подозреваете?
– Это разговор длинный. Пока в двух словах. Я должен поведать вам странную историю, которая произошла с моей тёткой. У меня здесь, в деревне, банный дом. Я сюда приезжаю в друзьями отдохнуть и расслабиться. Сегодня уже понедельник. Мы приехали в пятницу. Мылись, парились, выпивали. В бане нас было семь человек.
– Назовите всех.
– Я, моя секретарша Инна, мой друг Константин с женой Лидией, мой приятель Артур, художник Флор – он живёт здесь всё лето, – и Игнат, он тоже художник.
– И как прошел банный вечер?
Никакой усмешки в голосе следователя нельзя было обнаружить, да и не позволил бы он себе про профессиональным и человеческим соображениям, но Лёвушка счёл необходимым пояснить, что в бане они парились, а не развратничали.
– Две дамы мылись первыми. Мы здесь не придерживаемся финских обычаев. В сауне или в парилке сидим вместе, но в простынях. Но не об этом я хотел вам рассказать.
Лёвушка бегло пересказал историю с ночным незнакомцем и Марьей Ивановной.
– То есть вы хотите сказать, что свет в спальне сам зажёгся и сам выключился?
– Именно. Это именно та спальня. Вчера выключатель починили на скорую руку. Но дело в том, что тётка совершенно не помнит лица убийцы. С перепугу она просто закрыла глаза. Кроме того, свет очень быстро погас опять, что дало неизвестному возможность скрыться.
– Вы думаете, что неизвестный охотился за вами?
Лёвушка внимательно посмотрел на следователя, но оставил его вопрос без ответа.
– Я, как мог, успокоил тётю Машу, придумав для этого вполне правдоподобную историю. Все перепились, ночью была страшная гроза, тётка моя – трусиха, она во всём видит элемент мистики. Успокоить её было нетрудно.
– И как же вы её успокоили?
– Артур первый раз у меня в гостях. Мы с ним приятельствуем. Он работает в некой фирме. Раньше у меня с этой фирмой были деловые отношения, теперь – никаких. Словом, я собираюсь взять Артура к себе на работу. Пить хочу. Спроси у эскулапов, можно мне попить?
В спальню борзо вбежали врачи, засуетились, потом остыли. Можно, пусть пьёт, только немного. Можно минералку, но без газа. Обряд пития занял минуты три. Видно было, что Льву трудно глотать. Никсов подумал: «Хорошо бы в таком темпе до главного добраться. Как бы раньше времени клиент не отрубился». Как только за врачами закрылась дверь, Лёва неглубоко вздохнул, перевёл дух и продолжил:
– У Артура есть зажигалка в виде пистолета, которой он нас всех достал. Дурачился и пугал нас даже в бане… Но это неважно. В парилке мне стало плохо. Думаю, что просто перепил. Я мужикам сказал – мол, пойду полежу. Отлёживаться я пошел в малый чуланчик при бане, там диван удобный. Никто не видел, куда я ушёл. Костя был в лоскуты. Правда, Артур, как я понимаю, вообще не пьянеет. Не исключено, что он сознательно не пил.
– У вас есть этому доказательства?
– Нет, только предположения. Как Костик волочил жену в дом, вам без меня расскажут. Я отлежался, вернулся в коллектив. Все на месте, Артура нет. «Где он?» – спрашиваю. А Флор со смехом говорит: «Получил ваш друг боевое ранение. Сейчас царапины лечит». Запомните, надо выяснить, кто Артура оцарапал: тёткин кот или Лидия? И ещё у нас есть труп около церкви.
«Уж не бредит ли он?» – подумал Никсов озабоченно и даже руки поднял, призывая раненого к молчанию – мол, всё, завтра поговорим.
– Не удивляйтесь, я в норме, – тут же отреагировал Лев – Подробности вам тётка расскажет. И ещё я хочу, чтобы вы проверили, не Артур ли стрелял в меня сегодня ночью.
– Разве его не было на террасе?
– Был и принимал самое активное участие в разговоре. А потом – я не помню. Все передвигались по террасе, одни уходили, другие – входили, кто-то пил пиво, кто-то водки себе принёс и закусывал в своё удовольствие. Потом тётя Маша стала организовывать чай. Тут всё и произошло. Где в этот момент находился Артур, я понятия не имею. Действуйте. Не мне вас учить. Кто он, Артур Пальцев, – вам Хазарский расскажет. Понимаете, я бы не поверил в этот бред, но Артур знает то, что ему знать не положено. Я ещё удивился – откуда?
– Это касается вашего бизнеса?
– Именно. И ещё советы дает. Он мне советует делать то, что я делать не хочу. А какого лешего? Всё. Сил нет. Я отрубаюсь. Чего и вам советую.
– Я непременно сосну часок-другой, – согласился следователь, прикрывая за собой дверь.
12
Но пойти соснуть Никсову не удалось, потому что сразу по выходе из Лёвушкиной спальни он попал в руки Инны. От невозмутимой красавицы с томным взглядом ничего не осталось. Перед Никсовым предстало вконец измученное, зарёванное, слегка хмельное существо.
– Я должна вам всё рассказать… немедленно. Лучше вы узнаете это от меня, чем если бы стали собирать сведения по крохам. Что вам Лёва сказал про шантаж?
– Шантаж? – переспросил Никсов. – Какой шантаж?
– Покойный меня шантажировал. Ну что вы на меня так смотрите? Я про Андрея говорю. Моего покойного мужа.
– Лев Леонидович ни про какого Андрея мне ничего не говорил.
– А о чём же вы тогда беседовали целых двадцать минут?
Никсов вздохнул, сел в кресло напротив Инны и сказал:
– Рассказывайте.
И она начала рассказывать. Начала, как водится, с конца, то есть так выстроила сюжет, что в нём присутствовали и тайна, и эффектная развязка. История с обнаружением трупа подле церкви была пересказана во всех подробностях. Далее шёл отчёт о том, как был потрясен Лёва. И как же ему не быть потрясённым, если этот человек с пронзённым сердцем, подлец, шантажист, неудачник и негодяй есть не кто иной, как её муж Андрей.
Далее она перешла к самой деликатной части своего повествования и в том же сбивчивом тоне, в том же темпе, с разбега, взятого в начале рассказа, поведала самое главное – страшную тайну её жизни. Она всё расскажет, только Никсов должен дать честное слово, он должен поклясться всем святым, что есть в его душе, что об этом Лёва ничего не узнает. Никсов не стал клясться, но Инна этого и не заметила.
Сейчас многим её тайна показалась бы делом обычным, а Иннин ужас – по меньшей мере наивным. Сколько их стоит у метро, на дорогах, в ресторанах и гостиницах – путан, бабочек, шлюшек дешёвых и дорогих. Уже и общество готово признать, что этот ночной заработок обычен и приемлем, что красота и молодое тело – такой же товар, как мозги, совесть и чувство долга. Голод не тётка, ещё не тем заставит заняться. Это тебе не ленинградская блокада и не война, когда ненависть к врагу и любовь к родине толкали людей на подвиги. Сейчас нам не до идеалов. Если у всего народа крыша поехала, если земля под ногами шевелится, а небо гремит и посылает молнии, то здесь действует один инстинкт – выжить, и лозунг – разбогатеть. А многие уже разбогатели, добыли себе сусальное счастье, и вокруг них всё ликует, вертится, блестит мишурой, фейерверки в небе, как огненные змеи. Что же ей, бедной советской студентке – подыхать?
Далее следовал парад междометий. Ах, это ужасно! Она понимает, что вас, господин Никсов, ничем не удивишь, но вы послушайте! Нет, вы представьте, представьте… Она студентка четвёртого курса, помочь некому. Родители в Сибири, сами копейки считают. Муж – неудачник, паскуда и подлец – тоже студент, и больше всего на свете хочет доучиться, получить диплом. Он перепробовал огромное количество левых заработков. Что он только не делал! Нанялся к каким-то азербайджанцам, пытался торговать. Но при его горячем нраве заработать у них было совершенно невозможно. Они тоже горячие парни. Муж растратил чьи-то деньги, подрался, попал в больницу. Вышел, репетиторствовал, но нигде не уживался. В одном месте хозяЕва (слово-то какое чужое!) мало платили, в другом были откровенные сволочи. Работал грузчиком, но тоже подрался. И добро бы только его били, так нет, он в долгу не оставался. Удивительно, что он вообще не сел. В ту пору он был ещё помешан на политике, шастал на какие-то демонстрации, чтобы защищать свободу. Сейчас она не может с достоверностью сказать, за кого, собственно, он выступал – за Горбачёва или Ельцина, за белых или за красных. Институт бросил, не до учёбы ему было. И все у него виноваты, а он один в чём-то неведомом прав. Голодали, да… а вокруг полное равнодушие, словно знакомый ей мир заселили марсиане, монстры.
Инна без конца курила, от волнения захлебывалась дымом, с яростью гасила окурок в пепельнице и тут же закуривала новую сигарету.
Найти работу подруги помогли. Всё-таки «иняз». Со знанием языка можно было рассчитывать на чистую клиентуру. В лучших гостиницах Москвы она была своим человеком. Зарабатывала очень прилично, но поначалу боялась засветиться, боялась не только французские духи купить, но даже одеться прилично. Однако не будешь на работу ходить абы в чём. Андрей смотрит на неё и говорит: «Откуда шуба? На какие шиши?» А она в ответ: «Родители помогли. Отец занялся кооперацией. Теперь у нас всё будет». Муж очень приободрился, решил челночить. Долларовые купюры уже в руках держали, было на что товар покупать.
Но с челноками у Андрея тоже не заладилось. По какому-то дремучему делу он угодил в греческую тюрьму. Правда, ненадолго: через четыре месяца уже выпустили. Она меж тем кончила институт и решила, что пора переходить в отряд приличных гражданок и завязывать с ночной профессией. Но не так от неё просто было отвязаться.
Вот здесь её Андрей и застукал у гостиницы. Застукал и сразу всё понял. Швейцара подкупил на её же деньги, тот и сообщил – кто она и что. У неё и кличка была – Мэг, а если полностью – Magpie, что по-английски означает «сорока». Так прозвали не из-за того, что она золото любила, и не за скороговорку. Хотя, правда, если нервничала с клиентом, то начинала очень быстро говорить. Но её кличка просто объясняется: по фамилии она – Сорокина. Англичане и тем более японцы выговорить её фамилию были не в состоянии, отсюда и кличка появилась.
– Что вы на меня так смотрите? Фамилия в жизни человека играет очень большую роль. У вас тоже стрАнная фамилия.
– Почему стрАнная? Никсов.
– У вас в роду англичане были?
– Не знаю.
– Вы, наверное, думаете, что ваша фамилия от Ники: победный, так сказать. Может быть, даже кто-то вообразил, что вы – родня президенту Никсону. Дудки… Никс, чтоб вы знали – английский водяной. Тот самый – в тихом омуте и непроточной воде. Или как раз в проточной живут никсы, я забыла. О чём я, мама родная? В общем, я собиралась просить прощения, ждала разноса от мужа, но Андрей сказал, что я ни в чём не виновата и прощать меня не за что.
Им надо было выжить, и она выжили. Инна нашла себе приличную работу, а Андрей, вопреки горячим заверениям, так и оставался безработным. То есть он без конца находился в поисках работы. Но он хотел ощущать себя мужчиной, а потому не хотел зарабатывать меньше жены. Они плохо жили. Любовь давно ушла. Вместе их связывала только привычка. Впрочем, это она так думала – про привычку, а Андрей свою выгоду уже понял. Потом он пошёл работать в охрану.
В этот момент ей предложили перейти на новую работу – к Лёве, и она согласилась. А дальше – счастье! Боже мой, как она влюбилась! Она в него влюбилась сразу, как только увидела. И не смотрите, что сейчас он обрюзг, полысел. Бизнесменская жизнь никого не красит. Это ведь сплошные нервы! А пять лет назад это был красавец. И главное, фантастически умён.
Вы бы знали, чего ей стоило скрыть роман от Андрея. Потом-то выяснилось, что он всё знал. Вот чему этот вечный безработный, подлец и паскуда, выучился за последние годы, так это соглядатайству. Ей вообще кажется, что он знал каждый её шаг. Лёва сделал ей предложение, которое она с благодарностью приняла. Дело осталось за малым – развестись. Но не тут-то было. Андрей сказал, что никогда не даст ей развода. Ещё он сказал, что браки совершаются на небесах, что жена – от Бога, и уж если небеса послали ему золотую рыбку, то он с ней никогда не расстанется. Милуйся со своим бизнесменом сколько твоей душе угодно, вообще он в любовниках её не ограничивает. Но за любовь она должна платить, и не кому-нибудь, а своему законному супругу. А попробуешь бунтовать – он немедленно сообщит Лёвушке, что его возлюбленная – валютная проститутка.
– Надо было во всём сознаться Льву Леонидовичу, – строго сказал Никсов.
– Вы не знаете, какой наивный и чистый человек Лёва, вы не знаете, из какой он семьи. Отец его – серьёзный человек, доктор наук, профессор, тогда он ещё был жив. Мать у него, царство ей небесное, вся в работе, в электростанциях и гидротехнических сооружениях. Дома только и слушали: нижний бьеф, верхний бьеф… Уже не строили ни черта, а она всё моталась по объектам, потом простыла и умерла в одночасье. Вот тебе и бьеф! Кажется, от инсульта. Единственное, в чём я могла сознаться – что замужем и что муж не даёт мне развода. А что делать? Подождать… Всё как-нибудь устаканится.
Никсов смотрел на Инну тяжёлым, недобрым взглядом.
– А как ваш благоверный сюда, в деревню, попал?
– Не знаю. Я уже говорила Лёвушке – не знаю.
– И зачем он приехал, вы тоже не знаете?
– Нет.
– Может быть, он ревновал? Если бы он в воскресенье вечером был жив, я бы решил, что это он стрелял в Льва Леонидовича.
– Такое предположение – полный абсурд! Зачем убивать курицу, которая несёт для него золотые яйца?
– Ага… и мечет чёрную икру… Ладно, я понял. Закончим на этом разговор.
– Но я не договорила! Дело в том, что мы виделись с Андреем в ту ночь. Я умоляла его уехать.
– А он просил у вас денег.
– Как вы угадали?
– Загадка слишком проста. Вы дали?
– Дала. Но совсем незначительную сумму. Больше у меня просто не было.
Инна смотрела на сыщика умоляюще и всё время норовила доверительно взять его за руку: мол, пойми и учти в своём расследовании.
– Идите спать, Инна. Вам нужно отдохнуть.
Никсов дождался, когда её шаги стихнут, после чего сам вышел в коридор. Весь дом спал, только рядом с комнатой хозяина безмолвным истуканом – даже дыхания его не было слышно – торчал охранник. Очевидно, второй находится вне дома. Не с них же опрос снимать! Никсову очень хотелось поговорить с Хазарским, и чем быстрее, тем лучше. Пока люди находятся под непосредственным впечатлением от случившегося, они куда более откровенны и разговорчивы, чем спустя день-два после событий. Но Никсов даже приблизительно не знал, где искать Хазарского в большом доме.
Сыщик поднялся в отведённую ему комнату. Добрейшая Марья Ивановна улучила минуту в общей суете и загодя указала маршрут на второй этаж. Комната была узкой, с облицованной вагонкой стенами, косым потолком и широкой застеклённой дверью на балкон. Конечно, Никсов вышел туда покурить.
В мире было сумрачно, зябко, туманно, и только узкая розовая полоска в небе обещала скорый рассвет. Прямо под балконом стоял великолепный мокрый от росы кустище красной смородины. В предрассветной мгле было видно, как плотно он обвешан гроздьями ягод. Около куста важно разгуливала сорока.
– Мэгпай, значит, – пробормотал Никсов. – А ведь получается, голубушка, что ты своего мужа и убила. Иначе зачем было так нервничать и слёзы лить?
13
Поспать он уже не мечтал, но хоть полежать на свежей простыне! День будет трудным. И всё-таки он задремал, но, казалось, и пяти минут не проспал, как его разбудил низкий, неизвестно откуда идущий гул. В комнате было уже светло. Никсов схватил брюки и вышел на балкон. Гул возрастал, потом стал нестерпимым. Следователь буквально вывернул голову и, к своему удивлению, увидел в небе вертолёт. Маленький, зелёный и лёгкий, как кузнечик, он завис над домом, потом метнулся в сторону и исчез из видимости. Басовитый гул его украсился невнятным чиханием и смолк.
– Батюшки, это к нам! – Никсов буквально скатился вниз по лестнице. В доме уже активно сновали люди, казалось, что их здесь многие десятки, все друг с другом сталкивались и никак не могли обежать друг друга. В дверях стояла полностью одетая и даже подкрашенная Инна и взывала неизвестно к кому:
– А меня возьмут? Как вы думаете, меня возьмут в вертолёт?
Хазарский устремился к выходу, все бросились за ним. Вертолёт сел на овальном лугу около церкви. На земле он уже не казался таким юрким и маленьким. Санитары с диковинного устройства носилками столкнулись со встречающими в саду, и все ходко побежали назад к дому. «И весь этот дурдом из-за одного подстреленного коммерсанта, – с внезапным раздражением подумал Никсов. – Добро бы рана была настоящая, а то ведь так… счастливый случай».
Перемещение раненого из дома в вертолёт и сам их отлёт уместились в очень короткий срок. Всё было похоже на кадры из американского фильма про пожары или природные катаклизмы. Усаженного на носилки Лёвушку – нельзя было понять, спит он или бодрствует – санитары волокли к вертолёту бегом. Непонятно, куда все так торопились. За санитарами поспешали хирург и терапевт – врачи из личного Лёвушкиного арсенала. За ними бежала Марья Ивановна в бордовом махровом халате и коротких резиновых ботах.
– Так вы мне гарантируете, что всё будет хорошо? – вопрошала она врачей. – Я могу надеяться?
– Можете, – отмахивался хирург, а терапевт вторил: – Надежда ещё никому не повредила.
Хазарский тоже бежал. Инна бубнила ему в спину: «Я всё равно полечу с Лёвой! И никто мне слова не скажет». Охранников вроде не было в толпе, но оказалось, что они прибыли к вертолёту первыми. Артур стоял несколько в сторонке и отчаянно зевал со сна.
Никсов буквально не успел никому слова сказать, как дверь захлопнулась и «кузнечик взмыл в небо». На борт помимо Лёвы поднялись только врачи и охрана. На лице у Инны было такое выражение, словно она никак не могла понять, расплакаться ей или погодить.
– Куда повезли Льва Леонидовича? – спросил Никсов.
– В хорошее место, – отозвался Хазарский. – В ЦКБ, Центральную Клиническую больницу. Там Ельцина лечили.
– Мне надо с вами поговорить. Когда вы уезжаете?
– Вот с вами поговорю и поеду, – добродушно отозвался Хазарский. – Но лучше бы соснуть немного. Ведь семь утра. А я, знаете, так перенервничал. Слава Богу, через час Лёва будет на больничной койке.
Разговор с Хазарским – юристом, адвокатом, мастером на все руки и доверенным лицом Лёвушки – состоялся уже белым днём. Никсов сразу взял быка за рога:
– Кто такой этот Артур Пальцев и какие у него отношения со Львом Леонидовичем?
Хазарский был бел лицом, бархатен глазами, темнобров. Иссиня-чёрный клок волос под нижней губой, которому надлежало исполнять роль эспаньолки, придавал всему его облику романтический, декадентский привкус. Видимо, вопрос Никсова поставил его в тупик. Он эдак искоса посмотрел на следователя, задумчиво закусил нижнюю губу, о чём-то размышляя, а потом осклабился в вежливой улыбке.
– Я понимаю, – кивнул Никсов. – Вы хотите сказать, что не лучше ли спросить об этом у самого Льва Леонидовича, когда проснётся и будет в состоянии говорить. Но дело в том, что времени у нас немного – это раз. А два – и это главное – Лев Леонидович подозревает, что в него стрелял именно Артур.
Показной романтизм мигом слетел с собеседника. Он как-то разом на глазах поумнел и воскликнул с простонародной интонацией:
– Матерь Божья! Лёва сам вам об этом сказал?
Никсов развёл руками: мол, кто же ещё?
– Раз сказал, значит, имеет основания, – твёрдо подытожил Хазарский и добавил деловито: – Знаете что? Пойдёмте-ка прогуляемся. В этом сплошь деревянном доме потрясающая акустика. Словно внутри органа сидишь, и каждая доска – струна. На кухне говоришь, а в угловой комнате наверху всё слышно.
Они прошли через цветник и сад, обогнули банный дом и пошли по деревне к лесу. На зелёной траве млели от жары утки. У калитки крайней избы стояла и смотрела на них в упор каштановая корова с пёстрым выменем и острыми рогами. Поравнявшись с ней, Хазарский вдруг набычился и крикнул: «Фу!» Корова отступила на шаг и принялась лениво махать хвостом, отгоняя оводов.
– Я их с детства боюсь, – сказал Хазарский. – Меня в детстве на даче корова бодала. Колхозная. Такая, вам скажу, была стерва! Я в Голландии был. Тактам коровы – прямо тебе красотки! Нажрутся травы и лежат в лугах, морду копытом подпирают. А у нас – худые, агрессивные, любопытные – всё им надо! Вот скажите, чего ради она среди бела дня домой припёрлась?
– Так двенадцать часов. Наверное, доить пора, – с нескрываемым раздражением сказал Никсов и подумал: «Что-то не больно ты скорбишь по раненому другу, господин хороший. Балаболишь языком, время тянешь».
– Значит, мы про Пальцева, – на той же бодрой ноте продолжил Хазарский. – На первый взгляд Артуру совершенно незачем стрелять в Лёву. Совершенно.
– А на второй?
– И на второй тоже. Во всяком случае, из тех знаний, которыми я располагаю, ничего криминального не выкроишь.
«А это не твоя забота», – хотелось сказать Никсову. Ему не нравился Хазарский. Скользкий, как угорь… Он и сам с собой наверняка не любит быть откровенным. И какого чёрта они потащились в лес, а не на реку? Правда, плавок всё равно нет. Ну и жара…
Тропинка привела их к заросшей дороге в лесу. Видно, ей давно не пользовались. От прежней трудовой её жизни остались две глубокие колеи. В них кое-где стояла вода. Колеи заросли не только крапивой, снытью и конским щавелем, – тут и там высились молодые берёзки и осины. В сырых местах доверительно голубели ломкие, с длинными стеблями незабудки.
– Вы расскажите всё, что знаете, – предложил Никсов, – а потом я вам буду вопросы задавать.
Рассказ Хазарского был административно сух и точен:
– Артур Пальцев появился на горизонте примерно год назад или около того. Можно уточнить. По образованию Артур гуманитарий, какое-то время – ещё мальчишкой был – работал в кино на ролях вторых режиссёров. Потом решил организовать собственное дело, а именно – создать банк. И создал, но прогорел. Это было примерно за год до августовского краха. Он об этом не любит распространяться. Насколько я знаю, банк у него оттяпала его же собственная крыша, то есть братки. Артур всё бросил и ушёл учиться. Сейчас он дипломированный менеджер. В этом качестве Лев и собирается взять его на работу в собственную фирму при полном обоюдном согласии. Женат, имеет ребёнка – девочку. В настоящее время жена и дочь отдыхают в Анталии. Говорят, что Артур примерный семьянин.
– А где и кем этот примерный семьянин сейчас работает?
– Менеджером в «Моноруле».
– Что за «Моноруль»?
– Не «Моноруль», а «Монорул». Это фирма, довольно известная. Название составлено из первых слогов фамилий основателей. Было три основателя. Остался один – Норкин. Он выкупил дело у двух других учредителей. Чем именно занимается «Монорул», для вас важно?
– Он конкурирует с Львом Леонидовичем?
– Никоим образом.
– А в чём Лев Леонидович видит свой интерес? Зачем ему Артур?
– Сейчас Лев собирается организовать цех по производству мороженого. Для этих целей ему и нужен Артур. Помещение уже приобрели, там идёт ремонт.
– Вот уж не думал, что Лев Леонидович занимается производством мороженого.
– Лев несет золотые яйца, которые хранит в разных корзинах.
«Про яйца я уже слышал», – подумал Никсов.
– Пальцев что-нибудь понимает в производстве мороженого?
– Судя по отзывам, у Пальцева светлая голова. Он прошёл хорошую школу проб и ошибок. У него связи. Что такое менеджмент? Это координация, руководство и управление, то есть принятие решений. Артур это умеет делать. Сейчас ему предстоит на Лёвины деньги подобрать команду и – вперёд! На кой чёрт ему убивать будущего шефа?
– А может быть, он эти деньги растратил?
– Как он может их растратить, если они в банке лежат? – Хазарский недоуменно хмыкнул, очень уж непрофессиональные вопросы задавал следователь.
– А может быть, Лев Леонидович что-нибудь недоговаривает?
– Естественно, за пятнадцать минут всего не расскажешь.
– У вашей фирмы, то есть у Льва Леонидовича, в настоящий момент есть какие-нибудь реальные неприятности?
– Да уж куда больше – летит с простреленной грудью, – криво усмехнулся Хазарский.
– Я говорю о неприятностях, которые могли бы предварять это событие.
– Одну минуточку! – Хазарский вдруг нырнул под куст и исчез из поля зрения. – В настоящее время неприятности такого рода есть даже у младенцев в колыбели, – донёсся из лесной чащобы его голос. – И вообще, господин следователь, я шефа за просто так подставлять не буду, – через минуту он вернулся, странно озираясь. – Лёвка пока ещё, слава Богу, жив и на щекотливые вопросы может ответить сам. А вам лучше с Артуром потолковать. Я думаю, что если он виноват, то сразу расколется. Он такой человек, знаете…
– Примитивный? Открытый?
– Нет. Он кажется общительным, но притом немногословен. Он внушает доверие. Хотя шут его знает… Я видел, как он однажды совершенно потёк. Ну, то есть, на нём просто лица не было. Он проигрался сильно…
– Где проигрался? – быстро спросил Никсов.
– Да в казино. Вначале выиграл, потом проиграл гораздо больше, чем мог себе позволить.
– Так он игрок?
– Я бы этого не сказал. Они все ходят в казино. Там замечательный бар. Все играют. Иногда по крупной. А с Артуром была какая-то история. Но об этом пусть вам Лёва сам расскажет. Думаю, что в этой истории Лёва Артура и выручил. Зачем же его убивать?
– И давно была эта история?
– Весной.
– А сейчас Артур ходит в казино?
– Ходит за компанию. Редко. А если играет, то по маленькой.
– Теперь деликатный вопрос… В каких отношениях состоит Артур с Инной?
– Мне кажется, что они друг друга недолюбливают. Но внешне соблюдается полная корректность. Каждый из них зависит от Лёвы напрямую. Может быть, это просто ревность. Инна вообще не жалует Лёвушкиных друзей. А впрочем, это только мои домыслы.
Оба поняли, что разговор окончен. Никсов огляделся. Вокруг стеной стояли сосны с густым подлеском, ветки лощины переплелись над тропинкой, образовав зелёный коридор, в листве осторожно тренькала какая-то пичуга. Нет, Хазарский определённо не вызывал у него доверия. И как ловко вёл разговор. Ни одного плохого слова про Пальцева не сказал, и тем не менее сдал его с потрохами.
– Куда это мы зашли? Уже давно пора было повернуть назад.
– Да мы по кругу идём. Неужели не заметили? – беспечно отозвался Хазарский. – Ещё триста метров, и выйдем прямо к реке чуть выше косогора.
Только сейчас Никсов заметил в руках Хазарского тонкий полиэтиленовый пакет, до половины наполненный сыроежками и лисичками.
– А вы время зря не теряли, – проворчал он. – Теперь я понимаю, зачем вы меня в лес потащили. А то – акустика, орган…
Хазарский и не думал оправдываться. Он сунул руку в пакет, потряс им и достал со дна замшево-бежевый грибок величиной не более спичечного коробка. Без всяких очков было видно, что это белый.
– Колосовики пошли, – с нежностью сказал Хазарский.
– Вы с Флором Журавским знакомы?
– А как же! Талантливый художник и хороший человек. Доит моего Лёвушку, как колхозную бурёнку.
– Это в каком смысле?
– А в том смысле, что концептуальное искусство стоит в наше время больших бабок. А бабки и талант, если он не криминальный и не финансовый – две вещи несовместные, – с тем же весёлым напором сказал Хазарский, а потом добавил: – Вы ведь сейчас к Флору пойдёте? Я правильно понимаю? Уверен, он сейчас на угоре. Они там из соломы пытаются создавать вечное и нетленное искусство. Так вот, по этой тропочке всё прямо и прямо… Выйдете к реке. Там косогор крутой, но преодолимый. Идите вверх по течению, и через пять минут попадёте в объятия Журавского. А я поброжу здесь ещё часок. В деревне, кроме как в лесу пастись, с моей точки зрения, делать совершенно нечего.
– У меня к вам просьба. Кроме Журавского я ещё должен поговорить с Марьей Ивановной и, естественно, с Артуром. Да, ещё с местным опером надо увидеться. Это займёт… – Никсов посмотрел на часы, – думаю, что к пяти часам управлюсь.
– Я понимаю. Вас волнует, как вы доберётесь до Москвы. Я предупрежу Артура, чтобы он вас дождался.
Никсов ходко пошёл в указанном направлении. Когда, хватаясь руками за кусты, он спускался по крутому боку оврага к реке, то сказал себе, что Хазарскому, пожалуй, верить всё-таки можно.
14
Спустя пятнадцать минут, как и было обещано, Никсов стоял уже на песчаном, заросшем лозняком пляже и, задрав голову, рассматривал представившийся его взору косогор, или угор, как называли его местные.
Угор имел две складки, два уступа, разделённых узкой длинной площадкой. На самом верху высился храм в окружении кладбищенских лип и вязов. Идущий от храма косой склон был оставлен в девственном состоянии, то есть был кучеряв от буйно растущих трав, цветов и бурьяна. Второй уступ являл глазу активную человеческую заботу. На площадке возвышался небольшой деревянный помост, от которого вниз по склону лучами стекали полосы ткани – мешковины или брезента.
Назначение брезента объяснялось просто. Вначале лучи от Ярила-солнца художники решили просто выкосить. Косцы поработали на славу, и в первую неделю новоявленные газоны вполне отвечали проекту. Лучи отчётливо выделялись на склоне и радовали глаз создателей. Косцам было щедро заплачено и деньгами, и водкой, но деревня роптала. Мол, если бы сплошняком косить, то заработок был бы в два раза больше, и опять же – работа легче. Не понимали, простодушные, что не корм скоту заготовляют, а творят высокое концептуальное искусство.
Но не успели отснять Ярилины лучи на плёнку, как брызнули дожди. Это при такой-то жаре! Новоскошенная трава пошла в рост, лучи прямо на глазах стушёвывались, желая слиться с окрестным пейзажем. На этот раз провели невиданной длины провод и стали работать электрической газонокосилкой. Лучи окрепли вновь и продержались в относительной целостности почти десять дней, а потом опять подросшая трава размыла границы. Тогда её выкосили последний раз и закрыли тряпками. Предполагалось, что под мешковиной газон обретёт золотистый, пожухлый цвет, вполне отвечающий изначальной идее.
Никсов нашёл Флора под широким навесом, где складировались готовые соломенные фигуры. Рядом с навесом разместились золотистые снопы. Пока они стояли кучно и были прикрыты брезентом для защиты от ветра и дождя. Спасаясь под крышей от жары, Флор вместе с темноволосым серьёзным юношей ваяли огромную соломенную бабу. Она прозывалась Анна Скирдница. Рядом с ней лежали заготовки для Саввы Скирдника.
– Здравствуйте, я следователь, а если хотите – сыщик Василий Данилович Никсов. А вы, как я понимаю, Флор. Простите, не знаю вашего имени-отчества.
– Для простоты я могу обращаться к вам тоже без отчества, – хмуро сказал Флор. – Василий – и все разговоры. А этой мой помощник.
– Я понял. Игнат.
– Нет, Игнат на лесопилку поехал. А это – Эрик. Он сегодня утром приехал.
– Из Москвы?
– Да. В пятницу вечером уехал, а сегодня утром вернулся. Так что во время последних событий его здесь просто не было.
Никсов посмотрел на помощника. Молодой – да, но никак не юный, уж за тридцать лет точно перевалило. Смотрит настороженно. До чего же население нас, ментов, не любит! Ведь из-за одного такого косого взгляда этого Эрика можно подозревать. Чего, спрашивается, он коленкой дёргает и морду воротит? А он, оказывается, просто милицию не любит.
– Я бы хотел поговорить с вами наедине, – сказал Никсов.
Эрик тут же повернулся к ним спиной, бросил Флору: «Я к плотникам» и стал подниматься по склону.
– И Сидоров-Сикорский… разве он не занимается вместе с вами творчеством? Его здесь нет?
– Он приболел. Диабет. Ему сегодня не до творчества… – в голосе Флора прозвучало откровенное раздражение.
– Вы простите меня. В вопросах искусства я совершеннейший профан. Но тоже хочется понять, в чём смысл вашей художественной акции. Насколько я понимаю, Лев Леонидович вас спонсирует?
– Смысл нашей акции, – сказал Флор, уткнувшись взглядом во что-то далёкое на горизонте, настолько далёкое, что и не разглядишь, – состоит в том, что мы хотим расширить границы искусства.
– А зачем их расширять-то? Почему просто не рисовать пейзажи, а заниматься акциями? Или, например, Сидоров-Сикорский – он ведь, говорят, замечательный скульптор. Зачем ваять не из мрамора, а из соломы?
Видно, уже не раз слышал Флор подобные дилетантские вопросы, и надоели они ему до чёртиков. Он сделал постное лицо, принял позу мыслителя (не абы какого, а роденовского) и заговорил менторским тоном. Его ответ здорово смахивал на лекцию в сельском клубе, которая с таким же правом могла быть посвящена ящуру, микробам на Марсе или различным способам лечения алкоголизма.
– Вас интересуют прекрасное человеческое тело? Авангардная живопись уже давно отказалась от воплощения в своих работах красоты. Красивое лицо и тело отданы рекламе. Вы телевизор смотрите? Вот там и ищите красоту. Авангардисты давно разъяли человека на детали, и каждый фрагмент вопит от боли и дискомфорта. Это не мои мысли. Это цитаты мудрецов от современного искусства.
– Понимаю…
– Да ничего вы не понимаете, – прорычал он уже натуральным, донельзя раздражённым тоном. – Если вам мои слова нужны для отчёта, то извольте: мы пытаемся вернуть красоту через лубок. Иными словами, сохраняя смысловое поле, хотим при этом использовать все достижения электроники, как то видео и компьютерной техники. Здесь, в Верхнем Стане, создаётся основа для будущих выставок в стиле, скажем, media-art.
– Ладно, согласен. Я про искусство разговор затеял с одной только целью – подлизаться к вам. Художники – люди тонкие, деликатные, занятые. А мне на самом деле надо восстановить картину события, и отнюдь не живописную, а подлинную.
Флор рассмеялся.
Мы не описали Василия Даниловича, как-то места не нашлось. Сейчас это сделать самое время. Возраст – перевалило за сорок, рост – средний, фигура неспортивная, но никакого тебе живота и лишнего жира. Никсов умел вызывать доверие у людей и знал об этом, но обычно это получалось не сразу, а после некоторой беседы. Он имел невыразительные глаза, неопределённого цвета слабые волосы, и нос чуть-чуть как бы и приплюснутый, и если всмотреться, то и кривоватый. Но что удалось природе создать в его облике – который, прямо скажем, очень на любителя, – так это губы. Хорошей формы был рот, такой, словно его резал сам древнегреческий Мирон или Пракситель. Изгибистые его губы создавали ощущение породы, нарядности. Как только Никсов начинал говорить, его рот словно гипнотизировал людей, и не хотелось перед ним хитрить, как-то само собой тянуло на откровенность.
Флор тут же нарисовал план террасы в доме Лёвушки: стол большой прямоугольный дубовый – посередине, стол круглый с креслами – в углу террасы. Круглая столешница украсилась жестяным бочонком с пивом, для убедительности Флор даже кран пририсовал – наливай – не хочу. Рядом с бочонком выстроились в каре пивные бутылки. Командовал пивом Артур, он то и дело подходил к круглому столу, наполнял чьи-то кружки. Терраса открытая, с короткой стороны – ступеньки в сад, по длинной стороне – дверь в дом. Лёва сидел на торце стола лицом к выходу в сад, рядом с ним Инна. По длинной стороне стола сидели с одной стороны Сикорский с женой, а напротив – Флор, потом Харитонов и Светлана, все трое – спиной к темноте. Артур садился то рядом со Светланой, то с Раисой – женой Сикорского, а потом вообще за круглый стол пересел. Марья Ивановна всё время ходила туда-сюда, в кухню и обратно. Какое-то время её вообще на террасе не было, а потом она появилась с подносом.
– А Игнат где сидел?
– Игната не было.
– Почему? Его не позвали?
– Нет, Лёва всех звал. Просто к Анне Васильевне опять из Калуги племянница приехала. По-моему, Игнат крутит с ней амуры.
– Амуры так амуры, – вздохнул Никсов, вглядываясь в план.
– Алиби будете выяснять? – не сдержав ехидства, поинтересовался Флор.
– Буду. Как все сидели на террасе, когда Марья Ивановна появилась с подносом?
– Наверное, так и сидели, как я описал. Помню, Артур уходил в сад курить, я вместе с ним вышел, посидели на ступеньках, посмотрели на звёзды.
– И что?
– Опять вернулись на террасу. Спор был. Всем было интересно. Потом… не помню. Пиво в бочке кончилось, Артур выставил все бутылки на общий стол. Да, Сикорский вышел из-за стола и ушёл в дом. Насколько я понимаю, в туалет. Пиво на него всегда так действует.
– Вы не помните, когда именно прозвучал выстрел?
– Что-то около двенадцати. Нет, позднее. Я когда за фельдшером приехал, он ворчал, везите раненого сюда, мол, не могу дежурство оставить, мол, надо же придумать такое – в два часа ночи к больному волочить, – Флор умолк, а потом спросил осторожно: – Вы кого-нибудь подозреваете? Из нас?
– Почему – из вас? Здесь деревня. Каждый мог выстрелить.
– Нет, деревенские к этому не имеют отношения. Раньше у Бомбиста оружие было, но милиция отняла. Да и откуда бы они пистолет взяли?
– Сейчас пистолет раздобыть не штука. Кстати, у меня к вам просьба. Дайте телефон или расскажите, как добраться до местного оперуполномоченного. Как его фамилия?
– Зыкин. Он был здесь вчера, когда труп около церкви обнаружили, он его в морг увёз. Записывайте номер телефона.
– Я знаю, – сказал Никсов, доставая записную книжку, – есть версия, что убийство совершили проезжие молодцы, недавно освобождённые по амнистии.
– Василий, сознаюсь вам, что в последнее я не верю. И ещё скажу – я знаю убитого. Фамилия-имя его мне его неизвестны, но я с ним встречался. Зыкину я не признался в этом. Не до милиции мне сейчас. А вам скажу…
Никсов внимательно выслушал рассказ Флора про казино.
– А Лев Леонидович с ним точно незнаком?
– Точно. Во всяком случае, я так понял. Мы с Львом всего лишь соседи, а никак не закадычные друзья. Я, например, не могу вам сказать, были ли у него враги. Понятия не имею, какие у него проблемы, в смысле – трудности.
– И ещё вопрос – последний. В тот вечер в казино Артура не было?
15
Купание принесло облегчение, но ненадолго. Пока добрался до дома, опять весь взмок. Зной, как в Сахаре. Воздух струится, и все предметы словно колеблются, меняя очертания. Скорей бы в тень!
Никсов поднялся по ступеням на террасу и замер. На торце длинного стола – вот он, на только что нарисованном Флором плане, – закинув голову на спинку плетёного стула, сидела Марья Ивановна. Правильнее сказать – лежала: трупы не сидят. Приоткрытый рот её был окровавлен, на щеке рдела роковая отметина – видимо, рана, белый фартук на груди тоже в кровавых пятнах. Над несчастной кружили мухи. В голове вспыхнули слова Флора: «А почему вы так уверены, что стреляли именно в Лёву? В него попали, это точно. Но ведь мы можем предположить, что метились в другого человека».
Он тогда сказал: «Для отвода глаз, что ли? Начитались Честертона: спрятать бумаги среди бумаг, труп среди трупов… Сейчас так даже в детективах не пишут. Сейчас везде реальные бандиты и крутые пацаны. Им человека убить – что комара прихлопнуть…»
Ну эту-то за что? Чем могла так досадить кому-то безобидная тётушка? Чушь, конечно, но как говорится «факт на лице». Может быть, она слишком много знала? Что-то лишнее увидела, что-то ненужное подслушала…
На ватных ногах Никсов подошёл к убитой. Фу, чёрт! Идиот! Как он не заметил рядом полной корзины вишен? На коленях у мнимой покойницы стояла миска с тонущими в соке вишнёвыми косточками, безжизненная рука сжимала металлическую шпильку. Никсов осторожно тронул пенсионерку за плечо. Она тут же открыла глаза, обвела террасу мутным взглядом:
– Что? С Лёвушкой плохо? Что вы меня трясёте? Говорите наконец!
– С Львом Леонидовичем больше ничего плохого случиться не может, он в больнице, – Никсову было неловко, и он совершенно не знал, с чего начать разговор.
– Во сне видела какой-то ужас. Бегу куда-то, задыхаюсь, прячусь, а проснуться не могу. И всё как наяву. И вдруг – тыква. Огромная! А из тыквы – рука, и хвать меня за плечо. Вы не знаете, к чему во сне видеть тыкву?
– К изобилию, – с готовностью отозвался Никсов. – А ужасы во сне вполне объяснимы. Столько событий! Летние сны вообще бывают очень разнообразны.
– Что значит – летние?
– Это определение Демокрита – был такой мыслитель в Древней Греции. Может быть, помните? Он говорил: «В мире нет ничего, кроме атомов и пустоты».
– А что? Разумно. А летние сны?
– Демокрит считал, что от всех людей и предметов отлетают легчайшие оболочки. Он называл их эйделами. И во сне мы их улавливаем. Отсюда, кстати, идол, – Никсов воодушевился, а воодушевившись – успокоился, чувство неловкости прошло. – Идол – это оболочка, образ, а не сама вещь. Так вот, осенью и зимой слишком много ветров. Они перемешивают эйделы, и люди во сне видят чёрт-те что.
Марья Ивановна рассмеялась:
– Но сейчас лето. Правда, у нас в Стане иногда очень ветрено, – она облизнула выпачканные соком пальцы. – Вы, наверное, думаете про меня – бесчувственная. Племянник в больнице лежит, а бесчувственная особа пошла вишню собирать. Но ведь пропадёт, жалко!
– Вы не бесчувственная, вы хозяйственная, – с улыбкой сказал Никсов.
– Отвратительное занятие – выковыривать из вишен косточки. Я пробовала машинкой. Ничего не получилось. У моей машинки центровка испортилась. У Лёвушки любимое варенье – вишнёвое. А с косточками варить я не умею. Там какие-то тонкости с синильной кислотой. Да и невкусное оно с косточками. Вы хотели со мной поговорить? Пошли на кухню. Я руки помою, а вас кофе напою. Да вы, наверное, и проголодаться успели. И вообще, вы завтракали? Я утром в саду, так что каждый завтракал самостоятельно.
Прошли на кухню. Как ни странно, здесь было не жарко. Марья Ивановна умудрилась устроить в помещении сквозняк. В открытой форточке весело шуршали бумажные ленты. Никсов вспомнил свою бабушку. Она устраивала из газет такие же занавески от мух. Странно было видеть столь старомодное приспособление на этой комфортабельной кухне. И как бы услышав его мысли, Мария Ивановна пояснила:
– Горе наше: в июне – комары, в июле – мухи. И ведь нет на них никакой погибели. Если скот держат, значит, навоз. Да ещё на краю деревни старая свиноферма. Она так и набита дерьмом! Пока её деревня на дрова не растащит, а дерьмо землицей не присыпет, так и будем мучиться. Так о чём вы со мной хотите поговорить?
– Я хотел восстановить полную картину вечера: кто и где на террасе сидел, о чём говорил, когда куда уходил. Ну, и так далее…
– Понятное дело, – тут же отозвалась пенсионерка, разлила кофе по чашкам, уютно уселась напротив и сказала: – Это не он.
– Кто – не он?
– Я знаю, Лёвушка вам всё рассказал. Вы думаете, что если Артур ко мне ночью в спальню заходил, то, значит, и в Лёвушку он стрелял?
– Ничего подобного я не утверждаю. Это вы говорите, что ночью в грозу в вашей спальне был именно Артур.
– Ничего я не говорю. И вообще – Артур не убийца. И тот ночной злоумышленник – тоже не Артур. Да он на него и не похож вовсе.
– Опишите вашего ночного гостя.
– Я только одежду видела. Самого его я не помню.
– Хорошо. Но рост, например, подходит? Хотя бы примерно.
– Здесь любой рост подойдёт. Здесь только карлик не подойдет. Он согнувшись надо мной стоял.
– Ну хорошо. А комплекция? Худой, толстый?
– У нас здесь только один толстый был – Костя-Фальстаф. Но он жену-то не в состоянии был в руках удержать, не то что пистолет.
– А голос? Вы говорили, что он кричал.
– Голос тоже всем подходит. Мой, как вы говорите, ночной гость заорал так, словно его режут. Я думаю, когда людей режут, она все орут примерно одинаково. И вообще, Артур подштанники носит, а у того, с пистолетом, был совсем другой стиль одежды.
– Но ведь дождь лил как из ведра. Насколько я понял, он был в плаще?
– В плаще, и рукава задрались. Это не Артур. Ворсику него на коленях сидит. Если бы Ворсик его оцарапал, он бы нипочём к нему на колени не пошёл.
Здесь Мария Ивановна лукавила, хоть и не хотела себе в этом признаться. Когда Ворсик избороздил ногу своей обидчице Анне Васильевне, он хоть и не сидел у неё на коленях – та вообще кошек никогда на руки не брала, – но, выгнув дугой длинное тело и вздыбив хвост, с удовольствием тёрся о её ногу и нагло мурлыкал от удовольствия.
Но Марья Ивановна не хотела, чтобы потенциальным убийцей, чудовищем, замахнувшимся на любимого племянника, был ближайший его человек. Столь очевидная подлость и так близко – непереносимо! Так нагло влезть в их спокойный, сытый и ухоженный мир! Да и страшно, между прочим. Пусть убийцей будет кто-то из чужих.
– Почему вы думаете, что кот оцарапал именно руку? А почему не щёку?
– Мог, конечно, и щёку. Но не в этом дело. Здесь вопрос в психологии. Если бы Артур был убийцей, то есть у него в запасе было два пистолета – один в виде зажигалки, а другой настоящий, – он бы утром непременно рассказал всё как было, только обратил бы ночное происшествие в шутку. Именно так, как придумал потом Лёвушка. Вы следите за моей мыслью?
– И очень внимательно.
– А Артур зачем-то рассказал байку про Лидию, которая оцарапала ему щёку. Это ведь стыдно друзьям говорить. Что такое он должен был сделать с этой женщиной в ночи, чтобы она царапаться начала?
– И о чём это говорит?
– Это говорит о том, что Артур вообще не знал, что у меня ночью в комнате был злоумышленник.
И так по кругу… Ах, как трудно было Никсову разговаривать с пенсионеркой! Она высказывала несколько догадок и каждой тут же активно противоречила., размышляя сама с собой. При всём этом старая дама вызывала у него уважение. Она была на удивление спокойна и рассудительна. Разве можно её сравнить с этой психопаткой Инной?
А самообладание Марьи Ивановны объяснялось просто. Она настолько перенервничала в роковую грозовую ночь, что все последующие события были для неё как бы размыты. Страх шёл по нисходящей. С одной стороны, она была уверена, что если какие-то негодяи вознамерились в Лёву выстрелить, они бы всё равно это сделали. А теперь ужасные ожидания кончились, рана, слава Богу, лёгкая, племянник жив, и одно это вселяло надежду. Хирурги определённо сказали – повезло. Как это хорошо, что Создатель дал человеку шанс, сделав в грудной клетке это самое средостение.
– Я не понимаю вашей логики, – упорствовал следователь. – Насколько я понял, Артур человек неглупый. И у него в запасе было две истории, чтобы потом использовать ту, которая подойдёт. Лев Леонидович сам подсказал ему, как выпутаться из ситуации.
– Ах, здесь всё не так… Если он умный человек, то почему он не испугался, что я его узнаю?
– Испугался и уехал.
– Но он вернулся.
– Потому что обдумал всё спокойно, вспомнил, что вы тогда со страху закрыли глаза. Может, он затем и вернулся, чтобы объяснить всё в юмористических тонах, а Лев Леонидович его опередил, сам навязал версию с зажигалкой. Теперь он в обоих случаях чист. Даже если врач его осмотрит и точно скажет, что это кошачьи царапины, Артур заявит, что просто хотел досадить Лидии. Мало ли какие там у них отношения. И всё, и не будем спорить. Вернемся к началу. В конце концов, нам гораздо важнее узнать того, кто стрелял, а не того, кого оцарапали. Попытайтесь восстановить картину вчерашнего вечера.
– А что её восстанавливать? В момент выстрела Артура не было на террасе. Я это точно помню, потому что столкнулась с ним в дверях. Все так орали. Я побежала на кухню к аптечке. Конечно, я плохо соображала. Жгут ведь на такую рану не наложишь. Но любом случае нужны перекись и бинт. Уж что-что, а тугую повязку, пока врача не привезут, я наложить сумею. Так вот, я кинулась в дом, а Артур – мне навстречу.
– Как он выглядел?
– Взволнованным. Запыхался.
– Вот именно, запыхался. В окно в сад прыгать, а потом опять в дом, чтоб войти на террасу через дверь – запыхаешься.
– А может, он на втором этаже был. Артур, между прочим, как раз повязку Лёвушке наложил. И ещё утешал всех. Говорил: «Сердце не задето. Если бы сердце было задето, Левы бы уже не было».
– Всё, всё… Не будем больше спорить. Каждый останется при своём мнении. Для меня главное – истина.
– А для меня, думаете, главное – воздух поколыхать? – с вызовом спросила Марья Ивановна.
Никсов сам себе дивился. Он и не предполагал, что допросы вести так сложно. Он умел быть сдержанным и точно знал, что ни при каких обстоятельствах не стоит вступать в пререкания со свидетелями.
– У меня к вам ещё очень важный вопрос, – сказал он вежливо, но беспрекословным тоном, чтоб никакого амикошонства. – Когда прозвучал выстрел? Хотя бы приблизительно.
– Зачем приблизительно. Выстрел прозвучал без семнадцати минут час.
– Откуда такая точность? – удивился Никсов.
– А надоели они мне все. Сколько нормальный человек может влить в себя пива? Я, когда чашки собирала, думала: когда же они наконец уйдут? Понесла поднос и глянула на часы. Ужас! Без двадцати минут час. А с чашками до террасы мне идти как раз три минуты.
– У вас здесь мобильник есть? Замечательно. Значит, в случае необходимости я могу вам позвонить?
Дверь приоткрылась, и в кухню деликатно заглянул Хазарский.
– Как мои грибочки? Пожарили? – увидев Никсова, он сделал постное лицо. – Вынужден вас огорчить. Я не мог задержать Артура. Когда я вернулся из лесу, Инна и Артур уже уехали, каждый на своей машине. Так что возвращаться в Москву будете в моём обществе. Грибков поедим и поедем. Правда, я хотел бы напоследок обкупнуться. Вода тёплая?
«Чёрт! – мысленно выругался Никсов. – Я же у Артура гильзу не забрал! Побеседовать можно и в Москве, но какого лешего предполагаемый убийца увёз с собой вещественное доказательство?»
16
Зыкин приехал в Верхний Стан сам. Он выглядел очень обиженным. Нет, граждане дорогие, так не пойдёт! Он был зол и не скрывал этого, хотя, если по-хорошему, ему впору было самому усовеститься. Не прими он лишнего – и находился бы в два часа ночи на своем боевом посту. Всё прошляпил! Свою желчь он излил на негодника-фельдшера, который даже не удосужился оповестить милицию по всем правилам. После оказания помощи потерпевшему Ветеринар завалился спать, а в больницу только и сообщил, что был на ночном вызове, а потому придёт на работу после обеда.
Но слухи в Кашино быстро распространяются. Милиционер до службы не успел дойти, а ему уже было известно о втором происшествии в Верхнем Стане. Зыкина утешали: «Потерпевший жив. Вроде и дальше будет жить». Это, конечно, приятно, но сам-то ты где был? Ведь это сугубо разные вещи – найти в крапиве безымянный труп, который порешили уголовники, и покушение на жизнь бизнесмена, почти олигарха, на которого вся округа возлагала большие надежды. Каждый знал, что Шелихов богатей, меценат, в Верхнем Стане художникам помогает, и недалёк тот день, когда границы его влияния расползутся до самого Кашино.
И ведь предчувствовал он что-то такое-эдакое! Зыкин уверен был, что за первым происшествием непременно последует второе. Теперь главное – позаботиться, чтобы его не оттеснили от работы. Люди донесли, что в Верхнем Стане уже какой-то московский сыскарь вертится. Так надо сразу дать ему понять, что он, Зыкин, этого дела из своих рук не выпустит. Он его начал, ему и продолжать.
Но разговор с московским сыщиком с самого начала не задался. Познакомились. Зыкин первым делом спросил, где именно коллега служит, а когда выяснил, что в частном сыскном агентстве, то не смог скрыть разочарования.
– Стало быть, не в МУРе? И звания у вас нет?
– Бывает.
– Свидетелей-то опросили? – уже с безнадёжной интонацией поинтересовался Зыкин.
– Опросил.
– Я бы тоже хотел с ними побеседовать.
– Боюсь, что поговорить со всеми вам не удастся. Часть из них уже уехала в Москву.
– Но я же настоятельно просил господина Шелихова задержаться в Верхнем Стане на два дня! – воскликнул молодой опер. – В связи с нахождением небезызвестного вам трупа. И получил согласие.
– Жизнь вносит свои коррективы. И потом, по закону задерживать их вы не имели права.
– То есть как – не имел права? Убийство же! Здесь все на подозрении.
– А если бы вы труп в городе нашли, то со всей улицы взяли бы подписку о невыезде? – голос Никсова был грустным, взгляд сочувствующим, и это было молодому оперу особенно обидно.
А московский сыскарь словно ничего и не заметил, продолжал вежливо отвечать на вопросы, вполне внятно и даже красочно обрисовал общую картину происшедшего.
– У вас есть версия? – поинтересовался Зыкин.
– Ни шута у меня пока нет.
– А у меня есть. Я сомневаюсь, что неизвестного столкнули с крыши амнистированные уголовники. Зачем им это надо? И уверяю вас, труп в крапиве связан с покушением на господина Шелихова.
– Почему вы так думаете?
– А я в простые совпадения не верю.
– Зря… Вы этих амнистированных уголовников вместе с украденной машиной нашли?
– Когда бы я успел? – обиделся Зыкин. – Начальник мой в отпуске. Я здесь опер и следователь в одном лице. Но держусь в рамках правового поля. Пока только и успел написать, что протокол обнаружения трупа. Что вы усмехаетесь? Всего один день прошёл, и тот воскресный. Объявлен розыск. Ищем. Но работа следователя должна идти своим чередом. Голова-то работает!
«Звенит она у тебя, милый мой, жужжит после попойки», – подумал Никсов. Он всей душой сочувствовал оперу, но тайны свои раскрывать вовсе не собирался. Молодым, решительным копытом опер начнёт рыть землю, скомпрометирует и Артура, и Инну, и самого Льва.
– Гильзу нашли?
– Нашли.
– Отдайте её мне… – Зыкин хотел добавить «пожалуйста», но вовремя спохватился. Он не проситель какой-нибудь, он при исполнении.
– Зачем же я вам её оставлю? Главные участники событий отбыли в Москву. Там и следствие будут вести.
– Значит, у вас всё-таки есть версия? – быстро спросил опер. – Вы будете искать убийцу среди уехавших? А ведь не исключено, более того, весьма вероятно, что пистолет, из которого эта пуля выпущена, находится именно здесь.
«Он не так прост, этот румяный мальчик, – подумал Никсов, – и говорить с ним надо аккуратно. Но не признаешься, что упустил, дурак безмозглый, вещественное доказательство».
– Ну хоть показать её вы мне можете?
– Найденная гильза уже отправлена мной в Москву в лабораторию.
Зыкин аж крякнул от негодования. Все обиды и разочарования этого дня сконцентрировались в одной точке. Конечно, ему почудилась насмешка в вежливых отговорках московского сыскаря. Ещё задевало полное отсутствие интереса к тому, чем располагал опер, а именно – к трупу в морге, а это, господа хорошие, вещь осязаемая, не то что выстрел в ночи. Словом, обидно ему стало до слёз, и он, прищурившись, чтоб не блестели проклятые, с напором сказал:
– Зря вы усмехаетесь. У нас тут лабораторий нет. А вы… конечно. Вы по грязи под ногтями найдёте, где человека убили, по пыли в карманах определите его местожительство, а по микрочастицам с краски автомобиля на руках покойного вычислите не только марку машины, на которой труп везли, но и определите номерной знак транспортного средства. А мы тут только головой до всего доходим… и так, знаете, на пальцах… И ещё работаем с населением. Оно нам пока доверяет, не то что в столицах.
– Товарищ Зыкин… господин Зыкин… Я меньше всего хотел вас обидеть. Вас как зовут-то?
– Валера меня зовут, – продолжал опер с прежним напором. – А труп, который в морге лежит, тоже к вам в лабораторию отправить? Будете там определять, как он в крапиву попал? Ведь кто-то же его убил! А в Стане отродясь такой страсти не было! Значит, кому-то он сильно мешал. Вот чем сейчас надо интересоваться!
– Давайте договоримся, – примирительно сказал Никсов. – Вы работаете с трупом. Он ваш. А выстрел на террасе – мой. Дальше – созвонимся.
На этом и расстались.
17
Зыкин не торопился уезжать из Верхнего Стана, решил походить по деревне, посмотреть окрест свежим взглядом, а может, и с народом потолковать. Его неторопливость была вознаграждена.
По понедельникам в четыре часа в Стан приезжала торговая лавка и становилась на невидимой границе между деревней и посёлком. Собственно «лавка» – название условное. Так по старой памяти называли частный видавший виды «москвич», до самого верха забитый продуктами. Тут тебе и сыр, и рыба, и сардельки всякие. Деревенские покупали мало, потому что денег не было, городские – потому что всё из Москвы привезли, но тем и другим был нужен хлеб – чёрный и белый, цена за две буханки девять рублей. Кроме того, продавец Серёжа (бывший учитель) продавал всякую нужную в хозяйстве мелочёвку: жвачки для детей, импортные шоколадки, дрожжи, соду и весь приклад для соления и маринования грибов, как то перец горошком, гвоздику, уксус и прочее. А так как летом всегда ощущается нехватка сахара – все варенье варят, – около лавки обычно выстраивалась очередь.
Зыкин пристроился в хвост, якобы за жвачкой – от курева помогает. Его тут же стали подталкивать к продавцу – мол, проходите, мы помногу берём, но опер не захотел уступать народу в великодушии: «Нет-нет, я постою. Мне спешить некуда». Народ отнёсся к этому благосклонно. Он им пару вопросов задал, они ему ответили, Фёдор подошёл за пшёнкой для курей, начал высказываться о последних событиях, за ним занял очередь озабоченный Флор. Туда-сюда, разговор и завязался.
Перво-наперво стали выяснять про угнанный «запорожец», он интересовал всех куда больше, чем труп в крапиве. Здесь Зыкин ничего нового сообщить не мог.
– А кто же стрелял-то? В Льва Леонидовича? Или те же амнистированные балуют?
– У Васильевны вчера с забора две литровые банки спёрли. Она их выставила просушить, сунулась молоко наливать – их нет. Шалит уголовный элемент!
– Неужели за двумя урками вертолёт прилетал?
Деревня беззлобно издевалась над родной милицией, но Зыкин решил не обижаться.
Подошёл Петя-Бомбист с пустыми пивными бутылками и как бы между прочим сказал, что он намедни, в пятницу ещё, ходил на Чёрный ручей за маслятами, и показалось ему, что в землянке кто-то живёт. Что-то там как бы дымком попахивает. Маслят он набрал много, но половина червивых, правда, говорушки пошли. А когда назад шёл, то видел со спины мужика в чёрном. И вроде тот мужик был «не наш». Фёдор за это, конечно, не может ручаться, может, и помстилось ему, но он голову готов дать под топор, что этой спины он раньше не видел.
Очередь горячо поддержала Фёдора. Ведь покойник, который с крыши упал, откуда-то же пришёл. А если у него были какие-нибудь намерения по отношению к деревне, может, он в землянке и пожил чуток. И почему бы молодому оперу туда не наведаться? Незнакомец мог после себя следы оставить.
Землянку за Чёрным ручьем Зыкин хорошо знал. Была она вырыта в крутом боку оврага, заросшего кряжистым лесом с густым подлеском. Вокруг старого жилья лежали поваленные деревья. Место было глухое, тайное, если кто не знает про то строение – пройдёт рядом и не заметит.
Смастерили землянку пятнадцать лет назад или около того двое влюблённых, деревенские Ромео и Джульетта. Прозвища влюблённых можно принять с некоторой натяжкой, потому что родители их отнюдь не враждовали и препятствовали горячей страсти только ввиду крайней молодости своих детей. Но не уберегли. Невеста под венец пошла с животом. Потом молодые уехали в Кашино, а родители, недолго думая, разметали свои дома на брёвна, пометили те брёвна цифрами и отбыли вслед за детьми, где и возвели жилища – поближе к внуку.
А землянка с дощатыми стенами, низким потолком, хилым столом и широким, грубой работы ложем, осталась, чтобы служить временным пристанищем случайным людям и бомжам. Страшные, обросшие, они ходили по деревне, искали работу, тащили всё, что плохо лежит, устраивали всякие непотребства и драки. Деревня роптала. Зыкин выкурил бомжей, как ос, но нет-нет, да опять потянется над Чёрным ручьём дымок от чужого кострища.
Зыкин нашел совет деревни разумным. А почему не наведаться в глухое место: может, и будет толк? На всякий случай он решил взять с собой понятого. Мало ли, может в землянке лежит второй труп. Правда, об этом можно только мечтать, но меры предосторожности здесь не излишни. Зыкин остановил свой выбор на Флоре как человеке наиболее достойном доверия. Художник согласился.
Вначале шли молча, но Флор сам начал разговор:
– Я думаю, Валер, тебе в деревне не хором надо с народом говорить, а с каждым побеседовать. Отдельно.
– Побеседуем.
– Валер, здесь вот какая штука. Я тебе позавчера неправду сказал. И всё по той же причине – народу вокруг было много. А дело – интимное. Я ведь знаю того, кто с крыши упал.
– Это как? Знал и молчал?
В голосе Зыкина слышалось такое потрясение, что Флор усовестился.
– Я, признаться, думал, что будет потом серьёзный разговор с протоколом, всё честь по чести. Не хотелось мне при всех про казино рассказывать. А тут это нелепое и страшное происшествие с Лёвой.
– Казино, говоришь? В Москве? Там в карты играют? И кто же убитый?
Флор подробно и добросовестно рассказал про памятный вечер.
– Я вначале подумал, а не явился ли этот тип по мою душу – деньги назад требовать.
– Ты, значит, боялся, что я тебя подозревать начну? – недоумевал Зыкин. – Но я же не полный кретин!
– Не в этом дело, Валер. Просто я очень занят. Ты знаешь. До акции три недели осталось.
– Завтра в двенадцать ноль-ноль приедешь ко мне в участок и по всем правилам дашь свидетельские показания. Я должен что-то в дело подшивать? Нет, ты мне скажи, должен или нет? А Лев Леонидович убитого точно не знает?
– На этот счёт я ничего сказать не могу.
Зыкин пришёл в страшное волнение, даже берёзе, что опрометчиво подвернулась в данный момент, досталось кулаком в белый бок.
– Да не нервничай ты так! Насколько я понял – не знает.
– Тут же два дела, а не одно. Знай я про казино в воскресенье, я успел бы поговорить с потерпевшим. А теперь где я его найду – Льва вашего Леонидовича? Трудно с вами дело иметь – с интеллигенцией. Никогда на вопрос прямо не ответите. «Насколько я знаю… боюсь, что нет… я думаю, можно предположить…» – передразнил он кого-то интеллигентного и крайне несимпатичного. – Тьфу!
За этими драматическими разговорами они и дошли до землянки. И ведь правы были деревенские советчики. Землянка была пуста, но прибрана. На столе, между прочим, хлебные крошки – ни птицы не склевали, ни мыши не подъели – недавно кто-то был. И вода в прокопчённом чайнике была чистой, не стухла. На столе стоял чистый стакан. Если бы кто-нибудь из местных успел сюда заглянуть, то непременно бы стакан увёл – нужнейшая же на рыбалке вещь! А тут стоит себе беспечно на самом видном месте. И, между прочим, захватан, замечательно видны отпечатки пальцев.
– Ну вот, теперь вам будет что подшить в дело, – заметил Флор.
Зыкин посмотрел на него невидящим взглядом и ничего не ответил. Опер уже обследовал ближайшие окрестности, нашёл мятую пачку из-под сигарет «LM», а около холодного кострища – порванный автобусный билет.
– Это уже кое-что, – восклицал он, ликуя.
– Билет старый. Слинял весь.
– Конечно слинял. Гроза-то какая была! Под таким дождём что хочешь слиняет. Билет, между прочим, московский.
– Ну и что? Зря мы сюда потащились.
– Не скажи. Ты мне по дороге важную вещь сообщил. Такое на тебя настроение нашло. Мог и не расколоться. А главное, здесь точно кто-то был. Почему же не предположить, что убитый?
– Может, здесь грибник какой-нибудь ночевал?
– Не смеши. Так прямо из Москвы человек поехал к нам тайно грибы собирать. Здесь нужный нам человек был, тот самый, который устраивает вокруг все эти козни. Ты сам-то подумай. Труп был пустой. Ничего при нем – ни денег, ни документов. Не бывает такого, чтобы человек куда-то поехал и ни копейки денег с собой не взял.
– Сигареты он выкурил, билеты бросил, – задумчиво заметил Флор.
– Во-от! А это что значит? Кто-то, перед тем как с крыши сбросить, старательно его обыскал и все улики уничтожил.
– В этом есть логика, – согласился Флор. – Не сам же он, перед тем как в крапиву прыгнуть, документы из кармана вынул и припрятал где-то. Валер, а ты в церкви лазил наверх? Ну, туда, откуда он упал?
– Да не успел я ничего. Ты же знаешь, в воскресенье я на банкет торопился.
– Так пойдём посмотрим, – сказал Флор с энтузиазмом, а сам подумал с опаской: «Не увлечься бы мне слишком расследованием. А то вся акция побоку».
Пришли в церковь, поднялись на верхотуру по опасным ступенькам. С той площадки, где размещались хоры, когда-то шла ещё одна лестница – в купол. Теперь от неё остались только торчащие из стены металлические балки.
– Смотри-ка, следы…
В этой части церкви крыша хорошо сохранилась, и гроза только слегка подпортила важные улики. Всё вокруг было запорошено пылью, на которой отчётливо выделялись отпечатки от двух пар ног. Обладатель одних носил кроссовки, другой предпочитал обувь с гладкой подошвой. Флора эти следы и удивили, и одновременно развеселили. Надо же! Как в детективных романах. Он решил, что Зыкин, чего доброго, начнёт играть в героев Купера или Конан-Дойля, тут же примется измерять эти следы сантиметром, чтобы попытаться по ним определить рост злоумышленника, его походку, характер и физическую силу, но Зыкин остался спокоен.
– Я тебе говорил, их двое было, – сказал он и без всякого уважения к столь важным криминальным уликам предпринял попытку подняться в купол.
– Туда не надо, – крикнул Флор. – Сюда иди. По следам.
– Смотри, они подошли к пролому в стене. Дрались, видишь?
– Что это за пятна бурые?
– Кровь это, ёлки-палки. Наверное, преступник металлической трубой мужика в кроссовках по башке огрел, а потом, как мы и думали – обыскал.
– И вниз столкнул. Вон как пыль стёрта, – Флор не заметил, как перешёл на шёпот. – Он его вначале за ноги тащил, а потом перекатывал, как рулон.
– А где труба?
– Может, это и не труба была, а палка. Скорее всего, он её тоже в крапиву выкинул.
Флор нашёл пятна крови, зато Зыкин нашёл фишку. Он, правда, не сразу понял, что это такое, но когда получил объяснения, очень обрадовался.
– Всё сходится. Труп имеет прямое отношение к казино!
Флор никак не мог понять этой чистой радости. Что здесь ликовать, если про казино он сам оперу всё рассказал? Потом-то понял. Найденная фишка подтверждала его, Флора, правдивость. Вот, значит, как, опер Валера? Меня с собой таскаешь, а сам во мне же и сомневаешься? Ну и чёрт с тобой!
– Давай церковь обыщем, – сказал Зыкин с энтузиазмом.
– Ты ищи, а мне работать пора.
– Нет уж, Флор. Вдруг я что-нибудь найду? Мне свидетели будут нужны.
– Какой я тебе свидетель, если ты моим словам не веришь?
– Доверяй, но проверяй. Работа у нас такая! – Зыкин был явно на подъёме.
Именно этот подъём и помог ему в конце концов обнаружить важнейшую улику. Что такое обыскивать развалины церкви? Кажется – всё на виду, но ведь под каждой кучей векового мусора можно что-то спрятать. Следов, старых и новых, много, слишком много, весь пол утоптан самыми разнообразными подошвами. Это наверх любопытные не рискнули подняться – уж больно лестница ненадёжна, а здесь – словно людской табун прошёл.
Зыкин бегал по церкви, как гончая. И всё всматривался, внюхивался, разгребал руками камни и вековую пыль. И наконец, в правом пределе у стеночки, под фреской Николая Угодника, от которого только и остались, что верхняя часть лика и худая рука, удерживающая град, под рядком уложенными старыми кирпичами он нашёл ЭТО – хорошо смазанный, завёрнутый в тряпицу обрез.
Теперь было над чем подумать!
18
По дороге в Москву Никсов выведал у Хазарского все номера телефонов, какие только мог. И телефон Лидии записал, а также домашний и рабочий телефоны Артура. Когда сыщик начал интересоваться ближайшими сотрудникам Льва, Хазарский проворчал:
– Можете зайти ко мне на работу, я вам справочник фирмы дам.
– Справочник пока не надо. А нет ли у вас случайно домашнего адреса Артура?
– Случайно есть, – адвокат не пытался скрыть раздражение. – Он живёт на Большой Ордынке. А прочее я вам скажу потом. Я за рулём. А ГАИ не любит, когда водитель всё время листает записную книжку.
К Москве они подъезжали в полном молчании.
Прежде чем наведаться к Артуру, Никсов решил заехать в гараж за машиной. «Фольксваген», очень немолодой, но надёжный, принадлежал его конторе, но Никсов пользовался им настолько плотно, что все давно решили, что это транспортное средство – его собственность.
К Артуру ехать, по всей логике следствия, было рано. Разговор с подозреваемым надо вести во всеоружии, а Никсов знал до обидного мало. Но с другой стороны, надо было немедленно выцарапывать важнейшую улику и, кстати, выяснить, какого чёрта Артур увёз гильзу с собой. Главное – не звонить. Если у Артура нет автоответчика, то он сам подойдёт к телефону, и разговор может пойти совсем не в том направлении. Никсов так и решил – ехать наудачу. Повезёт – хорошо, нет – будем искать другие пути.
Повезло. Артур был дома. Он выглядел приветливым, но под пристальным взглядом сыщика занервничал вдруг. Царапины на щеке, подштукатуренные каким-то вязким кремом, проступили неожиданно ярко, и Никсов поспешно отвел взгляд.
– А мы так и не успели познакомиться, – сказал Артур, протягивая руку. – Проходите, пожалуйста.
– Поговорить бы надо, – Никсов прошел в комнату.
– Конечно, поговорим. Выпьете что-нибудь? Кофе, чай? Могу коньяку плеснуть.
– Да нет. Какие там коньяки? Вы мне стреляную гильзу отдайте! Как вам вообще пришло в голову увезти её с собой?
Артур обалдело посмотрел на Никсова, потом как-то по-женски всплеснул руками.
– Я забыл про неё совершенно! Боже мой, куда я её дел? Она была в кармане шортов.
Артур заметался по дому, потом бросился в ванную комнату. Если всё это – притворство, то сыграно было на самом высоком уровне. Сейчас он скажет что-нибудь вроде: мол, была домработница и унесла шорты в химчистку, но что он непременно, всеобязательно вернёт улику следствию…
Но нет. Через минуту Артур вернулся в комнату с шортами в руках, на глазах сыщика вытащил из кармана свёрнутую бумажную салфетку и извлёк из неё гильзу.
– Вот ваше сокровище. Получайте. И умоляю, простите.
– Простить-то я прощу, но вы мне объясните, почему вы так внезапно уехали. Я хотел с вами ещё в деревне побеседовать. Теперь вот гоняйся за вами по городу…
– Ну не мог я вас предупредить о своём отъезде. В тот момент вы беседовали с кем-то другим. Позвонили с работы. Там ЧП. Полетел компьютер. А в нём договора и бухгалтерские расчёты по предприятию «А» за четыре прошедших месяца. Требовалось моё присутствие.
– Насколько я понимаю, этим занимается бухгалтерия.
– Но я у них управляющий, и без моей записной книжки многие цифры просто невозможно восстановить. Сейчас мне предстоит работать днём и ночью.
– Всё-то у вас какие-то ЧП, – ворчливо сказал Никсов. – А с Лидией у вас что произошло? Почему она вас оцарапала? Ведь так и было? Это Лидия вам лицо разукрасила?
– Да не соображала она ничего. Если у неё в отключке бывают проблески сознания, она очень агрессивна.
– Какие у вас отношения с Лидией?
– Вы хотите узнать, не любовница ли она мне? Нет, – Артур говорил очень спокойно и уверенно, вопросы сыщика его не обижали и не удивляли. – Просто мы не раз пили вместе, и я успел изучить её повадки. Когда я притащил Лидию в дом, на ней была совершенно мокрая и грязная простыня. Избавить её от этой гадости надо было? Я попробовал её развернуть, а она и вцепилась в меня, как бешеная кошка. Я плюнул и ушёл – зачем воевать с безумной бабой?
– Курить можно?
– Конечно. Вот пепельница.
Никсов с удовольствием затянулся сигаретой и пожалел, что не согласился на кофе. Глаза совершенно слипались. Но кофе мог задать разговору нежелательный, вежливо-задушевный тон. Эдакий вась-вась. А Артур должен чувствовать дистанцию и понимать, что Никсов «при исполнении».
– Теперь вспомним, что произошло вечером на террасе. Кто, по-вашему, мог стрелять в Льва Леонидовича?
– Этого я не знаю. И фантазировать на эту тему не буду. Мы не настолько близки с Лёвой, чтоб я знал его врагов.
– Вы были на террасе во время выстрела?
Артур вдруг рассмеялся, вольготно откинулся в кресле, вытянул ноги.
– Меня не было во время выстрела. Я не видел, как всё произошло.
– И где вы были?
– Уходил в дом, чтобы позвонить жене в Турцию.
– А не поздновато ли для звонка?
– У нас – поздновато, а в Антальи – в самый раз. Да и дешевле, знаете. И потом, я же не мог предположить, что именно в этот отрезок времени кто-то будет стрелять в Лёву. Я всё-таки плесну нам коньяка.
– Не надо. Я за рулём.
– Как знаете, – Артур налил себе коньяку, погрел рюмку руками, сделал, смакуя, несколько глотков, а потом сказал насмешливо: – Вы что, подозреваете меня, что ли?
Только тут Никсов заметил, что Артур слегка косит. Правый глаз чуть-чуть съехал с оси, и это придало лицу удивлённое и обиженное выражение.
– Это ваша жена? – Никсов указал на стоящую на полке фотографию.
– Да. Надя. А это – моя дочь.
Милые домашние лица… Миловидная, с бровями вразлёт Надя в серебряной рамочке, у дочки рамочка из карельской берёзы. Девочке на вид лет шесть-семь, похожа на мать. Да и дом был уютный, не скажешь – богатый, – во всяком случае, мебель в ближайшие десять лет не меняли. Но, видно, семье и со старой мебелью хорошо здесь живётся.
Совсем некстати вспомнилась собственная дочь. Алёнке уже двенадцать. Нет, одиннадцать, двенадцать будет в декабре. «Америка, разлучница, та-та, та-та…» Пошлейшая песня, но у тех, кто понимает, слёзы высекает подлинные.
Пожалуй, на сегодня хватит. Только надо помнить, что в деревне есть реальный труп и что он сверзился с крыши в ту самую ночь, когда туда приехал Артур. Но про это пока беседовать рано. А Никсов опять обругал себя за суетливость и непрофессионализм – чудовищный! Так, братишка, ты никогда сыщиком не станешь. Как он забыл взять у опера Зыкина фотографию трупа в фас и в профиль? Завтра же надо будет позвонить в Кашино. Пусть пришлют фотографию по e-mail. Но есть ли у них там интернет?
Последние размышления совершенно испортили Никсову настроение, он даже не сразу понял, о чём Артур его спрашивает.
– Что? – переспросил Никсов.
– Вы не из милиции, да? Вы из частной конторы?
Правый глаз Артура занял правильное положение, косина исчезла. Похоже, что «игра глаз» возникает только в минуты большего напряжения.
– А почему вас это интересует?
– Будь вы из милиции, наша, как вы говорите, беседа, могла бы кончиться приводом в ментовку, – жёстко усмехнулся Артур.
– Вас арестовывали когда-нибудь?
– Нет. Но был бы заказ…
– Мы ещё побеседуем.
– Да уж не без этого, – задумчиво ответил Артур.
Он проводил гостя до двери. Видимо, разговор с сыщиком и озаботил его, и огорчил, глаза не косили, но сказать «до свиданья» он забыл.
19
Зато дома себе Никсов позволил… С рюмкой думать куда как легче. А мысль была такая: хоть он, Василий Никсов, и дипломированный психолог (московский университет!), именно психологическая подкладка этого дела – Лев – Артур – выстрел – была ему совершенно непонятна. Не тянул Артур Пальцев на убийцу, ну никак! И хоть опыт и здравый смысл говорили, что каждый, если его загоняют в угол, может стать убийцей, например, в целях обороны, если в наличии пистолет, молоток или оглобля, – никакая, хотя бы приблизительно правдоподобная картинка не вырисовывалась.
И незрячему видно, что Артур пребывает не «в углу замкнутого пространства», а в центре него – собран, спокоен, раскован. Если и озаботился, то самую малость.
Никсов налил ещё полрюмки водки, закусил копчёной колбаской. Где-то у него ещё были малосольные огурцы, он точно помнит. Сам на рынке покупал. Хорошо пошла…
Можно, конечно, вообразить какую-нибудь непомерного накала корысть, или ненависть – испепеляющую, или откровенную патологию. Но для подобных мечтаний не было материала. Не из чего кроить!
А это значит, что с утречка надо отправляться ко Льву в больницу, и пусть царь зверей внятно объясняет свои финансовые и человеческие трудности. И всё. Ещё чуть-чуть, и утро вечера мудренее…
Пока Никсов, воспользовавшись мудрой присказкой, видит сны, набросаем пунктиром некоторые факты его биографии. Хороший человек, отчего не набросать?
Родители – служащие, потомки репрессированных и сосланных. Школу окончил в Новосибирске. В университет поступил с третьего раза, уже после армии. Учился с интересом. Никсов никогда не хотел заниматься психотерапией. Его интересовала теория личности, динамика её роста, а потому мечталось о работе с космонавтами. На худой конец можно посвятить себя эргономике – науке о правильной организации труда.
Машиностроительный завод Никсов выбрал сам, и, как выяснилось, неудачно. Комната психологической разгрузки, которой он стал заведовать – с тихой музыкой, ленивыми рыбами за стеклом и картинками из бересты, пуха и сухих листьев, – вызывала неимоверную скуку, а иногда и изжогу.
Здесь подоспели ельцинские времена, завод рухнул и пресловутая комната отправилась туда же – в тартарары. Никсов ни минуты не жалел об этом. Всё, что в психологии было запрещено, теперь можно! Друзья-сокурсники подумывали о психоанализе, наиболее дерзкие говорили о частной практике. Никсов был скромнее. Он осел в педвузе ассистентом. Иногда и лекции допускали читать. Занялся наукой, защитил кандидатскую от философии. Защититься по психологии было совершенно невозможно. Всё бы ничего, если бы платили.
Жена не дождалась защиты диссертации. В разведёнках она и месяца не проходила, вышла замуж за удачливого и укатила в Сан-Франциско.
Одному голодать, конечно, легче, но и это надоело. Надо было искать дельную службу. Кой-какие связи сохранились, и потому предложений о работе было много. Перечислять их не имеет смысла.
Правда, иногда бывали забавные предложения. Хозяин довольно известной частной психологической конторы – толстый, элегантный и хитрый, а также рябой, из-за чего был мысленно наречён Бородавочником – совершенно поразил Никсова. Контора, конечно, называлась институтом и носила непонятную, как шифр, кликуху. Новоиспечённому кандидату наук предложили заняться созданием психологических портретов известных политиков и депутатов. Дело шло к выборам, поэтому предложение выглядело очень актуальным.
– Поясните, – вежливо попросил Никсов.
И работодатель пояснил. Политика стоит рассматривать с двадцати точек зрения. Если подробнее, то количество точек можно увеличить. Сюда входит всё: словесный портрет, фото- и киноматериалы, полная служебная характеристика, отзывы людей, с кем он общался на работе и дома, его отношение к женщине, к родине, к животным… «Ну, не мне вас учить».
– И что с этими портретами делать?
– Продавать, – невозмутимо ответил психолог.
– Кому?
– Кто купит.
– А если не купят?
– Можно дарить. Будем создавать парадные психологические портреты. Главное, надо придать им товарный вид.
«Парадный психологический портрет – это безумие!» – кричал внутренний голос Никсова, а внешний, связанный непосредственно с гортанью и голосовыми связками, невнятно мямлил:
– Я не очень понимаю… это же, в некотором смысле, липа…
– Это новое дело. А новую идею, говоря компьютерным языком, надо «упаковать», вложить в неё такое содержание, чтоб покупали, с руками рвали.
Никсов возмутился не самому предложению, а количеству денежных знаков, которое Бородавочник предложил в качестве зарплаты. Чёрт подери! Растолкать всех локтями Бородавочник умеет, а придать идее товарный вид – мозгов не хватает. Вот он и разыскивает для этой работы бессловесных рабов от науки.
И тут как-то боком пришло ещё одно предложение: идти работать в сыскное частное агентство на должность психолога-консультанта. Это было год назад. Никсов, помнится, очень развеселился.
– Агентство зарегистрировано, залицензировано, репутация безупречная. Ребята – во! – приятель выставил большой палец.
Вот тебе и динамика роста личности! Он стремился к идеалу, а тебе предлагают грести вспять. Придётся встретиться с совершенно распотрошёнными особями, с теми, что перцептивную информацию не глазами и ушами получают, а только задницей. Они же нормальному миру вообще не адекватны!
Но зато заманчиво! В этой подпольной, кровавой, подлой, криминальной жизни есть своя романтика. Вопрос решился очень прозаично. Сыскное агентство посулило такую зарплату, что Никсов вначале даже не понял, что потерял при переводе (доллары в рубли) нуль, а когда сообразил что к чему, то сразу сказал: да.
Никсов сразу вошёл в курс дела и тут же понял, что работа в агентстве никак не соответствовала той, которую нарисовало ему воображение. Агентство носило ироничное название «Эго». Никсов вначале решил, что разыгрывают. Оказалось – нет, просто это аббревиатура начальных букв то ли фамилий, то ли имен учредителей. Зачем, спрашивается, серьёзной фирме, словно породистой собаке, придумывать себе кличку из начальных букв имён родителей? Но спрашивать было некого.
«Эго» держалось на трёх китах: слежке за неверными супругами – пусть это будет пункт один, сбору информации о положении дел в конкурирующей с заказчиком фирме – это два, и три – промышленном шпионаже. Естественно, в полезные знания входил и всяческого вида компромат – может понадобиться. Список и дальше дробился на литеры «а», «б», «в» и так далее.
Эти три кита, между которыми порхало «Эго», пребывали в крайне неустойчивом положении, потому что постоянно, хотя бы визуально, входили в противоречия с законом. Как собирать информацию, если тривиальная телефонная прослушка запрещена? Но прослушивали за милую душу, и подглядывали, и проникали с видеокамерой в тараканьи щели. Так, балансируя на вервии, и жили, и делали это неплохо.
Но Никсову такая жизнь не нравилась. Он с удивлением обнаружил, что в агентстве он, по сути дела, занимается той же самой работой, которую предлагал ему Бородавочник. Он должен был составлять те же самые виртуальные психологические портреты, но как бы отражённые в кривом зеркале. Портреты были не парадные, а самые что ни на есть паскудные. Приходилось в лупу рассматривать причинное место портретируемого (не настругал ли он где-либо лишних детей), и как у него с первыми жёнами и с любовницами. Компромат на объект следовало отслеживать с детского сада и далее везде, проверке на вшивость подвергались также ближайшие родственники и друзья. Мерзкая работёнка, что и говорить. Но случались интересные дела. Сыскари в агентстве были замечательные и не раз подводили негодяев под суд. В такой работе Никсов непосредственное участие редко принимал, от него требовали только советы.
Вызов ночью с поручением ехать в немыслимую даль с невнятным указанием «разобраться на месте» был совершенно нетипичен. Надо сознаться, что Никсовым просто заткнули дыру. Дел, связанных с убийством, «Эго» не имело право брать. То есть ни при каких условиях! И легально, и нелегально. Дорогу убойному отделу перебегать – себе дороже, потом не отмоешься.
Однако Лев Шелихов обратился именно в их агентство. Почему? А потому что не доверял родной милиции. И ещё потому, что уже обращался к услугам «Эго». Логично? Вроде бы да. А если обращался, то когда? Почему не знаю? А потому что заказ был отработан до появления его, Никсова, в агентстве. Ночью в спешке его просто не успели об этом предупредить. Следовательно, день надо было начать на родном рабочем месте, за родным компьютером.
Его догадка подтвердилась. Да, поступал заказ от Льва Шелихова – отработать некого Ивана Викентьевича Руладу. На него собирался компромат, который намеревались слить в прессу. Но до этого дело не дошло, потому что оный Рулада без какой либо помощи «Эго» отправился на нары, – кажется, за подлог. Видно, не только Лёве Шелихову хотелось его устранить. Судя по собранному материалу, Иван Викентьевич был порядочной дрянью, а также замечен в тесных связях с самым махровым криминалитетом.
«Ай да Лёвушка Шелихов! – удивился Никсов. – Зачем ему этого Руладу топить?»
И, понятное дело, трудился Рулада в фирме с загадочным названием «Монорул», которую сам организовал и украсил третьим слогом. А Никсов всё голову ломал – что это за фамилия такая, которая начинается на «Рул»? Кроме слов «рулетка» и «рулет», в голову ничего не шло, а тут, оказывается, целый музыкальный пассаж.
– А что сейчас происходит с этим Руладой? – поинтересовался Никсов у сослуживца.
– Шут его знает. Сидит.
– Сколько ему дали?
– Не помню. Думаю, немного. Порыскай в компьютере.
Никсов порыскал и выяснил, что в мае сего года Рулада вышел на свободу, обретается в Москве, в занятии бизнесом не замечен, нигде не служит, но живёт безбедно.
Это было уже кое-что. Теперь можно было копать дальше. Никсов одного боялся – что его отстранят от сыскной работы и опять засадят за психологические портреты. Но верхнее начальство в лице очень деловой и толковой дамы пока молчало.
20
Хазарский был в офисе и не отказался от разговора, но разговор этот был столь туманным и расплывчатым, что ни за одну деталь уцепиться было невозможно. Хазарский был похож на копилку, доверху набитую монетами, но почему-то щель пробуксовывала. По всем законам физики эти серебряные монетки должны были сыпаться, а они только позванивали, не желая оставлять нутро копилки. Никсову хотелось взять юриста за грудки и потрясти, что он в конце концов и сделал, предприняв попытку оскорбить и обидеть собеседника.
– Мне очень трудно работать с вами, – сказал он, набычившись. – У меня есть твёрдая установка от вашего начальника. Мне было сказано, что вы мне будете во всем помогать. Но пока я помощи не вижу, а вижу, простите, самодовольного павлина. Не надо распускать передо мной хвост, он, яркий, меня не обманет. Я чувствую ваше сопротивление, и оно наводит меня на нехорошие мысли. Может быть, вы заинтересованы в том, чтобы я не получил тех доказательств, на которые указывал Лев Леонидович?
– Да будет вам, – укоризненно протянул Хазарский. – Ни в коем случае. Я просто не хочу Лёву подставлять.
– А в чём вы можете подставить Льва Леонидовича? Вы сами пригласили меня ехать с собой на место происшествия. Значит, вы знаете, что моё агентство уже работало на вас.
Хазарский активно кивал головой, но всё как-то ёжился и кусал губы.
– Вы видите, разговор этот совершенно конфиденциальный. Он останется между нами. Видите, у меня даже диктофона нет, и записей я не делаю.
– Сейчас диктофоны совершенно необязательно держать в руке, – вежливо улыбнулся Хазарский. – Ну ладно. Верю вам на слово. Расскажу… Дело в том, что в девяносто восьмом году после известной даты… Лёва, между прочим, называет её восемнадцатым брюмером. Остроумно, правда?
– При чём здесь французский календарь? Тем более что брюмер, насколько я помню, октябрь, а не август.
– После восемнадцатого брюмера история Франции повернулась вокруг своей оси, и далее к власти пришёл Наполеон. Не сразу, но вскоре.
– Да. Остроумно. Дальше.
– Так вот, после восемнадцатого августа Лёва сделал большой заём. Он был вынужден это сделать, чтобы сохранить бизнес. Занимать в те поры было совершенно негде. Банки кредита не давали. Ну, вы помните. Но деньги нашлись. Посредником в этом деле стал тот самый человек, о котором вы мне толкуете.
– Рулада, – подсказал Никсов; ему показалось, что Хазарский опасается вслух упоминать эту фамилию, словно о чёрте толкует.
– Да, он.
– Он дал собственные деньги, из своей фирмы?
– Нет. Рулада и вся его компания сами были в долгах как в шелках. Деньги получены были из некой мафиозной группировки. Кажется, Солнцевской, но я в этом не уверен. Вы понимаете, что об этом никто не должен знать? Лев Леонидович очень дорожит своей репутацией.
– Да будет вам. У нас столько чиновников в государстве на кормлении у этих самых группировок, и никто не смущается. А здесь – просто заём. Дальше.
– Заёмная сумма была очень значительной и под очень большие проценты. Вы представляете, какие тогда брали проценты?
– Представляю, но с трудом.
– Естественно, сам Рулада получил от нас некоторые комиссионные. Но ему этого показалось мало. Он стал требовать пять процентов от той суммы, которую мы получили в долг. Наличными. Это была огромная сумма, а мы считали каждый доллар. Вы вникаете в суть вопроса? Двадцать процентов мы обязались заплатить бандитам, и ещё этому хмырю пять! При этом он утверждал, что именно так они со Львом и договаривались.
– А они договаривались?
– Не знаю.
– Вы платить отказались?
– Да. И тогда Рулада прибегнул к шантажу. Нам ничего не оставалось, как начать собирать на него компромат. Мы обратились в ваше агентство.
– Вы собирались как-то использовать собранный материал?
– Нет, мы просто хотели, чтобы он у нас был, потому что это была единственная возможность предотвратить шантаж. И тут вдруг неожиданно Рулада сел. Процесс провели очень быстро, показательно быстро, зато срок дали меньше минимального. Очень может быть, что он сам себя посадил, чтоб не пойматься на чём-то более серьёзном.
– В мае Рулада вышел на свободу. Он заявил о себе?
– Заявил. Он явился сюда, в офис, и потребовал у Лёвы свои проценты. Только теперь он их хотел брать не деньгами, а имуществом. Он захотел получить в собственность некий ресторан.
– А на каком основании он это просил?
– А на том же. Мол, ты, Лев, сам обещал. Ресторан маленький – скорее, кафе, – но он расположен в хорошем месте и даёт нам приличный доход. И потом, почему Лев должен отдавать свой ресторан? У них только пойди на поводу. Весь дом растащат по нитке!
– А долг браткам вы к этому времени уже отдали?
– Сполна. И проценты тоже. Базара нет, шеф.
– Лев Леонидович отказался отдавать свой ресторан. Так?
– Вы догадливы.
– А дальше что было?
– А что дальше? В больнице лежит с простреленной грудью.
– Та-ак… А скажите, господин Хазарский, а чем, собственно, Рулада шантажировал вашего шефа?
– А вот этого я не знаю, – твёрдо сказал Хазарский и вскинул руки, словно отпихивая от себя Никсова. – С этим, пожалуйста, к самому Лёве. Здесь я ничего не могу. Это его личные дела, в которые он меня не посвящал и посвящать не собирается.
Вид у Хазарского был такой, что, мол, знал бы – всё равно не сказал. Видно, это было что-то глубинное и личное.
Далее Никсов решил тут же, не отходя от кассы, поговорить с Инной. Истерический ночной разговор пока находился как бы вдалеке от главной проблемы, а не мешало бы секретаршу порасспрашивать о конкретных делах фирмы. Однако здесь его ждало разочарование.
– Инны Сергеевны в ближайшее время на работе не будет, – сказал первый же человек, к которому Никсов обратился с расспросами.
– А как мне её найти?
– Никак, – осторожно заметил служащий.
– А… понял. Она, наверное, в больнице у Льва Леонидовича, – догадался Никсов.
– Если знаете, зачем спрашиваете?
Как видно, здесь умеют хранить производственные тайны. Надо ехать в больницу. Разговор с Львом сразу бы многое объяснил, но здесь Никсова ждала неудача. К больному Шелихову его не пустили. В регистратуре с ним вообще отказались говорить, даже привычного диагноза «состояние удовлетворительное» он не мог из них выдавить. А это значит, что имеет место «состояние средней тяжести», что нежелательно.
Но до лечащего врача Никсов достучался. Тот был сух и неприступен, надменен и при этом неприлично патлат. Волосы густые, как канадский газон. Интересно, как он эдакую громоздкую шевелюру под белую шапку запихивает?
– В интересах следствия я должен увидеть больного Шелихова как можно быстрее.
– Скажите пожалуйста!.. И как можно быстрее? Это совершенно исключено.
– Вы меня не пускаете, потому что я из частной конторы? Поймите, я веду дело Льва Леонидовича.
– Какие глупости вы говорите. Здесь уже были милиционеры. Их я тоже не пустил. Сейчас к нему нельзя. Вчера к нему даже с деловыми бумагами приходили, а сегодня – баста.
– У вас что – карантин?
– А вы надоедливый, – сказал в сердцах лечащий врач. – Какой, к чёрту, карантин? Просто больному стало хуже.
– Но ведь говорили, что рана неопасная?
Врач стал объясняться с Никсовым не из личной приязни, а потому что был уверен – не отвяжется. Настырный сыщик будет канючить под дверью, названивать врачам домой, портить нервы медперсоналу. Он решительно взъерошил волосы и сказал:
– Да, поначалу рана казалась неопасной, но уже томограф нас насторожил. И на следующий день мы получили подтверждение.
– Что такое томограф?
– Ну какая вам разница… Это послойный рентген, – обиженно продолжал врач. – Делается с помощью ядерно-магнитного резонанса. Дырочка-то небольшая была. Мы думали обойтись традиционным, консервативным лечением, и вдруг обнаружилось внутреннее кровотечение.
– И что же теперь? Когда я смогу его увидеть?
– Если обойдёмся без операции, то в конце недели.
– А если с операцией, то через месяц, – обречённо пробормотал Никсов.
– Знаете что, – врач заглянул в его удостоверение, – Василий Данилович. Я вам позвоню. Оставьте ваш телефон. Лев Леонидович уже спрашивал про вас, – добавил он, говоря всем своим видом: а то бы стал я тут с вами разговоры разговаривать.
Никсов опять сел за руль. Что делать? Назаписывал телефонов на целую страницу, а выяснилось, что и разговаривать не с кем. К Лидии он поехал из разумного соображения – не пропадать же сыскному времени зазря. В дороге позвонил. Лидия была уже в курсе всех дел, потому не удивилась визиту сыщика.
Ну и что? Проговорили они без малого час. Три раза пили кофе. От текилы он отказался, но позволил себе пригубить какой-то очень хороший французский коньяк. Никсов быстро понял, что эта модная, лаковая женщина относится к тому типу людей, которые созданы для того, чтобы принимать восторги. Она была искренне убеждена, что вся мужская половина человечества, включая стариков и детей, влюбляется в неё сразу после знакомства и начинает сходить с ума, испытывать страсть, терять голову. Ну, и всё такое. Описывать её рекомендуется в терминах – «веки трепетали, грудь (очень тощенькая, между прочим) вздымалась, походка волнующая, жест – грациозный».
Полезные сведения Никсов мог черпануть только из следующей реплики:
– Наверное, всё-таки это я его оцарапала. Утром проснулась, смотрю – ночью ноготь сломала, – она протянула ухоженную лапку с надкусанным ноготком среднего пальца, – а вот здесь, у косточки, было красное пятно. Еле отмыла. Очень может быть, что это чужая кровь. Артурова… Сама-то я не поранилась. Угощайтесь, – она пододвинула гостю бананы. – Очень неплохая закуска.
Бананы лежали на большом синем блюде. Два из них были наполовину очищены, один – со следами губной помады – надкусан. Вид этих полураздетых фруктов показался вдруг Никсову донельзя неприличным.
И ещё она с удовольствием говорила про Инну. Странный женский трёп, когда напрямую вроде не ругаешь человека, а как-то всё получается, что сама Лидия во всём белом и модном, а предмет беседы – в рубище и по колено в дерьме. Но всё можно простить одинокой скучающей женщине, тем более если она повторила фразу, которую ненароком, а может быть сознательно, обронил Хазарский:
– Инка Артура не любит, я давно заметила. Не знаю почему. Скорей всего, из-за того, что он её не замечает. Она и так, и эдак, всё желает быть центром внимания. А не получается… И какая женщина это простит?
21
Утром после завтрака вдруг зазвонил «плохой» мобильник. Марья Ивановна даже не сразу его нашла. Этот телефон плохо работал, и по нему уже давно никто не звонил, только заряжали на «всякий случай». О здоровье Лёвушки – три дня прошло с его ранения – сообщали по исправному хорошему телефону, который она всегда носила с собой в кармане фартука. А тут вдруг чужой непонятный звонок.
Марья Ивановна ужасно взволновалась, словно звонили с того света, но сразу успокоилась, услышав далёкий, прерываемый сухим треском голос своей соседки Вероники Викторовны. Вероника повторяла фразу несколько раз, всё время прерывая её позывными:
– Что? Не слышу! Маша! Не понимаю я ничего. Маша! Я тебя с таким трудом нашла. Ты должна приехать в Москву. За тобой приедет машина. В твоей квартире были чужие. Маша, ты меня узнаёшь? Это Вероника!
– Узнаю. Здравствуй, дорогая. Что значит «чужие»? Говори помедленнее. Это плохой телефон. Слышимость отвратительная.
– Наш участковый – помнишь его? Саямов его фамилия. Так вот, Саямов считает, что ты обязательно должна приехать, потому что Галя не хочет у тебя жить, пока ты не проверишь, что именно пропало. Мы без тебя не поймём, что украли. Ты должна приехать.
– Да как же я приеду? Или за мной карету пришлют?
На этом связь прервалась. Марья Ивановна положила трубку в ящик стола и вернулась к газовой плите, на которой готовила уху Ворсику. Плотвичку величиной с палец принёс вечером Фёдор, абориген по прозвищу Бомбист. В обмен на рыбу попросил стопку водки.
«Какие такие «чужие»? – размышляла Марья Ивановна. – И куда это она поедет и на чём? Если её обворовали, значит, так тому и быть, потому что красть у неё совершенно нечего. Вот Галя – другое дело, у неё и шуба дорогая, и сапоги. Вероника всегда так. Вспыхнет, как порох, ничего толком не объяснит!»
Двухкомнатную крохотную квартиру за выездом Марья Ивановна получила в незапамятные времена. Тогда ещё мама была жива, одной бы ей нипочём не дали. Многие годы отношения с Вероникой были чисто соседские, а подружились они в трудные времена, при горбачёвщине. Обе вместе талоны на продукты получали, вместе в очередях стояли. Потом Вероника сдала свою квартиру чеченской семье и вместе с мужем Желтковым и собакой Мусей уехала жить в свой загородный дом на Соколиную гору. Видеться они стали редко, но дружба их только укрепилась. Вероника и надоумила Марью Ивановну пустить к себе на постой хорошую девушку Галю. А тут как раз пенсионный возраст подошёл, и Лёвушка предложил ей вести хозяйство в деревенском доме. Всё складывалось замечательно.
Теперь подруги виделись только зимой. На три зимних месяца Марья Ивановна непременно приезжала в Москву. Вероника жила на даче безвылазно – не выгонять же ей чеченцев на мороз – и пережидала стужу на своём маленьком садовом участке. Но если уж наведывалась в столицу и задерживалась на день-два, то непременно останавливалась у Марьи Ивановны.
Много раз Марья Ивановна зазывала Веронику к себе на деревенское раздолье, подышать свежим сосновым воздухом, вдосталь наесться земляники, полюбоваться поймой широкой Угры. Вероника отговаривалась тем, что сосны на Соколиной горе не хуже, а пойма Москва-реки «тоже не дураком нарисована», но обе понимали, что Вероника обременена семьёй, что Желткова оставлять одного нельзя, потому что он «и сам погибнет, и собаку погубит, и участок превратит в заросли сорняков».
– Но за границу-то ты выбираешься. Сама рассказывала, как летала в Италию.
– Летала. Всего-то на неделю. А что потом? Ты же знаешь эту страшную историю, когда я попала в лапы к бандитам?
Марья Ивановна знала. История была действительно ужасная. Из-за чужих тайн подруга попала в заложники и только чудом спаслась. Тот факт, что в пленении была виновата сама Вероника, как-то опускался.
Опасения Марьи Ивановны были напрасны. Как и обещала Вероника, к двум часам карета была подана. Приехал личный Лёвушкин шофёр и сказал, что все пояснения Инна Сергеевна даст на месте.
– Так Инна тоже в курсе?
– А кто бы за вами машину послал? Она и распорядилась.
Собираться было мучительно. Не без внутреннего трепета Марья Ивановна отнесла Ворсика к Раисе, заставила весь багажник банками с вареньем (раз уж едет в Москву, надо пользоваться случаем), проверила в двух домах шпингалеты, заперла все двери – наружные и внутренние – и отбыла в столицу.
На московской квартире собрались все, кто имел к этому делу интерес: квартиросъёмщица Галя – хорошая женщина и банковский работник, участковый милиционер Саямов и верная Вероника. Инны не было. Сказали, что она подойдёт, но она так и не появилась.
– Машенька, хорошо, что ты прибыла. Мы здесь ничего не трогали. Да здесь и беспорядка особого не было. Галя уезжала в отпуск, а когда вернулась… Галя, расскажи, как ты вернулась.
– Я уезжала на месяц, – начала рассказывать та деловым бухгалтерским голосом, – а как только вошла в квартиру, сразу поняла – тут кто-то был. Вначале я решила, что сюда приезжали вы, Марья Ивановна, но потом выяснила, что нет. От Инны я узнала о страшном происшествии, которое случилось на даче. Бедный Лев Леонидович!
– А здесь как раз я подвернулась, – вклинилась Вероника. – Ты должна посмотреть, что именно пропало.
– А что в доме не так? – осторожно спросила Марья Ивановна. – Я ведь здесь давно не была.
– Да всё не так. Стулья сдвинуты, кресло не на своём месте. И ваза… И в ящиках – не так. Тут кто-то рылся долго и старательно. И книги…
– Почему вы думаете, что долго? – с интересом спросил участковый Саямов.
– Потому что вор не хотел оставлять после себя беспорядок. Я же вижу. Он перебрал всё бельё, а потом аккуратно на место положил. Он, или она, – словом, некто всё содержимое стенки по нитке перебрал.
Марья Ивановна посмотрела на стенку, как на давнего друга. Хорошее приобретение. Куплена в стародавние времена. Тогда ещё муж был жив. Вместе ходили отмечаться, а потом она ещё дежурила всю ночь. Утром документы на стенку оформляли по паспортам. Ей потом все завидовали. И правильно. Хорошая стенка – деревянные ручки, никакой тебе лепнины и дешёвой позолоты. Всё пристойно и строго.
– А что, собственно, украли? – поинтересовался Саямов.
– Вот пусть она посмотрит.
Марья Ивановна открыла один ящик, другой. Всё вроде на месте.
– А у меня украли четыреста баксов квартирных денег, – продолжала Галя. – Как раз плата за два месяца.
– Где они у вас лежали? – спросил участковый.
– В Дале. И ведь нашёл, гадёныш!
– Это как понимать – «дале»? – Саямов был весь внимание.
– Словарь Даля, – быстро сказала Марья Ивановна, поднимаясь с места.
Она вспомнила и о своих долларах – две бумажки по сто, которые она хранила в Диккенсе на случай своего приезда в Москву. Она достала стремянку и стала один за другим перебирать зелёные тома. Помнится, она сунула деньги в «Давида Копперфильда», но не исключено, что в этом принимал участие «Домби и сын». И там нет, и тут нет. Значит надо перебирать все двадцать девять томов. Присутствующие внимательно следили за её действиями, наконец Вероника не выдержала:
– Маш, у тебя тоже деньги украли?
– Похоже на то.
– Я говорил, что здесь был кто-то свой, – твёрдо сказал Саямов. – Он знал, где деньги искать.
– Да ничего конкретного он не знал. Я сама толком не помню, где у меня лежали эти двести долларов. Просто сейчас каждый вор знает, что вся интеллигенция деньги хранит в книгах. Не на посудной же полке их держать.
– А я опять за своё. Вы живёте на седьмом этаже. Шпингалеты все целые, балконная дверь закрыта. Стало быть, нарушитель попал в дом через дверь. Какую-никакую экспертизу я уже сделал. Не первый год в органах. Ваш замок не взламывали, а открыли родным ключом. Вы ключиков часом не теряли? – спросил он у Гали.
– Нет. Они всегда со мной. А дубликат у Марьи Ивановны в деревне.
– Значит, кто-то чужой вашими ключами на время завладел, слепок сделал и на место их положил.
– Полный абсурд, – не выдержала Марья Ивановна. – Такой сложный путь! И для чего? Откуда вор мог знать про мои деньги, если я сама про них забыла? Что ему, больше воровать не у кого?
– А может быть, ты не в Диккенса их положила, а во Франса? – участливо поинтересовалась Вероника. – Они же одного цвета.
Марья Ивановна перевела взгляд на самую нижнюю полку, где стояли менее востребованные книги. Да, Франс… восьмитомник. В третьем томе обнаружилось старое письмо от Улдиса. Господи, когда это было? Целая вечность прошла. И тут как озарение – а не это ли искал неведомый вор? Рядом с Франсом стоял чёрно-белый альбом «Дрезденская галерея». Толстый, пухлый, да ещё подмоченный альбом, купленный по дешёвке. Издание старое, ещё тех времён, когда дрезденские шедевры считались нашей собственностью. Репродукции очень плохого качества, потому и заткнуты на нижнюю полку. Но зачем кому-то понадобились бумаги почти столетней давности? Они же ничего из себя не представляют. Так… пыль, прах. Бумаг на месте не было. Может, украли, но не исключено, что она сама их выбросила или переложила в другое место. Трудно вспомнить, если ты сделала это десять… а может быть, двадцать лет назад.
– Галя, милая, живите спокойно. Ничего серьёзного у меня не украли. Двести долларов я как-нибудь переживу. А вы можете считать, что за два месяца вы мне заплатили.
– Это как это? – вмешалась Вероника. – Ты что, Маш, богаче всех?
– Давайте нашу потерю поделим пополам, – смущаясь, сказала Галя. – Тогда я буду вам должна триста.
Вероника недовольно фыркнула – они там, в банке, побольше получают, чем пенсионеры. Молодая, и уже такая меркантильная. Но Марья Ивановна уже кивала головой.
– И вот что, Галочка, из моих денег купи, пожалуйста, новый замок и позови слесаря, чтоб вставил. Ключи от дома как-нибудь переправишь мне с оказией.
– А я в свою очередь поспрашиваю население, – заверил Саянов, уходя. – Вдруг кто-нибудь заметил, какие неведомые гости к вам наведались. Преступников надо находить и наказывать.
Словосочетание «неведомые гости» вызвало у Марьи Ивановны безотчётный страх. Другой неведомый гость уже посетил её на даче, и в руке у него был пистолет.
– Да. Марья Ивановна, я забыла вам сказать, – обеспокоилась вдруг Галя. – Вам звонил… давно, сейчас посмотрю, у меня где-то записано, – она с ожесточением листала большую телефонную книжку. – Вот! Вам звонил Натан Григорьевич и передавал привет.
– Какой Натан Григорьевич?
– Ваш начальник отдела.
– Да он умер два года назад, – сказала Марья Ивановна испуганно.
– Этот не умер. Он вами очень интересовался. Говорил, что бывшие сотрудники решили отметить какую-то дату. Вас тоже хотели позвать. Я сказала, что вы в деревне.
– Когда был звонок?
– В июне. А теперь простите, я должна бежать в банк.
Глядя на помертвевшее лицо подруги, Вероника несколько деланно рассмеялась:
– Маш, это просто дурацкий розыгрыш. Ну их всех к чёрту. Давай кофе пить.
Обряд приготовления кофе, даже если вы пользуетесь растворимым продуктом, способствует усмирению разгулявшихся нервов. Когда были заданы все необходимые вопросы – «Тебе с молоком? Сколько ложек сахару? Может, хочешь сукразит? У меня израильский… Печенье будешь? Правда, ему, наверное, сто лет…», – Марья Ивановна успокоилась и начала важный разговор.
– Верочка, у меня столько неприятных событий последнее время, что голова кругом идёт. Может быть, поедешь со мной? Поживёшь немного в деревне. Ну хоть недельку. Тебя и туда привезут, и оттуда увезут. Я всё устрою.
– А Желтков, а Муся? Куда я от них могу уехать?
Желтков, эгоист и собственник, всегда вызывал негодование Марьи Ивановны. Муся – пожилая особа неизвестной породы, скорее всего дворняга, вызывала сочувствие, но в данной ситуации её тоже можно было отодвинуть на задний план.
– Понимаешь, Вероника, вокруг нашего дома происходит что-то загадочное. Мне стыдно сознаться, но я боюсь.
Но поговорить всласть им не удалось. Вероника вынуждена была прервать беседу на самом интересном месте, потому что электрички ходят редко, а на станции в условное время её будет ждать Желтков, и он с ума сойдёт, если она опоздает.
– Я тебе позвоню, – пообещала Вероника. – Я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы поехать с тобой в деревню. Но для этого необходимо провести серьёзную воспитательную и психоаналитическую работу. На это уйдёт не менее трёх дней.
За три дня, проведённых в Москве, Марья Ивановна трижды пыталась посетить Лёвушку, но это ей не удалось. Инна клятвенно заверяла, что всё хорошо, и он неплохо выглядит, но врачи считают, что все визиты пока надо отменить. Правда, удалось поговорить по телефону. Голос племянника звучал вполне бодро.
Из глянцевых журналов, до которых Галя была большая охотница, Марья Ивановна узнала, что некий англичанин Элтон Джон – по-видимому, очень богатый человек – решил зарегистрировать брак со своим другом Дэвидом Фернишем, что Гвинет Пэлтроу, прозванная Гви (как же, как же… видели её по видику, Лёвушка фильмы привозил), на самом деле скрытая эротоманка, и ни один мужик не может находиться с ней рядом более шести недель, она выматывает их вусмерть. Больше всего поразило, что, оказывается, весь просвещённый мир озабочен тем, как обеспечить секс пожилым, дабы они не ощущали себя ущемлёнными. По телевизору ей сообщили, что в Польше наводнение, больше двадцати человек погибло, что вулкан Этна опять ожил и грозит многими бедами, что в Бангладеш, или где-то там, власть поменялась, что тоже плохо. А тут ещё американцы, сволочи, не хотят латать озонную дыру, потому что это якобы вредит их экономике. Мир жил беспокойно, нервно, солнце палило как безумное. А может, это протуберанцы вызывают у людей повышенную охоту к вечному соитию и жестокости, и природа отзывается на солнечные вспышки привычным эхом?
Заглянула она и в гороскоп. Он её не обрадовал. Скорпионам на ближайшее время ничего хорошего не обещали. «В середине недели избегайте авантюр – обстоятельства жизни поставят вас в такую сложную ситуацию, что мало не покажется. Отношения с близкими могут обостриться. Также не исключены поломки домашней электротехники. Не вздумайте ремонтировать её сами. Иначе травмы вам не избежать». Благоприятный день был один, а неблагоприятных – целых три. Зато этот единственный благоприятный был использован судьбой с толком. Вероника согласилась поехать в Верхний Стан.
22
На следующий день, когда Никсов размышлял, чем конкретно заняться, и бодро набрасывал «План работы, связанной с покушением на жизнь господина Шелихова», он получил чёткие указания заняться другим делом. Надо было немедленно ехать на одно крупное подмосковное предприятие «в помощь ребятам собрать некоторые данные», и почему-то там намечалась работа с тестами, то есть он должен был заниматься своими прямыми обязанностями.
– Но я же занят сейчас делами Шелихова, – попробовал заупрямиться Никсов.
Начальственную даму это ничуть не удивило.
– Я знаю, – сказала она, вежливо улыбаясь. – Лев Леонидович в больнице, продолжайте с ним работать. Его жизни ничего не угрожает, а объект, на который я вас посылаю – горячий. Помогите ребятам.
Так Никсов вылетел из сыскной деятельности на целую неделю. Единственное, что он за это время успел сделать – отвёз гильзу в государственную гильзотеку на экспертизу. Добраться до гильзотеки помог бывший следователь, который трудился в их агентстве. Естественно, государственное предприятие не имело права делать эту экспертизу без уведомления милиции. Но в гильзотеке, как и везде, знали, что деньги решают всё – такова была общая, тоже государственная, установка. Сошлись на том, что Никсов получит копию с экспертизы, а сама гильза, вкупе с соответствующими документами, пойдёт в МВД.
К концу недели, а именно в пятницу, экспертиза была готова. В бумаге сообщалось, что выстрел был произведён из пистолета марки «ТТ», сообщался также завод-изготовитель. Кроме того, Никсов узнал, что данное оружие было похищено в девяносто четвёртом году при убийстве милиционера. Прослеживался и дальнейший путь пистолета: им завладела преступная солнцевская группировка. Как оный «ТТ» попал в Верхний Стан, было совершенно непонятно. Профессионалы в милиции наверное, от счастья бы зашлись, что получили столько ценной информации, а Никсов совершенно не знал, что с этими ценными данными делать. Единственное, что он мог предположить – оружие было заказано в этой самой группировке и куплено с рук. Маловероятно, что Артур Пальцев как-то связан с солнцевской группировкой. Хотя шут его знает…
Хорошая новость была получена в субботу. Патлатый хирург не поленился позвонить Никсову домой. При этом не было сказано никаких вежливо-дежурных фраз – де, «больному стало лучше, мы можем позволить…», – а коротко и ясно:
– Лев Леонидович хочет вас видеть.
Это звучало как приказ, и Никсов с удовольствием этому приказу подчинился. В больнице ему вручили белый халат, заставили поменять уличную обувь на тряпочные тапки, после чего проводили до самой палаты клиента.
Лёва выглядел, как и должен выглядеть человек после ранения в грудь: бледный, расслабленный. Эластичная кожа на лице слегка подвяла, выбрит чисто, а кажется, что щетина всё равно видна. Рукава шёлковой шоколадного цвета пижамы казались длинноватыми, и очень заметны были подросшие за неделю ногти. «Как на покойнике растут, – подумал Никсов. – Наверное, Инна рвётся их подстричь, а он не даёт». Но глаза у Лёвушки были спокойными, значит, дело пошло на поправку.
– Ваше самочувствие наконец признано удовлетворительным? – спросил Никсов.
– Их-то оно удовлетворяет, но меня нет. Что-то они со мной напутали. Я здесь у них вдруг перестал справлять малые дела. И пошла катавасия. Неприятное, знаете, ощущение. Меня опять на каталку и в томограф типа ЯМР.
Помолчали… Повздыхали…
– Вы меня вызывали, Лев Леонидович, как я понимаю, для важного разговора?
– Именно. У меня был Хазарский. Насколько понял, он в беседе с вами нагнал туману. А ведь неглупый человек. Но природа у него такая – недоговаривать и на любой вопрос отвечать уклончиво. Даже если у него спросить прогноз погоды, он что-нибудь да утаит.
Посмеялись. Никсов первый произнёс фамилию Рулада. Лев поморщился, как от горького, но повторил рассказ Хазарского про заём и про непомерные требования посредника.
– Вы умный человек. Вы спросили у Хазарского, чем Ваня Рулада меня шантажировал? – здесь Лев замялся, потёр подбородок, раздумывая, как бы поделикатнее всё изложить, а потом сказал решительно: – Я подставил своего клиента… Это было давно, в самом начале моей финансовой карьеры, то есть лет восемь назад. Если вам нужно будет, можно уточнить дату. Подставил по недомыслию. Клиент погиб. Застрелили его. Позднее я узнал, что он родственник Рулады. Словом, в руках Ванюши оказались бумаги покойного, доказывающие… Я не хочу об этом говорить, понимаете? Тогда мораль вообще была волчья!
– Можно подумать, что она сейчас человечья, – негромко заметил Никсов.
– Что?
– Да нет, я так… Продолжайте, Лев Леонидович.
– А что продолжать? Я уже всё сказал. Формально – я по старому делу неподсуден, но если материалы попадут в прессу… Словом, очень нежелательно, очень… Как я теперь понимаю, он мне и деньги в долг достал именно потому, что хотел вытрясти приличную сумму. Привезли-то мне деньги наличными, в чемодане… Он как этот чемодан увидел! А теперь он требует уже не деньги, а ресторан. Какого лешего я ему должен отдавать ресторан, если сполна расплатился?
– Может, он за родственника мстит?
– Ага… мстит. Он сам его и убрал через подставных лиц, только это недоказуемо.
– Насколько я понял из рассказа Хазарского, Рулада ссылается на ваше обещание: личное, на словах, не подтверждённое документально. Вы ему действительно обещали дать деньги?
– Обещал, – как-то кисло сказал Лёва. – Но совсем не в том количестве, которое он от меня теперь требует.
– Жадный?
– Жадный, – согласился Лев и замолчал, ощутив явную двусмысленность сказанного. И он, и Никсов говорили, конечно, о Руладе, но как-то так получилось, что определение вполне склеивалось и самим Лёвой, что было обидно.
– Во всём этом есть своя логика, – согласился Никсов, – но зачем Руладе вас убивать?
– А меня никто не убил, – усмехнулся Лев. – Меня только предупредили. Артур, между прочим, замечательно стреляет.
– Но это чудо, что он попал именно в средостение. Насколько я понимаю, из «ТТ», да ещё ночью так подгадать вообще невозможно. Несколько миллиметров в сторону – и в сердце! Наверняка у вас есть ещё доказательства, что это сделал именно Артур.
– Есть. И вполне обоснованные. Артур давно и хорошо знает Руладу. Более того, после развала банка именно Рулада взял его на работу в «Монорул». Но это было давно и меня не касается. Зато очень задел недавний разговор. И где – в казино. Выбрал место! Подошёл ко мне и вдруг ни с того ни с сего говорит:
«Я давно хотел тебе сказать, вернее, предупредить – не связывайся с Руладой. Отдай ему долг. Отдай и забудь».
Я обозлился страшно. Ему-то какое дело? Всё это просто возмутительно! Я его на работу беру, а он мне такие заявы делает. И тон такой… запанибрата. Я, естественно, спрашиваю:
«Тебя Рулада назначил посредником? У нас сейчас стрелка, что ли?»
А он:
«Не лезь в бутылку. Просто я знаю этого человека».
«Ты бесплатно пошёл к Ване Руладе в адвокаты или за деньги?»
А он мне так спокойно отвечает:
«Бесплатно. Я просто хочу объяснить, что Рулада – злобный и хитрый, он и перед убийством не остановится. Но вначале тебя будут пугать…»
Мы тогда сильно повздорили.
Лёва откинулся на подушки, – видно, разговор давался ему не просто. На лбу проступила испарина.
– Позвать сестру? – всполошился Никсов.
– Позовите. Пусть она нам чайку принесёт.
– Может быть, вам нехорошо? Отложим разговор?
– Нет, не отложим, – жёстко сказал Лев. – Да у нас и разговора-то осталось на пол стакана чая. Сидите на месте. Здесь кнопка вызова есть. Я всё время про неё забываю. Такие кнопки есть в каждой больнице, только они там не звонят. А в этой клинике всё работает.
Сестра появилась моментально. И так же моментально была исполнена просьба. Чай был подан в стаканах с подстаканниками, словно в фильме ретро, тут же на подносе стояла вазочка с печеньем и варенье в пиале. Лёва с удовольствием потянулся к горячему чаю.
– Слушайте дальше… Разговор с Артуром случился где-то за полмесяца до выстрела или около того. Конечно, мы помирились. Артур умеет себя поставить. И здесь он так себя повёл, что, затаи я обиду, в собственных глазах чувствовал бы себя дураком. Этого я, знаете ли, не переношу.
А тут в пятницу, ту самую, когда мы ехали в Верхний Стан – звонок от Рулады на мой мобильник. Я за рулём, трубку взяла Инна и сразу мне передала. Гнусный голос эдак тягуче говорит:
«Лев, узнаешь? А я тебе подарочек припас».
«Какой ещё подарочек?»
«Ты ведь сейчас в свою усадьбу направляешься?»
Хотел бы я знать: откуда этот стервец знает мои маршруты? Но не буду же я его об этом спрашивать. Молчу и жду, какую гадость он мне дальше сообщит.
«В деревне и получишь. Что да как – на месте поймёшь. А передаст тебе подарок человек из твоего окружения… ближайшего. Можно сказать, родственник. Когда узнаешь, удивишься. Ха-ха-ха…»
Потом «ту-ту-ту». И всё.
Чай был допит. Надо было прощаться.
– И вот ещё что, Василий, – сказал Лёва доверительным тоном, – в зависимости от того, что вы выясните, я и выстрою дальнейшую линию поведения. Надеюсь, вы разберётесь, что к чему.
– Я бы уже разобрался, – сказал Никсов, – если бы меня пустили к вам во вторник.
– Пока следователю о своих подозрениях я ничего не сказал. А они в милиции в бой так и рвутся. Если что – звоните. По телефону мне разрешено разговаривать в любое время суток.
23
Дом Шелиховых опустел, но опер Зыкин не остудил своего азарта и продолжал наведываться в Верхний Стан – опрашивал свидетелей. Логично предположить, что именно «найденный в крапиве» замышлял убийство, но его прихлопнули. Кто же тогда на следующий день стрелял в господина Шелихова?! Если злоумышленник не из московских гостей (а их можно пока откинуть, потому что все уехали), то, значит, кто-то из местных шляется по деревне с пистолетом. Художников Зыкин тоже решил отнести к «местным». Если они здесь с апреля живут, то вроде бы и аборигены.
Трудно работать в сельской местности! В городе, если случится убийство, сразу создаётся опергруппа. Тут тебе и следователь прокуратуры, и оперуполномоченный, и участковый с экспертом-криминалистом. Во всяком случае, так его учили в школе милиции. А здесь он один во всех лицах. Младший чин – сержант Матвиенко, с него какой спрос? У него два года до пенсии. А районное начальство, как на грех, в отпуске. Но это ничего не значит. Работать можешь спустя рукава, но бумажки должны быть в порядке!
Флор говорит насмешливо – откуда в деревне пистолету взяться? Он человек новый, не знает всех деревенских подробностей, а Зыкин знает, наслышан. Особое подозрение опера вызывал Петька-Бомбист, бывший тракторист, а сейчас просто пенсионер и сельский житель.
Своё звучное прозвище «Бомбист» Пётр Петрович получил шесть лет назад, когда запустил в своих дружков боевой гранатой. Спросите – зачем? А низачем, просто так, обида взыграла. Сидели в избе с Фёдором и корешем его из Кашино. Пили. Самогон был свой, да ещё бутылку покупную кореш приволок. А потом дядя Петя вдруг обиделся и стал гнать гостей из дома. Причину обиды, сколько потом ни выясняли, так и не выяснили. Точно помнили, что Пётр вдруг ни с того ни с сего сказал:
– Всё, уходите, надоело мне с вами, не об чем разговаривать!
А куда идти, если самогона на столе ещё полбанки? Гости резонно ответили:
– Ты, Петька, остынь. Никуда мы не пойдём, а ты сядь и веди себя подобающе.
Пётр окончательно осерчал, стал хватать каждого за грудки и пихать к двери. Но их-то двое, а он один. Обозлившись окончательно, Петька скрылся за занавеской, а выскочил оттуда, как партизан, с гранатой в руке:
– Вон отсюда! Мать-перемать!
Гости сразу поняли, что хозяин не шутит, и стали пятиться к двери. Толкаясь, выбежали в мартовскую слякоть и полегли кто куда. Петька потом говорил, что если б в запальчивости не сорвал с гранаты чеку, то нипочём бы не бросил её. А так – что же, самому подрываться?
Грохот был страшенный. Обиженный Фёдор, которого оглушило взрывом (чудо, что членовредительства не было!), заявил о происшествии милиционеру Матвиенко. Опер Зыкин тогда ещё не приступил к своим обязанностям, потому что проходил обучение в среднем милицейском учреждении.
Производивший обыск Матвиенко обнаружил в доме Петра Петровича, считай, малый арсенал: шесть гранат, хорошо ношенный Калашников без боезаряда и некую деталь от пулемёта времён гражданской войны. Откуда взялось богатство, Петрович не сказал, но все и так знали – от сына. Вообще, он внятно ответил только на один вопрос, когда Матвиенко возопил:
– На кой тебе это надо?
– На всякий случай.
Сын Петровича служил прапором в военной части километрах в шестидесяти от Верхнего Стана. Человеком он был самостоятельным и бережливым. В те поры он однажды явился в деревню на танке, заявив односельчанам, что боевая машина – его собственность. Танк потом стоял у родительского дома без малого полгода, пока не явились неизвестные штатские люди, очень смахивающие на бандитов, и не увели машину. Кроме собственного танка, в деревне тогда появились и плащ-палатки, и неношеные солдатские формы, и даже парашюты. Продавал прапор недорого. Деревня скупала – в хозяйстве всё пригодится. Понятно, что гранаты и всё прочее попали к Петровичу тем же путём.
А почему не предположить, что какой-нибудь завалящий пистолет не попал в реквизированный домашний арсенал, потому что хранился отдельно? Зыкин начал допрос по-простому. Есть, мол, дядь Петь, подозрение, что стрелял в господина Шелихова именно ты.
Бомбист не испугался:
– Это откуда же такое подозрение?
– А оттуда, что больше некому. И, между прочим, Анна Васильевна видела, как ты в сторону шелиховской дачи ночью шёл.
– Вот уж и ерундовина с фиговиной. Я, если хочешь знать, к Линде шёл.
– Шёл, да не дошёл.
– Ты откуда знаешь?
– А в деревне все знают!
Разговор был долгий. Сравнить его можно было с перетягиванием каната. Вначале опер призрачными намёками утягивал Бомбиста в сторону конкретных обвинений, потом сам Петрович невразумительным, но твёрдым отказом брал верх. Наконец Петровичу всё это надоело, и он крикнул в сердцах:
– Что ты мне здесь голову морочишь, если я сам видел, вот этими глазами, того, кто стрелял!
– Кто? – взревел Зыкин.
– Не угадал. Темно было. Я приметил только спину.
– Ты почему-то, дядь Петь, всех нужных людей только со спины видишь! Я тут бегаю, вынюхиваю, как бобик, ноги сбил до крови, а ты, старый пень, молчишь!
По-человечески Бомбиста можно было понять. Да, он действительно шёл к Линде, но по дороге передумал. Во-первых, старую каргу не добудишься, а во-вторых, она, язвить её, таксу повысила: днём одна, а ночью – другая. Уже по дороге Бомбист решил, что, пожалуй, дождётся утра, а пока зайдёт на террасу к весёлой компании и попросит пивка горло смочить. Ведь разливанное море, пиво прямо из крана течёт!
Обходя дом, Бомбист обнаружил, что окно в кухню открыто, а на подоконнике в ряд, как почётный караул, стоят бутылки – винные, иностранные, с этикетками. Попутал грех, взял, но тут же себе и объяснил, что никакое это не воровство. А плата за труд. Калитку Марье Ивановне чинил намедни? Чинил. Обещала на бутылку дать и забыла. Вот теперь будем считать, что в расчёте.
Петрович только бутылкой разжился, как окно в соседней с кухней комнате засветилось. Кто-то там по телефону стал разговаривать. Бомбист затаился, решил переждать разговор, чтоб его за руку, как мальчишку, не поймали. А в этот момент ка-ак бабахнет! Он в кусты. Тут видит – перед ним кто-то тоже на всех парах от дома убегает.
– Уж не помню, как до дома добрался, – кончил Бомбист свой рассказ. – А винцо оказалось сущей кислятиной. Продешевил я. Одна награда – бутылка хорошая, глиняная, с несмываемой этикеткой. В ней что хочешь можно держать.
Рассказ Бомбиста был запротоколирован и заверен подписью. Единственным отступлением от истины было неупоминание украденной бутылки. Петрович уговорил Зыкина остановиться на первом варианте: мол, хотел пивка попросить, да не успел.
– А то, Валер, от людей стыдно. Я тебе ведь как на духу.
– Тебе не людей стыдиться надо, а самого себя. Ты знаешь, сколько такая бутылка стоит? Пять сотен, как копейка.
Совесть свидетеля опер последним заявлением не разбудил. Петрович в эту цифру просто не поверил. Если прозрачное, слабенькое вино может стоить такие деньги, то ведь это конец света, конец России. Путает что-то опер.
Не менее ценные сведения были получены и от Фёдора, который ночью в воскресенье был на реке и сам видел, как от берега отплыла лодка. Сидел в той лодке один человек, грёб отчаянно.
– И видел ты его только со спины, – не скрывая сарказма, уточнил опер.
– Почему со спины? Он лицом ко мне сидел, но лица его я не видел. И фигуры не видел, так только, очертание. Он ведь был далеко. На быстрине, где я гулял, на тот берег легко не переправишься.
На обычный вопль опера «Почему раньше не сказал?» Фёдор замялся. А что смущаться, если и так ясно? Гулял он, видите ли, на быстрине! Не гулял он там, а ставил сеть или, скажем, другое народное приспособление – «телевизор». И всё для браконьерского лова рыбы. Но в опросный лист это не пошло. Сошлись на удочке. Сидел в час ночи, рыбачил… это Фёдор подписал безотказно.
И наконец – третий фактор, самый главный. Архитектор Харитонов вручил Зыкину найденную куртку – хлопчатобумажную, бежевую, испанского производства. В кармане куртки были обнаружены пятьсот тридцать два рубля денег и паспорт на имя Шульгина Андрея Константиновича. Фотография в паспорте прямо указывала, что это и был убитый.
Нашли куртку близнецы, но не сознались сразу, поскольку им категорически было запрещено плавать на тот берег. А они поплыли, и поднялись вверх по откосу. «Смотрим, а под сосной что-то блестит, – рассказывали близнецы. – А это была молния от куртки. Сосна большая, и корни прямо такие… голые. Кто-то куртку под эти корни сосны затолкал и землёй присыпал».
Укушенный шершнем глаз Харитонова уже принял нормальный вид. Архитектор торопился в Москву и решительно отказался диктовать Зыкину свои показания. Но это опер ему простил, потому что на этот раз показания были подтверждены вещдоком. Показания он сам напишет, а подписать их и потом можно будет.
Зыкин держал куртку в руках, и душа у него пела. На хлопчатобумажной, бежевой, испанского производства верхней одежде следов крови обнаружено не было. А это значит, что куртка была снята с убитого до того, как он упал и напоролся на торчащий штырь. Зато следов пыли и грязи обнаружилось предостаточно. И какая вырисовывается картина бытия? Некто в церкви убил (а может быть, только оглушил) вышеозначенного Шульгина, снял с него куртку и столкнул с кровли церкви. А куртку потом спрятал на другой стороне реки. Но на лодке-то он плыл в воскресенье, после того, как стрелял в господина Шелихова. Что же это он всё плавает туда-сюда? Можно, конечно, предположить, что в воскресенье он эту куртку просто перепрятал с глаз долой, думая, что до того берега никто не доберётся.
Зачем он спрятал куртку? Чтоб никто не узнал фамилию убитого. Но паспорт и деньги этот некто в куртке оставил. Зачем? Проще ведь паспорт уничтожить, чем под сосну прятать. Вывод один – либо очень торопился, либо боялся. А может быть, и то и другое вместе.
Но главное – стрелял чужой. Теперь простор для поиска был действительно необъятный.
24
Возвращаясь из больницы, Никсов на Кутузовском проспекте попал в пробку. В первый момент он даже не огорчился, более того подумал – вот кстати! Можно никуда не торопиться и сделать наконец нужный звонок. Давно пора перемолвиться с деревенским опером, как его… Валерой. Да-да, Валерой Зыкиным из города Кашино. Про фотографию трупа можно забыть, пока она не нужна, но поговорить-то надо! Может быть, он там что-нибудь на месте и накопал.
Дозвонился он до опера только после получасовой почти непрерывной работы. Слышимость была отвратительной. Даже простейшая задача – объяснить оперу, кто звонит – поначалу казалась невыполнимой. Но преодолел, доорался. Никсову даже показалось, что Зыкин обрадовался его звонку, потому что тут же стал давать информацию. Оказывается, он обследовал всю округу и нашёл «стоянку». Чью – не уточнялось, надо полагать, это не была стоянка первобытного человека. Может, он амнистированных нашёл вместе с похищенным «запорожцем»?
– Их двое было в церкви… Следов наследили! – продолжал надрываться Зыкин. – Потом подрались. Один другого убил, а после с крыши столкнул. Вскрытие подтверждает… Вскрытие, говорю…
«Это он про убитого Андрея Шульгина, – догадался Никсов. – Надо иметь совесть и немедленно сообщить оперу все данные по трупу».
Теперь пришла очередь Никсова драть голосовые связки:
– Валера! Я знаю фамилию убитого, – прокричал он в трубку. – Записывай. Ты записываешь?
Мобильник вдруг закряхтел, а сидящий в соседнем «жигуле» мужик высунулся по пояс из окна, с интересом прислушиваясь к разговору. Дамочка в синей «вольво», стоящей перед «жигулями», оторвалась от спиц – и в пробке времени не теряет – и вытаращила глаза на Никсова. Тот быстро закрыл окна. Лучше задохнуться, чем распространять секретную информацию на всю округу.
– Ты записываешь? – вернулся он к разговору с Зыкиным.
Нет, опер не записывал, он вообще не слышал Никсова. Далёкий голос был слаб, как пульс умирающего.
– Я нашёл объезд… в церкви, – каждое слово давалось мобильнику с трудом.
– Что? Какой объезд?
– Объезд, в церкви захороненный.
– Повтори. Не понимаю ничего.
– Ну объезд, которым стрелять, – обиделась трубка. Затем очень внятно и важно она произнесла: – Это чувствительный фактор, – и звук исчез навсегда.
Все попытки ещё раз достучаться до города Кашино ни к чему не привели.
«Однако это чёрт знает что! Уже час тут торчим!» – обозлился Никсов. Машины стояли затылок в затылок, не было видно ни конца ни края этого потока. А жарища… асфальт мягкий, как торф. Перед глазами возникла фантастическая картинка – а ну как всё это машинное стадо впаяется в асфальт на вечные времена? А случись что – людям по крышам бежать? Одна радость – его «фольксваген» занимал крайнюю левую полосу, значит, можно будет в экстремальной ситуации открыть дверцу и выпрыгнуть наружу. А пока можно просто выйти и размять ноги.
Инну за рулём красного «мерседеса» он увидел не сразу. Её машина находилась метрах в пятнадцати от его собственной, в другом потоке – они ехали в разных направлениях. Видимо, Инна направлялась в больницу к Лёве. Недолго думая, Никсов направился к её «мерседесу». Дверцу нельзя было открыть полностью, и ему стоило немалого труда просунуться в образовавшуюся щель.
– Здрасте!
Инна смотрела на него в немом изумлении.
– Как вы меня здесь нашли? – сказала она наконец. – И что такое могло случиться, если вы отыскали меня в подобной ситуации?
– Ситуация сложная. У меня к вам несколько вопросов, – он позволил себе самую маленькую паузу и спросил – не резко, но внятно, так что каждое слово можно было оценивать на вес:
– Это вы его убили?
Инна так побледнела, что украшавшая её косметика вдруг приобрела вид инородного тела. Помада на губах, тени на веках, розовые румяна словно отслоились и зависли рядом с лицом… На неё было жалко смотреть. Инна сразу поняла, о ком идёт речь, но не стала выплевывать словесную шелуху, не крикнула истерично – мол, что вы себе позволяете? да как вы смеете? Она только затрясла головой, быстро повторяя:
– Нет, нет…
– Если кому-то выгодно убийство Шульгина, так это только вам. Во всяком случае, милиция сразу уцепится за эту версию. Я вам сейчас буду задавать вопросы, а вы отвечайте мне однозначно и по возможности просто. То есть без всяких выкрутасов. Это лучшее, что мы можем сейчас сделать в создавшейся ситуации.
Она перестала отрицательно трясти головой, сделала трубочкой губы и осторожно выдохнула. На Никсова смотреть она избегала. Взгляд её был сосредоточен на задке ближайшей машины, руки судорожно сжимали руль.
– Вы помните звонок по мобильнику, когда вы были в дороге? Ну, когда ехали в деревню.
– Помню, – голос покорный, словно в гипнотическом сиансе.
– Что вам сказали, когда вы взяли трубку?
– Я не помню. Что-то вроде – отдай трубку хозяину.
– То есть звонивший знал, что вы сидите рядом в машине?
– Он знал, что Лёва рядом. Он сказал это очень уверенно.
– Вы узнали голос?
– Нет, но Лёва сказал, что это Рулада.
– Вы знаете, о чём он говорил?
– Да, Лёва мне рассказал.
– Вам говорил Лев Леонидович о своих подозрениях? Я имею в виду Артура Пальцева.
– Говорил.
– И что вы по этому поводу думаете?
– Ничего. Я боюсь думать.
– За что вы недолюбливаете Артура? Это отметили и Хазарский, и Лидия…
– Лидия, – Инна с горечью усмехнулась, – она что хочешь отметит, только чтоб мне на мозоль наступить.
– Вы хотите сказать, что у вас нет неприязни к Артуру?
Никсов спрашивал наудачу, он не ждал ничего существенного от этого вопроса, а когда получил ответ, то внутренне ахнул.
– Этот недоносок, мой муж, раньше служил в банке Артура в охране, – бесцветным голосом сказала Инна, не понимая, что даёт ключ ко всей истории.
«Горячо, – возопил Никсов, – наконец я добрался до «горячо», – и в подтверждение своей догадки разом до пяток вспотел. Он отёр лоб и спросил по возможности спокойно и участливо:
– Вас это унижало?
– Разве в этом дело? – с горечью отозвалась Инна. – Чем сейчас человека можно унизить? Но когда вы в одной компании, и тебе дают понять, что муж твой – дурак и неудачник…
– Артур давал вам это понять?
– Я его боюсь – Пальцева.
– Как он узнал, что вы жена Андрея?
– Мы встретились как-то все вместе в казино – и Артур, и Андрей. Там всё и обнаружилось. Лёвы при нашем разговоре не было. И я очень рада, что он его не слышал.
Задавать дальнейшие вопросы – это только разжижать уже полученные. Никсов кончил допрос так же внезапно, как начал:
– Спасибо, Инна, что были со мной откровенны.
Он закрыл дверцу «мерса» и побрёл к своей машине, увязая каблуками в асфальте, а в ушах его всё ещё слышался голос Инны: «Я боюсь… я боюсь…»
Теперь Никсов ощущал себя готовым к разговору с Пальцевым. Тот будет вертеться, изворачиваться, врать… но у Никсова есть чем припереть его к стенке.
Ух, слава тебе Господи! Вереница машин вдруг разом вздрогнула, загудела. Уже не раз предпринимались попытки движения – пофыркают моторами и опять встанут, но на этот раз, видимо, где-то далеко впереди рассосался затор, и машины нерешительно двинулись вперёд.
25
– Я никому не желал зла. Я был хвалим отцом и любим матерью. Я не ловил рыб в водоёме богов. Я не подсылал ни к кому убийц. Я чист. Я чист…
– Что это? – спросил Артур.
– Так заклинали в Древнем Египте.
– Образованный, – отчуждённо отозвался Артур, и Никсов заметил, что он опять слегка косит.
Решающая встреча происходила в понедельник вечером на квартире Пальцева. Египтян Никсов вспомнил для разгону. По делу и красиво… Но переиграл немного. Он хотел произнести древнее заклинание непринуждённо, как интеллигентный человек, вспомнивший к месту нужную цитату, а получилось назидательно и даже, пожалуй, манерно.
– Так вы думаете, что я не чист, а напротив – мутен? Окормлять меня приехали?
– Поговорить надо, Артур.
Окна в комнате были открыты, с улицы доносилась ненавязчивая музыка – вполне приемлемый для серьёзного разговора фон. Сквознячок вдруг прилетал неизвестно откуда, шевелил податливую штору.
– Вы, конечно, не будете пить? Пиво есть, – Артур вопросительно посмотрел на Никсова. – Ну как знаете. А я выпью. Устал, как мул на пахоте, и водки себе купил. Я ведь чувствую, что вы ходите вокруг меня кругами. Только не понимаю, чем я вам не угодил.
Он принёс непочатую бутылку водки, стопарь с наклейкой городского импортного пейзажа, тонко нарезанный лимон на блюдце и открытую банку с оливками.
– К допросу готов, – сказал он с интонациями пионера у костра. – Наше здоровье!
«Зря ты бравируешь, дружок», – мысленно усмехнулся Никсов.
– Начнём издалека. Вы ведь продали свой банк?
– Формально – да, а фактически… надо судьбе спасибо сказать, что не посадили и не подстрелили, как куропатку. Тогда у меня ещё была иллюзия, что я пригоден для роли бизнесмена. Но хватило ума не переть вперёд рогами, – Артур бросил оливку в рот. – Я сам выбрал, и выбрал – жизнь.
– Как-то вы очень уж красиво изъясняетесь. А можно и по-простому сказать, что денег за проданный банк не получили.
– Не получил, – согласился Артур. – Помните это время, когда на окружной на пятидесятом километре сплошняком стояли участки виртуальных миллионеров с недостроенными домами? И на каждом, как реклама зубной пасты, аршинный плакат: «Продаётся!» Так вот, мой недостроенный дом на многие десятки километров был единственным, который продавала не вдова. Этот наш капитализм, который хлынул, как вода в пробоины, многих потопил и сломал. По сути дела, это была война. Пацаны эти – дурачки, которые хотели красиво жить, безграмотные, тупые, жадные – сколько их на кладбище червей кормит! Там же и банкиры лежат – вперемешку.
– Вы продали недостроенный дом и… – Никсов удержал паузу.
– Денег хватило как раз на то, чтобы внести плату за обучение и протянуть год, пока не нашёл работу.
– Вам её предложил Рулада?
– Вы знаете Руладу? Это серьёзный человек. На работу меня взял он. Вначале разорил, а потом трудоустроил.
– Когда вы говорите «разорил», вы имеете в виду свой банк?
– Именно это я имею в виду. Я был слишком самонадеян. Вас интересуют детали?
– Нет. Меня интересуют ваши теперешние отношения с Руладой.
Артур удивлённо наморщил лоб.
– Отношений никаких нет. Что с меня взять? Я служащий и им останусь до конца дней. Большое богатство для меня – ноша неподъёмная.
Он ещё налил себе водки, но пить не стал, – видно, весь этот ритуал был задуман для того, чтоб руки чем-то занять. С полки под столешницей – они сидели за журнальным столом – он достал пресловутую зажигалку-пистолет и закурил.
– Покажите, – не выдержал Никсов. – Надо же, как похоже! Не отличишь. Иностранная?
– Наши умельцы сработали. Копия с «Макарова». У меня тут с Лёвой разговор был, – продолжал он. – Насколько я понял, у моего будущего шефа возникли некоторые проблемы с Руладой. А проблемы породили сомнения.
– Откуда вы про них узнали – про эти сомнения?
– Да Лев сам мне сказал, – ответил Артур беспечно. – Он имел неосторожность пообещать Руладе деньги. А я знаю, что за человек Иван Вениаминыч. Он просто так накатывать не будет. Он проблемку подготовит. Дождётся, пока ты сделаешь ошибку. Но уж если ошибка сделана, Рулада своего не упустит. Здесь он в своих правах, а потому считает себя чистым… как в вашем египетском заклинании, и уж если он «не ловил рыб в водоёме богов», то, стало быть, имеет право даже на убийство.
«Ишь, как он ловко обозвал меня краснобаем! – подумал Никсов. – Не надо было начинать разговор с египтян!»
– И что вы сказали Льву Леонидовичу? Вы ведь, насколько я знаю, ему совет дали?
– Дал. Посоветовал, чтоб Лев не хорохорился, а рассчитался с Руладой сполна.
– Как отнёсся Лев Леонидович к вашему совету?
– Плохо отнёсся. Я тут же пожалел, что этот разговор вообще состоялся. Понимаете, мы говорим на одном и том же профессиональном языке, читаем одни и те же книги, если вообще читаем, ходим вместе в казино, но между нами… – он улыбнулся, – слово «пропасть» вас не устроит, вы не любите, чтобы я говорил красиво, но другого слова я не подберу.
– Он хозяин, а вы служащий? Здесь – пропасть?
– Именно. И я сам выбрал место служащего как более для себя комфортное.
– А вы откровенны…
– Я хочу, чтобы вы меня поняли.
Артур встал, подошёл к окну и стал пристально всматриваться в ночь, словно ожидал от звезды в небе, зажжённых фонарей или случайного прохожего какого-то знака. Фраза «Вы меня подозреваете?» – на этот раз не была произнесена, но она всё время порхала в воздухе, как бесшумная сова с ворохом вопросительных слов в клюве: «Что? Где? Когда?»
Разговор шёл совсем не так, как выстроил его Никсов. Артур всё время опережал его на один ход. Никсов только собирался задать свой коронный вопрос, а хозяин дома уже давал на него ответ. Или здесь родные стены помогают? Ладно, всё это только разгон перед стартом. Следует переходить к главной части разговора.
Версия Никсова – и главный его козырь – была следующий: Пальцев и Шульгин (муж Инны) получили от Рулады задание – припугнуть Льва. Скорее всего, стрелять должен был именно Шульгин, а Артур предназначался для страховки. Встреча подельников состоялась в церкви. Что-то они не поделили, подрались. Буйный характер Андрея известен. На этот раз ему не повезло. Артур сбросил труп Шульгина с крыши… Но теперь он сам должен был выстрелить в Лёвушку Шелихова – напугать, как и было договорено.
Дальше – баня. Хозяин раньше других ушел спать. Артур резонно предположил, что Лев отправился в собственную спальню. Он проникает туда с Лидией на руках. Но произошло непредвиденное. Вместо Лёвушки Артур видит в кровати престарелую тётку, на защиту которой бросается кот. Отсюда – оцарапанная щека.
Огорчённый неудачей Артур утром уезжает в Москву. Но от Рулады так просто не отвяжешься. Артур вынужден вернуться в деревню. Вот, собственно, и всё. Логично? Вполне…
Теперь надо задать чёткий вопрос: «Почему вы не сказали мне, что муж Инны служил у вас в охране?» Нет, так, пожалуй, спрашивать не стоит. Пальцев ответит «Потому что вы меня не спрашивали», и будет прав. Похоже, что опять надо начинать издалека.
– Когда мы беседовали первый раз, вы знали, что около церкви в деревни нашли труп?
– Знал, конечно. Об этом тогда все в деревне говорили. Что вы на меня так смотрите? Жалко человека, упал с крыши. Но если по каждому убиенному в России горевать, то надо посыпать голову пеплом и идти в пустыню акриды жрать.
– Он не просто упал. Его предварительно убили.
Артур вскинул глаза на Никсова, но ничего не сказал.
– А какие у вас отношения с Инной?
– Инной? Вы говорите о Лёвиной секретарше? Хорошие. Она практически Лёвина жена. Ей бы только развод получить. Но это, я вам скажу, тяжёлое занятие. Её муженёк впился в неё, как клещ. Впрочем, чужая душа – потёмки. Зачем-то же они держатся друг за друга.
– Откуда вы знаете Андрея?
– Какого Андрея?
– Шульгина.
– Ах, этого… Вы говорите про Инниного мужа? Вы правы, его зовут Андрей. Он у меня в банке в охране работал. Охранник он был неплохой, а человек – странный. По-моему, Инна огорчилась, когда мы вдруг встретились в казино. Представлять друг друга было не надо.
– А Лёва был знаком с Инниным мужем?
– Не знаю. Во всяком случае, я их не знакомил. Я вообще не болтлив, с вами вот только разговорился. Но мне кажется, Инна ждала от меня подвоха. Я часто ловил на себе её взгляд – настороженный, вопрошающий. Встретимся с ней глазами, она не отвернётся, а тут же придумает какой-нибудь пустой вопрос.
– Например?
– Ну… не знаю. «Где галстук покупал?» Или попросит сигарету. Или скажет, что вечером обещали похолодание. Или безучастным, совершенно мёртвым голосом поинтересуется, как я отношусь к Киркорову.
– А вы что?
– Отвечу. И сигарету дам. Она меня как будто дразнила. Ждала, когда я сам нападу на неё, и уже тогда она начнёт защищаться.
– А в чём странность её мужа?
– В чём странность? Идиот. Не клинический, конечно. И никак не герой Достоевского. Наверное, он раньше нормальным был, если его выбрала такая женщина, как Инна. А потом у него крыша поехала. Он очень хотел разбогатеть.
– Какая же здесь клиника? Обычное дело.
– Вот именно. Шульгин хотел любым способом заработать первоначальный капитал, и решил, что самое лучшее для него – стать киллером. Он всё время ходил в тир и даже брал частные уроки у какого-то известного спортсмена.
– И в этом я тоже не вижу странности.
– Странно то, что я об этом знаю. Вы не находите? Киллерство – профессия тайная, как разведка. А этот болван у всех и каждого в банке спрашивал, как выйти на нужных людей. Он даже у «крыши» – моей «крыши», бандюков – спрашивал, где принимают в киллеры.
– А Рулада Шульгина знал?
– Рулада знал всех моих сотрудников.
«Это не он», – сказал себе Никсов. Версия рассыпалась на глазах. Можно, конечно, предположить, что Артур дьявольски умён, что он всё просчитал и теперь ведёт свою игру. Но не похоже. И главное, его никто не загонял в угол. И как Рулада мог заставить его стрелять, если он и так всё у Артура отобрал?
Но жалко было сдавать позиции. И Никсов задал последний, ключевой вопрос:
– Вам знакомо имя убитого?
– Которого с крыши столкнули? Нет.
– А это, между прочим, ваш знакомец Шульгин.
Артур крякнул и со смаком выпил давно налитую рюмку водки. Видно, и его проняло. И глядя, как тот морщится, обсасывая дольку лимона, Никсов вдруг понял то, что до этого не понимал. Опер Зыкин орал ему по телефону вовсе не про «объезд», а про обрез. Никсову даже показалось, что он опять слышит далёкий голос: «Обрез, из которого стреляют». А это значит, что хотя бы половина его версии выглядит вполне правдоподобно.
Можно было подумать, что Артур подслушал его мысли.
– А с чего бы Шульгина понесло в Верхний Стан? Вам не приходило в голову, что Рулада мог дать ему задание? На серьёзное дело он этого дурака не пошлёт, а попугать Лёвушку – самое милое дело. Да ещё как пикантно! Потом можно будет шантажировать Инну: «Твой мужик в твоего любовника стрелял! Уболтай Льва, уговори отдать долг, а то я всех выведу на чистую воду, и ты в два дня расчёт получишь». Мне это кажется вполне вероятным.
– Мне тоже. Но кто второй?
– Вы думали – я? Но поверьте, я на эту роль никак не тяну. И потом, зачем мне это надо?
Вот именно. На кой тебе это надо? Лёвушка взял тебя на работу и зарплату дал приличную. Зачем тебе его пугать? И Лидия поломанный коготок предъявила. Значит, в Марью Ивановну целился кто-то другой. Кто?
Никсов встал, подошёл к окну. Что Артур там рассматривал так пристально, словно подсказку искал? Ничего особенного. Обычная улица: наискосок небольшая площадка перед бывшим универмагом, который, как водится сейчас, отзывается на какую-то собачью кликуху, обозначенную на входе латиницей. К универмагу прислонилось кирпичное, суровой архитектуры здание. Верхние этажи в нём безмолвствовали и хранили темноту, а нижний призывно горел разноцветными огнями. Оттуда же поступала музыка, которая весь вечер мешала сосредоточиться. Ресторация обильно и весело кормила своих клиентов.
Никсов приехал к Артуру сразу после работы, не заходя домой. По дороге он вспомнил, что не ужинал, но предчувствие близкой удачи, жаркий охотничий азарт намертво отшибли у него аппетит. А сейчас, поняв, что дичь была подсадная, а выстрел – холостой, он вдруг почувствовал лютый голод. И каково ему было смотреть на жрущих и пьющих за стёклами людей в весёлой ресторации?
– Слушайте, у вас, кроме лимона и оливок, в доме что-нибудь есть?
Артур рассмеялся.
– Могу предложить пельмени под названием «Домашние», хотя каждая собака в городе знает, что их лепят на конвейере. Может, и водки выпьем? Поедете на городском транспорте. Могу пригласить вас остаться ночевать. Ведь если вы пищу из рук берёте, значит – «я чист, я чист»?
26
– Ну вот, мы наконец дома, и я могу описать тебе наши события во всех подробностях. Здесь творятся страшные дела!
Но Вероника не хотела ужасаться, не врубалась, как теперь говорят, а потому поминутно перебивала Марью Ивановну и, чуть подсюсюкивая, словно испуганного ребёнка успокаивала, говорила:
– Ну, будет, будет. Всё позади. Твой племянник жив, и ему больше ничего не угрожает.
– Но ему стало хуже! – защищала свои страхи Марья Ивановна.
– Это бывает. Но он лежит в лучшей больнице Москвы! Как я могу его жалеть? Ты мне лучше дом покажи. Это же дворец времён Алексея Михайловича, это Коломенское, Архангельское! И такая красота вокруг! Ты знаешь мою хибару на Соколиной горе. Тоже не худшее место, но мои богатые соседи гнушаются строить из брёвен и бруса. Там используют гранит, мрамор, туф, ракушечник и чёрта в ступе. А здесь всё так первозданно! Я тоже здесь… первозданная!
Они приехали в Верхний Стан вечером. Освободившись от повседневных обязанностей, как то готовки, стирки и препирательств с мужем, забыв про зависть, которая время от времени залезала в сердце, как комар в ухо, устраивая там чрезмерный, мучительный грохот (ведь среди новых русских живём!), Вероника почувствовала себя в деревне истинно свободной и как-то, знаете, не по возрасту лёгкой. С неуёмной прыткостью она сновала с первого этажа на второй, не поленилась обследовать также чердак и подвал, и, конечно, банный дом, и гараж, как же без гаража… И только выкатившаяся из-за церкви рыжая луна, зримо возвестившая о наступлении ночи, помешала ей немедленно бежать за калитку, чтобы осматривать прочие окрестности.
Чай на террасе с пирогами и вареньем, традиционный дачный чай из самовара (правда, электрического), свет неяркой лампы (имитация керосиновой), над которой суетилась мошкара, остудил её пыл и настроил на неторопливый, лирический лад.
– Я с того вечера первый раз чай на террасе пью, – сказала Марья Ивановна. – Я ведь трусиха.
– Глупости. Как хорошо, как тихо… И дельфиниум этот – роскошный…
– Цвета перванш, как глициния.
Дельфиниумы были гордостью сада. В грозовую ночь порывы ветра сломали многие кусты, и Марья Ивановна расставила сиреневые, белые и синие султаны по всему дому. Высоких ваз не хватило, и самый большой букет она поставила на кухне в бидон. Потом спасу не было от осыпающихся лепестков. Они были в варенье, в книгах, в корзине с вязаньем, в чашках и плошках. Вернувшись из Москвы, Марья Петровна смела разноцветные лепестки со всех столешниц, выбросила останки соцветий, а на голубые в бидоне – рука не поднялась. И этот дельфиниум поредел, но обилие воды помогло букету сохранить хрупкую красоту. Марья Ивановна вынесла его на террасу, чтоб мусору в доме было меньше.
– Ну вот, когда теперь всё вокруг так таинственно, – шёпотом произнесла Вероника, – рассказывай свои страшилки.
Ночное приключение, когда кот встал на защиту хозяйки, не столько озадачило, сколько рассмешило Веронику, но история с выстрелом была воспринята серьёзно. Тут было и сочувствие, и удивление, и гнев, только резюме показалось Марье Ивановне сомнительным:
– Знаешь, Маша, я тебе завидую. Ощущение опасности – это прекрасно. Я сейчас в таком возрасте, что очень легко стать неподвижной, как колода. У нас ведь всё уже случилось, мы всё пережили. А зачем мне эта так называемая мудрость? Кофты вязать, посматривать на мир через очки и всех успокаивать: и это, мол, пройдёт? Я не хочу, чтоб всё проходило. Опасность заставляет кровь бежать быстрее. Здесь уже появляется совсем другое отношение к жизни.
Марья Ивановна хотела сказать «Побыла бы ты на моём месте», и осеклась. Вероника успела хлебнуть опасности и умела с ней бороться. Надо же, за шестьдесят женщине, а решилась на побег.
– Знаешь, Верунь, а у меня всё не так. От ощущения опасности я поминутно бегаю в туалет. Почему-то от страха мочевой пузырь у меня наполняется с невиданной быстротой. Но сознаюсь тебе, я пыталась играть в детектива. Целый день пялилась на руки людей, искала царапины.
– Нашла?
– На руках были разнообразные травмы, и даже царапины были, но не Ворсиковы. Я его руку, то есть лапу, знаю. Ты не представляешь, сколько людей в сельской местности по тем или иным причинам имеют на руках травмы! И только горожане носят бинты. Например, у Лёвушки была рука забинтована – обжёгся в бане.
– А другие?
– По-разному. Харитонов – это сосед наш – явился вечером в гости с завязанным шарфом глазом. Говорит – шершень тяпнул. Я усомнилась. Думаю, а вдруг это тебе мой Ворсик глаз царапнул? Подкатила к этому Харитонову, говорю, давайте я вам глаз чаем промою. Говорят – очень помогает. А Харитонов – ни в какую. Я, мол, не привык в таком виде показываться перед дамой. Уговорила-таки. Ну, я тебе скажу! Ну и рожа! Правда шершень. Фёдора – есть у нас тут колоритная фигура, борец со змеями – цапнула за палец гадюка. Он руку тряпкой завязал, а палец сунул в стакан с водкой, и так целый день проходил. Мужики с ума посходили: зачем людей дразнишь? Не можешь выпить, так дома с водкой в стакане сиди. А он важно так говорит: «Эту водку пить нельзя, в ней змеиный яд». Вечером не утерпел и выпил за милую душу. И даже поноса не было.
Посмеялись.
– Ещё у нашего главного художника Флора есть молодые подмастерья. Одного я видела всего пару раз, а другой, Игнат, вообще в перчатках ходит. Какая-то у него сложная форма экземы. Если у тебя экзема, то зачем ты работаешь с соломой?
– А что он с ней делает? Жнёт?
– Они здесь все жнецы и на дуде игрецы. Завтра увидишь. Тебе понравится.
– Пошли спать…
– Ты иди, а я уберу со стола. Сороки таскают всё, что могут поднять: зубные щётки, чайные ложки, конфеты в фантиках. Мыло унести не могут, так всё его клювом продырявят… Ненавижу сорок!
Вероника собрала чашки на поднос и двинулась к двери, как вдруг остановилась, развернувшись всем корпусом.
– Что? – Марья Ивановна подняла на неё удивлённый взгляд.
– Это ты щёлкнула?
– Нет.
– А что тогда? Ты разве не слышала?
– Чем я могу щёлкать? Разве что вставными зубами…
– Звук был короткий и резкий. Знаешь, как будто металлическая прищепка клацнула, – Вероника подошла к перилам и долго всматривалась в темноту. Вид у неё был такой, что только поднос, полный фарфора, мешал ей немедленно броситься в сад в поисках неизвестно чего. Марья Ивановна проследила за её взглядом. Деревья зашумели вдруг, зашуршали кусты, прогнулись полосатые декоративные травы у дорожки.
– Ветер… А щёлкать в саду может какая-нибудь птаха. Здесь есть синицы, зарянки, есть пеночки-трещотки.
– Пеночка-трещотка не может щёлкнуть один раз и смолкнуть. Плохой был щелчок. Ладно, пойдём спать.
На следующий день никаких разговоров на тему «что бы это могло быть» не возникало. Ясное утро отмело все страхи и подозрения. Вероника опять чувствовала себя помолодевшей, нацепила какой-то шёлковый хитон цвета бордо, шляпу с полями, в нарядную сумку сунула купальник – словом, полностью экипировала себя для сельских красот.
Наибольшее впечатление на неё произвел, конечно, угор. Марья Ивановна, которая давно сюда не заглядывала, тоже осматривалась с интересом. Соломенные скульптуры и снопы уже не стояли кучно, а расползлись по склону, каждый своим строем, и только Анна Скирдница пребывала пока под навесом. Там же сидел Сидоров-Сикорский – толстый, потный, всем недовольный – и рисовал эскиз некого панно или плаката, который надлежало воплотить в жизнь в ближайшее время. Молодые художники при появлении гостей тут же ушли, прихватив с собой вёдра и кисти. Здесь творили такое искусство, когда на каждый мазок уходило по стакану краски. Аборигены – Фёдор и Петя-Бомбист – рыли ямы под слеги, а вернее сказать – длиннющие хлысты, к которым собирались крепить отбелённые льняные полотнища, символизирующие что-то исконно народное – мудрость, кротость, радость, трудолюбие – без грамотного объяснения не понять.
Но Веронике было достаточно нескольких слов, чтобы схватить самую сущность. Кроме того, ей куда больше хотелось самой поговорить, чем слушать.
– Ах, как у вас чудесно! Я и не представляла, что такое возможно. Искусство, которое не продаётся! Я это принимаю всем сердцем. Ведь нельзя купить этот дивный склон, останки церкви, вот эту реку и все ваши скульптуры. Вы знаете, я ездила в позапрошлом году в Италию и видела там дивные строения! Старинные базилики в Риме, Колизей, триумфальная арка Септимия Севера… Их тоже нельзя продать. Они стоят там вечно.
– Наши скульптуры не будут стоять вечно, – ворчливо сказал Флор. – Зимой они пойдут на подстилки скоту.
Сидоров-Сикорский постарался загладить откровенную насмешку Флора и принялся объяснять саму суть их акции. Праздник – можно сказать, вернисаж – назначен на двадцать восьмое августа, то есть в день Анны Пророчицы, а также Анны Скирдницы и Саввы Скирдника. Как известно, в эту пору идёт вывоз снопов, и хлеб складывается в кладовые.
День этот выбран очень точно, потому что уже двадцать девятого августа подпирает Иоанн Предтеча, или Иоанн Постный, который окончательно закрывает лето и как бы открывает осень, подводя итоги летней страде, о чём и говорит пословица: «Иван Постный пришёл, лето красное увёл».
Марья Ивановна слушала вполуха. Она смотрела на уходящий вниз склон. Река блестела, трепетала, играла, как панцирь огромной рыбины. Солнце слепило глаза, и нельзя было угадать, кто именно мчится вниз по склону. Бежит, не разбирая дороги…
Вот в сторону полетело ведро, он поднял руки. И тут эта стремительно удаляющаяся фигура со вскинутыми, словно в экстазе, руками, а может быть, в приветствии кому-то невидимому, оживила в памяти совсем другую картину, и словно занавес раздвинулся, чтоб показать ей сцену из давно прожитого.
Солнечный день на юге. Жарко. И кажется, что далёкое море – тёплое. Но это обман. В начале мая здесь никто не купается. Можно было зайти в соседний санаторий и за малую плату спуститься вниз на фуникулёре. На худой конец, в том же санатории, что раскинулся на берегу дикой долины, вернее, оврага, можно было идти на пляж по хорошим асфальтированным, затенённым растительностью дорожкам. Но Улдису втемяшилось в голову бежать к морю именно по дну дикого заросшего цветущим дроком и маками оврага. И он рванул по откосу вниз. Потом вот так же взмахнул руками и, не оборачиваясь, крикнул:
– Ну что же ты? Догоняй…
Что ей оставалось? Она тоже побежала вниз.
И так всё бежала, бежала, пока не заметила с грустью, что время давно уже выцвело, продырявилось, моль его сгрызла, и не заштопать его, и не перелицевать…
27
– Ты спрашиваешь, что у меня украли? Мираж, пустоту, память, сувенир, который ничего не стоит.
– Расскажи.
И она рассказала.
Это было так давно, что Марья Ивановна забыла и начало, и конец этой истории. Сколько ей тогда было, когда она поехала по горящей путёвке в Сочи? Меньше тридцати, это точно. Был конец апреля. Что там только не цвело в весеннюю пору! Больше всего потрясла глициния цвета «перванш» (Марье Ивановне очень нравились эти новые слова – глициния и перванш), азалия кавказская – жёлтая, и азалия индийская – красная. И не только в дендрарии бушевала красота, а на всех городских газонах, во всех парках. Пальмы поражали своим разнообразием и декоративностью – не город, а бесконечный ресторан.
Каждый день Марья Ивановна (а хотите – просто Машенька) ходила и в водолечебницу, и тренажёрный зал, и на массаж (хотя что там массажировать-то в двадцать восемь лет?) и даже дышала в какую-то трубку, врачи толковали про астматический компонент – последствия затянувшегося бронхита.
В холле около водолечебницы было всегда холодно, потому что в потолке имела место лакуна – овальная дыра. Машенька недоумевала: а как же зимой, если пойдёт снег? Но всем прочим холл ей очень нравился. Там был мраморный пол, узорчатые чугунные стулья, вдоль стен зеленели папоротники, а прямо под дырой размещался то ли фонтан, то ли аквариум, в котором зябли золотые рыбки. Около этого фонтана она познакомилась с Улдисом.
Он был красив, застенчив, носил белую панаму, а щёки его горели таким ярким румянцем, что Машенька озаботилась – уж не туберкулёз ли у него? Через два дня румянец исчез. Никакого туберкулёза у Улдиса не было, просто обгорел на солнце, но в свои тридцать с небольшим лет он любил и умел лечиться.
Улдис приехал из Риги и был чистокровным латышом, о чём говорил не без гордости. Нельзя сказать, чтобы их роман был бурным. Взявшись за руки, они ходили на море, вместе ездили в экскурсии в Мацесту и Красную Поляну, танцевали, конечно. Улдис много знал. Например, он рассказал Марье Ивановне, что лакмус получают из ягеля, что первые печатные книги назывались «инкунабулы» (переводится как «колыбель»), и что крокодилы, подобно птицам, строят для своих яиц гнёзда, но ни о чём он не говорил так подробно и вдохновенно, как о болезнях. И не обязательно собственных, хоть у него их было пруд пруди, а о том, как люди болеют и как вылечиваются. Целовались, на то и курорт.
Срок пребывания в санатории у Марьи Ивановны кончался раньше, чем у него, на неделю. Перед отъездом твёрдо договорились встретиться, обменялись адресами, телефонами. Улдис сказал, что в сочинскую медицину не верит, а в московскую верит, и попросил взять ему талончики в платной поликлинике к самым разным специалистам – мол, приедет в Москву и разом всех врачей обойдёт.
Не обманул, приехал. Остановился у Марьи Ивановны и сразу начал делать обход по врачам. На третий день он сказал, что любит её без памяти, но жениться сразу не может, потому что уже женат. Но дело за малым. Он получит развод, и они будут счастливы.
Бракоразводный процесс длился полгода, и всё это время Улдис мотался между двумя столицами. Говорил, что ездит в Москву в командировку, Марья Ивановна проверяла, и правда – в командировку, на переквалификацию. Живут вместе чин чином, вдруг сорвётся с места и опять к жене – разводиться. Возвращался он оттуда взвинченный до предела. В Риге Улдис умолял, грозил и, как говорится, в ногах валялся, а жена знай твердила своё «нет». Марья Ивановна уже по собственной инициативе брала талончики к врачам и никогда не ошибалась, потому что «почки ни к чёрту, печень опять дала сбой, и вообще, я обезвожен, как после дизентерии». Этот сумбурный период жизни Марья Ивановна пережила вполне безболезненно, потому что не верила в счастливый исход и смотрела на всё как бы со стороны. Вернулся из Риги – хорошо, исчез бы навсегда – тоже пережила бы, потому что в жизни ещё не то бывает.
А тут и счастье подоспело. Улдис развёлся, и они поженились. Работу он нашёл без труда. Марья Ивановна прописала его на своей площади.
Счастье было трудным. С удивлением для себя Марья Ивановна узнала, что в Риге у Улдиса остался двухгодовалый сын.
– Что же ты мне об этом раньше не сообщил?
– А что бы это изменило? Ты чудная, дивная, добрая. У тебя глаза ангела! Ты не знаешь, как важна в жизни доброта. Русалка моя, фея. Я не могу без тебя!
Приятно слушать такие слова, но Марья Ивановна недоумевала – что он в ней нашёл? Кожа хорошая, ничего не скажешь, а так… Лицо – самое обычное, фигура – «такие сейчас не носят», бюст великоват и ноги слишком крепенькие.
И при чём здесь «русалка»? Знай она, что у Улдиса полноценная семья, может быть, и не бегала бы по поликлиникам, не стояла в очередях, доставая дефицитные талоны. Представляя брошенку и мать-одиночку, Марья Ивановна поначалу угрызалась совестью.
– Покажи мне фотографию жены, – просила она Улдиса.
– У меня нет её фотографии. Я с ней порвал навсегда.
– Тогда сына покажи…
Неохотно, но показывал. На одной фотографии был изображён младенец в кружевных пелёнках, на другой – худенький мальчик уже на ножках, ручка тянется к другой руке, обладательница которой отрезана. Мальчик не вызывал никаких родственных чувств: просто чей-то ребёнок, как вырезка из журнала.
Зато рижская жена вызывала чувства, и это было отнюдь не сочувствием. Она была особой страстной, изобретательной, и сделала всё, чтобы жизнь молодых поменяла медовый вкус на полынный. Проводить мефистофельскую работу на расстоянии тысячи с гаком километров было трудно, но мстительница использовала телефон, телеграф, почту, однажды с оказией послала гадюку в банке. Посыльный и не подозревал, что везёт. На банке было написано чёрной краской: «душа Марии Шелиховой». Правда, потом оказалось, что это не гадюка, а уж, но страху было предостаточно.
Каждое напоминание о себе бывшей жены стоило Улдису ухудшения здоровья. Надо сказать, что Машеньке скоро надоели вечные разговоры о болезнях. Это в старости интересно обсуждать давление, камни в почках и бессонницу, а в тридцать лет ты начинаешь сомневаться – а так ли уж болен муж? Вероятнее всего, это просто мнительность и плохой характер.
Но у неё хватило ума и такта не высказать эти сомнения вслух, тем более что через два года совместной жизни Улдиса не стало. Прободение язвы. Не спасли. О! Улдис был проницательный человек, он чувствовал сомнения жены. Как-то в шутку он сказал:
– Мне рассказывали, что в Риме есть могила с памятником, на котором написано: «Я же говорил вам, что я болен». Если что – мне, пожалуйста, такую же надпись.
Милый, милый Улдис. Столько лет прошло, а она помнит о нём только хорошее. Но мало осталось воспоминаний. Она послала в Ригу уведомление о смерти мужа. Рижская жена (как её звали-то?) сочинила ответ на десяти страницах. Добропорядочная Марья Ивановна, хоть и мука это была мучительная, дочитала письмо до конца. Общая мысль послания (эпитеты и оскорбления опустим) была следующая: ты, курортная шлюха, отравила моего мужа, чтоб завладеть его богатством.
А какое у него было богатство? Смешно. Всё добро Улдиса уместилось в одном чемодане. Правда, были кой-какие ювелирные изделия, старинные – от матери остались.
– Это очень дорогие вещи, – сказал он тогда со значением. – Только бы найти достойного покупателя. На вырученные деньги однокомнатную квартиру можно купить.
– Зачем нам квартира? Разве тебе здесь плохо?
– Тогда машину купим. Или дачу строить начнём.
Не собрались они ни продать, ни построить, зато в трудное время, когда Гайдар цены отпустил, Марья Ивановна направилась с кольцом в ломбард. Там ей сказали: «Какой сапфир, дама? Вы что – смеётесь? Это…» И назвали совсем другой камень, его название она забыла. Дали очень незначительную сумму. И хорошо! Она потом это кольцо благополучно выкупила. Ещё от Улдиса осталась брошь с бриллиантами. Судя по их размеру – с малую горошину, – это никакие не алмазы, а стразы. Только очень хорошего качества. Солнце в этих мнимых алмазах так и играет, посылая разноцветные снопики.
Ещё от Улдиса остались документы, уложенные в чёрный пакет от фотобумаги. Смысл их для Марьи Ивановны был туманен. Написано на глянцевой бумаге с водяными знаками, язык – чужой, разобраться можно только в датах. Одна бумага была помечена тридцать четвёртым годом, а другая вообще писалась в прошлом веке. Помнится, обнаружив чёрный пакет в ящике, Марья Ивановна спросила у Улдиса:
– Что это?
Он рассмеялся.
– Воспоминания. Эти бумаги ничего не значат.
– Зачем же ты их хранишь?
– В память о маме. Это документы, подтверждающие право собственности на дом, в котором я родился. Сейчас в этом доме военкомат. Можно их выбросить.
Можно, но ведь не выбросил. И Марья Ивановна после смерти мужа тоже не отнесла их в помойное ведро. Свёрнутые вчетверо глянцевые бумаги обмахрились слегка на сгибах, но всё равно остались красивыми и загадочными, как дореволюционные фотографии. Пусть полежат… в память об Улдисе.
28
Деревня окрестила Веронику «блаженной». Она сама ходила за парным молоком к Анне Васильевне, тут же пробовала пузырчатую пенку, закатывала глаза и говорила:
– Ах, чудо какое! Нет на свете ничего вкуснее!
Ещё Вероника играла с гусями, когда те, вытянув шеи и яростно шипя, пытались ущипнуть её за худую лодыжку, о чём-то беседовала с коровой, гладила ей бок, приговаривая: «Замшевая моя…» У Зорьки был такой вид, словно ей сообщили наконец какую-то главную тайну.
– Маша! Милая Маша, я чувствую себя молодой язычницей, – восклицала она за обедом. – Сегодня вечером мы пойдём на угор встречать восход луны.
Молодого восторга Веронике хватило ровно на два дня. Говорят, душа не стареет, и это истинная правда. В мыслях ты и в восемьдесят лет всё объемлешь. Так, кажется, вышел бы спозаранку и пошёл, и пошёл… Но вместилище души, тело, тебя от безумства-то и уводит, потому что радикулит и артрит, а ещё глаза слабые и печень ни к чёрту. Поэтому ни на какой угор они не пошли, вечернюю прогулку совершили между грядок, собирая укроп и огурцы к ужину, а вечер, как все приличные люди, провели перед телевизором.
Иностранные сериалы уже давно не смотрели – обрыдло. Мексиканско-бразильские утомляли однообразием – всё вертится вокруг незаконных, украденных, потерянных или в коме забытых детей – сколько можно? А в американских всегда кого-то беспощадно били. И ещё надлежало любить главного героя – сильного, гордого и… как бы это поделикатней: не скажешь, что совсем дебил, но вообще-то всё равно одноклеточный. Обычно его не били. Он сам всех бил.
В наших сериалах тоже били, и если отрепетированные до винтика американские тумаки как-то смахивали на балет, то русское битьё было откровенно лютым, настоящим и страшным. Русские сериалы высыпали в телевизор разом, как картошку в суп. Они шли по всем каналам одновременно, рассказывали примерно об одном и том же, и везде играли одни и те же актёры.
Вероника жаловалась:
– Я помню, в юности с работы прихожу и ещё в коридоре Желткова спрашиваю: «Даль жив, Васильев жив?» – и каждый понимает, что речь идёт о «Варианте Омега». А сейчас как?
Сейчас было трудно. Сядешь в условный час перед телевизором, нажмёшь кнопку и недоумеваешь: она же только что беременная была! Что же она в койку к чужому мужику лезет? Всмотришься, а она уже без пуза. Вчера ещё было два месяца до родов, и уже родила. Так быстро в сериалах дела не делаются. И потом, куда она ребёнка дела?
Вот и сейчас шёл тот же разговор:
– Мань, да это другой сериал!
– Как же другой? Смотри – Абдулов. Он главный бандит. Но положительный. И главный отрицательный герой тот же. Он с помощью интриг, подлости и убийства отнимает у детей банкира деньги.
– Да этот главный отрицательный в четырёх сериалах одну и ту же роль играет. И везде он негодяй, и везде отнимает деньги. Переключай на другой канал.
Вероника оказалась права. Вышли с трудом на нужный сериал, но Марья Ивановна всё не могла успокоиться.
– Я знаешь, Вер, кого не понимаю? Актёров. Положим, режиссёры не могут отследить, что все вокруг снимают один и тот же фильм, но актёр-то должен соображать?
– Как говорит мой Желтков, они люди искусства, они любят только деньги.
На всякий случай сверились с телепрограммой – всё правильно. Хорошо… Незатейливым ручейком тёк привычный сюжет, Марья Ивановна вязала, Вероника раскладывала пасьянс. И актриса та же самая играет роковушку. Страшненькая… дочка известного кинодеятеля – вылитый отец, прикрой ей волосы – ну, просто одно лицо! Удивительно, что на женщину-вамп никого покрасивее не нашлось. А негодяй всё тот же…
– Я где-то читала, – сказала Вероника, – что в войну из Свердловска – туда киностудия была эвакуирована – слали в Москву телеграммы: «Вышлите актёра лицом Масохи».
– Какой масохи?
– Не какой, а какого. Был такой актёр, Масоха, он вредителей играл. Как не помнишь? В «Большой жизни» с Алейниковым… Так и наш негодяй. Бедный, несчастный… ведь хороший актёр, а стал «лицом Масохи».
Так бы и дожурчал этот вечер до конца, если бы Марья Ивановна вдруг не сказала с испугом:
– Слушай, ты Ворсика вечером кормила?
– Нет.
– Где же он?
– Гуляет. Придёт.
– К ужину он никогда не опаздывает. Ты форточку не закрывала?
Марья Ивановна подошла к окну. И форточка была открыта, и приставленная к подоконнику доска на месте. По этой доске Ворсик и забирался на окно. Она не поленилась, прошла на кухню и посмотрела блюдце, в которое сама положила мюсли с изюмом и орехами и молока плеснула. Пусть полакомится кот, он это любил. Элитная еда стояла нетронутой.
– Ой, беда моя! – не выдержала Марья Ивановна. – Похоже, опять надо на свинарню тащиться. Наверняка он там.
– Как ушёл, так и придёт.
– Ага, придёт и ко мне под бок ляжет. В тот раз я его еле отмыла. После свинарника он не кот, а кусок дерьма… Свинячьего. Это такое амбре, я тебе скажу!
– Как же ты раньше с котом управлялась?
– А раньше он на свиноферму не ходил. Я когда в Москву по твоему вызову уехала, Ворсика оставила у Раисы. Есть тут у нас одна, жена скульптора. Она женщина неплохая, но к кошкам совершенно равнодушна, за Ворсиком не следила. Он и повадился крутить романы с деревенскими красотками.
– Да сейчас август, какие романы?
– Ой, здесь все к романам всегда готовы. Ты посиди тут, а я быстренько на свиноферму сбегаю. Надо отучить его от этого безобразия.
– Темно же совсем!
– Я фонарик возьму. И резиновые сапоги надену. Там крыша течёт, грязь немыслимая.
– Я с тобой пойду, – сказала Вероника. – Прогуляюсь заодно. Надоело мне смотреть, как все эти масохи ради золота готовы друг у друга печень выесть. Мне тоже нужно сапоги?
– Да нет. Ты около двери постоишь.
Подруги неторопливо прошли по деревне. Свинарник, о котором ранее было говорено, находился метрах в трёхстах от последнего дома. Это была отчуждённая, страшная земля. Вонища начиналась сразу за околицей. Вероятно, именно запах защищал ферму от полного уничтожения. Всё, что можно было снять и унести с наружной части, уже унесли, а забираться внутрь здания, чтобы пилить на вынос осклизлые деревянные балки, пока не решались. Видно, не было ещё крайней нужды, чтобы тащить в хозяйство эти пахучие деревяшки.
Темнота стояла полная. Казалось, что в это отхожее место даже луна не светит. Однако справедливости ради скажем, что луна просто зашла за тучу, а густая тень образовывалась огромным старым тополем, который, не гнушаясь запахом, рос у входа.
– Жди меня здесь, – уверенно сказала Марья Ивановна, шагнув в тёмный проём, но тут же замерла на месте. – Вер, послушай, по-моему, кто-то мяучит.
– Не просто мяучит, а вопит. Здесь твой Ворсик.
– Кыс, кыс, кыс! – закричала Марья Ивановна, углубляясь в темноту.
Луч фонарика бродил по грязным бетонным стенам, натыкался на заляпанные навозом сломанные перегородки. Она шла осторожно, пол был скользким. Удивительно, но здесь даже в жару не просыхало. Все знают, что плохой запах усугубляет чувство страха, но у Марьи Ивановны он усугублял только злость. «Вредное животное, думала она про кота, – нашёл место, где развлекаться! Вернёмся домой – выпорю!»
Она шла на звук и в конце концов добрела до дальнего конца свинарника. Мяуканье шло сверху. Свет фонаря взметнулся, и глазам её предстало страшное зрелище. В сумке, которая раньше называлась авоськой и представляла из себя сеть, приспособленную для ношения клади, у самого потолка висело сокровище её, любимый Ворсик. Сетка была подвешена на косо торчащую балку. Ячейки сетки были крупными, поэтому лапы Ворсика выпростались наружу, кот был похож на белку-летягу, которая вдруг задержалась в полёте. При виде хозяйки Ворсик начал отчаянно дёргаться. Авоська принялась раскачиваться, но что-то не давало ей соскользнуть с угрожающе наклоненной балки.
Марья Ивановна в ужасе огляделась. Как же ей достать кота? Мысль, что можно кого-то позвать на помощь, ей просто не пришла в голову. Луч фонаря заметался беспомощно, но вдруг наткнулся на странное сооружение. Кто-то не поленился притащить в свинарник высокие козлы, которыми пользуются маляры. А может быть, козлы давно стояли здесь и использовались всем деревенским сообществом, чтоб сподручнее разрушать ферму. К козлам была прислонена доска, а сверху их лежал длинный фанерный щит, упирающийся одним концом в стену. Очевидно, негодяй, который обрёк на муку её кота, лез к балке именно по этому сооружению.
У Марьи Ивановны хватило ума попробовать доску на крепость. Она была широкой, чья-то разумная рука набила на неё планки, чтоб нога не скользила. Она поползла по доске на четвереньках, на козлах благополучно встала на две конечности. Теперь только встать одной ногой на щит – и можно будет дотянуться до авоськи. Щит выглядел надёжным, видимо, в стене был выем или пара крюков, которые удерживали его в состоянии устойчивости.
Дальше всё произошло одномоментно. Ворсику каким-то чудом удалось прорвать сеть, и он вывалился из неё, как баскетбольный мяч. А Марья Ивановна, так и не вступив на щит, потеряла равновесие и с грохотом упала на бетонный пол. И что самое удивительное, косая балка, на которой висела авоська, тоже вылезла из своего гнезда и рухнула рядом с поверженной пенсионеркой.
Очевидно, она закричала, потому что как только очнулась, увидела склонённую над собой Веронику. Фонарь валялся рядом; удивительно, но он не разбился. Луч стелился по земле и освещал Ворсика, который сидел рядом с хозяйкой и яростно себя вылизывал.
– Машка, дура старая, куда тебя понесло? – жалобно причитала Вероника. – Очнись, где болит?
– Нога, – сказала Марья Ивановна. – Больно ужасно!
– При чём здесь нога? Ты же сознание потеряла.
– Как потеряла, так и нашла, – она ощупала голову. – Ой, шишка. Видно, я затылком стукнулась. Я совсем разбита. Где Ворсик?
– Здесь твоё сокровище.
– Убийцы, вандалы, садисты…
– Встать можешь?
– Попробую…
Держась за Веронику, Марья Ивановна попыталась встать, но тут же осела на грязный бетонный пол.
– Не могу стоять. Иди к людям, позови кого-нибудь.
– Нет уж, я тебя в этом отстойнике не брошу. Здесь же задохнуться можно. Дай я тебя хоть до травки доволоку.
Удивительно, но Веронике удалось вытащить беспомощное тело за пределы свинарника, только до травки она не дотянула. Прислонила подругу к тополиному стволу и перевела дух.
– Куда идти-то?
– В первом доме Петька-Бомбист живёт. Его и зови. Он не откажет. Ты только не спрашивай прямо – где, мол, Бомбист? А то с тебя станется. Его Пётр Петрович зовут.
А дальше Петя-Бомбист нёс Марью Ивановну на руках. Она была дамой плотного телосложения, поэтому он не единожды укладывал её на землю, чтоб отдышаться. Но доволок-таки до дому.
– Только на диван не клади, я вся в навозе. У порога меня оставь! – стенала Марья Ивановна, но Пётр Петрович не послушался, донёс, куда приказала Вероника. Его тут же снабдили бутылкой водки, пивом и всяческой снедью на закуску. Бомбист удалился в самом праздничном настроении – надо же, какая удача подвалила! Так бы каждый день ломаных старух таскать!
– Вначале надо сорвать с тебя эти зловонные тряпки, – сказала Вероника, как только Бомбист ушёл.
– Вначале Ворсика вымой.
Но кот, на удивление, оказался чистым. Попахивал, конечно, но было ясно – на этот раз ему не удалось совершить любимый экскурс по злачным ландшафтам свинарника. Похоже, несчастного полонили на чистой территории, а уже потом подвесили на муку.
– Бедный Ворсик! Вандалы, убийцы! Это же такая травма для психики… – опять принялась возмущаться Марья Ивановна, но Вероника прервала её жёстким вопросом:
– У вас тут скорая помощь есть?
– А зачем ему скорая помощь? Он же цел.
– Не Ворсику, а тебе, горе моё.
– Какая там скорая… Флора надо попросить, он довезёт до больницы.
Наутро Флор повёз дам в Кашино. Марью Ивановну осмотрели, ощупали, просветили рентгеном. Диагноз был суровым: перелом щиколотки. Тут же был наложен гипс. Больная рвалась домой, но её и слушать не стали.
– Хоть неделю, но полежать у нас необходимо. У вас на голове ушиб, возможно, сотрясение мозга. И на теле множественные травмы.
– Синяки, что ли?
Врач не стала уточнять, только ещё решительней поджала губы:
– Вам необходим покой и наблюдение.
Марья Ивановна поняла, что спорить бесполезно. Будь она обычной пациенткой, ей бы наверняка прописали домашний режим. Но она была тёткой уважаемого человека, больница ждала от этого уважаемого денежной помощи, а здесь предоставлялась реальная возможность перекинуть мостик… Словом, лежите, дама, и не рыпайтесь!
– Верочка, милая, только не уезжай в Москву, – взмолилась Марья Ивановна на прощанье. – Побудь с Ворсиком. Через три дня я точно буду дома.
– Машенька, не волнуйся. Я тебя не оставлю. Вот разберусь в этом деле, тогда и уеду.
– В каком деле? Не понимаю я ничего.
– А тебе и не надо понимать.
На этом они и расстались.
29
Машина ломается всегда не ко времени, но чтоб сейчас, в разгар работы, когда капризная удача сама стала играть в поддавки! В просторечии это называется «стуканул движок». Зыкин шибанул ногой по лысой шине и с грохотом захлопнул дверцу. Уазик выглядел сейчас особенно старым, битым и пыльным. Поломанный двигатель казался предателем.
– Ишь, хвост поджал! – опер погрозил машине, а потом перевёл суровый взор на мастера: – Когда почините?
Тот сочувствующе хохотнул. Уже был произведён предварительный осмотр, результаты были неутешительны. Очень не хотелось возиться с этой рухлядью. Кроме того, всяк знает, что с милиции деньгами не разживёшься. Но с опером выгоднее дружить, чем враждовать, поэтому мастер, ритуально просклоняв: «запчастей нет… запчасти с других машин снимаем… а ваша, извиняюсь, машина – сама готовая запчасть», пообещал дня через три (если клапана не загнулись), а вероятнее – через четыре, вдохнуть в уазик жизнь.
Перебился бы Зыкин без машины, такое не раз бывало, но вечером позвонили из Верхнего Стана с настоятельной просьбой прибыть туда и как можно быстрее. Звонила родственница Марьи Ивановны Шелиховой, а может, подруга, не в этом суть. А суть в том, что эта самая Вероника якобы имела на руках неоспоримые улики. И в чём, вы думаете, она уличала белый свет? В том, что гражданка Шелихова попала в больницу неспроста и что всё это было подстроено.
– Что подстроено? – негодовал по телефону Зыкин. – Понятное дело, подстроено. Небось её кот немерено цыплят передушил. Вот тебе и вся подстройка!
– Кот здесь совершенно ни при чём, – сказала настырная подруга. – Нам необходимо встретиться. Завтра я вас жду.
Это хорошо, что она ждёт. Зыкин и сам решил наведаться в Верхний Стан, только горячки пороть не хотел. Вот починят машину, тогда другое дело. А тут вдруг подумал – а почему бы ему не дойти до Стана пешком? Мы уже рассказывали о своеобразном расположении деревни – на машине от Кашино до Стана – тридцать километров, ногами через лес – восемь. Диктовал расстояние мост. Река здесь делала петлю. А пешком по лесным дорогам идти – самое милое дело. Через реку можно и вплавь перебраться.
– Куда ты пойдёшь по жаре? – воспротивилась жена. – Возьми мой велосипед. Он старый, но надёжный. Шины только подкачать.
– Дорогу объясни подробно. Как бы я в лесу с этим велосипедом не заплутался. А то придётся эту железку на себе тащить.
Жена с удовольствием принялась объяснять своему неместному мужу предстоящий маршрут. Сразу от новой бензоколонки – налево по шоссе, дойдёшь до барака, ну, где раньше валенки валяли, а теперь – придорожное кафе «Лебедь»… Так вот от него сразу полем и в лес. Там дорога торная, раньше та дорога широкая была, потому что по ней лес возили, а сейчас заросла. Дойдёшь до лесничихи, а там спросишь.
– Какой ещё лесничихи?
– Бабки нашей медсестры Сони. Лесничиху зовут бабка Павла. Соня живёт у неё летом и каждый день на работу ездит на велосипеде. Но дом лесничихи стоит не у самой дороги. Немного вглубь леса надо пройти. Направо. Найдёшь!
– Сколько до этой лесничихи?
– От «Лебедя», наверное, километра три – не больше. Но вообще зря ты это, Валер, затеял. Останови любой самосвал на шоссе, он тебя до Стана за спасибо довезёт, а назад домой художники подбросят.
Но Зыкин не отступился от первоначальной затеи. И чем больше он её обдумывал, тем больше она ему нравилась. Ему даже казалось, что всё словно нарочно кем-то подстроено в интересах дела, чтоб он прошёл пешком тот самый путь, который сделал неведомый злоумышленник, переправившись ночью через Угру. Конечно, он из Стана лыжи в Кашино навострил, куда же ещё? Если б он в Чапаевку пошёл или, скажем, в Малинки, то зачем ему на тот берег переправляться глубокой ночью? Можно предположить, что он реку переплыл и помчался лесом неведомо куда, только бы подальше от места преступления убежать. Но это маловероятно.
Зыкин поднялся на чердак, достал велосипед, повертел его так и эдак и решил идти пешком. Велосипед доверия не вызывал: старый, больной, несмазанный и, похоже, восьмерит.
До «Лебедя» его ребята из шиномонтажа подкинули, широкое поле он миновал бегом, а по заросшей лесной дороге уже пошёл неторопливым шагом. Вокруг – красота и великолепие. Птицы поют, насекомые жужжат, издали выводок подосиновиков видел. До бывшего лесничества дошёл в два счёта, ноги сами несли дальше, но торная дорога вдруг оборвалась, превратившись в веер тропинок. Слева стеной стояли вековые сосны, справа развернулась неширокая просека, по ней он и пошёл.
Дом лесничихи – пятистенка с худой крышей, прогоревшей трубой, но с крепким кирпичным фундаментом и резными наличниками – стоял под старыми дородными вязами. На незатенённом клочке земли раскинулся маленький огородик. На просеке среди невыкорчеванных пней бродила коза с колокольчиком на шее. На двери в дом висел увесистый замок.
Зыкин вдруг обозлился на себя и на весь мир. Ему уже казалось, что затея, казавшаяся разумной, обернулась пустой тратой времени. Оперативник фигов! Зачем его сюда занесло? Где искать старую Павлу, которая указала бы дорогу?
Вдруг неприметная облезлая дверца курятника отворилась, и появилась согбенная старуха в ситцевом платке и цветном испачканном сажей переднике. Чистая Баба-яга! Она пощёлкала вставными челюстями, потом спросила без видимого интереса:
– Ты кто будешь-то?
– Здрасте, баба Павлина. Я дорогу в Верхний Стан хотел спросить. Чтоб покороче.
– Что? Громче говори-то! Откуда знаешь, как меня зовут? Ты чей сын-то?
– Я не сын. Я муж… – Зыкин назвал фамилию жены.
– А… знаю. Она с моей Сонькой работает. И матушку её знаю. Пойдём…
Она подошла к двери, достала спрятанный за притолокой ключ.
– Я за малиной ходила. Мы двери отродясь не запирали, а сейчас балуют люди. Заходи…
– Что же буду заходить? Мне только дорогу узнать.
– Ко мне даже грибники заходят. Молочка попьёшь.
«Всего-то три километра от советского капитализма, и уже в дом зовут, – подумал опер, входя за старухой в дом, – а с другой стороны – просто ошалела бабка от одиночества, с каждым рада поговорить».
Изба как изба: кухонька тесная, маленькое окошко с Ванькой мокрым на подоконнике, закопчённое устье русской печи, с которым безуспешно боролась побелка, занавеска в выцветших васильках, крытый изрезанной клеёнкой стол, над ним – тёмный лик Николая-Угодника. Икона была украшена алыми бумажными цветами.
– Козье, – старуха пододвинула чашку с молоком и села напротив, подперев щеку огромной, клещеобразной, коричневой, от сплошной «гречки», рукой.
– Я твою Зинку вот такой помню, – клешня поднялась чуть выше колен. – Привет ей передай. Дети-то у вас есть?
– Мальчик.
– В Верхний Стан идёшь? Сейчас этой дорогой не ходит никто. Все по мосту норовят, по гладкому шоссе. Я в Верхний Стан тоже скоро по мосту поеду.
– А зачем вам в Верхний Стан? – насторожился Зыкин.
– Что ж меня, по бурелому волочить? А место там высокое, сухой песок. Самое милое дело лежать, – Зыкин понял, что она говорит про кладбище.
– И церковь там хорошая, – продолжала старуха, – только разрушили её люди. Зверьё! А когда починят – неизвестно. Уж пора бы. Говорят, там теперь капище мастрычат. Это в наше-то время, ой, ой, грехи наши тяжкие!
– Какое капище? – потрясённо спросил Зыкин: он и не подозревал, что эта ветхая бабка может знать такие слова.
– Языческое, вот какое. К Соньке моей всё велосипедист ездит. Оттуда, из Стана. Он и рассказывал. На это капище, говорит, жуткие деньги тратят. А ведь можно было бы их на починку храма пустить. Так я говорю или нет?
– Нет, бабушка Павлина, не так. Никакого капища там не строят. Там идёт подготовка к массовому крестьянскому празднику. Называется – акция. Но об этом сейчас спорить не будем. Ты мне лучше объясни, про какого ты велосипедиста толкуешь?
– Так из тех, кто капище строит. Сонька, срамница, меня не стесняется. Ночью его принимает. Я в избе, а сами на терраске гули-гули. При живом-то муже! Он на заработки уехал.
– Как зовут велосипедиста?
– Сонька беспутная! Ты её характер знаешь? Ох и ведьма-баба, ох и вредна. И всё деньги считает. Думаешь, зачем она у меня живёт? Хочет на своё имя эту избу переписать. Чтоб, когда я помру – она, мол, наследница. А изба – лесхозовская. Меня здесь терпят за заслуги мужа моего покойного, царство ему небесное, – она перекрестилась, – сорок лет в лесхозе оттрубил. А на кой им Сонька? Да лесхоз лучше дом на брёвна растащит, чем Соньке его подарит.
Зыкин уже понял, что старуха не так уж плохо слышит, но играет в глухоту, чтобы не отвечать на никчёмные, с её точки зрения, вопросы.
– И часто к вам этот велосипедист ездит?
– Да не считала я.
– И всё ночью?
– Так днями-то он своим капищем занимается.
Если поразмыслить, то картинка получалась оч-чень любопытная! Зыкина от возбуждения стало легко познабливать. Вот что значит охотничий азарт!
– Капищем, значит… Как его зовут-то, баба Павлина?
– Что ты привязался – как зовут, как зовут! Я почём знаю, как его зовут? Будет мне Сонька имена своих вертунов называть… Я что – милиция?
«А побаивается Соньки бабуся», – с ехидцей подумал Зыкин, поняв, что имени добыть ему не удастся.
– Ну а выглядит он как?
– Самостоятельный такой, красивый. Но неулыбчивый, и ещё жадный. Такой же, как Сонька. Хоть бы подарочек когда привёз. На шоколадку можешь раскошелиться, если я его в своём дому терплю? Да и Соньку он не больно подарками балует. Сам-то её пользует, а отдачи нет. И ведь опять же… простыни за ним постирай, рубашки постирай! Лечиться очень любит.
– Что же он лечит?
– Да всё. Чуть что – пошёл причитать. То руку себе поранил – прижигай йодом, то колено разбил – примочки делай. Травы цвели, так он весь соплями изошёл. И всё-то она его лечит! Они и познакомились в больнице. Как пойдёт чихать! Если ты наш сенокос не воспринимаешь, то зачем тебе здесь жить? Поезжай к себе в город. Там камни, кирпич, трава слабая – хорошо… Попил молоко-то? – вдруг спросила она строго, повинуясь внутреннему, только ей ведомому счётчику, который точно указывает, когда начинать, а когда кончать разговор.
– По этой дороге иди, – указала старуха на тропинку, ныряющую под низкие еловые ветви. – Главное, влево не забирай. А то на болото попадёшь. Раньше там бабы клюкву собирали, а сейчас, поди, и пересохло всё. Но зачем тебе среди кочек плутать? Выбирай правую тропку, и через час-другой к реке и выйдешь.
Зыкин сунул руку в карман. По счастью, карамельки, с помощью которых он боролся за чистый быт, были на месте.
– Вот, бабушка Павлина, вам подарочек, – он высыпал горсть упакованных в разноцветную фольгу, чуть подтаявших от жары карамелек в подставленный подол.
Тропинка прерывалась рытвинами, в иных стояла вода, и на глиняной почве ясно прослеживался след от велосипеда. Не обманула старуха. Он прошёл почти километр, прежде чем встал столбом и буквально ударил себя по лбу: «Куда иду? Зачем? С травмированным котом разбираться? Ему надо в больницу поспешать и с Сонькой беседу вести. Уж она-то имя своего хахаля помнит! А когда имя на руках будет, тогда можно и дальше будет кумекать».
Услышанное от бабки Павлины не просто подтверждало его подозрения, но как бы замыкало круг, придавая предыдущим выводам смысл и правдоподобность. А это что значит? Вторые следы, оставленные в церкви на верхотуре, вполне могли принадлежать не чужаку, как он раньше думал, а именно этому самому велосипедисту. Спихнул гражданина Шульгина с крыши, и бегом на реку в лодку, а на том берегу припрятан где-нибудь в кустах велосипед. Только непонятно, зачем он опять в деревню вернулся. Почему не боится, что его заподозрят? И главное – на кой ему стрелять в гражданина Шелихова? Даже если предположить, что он киллер заказной, то ведь эти ребята так себя не ведут. Странный убийца, ничего не скажешь! Улик против него маловато, и доказать его участие в деле будет нелегко.
Зыкин пошёл назад в Кашино.
30
Вернувшись из больницы, куда уложили несчастную Машу, Вероника, выпив чашку кофе и плеснув молока душевно травмированному Ворсику, который таким отнюдь не выглядел, пошла на прогулку. Расскажи она кому-нибудь из деревенских о пункте своего назначения, они нашли бы её желание по меньшей мере странным. Она шла в свинарник.
События прошлого вечера с точки зрения обывателя выглядели совершенно естественными. Сколько раз мы видели (или слышали), как несчастных котов пришибают, изничтожают и топят за их подвиги. И есть за что! Характер у этих особей зачастую совершенно непереносимый. Сама Вероника была собачницей, и должного сочувствия коты у неё не вызывали. Да Маша и сама рассказывала о подвигах Ворсика – настоящий хулиган.
За этим следует большое «но». Если бы Ворсика просто пришибли – нет вопросов. Но кота не убили, а подвесили в сумке к потолку. Чтоб помучился? Но вся деревня знает, что Маша не даст коту умереть. Она будет его искать именно на свиноферме, куда он повадился по своим сексуальным делам. Естественный вывод – Машу хотели туда заманить.
Дальше… Можем предположить, что подвесили Ворсика в назиданье: мол, если ты, Марья Ивановна, за своей тварью следить не будешь, в следующий раз найдёшь кошачий труп. Вполне резонно и логично. И ведь даже снаряд для восхождения к потолку построили.
Всё до безобразия логично, поэтому Вероника должна была сознаться, что сама не знает, что ищет. Просто ей хотелось посмотреть место неравной Машиной битвы за справедливость при дневном свете.
Днём разрушенная ферма выглядела ещё отвратительнее. Только, как ни странно, воняло меньше. Может быть, утренние сквозняки продули брошенное помещение, а скорее всего, зрительные впечатления несколько притупляли обоняние.
Пришла, осмотрелась. Грязь, гадость, навоз, разруха. Деревянные козлы стояли на месте, доска повалилась на пол. И ещё она заметила некоторую деталь, которая наводила на размышления. Эта деталь как бы подсказывала, что не только ради нравоучения подвесили Ворсика и что у человека, который это сделал, были далеко идущие планы.
После похода в свинарник Вероника и позвонила оперу Зыкину. Она хотела не только поделиться своими подозрениями, ей надо было нарисовать Зыкину всю картину преступления. Предыдущий опыт подсказывал: если влип в историю, то чем быстрей ты поставишь в известность милицию, тем лучше. Они там, конечно, тугодумы, у них работы сверх головы, но если заявление написано, то в соответствии с этой бумажкой милиционеры будут трудить мозги. А уж если ты сам создашь ситуацию, из которой выпутаться невозможно, то они, люди в форме, тебя спасут.
Она прождала опера до трёх часов. Он не приехал. Глупец, тебе же хуже! Будем действовать самостоятельно. После обеда, надев шляпу с полями, которая более напоминала зонт, чем головной убор и, перекинув через плечо матерчатую лёгкую сумку, Вероника пошла гулять в другую сторону – на угор.
Второй поход имел куда более серьёзные намерения, чем первый. На всякий случай она сочинила себе «легенду». Если придётся врать, глядя человеку прямо в глаза, рассказ её должен звучать правдоподобно.
Вначале она удостоверилась, что художники будут работать на угоре до самого вечера без каких бы то ни было перерывов. Они воздвигали на деревянном помосте Анну Скирдницу, здесь все были при деле. Теперь у неё были развязаны руки.
Молодые художники Игнат и Эрик жили во времянке в отдельных комнатах. Каждое помещение – четыре квадратных метра, не больше – имело жёсткий топчан, подобие стола, сооружённое из коробок, и стул, плотно завешанный одеждой. Достоинство этих клеток с точки зрения Вероники состояло в том, что они были маленькими, потому обыск в них было делать легко.
Она искала разумные улики. Наивно думать, что где-нибудь здесь обретается чёрный пакет из-под фотобумаги. У добра молодца наверняка достало мозгов не везти украденные бумаги с собой. Но паспорта у них есть? Вряд ли подозреваемый решился явиться в Стан под красивой фамилией Крауклис. Наверняка он взял фамилию матери, или жены, или ещё что-нибудь придумал. Но дату рождения он не мог поменять! Должны же у них быть какие-нибудь документы, подтверждающие, что один из художников родился тридцать два года назад в Риге. Ничего, пусто. Вероника уже мечтала хоть что-нибудь найти, какую-нибудь безделицу, позволяющую связать её хозяина с латвийской столицей. Она обследовала каждый метр площади, перелистала книги, не погнушалась порыться в чемоданах, но кроме початой банки шпротов, которая стояла в кухне на засыпанном крошками столе, ничего латвийского не обнаружила.
Но уходить с голыми руками тоже не хотелось, поэтому у каждого из обыскиваемых она взяла по маленькой безделице – на память, а также чтоб иметь отпечатки пальцев. Она вышла на воздух, возблагодарив судьбу, что «легенда» не понадобилась. Художники могли и не поверить, что вчера она забыла на их крыльце книгу – модный детектив, а теперь решила выяснить, не взяли ли они книгу по ошибке. А ей так хочется читать, там такой захватывающий сюжет, и прочая, прочая… Для дурака сойдёт, а умный может и обозлиться. А наш рижанин шутить не любит. Опомниться не успеешь, как загремишь вслед за подругой в кашинскую больницу, а то и в морг.
Она согласна, насчёт рижанина – это только её предположения. Но ведь всё связывается, стыкуется, умещается в рамки! Хорошая придумалась игра, её стоит продолжать. Объясним сразу, почему называем логические выкладки Вероники игрой. Да потому что она сама их так называла.
Приоткроем завесу, назовём вещи своими именами. У бедной Вероники на старости лет появилась тайна, которой она очень стеснялась – неодолимое стремление украсть. Люди называют это клептоманией. Вероника была умна, добра и самокритична. Она поняла, что это болезнь. Прочитанные по данному вопросу книги подсказали, что главное в болезни – не воровство, а ощущение опасности. И она стала придумывать себе опасность повсеместно. И в Верхний Стан она полетела на крыльях за опасностью. А то бросила бы она собаку, цветы и Желткова ради призрачных деревенских красот… Как бы не так!
Именно поддерживая правила игры, Вероника на следующий день пошла на угор убедиться, что её обыск во времянке остался незамеченным. Мало ли… В окно могли увидеть, а теперь спросят – что это вы делали в моей комнате? А она скажет: «Я вчера вечером забыла у вас на крылечке детектив… Дверь была не заперта…» Ну и так далее.
Но на угоре было пусто – ни рабочих, ни художников – все ушли купаться. Анна Скирдница гордо обозревала глиняными очами-блюдцами далёкие окрестности. Про фигуру Скирдницы не скажешь – красиво, но впечатляет. Другое дело кони, бежавшие вниз по склону. В них был истинно народный, с дымковской игрушки скопированный абрис. Увидев лошадей первый раз, Вероника спросила Флора:
– Как вы не боитесь ставить их на угор? Ветер может просто сдуть ваших коняшек. Ведь они такие лёгкие!
Флор ответил – вовсе нет! Ещё он сказал – если ураган, то конечно. Но ураган и дома сносит, а их фигуры – и лошади, и бабы, и, конечно, Анна Скирдница – сделаны с использованием тяжёлой основы. Иногда это дерево – бревно или поленце, иногда мешок с камнями. Когда делали ноги лошадям, то солому наматывали на деревянные палки, которые были заострены на конце, так что весёлых лошадок накалывали на склон, как бабочек в гербарии.
Ребячество, конечно, но Веронике стукнуло в голову проверить слова Флора. Оглянувшись по сторонам, не наблюдает ли за ней кто-нибудь (жест, который с недавних времён стал привычным), она обхватила крайнюю лошадку за тулово и слегка приподняла. Острые копытца без усилия вышли из земли. Так же аккуратно она поставила жеребёночка на место. Смешной, хвост, как опахало. И у этого хвост веером, а выражение мордочки другое, этот конь явно глуповат. Она поднималась по склону, рассматривая соломенную конницу. А эта лошадка явно девица. Хвост её заплетен в косу, и животик явно выпирает, как у беременной. Она рассмеялась и дёрнула за соломенную косу. И оторвала. Надо же, так легко дёрнула, а хвост вылез из своего гнезда.
Вероника обругала себя последними словами. Ненормальная, честное слово! Устроить конское побоище! Нехорошо, если Флор что-нибудь заметит. Интересно, как хвост крепится к тулову? В основании хвоста – сплетённая петля, значит, внутри жеребёнка есть какой-нибудь крючок. Нервно смеясь, она засунула руку в лошадиный круп. Похоже, в качестве основы для этой коняшки использовали камни. А вот он – крючок! Она потянула его на себя, крючок без малейших усилий вылез из жеребёнка наружу, и Вероника увидела, что на её указательном пальце висит пистолет.
Надо иметь железные нервы, чтобы не заорать при такой находке. Вероника и заорала. Она сбросила пистолет с пальца, как ядовитого жука, попятилась от него, споткнулась и плотно с размаху уселась на землю. Это была уже не игра. Пистолет – это реальность и адреналин разливанный. Выброшенный в избытке адреналин и подсказал ей правильное решение: надо сматываться, и как можно быстрее.
Она схватила пистолет, – тяжёленький и, надо сознаться, красивый – рукоятка с пластмассовой сетчатой накладкой, в центре рукоятки звезда в круге. Она никогда не держала пистолет в руках, и здесь с трудом сдержалась от желания нажать на курок. Но хватит на сегодня глупостей. Вероника аккуратно опустила оружие в сумку, та сразу перекосилась от тяжести опасного предмета. На плече сумку нести нельзя, это ясно. Люди по очертаниям предмета могут догадаться, что она несёт.
Но это не главное, сумку можно домой и под мышкой принести, главное, чтоб убийца ничего не заметил. Что именно убийца спрятал в лошади пистолет, она не сомневалась. Вероника распустила косу веером и кое-как, букетом, засунула её в конскую задницу. Пусть теперь поищет своё оружие в соломенном табуне!
Вернувшись домой, она позвонила в Москву секретарше Инне, с которой Маша вчера беседовала. Секретарша сообщила телефон сыщика, который занимался Лёвушкиным делом, и в десять часов вечера Василий Данилович Никсов уже сидел на кухне в деревенском доме и пил с Вероникой чай.
31
На этот раз Зыкин дурака не валял, а тут же нашёл машину, чтобы ехать в Верхний Стан. Сыщик московский соизволил явиться на место преступления! Гусь! По телефону он, вишь, беседовать будет. Ладно, потолкуем, глядя глаза в глаза. Посмотрим, много ли он там накопал – в столицах. Встречи с Никсовым Зыкин не боялся, он был ей даже рад, потому что у него на руках реальные результаты. А что там сыщик нашел – это ещё надо посмотреть.
В доме Шелихова он ожидал чего угодно, но то, что перед ним выложат на кухонный стол пистолет, было полнейшей неожиданностью. Зависть – проклятая штука! Так и царапнула по нервам, как нож по стеклу.
– Где нашли? – резко спросил он Никсова.
Но сыщику не нужны были чужие лавры.
– Пистолет нашла Вероника Викторовна. Случайно.
Зыкин воззрился на пожилую даму в немом изумлении, а потом только и нашёлся, что буркнуть:
– Что значит – случайно?
Вероника опустила рассказ о том, как искала «разумные улики» в комнатёнках художников, а начала сразу с угора. Рассказывала она очень живо, но в ногах всё время путалась трагическая фраза: «И в этот момент я почувствовала…» Никак не удавалось поставить точку. Никсов спас положение, перебив рассказчицу вопросом:
– Я не понимаю: почему он спрятал пистолет таким экзотическим способом?
Вот здесь уже Зыкин мог распустить хвост:
– А куда его спрятать? Никакой экзотики! В городе просто – в реку кинул, и все дела. Здесь же бросать пистолет в реку крайне рискованно. Я в прошлом году блесну упустил – финскую, дорогую. И что вы думаете? Нашли! Здесь ведь люди промышляют на реке, сети ставят, хоть это и противозаконно, а дачники с масками плавают.
– Можно и не в реке. Можно пойти в лес и закопать.
– Ага… пойдёшь в лес с лопатой, а каждый в окне подумает – куда это он пошёл? Что это он собирается прятать? Или клад нашёл? Я согласен, что и это место, в соломенном коне, ненадёжно, но, видно, он торопился очень.
Вероника слушала мужчин с уважительным видом, в нужных местах кивала, а потом не выдержала:
– Я другого не понимаю. Зачем он вообще спрятал пистолет? Или думал, что он ему больше не понадобится?
Опер взял в руки оружие, осмотрел. Отпечатков пальцев полно, но скорей всего принадлежат они Веронике. Наконец изрёк:
– Лопух он, этот убийца.
– Почему?
– Сейчас объясню. Это – «ТТ». Со времён Великой Отечественной войны – самый распространённый пистолет. А также любимое оружие киллеров, – видно было, что оперу неприятно давать пояснения такого сорта какой-то бабке из Москвы – не её ума это дело, – но если старушенции так повезло, что она пистолет нашла, приходится жертвовать своим мужским достоинством.
Никсов к проблемам пола и возраста относился проще. Видимо, он не видел никакого ущерба для себя в разговоре с Вероникой, а потому сказал вполне доброжелательно:
– Если это тот самый пистолет, из которого стреляли в Льва Леонидовича, то могу поделиться его историей.
– Ишь ты, – проворчал Зыкин. – Докопались, значит. Да если б у меня гильза была, я бы ещё не до того докопался.
Мужчина обменялись быстрыми взглядами. Никсов безмолвно заметил: «Пить надо меньше, оперуполномоченный. Тогда и поспел бы к месту преступления». А Зыкин так же безмолвно отвечал: «А тебе какое дело, хлыщ московский!..» (дальше непереводимая игра слов).
– Мальчики, перестаньте препираться! Почему убийца не мог больше воспользоваться пистолетом?
Слово опять взял Зыкин:
– Самый распространённый недостаток «ТТ» в том, что на третьем или на четвёртом выстреле пуля может застрять в затворной раме. Поэтому этот пистолет и снят с производства.
Дальше руки опера произвели изящное, быстрое движение: вначале он вынул обойму, потом снял верхнюю раму, из-за чего обнажилась белая пружина, безобидная, как в безмене.
– Диагноз точен, – сказал Зыкин, красуясь перед Вероникой. – Пуля застряла в затворной раме, и пистолет дал осечку. Хозяин пистолета – непрофессионал. Может быть, он даже в армии не служил, если у него не хватило ума разобрать пистолет.
Вероника смотрела на оружие заворожённо. Опер высыпал перед ней пули – семь штук. Они разлеглись веером – тяжёленькие, на каждой аккуратный алый ободок, не пластмасса дешёвая, а подлинное, вечное! Вероника и не подозревала в себе такого подобострастного уважения к оружию. Пули были нарядными и харизматическими, как чётки. Их так и тянуло перебирать.
– Может, расскажете о ваших успехах в Москве? – спросил опер Никсова – неторопливо, с достоинством. – Что вам удалось выяснить?
– Со временем я расскажу вам об этом во всех подробностях, а сейчас я связан служебной тайной. К счастью, мне удалось доказать, что подозреваемый невиновен.
– Стоило из-за этого заниматься сыском! – усмехнулся Зыкин. – И кто же его подозревал, этого самого – невиновного?
– Клиент. То есть Лев Леонидович. Я должен был отработать все версии. Но не об этом сейчас нужно говорить, Валера, – добавил Никсов примирительно. – Нам вот что нужно понять. Веронике Викторовне удалось заглянуть внутрь событий. Насколько я понимаю, она перевернула всё с ног на голову. Мы искали совсем не то и не там.
– Я не знаю, что вы искали и где, – Зыкин постарался впрыснуть в свои слова всё скопившееся ехидство, – но я уже нашёл. Осталось только руку протянуть и схватить убийцу за шиворот. Да и улик следует поднабрать, чтобы он ни от чего отпереться не смог.
– Поздравляю. Вы знаете имя убийцы?
– Об имени разговор пойдёт дальше. Пока это только догадка. Самое главное – нет мотива преступления. Эти Флоровы помощники мне сразу были подозрительны. Один говорит – у меня паспорт на прописке в Москве, вот, мол, членский билет союза. А у второго вообще никакой бумаги. Мои документы, говорит, в ОВИРе, я себе заграничный паспорт оформляю. За тем, де, и в Москву ездил. А я точно установил – врёт! Он к Соньке-медичке на велосипеде ездит. Любовь у них. Для всех он в Москву уехал, а он тут, рядом. Сделает в Стане чёрное дело и бегом на реку. А на той стороне в кустах – велосипед. Правда, ночью на велосипеде трудно ехать по узкой лесной тропочке.
– Нашли кому сочувствовать, – Вероника оторвалась от игры с пулями.
– Одного не могу понять – зачем ему всё это надо? Шульгина убил, в господина Шелихова стрелял. Можно предположить, что его наняли. Но таких лопухов в киллеры не берут!
– Сколько пуль в «ТТ»? – спросила вдруг Вероника.
– Восемь, а что?
– Можно я на курок нажму?
Она щёлкнула курком, вслушалась, потом опять щёлкнула…
– Я поняла, где у него произошла осечка. Я помню этот звук. В прищепках ведь тоже есть пружина.
Зыкин обиженно вернул патроны в обойму, собрал пистолет. Вот и показывай старухам боевое оружие. Плетут невесть что!
– Он спрятал пистолет за негодностью, но не оставил своей затеи, – продолжала Вероника, обращаясь к Никсову. – Я вам говорила, он подпилил бревно в свинарнике. Если бы кот не вырвался наружу сам, а Маша не упала раньше времени, подпиленное бревно ударило бы ей прямо по лбу – верная смерть!
Зыкин смотрел на Веронику, как на сумасшедшую.
– И сейчас он попробует ещё раз. Благо у него свой человек в больнице… Вставайте! – уже кричала Вероника. – Мы должны немедленно ехать спасать Машу! – и, повернувшись к Зыкину, глядя в его чистые удивлённые глаза, она проорала на той же ноте: – Что вы на меня уставились? Неужели вы до сих пор не поняли, что вся эта охота велась на Машу, а ваш олигарх, над которым вы все здесь трясётесь – пятая нога у коровы, и не более того?
32
Он ненавидел эту женщину. Она отняла у него детство, отрочество, юность, счастье, надежду – она отняла у него отца. Правда, надо сознаться, что образ конкретного отца в сознании был мутен. Он его совершенно не помнил, и если бы не мать, вообще бы без него обошёлся. Но мать, добросовестная жрица на алтаре разрушенной семьи, создала миф и на протяжении всей жизни украшала его всё новыми и новыми подробностями.
Уже став взрослым, он заподозрил, что картины раннего детства, разукрашенные присутствием отца, были чистым сочинительством, наивным пересказом деталей, подсмотренных на телеэкране. Вот отец – большой и прекрасный – берёт ребёнка на руки, подбрасывает высоко к потолку и ловит его сильными руками, оба хохочут. Или – отец сажает его перед собой на мотоцикл, и они мчатся по лесной дороге, в глазах – счастье. Где он – мотоцикл? У них с матерью сроду не было никакого мотоцикла. Или – они вдвоём, отец и сын, взявшись за руки, бредут по кромке моря и беседуют о чём-то важном. О чём они могли беседовать, если отец бросил сына, когда тому было два года?
Мифический отец не имел ничего общего с узкоплечим и, кажется, застенчивым человеком, чей образ предъявляли старые чёрно-белые фотографии. Таким он его и любил. Да что говорить, человеку трудно без отца и в два года, и в тридцать два.
Он рос болезненным, впечатлительным и скрытным мальчиком. Мать вынуждена была в неполных три года отдать его в детский сад. Но ходил он туда редко – то ветрянка, то корь, а уж простудам вообще не было счёта. Мать не знала, что сын тайком ест снег – даже летом его можно найти в холодильнике. Пусть болит горло, главное – не ходить в детский сад. Туда за всеми детьми приходит отцы, и только он – второсортный, безотцовщина. Это было неправдой, почти треть детсадовских детей имела ополовиненные семьи, но, видно, другие дети так подробно не всматриваются в жизнь.
Отец оформил алименты, как и полагалось по советским законам. Смехотворная сумма больше раздражала мать, чем радовала. Но через два года и этот ручеёк пресёкся. Мать была совершенно искренне уверена, что «та женщина» свела отца в могилу. Как? Много есть вариантов, – например, отравила. Со временем мать совершенно поверила в свою придумку и иногда искренне горевала, что не поехала своевременно в Москву, чтобы «вывести Марью на чистую воду».
– Мама, зачем ей убивать отца?
У неё на всё был ответ:
– Чтоб драгоценности присвоить.
Ведь это только так считалось, что отец «оставил им всё». А что такое это «всё»? Жалкая квартира с дешёвыми обоями, поломанной мебелью, разбитой раковиной в ванне и куском пыльного ковра. Так прямо ножницами и отрезали половинку! Другая, наверное, и по сей день в военкомате лежит. Все эти вещи – пыль, прах, а семейные украшения с драгоценными камнями были реальной ценностью.
Ему было наплевать на эти драгоценности, они тоже казались ему придумкой, но была, была некая реальность в материнском мифотворчестве. В любое время он мог поехать на окраину города и убедиться – вот он, стоит! Этой реальностью был дом, в котором отец родился. Он был построен семьёй Крауклис в конце девятнадцатого века. За строгий стиль и нездешнее изящество дом и по сию пору зовут «Лондон».
Дом изуродовали, конечно. Советы умели это делать, не прилагая никаких усилий. Но густой плющ по фасаду и круглое окно на лестничной площадке второго этажа казались подлинными. Окно было украшено волнистым голубоватым витражом, в косом росчерке которого угадывалась летящая чайка.
Отец родился в комнате на первом этаже, куда можно было попасть только с чёрного хода. Вся прочая площадь принадлежала конторе по сбыту. Это учреждение худо-бедно терпело старых домовладельцев, но когда дом превратился в военкомат, Крауклисов выселили без зазрения совести, предоставив им квартиру в новом районе.
Но он знал из рассказов матери, а она в свою очередь от отца, весь внутренний ландшафт «Лондона», и Эрик, засыпая, часто мысленно бродил по своему «родовому замку». Начинал он всегда с кухни. Садился за стол, крытый синей клетчатой скатертью, и начинал осмотр: медная посуда, связки синего лука и пучки сухих пахучих трав на стенах, на полках фаянсовые пузатые банки, на которых немецким готическим шрифтом написаны названия круп. Оглядев кухню (каждый раз он находил в ней новые детали!), поднимался на второй этаж, проходил мимо круглого окна с чайкой и попадал в столовую. Здесь – камин с синим кафелем (на нём сцены охоты) и резные дубовые буфеты. Вдоль стола – шеренги стульев с высокими резными спинками, украшенными сверху шишками ананаса. Один из таких стульев и сейчас в их обиходе, но как он жалок – весь рассохся и шишка давно отлетела. Кабинет… сюда обязательно надо заглянуть. Золотые корешки книг блестят в темноте, как оклады русских икон. А на полу лежит их ковёр, только целый, не разрезанный, краски его ярки и ворс не стёрся.
У матери в отношении потерянной собственности не было никаких романтических воспоминаний. Просто жалко было, что Крауклисы ничего не сохранили. У иных и по сию пору на взморье собственные особнячки – скромные, прибранные, с газонами и розами, а у них – всё прахом. Огромная ферма (на неё, кстати, и документы целы!) сгорела в войну, земля ушла в колхоз, а городской дом отобрали, потому что слишком хорош был. Хорошо ещё, не дознались, что дядя Улдиса в войну был легионером и сражался на стороне немцев. Погиб, наверное, если от него никаких вестей.
И, кажется, чем далёкая Марья была виновата в бедах не только малеькой семьи, но всего клана Крауклисов? Но она была русской, и этим всё было сказано. Во время длинного бракоразводного процесса, когда отец мотался между Москвой и Ригой, мать узнала и адрес разлучницы, и где работает, с кем дружит и какая родня в наличии. Мать даже раздобыла ключ от её московской квартиры – вынуть связку из кармана неверного мужа и заказать дубликаты – это ли проблема?
Он с детства хорошо рисовал, а потому учиться поехал в Москву в училище имени «1905 года» и успешно его окончил. Его привязанностью и любовью стали, как ни странно, не рисунок и не живопись, а мелкая пластика. Говорили, что у него золотые руки.
В революционные годы перестройки, когда Латвия боролась за самостоятельность, он оставался в Москве, потому что был влюблён. Женился, прожили вместе – неважно сколько – мало, – потом развелись. В результате развода он стал обладателем комнаты в коммуналке на Пресне.
Мать звала домой. Когда он приехал в Ригу, то очутился совсем в другом государстве. Латыши обрели самостоятельность, народ ликовал! Те, с которыми сосуществовали многие годы, теперь назывались оккупантами. Мать уговаривала навсегда бросить постылую Москву и остаться жить на земле предков. Пока он размышлял – в России работа, друзья, какое-никакое, но жильё – мать оформила ему второе гражданство. Она очень повеселела, мир уже не казался ей столь враждебным. Но в одном всё осталось без изменений – ненависть к далёкой Марье. Она тоже была оккупанткой.
Ненависть матери подкрепилась общим настроением. Народ стал поговаривать, что скоро будут возвращать незаконно отчуждённую Советами собственность – будь то земля, или ферма, или дом. Только тут она выяснила, что покойный муж, кроме семейных драгоценностей, увёз в Россию документы на «Лондон».
– Не понимаю, зачем они ему в Москве? Неужели только для того, чтоб досадить мне?
Эрик понимал. Видимо, у отца тоже было особое отношение к «Лондону». Бумаги на дом были последним вещественным доказательством его присутствия в комнате с чёрным ходом. Они помогали отцу мечтать и разгуливать по тому же маршруту – от кухни до кабинета.
– Ты должен пойти к Марье и потребовать у неё бумаги. Когда ты едешь в Москву? Пойди к ней и объясни всё как есть. Она чудовище, я понимаю, но бумаги на дом не имеют для неё никакой цены. По-хорошему, мы имеем право и на драгоценности, но она их не отдаст… Но бумаги…
И так по кругу. Матери казалось, что она многие годы прожила, забыв пароль, эдакий «сезам, откройся», а сейчас вспомнила, и поэтому обрела власть над событиями.
И всё-таки она его уговорила. Приехав в Москву, Эрик попёрся, как дурак, по известному адресу. Он не представлял, как будет разговаривать с этой женщиной. Может быть, он вообще не скажет ни слова. Главным было – посмотреть на неё – ненавистную и притягательную одновременно. Но затея сорвалась: на его звонок в дверь никто не вышел.
Спускаясь по лестнице вниз, он столкнулся с плотной краснощёкой особой с потной шеей. Она, задыхаясь, несла сумку, полную овощей, и разговаривала сама с собой: «Я ему дала семьдесят тысяч… а он мне… нет, не так надо считать». Не поднимая глаз на Эрика, она обтекла его, обдала жарким духом и полезла дальше вверх. Дойдя до двери, той самой, в которую он только что звонил, она поставила сумку на пол и стала орудовать ключом, опять что-то бормоча под нос.
Мать называла её обольстительницей, разлучницей, и воображение рисовало что-то элегантное, роковое, с египетскими длинными глазами и гибким телом. Время меняет облик, но не настолько же! Даже мать – а она уже была больна (тогда они ещё не знали, что у неё рак) – выглядела гораздо моложе и привлекательнее. И ради этого чудовища – нелепого, старого и сумасшедшего – отец изуродовал всем жизнь? Уже не ненависть, а брезгливость перехватила дыхание. Он, топоча по лестнице, рванул вниз.
Мать сгорела быстрее, чем предсказывали врачи. Она знала, что умирает. Её предсмертным желанием, а если хотите, навязчивой идеей, было: «Ты должен любым способом вернуть собственность семьи Крауклис – дом и ферму. От фермы остался один сарай – пусть он станет твоим. К сараю тоже полагается земля. А дом стоит бесхозный. Советский военкомат ликвидировали. Я узнавала. Нужны только документы, а там хороший адвокат поможет доказать твои права».
С адвокатом он встретился спустя несколько месяцев после смерти матери. Полгода – такой срок он назначил себе в знак траура. Видимо, он был всё-таки больше похож на отца, чем на мать. Она умела говорить: «Немедленно!» – и делала это, а образ отца – сильный, большой человек – подразумевал в себе некоторую неторопливость.
Встреча с адвокатом не обнадёжила.
– Покажите документы… Ага… это ферма. А дом?.. По какому он, говорите, адресу?
– Документов на дом у меня пока нет. Но будут. А сейчас я хотел прояснить для себя этот вопрос. Так сказать, принципиально.
– А что тут решать? Имея на руках необходимые бумаги, я смогу доказать в судебном порядке наличие наследственной массы. Но ведь ваш отец был женат. Супруга его жива?
– Насколько мне известно – да, и умирать не собирается.
– Должен вам заметить, что его супруга вашего батюшки, также как и вы, является наследницей. Причём она получает большую часть.
– Дома?
– Всей наследственной массы. Как вы будете с ней всё делить?
– Речь идёт не о ней, а обо мне. Я ношу фамилию матери, но легко доказать, что мой отец – Улдис Крауклис. Да, у него была жена, но она русская, она живет в Москве и является подданной другого государства. Я думаю, судейские будут на моей стороне.
– Сейчас не время об этом говорить, – сказал адвокат. – Если бы вы полгода назад ко мне обратились, тогда другое дело.
– А сейчас чем плохо?
– Тем, что умники в Брюсселе рассматривают так называемое нарушение прав русскоязычных в Латвии, и если европейский суд примет решение в пользу потерпевших, то Латвия будет обвинена в нарушении прав человека. А нам это надо?
– Нам это не надо, – повторил с той же интонацией Эрик.
– Вы понимаете, в чём тонкость вопроса? Сейчас в Риге не захотят ответить московской наследнице отказом. Она одинока?
– Насколько мне известно – да. Детей и близких родственников у неё нет.
– Вот если бы она умерла, тогда другое дело. Тогда бы всё решилось само собой.
Адвокат не имел в виду ничего предосудительного. Он просто приводил пример из своей практики. Но Эрик понял его буквально. Адвокат дал совет, и он им воспользовался. Теперь осталось только детально продумать план и осуществить его.
33
Первое, что пришло в голову – нанять киллера. Но Эрик был беден. Все сбережения ушли на похороны матери. Ведь это сейчас стоит безумных денег – похоронить человека. А убить – ещё дороже. Были мысли продать что-нибудь из старинной материнской мебели, но все эти комоды-столики пребывали в таком состоянии, что их пришлось бы спустить за бесценок. А чем потом обставлять «Лондон»? Нет, деньги надо искать в Москве.
В казино Эрик и раньше захаживал. Ещё в студенчестве он неплохо играл в покер и преферанс, и в смутные времена решил обновить старую привычку. Играл он по маленькой, но, странное дело, выходило баш на баш. Только выиграет приличную сумму – через три дня так же незаметно её и спустит.
В казино понимаешь, что Москва не такой уж большой город. Здесь он их всех увидел: и благодушного балагура с цепким взглядом – Льва Шелихова, и его замороженную Инну, словно взятую напрокат из музея восковых фигур. Но это было потом, когда он всё про них узнал. Главное, в казино нашёлся человек, согласный выполнить роль киллера. Он-то Эрику Инну и показал: вот, мол, неверная жена со своим хахалем. Прикончил бы его своими руками. Да пока резона нет. В том, что Андрей хоть и косвенно, но имеет отношение к Марье, Эрику виделся особый завиток, эдакий шикарный и насмешливый росчерк судьбы. Мол, все вы, негодяи, одним миром мазаны.
На вид Андрей Шульгин был вполне надёжным человеком. Но жадным. Может Эрик и не прав, считая, что Андрея жаба душит. В конце концов, киллерствовать – не самая лёгкая профессия. Просто у Эрика не было таких денег. Шульгин запросил вначале две, потом снизил сумму до полутора тысяч баксов, а дальше упёрся, как бык. Эрик решил на нём не зацикливаться. Мало ли, может, он кого-нибудь подешевле найдёт.
Но прежде чем искать киллера, необходимо было добыть документы на дом – свидетельство на право собственности семьи Крауклис. Если он их не достанет (Марья могла выбросить документы за полной ненадобностью, могла их сжечь), всё остальное – полная бессмыслица. Если он не найдёт старинного свидетельства, то Марья Шелихова, как это ни прискорбно, имеет право жить дальше.
Перед отъездом в Москву он хорошо подготовился. Старые материнские записки (когда-то она писала жалобы и в местком, и в партком по месту работы разлучницы) утверждали, что заведующего отделом, в котором Марья проработала всю жизнь, звали Натан Григорьевич. От его имени он и решил говорить. Марья вначале не поймёт, кто ей звонит, а он и напомнит: «Как же так, Машенька… Нехорошо забывать старых друзей…» Марья скажет, что не узнаёт его голос, а он, как волк из сказки, объяснит, что перенёс операцию на гортань. Слово за слово, и он выведает планы Марьи на лето.
Но к телефону подошла не Марья, а её жилица Галя – очень разговорчивая особа. Эффект с Натаном Григорьевичем сработал как нельзя лучше. Текст по ходу дела был подредактирован: «Старые сослуживцы… та-та-та… решили собраться… А где Машенька?»
А вот где – на реке Угре в Калужской области, в замечательной деревне под названием Верхний Стан. И далее полный набор сведений о племяннике Лёвушке.
– А когда Марья Ивановна будет в Москве?
– Этого я не могу вам сказать. Есть надежда, что она приедет летом, в июле, когда я сама уеду в отпуск. Но точно ничего утверждать не могу.
– А вы куда уезжаете?
– В Крым. У меня путёвка с десятого июля.
Могло ли прийти ему в голову, что дотошная бухгалтерша Галя не только не выкинет из головы имя неведомого Натана Григорьевича, но даже внесёт его в книгу, чтобы потом её сообщение, как недостающий пазл, легло в общую картину бытия, которую вознамерится составлять Вероника?
Знать, где падать – соломки бы подстелил. Эрик повесил трубку с ощущением, что попал не в двух зайцев, а в трёх. Да что там в трёх! Он в стадо зайцев пальнул дробью и всех уложил наповал. О такой удаче он не мог и мечтать.
Про деревню Верхний Стан Эрик уже слышал от приятелей-художников. Там Флор Журавский творил своё крестьянское, экологически чистое концептуальное пространство, – словом, какую-то хрень. Говорили, что он зовёт братьев по цеху потрудиться во славу некоммерческого искусства. Заработок – минимальный, но зато – жильё, еда и чистый воздух в избытке.
Возможность находиться рядом с Марьей и самому наблюдать за её поступками взволновала и обрадовала Эрика. Ему казалось, что судьба – неприветливая дама в сером хитоне – сама протягивает ему руку, чтобы вытащить из болота неопределённости. Ты, дескать, держись покрепче, а я помогу. Игната он знал ещё по училищу, он Эрика и порекомендовал Журавскому.
В деревне он видел Марью только издали. Она уже не казалась столь безобразной и ужасной, как при первой встрече на лестничной площадке, и даже брезгливости к ней он не испытывал. Взамен прежним страстям пришло спокойное, отстранённое чувство – эта старуха уже отжила своё, скоро она уйдёт из жизни, и переживать по этому поводу не стоит.
Жизнь в Верхнем Стане была интересной, но опасность подловила Эрика с неожиданной стороны: аллергия замучила. И попробуй объясни людям, чего ради ты здесь торчишь, если у тебя сенная лихорадка. Но оказалось, что у Игната от тесного общения с соломой обострился псориаз. Если напарник с такой болезнью страдает во имя искусства, то Эрику сам Бог велел. Оба художника были у деревенских вечным предметом шуток, но подозрения не вызывали.
Приходилось то и дело таскаться в Кашино в поликлинику. Здесь Эрик и познакомился с милейшей женщиной – медсестрой Соней. Вернее сказать – она сама с ним познакомилась и поняла, что этот мужчина ей подходит.
Сославшись на болезнь, Эрик поехал в середине июля в Москву. Он уже точно знал, что квартира Марьи стоит бесхозной. Пресловутая Галя отбыла в отпуск. Значит, он сможет проникнуть туда и выкрасть документы на «Лондон».
Операция с выемкой документов прошла блестяще. Удивительное это существо – Марья Ивановна! За двадцать лет не удосужиться поменять замок! Дубликат с отцовского ключа сработал безотказно. Эрик знал, что в квартире ему можно не торопиться. Ему не хотелось, чтобы следы его пребывания в доме были заметны, поэтому поиск вёлся предельно аккуратно.
Через три часа работы он нашёл чёрный пакет из-под фотографий. Найдя «Свидетельство на право собственности», он разволновался. Ну, вот всё и решено! Ведя обыск, он обнаружил в книгах доллары. Пока не нашёл документов, ему и в голову не приходило взять их. Он не вор! Но став обладателем чёрного пакета с ценной начинкой, Эрик со всей очевидностью понял, что просто обязан взять эти деньги. Они пойдут на дело! Маловато для киллера, но четыреста баксов у него на это дело уже было накоплено.
И тут ему в первый раз пришла в голову мысль: а зачем ему, собственно, киллер, если он всё сможет сделать сам? Марья находится в пределах досягаемости, деревня – не город, где все сидят под замком, а вечерами на улицы не выходят. Спустить курок – невелика работа. А шестьсот баксов – эта как раз та сумма, за которую ему предлагали пистолет. Месяц назад он его не взял, денег не было. А теперь есть!
В этот же день он позвонил по некому номеру. Цена на «Макаров» оставалась прежней. Товар обещали достать через неделю. И чёрт его дёрнул заглянуть вечером в казино! Там он на Шульгина и напоролся. Оказалось, что тот помнит про старый заказ и готов хоть завтра пристрелить любого – только укажи. Ах, как жалел в эту минуту Эрик, что назвал в своё время Шульгину фамилию жертвы!
– Что ты всё – нет да нет? – накатывал Шульгин. – Говорю, я согласен скостить цену. У меня будет дельце в тех краях, где ты сейчас живёшь.
– Откуда ты знаешь, где я живу? – вознегодовал Эрик.
– Да вот уж знаю. Так что жди. Скоро встретимся.
Из казино Эрик с позором бежал. И надо же тому случиться, что этот Андрей Шульгин действительно пожаловал в Верхний Стан. Где он там остановился – неизвестно, но вечером отловил Эрика на реке и, испуганно озираясь, сказал, что им надо встретиться и поговорить.
– Не о чем нам говорить.
– Есть о чём. Часов в двенадцать с копейками жду тебя у входа в церковь.
– Я вообще сегодня уезжаю в Москву, – Эрик действительно должен был ехать за обещанным пистолетом.
– Очень хорошо. Поезжай, куда хочешь, только предварительно обсудим одно дельце. Не придёшь – тебе же хуже. Я на тебя управу найду!
Это была та самая грозовая ночь с пятницы на субботу. Эрик ещё накануне объявил Флору, что должен на пару дней смотаться в столицу. Тот не возражал. В конце концов, и художники имеют право на воскресный отдых. Флор даже предложил Эрику подвезти его до кашинского автобуса, но тот отказался. Он благополучно дойдёт до шоссе, а там проголосует.
Но Эрик не пошёл на шоссе. Угроза Шульгина не давала ему покоя. Он решил, что разговора не избежать. В Москву можно поехать и завтра, а сегодня он переночует у Сонечки. На другом берегу реки в кустах у него хранился велосипед. Соня сама дала ему его для ночных поездок.
Сидя на кладбище на лавочке в ожидании Шульгина, Эрик издали видел, как подъехал к банному дому джип. Спустя некоторое время к бане подрулила ещё одна иномарка. Ещё сколько-то там натикало, и Эрик услышал голоса. Он обошёл церковь и увидел, что Андрей разговаривает с какой-то женщиной. Подошёл поближе – Инна. Кажется, она плакала. Эрик спрятался за угол, а когда выглянул – ни Инны, ни Андрея. Странная способность была у человека. Он исчезал внезапно, словно растворялся в темноте. Меж тем банный дом ожил, все окна его празднично сияли, как у теплохода на реке.
А погода портилась на глазах. Откуда-то взялся ветер, и уже забарабанили по листьям первые капли. Послать бы этого Андрея к чёрту, тем более что в назначенный срок его у церкви не оказалось.
Андрей появился, когда гроза была в полном разгаре, и начал разговор с того самого места, на котором кончил его в казино. Общая мысль была такой: «Я убью старушенцию, о которой было говорено, и даже возьму за это меньшую плату, но деньги за работу я должен получить сегодня же. А если ты, вонючка, отказываешься от моих условий, то я заявлю о твоих намерениях куда следует. Себя не пожалею, а тебя в тюрьму упеку!»
– Я всё разузнал, старуха в доме одна, спит на первом этаже. Все в бане. И художники твои там моются. У них там дым коромыслом! Никто ничего не заметит. Сделаю всё в самом чистом виде. Только вначале деньги мне отдашь.
– У меня их нет.
– А мы сейчас за ними сходим. Ты ведь из тех, которые тайники любят. Я правильно понимаю?
Он был под хмельком. Не скажешь – пьян, у Андрея бы хватило ума не идти на дело в подпитии, но граммов пятьдесят-сто для храбрости всё-таки принял. И главное, он был ужасно возбуждён, иначе никогда бы у Эрика не хватило сил и уменья трахнуть его в разгар драки железякой по голове. Шульгин отрубился сразу. Эрик не сразу принялся обыскивать поверженного врага. Вначале постоял рядом, привёл в порядок сердце – оно стучало как бешеное, – обдумал ситуацию. Если он его убил – а похоже на то, – лучше пусть труп будет безымянным. В одном кармане куртки у Шульгина были документы, деньги, ключи, носовой платок – полно барахла, а в другом – только пистолет. Эрик стащил с убитого куртку, туго её свернул и спрятал за пазуху. После этого подтащил Шульгина к пролому в стене и спихнул его вниз.
Эрик так никогда и не узнал, какие на самом деле планы бродили в голове у Андрея. Может быть, рассказывать об этих планах следовало в другом месте, подробно освещая запутанные отношения бандита Рулады и умного Льва Шелихова, но автор не уверен, что ему представится такая возможность. Поэтому скажем кратко: Рулада нанял Андрея, чтоб тот припугнул Лёвушку. Куда хочешь стреляй – в руку, в ногу, без разницы, но надо, чтоб сквалыга-банкир понял, что угроза не была пустой болтовнёй.
Шульгину Эрик позарез был нужен. В руку, в ногу, но всё равно выстрел. Каждый знает, что убийства, совершенные киллерами, никогда не раскрываются. Но вдруг на этот раз будет не так! Вдруг найдётся настырный опер, который ухватит верную нитку и примется разматывать клубок? До сердцевины они клубок не размотают, нитка порвётся как раз на нём – на Андрее Шульгине.
Вот тогда и можно будет пустить ментов по ложному следу. Если у этого хлюпика Эрика была необходимость пристрелить старушку, то у него вполне могли быть критические отношения и с её племянником Лёвушкой. Эрика во всём и обвинят. Вот такую себе придумал Шульгин подстраховку. А лишние деньги никому не помешают. Правда, дальнейшие события выглядели как бы в тумане, деталей не рассмотришь, но общая догадка дышала правдой.
34
Эрик выбежал из церкви; дождь стоял стеной. Он зачем-то бросился к реке, но встал столбом. Неожиданная мысль парализовала ноги. А мысль эта была: а почему не расправиться с Марьей немедленно? Оружие у него уже есть. Он пристрелит Марью, а пистолет потом бросит рядом с покойным Шульгиным. Надо только, как учат все учебники по криминалистике, собственные отпечатки стереть, а Андреевы пальцы – отпечатать. За этим дело не станет, времени у него более чем достаточно.
Он вернулся домой во времянку без опасения встретить там Игната, поскольку знал, что тот в бане. Надел дождевик, шляпу с полями, прихватил чёрный шарф, чтоб прикрыть нижнюю часть лица. От кого он собирался прятаться, Эрик не думал, не до того было. Он шёл на убийство и одевался так, как требовал кинематографический этикет. Пистолет он положил в карман. Никак не мог сообразить, куда деть куртку убитого с документами. Потом решил, что во времянке её никак нельзя оставлять, а потому вынес из дому и спрятал под ближайшим кустом.
Мысль о том, что он полчаса назад убил человека, его не волновала, но он ужасно трусил идти к Марье. Никакие рассуждения на тему «Кто я? Тварь дрожащая?» и так далее его не мучили. Он просто боялся, что застукают, поднимется гвалт, крик, ему придётся давать какие-то объяснения. Это казалось фальшивым и стыдным, как неприличный сон.
Дальше произошла глупейшая история. Мало того что кто-то явился в комнату и зажёг свет, так ещё этот оборотень, немыслимой величины кот, располосовал ему руку от локтя до запястья. Свет, к счастью, тут же погас. Эрик сам не помнил, как выбежал из дому. Удивительно, что в этом близком к истерике состоянии он не бросил по дороге пистолет. Более того, он с ходу нашёл куст, под которым спрятал куртку Андрея, и схоронил её уже на другом берегу реки под корнями сосны. В карман куртки он предварительно засунул пистолет – не нести же его в дом к лесничихе.
Велосипед в придорожной канаве – он обычно прикрывал его лапником – тоже нашёлся сразу. «Не нервничай! – приказывал он себе. – Ничего страшного не произошло. Этот псих Андрей сам виноват. В конце концов, ты только оборонялся. А относительно Марьи – имеется твёрдое алиби. Ты в Москве, с этим не поспоришь!»
Соня не удивилась, не задала лишних вопросов. С её точки зрения, четыре часа ночи – вполне подходящее время для визитов. Он же не в шахматы пришёл с ней играть. Однако рана на руке привела её в ужас:
– Кто тебя так? Рысь? Вроде в наших лесах их нет?
Эрик не нашёлся, что ответить. Промолчал многозначительно. Рану обработали йодом, потом какой-то мазью. Наутро у Эрика поднялась температура. Соня преданно ухаживала за ним целый день, а после обеда уехала на велосипеде на ночное дежурство. Соню не надо было предупреждать, чтобы она держала язык за зубами по поводу присутствия Эрика в доме лесничихи. Соня скрывала их роман даже от подруг.
С дежурства она вернулась в воскресенье с большим опозданием и ворохом новостей:
– У вас в Верхнем Стане двое амнистированных какого-то мужика пришили. Его сегодня в наш морг привезли. Говорят, он с церковной крыши сорвался и на металлический штырь напоролся.
– Какие ещё амнистированные? – не понял Эрик.
Соня с удовольствием рассказала всё, что знала по этому поводу. Загадочных убийств в их районе давно не случалось, так только, драки по пьяному делу, или мужик бабу до крови изобьёт. А здесь происшествие, как в столице.
– Ужас какой! – вполне искренне воскликнул Эрик. – Страшно из дому выходить.
– А ты и не выходи, – ласково заметила Соня.
– Нет. Пойду. Я давно должен в Москве быть. У меня там дела. Я только тебя хотел дождаться.
– Да куда же ты поедешь? На кашинский автобус ты уже опоздал. Где ты в воскресенье попутку найдешь?
Они долго перепирались, обсуждая, опоздает Эрик на последнюю калужскую электричку или нет. В конце концов он настоял на своём. Перед отъездом спросил, нет ли у Сони рубахи с длинными рукавами, а то с расцарапанной рукой на люди показаться стыдно. Нашлась рубаха, белая, мужнина.
Эрик не поехал в Москву. Он решил, что в Верхнем Стане сама собой сложилась весьма любопытная ситуация. Неизвестный труп… неведомые амнистированные… И если появится в деревне неизвестно кем убитая безобидная старуха, то и её смерть будут валить на чужаков. Можно будет пустить слух, что здесь орудует секта. Кому придёт в голову заподозрить в убийстве Эрика?
Пробираясь на велосипеде по сумеречному лесу – эту дорогу он уже наизусть знал – Эрик не обдумывал, когда и как произведёт роковой выстрел. Главное, взять пистолет из тайника, а там жизнь сама подскажет! И она подсказала. Вот они, все как на ладони сидят на террасе и пиво пьют. Одной Марье не сидится. Кажется, уселась на удобном месте, но опять встала и ушла в дом. Но у Эрика хватило терпения дождаться нужного момента. Марья появилась с подносом и стала, как вкопанная. Только какого чёрта эта ледяная Инна её заслоняет? Он тщательно прицелился. Пистолет сработал как надо, грохнул на всю вселенную. Последним, что Эрик слышал, покидая свой пост, был отчаянный вопль Марьи. Попал!
– Ну что? Опоздал на электричку? А ведь я тебя предупреждала! – отчитывала Соня Эрика, когда он опять поднял её в четыре часа ночи. – Экий ты неуёмный. Всё тебе больше всех надо!
– Зато я дозвонился до Москвы. Моё присутствие там в ближайшее время уже не понадобится, – сочинял на ходу Эрик оправдание.
Со стороны, когда пытаешься анализировать поступки Эрика, он представляется полным кретином. Что он мечется туда-сюда, как заяц, потерявший собственный след? В драке он оглушил Андрея, потом сбросил его с крыши. Но уж не такая в церкви большая высота, чтоб тот убился насмерть. А всё последующее поведение Эрик строил именно на том, что Шульгин мёртв. Ну ладно, в первый раз случай помог. Но с Марьей-то откуда такая уверенность? Выстрелить в человека и попасть вовсе не означает убить его. Он не профессионал, у него нет оптического прицела. Если у тебя два раза не получилось человека убить – отступись! Зачем надо было заманивать Марью в свинарник? Но у Эрика словно мозги заклинило. Он уже не думал, что по деревне ходят люди и всё примечают. Во всяком случае, когда он в воскресенье ночью переплывал в лодке реку, его точно видели, он даже голоса слышал. А когда кота ловил, за ним наблюдали близнецы. Ну и шут с ними, он тоже про их подвиги может порассказать.
Но про кота – это потом. Пока у нас понедельник, Эрик опять едет на велосипеде в сторону Верхнего Стана и размышляет – в лодке ли ему переправляться на тот берег или вплавь. Настроение у него отличное, это оно у него потом испортилось.
Добравшись вплавь до Стана и, узнав, какой «шухер» произвёл здесь его выстрел, он чуть не разрыдался от огорчения. Старая ведьма опять жива! И что ему теперь делать? Бежать в Москву он боялся. На тех, которые бегут, подозрение падает в первую очередь. Но и оставаться в Верхнем Стане было нельзя. Вдруг Марья его узнает, вдруг свяжет образ ночного гостя с едва знакомым художником? И тут же он уговаривал себя: «Вряд ли. Если бы узнала, то об этом бы уже знала вся деревня!» Одет он был, как на маскараде. Кроме того, он точно помнит, что Марья закрыла глаза, а потом свет вообще погас. По деревне шатается московский сыщик, со всеми он уже беседовал, а Эрика словно бы и не заметил. Значит, он вне подозрений.
Вероника была права, определив ночной звук в саду – словно прищепка щёлкнула – как осечку. Проклятый пистолет заклинило. Он понял, что пуля застряла в раме, но разбирать пистолет побоялся. Ну и прах с ним! Если надо будет, он ещё раз съездит в Москву и выкупит обещанный «Макаров». Он сунул пистолет в каменные внутренности лошади и успокоился. Когда обнаружат в соломе страшную находку, он будет уже далеко.
Зато какое удовольствие он испытал, отлавливая ненавистного кота. Я тебе ещё раз царапну руку, гад! Бедный Ворсик получил удар по голове и в авоську был засунут в бессознательном состоянии. Это он уже потом в свинарнике очухался и принялся блажить на весь свет. А конструкцию Эрик рассчитал вполне грамотно. Марья должна была дотянуться до авоськи и потянуть её на себя. Тогда балка ударила бы её точно по темечку, и старуха бы своих костей не собрала. А она упала раньше времени. Мерзкий кот (надо было покрепче сумку найти!) вырвался на волю и второй раз спас жизнь хозяйке.
35
Мы оставили наших героев на кудрявой фразе Вероники. С неё и начнем эту главу:
– Неужели вы до сих пор не поняли, что вся эта охота велась на Машу, а ваш олигарх, над которым вы все здесь трясётесь – пятая нога у коровы, и не более того? Поехали в больницу!
Эта словесная фигура повергла опера Зыкина в шок. Московская самоуверенная старуха, видите ли, больше всех понимает! Никуда он ехать не собирался, а наоборот – врос в стул и потребовал объяснений.
– Но Машина жизнь в опасности! – не унималась прыткая бабушка.
– Как я понимаю, в больнице в вашу подругу никто стрелять не будет, потому что не из чего. Правильно мыслю? Стало быть, по вашему размышлению, её будут травить. Так позвоните! Мобильником вы её наверняка снабдили.
Никсов нашёл это предложение разумным. Вероника вцепилась в телефонную трубку, как в волшебную палочку.
– Маша, ты? Мы сейчас за тобой приедем. И помни! Не принимай никаких лекарств, никаких уколов. Не задавай глупых вопросов. Это очень серьёзно, Маш! Он ненормальный, он не остановится.
– Вероника, о ком ты говоришь?
– Не кричи! Тебе нельзя волноваться! Я тебе потом всё расскажу.
– Кто – он? – возопила Марья Ивановна.
– Фигурант, – Вероника отключилась.
– Ничего не скажешь. Успокоили подругу, – хмыкнул Зыкин.
– О деле будем говорить или как? – парировала Вероника.
Наконец можно было приступить к рассказу. Никсов активно помогал. Выражение лица у опера было скептическое.
– Значит, вы утверждаете, что преступник стрелял не в господина Шелихова, а в его тётку?
– Да, утверждаю.
– Но ведь он почти в сердце попал. Фельдшер говорит, что всего на полсантиметра, а может и того меньше, промахнулся! И то потому, что у господина Шелихова сердце смещено! Очень меткий выстрел! А вы говорите, он в Марью Ивановну стрелял. Не бывает так!
– Но вы же сами говорили, что преступник – лопух!
– Мало ли чего я говорил!
По мере приближения к финалу Зыкин всё больше суровел, мрачнел, потом он вообще сунул карамельку в рот, отвернулся от рассказчицы и стал смотреть в окно. Его жгла обида. Столько всего знать и ничегошеньки не рассказать ему – главному по раскрытию преступления. Одно утешало – улыбчивый сыщик из столицы тоже ничего не понял и грёб совсем в другом направлении.
– Его надо брать, – твёрдо сказал Зыкин – Вы поезжайте в Кашино в больницу, а я пойду на угор. Там сейчас у художников работа в самом разгаре, убийца наверняка с ними.
– А ордер на арест у вас есть? – поинтересовалась Вероника. Ей тоже очень хотелось пойти на задержание. Такое она только по телевизору видела.
– Сейчас выпишу, – отозвался опер. – У вас найдётся чистый лист бумаги?
– Но ордер должен выписать прокурор, – деликатно подсказал Никсов.
– Ага… Где это я его найду? Он в отпуске. Прямых улик у меня маловато. Но пистолет нашли? Нашли. На нём отпечатки пальцев.
– На подозрении у нас двое. Так? – спросил Никсов.
– А вы руки на предмет царапин не проверяли? – поинтересовался Зыкин.
– Проверишь у них, – проворчала Вероника. – Один всегда в перчатках, другой в рубахе с длинными рукавами.
– Тогда обоих и возьму. На месте разберёмся.
– Противозаконно… – промямлил Никсов, складывая свои красивые губы в улыбку.
– А если убийца сбежит? Если уйдёт, как щука, на глубину? Вы мне дадите чистый лист бумаги или нет?
На составление ордера ушло ещё десять минут. Никсов давал бестолковые советы, старая курица смотрела через плечо и шептала в ухо: «В этом слове у вас орфографическая ошибка. Вы же ордер будете в дело подшивать. Это же неприлично – с ошибками». Только третий вариант всех удовлетворил.
Всё! Я пошёл на задержание, – к восхищению Вероники опер вынул из кармана наручники. – Жаль, только одна пара с собой. Но если что, Флор поможет.
– Я бы в таком деле рассчитывать на Флора не стал, – сказал Никсов. – Он за своих художников грудью встанет. Мы с вами пойдём.
На угоре Зыкин повёл себя как собака на гоне: трижды обежал навес, потом стал метаться среди соломенных фигур. Мужики плели из ивы декоративные изгороди. Опер через эти плетёнки перепрыгивал, словно на спортивной дистанции.
– Здравствуйте, Валера, – окликнул его Флор. – Кого вы ищете?
– Второго… Эрика вашего.
– Так он уехал.
– Куда? Когда?
– Меня здесь не было. Я в район ездил.
– А кто был?
– Я был, – борясь с одышкой, подошёл Сидоров-Сикорский. – Часа полтора назад здесь появилась молодая дама… из местных.
– Сонька из больницы, – подсказал Игнат – он уже был рядом, вырос как из-под земли. – Она сказала, что у Эрика какая-то неприятность приключилась. Звонили из Москвы. Кажется, мать заболела. Он только деньги взял и…
– Враньё, – прошипела Вероника.
– Вы беседовали с Соней? – спросил Никсов у Зыкина. – Что вы ей сказали?
Зыкин только рукой махнул и, свирепо глядя Игнату в глаза, спросил вкрадчиво:
– Почему из Москвы позвонили именно Соне?
Игнат пожал плечами: мол, мало ли какие у них отношения.
Зыкин уже бежал вверх по склону, Вероника, держась за сердце, семенила за ним. У Никсова хватило ума задать художникам последний вопрос:
– На чём Эрик поехал?
– Он не поехал, а побежал. Соня уговаривала его на тот берег переплыть, у них там велосипеды. А Эрик сказал: «Нет, это слишком долго!» и побежал к шоссе, чтобы там поймать попутку.
Никсов догнал опера только около дома.
– Заводите вашу красавицу. Поехали! – крикнул Зыкин.
– Где же мы будем искать Эрика?
– На станции. Где же ещё?
– Я тоже еду. И не спорьте! – просипела чуть живая Вероника.
Погоня, господа, погоня! Никсов гнал машину на предельной скорости, а опер не закрывая рта ругался. Все у него были виноваты, но больше всех доставалось Веронике:
– Если бы вы, дамочка, не давали мне дурацких советов и не препятствовали моему желанию арестовывать преступника, то он бы сидел у меня уже здесь, вот на этом самом месте.
– Но вы же не знали, кого из двоих арестовывать?
– Знал. Да я ещё раньше догадался. У Игната отношения с племянницей вашей… ну как её, у которой корова?
– Анна Васильевна.
– Вот-вот… Раз у него в деревне баба есть, не будет он по ночным дорогам к Соньке ездить. Он что – многостаночник? И потом, в пятницу он со всеми вместе в бане мылся.
Тут уместно сообщить, что Зыкин с медсестрой Соней ни о чём поговорить не успел, потому что не застал её в поликлинике. Предположения Вероники о том, что Эрик посвятил Соню в свои планы, тоже были ошибочными. Он всё хотел сделать сам.
А дело обстояло так. Вернувшись из поликлиники в избушку на курьих ножках, как называла внучка пятистенку, Соня увидела на столе карамельки в вазочке.
– Откуда?
– Гость был, – сказала старуха.
Слово за слово, и выяснили, что это за гость приходил. И всё-то он вопросы задавал, а старая бабка ему отвечала.
– Что ему надо-то было? Про Эрика, говоришь, спрашивал? И что ты ему говорила?
Тут бабушка струхнула – вид у внучки был очень рассерженный.
– Что ему говорить, если он и так всё знает?
Что именно может знать опер, Соня уточнять не стала, но, как говорится, призадумалась и решила на всякий случай Эрика предупредить. Уж больно странные события происходят в Верхнем Стане!
Эрика взяли на стоянке такси около станции Калуга II, когда тот уговаривал таксиста везти его в Москву. Таксист канючил: мол, у него бензин на исходе (тоже мне проблема!) и запаски нет, а потом заломил такую цену, что сам смутился. Тут опер Эрика и прихватил. Браслеты только звякнули на узких запястьях. Никсов заголил арестованному руку. Царапины поджили, но все четыре розовые дорожки от когтей просматривались хорошо.
– Он! – сказала Вероника. – Точно, он
Эпилог
Не в традициях жанра писать эпилоги. Убийца найден, его накажут – что же ещё? Но к героям привыкают не только читатели, но и автор. Кто знает, встретится ли он с ними опять?
Лёва Шелихов был вполне удовлетворён результатом расследования. С агентством «Эго» он расплатился по самой высокой таксе и заверил, что будет и дальше пользоваться его услугами. Отношения Льва Леонидовича с Руладой пока так и остались непрояснёнными. Но это уже совсем другая история.
«Запорожец» нашли и вернули владельцу. В чужих руках машина не пострадала, потому что всё, что в ней можно было изуродовать, было изуродовано ещё до похищения. Пасечник и раньше, если ехал куда в дождь, зонт брал – протекала крыша-то, а щели в полу такие, что видно, как земля между колёс бежит. Кряхтит машина, а едет. А что ещё нужно от средства передвижения? Амнистированных не нашли, они как в землю канули. Вся деревня была за них рада.
Как выяснило следствие, найденный Зыкиным вещдок, а именно обрез, схороненный в церкви, арестованному не принадлежал. Зыкин съездил в Верхний Стан и предупредил всех, что завтра с утра приедет «на поголовное снятие отпечатков пальцев». Опер ещё до машины не дошёл, когда Петька-Бомбист догнал его и повинился. Бомбист расчитывал, что если сам во всём сознается, то ему немедленно вернут его собственность. А опер развёл такую баланду! «Не имеешь права, это огнестрельное оружие, будешь отвечать по закону…» В общем, дело замяли, обрез не вернули. «Тьфу на вас и ещё раз тьфу!» – так отреагировал Бомбист на самоуправство властей.
Марья Ивановна давно дома, ждёт не дождётся, когда снимут гипс. А пока она нашла способ передвигаться без костылей. Берёшь табуретку, ставишь колено загипсованной конечности, а здоровой ногой делаешь шаг. Потом, стоя на здоровой ноге, двигаешь табуретку… и так далее. Получается очень ловко, и подмышки не болят.
Верная Вероника всё ещё пребывает в Верхнем Стане, хотя Желтков, отчаявшись заполучить жену назад, шлёт ей угрожающие телеграммы: «Гортензия вянет что делать» или «Ты забыла меня печень».
– Опять экономит на букве «у», на запятых и вопросительных знаках, – ворчит Вероника. – Наверное, на телеграфе решили, что его тексты – шпионский пароль. А про гортензию – врёт. Просто цветы желтеют. Скоро осень…
Она так и не созналась никому, что похитила в интересах следствия две безделушки. В комнате Эрика ей приглянулась маленькая керамическая фигурка быка. У Игната она разжилась металлическим стаканчиком. «Это не воровство, – уговаривала она себя. – На глянцевых боках этих штучек замечательно видны отпечатки пальцев. И не моя вина, что Зыкину эти вещи теперь не понадобились».
Мы уже говорили, что при задержании Эрик никакого сопротивления не оказал, но в отделении милиции от всех обвинений отказался. Допрос вёл сам Зыкин, поскольку следователь был в отпуске. Потом, перед лицом очевидного, Эрик сознался, что действительно подрался в церкви с гражданином Шульгиным Андреем, но вовсе не убивал его. Гражданин Шульгин сам оступился и упал вниз. А что касаемо гражданки Марьи Шелиховой – не видел, не знаю, в московской квартире её не был – словом, полный отказ.
Тогда Зыкин решил устроить очную ставку. Что он ждал от этой встречи, он и сам не знал, но, как выяснилось, рассчитал правильно. Марью Ивановну привёз в отделение уазик. Она категорически отказалась пользоваться костылями и вползла в кабинет Зыкина с табуреткой, о которой уже было рассказано.
Эрик как увидел Марью, так и вскочил со стула, затрясся весь. Потом закричал: «Ненавижу!» и разрыдался. После этого допросы потекли как по писаному. Эрик во всём сознался.
А Марья Ивановна потеряла покой. Днём она была тихая, задумчивая, подолгу сидела, уронив руки в передник и глядя на далёкий пейзаж, а ночью никак не могла уснуть:
– Знаешь, Верунь, я как его в милиции увидела, передо мной словно вся жизнь прошла. Объясни, как я сразу не угадала в этом мальчике сына Улдиса? Он так похож на отца!
– Он не мальчик. Он взрослый злобный мужик. И он хотел тебя убить.
– Я ведь могла отослать в Ригу эти документы? Я просто не знала, что они им нужны. Мне не пришло это в голову. Попроси он у меня эти бумаги, я отдала бы их с радостью. А теперь – такая беда! Его нужно защитить. У меня есть брошка с брильянтами. Она принадлежит его отцу. Если найти хорошего адвоката…
– Спи, глупая старуха, – злилась Вероника. – Тебя ничему не учит жизнь, – она уходила из спальни и выключала свет.
Тогда Марья Ивановна молча плакала в темноте. Вдоль кровати, растянувшись, как старая горжетка, лежал верный Ворсик. Ему можно жаловаться, он не осудит.
– Он сказал – ненавижу! А я бы могла его любить. Боже мой… Как грустно. Но если найти хорошего адвоката…
Акция всеобщего благоденствия в честь Анны Пророчицы, Анны Скирдницы, а также Саввы Скирдиника состоялась вовремя. Как она прошла, сказать не можем, поскольку там не были, но, наверное, хорошо. У Флора всегда всё получается хорошо, а экологически чистое некоммерческое искусство сейчас в большой цене.
В поисках тишины
1
Дом в деревне Балашовы купили в январе, когда ездили к приятелям на зимние каникулы. Деревня стояла на взгорье перед быстрой и чистой, знакомой по байдарочным походам, а теперь замёрзшей накрепко рекой Угрой. Чёрные столетние ивы окаймляли её извилистое русло. На другом берегу высился сосновый бор. Деревня, с купами лип и вязов над крышами, с горками и овражками, была удивительно живописна.
Покупка дома прошла на редкость легко. Приятели давно связали свою жизнь с этой деревней и знали чуть ли не всех её жителей. С кем-то потолковали, с кем-то выпили, знакомая фельдшерица сходила к тёте Насте, та к соседке-доярке… «Как же… Козинины дом продают. У них летом старуха померла, а дом уже полгода бесхозный стоит. Пошли к Козининым».
– Я против, – в последний раз сказала мужу Мария, – покупать дома в совхозах запрещено. И потом, зачем нам эта обуза – дом в деревне за двести километров от Москвы? Помни, я против.
Мария говорила шёпотом, и доярка-посредница не всё поняла, но по обрывкам фраз и по напряжённому лицу Балашова, который не отвечал жене, а только хмурился, сразу разобралась в ситуации.
– Продают дома-то, продают, – сказала она певуче, – и ваши друзья вам то же скажут. В нашей деревне уже две избы москвичам продали. Живут, не жалуются, и вы приезжайте. Нам веселее будет. До войны в Князево шестьдесят дворов было, а сейчас двадцать. И то одни старухи. Молодёжь в Радово подалась. Там и правление, и клуб, и почта с телефоном. А дом у старухи Козининой хороший, справный. Она аккуратницей была – сами увидите.
И вот Балашовы, несколько смущённые и испуганные своей небывалой активностью, стоят у крыльца в три ступени и ждут, когда хозяйка Козинина справится с туго прижатым к щеколде замком. Дом был строен и крепок. Небольшие, в деревянном узорочье наличников, окна выходили в заросший сиренью палисад. Справа от крыльца стояла прямая, пушистая от снега осинка. Балашов скользнул взглядом по её гладкому зелёному стволу и уперся глазами в ржавый гвоздь, на котором болтался обрывок верёвки.
У него вдруг тревожно ёкнуло сердце. И дом, и стоптанные чужими ногами ступени никак не тронули, не задели его, а этот вбитый в осину, оплывший корой гвоздь от кем-то повешенной и потом снятой верёвки внезапно заставил представить тех, кому этот дом служил не дачей, не случайным кровом, а гнездом, материнским лоном. И страшно ему стало при мысли, что сейчас он войдёт туда и опять увидит что-то – исписанную кем-то школьную тетрадь, старый учебник и забытую на подоконнике игрушку, – и сердце опять заноет, и он испугается и не посмеет купить этот деревенский, чужой, но очень нужный ему дом.
Хозяйка наконец справилась с замком и, видя, что Балашов рассматривает выросшее у порога дерево, сказала с весёлой беззаботностью:
– Я маме сколько раз говорила: «Сруби ты эту осину. Она окошко загораживает, а красоты никакой. Я понимаю – липа или вяз, а то осина – сырое дерево». А мама мне: «Не я сажала, не мне рубить. Пусть стоит. Мы с ней друг к дружке привыкли».
– А кто её сажал? – спросила Мария.
– Да кто ж осину сажает? Сама выросла. Она тут ещё до мамы, при старом хозяине стояла. В этой избе Иван Пасюков жил, а как помер, мы с мамой этот дом и купили. Проходите, что я вас у порога держу?
Хозяйка широко распахнула дверь, обнажив просторные сенцы с двумя дверьми, с лавкой вдоль стены, с огромной, в рост ребёнка, деревянной ступой в углу и уходящей в искристую инеем темноту чердака, крепко сколоченной, отполированной многократным прикосновением рук лестницей.
– А вот жилое помещение, – Козинина сняла с двери ещё один замок и прошла в избу. Дощатая перегородка делила горницу на две неравные части – в первой стояла русская печь, лавка и стол у окна, вторая, в голубых выцветших обоях, была совершенно пуста, если не считать мерклой иконы в углу и подвешенной к потолку лампады.
Хозяйка подняла с полу ухват, поставила его к стене и вздохнула.
– Вот, смотрите. Всё как мама велела. Она перед смертью наказывала: «Как дом будешь продавать, чтоб стол был, и лавки, и занавески на окнах, и икона». Хоть сейчас въезжайте, – и она широким жестом повела вдоль стены рукой, словно сдавала по описи не принадлежащее ей, но дорогое сердцу имущество.
Балашов прошёлся по избе, остановился у печи, заглянул в стылый очаг, потрогал вьюшки.
– А это зачем? – он вынул из круглой дыры тряпичную смазанную клеем или жидким тестом затычку.
– Для самовара, – с готовностью пояснила Козинина. – Сюда трубу от самовара вставляли, чтоб угли в нём ярче горели.
Балашов поставил на место затычку и окинул взглядом печь. Чуть скособоченная, пыльная, с давно не белёнными холодными стенами, она, олицетворяя главенствующее место в доме, приютила на своих полочках и нишах брошенное имущество: керосиновую лампу, утюг, в полое чрево которого засыпали горящие угли, треснутый чугунный горшок. «Самовар ставили… Кому они сейчас нужны – самовары, лампы и эти неподъёмные утюги? Умрут последние старухи, и всё это отдадут в музей… или в утиль.»
– Сколько здесь работы… – сказала со вздохом Мария, придирчиво осматривая щербатый пол и стены. – Николай, оторви кусок обоев. Я хочу посмотреть, какие здесь брёвна.
– Потом посмотришь брёвна, – хмуро отозвался Балашов.
– Да нет, отчего же? Пусть смотрит. А брёвна известно какие – сосна. Эта изба крепкая, ей всего-то тридцать лет. Если вы её покупаете – считайте, что она уже ваша. Мне что? Мне главное – её хорошим людям продать. Так и мама велела.
Она пытливо переводила взгляд с Балашова, широкоплечего и значительного, на его жену, невзрачного вида, но приятную женщину, и уговаривала себя, что эти двое именно те хорошие люди, которых она давно ждёт, люди, которые не изуродуют и не опоганят материнскую избу, не будут торговаться против цены и всё решат спокойно и мирно, а Балашов, которого резанула лёгкость, с которой Козинина продавала дом, подумал с неожиданной для себя горечью: «Ты здесь не жила. Для тебя это просто наследство. И хорошо».
– Мы покупаем, – сказал он и откашлялся виновато. – Сейчас оставим задаток, а на следующей неделе я привезу деньги. Только как всё это оформить?
– Я оформлю. Сейчас этот дом на мою тётку записан. И мы её отсюда выписывать не будем. Понимаете?
– Почему? – удивилась Мария. – Дом-то наш.
– Ваш. И все будут знать, что ваш, вся деревня. Но ведь вы сами в нём прописываться не будете? Не будете московскую прописку менять?
– Конечно нет.
– В этом-то всё и дело. Тётка у меня живёт, а здесь будет прописана фиктивно. А для вас я составлю бумагу, что деньги от вас за дом получила. Тётка помрёт, а вам завещание на дом оставит.
– Сколько же лет вашей тётке?
– Шестьдесят пять.
– Оставь, Мария, – Балашову очень понравилось определение – «вся деревня будет знать». – Они здесь лучше свои порядки знают. Мы на всё согласны, – он повернулся к хозяйке. – Нам здесь очень понравилось.
2
Балашов часто спрашивал себя: с чего всё началось? С какого зловредного часа или события он потерял руль – подчинился суете и потонул в ней, как в клею? И не находил ответа.
Может быть, этим часом было рождение Оленьки? Тогда он должен был бросить лабораторию и уйти преподавать – там больше платили. Кощунственная мысль! Дети – это святое. И потом, преподавательская работа не помешала ему защитить диссертацию и стать доцентом.
Может быть, этим поворотным моментом была смерть тёщи, Веры Феоктистовны? Она умерла внезапно – от инфаркта. Что ж, такое бывает. И нечего притворяться, что эта смерть как-то особенно потрясла Балашова: тёща никогда не была ему близким человеком. Но она держала в своих крепких руках бразды правления обширным государством, название которого – семья, и как это случилось, что эти самые бразды перешли в руки не Марии, матери, хозяйке, а ему, Балашову?
«Какая прачечная? – причитала Мария. – Пожалейте меня, мне завтра мозговую опухоль удалять. В моих руках жизнь человека!» В руках Балашова были только зачётки, карандаши и книги, и, как всегда, с шёпотом в душе: «Ради детей», он смирился и взвалил большинство хозяйственных забот на свои могучие, натренированные гантелями и штангой плечи. А хозяйство было немалым. Тогда уже и Тимка родился, а кроме детей был ещё дедуля – Яков Иванович.
«Ну, хватит, будь справедливым, – одёргивал себя Балашов. – После смерти тёщи сыскалась домработница. Три раза в неделю ты был освобожден от всех хозяйственных забот, а Якову Ивановичу было только семьдесят пять, он ещё видел и был крепким, разумным и весёлым стариком. Это сейчас он может разбудить семью криком: «Маня, Маня! Кто такой «синцарь»? А чёрт его знает… Или: «Умоляю, что такое «колоквинт»?» Это увлечение словарями и ударениями – дедуля был помешан на ударениях, вмешивался в любой разговор, настырно поправлял произношение – тоже порождение последних лет».
А может, обалдение от жизни, как называл своё теперешнее состояние Балашов, связано с новой квартирой? Балашову не нравилась эта мысль. Переезд из старого особняка был благом. Как они радовались квартире! Горячая вода, ванна в кафеле, встроенные шкафы, и, как ни малы были комнаты, но их было четыре. И потом – воздух…
Но домработница наотрез отказалась ездить в новый район. Тут ещё Олю пришлось сопровождать в музыкальную школу, Тимку – в детский сад, а самым утомительным стала опека вдруг задряхлевшего, немощного, почти слепого, но стойкого в своих привычках и странностях дедули.
Тот, кто не знал раньше Якова Ивановича, мог приписать его выходки старческому слабоумию, но и Мария, и Балашов знали, что никакого старческого слабоумия нет и в помине. Дедуля всю жизнь морочил голову окружающим мелкими каверзами, словно смотрел на мир со стороны и посмеивался над всем и вся. Он и раньше мог выйти к гостям в подштанниках. И вставную челюсть, как только она у него появилась, мыл в унитазе. Зачем? Шут его знает. Мол, вода везде одинаковая. Мыть-то мыл, но не упускал челюсть ни разу. А теперь расскажи кому-нибудь, что шаришь то и дело в унитазе, ищешь стариковские зубы – не поверят. А эта дурацкая привычка входить в комнату задом! Мол, предупреждаю: у меня плохое настроение, не приставать. Входить-то входил, но на мебель не натыкался, не падал. Сейчас только бы успеть его поймать.
Яков Иванович очень болезненно пережил расставание со старым особняком. Он так прочно спёкся со стенами родного жилища, что его, как некий конгломерат, пришлось почти вырубать оттуда вместе с громоздкими шкафами, книгами, вазами, выцветшими картинами, в рамках которых нашли прибежище многие поколения клопов, с истлевшими шторами и протёртой до дыр китайской ширмой. Каким-то чудом Марии удалось впихнуть всю эту рухлядь в неправдоподобно маленькую комнату. «Очень хорошо, – сказал тогда Яков Иванович, – как в гробнице Тутанхамона, – все в общую кучу». И все последующие годы, кроме как гробницей, он свою комнату не называл, при этом пространно излагал свои взгляды на современное строительство, цитировал классиков, путал ударения и кончал всегда одинаково: «Когда же я сдохну? И ещё неотложка по ночам, клизмы, вечное брюзжание…
Но если по-доброму, дедулю надо пожалеть. Достаточно понаблюдать, как по утрам ощупывает он чашку с кофе, как гладит знакомую картину, пытаясь на ощупь определить, не убежали ли с полотна розовощёкие нимфы, как пытается прочесть что-то в сильнейшую лупу, а потом бросает книгу и врубает на полную мощь транзистор, и замирает, глядя в никуда.
Транзистор орал в комнате целыми днями, но даже он не мог заглушить те звуки, которые рождала под окном балашовской квартиры неожиданно развернувшаяся стройка. А может быть, с это проклятой стройки всё и началось? Мария, счастливый человек, умела пренебрегать мелочами. Посмотрит на забытую катушку с кабелем, что полгода лежит под их окнами, и скажет: «Опять забыла Тимке пуговицы к рубашке пришить», – вздохнёт и больше не вспомнит ни про пуговицы, ни про катушку.
А Балашов начнёт зачем-то обдумывать – что это за кабель, да кто его делал, зачем он столько времени валяется и сколько стоит погонный метр. Додумается до головной боли.
При выборе квартиры Балашовы легко согласились на первый этаж. Вокруг шумел лес. А сейчас он старался не смотреть на искореженную землю. Он понимал, что строительство – дело сложное, что отдельные недостатки не должны закрывать главного, но при виде искромсанных деревьев, битого кирпича, перекрученных, брошенных, как ненужный хлам, труб привыкшая к порядку натура его негодовала. Или им на всё наплевать? Или ничего не жалко?
– За что ты их ругаешь? Ты себя ругай, – говорила Мария. – Видно, плохо вы учите студентов в своём строительном институте.
– Я учу их высшей математике.
– Вот и хорошо. Высшую математику они знают, а четырёх правил арифметики не усвоили. Если бы меня это так волновало, я бы со всеми переругалась, пошла бы в ЖЭК, заставила поставить забор.
– Я не люблю заборы, а ругань в нашем отечестве мало кому помогает.
Балашов писал популярную книгу по истории математики, встречаясь глазами с шофёрами и бульдозеристами, чьи шустрые машины с отчаянным тарахтением перемещали туда-сюда горы песка и глины. Ему казалось, что в безотчётном порыве бульдозеристы вот-вот срежут угол дома, и его комната органически войдёт в панораму строительства. И уже весь мир казался зыбким, нереальным. Ничего стабильного: сегодня здесь дерево шумит листвой – не привыкай к нему, завтра его не будет; не запоминай облик своей улицы – она изменится каждой своей чертой; не запоминай, где фонарь, где телефонная будка – завтра на этом месте всё перекопают, перепашут.
В декабре Балашову приснился сон, и сон этот был настолько реален и отчётлив, что наутро он в полной яви он подумал: «Надо бы Тимку туда сводить. Он же совсем не помнит нашего старого жилища, – и тут же одёрнул себя: – С ума я, что ли, схожу? Того дома давно нет. Уже пять лет, как на том месте зеленеет газон».
А память сберегла их деревянный особнячок с облупленной на колоннах краской, с гирляндами каменных цветов над окнами первого этажа, с дуплистым, поросшим молодыми побегами тополем, стоящим у крыльца с незапамятных времён. Во сне всё это явилось как осязаемая, тёплая на ощупь реальность. Ветер шевелил занавески на окнах и страницы забытой на подоконнике книги, где-то пело радио, чайник кипел на плите в коммунальной кухне, и полотенце над раковиной было влажное от чьих-то рук. Дом выглядел вполне живым, но он был пуст. Балашов подошёл к окну и сквозь по-весеннему голые ветки тополя увидел их горбатую и тоже абсолютно безлюдную улочку с аптекой на углу и шумным от грачиных криков сквером.
И тогда он подумал, что грачей в сквере тоже нет – от них остались только звуки, – и тут же понял, что пора уходить. Чьи-то неведомые руки уже начали разбирать особняк по дощечке, по щепочке, и вот-вот должна была ударить по стене многотонная баба-молот.
Он быстро сбежал по одному лестничному пролёту, по другому и с удивлением увидел, что лестница не кончилась: он опять стоит на площадке второго этажа. Он стремительно бросился вниз, преодолевая пролёт за пролётом эту бесконечную, неизвестно куда ведущую лестницу. Уже исчезли оконные рамы, стены рассыпались на глазах, кусок оторванного железа пронзительно и едко царапал кровлю, а он всё бежал, задыхаясь и холодея при мысли, что сейчас, сию минуту будет погребён под развалинами родного дома. И вдруг всё кончилось. Пропала лестница и ощущение страха. Он стоял на улице, а вдалеке маячил их тихий осенённый тенью тополя особнячок, в который ему опять предстояло войти. Он заставил себя проснуться.
«Я хожу по кругу, – сказал себе утром Балашов. – И по кругу меня ведёт суета».
Это было за неделю до детских каникул. Потом они поехали в деревню и купили дом.
3
Всю зиму Балашов пытался с женой обсудить, что и как они будут переделывать и перекраивать в деревенском доме. Разговоры обычно происходили вечером, после работы. Мария слушала мужа с настороженным, внимательным выражением лица, но при этом словно не вникала в смысл фраз, а улавливала только интонацию. И чем увлекательнее и радостнее говорил Балашов, тем скорее она уставала его слушать: «Об этом потом поговорим. Был врач? Меня очень беспокоит дедулин желудок. Откуда у Тимки шишка? Ольга какая-то раздражённая – что с ней?».
Балашов сразу гасил в себе оживление: врач был утром, когда он был в институте, лекарство в аптеке получила Оля, час простояла в очереди, но дедуля наотрез отказался его принимать и спрятал неизвестно куда, Тимка в детском саду столкнулся с какой-то девочкой лбом, Оля получила по диктанту двойку, проплакала весь день… Он перечислял домашние новости поспешно и бездумно, как набившие оскомину математические термины, а потом опять возвращался к теме загородного жилья.
– Прости, Коль. Я ничего не понимаю в шифере, в циркулярных пилах и свёрлах. Ты как ребёнок – купил себе игрушку и забавляешься с ней. Но не заставляй меня играть вместе с тобой. Лучше объясни: зачем нам этот дом?
– А детей куда? – внезапно ожесточался Балашов. – Тебе бы только по лагерям их растолкать. Ольге десять лет, а она плавать не умеет.
И, словно испугавшись, что сказал лишнее, он тут же умолкал, но взгляд исподлобья, сжатые в нитку губы, закуренная сигарета проговаривали недосказанное, и Мария слышала куда более горький упрёк себе, чем тот, который выражала эта безобидная фраза.
Марию пугала и обижала эта внезапная ожесточённость мужа. Уже давно забылись их громкие ссоры, когда Балашов с упрямо набыченной головой, отметая все разумные доводы, твердил: ты мать, ты хозяйка дома, это твоё главное призвание. Последние годы у них не было даже незначительных размолвок, но после этого нелепого события – покупки дома – всё вернулось на круги своя. Опять было снято «табу» с трудных тем, и Балашов, тщательно завуалировав свои старые «притязания» – Мария с удовольствием повторяла это обидное – стал тыкать пальцем в её самое больное место.
– Перегородку сломаем, хочется иметь большую комнату. Чердак отдадим детям. Я там им мастерскую устрою.
– Какую ещё мастерскую?
– Пусть строгают, пилят, слесарничают…
– Кто будет «слесарничать»? Оля?
Оля училась в четвёртом классе музыкальной школы, обладала абсолютным слухом и богатым оттенками туше. В доме ей не разрешалось даже гвоздь вбить в стену из боязни, что девочка может повредить себе руки.
– Оленьке я рояль в деревню привезу, – продолжал безумствовать Балашов. – Из коровника можно сделать отличное музыкальное помещение. Там тридцать метров, акустика будет что надо. А в мастерской будут работать мальчики.
– Мальчик, – уточнила Мария.
– Там видно будет, – смеялся Балашов. – Помнишь нашу старую притчу о цифре шесть?
Когда родилась Ольга, он на радостях сказал жене: «Мань, давай родим шестерых. Пять мало, семь – много, шесть – самый раз. Три мальчика, три девочки. Посмеялись и забыли, а когда встал вопрос – оставить или нет ребёнка, который впоследствии стал Тимкой, Мария вспомнила этот разговор с неожиданной для Балашова горячностью и злобой:
– Пойми, Николай, я хирург. Хороший, между прочим. Я даже на семью не имею права. Я не принадлежу себе.
– Это убийство, – твердил Балашов, – это подлость. По-моему, самое путное, что человек может сделать в жизни – это родить ребёнка, который будет лучше, чем ты сам. На этот прогресс держится.
– Это не прогресс. Это домострой. Ты из другого века. Выдумал себе цифру шесть… и носишься с ней как с писаной торбой. О господи… Если тебе надо столько детей, заведи себе гарем. Или вторую семью, в конце концов. В наше время это уж не такая экзотика.
– Маня, я не хочу вторую семью, я хочу второго ребёнка.
Уговорил, родился Тимка. Но через два года опять встали перед тем же выбором, и разговор был ещё более трудным.
– Ты нас брось, – говорил Балашов плачущей жене. – Пусть будет ещё мальчик. Я сам их воспитаю. А ты уходи. Поверь, я хочу только твоего счастья.
– Ты не понимаешь. При чём здесь моё счастье? Работа – это мой долг, моя сущность. Ты не можешь этого понять!
И Балашов смирился, но Мария знала, что в душе его осталась вечная обида, и теперь, о чём бы он ни говорил в связи с деревенским домом, она всегда улавливала скрытый намёк на те старые больные темы: де, она некудышная хозяйка и плохая мать.
В разговор неизменно вмешивался Тимка:
– А что такое слесарничать? – спрашивал он, картавя. Он умел поймать слово, запомнить его и потом перекатывать во рту как морскую гальку. – Слесарничать – это как делать? – мягкие руки плотно обхватывали материнские колени, и мальчик замирал, ожидая ласки.
Тимке было шесть лет, и он был замечательным человеком, – именно о таком сыне мечтал Балашов. Как все дети, Тимка любил смотреть телевизор, с той лишь разницей, что смотрел он в него с другой стороны, потому что куда больше, чем плоское бесцветное изображение, его интересовали лампы и переплетения проводов. В первый десяток осмысленных Тимкой слов вошло слово «схема». Именно ей, схеме радиоприёмника, посвящал он первые свои рисунки, и не беда, что родители видели в них только бестолково петляющие линии. Тимка обожал поломанные пылесосы, транзисторы, и магазину «Игрушка» предпочитал «Электротовары» и «Изотопы».
Но при всех этих истинно мужских интересах мальчик был капризен, обидчив, и куда больше был привязан к вечно спешащей матери, чем к степенному и щедрому временем отцу. Балашову казалось, что Тимка и Мария всё ещё связаны невидимой пуповиной и потому не утратили способности чувствовать боль и печаль другого как свою собственную. И Тимка, чувствуя эту связь, мстил матери слезами и криком за её отдельность, занятость и невнимание к себе: «Ты не смотришь мой рисунок? Значит, он тебе не нравится? Порву! Видишь, я уже рву! А мне жалко рвать. Я рисовал целый час». Или: «Не будешь мне читать? Тогда я буду чесаться, я расчешу диатез до крови. Пусть тебе будет плохо».
И теперь, некстати ввязавшись в разговор и не получив от раздражённой матери немедленного объяснения, Тимка начал колотить ногой по полу и упоённо обкатывать новое слово, словно грозя матери чем-то дурным:
– Ты не хочешь, чтобы я слесарничал? А я буду, буду слесарничать. И тебя заставлю.
Наступившая весна несколько изменила преобразовательские планы Балашова – он стал говорить о посадке сада. Изменился и характер разговора. Может быть, весна настроила Марию на другой лад – апрель был так синь и щедр теплом, может быть, неожиданное вмешательство Якова Ивановича – он одобрял все планы зятя – растопило предубеждение, а скорее сама идея сада покорила своей чистотой и наивностью. Мария смирилась, перестала обижаться на мужа и теперь только снисходительно посмеивалась.
– Тоже мне Мичурин! За твоим домом, кроме лопухов и одуванчиков, ничего не росло. Там одни камни. Козинина нас предупреждала.
– Не росло, так будет. Детям фрукты нужны.
– Что ты, яблок в деревне не купишь?
– В Князево-то? Да там и садов нет. Я зимой со старухами разговаривал. «Бабушки, – говорю, – какая у вас деревня замечательная, а яблонь нет. Почему?» А они мне: «Повырубили, милок. Давно повырубили». – «Зачем повырубили? На дрова, что ли?» А старухи в ответ только смеются и смотрят на меня как на ненормального.
– Ты и есть ненормальный. Яблони в деревне порубили, потому что на них налоги начислили непомерные. Разве тебе одному под силу посадить сад? Мы же будем там только наездами. На меня не рассчитывай. Я спать не успеваю. Уж если тебе так нужен этот сад, призови на помощь кого-нибудь из друзей.
– И призову.
– Я тебе с самого начала говорила: уж если покупать дом в деревне, то лучше на две семьи. У нас у всех отпуск в разное время.
– Но праздничные дни общие.
Через неделю Балашов сказал жене коротко: «Нашёл». Он сказал это таким тоном, словно всю неделю Мария только и думала, что про яблони, и теперь её можно ободрить и утешить.
– Что нашёл?
– Отгадай, кто из наших хочет купить с нами половину дома и посадить со мной сад?
– Ой, – Мария взъерошила мужу хохол на макушке, засмеялась и стала перечислять друзей и сослуживцев: эти не захотят – они туристы, эти не согласятся – они на машину копят, этим не до того – они диссертацию пишут.
– Максим, – не выдержал Балашов.
– Зуйко? – удивилась Мария. – Но он никогда не бывает летом в Москве. Я могла предположить кого угодно, но чтобы Максим стал совладельцем миража…
– Вся наша жизнь – мираж, а сад – это реальность.
– Говорили, он с женой развёлся. Как её? Инна, да?
– Не было никакого развода. У них сыну семь лет.
– У неё какая-то дорожная специальность – мосты, паровозы… я не ошибаюсь? – продолжала Мария.
– Сейчас она не работает.
– Почему?
– Ты спрашиваешь, как прокурор. Я откуда знаю? Мария снисходительно улыбнулась:
– В конце концов, для нас это не имеет значения.
– То-то, – сказал Балашов и погрозил жене пальцем. Через неделю он съездил в загородный питомник, купил саженцы яблонь, смородины, малины, и в первую же субботу, аккуратно уложив их в верхний багажник «запорожца», отбыл вместе с Максимом Зуйко в деревню для посадки сада.
4
Максим взял черенок смородины, опустил куцый корень в вырытую яму и стал правой рукой подгребать желтоватую землю.
– Подожди, я лопатой, – сказал Балашов. – Ты не ту землю сыплешь. Надо чернозём. Черенок держи наклонно.
– Зачем?
– А шут его знает. В очереди сказали в питомнике. Говорят, так смородина расти лучше будет. В книгах по садоводству об этом, правда, ни слова, – Балашов засыпал яму чернозёмом, положил сверху лопату навоза, чуть перемешал с землёй, распрямился и спросил, возвращаясь к разговору: – А дальше что было?
– А что дальше? Пошли искать базовый лагерь. Заблудились. Комаров тучи, мошка на руках кровавые браслеты выела, жратвы никакой. Плелись, как лунатики. На каждом привале образцы перебирали. Это выкинуть жалко, и это жалко. Повертим камешки в руках, потом взвалим на себя по сорок килограммов и дальше.
– Что же вы ели?
– Всё ели: грибы, ягоды, травки какие-то, орехи… Нам тогда не столько жрать хотелось, сколько опорожниться. Психоз, наверное, а может, ягода какая-нибудь так действовала. Жуткая штука, прямо всего тебя распирает… Когда уже нет терпежу, я Симке говорю: «Подожди, надо…» Он останавливается. Тупо ждёт. Снимаешь рюкзак с образцами, собираешь хворост для костра… голой задницей не сядешь, комары сожрут. Три костерка треугольником, сейчас ты будешь счастлив – и ничего, только пузо болит. Потом с Симкой такая же история. На шестой день вышли к базовому лагерю.
– Жуткая штука – тайга. – сказал Балашов с нескрываемым восторгом. – Ну а что с образцами было?
– Образцы оказались что надо, знатные были образцы.
Балашов и Максим Зуйко дружили ещё со школы, хотя, пожалуй, эти отношения нельзя было назвать дружбой. Встречи их были редки и непреднамеренны. Они могли месяцами не видеть друг друга, но когда случай сводил их вместе, оба радовались и удивлялись, почему сами не искали этой встречи. После первых «Ну как ты? Как жизнь?» Балашов проборматывал свои новости, приговаривая: «Что – я? Дом, работа… городской обыватель. Ты расскажи…» Балашов очень любил байки Максима. Собственно, это были не отдельные рассказы, а бесконечное повествование с острым занимательным сюжетом и обязательным посулом в конце: «продолжение следует». Максим, угадывая в слушателе жажду романтики, лёгкую тоску и даже зависть, никогда не приукрашивал жизни геологов и рассказывал о ней очень буднично, чем ещё больше возвышался в глазах Балашова.
– Я вот спросить хотел… – начал он нерешительно, – но как-то…
– Спрашивай…
– Май, а ты не в поле. А как же…
– По семейным обстоятельствам, – Я позже поеду. А яблони тоже наклонно ставить?
– Нет. Яблони прямо, – и оба засмеялись.
«Раз шутить вздумал, значит, не так всё плохо», – подумал Балашов.
Они работали неторопливо и размеренно, и когда через три часа окинули взглядом лужайку, то подивились – как много они успели сделать за утро: вырыть ямы, нарубить кольев для подпорок, натаскать навоза и посадить все эти хрупкие веточки, которые Балашов уже видел тенистым, ярким от плодов и ягод садом.
– Покурим?
– Ты кури, а я за водой сбегаю, – отозвался Балашов. – Саженцы после посадки сразу надо водой поливать.
– Давай вместе.
– Там на одного работы не хватит. Я у левого соседа, Шутова, флягу возьму на пять вёдер. А при фляге коляска. Очень удобно.
– А потом что будем делать?
– Яму под уборную копать.
– Так ты покажи – где. Я пока начну.
Балашов задумчиво посмотрел вокруг.
– Я думаю, в кустах. Подальше от дома.
– А глубоко копать?
– А я знаю? Первый раз уборную строю.
– Давай на века. Я тоже ям под уборные не строил, но зато бил шурфы в тайге. Это, я скажу тебе, занятие… Глубина шурфа иногда метров тридцать, а роет всего один мужик. Землю лебёдкой вытаскивают, – Максим подошёл к распустившемуся кусту бузины. – Здесь?
– Дёрн давай снимем. Я его под яблоню отнесу. А то земля там тощая.
Балашов аккуратно окопал прямоугольник, снял верхний сцепленный корнями травы слой земли, свернул его в рулон и, как ребёнка, понёс к дому.
Максим уверенно всадил в землю лопату и сразу наткнулся на камень, с трудом вытащил его, опять копнул, лопата цокнула о гальку.
– Лом неси, – крикнул он Балашову. – Здесь одни камни.
– А откуда у меня лом? Ты, главное, не торопись. Камни отдельно складывай, а чёрную землю тоже отдельно от глины. Глиной мы помойку будем засыпать, а чернозём я к дому перетаскаю и горох на нём посажу.
– Горох так горох. Камни, значит, отдельно, – приговаривал Максим, долбя лопатой землю. – Коль, а если я золото найду или железный колчедан?
– Тоже отдельно складывай, – серьёзно отозвался Балашов. – На золоте сад не вырастишь.
Скоро камни и галька кончились, и пошёл сероватый влажный суглинок. Максим прыгнул на дно ямы, работа пошла быстрее. Он наступал на лопату кирзовым сапогом и размашисто, уже не думая о том, куда класть камни, а куда чернозём, выбрасывал землю на поверхность. «Я человек с лопатой, – говорил когда-то знакомый шурфовщик Иван Чепурной, огромный добрый мужик, местный философ. – Я при лопате, и мне всё ясно. Этот механизм у меня никто не отнимет. Кому охота на моё место? А ты начальник. Хорошо быть начальником? Платят вам много, место тёплое, а потому завидное. Каждому охота на твоё место. Потому-то у вас инфаркты и муки душевные. Плевал я на ваше место».
– Я человек с лопатой, – повторил Максим вслух – и мне всё ясно.
И тут вдруг вспомнил, как прошлым летом вернулся с Памира.
Чёрт его знает, зачем вспомнил, запретил ведь вспоминать. Но разве угадаешь, по какой цепи ассоциаций придут эти воспоминания? Задел плечом земляную стену, тело обдало холодом, и он увидел прохладное метро. Черенок лопаты скользнул вниз, и тёплое, разогретое руками дерево заставило вспомнить рабочих, которые в то утро чинили экскаватор и асфальтировали площадку. И сразу он увидел себя – усталого, в мятой куртке, с рюкзаком за плечами и длинной оранжевой дыней под мышкой. Вид слаженного физического труда всегда рождал в его душе ощущение покоя и какой-то внутренней гармонии: мол, всё правильно в этой точке земли, всё в порядке. Молодой, чёрный, как цыган, парень отложил в сторону ручной каток, которым ровнял дымящийся асфальт, бросил взгляд на дыню – «Хорош фрукт!» – и засмеялся. Трёхкилограммовая дыня натрудила плечо, он переложил её в другую руку и тут же со всей очевидностью понял, что этот «фрукт» отдать некому, что он боится идти в пустую квартиру и просто тянет время.
Сейчас к нему вдруг так осязаемо вернулось то ощущение беды и страха, что он с трудом преодолел желание схватиться рукой за сердце, а только истово навалился на лопату, приговаривая: «Успокойся, хватит. Всё прошло. Инка вернулась. Мы купили дом. Она будет рисовать Угру. И будет об этом…»
– Это что это вы тут роете?
Максим поднял глаза и увидел вначале два скособоченных сапога, клетчатые видавшие виды штаны, пёструю рубашку, потом заросший щетиной подбородок и, наконец, колючие умные глаза, притенённые козырьком плоской, как блин, кепки.
– А мне что скажут, то и рою, – бодро ответил Максим. Появление старика нарушило ход его мыслей. Почувствовав к нему неожиданную симпатию, он вылез из ямы, отёр краем майки потное лицо и достал пачку сигарет. – Закурим?
– Это можно, – сказал старик строго, но сигарету не взял, а повторил, переходя на «ты»: – Дак что роешь-то? – с лица его не сходило угрюмое выражение, взгляд цепко держал фигуру Максима и вырытую яму.
– Уборную роем, – ответил Максим степенно, стараясь скрыть за этой интонацией лёгкую насмешку над самим собой.
– А ты у меня спросил?
– А ты кто такой?
– Пасюков Никифор Ильич, – отрекомендовался старик с таким видом, словно сообщил не только имя и фамилию, но и должность, общественное положение и воинское звание.
Максим улыбнулся. В лице старика угадывалось несомненное сходство со знакомым сенбернаром по кличке Герцог. Пёс был стар, мудр, подозрителен и постоянно брюзжал на жизнь на своём собачьем языке.
– А какое же вам дело, Никифор Ильич, до того, где у нас будет уборная?
– Не положено, – твёрдо сказал старик. – Это земля колхозная. А вы тут всё перекопали и ещё будку собрались городить.
– А где же нам уборную ставить? На крыше, что ли? – обозлился Максим.
– А это уж ваше дело.
Диалог был неожиданно прерван появлением Балашова с большим бидоном, в котором звонко плескалась вода.
– А, Никифор Ильич, – закричал он, придавая голосу искусственное оживление и заинтересованность. – Знакомься, Максим.
– Мы уже познакомились, – буркнул тот, отошёл на угор и сел, спустив ноги вниз по склону.
Краем глаза он видел, как Балашов довёл старика под рябинку на лавочку. Пасюков прихрамывал, левая нога его не гнулась, и Балашов уважительно клонился к старику, словно хотел поддержать его за локоть, но не решался.
– Я вас всё утро искал, – приговаривал он тем же ненатуральным, уважительно-заискивающим тоном, – хотел посоветоваться насчёт уборной. – Если вы против, мы, конечно, её перенесем.
Старик что-то буркнул в ответ, но Максим их больше не слушал. Его взором, слухом и сердцем завладела раскинувшаяся перед взором панорама лучезарного весеннего мира.
Синяя Угра изящно и упруго изгибалась своим словно одушевлённым телом, вспениваясь белыми хохолками на едва различимых с высоты волнах, и ослепительно блестела на излучине. Вековые ивы опушились листвой, и на фоне их желтоватой лёгкой кипени чётко выделялись чёрные, ещё не брызнувшие листьями ветки ольхи. Пойменная полоска на той стороне реки была так шелковиста и ярка, что он невольно представил на ней каштановых коров, вспомнил, как звонко ударяет в пустой подойник первая струя молока. За сосновым бором на горизонте высилась янтарная жёлтая гора со срезанной верхушкой и продолговатыми тенями-долинами, и хотя Максим знал, что эта громадина – не что иное, как спрессованные в монолит отходы щебёночного комбината, он не стал думать об этом, а представил, что это отроги высоких и прекрасных гор, и прошептал насмешливо и растроганно: «Монблан… буколика… пастораль…»
– С кем это ты разговариваешь? – спросил Балашов, подходя.
– С природой. Красота какая! – Максим почему-то вздохнул.
– Из-за этой красоты и дом покупали. Думаешь, я детям дом купил? Нет. Речку… – он помолчал и добавил: – И сад.
– Какой сад? – старик Пасюков, уже направлявшийся к дому, задержал шаг и замер, недоумённо оглядываясь по сторонам. Поглощённый заботой о чужой уборной, он просмотрел главное и теперь с немым изумлением созерцал перекопанную лужайку и хилые прутики, привязанные к подпоркам. Недавний примирительный разговор был тут же забыт, и с отчаянием, чуть ли не со слезой в голосе, Пасюков спросил: – Это кто же вам разрешил такое?
– В чём дело? – Балашов завис над стариком и, близоруко щурясь, всматривался в его лицо, пытаясь угадать новую причину соседского гнева.
– Нельзя вам ничего сажать! – крикнул старик и ткнул прокуренным пальцем в грудь Балашова. – Сад… – в его голосе было столько желчи, столько презрения к этим нелепым в своей беспомощности саженцам и явно бестолковому, если не сказать глупому Балашову, что Максим не выдержал, поднялся на ноги и встал за спиной старика, словно отрезая ему путь к отступлению.
– А что, собственно, случилось?
– Да что с вами говорить? Про это в другом месте надо говорить! – Пасюков выразительно плюнул себе под ноги. Легко оттолкнул Максима и, не оглядываясь, пошёл к своему дому.
Балашов проводил старика взглядом, поправил дужки очков, посмотрел на саженцы, потом на реку, вздохнул и беспечно засмеялся: мол, чёрт с ним, с Пасюковым.
– Что за старик? – Максим не был столь благодушен.
– Наш правый сосед. Мне старухи говорили: «Изба у вас хорошая, место сухое, ключ под угором, а сосед у вас – не приведи Господи!» Этого старика вся деревня не любит. Всем здесь распоряжается и всюду суёт свой нос…
– Что ж, и управу на того паршивца нельзя найти?
– Какая управа? Он инвалид войны. Директор совхоза – его зять. А дом, который мы купили, построил его брат. Ну их, давай саженцы поливать.
– Не нравится мне этот старик. О чём вы тут с ним разговаривали?
– Он мне рассказывал, как закат на этом угоре провожал. В доме, говорит, дети пищат, дым коромыслом, жена орёт, а он возьмёт бутылку – и сюда на угор, вечерять.
– Лирик твой Пасюков, он нам ещё нервы попортит. Ладно. Давай поливать.
5
Вечером, когда машина с новыми соседями отбыла в Москву, старик Пасюков пришёл на лужайку за домом и внимательно осмотрел посаженные деревца и кустарники. На каждой яблоне, как бирка на руке новорождённого, висела маленькая картонка на верёвочке. Пасюков надел очки, нагнулся. Силясь прочитать написанное – ничего не понятно: какие-то цифры и нерусские слова, – он проверил бирки на всех яблонях, потоптался около будущей смородины и малины, проверил сапогом крепость вбитых в землю кольев и яро выругался сквозь зубы.
– Ты что, Никифор Ильич, по чужому саду шастаешь?
Пасюков оглянулся и увидел Паньку Козинину, старухи-покойницы дочь.
– Сад! – хмыкнул Пасюков. – Это, что ль, сад? – и он легонько ткнул ногой саженец. – Да ещё чужой… – он распрямил ссутуленную временем спину, фасонно отставил здоровую ногу. Это земля колхозная, и вернее сказать – братова, а ещё вернее сказать – моя! Не имели права твои покупатели на ней сад сажать!
– Это почему же такое? – Паня Козинина дробно засмеялась. Потом, ловко ступая полными ногами, обежала саженцы и встала перед стариком, прямо глядя в его рыжие, подёрнутые склеротическими жилками глаза.
– Сейчас, Никифор Ильич, – сказала она снисходительно-терпеливым тоном, словно объясняя малому ребёнку очевидное, – каждое дерево приветствуют, а ты…
– Может, где и приветствуют, а я все эти незаконные саженцы под корень срублю.
– Не ты сажал, не тебе рубить! – крикнула Козинина, так и задохнувшись от гнева, но обуздала себя, всё ещё не теряя надежды устроить дело по-хорошему. – Я тебе вот что скажу, товарищ Пасюков. Это не простые яблони, это опытные образцы. Новый хозяин, чтоб ты знал, в Министерстве сельского хозяйства работает, и эти яблони, – она подняла палец, – уникальные.
Про министерство она, конечно, выдумала, но в глубине души верила, что если и ошиблась, то на самую малость. Если человек при машине, если он так красиво и ладно одет, так значителен и достоин в разговоре, так ласков с детьми и женой, замухрышкой строптивой, то где ж такому человеку работать, как не в министерстве?
– А плевал я на твоё министерство, – сказал Пасюков с кривой усмешкой. – Я свои права знаю. Земля это колхозная, а дом, можно сказать, мой.
– Какого рожна твой, если мама-покойница за него семь тыщ старыми отвалила?
– Дак это когда было-то? А сейчас эту избу колхоз у тебя выкупит и мне как инвалиду войны вернёт в пользование.
– Во-о-о-на ты как! – Козинина осмотрелась вокруг, словно призывая в свидетели саженцы, мамин дом и всю деревню – мол, посмотрите, люди, на этого окаянного, нет с ним никакого сладу, – а потом нагнулась к самому уху старика и прокричала на пронзительной ноте: – Только тронь сад! Я тебе за него все окна переколочу! Так и знай! – и, круто повернувшись, пошла прочь.
Пока Козинина добиралась до своего дома, она встречала разных людей и всем рассказывала, как Пасюков грозился все яблони повырубить и как она обещала ему за это все окна перебить.
– Не связывайся ты с Пасюковым, – советовали люди, – продала дом и продала. Пусть новые хозяева сами с ним разбираются.
– «Корову не паси, кур не держи, печь жарко не топи…» Искры, вишь, на его поганую крышу летят. Но мама и сама деревенская, её за так не сжуёшь! А эти люди – городские, балованные, кроме как на «вы», разговаривать не умеют. Кто же их, кроме меня, от этого злыдня защитит?
– Так-то оно так, – говорили люди. – Но от Пасюкова всего можно ожидать. Такая порода. Сама знаешь.
О братьях Пасюковых давно ходила по деревне дурная слава, а началось всё с того дня, вернее, с той ночи, когда старший, Никифор, через месяц после собственной свадьбы убил человека. Убийство произошло на рыбалке по пьяному делу. Повздорили из-за пустяка – из-за рыбацких снастей. Никифор, как рассказывали очевидцы, вначале только кричал страшно и матерился, а потом всадил тут же, у костра, в такого же пьяного, как он сам, Сеньку Болышева, парня из соседнего Бутова, нож по самую рукоять.
Следователю потом подсказывали, что на убийство Никифор Пасюков пошёл не из-за рыболовных снастей, а из-за того, что девку не поделили. Никифор, мол, давно Сеньку предупреждал, чтоб тот не торчал под рябиной на угоре да чтоб песни без разбору не орал. Деревенские доброхоты хотели если не выгородить своего, то хоть облегчить его участь и как-то поднять в глазах закона облик убийцы – ведь не сумасшедший же он, из-за рыболовных крючков ножом пырнуть. Но эта помощь только ухудшила положение Никифора. Следователь стал говорить о «преднамеренности», о «заранее обдуманном злодеянии». Никифор получил за своё безрассудство десять лет и вскоре отбыл в места отдалённые.
Виновница убийства, Варька, до замужества за Никифором бойкая и разбитная девка, после всех этих страстей поутихла. Словно слиняла, повязалась чёрным платком, по улице стала ходить бочком и больше в сумерки. Спустя полгода незаметно для всей деревни родила рахитичного мальчонку и с оглядкой, тишком стала его растить.
Старики Пасюковы – хотя какие они были тогда старики – только за сорок перевалило – так переживали сыновний грех, так убивались, что деревня ни словом, ни жестом не напоминала им про кровавое дело старшего сына.
Вся брань и ненависть Сенькиной родни досталась младшему Пасюкову – Ивану, который учился в бутовской школе-десятилетке. Парню было шестнадцать лет. Похож он был на Никифора, словно по одной форме вылит: тот же короткий, словно подрубленный, нос, тот же взгляд исподлобья, та же усмешка в чутких губах, но наперекор внешней схожести братья так отличались характерами, словно родились в разных избах.
Никифор был неуёмен и в буйстве, и в радости, а про Ивана в деревне говорили – «затаённый». Но при всей своей смирности и даже, как многие думали, робости, ругань и брань бутовских он сносил стойко, – ни разу не пожаловался родителям. Комсомольская ячейка долго решала вопрос, быть или не быть Ивану в комсомоле, коли у него брат – убийца.
Простой народ защитил младшего Пасюкова: «Брат за брата не ответчик. Чего вы парня зря казните?» А Иван вёл себя так, словно все эти толки и разногласия никак его не касались. И окончательное решение – «оставить при билете» – встретил настолько невозмутимо, не выказывая при этом ни радости, ни благодарности, что князевские активисты только руками развели: «Стоило из-за такого глотки драть!»
В те времена молодёжь бредила тракторами и агрономическими курсами. Кто понапористей и башковитей – и вовсе в институты да в военные заведения лыжи навострил. А Иван Пасюков, хоть и учился самым приличным образом, наотрез отказался осваивать какую ни есть городскую науку и пошёл в конюхи.
На этой работе и застала его война. Уходил он на фронт осенью сорок первого. Отец к тому времени помер, племяннику шёл седьмой годок. Всех призывников провожали на фронт родители, девки да жены, а Ивана только сноха да мать, провожали тихо, без слёз и воплей. Мать, правда, взголосила напоследок, но Иван только плечами повёл, она и смолкла: такой уж он был человек – вежливый, одинокий, затаённый.
Бои на Угре были страшные. Свои, чужие покойники лежали голова к голове, нехороненные, неоплаканные, и было их такое множество, что, как пошли стаивать снега, то и талая вода, и ключи-верховодки, и подземные родники, и даже вода в колодцах – всё отдавало трупным запахом.
Но Князево фронт обошёл стороной. Справа горели деревни, слева Бутово в одну ночь стало пепелищем, а в Князево словно немцы готовили себе зимний постой – все избы стояли в целости, кроме разве коровника: в него попала какая-то шальная, то ли своя, то ли немецкая, бомба.
Про тайное возвращение Ивана так рассказывают люди. В ночь, за три дня до появления в деревне немецких лыжников-автоматчиков, в окно пасюковской избы постучали. Варька отодвинула занавеску, да так и присела от страха: небритый, страшный, в рванье – муж! Кинулась в сени, упала в слезах на грудь. «Тихо, не реви», – услышала она голос Ивана. «Обозналась…» – в ужасе всхлипнула Варька, но Иван и внимания не обратил на этот возглас. Тут и мать выскочила в сени, запричитала было, но сдержала крик, угадывая в появлении сына что-то недоброе, страшное. Иван прошёл в избу, обвёл мутным взглядом родные стены: «Всё, отвоевался!» – и сунул испуганным женщинам, как культю, замотанную грязной тряпкой руку. Варька отмочила грязную тряпку в тёплой воде и обнаружила, что два пальца на правой руке деверя, средний и указательный, как бритвой сняты, и вся ладонь черна от пороховой копоти.
Через неделю Иван вышел на порог родной избы – показаться народу, и в тот же день немцы назначили его старостой.
Когда Коська Мелин в полицаи пошёл, это никого не удивило, все знали – сукин сын, и что Наталья Губова с немецкими офицерами спуталась – тоже вроде так и надо, шалавая баба, а назначение Ивана было для всех неожиданностью. Потом говорили, что, мол, пошёл он на это подлое дело не своей охотой, а по принуждению: мол, стращали его немцы расстрелять на угоре под рябиной как комсомольца и бойца Красной армии. Были, правда, и такие, которые возражали этим примирительным словам: «Чего от Пасюковых ждать? Один брат – убийца, другой – палач».
Но Иван на должности старосты не палачествовал, не злобствовал, как был тихим да смирным, так таким и остался. Даже с немцами разговаривал сдержанно, негромко, не тянул стойку, словно стояли рядом с ним его односельчане.
Если бы появился вблизи Князево партизанский отряд, который нуждался бы в помощи деревни, то, может быть, и обнажилось бы в Иване его нутро – либо начал бы зверствовать, либо своим помогать, но в Князево некому было идти партизанить – всех подчистую слизнула война. Не только парни и мужики ушли на фронт, но и девки – медсёстрами и зенитчицами.
Оккупация для деревни прошла спокойно. Да никто и не верил, что это безобразие будет долго продолжаться, – все восемь месяцев жили при канонаде, слушали далёкие бои. Перед уходом немцы, как это у них положено, стали лютовать. Из шестидесяти пяти дворов осталось только пятнадцать. Всё пожгли, изверги! Но пасюковскую избу не тронули. Вначале – землянки, потом кое-как отстраиваться начали, но после пожаров Князево так и не оправилось. Был большой, крепкий колхоз, а стала – так, деревенька.
Иван Пасюков остался в родном колхозе и работал там конюхом, будто всё так и надо, будто жил, как все – по чести и совести. О его хождении в старостах люди и не вспоминали, не до того было. А летом сорок пятого года для всех неожиданно вернулся в Князево Никифор Пасюков.
Не сразу узнали односельчане в колченогом, но бравом солдате с медалями на груди бывшего уголовника, а узнав, простили ему все грехи. Да и как не простить? Никифор рассказывал, что только потому не получил Героя, что отдавал кровь за родину не как прочие, а в штрафном батальоне, но воевал, мол, на совесть. Зная мрачную удаль и бесстрашие Никифора, люди охотно верили его военным рассказам и даже гордились – вот какие мужики в Князево рождаются!
Полгода братья согласно прожили в одной избе, а потом решили Ивану отстроить новую – рядом, на месте брошенного погорелья. Даром что один колчерукий, а другой колченогий, – дом был построен в небывало короткий срок. Брёвна и доски доставали в соседнем леспромхозе. Чуть что не так, Никифор начинал кричать: «Я инвалид войны и дважды герой. Мне самый лучший материал подавай», а тихий Иван где бутылку поставит, где поговорит уважительно – тот же результат. Такую красоту срубили – загляденье. Артельные плотники сладили дверные и оконные рамы, доски на полу и потолке пригнали плотно, как паркетины во дворце, на окнах вырезали узорные наличники.
Иван переехал в новую избу. Посватался за вдовую Катерину-соседку, но жениться не успел. Пришёл его черёд отвечать за старые грехи. На этот раз долгого следствия не было. Прошли по деревне строгие люди в форме, поспрашивали – кто, мол, такой этот Иван Пасюков, верно ли, что дезертир и бывший староста, и, получив подтверждение всем своим догадкам, увезли подследственного неизвестно куда.
Никифор заколотил досками окна братовой избы и пошёл работать на его место, конюхом. Первый год после Иванова ареста Никифора то и дело таскали в район на доследование. Он медали начистит, поедет, вернётся угрюмый, злой. Потом, видно, поверили в органах, что ни о каких подробностях о братовой жизни при немцах он не знает и знать не может, отстали, но жизни всё равно не было. Чуть что – новый председатель, мужик строгий и грамотный: «Пасюкову шифер не давать, у него брат при немцах служил. На почёт-доску не вешать… И сыну его нечего делать в институте, пусть в колхозе трудится». И всё за Ивановы грехи.
Народ на Никифора зла не держал и хотел пожалеть: «Брат за брата не ответчик. Нельзя человека век корить. А что убийца, так отстрадал». Но Никифор отвергал сочувствие и прощение деревни, а только злобился на всех за это сочувствие – мол, я вам ещё докажу мою стоимость. А пока детей настругал сверх меры. Жил наособицу, ни у кого помощи не просил и сам жалел для людей добрых слов и поступков.
Иван отсидел полный срок и через десять лет вернулся в родную деревню. Как увидели его односельчане, сразу поняли – не жилец. В далёкой Сибири приобрёл Иван страшную болезнь – туберкулёз. Покашлял он без малого год и умер в сельской больнице, а изба перешла к старшему брату, к тому времени уже Никифору Ильичу, отцу восьмерых детей. Все ожидали, что Никифор с семейством переедет в крепкую, словно только что построенную Иванову избу, но, на удивление всей деревни, он этого не сделал, а продал наследство старухе Козининой.
Время шло, выросли пасюковские дети, разъехались кто куда, и только младшая, Нинка, осталась в деревне, вышла замуж за молодого, приехавшего из Орла зоотехника. Вскоре колхоз стал совхозом. Молодого зоотехника за крепкий характер и принципиальную критику назначили директором этого совхоза. Правление переехало в соседнее Радово, и Никифор Ильич нежданно-негаданно стал словно бы главным человеком в Князево – наместником высокой власти.
Поздно пришло к нему это звание – тесть директора совхоза, уже за шестьдесят перевалило. Но Пасюков приободрился, распрямил плечи, ещё звонче стал выкрикивать: «Я инвалид и дважды герой войны». Как с неба старику свалилась и премия, и пенсия по инвалидности, и немалая. Родительская изба к тому времени совсем развалилась, и уже выхлопотал Никифор Ильич отменный строевой лес и предупредил старуху Козинину, что будет рубить на лужайке за её домом новый сруб, как вдруг Козинина померла.
Вдохновленный этой неожиданной смертью, Никифор Ильич тут же поехал к зятю. Так, мол, и так, Иванова изба опять пустует, зачем новую рубить, если можно эту вернуть. Пусть, мол, совхоз выкупит её у Козининых и отдаст ему в бесплатное пользование, как инвалиду войны и дважды герою.
Директор во всём с тестем согласился, но как человек бережливый и государственный предложил Козининой за избу столь малую цену, что она только ахнула. «Как хочешь, – сказал директор. – Только ты эту избу никому не продашь. Все знают, что Князево через десять лет, от силы через пятнадцать пойдёт на снос. Триста рублей за твою халупу – красная цена.
Козинина хорошо знала упорный характер директора, поэтому спорить с ним не стала, а когда неожиданно нашёлся покупатель, да такой, что лучшего и желать нельзя, не стала ставить в известность начальство. Она спешно прописала в материнский дом тётку, потом от руки написала бумагу – де, такого-то числа-года от такого-то получено за дом столько-то денег, уговорила секретаршу сельсовета прихлопнуть бумагу печатью и препоручила материнскую избу хорошим городским людям.
6
Майские праздники Балашовы решили встретить в деревне, но перед отъездом, как это всегда бывает, появилось множество причин и обстоятельств, из-за которых им надлежало остаться в Москве. Во-первых, Димка рассопливился, во-вторых, Оля должна была участвовать в школьном праздничном концерте, в-третьих, дедуля наотрез отказался ехать куда бы то ни было и стал ходить по квартире задом, всем своим видом показывая кровную обиду. Было ещё в-четвёртых, в-пятых… «Вот видишь, – твердила Мария мужу, – мы не можем ехать в твой прекрасный дом».
Балашов спорить не стал. Он попарил Димке ноги, смазал нос гомеопатической мазью. Позвонил в школу и попросил освободить дочь от концерта, к дедуле уговорил приехать на праздничные дни свою одинокую тётку. Всё как-то устроилось, и только Оля, стойкая девочка, несмотря на страстные призывы отца послать Баха и Гедике куда-нибудь подальше, осталась верна своему долгу и теперь всем своим видом корила родителей, что они бросают её с дедулей и тёткой Натальей.
Марию раздражала непреклонность мужа – дался ему этот дом! Но внутренним чутьём она понимала, что на этот раз Балашова не удастся уговорить.
– Ладно, поедем. И позвони Зуйко, места в машине достаточно.
Инна по телефону любезно поблагодарила за приглашение и сказала, что мужа отпускает на все четыре стороны, а сама останется дома – нездорова, но в последний момент, когда в загруженную машину и кошку нельзя было посадить, неожиданно согласилась ехать. «Что за нелепая женщина, – подумала Мария, – даже такую безделицу не может решить сразу. И этот её вид…» Сама она ехала в деревню не развлекаться, а мыть, скоблить, убирать, и её неприятно поразили бархатные, туго сидящие на Инне брюки, кокетливый бант из яркой косынки, а больше всего – огромный, заляпанный краской мольберт, висящий на плече, как модная сумка.
– Инна хочет наш дом нарисовать, – сказал Максим, словно извиняясь за жену. Видно было, что ему неловко и что очень хочется, чтобы Инну приняли хорошо, по-доброму, но не относились к ней слишком всерьёз. – Она даже в магазин с мольбертом ходит, – добавил он с усмешкой. – У неё хобби – искать типажи.
– Сейчас у всех хобби, – проворчала Мария. – Никто работать не хочет.
Инна дёрнула плечиком, села на указанное место и всю дорогу молча рассматривала пейзаж за окном, хотя Балашов всё время призывал её присоединиться к общим хозяйственным заботам. Уже в машине были распределены обязанности – мужчины разломают перегородку в коровнике, очистят его от навоза, снимут на лопату грунт и засыплют пол песком. Женщинам надлежало отодрать обои в избе, вымыть с мылом брёвна и пол.
Но по приезде жизнь внесла свои коррективы. Тимка отказался проводить время в одиночестве – видно, он побаивался нового дома – и не отходил от матери ни на шаг. Мария с хрустом отрывала от стен обои. Инна неловко пыталась ей помогать. Пыль стояла такая, словно в избе рванули дымовую шашку.
– Николай, забери Тимку! – время от времени кричала Мария. – Ты слышишь, Николай? Ему надо на свежий воздух. У него же аллергия на пыль. О Господи…
Видя, что призывы не возымели своего действия, Инна бросила работу, сунула Тимке в руки кулёк с орехами и увела его из избы. Когда через полчаса Мария понесла на помойку неподъёмный рулон оторванных обоев, она увидела, что Тимка сидит на надувном матрасе, колет камнем орехи, а Инна стоит у мольберта и рисует мальчика на фоне цветущей бузины. Мария постояла рядом, сравнила линялую чёлку Тимки с нарисованной и, подавив в себе обиду: «Вот ведь устроилась!» – пошла продолжать работу.
Через час Инна вернулась в избу.
– Мария Фёдоровна, я пойду в лес погуляю с Тимкой, – и, встретив нахмуренный взгляд, быстро спросила: – Может, вы сама хотите с ним погулять?
– Хочу, – бросила Мария.
На пороге она обернулась. Инна стояла посреди кучи мусора, окутанная клубами пыли, как нарядный чистенький ребенок, заблудившийся в чужом беспорядке.
– Может, мне печь разжечь? – крикнула она беспомощно и, как показалось Марии, картинно вскинула руки.
Балашовская изба была третьей от края деревни. Последней стояла скособоченная халупа, и сразу за ней расстилалось поле с холмиками старых окопов и широкой, уже пыльной дорогой, текущей к берёзовой роще. «Печь разожгу, – внутренне негодовала Мария, твёрдо прибивая ногами пыль. – Знаю, голубушка, как ты сейчас будешь её растапливать. Побежишь в коровник, повертишь юбкой перед мужиками, они работу побросают и начнут наперегонки исполнять твои желания нелепые. Какая юбка? Она же в брюках», – вспомнила вдруг Мария. Эти брюки ещё больше её разозлили, и она начала вспоминать всё глупое и почему-то обидное, что успела ей рассказать Инна: «Девчонкой я выбрала не ту профессию, она меня угнетает. Миром правит красота. А Максим говорит, чтобы я опять пошла работать в проектную контору. Бр-р-р! Поверьте, я счастлива только когда рисую. Мне легче нарисовать натюрморт из грязной посуды, чем её вымыть». Теперь в какой дом ни сунься, у всех хобби. Никто не хочет мыть грязную посуду. Все хотят её рисовать или стихи про неё сочинять, или песни. И ни у кого нет такого хобби – хирургия. Для профессии нужно уменье, а для хобби – ничего, кроме лёгкого характера. У меня нет хобби. Видно, у меня тяжёлый характер, и, скорее всего, у меня просто нет сил. А может быть, рисовать так же трудно, как оперировать? Во всяком случае, не ей», – и рассмеялась.
– Ой, дура! Ой, моралистка старая. Что ты к ней привязалась? Она – ребёнок, тридцатилетний ребёнок, который никогда не вырастет. Главное для неё – ни за что не брать на себя ответственность. А ты просто устала, – сказала она уже вслух и увидела, что они с Тимкой дошли до леса.
– Мама, а под берёзами мох растёт?
– Растёт, милый. А зачем тебе мох?
– Папа сказал, что мы будем им конопатить стены. А что такое конопатить?
В лесу Тимка повёл себя, как охотничий щенок на первом выводе. Он бегал, внюхивался, рвал какие-то травинки, жевал их, влезал на пни и поваленные деревья. Дорога вывела их к реке, на широкий пойменный луг.
– А где наш дом? – спросил Тимка, вглядываясь на раскинувшуюся на холмах деревню.
– Его отсюда не видно. Во-он наша осинка. Смотри, вон церковь старая, потом, длинный такой – это сарай, а за ним наша осинка.
– А церковь зачем?
– Там склад. Там хранят разные совхозные вещи, – сказала Мария и внимательно всмотрелась в очертания церкви.
Нет, какой склад? Это уже руины. Если бы время сберегло хотя бы перильца на колокольне, или решётку в окне, или хотя бы железный каркас главок, то сердце откликнулось бы жалостью к этому поруганному, осквернённому храму. Но, освещённая солнцем, словно парящая над деревней, церковь была легка и картинно красива – в ней не было ничего живого. Она скорее казалась остовом могучей скалы, из которой ветер выдул всю лишнюю породу, а дожди смыли песок и грязь, чтобы получилось что-то отдалённо напоминающее творение человеческих рук. У круглого надолба, который когда-то был барабаном главки-луковицы, тот же ветер намёл земли и бросил в неё лёгкое берёзовое семя, чтобы выросло деревце, стройное и сильное, словно стояло оно не на двадцатиметровой высоте, а на опушке леса подле кряжистой и сильной матери-берёзы.
«Умирает деревня», – подумала Мария с внезапной тоской.
Зимой это умирание не было столь заметным. Сугробы замели косые изгороди и стоптанные крылечки, иней покрыл источенные жучком брёвна и опушил бурьян, выросший на месте старых пепелищ. Потом стаяли снега, и весна обличила всю дряхлость и какую-то беззаботную нищету деревянных владений.
Избы ещё храбрились, выставляя напоказ, как главное свое достоинство, чистоту стёкол, узорочье наличников и свежую зелень в палисадах, но внимательный глаз видел, как покосились срубы, как замахрилась и истончилась дранка на кровлях, как расшатанно скособочились дверные косяки. Преобладающую часть населения Князево составляли старухи – все как одна беззубые, весёлые, лёгкие в ходу, беспечные и говорливые. Пренебрегая капитальным ремонтом, они пёстро и разномастно латали свои жилища: дырявая кровля украшалась куском толя или шифера – что удалось добыть. Подгнившие брёвна замазывались глиной, щербатые выгнутые двери красились розовой или голубой краской – какая была под рукой, и вся деревня была похожа на старое, но милое сердцу лоскутное бабушкино одеяло.
Особенно неприглядный вид имели сараи. Их давно уже не латали и не штопали, и они были так щелявы и обветшалы, так измучены своей уже никому не нужной жизнью, что казалось, дунь на них или посмотри слишком пристально, и они с облегчением рухнут под собственной тяжестью, превратившись в кучу древесного лома.
– Мам, смотри, стол!
Тимка стоял на плоской огороженной кустами полянке и деловито ощупывал крепкую столешницу, примостившуюся на вбитых в землю берёзовых чурбаках. По обе стороны этого самодельного стола стояли такие же крепкие скамейки. На длинном шесте победно реял кусок линялой парусины – кем-то забытый или нарочно оставленный флаг, – символ лета, реки, добрых отношений, костров и песен.
– Кто здесь жил? – спросил удивлённо Тимка.
– Какие-то хорошие люди.
– Хорошие?
– Да, милый. Это байдарочный лагерь. Люди приплыли сюда в лодках, сделали стол и скамейки, яму вырыли, чтоб было куда мусор бросать – консервные банки и прочее. Они строили не только для себя, а для всех хороших людей, которые плавают по этой реке. Раньше, когда тебя ещё не было и когда я не была так занята на работе, мы с папой тоже ходили на байдарках.
Она села на скамейку, поставила локти на чистые доски стола и вздохнула. Вдруг, именно здесь, среди привычного туристического быта, она почувствовала себя дома. Сколько их было, таких стоянок! Обкопанный канавкой прямоугольник на земле указывал на место для палатки, у старого кострища – сучковатые, обгоревшие с боков рогульки для палки, под столом – сухие дрова на растопку и початая пачка в целлофановом пакете. О милое байдарочное братство!
Мария представила пыльную, зябкую избу… Ржавые ходики с одной стрелкой. В самом деле – зачем в деревне считать время? Дохлые промасленные мухи в пустой лампаде, чёрная от копоти печь, корзины с отвалившимися ручками и заляпанным навозом дном, а главная – мерзкая пушистая труха изгрызенных мышами обоев и пакли. Мышиного помёта было так много, что его пришлось выносить ведрами. Целые колонии мышей шевелились, трудились, шуршали под голубенькими обоями. Этот мерзкий мышиный дух преследовал Марию всюду, и хотя она понимала, что помещение год стояло без людей, и прогорклый мышиный запах – плод её воображения, она с трудом подавляла в себе ощущение брезгливости и какой-то извечной тоскливой скуки.
Тимка потряс мать за плечо:
– Ты что молчишь? Это правда?
– Что – правда?
– Правда, что в нашем доме жил хорёк? Кто такой хорёк?
– Это такой зверёк, красивый и злой. Откуда ты знаешь про хорька?
– Дядя Максим сказал, жил у нас хорёк, а потом его изловили в капкан, потому что он… – Тимка задумался, вспоминая нужное ему слово, и кончил скорее вопросительно: – Кур давил? Мам, а как это – давил?
– Пошли, Тимка, домой. Обедать пора.
– А где сейчас хорёк?
– В зоопарке, наверное. Тебе понравился наш новый дом?
– О-очень!
– Чем же он тебе понравился?
– Чердаком. Папа обещал устроить там мастерскую. Он даст мне старый телевизор, и мы будем его чинить.
«Для этого вряд ли стоило покупать дом в такой дали, – подумала Мария и усмехнулась. – Хорёк… Наверное, Максим всё выдумал. Хотя куда же девались мыши? Наличие хорька всё объясняет».
Она так и произнесла про себя это казённое слово – «наличие». Так что мы имеем в наличии? Вот узнала, что в доме жил хорёк, и эта подробность как-то сразу изменило лицо этого дома. Если в Москве меняешь квартиру, то тебе гораздо важнее знать состояние паркета и сантехники, чем сведения о живших в ней ранее людях. Квартиры в многоэтажных домах безлики, и прежние хозяева, уезжая из дома, не оставляют в нём ничего – ни запаха своего жилья, ни своих теней, ни воспоминаний, а если жил в их квартире маленький лохматый домовой, то он, как собака, привязан скорее к хозяевам, чем к дому, и уезжает вместе с ними на новую квартиру, спрятавшись в щели старого шкафа.
А деревенский дом с осинкой у входа, с тёмным сырым коровником, с лужайкой, выбегающей на угор, – он самобытен. Сосновые брёвна ещё хранят тепло от дыхания прежних домочадцев, каждая деталь может напомнить о чьих-то руках, которые касались этих стен и оставили на нём свой след, как безликая, но реальная капля, долбившая камень.
«Мы купили не только дом, – горестно и удивлённо подумала Мария. – Мы купили его легенды, традиции и привидений. Поладим ли мы с ними? Иначе нам не сдобровать».
7
– Что главное в доме? Очаг… – Балашов взял длинную кочергу, пошевелил угли в печи и подтолкнул к раскалённому крошеву сучковатое бревно.
Днём они разобрали внутренние перегородки коровника, распилили циркулярной пилой трухлявые, заляпанные сухим навозом доски и брёвна. Поленья получились огромные, по длине очага.
– Эко пылает, – сказал Максим, – как в замке.
– Тепло…
Балашов сел рядом с Максимом за стол, заставленный различной снедью, и стал нарезать колбасу. Видно было, что он пребывает в состоянии полного довольства и душевного размягчения.
– Послушай, – сказал Максим, – здесь совсем другие звуки.
В вечерней деревенской тишине каждый звук – короткое шипение зажжённой спички, лязганье ножа о тарелку, тиканье ходиков с одной малой стрелкой – ощущался как что-то материальное, ёмкое. За перегородкой Мария читала Тимке сказку на ночь, и казалось, что слова её осторожно и вкрадчиво шуршат, как птицы в палой листве. Больше всего звуков рождала печь. Она напряжённо гудела, а изредка, словно от полноты ощущений, гулко и раскатисто ухала или резко встрескивала, рассыпая сноп искр. Языки пламени выбивались в закопчённое устье очага и лёгким дымом уходили вверх, в трубу.
Мария на цыпочках вышла из-за перегородки, опустила занавеску на дверном проёме.
– Пьянствуете?
– Собираемся.
– А Инна где?
– Пошла побродить с мольбертом, – в голосе Максима, как всегда, когда он говорил о жене, прозвучали виноватые нотки. – Она просила её не ждать.
– Пусть погуляет. Человеку полезно побыть одному, – примирительно сказал Балашов и поставил на стол чугунок с дымящейся картошкой. – Разливайте. Закуска готова.
– Ну, – Максим поднял рюмку за солидарность, так сказать, всего трудящегося люда.
– С Богом, – согласился Балашов.
– Бог-то здесь при чем?
– Это я к слову. Бог всегда при чём. Селёдку бери. Очень с картошкой хорошо. Разве такую картошку на газу сваришь? Для такой картошки нужна русская печь.
– Где лосося достали?
– Заказ в институте у Николая был. Праздничный.
– Хороший заказ. Только буженина пересолена. Повторим?
– Повторим, – согласился Максим и вздохнул: – Что-то я последнее время пить много стал. Возраст, наверное.
– При чём здесь возраст?
– Друзья стали умирать. Раньше только на днях рождения у них пил – раз в году. А поминок… Похоронили – выпили, потом на девятый день, потом на сороковой, потом на полгода со дня смерти. Не прийти нельзя. И помянуть надо, и вдову пожалеть. Так и пью целый год.
– Что-то рано твои друзья помирают, – сказала Мария. – По статистике, средний возраст мужчин сейчас – шестьдесят четыре года.
– У геологов другая статистика.
– Помянуть, конечно, надо. Как не помянуть, – Балашов сочувственно качнулся к Максиму, прислонился к нему плечом. – Но пьянствовать при этом совсем не обязательно, – он выпил водку, поморщился. – Скажи, что у тебя язва или гипертония. Сочини легенду.
– Какая легенда? Все свои, не поверит никто. Или, того хуже, сочувствовать начнут. На поминках это стыдно. Думаешь: покойный Серёжка смотрит на тебя с облаков и ухмыляется: «Ух ты гад! Какая же у тебя, сукина сына, язва? Уж я бы на твоих поминках выпил как человек». Вот на Усть-Илиме у меня была легенда! Отличная легенда. Пили там страшно. Мороз, работа по шестнадцать часов в сутки, а потом нары в теплушке, шашки и спирт. Мне наливают, а я к застолью не иду. «Ребята, не пью… Спортсмен, разряд по боксу, туда-сюда…» Вся база со мной не разговаривала, пока не осенило. Прямо как прозрение. «Братцы, – говорю, – сознаюсь. По дури скрывал, что я леченый алкоголик. Зашитый… Если хоть сухого приму, мне крышка».
– Ну и как? – Балашов засмеялся. – Отстали?
– Не только отстали, а начали относиться ко мне с полным уважением. С других участков ребята приезжают: «Иди к нам, выпьем…», а мои в один голос: «Ему нельзя. Он своё уже выпил. Не нам чета».
– В Князево нам эта легенда тоже бы пригодилась, – сказала Мария со смехом, – а то вас здесь за мужиков не считают. Умные люди говорили, что пока вы со всей деревней не выпьете, добрых отношений с соседями не будет. А вы ведёте себя кое-как…
– Глупости говоришь, – обиделся Балашов. – Мы сад посадили.
– Да кому нужен твой сад? Я сегодня за молоком ходила, а старуха хозяйка удивляется: «Зачем вам столько молока? В обед три литра, вечером три литра…» А я говорю: «Мужики пьют». А она: «Молоко? В праздничный день?» И как начала смеяться! К ней соседка зашла, она и ей рассказала, что вы на праздники молоком опиваетесь. Никогда не видела, чтобы так хохотали.
– И нечего хохотать, – повысил голос Балашов. – Если надо, так и выпьем. Я завтра к левому соседу пойду, к Шутову. Он обещал мне сливу и вишен для моего сада дать. Он мужик хороший, тракторист, только я его трезвым никогда не видел. Наверное, оттого, что мы никогда в будни не приезжаем, – он повернулся к Максиму: – Пойдёшь со мной.
– Нет. Не хочется. Ты на словах передай, что я леченый алкоголик. И старухам расскажи. Пусть уважают, а я лучше делом займусь. Какой у нас назавтра распорядок?
– Овощи посадить, вот что, – оживился Балашов. – Только не знаю, где наш огород. Здесь у колхозников огороды не при усадьбе, а где-то за общим плетнём, – он благодушно усмехнулся. – Люблю устраиваться. И книги про это люблю читать, «Робинзон Крузо», например. Там, конечно, философия добра и зла и всё такое, но куда интереснее читать, как он изюм сушил и хлеб растил. Или «Таинственный остров»… Хорошо! Конец там, правда, поганый. Только всё устроили – бац… Землетрясение! По-моему, Жюль Верн здесь что-то недопонял.
– Всё он понял. Если всё устроишь, чтобы потом только жить – значит, помирать пора. Да так и не бывает. Жизнь и есть бесконечное устраивание всего и вся…
– Всё вы правильно говорите, но как-то скучно, – поморщилась Мария.
– Ничего ты не понимаешь, – Балашов встал, зачерпнул ковшом воду из ведра, напился. – Вода здесь вкусная, ключевая, – он повесил ковшик на гвоздь, утёр рукавом губы и повторил: – Ничего ты не понимаешь. Я здесь душой отмяк. Печка горит, тепло, тихо, здесь даже самолеты не летают. Интеллигентный человек должен жить в деревне. Давайте свет погасим?
Никто ему не ответил, и, приняв это молчание за согласие, он щёлкнул выключателем, зажёг свечу и, накапав жидкого стеарина, укрепил её на донышке банки. Пламя заколебалось, длинные тени потянулись по бревенчатым стенам.
Свет пламени по сравнению с очагом был так слаб, что все невольно сосредоточили своё внимание на ярко догорающем кострище. Чистые, без малейшей копоти стены очага сияли мягким розовым светом. Печь прокалилась, утихомирилась, и теперь не гудела, а покойно, ровно дышала, чуть потрескивая углями.
Главным в кострище было длинное сучковатое бревно. Концы его ещё пылали, а середина уже выгорела, образовав раскалённый до оранжевости свод, и по этой оранжевости лёгкими тенями пробегали фиолетовые языки пламени. Лежащие рядом поленья, покороче и потоньше, чем бревно-великан, уже отгорели. Они ещё сохраняли форму, но красные тела их уже подёрнулись серой, узорчатой, как лишай, золой, и исходили последним теплом, готовые рассыпаться в сизый прах.
– Знаете что, – Максим неслышно отодвинул скамью и встал, – вы тут сумерничайте, а я пойду Инну поищу, – и сразу за дверью, словно слова его были давно ожидаемым сигналом, раздался свежий голос: «Я здесь, я пришла», – потом что-то упало, зазвенело – и, рывком отворяя дверь, в комнату вошла Инна.
– Ой, как у вас уютно, – заворковала она с безмятежной интонацией. – А я заблудилась. Вначале церковь рисовала, потом закат, а потом бросила. Здесь луна такая сумасшедшая – красная, круглая. Апельсиновая. Я всё бегала, бегала… У речки туристы-байдарочники. Они меня накормили. И напоили немного. А на дорогу меня бабушка вывела. Она на лугу коней пасла. Ласковая такая бабушка, всё мне рассказывала, рассказывала…
– Тише, пожалуйста, Тимку разбудишь, – строго сказал Максим и сел, оперев лоб на сомкнутые пальцы, словно отгородился от всех.
Инна умолкла на мгновенье, не понимая, почему ей не радуются, отчего Мария смотрит так отчуждённо и Максим прячет взгляд, потом поставила мольберт у порога, села рядом с мужем и опять стала рассказывать звонким шёпотом про красную луну, и лошадей в тумане, и бабушку: – «Щёки у неё впалые, глаза чёрные, страшная, как ведьма, и такая добрая», – про туристов на реке: «У них гитара… там один так пел, так пел…» Растрёпанные, влажные от росы её волосы блестели, плечи зябко подрагивали, яркий бант на груди шевелился, порхал, как прилетевшая на огонь бабочка, язык болтал без умолку. Хмельная и возбуждённая, она виновато ластилась к мужу:
– Ну что ты молчишь? Налей мне вина… или водки, – изогнувшись, Инна заглянула в лицо мужу. – Я выпить хочу.
Максим хмуро разлил водку по рюмкам.
– За что будем пить?
– За сад, – тут же отозвался Балашов. – А если быть точным – за сады.
– Яблоневые?
– Всякие. Чтоб цвели. И чтоб дети. Много.
– Самый убогий тост на свете. Мысли никакой. Какие-то пионерские выкрики, – ворчливо сказала Мария.
– Ну что вы? Есть мысль, – Инна потянулась к Марии с рюмкой, торопясь смягчить её холодный тон. Я буду рисовать цветущие сады! Если у вас не вырастет настоящий сад – а он здесь не может вырасти, я знаю, – то пусть будет нарисованный. Максим, почему ты молчишь?
– Нарисуй заодно и яблоки из этого сада. Хотя вряд ли они заменят настоящие.
– И детей нарисуй, много, – Мария засмеялась негромко – чем-то вдруг её позабавила мысль, что всё можно нарисовать. Вслед за ней Максим тоже залился смехом, обнял одной рукой Инну и стал чокаться со всеми, приговаривая: «Нарисуем тост, а? Любой тост можно нарисовать…» – и только Балашов, не понимая общего веселья и даже находя в нём что-то обидное для себя, оглядывал всех и спрашивал, негодуя:
– Что вы ржёте? Почему мой сад не вырастет? Нет, ты скажи…
– Молчите все! – крикнула Инна. – Я же не просто так сказала. Я же не сама выдумала. Это мне бабушка сказала. Она говорит, овцы бродят по угорам, совхозные овцы. Они все листочки на яблонях сжуют, даже коры не оставят.
– Как это – коры не оставят? – помрачнел Балашов. – Ты слышишь, что она говорит? – спросил он жену.
– Я знаю отличный способ борьбы с овцами, – отозвалась та, – просто замечательный способ.
– Какой?
– Старый и проверенный. Мы поставим забор.
– С этого и надо было начинать, – хохотал Максим. – А что нам Пасюков скажет? Вряд ли он одобрит нашу идею. Забор надо нарисовать.
– Не хочу забор, – взмолился Балашов. – Мария знает, я очень не люблю заборы. В крайнем случае живую изгородь. Посадим шиповник, он красивый и колючий.
– Совхозные овцы сжуют твой шиповник. Нужен забор. И ещё бабушка сказала, – продолжала Инна, – что зря мы астры вдоль палисадника посадили. И горох… Как я понимаю, в этой деревне очень агрессивные куры. Они взрыхляют землю лапами и склёвывают всё, отдалённо напоминающие зерно. В деревне все ставят высокие плетни, через которые куры не могут перелететь.
– Всё понятно, – сказал Максим громко и торжественно. – Завтра мы вдоль нашего гороха поставим высокий плетень. Перелетевшие куры пойдут в бульон. Кто за? Выпиваем…
– Вы что, с ума посходили? Какой плетень? Максим, я держал тебя за умного человека. Манька, перестань хихикать! И включите свет, чёрт подери! Не могу я эти глупости в темноте обсуждать.
– А хорошо, что в доме есть электричество? – Мария чуть гнусаво передразнила мужа: – Ах, этот чудесный забытый крестьянский быт…
И опять все рассмеялись.
8
С самого утра Балашов начал нервничать, словно предчувствуя неотвратимо надвигающиеся склоки и ругать, суету, одним словом.
– Ладно, огородим участок. Уговорили, – рассуждал он за завтраком. – На забор возьмём самые негодные, самые грязные брёвна из коровника. Крепкий свежий забор очень раздражает глаз. Я как вижу такой забор, думаю: «Какого чёрта? Зачем его поставили? Что прячут за этим забором? А мы поставим гнилые некрашеные столбы, и люди сразу поймут, что нам нечего прятать, что забор нужен только для защиты сада. И потом, с Пасюковым надо посоветоваться.
– Уехал твой Пасюков. Уехал к родственникам в деревню.
– Уехал так уехал. Вдоль забора мы посадим иву. Люди говорили: «Воткни в землю ивовый прутик, он и прорастёт». Природе, главное, не мешать, – продолжал Балашов разглагольствовать, но как только пришла пора заняться заборным делом, он тут же заявил, что садовые дела поважнее, и, захватив бутылку «Столичной», ушёл к соседу Шутову.
– Я пока ямы под столбы буду рыть, – крикнул Максим ему вслед, и Балашов, весь поглощенный заботами о будущих сливах, ответил коротко:
– Давай, давай, – и скрылся за соседним плетнём.
Честная, полюбовная сделка заняла два часа.
– Бери каждое третье дерево, мне сад прорежать надо, – подвёл Шутов черту дружеской беседе.
Столь щедрое разрешение Балашов воспринял как немедленный призыв к действию и начал было поднимать домочадцев на пересадку слив, но, встретив решительный отпор Марии и укоризненный взгляд Максима: «Начал дело – надо кончать», – сразу умерил пыл. Он ещё потянул время: полил яблони, кусты, не забыл посаженную вчера сосенку и дёрн с цветущими маргаритками, который они вместе с Тимкой вырезали с Тугановской поляны – последнего напоминания о когда-то цветущей барской усадьбе. И только после этого с ленцой и неохотой стал вбивать в землю столбы будущей ограды.
Работа шла вяло. Балашов не заводил обычного разговора про тайгу, не подталкивал Максима к геологическим байкам, а говорил сам, сбивчиво и бестолково. «Столичная» нагрузила его голову какими-то тёмными идеями, и он не столько ругал скучную работу, сколько пытался решить сложную проблему, что-то вроде «Человечество и забор», или «Цивилизация и забор», а может быть, «Забор и самосознание», касаясь при этом судеб народов, традиций, этнографических особенностей и даже экономики. Максим посмеивался, а иногда слабо возражал: «Это ты, братец, загнул…»
– Да знаю я, что ты мне скажешь. Монастырские стены, кремль, решётка летнего сада, «твоих оград узор чугунный»… Я не про эти заборы говорю, и ты меня отлично понимаешь. В то и дело, что прогресс, так сказать, развитие общества и его производительных сил отнюдь не уничтожают заборы. Наоборот. С этим самым развитием забор только крепнет. Да, так о чём я? У нас в лесу недалеко от дома – хороший лес, там даже грибы растут – неизвестные личности поставили стену из бетонных плит длиной эдак с километр, а может, больше. Народная молва утверждает, что за забором будет чья-то «территория». Смешно, да? У нас слово «территория» накрепко связано со словом «забор». Говорят что будут строить какой-то институт, но пока у хозяев хватило денег только на прямую, унылую, как тоска, стену – часть будущей ограды. Уже пять лет стоит белая стена, ничего ни от кого не ограждая. Она словно делит мир на ту и эту сторону смысла. Глупость, но гулять по лесу совершенно невозможно.
– Ой, Колька, трудный ты человек, когда выпьешь. Настырный. Я рассматриваю твои высказывания как скрытый саботаж.
Так они беседовали, ставили столбы, засыпали землёй ямы и утрамбовывали их толстым бревном, и неизвестно, куда бы забрел Балашов со своей многослойной заборной темой, если бы Максим не сказал:
– Всё, полдела сделали. Со столбами я сам окончу. Теперь давай решим, как колья забивать. А может, просто проволоку натянем?
Столбы стояли редко, пять шагов – такой между ними был интервал, но эти столбы словно пунктирной линией наметили границу владений. «Вот она, – моя территория», – подумал Балашов.
В какие слова можно было обрядить его теперешнее состояние? Именно здесь, на угоре, он, может быть, первый раз в жизни испытал странное и радостное чувство. Ему казалось, что он получил в собственность весь мир и стал владетелем и реки, и леса, и пойменных лугов, и неба над головой, а теперь из-за какой-то нелепицы, глупости, вздора он должен отгородиться от всего этого грязным забором и признать своей только эту маленькую лужайку с нераспустившимися саженцами, крохотной сосной – ладонями можно прикрыть, – десятком маргариток и кучей сухого навоза под гнилыми брёвнами.
– Глупость какая, – сказал он раздражённо. – Знаешь, ты сам решай. А я пошёл иву резать. Ивовый забор – это ещё куда ни шло.
По склону, торопясь и звеня галькой, бежали ручьи. На лугу они замедляли бег, сливались вместе, вбирая в себя подземные ключи. В низине раскинули кроны вековые ивы – величественное зрелище. В их изогнутых омытых родниками корнях росли сиреневые хохлатки – ранние пахучие цветы – и жёлтый гусиный лук.
При впадении в Угру полноводный весенний ручей разделялся на два рукава, образуя небольшой остров. На этом сухом поросшем прошлогодней травой островке у самой воды стояла цветущая верба. Пушистые, как цыплята, серёжки её впитали солнечный свет и исходили теперь тончайшим ароматом, молодые побеги лаково сияли, и весь куст напряжённо и торжественно гудел от пчёл, прилетевших за обильным весенним взятком.
«Жаль рубить такую красоту», – подумал Балашов и сказал, обращаясь к звенящему кусту:
– Ты извини, браток…
Он резал ивняк аккуратно и неторопливо, нарезая у каждого куста по десять веток, потом переходил к следующему. Хватит, сколько можно… Он бросил охапку на землю, снял рубашку, разулся и блаженно пошевелил голыми пальцами, представляя, как окунет сейчас в воду пропотевшие ноги, как ополоснёт лицо и шею. «А может, искупаться? Жара-то совсем летняя. Нет, рано ещё», – уговаривал он себя, но уже снимал майку и брюки. Он бросился в воду с разбегу. «Ух!» Вода студёно обожгла тело, ноги свело судорогой. «Ух!» – ещё раз крикнул Балашов и засмеялся, радуясь этому хрустальному холоду.
И уже после того, как он отёр ладонями мокрое тело, выжал трусы, сел под вербу и блаженно закурил, ему подумалось легко и счастливо: «О чём я? Какой забор? Да ну его к лешему…» И, натужливо вспоминая руководство по плетению корзин, опубликованное с рисунками, эскизами и всеми подробностями в журнале «Техника – молодёжи» он стал плести из ивовых прутьев тару для яблок своего будущего сада.
А Максим тем временем продолжал конструировать ограду. Трудно строить забор, если нет в полном достатке материала и всех необходимых инструментов. Ива ивой. Проволока – тоже хорошо, но ни того, ни другого нет под рукой, можно пока и колья вбить. Он так увлёкся работой, что не заметил, как подкатил к соседнему дому запылённый газик, как вылез из него хромой сосед Пасюков, любовно поддерживая подвыпившего зятя – директора совхоза. И только когда над ухом раздался тревожный крик «Это что же вы, паразиты, натворили?», он понял, что пришла пора отчитываться перед строгим соседом.
– Не кипятись, дед, – сказал он миролюбиво. – Мы забор строим.
– Какой ещё забор? – Пасюков был небрит, взлохмачен и зол. Хмель никак не улучшил его настроения, а только усилил неприязнь к горожанам. – Кто же вам такое разрешил? – кричал он с ненавистью. – Да какого ж такого чёрта? – потом не выдержал, решительно шагнул к ближайшему столбу, раскачал его и, на удивление Максима, выдернул из земли. Праздничная голубая рубаха его тут же окрасилась чёрными полосами, но это не смутило поборника справедливости, и, припадая на простреленную ногу, он бросился к угловому столбу.
– Дед, ты что, с ума сошёл?
Первый столб поддался легко, потому что был трухлявым и поставлен скорее для виду, но угловой – грязный, сырой, сучковатый и тяжёлый, как железная балка – был на совесть врыт в землю и для прочности обложен камнями. Его и втроём из ямы не вытащишь, разве что клещами, как гнилой, но прочно приросший к челюсти зуб.
– Есть правительственный указ. Указ, говорю, чтоб никаких участков… Ты Конституцию читал? – орал Пасюков, украшая свою речь искристым матерком.
– Погоди, Никифор Ильич, – Максим всё ещё не верил, что им не удастся мирно решить все вопросы. – Материться я тоже умею. Мы не от людей загораживаемся. Нам сказали, что овцы бродят по этим угорам, а мы сад посадили.
– Вы посадили, а мы выдернем, – упоённо блажил Пасюков. – Это земля колхозная, и не вам, дармоедам, на ней работать!
Видя, что просто так со столбом не совладать, старик врезался в него с разбегу. Бревно чуть качнулось, родив глухой стон, как оседающий под плугом пласт земли. – Мать твою… – выдохнул Пасюков. – Лопату давай.
Он был так уверен в правоте своего дела, что ждал от Максима не только понимания, но и помощи, но тот, раздражённый нелепостью всей сцены и своей вынужденной беспомощностью – не драться же ему, в самом деле, со стариком, инвалидом войны, – упёрся в столб плечом и крикнул в загорелое, поросшее седой щетиной пасюковское ухо:
– Может, тебе ещё лом принести? Может, мне трактор с поля пригнать? У тебя забор есть? Есть… Вон какой! Я тебе ничего не говорю. Живи сам и другим не мешай!
– Не положено! – Пасюков ткнул кулаком в грудь Максима. Тот ещё крепче вцепился в столб.
– А тебе положено?
– Мне всё положено, потому что я живу здесь седьмой десяток. Да что мне с тобой, алкоголиком, разговаривать?
– Почему алкоголиком? – удивился Максим.
– А потому что в деревне все знают. Это тебе не город. Здесь не укроешься. Отойди от столба! Во-ло-о-одя! – крикнул Пасюков неожиданно дребезжащим жалобным голосом.
Старик мог и не кричать, не тужить глотку, потому что по заросшей одуванчиками луговине, стараясь за твёрдой и важной поступью скрыть праздничный хмель, уже спешил для важного разговора зять Володя, он же Владимир Фёдоров, директор совхоза.
Владимир Фёдоров был высок – вернее сказать, длинен, – сутуловат, кучеряв и неправдоподобно молод – тридцать, а то и того меньше. Похоже, приехал он с какого-то заседания – тщательно отутюженные брюки всё ещё хранили отзвук торжественных речей, но белая майка и войлочные, огромного размера тапочки придавали ему домашний и тихо семейный вид. Крупная, с загорелой шеей голова и такие же загорелые кисти рук казались приставленными к белому в рыжих веснушках телу.
Директор не подошёл к угловому столбу, где стояли в ожидании Максим и Пасюков, а остановился чуть поодаль, расставив для устойчивости ноги и наблюдая исподлобья, как стягиваются на импровизированное собрание городские соседи. По угору уже поднимался Балашов с кривобокой корзиной в руке. Неслышно подошла Мария и встала у саженца яблони. Тимка привёз песок на пластмассовом самосвале и высыпал его под сосенку. Откуда-то появилась старуха-соседка, мать тракториста Шутова. Она притулилась к своему плетню, сложила руки под впалой грудью и замерла, безучастная и строгая, как каменная баба скифских степей.
Балашов подошёл не спеша, скользнул взглядом по выдернутому столбу, выразительно посмотрел на Максима – мол, я тебе что говорил, – и, обращаясь к директору как-то слишком по-городскому, спросил:
– С кем имею честь?
Директор встряхнул крутыми завитками и, неожиданно повернувшись спиной к Балашову, пошёл по поляне, оглядывая следы человеческой деятельности.
– Директор это, – патетически прошептал Пасюков.
– Очень рад познакомиться, – продолжал Балашов, следя, как шевелятся при ходьбе по-детски худые лопатки директора, – ваш визит весьма кстати. Я намеревался спросить вас, где находится закреплённый за этим участком огород. Мы хотели посадить там кой-какую зелень для детей. А то в вашем совхозе ничего не купишь.
Весь дальнейший разговор проходил странным образом. Каждый – и Балашов и директор – задавал вопросы, первый – вполне конкретные, второй – чисто риторические, словно и не обращённые к собеседнику, но тем не менее яснее ясного объясняющие суть дела. Балашов спрашивал про семена репы: где та земля, где их посадить? Про овец, что бродят по угорам и обгладывают сады, про пчёл, которых он хотел развести и разместить где-нибудь в гречишном поле, на что директор решительно отвечал:
– Куда сельсовет смотрел? По какому праву? И как она посмела, негодница, без моего ведома печать прихлопнуть?
Он уже кончил осмотр участка и теперь тяжело топтался возле маргариток, не решаясь наступить на них и не желая обойти стороной. Видно было, что эти маргаритки, торчащие на участке, как пёстрая заплата, особенно удивили и разозлили его: он даже топнул ногой, потом размашисто перепрыгнул через них, подошёл к Балашову и, глядя поверх его головы, отрывисто приказал:
– Саженцы убрать! Столбы убрать! И дом убрать! Забирайте сруб и везите его в другое место.
Это было уже настолько конкретно и, как показалось Балашову, нелепо, что он даже рот приоткрыл и выронил корзину.
– Куда ж мы его перевезём?
– А это не моё дело, – директор поморщился – наверное, у него была изжога, а может, сам разговор вызывал тошноту. – Здесь не дачный участок, а животноводческий совхоз. Хотите в совхозе жить – идите ко мне на ферму работать, – он пожевал губами, – или в поля – силос готовить. У меня рук не хватает.
– Я, видите ли, физик, – беспомощно сказал Балашов, – вернее, математик.
– А я геолог, – добавил Максим. Он отошёл от столба и встал рядом с Балашовым.
– Вот и сидите у себя в городе. Нечего вам у нас в совхозе делать.
– Это городским-то у вас нечего делать? – едко спросил Максим. – То-то я каждый год по осеннему призыву в колхоз езжу.
Директор словно нехотя прошёлся взглядом по фигуре Максима, но в глаза ему не посмотрел, а опять уставился в неведомые дали со скучным и усталым выражением лица.
– Да что с вами говорить-то? – вскричал Пасюков. Он изнывал от бестолкового разговора, душа его изнывала и жаждала немедленных действий. – Что им объяснять-то, когда они простого языка не понимают? Нельзя им у нас сад сажать! Это земля наша, колхозная. Кровью-потом политая. Налетели тунеядцы на готовенькое!
– Тунеядцы?! – взорвалась Мария. До сих пор она молчала и только внимательно смотрела на мужа, даже губами шевелила, словно пытаясь подсказать ему нужный ответ, но, видя, что он в полной растерянности, не выдержала, сама вмешалась в разговор. – Как вы смеете с нами так разговаривать?! Я хирург, – она подняла руки и растопырила пальцы, встряхнула ими перед лицом директора. – Вот этими самыми руками…
Мария хотела рассказать: сразу после симпозиума в Венгрии она вместе со своим отделом ездила на картошку. Никто в институте не настаивал, чтобы ехала именно она. «У вас маленький ребёнок, мы понимаем…» Но именно эта профкомовская формулировка – «маленький ребёнок» – задела настолько, что она крепко поругалась с профоргом, мягким и безответным человеком. «Разве в этом дело? При чём мой сын? Я хирург. Мне даны руки совсем для других целей. Но если вы настаиваете… Кроме того, у меня и так почти всех сестёр забрали».
Ехать надо было всего на два дня, не стоило об этом и помнить, да и поездка была отличная, но по неумению или беспечности Мария поранила палец и на полмесяца была отставлена от операций. И теперь она мучительно искала слова, – как бы покороче и подоходчивей объяснить, что она делала в колхозе этими самыми руками, но вдруг осеклась… Она почувствовала, что любые её объяснения директор не захочет понять, он её просто не услышит.
– Пусть столбы выроют, – шептал Пасюков, – саженцы – чёрт с ними, они и так засохнут.
– Так вы не дадите нам участок под огород? – упорствовал Балашов. – Куда же нам семена деть?
– По ветру развейте! – директор круто развернулся и, тяжело ступая, пошёл к своему дому.
Из-за палисадника ему навстречу выпорхнула Инна с мольбертом через плечо и акварельной кистью в руках. Она была так элегантна, беспечна и улыбчива, что директор на минуту замедлил шаги, посмотрел на неё с сожалением и тоской, как на дёрн с маргаритками – вот, мол, штучка городская, бездельница, – и, чуть повернув голову к Балашову, бросил, как говорится, под занавес:
– Если вы к новому году этот сруб не уберёте, то я бульдозеры пригоню и спихну его с угора в реку. И можете на меня жаловаться. Я законы знаю.
– Мама, что такое сруб? – спросил Тимка.
Старуха Шутова отлепилась от плетня, подошла ближе. Тёмное лицо её было глухо, как захлопнувшийся шкаф.
– Грубиян. Он со всеми такой… Вам надо было во соседнем Бутове дом купить. Там председатель колхоза – мой внучек. Да там и покупать не надо. Полно пустых изб. Большая деревня, а жить некому.
– Бабушка, может, вы семена возьмёте? Мы их столько накупили. Жалко, если пропадут. Тимка, принеси коричневую сумку. Она на окне лежит, – обратилась Мария к сыну.
Старуха брала каждый пакетик на ладонь, далеко отставляла и читала по складам: «Ре-дис… Не сажала, – улыбнулась беззубым ртом и спрятала пакетик в карман передника. – Ре-вень… Это что за овощ такая? Салат. Не сажала. Ре-па… Брошу в землю. Вырастет».
– Что делать будем, шеф? – обратился Максим к Балашову.
– Да ничего они нам не сделают, – вмешалась в разговор Мария. – В нашем доме тётка Козининой прописана.
– Прописка – это святое, – согласился Максим. – Видно, директор Володя этого не знал. Иначе он бы с нами иначе разговаривал.
Балашов уже вышел из шокового состояния, и потому был задумчив и тих:
– Да, шумно живёт деревня. Я и не знал, – в этой его задумчивости проглядывала не озабоченность, а что-то горестное. А он просто осмысливал бестолковую ругань Пасюкова и ту единственно понятную фразу директора: «У меня рук не хватает…» В этой фразе угадывалась не только жалоба на отсутствие рабочей силы, а большая запарка в работе, и злость, и усталость, и какие-то неведомые, почти непреодолимые преграды, которые строптивый директор не захотел объяснять горожанам. – Их можно понять, – добавил Балашов.
– Я никогда не могла понять хамства! – отрезала Мария. – Этот твой Пасюков…
– Что Пасюков? У него восемь человек детей. Он на этом угоре всю жизнь провёл, – и опять в тоне Балашова прозвучала печаль. Мол, коли человек восьмерых родил и вырастил, то не нам его судить.
– Что делать будем? – повторил Максим.
– А что делать? Дом-то куплен, – вмешалась в разговор Инна. – Выпить вам надо с директором. Николай Петрович пусть лекцию в клубе прочитает, а я портрет директора нарисую.
– А я у них в деревне медь найду, – в тон жене добавил Максим. – Или что-нибудь такое же полезное для хозяйства.
– Вы думаете? – доверчиво улыбнулся Балашов. – И чёрт с ним, с забором. Пошли в шутовский сад сливы выкапывать.
Погружение Пьeca-детектив времён Андропова
Действующие лица
Ева Сергеевна Гофф, немолодая дама при изучении французского языка.
Жермена Лекер, писательница.
Елена Петровна Зотова, она же Иветт Рикет, архитектор.
Вера Евгеньевна Гошева, она же Жанна Дюпон, социолог из руана.
Даша Прошкина, 15 лет, она же Клодин Рено, машинистка.
Алексей Слухов, он же Ален Мартен, преподаватель и художник-абстракционист.
Захар Иванович Кошко, он же Поль Рошфор, лётчик из Бордо.
Виктор Прохорович Лысов, он же Леон Рикет, директор завода и муж мадам Иветт.
Никита Бурцев, он же канадец Лебрен.
Анна Кирилловна Кривицкая, она же «мадам» – учитель французского языка.
Прошкина, мать Даши.
Милиционер.
Следователь Перцев.
Врач Воронцова.
Арина Романовна, сторожиха с соседней дачи.
Действие первое
Картина первая
Подмосковная уютная дача: большой холл, слева дверь, ведущая в коридор, а оттуда в кухню и прочие комнаты, справа прихожая и лестница на второй этаж, под лестницей маленький закуток с кушеткой, словно нарочно придуманный для задушевных бесед. В центре холла длинный стол с лавками, у камина кресло, большой старинный буфет с посудой. Большое зеркало на стене украшено еловыми ветками с игрушками; видно, что совсем недавно отпраздновали Новый год.
На даче живут девять человек, они собрались здесь для изучения французского языка методом «погружения». Все живут «по легенде», говорят только по-французски. Они не знают имён друг друга, кроме вымышленных – таковы правила «погружения». Все женщины живут на втором этаже, мужчины – внизу, только у «мадам» отдельная комната.
Срок обучения – десять дней, сейчас идёт шестой. Все собрались в холле, они образовали хоровод, танцуют и поют. Каждый куплет поётся по-французски, потом по-русски, в соответствии с текстом все показывают жестами, как военные отдают честь, как дамы приседают в реверансе и т. д. В центре хоровода мадам – милая женщина с гитарой. Не прекращая танца, каждый выходит из хоровода и представляет свою маску.
Sur le pont d'Avignon on danse, on y danse. Sur lepont d'Avignon on danse, on y danse tous enrond «На Авиньонском мосту, там танцуют. На Авиньонском мосту, там танцуют все в хороводе».Из хоровода выходит Даша. Этой пятнадцатилетней девочке очень хочется казаться взрослой, и она бессознательно копирует французских «звёзд», которых видела на экране. Надо сказать, что это у неё неплохо получается. Её так и распирает от радости, ей все любопытно и интересно.
Даша. Я Клодин Рено, очаровательная машинистка из Парижа. Мне восемнадцать лет, я мила и непосредственна. А это мой друг…
Она бросается в хоровод и выводит за руку Алексея Слухова, молодого человека, весьма современного, в одежде, слегка небрежной. Он знает себе цену и в то же время слегка посмеивается над собой.
Алексей. Я Ален Мартен, художник-абстракционист, но это моё хобби, вообще-то я астроном, я живу на Монмартре и работаю над диссертацией. С мадемуазель Клодин мы дружим, и нам очень весело. (Оба со смехом идут в хоровод.)
Sur le pont d'Avignon les beaux messieure font comme ca, et pois encore comme ca…
«На Авиньонском мосту прекрасные кавалеры делают вот так, А потом ещё вот так…» (Жесты.)
Из хоровода выходит Елена, элегантно одетая женщина тридцати лет. Она женственна, говорит чуть растягивая слова, и это ей очень идёт. О своей маске рассказывает с некоторым смущением.
Елена. Я Иветт Рикет, очень толковый архитектор из Реймса, я строю дома будущего, а это мой муж, мы замечательная пара и очень счастливы.
Елена выводит из хоровода Виктора Прохоровича Лысова. Это человек из тех, кого называют «солидными», по повадкам в нём угадывается начальник, который давно привык к этой роли.
Лысов. Я Леон Рикет, директор автомобильного завода. А это моя жена, любимая жена (со строгим лицом уводит Елену в хоровод.)
Les belles dames font comme ca, Et pois encore comme ga… «На Авиньонском мосту прекрасные дамы делают вот так (жест), А потом ещё вот так…»
Из хоровода выходит Вера, худенькая женщина со строгим умным лицом, которое принимает иногда страстное, почти истовое выражение.
Вера. Я Жанна Дюпон, социолог из Руана, я довольна своей профессией и жизнью тоже. Я хорошо пою, но не перед публикой, публика меня смущает. А это мой друг на сегодня…
Она произносит последнюю фразу насмешливо – мол, вы-то понимаете, какой он мне «друг» – и выводит из хоровода Захара Ивановича Кошко. Он в строгом костюме, клетчатой рубашке, при галстуке, держится прямо, словно шпагу проглотил.
Захар. Я Поль Рошфор, лётчик-испытатель из Бордо. Это профессия отважных. Мой девиз – кто не рискует, тот не выигрывает.
Оба уходят в хоровод.
Les musiciens font comme ca, et pois encote comme ga… «На Авиньонском мосту музыканты делают вот так (жест), А потом ещё вот так…»
Из хоровода выходит Ева Сергеевна Гофф. Ей очень за пятьдесят, на ней немыслимый наряд – что-то среднее между кимоно и сари, она вообще несколько странная и эксцентричная.
Ева. Я Жермена Лекер, большой писатель из Марселя. Это прекрасно: Средиземное море, шумный город, много машин. Мои романы переведены на все языки мира, а это (со вздохом) любимый герой моего несостоявшегося романа.
Выводит из хоровода Никиту Бурцева. Это красивый, мрачноватый, застенчивый человек где-то около 35 лет, говорит как бы нехотя, а вообще предпочитает молчать.
Никита (разводит руками). Мне абсолютно нечего о себе сказать, кроме того, что я Жюльен Лебрен, канадец.
Никита галантно отводит Еву в хоровод.
Les militaires font comme ca, Et pois encore comme ga…
«На Авиньонском мосту военные делают вот так (жест), А потом ещё вот так…»
Из хоровода выходит мадам – Анна Кирилловна. Она играет на гитаре, слегка пританцовывает.
Анна. У меня нет имени. Я просто мадам. Я учитель! (Обращается ко всем.) Мадам, месье, разминка кончилась. Задело!
Музыка стихает, все садятся за стол.
Анна. Dehors il pleut a'verse, quet temps de chien.
Захар (старательно переводит). На улице дождь как из ведра, какая скверная погода. Вы не правы, мадам, идёт снег.
Анна. Только по-французски!
Никита (с улыбкой). Prenes le temps comme il vient, le vent comme il souffle la femme comme aile est, что значит «принимай погоду, какой она дует, женщину – такой, какая она есть».
Анна. Никаких переводов!
Урок продолжается.
Картина вторая
Тот же холл, вечер. У камина сидят Елена и Лысов. Рядом стоит Алексей. Он только что принёс охапку дров и теперь укладывает их на подставку.
Елена. Вы хотите разжечь камин? А что скажет мадам?
Алексей. Мадам ничего не скажет. Она уехала в город. Лебрен, канадец, пошёл проводить её до электрички. В этот вечер мы сами распоряжаемся своей судьбой.
Елена. Значит, можно передохнуть и говорить по-русски? Как я устала. Двенадцатичасовой рабочий день! Вообразите, у меня сегодня были слуховые галлюцинации.
Лысов. Наяву?
Елена. В полусне. В перерыв я стараюсь поспать, только у меня ничего не получается. Закрыла глаза на пять минут и слышу, как Поль Рошфор с гнусавинкой так чуть-чуть, – знаете, как он говорит: «Aller d'abad tout droit, ensuite», сверните в первую улицу направо, идите прямо до угла.
Лысов. Можете не переводить. Это третий урок.
Елена. А мне казалось, что я с ума схожу. Зачем направо, зачем налево?
Лысов. Как ни утомительно погружение, это самый результативный способ изучения языка. Это я вам авторитетно говорю. (Старательно переводит.) «le vous le dis autoritement».
Алексей (отрываясь от растопки камина). Авторитетно, месье Рикет, это русское слово, французы так не говорят.
Входит Вера.
Вера. А как в таких случаях говорят французы?
Алексей (ворчливо). У них таких случаев не бывает.
Лысов (уступает кресло Вере, сам садится рядом с Еленой на низкую скамейку). Садитесь, пожалуйста. Сейчас мы будем греться у живого огня.
Вера. Merci, Monsieur, вы очень любезны. Я так завидую мадам Иветт. Жаль, что мне не удалось на эти десять дней стать вашей женой.
Елена. Ещё не поздно. Мы можем развестись.
Алексей. Браки совершаются на небесах. Чёрт! Не разжигается!
Лысов (самодовольно). Так уж случилось, что во всём нашем коллективе я один женатый человек, то есть ce n'est que moi qui est morie'a notre collectif, как говорят французы. У меня mariage de la main guache.
Алексей. Французы не говорят «коллектив», они говорят «компания» – это во-первых. А во-вторых, mariage de la main guache, то есть буквально «брак с левой руки», означает ни больше ни меньше как незаконное сожительство.
Лысов. Перестаньте меня всё время поправлять! Надоело!
Вера. Да будет вам, месье Ален шутит.
Алексей. Я не шучу. Я практикуюсь во французском языке. (Вере.) On va nous promener, ma chere. Je fait beau, il neige. И одна узенькая тропиночка в снегу, дачный посёлок пуст.
Вера. Нет, уже поздно. Какие прогулки?
Лысов. А мы прогуляемся, да, Иветт? Пойдём по острию самой узенькой тропиночки. (Напевает.) На Авиньонском мосту кавалеры делают вот так…
Елена (смеётся). А прекрасные дамы делают вот так…
Елена и Лысов уходят.
Алексей. Мадам Жанна, почему вы хотите замуж за этого индюка?
Вера. Всего на пять дней.
Алексей. Я бы с ним и дня не прожил. И вообще, люди женятся из-за недостатка опыта, разводятся из-за недостатка терпения и женятся вновь из-за недостатка памяти.
Вера. Образованный… Теперь по-французски.
Алексей. Это английская пословица.
Вера. Хотите французскую пословицу, вернее, идиому? Она как раз для тех, у кого достаточно опыта, чтобы не жениться, и избыток восторга, чтобы позволять себе entre amoureux des onse mille vierqes.
Алексей. Быть влюблённым в одиннадцать тысяч девственниц? Вы считаете, что я бегаю за каждой юбкой? Однако, мадам Жанна, вы себе позволяете… Какие у вас основания?
Вера. Основания сидят на втором этаже и зубрят глаголы.
Алексей. Ну и пусть зубрит. Мадам Жанна, можно я открою вам тайну? Я знаю, как зовут вас в миру.
Вера. Т-с-с. Мы живём только по легенде.
Алексей. Зачем такая тайна, словно мы на явочной квартире?
Вера. Для красоты. Посмотрите, с каким удовольствием все рядятся во французские одежды. И забудьте, что мы в сорока километрах от Москвы. Сейчас мы в двадцати километрах от Парижа. Зима только не по-парижски холодновата, но это ничего… можно примириться.
Алексей. Как в Париж хочется! Жанна, Жанна…
Вера. Вы произносите моё имя так, словно обращаетесь к Орлеанской деве.
Алексей. Вот здесь вы попали в точку. Кстати, у нас в школе была очень смешная история. Нашу классную, очень строгую даму, звали Жанна Павловна. Имя это на зубах навязло. И вот на уроке истории моего соседа по парте спрашивают: «Кто возглавил народно-освободительное движение во Франции в тридцатых годах XV столетия? Колька молчит, глаза под потолок закатил, а я подсказываю «Жанна… Жанна…» Он возьми и брякни: «Жанна Павловна». (Вера смеётся). Не судите нас слишком строго. Это было в шестом классе.
Вера. Я не сужу.
Алексей. И вообще я не так молод, как вам кажется. Мне двадцать девять.
Вера. Ну, положим, пару годков вы себе набавили.
Алексей. Нельзя относиться к человеку с таким пренебрежением только потому, что он молод. Вы всё время подчеркиваете, что гораздо старше меня.
Вера. Женщина не может быть «гораздо». И не огорчайтесь. Никто к вам никак не относится. Не берите в голову, как говорят у нас в Руане.
Алексей. Не хотите гулять – давайте чайку попьём. Я в этом доме больше всего полюбил кухню. Детство моё прошло в коммуналке, и когда родители наконец получили отдельную квартиру, то больше всего меня потрясла собственная кухня.
Вера. Ален Мартен, вы опять вышли из роли. Вы астроном, преподаёте в Сорбонне. А талдычите про коммунальную квартиру.
Алексей. Ну хорошо. (С французским прононсом.) Мы, французы, едим сыр перед десертом. А для вас, русских, это скорее закуска. (Умоляюще.) Но чайку-то попьём?
Вера. Который час?
Алексей. Половина десятого..
Вера. Я пошла.
Алексей. Куда?
Вера. На соседнюю дачу. Занятия завтра начнутся на два часа позднее, и мадам просила предупредить нашу милейшую Арину, чтобы она не приходила слишком рано. Я думаю до обеда ей дать отгул.
Алексей. Кто же нас будет завтра кормить?
Вера. Я вас буду кормить. Я! И не ходите за мной. Париж – это замечательно, если бы в нём не надо было говорить по-французски. Пойду подышу подмосковным воздухом.
Вера уходит. Алексей опять принимается растапливать камин. Сверху спускается Ева в невообразимом одеянии, через плечо – сумка.
Ева. Месье Мартен, как хорошо вы придумали. Сейчас здесь будет тепло.
Алексей. Не загорается. Я измучился совсем.
Ева. О, этот камин с фокусом. Дрова надо поставить шалашиком в правый угол, а вниз – бумагу.
Алексей делает всё так, как объясняет Ева, дрова вспыхивают.
Ева. Ну вот видите, загорелось… Месье Мартен, вас не затруднит подать мне стакан воды?
Алексей приносит воду, Ева вываливает содержимое сумки себе на колени, долго роется в лекарствах, потом находит нужное.
Ева. Вот это, пожалуй, подойдёт. (Принимает лекарство. Алексей с усмешкой косится, рассматривая содержимое сумочки. Ева опять запихивает лекарства и косметику в сумку.) Как тихо… Месье Мартен, вы любите детективы?
Алексей. Кто же их не любит? Но, кажется, вы, мадам Лекер, работаете в другом жанре? Вы ведь писатель-реалист?
Ева. Погрузившись, я могу быть даже Мольером. Но я не об этом. У меня такое чувство, что я сама попала в детективный роман. Эти ёлки за окном, этот дом…
Алексей. Неплохая дачка! Это мадам её сняла. А ведь можно по обстановке представить себе хозяев этой дачи. Мне они представляются такими солидными людьми. Хозяин, наверное, художник. Вон сколько картин.
Ева. Нет, хозяин не художник.
Алексей. Вы говорите так, словно знаете тех, кто здесь живёт.
Ева. Иногда приятно поиграть. Можно даже представить, что это дача – твоя собственная.
Алексей. Мало ли что можно представить. Можно даже вообразить, что Нотр-Дам тебе принадлежит. Играй, да не заигрывайся.
Ева. Вы правы. Как тихо.
Алексей. Это вы уже говорили. Ну, грейтесь, а я чаю хочу. Умру без чаю.
Алексей уходит. Ева встаёт с кресла, медленно идёт вдоль стены, рассматривая картины.
Ева. В живописи он никогда не понимал – ни цвета, ни воздуха. А тебя я с собой увезу. (Снимает со стены маленький акварельный пейзаж.) Тебе здесь не место. (Рассматривает картинку, потом прячет её за буфет.)
Сверху по лестнице спускается Даша. Ева садится в кресло.
Даша. Мадам Лекер, вы одна? О, камин разожгли!
Ева. Все куда-то разбежались.
Даша (обиженно). Всегда так. Всем дают домашние задания, но никто их не выполняет. Одна я, как дура, сижу и твержу спряжения глаголов второй группы.
Ева. Не вы одна, мадемуазель Клодин. Рошфор тоже сидит в своей комнате, изучая прямые и косвенные вопросы.
Даша. А вы откуда знаете?
Ева. Я заходила к нему попросить сигарет.
Даша. Разве вы курите?
Ева. Иногда. В минуту жизни трудную.
Даша. Откуда на этой даче взяться трудной минуте? Здесь всё так весело. Прямые и косвенные вопросы… Прямой вопрос: «Где месье Мартен?» Косвенный: «Скажите, где месье Мартен?» То есть Dites, ou est М. Martin? Так?
Ева. Он на кухне, пьёт чай.
Даша (срывается с места). Как я чаю хочу!
Ева. Подожди, Даша, сядь сюда.
Даша (капризно). Я не Даша, я мадемуазель Клодин, очаровательная машинистка. Я лукава и непосредственна.
Ева. Слишком. Вот что, очаровательная машинистка, зачем ты накрасила глаза?
Даша. Они у меня такие от природы.
Ева. Лживые они у тебя от природы. Ты зачем сюда ехала? Учить язык или вешаться на шею месье Мартену?
Даша. Ну Ева Сергеевна…
Ева. Если ты сейчас же не уберёшь тон с век и не отмоешь щёки, я пойду на кухню и скажу месье Мартену…
Даша (чуть ли не со слезами). Ну ладно, ладно… (Уходит.)
Ева. Вот вертопрашка!
Даша возвращается, подходит к Еве, наклоняется, показывая умытое лицо.
Даша. Вот, смотрите. Ой, а что вы плачете?
Ева. Я уже не плачу. Я так…
Даша на цыпочках по стенке движется в сторону кухни, потом бегом бросается из холла.
Картина третья
Кухня, маленькая, очень уютная, на стенах полки с глиняной и медной посудой. За столом сидит Алексей и внимательно изучает карту. Даша подходит сзади, закрывает ладонями ему глаза.
Алексей. Бонжур, мадемуазель Клодин.
Даша (с восторгом). Вы меня сразу узнали! О, Ален, Je suis tout de vous. Вы прибыли поездом Орлеан – Париж, вы одеты на французский манер, у вас сигареты «Голуаз» выглядывают из кармана. А это что?
Алексей. Карта Парижа. Я разрабатываю маршруты. Вот здесь бульвар Клиши… Он так невинно начинается на окраине. Потом вот сюда, смотрите. Здесь Мулен-Руж, Красная мельница. Упоительное место!
Даша. Как интересно! Месье Ален, вы были в Париже?
Алексей. Нет. Но всю жизнь мечтал о нём. (Грустно, как бы сам с собой.) Я не помню даже, когда это началось, наверное, с «Трёх мушкетёров». Какие драки были во дворе! Соразмерим длину шпаг, господа… Потом вот такой фингал под глазом, но текст держишь: «Вы бесконечно любезны, сударь, я вам глубоко признателен». Оранжереей благородства был для меня Париж в детстве…
Даша (неловко подделываясь под его тон). Для меня тоже оранжереей.
Алексей. А сегодня я решил погулять по его улицам.
Даша. Я иду с вами. Мне это просто необходимо. Этим летом я еду в Париж по обмену. У нас в институте это часто бывает.
Алексей. Итак, вперёд, очаровательная мадемуазель Клодин! Куда направим стопы? Я приглашаю вас на площадь Конкорд с обелиском. Видите, он весь в иероглифах?
Даша. Египетский обелиск. (Принимает позу, становится плоской, как египетская фреска, потом движется, нелепо передвигая ступнями.) Куда дальше пойдём?
Алексей (смеётся). Перед вами Риволи, самая длинная улица в Париже.
Даша. Нам бы к Нотр-Даму. Et moi, je vois Notre-Dame de Paris.
Алексей. Не торопитесь. Вот здесь, за Лувром, между прочим, Самаритин. Грандиозный универмаг! Хотите в грандиозный универмаг?
Даша. Очень.
Алексей. Замётано. Я бы хотел сделать вам небольшой подарок. На большой у меня денег не хватит. Что нам дают в командировку – гроши! Вы знаете, все из Парижа, если вдруг удаётся до него добраться – и такое бывает, – везут для друзей и знакомых клеёнку для кухни. Но мне не хочется дарить вам клеёнку. Будем безумствовать! Я выверну карманы и наскребу на джинсы.
Даша. Сейчас джинсы – уже не модно. Я бы хотела брегги.
Алексей. Что это за «крокодайл» – брегги?
Даша. Брегги – это бананы, брюки такие. Они как шаровары, а вернее – как бананы. (Важно и деловито.) Вот здесь, на поясе – собрано, но не в складку, а вот так… Понимаете? У нас на курсе – я учусь на втором курсе «иняза» – все девочки их носят.
Алексей. Понял. Куплено. Пошли дальше. Нас интересует Нотр-Дам. Потом идём к реке, то есть к Сене. Через мост на остров Сите, – здесь дворец юстиции сбочку примостился, а налево – любуйтесь… Собор Парижской Божьей Дамы!
Даша. Красиво. А теперь к Эйфелевой башне.
Алексей. Там чудный ресторанчик наверху!
Даша. Хочу в ресторанчик.
Алексей. Туда чёрта с два попадёшь! Туда весь Париж стремится. Обзор, панорама и всё такое. В этот ресторанчик небось заранее пишутся.
Даша. Где же мы запишемся? Ну его, этот ресторанчик. Давайте лучше в Лувр пойдём. Я буду мадам Бонасье… нужен плащ… (Алексей срывает с крючка белый халат и набрасывает Даше на плечи.) Ой, мой банный халат, вот где я его забыла. Но он же белый. Лучше я буду Венера Милосская. (Вскакивает на табурет и драпирует бёдра халатом.) Но она же безрукая. Я совершенно не знаю, что делать с руками.
Алексей. О, Клодин, как ты красива!
Даша. «О, Маржолена, цветёт весна…»
Алексей. «О, Маржолена, я был солдатом, но сегодня я вернулся к тебе».
Звучит музыка про Маржолену, они поют, потом Даша протягивает руки и прыгает с табурета прямо в объятия Алексея. Халат летит в угол. Они танцуют, потом целуются, потом опять танцуют.
Картина четвёртая
Холл. Ева сидит у погасшего камина. Входит Арина Романовна.
Ева. Добрый вечер, Арина Родионовна. Что скажете?
Арина Романовна. Романовна я, а больше ничего не скажу. Здесь разговаривать не с кем. Все щебечут, как птицы: месье, мадам, пардон. Пять дней на вас смотрю – как нелюди капризные все. Этот омлет не ест, у того диета, тот мясной бульон не переносит. Не нравится, как готовлю – скажи. А то прибежала эта… Жанна: «Завтра можете не приходить, завтра отгул…» Какой такой отгул?
Ева. У нас завтра занятия позднее начнутся, вот мадам и решила дать вам отдохнуть.
Арина Романовна. Ишь ты, мадам… Знала бы такое дело, ни за что не подрядилась бы на вас готовить.
Ева. Ну, теперь немного осталось. Через пять дней наши занятия кончатся.
Арина Романовна. А чего хорошего, что они кончатся? Зимой в этом посёлке со скуки взвоешь. Они-то, хозяева, думают, что я их дачи сторожу. Меня бы кто постерёг. А то сбегу. Вас в миру-то как зовут?
Ева. Ева Сергеевна.
Арина Романовна. А лет сколько?
Ева. Много, скажем, за пятьдесят.
Арина Романовна. Ишь ты, за пятьдесят. Мне вот тоже за пятьдесят, уж двадцать лет за пятьдесят. Как говорится, из кобыл да в клячи. А работаете где?
Ева. В архиве.
Арина Романовна. Это где копии с документов делают? С печатью?
Ева. Копии заверяют в нотариальной конторе. А в моём архиве старинные документы хранят.
Арина Романовна. Выходит, ты тоже сторожем служишь? Дети есть?
Ева. Детей нет. Одинокая. Замужем была, но давно.
Арина Романовна. Всё как у меня. Тоже одинокая. У меня теперь эти дачи заместо родственников. Напротив вас архитектор живёт, кобель у него брехливый, сладу нет. А рядом из торговли, богатые. И у самого, и у самой – все зубы золотые, только что детям не поставили – молодые ещё.
Ева. А на этой даче?
Арина Романовна (с готовностью). Профессора они. Сам-то помер в сентябре. Болел. Ох и вредный был старик! И жадный. В прошлом году заборы новые ставили, так никто с рабочими так не ругался. Шабашники, конечно, народ тёмный, но и с ними стыдно из-за каждого рубля собачиться.
Ева (задумчиво). Раньше он таким не был.
Лрина Романовна. И сынок у них кой-каковский. Девчонок зимой на дачу возил. Хорошо, армия его, непутёвого, прибрала. Говорят, он деньги у отца крал.
Ева. Преувеличивают, я думаю.
Арина Романовна. Что ж преувеличивать, если полный шалопай? (Вдруг спохватившись.) Ладно, у меня тоже свои дела есть.
В холл входит Захар с пачкой отпечатанных на машинке листков – руководством к занятию французским языком.
Захар. Мадам Лекер, не откажите в любезности поговорить со мной по-французски.
Ева. Что?
Захар (заметив её отрешенность). Вы чем-то огорчены?
Ева. Жизнью, мой друг.
Захар. Жизнь для того и дана, чтобы бороться с огорчениями. Ну, начали. Вот. (Показывает текст и говорит бодро.) Это ваши чемоданы? То есть, ce sont vos valises?
Ева. А я что должна говорить?
Захар (садится рядом). Non, ce sant celles de madame.
Ева. Давайте лучше по-русски поговорим.
Захар (обидевшись). По-русски у нас с вами получаются очень скучные разговоры. А здесь вы Жермен Лекер, знаменитая писательница. Сразу столько тем! Вот чудесный текст. (Бормочет и сам переводит.) Les fruits mûrissent en ete – фрукты созрЕвают летом, les fuulles jaunissent en automne – листья желтеют осенью.
Ева. Летом я была жёлтой, как ваши листья – болела. Месье Захар, вы не знаете, как по-французски болезнь Боткина?
Захар. Я месье Рошфор, лётчик-испытатель, и попрошу…
Ева. Захар Иванович, зачем вы учите весь это вздор?
Захар (смутившись). Но ведь надо. Мы за это деньги платим. И немалые. Кроме того, мне в Париж надо.
Ева. Зачем?
Захар. Это моя мечта. Главная…
Ева. Неосуществимая мечта – опасная вещь. Она в конце концов может сделать его несчастным. Помните, как у Чехова?
Захар. Ой, только не надо «Трёх сестер». Они у меня вместе с Чеховым вот где (показывает на горло).
Ева. Месье Рошфор, вы ведь тоже живёте один. Скажите, как вы боретесь с одиночеством?
Захар. Вы что – смеётесь? У меня нагрузка двадцать семь часов в неделю и ещё классное руководство. А это знаете что такое? Спевки, читки, родительские собрания. И ещё «байрам-металлолом», потом «байрам – гражданская оборона»! Об одиночестве я могу только мечтать. Но сейчас я не хочу об этом говорить. У меня зимние каникулы. Я имею право чувствовать себя лётчиком и отдохнуть.
Ева. Вам хорошо здесь?
Захар. Ещё бы! То, что я могу выразить свои мысли по-французски, мне крылья даёт.
Ева. Что же это за мысли такие?
Захар. Не иронизируйте. Я здесь другим человеком стал. Здесь всё можно: работать, петь, влюбляться, говорить глупости.
Ева. С последним у вас всё в порядке. А влюбиться вам трудно будет, вы человек экономный.
Захар. Ничего вы не понимаете. (Листает текст и уходит в закуток под лестницей.)
Видна вся сцена и Ева у камина, но она в полумраке, освещён только подлестничный закуток. Там горит бра, на кушетке сидит Вера.
Захар. Что вы тут делаете?
Вера. Подслушиваю. Это моё любимое занятие.
Захар. Зачем? Мы ни о чём таком интересном не говорили.
Вера. Вы разве забыли, что я назначила вам свидание?
Захар. Что-то не припомню. И где вы мне назначили свидание?
Вера. Здесь. И вы пришли. Спасибо.
Захар. Пожалуйста.
Вера. Мы будем танцевать. (Она сбрасывает шубу, ставит на проигрыватель пластинку, звучит нежная мелодия.) Ну?
Захар. Зачем вы дразните меня?
Вера. Ответ мой столь тривиален, что мне даже стыдно произносить его вслух. В романах в таких случаях говорят «да».
Захар. И вы говорите «да?»
Вера. И я говорю – qui.
Танцуют, потом Захар нахмуренно сообщает:
Захар. Ладно. Я согласен.
Вера. На что согласны?
Захар. Не валяйте дурака… Я на всё согласен.
Вера. Это женский ответ. Это я согласна.
Захар (упрямо). А я по-мужски ещё более на всё согласен.
Вера. Но не я же должна сделать первый шаг? Что делают мужчины в таких случаях? Вы должны обезуметь, покрыть меня с ног до головы поцелуями и всё такое… Хотя я могу обезуметь первой. Социологи из Руана, знаете, очень раскованны…
Захар (морщится). Нельзя ли быть немного поскромнее? Прежде чем… ну, мы должны немного познакомиться.
Вера. Это ещё зачем? Вы отважный лётчик из Бордо, и только поэтому я на всё согласна. Будь вы лётчиком из Сызрани, я вела бы себя совсем иначе.
Захар. Так мы ни до чего не договоримся.
Вера. А вам и не надо договариваться. Вам надо действовать. Ну ладно, хватит… (Бросает его посередине танца и идёт к Еве. Ева насмешливо улыбается.)
Входят Никита, Елена, Лысов.
Вера (Никите). Проводили?
Никита. Проводил. Электричка опоздала на полчаса.
Вера. Замёрзли?
Никита. Есть немного.
Лысов. Мадам, месье, миледи и товарищи! Мы одни! Что делают мыши, когда кошки нет? Они веселятся. К чёрту французский. У нас сегодня русский вечер. Мы поём русские песни и пьём русскую водку.
Из кухни приходят Алексей и Даша. Поднимается суматоха, женщины накрывают на стол, общее оживление. Алексей опять разжигает камин. Лысов приносит водку и вино. Общий смех.
Алексей. Как говорят французы – у нас с собой было.
Лысов. Не надо ворчать, месье молодой человек.
Все садятся за стол.
Лысов. Налито? Ну… со свиданьицем. Поехали.
Вера. A votre sant'e. Ваше здоровье.
Алексей (чокается). A la votre! Ваше здоровье.
Лысов. Я же просил по-русски. Я отвык от родной речи, а дым отечества мне сладок и приятен. О, великий и могучий…
Дальше все тосты быстро и слаженно произносятся по-французски, растерявшийся Лысов машинально переводит.
Вера. Oue voulez-vous prendre? Что вы хотите заказать?
Алексей. Je voudrais des poulets «au tabac» Я бы хотел цыплят табака.
Елена. Je voudrais du caviar. А я бы хотела икры.
Ева. Nous n'avans pas du caviar aujourd nui. У нас нет икры сегодня. Хотите вместо неё сёмги?
Никита. Le choix est grand et tout est bon marche. И всё так дёшево. Eten France les prix montent. A во Франции цены повышаются.
Лысов. Вот разыграли сцену!
Все хохочут.
Захар (обиженно). Договорились ведь. То никто по-французски говорить не желает, то как с цепи сорвались. У нас вечер отдыха.
Ева. Давайте лучше познакомимся.
Елена. Нет. Не надо знакомиться. Русский вечер – это ещё куда ни шло, но и на русском вечере, пока это возможно, я желаю быть Иветт Рикет, архитектором из Реймса.
Лысов целует Елене руку.
Захар. Правильно. Зачем нам знакомиться? Мы за другое деньги платим.
Елена. Тем и хорошо погружение, что все заботы и неприятности мы оставили за порогом этого дома.
Лысов (как фокусник, вытаскивает из-под стола ещё одну бутылку, все аплодируют). Ребята, тихими голосами, дружно… (Поёт.) Под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море тайги…
Все подхватывают, но песня быстро гаснет.
Вера. Далыие-то как?
Лысов (разливает водку). А дальше не надо. Под крылом самолёта о чём-то поёт. И всё.
Алексей. А теперь главный тост. За здоровье милых дам. (Даша со значением чокается с Алексеем.)
Вера. Завтра рождество… А ведь сегодня сочельник. В сочельник всегда гадают.
Захар. Раз в крещенский вечерок…
Елена. Девушки гадали…
Лысов. Неужели вы верите этим глупостям?
Даша. Но ведь интересно! Давайте гадать.
Ева. Мы с вами, мадемуазель Клодин, будем гадать во сне. Уже поздно.
Алексей. Сегодня такая ночь, что не может быть поздно. Сейчас мы будем петь. (Приносит гитару.) Прошу вас, мадам Вера.
Вера. Меня зовут Жанна! Я спою русскую народную песню «Mon ami me délaissé», что означает «Мой милый меня бросил…»
Захар. Ну зачем вы так?
Вера. Mon ami me délaissé… Oh que! Vive la rose!
Мой милый меня бросает.
Веселей, да здравствуют розы.
Ева (подхватывает). Я не знаю почему, да здравствуют розы и сирень. (Дальше Ева и Вера поют на два голоса.) Он идёт навестить другую, говорят, она красивее, чем я. Говорят, что она больна, может, она от этого умрёт. Если она умрёт в воскресенье, в понедельник её похоронят. Во вторник он придёт ко мне, но я этого не захочу. Да здравствуют роза и сирень!
Лысов. Не надо грустных песен.
Даша. Можно я поставлю пластинку?
Звучит весёлая музыка про Маржолену. Все танцуют: Даша с Алексеем, Елена с Лысовым, Вера с Захаром. Ева уходит к камину, Никита сидит за столом, задумавшись. Потом все образуют хоровод, в него втаскивают и Еву, и Никиту. Общее бездумное веселье нарушает внезапный звонок. Все застывают, кто-то бежит к двери, потом наконец понимают, что это звонит стоящий на полке телефон.
Лысов. Он же не работает. Я ещё вчера пытался по нему позвонить. Глухо.
Алексей. Видимо, он был отключён.
Захар. Кто бы это мог быть? Двенадцать часов ночи.
Телефон продолжает звонить.
Алексей. Ну надо же подойти. (Берёт трубку.) Да, да… Одну минутку. Ева Сергеевна Гофф. Понял.
Ева. Это меня. (Берёт трубку). Да, да… Я так и думала. Ну что вы? А вообще-то всё к лучшему… (Умолкает, прижимает трубку к груди и стоит так, задумавшись. Все смотрят на неё напряжённо.)
Алексей. Что-нибудь неприятное?
Ева. Простите. (Очнувшись, кладёт трубку на рычаг.) Я устала. Пойду лягу. Спокойной ночи. Дашенька, пойдём.
Ева идёт на второй этаж, недовольная Даша бредёт за ней. Все озабоченно молчат. Ночной звонок чем-то озадачил и огорчил всех, но вечер пущен, хмель в голове, настроение у всех приподнятое.
Никита. Кто ей мог позвонить? То есть я хочу сказать – что это за дела такие, с которыми до утра нельзя подождать?
Лысов. Мало ли кто может позвонить знаменитой писательнице? Из Америки, например, у нихтам сейчас утро.
Вера. Не надо так шутить. У неё было такое грустное лицо.
Даша спускается вниз по лестнице.
Елена. Ну что?
Даша. Выпила лекарство и легла.
Вера. Ну, мадам-месье, спать пойдём?
Даша. А гадать? Месье Мартен… сейчас в Париже все гадают.
Никита. В Париже сочельник двадцать четвёртого декабря.
Алексей. А подмосковный Париж гадает сегодня.
Захар. «Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит, он чудно вылитым узором ей что-то чудное сулит».
Даша. Не обязательно воск, можно и стеарином капать. Или бумагу жечь, а потом от пепла делать тени на стене.
Алексей. Пошли на кухню. Там наверняка есть свечи.
Даша и Алексей уходят.
Захар. Ещё можно обручальные кольца в воду бросать. У кого есть обручальное кольцо? (Вера разводит руками, Никита отрицательно качает головой.) Хорошо бы петуха принести, да где его взять?
Захар уходит на кухню вслед за Дашей и Алексеем.
Лысов (Елене). Может, нам тоже погадать?
Елена. К сожалению, у нас всё отгадано. Или ты что-то можешь изменить?
Лысов и Елена уходят. Вера сидит за столом, Никита стоит у камина.
Никита. Я хотел спросить у вас одну вещь, вернее, две.
Вера. А может, три?
Никита. Я хотел спросить у вас про Анну Кирилловну.
Вера. О! Мадам для вас уже Анна Кирилловна. Зря времени не теряете. Ещё что вы узнали, пока опаздывали на электричку?
Никита. Ничего я не узнал. Она была чем-то взволнована или огорчена. Какие дела погнали её в город? Ещё утром никаких дел не было. При этом дурацком погружении ничего толком не спросишь. Все как дети, честное слово.
Вера. А что бы вы хотели спросить толком?
Никита. Она замужем?
Вера. Спросите это у неё. При чём здесь я?
Никита. Я спросил. Она улыбнулась. Сказала, что у меня плохой прононс, и велела произнести эту фразу по-французски.
Вера. Ладно. Вам я скажу, хотя мы погрузились, вернее, нагрузились. (Показывает, что пьяна.) Мадам вдова. Она летом мужа похоронила! О покойном ничего, кроме хорошего, но вздорный был старик.
Никита. Старик?
Вера. Он старше неё лет на двадцать, может быть, и того больше. Она с ним хлебнула.
Никита. Вы давно её знаете?
Вера. А с чего вы решили, что я её знаю? Может быть, я всё придумала?
Никита. Но ведь видно, что у вас с Анной Кирилловной какие-то свои отношения.
Вера. Наблюдательный. Я знаю Аню десять лет или около того. Мы работали с ней вместе, только в разных отделах. С вашего позволения, я редактор (раскланивается), а она сидела на переводах. Потом уволилась. Виделись мы редко, чаще перезванивались, всегда только по делу. Особой близости у нас никогда не было.
Никита. А кем был муж Анны Кирилловны?
Вера. Профессор всевозможных наук и прочая, прочая… Какая-то шишка. Зачем я вам это говорю, канадец Лебрен? Сознаюсь, я люблю Канаду. Кленовые листья, озёра… Ваша сборная неплохо играет в хоккей. Ещё третьего дня я хотела сказать вам «да», но вы так откровенно волочились за мадам…
Никита. И вовсе я не волочился. (Потом озабоченно.) А вы думаете, она заметила?
Вера. Не знаю. Одно скажу: любая женщина была бы польщена вашими ухаживаниями. Вы обладаете набором самых дефицитных свойств характера. Вы сдержаны, молчаливы, вас не сжирает этакая – знаете? – постоянная мелочная озабоченность. В вас есть что-то мужское. Сейчас это большая редкость.
Никита (хмуро). Отчего умер муж Анны Кирилловны?
Вера. Ах ты, боже мой, откуда я знаю? Я его и не видела никогда. Давайте лучше танцевать. Мы в Париже, чёрт побери!
Никита. Музыка может разбудить мадам Декер.
Вера ставит на проигрыватель пластинку, звучит тихая, нежная мелодия. Входят Даша, Алексей и Захар.
Даша. Мы сейчас гадали, и получилась птица. Так ясно видно! Ну, тень, понимаете? Сидит птица со сложенными крыльями. Вы не знает, что это может означать?
Вера. Какая птица?
Захар. По-моему, орёл.
Даша. Ну какой же это орёл? У орла нос загнутый. А у этой – вот так, торчком.
Вера. Значит, дятел.
Алексей. Это была птица Гамаюн. Она вам надежду подаёт.
Вера. Поделим эту птицу на всех, и всем она будет к надежде.
Захар. Человек создан для надежды, как птица для полёта.
Вера. Человек создан для счастья, человек создан для надежды… Что вы пошлость говорите? Давайте лучше танцевать. У нас не погружение, у нас вознесение. Полетаем тихонечко на цыпочках, вот так… (Танцует.)
Картина пятая
Тот же холл ранним утром на следующий день. За окном тусклое небо, в комнате полумрак. За столом завтракают Даша, Алексей, Никита, Захар. Вера хозяйничает – разливает чай и кофе. В свою комнату из коридора проходит Лысов с полотенцем на плече.
Вера. Месье Рикет, завтракать!
Захар. Как мы распустились! Мадам за дверь, и мы сразу поломали график. Вчера в это время мы уже делом занимались, а сегодня – где мадам Лекер, где мадам Иветт?
Входит Елена – нарядная и ухоженная.
Елена. Мадам Иветт в вашем распоряжении.
Алексей. Бонжур, мадам. Вы чудесно выглядите.
Елена. Маленькая ложь с утра скрашивает жизнь…
Захар. Это не ложь. Вы хорошеете с каждым днём. Вы так престижны и представительны, как машина марки «Шевроле». К вам страшно подступиться.
Никита. А где это вы видели «Шевроле». В кино, что ли?
Захар (высокомерно-дурашливо). Я не понимаю по-русски.
Алексей. Вот те раз. С каких это пор месье Рошфор не понимает по-русски?
Захар. У лётчиков из Бордо, месье Лебрен, очень неплохая зарплата. Если хотите знать, у меня свой «Шевроле» и гараж кооперативный. (Все смеются.)
Вера. Кому ещё кофе?
Лысов (входя). Мне, пожалуйста, большую чашку, и очень горячего. Бонжур, товарищи!
Алексей. Привет, гражданин начальник.
Захар. Наконец-то все в сборе.
Лысов. Что у нас на завтрак?
Алексей. Пирожки с жаворонками, холодная спаржа под соусом, шампиньоны… туда-сюда…
Лысов (Захару). А вы что такой хмурый?
Алексей. Оставьте его. Он не понимает по-русскому, он понимает только по-французскому…
Вера. Есть такая идиома: parle français comme… дальше забыла. Буквально: этот человек так же хорошо говорит по-французски, как испанская корова.
Захар. У вас злой язык!
Вера. Заговорил! Ну не сердитесь на меня, отважный лётчик из Бордо.
Никита. Однако где же мадам Лекер? Мадемуазель Клодин, голубушка, поднимитесь наверх…
Даша. Я её уже будила. Она спит.
Вера. Сейчас я её разбужу. (Идёт вверх по лестнице, кричит.) Мадам Лекер…
Елена. Как вкусно мадам Жанна приготовила эту спаржу и этих жаворонков. А я ненавижу готовить. У меня всё подгорает.
Алексей. Что у вас может подгореть, мадам Иветт? Ведь у вас свой повар, шофёр, садовник, две горничных…
Никита. Из фирмы «Заря»…
Лысов. Не обращайте внимания, дорогая, на эти завистливые выкрики.
Елена. Это не пирожки. Это оладьи. Как по-французски оладьи?
Никита. Оладьи. Ударение на последнем слоге.
На верхней площадке лестницы появляется растерянная Вера.
Вера. Ребята! Она не просыпается. Я никак не могу её разбудить.
Алексей. Ну и пусть поспит человек.
Елена. Опять, наверное, какое-нибудь лютое снотворное приняла.
Елена идёт наверх.
Никита (Даше). Она принимала снотворное?
Даша. Не знаю. Какое-то лекарство она принимала. Я ей воду в стакан наливала.
Алексей. У неё лекарств полная сумка. А лекарства – это яд. Я никогда не лечусь. Организму надо самому дать справиться с болезнью.
Никита. Вы рассуждаете как здоровый человек. Просто у вас никогда не было бессонницы.
Елена (выходит на верхнюю площадку лестницы, говорит очень взволнованно). Она не просыпается. Я её трясла, вертела. Она как мёртвая. Среди нас врача нет?
Алексей. Нет, врачей среди нас нет. И что значит – не просыпается? Что за вздор такой?
Алексей тоже поднимается наверх.
Никита. Нужен врач, а попросту говоря – больница. Это может плохо кончиться.
Лысов. Легко оказать. А где здесь больница? Надо позвонить в Москву и вызвать неотложку. (Подходит к телефону, берёт трубку.) Какой у нас адрес?
Никита. Я не знаю. Мы приехали с Киевского вокзала…
Лысов (кричит). Алексей? Месье Мартен! (Никите.) Он должен знать, он наш староста. Гудки сплошные…
Алексей спускается вниз.
Алексей. Вообразите, спит. Мы ей в лицо водой брызгаем, а она спит.
Лысов. Надо вызвать неотложку. Какой у нас адрес?
Алексей. Сейчас. У меня записано. (Листает записную книжку.) Вот. Почтовое отделение Кторово. Дачи художников… или писателей? Известно только, что у нас Лесная, 27.
Лысов. Понятно. Кторово, дачи. (Набирает номер.) Гудки какие-то дурацкие.
Алексей. Здесь же загород. Москву надо набирать через индекс. Вначале шестёрка, потом восемь, а потом уже номер.
Лысов (всё время набирает номер, все напряжённо ждут). Вот что у нас хорошо работает, так это связь… с Луной… Ага! Скорая? У нас с женщиной плохо. Не знаю, как её зовут. (Захару.) Как её зовут?
Захар. Ева Сергеевна.
Лысов (в трубку). Ева Сергеевна её зовут. Не знаю, сколько ей лет, пятьдесят – семьдесят – какая разница? Она спит, и мы не можем её разбудить. Адрес? Записывайте. Это по киевской дороге, Кторово. То есть как «не обслуживаем»? По какому такому месту, если мы не знаем, где мы находимся? Подождите, не бросайте трубку. Я не знаю – умирает она или нет, она не просыпается. Всё…
Алексей. Что они сказали?
Лысов. Вы же слышали – загород они не обслуживают. И вообще они решили, что я пьян.
Никита. Надо бежать к Арине Романовне. Она должна знать, как отсюда позвонить в местную больницу. (Быстро уходит.)
Алексей. Может, мадам позвонить?
Лысов. Она наверняка в дороге. Сюда едет.
Вбегает Никита.
Никита. Арины дома нет. Наверное, ушла по своим делам.
Алексей. Надо ещё раз позвонить в скорую, всё толком объяснить. Пусть они скажут, что делать. (Набирает номер.) Шестёрка занята…
Никита. Может, выйти на шоссе и ловить любую машину?
Алексей. Теперь восьмёрка занята. Ну вот, дозвонился до города.
Елена (громко кричит сверху). Витя! Витя!
Лысов кидается наверх, за ним Никита.
Алексей. Девушка, милая, у нас вот какая штука: нам нужна консультация. Только не бросайте трубку. Мы за городом, у нас с женщиной плохо…
Лысов выходит на верхнюю площадку лестницы.
Лысов. Нам не нужна консультация. Дамы, товарищи, а ведь она умерла.
Все молчат, громкие гудки «занято» в телефонной трубке.
Захар (растерянно). Это точно?
Лысов. Я не медик, но она холодная вся. И вытянулась. И глаза такие… знаете?
Даша. Как умерла? Так не бывает.
Захар (машинально). Ещё не то бывает.
Елена, Лысов, Вера, Никита медленно спускаются по лестнице, садятся за стол, молчат.
Захар. Что теперь делать-то?
Лысов. Да, влипли мы в историю.
Вера. Как вы можете так говорить?
Лысов. А здесь говори, не говори…
Елена. Господи, какой ужас…
Лысов. Родственникам надо сообщить. Как её зовут, я всё время забываю?
Захар. Ева её звали. А родственников, в обычном смысле слова, у неё нет. Это я вам точно говорю.
Вера. Вы знали Еву до погружения?
Захар. Знал. Но это было чисто шапочное знакомство.
Лысов. Во-первых, надо сообщить в милицию.
Вера. Милиция-то здесь при чём?
Лысов. Милицию и врача, чтобы засвидетельствовать смерть. И уверяю вас… Человеку лучше умереть в больнице или дома по месту прописки.
Вера. Что за чушь вы говорите? При чём здесь прописка?
Лысов. И поверьте моему опыту, разговор с милицией будет совсем не простой. Это по логике вещей видно.
Даша (со слезами). Сюда приедет милиция? Почему она умерла? Почему?
Елена. Кто же это знает?
Резкий телефонный звонок. Никита берёт трубку.
Никита. Мадам… Анна Кирилловна. Как хорошо, что вы позвонили. Нет, уж я лучше по-русски. Неважно, что вы задержались. У нас тут, понимаете, ЧП. (После паузы.) Не волнуйтесь, нам нужен телефон милиции, местный… (Записывает.) Это не телефонный разговор. Да, да, все живы, приезжайте скорей. (Вешает трубку.)
Вера. Зачем вы ей сказали, что у нас все живы?
Никита. Машинально. Она машинально спросила, я машинально ответил.
Лысов. Звоните в милицию.
Никита набирает номер. К нему подходит Даша.
Даша. А потом я домой позвоню. Можно? Мне обязательно надо позвонить маме.
Действие второе
Картина первая
Тот же холл спустя полчаса после предыдущего действия. Все участники погружения в холле, кто-то расхаживает из угла в угол, кто-то курит, кто-то просто сидит, тупо глядя перед собой.
Алексей. Сейчас у нас одно занятие – ждать.
Даша. Я домой хочу. Скорее бы мама приехала.
Елена. Странно – жил человек и умер.
Захар. Всё так хорошо шло и вдруг… Теперь мы будем дальше погружаться или как?
Никита. Теперь мы будем выныривать. И чем быстрее, тем лучше.
Вера. Я бы хотела позвонить. (Подходит к телефону.) Здесь длинный шнур?
Алексей. Сейчас проверим. (Берёт телефон в руки, отходит с ним, шнур тянется до бесконечности. Алексей передаёт телефон Вере.) Этот телефон можно в командировку с собой брать, шнура хватит.
Вера с телефоном уходит в закуток под лестницей, садится на кушетку, набирает номер.
Вера. Маринка? Это я, да… мама.
Слышен детский голос. Мамуль? Когда приедешь? Я тебя жду-жду…
Вера. Приеду сегодня вечером. Что ты ела?
Детский голос. У меня всё есть: и котлеты, и пельмени в морозилке. Мамуль…
Вера. Тётя Оля заходит?
Детский голос. Да, она мне хлеб и молоко купила. У меня всё хорошо. И девочки приходят. Вчера мы в театре с классом были.
Вера. С работы звонили?
Детский голос. Звонили. И тётя Нина, и тётя Зоя… Мам…
Вера. Что?
Детский голос. Только ты не волнуйся. Папа приходил.
Вера. То есть как? Почему ты его пустила?
Детский голос. Мам, он не пьяный был. Я не хотела его пускать. Притворилась, что дома никого нет. А он всё стоит и стоит. Я в глазок посмотрела, а он не уходит.
Вера (устало). Зачем он явился? Что ему надо было?
Детский голос (шёпотом). Мам, он деньги принёс.
Вера. Не нужны нам его деньги. Ничего нам от него не нужно. Если бы он только пьяница был, но ведь… (Плачет.) Ой. Манька…
Детский голос. Мам, ну не плачь, он быстро ушёл. Спросил, где мама, а я хи-и-трая. Я не сказала, что ты уехала. Я сказала, что ты в магазине и сейчас придёшь. Он испугался и ушел.
Вера. И много он денег оставил?
Детский голос. Семь рублей. Две трёшки и рубль.
Вера. Маришенька, я совсем скоро приеду. Как только освобожусь, так и приеду. И больше никуда и никогда не уеду.
Детский голос. Ты не торопись. (Начинает всхлипывать.) У меня всё хорошо, и котлеты ещё есть. Мамуль, не пла-ачь. У нас всё хорошо.
Мы оставим Веру в закутке под лестницей. Она уже кончила говорить, телефон стоит у неё на коленях, она положила на него руки и замерла, откинувшись к стене. В холл входит Милиционер. Это молодой парень, видно, он пошёл работать в милицию сразу после армии. При исполнении служебных обязанностей он очень строг и хочет, чтобы всё было по правилам.
Милиционер. От вас вызов поступал?
Алексей (встаёт). От нас.
Милиционер. По какому случаю собрались?
Захар. У нас погружение.
Милиционер. Это в каком смысле? Моржи, что ли?
Лысов. Месье Рошфор, не говорите загадками. Мы не моржи. Погружение – это ускоренный курс обучения французскому языку.
Алексей. По эмоционально-смысловому методу.
Елена. А мы все – слушатели, или студенты, как хотите…
Милиционер. Понятно. (Видно, что ему ничего не понятно, и он с большим подозрением относится к их словам.) Погружение, значит… И сколько вас здесь… погрузившихся?
Из закутка выходит Вера, ставит телефон на место.
Лысов. Четыре пары. То есть всего восемь человек. Сейчас, естественно, семь.
Милиционер. Не слабо! Вы что же – парами язык изучали?
Елена. Такие шутки, молодой человек, здесь неуместны.
Милиционер. Я вам не молодой человек. Я при исполнении. Кто ваш учитель?
Лысов. Наш учитель – мадам. Мы ждём её с минуты на минуту. Вчера вечером она уехала в город по делам.
Милиционер. Какая ещё мадам? (Смотрит на стол с остатками еды, потом обходит комнату, у камина видит пустые бутылки. Берёт одну из них в руки, нюхает, потом ставит на место. Вид у него до невозможности загадочный.) Мадам, значит, уехала, а у вас тут происшествие – труп. (Лысову.) Кто умер?
Лысов (Елене). Я всё время забываю, как её зовут.
Елена. Ева Сергеевна.
Милиционер. На трупе есть следы насилия?
Елена (потрясённо). Это вы меня опрашиваете?
Лысов (пытаясь скрыть раздражение). На трупе нет следов насилия. Она умерла во сне. Мы не могли её разбудить.
Милиционер. Врача вызывали?
Никита. Да. Мы звонили в Москву. Только неотложка отказалась ехать за город.
Милиционер. Надо было в нашу больницу звонить.
Лысов. Мы не знали номера телефона. Это чужая дача.
Милиционер. Как чужая? Что-то я, товарищи, с вами совсем запутался. Кто хозяин дачи?
Захар. Мы не знаем.
Никита. Сейчас приедет мадам, и мы сможем это выяснить.
Милиционер. Где труп?
Вера. Наверху. Там у нас живут женщины. Пойдёмте, я вас провожу.
Милиционер. Всем оставаться на местах! (Поднимается вверх.)
Лысов. Ну и дела. Мальчишка ведь, а туда же. Не знаю в чём, но этот околоточный нас всех подозревает.
Милиционер спускается вниз.
Милиционер. Я должен составить список всех погрузившихся путём словесного опроса. (Обращается к Никите.) Имя, фамилия, место работы, национальность…
Никита (внезапно обозлившись). Канадец, Жюльен Лебрен.
Вера. Месье Лебрен, не валяйте дурака.
Милиционер (Вере). Как его зовут?
Вера. Понятия не имею. Мы здесь вообще друг друга не знаем.
Милиционер. Когда же вы собрались? Вчера, что ли?
Лысов. Шесть дней назад.
Милиционер (теряя терпение). Ну вы тут вообще… Попрошу паспорта.
Вера решительно идёт наверх.
Милиционер. Куда вы?
Вера. За паспортом. Он у меня в чемодане.
Милиционер. Не ходите туда.
Вера садится на место.
Даша. А у меня вообще паспорта нет.
Милиционер. Ну какое-нибудь удостоверение личности у вас есть?
Никита. Шеф, лично у меня из удостоверения личности есть только записная книжка.
Милиционер. Вы, гражданин Лебрен, пока помолчите.
Алексей. Не надо никаких паспортов. У меня есть список всех участников погружения. (Вынимает из кармана список.)
Милиционер (смотрит список). А почему не указано место работы?
Алексей. При чём здесь место работы?
Милиционер. А при том, что сейчас рабочее время. Сейчас не погружаться надо, а на рабочем месте сидеть, если вы, конечно, не в очередном отпуске. Где у вас телефон?
Лысов. Вот, на полке.
Милиционер (набирает номер). Юдин? Докладывает сержант Горшков. Да, по вызову. Имеет место происшествие. Труп. Понятно. Есть. Я думаю, что проводник с собакой не нужен. Следов насилия при поверхностном осмотре трупа не обнаружено. Есть. Понял.
Милиционер (садится, берёт в руки список). Ева Сергеевна Гофф.
Алексей. Она умерла. А работала, кажется, в библиотеке.
Милиционер (вычеркивает Еву из списка). Вера Евгеньевна… Грошева? Непонятно написано.
Вера. Не Грошева, а Гошева. (Заглядывает милиционеру через плечо.) А почему вы меня называете? Я в списке последняя.
Милиционер (прячет от неё список). Я вызываю избирательно. И вообще я могу начать список с любого конца.
Вера. Почему вы меня за паспортом не пустили?
Милиционер. Потому что туда без понятых хода нет.
Вера. Возьмите меня в понятые и пойдём.
Милиционер. Вы не понятая, вы очевидец, а лучше сказать – свидетель, а ещё можно сказать…
Лысов. Вы что – в убийстве нас, что ли, подозреваете?
Никита. А что? Идеальная ситуация! (милиционеру.) Друг, ты Агату Кристи читал?
Милиционер. С вами, гражданин Лебрен, будет особый разговор.
Алексей. Да не Лебрен он. Он (тычет пальцем в список) Никита Бурцев. Мы здесь все живём под выдуманными именами.
Милиционер. Понятно, понятно…
Никита. Нет, вы представьте. Пустой дачный посёлок, вокруг ни души. Следов никаких. На даче восемь человек, и вдруг один умирает. Отчего – неизвестно. Мы все на подозрении. Теперь этот юный Эркюль Пуаро будет распутывать узел.
Вера. Прекратите трёп. Глупо. И, в конце концов, просто непорядочно по отношению к Еве.
Захар. Может, оно и непорядочно. Но её счастье, если у неё инфаркт или инсульт. А если она снотворными опилась, то мы уже и отравители.
Милиционер (очень заинтересованно). Отравители?
Вера (со злобой). Ну конечно, здесь перед вами леди Макбет, Раскольниковы, Борджиа всех мастей, кто там ещё?
Захар (милиционеру). Вы сумочку покойной посмотрите, она битком лекарствами набита. Она без снотворных спать не могла.
В комнату входит мадам – Анна Кирилловна.
Анна. Бонжур… (Внимательно всех осматривает.) Что здесь происходит?
Захар (милиционеру). А вот и наша учительница.
Никита (подходит к Анне, говорит негромко). Анна Кирилловна, я не хотел вам говорить по телефону. Мадам Лекер умерла.
Анна. Ева? (Видно, что она потрясена, не снимая пальто проходит в комнату, садится в кресло.)
Милиционер (Анне). Вы есть в списке?
Алексей. Анны Кирилловны в списке нет.
В комнату входят двое: следователь, мужчина около тридцати лет, очень деловой, и немолодая женщина-врач.
Следователь. Здравствуйте, товарищи. Я Следователь, моя фамилия Перцев. А это судмедэксперт – Мария Христиановна Воронцова. Убедительно прошу вас оставаться на месте, то есть не уезжать с дачи. Сейчас мы в присутствии понятых осмотрим место происшествия.
Лысов. Так не было никакого происшествия.
Следователь. Происшествием мы называем смерть. Понятых желательно позвать со стороны. Хотя это чистая формальность.
Милиционер. Вот гражданка Анна Кирилловна может быть понятой, её здесь не было в момент смерти.
Алексей. Ещё можно сторожиху с соседней дачи позвать.
Следователь. Позовите, пожалуйста. (Милиционеру.) Горшков, проводи, будешь писать протокол.
Следователь, врач, Анна медленно поднимаются за милиционером вверх по лестнице.
Картина вторая
На кухне за столом сидят Вера, Алексей и Захар. На плите закипает чайник.
Алексей. Ну вот, дело пущено. Теперь от нас уже ничего не зависит. (С усмешкой.) Только правду, одну правду, голую правду…
Вера. Нужна Еве наша голая правда…
Алексей. И странно, я ведь о ней ничего не знаю. Словно в поезде в соседнем купе человек помер. Кто? Пассажир…
Вера. Вначале все в состоянии шока – охают, переживают, жалеют, а потом проехали ближайшую станцию и… всё возвращается на круги своя.
Свистит кипящий чайник. Алексей неторопливо начинает заваривать чай.
Алексей. В чай хорошо душицу класть и цветки липы. От горячего они разбухают, становятся прямо как живые.
Захар. Вас, значит, зовут Вера.
Вера. Выходит, так.
Захар. А я – Захар, учитель словесности.
Вера. Тоже нетрудно догадаться.
Алексей. А вы для меня всегда будете Жанна, неосуществившаяся мечта о Париже.
Захар. Почему неосуществившаяся? Человек без мечты…
Алексей. Не надо цитировать классиков. Я так истово мечтаю, что всё чешется (показывает). Но я реалист и понимаю, что самое золотое время – это не то, когда рак на горе свистнет, и ты в Париже окажешься, а когда ты туда только оформляешься. Анкеты, собеседования, а ты уже мысленно гуляешь по Монмартру. Хорошо! Потом – трах! Сдайте билеты, ты никуда не едешь. Но ведь было, было, весь Париж в мечтах обгулял. Наше погружение было той же мечтой. Летом во Франции должна была состояться небольшая конференция…
Захар. А теперь не состоится?
Алексей. Для меня – нет.
Захар. Что за суеверие такое? Я лично собирался в круиз по путёвке и поеду. Язык только подучу. Погружение совпало с зимними каникулами, очень удобно.
Алексей. А моё погружение совпало с тремя отгулами за овощную базу. Только я эти отгулы нигде не оформил и считаюсь как бы на работе. Теперь следователь обнародует мой грех…
Захар. Вы думаете, он сообщит на работу? Что же вас ждёт?
Алексей. Электрический стул.
Захар. Нет, серьёзно.
Алексей. Что меня ждёт? Ничего меня не ждёт. Я математик, моя тема в плане квартала. Премии, конечно, лишат.
Вера (Захару). А откуда вы знаете Еву?
Захар (пытаясь шутить). Я же говорил – у нас чисто шапочное знакомство. Шапку она мне ондатровую достала. И я очень ей за это благодарен.
Вера (дразнит его). Сейчас осмотрит милиция место происшествия, потом допрос свидетелей, составят протокол. Сознайтесь, что вы трусите, лётчик из Бордо?
Захар. Не больше, чем прочие. Я абсолютно чист перед умершей.
Вера. А судебной ошибки вы не боитесь? Насколько я понимаю, вы единственный среди нас, кто хоть как-то связан с покойной, хотя бы ондатровой шапкой. По нашим временам ондатровая шапка – почти интим.
Алексей (укоризненно). Жанна!
Вера. Ну, раздражает он меня, понимаете? Раздражает! Эта мадам Лекер такая нелепая, добрая, стрАнная. У меня такое чувство, что кто-то дунул на неё, и она, как одуванчик, осыпалась.
Захар. Никто на неё не дунул. Эта смерть, как кирпич на голову, случайна.
Вера. Кирпич тоже сам по себе не падает. Кто-то его плохо положил, какого-то дурака понесло на крышу, ногой он его зачем-то пнул… этот кирпич.
Захар (строго). Я хочу уточнить, чтобы не было разнотолков. Ондатровая шапка досталась мне просто потому, что она была велика Еве Сергеевне. Мы с ней живём в одном доме. Я на пятом этаже, она на шестом. В этот кооперативный дом я переехал по обмену, и сразу же, буквально в первую неделю, она меня залила. Горячей водой. Когда она потом ремонт делала, мы, естественно, познакомились. Дальнейшие наши отношения не сложились. Она старше меня и, как вы успели заметить, человек со странностями. А Мать у неё вообще больше в клинике, чем дома, живёт. Шизофрения.
Вера (потрясенно). У её матери шизофрения?
Захар. А что тут особенного? Обычное дело.
В кухню входит Никита, вид у него озабоченный. За ним идут Лысов и Елена.
Никита. Ребята, вот какое дело. Следователь будет задавать разные вопросы. На них ответить нетрудно, но есть одна деталь… Понимаете, следователю надо сказать, что мадам занималась с нами бесплатно.
Захар. Зачем?
Никита. Ведь это погружение, насколько я понимаю, частное мероприятие. Шут его знает, что следователю в голову придёт. Он может расценить его как нарушение финансовой дисциплины. Мы не можем допустить, чтобы у мадам были из-за нас неприятности.
Лысов. Лично я не вижу здесь никакого криминала.
Алексей. Наверное, канадец прав. Я, например, никогда не знаю, что у нас можно, а что нельзя. Даже в юридических консультациях по одному и тому же вопросу адвокаты разное говорят.
Елена. Правильно, я с этим сталкивалась.
Алексей. Мне знакомый юрист рассказывал, что защищал на суде одну тётку, показательный процесс. Её судили за спекуляцию, она мохеровые шапки продавала. Сама вязала, сама продавала.
Лысов. Какая это спекуляция, если она их сама вязала?
Алексей. Так она их по очень высокой цене продавала.
Захар. А как они узнали, высокая цена или нет?
Алексей. Наверное, экспертов вызывали.
Вера. А эксперты откуда знают? Можно подумать, что они в магазине покупали мохеровые шапки.
Елена. Господи, о чём мы говорим? Покойник в доме.
Никита. Мы не хуже вас понимаем, что в подобной ситуации лучше молчать. Но сейчас мы не о себе заботимся, а о мадам.
Лысов. Ну хорошо. А частные уроки можно давать?
Захар. Конечно можно. Этими объявлениями все столбы оклеены!
Лысов. Это ещё ничего не значит. Может, они государству налог платят?
Захар. Ничего они не платят. Мой приятель в экономическом институте по математике будущих студентов готовит. С гарантией. Я сам по русскому языку уроки даю. Пятёрка в час.
Никита. Подстраховаться никогда не мешает. Следователя может смутить сумма.
Захар. Конечно. За погружение мы платим каждый по сто рублей. Нас восемь человек. Нетрудно подсчитать…
Вера. Нас уже семь человек. Кроме того, мадам сняла дачу, накупила продуктов, наняла повариху, я имею в виду Арину Романовну.
Захар. Всё равно. Если подсчитать аккуратно, у мадам получается кругленькая сумма. Десять раз погрузилась – «жигуль»!
Вера. Не надо ничего аккуратно подсчитывать. Вам сказали – она с нами занималась бесплатно.
Никита. Но это только для следствия.
Елена. Естественно. Где мадам сейчас работает?
Вера. По-моему, она сейчас нигде не работает.
Алексей. Нет, она служит где-то и занимается именно погружением. Она целый год этот курс готовила. У неё были погружения в различных институтах.
Захар. Частно?
Алексей. Не знаю. Может быть, оформляли как-то через бухгалтерию или даже в штат брали – не знаю.
Никита. Сами-то вы как с мадам познакомились? И вообще, как мы сюда попали?
Лысов. Сейчас я всё объясню. В институте образовалась инициативная группа по изучению языка. Летом мы едем на конференцию в Париж.
Алексей (поёт, дурачась). Ах, Витя, Витя, мы гуляем по Парижу… Только сдаётся мне, что мы нужны в Париже, как в бане пассатижи.
Лысов (повышая голос). Прекратите безобразие! Что за амикошонство, в самом деле! (Переводит дух.) Лично я в Париж поеду при любых обстоятельствах.
Алексей. Вы-то поедете. Ещё не придумали тех обстоятельств, которые бы вас от задуманного отвратили.
Вера. Ну хватит. Говорите толком.
Алексей. Мы должны были ехать в какой-то дом отдыха и там погрузиться за счёт профсоюза. Это всё Пётр Ильич организовал.
Никита. А кто такой Пётр Ильич?
Алексей. Директор нашего института.
Никита. Однако…
Алексей. А что? Институт у нас новый, всё очень демократично, а по-французски все хотят говорить. Потом Пётр Ильич уехал в Дублин на симпозиум, группа распалась. От восьми человек осталось три энтузиаста: ваш покорный слуга, шеф Виктор Прохорович и Елена.
Елена. Я у Виктора Прохоровича в лаборатории работаю.
Алексей. Для погружения не хватало пяти человек. Их пришлось найти на стороне. Вот мы вас и нашли. Кому чаю налить? Перепрел, наверное. (Разливает чай.)
Никита (с усмешкой). На Авиньонском мосту прекрасные дамы знакомятся с прекрасными кавалерами.
Все вдруг умолкли.
Вера (мрачно). Жалко, что поздно.
Лысов. Что вы этим хотите сказать?
Вера. А то, что если бы мы раньше познакомились, может быть, Ева была бы жива.
Лысов. А почему, позвольте вас спросить?
Вера. А потому, что вся эта французская жизнь для хороших нервов и крепкого здоровья. А у Евы ни того ни другого не было. Мы ведь здесь не жили – развлекались, а поговорить-то и не с кем.
Никита. Это правда, по-французски про жизнь не поговоришь.
Лысов. Мы здесь работали как ломовые кони.
Вера. Я чувствовала, как она пыталась с каждым из нас войти в контакт и ни в ком не находила участия. Все как обезумели!
Никита. Таковы правила погружения.
Вера (Никите). Вы по этим правилам хотя бы на десять дней должны были стать её другом, но куда там… (Передразнивает.) Ах, мадам, ох, мадам…
Алексей (сидит, опустив голову, и помешивает в чашке чай). Зря вы так.
Вера. Не бренчите ложкой! Вы тоже, кроме этой дурочки, мадемуазель Клодин, никого не замечали.
Алексей (тихо). Ну вас-то я замечал.
Вера. Подождите, она ещё преподнесёт вам пилюлю. Фальшивая насквозь!
Лысов (начальственным тоном). По какому собственно праву…
Вера. Поберегите этот тон для вашей фиктивной жены! У меня одно право – я такая же чокнутая, как вы все! Парижане… Je voudrais du caviar. (Уходит.)
Алексей (невесело). На чистом парижском языке это означает, что мадам Жанна «не прочь чёрной икры».
Картина третья
Чистый, прибранный, пустой холл. По лестнице медленно спускается Анна. В комнату входит Вера.
Анна (подходит к Вере). Как хорошо, что ты одна.
Вера. Вся компания на кухне. Я там устроила сцену, наговорила всякого вздору. Немного легче стало. Когда же наконец начнётся этот опрос свидетелей… или как его там?
Анна. Когда она умерла?
Вера. Утром, часов в десять или около того. Мы до последней минуты не понимали, чем это может кончиться.
Анна. А вчера вечером что здесь было?
Вера. Пир горой и танцы.
Анна. Она обо мне ничего не говорила?
Вера. А что она могла говорить?
Анна. Понимаешь, это в некотором смысле Евина дача. Я узнала об этом только вчера.
Вера. Ты у Евы сняла дачу? Как же ты узнала об этом только вчера?
В холл входит Никита и стоит в дверях незамеченный.
Анна (устало). Ни у кого я ничего не снимала. Это мой дом. Не смотри на меня так. Я нарочно сказала всем, что я его сняла. Мне как-то неловко было погружаться на собственной даче.
Вера. Анюта, я ничего не понимаю.
Анна. Думаешь, я понимаю? Одно мне ясно – если она покончила с собой, то это не без моего участия. Смешно… как в старинной мелодраме. (После паузы.) Вчера вечером Ева пришла ко мне, встала в дверях, смотрит на меня испытующе, а потом вежливо так говорит: «Неужели вы меня не узнали? Но имя-то моё?..» А какое имя? Она для меня мадам Лекер, писательница из Марселя. Потом как пелена с глаз – это же Ева!
Вера. Ну Ева… И что?
Анна. Ева – первая жена Ефима.
Вера. Твоего Ефима? Но ведь это было безумно давно!
Анна. Я вообще забыла, что она существует. Она и на похоронах не была. Немудрено, что я её не узнала. Мы виделись с ней всего один раз в жизни, она мне сказала одну-единственную фразу, а вчера она как бы продолжила наш разговор, словно и не было этих двадцати лет: «Ну как, мадам, вы были счастливы все эти годы?» Она назвала меня «мадам», я уверена, без злого умысла, – меня здесь все так называли, но в её устах это «мадам» прозвучало обидно, почти оскорбительно.
Вера. Не могла она никого оскорбить.
Анна. А мне захотелось выплеснуть ей в лицо всю правду, но язык к гортани прилип. Что-то я ей ответила – не помню, а дальше разговор пошёл у нас странный, весь на подтексте. Она говорила о каких-то рукописях, просила какие-то книги, тут же извинялась. Потом стала уверять меня, что дача ей совсем не нужна, что она меня вполне понимает, и что, мол, кто ж ещё хозяин дачи, как не Димка. А сама всё движется по комнате: картинку поправит, стены погладит. Вот тут я разозлилась: «Это не вам решать, дражайшая мадам Декер!» А она спокойно так: «Разве Ефим не оставил завещания?»
Вера. А он оставил?
Анна. Я Еве так и сказала: «Глупость какая! Кто в наше время оставляет завещания?» А она мне: «Но ведь он знал, что обречён. Это он вас с Димкой пугать не хотел». Я так и встала соляным столбом. Откуда ей могло быть это известно?
Вера. Мало ли…
Анна. Я ничего не стала уточнять, не задавала никаких лишних вопросов. Я только попыталась объяснить, что ничего не знаю ни о каком завещании. Бред! Недвижимая собственность, как у Бальзака. А она смотрит на меня и не видит. Говорит: как мы счастливы были на этой даче! Понимаешь, ей совершенно всё равно – есть это завещание, нет ли его… И тут я подумала: а может, оно и вправду есть, лежит где-нибудь в старых бумагах. Я ведь ничего толком не разбирала. В общем, я бросилась в город, домой. Перерыла всё, даже тайник в шкафу нашла.
Вера. Ну и что?
Анна. Не было там никакого завещания. (Вдруг нервно, горлом всхлипывает.)
Вера (неожиданно жёстким тоном). Ну и всё, и успокойся. Умерла первая жена твоего мужа. Это бывает. Первые жёны не бессмертны.
Анна. Меня не оставляет чувство вины.
Вера. У живых перед мёртвыми всегда есть чувство вины. А что мужа у неё увела, так не ты первая… В конце концов, Ефим сам от неё ушёл. (Подходит к окну.) Снег идёт… (После паузы.) Ты следователю об этом что-нибудь говорила?
Анна. Он меня об этом не спрашивал.
Вера. Меня он тоже об этом не спросит. (После паузы.) Бедная Ева…
Анна (замечает Никиту, теряется). Мне надо идти наверх. Там дела ещё не закончены. (Поспешно поднимается по лестнице.)
Вера (оглядывается). А, месье Лебрен. (Вслед Анне.) С ним ты можешь быть вполне откровенна. Очень преданный тебе человек. И порядочный, это по глазам видно. (Анна закрывает за собой дверь.)
Никита (подходя к Вере). Зачем вы это сказали?
Вера. Что вы преданный и порядочный? Чтобы облегчить вам задачу. Вы ведь хотите, чтобы об этом знала мадам?
В холл входит женщина в шубе и меховой шапке. Это мать Даши.
Мать. Здравствуйте, я мама Даши Прошкиной. Я сюда попала? Где она?
Вера. Здравствуйте. Сейчас я узнаю. Кажется, она ушла куда-то. (Зовёт.) Алёша… месье Мартен!
Никита. Сейчас я его позову. (Выходит.)
Мать. Ева Сергеевна правда умерла?
Вера. Умерла.
Входит Алексей.
Вера. Это Дашина мать.
Алексей. А она вас встречать пошла. Наверное, вы разминулись на дороге.
Мать. Я на такси сюда приехала. Мне надо немедленно увезти Дашу отсюда.
Алексей. Боюсь, что мадемуазель Клодин ещё может понадобиться следствию. Здесь такая каша заварилась…
Мать (решительно). Вот вам её и расхлебывать. А Дашенька ни в чём таком участвовать не может. Она несовершеннолетняя.
Алексей. То есть как?
Мать. Ей шестнадцать исполнится только через полгода.
Вера. Не слабо… как говорит наш милиционер.
В комнату вбегает Даша, бросается к матери.
Даша. Мы на повороте с тобой столкнулись. Как ты меня не заметила? Я бежала за тобой всю дорогу. Мама, Ева Сергеевна уснула и не проснулась, представляешь?
Вера. А вы, оказывается, дитё, мадемуазель Клодин?
Даша насупленно смотрит на всех и молчит.
Мать (Даше). Где твой чемодан?
Даша. Наверху, там эти люди.
Мать. Нас никто не смеет задерживать. (Решительно поднимается вверх по лестнице.)
Вера (вдруг смеётся, глядя на Алексея). Сумасшедший дом! Гражданин Ален Мартен, как порядочный человек вы теперь должны жениться! (Смеясь, уходит.)
Алексей (внимательно рассматривая Дашу). Ты в каком классе-то учишься? (Видно, что он очень смущён.)
Даша (с вызовом). В девятом.
Алексей. Зачем же тогда?.. Ты мне всё врала.
Даша. Вы мне тоже, между прочим, врали, что преподаёте в Сорбонне. А что делать в вашем Париже пятнадцатилетней? Я не виновата, что акселерантка.
Алексей. Но я виноват, что осёл! Хорошо ещё… (Хватается за голову.)
Даша. Алёша, не сердитесь на меня. (Всхлипывает.) Всё это неважно. Если б вы знали… Только это тайна. Я, наверное, только маме об этом скажу… а может быть, не скажу, она бестолковая, мама. Я вообще жалею, что сюда её вызвала, но я очень испугалась.
Алексей. Не надо больше тайн, а? У нас их тут было с избытком. Заигрались мы, вот в чём дело.
Мать спускается вниз.
Мать. Они там пишут, пишут… Ева бедная, её узнать нельзя. И не одета. Врач диктует милиционеру: женщина немолодая, средней упитанности, без следов насилия на теле. Как вам это понравится?
Алексей (хмуро). Кому же это может понравиться? (Уходит.)
Даша (матери). Так мы не едем?
Мать. Куда же мы, Дашенька, без чемодана-то?
Обе идут в закуток под лестницей, мать снимает шубу, достаёт из сумки термос и свёрток.
Мать. Вот чай горячий и бутерброды. Я знаю, если в доме умирают, никто о еде не думает. Поешь…
Даша (отодвигает еду). Нет, всё-таки тебе я скажу.
Мать. Что скажешь?
Даша. Ты можешь меня не перебивать?
Мать. Я тебя не перебиваю, говори, что хочешь.
Даша. Вчера вечером мадам уехала, и мы организовали танцы.
Мать. Что значит «мы организовали»? Ты-то здесь при чём? Они взрослые люди. Они вольны танцевать хоть всю ночь.
Даша. Не перебивай. Мы танцевали, а потом решили гадать. Ева Сергеевна мне, конечно, сказала – никаких гаданий! А сама спать пошла. А потом: «Дашенька, налей мне сюда воды» и стакан протягивает, а там уже что-то налито было, мутное такое. Я пошла к столу и налила воды.
Мать. Ну? Налила воды.
Даша. Ты можешь по-человечески выслушать? (После паузы.) Я в этот стакан таблетку снотворного бросила. Из её же сумочки.
Мать (с испугом). Зачем ты это сделала?
Даша (плачет). Она за мной следила. Шагу не давала ступить: это нельзя, то нельзя. А мне так хотелось быть как все. И гадать хотелось, и вообще… А потом она уснула и не проснулась.
Мать. Не вздумай следователю сказать, что ты дала Еве лекарство!
Даша. Я вообще-то две таблетки бросила. Я, может быть, убийца!
Мать. Что ты за глупости говоришь! Я отправила тебя на это погружение, доверяя как себе самой, а у тебя всё хиханьки на уме. Гадания какие-то дурацкие! С такими настроениями в институт не поступишь. Ну, перестань плакать. Давай сюда нос. Вот так… Выпей чаю. (Даша берёт из рук матери чашку.) Двумя таблетками снотворного человека на тот свет не отправишь.
Даша (прихлёбывая чай). А может быть, эта таблетка у неё пятая по счёту?
Мать. Глупости. Ты ничего не видела и не слышала. Так и следователю скажем.
Даша. Это понятно, но сама-то я всё про себя знаю. Мама, я совершенно запуталась!
Картина четвёртая
Кухня. За столом Вера пьёт кофе, в дверях стоит Захар.
Захар. Нельзя пить так много кофе. Это вредно для здоровья.
Вера. Жить вообще вредно, и особенно для здоровья.
Захар. Не удивляйтесь, что в этих экстремальных условиях я рискну возобновить наш прежний разговор.
Вера. Я бы на вашем месте так не рисковала.
Захар. Но вы ведь сами давали мне неоднократно понять, что я вам небезразличен.
Вера. Это была игра. Воздух был особый, речь и отважный лётчик из Бордо. Мадам говорила, что лёгкая влюблённость очень способствует усвоению языка. Всё во славу обучения! Кощунственная мысль! – мне иногда кажется, что Евина смерть тоже входит в правила игры, и странно, что мы не обсуждаем её по-французски.
Захар. Вы хотите сказать, что Еву заманили на дачу, чтобы убить? Как в иностранных детективах?
Вера. По-французски эта фраза звучала бы не так идиотски, но по-русски… Поль Рошфор, можно ли говорить подобные глупости?
Захар. Вы дадите свой телефон?
Вера. Нет.
Захар. Почему?
Вера. Потому что не хочу никаких отношений.
Захар. А я хочу. Поймите меня. Я не люблю и боюсь женщин. Я был женат.
Вера. И она вас бросила.
Захар. Нет. Я сам от неё ушел.
Вера. После такого поступка я бы на вашем месте боялась и ненавидела мужчин. Почему вы бросили бедную женщину?
Захар. Это трудный вопрос. Понимаете, она во мне не нуждалась. Она была слишком независима, слишком уверена в себе…
Вера. Ещё, наверное, слишком умна, слишком добра, слишком красива. А вы ведь непритязательны, да? Зачем вам знак качества?
Захар. Не иронизируйте. Она восстанавливала против меня сына.
Вера. Так у вас ещё и сын есть? И он в вас тоже не нуждался?
Захар. Вы должны меня понять. Мужчина должен быть главой дома, хранителем очага, а я по вине моей бывшей жены был никем.
Вера (задумчиво смотрит на Захара). А ведь вы красивый, Захар, и всё равно «etre marque au В».
Захар. Что это значит?
Вера. Дословно? Мечены буквой «Б». У французов, как ни странно, все физические недостатки начинаются с буквы «Б»: bancal – кривоногий, bigle – косоглазый, bossu – горбатый, и так далее…
Захар. Косоглазый, значит? Понятно.
Вера. Ничего вы не поняли. «Кто не рискует, тот не выигрывает» – таков ваш девиз, месье Поль? Рискуйте дальше, а моя парижская жизнь кончилась. Мне домой пора. Последняя просьба, не в службу, а в дружбу – узнайте, что там делается. Я должна непременно первой попасть к следователю.
Захар. У вас есть какие-то важные сообщения?
Вера. Вы неисправимы, Захар. Что особенно важного я могу сообщить? У меня дочка одна дома сидит. И в отличие от вашего сына, она во мне очень нуждается.
Картина пятая
Холл. Никита и милиционер уносят на носилках завёрнутое в простыню тело. Алексей пытается им помогать. За ними, охая и причитая, идёт Арина Романовна. Даша с матерью и Анна сидят за столом, напряжённо и испуганно глядя на носилки. На переднем плане следователь и врач.
Следователь. В общих чертах мне эта публика ясна. Хозяйка дачи вполне толково обрисовала положение. Ты слышала о таком методе – погружение?
Врач. Это всё московские штучки. У нас язык учат иначе.
Следователь. Очень бы хотелось всё окончить на месте.
Врач. Ну и окончишь. На вскрытие мне надо четыре часа. Это минимум. (Видя, что следователь пытается возражать.) Пока туда… пока обратно… поесть надо успеть. С утра во рту маковой росинки не было.
Следователь. Мария Христиановна, трёх часов тебе хватит с избытком. Сейчас я ринг расставлю, всех опрошу. Убийц среди них нет, это ясно. Какой здесь может быть мотив преступления? Они даже друг друга не знают.
Врач. Надоело всё. В отпуск хочу.
Следователь. Я тоже хочу. Но в четыре часа у нас, как известно, конференция, и я делаю доклад. Так что уж поторопись. Жду звонка. (Оба уходят.)
В холл возвращаются Алексей, Никита, из кухни приходит Захар, за ним из коридора входят Елена и Лысов. Оба взвинчены.
Лысов. Лена… мадам Иветт, ну не будь идиоткой!
Елена. Я не идиотка. Нельзя вести себя так, как будто ничего не случилось. И вообще я хочу побыть одна.
Лысов. Куда ты денешься? Дом набит людьми.
Елена. Я и побуду с людьми – одна. (Проходит вглубь комнаты, садится у телефона.)
В холл входит Вера.
Захар. Товарищи, сейчас мы будем давать свои показания. Предлагаю установить очерёдность…
Алексей. И регламент.
Захар. Можно без шуточек? Первой, предлагаю, пусть идёт мадам Жанна.
Мать. Это ещё почему?
Захар. По семейным обстоятельствам она должна уехать в Москву.
Мать. Да у кого их нет – обстоятельств? Я думала, что всем ясно, что первыми пойдём мы. Дашенька ещё ребёнок!
Захар. Да ничего вашему ребёнку не сделается.
Мать. А вот это мы ещё посмотрим. А ведь интеллигентные люди!
В холл входит следователь.
Следователь. Итак, товарищи, с точки зрения закона вы все свидетели, и сейчас я с вашей помощью должен нарисовать картину вчерашнего и сегодняшнего дня. Все показания будут запротоколированы.
Мать (бросается к следователю). Товарищ Следователь! Нас вы примете первыми. Дашенька так измучена. Ведь подумайте – ребёнок, и попала в такую историю!
Следователь. Хорошо, я начну с вас, а потом буду всех вызывать по списку. Мне нужна отдельная комната с телефоном.
Анна. Вы можете занять мою комнату, там вам будет удобно, а телефон я вам туда принесу.
Елена (следователю). Только разрешите мне раньше позвонить домой.
Следователь и Анна уходят, за ними идут мать с Дашей. Елена ставит телефон на колени.
Елена (негромко, по-домашнему). Игорёк, мальчик милый. Папа на работе? Ты на ёлке был? Хорошие мультики? Молодец. Теперь позови бабушку. Мама? Сегодня вечером я приеду. Ну зачем ты сама ходишь? Из детского сада Катюшу всегда Коля забирает. Лекарство даёте? Вначале белые шарики, потом жёлтые. И горло не забывайте полоскать. Чайная ложка календулы на стакан воды. Соскучились? Я тоже…
Вера стоит в дверях и слушает этот негромкий домашний разговор. Входит Анна.
Вера (отводит Анну к выходу). Я в этом списке последняя.
Анна. О каких обстоятельствах говорил месье Поль, то есть Захар?
Вера. Маришка там у меня одна с жизнью сражается.
Анна. Но жила же она одна эти дни.
Вера. Жила. Только теперь она плачет. Я вообще не могу понять, как решилась бросить её на соседей.
Анна. Ты уезжаешь?
Вера. И немедленно.
Анна. Что же я следователю скажу?
Вера. Ничего не говори. Но если я ему все-таки понадоблюсь, дай мой телефон.
Анна. Как знаешь…
Вера. Ещё не хватало, чтобы ты на меня обиделась.
Анна. Я не обиделась… но это дело – наше общее, мы все вместе начинали… Вера… И всем нести ответственность? Я и несу. Только ношу по плечу выбираю. Я всё пытаюсь понять, в чём мы все виноваты перед Евой. Знаешь в чём? Мы все слишком хотели в Париж. Слишком! Об одном я жалею – что не уехала сразу, три часа назад.
Анна. А если бы все разъехались?
Вера. А я не отвечаю за всех, только за себя. Сейчас ведь тоже пойдет… игра. Этот дом давит на меня. Поверь, здесь ещё будут неожиданности, не могут не быть (надевает пальто). Ну, я по-английски (с усмешкой), ни с кем не прощаясь. Впрочем, канадцу поклон. Да, забыла. Здесь моё барахло. Я за ним потом когда-нибудь приеду. Пока.
Картина шестая
Комната Анны. Несмотря на письменный стол и полки с книгами, вид у комнаты очень женский, уютный. В центре комнаты за круглым столиком сидят следователь и мать с Дашей.
Следователь. Имя, фамилия, адрес… Я должен предупредить вас, что за дачу ложных показаний вы несёте уголовную ответственность.
Мать. Даша ничего нести не может, она ребёнок. Записывайте. Дарья Ивановна Прошкина, пятнадцать лет, Красная улица, тридцать три, квартира два, русская, комсомолка, учится в девятом классе.
Следователь. Исчерпывающе. Как вы попали на эту дачу и зачем?
Даша. Язык учить. Мама хочет, чтобы я поступила в институт иностранных языков.
Мать. Про погружение мне Ева сказала, то есть покойная. Мы с ней вместе работаем в архиве древних актов, то есть работали. Она в фонде редкой рукописной книги, а я – на микрофильмировании, то есть копии делала. (Умолкает.)
Следователь. Продолжайте, я вас слушаю.
Мать. Она вообще-то отзывчивая была, я с ней делилась. А тут она говорит: интенсивный метод изучения языка и всё такое. Сама Ева вначале не хотела ехать, но я её уговорила. У неё отпуск неиспользованный был. Поезжай, говорю, развейся… Кто ж знал, что всё так получится?
Следователь. Вы не замечали за покойной последнее время каких-нибудь странностей, – ну, депрессия, настроения всякие?
Мать. Для депрессии у Евы всегда была причина. У неё мать больная. Шизофрения. Они жили вдвоём.
Следователь. Как же она Мать одну оставила?
Мать. Так она уже два месяца в больнице. Помешательство её в том состояло, что она не могла видеть себя в зеркале. Она своё отражение за какого-то злоумышленника принимала, который за ней следит. В доме и зеркал-то не было, Ева их все убрала, но ведь своё отражение и в чашке с водой можно увидеть. Последний раз она отразилась в оконном стекле, разбила его, порезалась вся. И опять попала в психушку.
Следователь. Она и теперь там?
Мать. А где же ей быть?
Следователь (Даше; та сидит, словно окаменела, вся в своих мыслях). Теперь вы должны подробно вспомнить, как провели вчерашний вечер.
Даша (очнувшись). Вчерашний вечер?.. (Смотрит на мать.)
Картина седьмая
Анна сидит в закутке под лестницей, в руке у неё выключатель от бра – включит свет, выключит. Холл пуст, полуосвещён. К Анне нерешительно подходит Никита.
Никита. Можно я с вами посижу?
Анна. А, месье Лебрен с порядочными глазами. Садитесь.
Никита (садится рядом с Анной). Вы давно познакомились с Евой Сергеевной?
Анна. Жизнь назад. А почему вы спрашиваете? Вы же слышали наш с Верой разговор?
Никита. Слышал. (После паузы.) Когда не знаешь, как начать утешать, всегда начинаешь с нелепого вопроса.
Анна. Нелепый вопрос, нелепое желание. И как же вы хотите меня утешать?
Никита. Не знаю.
Анна. Придумайте что-нибудь. Мне кажется, дом мой – плот, на этом плоту я одна, и этот плот тонет… Плохи мои дела, я заговорила стихами.
Никита. Нет, всё не так. Просто мы очень поспешно живём, а смерть, когда она рядом, заставляет остановиться, оглядеться…
Анна (перебивает).…Погрузиться в себя (с усмешкой) и посмотреть, что там на дне души – ил или чистый песочек. На дне моей души нет ничего. Пустота.
Никита. Это смерть – пустота, а жизнь всегда чем-то наполнена.
Анна. Нет, вы не умеете утешать. (Встаёт, идёт в холл.)
Никита (идёт вслед за Анной, останавливает её). Я хотел сказать, что вы можете располагать мной безраздельно.
Анна (вдруг вскрикивает испуганно). Мне кажется, что она всё ещё сидит вон там, в кресле…
И действительно, мы видим сидящую в кресле Еву, вернее, её мысленный образ. Она сидит вполоборота к Анне и внимательно смотрит в тёмный камин.
Никита (оборачивается). Там никого нет.
Анна (лихорадочно). Я понимаю, откуда ей там взяться? Они умерли оба – мой муж и его жена. И знаете, определение «первая» смело можно опустить. Она всегда была его женой, а я – так… кем-то рядом.
Никита. Вы мать его сына.
Анна. Да, да, в этом всё дело. Не будь Димки, он никогда не оставил бы Еву. Это было так давно. Представьте, я студентка первого курса, семнадцать лет, ума никакого, но всего хочется. Отношение к жизни самое восторженное. А он – мой учитель, умница, профессор, и красив к тому же. Много старше меня, да… Ну и что? Мазепе было шестьдесят. (Её бьёт дрожь.)
Никита. А знаете что? У меня коньяк есть. Хотите выпить?
Анна. Хочу. (Садится за стол.)
Никита достаёт из шкафа коньяк, рюмки, наливает Анне, она сразу выпивает. Никита садится рядом с Анной. Сидящая в кресле Ева поворачивается и внимательно смотрит на них.
Анна. Спасибо, я, кажется, согрелась. Ну вот, значит… (Усмехается.) Он красавец-умница, я опомниться не успела, и уже жду ребёнка. А у них с Евой детей не было.
Ева кивает головой – мол, так всё и было.
Анна. Дайте ещё коньяку. С Евой до этого погружения я виделась всего один раз в жизни. Ещё Димка не родился, но жила я уже вместе с Ефимом. Когда они разъехались, он купил Еве однокомнатную квартиру. С матерью они уже потом съехались.
Ева. Через пять лет. (Ева говорит как бы сама с собой, ни Анна, ни Никита её не слышат.)
Анна. О чём я? Она пришла ко мне, когда Ефима дома не было. Никаких сцен, выяснения отношений… только одна фраза. Она долго, внимательно на меня смотрела, а потом сказала: «Вы, девочка, далеко пойдёте». В плохом смысле сказала, понимаете? И ошиблась. Я никуда не пошла. Просто работала, воспитывала сына. Характер у мужа был трудный. Он всегда болел, а я, как на грех, была всегда здорова.
Никита. Вы самая лучшая женщина на свете.
Анна. Я никакая, месье Лебрен. Все эти годы я жила чужой жизнью и не задумывалась об этом. О таких вещах всегда думать недосуг. Вот только сейчас времени достаточно. (После паузы.) Первые годы я подчинялась мужу во всём. Он учил меня, как воспитывать Димку, какие книги читать, что думать по поводу этих книг. Потом стали ссориться. Мне казалось, что он отказывает мне… в уважении. Теперь-то я понимаю: он мало делал различия между мной и Димкой, мы оба были его детьми.
Никита. Это не так уж плохо.
Анна. Это невыносимо. Ева не пришла на похороны. Сейчас знаете как хоронят? Слева первая жена, справа – вторая, у изголовья – третья. И все друг на друга волком. На кладбище я вспомнила Еву, но решила, что она сознательно не пришла, чтобы избегнуть подобной ситуации.
Ева. Что вы? Я тогда в больнице с желтухой лежала.
Анна. Вчера она мне сказала, что попала на погружение случайно.
Ева. Совершенно случайно. Я знала только, что погружаться будем за городом. Захар такой бестолковый, ничего толком не объяснил. Поехали большой компанией. Уже на станции я насторожилась. А когда к посёлку подошли, у меня уже не было сомнений. Таких совпадений зря не бывает. Я пришла в свою молодость.
Анна. Клянусь, я её не узнала. А она меня узнала.
Ева. Ещё бы.
Анна. Мужественная женщина, в этом ей не откажешь. Пять дней – ни словом, ни жестом… А потом она пришла в мою комнату.
Никита. Я знаю, слышал. Вы о чём-то спорили.
Анна. Мы не спорили, мы говорили очень спокойно.
Никита. Вы-то спокойной не были.
Анна. А как мне было не волноваться, если она спросила про завещание?
Ева. Не в завещании дело. Просто меня удивило, насколько вы не знаете своего покойного мужа.
Анна. Странно, что это было только вчера вечером. Московская квартира – это склад рукописей, во всех комнатах стеллажи от пола до потолка и запах, как в архиве, – нежилой. Мне надо было перебрать тонны пыльной бумаги по листочку. Бессмысленное занятие! Ночью я позвонила Еве. Тогда я ещё не нашла писем, тогда я ещё её жалела, – не себя.
Никита. Так это был ваш звонок. А мы голову ломали – кто бы это мог быть так поздно?
Анна. Трубку взял Алексей. Мне не хотелось называть себя. Я сказала Еве, что не нашла никакого завещания. И ещё я ей сказала: «Ева Сергеевна, что нам теперь делить?»
Никита. Она всё поняла, уверяю вас. Я видел её лицо в тот момент.
Анна (не слыша его). А потом я нашла письма. Огромный пакет из-под фотобумаги, плотно набитый. Я вовсе не собиралась их читать. Кому они нужны, старые письма? Не старые, слышите, не старые. Они переписывались все эти двадцать лет. Дайте ещё коньяку.
Никита. Больше не надо.
Анна (словно не замечая его отказа). Евины письма… Из Паланги, из Риги, из Ессентуков, из какой-то деревни под Вологдой.
Ева. Там были обнаружены уникальные древние рукописи из Спасо-Каменского монастыря. Ефим был этим очень заинтересован.
Анна. Из Москвы писем мало. Зачем ей было писать, если они и так общались… достаточно тесно.
Никита. Это нередкий случай, когда люди сохраняют хорошие отношения с первыми жёнами.
Анна. Да ради бога! Но почему тайно? Хорошие отношения… Она же любовницей его была! Правда, здесь как-то неуместно слово «любовница». (Встаёт, начинает ходить по холлу.)
Никита. Пожалуй. (Встаёт вслед за ней.)
Анна. А какие нежные письма, – они в них сетовали на жизнь, утешали друг друга, опять же, эти древние свитки, им посвящены лучшие страницы. Я читала их всю эту безумную ночь, луна – вот такая! – ухмылялась мне в окошко злобно. У них любовь была, а я все эти годы – одна, в пустом доме, чопорным несмышлёнышем… старушкой-молодайкой. (После паузы.) Она мне назло умерла, чтобы отомстить! Её уже нет, а я буду продолжать рыться в пыльной бумаге, искать это завещание и не находить. Но я знаю, оно есть. Это её дача – Евина.
Никита. Нет уже Евы.
Анна. Какая разница? У меня на всю жизнь останется ощущение, что не я, а она здесь хозяйка. (Вдруг бросается к Никите.) Как же вы не видите, – вон она, в кресле сидит и смотрит на меня!
Ева исчезает.
Никита (гладит Анну по голове). Ну будет вам. Там никого нет. Успокойтесь. И выбросьте из головы все страшные мысли. Хотите, я увезу вас из этого дома? Навсегда.
Двери в холл распахиваются, холл заливается светом, входят Даша с матерью, из другой двери – Захар, Алексей, Елена, Лысов. Все обступают Дашину мать, Даша несколько в стороне. Анна медленно освобождается от объятий Никиты. Она очень смущена.
Анна (уходит, Никита направляется было за ней). Я хочу побыть одна.
Мать. Следователь зовёт Зотову Елену.
Елена выходит. Минутная пауза, потом все задают один и тот же вопрос: «Ну как?»
Мать. Ничего страшного. Вежлив, корректен. Взял адрес, предупредил, что в случае надобности вызовет нас повесткой.
Захар (держится за сердце). Как у зубного врача.
Алексей (матери). Какие вопросы задавал?
Мать. Анкетные… потом взаимоотношения с умершей – всякие. Разрешил нам уехать домой. Даша, собери чемодан!
Даша. Я боюсь.
Мать. Чего ты боишься? Её ведь унесли давно. Ладно, я сама соберу чемодан (Поднимается наверх. Даша отводит Алексея в сторону.)
Даша (нерешительно). Месье Мартен, Алёша… у меня к вам один очень серьёзный вопрос. Мне здесь не с кем поговорить. Это очень важно.
Алексей. Все серьёзные вопросы мы решим с вашей мамой. (Поднимается вслед за матерью.) Вы уезжаете, поэтому необходимо разобраться с деньгами. Я староста. В этой тетрадке у меня всё записано. За пять дней мы, естественно, платим. Но у нас были перерасчёты.
Даша (шокированная). Какие деньги?
Алексей. Пиастры, Дашенька, экю и пистоли, старинный дублон имеет стоимость в два эскудо. (Поднимается по лестнице вслед за матерью.)
Лысов и Никита уходят, на сцене только Даша и Захар.
Даша. Про какие деньги он говорил?
Захар. Как вы не понимаете? Фиктивно, то есть для следователя, мы занимались бесплатно, но на самом деле за пять дней мы платим, а излишки нам вернут.
Даша. Месье Рошфор, простите, я не знаю вашего имени-отчества…
Захар (с достоинством). Захар Иванович.
Даша. Захар Иванович, вот вы говорили – отравление…
Захар (испуганно). Кому я говорил? Никому я ничего не говорил!
Даша. Вы милиционеру говорили. А можно отравиться снотворным?
Захар. А почему нельзя? Конечно можно. (Шёпотом.) Только надо попасть в яблочко.
Даша. В какое яблочко?
Захар. Оптимальная доза снотворного даёт здоровый сон (поднимает палец), слишком большое перенасыщение снотворными может вызвать отравление, организм взбунтуется, будет обильная рвота, и человек, перемучившись, всё же останется жив. Но есть некая доза, когда врачи бессильны. Например, четыре таблетки – несмертельно, а пятая – уже смертельно. Понятно?
Мать (выходит на верхнюю площадку). Даша, где твой махровый халат?
Даша (совершенно растерянно). Халат? Где-то я его видела… А где – не помню.
Мать. А кто помнит? Какая же ты всё-таки растяпа. (Захару.) Махровый халат, немецкий, совсем новый… Я за ним два часа в очереди стояла.
Захар. Ничем не могу вам помочь. Я не ношу женских халатов.
Мать (Даше). Не-е-т! Без халата я не уеду. Где у вас ванная комната?
Даша. Мама! (Бежит за матерью, потом останавливается, уходит вглубь холла и замирает, сидя в кресле.)
Входит Елена.
Елена. Следователь просит Кошко. Это вы, да?
Захар. А почему я должен идти не в свою очередь?
Елена. Не знаю. Он очень интересуется ночным звонком. Помните? В двенадцать часов ночи сюда кто-то позвонил.
Захар. Так ведь не я, а Алексей подходил к телефону. (Кричит.) Месье Мартен! (Алексей выглядывает сверху.) Следователь интересуется ночным звонком.
Алексей. Голос был женским.
Захар. Может, не надо этого говорить?
Елена. Скажите, что голос был мужской. Это сильно поменяет положение дел.
Картина восьмая
Комната Анны, в которой расположился следователь. За круглым столиком напротив следователя сидит строгий, подобранный Захар.
Захар. Я же говорил: мы жили с покойной в одном доме. Соседи, не более того. Даже этажи разные.
Следователь. Вчера ночью покойная первой ушла спать. Так?
Захар. Можно закурить?
Следователь. Простите, но я не переношу сигаретного дыма. У меня астматический компонент, и при курильщиках я кашляю.
Захар (обиженно прячет сигареты в карман). Да, она первой ушла.
Следователь. Ночью покойной кто-то звонил. Вы не знаете, кто бы это мог быть?
Захар. Откуда я могу знать такие подробности? Вот только… У покойной ведь мать в больнице. И куда бы Ева Сергеевна ни уезжала, она оставляла медсестре свои координаты. Медсестре она, кажется, платила какие-то деньги, а может быть, просто договорённость была – если что… сразу сообщить.
Следователь. Как зовут мать покойной?
Захар. Понятия не имею. Впрочем… кажется, Ольга Николаевна.
Следователь. А фамилия?
Захар. Вот уж никогда не интересовался её фамилией. (После паузы.) Наверное, тоже Гофф. Я знаю, у Евы девичья фамилия. Она была когда-то замужем, но фамилия у неё девичья. Она сама мне об этом говорила.
Следователь. Понятно. (Что-то пишет.)
Захар. Можно воды?
Следователь. Где же я вам возьму?
Захар. Я сам себе принесу. (Уходит.)
Следователь (набирает по телефону номер). Юдин? Это Перцев. Проверь, пожалуйста, не лежит ли в психушке некая Ольга Николаевна Гофф, и не случилось ли с этой Гофф что-нибудь вчера вечером. Да, и сразу мне позвони. Из морга ничего? Жду.
Входит Захар со стаканом воды, садится, готовый к длинному разговору.
Захар. Я вас слушаю.
Следователь. У меня больше вопросов нет.
Захар. Зачем же я за водой ходил?
Следователь (пишет). Не знаю.
Захар. Я ещё хотел добавить – так сказать, в интересах следствия. Курсы, условно названные «погружением», очень эффективны, а мадам занималась с нами совершенно бесплатно.
Следователь (с усмешкой). Это я уже знаю. А теперь, пожалуйста, изложите все свои показания письменно и подпишитесь.
Картина девятая
Холл, за столом Лысов и Елена, в углу неприметно сидит Даша; кажется, что она ничего не видит и не слышит.
Лысов. Зачем ты ему всё это сказала?
Елена. Он спросил, я сказала. Что я, девочка – выкручиваться?
Лысов. А тебе не приходило в голову подсчитать, – скольких людей ты сразу подвела?
Елена. Никого я, кроме себя, не подвела.
Лысов. Да наша Танечка каждый день отмечает тебя в книге ухода-прихода. А потом ещё твоей рукой пишет, что ты ушла в библиотеку.
Елена. Кто в неё смотрит, в Танечкину книгу? Реестр мёртвых душ.
Лысов. А про то, что я сейчас нахожусь здесь, а не в командировке в Риге, ты тоже сказала?
Елена. Нет, это ты сам скажешь, если найдёшь нужным.
Лысов. И на том спасибо. Какой я всё-таки дурак! Зачем связался с этой командировкой? Виталий взял за горло. Это, говорит, неважно, что вы сами не поедете. Главное, чтобы они в Риге знали, что вы где-то рядом. Все вопросы в три раза быстрее решим.
Елена. Стыдно, конечно. Но передо мной-то зачем оправдываться?
Лысов. А мне ни перед кем не надо оправдываться. Со мной всё в порядке.
Елена. С тобой – да, со мной – нет. Дома я сказала, что уехала в командировку, на работе – что сижу в Ленинке. Зачем? От привычки лгать. Было бы из-за чего…
Лысов. Ну хватит. Я был груб с тобой. Прости.
Елена. Помнишь, как мы с тобой познакомились? На банкете у Яши Брянского. Он тогда докторскую защищал. Ты сидел за столом напротив и произносил какие-то немыслимые тосты. Я спросила соседку: кто это? А она сказала – наш сюзерен. Смешное слово – сюзерен.
Лысов. А потом ты перешла в мою лабораторию.
Елена. А ещё потом мы уговорили себя, что это любовь.
Лысов. А разве нет?
Елена. Я уже не помню, как это было, я вижу, как это сейчас. Я понимаю, нельзя разрушать две семьи. Но если бы ты меня любил, я бы этот крест, розами увитый, всю жизнь несла. С восторгом! А ведь эта наша связь – от удобства только, чтоб далеко не ходить.
Лысов пытается её обнять.
Елена. Прекрати. Здесь совсем не к месту все эти галантности. Это наше погружение – тоже обман, очередная игра. (Смеётся нервно.) А ты не обратил внимания, как много людей вокруг во что-нибудь играют?
Лысов. Во что играют?
Елена. Моя подруга, например, в йогу. Совершенно помешалась. Мы, говорит, ничего не умеем, даже зубы правильно чистить не умеем, а йоги – умеют. Теперь она голодает и часами стоит на голове. «Йога лечит все болезни, кроме тех, которые вызывает сама йога?» Хорош лозунг?
Лысов. Что ты мелешь? Что общего в этой твоей йоге и нашем способе изучения языка?
Елена. А Гриша Дудов играет в сыроедение. Раньше он занимался защитой среды, трудно было найти более увлечённого человека, а сейчас с ним вообще не о чем разговаривать. Теперь у него один бог – Брегг. Не человек, а ходячий желудок. Господи, да если бы Пушкин был сыроедом, неужели он бы смог написать «Капитанскую дочку»?
Лысов. Ты часто ставила меня в тупик, часто… но подобные твои всплески, прости меня, внове. Я понимаю, ты устала…
Елена. А ещё телекинез, лекарственные травы, неопознанные объекты… И мы бросаемся играть в эти игры очертя голову, только бы спрятаться от реальной жизни. Зачем? В этой игре мы теряем детей, друзей, самих себя.
Лысов. Главное сейчас – уехать отсюда. И всё будет как раньше.
Елена. Нет, Виктор. Это наше последнее погружение. Как говорится, не поминай лихом.
В холл стремительно входит Дашина мать.
Мать. Простите великодушно, что я мешаю вашему разговору, но понимаете, какая незадача – Дашкин халат пропал. Невелика, конечно, потеря, халат, правда, совсем новый, на той неделе купленный, но ведь и большее теряем…
Елена (растерянно). Какой халат?
Мать. Банный, махровый, фээргэшный. Алёша, очень любезный молодой человек, посоветовал мне к Арине Романовне сходить, к сторожихе. Мало ли, она могла и по ошибке унести, когда все наверху были. Но Арины дома нет.
Елена. Да не мог никуда ваш халат пропасть.
Мать. Нет, вы уж поднимитесь со мной наверх. Я в ваших вещах не понимаю ничего. (Обе поднимаются наверх.)
В холл входит Захар, бросается к Лысову.
Захар. У меня новости. Оглушительные! Вчера ночью в больнице скончалась мать Евы.
Лысов. А вы откуда знаете?
Захар. Алексей сказал. При нём следователю кто-то позвонил. Поразительно, как они в милиции всё умеют быстро узнавать! Теперь мы знаем, что ночью Еве звонили из больницы. (Вдруг опомнившись.) А вы что здесь стоите? Он вас ждёт.
Лысов уходит. Захар ищет глазами, с кем бы ещё поделиться новостью, замечает в углу Дашу, тут же обращается к ней.
Захар. Понимаете, эта смерть многое объясняет. С нас снимаются последние подозрения! (Видит Дашин тусклый взгляд, вспоминает, что Даша – не мадемуазель Клодин, а девочка, школьница, и спрашивает у неё уже совсем другим тоном.) А почему вы не уехали в Москву?
Даша. Я хочу дождаться конца… чтобы всё узнать.
Захар. А что можно узнать? Ведь всё уже узнано?
Даша молчит, и Захар уходит на кухню, чтобы поделиться с кем-нибудь оглушительной новостью.
Картина десятая
Тот же холл полчаса спустя. У зеркала в той же позе сидит Даша. В холл входит мать со скомканным халатом в руках.
Мать. Вот (показывает). Твой халат был почему-то на кухне за корзиной с луком. Безобразие! Ума не приложу, как он туда попал. Всё, одевайся, едем.
Даша. Я никуда не поеду.
Мать. То есть как?
Даша. Я потом поеду, вместе со всеми. Я хочу узнать.
Мать. Что ты хочешь узнать?
Даша. Мама, хоть ты не притворяйся. Здесь все вокруг притворяются.
Мать. Давай без нервов. Я не могу больше здесь задерживаться. На работе уже небось деньги на венок собирают. И вообще, знаешь сколько хлопот с похоронами? Но это не для твоих ушей. Мы едем немедленно! Сейчас… только чемодан принесу и узнаю расписание электрички. (Уходит наверх, Даша медленно поднимается за ней.)
В холл входят Анна и Никита.
Анна. Объясните мне, пожалуйста, зачем вы поставили меня в глупейшее положение перед следователем?
Никита (потрясённо). Я?
Анна. А кто пустил глупую утку о моём альтруизме? Теперь у следователя все бубнят, что я занималась с вами бесплатно. Тот, естественно, решил, что это я вас подговорила, о чём не преминул мне сейчас сообщить… (повышает голос) в неуважительном тоне!
Никита. Я боялся, что у вас будут из-за нас неприятности.
Анна. Я руководила погружением, мне и отвечать. А ваша забота по меньшей мере оскорбительна.
Никита. Забота не может быть оскорбительной.
Анна. Следователь тоже так думает. Поэтому наклеил на меня ярлык «частное предпринимательство с целью наживы». Очень заботливо меня пожурил. И дальше не оставит своими заботами. (С издёвкой в голосе.) Будет укреплять трудовую дисциплину для улучшения экономики государства.
Никита. Негодяй!
Анна. Может, он и дальше пойдёт. Упечёт меня на нары…
Никита. Да будет вам. За это не сажают.
Анна (запальчиво). Сейчас всё может быть. Людей днём отлавливают по магазинам и кинотеатрам. Новое начальство – новые нравы. Андропов – начальник КГБ. Никита Бывший.
Анна. Бывших начальников КГБ не бывает.
Никита только вздохнул. Помолчали. Понимая, что сказала лишнее, Анна сменила тон.
Анна. Не я придумала эту плату. Она бытует с самого начала освоения методики. Простите меня, месье Лебрен, Просто с катушек сошла. Забудьте всё.
Никита. Да какой я месье Лебрен? Я Никита Бурцев, мне тридцать восемь лет. Я холост и значусь старшим инженером по добыче алмазов в посёлке Верный.
Анна. Верный? (Усмехается.) Это на краю земли?
Никита. Ещё дальше.
Анна. А как вы на погружение-то попали?
Никита. Я в отпуске. Четыре года не был в Москве. Отпуск мой бесконечен. Отчего же не погрузиться интеллигентному человеку?
Сверху спускается Дашина мать с чемоданом, за ней, тоже с чемоданом, идёт Елена. Входят Алексей и уже одетый в дублёнку Лысов. Последним входит Захар. Мать ставит чемодан рядом с Дашей и идёт за её пальто.
Захар. Ребята, кажется, это конец. Следователь уже машину по телефону вызвал. А может, глупо, что мы вот так… все… собрались. Работа есть работа. Можно переждать день и вернуться к занятиям.
Анна. Креста на вас нет!
Входит следователь.
Следователь. Прошу тишины. Мне только что позвонила судмедэксперт, уже знакомая вам Мария Христиановна. Позвольте огласить результаты судебно-медицинского вскрытия. Причиной смерти Евы Сергеевны Гофф явилось отравление снотворными препаратами группы барбитуратов.
Даша (выходит вперёд). А люминал… он тоже из группы бар… барбитуратов?
Мать (подходит к Даше с пальто). Идём, тебе не надо этого слушать.
Следователь. Очевидно, потрясённая смертью матери, покойная перепутала дозу снотворного. Сделала ли она это случайно или умышленно, мы теперь никогда не узнаем.
Даша (вырывается из рук матери, которая буквально всовывает её в пальто). Да оставь ты меня, мама! Всё было совсем не так! Я хочу, чтобы все знали. Это я…
Мать. Не слушайте её!
Даша (освобождаясь наконец от матери). Это по моей вине. Я бросила таблетки в стакан.
Елена. Господи…
Мать (бросается к следователю). Даша только одну таблетку бросила в стакан. Уверяю вас, Ева сама до этого снотворное принимала. А одна таблетка…
Даша. Две, мама, а может, три. Я не помню. Но это неважно. (Смотрит на Захара.) Я попала в яблочко.
Перепуганный Захар делает шаг к стулу, спотыкается о чей-то чемодан, почти падает.
Захар. Ужас какой! Вот ужас-то!
Алексей. Зачем ты это сделала?
Даша. Я хотела, чтоб Ева уснула. Здесь было так весело… (Долгая пауза. Даша стоит в центре, бессильно опустив руки; видно, что она очень по-взрослому устала – еле на ногах держится.)
Тихо звучит песня про Авиньонский мост.
Лысов (матери). Ничего вашей дочери не будет. Она несовершеннолетняя.
Анна. Что значит – не будет? Разве она мало наказана?
Никита берёт Анну за руку.
Никита. Позвольте мне не уезжать. Я должен сейчас быть с вами.
Анна. А разве мы уезжаем? (Горько.) Сейчас здесь начнётся новое следствие.
Елена. Только, пожалуйста, уведите отсюда детей.
1987 г.
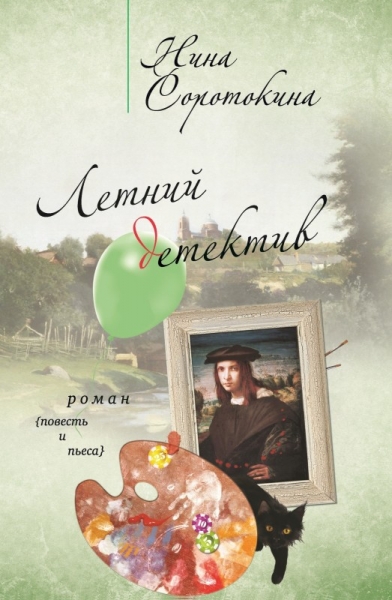
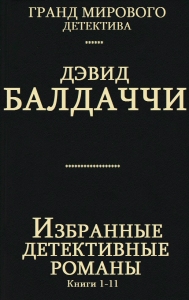

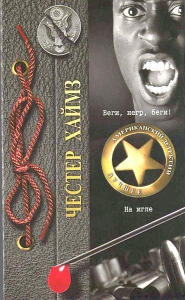
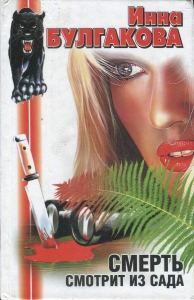






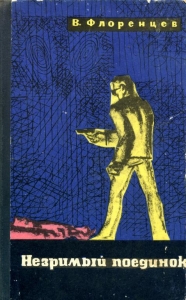
Комментарии к книге «Летний детектив (сборник)», Нина Матвеевна Соротокина
Всего 0 комментариев